Тихий гром. Книги первая и вторая
Посвящается Павлу Кузьмичу и Марии Андреевне Смычагиным, вечным труженикам, имеющим ясную память и прекрасный дар выразительного народного слова.
Автор Ах ты, степь моя, степинушка, Ничего в тебе, степь, не обозначилось. Ни травоньки, ни муравоньки, ни цветочка лазорева, Только есть в тебе, степинушка, большая дороженька. Из старинной песниА проложили по Уралу ту «большую дороженьку» многие люди, ходившие вместе с Емельяном Пугачевым да Салаватом Юлаевым. Не хотели они покориться господской воле — искали своей вольной волюшки.
Батюшка наш Седой Урал! Каких племен, каких обычаев, каких судеб не собрал ты на своих угодливых просторах! Не было в Центральной России губернии, откуда не тянулся бы на Урал горемычный «расейский» мужик: тверские и тульские, рязанские и тамбовские, ивановские и орловские — отовсюду есть тут корни.
Каких только говоров, каких наречий не встретишь тут! И перемешались они в едином водовороте судьбы самым распричудливым образом. Много на Урале татарских, башкирских и киргизских селений — по-мужицки люди всех этих национальностей звались татарами, а украинцы и белорусы — хохлами.
Но надо заметить, что не всякий мужик отваживался пускаться в путь за тысячи верст в поисках лучшей доли. Мертвой хваткой грызла нужда прокопченную, всеми ветрами дубленую мужичью шею, и вертелся он как мог, но покинуть угретое место, порою самое разгорькое, — не всякий решался. Робкие оставались у жалких своих очагов — сильные, сметливые, находчивые и мужественные шли на восток. Одни оседали на Урале, а иные рвались дальше, в Сибирь.
Следом за трудолюбивым и по-хорошему сметливым мужиком, ремесленником, мутным потоком, пенной волной прибивало сюда воров и жуликов, картежников и всяких авантюристов, надувал и гуляк. Золото и многое множество других руд привлекало и англичан, и французов и немцев; из Америки и Голландии, из Дании и Швеции пробивались к нам хищные, предприимчивые промышленники, торговцы, спекулянты.
А иной мужик, голехонек, бежал на золотые уральские россыпи, как шелудивый в баню, надеясь откупиться от нужды легко найденным золотом. Лепил себе землянуху с двумя подпорками и единым глазком-окошком, позволявшим с трудом отличать божий день от кромешной ночи, с яростью вгрызаться в матушку землю, дотошно отыскивая клад, припасенный богом на его долю.
И находил, случалось.
Тут уж гудели от пьяного угара подпорки в его балагане (так у нас называют землянки), начисто заносило густой духовитой мглой единственное окошко — гулял во всю ширь раздольной, тароватой русской души. Чудесил! Устилал свою нору и тропинки к ней коврами, смешивал их с грязью; за низкий поклон подпускал к своему столу, сбитому из двух тесин, всякого прохожего, бил посуду и куражился всячески. А на похмелье, зверски мучаясь головной болью, с великим удивлением обнаруживал, что нет у него ни ковров, ни денег и, как на грех, даже забыл купить себе и детишкам по новой рубахе…
Как-то уж так выходило, что золото, добытое вот такими горемыками, неизбежно попадало в мелкоячейные паучьи сети, ловко расставленные всюду, и, будто прилипая к рукам, обязательно оказывалось у крупных золотопромышленников. А как они стали богатыми — богу одному вестимо.
Здесь воочию можно было наблюдать все ужасы первоначального накопления капитала: воровство и обман, подлоги и грабежи, одурманивание людей путем всяких соблазнов — богатый и сильный нагло отнимал у слабого все, заглатывал хлипких по одиночке и жирел, становясь еще сильнее.
Многие мужики, по царской воле сделавшись солдатами, пронесли свою храбрость и сметку по европейским городам и столицам. А вернувшись с победами на родную Русь, были жалованы казачьим званием и вольными землями на Урале.
Садились новоявленные казаки на необжитые степные участки Оренбургского войска, застраивали новые села и называли их именами западных столиц и городов, где одержали победы. Так на Южном Урале родились Варна и Париж, Берлин и Варшава, Лейпциг и даже свой Фершампенуаз. Название это и трезвому мужику выговорить не под силу, а прижилось, да и живет на потеху пьяному косноязычию.
А рядом с казачьими, на их же земле или на земле дворянской, вопреки, казалось бы, всяким возможностям и запретам, рождались и лезли, как грибы из-под земли после дождя, мужичьи хутора, поселки, убогие деревеньки. И более всего удивительно это тем, что ему, этому самому мужику, рожденному на полосе и на всю жизнь привязанному к ней, по царскому закону не полагалось иметь собственной земли. Даже будь у него хоть целый кошель денег — не имел он права купить землю. Сперва на эти деньги купи хоть какое-нибудь звание — мещанское ли купеческое, — а уж после получишь право купить и землю в собственное владение, потому как мужик мог только работать на ней, матушке, а владеть — это право господское, поповское, казачье, мещанское — чье угодно, только не мужичье. Оттого бился крестьянин, хлестался до грыжи на клиньях, арендованных у казака либо у помещика.
Даже хату свою негде мужику поставить. Не было ему места под необъятным российским небом. На этом же арендованном клочке лепил из самана мало-мальское жилище, немудрящую времянку и упивался работой, стремясь побольше получить от временного пользования землей. А так как арендовать разрешалось не более чем на два года, то приходилось ему постоянно гадать: прогонит его хозяин по истечении срока с этого места или вновь удастся получить право на аренду?
Если учесть, что до самой революции в России крестьянствовало три четверти населения всей империи Романовых, то станет понятно, какая могучая вулканическая сила зрела, настаивалась и бродила под царским троном, сила, готовая взорваться, и не раз взрывавшаяся.
Диалектически мыслил архимандрит Платон Любарский, слова которого А. С. Пушкин взял эпиграфом к своей «Истории Пугачева».
«Мне кажется, сего вора всех замыслов и похождений не только посредственному, но ниже́ самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось; коего все затеи не от разума и воинского распорядка, но от дерзости, случая и удачи зависели. Почему и сам Пугачев (думаю) подробностей оных не только рассказывать, но нарочитой части припомнить не в состоянии, поелику не от его одного непосредственно, но от многих его сообщников полной воли и удальства в разных вдруг местах происходили».
Вот так же: «в разных вдруг местах происходили» волнения крестьян во все царские времена, «поелику» вековой мечте мужика о земле суждено было сбыться лишь после Октября 1917 года.
В каждом хуторке, в каждой деревушке мужицкой кипели, раскалялись страсти, и не только в тогдашней Оренбургской губернии — по всей Руси-матушке.
И будь эта деревенька ничтожно малой, затерянной в глуши, за десятки верст от больших дорог; и пусть не было в ней марксистских кружков и кровавых восстаний — всюду пролегла «большая дороженька» прокатившейся по стране революции; и «не только посредственному, но ниже самому превосходнейшему историку порядочно описать едва ли бы удалось» ее, поскольку многогранна и неисчерпаема эта тема.
КНИГА ПЕРВАЯ
Казачьи земли сейчас представляют из себя настоящую муниципализацию. Большие области принадлежат отдельному казачьему войску: Оренбургскому, Донскому и т. д. Казаки в среднем имеют по 52 дес. на двор, крестьяне — по 11 дес. Кроме того, Оренбургскому войску принадлежит 11/2 миллиона дес. войсковых земель…
В. И. ЛенинЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Опять забуранило, замело к вечеру.
Уж совсем было пригревать начало в последние дни февраля, да и март пока спокойный стоял. Снег словно рубелем прикатали: присел, сплотнился и потемнел малость. А теперь как понесло по твердому-то поземку, как задымило в степи седыми тягучими космами. К полудню сверху повалили мягкие хлопья. А потом началась крутоверть. И не поймешь — с неба сыплет или снизу подымает.
В рословском дворе никогда не залеживался снег. Стыдно им не блюсти порядка — вон, сколько мужиков в доме! У деда Михайлы Ионовича три женатых сына да внуки уж большие есть. Средний сын деда Михайлы, Тихон, мужик лет за тридцать, носил маленькую бородку клинышком и короткие усы. Казался он пониже своего роста, оттого что был коренаст и крепок, как почти всякий кузнец на Руси.
Мягко ступая растоптанными пимами в свежий снег, уже на вершок запорошивший весь двор, Тихон прошел под навес, нащупал в темном углу отполированный в работе черенок деревянной лопаты и, незлобливо ругнув погоду, принялся за дело.
Белая муть полыхает над лопатой, мелкие колючие снежинки мельтешат перед глазами, игриво покалывают щеки, набиваются в бороду, в усы. Опушка на шапке побелела, а черный мерлушковый воротник короткой шубы сделался рябым.
Догреб до половины двора — вздохнул, опершись на лопату. Сверху, оказывается, совсем не падало. Да и ветер поутих, уж не свистел в соломенной кровле навеса. За воротами проскрипели чьи-то твердые, размашистые шаги. Догадался, когда у калитки Дурановых шаги истлели: сосед это, Кирилл Платонович…
Много разных слухов носилось по хутору об этом человеке. Иной раз от них в дрожь бросало. Надо бы ненавидеть его, а Тихон, боясь порою признаться в этом даже себе, любовался Кириллом издали, хотел походить на него. И бородку клинышком, и короткие усы перенял, по всей видимости, у Кирилла Дуранова. Только у Тихона они темно-русые, а у Кирилла — смолевые до блеска. Волосы у Дуранова черные, цыганские; когда отрастали подлинней, начинали кучерявиться. Нос тонкий, с горбинкой. А глаза карие, будто резцом врезаны под густыми полудужьями бровей, и до того пронзительны, что лучше в них не заглядывать: сробеешь, как ребенок. Ростом выше Тихона на полголовы, широкоплеч и статен. Не то что любая баба — мужик залюбуется, но…
Вот это «но» и коробило Тихона постоянно. С такого молодца писать бы картину, в гости бы звать да в передний угол сажать, а его весь хутор сторонится. Все норовят как бы подальше, только бы не встретиться лишний раз. Никто с ним не ссорился, и он ни с кем из хуторян не связывался, зорко наблюдая за каждым.
Тихон зябко передернул лопатками, смахнул подтаявший бус с бороды и усов, принялся было за работу. Сзади, из-под сарая, глухо зарычал цепной пес Курай. В щели между подворотней и нижним срезом воротного полотна мелькнули чьи-то ноги, а на снегу у ворот во дворе появилось темное пятно.
— Кто там? Чего надоть? — окликнул Тихон, но вместо ответа услышал легкие торопливые шаги, быстро удалявшиеся по улице не в сторону Дурановых, а в противоположную.
Пока подбежал к калитке и выглянул за ворота — там никого уже не было. След, маленький, детский, вывел Тихона к дороге, что идет из города и за углом забора круто падает вниз на плотину через речку. На той стороне чуть маячил, ныряя в сугробах, крохотный комочек.
— Ишь ведь как удирает, чертенок!
Вернулся во двор. Увидел свернутый клочок бумаги, с одной стороны черный, с другой — белый.
— Девкам небось весточка, — хмыкнул Тихон, шаря в кармане спички. Чиркнул одной по коробку — сломалась, вторая — тоже.
— И-и, шутоломные, секреты завели! — плюнул и бросил бумагу, а спички опустил в карман.
Однако любопытство взяло верх. Снова подобрал бумагу, подался в конюшню и, засветив самодельный фонарь, расправил вчетверо перегнутый листок.
На измятом донельзя клочке оберточной бумаги, на белой его стороне неровным рядом выплясывали полупечатные каракули, нацарапанные тупым, незаточенным карандашом, с надавом кое-где до дыр. Прочел: «БИРЯГИТЯ КАНЕЙ AT ВОРА».
Поначалу смысл этих слов не всколыхнул, не встревожил сознания. Но чем дольше Тихон вглядывался при неверном свете в эту «скрижаль», тем шире раздвигались его серые глаза, тем выше поднимались и шевелились широкие брови. Листок в руке начал трепыхаться, как живой.
Загасил фонарь и — в избу. Возле сеней не обмелся, у порога не обопнулся, прошел прямо в горницу.
— Куды тебя, идол, несет! — закудахтала вслед Настасья, жена Тихона, и бросилась было за ним от печки. Другие бабы пока не вмешивались.
— Цыц, сорока! — притопнул, оглянувшись на ходу, Тихон.
Снег посыпался с его пимов, но бабы не заметили этого, обратив внимание на искрометный взгляд Тихона, и поняли, что тут не до них. Протопал по чистым половикам через горницу и неслышно отворил дверь дедовой кельи.
Михайла Ионович сидел на кровати, свесив костлявые, изжелта-белые ноги над войлочными опорками. Голые ноги торчали из задравшихся холщовых штанов, как новые отполированные костыли.
— Ты, что ль, Тиша? — хрипловато спросил Михайла Ионович, но головы не повернул в его сторону.
— Я, батюшка.
— Чего тебе?
— Письмо вот нам пришло…
— Эт от когой-та? — не очень оживился старик.
— Не знаю. А видать, добрый человек написал. Про нас заботится.
— Чудно, — хмыкнул дед, не меняя позы. — Ну, почитай, почитай, чего там прописывают… Да ты, никак, прям со двора: холодом от тебя отдает… Ну, читай.
Тихон помнил записку наизусть, но для убедительности шагнул к столику, где мигала крохотная коптилка, раздельно, не торопясь, прочел и рассказал, как попала к нему бумага. Слушая, дед проворно засунул ноги в опорки, распрямил спину и высоко поднял голову. Незрячие глаза его, подернутые туманной, чуть желтоватой пленкой, открылись широко под нависшими кустами лохматых серых бровей. Неясные зрачки блуждали, словно стараясь отыскать и то, чего Тихон не видел.
Михайла Ионович молчал, вроде бы как растерявшись. Молчал и Тихон, вычесывая пальцами снежную мокреть из бороды. В теплой избе снег на шапке, на воротнике и на пимах растаял. Под ногами — мокрое пятно. Осторожно присел на невысокий сундучок у стола.
Вдруг дед встрепенулся, безошибочно нащупал у кровати березовый, истертый до блеска костыль, не очень прямой, но удобный и крепкий, с загнутой ручкой. Твердо, с прижимом поставил его между ног. Велел:
— Покличь-ка сюда Степку.
Степка, средний сын Мирона, парнишка лет двенадцати, носатый и сероглазый, спрыгнул с полатей, в два прыжка перескочил горницу, притворил за собой дверь дедовой боковухи. Весело спросил:
— Чего тебе, дедушка?
Ни слова не говоря, дед лихо рванул костыль и — хрясь внука, так что Степка, не подозревая подвоха, и увернуться не успел, а, отклонив голову, долбанулся ею об точеную шишку на спинке деревянной кровати.
— За что, дедушка? — заскулил Степка, пятясь к двери. — За что-о?
— Не вздумай бечь либо кричать, варнак! — рассвирепел дед, резво вставая с кровати, с потягом дважды огрел Степку пониже спины. Отступил.
— Да за что он? Дядь Тиша, за что он меня?
— За дело, — приостыл дед. — Слухай теперя, чего сказывать стану… Осенью, как пахали под Прийском, ты пас быков?
— Пас, — уверенно ответил Степка, не видя ничего в том плохого.
— А видал ты тама, как Кирилла Платоныч бежал от Карашкиного аула?
— Видал…
Дед аж подскочил, чуть не выпрыгнул из своих широких опорков. Снова было поднял костыль, да, запнувшись, застучал палкой по полу, сердито, взахлеб приговаривая:
— Не видал, варнак ты этакий, не видал! Слышишь? Кому сказано? Не видал!
Шаркая подошвами, дед приблизился к Степке, ухватил его за вихор спутанных волос, снова допытываясь:
— Видал ты его тама? Ну! Кому проболтался?
— Никому, — с трудом выдавил из себя внук. Он уже отлично понимал, о чем идет речь, но никак не мог догадаться, с чего это дед вспомнил историю, случившуюся осенью, а теперь уж весна скоро.
— Никому! — передразнил дед, легонько оттолкнув парня. — Теперя небось и сам забыл. А слушок-то по хутору шел… Откедова он пошел, ежели ты один видал?
— Оставь его, батюшка, — несмело вступился Тихон. — Дорога не близкая — могли и другие видеть. Ты вот чего лучше скажи, Степа: а тебя тогда видал дядя Кирилл?
Степка топтался у двери, ероша давно не стриженные волосы. Соображал.
— Дак ведь как я за его-то отвечать стану? Может, и не видал: лежал я тогда возле пня. А быков-то наших знает он, поди. Прямо по табуну проскочил.
— Ну, будя, будя с им, — о чем-то догадался и Михайла Ионович, обращаясь к Тихону. — А ты, Степка, мотри, чтоб не токмо с чужими про это — отцу с матерью ни слова. Слышишь?
— Слышу, — невесело отозвался Степка.
— Иди, да чтоб язык на приколе держал. — Дед покряхтел и уселся на прежнее место на кровать, опершись подбородком на палку. — А ты, Тиша, вот чего: цепочков там у себя в кузне не найдешь?
— Есть сколько-то…
— Мало — еще скуешь. Чтоб на всех лошадей хватило. Замков прикупить в городу придется. Кобеля на ночь спущать надоть… Запоры все, навесы просмотри да где поправь, подкрепи… А делать все это надоть тихонько: не углядел бы он, варнак… Ночью почаще ходить проведовать лошадей надоть…
Дед, будто засыпая, все реже и реже выговаривал слова. Мутные глаза его прикрылись морщинистыми веками, а над ними нависли дремучие клочкастые брови.
С этого вечера поселилась в рословской избе неизбывная, тягучая, давящая всех тревога.
2
Дед Михайла — корень всего разветвившегося, пустившего множество побегов рословского рода. Отец Михайлы, дед и прадед, да, по всей видимости, и прадед прадеда тянули беспросветную барщину в крепостной деревне Тамбовской губернии.
Деревенька эта, как и другие в той вотчине селения, передавалась из рук в руки по господскому роду, а вместе с нею подушно передавались поколения Рословых и тысячи других семей. Хватил и Михайла лет двадцать крепостного житья. На его памяти (маленьким еще, правда, был) хлебом-солью встречала вотчина нового наследника, сиятельного графа. Долго потом крестьяне передавали из уст в уста, как барин, объезжая поля, спрашивал, указав на рожь, что это такое. А отцветающую гречу признал за созревшую и посоветовал убирать, чтоб не осыпалась.
Такое неведение отнюдь не уронило престижа господина в глазах его рабов. Напротив, стал он для них загадочнее, недоступнее самого бога. Еще более утвердилось давно известное: барин и мужик не из одного теста слеплены — из разного. И назначенье от бога им разное.
А уж как волю-то объявили — того Михаиле до смерти не забыть. Все как есть внучатам рассказывает. Милостивый манифест царя прочитал им батюшка в церкви, на молебне, специально устроенном по этому случаю. Радости-то что было! Братались, обнимались, плакали от ликования мужики, целовались, шапки кверху подкидывали. Шутка ли, вот она — воля, царем дарованная! О земле в тот момент никто и не поминал, вроде бы само собой разумелось: уж коли крестьянина царь отобрал у помещика, то земля-то, понятно, у мужика будет. Не барину же пахать да сеять на ней! К чему она ему!
Ох, недолги были радости! В тот же день управляющий зачитал условия этой самой воли. Землицу-то купить надо у барина. Выкупить, будто она за долги отнята у мужика. А на какие шиши ее выкупишь? Вот где почесали дремучие свои затылки крестьяне!
Как ведь все обернулось! Была барщина неволей ненавистною, а стала благом по вольной волюшке: еще упросить надо помещика, чтобы в кабалу-то к нему попасть. Словом: «Порвалась цепь великая, порвалась — расскочилася: одним концом по барину, другим по мужику!» По мужику больнее ударила. Но и терять-то ему опять же нечего.
Всякой жизни отведали потом: и у барина успели наработаться, и на разных отхожих промыслах — никак лютой нужды не избыли.
Прослышали мужики о вольных землях на Урале, сговорились податься туда. Побросали убогие свои избенки с подпорками, похожие на нищего с костылем, и двинулись в тысячеверстную дорогу. Сколько их, этих тысяч? Может быть, две, а может, и больше. Среди других качалась крытая лубком колымага Михайлы Рослова. А в ней вез он главное и единственное свое богатство — трех сыновей. Григорий, можно сказать, настоящий работник, года через три женить можно — еще одна работница в дом прибудет. Мирон следом подтягивается — тоже помощник. Тиша вот маловат еще. Ну да с годами все образуется. Жена еще ехала, Катерина.
На Урале, понятно, никто их не ждал. Голытьбы всякой тут и без того невпроворот. Но выехали удачно, к югу подались. Не совсем в голую Оренбургскую степь, а туда, где она перелесками скрашивается. Непривычно тамбовскому крестьянину совсем в безлесье век вековать.
Земли здесь, простору — глаза разбегаются, а пригляделись — избу поставить негде: кругом земля Оренбургского войска да опять же помещичья. К самим казакам не подступишься, в станицу не пустят.
После многих мытарств притулились у крохотной речушки на земле помещика Бородина. Барин тот жил в Екатеринбурге и чуток был тронут умом, хозяйством совсем уж не мог заниматься и отдавал свои земли, разбросанные по Уралу, в аренду. Бог послал тамбовским мужикам этого барина, как сами они потом рассуждали. У казаков больше чем на два года землицу не возьмешь, а этот сразу на десять лет согласился, да и на будущее можно рассчитывать. Ох и усердно молились мужики за здоровье этого барина!
Однако не висели и здесь калачи на березах. В хозяйстве у Михайлы Рослова — одна Сивуха, куцая кобыла, которая с Тамбовщины привезена, да жеребенок от нее, сосун. Единственная извечная надежда у мужика — собственные руки. Они делают все. Посеял немножко хлебца и на несколько сезонов нанялся всей семьей к богатому прийсковскому золотопромышленнику Прибылеву косить и убирать сено.
Жаден, охоч до работы русский мужик, если видит в ней смысл бытия. Не щадит он ни себя, ни родных. Так и Михайла повел дело. Знал он, конечно, что от трудов праведных не наживешь палат каменных, но знал также и то, что под лежачий-то камень вода не течет. Кое-какую скотинку завел, посева добавил. Тут время подошло — Григория женил. Мирон с Тихоном подросли. Сынок народился еще один. Макаром назвали.
Любил тогда Михайла повторять изречение, им самим придуманное:
— В Тамбове помереть, а тута воскреснуть. Раздольна Сибирь-матушка!
Весь свет он делил на две части: на Расею и на Сибирь.
А что бед-то в том раздолье гнездится — никому того не перечесть. Со временем и Михайла со счету сбился, как повалились на него беды.
Все перевернулось в один год. Для начала бог послал лихого соседа — Кирилл Платонович Дуранов рядом с рословской избой поселился. И мало того что сам изредка пошаливал, греховодник этот будто приволок с собою нищенскую суму да и рассыпал из нее беды, как бобы, на рословском дворе.
Стояла сухая июльская жара — самый стогомет. В такую пору успеть надо подобрать все накошенное сено, сметать в стога, чтобы разнотравный дух его, изумрудную зелень и свежесть сберечь на всю зиму. И уж работка тут кипит горячее жаркого дня. Михайла стоял на большущем зароде, от двух подавальщиков принимал пласты духовитого сена, утаптывал их. И враз оступился, да еще, да еще раз! А потом и вовсе свалился с зарода. Ушибся не больно, только спросил как-то чудно:
— Чегой-та, ребяты, туман какой накатился? Не видать ничего!
— Что ты, батюшка, — возразил Григорий, — какой же теперь туман — вёдро этакое устоялось!
А вышло, что слепнуть Михайла начал.
— От натуги это, от надсады, — сказал в городе доктор. — Едва ли удастся помочь.
Вот она и пришла, корявая, навалилась. Да как же теперь с сеном-то быть? Не упускать же такие деньги! Прибылев хорошо платит. Пришлось Григорию за двоих ворочать. Перегрелся он как-то у стога да ледяной родниковой водицы хватил вдоволь. Осенью схоронили. А в начале зимы и Катерина, жена Михайлы, преставилась.
Сноха молодая пробилась в семье свекра еще года два да и ушла к своим. Только Васька, сынишка Григория, не захотел там жить. Раза три убегал к Рословым, так и остался у них.
Все невзгоды оборол Михайла Ионович, не поддался. Уже ослепший, пережил еще одну жену, которая привела с собой дочь Федору да двух дочерей родила — Аксинью и Анну.
Еще трех сынов после Григория женил Михайла. У Мирона с Марфой своя семья образовалась: Митька, Степка да дочь Кланька. У Тихона с Настасьей — тоже: Гришка, Галька да Мишка. И у Макара с Дарьей — Зинка да Федька. Всех и не упомнишь враз. Словом, за два десятка всей-то семьи перевалило.
Но ни за что не хотел Михайла дробить свой род, сыновьям и внукам рассказывал старую притчу, даже наглядно на березовом венике показывал, как легко переламывается одна ветка и как крепок весь комель, связанный из множества прутьев. Не то что простому человеку, а и тому, кто подковы руками разгибает, связанного веника враз не переломить.
Властвовала раскрепощенная жажда наживы, подогреваемая извечным страхом перед неведомой грядущей бедой, всегда готовой подстеречь из-за угла. Это и заставляло работать, не оглядываясь на здоровье; не на жизнь, а на смерть работать, чтобы надежнее застраховать себя на черный день. Пусть горб ломится, пусть пуп трещит от натуги — хозяйство упускать нельзя. А коли надорвешься — никто не пожалеет и не поможет. Издыхай, где нужда застигла. Так жизнь устроена.
В душе же и Михайла, и многочисленные потомки его оставались крепостными по характеру, по отношению к себе, по потреблению. Смеялись, если кто не с большого достатку получше оденется: на брюхе-то шелк, а в брюхе-то щелк!
Все должны что-то делать, как пчелы, сносить в улей сбор, а от этого и хозяйство, как мед в сотах, полнится, собирается в единое место. Поди, заметь у пчелы взяток, когда она его несет — не разглядишь. А по времени от одной семьи сколько меду накачивается!
Все должны что-то делать — заповедь эта так ужилась в семье, что никому не было удивительно ругательство деда — «бездельник». А уж если совсем выходил из себя дед, мог обозвать и варнаком. Именно это словечко и выпало в тот день на долю Степки.
Да что поделаешь — Кирилл Платонович шутить не будет. Тут и не такое скажешь.
3
Шибом вылетев от деда, Степка обопнулся в горнице. Остановился у цветастой занавески, за которой скрывалась кровать дяди Тихона и тетки Настасьи, глубоко вдохнул несколько раз, кулаком протер глаза, поплевал на ладошку и пригладил на темени волосы: никто не должен знать о сути разговора с дедом, а стало быть, и виду нельзя показывать.
Из горницы окунулся Степка в сутолоку избы, пролез к залавку, отворотил от белой витушки добрый кусок, а заодно получил чувствительную, но безобидную затрещину от тетки Дарьи: рука у нее молодая, мягкая.
— Не лазь под ногами! Чего еще кусок схватил? Не видишь — на стол собираем!
Однако пока Дарья договорила это нравоученье своим тягучим, с резкими обрывами говорком, выкатывая из печи ведерный чугун со щами, Степка с куском в зубах белкой влетел на печь и полез на полати в дальний угол. Не до ужина тут.
Ему уже виделся тот яркий осенний день. Суббота была. Пахали они тремя сабанами залог (целину, стало быть) по найму какому-то прийсковскому богатею. Уж не первую неделю пахали.
Сбуровили с утра за первую упряжку хороший загон, и еще до полудня дядя Макар с двумя работниками и погонщиками уехали домой в баню. Степку же оставили одного доглядывать за станом и пасти быков. А их, проклятых, шесть пар. Да такие здоровенные, что вместо трех, как обычно, запрягали в сабан всего по две пары.
Никакой работы не чурался Степка, но пахать на быках было для него сущим наказанием: на быке не проедешь, как на лошади — ходи возле них пешком; их не своротишь, не повернешь; и мужицкой силушки не хватит, когда заупрямится бык; а ухватись половчее за налыгач, покороче да чуть зазевайся — наступит на ногу и покалечит навечно, так лапоть и вдавит в ногу.
Остался Степка с ненавистными быками наедине, отогнал их чуток от стана и пустил в березовом колке. Скучища грызет несусветная. Срезал зажелтелую, с осыпавшимися семенами дудку дикой моркови. Выбрал из нее лучшее коленце и сотворил презабавную свистульку. Высвистывал на разные голоса, но ни одной песни Степка, как на грех, не знал, и дудка скоро надоела.
Ночью в будке спать было холодно, а в середине дня теплынь разлилась! Так солнышко вроде бы гладит всего ласковой рукой, так и гладит. Быки никуда из колка не уйдут — кругом пахота. С той стороны — дорога, а за дорогой и травы-то путевой нет… Прилег Степка поудобней, головой на кочку, и — хоть убей — ни за что не уразуметь, как уснул…
— Эй, молодой-зеленый!
Приоткрыл глаза Степка, а возле самого носа топочет конское копыто. Глянул вверх — казак в седле сидит. По штанам лампасина красная вихляет, и сабля на ремнях колыбается.
— Сопли утри, малец, да скажи, не прогоняли тут башкирцы табун коней?
Степка, вскочив на ноги и пятясь от наехавшего на него казака, осовело таращил глаза, утирая толстый нос заскорузлым кулаком, и ничего сказать, понятно, не мог.
— Чего ты с ним время ведешь! — закричал другой казак с дороги (их там человек двадцать стояло, а то и больше). — Его вместе с волами заберут, он и не проснется.
— Давай на Карашкин аул, живо! — загалдели другие казаки. — Там хоть кого-нибудь встренем да узнаем, где пасутся Карашкины табуны.
— Головы им посвертать, басурманам!
— Торопись, торопись, ребята, пока совсем не ушли наши кони!
Казаки наметом ускакали в сторону Прийска.
Чтобы не сидеть на одном месте и не дрожать от страха, Степка собрался напоить быков, да и самому давно подкрепиться пора. На стану есть добрый шматок сала, хлеб, кислое молоко, кажется, осталось. Только собрал своих рогатых в кучу, направил к стану — глядь, за дорогой по пустоши вихрем несется немалый табун лошадей. Гонят его два верховых башкирца, а между ними еще один, в русской одеже. Видно, о чем-то спорят они, ругаются, плетками грозятся. Эти скоро за лесом скрылись. Потом через недолго в том же направлении опять казаки проскакали. Коня гнедого незаседланного на оброти вел за собой один казак, кажется, чуть ли не тот, что подъезжал к Степке. Да шут их разберет. Правда, одеты казаки были по-разному: кто в настоящей казачьей форме и при оружии, кто в исподней рубахе, а кто и босиком — по-скорому, видать, собирались.
Проехали и эти.
Справил свои дела Степка, сызнова быков загнал в колок. Думал, уж все теперь угомонились. Сидит на кочке, по сторонам все поглядывает — пусто кругом.
Ненароком глянул на дорогу, а за ней напрямик через пустошь бежит человек. То побежит-побежит, то шагом пойдет маленько да опять побежит. Всмотрелся Степка. Пола у легкого пиджака разодрана, с лица пот льется, на скуле вроде бы ссадина. Ближе подошел: «Ба-атюшки, да ведь это дядя Кирилл!» Упал Степка в траву и дышать перестал. А Кирилл прошел прямо через колок, пересек пахоту, так и скрылся по бездорожью. Видно, домой подался.
Облегченно вздохнул Степка и поднялся на свою кочку. Теперь он кое-что понимать начал: где побывал Кирилл Дуранов, там добра не жди.
Перед вечером, когда солнце повисло над самым лесом за пустошью и покраснело так, словно весь день его держали в кузнечном горне, в сторону Прийска проехали казаки на двух бричках в парных упряжках. На передней подводе здоровенный сидел казачина, и Степка признал в нем Смирнова Ивана Васильевича.
Казак этот знаком был с отцом Степкиным и изредка наезжал к Рословым.
Ох и натерпелся же тогда страху Степка! Да хуже того — видит, что неладное что-то творится вокруг, а что к чему, как тут разберешь? Быков своих постылых пораньше на стан пригнал. А как стало смеркаться, и вовсе робость одолела. Забился в будку, огарок свечи вздул, поужинал чем бог послал. Делать больше нечего, а от скуки и вовсе страшно сделалось.
Стан хоть и в стороне от дороги, все равно слышно было, как казаки обратно проехали. Кто-то вроде взвизгнул нечеловеческим голосом, ругань донеслась. Смекнул тогда Степка, что с дороги-то видно светящееся окно будки. И захотелось ему спрятаться, сжаться, исчезнуть. Собрал всю храбрость, принес налыгач с улицы да лопату, привязал ее поперек двери за скобу покрепче. Чуток полегчало.
Хоть бы собака была с ним, все бы веселей. Опять же, окошко светится. Погасил свечку — и вовсе жуть навалилась. Бык засопит или пошевелится — слышно, мышь пробежит по траве — слышно, полуголую ветку на березе шевельнет ветром — слышно. А так — ти-и-хо.
— Матушка пресвятая богородица, спаси нас, сохрани и помилуй! — горячо зашептал Степка слова, не раз слышанные от матери, и также истово перекрестился.
Много раз перечитал он все немудрящие коротенькие молитвы, какие знал, а страх так и давил до тех пор, пока не приехал дядя Макар с работниками. Приехали же они, наверно, к полуночи. А может, так показалось: вечера-то осенние — длинные.
4
А дела в тот день и впрямь вершились ужасные. И если б тогда Степка узнал все доподлинно, что произошло, не усидеть бы ему в будке даже с молитвами: либо сбежал бы, либо со страху помер. Семь человек за день-то на тот свет отправили.
Это уж потом узналось, как все было.
Рано утром казаки станицы Бродовской пошли ловить своих коней, но на пастбище их не оказалось.
Кони паслись без присмотра, спутанные железными путами, которые схватываются специальным замком. Весь табун, двадцать восемь лошадей, воры погнали напрямик, без дороги, в сторону Прийска. На пашне, да и в траве, следы от такого множества копыт не спрячешь.
Вернулись казаки в станицу, переполошили всех, подняли и атамана. К хозяевам украденных лошадей присоединились охочие (всего собралось около тридцати человек) и бросились в погоню. След привел их к маленькой речушке, что пересекает дорогу от Бродовской на Прийск. Здесь в прибрежном ракитнике нашли казаки путы и замки со своих коней. На этом месте, стало быть, воры сбили замки. След побледнее дальше пошел, похуже, кое-где на дорогу вывертывать стал, но прямо показывал на Карашкин аул. Тут и наткнулись казаки на Степку в первый раз.
Аул этот прилепился на окраине Прийска, за выселками, и назывался по имени хозяина, богатейшего башкирца.
В ауле казаки, как и следовало ожидать, ничего не нашли. А про хозяина им сказали, что уехал и не сказал куда. Бросились искать Карашкины табуны. А попробуй найди их в таких-то просторах! Подрассыпались, разъехались казаки. Двое наткнулись на табун в лесу. А пастухи — тут как тут. Не подпускают к лошадям и табун осмотреть не дают (четверо их было, пастухов-то). Свалка началась, драка завязалась.
На шум подъехало еще с десяток казаков. Порешили они в драке всех башкирцев, а нашли только трех своих лошадей, но теперь сомнений не было: здесь где-то и остальные кони.
В другом табуне признали восемь лошадей. Казачий отряд разделился: малая часть, забрав найденных лошадей и двух пастухов-башкирцев, отправилась в Бродовскую. Остальные поехали продолжать поиск.
В станице башкирцам устроили самосуд, страшно пытали. Наконец один из них, избитый, истерзанный до полусмерти, объявил, что он не ездил воровать коней, а его товарищ участвовал в краже. Сознался и второй, но сказал, что своих коней у него нет и не надо их ему.
— Карашка, хозяин посылал, — с трудом шевеля почерневшими, разбитыми и вспухшими губами, выговаривал башкирец. — И сам он ездил…
— Где Карашка?! — приступили к пастухам с новой яростью казаки.
Долго башкирцы крепились, изворачивались, упорствовали, не желая выдать хозяина, потом рассказали все: жить им оставалось совсем уж немного.
Дознались от башкирцев, что в ауле много кошей. Есть большие, красивые, а есть один маленький, старый, самый плохой кош. В нем старуха сидит или лежит на постели. Вот под ней, в сундуке, — Карашка.
Тогда-то и собрались казаки во главе с братом атамана Смирнова на двух подводах изловить и доставить Карашку в станицу. Приехали в аул, разыскали самый плохой, крытый рваной кошмой кош, туда и вломились. И верно: сидит на бедной постели старая-престарая старуха. По-русски ни слова сказать не может, только лопочет что-то по-своему да стонет истошно. Стащили ее вместе с постелью с насиженного места, а там — огромный сундук. Открыли его — вот он, Карашка! Голова и шея жиром заплыли, на щеках и на голове седая щетина, пузо горой, а ноги коротенькие, толстые. Рукава засучены, в жирных волосатых руках по кинжалу. И глаза не хуже кинжалов сверкают.
Как выскочит из сундука этакий детинушка пудов на восемь!.. Но казаки перемигнулись раньше. Смирнов-то устроился у сундука так, чтобы сзади у Карашки оказаться, когда тот встанет. Полешко припас подходящее да и долбанул им по бритой-то голове. Только и успел Карашка руку одному казаку порезать. Связали его по рукам и ногам, завалили на ломовушку. Повезли.
Всю дорогу отчаянно бился башкирец, вырывался. Этакая силища в нем! А Смирнов и другие казаки поколачивали его полешком, чтобы успокоить. Чуть тепленького в станицу привезли поздно вечером. Там и добили…
История эта не одного Степку страшила и удивляла. И чему в ней дивиться больше — жестокости казаков или ненасытной алчности Карашки — не разберешь. Нет, не разберешь! Ведь не одна тысяча коней у него, а еще на три десятка польстился да работников своих на грех навел.
А больше всего занимало хуторян лебедевских то, что и на этот раз не обошлось без Кирилла Платоновича. Но об этом говорили несмело, понижая голос и употребляя для объяснения самые выразительные жесты.
5
Дед Михайла раз по пять за ночь подымался и, накинув на усохшие плечи старенькую дубленую, уже разукрашенную побелевшими разводьями шубу, кряхтя и шаркая пимными опорками, пробирался через горницу, с особой осторожностью тыкал клюкой впереди себя в прихожей избе, где и на полу спали люди. Михайла осторожно и как бы торжественно выплывал на скрипучие невысокие сходцы и шествовал в специально отведенный для него угол двора под сараем.
Здесь его неизменно встречал Курай, спускаемый на ночь с цепи. Здоровенный откормленный пес едва слышно повизгивал, горячим языком взмахивал по жилистым, иссохшим рукам деда, припадая к земле, терся холодной стоячей шерстью о голые цевки дедовых ног, не закрытых короткими холщовыми штанами на целую четверть.
Остановившись, Михайла долго и напряженно вслушивался в чуткую тишину ночи. Незрячие, мутные зрачки то беспокойно сновали в глазницах, то, насторожившись, замирали на месте.
В теплом хлеву, захлебываясь в духоте, натужно закашляла овца, а потом громко заблеяла, словно жалуясь на свою долю. На заднем дворе пыхтели, отдуваясь и жуя вечную жвачку, коровы и рогатый молодняк. Оттуда же вдруг послышалось тягучее, с перехватами, негромкое мычание, будто корова плыла по воде и захлебывалась.
Запамятовав, за чем приходил в этот угол (слушать-то можно было и с крыльца), Михайла скорехонько засеменил в избу. Как лыжами, двигая опорками, собрал гармошкой в горнице половик, подступил к Мироновой кровати и, путаясь в ситцевой занавеске, ткнулся костлявыми пальцами в мягкую и пушистую, как у него самого, бороду Мирона.
— Мироша! Мирош! — теребил за бороду дед. — Вставай! Чернуха, знать, отелилась. Глянь сходи!
Обессиленной, вялой ото сна рукой Мирон толкнул с себя стеганое одеяло, успел еще раз храпнуть сладостно и, как облитый холодной водой, вскинулся. Натягивая на ходу шаровары, прошел в избу, в печурке нащупал спичечный коробок, засветил пятилинейную лампу и глянул на часы.
— У-у, да и вставать уж пора! Буди, батюшка, стряпку.
Стряпали бабы по неделям, так что умение каждой из них, старание и весь обиход снох был доподлинно известен всем членам многочисленной рословской семьи. Все тут на глазах: и каков она хлеб испечет, и какие щи сварит, и как посуду содержит, и как на стол подаст да что скажет.
Дед поднял клюшку и, нащупав ею сонную Марфу, несколько раз ткнул легонько. Та повернулась тяжко, так что кровать, вздрогнув, охнула под ней. Ухватилась сонной рукой за дедов бадик и невнятно застонала.
— Ну, будя, будя тебе спать-то! — настойчиво твердил дед, не отступая от кровати, жарко пахнувшей на него устоявшимся теплом бабьего тела.
После Марфы начали подыматься все. Мужикам — скотину убирать, бабам — за свои бабьи дела приниматься. Ожила изба — застукали, заходили. Бесперечь гремел рукомойник, посвистывала в петлях и хлопала избяная дверь.
Дед Михайла, уже умытый и причесанный на прямой пробор, в наглухо застегнутой холщовой рубахе, опоясанной тканым пояском, топтался тут же и вникал во все. Остановившись против полатей, стукнул по брусу клюкой, громко, с хрипотцой сказал вверх:
— Эй, ребяты, будя вам вылеживаться, вставайтя, вставайтя!
На полатях, однако, стояла безответная тишина.
У жарко растопленной кизяками печи, круто поворачиваясь, управлялась пятипудовая Марфа, не шибко высокая, зато широкая в плечах, полная баба. Красный свет из чела, плескаясь, делал лицо ее багровым, с резкими тенями. Крупный, с изрядной горбинкой нос, оттянутый книзу, желтые, блестящие перед пламенем глаза, маленький платок, завязанный концами назад, голые до локтей полные руки и тряпка, повязанная углом вместо передника, делали ее похожей на морского пирата, воюющего с захлестнувшей стихией. И, словно бы для пущей схожести, темнели у нее на верхней губе мягкие усики с мелкими бисеринками пота на них.
То она, подсадив на ухват двухведерный чугун, двигала его на катке в огненную пасть печи, то бросалась к залавку, выхватывая из квашни тесто, подсыпая из сельницы муку, чтобы раскатывать хлебы.
— Опять бычок! — торжественно, с одышкой возвестил Мирон, влезая в невысокую дверь с новорожденным теленком на руках. Он прижимал это трепещущее всем телом, мокрое и скользкое существо к груди, прикрывая бородой черную, лоснящуюся спинку телка.
— Сызнова бык, чтоб его… — подал с полатей голос Степка.
— Цыц ты, бездельник! — оборвал его дед и поднял вверх костыль, отчего головы ребятишек, до того рядком торчавшие над брусом, моментально исчезли в глубине полатей. А когда дедова клюка опустилась на пол, ребячьи головы тут же вернулись на прежнее место.
— Ведь это животная… Только что рожденная… Бог, стал быть, послал, — продолжал, возмущаясь, разъяснять дед. — Чего она тебе помешала?.. Слазьте, бездельники, с полатей да ступайте пособлять мужикам! Скотину поить гоните на речку.
Когда Мирон осторожно опустил свою ношу у порога, белые, как в носках, ноги теленка раскатились, часто застукали по полу копытца. Дрожащие передние ноги подогнулись, и теленок ткнулся белолобой головой в стенку, поднялся и, снова поскользнувшись, со стуком рухнул. Но он и не думал примириться с судьбой, настойчиво борясь за естественное свое право стоять на ногах. Нечаянно найдя опору в щели между плахами, устоялся, гордо вскинул голову и повел умильным, телячьим взглядом по окружившим его бабам и ребятишкам.
— Ишь, какой герой! — сказал в наступившем всеобщем молчаливом восторге Мирон. И, положив тяжелую руку на плечо сына, добавил:
— А ты, Степа, не боись, ноничка пахать на быках не станем. Лошадей, слава богу, хватает.
Степка, глядя на это новорожденное трепетное существо, совсем было забыл о проклятых быках, которых сейчас предстояло гнать на водопой. Прямо никак не верилось, что вот из этой немощной и милой козявки вырастет такой же рогатый, огромный и упрямый черт, как теперешние быки.
Настасья, жена Тихона, уже восседала за ткацким станом. Челнок, проскочив между натянутыми нитками основы, точно сам падал на полоску холста, и бердо упруго билось в очередную пропущенную в основу нитку.
Сидела Настасья прямо и даже, пожалуй, торжественно, что ли. Стан будто играл в ее руках. Как молодая волшебница, чуток приспустив веки над голубыми глазами, она словно бы только наблюдала, как бегает челнок без ее участия. Высокий лоб с двумя неглубокими изогнутыми складками над разлетными темными бровями, прямой нос застыли в чинном спокойствии. И только красивые мягкие губы едва заметно улыбались. С утра легко работается, весело, и, гоняя челнок и стукая бердом, она думала о чем-то своем.
Дарья, зажимая в руках прихваткой огромный, бурлящий кипятком чугун, чебурахнула из него щелок в поставленное на пол у печи корыто. Едкий белый пар клубами повалил по избе, защекотал в носу у Михайлы.
— Ты, Даша, стираться налаживаешься, что ль? — спросил он, чихнув.
— Холсты стлать налаживаюсь, батюшка, — бойко ответила Дарья, отскочив от горячего пара и почти бросив чугун, прокаливший сквозь тряпку руки.
Чугун ударился о корыто, задребезжал, поскольку в нем уже была по кромке трещина, и затих. Будь на месте Дарьи любая другая сноха, дед оговорил бы ее за то, что не бережет добро, но тут только покрякал многозначительно и, словно бы раздумывая про себя, невнятно молвил:
— Рановато, чать, холсты-то стлать: снежище вон какой. И сверху нет-нет да подвалит.
— А мы с Настасьей, батюшка, полянку на задах нашли подходящую. Там, на косогоре, к речке.
Ничего не ответил дед. Любил он ее, эту младшую занозистую сноху, да, пожалуй, чуток и побаивался.
Дарья, рослая, стройная и красивая баба, могла ошарашить даже свекра-батюшку, если лез не в свои дела, таким словцом, что у того язык отнимался. Ростом и сложением не уступала Макару, мужу своему. И поколачивал он ее реденько, но она на него руки не поднимала. Сейчас была она на сносях и от этого вроде бы даже больше похорошела.
Дед Михайла, еще с вечера определив всем мужикам работу, ревниво, дотошно теперь следил за тем, чтобы дело было сделано именно так, как вчера обрешили.
Мирону сегодня ехать в станицу Бродовскую, к крепкому казаку Смирнову на поклон. Ежели надо, не пожалеет мужик спины, поклонится. Раз пять уж побывали у него за зиму Рословы, и сам дед ездил туда дважды, но толку не добились. Велел еще перед весной приехать. Землица у него удобная, от хутора совсем недалечко. Взять бы в аренду. А казак чего-то жмется, ломается, тянет. Видать, кто-то из хуторских потолще постельку стелет, чем Рословы. Да и Рословых Смирнову отшибать не хочется. Заимка его недалеко от хутора Лебедевского: летом какая-нибудь нужда обязательно в кузню к Тихону загонит.
Последний раз порешили спытать счастья, а там хоть за тридевять земель ищи. Да и весна уж настигает, успеть надо.
Макару с Митькой — сено возить сегодня. А потом всю неделю, оставив хозяйство на баб и ребятишек, большой артелью мужики будут вывозить лес из-под села Борового.
Давно теснотились Рословы в своей избе. И содомом, и вертепом честили эту избу втихомолку бабы. Теперь пришла пора новую ставить.
Убраться со скотиной и позавтракать успели, как всегда, до свету и — все по своим местам.
Мирон, приодевшись по-праздничному: в черной борчатке с мерлушковым черным воротником и такой же опушкой на шапке, в новых пимах, закладывал в кошеву Ветерка, гнедого жеребца. Тут же, во дворе, возились Макар с Митькой, готовя пятеро саней под сено.
Продернув через кольцо под дугой повод, Мирон подвязал его повыше, похлопал по крутой шее Ветерка. Тот косил фиолетовым глазом, нетерпеливо фыркал, перебирая ногами на месте.
— Митя, сынок, — позвал Мирон, удерживая коня под уздцы, — отопри-ка вороты.
Едва распахнулись ворота, жеребец, выбив копытом мерзлые брызги, вынес кошеву вместе с седоком на улицу, круто навалившись, повернул направо и пошел хорошей, спорой рысью.
Не вихрилась за кошевой Мирона поземка, потому как подтаивавшая днями дорога теперь подмерзла, остекленела, и кованые полозья скользили по ней легко. Только в Сладком логу дорогу перехватило ночной метелью, а в утренней тишине по логу холстами выстелился густой белесый туман.
Натягивая вожжи и упираясь ногами в передок кошевы, Мирон подставлял бородатое лицо встречному ветру, вдыхал бодрящий морозный воздух с едва ощутимой примесью конского пота. И часа не понадобится, чтобы домчаться до Бродовской, еще до солнышка там будет Мирон, Смирнова наверняка застанет дома. Только удастся ли поездка и на этот раз?
Какое-то тяжелое, нехорошее предчувствие и сомнения начали одолевать Мирона с середины пути. По мере приближения к станице волнение нарастало, уже не радовало мужика это прекрасное утро, не тешили надежды…
Два срока арендовали Рословы удобный и плодородный участок у Смирнова. За четыре года сблизились изрядно, и Рословы дорожили этой дружбой с богатым и влиятельным казаком, брат которого не первый год ходил в станичных атаманах. А теперь вот с самой осени чего-то выламывается казак: и землю не отдает, и не отказывает по-настоящему, и об арендной цене помалкивает. Рословы тоже с прибавкой не набиваются — нечем прибавлять-то, избу новую ставить надо.
Быстро мелькали придорожные березовые колки, покрытые праздничным серебром инея. Кошева то взлетала на белые горбившиеся возвышенности, то скатывалась в низины. Выехав на последний высокий взлобок, Мирон увидел далеко внизу станицу с церковью, с богатыми казачьими домами, прикрытыми легкой утренней дымкой. С речки наплывал туман, клубившийся особенно густо в тех местах, где вода не замерзала. Над бродом выворачивались белые барашки.
Но взгляд Мирона привлек совсем иной предмет: внизу, на выезде из Бродовской, показалась парная упряжка, пока еще плохо различимая. Выехать из станицы в эту пору мог любой житель, но кони показались ему знакомыми. И чем более сближались подводы, тем больше Мирон укреплялся в своей догадке: Прошечка это, Прокопий Силыч Полнов, сосед Рословых, Мирону — кум. Живет он богато, по-хуторски, лавку содержит и новый дом за речкой возводит, мужик малорослый, сполошный и своенравный.
— Здорово, кум! — еще издали весело крикнул Прошечка.
— Здорово! — неохотно ответил Мирон.
— Долго спишь, черт-дурак! — засмеялся Прошечка, проезжая возле Мирона. — На базаре теперь уж все горшки либо продали, либо перебили.
«Черт-дурак» — это присловие такое у Прошечки. На него уж редко кто обижался за эти слова. И не в них дело. Да не у Смирнова ли он побывал и не намек ли в его словах на главное? Знал Мирон, что Прошечка не раз к Смирнову заглядывал в эту зиму, но только теперь вдруг осенило его, из-за чего увивался там мужик. И до того это ясно ему стало, что хоть тут же заворачивай Ветерка да поезжай обратно. Однако не завернул.
— Ранняя пташечка уж носик, знать, прочищает, — вздохнул он, подшевелив вожжой коня, — а поздняя еще глазки продирает…
Остановившись у новых крашеных ворот, Мирон привязал за железное кольцо на столбе Ветерка и поспешил в просторный смирновский дом. Все здесь было и скроено ладно, и сшито крепко. Дом двухэтажный, низ кирпичный, верх рубленный из ровных сосновых бревен. Крыша из жести. Все придворные постройки — тоже под жестью. Соломы и в помине нет.
— Хозяин дома? — поздоровавшись и перекрывая заливистый лай кобеля, спросил Мирон у работника, подметавшего двор.
— Дома, — ответил тот, указывая на высокое крыльцо.
— О, да знать, Мирон Михалыч пожаловал! — радушно встретил его хозяин. — Проходи в горницу: бабы толкутся тут. — Но раздеться не предложил. Видать, на долгий разговор не рассчитывает. — Садись вон на стул… Ты чего ж это припозднился-то, Михалыч?
— Да ведь солнушка пока не взошла, — как бы оправдываясь, ответил Мирон, кряхтя и усаживаясь на стул возле стенки, недалеко от двери. — Куда же раньше-то? Ночью, что ль, будить?
— А Прошечка вон, сусед ваш, как баба лампу засветила, он и постучался в ворота. Не встрел ты его?
— На взвозе, вон за станицей встрел.
— Вот с им у нас и вышла полюбовная ряда. Не постоял мужик за ценой.
— Дык нас-то чего ж ты за нос водил цельную зиму, Иван Василич? — Как ни сдерживался Мирон, эти слова вырвались у него гневно, даже сквозь обветренные щеки проступил заметный румянец.
— Не упущать же мне, Михалыч, живой доход из рук. Хоть до тебя доведись… Хлеб на базаре небось не тому продаешь, кто подешевле даст, а подороже норовишь сбыть.
— Ты нам про цену ничего не сказывал… Аль кума не мила, так и гостинцы постылы?
— Верно, не говорил про цену, — неохотно признался Смирнов, огромной ручищей прижимая надвое рассеченную метлу бороды, и тут же завертелся: — Дак ведь я не отказываю вам в земле-то.
— Как же не отказываешь, коли Прошечке все отдал?
— А чего вам не взять клин за Зеленым логом по той же цене, по старой?.. Правда, подальше малость…
— Как не подальше, коли за кестеровским наделом клин ентот. А землица там, чать, не сравняешь с этой… По сухому году все бугры плешинами станут. Работа одна на ей бестолковая… Ах, да господи, на чего ж нам строиться-то теперь? Чего она уродит!
— Дак ведь все в рай-то просятся, а смерти боятся. Не навяливаю того клина, не хошь — не бери.
Совсем жарко стало Мирону под борчатой черной шубой. Вспотел, завозился на стуле.
— «Не бери», — переговорил он бессовестного казака, — по чужим ранам да чужим салом мазать не убыточно… Ежели б ты по осени вот эдак сказал, как мы с батюшкой по первому разу у тебя были, могли бы еще где поискать. А то всю зиму держал нас возля себя, теперь вот оттолкнул…
— Ну, не серчай, Мирон Михалыч. Дурак, и тот своей выгоды небось не упустит.
— Да-а, — тяжко вздохнул Мирон, подымаясь и становясь к двери, — сладко мы захватить хотели, да горько лизнули…
— Ну, смирись, Михалыч, смирись, — осклабился Смирнов, подходя к Мирону и опуская тяжеленную руку ему на плечо. — Минувшей осени назад не воротишь…
— Ну ладноть, — крякнув, сказал Мирон, — со своими посоветую, завтра заеду, ежели опять перехватчика не встрену дорогой.
— Да что ты, что ты, — откровенно и нагло засмеялся Смирнов, — какие могут быть перехватчики, коли уж обещано!
…Отвязав Ветерка и садясь в кошеву, Мирон повторял про себя с придыханием, будто только что вылез из проруби:
— Н-ну, Иван Васи-илич, ну, Ива-ан Василич… По бороде хоть в рай, а по делам-то ай-ай. А ведь Прошечка-то каков пес, а?! Тряхнул тугой мошной перед самым носом и все наши горшки расшиб.
Мирон понимал, что советоваться дома почти не о чем: сеять скоро, когда же тут искать еще чего-то! Да и дружбы со Смирновым порушить никто не захочет — помогает она в иных случаях. Ох, дружба, дружба! Больно уж не равная она — дорого обходится Рословым. Сколько в своей кузне переделал Тихон, единой копеечки с него не взял — все за дружбу! Оттого, видать, и цену за землю накинуть Смирнов посовестился. Вот как за добро отплатил!
Теперь новую избу хоть строить, хоть бросить — одинаково, наверно. И в старой никакого житья не стало — ни встать, ни сесть. А ночью не то что на полатях или на печи — на полу-то ступить негде. Поживи вот попробуй так-то!
Митька, поглядев вслед отцу, спросил:
— Дядь Макар, вороты затворять аль как?
— Притвори пока. Да выводи лошадей, запрягать станем.
Митька года на три постарше Степки. Похожи они друг на друга разве что большими носами, а кроме этого, поставь рядом — не скажешь, что братья. Черный Митька, как цыганенок, глаза желтые, материны, брови густые, черные. Из-под смуглой, туго обтянутой кожи выпирают широкие скулы. Степка рядом с ним будет выглядеть серым воробьем. Глаза у него серые, лицо чуток вытянуто книзу. И брови, и волосы — тоже серые. Зато Степка все время на виду: то его похвалят за что-нибудь, то уши надерут. А Митьку и драть не за что, и похвалы как-то не заслуживал: рос незаметно, никого не задевая.
— Митька, спусти Курая, пущай погуляет с нами, — велел Макар и устроился в передних санях. Митьке, стало быть, на задние садиться надо.
Когда выезжали со двора, совсем рассвело, но солнце никак не могло выбраться из-за невысокого кургана, хотя уже щедро разбросало в той стороне румяную нежную зарю.
Опустив вожжи на головку саней и предоставив свободу Бурке, Макар сердито ворчал:
— Развели черт-те чего, а хватись — нет ничего. Сена одного да соломы на этакую ораву не навозишься! Только и делов на всю зиму: корм возить да навоз убирать…
Давно это началось. Несколько лет назад, возвратясь с действительной службы, Макар горячо уговаривал отца и братьев продать часть скота, на вырученные деньги отстроить добротный двор, а потом постепенно разводить только породистую скотину. Не послушался его дед Михайла. Так и велось это большое, во многом непутевое хозяйство. Овцы, сбившись в тесноте в теплом хлеву, подпаривались, задыхались, давили ягнят. Коровы, быки и все рогатое поголовье зимовало на заднем дворе за плетневой стенкой, от которой до соломенной кровли кругом зиял четверти в две прогал, позволяющий свободно врываться всем ветрам. Кормушек, яслей и в помине не было. Корм разбрасывали прямо под ноги. Тут же он затаптывался и смешивался с навозом. Катухи намерзали такие, что и не справишься заваливать в сани. Так и жили в работниках у этой многочисленной скотины, получая от нее во много раз меньше, чем следовало.
Вот была бы землица своя, на вечное владение приобретенная, раздумывал Макар, тогда бы пошире можно развернуться. Так ведь она, землица-то, у казаков в руках. Царь им дарует ее. Но и казачишки в долгу не остаются. Как псы цепные грызутся за «Николашку кровавого». Случалось Макару видеть это на службе в Ростове. Не только нагайками, но и саблями усмиряли рабочий люд. Не боятся, супостаты, пролить народную кровь. А ты ходи к ним на поклон да за свою же денежку землю в аренду выпрашивай… До каких же пор этакой несправедливости быть?..
Вопрос этот, задаваемый неизвестно кому, всегда в размышлениях Макара как бы повисал в воздухе и меркнул безответно. Царь в таких рассуждениях как-то затушевывался и терялся за более близкими и понятными людьми — казаками. Вот они, казачишки, под боком, каждый день о себе чем-нибудь напоминают. Удастся ли опять же сегодня Мирону сговориться со Смирновым? Ведь и цену за участок дали хорошую, а он все ломается, жмется чего-то… Ну да мимо Тихоновой кузни все равно не объехать ему. Приткнется. Неужели не понимает он того?..
Раздумавшись, Макар бросил на колени рукавицы. Не спеша скрутил цигарку, мусолил ее, отодвигая прокуренным пальцем кончик пшенично-белого уса, тоже зарыжевшего снизу. Бурка зафыркал тревожно, пошел как-то боком и сбавил шаг.
— Стой! Стой, нечистая! Тпр-ру! — послышался впереди немощный писклявый голос.
Носом к носу с Буркой стояла запыхавшаяся, вся в белых иголках куржака, рыжая кобыленка Леонтия Шлыкова. Сам Леонтий, малорослый мужичишка, в видавшем виды дубленом полушубке, опоясанном какой-то тряпкой, и в шапке, вытертой с одного боку догола, выскочил из дровней и, загребая подшитыми пимами снег, затараторил:
— Макарушка, спаси тебя Христос, он ведь бы стрескал меня, злодей! Всю дорогу от самого, считай, городу пас, изверг! Не меня, так кобылку бы мою сожрал…
Леонтия колотил озноб. Реденькие светло-рыжие усы и такого же цвета бороденка сплошь покрылись сосульками и тряслись, как в лихорадке. В серых глазах под лысыми едва заметными бровями гнездились ужас и мольба.
— Погоди, погоди, — остановил его Макар. — Ты либо́ перехватил в городу на базаре, либо́ с печки упал неловко, дядь Леонтий. Чего ты скешь, не разберу никак.
— Дык как же, Макарушка, не разберешь-то, чего тут разбирать: вона, вон он, вражина, сидить, как блинов на масленке облопалси, двоши́ть! — Леонтий тыкал скрюченным, затертым дратвой пальцем куда-то назад.
Макар оглянулся. Саженях в пятидесяти сзади и немного в стороне от дороги, нешироко распахнув пасть, вывалив длинный язык и тяжело дыша, в снегу сидел волк. Закуривая, Макар и не видел, как проехал мимо зверя, отскочившего саженей на пятнадцать в сторону. Курай, приотстав от задних саней и спрыгнув с дороги, тоже сидел в снегу, не решаясь в одиночку пойти на волка. А Митька глазел на мужиков, не понимая, в чем дело.
Поднимаясь с низких саней, Макар задел шапкой полу Леонтьевой шубы, и тут в нос ему вдарило таким нестерпимым смердящим духом, что он скорее отвернул к ветру лицо, плюнул и, торопясь, начал распрягать коня. А Леонтий не отступал:
— Чего плюесси, Макарушка, ведь он, прах его раздери, сколь разов возля самых саней зубищами клацкал. Топор либо́ вилы с собой бы пригодились — нет ничего! Может, дух этот самый и не допустил его, вражину, ко мне… Может, он его и отшибал…
Выводя из оглобель Бурку, Макар швырнул в снег только что раскуренную цигарку, подхватил с саней трехрогие кованые вилы, похожие на трезубец, приказал подбежавшему Митьке:
— Разворачивай назад. Прицепи эти сани. Ехай не шибко. Ежели волк, увидишь, к дороге станет сворачивать, понужни малость свою Сивуху.
Макар вскочил на коня и пустил его скорой рысью не прямо на волка, а с заездом от степи. Снег неглубокий: кое-где в пол-аршина, а то и всего на четверть.
От деревни отъехали они, оказывается, всего с полверсты, не больше. Из-за голого кургана плеснулось на степь солнце, сделав снег розовым, пересыпанным огненными искрами.
Курай, не дожидаясь зова хозяина, большими прыжками пошел на сближение со зверем, но не прямо, а тоже с заходом, хотя по меньшему кругу, чем Макар. Ростом пес был, пожалуй, крупнее волка и осанкой походил на зверя, только шерсть на спине совсем темная.
Углядев неладное для себя и малость уже отдышавшись, волк завозился в снегу. В пахах и по брюху качнулись грязно-серые клочки линялой шерсти. Зверь неловко повернулся, не сгибая спины, и большими прыжками тяжело направился к хутору — как раз то, чего хотел Макар. Если верить Леонтию, волк пробежал уже около тридцати верст, так что прыти в нем поубавилось.
Вздыбив жесткую темную гриву и обуреваемый редким азартом, Курай не пошел дальше в обход, а повернул на след и заметно начал настигать волка. Все больше приближался к нему и Макар.
В бешеной скачке волк вылетел на хуторскую дорогу, замешкался чуть, завертелся, выбирая направление, и, видя уже близкую погоню, пересек дорогу и нырнул в прогал между Дурановым двором и двором бабки Пигаски. Шарахнулся было с тропинки в снег, но тут почти наткнулся на Василису Дураниху, собравшуюся выплеснуть из ведра помои в прореху плетня. Ведро вырвалось у нее из рук, мыльные брызги окатили волка. А Василиса — тихая, совсем неслышная баба — взревнула так, что отдалось на другом конце хутора.
Здесь Курай настиг волка, хватил его всей пастью за заднюю ногу, но тот вырвался и, ныряя в глубоком, наметанном тут снегу, отходил к гумну. А сугроб становился все глубже и глубже, так что оставалось только «плыть» по снегу.
Видя неминучий конец, волк упал, перевернулся на спину, подняв лапы, оскалив зубы и в бешенстве уродливо сморщив на кончике носа черную кожу, зашипел, как змея. Курай подсунулся было к нему, но тут сверху раздалось грозное:
— П-ш-ше-ел!
Пес успел чуть отпрянуть, а кованые рожки́ с высоты вонзились в распахнутую пасть волка.
Разгоряченный погоней Макар, не выпуская из рук черенка вил, спрыгнул с коня, обеими руками даванул черенок книзу и окончательно пригвоздил зверя.
Никогда и никому, наверно, не удастся разгадать, как, каким образом разлетаются по деревне слухи. В считанные минуты новость оказывается известной всем. Пока Макар выбирался из сугроба со своей добычей, волоча по дороге зверя и ведя за собой коня, у рословского двора, кроме своих и Леонтия Шлыкова, торчало уже несколько любопытных соседей. А по улице из-за речки, как на пожар, торопились группами и в одиночку люди. Из толпы навстречу ему побежало несколько человек, и среди них вездесущий Степка.
— Дядь Макар, давай пособлю: уморился ты. — И Степка, ухватив за хвост волка, пыхтя и надуваясь, один доволок его до двора и бросил у ворот для всеобщего обозрения.
— Вот он, мой погубитель! — подскочил к мертвому волку и пнул его Леонтий, тряся узенькой редкой бороденкой. — К-хе, крендель тебе в рот, Макарушка, видал, какую трофею я тебе подарил, а!
— Ладноть, — заторопился Макар, — трофея пусть остается, Тихон обснимает тут… Давай, Митрий, запрягать Бурку да поедем. Гляди ты, сколь время с им потеряли.
6
Никто не знал толком, откуда на хуторе появился этот человек. Построил избу рядом с рословской. Изба как изба — с прихожей и горницей, покрыта, правда, жестью. Огромный двор обнес плетневым забором и накрыл его лапасной соломенной крышей. В дальнем темном углу двора — погребок. Вход в него длинный, пологий, холодный и темный. Степка Рослов, забегая по соседским делам во двор к Дурановым, всегда страшился этого погребка. Он и сам бы не смог ни за что объяснить, отчего охватывает его неодолимая робость, трепет какой-то противный берет, когда приходится приблизиться к холодному и темному спуску в погреб.
Но если хорошенько подумать, то, пожалуй, можно и объяснить.
Давно это было. Степке, кажется, еще и штанов не полагалось на летнее теплое время. А Кирилл Платонович поселился здесь и зажил с молодою женой, теткой Василисой. Плотная такая бабенка, крутая да разговорчивая. Правда, разговоров ненадолго хватило: отучил ее говорить Кирилл Платонович — тихая потом стала, задумчивая, слова от нее не добьешься.
Уехал однажды куда-то Кирилл Платонович, не сказал — куда. Он никогда не сказывал ей о своих делах и намерениях. Стемнело. Ночь на дворе. Боится одна домовничать Василиса. А он, может, до утра не приедет. Бывало такое, не раз. Позвала ночевать Рословых девок. Федора-то уж большая была, невеста, а Ксюшка с Нюркой — девчонки. Улеглись они спать на полу. Осенью дело-то было. Тепло. Федора — с краю, к двери ближе. Нюрку, самую маленькую, в середку положили. Угрелись под овчинным тулупом и заснули скоро.
Ночью стучится Кирилл Платонович. Василиса настороже, видать, была, скоро услышала. Отперла. А Федора тоже проснулась — ногой за нее Кирилл-то запнулся легонько, — но виду не показала.
— Кто это тут у тебя спит? — спросил шепотом.
— Девки спят Рословы. Одна-то боюсь я, Кирюша.
— Крепко спят?
— Вроде бы крепко… Сразу уснули.
— Зажги огонь да, что есть в печи, на стол мечи, Живо! — Отворил дверь и негромко велел в темноту: — Тащите сюда мешки, ребята!
Четверо татар заволокли два большущих, тяжелых мешка и бросили их у порога. Один мешок чуть не в нос Федоре уперся. Пощупала тихонько из любопытства (уж больно форма у мешка причудливая). Так и прострелило всю, как молнией: локоть ведь это! Человеческий локоть! Дальше пощупала — конечно, рука. Вот и пальцы… «Господи, батюшка наш милостивый!.. Царица небесная, матушка!..» — понеслись в голове слова, не произнесенные даже шепотом. Губы онемели. И как господь помог — не вскрикнула. Может, тоже в мешок бы угодила.
Хозяин и гости его, не раздеваясь, даже не сняв башкирских круглых шапок, устроились за столом, распили две сороковки, закусили солониной да щами — и всей ватагой, захватив мешки, уехали.
До утра смертным боем колотило Федору. Думала, живой не остаться. А как только чуть забрезжил рассвет в окошке, поднялась. Разбудила сестренок и Василису. Отправились домой. Будто бы коров доить торопилась Федора.
Василиса приметила, что вроде не в себе девка, да подумала — спросонья это. Останавливать Федору не стала. Знала, что у Рословых порядки крепкие, если уж наказано воротиться рано, так воротись.
Дома признали Федору больной. Совсем изнахратилась, испортилась девка: с лица сменилась, глазницы почернели, ни с кем разговаривать не хочет, а то ни с того ни с сего заплачет враз.
С неделю так-то маялась. Бабы к ней и так и этак — не помогает. У Ксюшки выспрашивали, не примечала ли чего, когда ночевать ходили. Ничегошеньки она не знает. Собрались было вести Федору к бабке Пигаске, полечить, да надумали сперва у Василисы узнать: может, она чего скажет.
Тут Федора спохватилась, опомнилась: Василиса-то сном-духом ничего не знает, к мешкам этим, проклятым, не подходила. Еще спрашивать станет у дяди Кирилла. Тогда все и узнается! Нет, уж лучше обсказать им все, как было, тогда к Василисе не пойдут.
И рассказала. Кроме своих семейных, никто не слышал, только о случае этом все-таки как-то узнал весь хутор. Михайла Ионович вот так же тогда грозно стучал клюкой по полу и всем наказывал забыть начисто о том, что рассказала Федора. А когда понял дед, что все-таки вихляет по хутору слушок, будто ветром гонимый клубок катуна — ума не мог приложить, как выполз он из семьи. Допытывался у баб и ребятишек, у мужиков своих выспрашивал — не добился толку.
Догадывалась об этом только Марфа — старшая сноха, жена Мирона, но виду не подавала. Водила она Федору к бабке Пигаске от испуга заговаривать, пошептались они там с Пигаской малость. Памятуя строжайший наказ ба́чки (батюшки — так она свекра называла), Марфа ни за что не хотела проговориться, начала объяснять намеками да околицей.
Однако бабку не проведешь. Как же можно упустить такой случай! Вся подобралась, помолодела даже, черные, еще не выцветшие глаза так и замаслились. Поправила чехлушку на голове, под которой скрывались черные с проседью косы, завернутые калачиком, еще больше вытянулось длинное морщинистое лицо, и, пошевеливая облезлыми кусочками коротких бровей, горячим шепотом зачастила:
— Как ж эт я, милая, заговаривать стану? От какого-такого испугу? Чтобы делать такое дело, все знать надоть! — И показала в улыбке два коричневых зуба — один сверху, другой снизу. Больше зубов не было.
Вертелась, вертелась Марфа, да и выложила все как есть. Пигаска же поклялась богом и всеми святыми, что страшная эта новость умрет в ее душе, как птица в клетке.
Уж дошел ли слух этот до самого Кирилла Платоновича, нет ли — бог весть. Никто с ним душевно не разговаривал, да и он ни с кем в хуторе близко не сходился. Знакомых его почти никто не видел: приезжали они ночью и ночью же уезжали. Водился с конокрадами и прочим сбродом, а таких дружков лучше не показывать людям. Хорошо умел говорить по-татарски и по-башкирски. Бывало, в молодые годы велит Василисе стол собирать, а сам куда-то уедет. Вернется ночью, навезет с собой татарок и гуляет с ними до утра. Жене прикажет прикинуться немой, изъясняться только знаками, и не женой показывать себя перед гостями, а всего лишь стряпухой, кухаркой то есть. Да чтоб не ошиблась в чем, не проговорилась. Ох, как бывает крут Кирилл Платонович, ежели где не по его-то выходит…
Федору теперь уж давно замуж отдали, и Ксюшка с Нюркой подросли. А шустрой да разговорчивой, бойкой Василисы не стало — поникла, слиняла, притихла навсегда. Не стало для нее и сизобрового сокола Кирюши — остался Кирилл Платонович, господин. Вгорячах родила она ему сына — Леньку — да на том и остановилась, завяла. За глаза в хуторе звали ее теперь не иначе как Дуранихой, подлинное-то имя не все уж и помнили. А Кирилла Платоновича честили ухабакой, петлей навеличивали. В глаза же никто не посмел бы ему так сказать.
Хозяйство свое Кирилл Платонович вел безалаберно, можно сказать, не занимался им — не до него было. А без ухода нет обихода. Лошадей десятка полтора держал, но не то чтобы шлеи хорошей или хомута — уздечки путевой не водилось. От такой сбруи, от недогляда спины, холки у лошадей вечно бывали сбиты, потерты. А водил он их то на о́броти, то на веревке, а то и на полотенце — что под руку попадет. Обротей, правда, было у него предостаточно — по всему двору валялись и на плетне висели. Не зря он говаривал: «Была бы оброть, а коней добудем!»
Да ему и не надо было приобретать многих мелочей. Полог — воз накрыть, мешки для зерна, деготь — телегу подмазать, грабли, вилы — все брал он у Рословых во дворе. Приходил и брал, как свое. И никто препятствовать в этом ему не смел. Приносить взятое не имел привычки. Поэтому, когда чего-то не находили у себя Рословы, посылали ребятишек к Дурановым, и таким способом почти всегда возвращали утраченное.
Ненавидел он работу крестьянскую, презирал ее. Чертомелями постоянно мужиков обзывал и смеялся над их трудом каторжным. Работников держал человека по три, а то и больше. Старался нанять каких помоложе, поглупее. Ругал их редко и только по одному разу: как зашипит, как сверканет страшнющими своими глазами — и сразу прогонит.
А уж когда замышлял большое воровское дело и по плану выходило, что понадобится ему на какое-то время свой двор — нападал на него этакий зуд, места себе не находил. И будь тут хоть самая горячая страдная пора — хоть сенокос, хоть уборка хлеба, хоть молотьба — разгонял всех работников, Василисе приказывал сидеть с Ленькой в избе, не маячить на улице.
Даже случалось в такое время — сам приносил Рословым все, что брал у них раньше. Это — чтобы не влетели их ребятишки к нему в самое неподходящее время.
Будь рядом другие соседи, Кирилл Платонович и у них также «заимствовал» бы нужные вещи. Но с другой от него стороны жила помянутая бабка Пигаска со своим простоватым, немножко тронутым умом дедом, вечно пасшим стадо хуторских коров. Зато бабку умом не обидел бог. И едва ли кто-нибудь на хуторе знал больше о ночных деяниях и гостях Кирилла Дуранова, чем эта самая бабка, часто мучившаяся бессонницей по старости лет.
Младший брат Кирилла — Матвей — воротился лет пять назад с японской войны унтер-офицером, с двумя Георгиевскими крестами, с медалями — герой героем. А у Кирилла жил в работниках. Поскорее потом женился да и ушел от него.
Никого не терпел возле себя на равных Кирилл Дуранов.
7
Когда любопытные нагляделись на убитого волка и вдоволь наслушались от Леонтия Шлыкова потрясающих подробностей о том, как преследовал его этот зверюга от самого города, толпа у рословских ворот как то враз — будто скомандовал кто — начала уменьшаться, таять. Скоро остались почти одни ребятишки, а Леонтий все не унимался.
— Ведь он ведь, жаба ему в хайло, у самой Со́ковки там, в первом ложке, у березового колка, встрел меня и кружил всю дорогу, — десятый раз скороговоркой, взахлеб рассказывал Леонтий. — То вперед подхватится бечь, как собака бешеная, то опять сзаду сигануть ко мне в сани норовит. Да ведь злющий какой, изверг, зубищами клацает и на разводину ко мне передними лапами разок скакнул. А я его кнутом по шарам-то ка-ак врезал — глаз ему, стал быть, вышиб. Он посля на дорогу как выскочит да как примется бечь! А то сядет опять же на дорогу да и стоит, ждет, как подъеду…
— Эт какой ж ты ему глаз вышиб? — перебила трескотню Леонтия Дарья, остановившаяся тут на минутку с коромыслом, нагруженным по концам мокрыми холстами. — Третий, что ль?
— Какой еще третий? — опешил Леонтий, бойко повернув к ней остренький, шильцем, носик и тряхнув жиденькой бороденкой.
— А енти два-то целехоньки. Вон вылупились как, ровно утиные яйца там воткнуты.
— Ишь ведь чего углядела, — обиделся Леонтий. — А ты не встревай в мущинские разговоры, не бабье это дело! Не суйся где не надоть!
Но тут подошел Тихон, остановил его:
— Будет тебе сказки-то сказывать.
Тихон ухватил волка за переднюю ногу и поволок во двор. За ним потянулись туда и ребятишки, кто посмелее. А Леонтий, уразумев наконец, что слушать его тут некому, кроме этих сопляков, что замешкался он изрядно, что дома ждут его с покупками, враз осунулся и погрустнел.
Тихон, видать, в избу за ножом пошел. Леонтий, сгорбившись, как-то воровски подскочил к колодцу, крутанул за крюк, выволок окованную бадью и, достав из кармана пустую сороковку, сунул ее в воду. Бутылка, наполняясь, весело забулькала. За спиной хлопнула дверь.
— У-у, прах его возьми, воротился! — негромко проворчал Леонтий, дернул было бутылку, но она не наполнилась еще и наполовину — сунул обратно, утопив рукой.
— Угорел ты, что ль, аль с перепугу? — миролюбиво спросил Тихон, подходя. — Чего ж ручищи-то в бадье моешь, зашел бы в избу да напился.
— Ти-ша, ти-ше! — хитро прищурил глаз Леонтий и предупредительно поднял скрюченный указательный палец. Прищелкнул языком, туго забил свернутую из бумаги пробку, обтер бутылку рукавом, засунул в карман штанов. — Старуха моя приказывала наговорной водицы из городу привезть. А ту бабку, какая наговаривает, черти в гости кудай-то унесли. Смекаешь?
— Чего уж тут не смекнуть, — хохотнул Тихон. — Хоть бы воду-то посогрел.
— Согреется в штанах. Так и калит лодыжку, проклятущая! — выплеснул остатки в колоду, бросил бадью в колодец. — А ты помалкивай, Тиша, не твое это дело.
— Само собой, не мое, да хоть бы для порядку к бабке Пигаске зашел: вон она, рядом.
— Спробовали, Тиша. Пустые ее наговоры, не помогают.
— Ну, лечи нашей, чистенькой. Вреда от нее не будет.
— То-то вот и есть, что безвредная она, водица ваша, — согласился Леонтий, вышел за ворота и, жалеючи, ласково тронул свою Рыжуху.
Враз навалилась тягучая, как кисель на поминках, тоска. Недели три, не разгибаясь, подшивал он пимы в люди. Каждую зиму этим занимался. Сколотил малость деньжонок и вчера поутру отправился в город на базар. Наказов от семьи набралось много. И сахарку, и пряничков, и рыбки какой-нибудь для поста купить, чаю настоящего — тоже для поста, на кофту ситцу жене к пасхе… Да вот этой самой наговорной водицы опять же захватить наказано. А за нее тоже платить надо. Хоть самую малость, а платить. Все бы оно так, пожалуй, и было, ежели б взял с собой свою бабку Маню́шку, как звал ее весь хутор с легкой руки Леонтия. Да расхворалась она, как на грех. И съездить можно было обыденкой, в один день, стало быть, не ночевать в городе. Ну, приехал бы попозже — и только. А вышло все маленько не так.
Купил на базаре Леонтий селедки фунтов десять и столько же воблы вяленой, фунта два «лонпосеев», леденцов то есть, вару кусок — тоже вещь в его деле необходимая. И тут пристал к нему какой-то мужик. Выпить, видишь ли, позарез хочется, а одному скучно. У Леонтия в плане это, конечно, значилось тоже, но только на деньги, что от покупок останутся, однако уступил настоянию мужика, решив малость посогреться, а уж после того и дела доделать.
Словом, очухался Леонтий под тем же столом на постоялом дворе далеко за полночь. Тут же спал и сомуститель его, совсем рядышком. На похмелье не нашлось у них ни полушки, а стало быть, и делать в городе больше нечего. Волк этот, проклятущий, и вовсе спутал последние карты. Надо же было чем-то от него отбояриваться! Кинул ему рыбину — слопал. Поглянулось. Наседает опять. Так и кидал всю дорогу. Хватился тут уж, в деревне, возле Рословых — нету воблы-то. Да и селедок вроде бы меньше стало. С тем и домой поехал.
Двор у Леонтия небольшой, плетнем обнесенный и соломой накрыт так, что во дворе темно. С непривычки и дверь в избу не сыщешь, пока не оглядишься. Выпряг свою Рыжуху, повел в конюшню, задал ей корму и клоком соломы очистил с лошади весь куржак.
В избу и заходить страшно. Во двор к нему никто не вышел: старуха, знать, все хворает, а ребята большаки, видать, за соломой поехали — Сивки-то нет в конюшне. Сложил на пустой мешок десятка полтора оставшихся селедок, рядом кулек с леденцами, наверх водрузил кусок вару. Мысленно благословился и шагнул к двери. Эх и влетит же ему от Манюшки! Несмело покашляв, переступил через порог, возгласил:
— Здорово ночевали!
Манюшка встрепенулась на печи, приподнялась на локте, придерживая другой рукой у лба мокрую тряпку. Яшку и Семку как ветром снесло с печки.
— Гостинцев тятя привез! — заплясали вокруг отца ребятишки.
Леонтий прошел в передний угол, бережно, будто стараясь не расплескать чего, разостлал на столе мешок с покупками, достал из бумажного кулька два леденца — отдал ребятишкам. А Манюшка молчит, ровно вода у нее во рту-то. Не к добру это. Пошел к порогу раздеваться.
— Все, что ль, купил, как приказывала? — скрипучим больным голосом спросила Манюшка.
«Вот оно, горе-то мое, подкатывает», — скорбно пролепетал себе под нос Леонтий и незаметно перекрестился, а вслух, со страху, может быть, бойко ответил, стаскивая с себя шубу:
— Все как есть купил, мать.
— И пряников купил?
— У-гу…
— И чаю?
— Купил.
— И на кофту купил?! — В голосе Манюшки, нарастая с каждым вопросом крепчал гнев и наконец послышалось такое, что у Леонтия засосало под ложечкой. Он скинул с одной ноги пим и, замешкавшись, собрав последнее мужество, на грех ляпнул:
— Купил и на кофту.
Манюшка, как ворона, слетела с печки, будто крылом, взмахнула рукавом донельзя измятой, пропотевшей и залатанной кофты и принялась хлестать Леонтия по лицу мокрой тряпкой, которую до этого прикладывала к горячему лбу.
— Дык где ж они, гостинцы твои, идол ты проклятущий?!
— Опомнись! Уймись, чертова баба! — пятился к порогу Леонтий, закрываясь рукой с черным крючковатым указательным пальцем. — Уймись да выслушай сперва, а посля уж и казни.
— Ну, унялась! — бросила на печь тряпку и заложила назад руки Манюшка.
Темные, с проседью, спутанные волосы Манюшки падали ей на плечи, вздрагивали на плоской груди, широкий короткий нос замер в ожидании, а побелевшие от злости глаза, казалось, так и выворачивали самое сокровенное в душе мужа.
Леонтию даже подумалось, что там, возле волка, ему, пожалуй, полегче было.
— Ну, сказывай, куда подевал гостинцы?
— Волк их стрескал…
— Ты чего сбираешь небылицы? — опешила Манюшка, понизив чуток голос. — Никак, сбесилси, с ума сшел… Какой такой волк?
— Серый, вот какой! — обозлился вконец и Леонтий и, подхватив нитку спасительной мысли, зачастил: — Сходи сама погляди, у Рословых во дворе Тихон его свежует. Макар ихний пришиб возле Дуранова гумна. Всю дорогу, он, изверг, гналси за мной, чуток самого не сожрал. А тут еще и ты на меня сорвалась опять же с печки, как цепная. Куды ж мне деваться-то? Всю рыбку ему скормил, ироду. Вобла была куплена. Десять фунтиков. Во!
Манюшка было сникла, прохваченная жалостью к невезучему мужу, но враз глаза у нее расширились, будто проглотила что непотребное, догадалась: не во всем виновата волчья глотка, если этот волк и взаправду был.
— Постой-постой, — врезалась она в трескотню Леонтия. — Эт чего же, и пряники, и сахар, стал быть, волк съел?
— Съел…
— И чай он же, зубастый, стрескал?
— Он и есть…
— И си-и-итец на кофту?! — взвизгнула Манюшка, вцепившись в жиденькие, редкие, подстриженные в кружок волосы Леонтия. — И воду наговоренную, стал быть, ему же выпоил, плюгавый ты ирод! А сам, чать, молочко от бешеной коровки хлебал!
— Ма́нюшка-а! — взвыл тоненько Леонтий, понимая теперь, что не уйти от расплаты, только бы полегче обошлось. Ради этого и сделал ударение на первый слог в слове «Маню́шка». А такое после молодости редко случалось. — Ма́-анюшка, привез я тебе наговорной водицы… Вот, вот она, тута! — Он с трудом освободился от цепких ее пальцев, дрожащей рукой достал из кармана сороковку. Подал.
— На, попей, Ма́нюшка, враз полегчает.
Измученная болезнью и обессиленная только что случившимся, она горько всхлипывала, превратившись в жалкую, обиженную сироту. Принимая бутылку, безнадежно сетовала:
— Всего навезть сулилси, да на бок свалилси. Ишь ведь ты, врать-то сколь здоров! Весь пост на одной горькой редьке теперя сидеть…
— Чего ж тут поделаешь, — поддержал Леонтий, сызнова толкая ногу в снятый пим и одновременно снимая с гвоздя шубу. — Эт ведь масленка боится горькой редьки да пареной репы, а к великому посту они в самый раз будут…
— Ты кудай-то? — встрепенулась Манюшка.
— Баньку подтопить надоть. Волк-то ведь, он ведь, пес его задуши, не шутит. Кусается. Рану подмою теплой водицей. — И хлопнул дверью.
Не мог знать Леонтий, что день этот, начатый столь неудачно, закончится еще большей бедой для его семьи. И подкатится она незаметно. Никто и не догадается, что ребята — Ванька с Гришкой — не просто воз соломы привезут, а с неизлечимой Ванькиной болезнью приедут.
Пока родители не очень ласково объяснялись между собой, ребятишки тоже не дремали. То, что отец дал им по леденцу, их, понятно, не могло удоволить, ибо месяцами не бывало у них во рту такого яства. Потому Яшка, остроносый и смуглый, как татарчонок, малец, лет одиннадцати, вскочил с лавки и, засунув руку в тощий кулек, умыкнул из него горсточку леденцов. Начался дележ. Яшка, будучи постарше и похитрее, деля добычу, всякий раз норовил положить себе леденец побольше, покрупнее, а Семке доставались самые тощие, крохотные. От этого и кучки на лавке получились явно не одинаковые. Тогда Семка, сидевший с краю, левой рукой схватил большую кучку, а правой треснул брата по макушке и резво соскочил с лавки.
И тут случилось совсем непредвиденное. Вместо того чтобы догнать Семку и поддать ему хорошенько, как и должно быть, Яшка, вроде бы поперхнувшись и малость побледнев, страдальческим полушепотом, унизительно-ласково и заискивающе залепетал:
— Сеня! Сеня! Сядь! Сядь! — говорил он с придыханием, будто обливали его холодной водой, и почему-то боялся пошевелиться.
Семка таращил на него голубые глаза и, ероша темно-русые волосы, никак не мог понять, с чего это Яшка сделался таким ласковым.
А виной всему оказалась проклятая лавка. Всего-то и «мебели» в избе — полати, стол да вот эта лавка. Была она не как у людей — из толстой широкой плахи, — а изладил ее кто-то из двух узеньких и тонких тесин. Когда соскочил Семка, тесины эти сошлись и больно прищемили Яшку, так что теперь ему не то чтобы шелохнуться, дышать глубоко нельзя. Хоть криком кричи. Но он не мог и кричать, а все более жалобно и проникновенно умолял брата:
— Сядь, Сеня! Сядь, сядь!
Семка так и не разобрался во всех тонкостях этого дела, но все-таки уступил покаянной, жгучей мольбе Яшки — сел на прежнее место. И тут же пожалел об этом, потому как Яшка, высвободившись из тисков щели, мгновенно вскочил с лавки и дал ответную звонкую затрещину Семке.
Кто знает, как бы развивалась эта баталия дальше. Но тут вышел из избы отец, а мать, повернувшись к ребятам, вытянула из бутылки длинную бумажную пробку, истово перекрестилась, глядя на темную иконку, висящую в углу над притихшими враз сыновьями, и торжественно, благоговейно отпила из бутылки два глотка.
У ребят наступило неловкое перемирие. А мать, не спеша водворив пробку на прежнее место, ступила на лавку с другой стороны стола и поставила бутылку на божницу, по пути захватила со стола гостинцы, пересыпала их в маленький холщовый мешочек и заперла под замок. Леденцов, понятно, теперь не увидишь до какого-нибудь светлого праздника.
* * *
Домой воротился Мирон от Смирнова из Бродовской, когда уж вся суматоха, произведенная пойманным волком, улеглась.
Тихон обснимал зверя, прибрал все во дворе, а сам ушел в кузню.
В избе никого из мужиков, кроме деда Михайлы, не было. Заслышав, что вошел Мирон, и не дав ему раздеться, дед нетерпеливо спросил:
— Ну, с чем приехал, Мироша? Чего там Иван Василич гутарит?
— Гутарит… — недовольно отозвался Мирон, вешая на гвоздь шубу и сердито оглаживая бороду. — Ничего не гутарит. Прошечке весь наш клин сбагрил, и разговору конец… А нам вон за Зеленым логом бугры предлагает по той же цене… Прошечка-то, знать, всю ночь не спал: встрелся мне на взвозе у Бродовской — от Смирнова катил.
— Ах ты, кобелина, какой ведь наянный-то! — словно простонал дед. И непонятно было, к Прошечке относятся эти слова или к самому Смирнову.
Сжался Михайла от этого известия, сузился весь как-то и поник, будто пристукнули его, наказали, как ребенка малого. Мирона не слушал более и не спрашивал ни о чем. Ведь знал же он, что не к добру мелется казак целую зиму, оттягивает свое решение, не говорит последнего слова. Знал, а все-таки на что-то надеялся, ждал, верил в добро человеческое. Вот и верь после этого!
Избу новую ставить затеяли — в этой уж совсем повернуться негде. А Макар, младший, все уши прожужжал — в отдел просится. Не понимает, глупый, что большой-то семьей всякую беду одолеть легче. Хозяйство разрослось, так ведь и едоков более двадцати человек. И еще нарождаются. Каждого одеть-обуть надобно. А подели-ка хозяйство на всех да отпусти сыновей врозь — на семью по паре лошадей достанется. Как жить? Тогда и вовсе всякому себе избу не поставить — не под силу такое…
И пошли-поехали у Михайлы невеселые думки. Не мечтал он о большом богатстве, потому как знал: недостижимое это дело. Вся жизнь, все силы только и ушли на то, чтобы семью прокормить да крышу над головой какую-никакую иметь.
Родила в прошлые годы смирновская земелька, обнадеяла… Что же теперь-то будет?
Так и просидел дед за столом до вечера, ничего не ответив Мирону. Со стороны могло показаться, что дремлет он. В действительности проносились в его седой голове буревые мысли волнами и рушились, разбивались о неизбежную суть бытия. Как ни поверни, теперь осталась одна надежда — на бога.
Вернувшись домой, братья узнали от Мирона о результате его поездки. За ужином тишина стояла гробовая, будто покойника только что вынесли. Когда собрались ложиться спать, Мирон вновь завел разговор:
— Дык чего ж я скажу-то ему завтра? Аль не ездить уж туда, коль все молчат?
И опять в избе повисла нудная, нестерпимая тишина. Первым не выдержал гнетущего безмолвия Макар:
— Ну чего с им наговоришь? Все без нас сделано. Вот ежели б теперя пятый год назад воротился, ух и поговорил бы я с им! Уж не стоял бы как тот раз в сторонке, не глядел бы, как шашками да нагайками казачишки народ крушат. — Ребром ладони Макар легонько постукал себе поперек горла. — Вот они где застряли у нас.
— Им от царя-то — земля да воля, а нам нужда да работушка в поле. На том свет стоит, — не то возразил брату, не то поддержал его Тихон.
— Вы, ребяты, полегчей об царе-то, — назидательно сказал дед, — не наш воз, не нам его и везть. А ты, Макар, при людя́х не вздумай где про пятый год вот эдак ляпнуть, живо кандалами загремишь.
— Да как же — не наш воз, — распалился Макар, — а у каждого из нас от такого известия ровно сто пудов на шее повисло. Враз все посгинались…
— Замолчь! — оборвал его дед. — На том она и стоит вечно, Русь-матушка царская, на кандалах да на розгах. Вам того и во сне не снилось, чего нам на барщине довелось. — Зная, что последнее слово за дедом, все умолкли. — Клин этот брать надоть. Коли бог даст, уродит на ем, обойдемся. А не взять да не посеять, так и надеяться не на что.
Считая разговор законченным, дед тяжело поднялся с лавки и, держась рукой за ноющую поясницу, поплелся к себе в келью.
— Эдак вот нам и молиться да надеяться всю жизнь то на бога, то на Смирнова, — проворчал Макар негромко, чтобы дед не слышал. — На Смирнова шибчей молиться надоть, потому как не у бога земля-то, а у его.
— Так оно и выходит, — согласился Тихон, — да сколь не скули, другого не выдумаешь. Прав батюшка: землю брать надоть.
8
Редко выпадали часы, а тем более дни, когда бы в кузне у Тихона Рослова никого не было. Раньше всех пожаловал Леонтий Шлыков.
— Здорово, Тиша!
— Здравствуй, коли не шутишь, — ответил Тихон, обхаживая на наковальне кончик бороньего зуба, раскаленного добела.
Леонтий с порога залюбовался работой Тихона, безотрывно глядел на зуб, делающийся с каждым ударом острее. Отклепав поделку, Тихон бросил ее в колоду с водой, положил клещи и молоток, сдвинул назад шапку и стер со лба пот.
— Ну, сказывай, чего у тебя стряслось? — отошел к верстаку и оперся на него задом.
— Сделай ты мне вот эту хреновнику, Тиша, — Леонтий вынул из кармана две железки с колечками. — Видишь, удила расскочились у уздечки. Сивка мой, сам знаешь, норовистый конь. А ребяты ведь они, ведь что, рвут, тянут сколь силы есть… Не то что губы коню, железо вот разорвали.
— А сколь же твому норовистому Сивке годов?
— Да ведь оно ведь, как сказать? На крестинах я у его не был. Со старухой мы годков тридцать живем, а его я купил годов на десяток посля, это уж когда Федя у нас помер… Годов, стал быть, двадцать, может, с пятком.
— А самому-то тебе сколь?
— Самому-то, кажись, второй год на шестой десяток пошел…
— Старуха твоя как, с наговорной водицы не кашляет?
— Х-хе, Тиша, поправилась ведь, слышь ты! Ей-богу, святая у вас в колодце вода! На другой же день поправилась моя старуха, хрена ей горького на ложечку. Порхает, как пташка! И мне, и старухе той, какая наговаривать должна была, никак спасибов не наговорится. Уж девать их некуда, спасибы-то… Дык сделаешь, что ль?
— Сделаю, сделаю. Клади на наковальню.
Тихон свернул цигарку, помусолил ее, пригладил толстыми грязными пальцами и подошел к горну взять уголек.
— А новость-то слыхал небось? — вскинулся Леонтий, предвидя занятный разговор.
— Какую?
— Данин-то, Виктор Иванович, землю нашим мужикам продал. Всю как есть. Десятин двадцать, что ль-то, себе оставил. И дом продал Демиду Бондарю, Тюте, стал быть.
— Да что ты! Вот тебе и Тютя! А сам Виктор Иванович уезжать, что ль, собрался?
— То-то вот и есть, что никуда он ехать не хочет. Весной будто бы саманную избу скласть собирается, а пока на месте живет.
Тихон покрякал значительно, пригладил короткий ус, затянулся глубоко из самокрутки. Ничего не сказал.
— И ведь, скажи ведь, Тиша, умный вроде бы человек, грамотей на весь хутор один, аблокат…
— Адвокат, — поправил Тихон.
— Все люди из землянок, из саманух в деревянные избы лезут. Кто как может, выбиваются. А он из такого домика…
— Стал быть, расчет какой-то есть.
— Чегой-то никак не угляжу я тут расчету, — упорствовал Леонтий. — Вы вот небось назад в землянку не собираетесь, новую избу ставить налаживаетесь.
— Всякому, видно, свое, — неопределенно ответил Тихон, — богу — богово, Кесарю — Кесарево. — Бросил в потемневший горн окурок, постукал клюкой по углям, осаживая их, вложил половчее в жар поделку, примолвил: — Не нашего, знать, ума это дело, дядь Леонтий, — подгреб рукой свежего угля и принялся раскачивать мехи.
— Прошечка вон тоже, сказывают, подымать будто бы новый дом налаживается, — пищал в самое ухо Тихону, подтягиваясь на носках, Леонтий. — А ведь у его ведь и семьи-то почти никакой нету…
Но тут Тихон выдернул из горна мундштук, ударил им несильно о наковальню, сбивая окалину, из-под молотка брызнули искры — не до разговоров. Леонтий отскочил в сторонку.
На улице, за растворенной дверью, послышался размеренный топот лошадиных копыт. Выглянул туда Леонтий, оторопел вроде бы. К кузне подъехали Кирилл Платонович Дуранов и какой-то незнакомый рослый татарин на двух богатырских тяжеловозах. Таких в хуторе сроду ни у кого не бывало. Оба одинаковые совершенно — темно-гнедые, гривы черные, головы будто точеные, небольшие. Смиренно остановились в ряд, так что одного можно принять за тень другого. Шерсть на них так и лоснится на солнышке.
Кирилл Дуранов перекинул ногу впереди себя и не спеша сполз с широкой спины коня.
— Видал таких? — спросил он у Леонтия, шагнув мимо него в кузню.
— Двух коньков перековать надоть, — обратился Кирилл без предисловия к Тихону. — Перекуешь, что ль, сусед, а? — и ухмыльнулся, потянув себя за смолевой ус, сдвинул барашковую шапку со лба, остановился у наковальни в ожидании.
Тихон, заканчивая поделку, коротко бросил: «Счас» — и продолжал свое дело. Потом, охладив удила в воде, зажал мундштук в тисках, обточил напильником, подал Леонтию:
— Держи. Катайся на своем норовистом Сивке еще хоть двадцать годов.
Леонтий, будто боясь ожечься, с опаской принял теплые еще удила, сунул в карман.
— А заплатить-то сколь тебе, Тиша?
— Ладно, дядь Леонтий, потом, — махнул рукой Тихон и шагнул к двери, — посля, на том свете угольками отдашь. Мне ведь и там, наверно, ковать придется.
Леонтию такой ответ не в диковинку.
— Ну, дай бог тебе здоровья, коль так, — кивнул он головой вслед кузнецу, уже выходившему за Кириллом в низкую дверь.
— Эт откуда ж такие черти? — ахнул Тихон, глянув на коней. — Чьи они?
— Да вот знакомый в город ведет, на базар. Дорога дальняя, передки хлябать зачали, — словно бы нехотя ответил Кирилл.
Спутник его молчал, видимо, не умея говорить по-русски, стрелял прищуренными глазами по собеседникам.
— Ну и лошадушки! Ну и коньки! — восторгался Тихон, ощупывая и охлопывая диковинных тяжеловозов. — Эти, знать, поухватистее твого Сивки будут, дядь Леонтий. Да и помоложе годков на десять.
— Глянутся? — осклабился Кирилл Платонович, потянув двумя пальцами за кончик своей смолевой, клинышком бороды. — А ты купи одного, Тихон Михалыч, купи! На базар ведь ведет. Я уж одного взял.
— Какого? — вгорячах вырвалось у Тихона.
— Да любого: одинаковые они. Любого выбирай!
Тихон, однако, осекся, ровно ерша проглотил. Потянул было за повод к станку того, возле которого стоял, но хозяин удержал кузнеца, лопоча что-то по-своему.
— В станок их не надоть, — пояснил Кирилл. — Смиренные они и умные. На руках куются.
Тихон взял коня за щетку, тот послушно поднял переднюю ногу, круто согнув ее в колене. Потянул кузнец подкову, попробовал сшевельнуть — сидит мертво, как влитая… Принес из кузни специальный переносной верстачок, вроде скамеечки, с ковочным инструментом, проверил по-настоящему и из восьми нашел лишь одну подкову не в порядке. За нее и принялся. Не ковать привели, показать.
А Кирилл не отступал:
— Ну, будешь, что ль, брать-то? Вон хоть ентого, какого куешь?
— Да вы ведь и цену заломите небось как за пару, а то и за тройку, — неуверенно отнекивался Тихон, а глаза так и горели от жгучего желания завладеть таким конем. Подкова у него, что твой калач величиной, а грудь шириной в аршин. В хомут с этакого коня худая беспородная кляча целиком проскочит. Да ведь свяжись с ним, с ухабакой, не рад будешь. Ворованные небось коньки-то.
Кирилл, как по книге, читал в глазах простодушного Тихона: и восторг, и желание иметь такого коня, и смутную боязнь подвоха.
— Не дороже денег просит. Восемьдесят, говорит, за семьдесят отдаст… Ну, хватай, пока горячо! Уведет счас — жалеть будешь.
— За тридцать — сорок рублей на базаре хорошую лошадь купить можно, — возразил было Тихон, приложив раскаленную подкову к копыту и отворачиваясь от едкого густого бело-желтого дыма. Татарин, державший ногу коня, закашлялся, хватив этого смрада.
— Вот и купи за сорок такого… Эх, Тихон, Тихон! — Глаза у Кирилла сузились, вроде из них жальца змеиные выныривают, а между смолью усов и бородой сверкнули белые ровные зубы. Хохотнул зло. — Сознайся уж лучше: трусишь ты, трусишь у его покупать, оттого что я рядом. У одного его купил бы, если б не я.
Тихон, зло пошвыркивая носом, как от большой простуды, бросил подкову в снег, она свирепо зашипела, взмахнув клубами пара.
— А ведь дело-то чисто, ей-богу, чисто! Вот хоть на кресте поклянусь, — раззадоривал Кирилл. Он что-то сказал хозяину коней по-татарски, тот полез за пазуху бешмета, придерживая на своем колене ногу коня, достал бумагу. Выхватив ее у татарина, Кирилл тряхнул ею под носом у Тихона, прилаживавшего подкову, чтобы вбить первый гвоздь. — Гляди, ну гляди ты — настоящая расписка на право собственности. Все честь по чину — печать, роспись… И написано-то по-русски, русским языком, гляди! И кличка тут прописана — Бурлак этот конь, восьмой год ему. Боитесь вы суседа, как черти ладана…
И тут в глазах Тихона взметнулись такие неуемные бесенята, так резко он отдернул молоток и выпрямился, что Кирилл и Леонтий от неожиданности попятились назад, а Тихон, сдерживая себя, глухо бросил:
— Перестань екать голяшками-то: не перед Василисой! — и снова нагнулся над широченным копытом. — Может, я его уж купил в душе-то… С батюшкой посоветовать надоть.
— Ну, посоветуй, посоветуй, — как-то неуверенно сказал Кирилл, оправляясь от мимолетной робости. И в то же время в словах этих послышалась вроде бы угроза, будто далекий летний гром пророкотал над стогометами.
Леонтий Шлыков, почуяв неладное, бочком-бочком отошел от кузни и зашагал восвояси.
Вбив последний гвоздь, Тихон взял со скамеечки щипцы, обкусал ими торчащие из копыта концы гвоздей, изворачивая каждый поперек, заправил их и, пройдясь вокруг рашпилем, заторопился:
— Все. Того ведите к себе, а этого я поведу домой. Согласятся наши за семьдесят рублей взять — деньги принесу, не согласятся — коня приведу… Расписку-то дай-ка сюда.
Татарин с Кириллом вдвоем взгромоздились на просторную спину одного коня и ноги на одну сторону свесили, словно на печи уселись. Они не стали ждать, пока Тихон унесет инструмент, запрет кузню и тоже верхом поедет домой. Бурлак под ним вышагивал ровно, надежно, слушался малейшего движения повода. И оттого, что эта живая гора, эта огромная силища была так послушна, Тихона приподнимало от радости. Словно не на коне он ехал, а плыл по воздуху на мягких крыльях, блаженно покачиваясь.
Во дворе встретил его старший брат Мирон и, узнав о случившемся, хотел было позвать деда Михайлу, но тот сам уже осторожно ступал по скрипучим сходцам неизменными своими опорками, щупая впереди себя клюкой. Полы старенькой облезлой шубенки не запахнуты, у шапки одно ухо поднято, и оттого здорово смахивал он на огородное пугало. Шаркая подошвами по чисто выметенному, чуть притаявшему двору, подошел к сыновьям, протянул вперед руку, стараясь нащупать коня.
— Ну-кось, кого эт вы тут привели? Бабы в окошку увидали, ажник напужались… Злой он, сердитый?
— Да нет, батюшка, смиренный, как телок. — Тихон взял слепого за руку, давая ему возможность дотянуться до холки коня.
Дед молча ощупал плечо тяжеловеса, грудь, попытался охватить шею. Отступил на шаг, значительно покашлял, дослушивая рассказ Тихона о Кирилле Платоновиче.
— Эдакого, знать-то, не доводилось мне видеть. Вот разве у барского управляющего как-то недолго пара таких была… Да нет, те, кажись, послабже будут…
Дед еще раз, для верности, ощупал коня, не дрогнувшего даже мускулом, погладил, опять отошел и, подняв лицо, таращил мутные глаза, словно стараясь разглядеть диковину.
— Ишь ты, как статуй, стоит, не шело́хнется.
Дед сложил морщинистые, темные руки на клюшке. Задумался.
— Стал быть, купить, говоришь? — и понизил голос до полушепота. — А ну как он, петля бесшабашная, под монастырь нас с коньком этим? Греха не оберешься!
— Клянется, ухабака, божится, что все тут чисто, — разъяснил Тихон. — Расписка вот форменная у их есть. С печатью. Может, на этот раз без обману?
— А може, вот чего, ребяты, удоволить его, купить конягу… — как великую тайну открыл дед и погладил мягкую бороду. — Може, успокоится он, перестанет висеть над нами коршуном, а?
— Купить, да и шабаш, — подвел итог Мирон. — А там чего уж будет. — Ему тоже не хотелось расставаться с красавцем конем.
На том и порешили. Однако дед заметил:
— А ты, Тиша, цепочку ему покрепче справь да замок понадежней. А то ведь во двор-то к нам он пущает его за немалую денежку, а уводить коль соберется — платить не станет… — И, троекратно перекрестив новокупку, громко и весело сказал: — С богом!
Мирон повел Бурлака в конюшню. За ним увязались вездесущие ребятишки. А дед с Тихоном пошли за деньгами. В полутемной каморке дед, не раздеваясь, отвязал от пояса ключ, присел к сундучку напротив кровати и, отомкнув его, откуда-то со дна извлек пожелтевшую холстину, в которой были завернуты деньги. Развертывал Михайла эту холстину не торопясь, торжественно, будто совершал великой значимости таинственный обряд. Вывернул деньги, начал их считать, дотошно ощупывая каждый билет и точно оценивая его достоинство.
Много лет уж наблюдал Тихон вот такой отсчет денег и не переставал дивиться тому, как совершенно слепой отец безошибочно на ощупь определял достоинство каждого билета. Красненькая десятка — куда ни шло — длиннее всех почти на полвершка и пошире изрядно. Светло-коричневый рубль — тот у́же всех намного и покороче всех. Тоже диво не больно великое. А вот как он ухитряется зеленую трешку с синей пятеркой не перепутать — этого никак не понять, зрячие да неграмотные только по цвету и различают их. Шириной они — ровнехонькие, как одним ножом враз обрезаны, а длина пятерки побольше едва ли на ширину подковного гвоздя будет. Как же их распознать слепому? И ведь не меряет, не сравнивает вроде бы ни с чем, а просто так — внимательно ощупает, положит в кучку и дальше ведет счет.
Отсчитав ровно семьдесят рублей, дед подал их Тихону, спросил:
— Так, что ль, я отсчитал-то?
— Так, батюшка. Точно.
— Экую кучищу отвалили! А ведь у нас и за лес уплатить не станет. Ничего не остается в тряпице-то.
— Займем, батюшка, да доймем, — полушутя успокоил его Тихон и пошел рассчитываться за Бурлака.
9
Крохотная заимка Зеленая прилепилась на спуске к Зеленому логу в голой степи, верстах в пяти от хутора Лебедевского. Ребята и девки с Зеленой постоянно бывали на вечерках у хуторян, многие переженились, и семьи их давно состояли в родстве, так что заимка эта со временем сделалась как бы частью хутора.
Но разница между ними была превеликая. Заимка стояла на казачьей, на арендованной земле, а хутор — на барской. Правда, и хуторяне когда-то арендовали землю у екатеринбургского помещика Бородина. Но барин тот давно умер, вокруг хутора земли не раз переходили из рук в руки. А лет семь назад умерла и барыня, так что за участок, занятый под постройками, никто уже не платил, а перешел он в какую-то негласную мужичью собственность. Пробивался слушок, будто остался у барина какой-то наследник в Петербурге, но если он и существовал на самом деле, то мужиков не трогал, возможно, из-за ничтожности этого малого клинышка земли, а скорей всего, потерял его из виду. Мужикам до наследника и вовсе никакой заботы не было.
Другое дело — Зеленая. Тут казаки сдавали землю в аренду лишь на два года — не больше. А в последнее время стали все набавлять и набавлять арендную цену. Аппетит у них постепенно разгорался, и дело дошло до того, что совсем невмоготу мужикам стало. Хоть бросай все да беги. Так бежать-то, опять же, куда?
Всю эту зиму с самой осени мужики с казаками тягались, правду искали. Казалось им, что никак не могут, не имеют права казаки согнать их с насиженных мест, избенки, балаганишки их разорить. Но куда ни пробовали обращаться мужики, нигде их правды не было, а всюду правда казачья оказывалась.
Андрей Гребенков, мужик чернобородый и угрюмый, сидел в то утро дома, в своей землянке, против крохотного оконца. На лавке перед ним были разложены шилья, концы дратвы, вар и прочие шорные принадлежности. Собрался он чинить хомут и первым делом дратву в иголку хотел заправить — не тут-то было! Как ни напрягал он свои колючие глаза, как ни сводил к переносице широкие брови — ни за что не мог попасть концом дратвы в игольное ушко. Темно! Да еще вертел, вертел иголку в заскорузлых толстых пальцах и уронил на пол. А на полу-то солома с ночи не убрана. Вот и отыщи ее теперь — иголку!
Кого бы молодого на помощь позвать, глазастого, так где ж его взять? В молодости родила ему жена двух сыновей, Петра да Дороню. Погодки-сыновья выросли и поженились так же друг за другом в один год. Потом землянки поставили каждый себе и ушли врозь — тоже в один год.
Покряхтел Андрей, поругал сам себя всякими нехорошими словами, осторожно отодвинул скамейку, на какой сидел, и, опустившись на колени, опасливо стал прощупывать солому в том месте, куда упала игла.
За этим занятием и застала его жена, вскочившая в избу, как встрепанная.
— Андрюха! — сполошно взревнула она. — Чего ж ты ползаешь-то тута! Казаки наехали на заимку, опять гонють нас!
Молодо подхватился Андрей, накинул шапку, сдернул с гвоздя шубу и, надевая ее на ходу, уже за дверью объяснил:
— Иголку я обронил тама. Ищи!
От яркого уличного света в глазах у Андрея потемнело, но скоро прошло это. На улице, с хуторского конца, разглядел толпу мужиков и баб, а перед ними — человек пять верховых казаков.
— Кровопивцы вы все! — донесся до слуха голос Дорони. — Разбойники с большой дороги!
Разговор, видать, не только что начался, и страсти уже кипели вовсю.
— Вас, мужиков голодраных, посадили на свою шею, теперя не скинуть никак! — Это, кажись, Нестер Козюрин высказывается. Больше всех он верховодит. Сам на своей земле никогда не работает — в аренду сдает да конокрадством занимается, а зла в нем больше всех. — Ежели б вы работать не ленились, могли бы и за землю подороже заплатить…
Не от быстрой ходьбы — от этих слов прострелило Андрею сердце, рукой схватился за грудь и еще прибавил шагу. По толпе, видать, эти слова хлестнули резвее бича.
— Да ты сам-то, — завизжал Дороня, — когда работал, гнида паршивая?! От водки только потеешь, а рабочего поту не знаешь!
— Нашими слезами живешь! — послышался бабий голос. Толпа заходила, двинулась на Нестера, загалдела — кто же еще так работает, как мужик? Всех он обрабатывает! Нестер взмахнул несколько раз нагайкой, огрел кого-то из тех, кто поближе оказался, но его выдернули из седла, подмяли. Трое других казаков было кинулись на толпу с нагайками… И не миновать бы великой беды, да бросился Андрей Гребенков к толпе, заорал не своим голосом:
— Стойте, мужики, стойте! Погоди-ите!
В эту же минуту Смирнов Иван Васильевич, державшийся до сих пор в сторонке, подскочил к своим казакам, оттеснил их коней и протрубил могучим голосом:
— Опомнитесь! Не нагайкой тут надобно, по закону — в суд!
Андрей, бегом обогнув толпу, протиснулся к свалке и, хватая мужиков за шиворот и отбрасывая их, приговаривал:
— До суда дело дойдет, до каторги! Аль в острог вам не терпится?
Нестер, отведав мужицких пинков, на четвереньках выбирался из толпы, сверкая осоловелыми, побелевшими от злости глазами. Рыжие пушистые усы у него смялись, спутались и смешно облепили нос. На бритом подбородке — ссадина. Отскочив к своему коню, схватился за уздечку, вдохнул глубоко пару раз, с дрожью в голосе пригрозил:
— Н-ну, шваль голозадая! Теперя у мине один с вами разговор — спалю все ваши соломенные балаганы!
— Заткнись ты, гроза из тучи! — Смирнов сунул свою ручищу за воротник Нестерова полушубка и приподнял казака так, что тому осталось только перемахнуть ногой седло на своей низкорослой лошади.
Казаки, скучившись, отъехали саженей на пятнадцать, остановились, стали советоваться. Потом Смирнов обратился к толпе с такими словами:
— Ну, вот чего, мужики, миру между нами ждать уж теперь не приходится. О драке этой станичному атаману знать дадим. А вы сбирайте свои пожитки да проваливайте куда подальше, чтоб наши вас не достали…
— Казаки! Господа казаки! — вышел вперед Андрей Гребенков. Был он тут, пожалуй, трезвее всех в ту минуту, потому как не слышал предыдущего разговора, и раздражение не охватило его с такой силой, как других мужиков. — Господа казаки! Може, господь и вас образумит. Не по-божески делаете вы, по злобе. Ведь мы чего просим-то у вас — почти ничего. Отдайте вы землю вашу кругом заимки хоть кому. Все одно не под силу нам ее брать. А за ту, какая под постройками останется, мы вам новую вашу цену платить станем. Только и всего. Ведь ее, земли-то, тута — переплюнуть можно. Ну, сколь тут под семнадцатью дворами земли, а? Лаптем ее перемерять можно, четвертями, вершками. У нас ведь, как вон и у лебедевских мужиков, могилков своих даже нету: мертвяка захоронить негде, к вам упокойников возим. — Он рухнул на колени и, протягивая коряжистые темные руки вперед, взмолился: — Неужли же ни на одном из вас креста нету! Ведь все под богом ходим…
— Вот с этого бы и зачинать вам, — обронил Смирнов, — може, и сговорились бы…
— Не сговорились бы! — закричал Нестер Козюрин. — Твоей земли под постройками нету, и не встревай к нам!
— А сами вы с чего зачали?! — крикнул Дороня и двинулся было вперед, но его осадили.
— Ну, пошумели, и будя, — замахал руками Андрей. — Простите нас, господа казаки. Дороньку я сам выпорю…
Ничего не ответив, казаки тронули коней.
— Не выпорешь, тятя, силов у тебя нету, — сказал Дороня, подходя к отцу. — Вставай, будя тебе снег-то коленками мять. Я вон в солдатах фельдфебелю и то разок сдачи дал.
У Дорони сверху вниз по щеке горел багровый рубец от нагайки.
— Тьфу ты, дубина! — обозлился Андрей, подымаясь с колен. — Хоть бы при людя́х-то не совестил отца.
Подошел Петро с развернутым кисетом, — собирался закурить, — спросил:
— Чего ж теперь делать станем?
— Чего делать, — вздохнул Дороня, — в работники к богатым лебедевским мужикам проситься. Я, кажись, к ухабаке, к Кириллу Платонычу вдарюсь. У его сколь побуду, а там поглядим.
— Туда же и мне, стал быть, на хутор, — заключил Петро.
Гомон взволнованных людей разносился по всей заимке, с причетами голосили бабы, им подвывали ребятишки, толкавшиеся тут же. Мужики выкрикивали ругательства, грозясь вслед казакам.
— Бабы, бабы, — слышался в толпе пронзительный голос, — куды ж нам теперя деваться-то? Ну куды я кинусь, кто бы сказал мне, с детишками?!
— Никто не скажет, — отвечал ей более спокойный женский голос. — Авось и на этот раз обойдется. Не впервой уж они так-то наезжают.
— Авось обойдется! — передразнил ее мужской голос. — То зима была, оно и обходилось: землица-то без надобности лежала, а теперя сев подходит — не обойдется!
— Слыхала небось, чего Нестер-то посулил, — добавил другой мужик. — От его сбудется — спалит всю заимку, и ахнуть не успеешь.
— А я сам, коль так, во двор к себе красного петуха пущу, — озорно заявил молодой мужик. — Пущай сгорит. А я оглобли на том огне опалю да на погорелое собирать поеду.
— Тогда уж лучше бросить все да идти побираться по миру…
В разноголосице этих переговоров никто и не заметил, как подъехал к толпе Тихон Рослов, возвращавшийся со станции, куда за углем для кузни ездил.
— Чегой-то стряслось у вас, мужики? — спросил он, натягивая вожжи и шоркнув под носом угольной рукавицей.
Сани его тут же окружили, посыпались сбивчивые объяснения. Но Тихон понял их с полуслова, потому как знал об этом деле по прошлым наездам казаков на Зеленую.
— Вот хоть в петлю лезь, хоть надевай суму да по миру иди!
— Эх, бунтовать надоть, — хлопнул шапкой оземь Дороня, — как в пятом годе добрые люди делали!
— Заткнись ты, супостат! — замахнулся на него отец. — Чего мелешь пустое! Всей заимкой на Бродовскую, что ль, воевать итить! Воя-ака… — и добавил в рифму такое, отчего у Дорони запылали уши. Нагнулся мужик за шапкой и нахлобучил ее поглубже на голову.
— А вы бы к Виктору Ивановичу толкнулись, к Данину, — скинув рукавицу и почесывая ус черным от угольной пыли пальцем, предложил Тихон. — Сказывают, адвокатом он был раньше… А ежели и не был, все равно — грамотный он и до нашего брата, мужика, жалостный. Помогает — непременно, коль сможет. Не откажет, я чаю. Многим ведь лебедевским пособлял.
— Чего он поможет, — усомнился один из мужиков, — аль мы прошениев мало всяких писали, аль по начальству не ходили с поклонами? Пустое все!
— А с Федорой-то у нас, не слыхали, что ль, чего было? Мужик ведь забивал ее насмерть за то, что приданого за ей не столь дали, сколь он хотел. В город ушла она от его чуть живая. А разводу никак не могли добиться. И в городу хлопотали, и в церкви, где венчались они, и в Оренбурге — нигде толку не добились. А Виктор Иванович в синод написал — выгорело ведь дело-то, право, ребяты.
— Слышь, мужики, — словно бы обрадовался Андрей Гребенков, — верно Тихон-то говорит. Спробовать надоть, а враз да и пофартит. Нам бы избенки свои на местах уберечь — всего и делов-то.
Другие мужики нехотя стали соглашаться с ним, а Тихон тронул коня и, обернувшись, еще крикнул:
— Спробуйте, мужики, терять вам нечего!
* * *
Степка Рослов, когда удавалось ему увернуться от домашних дел и вырваться на свободу, бывал чуть ли не у всех ребятишек в хуторе, своих ровесников. Вот только к Кестерам боялся заходить. Да у них не к кому и зайти-то. Старший сын — не ровесник Степке — учится в городе и редко бывает дома, а прошлой осенью и младшего увезли туда же. Только, сказывают, младший, Колька, учится так себе, кое-как. А старший, Александр, ежели все науки здесь одолеет, поедет еще куда-то учиться, может, в самый Петербург. Ученье дается ему будто бы легко.
Так что нечего Степке Рослову у Кестеров делать, а занесло его на этот раз к Даниным. Есть у них Ромка да Ванька — оба почти ровесники Степке. Ромка чуток постарше, на годок, что ли, зато Ванька обогнал его ростом, так что с обоими может равняться Степка. Опять же, если ребят дома не случится, никто ему слова плохого не скажет, не как у других некоторых: станут про все выспрашивать, а то, смотришь, осерчают ни с того ни с сего да и прогонят. У Даниных так не бывает — там все просто, как дома.
Только вот бабка ихняя чудная. Другой такой бабки не то что в хуторе — во всей округе, наверно, не сыщешь. Ростом она чуть разве пониже среднего, шустрая такая, бойкая. Носик у нее прямой, аккуратненький и глаза будто не старушечьи — что-то задорное в них поплескивает. Даже губы у нее не как у всех старух, не сморщенные. И зовут ее тоже чудно — Матильдой. Сказывают, за восемьдесят ей перемахнуло, а она, как молоденькая, сама ребятишкам пимы подшивает и летнюю обувку чинит, коня запряжет и телегу смажет — как есть все сама делает. И еще курит. Курит она какой-то душистый, вкусный табак, завертывает его в тоненькую, специально нарезанную бумагу. Ромка разок умыкнул у нее щепотку такого табаку, но завертывать пришлось в газету — невкусно, и дух не тот. Газеток у них завсегда полно: Виктор Иванович из городу их привозит. Сам читает, а то мужикам почитать дает.
Жили Данины еще дальше крайней избы Леонтия Шлыкова. Совсем в стороне от дороги дом их стоял, заимочка вроде отдельная была.
Идет Степка, шлепает мокрыми пимами — к полудню изрядно пригрело солнышко. Ветерок чуть-чуть потягивает и ударяет в нос сырым, отпаренным снегом, степью мартовской пахнет. А небо — голубое-голубое. Зимой такого не бывало. Петухи по всей деревне орут, ровно кто их переполошил.
Подошел Степка к калитке, а за ней — голоса: бабий и мужской. Виктор Иванович с женой своей, Анной, разговаривает. Тетка Анна вроде бы всхлипывает:
— Люди продадут землицу — обмывку сделают. Сколь деньжищ-то пропьют! А у нас ни смыву, ни сливу, и денежки плакали. Куда ж они деваются-то?
— Наши денежки в рост идут, Аннушка, — вроде бы усмехнулся Виктор Иванович.
— В рост, — сквозь слезы повторила Анна, — знаю я этот рост! Гляди, сколь выросло… Хоть бы ребятам десятин по двадцать, по тридцать оставил, голехоньки ведь они у нас совсем.
— Х-хе, ребятам! — засмеялся Виктор Иванович. — Да у них земли будет больше, чем у нас с тобой было… — Быстро пошел к калитке, отворил ее. — Ты чего, Степан, не проходишь? К ребятам, что ль, а может, по делу?
— К ребятам, — смутился Степка.
— А чего не проходишь?
— Неловко.
— Э, волк тебя задави, неловко! — Виктор Иванович ухватил Степку за воротник, затянул во двор и, направив к крыльцу, легонько толкнул в загорбок. — Иди! — Снова поворотился к Анне: — У наших, да и других таких вот ребят земли будет больше, чем у всего Оренбургского войска. He горюй, Аннушка. Вся Россия у них за пазухой будет!
Степка шустро перемахнул нагретые солнцем, давно не крашенные ступеньки, оставляя на них следы мокрых пимов, не слышал дальше этого разговора. Виктор Иванович всегда говорил чудно́ и загадочно. Тетка Анна, наверно, совсем не понимала его и оттого плакала.
Только отворил избяную дверь Степка — послышалась звонкая затрещина. Это Валька, старшая из детей Даниных, за что-то огрела Ромку, тот отскочил к печке и снова было пошел на сестру, но его отозвал Ванька, младший брат, вынырнувший откуда-то сзади, из-за вешалки.
— Степка, ты погоди тут. Хочешь — разденься. А у нас — дела. — Обняв брата за шею, он наклонил его голову, склонился и горячо зашептал: — Давай, Ромка, проучим Вальку! По одному не поддается нам, а вместе мы ее одолеем. Знаешь как… — и Ванька прильнул к уху брата, нашептывая ему что-то.
Стянув с потной головы шапку и опершись на дверной косяк, Степка глядел на Вальку, сидевшую на деревянном диване за столом. Она доставала из чугуна холодную картошку, ловко и моментально снимала с нее шкурку и вдруг побелевшую картошину бросала в деревянную чашку, стоявшую тут же на столе. С краю на клетчатой зеленой клеенке под руками у нее поднялась горка кожурок. Степка знал, что Валька верховодит над братьями, а когда и поколачивает их. Вон она какая сидит, королевна! Лицо у нее — кровь с молоком, а косища темно-русая во всю спину, еще и на диване конец четверти в две подвернулся. Сказывают, в деда она такая здоровенная, а ребятишки, братья ее, так себе — заморыши, особенно Ромка, хилый какой-то. Его даже Ванька одолевает.
Стакнувшись, ребята как ни в чем не бывало разошлись. Ромка полез на диван в угол, да так смиренно — сроду не догадаешься, что это коварный заход с тылу. А Ванька тем временем, прихватив подвернувшийся тут же под вешалкой чей-то башмак, пошел на сестру спереди. И только она успела отшибить башмак — сзади Ромка навалился. Хотела Валька им заняться, да не успела — опять по ней башмак походил. Вскочила и двинулась на Ваньку, а Ромка успел навернуть Валькину косу на кулак и повис сзади на ней.
— Да отвяжитесь вы, черти! — взмолилась Валька. — Не буду вас больше трогать!
— Вот она, объединенная-то сила, — весело сказал Виктор Иванович, входя в избу и глядя на покоренную Валентину, — любую солому ломит.
За ним ввалились через порог мужиков пять.
Братья отскочили от Вальки на почтительное расстояние.
— Видала? — в азарте спросил Ванька. — Ты нас по одному лучше не трожь! А коли будет охота побить, так колоти сразу обоих…
Мужики, столпившись у самого порога, загородили Степку — не вздохнуть, не охнуть. Передний мужик, сняв шапку и сунув ее под мышку, отыскивал в углу над столом божницу, зыркая колючими глазами из-под лохматых бровей и оглаживая окладистую русую бороду. Отыскав наконец крохотную, еле заметную иконку, размашисто перекрестился и низко поклонился.
Валька в момент уволокла на залавок чугунок и деревянную чашку, смела тряпкой кожурки со стола в руку, бросила в ведро под лавкой.
— Ну, будет вам кланяться-то, — сказал Виктор Иванович мужикам. Он уже разделся и прошел к столу. — А вы, ребятки, не мешайте нам. Шли бы лучше на улицу: такая там благодать!
Ребятишки, торопясь, начали собираться.
— Пособи, ради бога, Виктор Иванович, — заговорил передний мужик, продолжая, видимо, начатый во дворе разговор. — Пособи, Христов человек, совсем забижают нас казачишки.
— А вы все бывали у своих хозяев? — спросил Виктор Иванович. — Все встречались с владельцами земли? Упрашивали их?
— Как не просить! — загалдели мужики. — Небось не по одному разу кланялись.
— Никак, с самого с покрова́ они нас изводют.
— Заломили такую денежку, хоть в петлю лезь, хоть с земли бежи. А куда бежать-то? Кругом она, матушка земля-то, чужая.
— Выгон им, вишь, тут понадобился либо сенокос. Да врут все, разбойники! Шкуру содрать им с нас надоть, последний армяк спустить.
— Ну, пес их дери, — вдруг заговорил молчавший до сих пор Андрей Гребенков, — пущай бы отобрали всю землю кругом заимки нашей, да хоть бы избушек не трогали. Не бог знает сколь они места занимают. Под ими-то землю не трогали бы, вражьи дети. Куда же мы теперь со стариками, с малыми ребятами?.. Ваших, лебедевских, тоже часто притесняют казаки, так они хоть живут не на ихней земле.
— Жадные, стало быть, казаки, волк их задави! — вклинился в разговор Виктор Иванович. — А вы куда-нибудь жаловались, писали?
— Батюшка ты наш, да как же не жалиться-то? И к атаману к ихнему сколь раз в ноги падали, и в земской управе были, и в суд жалились — везде ихняя правда над нами верх берет. Будто бы царский закон на то есть…
— Есть на то царский закон, — подхватил Виктор Иванович. — А вот мы возьмем да самому царю и напишем прошение, волк его задави.
«Волк его задави» — это такое постоянное присловие у Виктора Ивановича было. В дело и не в дело употреблял он его. И хотя в данном случае присловие относилось прямо к царю, никто не обратил на это внимания.
— Да уж тебе видней, делай, как хошь, Христос тебе на помочь, только спаси нас от разору.
— Валентина, давай бумагу и чернила, — попросил Виктор Иванович. — А бабушка-то где у нас сегодня?
— В лавку, что ль-то, ушла, — сказала Валька и, на ходу обтирая тряпкой руки, вприпрыжку пустилась в горницу.
А Виктор Иванович не торопясь достал кисет, оторвал клочок газеты, свернул цигарку и, чтобы лучше приклеился край газеты, долго водил его между губами, прикусывал зубами, а потом уже, склеив самокрутку и прикурив, склонился над чистым листом бумаги.
Мужики расселись — кто на диван к хозяину, кто на лавку, кто на скамью у печки — и, затаив дыхание, благоговейно уставились на Виктора Ивановича как на спасителя. Но веру в спасение они уже почти потеряли и, прежде чем ехать сюда, долго спорили, стоит ли еще раз расходоваться, зря вести время. И к атаману, и в земельную управу, и в суд ездили мужики не без «подарков». И дарили, и низко кланялись, и умоляли начальников — ничто не помогло. Сюда никаких подарков не привезли, хоть и решили еще раз попытать счастья.
И что он может, этот Виктор Иванович? Ведь никакой не начальник, так, просто грамотный человек. А все-таки, видать, добрый. Принял душевно. Вон как старается думает — морщинки по всему высокому лбу бегут. Давно не стриженные темно-русые волосы закудрявились на кончиках у висков, зачесаны назад. Глаза будто бы усталые, задумчивые, сверху на них чуток наплывают веки. Нос прямой, строгий. А усы… Вот таких усов, пожалуй, ни у одного мужика нет: мягкие, но не пышные, расчесаны надвое, так что виднеется только середина губы, а концы длинными шнурками виснут ниже «салазок». Прямо-таки панские усы. Бородка совсем маленькая, тоже мягкая и темная. Этаким украшеньицем прилепилась на самом выступе узкого подбородка, а под нижней губой все чисто выбрито.
Нет, не похож он на простого мужика. Хоть и одет по-простому, а не похож.
Оторвавшись от письма, Виктор Иванович стал спрашивать у мужиков фамилии. Они отвечали, а тот, что сидел рядом с ним на диване, чернобородый, допытывался:
— Дак ты, стал быть, про нас прописать хошь самому царю-батюшке?
— А что же? Так и пропишу.
— Тогда всю заимку нашу, Зеленую, прописывать надоть. Вся она на казачьей земле стоит, на арендованной. Семнадцать дворов. Всех как есть и сгоняют. А мы вроде бы как ходоки по этому делу.
— Про всех и напишем, волк вас задави, — с хитринкой улыбнулся Виктор Иванович. — А ты помалкивай пока… — Однако не сказал он того, что своей-то фамилии не укажет в бумаге: он только писец, составитель прошения, а ходатаи — они.
10
Изба рословская — ни с чем не сравнишь больше — доподлинно кипящий в теплую погоду муравейник, особливо по утрам и вечерам, когда все в сборе. Бабам развернуться негде — ворчат они, ругаются на мужиков. А мелочь эта, ребятишки, лучше не попадайся — живо затрещину схлопочешь. И не вздумай пожаловаться кому, хоть родной матери, еще добавит. Потому жмутся они где-нибудь по закоулкам, по углам, с великой предупредительностью во всем уступают старшим и терпеливо ждут, пока те, отзавтракав, уйдут во двор, а после того уж их черед подойдет за стол садиться. Бабы едят последними, в третьем застолье.
Так ведется до весны, до начала полевых работ, а там, когда как придется, лишь бы работников сперва накормить. Поскольку в горячую пору и ребятня не остается без дела, то и за стол можно садиться вместе с большими.
Во дворе — тоже муравейник сущий. Все, какие есть, сани снаряжаются за лесом в Боровое. Да еще мужиков уговорили пятерых. Мосло́в Филипп Акимович на трех лошадях тоже поедет с ними. Всего-то подвод около тридцати наберется — это чтобы разом все остатки заготовленного леса из бора выдернуть по зимнику.
Уж лошадей запрягли, ворота растворили — выезжать собрались. А тут как раз подкатил на карей кобылице Порфирий Федотович Кустищев, вятский мужик. Не первый год наезжал он в эти места, строительными работами промышлял.
— Здорово, мужики! — спрыгнул он с коротких голых саней. У него все было короткое: и полушубок рыжий дубленый — выше колен, и пимы с короткими голенищами, и борода рыжеватая — короткая и широкая, и пальцы — толстые и короткие — утонули в Мироновой руке, когда здоровался, и сам он весь был короткий.
— Чо, слыхал я, дом строить будто бы вы собираетесь?
— Да вот налаживаемся. Лесок последний выхватить надоть успеть… Днями-то дорогу совсем развозит солнышком — скоро конец зимнику.
— Должно быть, плотники вам потребуются али как?
— Потребуются, стал быть. А ты чего, подрядиться, что ль, хошь? — как-то будто с опаской спросил Мирон.
— А как жо, сезон-от подходит. Артелька моя зачем не видишь сюда подкатит. Робить надо, лесок хоть пока шкурить да что да. Опять жо тес готовить, плахи…
— А какого ж вы пса, плотнички Христовы, — вмешался Макар, — Катерине Лишучихе окна-то кривые сработали?
— Х-хе! — засмеялся Порфирий. — Дак ведь это, каки лепешки, таки и окошки. Смекай, золотая голова!
— Лепешки! — передразнил Макар. — Цену-то небось не ошиблись слупили?
— Вот в цене и учитывалось, что мы на ее хлебах жили, пока избу перекатывали. А муженек ейный, сам знаешь, по картишкам все норовит вдарить, из городу месяцами домой носа не кажет. Не до нас Катерине-то было. Да по нам сама-то хоть вовсе не ешь — дело хозяйское, а плотники чтоб накормлены были, по уговору. Вот мы и оставили ей на память эдакую красоту, — снова хохотнул Порфирий.
— Ну вот и свяжись с им, — обозлился Макар, — вот и возьми с его рупь двадцать, коли он сам гривенника не стоит!
— Да пошто ж так-то, Макарушка? — обиделся вдруг Порфирий. — Мы ведь вятские, мы все можем. Отвес да ватерпас не обманут — прямехоньки окошки изладим. Надо — наличники изукрасим, кружева, лучше бабьих, по всему карнизу пустим…
— За это и денежку двойную заломите, — разошелся Макар.
— Ну ладноть, — остановил затянувшуюся перепалку Мирон, — пойдем, что ль, к батюшке за благословением, Порфирий Федотыч? А вы, ребяты, подводы-то выгоняйте со двора да вороты потом затворите. Может, и ты, Порфирий, с нами в лес поедешь?
— А пошто не поехать, ежели уговор удастся? Поеду.
…Когда Мирон с Порфирием вышли от деда Михайлы с благословением, мужики уж выстроили за воротами на дороге длинную вереницу подвод. В эту же веревочку приспособили и Порфирьеву карюху с короткими санями. И только подошедшие поравнялись со своими подводами, тронули лошадей. Дорогой к ним присоединились и те, кого наняли в поездку.
Однако на выезде из хутора Мирон, ехавший на третьих санях впереди, вдруг закричал:
— Стой, стой, Макар! Тпру-ру-у! Трафить тебя!
— Ну, чего ты шумишь? — недовольно спросил Макар, натягивая вожжи.
— Да ведь мешок-то с едой там, знать, на крылечке и оставили, не взяли его. Митя, сынок! — оборотился Мирон в конец обоза. — Воротись, возьми этот проклятущий мешок. А мы поедем нешибко — догонишь.
Это у Рословых стало прямо-таки болезнью: только соберутся куда, все обдумают, все предусмотрят до мелочей, а поедут — хвать, опять чего-нибудь да забыли. Митька, почерневший на весеннем ветру и еще больше потемнев от злости, нещадно погнал своего меринка назад, навстречу солнцу, нехотя и могуче встававшему за курганом.
Тем временем дома, дождавшись, пока уберутся со двора мужики, Дарья взяла подойник, сработанный Тихоном из белой жести, пошла доить коров. На крыльце наткнулась на этот злополучный полосатый мешок и взбеленилась:
— И-и, черти безмозглые! Чего ж они жрать-то тама станут? Тьфу! За бабами дак всякую промашку углядят, а сами голову, того гляди, потеряют!.. Ветерка, что ль, запрячь да вдогонку за ими, пока недалеко уехали?.. Нет, батюшке сказать надоть…
Не враз удалось Дарье склонить деда Михайлу, чтоб немедля пуститься в погоню за непутевыми мужиками.
Вернулась на крыльцо — хвать, мешка-то нету! Выбежала за ворота, а Митька уж во-он где нахлестывает вожжами коня. Подхватила на сходцах подойник и пошла на задний двор коровушек доить.
Весна, хоть и робко еще подступалась она в этом году, все-таки давала себя ощутить. Минувшей ночью мороза почти не было, и теперь, только полыхнули первые лучи солнца, весело влезли они в прогал между плоской соломенной кровлей и плетневой стенкой, враз осветив загон каким-то праздничным светом. Солома под ногами и та, словно только что умытая, светится ярко-белым сиянием. Коровушки и бычки стоят важные, блаженно жмурятся, не торопясь размеренно ужевывают жвачки, не то что зимой, когда под ногами намерзают пудовые мерзляки, перемешанные с соломой и покрытые куржаком. Шерсть на коровушках всклочится, тоже куржаком подернется. Прилечь скотинке негде: жмется она друг к дружке либо к плетню. Скрючатся, согнутся все в три погибели, особенно после водопоя, когда сгоняют их на речку. И так всю зимушку. Какое там молочко — горе одно!
А теперь все притихло, смирилось, будто в великом таинстве ожидания сигнала к буйному веселью.
Присев возле недавно отелившейся Чернухи, Дарья размеренно шмыгала по соскам, из них попеременно — то из одного, то из другого — бились тугие теплые струйки в белую стенку подойника, звеня по жести. А под сердцем у Дарьи вдруг забилось трепетное, щемящее и разлилось по всему телу сладкой болью. Аж кровь бросилась в лицо и опалила его жгучим пламенем.
Особенно взволновало и даже испугало немножко то, что загадочное это и тайное напоминало о себе сегодня уже второй раз. Не старый дед Михайла оторвал ее до зорьки от затяжливого утреннего сна, а вот это самое, что беспокойной крылатой птицей бьется внутри.
Дарья и не заметила, как сзади к Чернухе лениво подступил прошлогодний красно-пестрый бычок, сунулся короткой мордой к Чернухиному хвосту, обнюхал и судорожно вздернул верхнюю губу, тряся головой и вытягивая шею. Чернуха двинулась вперед и, шагнув через подойник, опрокинула его, а концом копыта больно ткнула Дарью в ногу. Дарья успела вскочить. Но бык, неожиданно высоко взлягнув задком, подпрыгнул, размашисто крутанул башкой с короткими тупыми рожками и, задев Дарью под низ живота, бросился за Чернухой.
Страшно взвизгнула от боли Дарья и хлестнулась навзничь, как подрубленная. Во дворе у колодца крутила крюк Настасья, подтягивая наполненную до краев водой тяжелую бадью. Выхватив ее из жерла колодца и поставив рядом со срубом, Настасья, приподымая подол длинной юбки, бегом пустилась на задний двор.
Дарья, лежащая навзничь, и опрокинутый подойник объяснили Настасье многое. Еле сдержавшись от вскрика, она припала к груди Дарьи, услышала биение сердца и принялась тормошить ее. Отлившая было от лица Дарьи кровь снова залила тугие щеки. Дарья открыла глаза и застонала.
Настасья помогла ей подняться и, перекинув вялую руку Дарьи себе через плечо, повела в избу.
В постели Дарья металась, извивалась вся, ровно вертел ее кто сильной и беспощадной рукой, словно упивался ненасытный истязатель муками женщины. То как огненной стрелой отрубало поясницу, то снова боль колючим ежом ворочалась в низу живота, и от этого мерк в глазах свет, по лицу катились холодные талые градины пота. Она не стонала, а лишь изредка всхлипывала, жадно хватая воздух и не прикрывая пересохших скоробленных губ.
— Чего ж делать-то, Марфа, станем? — спрашивала в который раз Настасья у старшей снохи. — Шибко ведь ей плохо. Не отлежится, знать-то.
— Ксюша! — позвала Марфа золовку. — Добежи до бабки Пигаски, покличь ее к нам. Скажи, что Дашу бык изнахратил.
Ксюшка, скорая на ногу, живо слетала к соседям и привела бабку. Та, шагнув через порог и на ходу стаскивая с себя суконную, истертую чуть не до дыр шаленку, поинтересовалась:
— Чегой-та стряслось у вас, бабы? — и, не слушая пояснений, протопала в горницу, приступилась к болящей.
Ксюшка услужливо подсунула знахарке широкую щелястую табуретку и потянула было с бабки старенькую поддевку, повисшую на одном плече, чтобы унести ее на вешалку, но бабка не дозволила этого. И, поправив на плече легкую одежину, вгляделась в Дарью, выразительно пошевелила кусочками облезлых бровей, жалостно спросила:
— Как ж эт ты, Дарьюшка, сплошала-то?
Дарья, закусив нижнюю губу, лежала мертвецки бледная. Подушка под ней взмокла.
— Бабы, водицы мне горяченькой да посудину еще какую, — приказала бабка, откинув одеяло и загибая подол холщовой исподницы на Дарье.
То, что увидела там Пигаска, поразило ее: низ приподнятого живота вроде бы поголубел весь. А слева темнело круглое пятно, величиною с медный пятак.
— М-м-м, — загадочно потянула бабка, поправляя на голове чехлушку и опять же значительно шевеля остатками бровей. — Глянь, родимая, — показала она Настасье, принесшей воду, на внушительный синяк. — Эт ведь не иначе рог бычиный здеся пропечатался. А тута, видать, башкой да шеей он ее долбанул… Не миновать греха.
— Чего ж теперь будет-то? — округлила испуганные глаза Настасья.
Услышав этот разговор, к ним подошла Марфа. Поглядела бесстрастно на Дарью, с укором выговорила Настасье:
— Не молоденькая, чать-то, знать должна, чего в таком разе бывает.
— Нет, бабы, — заключила Пигаска, поднимая к локтю по жилистому сухому цевью рукав зеленой холщовой кофты, — водицей этой не отойтись — баньку, знать, истопить надоть да поскорейши.
— Сичас я, сичас, — заторопилась Настасья. — Ксюшка, пойдем со мной, пособишь мне кизяков унесть.
— А вы чего тут пялитесь! — цыкнула Марфа на ребятишек, столпившихся кучкой в дверях. — Чего вы тут не видали! — И пошла, широкая, кораблем врезаясь в ребячью толпу, щелкая нешибко по головам, протурила всех от двери и сама ушла к печи.
Вымыв и распарив костлявые руки в горячей воде, бабка Пигаска взялась водить ими по животу Дарьи. Делала она это с великой осторожностью, даже с нежностью, сначала едва прикасаясь к телу, а потом постепенно увеличивая нажим. Морщинистое, изжелта-черное лицо ее вытянулось больше обычного, нижняя губа отвисла, угольки зрачков уставились в одну точку на стене — словно бы колдовала над болящей. Потом, видимо, утомившись и чувствуя под руками притихшую Дарью, стала жмуриться, как угретая в печурке кошка. Продолжая водить руками, повторяла и повторяла одни и те же движения.
Ноющая с резкими перепадами боль утихомирилась, отдалилась от Дарьи на какое-то время. И теперь она, разомлевшая и успокоенная, воспылав великой благодарностью к этой чужой бабке, тихонько и ласково вдруг заговорила:
— Благодать-то какая! Спасибо тебе, Пигасеюшка родная. Легко-то как стало!
Бабку ровно кнутом огрели — враз поджала губы, подобралась вся, глаза угольками загорелись. Отдернула от Дарьи руки, будто обожглась, зашипела со злостью:
— У-у, оборотень ты этакий, сила нечистая! Какая я тебе Пигасеюшка?
— Ой, да прости, прости ты меня, бабушка добрая! — залилась Дарья краской стыда. Знала она, что прозвище это шибко не любит бабка, да вот запамятовала в избытке благодарности. — Прости меня, милая. Охмурилась я, глупа́я… Да ведь и звать-то не знаю как тебя…
— Не знаешь, — опять со злостью зашипела Пигаска, — и знать тебе не надоть. Зови, как все, баушкой.
Достав откуда-то из глубины широченной сбористой юбки пузырек, служивший ей табакеркой, Пигаска тряхнула на ладошку мельчайшего, перетертого с золой табаку и принялась набивать им нос. Вдоволь насытившись зельем, всласть высморкалась в изнанку подола и опять вернулась к прежнему занятию.
Но природа делала свое дело. Недавно испытанное блаженство при всем усердии бабки не возвращалось вновь к Дарье. Хуже того, совсем неожиданно перехлестнуло ее таким жгучим ударом, что она не удержалась и коротко вскрикнула. Потом эти простреливающие удары стали повторяться все чаще и чаще. Снова пошел холодный пот, однако теперь Дарья не вскрикивала, даже не стонала, лишь напрягалась вся струною, то скручивалась в тугой клубок, то вытягивалась в нитку.
— Да распустись ты, глупа́я, — увещевала Пигаска. — Держи тело-то киселем, легчей станет.
Когда уж совсем надвинулись сумерки, в горницу забежала Ксюшка:
— Натопили мы баню-то, бабушка, вымыли все чисто. Настасья счас явится.
— Давай сбираться станем, касатушка, подымайся, — велела Пигаска Дарье.
Собирались они долго и мучительно. А потом все трое, вместе с Настасьей, отправились в баню и пробыли там до глубокой ночи.
Вконец измученная, опустошенная, вся враз обмякшая Дарья через великую силу с помощью Настасьи и бабки Пигаски добралась до приготовленной постели и сразу — как в пропасть провалилась — мертвецки уснула.
Ее помощницы, тоже до крайности уставшие, поужинали. Но бабка ни за что не согласилась остаться ночевать у Рословых, потому Настасья, прежде чем отвести ее домой, завернула в тряпицу маслица, фунта три мяса туда же положила и, выпросив у деда Михайлы рублевку, вручила все это Пигаске. Та, отложив на лавку узелок, достала из кармана своей широкой обвисшей юбки грязный, до серости затертый когда-то белый платок, в коем, по явной видимости, хранились все семейные сбережения, и, уцепив на нем тугой узел двумя своими распоследними зубами, потемневшими на концах до черноты, ловко развязала его.
Проводив до калитки Пигаску, Настасья возвращалась к своему двору, слушая уже вторых петухов.
11
У мужиков в эти сутки тоже не обошлось без происшествий. Только тут дело совсем другого рода. До Борового доехали хорошо, но лошадок все приходилось придерживать — не поспевает за ними Бурлак, совсем не приспособлен он для бега. В делянку добрались и нагрузились — тоже неплохо. Артельная работа спорится. Хоть и пришлось еще валить сосны с корня, управились засветло.
На Бурлака нагрузили два здоровенных комля. Сани для этого дела Тихон готовил загодя: оковал их, укрепил, вместо обычных заверток, оглобли крючьями с санями соединил. Все — надежно, крепко. И пошел Бурлак с этим необычным грузом уверенно, словно сами бревна поталкивали его вперед. Даже из глубокого снега к дороге, где каждой лошади приходилось помогать всей артелью, Бурлак вышел спокойно, без понуканий, разгребая снег, как воду.
К вечеру всем обозом расположились возле избушки лесника, распрягли коней, задали им корму в попоны, растянутые на поднятых оглоблях. И всей ватагой ввалились в избушку.
Самого лесника дома не было: в Боровое ушел с ночевой. Пока разогревали еду и ужинали, было еще сносно, а потом, как закурили все, право же, любой топор без поддержки мог висеть в этом густом месиве из жаркого воздуха, сырых испарений от одежды и от желтоватого едкого дыма самокруток, спертого настолько, что вот-вот сорвется с петель хлипкая, ненадежная дверь. Но закаленных мужиков это ничуть не угнетало. Правда, раза два отворяли дверь, а потом кто-то догадался отодвинуть задвижку в трубе, и дым из нее валил не хуже чем тогда, когда, печь топилась по-настоящему.
Порфирий Кустищев, с отрочества ежегодно мотавшийся в поисках заработка, побывал во многих «расейских» губерниях далеко от родной деревни под Вяткой. Повидал на веку многое, знал несчетное количество занятных историй и за словом в карман не лез. А сегодня, заключив выгодный подряд с Рословыми, был он прямо-таки в ударе. Потешал мужиков смешными побасками и, нет-нет, да и поддевал кое-кого из них. Тронет кого — тот, глядишь, огрызнется либо шуткой отделается, Порфирий в другого стрельнет. И так человек через пять дошел до Филиппа Мосло́ва.
Мужик этот, ни дать ни взять, по внешности Емельян Пугачев: и рост, и плечи, и борода такая же. Работник он был золотой, и ремесло из рук не валилось: портняжничал по целой зиме. Шить умел добротно, крепко и в цене никого не обидел. Воров и жуликов терпеть не мог, справедливость почитал превыше всего.
Но водилась за ним страстишка. Лет пять, бывало, терпит и хозяйством вроде бы обрастет надежно, однако запнется где-то за пьяную кочку, все бросит, лошадь с упряжкой пропьет либо в карты проиграет. За одну ночь по семь возов хлеба на картах спускал. Очистится догола, а потом пройдет у него вся эта дурь, и начинает все с начала.
Трезвый мухи не обидит. Отшутиться не умеет и ссориться не любит. Вот Порфирий и тешится над ним, зубоскалит. Мужики некоторые, намаявшись за день, похрапывали на соломе вповалку. А Порфирий все не унимался. Не спал и Филипп, но не проронил ни слова. Да и много ли наговоришь с таким длинноязыким: скажешь что — только его же и потешишь, ухватится за какое слово — не оторвешь. Он его и так и этак вывернет, слово-то, да в тебя же им и запустит.
Потом сморился, уснул и Порфирий. А Филипп долго ворочался, кряхтел — не берет его сон. Расходилось внутри, раскачалось — не уймешь. Не такой человек Филипп, хоть и молчун, чтобы вот так за здорово живешь отдаться на посмешище и ничем не ответить. Вдруг он вскочил и чуть не бегом нырнул в низкую дверь. Вернулся минут через двадцать, раскрасневшийся, довольный. Обтер об штаны мокрые руки и завалился спать.
Утром раньше всех поднялся Тихон Рослов. Сходил на улицу. Вернулся и давай всех будить:
— Вставайте! Эй вы, вставайте! — толкал он всех подряд. — Пошли чуду глядеть!
— Какая там еще чуда! — недовольно ворчал спросонья Мирон, протирая кулаком глаза.
— Что за чудо, Тихон? — осоловело и вроде бы с испугом вертел головой Порфирий. Пристав на колени, он суетливо выдергивал соломинки, застрявшие в рыжеватой бороде и усах.
Однако поднялись разом, только Митька Рослов чуток замешкался. И так уж проспали: уговаривались до́ свету выехать, чтобы, пока пригреет, одолеть бо́льшую часть пути, а уж совсем рассвело. Редкие сосны, обступившие избушку лесника, дремотно, не шелохнувшись, стояли в ожидании солнца. Первый луч еще не коснулся их высоких кудрявых вершин.
— А это, что ль, не чуда? — ткнул рукой Тихон в сторону одной из могучих сосен.
Взглянув туда, мужики и впрямь разинули рты. На короткие сани Порфирия Кустищева вчера навалили семиаршинное бревно, четверти полторы в отрубе. Теперь это бревно стояло вершиной вниз, приваленное комлем вместе с санями, торчавшими на высоте, к огромной разлапистой сосне.
Сперва все стояли, будто окаменев. Потом кто-то хохотнул. Сдвинув шапку на нос и заглядывая вверх на свои сани с висящими, как подбитые крылья, оглоблями, Порфирий почесывал затылок короткопалой пятерней.
— Да какой жо лешак выдумал эдакую штуку? — развел руками Порфирий.
Во вновь наступившей тишине Филипп на́ диво всем складно изрек:
— Кто вчерась больше всех смеялся, тот в дураках и остался.
Мужики захохотали.
— Плохо, Тимоха, на чужой стороне горшки бить, — поддел Порфирия Тихон. — Чего делать-то станешь теперь?
— Да неу́ж один ты запятил туда экое бревнышко! — изумился Порфирий, в упор глядя на Филиппа. — Тронь его теперь — и сани мои вдребезги… Я жо вчерась шутками да смехо́м, а ты чего отворотил?
— Шутку любишь над Фомой, так люби и над собой, — посыпали мужики пословицами.
— Пошутил Мартын, да свалился под тын.
— Шути, кувшин, поколь ухо оторвется.
— Сделали шутку, — тем же ответил Порфирий, — сняли с Варвары шубку. — Он будто бы лишь теперь начал сознавать всю нелепость своего положения, оттого в голосе послышалось что-то прямо-таки рыдательное.
Мужики смеялись и не переставали дивиться: никто в Филиппе этакой силищи не предполагал. Да ведь и догадаться же надо, чтобы такое сотворить. Макар вырубил длинную рогатину, и трое мужиков подсунулись было с ней к стоячему, как настороженная мышеловка, бревну.
— Стойте вы, погодите, бестолочи! — вдруг закричал Филипп. — Эдак вы и взаправду оставите его, бедолагу, без саней.
Связав две длинные веревки, он влез с ними на сосну (мужики помогли ему) и там, охватив комель бревна, завернул крепкий узел, а веревка осталась перекинутой через надежный сук у самого ствола сосны. Когда мужики ухватились артелью за веревку, Филипп, спускаясь вниз, скомандовал Макару:
— Вот теперь ширяй своей рогатиной, оттолкни от сосны-то, а они травить веревку станут.
Но тут уж все и без того поняли что к чему. И Порфирий приободрился, когда бревно с санями пошло вниз.
— Как мизгирь на паутине, санки мои спущаются. — И опять за свое: — Сохрани бог, небо провалится — всех перепелок подавит!
— Ожил, мизгирь, — передразнил его Филипп, когда сани, легонько охнув, сели в снег, придавленные бревном.
С места тронулись, когда уж вовсю ликовал божий день с веселым и щедрым солнышком в небе, по-весеннему светло-голубом, чистом и покойном. Дорога, пригретая вешним теплом, отмякла, и полозья скользили по ней неслышно, без скрипа, легко и свободно. Впереди вышагивал Бурлак с двумя большущими бревнами, покоившимися на широкой подкладке.
На самой последней подводе в обозе ехал Васька Рослов, старший из множества внуков деда Михайлы, сын умершего Григория.
От матери с соседней заимки убегал Васька несколько раз, а потом окончательно прибился к дедовой семье, когда годов шесть ему было. Никто у Рословых не выделял, не нежил своих ребятишек — невозможно это в большой семье, — и Васька рос вместе со всеми. Обидеть его было некому, но и приласкать с материнской теплотой — тоже некому. Разве дед, жалея сироту, часто голубил его, маленького. А теперь и дед поостыл.
Вырос парень совсем незаметно: никому он плохого не делал, и ему никто поперек дороги не вставал. Жениться собирался Васька, невесту приглядел, но деду сразу сказать этого не посмел, а теперь и сам раздумал: все равно осенью нынче в солдаты идти, на действительную.
И взгрустнулось парню. Сидя на комле бревна и поставив ноги на сани, он почесывал кончик облупленного носа, а широко раскрытые голубые глаза его все время двигались, будто искали чего-то по пригретому весною полю с осевшим снегом, то по редкому березовому колку с густым подлеском в стороне от дороги, то сливались с голубым спокойным небом. Нелегко примириться с тем, что будущую весну уж не увидишь в родных местах. А он вырос, не отъезжая от своего хутора больше тридцати верст.
Васька хотел было спрыгнуть с саней, пройтись по дороге, размяться — до дому уж недалеко, — но снег на ней будто водой взялся, до того сырой — пимы враз промокнут…
А когда въехали в хутор, тут и сани, и подточенные, стертые за дорогу концы бревен тащились по лужицам.
Разгрузились за речкой, на месте новой усадьбы Рословых, а потом всей артелью пошли к ним ужинать. Пока распрягали лошадей, Макар сбегал к Катерине Лишучихе, содержавшей что-то вроде своеобразного шинка, и принес четверть водки.
Мужики, сгрудившись у порога возле рукомойника, повеселели, увидев у Макара эту посудину, лежащую на сгибе руки, словно младенец.
— Ну, ты поторапливайся, черт двужильный, — поталкивал Филиппа Мослова Порфирий. — Всем умыться-то надо… Как в пир идти, так и голову чесать… Ждет ведь она там, родная, как бы не выдохлась.
За хлопотами в толчее своих и чужих людей Макар не сразу обнаружил отсутствие Дарьи. Хватился, когда шум пошел в голове от водки.
— Чегой-то Дарью не видать? — спросил он у Марфы. — Где она?
— Захворала она, в горнице вон лежит хворая твоя Дарья. Ровно подтолкнул кто Макара, выбрался из-за стола, пошел в горницу. Пробыл там недолго. Вернулся злой. Протрезвился, как и не пивал вовсе.
— Ну чего, мужики, — спросил Макар, — еще, что ль, по одной?
— Чарка на чарку — не палка на палку, — подхватил Порфирий и подставил свой стакан. — Поди, выдержим. Подавай, не стесняйся.
А Филипп Мослов, не желая, видать, поддаться великому искушению до мокра искупаться в этом зелье, откланялся и ушел раньше всех.
Прежде чем выпить остатки, Порфирий с сожалением повертел в руках до половины заполненный стакан и, явно не удовлетворенный, вздохнув, изрек:
— Батюшко винцо красит шею и лицо, грудь мягчит, а карман легчит. — И, не глотая, как в бочку, выплеснул из стакана.
Скоро четверть совсем опросталась, и мужики, покачиваясь, один по одному вылезли из-за стола. Чужие подались восвояси, свои — во двор, скотину убирать на ночь. Макара с ними не было, а куда он исчез — того никто не знал, потому как Макар еще разок завернул к Лишучихе. Задержался он там не шибко долго, но, поддав на готовое, вернулся с осоловелыми глазами.
Отворив калитку и держась за нее обеими руками, он пошатался с минуту, как тополек под ураганным ветром, оттолкнулся от калитки и, будто вплавь, пустился по двору. Сзади отчаянно жалобно звякнула щеколда. Неуверенно ступая вихляющими ногами, Макар двигался на Мирона, остановившегося под навесом с вилами в руках.
— Делиться! — грозно объявил Макар, подступаясь к брату. — Делиться — и все тута! — Смятая шапка чудом держалась у него на затылке, белявый волнистый чуб клочьями повис над покрасневшими мутными глазами, прикрыв всю левую половину лба.
К братьям подошел Тихон, тоже с вилами.
— Делиться, говоришь? — усмехнулся он. — Давай, давай, делись.
— Делиться! Сичас! — кипятился Макар.
— А с батюшкой ты посоветовал? — насупился Мирон.
— С ба-атюшкой! — враз словно бы потрезвел Макар. — Насоветуешь с нашим батюшкой!.. Делить всю хозяйству на паи, батюшке свой пай достанется — не обидим. Не стану я тута с вами чертомелить… Навели черт-те сколь этого хозяйства, а проку на грош. Сам же он сказывал, что чертомелим хуже, чем на барщине. Тама хоть барин удоволен был, а тута — кто? В работниках мы у своей скотины живем, а добра ни она не видит, ни мы… Дарья вон ребеночка скинула, — вдруг прослезился Макар, — хворает. А все отчего?..
— Эх, Макар, Макар! — тяжело вздохнул Мирон. — Да ведь жизня-то кругом такая. Ослеп ты, что ль?.. Али с Марфой моей такого не бывало, али с его вот Настасьей? Али не хороним каждый год младенцев, уже рожденных? Да ведь бог милостив — дает новых.
Это рабское смирение старшего брата с судьбой взбесило Макара. Все, что тихим громом долго копилось в трезвом мозгу, теперь всколыхнулось и начало плескаться наружу.
— Дак так, стал быть, и переть это ярмо до гроба?! — взревел Макар, аж побледнев. — Эх вы-ы! — он вышиб из рук Мирона трехрожки, те самые, какими пригвоздил недавно волка, и устремился было к конюшне, но его перехватил и придержал Тихон.
Братья уцепили Макара под руки и повели в избу, а он бился, нещадно ругался, кричал:
— Пустите, пустите, изверги! В город поеду, через суд свой пай у вас вырву, а жить с вами не стану!
Оттого, что солнышко закатилось, а двор еще не накрыли мягкие весенние сумерки, в избе стоял полумрак. Дед Михайла, сидя на широкой лавке возле стола, чутко вслушивался во все звуки и, ничего не видя, отлично знал, кто что делает. Тревожный шум во дворе, никем в доме не слышимый, уже несколько минут беспокоил его, и оттого большие пальцы рук, сложенные на изгибе клюки, сучили друг возле друга, оборачиваясь все чаще, по мере того как нарастало волнение деда. Однако он давно приучил себя к выдержке и, не опережая событий, терпеливо ждал их разрешения.
Когда мужики, пыхтя и чертыхаясь, лезли в низкую дверь, а Макар твердил о разделе хозяйства на паи, дед все понял: не впервой заговаривал об этом сын его младший.
— Чего, Макарушка, опять тебе паи спать не дают? — проскрипел дед. — Ну-ка, ребяты, давайте-ка его мне сюда…
Братья подвели пьяного к деду, удерживая за руки. Бабы сгрудились к столу, а ребятишки, зная, что в таких случаях большим не до шуток, заняли более безопасные места: на печи, на полатях, в дверях горницы.
— Отделяй, батюшка, и все тута! — предстал перед дедом Макар.
— Я т-тебя отделю! — поднялся Михайла, и его бадик раза два хлестко прошелся по плечу Макара. Тот рванулся, увертываясь от деда, потому костыль стал попадать то по Мирону, то по Тихону.
— Вот тебе! — приговаривал дед. — Вот тебе, пьяный варнак! — А клюка в немощной его руке все ходила по старшим сыновьям, не задевая Макара.
— Вот чего, ребяты, — еле выговорил, задохнувшись, дед, — вяжите его опояской да спать кладите… Ишь ведь чего удумал — на паи! Всю хозяйству по ветру пустить, стал быть. Ах ты, бездельник!
Мужики для порядка связали Макара мягкой суконной опояской, стащили с него пимы и уложили в горнице на половик, бросив сверху его же шубенку.
— Ты спервоначалу проспись, — уговаривал брата Тихон, — посля на трезвую голову потолкуешь.
12
Васька Рослов, как только мужики с Макаром ушли в избу, не теряя времени, схватил метлу и, торопясь, начал махать ею по высохшему от морозца двору. Не враз его выметешь, двор-то, большой он. А Ваське скорее хочется сделать это да повидаться с Катюхой.
Если бы еще в дороге из Боровой какая-нибудь гадалка сказала, что пойдет он к зазнобе вечером, ни за что не поверил бы Васька: к чему себя и девку тревожить, к чему бередить больное место? А теперь вот понял — не усидеть дома. И спать ляжет, так не уснуть, пока не повидается с Катькой.
На землю пали короткие вечерние сумерки, потому как солнышко давно закатилось, а месяц, вися над курганом за реденьким облачком, не мог пока одолеть и отпугнуть потемки.
Васька замел мусор в угол двора, собрал его в кучку. Оглянулся на темное кутное окно: спать, стало быть, улеглись все. Вышел за ворота, прошагал мимо Дурановых, избушку бабки Пигаски миновал — вот он и Прошечкин дом…
Трепещет сердечко, колотится, будто косогон у сенокосилки: выйдет ли Катька-то? Поздно уж. Спать, наверно, легла. Отбежал за угол Прошечкиного тына, притаился, прислушался и громко три раза свистнул. Долго, показалось, ждал — ни звука уловить в ответ не мог. Повторил троекратный свист и опять затаился.
Это сигнал у них такой условный был — свист. И знала его Катька еще с осени. Сегодня, конечно, не ждала она Ваську, а потому спит, видать, беззаботно. Не дозовешься ее.
Приуныл Васька и совсем уж было вернуться домой собрался, но тут натужно засвиристела старая калитка, будто простуженная ворона каркнула. Выглянул из-за плетня Васька — стоит Катюха в короткой шубейке, в наскоро накинутой серой шали, по сторонам оглядывается и никого, понятно, не видит. Налетел на нее Васька ураганом, обнял и закружил. Под пимами тонкий ледок в лужицах захрустел звонко.
— И-и, шалопутный полуношник! — задыхаясь от радости, выдохнула Катька, отстраняя его от себя. — Чего ж ты ночью-то? Спала ведь уж я. Думала, во сне мне свист этот померещился. А посля проснулась да сызнова услышала…
Поцеловать ее Васька не решился. И она холодно отодвинулась от него, несмело позвала, сторожко поведя глазами:
— Отойдем, что ль, в степь: враз да выйдет кто тута.
Они привычно, как всегда, пошли по дороге в степь. Но пошли отчужденно как-то, не касаясь друг друга. И каждый думал о своем. Слова, какие говорили раньше друг другу, теперь будто бы потеряли смысл, повяли, как вянут подкошенные в поле цветы. Многое хотел бы сказать Васька, да к чему теперь говорить, коли все переменится скоро…
Днем хорошо пригревало, таяло. Лужицы на дороге объявились — не то что воробью напиться, курице искупаться можно. А в ночь, когда вылупился из-за кургана рогатый месяц и выкропились яркие звезды, приморозило, да так, что лужи скоро промерзли насквозь и лед в них начал трескаться. С нежным звоном падали тонкие льдинки в пустоту под ногами. Плетни мохнатым куржаком оделись, как зимой.
— Дак что ж, Васенька, — вдохнула Катька морозный воздух, — слышала я, в солдаты будто бы ты уходишь? Ко мне и заглядывать перестал…
— По осени ухожу, — глухо ответил Васька.
На душе у него и без того было тоскливо и муторно, а тут еще с хутора донесся жуткий, затяжливый собачий вой. И доносился он, кажется, из их двора.
— Ух, пропасти на ее нет, на эту собаку! — зажала уши Катюха.
— Да это Курай, знать, наш заливается, — безошибочно определил Васька. — С чего бы это его прохватило?
— Ой, да ведь примета-то нехорошая какая!
— Ну их, приметы всякие! — храбрился Васька, а у самого тоскливо давило под ложечкой. — Повоет да перестанет.
— Нет, нет, Вася! — тревожно воскликнула Катюха, прильнув к плечу парня и обнимая его дрожащими руками. — Боюся я! Страшно мне, жутко чегой-то. Давай воротимся!
Они повернули обратно. Вой собачий то смолкал, то снова тягучим, ядовитым зовом повисал над спящим хутором. Катька трепетала всем телом и еще теснее прижималась к парню, надеясь найти в нем защиту от нахлынувшего страха. А Васька до крайности замедлил шаг, почти остановился, одеревенел весь. Через великую силу, против воли и вопреки своим чувствам, подчиняясь одному лишь холодному рассудку, хотел он сейчас же, не сходя с места, сию же минуту высказать то единственно разумное, что оставалось предпринять в их положении: оборвать все нити, связывающие их, и расстаться. Не будоражить, не терзать понапрасну душу. Конец уже предрешен. И чем скорее наступит ясность, тем легче будет ей и ему при последнем расставании.
А Катька, будто бы читая его мысли и ни за что не желая дать ему выговорить вслух страшные, как приговор, слова, торопила вперед, молитвенно заглядывала ему в глаза, трепетала в предчувствии беды.
— Глянь, глянь, Вася! — вдруг остановилась Катька, указывая в степь.
Со стороны города и не по дороге, кажется, — снег-то совсем уж неглубокий стал, — друг за другом ехали несколько конников. На белом снегу они хорошо были видны. Передний спускался в балку, так что зачернелась лишь голова и скрылась за белым косогором. Потом и остальные исчезли там же, в балке.
— Кому ж эт шастать в такую пору охота? — удивилась Катюха.
— Да мы же вот шастаем, — усмехнулся Василий, но тревога взяла верх и над его мыслями.
У ворот Прошечкиного дома, прижавшись в уголке между столбом и калиткой, они долго прощались, а Васька так и не мог выговорить припасенных жестоких и правдивых слов. Целовал он ее бережно, с опаской прикладываясь к полным губам и виновато заглядывая в карие глаза.
— Вась! — испуганно вскрикнула Катюха, оттолкнув его от себя. — Никак, у вас во дворе чтой-то неладно!
Васька суетливо оглянулся, увидел нежно-розовый клок неба за дурановской избой, услышал какой-то тревожный шум в своем дворе и, словно дождавшись избавления от невысказанных мук, бросился бежать туда, оставив Катюху.
13
В эту пору день становится настолько длинен, что хуторянам хватает его на все заботы. В редкой избе вздувают по вечерам огонь и засиживаются за прялками бабы. У Рословых притихло все, угомонилось нынче, как только смерклось, когда еще над трубами многих изб витали беловатые столбцы кизячного дыма, а хутор впал в дрему.
Макар, связанный, так и спал на половике, стонал во сне, скрежетал зубами. А Дарья, дождавшись еще с полудня настоящего покоя и умиротворения, снизошедших на нее после страшных мучительных суток, теперь спала сладко и непробудно. Она не слышала, как приехали мужики, как ужинали, как подходил к ней Макар и как наконец оказался он на половике возле ее кровати.
Спали безмятежно все. Тут и там сопели, подсвистывали, храпели на разные голоса. Только дед Михайла в неизменных своих пимных опорках и старой шубенке, накинутой на плечи поверх исподней рубахи, сидел на лавке против кутного окна, выходящего во двор. Вот так, сложив руки на изгибе клюшки, стоящей между колен, мог он сидеть много часов подряд, изредка поглаживая мягкую длинную бороду. И вовсе не от старости одолевала его бессонница. Даже волнение, вызванное бунтом Макара, давно улеглось, повяло в душе. Он уже простил сыну его горячность и, смирившись перед неизбежностью будущего, знал, как поступить с Макаром.
Тревожило Михайлу совсем другое, более неутешное и куда более опасное. Днем, когда мужиков не было дома, Дарья беспробудно спала, хотя Настасья монотонно долбила бердом, дотыкая последний аршин рябого, в клеточку, тонкого холста, чтобы убрать стан к приезду мужиков, а Марфа уходила на речку полоскать белье, в каморку к деду вскочил запыхавшийся Степка.
— Дедушка, дедушка! — таинственно зашептал внук, утирая варежкой толстый нос. — К нам дядя Кирилл Дуранов во двор приходил. В конюшню позаглядывал, а потом у тех саней, на каких бочка стоит, вывернул оглобли, а завертки с собой унес.
— Ты-то где ж был? — встрепенулся дед. — Видал он тебя?
— Не-е, — протянул Степка, округляя серые глаза. — Мы с Гришей нашим, дядь Тишиным, на сарае сидели. Никого во дворе-то не было.
— Ну ладноть, — сказал тогда дед, — ты помалчивай, да и Гришутка чтоб чего лишнего не сболтнул… Понял, что ль?
Степка, конечно, понял. Он и сам теперь всегда сторожился Кирилла Платоновича, ладил, как бы не попасться ему на глаза. А когда углядел его на своем дворе, сам припал к соломенной кровле сарая и Гришку, этого несмышленыша, придавил тоже. Так и пролежали, пока непрошеный сосед по двору шастал. Восьмилетнему Гришке он, понятно, не стал объяснять, для чего им надо было прятаться, только заказал настрого, чтобы никому об этом не говорил. Мало ли ребячьих тайн бывает. Да и не хотел он впутывать этого милого парнишку в такое дело. Всеобщий любимец в семье, не по годам был Гришка смышлен, приветлив и всегда опрятен. Дарья так больше Настасьи — матери Гришиной — миловала мальчонку: «Ну, Гришутка, — говаривала она, — только вырасти, все девки хуторские твои будут!» А Тихон гордился своим первенцем, давно решив для себя: «В блин расшибиться, да отдать мальца в ученье — негоже дару божьему без пользы сгинуть».
В ночи дед Михайла рассуждал об одном и том же: зачем Кириллу Платоновичу завертки понадобились? Правда, других саней во дворе не было, а эти стояли так, на всякий пожарный случай. Летом бочку переставляли на телегу, и она стояла там же, в углу сарая. А чего Кириллу еще в конюшне надо, ежели за завертками приходил?
Мысли ползли и ползли одна за другой, тяжело ворочались в мозгу деда, не давая ему покоя. Много раз выходил он во двор, глубоко вдыхал недвижный морозный воздух, слушал, как щелкает ледок в замерзших лужах на дороге, как тяжело пыхтят на заднем дворе коровы, как мирно позвякивают цепочками лошади, примкнутые к колоде. Удостоверившись в полном покое, покидал свой пост и снова садился на прежнее место, к окну: сквозь него все-таки больше звуков со двора доходит.
Несколько раз с вечера принимался выть Курай — жалостно так, затяжливо, с тоненьким подвизгом выл. Но дед надолбил ему клюкой — теперь Курай успокоился.
А вот как последний раз выходил, послышалось ему, вроде бы задние воротца у Дурановых пискнули. Долго потом выжидал, не уловится ли чего еще. Нет, не уловилось.
Прошаркал дед в горницу, легонько постукал клюкой по бедру Макара, тот заворочался тяжело на полу, мотнул косматой головой и, видимо, ударившись щекой об пол, очнулся.
— Встань, Макарушка, встань, — ласково приговаривал дед, — руки-то я тебе развяжу.
Крякнув, Макар поднялся на ноги, повернулся к деду спиной, подставил связанные руки. Михайла нащупал на опояске нетугой узел, распустил его.
— Прости меня, батюшка, за вчерашнее, — хрипло говорил Макар, встряхивая затекшими кистями рук. — А делиться-то я все ж таки не откажусь…
— Ладноть, — смиренно ответил Михайла. — Всю хозяйству на паи делить не станем, а тебя отделим, коль уж так затратилось… Ты покрепись поколь, покрепись: вот новую избу поставим, а тебе, стал быть, тута жить. Чуешь…
— Чегой-то тама?! — ахнул Макар, уставившись через дверной проем из горницы в кутное окно.
Месяц к тому времени закатился, и в темном окне величественно и страшно трепетал кровянисто-багровый отсвет. Макар, как был — босиком, без шапки — сиганул мимо деда, чуть не столкнув его, в дверь. Во дворе бешено, с подвывом залаял Курай. И не успел Михайла шагнуть из горницы, как вновь распахнулась избяная дверь и послышалось страшное, хватающее за сердце:
— Кара-у-ул! Гори-им! — не своим голосом заорал Макар.
— Господи Исусе… — поперхнулся дед, крестясь и чувствуя, как пол уходит из-под ног.
— Царица небесная, матушка! — послышался сонный голос Настасьи.
— С нами крестная сила! — хрипло ахнула Марфа.
Проснулась и запричитала Дарья. Через считанные доли минуты в избе Рословых поднялся настоящий содом. Бабы с растрепанными волосами, в одних исподних рубахах совались всюду, стараясь как-то помочь мужикам одеться. Мужики перепутали пимы на печи, оттого сбились все в кучу, мешали друг другу, и разобрать что-либо было уже невозможно.
— Да зажгите хоть лампу, бабы, трафить вас всех! — вышел из себя Мирон: он в третий пим пытался засунуть ногу, но попадали какие-то, бабьи, что ли, совсем не подходящие маломерки.
На полатях заголосили перепуганные малые ребятишки. Их не успокоила и зажженная Настасьей лампа. Со двора слышался заливистый брех Курая, жалобно мычали коровы, бесновались на привязи кони. В настежь распахнутую дверь, не закрытую со времени возвращения Макара со страшной вестью, вывалились все скопом.
Над задним двором жарко полыхало большое яркое пламя. Горела соломенная кровля, только на прошлой неделе очищенная от снега.
В это время в калитку юркнул Васька и, никем не замеченный, окунулся в суетливую толчею перепуганных людей.
— Марфа, растворяй шире вороты! — скомандовал Тихон. — Мужики — в конюшню! Лошадей не отвязывать: вынесем колоду, и они с нами выйдут… Настасья, иди выпущай коров!
Размахнув обе половины ворот во всю ширь и подперев их, чтоб не сошлись, Марфа грузно, с тяжелым подскоком выбежала на середину дороги и, приседая и взвизгивая, заголосила во всю немалую мощь своего голоса:
— Лю-у-ди-и, пособи-и-тя-аа!
В только что мертвецки сонном хуторе истошно, с надрывом забрехали собаки, кое-где в окнах вспыхнули неяркие огоньки, где-то послышались тревожные голоса.
С потолка в конюшне лилась вода от расплавленного наверху снега. Огромную колоду, стоящую на высоких ножках, со всех сторон окружили мужики и ребята: Васька, Митька, Степка, Порфирий Кустищев, заночевавший у Рословых; тут же вертелся и Гришка, старшие девчонки — все были на ногах. Хотя и порожняя эта колода, в другое время едва ли поддалась бы им с такой легкостью — теперь она, словно живая, поплыла из конюшни.
По двору колоду волокли без передыху. А кони, примкнутые цепями, веером приплясывали вокруг, кособоко ступая, торопились от огня подальше. В воротах веер этот ужался, вытянулся в длину, кони прижали к колоде мужиков и ребят, шедших по бокам ее. Вышла заминка, кому-то лошадь приступила ногу — ругань, крик, пыхтенье.
Когда вытащили колоду на середину дороги и поставили, Тихон распорядился:
— Макар, возьми вилы и становись тута, возля лошадей. Да держи ухо востро! Ты, Степка, тоже с им будь: случай чего — нас кличь!
Во дворе орудовала Дарья. Обескровленная только что перенесенным несчастьем, пересиливая себя, она с бешенством крутила железную ручку, поднимая из колодца бадью за бадьей и опрокидывая их в водопойную колоду.
Мужики хватали лопаты, ведра, услужливо вынесенные Марфой на середину двора, и, зачерпнув из колоды, плескали вверх на огонь, бросали туда снег, но пламя, будто бы веселясь, шипело, трещало от сырой соломы и неумолимо ползло к конюшне, закрытой под одно с задним двором, а стало быть, и к избе. С конюшни снег не был счищен, заленились тогда ребята. Дед ворчал на них. Зато теперь этот снег оказался спасительным.
А там, на заднем дворе, в сутолоке забытая всеми, воевала Настасья. Когда она подбежала к хлипким воротцам и отворила их в надежде на то, что скотина сама пойдет из хлева, пламя лизало всю кромку соломенной крыши, продвигаясь по ней всем фронтом дальше. У входа и вдоль наружной стенки падал огонь, солома под ногами тоже взялась пламенем, вытянувшимся пока несмелым прямым рядком. Настасья сперва было принялась топтать ногами этот огонь, но, видя, что не справится с ним, а сверху падает горящая солома все чаще и чаще, попробовала выгнать скотину. Однако быки и коровы, видя перед собой огненный рубеж, не хотели идти через него и, кружась на пятачке, не тронутом огнем, жались к дальней стенке хлева, к конюшне. Тогда Настасья выломила из плетня короткую палку и бросилась с ней на животных, колотя и ругая их на чем свет стоит. Помогло.
Первой через огонь отважилась прыгнуть годовалая пестрая телка. Высоко подкинув задком и отчаянно мукнув, она вылетела на простор. За ней двинулись по одному огромные старые быки вперемежку с коровами. Настасья не уставала колотить их и ругать, а дело подвигалось не споро.
Порфирий Кустищев, первым оказавшийся на задворках, увидел Настасью, гаркнул:
— Вылазь, чертова баба! Сгоришь ведь. Да ты и так уж горишь, погляди!
Конец платка у Настасьи тлел, подол юбки спереди выгорел полумесяцем и тоже дымился, а она никак не могла выгнать того непутевого бычка, что покалечил Дарью, и красную белолобую корову. Не раздумывая, Порфирий бросился через огонь, страшно замахнулся черенком вил на всех сразу, и не понять было, кого он собирается ударить, да еще реванул, как медведь, — все вместе, толкая друг друга, так шибом и вымахнули на волю.
Во двор к Рословым сбегался народ, кто с чем — с лопатами, ведрами, вилами, потому как пожар был виден всему хутору. Теперь уж не плескали воду куда попало, а послали на крышу двух ребят — Митьку Рослова да Ваньку Шлыкова — и подавали им туда ведра. Но воды все-таки не хватало, хотя у колодца заменили Дарью двое мужиков.
— Васька! Васьк! — позвал Мирон своего племянника. — Веди Бурку да за водой на речку поедешь.
Васька побежал на улицу к лошадям, а Мирон, ухватив за задний вязок сани с бочкой, вытянул их на середину двора. Хвать — оглобель-то нету!
— Ах, растрафить-то вас! — затрясся в досаде Мирон. По такому случаю следовало бы употребить куда более крепкое словечко, но никто в семье Рословых грязно не ругался. — Да кому ж эт оглобли-то понадобилось вывернуть?
—Эх, распроскурину мать! — густо завернул Кирилл Платонович, подскочивши к бочке. — Тоже считаются справными хозявами, а порядку нет. Ну ладноть, — отбежал он к другим саням, — пока Васька лошадь приведет да захомутает, мы вот из этих вывернем оглобли да туда поставим.
Кирилл Дуранов старался подольше покопаться с завертками, ворчал, что будто они примерзли, а самого разбирал смех. Его забавляла эта суматошная возня людей: как легко сыпануть им за пазуху блошек — не знают, какое место и почесать сперва, по всей шкуре зудит. Но и зло откуда-то из глубины неуемно перло: недели три, никак, может, и того больше, готовился он к этому делу, все, кажется, предусмотрел и не на один ряд передумал, перебрал, а выходит чего-то не то. Рушится задумка.
Дед Михайла не мог в такую минуту сидеть в избе. Он вышел на скрипучее крылечко и давно уж стоял тут, не шелохнувшись и боясь сойти во двор, чтобы не мешаться там. Цевки худых его ног совсем посинели, чугунными казались в отсвете пламени, медный крест на впалой открытой и тоже посиневшей груди подрагивал в такт ударам сердца и, касаясь изредка дряблой кожи, обжигал ее холодом. Дед слышал разговор сына с Кириллом Платоновичем и ухмыльнулся сердито:
— Эк ведь, пес тебя залягай, варнак! Хозяв учит, бездельник! Вот к чему завертки-то он унес. Какой же наянный-то ведь, лиходей!
Вдруг до слуха деда с улицы донеслись крики, дикое гиканье, топот лошадей, мчавшихся по мерзлой дороге. Так оно и было, Макар не успел опомниться, как вихрем налетели на них пятеро конников, хлестанули рословских коней нагайками, чуть не стоптали зазевавшегося Степку и ускакали прочь.
Лошади шарахнулись было от колоды, покачнув ее, но цепи оказались надежными — ни одна не оборвалась.
— Шумнуть, что ль, мужиков, дядь Макар, как велели? — спросил Степка, еле придя в себя.
— Чего ж теперь шуметь-то, коль никого нету.
Еще когда Васька с двумя мужиками первый раз выехал на бочке за водой, Степка, нарушив данную деду клятву, рассказал об истории с завертками. Что налет конников — тоже проделка Кирилла Платоновича, Макар нисколько не сомневался.
И ведь как все разыграл, бревно ему под ногу! В коротких вскриках наездников слышались русские слова, а одеты все всадники по-башкирски — в бешметах, в круглых высоких шапках, и аркан вроде бы у одного на боку приметил Макар… Да разве разберешь все в этакой темноте с налета. Только вот со двора от пламени светит, да оно уж, слава богу, пламя-то, присело, почти зачахло: поливают его там мужики, снегом закидывают.
Великая сила — народ. Миром да собором одолели этого страшного, беспощадного «красного петуха». Растаскивали и кидали в снег с заднего двора головешки. И конюшню, можно сказать, отстояли. Но крайняя балка, выступавшая наружу концом аршина на полтора, где-то продолжала гореть. Прикрытая соломой, с черными, обгорелыми концами, она затаила в себе страшную опасность. И сколько Митька с Ванькой ни поливали ее сверху, через солому — из-под нее валил дым, как из бани по-черному.
— Сюда вот, сюда полейте, с краю! — надрываясь, кричал Тихон. Но так как советов снизу подавалось много, ребята не могли их все уловить и делали то, что считали нужным.
— Э-э, сопляки зеленые! — ругнулся Тихон на не слушавших его ребят и, подпрыгнув с намерзшей ледяной кочки, ухватился за выступившую балку, а ногой наугад пытался попасть на поперечную жердь, врубленную в столб. Но это ему никак не удавалось.
— Тятя, тять, — пищал снизу Гришка, сын его старший, — вот сюда, сюда ногу-то упирай!
Он схватил отцову ногу в мокром пиме и направил ее как раз на выступ, где можно было опереться.
— Уйди ты отсель, постреленок! — шумнул на него Тихон, подтянувшись и переваливая тело через нависшую балку. — Тебе говорят — уйди, слышишь!
Но Гриша не ушел, а только отступил на шаг и, подняв свое раскрасневшееся, измазанное сажей лицо, смотрел на отца. И тут случилось неожиданное и непоправимое. Полуторааршинный конец балки, даже не хрустнув, как отсеченный, рухнул вниз. Из отломленного торца посыпались искры. И до того моментально все это вышло, что мальчонка, не то чтобы шагнуть — шевельнуться вроде бы не успел: накрыло его с головы этим бревешком, вместе с которым летел Тихон.
Ни отец, ни сын не крикнули, не охнули.
Откуда только взялась, как учуяла свою беду Настасья — растолкала ошеломленных, бездействующих мужиков и, вытянув из-под Тихона роковой обломок бревна и высвободив сына, припала к ним, тряся того и другого, как спящих. Она хотела подложить шапку под голову Гриши, и тут рука ее попала в мягкое, липкое, теплое. Дернувшись, как от огня, увидела густо окровавленные свои пальцы — и дикий, истошный крик, зазвеневший в ушах, перехлестнул весь двор, далеко метнулся по хутору.
Словно опомнившись, кто-то из мужиков потянул Настасью. Но она подхватила сына на руки, приникла ухом к груди — не билось там родное сердечко, онемело и затихло.
— Господи, царица небесная, матушка! Да за какие же развеликие грехи нам эдакое наказанье! — надрывно, с визгом голосила Настасья.
Мужики, оттеснив ее, стали поднимать Тихона. Он легонько застонал, как спросонья, хрипло попросил:
— Ногу, ногу полекше…
Правая нога от колена висела безжизненной плетью. Мирон осторожно приподнял ее на полусогнутых руках и так, сгорбившись, пошел, подлаживаясь под короткий, гусиный шаг мужиков. За ними с драгоценной своей ношей, окруженная бабами, шла и в голос причитала Настасья — измученная, истерзанная бедами, в обгорелой одежде, сбившемся платке. И не поймешь, куржак ли осыпал растрепанные волосы, или пепельная эта серость прилепилась к ним навечно.
Уже начинал заметно проступать рассвет, когда Макар, услышав во дворе раздирающий душу бабий крик, велел племяннику:
— Ну-к сходи, Степка, глянь, чего там еще стряслось.
И только отошел Степка — вот они, лихие грабители, опять ураганом летят. На этот раз Макар заметил их вовремя и успел прикинуть, как лучше отбиться: трех передних, что наметились объехать его с левой руки, от степи, отпугнул сначала, а потом волчком оборотился на другую сторону и, обозлившись, не утерпел — запустил-таки вилы в последнего. Попали они рожками, надо полагать, в ногу всаднику, да и лошадь, видать, пырнули чуток: взвизгнула она, и верховой охнул.
— Ентот уж, знать, не прискачет больше, — ворчал Макар, подымая упавшие вилы.
— Ветерка запрягать надоть, — сообщил вернувшийся Степка, утирая варежкой нос.
— Зачем?
— Дядь Тихон упал сверху на ледяную шишку — ногу переломил. — Голос у Степки заметно дрогнул, полные розовые губы повело концами вниз. — А Гришу… насмерть… уби-ило! — залился горькими слезами Степка, отворачиваясь от Макара и размазывая их варежками по лицу.
— Ты чего плетешь? — всполошился Макар. Он было собрался закурить, оторвал на закрутку бумаги, но бросил ее, сунул в карман кисет и, вертя свой ус, приступился к Степке: — Кого убило? Говори толком!
— Н-ну, Гри-и-шу нашего, ну, дядь Тихонова.
Ребятишек в доме была целая пропасть, и взрослые нередко в семейной сутолоке путали имена даже своих детей, но Макар никак не мог взять в толк, с чего, с какой стати, чем убило этого смышленого ласкового парнишку. Стало быть, его уже нет?
— Давай, Макарушка, отцепляй Ветерка, — заговорил, подошедши, Леонтий Шлыков. — Тихона в город везть надоть — так и отлетело у его полноги, и парнишку его пришибло, стал быть…
Пока Макар освобождал жеребца от цепи и отвязывал повод, Леонтий глубокомысленно вещал:
— Не побегеть уж Тихон Михалыч, нет, не побегеть! В кузне стоять будет, а в полю не побегеть… Эх и петушка вам светлого подпустил ктой-та, м-м-м! На весь хутор посветил ночку. Не иначе, сусед ваш — больше некому. Тут и к бабке ходить не надоть: все на виду… Гы-ы, — вдруг осклабился Леонтий, — и ведь, скажи ведь, лягушка ему холодная в рот, сам же и гасить пособляеть, х-хо!
— Он чего, тут, что ль? — еле разжимая побелевшие губы, спросил Макар и подал Леонтию повод.
— Тута, лихой кобелина, тута! Сживает он вас со свету…
Вскоре совсем рассвело. Человек десять мужиков взяли колоду и легко понесли ее на прежнее место в пропахшую дымом и гарью конюшню. Макар, осунувшийся и посеревший за ночь, шел за ними, тяжело переставляя стылые ноги. Он бы и прошел так, не заметив Кирилла. Но тот, стоя возле крыльца, дерганул из цигарки полную затяжку, громко спросил:
— Чего, сусед, отстоял свой пост? — И ощерил белые, как репа, зубы. — Замерз небось…
Макар, напитанный лютостью, враз ощетинился весь и, ни слова не говоря, остервенело взмахнул вилами, целясь Кириллу в голову. Ладно, что погодился рядом Филипп Мослов: перехватил черенок и отшиб его — вилы пошли выше головы Кирилла Платоновича.
— Свою-то башку побереги да об детях подумай, — убийственно спокойно сказал Филипп, ровно ледяной водой окатил.
— Ты чего, шалопутный, сбесился, что ль! — не сразу зашипел Кирилл. Сперва в него вроде бы молоком плеснули — побелел, а потом все лицо пошло бурыми, аж задымившимися пятнами. Тогда-то вот и зашипел он.
— Изверг ты! Лампир! Кровосос! — у Макара обветренное лицо с волосами по цвету сравнялось, сверкали на нем только лютые глаза.
Кирилл затянулся еще разок махоркой, сузил веки, зло швырнул Макару под ноги толстенный окурок, так что искры посыпались, словно тут новый пожар занимался, и пошел прочь, ни на кого не глядя.
Собравшиеся в кучу мужики проводили его молчаливым взглядом. Злобились все, но ведь не то что в одиночку — всем хутором его не враз одолеешь: не дастся он, вывернется. Везде у него дружки-приятели, да не из простых мужиков. У него и в городе, в полиции все замазано да задарено.
— Как же ему не воровать, коли некому унять, — в тишине высказался Леонтий Шлыков, когда Кирилл скрылся за воротами.
Из избы выносили Тихона, завернутого в большое стеганое одеяло, спеленатое опоясками. Мужики у крыльца расступились, давая дорогу. Тихона уложили в розвальни на солому, покрытую большущим овчинным тулупом. На кряслинах розвальней по обе стороны у ног Тихона умостились Мирон и Марфа. Проводить Тихона вышли из избы почти все.
Настасья, неузнаваемо изменившаяся за эту ночь, охрипшая от рева и совсем потерявшаяся, вышла во двор без платка, накинув на плечи чью-то поддевку. Волосы ее оставались неприбранными, и теперь, при свете дня, люди посматривали на нее с состраданием, видя, что серебристый иней прикипел к ним навечно.
— Все, что ль, простились? — спросил дед Михайла, обводя столпившихся вокруг саней мужиков и баб слепым взглядом.
— Все, батюшка, все. Пущай едут, — заторопила Дарья. Она совсем не походила на ту сочную, крепкую, пышущую здоровьем бабу, какой была два дня назад.
— Ну, с богом! — благословил дед.
14
А Кирилл Дуранов, придя домой, не раздеваясь и даже не сняв шапку, сел за стол, потребовал у Василисы выпить и закусить.
Василиса по многим приметам догадывалась отчего случился у соседей пожар, но знать этого наверняка не могла: не посвящал ее муж в такие дела. Она слышала крик Настасьи, видела пламя над задним двором у Рословых и побаивалась, как бы не перекинулось оно к ним, Дурановым. Но погода стояла безветренная, и опасения оказались зряшными.
— Чего у их сгорело-то? — робко спросила Василиса, проворно собирая на стол.
Кирилл вместо ответа налил полный стакан водки, опрокинул его в рот — не поморщился, не крякнул, не закусил — как воду. И опять углубился в думы. Редко постигали его неудачи в таких делах. А тут вышел совсем пустой номер, только шуму наделали. И ведь как все просто казалось, убедительно: пожар, хозяева шалеют с перепугу, рубят повода, снимают эти чертовы цепи, выгоняют лошадей на улицу — лови их и веди куда надо.
И на улице ни одна лошадь не оторвалась с привязи — крепко делает кузнец. Но как же случилось, что на каждую свою замашку получил он отмашку? Выходит, что знали Рословы об его намерениях? Но как, откуда? На картах им, что ль, сгадали? Не могли же свои ребята сказать, не в их интересах это. А больше ни единая душа не знала. Или знал кто?
«Землерои! Чертомели! — зло думал про мужиков Кирилл Платонович. — Ишь ведь, горбом в люди вылезть норовят! Ха-ха! Да где же вам за целое лето, мурашам, заработать, сколь я за одну ночь урвать могу! И рубаха не сопреет от поту… И ведь еще голос подают, шипят, кроты слепые, черви землеройные! Макар-то как осмелел — чуть вилами не спорол, паршивец!.. А кто ж все-таки оберег-то их, а? Н-ну, погодите вы у меня!»
Кирилл Платонович даже зубами заскрипел и выпил еще стакан водки. Кто же этот человек? Вот бы над кем распотешился Кирилл Дуранов, ежели б узнал!
Такой же вопрос, только с совершенно противоположным чувством задавали себе и дед Михайла, и Макар, и Мирон в дорожных думах своих, и даже Тихона не раз занимал этот вопрос, когда хоть чуть унималась боль.
Не дано это знать никому.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Десятый год двадцатого столетия, незаметно, незримо шагнув на землю, шествовал по ней, ничем не отличаясь от предыдущих. Не так давно, правда, отшумел, расплескался кровавым дождем по Руси девятьсот пятый, грозно прогудел он по горнозаводскому Уралу, однако в степные и лесостепные селения дошел лишь далеким тихим рокотом жаркой июльской грозы.
Ничем тогда не задело и хутор Лебедевский. Слухов со всех сторон доносилось множество, но ползли они крадучись, опасливо, боясь резко вклиниться в давний уклад размеренной жизни хуторян и тем не менее смутно бередя темные души мужиков, ничего не знавших, кроме земли да работы на ней.
А потом все поутихло, сникло, будто ничего и не было. Да и как знать — может, эта самая революция, задавленная царем и помещиками, испустила дух возле самого порога мужичьей избы, а он и не разглядел этого, не догадался. Ведь проходили же по хутору ссыльные, ночевали с «волчьими билетами» какие-то люди, которым нигде нет прописки и больше суток ни в каком селении задерживаться не велено.
Да много ли знает мужик, много ли видит он вокруг себя, широко ли умом раскидывает? Под носом у него порою всякие запретные дела вершатся, необъяснимые и загадочные, а мужику и невдомек.
Вот, скажем, Данин Виктор Иванович — умный вроде бы человек, грамотный, сказывают, страсть какой. Самому царю прошение от мужиков писал, а какие штуки выкидывает — простому мужику со стороны глядеть больно.
На хуторе Данин появился в шестом году. Все это помнят. Поселился в хорошей избе на отшибе, в сторонке от всех. Земли десятин четыреста приобрел — живи да радуйся! А его в поле редко увидишь — не охотник, видать, до мужицкой работы — больше с упряжкой в борозде Анна, жена его, ходит, да ребятишки кое-где помогают. Льна не сеют совсем, зимой у них бабы не прядут, холстов не ткут и не стелют. Одежонка на них хоть и городского вида была когда-то, — заплата на заплате красуется.
В прошлом году надивил всех — чуть не половину своей земли за бесценок спустил. А нынешней весной, еще по снегу, не только с остатками земли расстался, даже избу хорошую продал. От такого поступка Виктора Ивановича рты разинули мужики, глубокомысленно чесали в заросших затылках, словно отыскивая там разъяснение загадочным действиям, да так ничего толкового и не придумали.
Однако уважение к Данину за его помощь, за добрые советы брало верх. Оттого-то, когда Виктор Иванович кликнул мужиков на помочь, чтобы соорудить себе землянку вместо проданной избы, чуть не из каждого двора нагрянули мужики, бабы, подростки.
Еще с вечера Леонтий Шлыков, взявшийся оповестить народ, обошел весь хутор.
— А сам-то пойдешь, что ль? — весело спросил его Макар, подметавший улицу против своего двора.
— А как же, Макарушка: друг другу всяк помога. А кто на помочь звал, тот и сам иди в первую голову.
— Придем, придем, дядь Леонтий, не сумлевайся. Ваську да Митьку с собой прихвачу…
Но не везде так легко и просто шло у Леонтия дело.
Кирилла Дуранова давно уж не было дома, промышлял где-то, видать, воровскими делами, а Василиса его имела обычай запираться в избе даже днем.
К бабке Пигаске и заходить нечего: дед ее всякое лето пасет стадо — не помощник он.
Пошел по порядку Леонтий. К Прошечке заглянул. Тот в своей старой избе оставался лишь одной ногой — в новый дом переезжал, за речку. Там и Рословы начали строиться.
Прошечка — об этом не умолчишь — человек особенный. Был он мал ростом, до смешного тщедушен на вид и до крайности горяч, вспыльчив, дерзок. Оттого в хуторе величали его «сполошым» и «обожгоным», но только за глаза. «Прошечка», между прочим, тоже лишь для заглазного употребления. К нему же обращались не иначе как «Прокопий Силыч». А что фамилия у него — Полнов, так не всякий и помнит.
И уж кто знает, хотелось ли ему блеснуть своим достатком либо силился казаться солиднее, заметнее, значительнее — даже в летнюю пору носил он постоянно лакированные сапоги с калошами, плисовые штаны, красную сатиновую рубаху, вышитую по вороту и подолу и перехваченную гарусным пояском с махрами, жилетку под суконным пиджаком. А поверх всего, чтобы, не дай бог, не испачкать столь дорогого и неповторимого наряда, непременно надевал большой сафьяновый фартук с грудинкой. На руках — кожаные перчатки, а стриженную в кружок голову накрывал войлочной черной шляпой.
В тот момент, когда Леонтий шагнул в калитку, Прошечка, стоя посреди двора и тыча в пространство черным в перчатке указательным перстом, распекал работника, Ганьку Дьякова, увязывавшего воз с домашней рухлядью.
Потоптавшись малость у калитки и почувствовав себя вдруг в чем-то виноватым, Леонтий, заикаясь, несмело молвил:
— Дык… как жа, стал быть, Прокопий Силыч, пошлешь, что ль, кого на помочь к Виктору Иванычу?.. Аль как?..
Вроде бы лишь теперь заметил Прошечка Леонтия — круто повернулся к нему всем корпусом, тряхнув по козлиному рыжеватой бородкой, высоко вскинул голову. Леонтий, мысленно кляня себя за то, что занесло в этот двор, ухнул враз, ровно в бездонный омут, в сине-серые расширившиеся, глубоко посаженные глаза Прошечки. Левая редкая бровь переломилась, словно бы вдарили его либо оскорбили нещадно.
— Этому черту-дураку, моту?! Ишь ведь чего захотел! Бедняк объявилси… Землю продал, дом вон какой промотал! Ему, черту-дураку, в шалаше жить. Вот пущай и живеть под кустом!.. Ты, черт-дурак, подумал, с чем пришел-то? Подумал?.. Я вот, гляди, вселяюсь! А ты на помочи́ у мине был, черт-дурак? Был?! Умный сам по себе, а дураку бог на́ помочь. Уходи, черт-дурак!
Леонтий и не заметил, как Катька, Прошечкина дочь, стоя у отца за спиной, чтобы не прыснуть вслух, зажимала рот толстенной косой и делала знаки Леонтию, что придет на помочь против отцовской воли.
А Кестер — хоть и жил за речкой на бугре, чуть в сторонке от хутора, дошел и до него Леонтий — не стал и разговаривать: ядовито хихикнул, так что короткие усы под носом, подпрыгнув, ощетинились. И, молча огладив поджарый живот, показал на калитку.
2
Отсеялись в том году рано. Весна хоть и припозднилась чуток, зато враз ударила таким благодатным теплом, что только успевай, мужик, поворачивайся — от погоды никакой задержки нет. Озимые зеленя, разостлавшись густой щеткой, радовали глаз, веселили сердце пахаря. И до того торопила сеятеля весна — работали, как на пожаре: не упустить бы часа.
А Демид Бондарь, тот, что купил у Виктора Ивановича избу, узнав о помочи у Даниных, собирался на нее с великой охотой. Собраться же Демиду было совсем не просто, особенно обуться.
Поднялся со вторыми петухами, да так, чтоб Матрена не услышала: непременно канитель затеет из-за всякой бросовой тряпки либо свару еще заведет. Почесывая поясницу под длинной холщовой рубахой и придерживая до крайности измятые шаровары, Демид, словно бы крадучись, вприсядку прошагал по земляному полу к двери. В сенцах, качнувшись неловко, сшиб с кадки большущий медный ковшик.
— Господи Исусе! — перекрестился. — Ладно, что дверь-то притворил. Проснется ведь!
По серебристо-росной мураве, делая на ней темный след, ступал босыми ногами блаженно, старался раздвинуть пальцы так, чтобы между ними травка росная прошлась. Долго стоял, покачиваясь, в углу под сараем, пока сошел весь вчерашний квас (квасом с редькой поужинали) и повернул к колодцу, присев на край водопойной колоды и опустив ноги в ямку с водой, принялся мыть их, пятки и подошвы пристрастно тер красным песком, потому как делалось это не часто. Только поздней осенью и в зимние месяцы будет он по субботам беспощадно париться в жаркой бане, стараясь возместить упущенное. А теперь пока не до того…
Мытье ног непременно предшествовало ежевесеннему обуванию Демида. Сняв с плетня просмоленные сапоги и собрав в сенцах, на печи и в других местах целый ворох самых разномастных тряпок и положив их на лавку возле себя, Демид, будто священнодействуя, не торопясь, основательно и даже с какой-то торжественностью вроде бы совершая обряд, приступал к обуванию.
Натянув и второй сапог, Демид смахнул рукавом со лба пот, облегченно вздохнул. Обувшись таким способом в неизносимые и неведомо когда купленные сапоги, он уже не разувался до покрова: а где же в летнюю пору столько времени взять, ежели по два, по три часа обуваться каждый день!
Ни усов, ни бороды сроду у Демида не бывало. Кучерявились на одной скуле несколько крупных волосин, но он либо выдергивал их, либо состригал. За безбородость эту, за бабье лицо и писклявый голос мужики промеж себя или поссорившись с ним звали Демида Тютей. Да и то сказать, какой деревенский мужик не имел прозвища! Детей им с Матреной бог не дал. Так и жили вдвоем.
— Матрена, Мотря! — легонько толкнул он жену кулаком под бок. — Вставай! Коров доить да прогонять со двора время.
Матрена, дебелая, здоровенная баба, косматая и распухшая ото сна, резво вскинулась на лежанке.
— Гляделки-то ополоскни, — напутствовал жену Демид.
— То ль без тебе не знаю! — огрызнулась Мотря и выскочила вон как ошпаренная.
Вернулась она свежая, как репа, бодрая и даже помолодевшая. Расставила на столе крынки, стала цедить в них молоко. Белая широкая струя, падая на волосяной цедок, дробилась и пенилась под ним. Демид, как холеный кот, жмурился, глядя на молоко, и, казалось, вот-вот замурлычет. Наполнив первую крынку, Матрена подвинула ему, поставила на стол хлеб, не выпуская из рук ведра, и, засуетившись, сплеснула молоко на лавку. Собралась подтереть пролитое. Хватилась — нет тряпки! Передвинула горшки на залавке, заглянула в угол возле печи — нету.
— Да куда ж вехотка счезла? — недоумевала баба. — Вот туточки ж я ее клала.
— К-хе, — подкрякнул Демид, пережевывая калач и запивая молоком из крынки. — А я ее высушил да на добрые портянки сверху навернул. Так ладно пришлась!
— Вот же какой вражина! — вспыхнула Мотря. — После его обувки хоть шаром покати — ни одной тряпки в дому не сыщешь.
— Так ведь на целое ж лето, — вяло оправдывался Демид.
— Небось и ту, что в сенцах лежала, закрутил?
— М-у-гу…
— И ту, что под порогом?
— И ту…
— А ту, что в сенцах у двери висела — тоже? Не нашла я ее как доить собиралась.
— Тоже. Добрая, чистая тряпка была!
— Да я ж ею вымя коровам вытирала, чтоб тебе с твоими сапогами лопнуть! Ну, чем теперь с лавки стереть? Чем вымя вытирать — подолом? Чем…
Демид знал, что эта свара на весь день, потому скоренько сдернул с гвоздя у двери картуз и, дожевывая на ходу последний кусок калача, не говоря ни слова, удалился.
— Глянь, глянь, Макарушка! — притопнул обутой в лапоть ногой Леонтий Шлыков. — Тютя к нам на помогу бегеть!
Мужики, собравшись кучкой, обмозговывали, как распределиться, чтоб работа спорилась. И опять всех удивил Виктор Иванович. Этот ленивый, по убеждению мужиков, «антилигент», неведомо когда успел вымахать преогромный подпол — целую избу подземную сотворил. Для чего такой подпол человеку? Доски струганые для пола, косяки, двери, рамы — все у него готово. И тут выяснилось, что не саманная будет у Даниных изба, а земляная, из пластов.
Порешили всем миром: Филиппу Мослову — пахать дерновые пласты, ребятам — возить их к стройке, глину подносить, бабам — месить глину да мазать, где надо; мужикам — стены складывать, косяки, рамы ставить, пол настилать. А Макару с Васькой да с Демидом Бондарем — печь бить.
Опечек и ровный по́д с большущей загнетой в левом ближнем углу были уже готовы. Пока Макар с Васькой пилили долевые доски для внутренней опалубки, Демид подобрал две широких плахи и, положив их рядышком, вычертил гвоздем чуть ли не целый полукруг, принялся опиливать плахи по черте.
Макар, глянув на его работу, всполошился:
— Ты чего ж эт такое творишь, Демид?
— А чего?
— Куды ж ты эдакую высотищу задрал? Париться, что ль, в ей станут? В ей ведь, как в монастыре, и тепла-то сроду не удержишь.
— К-хе, — загадочно ухмыльнулся Демид, — знать ты должон, Макар, что до тридцати лет греет жена, после тридцати — рюмка вина, а после уж никакая печь не согреет. Вон Матрена моя какая, но и она не греет.
— Балагурить-то перестань да слушай, чего тебе говорят.
— И чего ты разошелся по-пустому, — тоненько, по-бабьи возражал Демид, доставая из кармана табакерку с нюхательным табаком. — Полнолуние теперь, чуешь? А ежели печь на полном месяцу делается, завсегда теплой бывает. Слыхал такую примету?
— Пошел ты к чертям со своими приметами! — обозлился Макар и подступил к Демиду. — Полторы-две четверти делай высоту, чтоб только чугун большой уставился, слышишь? В таком балагане, как ты нарисовал, и хлебы сроду не испекутся.
Макар, оттолкнув Демида, отмерил от середины основания вверх две четверти, еще убавил чуть это расстояние — на глазок — и расковырял гвоздем большую отметину.
— Вот досель черти и опиливай!
Пока Макар с Демидом вели спор о высоте будущей печи, Васька пилил да пилил доски для опалубки. К нему прибежала Катька Прошечкина. Однако, прежде чем она успела о чем-либо заговорить, Васька по глазам увидел, догадался, зачем пришла к нему девка.
— Глину, бабы велели спросить, подавать, что ль? — пролепетала, вспыхнув до ушей, Катька, бестолково теребя толстую и длинную косу, перекинутую через плечо.
— Да ты не про глину, чего пришла, говори сразу, — зашептал Васька. По смуглым Катькиным щекам поползли бурые пятна. Потупилась, на миг прихлопнув веками зрачки и спутав нижние с верхними ресницы. И враз распахнула карие глазищи, словно из чела жаркой печи опалила. Правая бровь мучительно и жалко переломилась. Чуть шевеля красивыми полными губами, прямо спросила:
— К речке… где Сладкий лог подходит… придешь после помочи?
Хоть Васька и догадался о намерениях Катьки сразу, однако ж оторопел малость от этакой храбрости.
— Приду… — коротко и беззвучно обронил он. Словно колечко серебряное в сено упало. Сверкнуло перед горячим Катькиным взором и спряталось безнадежно. Она и не поняла толком, именно это ли он сказал, или ей почудилось, оттого что непременно хотела слышать его согласие. Пошла как-то боком, виновато сутуля плечи, в обычное время гордо развернутые.
«Что она, сдурела? — рассуждал сам с собою Васька, глядя вслед Катьке. — Ровно вдарил я ее либо словом нехорошим обидел».
С этой минуты Васька уж ни о чем другом думать не мог. С Катькой водились они еще с прошлой осени. Сошлись как-то так, что и сами на первых порах не поняли, куда повела их неведомая стежка. Знали друг друга с тех пор, как себя помнили. Раза два-три на вечерках поплясали, а потом однажды — снег еще не лег на поля — опомнились далеко за хутором, в степи. И тут в горячем, беспамятном поцелуе поняли оба: не до шуток им, накрепко связаны одной бечевкой.
Зимой Васька не раз собирался поведать деду самое сокровенное да попросить о засылке сватов. Так и не решился. А когда застучалась в избы весна, и вовсе потерял было голову парень. Однако ж после приписки, как узнал, что по осени в солдаты забреют, одумался: дело немалое, коли уж вязать этот узел, так на всю жизнь. Но ни дед, ни Прошечка на свадьбу эту не согласятся. А потому лучше не морочить себе и девке голову, не доводить дело до греха. С пожара они не встречались. Уж думаться стало, что зарастает заветная стежка, им одним знакомая, не сочится открытая ранка.
Думалось… А сейчас вот как подошла она с этакой решимостью, как сказала несколько словечек, прожгло до самых печенок. И скажи ему теперь, что у речки-то не любовь жаркая поджидает, а смерть лютая — все равно пойдет туда непременно.
Что он делал возле этой будущей печи, о том, пожалуй, Макар знал много лучше.
— Васька, — то и дело кричал Макар, — переверни молоток-то! Побил востряком, и будя. Плоской стороной пришлепывай глину!
Большущими деревянными молотами, сделанными из обрубков сухих бревен, они били печь. Макару и смешно было глядеть на племянника, и жалко его: в ночном с лошадьми он сегодня был, небось продурачились ночь-то, теперь вот и спит у него душа. А может, из-за Мухортихи тоска на него напала. Потерял старую кобылу, не оказалось ее в табуне утром. Здорово распекал его дед. Кобыла-то уж не шибко работящая, да жеребят хороших носила.
— Васька, Васьк! — опять тормошил его Макар. — Захворал ты, что ль? Чего ж ты, как машина, лупишь без толку в одну точку! Демид, сменяйся с им местами: твоя сторона у стенки, не так важно. А то он тут нашлепает нам лицевую-то.
Сменялись. Вроде бы лучше дело пошло, да опять же ненадолго.
— Аль Мухортиху так жалеешь? — не унимался Макар.
— У-гу, — поддакнул Васька, — Мухортиху.
Обедали кое-как, на ходу, за махоньким столом, стоявшим в сторонке, посменно. Работали споро, без передышки, старались друг перед дружкой — как привыкли всегда работать.
После обеда позвали Порфирия Кустищева с рословской стройки, чтобы трубу над печью вывел да очажок в чистой избе, в горнице то есть, какой-нибудь склал.
Порфирия привезли на хозяйской лошади. Соскочив с телеги и набычившись важно, всей короткой фигурой накренясь вперед, зашагал он к избе. Но важности этой хватило лишь до порога.
— Х-хе, мужики! Косяк-от криво поставили, — указал на кутное оконце.
— Да это рама кривая, — отшутился кто-то из мужиков.
Встав на кладку очага, Порфирий преобразился: разговоры — в сторону, только поторапливал помощников. Кирпичи, словно живые, надежно укладывались в подготовленное для них растворное ложе.
К вечеру Порфирий взгромоздился на крышу — трубы выкладывать. Тут ему помогали Макар с Демидом. Ваську отпустили: выпросился искупаться в речке. Порфирий, как жонглер, хватал из рук Демида кирпичи, клал их, шлепая сверху раствор, ловко, будто фокусник, счищал мастерком вылезшую из щели глину. Он торопился, потому как все данинские да и чужие, освободившиеся от работы бабы хлопотали рядом на лужайке возле длиннющего ряда столов, стащенных с полдеревни — ужин с водкой после такого дела полагается непременно.
Под самым скатом дерновой крыши кто-то догадался вкопать суковатый столбик, а бабы успели уже навешать пустых крынок и горшков на длинно срезанные сучья.
Сполошно схватив очередной кирпич из рук Демида, Порфирий не смог удержать его. Кирпич отлетел на край крыши, перевернулся и ухнул вниз — жалобно звякнули крыночные черепки, кто-то из баб взвизгнул.
— Хорошо ружьецо бьет: с гвоздя упало, семь горшков разбило! — как ни в чем не бывало, даже не повернувшись в ту сторону, озорно хохотнул Порфирий.
— Ах, волк вас задави, разбойники! — отскочил от стенки Виктор Иванович. — Вы чего там бушуете!
— Да на счастье это посуда бьется сама, — откликнулся сверху Порфирий, хихикнув.
— Ну, разве что — на счастье, тогда бей и остальные! — засмеялся Виктор Иванович и, поворотясь, зашагал к столам в больших грубых сапогах, в распоясанной вылинявшей ситцевой рубахе, залатанной поверх всей подоплеки яркой желтой заплатой.
— За землю да за домик деньжищи какие отхватил, — сказал Демид, узрев жалостный и вместе с тем насмешливый взгляд Порфирия, — а вот рубаху себе не купил.
— Продает с барышом, а ходит, стало быть, нагишом, — подвел итог Порфирий, подравнивая кирпич в предпоследнем ряду.
— Какие там у чертей барыши! — вмешался Макар. — Чего ж ты завидуешь, Демид? Подфартило тебе и тем мужикам, что землю купили: по дешевке ведь все спустил! Ровно кто в петлю его загонял, продавать заставляючи.
— Так-то оно так, — согласился Демид.
Помолчали. Укладывая угловой кирпич в последний рядок трубы, Порфирий тяжко вздохнул:
— И каких дураков на свете нет, прости господи, иные дак и после бани чешутся.
— Эй, мужики! — позвал Виктор Иванович. — Бросайте грязную работу, пошли трубы чистить.
— Нет, нет! — всполошился Порфирий. — Какой жо может быть стол без дыма? Наперво надо в трубу дым пустить, а после того уж и самим хоть в дымину натрескаться.
За столами становилось все гуще и гуще. А печники, набрав по беремени сухих щепок, пошли пробовать печь — дым в трубу пускать. Тут уж Порфирий сам творил дело, никого не подпуская к челу печи. Сложил костерок из тонких щепок почти рядом с загнеткой. И прежде чем поднести горящую спичку, перекрестился, благословясь, подпалил ближнюю стружку. И повалил дым в избу. Заметался Порфирий.
— Тьфу ты! — выругался он. — Вьюшку-то вынуть забыли! Стоят все, как столбы! Прикрыл я ее, чтобы глина сюда не падала сверху, когда работали.
— Топится! — закричали на улице.
— Дым в трубу!
За столом все уже было готово, но ужин не начинали, поджидали всех.
— Великая сила — народ, — сказал Виктор Иванович, когда уселись за стол последние. — За день избу мне слепили. Спасибо вам всем, помогли! — и низко поклонился, показав сидящим начавшую лысеть макушку. Огладив поочередно шнурки усов, призывно поднял свой стакан и выпил.
— Живи на здоровье, Виктор Иванович!
— Владей хоромами! — послышались веселые голоса.
Выпив по первой, проголодавшиеся работники набросились на еду, притихли. Но вскоре и тут пошел дым коромыслом. Шутки, галдеж то и дело неслись над столами. Особенно шумно было за тем столом, где обосновался Порфирий Кустищев. Макар, повертев туда-сюда головой, хватился:
— А где ж у нас Васька, солдат будущий?
— Жениться-то не успел он, стало быть… — вздохнул Порфирий.
— Не-е, молчит чегой-та. Да теперь уж к чему, раз в солдаты итить.
— Вон он в ентим ряде сидить, — углядел Демид. — Ишь, как мосол угладываеть, вроде бы и дремать перестал!
— А у нас так-то один черемисин проводил женатого сына в солдаты. А сам-от он вдовый был. Лапти снохе плел сидел. Устал, потянулся эдак да и говорит: «Ох-ха-ха-ха-ха-ха-ха! С кем же будет спать сноха?» Сноха-то услышала это да тоненьким голоском и отвечает: «С богом». — «Пусть бог тебе и лапти плетет!» — осерчал свекор.
— Байки ты сказываешь, — хохотнул Макар.
— Да что ты, какие там байки! — настойчиво уверял Порфирий. — В соседней деревне у нас это было. — И пошел, и пошел плести случай за случаем.
— Бабы, бабы! — послышалось на другой стороне стола — Давайте песни петь!
— А чего споем-то?
— «Как женили Ванюшку на горбатой»…
— Да ну ее! Давайте эту… как ее… «Ты напейся воды холодной».
— «Любушка, в доме непорядок»!
Между тем Виктор Иванович мягким и приятным дискантом завел:
Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный в неволе орел молодой, Мой гру-стный това-арищ, махая крылом, Крова-авую пи-ищу клюет под окном.Бабы и мужики притихли — слышать эту песню приходилось, но слов никто не знал. А Виктор Иванович, облокотясь на стол и уронив голову на левое плечо, словно бы рыдая, — на глазах у него, казалось, выступили слезы, — то декламировал отдельные слова, то невыразимо больно вытягивал их с трепетом в голосе:
Клюет, и бросает, и смотрит в окно, Как будто со мною задумал одно. Зовет меня взгля-а-адом и кри-иком сво-о-и-им И вы-ымолвить хо-очет: «Давай улетим!— Господи, боже мой, — перекрестился Демид, — кажись, он и взаправду слезу пустил…
— Уймись ты! — двинул его Макар под бок локтем. — Дай послушать.
Мы во-о-льные пти-ицы пора, брат, пора! Туда, где за ту-учей белеет гора-а, Туда, где сине-еют морские кра-а-я-а, Туда, где гуля-аем лишь ветер… да я!»Виктор Иванович умолк, и над столом на минуту нависла какая-то тяжкая тишина. Выпитая водка, однако, не дала заскучать: в одном конце, видимо под настроением только что спетой песни, глухо застонало: «Ох, умру я, умр-ру-у», а в другом забились звонкие бабьи голоса: «Ах вы сени, мои сени…»
Пел каждый свое: хочешь — тоскуй, хочешь — веселись.
Катька Прошечкина, истомившись от нетерпения, делала Ваське знаки, собираясь уходить. Этого момента он ждал давно и, убедившись, что никому до него нет дела, поднялся и не спеша вышел из-за стола.
— …Поп-от жадный был, согласился обвенчать своего работника взакрытую, — во весь голос повествовал Порфирий. — Понятно, за огромную цену. Да деньги-то, как после выяснилось, его же, поповские были. Домой-то вернулись, хвать — матушки нет дома. Обернулся поп — вот она, матушка его — невеста, только что им самим обвенчанная. Тут и присвистнул поп. А работник-от и говорит: «Свищи, свищи, батюшка, матушка-то все равно теперь моя».
— Врешь, антихрист! — завизжала одна из баб, сквозь дружный смех застолья.
— А коли вру, дак вот хоть печкой мне подавиться! — балагурил Порфирий.
Уходя через дорогу за бугор к прибрежному тальнику, Васька все меньше слышал застольные голоса. Нырнул под кручу и вприпрыжку пустился к Сладкому логу, держась вдоль кустов. Вязкая сумеречная стынь, пронизанная волглой речной прохладой, свежила, но не помогала унять трепетного буйства в груди. Ожило все минувшее с десятикратной силой.
Речка, затянутая молочным туманным одеялом, будто спала. Берег здесь изгибом выдавался на север и потом круто поворачивал к Сладкому логу. Дремали, не шелохнувшись, ракитовые кусты, а между ними кое-где выползали на берег сказочно-белые космы тумана.
Слушая истошное гуканье в груди и надоедливый тик в висках, Васька споро шагнул по реденькой росной травке, поминутно озираясь по сторонам, чутко прислушиваясь. Уж не посмеяться ли вздумала девка? Не видно ее нигде: ни сзади, ни спереди… Да нет же! Вспомнил Васька глаза ее: — «Нет!» — и прибавил шагу.
На самый изгиб речки почти не доносились пьяные голоса с нового данинского поместья, а когда завернул к Сладкому логу, опять услышал пронзительный бабий визг:
— И-и-и-и!!! — Потом залихватское:
Горе, горе — муж Григорий, Хоть бы хуже, да Иван!В некрутых, медленных развалах лога редкие, обновленные ночной свежестью, величественно и покойно высились березы. Из-за ближнего белоствольного дерева, понизу изрезанного черным узором, птицей вылетела Катька, обвила Васькину шею крепкими горячими руками и жарко зашептала:
— Где ж ты ходишь, боль моя?!
— А ты прямо, что ль, сюда пошла?
— Да чего ж бы я колесить стала?
— Не побоялась?
— Нет!
И снова охватила Ваську оторопь: откуда у нее столько решимости? Раньше такого не примечал. А Катька, заметив потерянность парня, легонько оттолкнула от себя Ваську, засмеялась.
— Знала я, ирод ты мой хороший, знала, что не пойдешь за мной, Околицей, по овражкам следы путать станешь. С самой зимы обходишь меня, как чумную…
— Катенька!..
— За что прогневался на меня, Василий Григорич?
— Катя!..
— Нет уж той Кати, какую целовал ты беспамятно, — наступала она на него, держа за руку. — Нету! Знаешь ты сам про это. В солдаты совсем снарядился? Так, что ль, я говорю?
— Катюшенька моя…
— Середку наглухо запахнул, чтоб не продуло? Чтоб не закашляться да не зачахнуть? Чтоб не зацеловала окаянная Катька? Чтоб не оставила там своего любовного яду? — и неожиданно по-детски разрыдалась.
Жалкую, сиротливую, Васька легко поднял ее на руки, жадно исцеловал глаза, губы, шею. С великой осторожностью поставил рядом с собой, обнял за плечи. Для себя считал он ее навсегда утраченной.
— Занозушка ты моя сладкая, прости: не об одном об себе думал. Может, об тебе больше…
Малость успокоясь и утерев рукавом слезы, Катька молча прильнула к Василию.
— Ну, скажи сама без утайки: отдаст тебя отец, ежели хоть на этой неделе сватов зашлю?
— Не-е, — прошептала она, горько всхлипнув. — Ежели б не в солдаты, может, и уломали бы мы его всем миром… А так… не-ет. Маманю-то сговорила бы уж я, убаяла.
— Вот и мои эдак же рассудят. Как ни верти — сирота я. Хоть и не забижают меня ни в чем, а доля сиротская — известная.
— Не греши, Вася. Будь ты родным, то же самое вышло бы, — тихо, но неожиданно твердо сказала Катька. — Сам ведь про то знаешь, к чему на сиротство пенять? Жизнь такая уж горькая, полыном вся отравленная… И богачество это, как белена придорожная, в глаза кидается, липнут к ему все, а в ем отрава одна ядовитая.
— А умнущая-то какая ты, Катюха! — подхватил Васька. — Наш дядь Макар постоянно про это же говорит: в работниках, говорит, мы у своей скотины живем…
В наступившем коротком молчании Катька чуть слышно, тоненько, но проникновенно потянула:
И вы-молвить хо-чет: «Давай улетим!»— Вот ведь про что Виктор Иванович-то пел. Всех до пяток пробрало.
— Вася, Вась, давай улетим! — она вспыхнула вновь незнакомым жаром, от которого у Василия под холщовой рубахой по спине ползли холодные мураши.
— Куда?
— А хоть в Питер, хоть в Москву, хоть на копи куда…
— Да кто ж нас там ждет, родимая? А еще к тому же, пересади с поля колосок хоть в Питер, хоть в Москву — либо сам зачахнет, либо сожрут его там недозрелый. Городские, они на это горазды, хоть чего сожрут, или затопчут. То же вот и с нами станется. А еще — приписанный я, разыскивать станут, как беглеца. После того мне — казенный дом, тебе — родная изба без радостев…
Прислушавшись, Катька охнула:
— Поздно-то как! У Даниных, знать, все разошлись.
— Ох и походит по тебе тятькин арапник: вон как он крут бывает!
И тут словно в момент подменили Катьку. Подобралась вся, как кошка, готовая броситься на добычу. А в глазах полыхнуло то новое, незнакомое, от чего нападала на него непонятная оторопь. От удушья он расстегнул верхние пуговицы рубахи. А Катька, увлекая его все выше на бугор, низко наклонялась и гладила рукой мелкую траву.
Почти на самом верху над логом, куда еще не добрался туман и не пала роса, Катька опустилась наземь и, потянув за собой Ваську, страстно обвила его дрожащими руками, прижала к мятущейся груди, опалила горячим дыханием и отчаянными словами:
— Не бойся, родной! Все передумано! Все наперед оплакано!
— В себе ли ты, Катя? — глядя в ее побледневшее, одухотворенное лицо, спрашивал Василий, задыхаясь. — Опомнись, ладушка!
— Губи, идол ты ненаглядный! Знаю, на что решаюсь! Пусть хоть один только первый цветик, да от любимого… А там — чего бог пошлет…
Высоко в небе длинным кособоким косяком тянулись запоздалые в ту весну журавли. Две птицы, чуть приотстав от стаи, гортанными звуками ломали предутреннюю тишину. Крики эти, как вестники чего-то доселе неведомого, тревожили душу, радовали, мучили, звали в безвестную даль. Свободные птицы, как мы привыкли их называть, — а вернее, безнадежные пленники и рабы своего инстинкта, вознесенные могучими крыльями, тянулись к милому северу, чтобы умножить свой род и продолжить его.
— Вот так и во мне все кричит, Вася, как те отсталые журавли, — едва слышно говорила присмиревшая Катька, провожая с тоскою и болью журавлиную стаю. — Улетишь ты, сокол мой, а мне тут оставаться да курлыкать жалобно…
Шагая рядом с Катькой, Василий тупо глядел на носки своих потрепанных лаптей, омытых добела холодной и чистой росой. Услышав горячие слова, он круто повернулся к ней, и лицо его осветилось нежной обнадеживающей зарей, едва проступавшей за рекой из-за степных зеленых курганов. Из деревни навстречу им несся веселый петушиный переклик.
3
Не повезло в ту весну Леонтию Шлыкову. Сеял он самую малость на арендованной земле и с посевом управлялся один. А ребят своих старших, Ваньку и Гришку, отдавал в работники. Нынче, пожалуй, полегчало бы чуток: Яшка тоже пошел в люди, табун у Кестера пасет, да не тут-то было — судьба распорядилась по-своему.
Началось все в тот самый распроклятый день, когда волк за Леонтием гнался, а Рослов Макар убил его.
Ванька с Гришкой поехали тогда на Сивке за соломой. Надо было забрать им одонок небольшой скирды. Воз получился изрядный. И тут, на грех, лиса обнаружилась. Либо она под одонком мышковала, либо у соседней скирды. Гришка, первым заметивший зверя, соскочил с воза, наполовину развалив его.
Пока Ванька разобрал что к чему, брат саженей на пятнадцать отскочил, а лиса еще дальше. В момент Ванька выпряг Сивку и, не снимая хомута, пустился в погоню. Гришку обогнал с ходу, с лисой же вышел у него конфуз. Проскакав саженей триста по неглубокому снегу, совсем было настигать зверя стал. Еще бы Сивке поднатужиться малость, и вилами шибануть бы можно рыжую, да заторопился — не взял вилы-то. Напрягая последние силенки, беспощадно подхлестываемый седоком, коняга все же приблизился к зверю.
И тут лиса круто изменила направление, даже несколько назад повернула. Сгоряча рванул Ванька за повод — удила расскочились, губы Сивке разорвал до крови. Конь заупрямился. Соскочил с него Ванька, шубу и шапку на ходу сбросил. А Гришка стоит себе возле скирды, погоней любуется. Лиса опять кинулась в степь, однако не пошла по старому следу — вильнула к кургану. Или устала она после сытной кормежки, или тешилась над незадачливым охотником — не убегает от него далеко и догнать себя никак не дает.
Из сил выбился Ванька. Пот с него в семь ручьев льет, запалился вконец и плюнул на свою добычу, казавшуюся такой близкой. На обратном пути чистенького снежку поел вдоволь… Вот с той поры и зачах Ванька.
С месяц еще после того пытался работать, думал, пройдет это, выправится. Да у Рословых потом на пожаре подбавил хвори.
Кашель бьет его беспощадный по целой ночи. До крови докашливается и дышит, как загнанная лошадь. В город возили к доктору, тот руками развел — чахотка. Бабки брались пользовать разными снадобьями — никакого облегчения нет. И лежит теперь Ванька целыми днями на печи, медленно умирает.
Манюшка учинила во дворе стирку. Подоткнув подол широченной юбки, она отчаянно выкручивает в руках ребячьи штаны, а сама то и дело поглядывает в угол, где сидит на березовом чурбаке Ванька.
Двор крытый, солнце не попадает сюда, и слабенький ветерок путается в потемневшей соломе на крыше, запинается за плетень, не проходит внутрь — оттого во дворе душно. Ванька, обутый в большие пимы, в накинутом на острые плечи стареньком отцовском пиджаке, как рыба на берегу, жадно хватает воздух. Лицо у него стало совсем длинное, восковое. Нос — один хрящ остался. А кожа на лице до того тонкая, что, кажется, просвечивает насквозь. В груди у него что-то булькает и при каждом вздохе тоненько, с выводом посвистывает. В глазах же, большущих и глубоко ввалившихся — лихорадочный огонь. Говорит он мало, с трудом.
Леонтий суетится тут же — лапти смолит. Помажет смолой, потом зачерпнет горсть пыли, вотрет ее в смолу да еще помажет.
— Земля к земле, оно покрепчей удержится, — бубнит Леонтий, вешая последний лапоть сушить.
Молчать не может он ни при каких обстоятельствах. Однако тоже постоянно косит глазом на Ваньку, вздыхает украдкой и тыльной стороной кисти суетливо чешет свою редкую бороденку.
Значительно крякнув в кулак, Леонтий отправился в конюшню и вывел оттуда Рыжуху.
— Ваню́шка, Вань, — ласково обратился он к сыну, — мож, поехал бы со мной? На пашаничку б глянули, да и травку погустей присмотреть надоть. А?
— Не, тять, — с хрипом выдыхает Ванька, — растрясет… Я и тута спотел вон весь…
— Чего булгачишь ты его зря? — вмешалась Манюшка. — Куды ему по такой жаре шляться!
— Дык ведь я ведь гоню его, что ль? — почувствовал себя виноватым Леонтий. — А так я и запрягать не стану, верхом съездию. — Отворил скрипучие, неведомо чем и как связанные воротца, перевалился через спину отгулявшейся Рыжухи, поехал не торопясь.
Проехав возле Рословых через плотину, свернул влево и направился к кестеровской усадьбе, а невдалеке за ней увидел табун, который пас его Яшка.
У Кестера, не как у всех других в хуторе, — свой, отдельный табун. В нем и лошади, и коровы, и жеребята, и телята — все вместе пасутся. И гонять его далеко от дома не надо: сразу же за усадьбой лежала кестеровская земля. Не арендованная, а собственная, на вечное владение приобретенная.
Со стороны хутора, откуда ехал Леонтий, усадьба Кестера, будто стыдясь своей уютности и благоустроенности перед прочими домами и избами, напрочь закрывалась длинным рядом крепких рубленых амбаров, стоящих тыльной стороной к хутору. Слева от них — не очень крутой, покрытый бархатной зеленью спуск к речке, а справа — почти такой же спуск в Зеленый лог. Так что усадьба стоит на бугре, и ни грязи, ни воды лишней тут быть не может.
На почтительном расстоянии от амбаров — большой крестовый дом под красной железной крышей, с резными карнизами, с парадным крыльцом. Вправо, к Зеленому Логу, — высокий забор, ворота, дворовые строения под жестью. А с левой стороны, от речки, вдоль всей усадьбы тянется неширокой полосой, сажени в три, густой сад. Яблонь и прочих фруктовых деревьев в нем не было, зато благоухали сирень и черемуха. Даже до хутора с той стороны доносился еле уловимый тревожащий дух во время цветения. А вокруг вся усадьба обсажена тополями.
Объехав сад слева, Леонтий повернул к табуну.
— Ну, как твои скоты нагуливаются? — бодро спросил он у Яшки.
— Нагуливаются… Сам небось видишь… Чего им еще!
Не сущности слов удивился Леонтий, а тону, каким ответил сын. Еще не было случая, чтоб Яшка больше часа горевал от любой беды. Дошлый, неугомонный этот парнишка, казалось, не знал уныния. А тут бросил несколько словечек неласковых и отвернулся. Пригляделся к нему отец и сник тоже: осунулся Яшка до неузнаваемости. Лицо пожелтело, свострилось, а в глазах такая тоска, аж душу сворачивает в трубку, как жухлый листок в жару.
— Ай стряслось чего, Яш? — встревожился Леонтий, и чем дольше вглядывался в лицо парнишки сбоку, тем сильнее напоминало оно ему большака, Ваньку.
— Захворал, что ль?.. Чего ж ты молчишь-то?
— Ничего я не захворал. С чего тебе показалось?
— Сумной ты какой-то, — вздохнул Леонтий, трогая Рыжуху. — Ах, жизня, жизня! Что ни порожек, то и запинка… Ты ее выворачиваешь так, а бог-то и́нак, по-своему, стал быть, выгнибает…
Дня три назад, а может быть, больше — смешалось у Яшки время и дни перепутались — выгнал он свой табун до солнышка, на зорьке. К речке сперва пустил. А спать страсть как хочется! Только разлепишь веки, они тут же сами слипаются.
С весны изо дня в день Яшка недосыпает. Никакой передышки, ни даже праздников у него нет. Хоть бы в неделю разок отоспаться вдоволь, так ведь скотина-то и по праздникам и в ненастные дни есть хочет.
Вконец обессиленный Яшка едва заплетает ногу за ногу. А коли чуть присел под солнышком — сразу уснул. Иван Федорович Кестер в последнюю неделю дважды заставал его спящим, уши надрал и грозился прогнать, коли еще такое случится.
— Вся ваша семья ленивая и глупая, — распекал он пастушонка, — оттого и ходите голодранцами!
Отец вот спрашивает у Яшки, не захворал ли. Никакой хвори у него нет, а спать все время страсть как хочется.
В то памятное утро, направив табун к речке, Яшка решил, что тащиться ему на берег незачем: сама скотинка напьется и привычным путем выйдет обратно на бугор. К тому времени бабы коров подоят и выпустят. Пастуху, стало быть, лишь подождать надо. Присел на сухую степную кочку и…
Впрочем, не сразу он задремал. Сперва телята, нетели, овцы, жеребята начали двоиться, расплываться, потом сплошным туманом подернулись и — все исчезло. Сонный груз — мягкий, тяжелый и сладостный — придавил Яшку. С кочки не свалился, а только чуть этак склонил голову и пустил светлую слюнку. Не видел он, как с берега поднялся табун, как мимо коровы прошли (одна еще обнюхала его ласково), и уж, конечно, не видел, как не торопясь подошел Кестер.
Иван Федорович, заложив руки назад, постоял перед пастушонком с минуту, как бы раздумывая, что предпринять. Потом враз озверел, жилистыми руками схватил мальчонку за уши, сжал его голову и поднял.
От неожиданности, от страсти этакой в глазах у Яшки сделалось все розовым — не то кровь в глаза нахлынула, не то заря такая алая разлилась. А может, и то и другое. Только сквозь розоватую пелену Яшка ничего не видел, кроме остекленелых Кестеровых глаз да щетинистых коротких усов. Показалось, долго висел так, ухватившись за железные запястья хозяина. Потом ладони Кестера отмякли и мгновенно разошлись. Яшка упал наземь. Оглушенный, он не слышал, какими словами ругался хозяин, лишь почувствовав пинок в бедро, вскочил на ноги.
Кестер зло плюнул парнишке под ноги и зашагал ко двору. Вытирая залившие грязное лицо слезы, Яшка было рванулся к речке, где еще толклись коровы, туловищем-то вперед подался, а ноги, будто прилипли, не двинулись. Упал. Хорошо, что на бок: лицо не расшиб; руки-то, оказывается, тоже, как чужие. А вот на земле скрючило Яшку: рот повело-потянуло в сторону, руки-ноги выворачивать начало, словно в молотильный барабан парня сунули — хрипит…
Минутки через две-три отошло. Пусто в середке стало. Костей вроде бы нет, а под кожей, внутри, будто куделя не туго набита. Полежал малость, шевельнулся, с трудом встал и побрел к берегу. В голове шум стоит несуразный. Весь берег и речка чужими кажутся, незнакомыми.
Доковылял до песчаного берега, глянул, а из-за куста ракитника человек шагнул к самой воде — чужой какой-то, ни на кого из хуторских мужиков не похожий: голова большая, наголо стриженная, брови мохнатые и широкие темные усищи. Одет в какую-то серую куртку и того же цвета шаровары, а на ногах калоши не калоши, таких Яшка сроду не видывал.
Снял человек свои обутки и, держа их в руках, подтянул кверху штанины, шагнул в воду. В этот момент он оглянулся и увидел Яшку, улыбнулся ему как-то приветливо и виновато вместе.
«Кто ж эт такой? — подумалось Яшке. — Острожный каторжник аль разбойник?.. Да нет, глаза у него хоть и желтые, но больно ласковые… У разбойников таких не бывает», — заключил Яшка, хотя ни одного разбойника в жизни видеть ему не доводилось.
Пугнул коров пастушонок и тяжело зашагал на подъем. С бугра оглянулся — сквозь редеющий, розоватый в лучах зари туман над водой на том берегу различил две фигуры: одна вроде бы девка, шикарно разряженная, другая, чуть повыше, серая, плохо в тумане различимая — это он. И скорехонько так ушли с берега.
Всех девок хуторских в уме перебрал Яшка, пока до табуна двигался — никто из них так не одевается.
День этот показался ему бесконечным; в голове все так же шумело, глаза слезились, временами терялся слух. Порою вспыхивала в нем горькая обида на Кестера, но Яшка глушил ее, признавая и свою вину. А чтобы отвлечься, старался думать о странном человеке и о том, кто его встретил. Девка, видать, не из хуторских, тоже чужая… Или, скорее всего, это не девка совсем и не так уж она шикарно наряжена, как показалось сквозь туман, а бабка Даниных, Матильда. Вот она-то, пожалуй, как раз и носит этакую одежу. И бодрая она у них, как солдат, прямехонько держится.
Правда, Яшка не смог бы сказать определенно, была ли то бабка Матильда, к ней ли пришел незнакомый человек — не до них ему. Обида гложет. Хоть бы поговорить с кем-нибудь, полегчало б, наверно. Да с кем же говорить-то?
Промаялся так парнишка до вечера. Ужином тетушка Берта кормила его отдельно и от своей семьи, и от женщин-работниц. Работников мужчин Кестер не признавал: хлопотно с ними. Удобней, считал он, нанимать баб, каких поглупее, поздоровее, да ребятишек.
— Ты чего же, Яков, работал плохо, — заметила, улыбнувшись, тетушка Берта, когда пастушонок отодвинул от себя миску с недоеденной похлебкой, — или суп мой тебе не хорош?
— Жарища на дворе-то день-деньской, — схитрил Яшка, — разморило страсть как. — Ни ей, ни даже отцу родному или матери не собирался он жаловаться на Кестера, рассказывать о своем горе: никто не похвалит за это.
— Вот попей молока и спи, — сказала Берта. — Да в другой раз при Иване Федоровиче не оставляй еду: он не любит таких работников.
Известно и без того, каких работников не любит Кестер. Предки его когда-то обосновались в Центральной России. Там и теперь еще много родственников у Кестера. Но кроме фамилии да немецкой расчетливости и аккуратности, ничего, пожалуй, не отличало Ивана Федоровича. Родная речь редко слышалась в доме. Сыновей тоже назвал по-русски — Александром и Николаем.
Спал Яшка тут же на кухне возле печи на низенькой лежанке, и думалось ему, что, добравшись до постели, уснет он в ту же минуту. А как лег, вроде и сон отскочил — торчат перед глазами злющие Кестеровы зрачки да усы щетинятся. И никуда от них не спрячешься.
Укроется Яшка с головой хозяйской дерюжкой — то же видение перед глазами, а от духоты еще сильнее в голове шумит. Откинет дерюгу — дышится легче, так опять же хозяева тут ходят, разговаривают, тетушка Берта посудой побрякивает.
Раньше Яшка не примечал за собой этакой разборчивости: уснет, бывало, хоть из пушки пали — усталость свое берет.
Наконец угомонились все. Тихо так стало, покойно. Только часы на стенке тикают. Яшка дремать стал, уткнувшись носом в опечек. И тут вроде бы сквозь сон послышалась негромкая плясовая дробь. Шевельнуться нет сил, а за спиной не смолкает все более шумный залихватский пляс.
Не выдержал Яшка, повернулся и обомлел. В двух шагах перед ним отплясывает маленький, не больше самого Яшки, старичок. Легонький, шустрый такой, сухонький, как игрушечный, будто точеный весь. Борода у старичка редкая, длинная, размашистая. Усы шильями в стороны торчат, брови колючие, глаза озорные, навыкате. На голове у него какой-то блестящий колпачок. В одном ухе серьга. Лицо сухое, темное. А на ногах — высокие, с козырьками, блестящие сапоги.
Приближается старичок к Яшкиной лежанке — плечами подергивает, перстами прищелкивает, заговорщически подмигивает и бойко так начинает посвистывать:
— Фьюйть! Фьюйть! Фьюйть!
А потом пускается в лихой пляс. И так до самого утра никакого сладу с ним нет.
И такое каждую ночь. От бессонницы совсем парнишка измучился, похудел. Изводит его старичок исподволь, не спеша. Трепещет Яшка, боится, когда ночь-то подходит. Только улягутся все, вот он и является, старичок, точно из-под земли выныривает. И пошел, и пошел отплясывать. Пляшет бойко, азартно посвистывает, каблуки так и дробят, и ноги мелькают перед самым носом. Нет сил у Яшки отвернуться к печи. А он, проклятущий, без устали пляшет и пляшет! С вечера до утра. Где же тут уснешь! Плачет мальчонка, а старичок, будто еще больше рад этому, выхаживает по всей кухне, кочевряжится.
После двух недель такой жизни Яшка совсем походить на себя перестал. Утром как-то глянула тетушка Берта — лица на парнишке нет; весь в слезах, и подушка мокрехонька.
— Что ты, Яков? — хлопнула руками по огромным бедрам тетушка Берта. — Что с тобой? Говори!
— Ничего, — всхлипнул Яшка, — старичок проклятый все ночи спать не дает. — И горькие рыдания безудержно захлестнули его.
— Яша, Яша! — не на шутку перепугалась хозяйка. — Ты что-то не то говоришь… Какой старичок? Ведь у нас в доме нет ни одного старого человека.
— Да это, наверно, и не человек, — дал волю слезам Яшка, — вот такой малюсенький, меньше меня, или такой, как я, а с бородой и с усами. В сапогах…
— Это еще что такое?! — грозно спросил Иван Федорович, выходя из комнаты.
— Т-сс! — Берта прижала палец к губам и погрозила мужу. — Мы сами тут разберемся… Так каким же способом он спать тебе не дает?
— Пляшет!
— Пля-аш-шет? — большие глаза у Берты сделались квадратными.
— Ну-у! По целой ночи вот тут выплясывает… Вот на этом самом месте!..
— И давно пляшет? Что-то он, кажется, никому не встречался…
— А он без всех приходит, когда я один останусь…
— М-мм, — поджала полные губы тетушка Берта. — И давно он к тебе приходит?
— Давно-о…
— Веди-ка ты его к ним домой, мамочка, — жестко, но все же несколько смягчившись, приказал Кестер.
— Уведу, уведу. Ты ведь коня запрягать пошел, папочка? Вот и запрягай. А мы сейчас пойдем.
Иван Федорович фыркнул в короткие усы, накинул на голову соломенную шляпу и сердито вышел.
— Ты, Яша, поешь, пока я соберусь.
— Да не хочу я, тетушка Берта!
— Поешь, поешь обязательно.
Эта громадная женщина, не лишенная доброты, имела твердую привычку: по хутору должна она идти непременно в шляпе, с зонтиком в виде трости и немного подкрасившись. Дома одевалась, как и все, просто. По тому-то усадила она Яшку за стол, а сама занялась туалетом.
Минут через двадцать, приодетая и по заведенному ритуалу экипированная, тетушка Берта вышагивала рядом с измученным, пожелтевшим и неумытым Яшкой. Бедняга до того извелся и отощал, что даже лапти казались ему невыносимо тяжелыми, оттого запинался он ежеминутно, подымая пыль на дороге.
— Ох, чегой-та, знать, стряслось! — встретив их во дворе, тревожно воскликнул Леонтий.
Манюшки дома не оказалось — коров она угнала в табун и еще не вернулась.
— Доброе утро… — растягивая слова, будто сообщив нечто приятное, пропела Берта. — Немножко заболел ваш мальчик.
— Ах ты, грех-то ведь какой! — сокрушался Леонтий. — Чего ж у его болит-то?
— Не болит у меня ничего! — возмутился Яшка. — Спать хочу…
Вежливо осадив парнишку, тетушка Берта рассказала все, что знала и что думала о его состоянии.
— Отслужил наш работничек, стал быть, — горько вздохнул Леонтий, запустив пятерню в спутанные жидкие волосы.
— Но у вас есть другой мальчик, — заметила Берта. — Пусть он пока пасет, а когда этот выспится, ну, поправится, то снова вернется к нам… Так, Яша? Ты ведь к нам придешь?
— Приду, — всхлипнул Яшка, — ежели там старика не будет…
— О, конечно, старика мы прогоним, только ты брату про него не говори, не пугай его.
— Поди, побуди Семку, — распорядился Леонтий, давая этим понять Берте, что он согласен отправить к ним младшего сына.
А нанимательница, словно бы опережая мысли Леонтия, утверждала его согласие:
— У нас выгон, сами знаете, рядом с домом. Лесу на нем почти нет. Волки так близко не подойдут — справится мальчик…
Минут через пять новый маленький пастушонок, обутый в лапти, с перекинутой через плечо одежкой, шагал рядом с большой и нарядной Бертой.
«А ведь у их и свой такой же парнишка есть, как Яшка наш, — глубокомысленно рассуждал сам с собою Семка Шлыков, протирая заспанные глаза. — Чего ж Колька ихний пасть свою скотину не идет? Вот ведь богачество-то — всему голова!»
4
Как только бабы прогнали со двора скотину в табун, закипел рословский двор, как муравейник: всем кизяк делать сегодня. Даже недельной стряпке, Настасье, приказал дед Михайла заготовить варево для обеда и быть вместе со всеми. Только Степке велел остаться пока при нем.
— Сводишь меня к новому дому, — наставительно говорил дед, положив конец клюки на Степкино плечо, когда двор опустел. — Погляжу я тама, как и что, а посля того ты — тоже на кизяк. Назем станешь мять на Мухортихе.
— Да ведь не нашлась Мухортиха-то, дедушка.
— Тьфу ты! — осерчал на себя дед. — Никак не упомню, что пропащая она теперя… Ну, веди, что ль!
А скучное это дело — таскать за собой слепого. Резвые Степкины ноги, босые и заскорузлые, так и несут его вперед, а дедова рука держит, не пускает. Плюхает он по пыли пимными опорками, вроде бы быстро сучит ногами в коротких полосатых штанах, а скорости нет. Зато рассказывает порой забавные байки — про старое время, про барщину, про людей разных.
— Ведь она, Мухортиха-то, годов двадцать, знать, у нас прожила, — тянул свое дед, когда спускались по взвозу к плотине. — Я еще на ей в извозе бывал, на ярманку в Ирбит ездил… Тех лошадей, какие с ей ходили, давно уж нету, а она все вот живет…
— А может, не живет, может, волки ее съели.
— Тьфу, типун тебе на язык, бездельник! Все бы волки об эту пору лошадей драли!
— Так куда ж она подевалась-то?
— Ку-уда, — передразнил дед. — Лихому человеку попалась, вот куда девалась!
Умолкнув, Михайла перестал суетиться и важно зашагал по укатанной, беспыльной колее плотины. Голову нес он высоко, так что мягкая борода легонько шевелилась на свежем утрячке. Глаза у него широко раскрыты, как у зрячего, даже морщинки в уголках век распрямились и белеют короткими лучиками.
Выгоревший картуз, сшитый в незапамятные времена, сидит на голове деда строго и как-то празднично, или так еще оттого кажется, что на нем отбеленная длинная рубаха, как всегда, застегнутая на все пуговицы и повязанная синим пояском.
— Дедушка! Дедушка! — вдруг закричал Степка, — Глянь, вон чьяй-то собака рыжая утку от плотины на тем берегу поволокла!
— И рад бы поглядеть, внучок, — усмехнулся дед Михайла, — да нечем.
— Э-эх, дедуня! А как же ты дом-то оглядывать станешь?
— Руками…
На выходе с плотины Степка вертелся возле деда как привязанный; то передом шагнет разок-другой, то утку потащит. А она вывернет из травы да опять спрячется. Пятился, пятился этак Степка и не заметил, как свернул с дороги, перешагнул промоину в пол-аршина шириной и в глубину, пожалуй, того поболее.
А дед-то прямехонько в нее и угодил. Брызнула из-под опорок грязная жижа, окатила полосатые штаны и до рубахи достала. Поперхнулся старик, аж в глотке перехватило. Ощупал бережок у промоины, выбрался. Даже руки у Степки не попросил. Отряхнул с себя грязь, размазав ее по рубахе и штанам. А потом так неожиданно — хвать Степку за ухо.
— Вот тебе, варнак! Вот тебе, варнак! — кипятился дед, но Степкино ухо в немощной дедовой руке скользило и вырывалось, оттого и не было больно. — Эдакого неслуха в старое время розгами запороли бы, вертопраха. — И, взявшись за руку, толкнул Степку локтем. — Веди да гляди, бездельник!
— Дедушка, — как ни в чем не бывало завел разговор внук, — а тебя пороли розгами?
— Пороли разок… А другим и по два да более досталось.
— За что же пороли-то?
— За все. Три дня на неделе работали на барина, три дня на себя. Придем на барский двор, бывало, а десятник зовет: «А ну, курачи, все ко мне, сюда!» Посбирает у всех трубки да бросит их кверху. У чьей трубки крышка очкнется, как упадет, тот и получай десять розог.
— Да ведь ты, дедушка, не курил…
— Меня за другое…
— А за что? Расскажи-и.
— Это как поженились мы с Катюхой, время стало поворачивать к тому, к воле, стал быть. По народу слушки пошли всякие… Ну и вот в одно время сидим мы вечером в клети двое с Катюхой, гутарим про разное. Лучинка светится. Катюха пряжу прядет, а я лапотки ковыряю. Вот я и говорю: «Чего я слыхал-то: сказывают, будто всем волю вскорости дадут!» Вот и все. Катюха-то ничего и не сказала, головой покачала да погрозила мне пальцем… А утром приходим на барский двор — меня к десятнику кличут. Подхожу. Шапку, как полагается, снял. «От кого ты слыхал, Мишка, что всех на волю пущають?» Молчу. «Воли захотел? — спрашивает. — Сымай портки!» — И зачал, и зачал пороть меня да приговаривать: «Вот тебе воля! Вот тебе воля!» Так отделал, шельмец, что я до обеда без памяти лежал. Потом уж в себя пришел.
— А как он узнал про твои слова?
— Люди такие греховодные были, под окнами подслуши…
Не договорил дед — за доску запнулся. Тут уж Степка повел его по всем правилам, упреждая перед всяким препятствием. Плотников на стройке еще не было. Рано. Степка сам показывал окна, двери, перегородки.
Как ни силился Михайла удержать в куче многочисленную семью, ничего из этого не вышло: Макар ждал новой избы, как пирога из печи, чтобы отделиться и остаться в старой, как посулил дед, а тут и Тихон запросился врозь. Не посмел ему отказать Михайла — инвалидом на всю жизнь сделался после пожара средний сын. Теперь на деревяшке ходит. И Настасья его тоже, слышал дед, как сдвинет платок, а под ним куржаком все взялось. Дороже всех им пожар-то достался. Не может теперь наравне с братьями Тихон работать, оттого и просится врозь.
Вот и приходится большую новую избу делить надвое да устраивать каждую половину отдельно. И конюшни, и кладовые, и сараи — всего вдвое надо.
На обратном пути дед молчал, тяжело покашливал, стараясь, видимо, предугадать перемены будущей жизни в семье. Да оно и гадать шибко-то не над чем. Известно ведь, что и птица выхаживает своих птенцов, пока они сами на крыло не подымутся. А как поднялись — улетели. Потом своими гнездами обзаводятся. На том свет стоит.
А больно, ох как больно сознавать деду, что неизбежно рушится его большая и крепкая семья. Ведь на четырех копнах и прикладок у скирды стоит прочно, а на одной чего улежит? У человека вот две руки — одна другой помогает, да две ноги — одна другую поддерживает. Раздели-ка их, руки-ноги, — человек, может, и останется жить, а не работник он. Так вот и хозяйство. В кучке-то оно крепко держится, беды сломить его не могут. А по отдельности — случись чего — захиреют, пожухнут хозяйства, как листья после мороза.
Степка довел дедушку до калитки, спровадил во двор и дал стрекача. Опять же через плотину — к Зеленому логу. Туда, за лог всю зиму возят навоз в кучи почти все хуторские крестьяне. Называется это место назьмами. А когда приходит время — весной после сева — здесь собираются все, и каждый ковыряется в своей куче либо чаще объединяются по два, по три двора, делают на зиму кизяк сообща.
Работа идет бойкая и до невозможности тяжкая, как и любая полевая крестьянская работа. Мужики и бабы без всякой обувки топчутся по назьмам. Мирон с Макаром и с бабами разгребают кучу, делают из нее токовище. Тихон возит пожарной бочкой воду с речки, поливают это месиво. Ребятишки верхами на лошадях ездят по кругу — топчут, мнут назем, чтобы солому с навозной жижей лучше перемешать.
Вокруг назьмища на жирной земле, годами невольно здесь удобряемой, бушевали непролазные заросли лопухов, полыни, татарника, осота, дикой моркови, молочая, крапивы. Весь этот дурнотрав хуторяне называли одним словом — бужу́р. Он тоже не пропадал — топили им печи.
Высоко держа косу, чуть не на четверть от земли, Васька, будто бы не спеша, взмахивал ею и закругленными рядами с треском валил высокие заросли дурнотрава. Бужур надо срезать высоко, но «пеньки» чтоб непременно ровными были. На них сырые кизяки раскладывать станут для просушки.
— Эй, Степка! — увидев его, закричал Митька. — Садись на Сивуху да заезжай в круг.
Степка, понятно, знал, какая предстоит ему тут работа. Не зря он сердито хмурился, когда дед оставил его при себе. Всех путевых лошадей расхватали, а ты вот майся с этой клячей. Не могла же она потеряться вместо Мухортихи. Та хоть и постарее Сивухи малость, да вроде бы поворотливее. Подошел к Сивухе, ухватился за холку.
— Да ты погоди, — издали крикнул Митька, — вон хоть пинжак подбрось. Нюрка до тебя на ей гарцевала, — хохотнул брат, — всю задницу скорябала об ее хребтину. Да потом еще на крапиву села, теперь никак не уймется, ревет.
Взнуздав Сивуху, Степка по-хозяйски взгромоздился на нее и бойко погнал на круг. Лошадь с рабской покорностью и усердием выполняла волю наездника. Однако стоило ей зайти по колено в навозную мешанину, как началось непонятное. Старая кобыла то ходила по кругу, как дрессированная цирковая лошадь, высоко поднимая ноги и отчаянно вертя хвостом в такт шагам, то делала «свечку», так что Степка еле удерживался за гриву, то остервенело вскидывала задком, хлестко стреляя ошметками навоза с копыт.
— У-у, проваленный! — ругалась Дарья, рукавом вытирая с лица навозные брызги. — Сбесилась, что ль, она у тебя?
— А я почем знаю! — негодовал Степка, сердясь и нахлестывая Сивуху, отчего она выделывала еще более замысловатые кренделя.
Подвернув с бочкой поближе к токовищу, Тихон глядел на мучения Степки, пока бабы вычерпывали воду, разливая ее по кругу.
— Куды ж вы глядите, мужики? — негромко и укоризненно спросил он, стукая деревянной ногой по тяжу и пытаясь таким способом сбить с конца ее налипшую навозную шишку.
— Чего ты? — не понял Макар.
— Ноги Сивуха-то назьмом обожгла, оттого и танцует… Аль ослепли?
— Кхе! — оскалился Макар. — Скотинка хилая: мы ж все босые ходим! Бабы вон по каким будыльям от бужура кизяки носють — ничего!
— Поворачивай сюда, Степка! — велел Тихон и захромал к концам оглобель.
Степка раньше Макара догадался, что к чему. Вывернул с круга, подтянул Сивуху за повод к телеге с бочкой.
— Сменяем, что ль, дядь Тиша?
— Давай сменяем, — распустил супонь и отстегнул вожжи. — За водой и Сивуха походит, а ты на Бурке покатайся.
Когда Сивуху поставили в оглобли, Тихон посмотрел на ее передние ноги и ахнул:
— Глянь, Степка, — указал он на цевки лошадиных ног, — от этого хоть кто запляшет.
Шерсть повыше копыт облезла, кожа в нескольких местах разодрана и кровоточит сквозь ядовитый коричневый намаз. Степка невольно покосился на измазанные навозом ноги матери. Подоткнув подол широкой юбки, Марфа руками набивала кизячную форму.
— Эт что же, у баб ноги покрепче лошадиных, что ль? — весело осведомился Степка.
— Может, и покрепче, — ответил Тихон, с трудом влезая на облучок водовозной телеги и укладывая свою деревяшку. — Давай поторапливайся, Степка: к вечеру либо ночью дожжик будет…
— А ты как знаешь? Жарища стоит вон какая!
— Колдун мой сказывает — пальцы у деревянной ноги ломает… Н-но, Сивая!
Садясь на Бурку, Степка недоумевал: какие могут быть пальцы у этой деревяшки? Сам же он, дядя Тихон, оковал ее нижний конец железным кольцом, чтоб не растрескалась. Чудной он какой-то…
5
Двое мужиков из тех, что наведывались перед весной к Виктору Ивановичу с жалобой на казаков, подъехали на рыдване к домику, где раньше Данины жили. Однако Матрена Бондариха, новая хозяйка дома, выпроводила их с порога.
— Не живут они теперича тута. Новые хоромы себе отстроили. — Выкатилась за калитку, показала, вытянув оголенную до локтя руку: — Во-он где они поселились, на отшибе, в сторонке. Туда и ехайте!
— Да и тут вроде бы на отшибе жил, — ворча, рассудил чернобородый, влезая на рыдван с невысокими дробинами. — Еще, стал быть, отшибее жить ему схотелось, что ль?
Немало подивились мужики этакой перемене, особенно когда вблизи увидели убогое новое жилье Виктора Ивановича.
— Знать, прогорел на чем-то Христов человек, — заключил чернобородый и двинул хлипкие, из тонких жердочек воротца, жалобно пискнувшие пято́й.
Протопал благоговейно лаптями по неметеному двору, пролез в плетневые сенцы — широкие плечи его задевали за косяки — и, отворив избяную дверь, робко перешагнул порог.
Виктор Иванович сидел за столом у кутного окна, — видать, недавно зашел в избу, — в широком, сползающем с плеч пиджаке. Кепка серая на уголке стола лежит. А он, нагнувшись, прижигает новую самокрутку от окурка. Глянув сверху на макушку хозяина, чернобородый заметил про себя: «Лысеть начинает умный человек. Вон ведь верхушка-то насквозь проглядывается».
Возле печи крутыми поворотами увивалась бабка — шустрая, как молодушка, невысокая, опрятненькая.
— Здравствуйте вам! — как в бочку, густо проговорил мужик, стягивая с кудлатой головы картуз и одновременно крестясь в передний угол.
— Здорово, коли не шутишь! — бодро ответил хозяин. — Знать, с вестью с какой-то прикатил: по глазам вижу.
— С хорошей вестью, Христовый ты человек! — Мужик, словно подрубленный бухнулся на колени. В пронзительных глазах его замутились слезы. — Спаситель ты наш, радетель, праведный! Пришла ведь нам удовольная царская грамота на прошение, тобой писанное. Не посмеют казачишки тронуть бедных избенок наших…
— Встань, волк тебя задави! — гаркнул Виктор Иванович так, что мужик оробел и умолк. — Встань, тебе говорят! Пред барином, что ль, аль перед губернатором спину-то крючком гнешь? Встань, распрямись, тогда слушать стану… Ну!
Мужик нехотя поднялся и, виновато огладив широкую черную бороду, снова запричитал:
— Прости ты нас, Виктор Иванович. В самый сев бумага-то эта к нам пожаловала. Из казаков-то кое-кто уж отсеивался. Шибко мы припозднились нонче… Какого только и урожая дождемся! И к тебе с благодарностью до сей поры не явились. Вот после сева поослобонились малость, гостинец тебе кое-какой небогатый собрали.
— И какой же гостинец вы собрали? — Виктор Иванович улыбнулся.
— Пять мешков мучки, маслица фунтов с десяток будет, — перечислял чернобородый, — да медку прошлогоднего маленько нашлось…
— Уходи! — сбился на визг Виктор Иванович. — Детишек ограбили, самим небось жрать нечего: с лебедой да с крапивой щи варите!.. Вон! — громче прежнего крикнул хозяин, поднялся и, набычившись, грозно пошел на чернобородого. — Слышишь, уходи!
Держа картуз обеими руками ниже пояса, мужик опасливо поглядывал на Виктора Ивановича, пятясь назад. И тут в темном углу избы разглядел он большой мрачный портрет царя, писанный маслом, и замешкался, нащупывая ногой порожек. Исполненный благодарности, хотел было поклониться портрету за великую царскую милость, но Виктор Иванович и его мать, вооруженная кочергой, заметили это и турнули мужика так, что он лопатками даванул на дверь и вылетел в сенцы. Не надевая картуза, истово перекрестился, выдохнул:
— Сроду такого человека не видывал, чтоб от душевной благодарности вот эдак отказывался…
А высунувшись из сеней во двор, носом к носу столкнулся с Анной, женой хозяина. В прошлый раз, когда приезжали писать челобитную, видел ее мужик и знал, кто она.
— Чего ворчишь, черный? — спросила Анна, пропуская в дверь мужика. — Знать, выволочка тебе была: как ошпаренный прешь. Того гляди — задавишь!
— Не ведаю, как тебя звать, хозяюшка, а выволочка знатная вышла. За нашу же благодарность. Шибко осерчал Виктор Иванович, ногой притопнул.
Насторожилась Анна, глянула на рыдван через воротца.
— Видал небось наш достаток-то? — спросила у мужика.
— Как не видать — приметил. Все равно, что у нас, грешных, в избе-то, да и во дворе тоже. — Мужик не спеша нахлобучил картуз. — А може, нам сбросить с воза-то все вот тута, да на́ конь — и угоним. Пущай апосля маленько поругается. Больно уж мужики наши спасибов ему никак не насказываются. Изругают они нас, коли со всем этим воротимся.
— А вы вот чего, — сообразила Анна, — все-то не оставляйте, а мешка два вон туда под сарай бросьте, я их соломкой прикрою. Да и поезжайте с богом.
Мужики мигом стащили в указанное место три мешка муки, а чернобородый попутно захватил и махотку с медом. Побежал было за остатками, но Анна остановила.
— Что вы, что вы! — замахала она руками. — Не дай бог, выйдет он, чего тут тогда будет!
Проворно взгромоздились мужики на свой полегчавший рыдван и отбыли прочь.
Принесла Анна с заднего двора большую охапку соломы и, бросая ее на мешки, приметила махотку, повязанную сверху серой холстиной. Взяла посудину в руки, сдернула повязку — желтое что-то, густое, под самое зевло подпирает. Понюхала — мед. Пальцем ковырнула для верности, облизала его — сладко. Негоже оставлять махотку тут: наткнутся ребятишки — меду этого не увидишь и посудинку не сыщешь. Сунула махотку под фартук и пошла в избу, чтобы спрятать мед в подполе.
В избе, на ее счастье, никого не оказалось. Муж и свекровь, удалившись в горницу, о чем-то шептались. Анна ничуть не удивилась этому, поскольку такое бывало всегда. В новой семье за много лет она уже свыклась со своим положением и не пыталась разузнать секретов, явно ей не доступных. К тому же люди они немыслимо грамотные, книжки всякие, газеты читают. В деревне-то ни у кого газет нету, разве что у Кестера, может быть. А свекровушка, Матильда Вячеславовна, по-русски говорит, как все, и не догадаешься, что немка она по рождению. Да еще по-английски и по-французски будто бы говорить умеет. Так что ей, Анне, дочери самарского пастуха, не умеющей ни писать, ни прочесть даже своей фамилии, верно, и не полагается всего-то знать.
Неслышно, чтобы не стукнуть, подняла за кольцо западню в подпол, привалила ее к опечку и скорехонько юркнула на шаткую лесенку в подпол. Спустилась до половины и слышит сзади басовито негромко прогудело:
— Матильда Вячеславовна…
Думала, что показалось ей это, да и обернулась ненароком. А там белый кто-то из пучины подземелья так и поплыл к ней…
— А-а-а-а-а-а-и-и!! — без памяти реванула Анна.
Не чуя ног и перекладин лестничных, вылетела наверх, будто тягой в трубу ее вынесло. Распустила врозь руки — махотка вдребезги.
Из горницы, перепуганные криком, выскочили Виктор Иванович и бабка Матильда.
— Христос с тобой, Аннушка, да что ты? — Матильда Вячеславовна обняла невестку, глядя в округленные глаза ее.
По щекам Анны, трясущимся и густо выбеленным, пробежали слезинки, оставляя мокрый след.
— Т-там… т-там!.. — заикалась она и тыкала рукой в творило подпола, опасливо пятясь от него. — Белый!.. Сюда шел!..
— Да что ты, матушка! Успокойся! Показалось тебе это. Какой там еще белый?
Дождавшись, пока Анна малость утихла, Матильда взялась мед собирать в крынку.
— Витя, Вичка, — обратилась она к сыну, — полезь туда, погляди, кто там у нас объявился.
«Витечка» она всегда произносила скороговоркой, оттого выходило у нее «Вичка».
Виктор Иванович не спеша опустился в подпол и через короткое время возгласил оттуда:
— Х-хе, волк тебя задави, Аннушка! Да кому же тут быть! Хоть слезь сюда да сама при мне погляди — никого нету.
— Что ты, что ты, Вичка! — зачастила Матильда и, пониже наклонясь над черепками от махотки, собирая их, едва заметно ухмыльнулась. — Пусть она успокоится, в себя придет, а потом мы с ней там побываем. Сегодня-то уж не надо этого делать.
Заморозивший Анну страх отнял у нее силы — присела на краешек лавки, к столу.
А Виктор Иванович, выбравшись из подпола, бросил на проем крышку, придавил тяжелым сапогом и, ни слова не говоря, вышел во двор. Минут через пять вернулся.
— А ведь я знаю, откуда испуг твой образовался, — лукаво прищурил он глаз и потянул себя за шнурок правого уса. — Мучку-то, волк тебя задави, приняла у мужиков?.. Приняла, да боялась — вот мешок белый тебе и померещился в темноте. Не бери в другой раз. — И, подойдя вплотную к жене, обнял ее одной рукой, другой погладил по голове, как ребенка. — Ну, прошли, что ль, все твои страхи?
— Ой, прошли, знать! Нечистый попутал — сроду ни у кого не возьму…
— Ну, вот и славно, — проговорил Виктор Иванович, отходя от Анны и раскуривая толстенную самокрутку. Курил он беспрерывно. — А теперь пойди на улицу да разыщи Ромашку… Где он запропастился. Нужен он мне. — И закашлялся громко, с перехватами. — Да сама-то не совестись на людях, не болтай, как испугалась.
— Витя, Вичка, — усмехнулась Матильда, когда захлопнулась дверь за невесткой, — эт зачем же ты ее вниз-то звал? А ежели б она не побоялась туда спуститься?
— Х-хе! — засмеялся Виктор Иванович. — Да где ж ей столько смелости взять! Слаба она против нечистой силы. — И круто пошел в горницу к столу, где у него была разложена бумага.
— Влетишь ты когда-нибудь со своими шалостями, — погрозила вслед сыну Матильда Вячеславовна и, чуть-чуть приподняв западню, спросила негромко:
— Пить, что ль, захотел, родной?
— Пи-ить, — слабо послышалось оттуда.
Бабка налила полный кувшин квасу, опять приподняла повыше западню, позвала:
— Возьми вот. До вечера, чай, хватит.
В сенях послышались шаги — кувшин, словно живой, нырнул в подземелье. Матильда, захлопнув крышку, ступила на нее и как ни в чем не бывало сунулась к шестку, раздвигая горшки, потянулась к заслонке.
— Где папашка? — запыхавшись, выдохнул Ромка с порога.
— А ты не шуми, — одернула его Матильда. — Раз позвал домой, — значит, дома.
— Покорми его, бабушка, — послышался голос Виктора Ивановича. — Сейчас я закончу.
— Теперь весь выигрыш Ваньке достанется. Все свои бабки ему я отдал, — сокрушался Ромка, влезая за стол.
Пока Матильда кормила внука, плеснув ему щей в деревянную чашку, Виктор Иванович пошел во двор, вывел из конюшни своего Рыжку, на котором всегда ездил, бросил на спину коню потник и закрепил его самодельной подпругой. А по верху потника перекинул короткую веревку с петлями на концах, получилось некое подобие стремян.
— Ромашка, — спросил Виктор Иванович, вернувшись в избу, — ты хочешь быть гусаром?
— Хочу, — выпалил сын, облизывая почерневшую, обглоданную по краям деревянную ложку.
— А кто такой гусар, знаешь?
— Это такой, с усами. В высокой шапке… Я у бабушки в книжке на картинке видел.
— К-хе, волк тебя задави, с усами! Да и без усов можно скакать на коне. Еще как! Поди-ка сюда… Наелся, что ль?
— Наелся, — бодро ответил Ромка и по-солдатски вытянулся перед отцом.
— Вот чего, Ромашка, — сказал Виктор Иванович, присаживаясь на лавку и поставив сына между своих колен. — До города дорогу найдешь? Не собьешься?
— Найду, — подхватил на лету Ромка.
— А на Болотной улице избенку помнишь, куда мы с тобой заезжали на прошлой неделе? — по голубым глазам Виктора Ивановича пробежала ненастная тень, однако тут же запрыгали в них веселые лукавинки. — Ну, тетку Зою помнишь, какая тебя сусальным петушком угостила?
— Да помню, что я, маленький, что ль? Мы ж тама уж сколь разков с тобой бывали!
— Ну, смотри не пролети! Вот тебе пакет, — Виктор Иванович, достав из бокового кармана запечатанный конверт, велел Ромке подобрать рубаху в штаны, подвязал их потуже шнурком и только после этого засунул пакет за пазуху сыну.
— Теперь лети, взвивайся, никому в руки не давайся! — Виктор Иванович тяжело опустил обе руки на плечи сына. — Пойдем, провожу.
Во дворе Виктор Иванович взнуздал коня, подсадил на него Ромку и, отворяя скрипучие, шаткие во всех стыках воротца, наказал:
— Увидишь встречных или догонять станешь кого — сворачивай в степь. В разговоры ни с кем не ввязывайся. Про пакет никто не должен знать. Отдашь в руки тетке Зое или ее мужу, дяде Авдею, понял?
— Понял, — поморщился от длинных, и, как ему казалось, ненужных наказов Ромка, разбирая повод. — А ежели мамашка вон тама у лога встренется, чего я ей скажу?
Ромка догадывался, что дело, порученное отцом, делается втайне от матери, и потому опасался ее более, чем кого-либо. «Чужому-то хоть чего соври, — думал он, — а ей ведь надо сказать, чтобы на правду походило».
— Скажешь, что я послал тебя в город за бумагой для писем.
Виктор Иванович заботливо подправил веревочные стремена, отломил от нового плетня вицу, подал.
— Возьми вот хворостинку, может, где подогнать придется Рыжку. Да не загони его, слышишь?.. Ну, — хлопнул по крупу коня ладонью, — скачи!
От тряски руки у Ромки запрыгали, как крылышки у неоперившегося цыпленка. Под копытами коня запылила дорога.
Матильда так и простояла возле шестка с цигаркой, пока не вернулся сын.
— Рано, Витек, послал ты мальчишку в такую дорогу, — сердито сказала она. — Либо шею себе сломит, либо нас под монастырь подведет.
— Когда-то же надо связного заводить…
— Рано! Не спорь.
— Чего ты волнуешься, мама. Ромка шустрый, смекалистый. — Виктор Иванович снова присел на лавку и, бросив кепку рядом с собой, принялся скручивать из газеты новую цигарку, хотя окурок от прежней закрутки еще дымился под усами. — Ничего ни с ним, ни с нами не случится в любом разе: написал я так, что никто, кроме Авдея, не разберет.
6
Пропеченные за день горячим солнышком и вконец измученные тяжкой работой, Рословы ушли с назьмов позднее всех, когда солнце совсем уж затерялось в курганистой, скрашенной перелесками степи. По хутору проклубилась пыль от возвратившихся с пастбищ табунов. Между дворами витал дух парного молока, перемешанный с запахами полыни, только что улегшейся пыли, свежего навоза. А от степи, тоже уставшей от дневного зноя, потянуло теперь ласковой прохладой и терпким медвяным ароматом разнотравья.
Усталый, осунувшийся Тихон, зябко поводя потными плечами, сидел на облучке водовозной телеги и, опустив вожжи, ни одним движением не понуждал Сивуху, понуро шагавшую по дороге домой. Сзади тянулись привязанные к телеге кони. А за ними, блаженно ступая босыми, в кровь изодранными ногами в теплую дорожную пыль, шли бабы с Мироном. Каждая за день тысячи по две кизяков сделала и перетаскала по колючим будыльям на сушку. Бегали как угорелые, друг перед дружкой старались — кто больше.
Митька уехал вперед — ему нынче коней в ночное гнать. Макар, Васька и Степка не удержались от соблазна искупаться в речке. Они прошли к берегу против кестеровской усадьбы. Спускаясь по зеленому косогору, Степка на ходу снял штаны и рубаху и, размахивая ими, побежал к воде.
Ксюшка с Нюркой, увязавшиеся за ребятами, поплевались вслед Степке, бесстыжим каторжным нахалюгой повеличали его и подались за кусты ракитника вверх по течению.
Бросив у самого берега свое немудрящее одеяние, Степка залетел в воду повыше колен и опешил:
— Воду на щелок, что ль-то, согрели! Аж горячая!
Сделав еще несколько шагов, Степка вгляделся в темные, прозрачно-зеленоватые водяные круги возле себя, прислушался и взвизгнул по-поросячьи.
— Мужики, мужики, рыбы-то гляньте сколь! Ще-екотится! — ужимался он, наклоняясь и отгоняя от себя рыбешек руками.
— Гляди, петушка бы у тебя не склевали! — пошутил Макар, осторожно ступая в воду. — Ох и правда, знать, в печи речку грели!.. У-у! Да ведь рыба-то кишмя кишит!.. Васька, давай живо окупнись да слетай за бреднем. Как же не забрести по эдакому многорыбью!
— Уха прям готовая! — фыркая и отплевываясь, поддакивал Степка, заплыв саженей на пять над глубью. — И подогретая в самый раз!
В крохотной этой речке, которую летом переплюнуть можно, и в запруде у плотины не раз начисто исчезала рыба, а потом через год другой вновь появлялась.
Сидеть с удочкой в летнее время крестьянину недосуг, оттого пустое занятие это считалось позорным и достойным осмеяния. Даже ребятишкам не позволяли приучаться к эдакому безделью.
Скрученный на распорках бредень, пересохший и легкий, Васька подхватил под мышку и чуть не бегом заспешил обратно к Макару. Однако, поднявшись за плотиной на взвоз, невольно замешкался…
Этот ходок с длинным смоленым коробком приметил он возле Прошечкиного двора, когда шел домой за бреднем. Но глянул и прошел своей дорогой — мало ли кто в лавку к Прошечке приходит и приезжает. А тут пригляделся в сумерках — и меринок буланый, заложенный в ходок, тоже вроде бы знакомый. В лавке огня не видно, окна глухо затворены. А в горнице яркая лампа горит.
Застукало враз, вприсядку заплясало сердце, хоть ничего еще не понял, а будто бы всем нутром ощутил неладное. Свернул направо, прошел мимо освещенных окон — ничего не выяснил. Прислушался — во дворе тишина. Приблизился к самому окну, потому как палисадника Прошечка еще не загородил, в щелку между занавесками увидел все.
Бродовский казак Захар Иванович Палкин крепко сидел на стуле, отвалясь на спинку и поглаживая темную бороду. Лицо его то показывалось из-за начищенного медного самовара, то пряталось за него наполовину, но светилось поярче, пожалуй, чем тот самовар.
Прошечка сидел на заглавном хозяйском месте — с конца стола. В алой сатиновой рубахе, без пиджака и без жилета Васька и не видывал, кажется, Прошечку. Раскрасневшийся и важный — даже вроде бы подрос малость, — хозяин с едкой улыбочкой слушал гостя.
— Лучше мово Кузьки, Прокопий Силыч, не след тебе жениха искать для Катьки, — глухо донеслось сквозь окно.
Внутри у Васьки будто оторвалось что. Заерзал под окном, завозился, распоркой невода по стеклу задел. В тишине-то так это звонко вышло. Отскочил от яркого света и бегом, пока беда не настигла, пустился к своим.
«Что они, черти старые, уж не рехнулись ли! — с горькой обидой думал Васька. — Кто же в такую пору сватовство затевает?.. А может, не сватовство это — сговор пока? Да и ни Катьки, ни тетки Поли не видно… Одни, знать, между собой торгуются, вражины!»
— Ох, Васька, — ворчал Макар, принимая бредень, — за смертью бы тебя посылать сподручно: вдоволь надышаться успеешь, поживешь, пока ты воротишься… Скоро темно стает!
С юго-запада, из-за горизонта, медленно, почти незаметно для глаза выворачивалась темно-бурая огромная туча, подсвеченная с заката по всему краю. Будто жаркие угли полыхали там в остывающем пепле и грозно и тяжко висли над притихшей, затаившейся степью.
— Заходи, заходи вон оттуда! — командовал Макар, указывая на середину, и, склонившись чуть не до воды подбородком, заводил поглубже бредень. — А ты, Степка, шуми встреч нам да мути ногами воду… Гляди ты, прям кипит рыбешка. Вон ведь чего плещет!
С первого короткого захода побольше ведра зачерпнули.
— Ах ты, девчонки-то убежали! — сетовал Макар, суетливо вывертывая распоркой нижнюю тетиву, — ведра хоть бы принесли либо мешки под рыбу.
На третьем заходе Макар почувствовал, как холодные крупные капли зашлепали по голой спине. Да и темно сделалось враз.
— Дядь Макар, до-ожжи-ик! — заныл из сумеречной темноты Степка.
— Нищему пожар не страшен, а голому потоп, — подбодрил Макар. — Давай, Васька, вываживай, да пошли все на берег!
Пока одевались, пока собирали в бредень выброшенную на берег рыбу, дождь ровно зашипел множеством капель по мертвенной глади пруда, забулькал, подымая белесую кипень.
Рыбы набралось ведер пять, так что Макару и Ваське пришлось завернуть бредень на распорках и взять их концами на плечи.
— Ох, как бы не порвать нам бредешок! — пыхтя, приговаривал Макар. — Тяжесть-то ведь какая!
На плотине совсем скользко — того и гляди, нырнешь с обрыва. Степка тоже уцепился за мотню бредня и пособлял мужикам. «Знать, правда у дядь Тиши свой колдун есть, — думал Степка, — ведь еще утром про дожжик-то знал он».
— Где вас, шутоломных, носит! — напустилась на них Настасья, стряпавшая в эту неделю. — Щи уж давно простыли, а их все нету!
— Не ругайся, тетка Настасья, — за всех заступился Степка, — мы вон целый бредень рыбы приволкли. В колоду пустили во дворе да водой залили. Небось завтра на весь день хватит чистить ее.
Поужинав наскоро, Васька будто заторопился в амбар, куда ходил спать с самой весны. Теперь же, понятно, было ему не до сна, потому, захватив под сараем разводной гаечный ключ, тихонько, — а за шумом дождя и калитка вроде бы не скрипнула, — подался на плотину. Еще со своего берега увидел ненавистный, мозоливший глаза свет. Больше во всем хуторе и огней-то не было.
Подобрался к тому же окну, куда раньше заглядывал, — сидят, черти старые, наверно, и не знают, что на улице дождь льет. Уж не ночевать ли собрался тут казак? Нет. Грузно поднялся со стула, покачивается, едва на ногах стоит. Чего-то говорит Прошечке и тошно так улыбается. И хозяин что-то горячо доказывает Захару Ивановичу, но из-за шума дождя ничего не разобрать.
Васька мигом перебежал к ходку, открутил гайки у задних колес и сунул их под солому в ходок. С минуту повозился и возле передка. Тут ежели совсем отвернуть гайки — тяжи проволочные по земле поволокутся, загремят. Негоже это. Пока раздумывал, услышал стук во дворе. Идет кто-то. Оставил все, как есть, и скорехонько подался восвояси. За плотиной свернул налево в бужуры на задах своего двора. Присел в этом дурнотраве — полынью шибануло в нос, крапивой.
— Н-но, мила-ай! — послышалось на той стороне.
Зачавкали по грязи копыта, едва слышно затарахтел ходок.
Знал Васька Захара Ивановича: участок у него арендовали под пары. С дядей Мироном в станицу Бродовскую тогда ездили. И сына его, Кузьку, носатого и долговязого, там видел. Какую-то хворобу нашли в нем, сказывают, на службу даже не взяли.
Захар Иванович между тем благополучно выехал к спуску на плотину. В поутихшем малость шуме безветренного дождя отчетливо послышался хлесткий щелчок кнута, и конь резво понес казака вниз.
Васька было затужил: не разгадан ли коварный его замысел в самом начале? Но тут услышал глухой стук и почти одновременно сухой хруст тонких дрожек ходка, а через малое время, кажется, колесо в пруду булькнуло. И понеслось оттуда, с плотины, густое поминание матерей, чертей и даже бабушек.
Прислушавшись, понял Васька, что Захар Иванович заворотил коня и, ухая с матерным припевом, погнал его обратно на невысокий, но крутой взвоз. Сам он, по всей видимости, рядом с подводой по грязи шлепал, потому как нелегко коню волоком ходок поднять в гору: задняя ось так и загребает грязь.
«Вот и подшутил на свою голову! — казнил себя Васька, выбираясь из засады и отдирая от штанов репейные головки. — Так бы уехал чертов казачина домой, а теперь, понятно, заночует у нового свата… Ежели об чем и не уговорились по пьяной лавочке, так утром на трезвую голову все переберут заново».
В лужице возле калитки обмыл ноги, а в амбаре, раздевшись донага, насухо выжал воду из штанов и рубахи. Исподнее натянул на себя снова, верхнее повесил на шестик и, поеживаясь от сырой прохлады, улегся на кошемный потник, еще хранивший остатки дневного тепла.
— Катюху повидать надоть, — говорил он негромко сам с собою, поправив в головах попону и поплотнее укрываясь суконной ватолой. — Край повидать надоть и узнать обо всем.
Дождь лениво и ровно шумел по тесовой крыше амбара, навевал невольную тягучую дрему, особенно сладкую после жаркого потного дня, после купанья в парной воде пруда, после «купанья» под летним дождем, после многих тревог.
7
Лихо проскакал первые версты Ромка. Теплый ласковый ветер упруго бил в лицо, трепал давно не стриженные русые волосы. И конь охотно шел без понуканий. Однако же когда позади осталась первая треть пути — верст десять одолел, — остепенился. Раньше всего почувствовал, что босые ноги до боли нажгло веревочными стременами, потом спина, как у старика перед ненастьем, заболела, руки и плечи заныли. Рыжка под ним вспотел, потник заметно начал сбиваться на правую сторону.
От неудобств этих, от жары и волнений парнишка не успевал смахивать пот с лица. Рукава промокли, будто их из бадьи окатили, и прилипли к рукам. Но это еще ничего. А вот как с пакетом-то быть? Вынуть его из-за пазухи никак невозможно, а там он промокнет, и чернила размажутся так, что ничего не прочтешь.
Только соберется Ромка передохнуть малость, пустит коня по дороге шагом, впереди опять какой-нибудь путник замаячит — сворачивать в степь надо. С этакими объездами не тридцать верст до города-то намеряется, а все сорок. Чует парень, что совсем прилепился конверт к животу — вытянул немножко рубаху из штанов, прихватил сквозь нее пакет и, отлепив его от потного тела, так и держал двумя пальцами, пока подсохнет.
До города гонец добрался благополучно, с дороги не сбился, хотя в пути был побольше трех часов. А вот в городе — как обступили со всех сторон дома, как нахлынули улицы… Где ж тут разыщешь Болотную? Однако спрашивать у прохожих нежелательно: папашка не велел в разговоры-то ввязываться.
Больше часа колесил он по улицам и переулкам. Вроде бы и места знакомые, и дома такие видел в прежние приезды, а все что-то не то. Наконец пробрался в захолустье небольших избенок и домиков, стал выбирать запомнившуюся, нужную избу. Признал ее будто бы безошибочно. Соскочил с коня, привязал его за покосившуюся оградку палисадника, сунулся в калитку. А оттуда кобель пестрый лохматый как зарычит! Пришлось калитку прихлопнуть, но пес от этого не замолчал, а залился остервенелым звонким лаем.
Через минуту растворилась калитка, из нее выглянула сухопарая остроплечая, изможденная баба, по всей видимости, хозяйка.
— Тебе кого? — спросила она грубым голосом, придерживая рукой калитку.
— Тетку Зою бы мне, — вырвалось у Ромки, хотя уже понял, что попал не туда: в нужном ему дворе собаки не было, и хозяйка совсем не такая.
— Никакой тетки Зои тут нету! — неласково сказала женщина и захлопнула калитку.
Отвязав коня, соображая, в какую сторону двинуться, Ромка оглянулся — вот она, тетка Зоя! Улыбаясь, к нему шла полная румяная женщина. На изгибе загорелой руки висела у нее корзина, наполненная разной снедью.
— Ой, да знать, Ромашка к нам в гости пожаловал!
Ромка растерялся от такой неожиданности.
— Чего ж ты, — продолжала она, смеясь, — не признал меня аль заблудился? Аль подождать не захотел, пока я на базар ходила?
— А я думал, вы здеся живете…
— Ну, пойдем, пойдем к нам, — заторопила она, поворачивая назад. — А ведь я Рыжку вашего признала, тебя-то за полусадиком не разглядела.
Через два домика они свернули к таким же почти воротам, возле каких только что останавливался гонец. Изба тоже внешне была похожа на ту, но во дворе чисто выметено, крашеное крыльцо вымыто и на нем — чистый половичок.
— Привез, что ль, чего? — переступив порог и ставя на лавку корзину, спросила тетка Зоя, заговорщически понизив голос.
— Привез, — ответил Ромка и полез за пазуху.
Не успел он вытянуть конверт, тетка Зоя перехватила и, как заправский фокусник, до того мгновенно спрятала его у себя на груди под сарафаном, что Ромка от удивления приоткрыл рот и для верности еще раз ощупал свою рубаху: нету там пакета, пусто. А тетка Зоя, ухватив парнишку за руку, потащила в угол к рукомойнику, приговаривая:
— Сейчас умоемся хорошенько да чай пить станем, а там, глядишь, и дядя Авдей подъедет. Извозом он у меня промышляет по городу.
Ромка пыхтел, но не жаловался на прохладную воду, когда тетка Зоя, стащив с него рубашонку, мягкими, добрыми руками мыла до пояса. Потом в тазике вымыла ему ноги, а уж после того за стол усадила.
Хорошо после стольких тревог, после жарищи этакой, после прохладного мытья распивать чай с костяничным вареньем. Однако ж надо и домой возвращаться — вечер надвигается, ночь в пути застать может…
— Спасибо, тетка Зоя, — вставая с табуретки, по-взрослому отблагодарил Ромка.
— Куда ж ты?
— Домой…
— Здорово, гость дорогой! — неожиданно на пороге появился Авдей Маркович Шитов. Повесил на гвоздь у двери картуз и направился в угол к рукомойнику.
— Да он уж нагостился и домой собирается, — как бы оправдываясь, говорила тетка Зоя.
— Куда ему, на ночь глядя, — спокойно возразил Авдей, стряхивая воду с кончиков усов и сдернув с крюка полотенце. — Выдь-ка на улицу, глянь, чего там подступается. Дождь будет да еще с грозой, пожалуй. Нет, брат Роман, заночуешь у нас, не отпущу тебя в такое время… Рыжку-то я уж прибрал на ночь.
Уяснив, что его не отпустят с квартиры, что ночевать придется здесь, и успокоившись, Ромка вдруг расслаб весь, размягчился, как банный лист, кипятком ошпаренный. Усталость брала свое. К тому же на улице заморочало, потемнело в считанные минуты, и по окнам глухо застучали пока еще нечастые капли дождя.
Скоро парнишка перестал слышать разговоры за столом, и, как говорится, душа у него с телом рассталась. Засыпая за столом, слышал, будто из-под земли, как дядя Авдей спросил:
— Ну чего он там пишет, читала?
Тетка Зоя вроде бы ничего не ответила, и опять он:
— Кто же так делает? Эх ты! Ну-ка, давай сюда скорее! Может, там чего срочное… Ведь больше двух часов утеряно!
— Х-хе, повяла наша «ромашка», — это опять же дядя Авдей говорит. — Клади-ка ты его спать, Зоюшка.
— Да вон я на лежанке ему приготовила. Пусти-ка, унесу его.
Но Авдей сам подхватил Ромку, тот с трудом разлепил осоловелые глаза, проговорил, будто мочалку дожевывая:
— Да я еще, кажись, не уснул…
— Не уснул, — засмеялся Авдей, укладывая парнишку на лежанку и прикрывая легкой дерюжкой. — А еще ехать собирался. Дождик-то вон какой хлещет.
Ромка услышал ровный, приятно, как одеялом, накрывающий шум дождя. Потом глухо и раскатисто громыхнуло где-то, будто соседский кобель зарычал. И снова — монотонное шипение дождя…
— Опять, стало быть, пересыльный? — полушепотом спросила тетка Зоя.
— Опять, — отозвался Авдей. — На днях привезет он его сюда.
— Батюшки! — вырвалось у Зои. — Сколько уж он их переправил! И каждого одеть-обуть надо, каждому бумаги выправи да еще на дорогу дай… Где ж денег-то столько взять?
— Этот, кажись, тут будет устраиваться, в городе, дальше не поедет, — разъяснил Авдей. — Виктор Иванович с Алексеем велит связаться, упредить его… А ты хозяйство-то поаккуратней веди, Зоюшка, поэкономней. Сама знаешь, не купец ведь он и не миллионер.
— Да и без того я на всем экономлю, так ведь всех-то несчастных его денежками не спасешь, хоть все до копейки отдай…
— А он как раз все и отдает, но всех подряд спасать не собирается… Ведь умная ты вроде бы женщина, а такие слова говоришь! — Он, согнувшись, будто под большой тяжестью, вышел в сени, оставив дверь открытой, чтобы свет от лампы проникал туда, приподнял половицу и достал свернутый вчетверо, изрядно затертый листок «Пролетария». Взял с полки очки, не спеша усадил их на переносицу и раздельно прочел подчеркнутое: «Все, что мы можем сделать сейчас, все, что мы должны сделать во всяком случае, это напрячь силы для укрепления нелегальной партийной организации…» Вот ведь чему нас Ленин-то учит. Забыла, что ли, как Виктор Иванович про это читал? Без людей какое же укрепление организации выйдет! Мужиков лебедевских, что ли, всем хутором в партию звать? Так их от земли не оторвешь, да и много ли в них проку? Или на базаре торгашей скликать?..
Говоря о предмете, давно усвоенном и не вызывавшем никаких сомнений, Авдей все больше раздражался, густой голос его вырывался из оков благоразумной сдержанности.
Зоя, испугавшись неожиданной вспыльчивости мужа, принялась гасить ее:
— Ладно, Авдеюшка, будет. Поняла я. Раз Виктор Иванович делает, стало быть, иначе нельзя. А газетку-то спрячь — не ровен час, кто наскочит. Не поздно ведь еще…
Первые слова в самом начале этого разговора донеслись до Ромкиного сознания как из-за глухой стены. Интересно показалось, неплохо бы и дальше послушать, но совладать с собою не смог — сон его одолел, и невдомек было парню, что неприметный этот домик тоже приобретен на деньги отца исключительно для конспиративных целей. А хозяева его — Авдей Маркович и Зоя Игнатьевна Шитовы — «крестники» Виктора Ивановича, им из беды вырученные и приставленные здесь не без надобности.
Со временем Ромка до того усвоит дорогу к этому домику, что найдет ее хоть с завязанными глазами. Что приехал сегодня с пакетом именно он, Ромка, ни Зою, ни Авдея тоже не удивило: давно Виктор Иванович намеревался это сделать и привозил сюда несколько раз сынишку совсем не ради прогулки.
8
Что бы ни делал Васька, куда бы ни шел, ни ехал — все одно на уме: как же все-таки с Катюхой-то повидаться?
Уж немало деньков с той дождливой памятной ночи минуло, сено косить народ засобирался — еще горячее пора подходит, — а у Васьки так ничего путного и не придумывается. Не пойдешь же к сполошному Прошечке, не скажешь, что на свиданку к дочке его наведался.
К кому другому не сробел бы Васька заглянуть, а этого и крепкие мужики сторонкой обходят — облает ни за что ни про что, еще и по загривку поддаст, и вся недолга.
Делал Прошечка все не так, как прочие. Всю жизнь надрывался над тем, чтобы удивить людей своими хозяйственными делами. И дивил, силясь такое сотворить, чтоб нигде ни у кого ничего подобного и в помине не было.
Новый дом у него получился длинный и низкий, как солдатская казарма, аршин на тридцать в длину. В одном конце — магазин с парадным крылечком и с козырьком над ним. А дальше по всему фасаду пять комнат со сквозным коридором и с одним выходом в конце. К коридору этому со стороны двора во всю длину дома были построены не то чуланы, не то кладовые с отдельными выходами во двор.
Полотна ворот до того грубые и тяжеленные, что даже толстые столбы не выдержали и через месяц покосились.
Зато амбар, поставленный через дорогу, к речке, сотворил он прямо-таки воздушный — двухэтажный, с голубым балконом и полукруглой железной крышей, похожей с торца на шляпу Наполеона. До такого, понятно, никто в хуторе додуматься не мог, чтобы мешки с зерном на второй этаж таскать. У Прошечки это делали работники. Но выше двухэтажного амбара фантазия его, кажется, уже не могла взлететь.
Катюха постоянно возле матери держится да с Серегой, с братишкой своим, забавляется. Все они перед Прошечкой трепещут, а потому Катьке, может быть, легче головой в омут или за Кузьку Палкина замуж выйти, чем при таком родителе оставаться.
По времени все же отважился Васька заглянуть во двор к Прошечке.
Убирали в тот день Рословы накошенный на назьмах бужур. В стожок сметали пыльный колючий бурьян далеко до заката солнышка, и Ваську от всех прочих дел отстранили, поскольку ехать ему сегодня в ночное. Да и некрут ведь он, а некрутам завсегда перед уходом в солдаты поблажка бывает.
Васька прямо от кизяков направился к Прошечкиному двору, но чем ближе подходил, тем заметнее убавлялось в нем смелости.
Отворив калитку и переступив подворотенку, Васька попал в чисто выметенный, свежо побрызганный водой большущий двор. Аккуратным рядком в тени навеса стояло с десяток рыдванов. В углу наособицу красовался ходок, в котором всегда на паре выезжал хозяин. На длинных крюках в дальней стенке против каждого рыдвана висели смазанные дегтем хомуты с постромками. Васька знал, что у Прошечки заведена сбруя на каждого коня и для работы в поле, и для извоза, и выездная — отдельно.
Пристроившись к верстаку возле стенки, Ганька Дьяков, работник, накрашивал зеленой краской граблевища, а головки у всех граблей и зубья были густо просмолены. Такого даже у Кестера в заводе не было, чтоб черенки красить. Здесь и у граблей, и у вил, и у лопат черенки были непременно гладкие, прямые и крашеные.
Хозяин стоял посередине двора в обычном своем наряде, несмотря на лютую июньскую жару.
На стук калитки и на шаги Васькины Прошечка не обернулся, только пошевелил пальцами заложенных за спину рук в черных кожаных перчатках.
— Здравствуй, Прокопий Силыч! — негромко сказал незваный гость, заходя к хозяину сбоку.
Прошечка не ответил: как ястреб за цыпленком, следил он за каждым движением кисти в Ганькиной руке. Васька покашлял в кулак.
— Ну, чего тебе? — враз круто обернулся Прошечка, зло стрельнув снизу вверх серо-синими глазами, недовольный, видимо, тем, что оторвали его от исключительно важного дела.
— Дедушка спросить велел, для наших плотников… — Васька воровски огляделся, не покажется ли во дворе Катька, мигнуть бы ей. — Буравчика полдюймового у вас не найдется?
— Чего ты по углам зыркаешь? Струмент, что ль, там лежит? — и вдруг мягко, вкрадчиво, со сладковатым заискиванием в голосе: — Буравчик, говоришь?.. Пойдем, покажу!
Маленький этот человечек, будто рак клешней, зацепил Васькину руку повыше локтя и стремительно поволок парня к двери одной из многих кладовок. Высоко поднимая ноги в блестящих сапогах с калошами, он словно приплясывал и одновременно шарил рукой у себя под сафьяновым фартуком, доставая из кармана связку ключей. Ткнул Ваську к самой двери, потом оттолкнул от замка, крутанул ключом и растворил дверь.
Васька аж рот приоткрыл от удивления: буравчики, коловороты, сверла, молотки, пилки самых различных форм и размеров лежали аккуратными рядками на полках, пристроенных по всем стенам, как в магазине. Прошечка притянул за рукав опешившего Ваську к той полке, где лежали буравчики, взял один — длинный, с крашеной ручкой — сунул под нос парню.
— Тебе какой? Вот такой?
— Можно и такой, — потянулся было рукой Васька.
Но Прошечка, как фокусник, крутанув перед Васькой инструментом, бережно, будто хрустальный, водрузил на прежнее место.
— А может, вот такой лучше? — взял он буравчик покороче, тоже полдюймовый. — Тебе чего делать-то?
— Можно и такой… Плотники карниз вырезать собираются.
— А может, лучше вот этот? — с недоброй улыбочкой выспрашивал хозяин.
— Да и такой пойдет…
— Может, вот такой для карниза-то лучше?
Васька уже не отвечал.
— Может, этот? Может, вот такой тебе? — все еще перебирал буравчики Прошечка.
И враз, будто гром грянул, — серый сделался, как ящерица. Зубки реденькие ощерил, а над ними — рыжеватые волосинки усов. Отрывисто и зло посоветовал:
— Съездий, черт-дурак, в город, там у Яушева в магазине всякие есть! — и, мгновенно размахнувшись, подскочил и двинул ребром ладони Ваське по шее. А потом часто-часто колотя его кулаками в бока, вытолкал из кладовки и, защелкивая замок, вдогонку наказывал, как гвозди в бочку вбивал: — Купи да никому не давай, черт-дурак! И сам не ходи просить!
Знал и раньше Васька повадки этого человечка, так что не больно удивился его приему, тем более что никакого буравчика ему и не нужно было. У плотников все свое есть. А вот Катьку-то повидать не пришлось, не оказалось ее во дворе.
Пока Васька, угнув голову в плечи, выходил со двора, Прошечка злобно приплясывал ему вслед, словно грозился еще поддать парню.
Налево от плотины, у тощего выхода речонки, над маленьким омутком глуховато раздавались удары валька.
Вгляделся Васька — ба-атюшки! — да ведь это Катюха, кажись, одежу там полощет да вальком колотит. И кругом ни единой души не видать. Свернул напрямик по косогору через бурьян, через ямы, заросшие травой, запинаясь, понесся туда.
— Ка-атя! — не доходя, задыхаясь, окликнул он. — Чего ж ты, касатушка, не кажешься?..
Первых слов она будто не слышала — не повернулась к нему, зато последние, видать, больно хлестнули ее.
— Сам ты, отравушка моя сладкая, лытаешь, знать, от меня! — не разогнулась, только безвольно опустила к воде руки с мокрой, скрученной в жгут какой-то тряпкой, и головы не повернула. — Все глазыньки проглядела я… И ноне видела, как вы бужур метали, как закончили, как пошел ты, видела… Оттого и на речку выбежала… А ты запропал гдей-то… Уж по третьему разу тряпки эти полоскаю да колочу-у…
Плечи ее жалко сузились, дрогнули. Еще ниже нагнулась над камнем и над вальком, лежащим на нем. Кончик длинной косы, нырнувший в воду, потянуло течением вокруг плоского камня.
— Дак хоть показалась бы где, что ль, нарочно. — Васька присел на корточки к прозрачной, быстро текущей по разноцветной гальке воде, сунул в нее руки. Невысокое солнце веселыми бликами плескалось рядом у переката. — Я ж у тятьки твово в гостях сичас был.
Услышав это, Катька враз выпрямилась, отбросила за спину косу — радугой брызнули капли с конца ее, смахнула слезы и почти весело спросила, опуская подоткнутый под очкур перед юбки:
— И об чем же беседа у вас была?
— Да так, — хохотнул Васька, переливая из горсти в горсть сверкающую на солнце воду, — про хлеб да про землю поговорили… Потом он проводил меня взашей.
— Свататься за меня не наказывал приходить?
— Чегой-то не упомню такого…
Оба усмехнулись горько. Катька хорошо знала, как ее отец встречает и провожает таких гостей. Потом Васька заторопился:
— Ну вот чего: нынче в ночное мне ехать. Становать возля Купецкого озера сговорились. В первый колок тама вон, на бугре, придешь?
— Ежели до тех пор голова на плечах уцелеет, — снова всхлипнула Катька, поджав вздрогнувшие полные губы, — приду.
— Уцелеет, небось, — вгляделся в ее лицо Васька, круто выгнул обгорелую темную шею с нависшими на нее подбеленными солнцем кончиками волос. — Как работники ваши прогонють лошадей, так и ты подавайся.
— Ой, нет, Васенька! — возразила она. — Позднее. Как спать все уляжутся, как месяц-батюшка за курган сплывет: плохой он помощник в воровской нашей долюшке.
Васька глянул вверх через речку — там в чистом небе, над родной избой висела серебряная, будто бы прозрачная горбушка — молодой месяц.
— Ладноть, — поднялся он от воды и, направляясь в сторону плотины по косогору, оглянулся, обронив на ходу: — Годится. Жди с ентого краю, от хутора.
9
Купецкое озеро — верстах в пяти от хутора и в стороне от дороги в город. Круглое оно, как блин, небольшое — из ружья поперек перестрелить можно. По краю вокруг — заросли камыша, потом густые кусты ракитника, а уж за ними хороводом идут развесистые березы. В одном месте осинник есть. Позади леса вольная степь раскинулась с курганами, логами, редкими березовыми колками.
Купецким называлось оно оттого, сказывают, что раньше, когда ни камыша, ни ракитника по берегам не было, светлая родниковая вода стояла в нем, как в блюдечке, купцы съезжались по праздникам сюда на чаепития, большие устраивали тут игрища.
Теперь же к озеру этому подъехать можно лишь с одного боку — в других местах не подступишься. Вот здесь-то, на берегу, и останавливались лебедевские ребята и мужики, когда приезжали в ночное.
Караси в озере знатные водились. Бывало, что порою доставали их на общественную уху. Тут же на берегу для всех и варили. Ловить по-настоящему здесь рыбу никто не решался: узнают казаки — голову снесут.
Васька Рослов привел своих лошадей к становищу у озера, когда там собралось уж немало народу.
— Ну-к, что жа, Васька, — спросил его кум Гаврюха, сползая тощим задом с телеги, стоящей на берегу недалеко от воды, — не нашлась, что ль, ваша Мухортиха?
— Нет, не нашлась.
— Так, стал быть, и хизнула кобыла…
Кум Гаврюха — это Гаврила Дьяков, отец Ганьки, работника Прошечкиного. Кому из хуторян доводился он настоящим кумом, неведомо, только весь хутор от мала до велика звал его кумом Гаврюхой, а жену его — кумой Анюткой.
Приезжал он всегда не верхом, как ребята, а в телеге, привязывал к ней еще четырех своих коней. На чем поспать, чем укрыться, что под голову положить — все у него с собой. Ведро привозил закопченное, соль. Но никто не упомнит, чтоб захватил он и то, что варить в этом ведре. Тут свято соблюдалось разделение обязанностей: не везут в ночное ребята посуду, так пусть везут то, для чего привозит ее кум Гаврюха.
У кого картошка, у кого кусок сала или мяса, крупа какая, а то и рыбки достанут — все идет в общий котел. И варево, случалось, выходило такое, что и названия ему никак не придумать. Хлеб — у каждого свой, даже у кума Гаврюхи. Но пуще всего любил он досужие россказни у костра, и сам с великой охотой порою плел несусветную небывальщину.
Тощий и длинный, с коломенскую версту, ходил он ссутулившись, большими шагами. Ежели смотреть на него сбоку, когда идет, весь подавшись вперед, то так и кажется — вот-вот перетянет его горбатый, как руль, здоровенный нос, нависший над жиденькими серыми усами. Бороды почему-то не носил он. Да и без нее чуть не на пол-аршина вытянулось лицо. Шея длинная, с большим выпирающим кадыком.
Препоручив Ваське вместе со своими отвести и его коней, кум Гаврюха, захватив топор, отправился бересты содрать да сухого навоза насобирать для костра. Пустое ведро подвешивал он между закопченными колышками сразу же по приезде, так что, возвратившись с топливом, находил уже в ведре кое-какой продукт.
А потом собирались у костра, и кум Гаврюха у всех на глазах затевал какое-нибудь варево.
Прежде чем разжечь костер, он снял с подвески ведро и вытряхнул из него на землю картошку.
— Эх, лети-мать, да кто ж эт картошку такую привез? — почесал кум Гаврюха затылок. — Как же ее чистить, мелочь эдакую? — Сложил обратно в ведро картошку, зачерпнул воды, покрутил в посудине палкой — готово. Сменил воду и подвесил ведро на место.
— Ванька, Ваньк! — позвал кум Гаврюха возвратившегося от табуна Ваньку Данина. — У вас, небось, дома картошка есть?
— Есть…
— Слетай на лошади да привези покрупнейши.
Однако ж не все тут вертелось вокруг Гаврюхиного ведра. Васька Рослов, выложив свой провиант на листы лопуха возле костровища, отошел в сторонку подальше, раскинул кошемный потник одним концом на кочку, чтоб голове удобней было, прилег и с великой тоской вперился в светлый рогатый месяц. То не торопясь проплывет возле него крохотное облачко, то прозрачные светлые полосы пролягут по небу, а потом исчезнут куда-то, как дымка. Месяц же повис мертвенно, недвижимо и ни за что не хочет расставаться с просторным небом. Так бы и подвинул его Васька, так бы и ссадил эту горбушку с необъятной небесной вышины! Но месяца с неба не убрать Ваське, и отца из могилы не воротить, и мать, сказывают, замуж вышла — этого тоже не изменишь, и Катюху прямо из рук берут, вырывают.
Возле костра засмеялись. Прислушался.
— Ах, лети-мать, Ванька! — разорялся кум Гаврюха. — Зачем ж ты лошадь-то гонял даль эдакую? Ну, хоть бы вот такой набрал! — тряхнул он клубнем покрупнее.
— Вся она у нас такая, — оправдывался Ванька. — Где ж я возьму другой-то?
— Вот, лети-мать, у нас дык в Самаре урожаи бывали, — глаза у кума Гаврюхи так и сверкнули огнем от костра, — пуд-картошка!
Кругом захохотали.
— Вот врет, аж себя не помнит!
— Твово вранья на зуб не положишь!
— Чего вы орете? — завертелся кум Гаврюха, смекнув, что хватил через край. — В кусте сорок картошек, каждая по фунту — сорок фунтов, вот вам и пуд!
Улыбнувшись, отвернулся от костра Васька и опять с томительным ожиданием стал глядеть в небо. Звезды между верхушками берез пересчитал. Потом, однако, заметил, что месяц, ранее свободно висевший, теперь спустился намного ниже и уперся горбом в ствол соседней березы — вот-вот спрячется за него. Стало быть, уж недолго остается ждать. Да и время скорее проходит, если отвлечься от своих мыслей… Опять повернулся на другой бок: месяц — за спиной, а костер — перед глазами.
В зарослях камыша у того берега тревожно крякнула утка, кем-то побеспокоенная.
— А тута и поохотничать когда можно, — мечтательно произнес Егор Проказин. Сватом он доводился Рословым, Дарья-то — сестра его старшая. Со службы давно уж пришел, а все чего-то не женится. — По весне ноничка я отседова целую дюжину уток перетаскал.
— Не намылили тебе казаки шею? — спросил кто-то.
— Обошлось. Не враз же я их перестрелял: по одной, когда по две. Сеяли мы тут возля. Стрельнешь разок — и в кусты. Оглядеться хорошенько надоть: нет ли кого поблизости. А уж посля того достанешь ее, да и ходу, поколь не услышали казачишки…
— К-хе! Да какой ты охотник! — горячась, встрял в разговор кум Гаврюха, потрясая мокрой ложкой над огнем (он только что мешал ею в ведре). — Вот я дык охотник! Однажди на озере, лети-мать, не ружьем, не палкой семь уток убил да восьмого грача!
— Да как же ты это?
— А, лети мать, камень на кнут привязал и ка-ак пущу! И семь уток убил да восьмого грача!
— Грач-то откудова ж взялся с утками? — спросил, хохоча, Егор. — Не плавает ведь он на воде.
— А он на берегу сидел, напротив уток, — не унимался кум Гаврюха.
Над костром взметнулся веселый шум, рассыпаясь вместе с искрами в ночной тишине. Оглянулся назад Васька — месяца-то уж нету. В том месте, где он был, расплылось над горизонтом пятно светлое. Подхватил потничок свой — и к лошадям тихонько, чтоб не заметил кто.
Зануздав Бурку и кинув ему потник на спину, Васька вскочил на коня и пустил его не по дороге, а целиной — это опять же чтоб скрадывался звук от копыт. Сначала поехал неторопко, рысью, потом, как отдалился от озера с версту, долбанул по бурым бокам коня затвердевшими, как кость, запятниками лаптей и помчался наметом.
У крайнего к хутору колка резко натянул повод и, еще не остановив Бурку, спрыгнул в росистую траву. Прислушался. Тихо. Обошел маленький колок по краю кругом. Никого. В середку зашел, позвал негромко:
— Катя! Ка-ать!
Безответным остался его зов. Привязал коня к березе, морду повыше подтянул, чтоб стоял спокойнее, и выбрался на опушку, обращенную к хутору.
Тишь безветренная.
Минут пять простоял как вкопанный. И вдруг послышался ему шорох какой-то во ржи. Вышел на середину дороги, покашлял нарочно громко.
— Васенька! — бросилась к нему Катька. — Ты, что ль, тута? — повисла у него на шее и прижалась всем телом.
— Ты чегой-та прятаться надумала? Тут и так темнотища.
— Ой, напужалась-то я как, знал бы ты, Ва-а-ся!
— Да чего стряслось-то? — легонько освободил он шею от Катькиных рук. — Ну, пошли, что ль! — и потянул ее за собой в колок.
Расправив пошире потник на спине коня, Васька устроился на нем половчее, а Катьку посадил впереди себя.
Уже потом, когда они шагом, не спеша ехали по дороге, обхватив Ваську левой рукой и свесив ноги на одну сторону, Катька приникла к нему, как ребенок, и рассказывала всю дорогу:
— Как поснули все наши, стала я на месяц глядеть да ждать. А посля выбралась со двора — через плотину, мимо вашей избы… Да боюсь, не забрехали бы собаки: набулгачишь людей. Вышла в поле-то — осмелела вроде бы… Только на бугор-то вон туда поднялась, топот лошадиный послышался. В рожь отбежала подальше, присела да трясусь вся… Поближе подъехали трое верхами да трех лошадей в поводу вели. Слов-то не разобрать было, а по голосу поняла, что Кирилл Платонович это ехал с башкирцами, сусед ваш…
— Вот и опять чьи-то лошадушки сплыли, — задумчиво, без тревоги сказал Васька. — Уж не в нашем ли табуне побывал он, Петля?
— Не-е, издалека, знать, ехали: на дороге дух от лошадиного поту так и остался.
— У нас, пока кум Гаврюха побасенки сказывает, не то что Мухортиху, весь табун угнать можно… И к чему она им понадобилась — старье этакое?
Катька помолчала, покачиваясь в такт конскому шагу, еще плотнее прижалась к нему и вдруг еле слышно спросила:
— Получали вы весточку перед пожаром?
— Записку какую-то дядь Тиша во дворе находил, — насторожился Васька.
— А кто ее послал, знаешь?
— Откуда мне знать! Мужики головы ломали, ничего отгадать не могли.
— Да я же ее написала и переправила с нашим Серегой!
— Ба-атюшки! — опешил Васька. — Да ты-то откудова же такое узнала?
— Бабка Пигаска шепнула мне на ушко. Зубы ходила я к ей заговаривать — страсть как разболелись… Жили-то мы рядом. Она же и подучила меня, как сделать все…
— Постой, постой, — перебил Катюху Васька. — Постреленка не признал дядь Тиша — смеркалось уж, только побежал он не к вам, а на плотину, через речку…
— Все так и было. Увела я Серегу к новому дому, будто бы щепок пособирать, а уж оттудова и направила его да приказала, чтоб назад туда же воротился, чтоб ни одна душа не видала, как бумагу-то совать станет. После того заговорила я его, заиграла, конфеток хороших на тот случай для его припасла… Давно позабыл уж про это мальчонка и знать не знает, чего сделал.
— Ах, разумница ты моя! — Васька крепко поцеловал Катюху, повернул коня в легок, недалеко от Купецкого озера. — Вот тута и становать нам.
Не дожидаясь помощи, Катька спрыгнула в траву и, пока Васька отводил к табуну коня, выбрала местечко между берез посуше, раскинула на нем потник.
Вернувшись, опять же не узнал свою Катюху Васька: сделалась она шалой какой-то. Подставила ему ногу, сшибла, а потом, как веревками, оплела всего. Пышет от нее жаром.
— Люби! Люби меня, горюшко ты мое неизбывное! — задыхаясь, шептала она. — Только это нам и достанется!
И враз, без всякого перехода, горькими залилась, неутешными слезами.
— Просватали, что ль, тебя за Кузьку Палкина? — глухо спросил Васька.
— А тебе откудова весточка привалила?
— Слушок такой по хутору вихляет…
— Хоть и не сватали, как у людей, а сговорились уж накрепко, — выговаривала она сквозь рыдания. — А гайки с ходка не ты, случаем, скрутил у будущего мого свекра-батюшки?
— Може, и я… Да что толков-то…
Слезы у Катюхи со смехом перемешались.
— Ох и полаялись они! А я-то сколь рада была, что досадил им кто-то! И в речку за колесами лазили. Пришли домой как черти грязные, мокрые. Аж трясутся от злости. Ну как попался бы ты им — в муку бы растерли. А гайки-то ночью так и не нашли. Утром Захар Иванович мокрую солому выкинуть из коробка надумал, а они там…
До чего коротка ночка летняя! Наговориться, нацеловаться не успели, а уж пролетела она. Небо с востока забелело чуть-чуть. Скоро полыхнет оттуда зорька алая, да ждать-то ее не годится в воровском деле.
Приподнял Васька голову с горячей Катюхиной руки, огляделся и бегом к лошадям бросился.
Довез он Катюху до самого спуска с бугра перед хутором и всю дорогу сетовал:
— Ах ты, грех-то какой! Чуть бы пораньше нам выехать. А ну как у вас уж встали коров доить! Горько-то как тебе, ладушка, будет.
— Все к одному! — вздыхала Катька.
Вниз, к хутору, туда, где над прудом начинал собираться туман, пошла она торопливыми шагами, почти побежала. Васька поглядел ей вслед со щемящей душу печалью, глубоко вдохнул густой хлебный дух от стоящей по обе стороны дороги ржи и, вскочив на коня, галопом погнал его обратно. Вернуться к становищу надобно так, что будто и не отсутствовал.
Отпустив коня, Васька прилег на свой потничок возле крайних от степи берез. Едва ли кто-нибудь заметил это, потому как на берегу вокруг давно погасшего костра толпились люди. Было там весело и оживленно. Васька прислушался к голосам и понял, что это забавляется молодежь. А мужики, видать, отдыхают кто где.
Свет, хлынувший с востока, из-за хутора, настойчиво выживал призрачную предутреннюю серость, и скоро наступил тот неповторимо прекрасный момент, какой бывает только в тихое летнее утро перед восходом солнца, когда прозрачный, умиротворяющий свет нового дня уже пролился на землю, просыпаются и подают первые голоса птицы, а лес, разнеженный прохладой, будто еще дремлет, и рожь, едва пригнув начинающие наливаться колосья, тоже дремотно ждет солнца.
Но слушать утро, думать о Катьке, — успела ли она вовремя добраться до дому, не наскочила ли на кого — Ваське мешал разноголосый гомон ребят на берегу.
— Ванька, Ваньк! — вполголоса надсажался Гришка Шлыков, держа в руках смотанные кольцом вожжи. — Поди-ка сюда скорейши!
Ванька Данин, ковырявшийся в золе погасшего костра — картошку печеную, видать, отыскивал, — отвлекся от своего занятия, пошел к Гришке.
— Да скорейши! — торопил тот. — Чего ты как вареный! Лезь на эту березу. Да ботинки-то скинь!.. Во-он до тех сучков долезешь, я тебе вожжи брошу. Ты их привяжешь там. Ну!
Березка, у комля толщиною в дышло, качалась под Ванькой, но он добрался все же до сучков недалеко от вершины, скомандовал:
— Ну, давай, что ль, кидай!
Когда вожжи были привязаны, Гришка позвал ребят, и они потянули за них, наклоняя вершину березки к земле. Слезть Ванька не успел и, струсивши, сорвался с березы, когда вершина повисла над землей аршинах в трех.
От телеги, на которой крепко спал кум Гаврюха, ребята приволокли хомут, седелко, дугу. Привязали все это вожжами к жидкому стволу березки и отпустили его.
Уж досадил ли чем кум Гаврюха, или разбаловались ребята донельзя, но тешились они над ним безжалостно. Вскоре телега с кумом Гаврюхой, мирно спавшим на ней под ряднинкой, торжественно, не торопясь, поехала в озеро. За вывернутые назад оглобли под общий смех ребята загнали телегу в воду выше ступиц.
До сих пор, устраивая все это, проказники сдерживали голоса, стараясь не испортить главного. А тут, забредя в воду к телеге, Ванька Данин заорал истошно:
— Поехали! Поехали! Домой поехали!
Кум Гаврюха, разбуженный этим криком, суматошно вскинулся, отшвырнул рядно и, еще не открыв глаза, соскочил с телеги. Тут уж проснулся он окончательно, очутившись выше колен в воде.
Ребята успели разбежаться кто куда, попрятались.
— А-ах, лети-мать! — с придыханьем выговаривал кум Гаврюха. — Ишь ведь чего стервецы удумали, а!
Ванька бежал берегом, продолжая кричать, потому как пора уж гнать коней в хутор. Васька поднялся и первым вышел на это утоптанное своеобразное ристалище.
— Ну пособи, что ль, Васька, — позвал его кум Гаврюха, топтавшийся возле телеги в воде. — Сюда-то первый небось толкал…
— Не грешен, — засмеявшись, ответил Васька, — спал я вон у той березы. Пойди хоть потник пощупай — теплый еще.
— А теперь слетай за моим Карькой, — приказал кум Гаврюха, когда вытянули они телегу на берег. — А я поколь воду выжму из штанов, лети мать, да переобуюсь.
Злости у кума Гаврюхи как не бывало. Так уж сотворен был этот человек. Шпакурили над ним и подростки, и малолетки сопливые, а с него, как с гуся вода: не обижался.
Взобравшись на телегу, первым делом снял он лапти, а уж после того и штаны спустил. Вокруг собираться стали мужики и молодежь. Но кума Гаврюху не смущало это, скорее, забавляло. Как балаганный артист, с ужимками выкручивал он подштанники, встряхивал их перед носами обступивших зевак и делал свое дело не торопясь, капитально.
— На́ вот Карьку твоего, — подвел ему коня Васька.
— Запрягать, стал быть, станем, — бодро ответил кум Гаврюха, завязывая веревочки от лаптя на онучах. — Эх, лети-мать, а хомут-то где же? И дуги не видать…
Ему никто не ответил. Запрягать-то, однако ж, было пора.
— Ну, побаловались, ребяты, и будя, — заступился за кума Гаврюху Егор Проказин. — Отдайте мужику снасть.
— Да она, знать, совсем рядушком, — показал Васька Рослов, — чуть не над телегой висит.
Все засмеялись, а кум Гаврюха, улыбнувшись в усы, неподдельно обрадовался:
— Гы-ы, лети-мать! Дак я ж такую деревину с коих пор ищу! Засунув длинную костлявую руку под примятую траву в телеге, он выхватил топор и, расталкивая столпившихся ребят, направился к березе.
— Постой, постой! — придержал его за рукав Егор Проказин. — Чего эт ты делать-то надумал?.. Увидють казаки порубку — в ночное сюда нас пущать не станут.
— Глупой, что ль, я совсем! — огрызнулся кум Гаврюха, сел возле обреченной березки и рубанул под самый корень: топор аж в землю вошел. — Срублю, и знать никто не узнаеть. Сами, лети мать, вечером этого места не найдете…
— Пошли к табуну! — позвал всех Васька Рослов.
— Идитя, идитя! — заторопил кум Гаврюха. — Ждуть небось лошадей-то уж дома.
Разноголосый гомон ребят отлетел вместе с набежавшим игривым ветерком. А через считанные минуты за деревьями прогудел по степи топот множества конских копыт, взвихривших пыль, — и снова все погрузилось в покой, нарушаемый лишь глухими ударами топора.
Как и хотел того кум Гаврюха, березка, вздрогнув от последней подсечки, зашумела молодой листвой и покорно легла в нужном направлении — вершиной от озера, к степи. Отодвинув комель, кум Гаврюха постарался замаскировать пень, срубленный до того низко, что стоило присыпать его землей, утрамбовать и запорошить вялой травой — и едва ли кто-нибудь точно определит место, где росла березка. Чисто сделал!
Отвязав сбрую и запрягши Карьку, кум Гаврюха отмерил от комля аршин пять-шесть и пересек нетолстый ствол березки, после чего принялся очищать его от сучков. Срубал он их у самого основания и, передвигаясь на коленях, брал каждый сучок и укладывал кучку, любовно приговаривая:
— Эх, лети-мать, ну и венички! Ну и ве-енички! Вот чем попариться-то, а?
Мокрые онучи и сырые штаны, обтянувшие костлявые колени, покрылись прилипшей пылью, но кум Гаврюха не замечал этого. Увлекшись столь важным делом, не слышал он, как сзади подъехал со степи к березовому окоему верховой, не торопясь слез с коня, привязал его к дереву и, ступая на каблук, а потом бесшумно перенося всю тяжесть тела на носок, осторожно — чтоб сухая былинка не хрустнула — стал приближаться к лесорубу. Плетенный в клеточку, как змеиная кожа, хвост нагайки прижат в кулаке к черенку. Могучая рука балансирует в такт шагам.
Хоть бы отвлекся на миг от своего занятия кум Гаврюха, оглянулся бы… Нет, не оглянулся. А нагайка, взвизгнув коротко, полоснула наискосок по сухощавой сгорбленной спине — рассекла низ ветхой рубахи, располосовала на ягодице мокрые штаны. От неожиданности, от резкой боли кум Гаврюха ткнулся подбородком в обух топора. И не успел вздуться на сухой коже багровый рубец, последовал новый удар, а потом еще и еще…
Кум Гаврюха не закричал, а вырвался из тощем груди у него натужный тягучий хрип. Молчал и его истязатель. Слышался лишь ядовитый посвист нагайки да хлесткие удары о жилистую спину бедняги.
— Ну, довольно, что ль? — прогудел из окладистой бороды Смирнов, опуская нагайку вдоль лампаса, нависшего над голенищем.
— Тебе, Иван Василич, виднейши, знать… — едва выговорил кум Гаврюха, с трудом поворачиваясь и пытаясь подняться на ноги. Вид его до того был жалок и беззащитен, что даже звериная жестокость Смирнова перед ним сникла.
— Посади свинью за стол — она и ноги на стол, — забубнил Иван Васильевич, поглаживая кулаком ус и сверля провинившегося колючим взглядом.
Рубаха на куме Гаврюхе, располосованная со спины, висела, как на огородном пугале. Мокрые штаны он придерживал рукой, потому как иначе они не держались. Глаза притаили ненависть и жалкое бессилие против этого беспощадного и властного человека.
— Как же вас пущать-то сюда теперь, коли пакостишь здеся?
— Дык при чем же другие-то? — дергая кадыком, заспешил выговорить кум Гаврюха. — Один же я тута…
— Да еще порыбачил, небось? — указывая на мокрую одежду, спросил Смирнов.
— Не было этого, Иван Василич. Вон хоть в телегу глянь, хоть в озере погляди — снастей и в помине нету.
Видать, куда-то Смирнов торопился: ковырнул в телеге коротким черенком нагайки, пристальным взглядом окинул озеро, сказал:
— Деревинку эту и сучки с нее домой ко мне завезешь теперь же. Да не болтай лишку-то!
— Спасибо тебе, Иван Василич, — всхлипнув, ответствовал кум Гаврюха. — Опчество уважил.
Смирнов направился к своему коню, а кум Гаврюха, едва разгибая огнем горящую спину, принялся укладывать в телегу заготовленные кряжи, приговаривая:
— Вот дык срубил, вот дык сруби-ил, лети-мать, березку… А венички ни к чему теперя… Напарил, изверг… До новых веников чесаться не будет…
Он оглянулся и, увидев, что Смирнов уже далеко и скачет, не оборачиваясь, сорвал с головы картуз, хлопнул оземь и безвольно опустился на колени возле телеги.
— Жизня! — воскликнул он, и скупые слезинки, перевалив через покрасневшие веки, потекли по грязным сухим щекам. — Одним она матерью ласковой доводится, другим злой мачехой оборачивается… Ведь его, аспида, топором бы заместо этой березки — и топор-то в руках был, — а я ему «спасибо» сказал…
Нет, кум Гаврюха не сожалел о том, что именно так поступил, не каялся. Хорошо, ежели все вот этим и кончится, а ну как в ночное не пустят сюда казаки — об этом и упреждал Егор-то Проказин, — тогда свои же мужики загрызут, хоть с хутора беги. И он почувствовал себя связанным по рукам и ногам невидимыми путами, освободиться от которых нет никакой возможности.
— Да кто ж эдакую жизню хитрую выдумал, — затравленно взвыл кум Гаврюха, — чтоб тебя пороли, а ты еще «спасибо» сказывал?! Ах, лети мать, и податься-то мужику некуда!
10
— Господи! — со всей искренностью и сердечностью, как большой, взмолился измученный вконец Яшка Шлыков, поскольку настырный, хулиганистый старичок ни за что не хотел отступать от него и дома. — Спаси, сохрани и помилуй от нечистой силы!
Яшка заметил, что обращение к богу получилось у него складное. В другое время он бы начал повторять его как стихи, как считалку в игре. А тут ему даже и в голову не пришло подобное кощунство. Стал он за эти пять недель и сам смахивать на старичка: взгляд постоянно глубокомысленный, тоскливый, недетский, личико совсем свострилось.
— Да ты, знать, все не спишь? — повернулась к нему на широкой печи мать. — Вставать уж скоро!
— Уснешь тут, — горько всхлипывал Яшка, — он, проваленный, только и ждет, как ты захрапишь.
Пробовала Манюшка спать с Яшкой и на полатях, и на полу, и на лавке, и на печи вот — нигде невозможно скрыться ему от проклятущего старичка. И ведь что удивительно! Лежит Яшка за матерью, перед глазами — потолок, слева — стенка запечная, ну еще край полатей виднеется… Плясать-то старичку вроде бы негде. Так нет же! Для него, нечистого, и пол на уровень с печкой подымается, и потолок малость вверх отходит.
— Фь-юйть! Фь-юйть! — присвистывает он, перстами прищелкивает, сережка в ухе покачивается. И так залихватски, задорно ухаживает по этому для него вознесенному полу, что вот-вот по плечу матери топнет. А она спит себе и знать ничего не знает.
Перехитрить старичка тоже никак невозможно. За многие недели такой вот бесприютной жизни Яшка уж начал сживаться с надоедливым стариком. Страхи прошли, когда уверился, что ничего худшего, кроме осатаневшей пляски, этот ночной гость не допускает. Пробовал с ним разговаривать. Молчит. Голоса не подает, посвистывает иногда только.
Совсем уж Манюшка собралась было к бабке Пигаске — на помощь ее позвать, да в это самое время отступился от Яшки старичок. Ночей пять пропадал где-то, и парнишка успел отоспаться всласть. На глазах поправляться начал, и вот, видишь ли, опять принесла его нелегкая. Но теперь все поняли, что скоро пройдет это несчастье. Устал, знать, старичок…
…Косить Шлыковы начали дня три назад, но пока с кизяком не разделались, на покос ездил один Гришка. А скоро ли одной литовкой нашвыркаешь на двух лошадей, на жеребенка, на двух коров с телятами да на овец? Сегодня и Ванька попросился поехать с братом на покос. Не косить, конечно, — какой из него косец! — а хоть похлебку на обед сварить да воздухом свежим подышать.
В поле отправились ребята ранехонько, чуть свет: лошадей-то в ночное не гоняли, а привозил им на ночь Гришка с покоса травы. Сидит Ванька на потнике да на ватоле, в несколько раз свернутой, но все равно трясет его страсть как. Ноги, обутые сегодня в лапти, вместо пимов, свесил в лесенку рыдвана, и, кажется, вот-вот они оторвутся. Пробовал подвернуть их под себя, так опять же больно, и спиной тогда приходится навалиться на лесенку, а она бьет по острым лопаткам нещадно.
Ко всему прочему, Гришка, сидя в передке, свернул большущую «козью ножку», так чтоб на всю дорогу хватило, и задымил, как паровоз. Дым-то на Ваньку отнесло. Хватил он его и поперхнулся, закатился в кашле, аж посинел, глаза кровью налились.
Страдальчески глядя на него, Гришка задавил пальцами на цигарке огонь, а закрутку в карман сунул. Сивку пришлось остановить. Но кашель, не переставая, бил Ваньку. Того и гляди, задохнется парень. Гришка не раз покаялся про себя, что взял брата на покос: придется с ним весь день нянчиться.
Но делать-то надо же что-нибудь — захлебнется Ванька, внутри у него и сипит, и свистит, и хлюпает. Подхватил Гришка лагушок, выдернул кляп и нацедил кружку квасу.
— На, Вань, попей, авось полегчает…
Ванька ухватил кружку трясущимися, костлявыми, как у старика, руками и, дождавшись перерыва в кашле, глотнул прохладного кислого квасу. Малость передохнул. Полегче стало, удушье вроде бы отступило.
— Ну, трогай, что ль… — вяло махнул он рукой.
Пошевелив Сивку вожжой, Гришка теперь не пускал его рысью, с опаской оглядывался на брата, все еще временами кашлявшего.
Не торопясь, миновали они поля и по Сухому логу, в иных местах развалистому и почти незаметному, дотянули до низменной луговины. За нею частые перелески по буграм начинаются, а там и до Гришкиного стана рукой подать.
Большущий участок под сенокос откупили здесь у казаков Рословы на нынешнее лето. На полянах они сами машиной станут косить, а маленькие полянки, редколесье, топкие места — отдали Шлыкову Леонтию.
Когда Леонтий ходил просить об этом деда Михайлу, сороковочку с собой прихватил, чтоб разговор понадежней склеивался. Не принял у него дед подношения, засмеялся: «Все равно одной бутылкой всех наших мужиков не напоишь — лучше не мараться». Сам-то дед этого зелья в рот не берет, а рассудил верно. Ежели эту сороковку на всех разделить — только губы помазать, а вот одному в самый раз! Потому употребил ее Леонтий, как только от Рословых вышел, губы насухо рукавом вытер и посудинку в бужур за огород бросил. Потом весь вечер Манюшке рассказывал, как они с дедом Михайлой Ионовичем распивали его сороковку и одним огурцом закусывали…
Подъехав к становищу, Гришка выпряг коня, спутал его и приладился у пенька косу отбивать, а Ванька за это время едва из рыдвана выбрался — плох он стал.
Пока собирался Гришка, солнышко жиденькими несмелыми лучами из-за кустов брызнуло, — бежать пора. Не зря сказано: коси, коса, пока роса, а высохнет роса — притупится коса. Никак ее не протянешь в сухой траве, силушки-то вдвойне запросит.
Силушкой бог не обидел Гришку. Не богатырь он, конечно, и ростом не выше отца, но теперь уж покряжистее Леонтия будет, а обличьем в мать — широконосый. Под подоплекой у него так и перекатываются бугры, когда, нагнувшись, маленькими шажками подвигается он по прокосу. Отцу с литовкой не угнаться, пожалуй, за ним.
Недавно и Ванька такой был, только волосом потемнее да лицом побезобразнее. Не зря Рослов Макар постоянно подтрунивал над ним: «У тебя, Ванька, рожа ковшом, а нос бутылкой». Теперь ни «ковша», ни «бутылки» нет. Вроде бы из воска слеплен — просвечивает. А глаза большущие сделались, тоскливые, как у заморенного телка. С затаенной завистью, жалостно поглядел он в тугую спину брата, прокашлялся и побрел содрать бересты для костра. (Не успел этого сделать Гришка.) Топор-то тяжеленным кажется — в руках его не удержишь, при каждом ударе вывертывается.
Скоро на стану живым запахло: дымок над костром запорхал сизый. А сварить польску́ю кашу — дело нехитрое. Это, наверное, хоть кто сможет, потому как в нее кладут все, что из дому захватили: и крупу, и картошку, и лук, и сало. Ежели мясо есть, и мясо туда же идет. Важно, чтоб все это хорошо уварилось, перепрело, лишняя вода чтоб выпарилась. К обеду непременно должна быть каша горячей, чтоб еще маслом сдобрить, если, конечно, есть оно.
Хлопот возле такой каши вроде бы и не так много, но вконец обессиленному болезнью Ваньке хватило их за глаза. Страсть как умаялся! Прикрыв поплотнее ведерко с варевом, загреб в кучку жар — пусть допревает теперь, пока Гришка придет — и свалился саженях в трех от костровища.
Земля в эту пору ласковая, теплая, безвредная. Как на протопленной печи выспаться можно.
Солнышко высоко плывет по чистому небосклону. Ежели теперь тень свою смерить, лаптей шесть намеряется. В пять лаптей Гришка прийти сулился. Стало быть, через лапоть будет.
С покоса едва доносятся запахи скошенной травы, цветов. Где-то назойливо жужжит шмель. А над самым носом у Ваньки порхает сиреневый мотылек. И такой замысловатый рисунок у него по краешкам крыльев, что никакая девка руками, наверно, не вышьет похожего.
Оводов близко нет. Вон там они, возле Сивки все увиваются, загнали беднягу в кусты. Кожа на холке у него то и дело вздрагивает. Льняной хвост — будто баба куделю треплет — то по крупу взмахнет, то промеж ног выхлестывать станет. А голову Сивка в кусты норовит засунуть.
В груди у Ваньки отогрелось, отмякло все, не хрипит. И так покойненько стало — сон пахнул на него незримым крылом.
Вскинув литовку на плечо и чуть-чуть ссутулившись, Гришка поспешал к табору. По холщовой рубахе и на спине, и на груди расплылись у него потные разводины. Пить! Так бы и проглотил весь лагушок с квасом. Да квас-то теперь, знать, согрелся, хоть и стоит лагушок в ямке, травой накрытой.
Спящего Ваньку приметил он издали, с изголовья шел к нему. Лицо, ровно кусок белого мрамора, из травы виднеется, испариной все подернулось. Возле утянутых крыльев носа, под глазами, вокруг полураскрытого рта синие прозрачные тени пролегли.
Шагов пять, может, шесть осталось до Ваньки… И тут прострелило Гришку до пят — оцепенел весь, в середке похолодало, по мокрой спине ледяные мурашки поползли. Показалось ему, что за тонким Ванькиным носом темное что-то мелькнуло востреньким кончиком и вроде бы во рту исчезло.
Ноги враз отнялись, не идут, руки окаменели, и дых на полпути оборвался. Долго, показалось, торчал этаким чучелом. Лицо мертвенно выбелилось… Глядит, а из-за правой скулы у Ваньки змеиная головка вынырнула. Мордой туда-сюда сунулась змея и поползла. Это на шее она у него лежала. Небольшая змейка, четверти полторы будет. Ждал Гришка, пока отползет змейка хоть малость, чтобы прибить ее. А она, еще не спустившись с шеи, подняла голову и заворотилась обратно да через подбородок, задевая нижнюю губу, двинулась на другую сторону.
Что будет, ежели пошевелится Ванька? Ужалит ведь она его! Гришка дышать перестал и зажмурился на какой-то момент… Когда голова змейки опустилась на землю, а хвост еще тянулся по Ваньки-ному лицу, Гришка прыгнул, долбанул ее пяткой косы, а потом подцепил острым концом, унес подальше, закопал, затоптал это место и долго не мог опомниться.
Снял рубаху Гришка, подождал, пока ветерком его обдуло, уж после того начал приходить в себя.
А Ванька сладко похрапывает, глубоко этак, затяжно дышит и ничего не знает. Принес Гришка ведро воды из ямки, что в луговине, в самом низкой месте выкопана, вымылся по пояс, к брату подступился:
— Вань, Ваню́шка! Обедать вставай, — легонько раскачивал он его за плечо.
С великим трудом расцепив веки, Ванька будто бы с испугом огляделся, потом глубоко, с перехватом вздохнул и, улыбнувшись, резво поднялся.
— Вот эт дак я поспа-ал!
— Чать-то, сладкий сон видел?
— А ты почем знаешь?
— Да губами ты чмокал, как я подошел…
— Квас я пил. Раз пять, знать, принимался пить, либо больше… Полей-ка мне, Гришка, ополоскнусь я… Холодный квас и немножко эдак покалывает, пощипывает глотку.
— В роту-то сполоскни после квасу да умойся, — посоветовал Гришка, плеская прохладную воду на руки брату.
— Такой квас пил я у Рословых… — Ванька набрал из пригоршни полный рот воды и, выгнув обострившийся желтоватый кадык, громко забулькал. — Тетка Настасья, сказывают, делала.
Когда братья, раскинув старенькую скатерку и расставив на ней нехитрый крестьянский обед, принялись за еду, Ванька с удивлением заметил:
— Чегой-та ты, Гришка, ешь вроде бы через силу, как вареный? Аль каша моя не удалась?
— Будешь вареный, — сделал обиженное лицо Гришка. — Сверху припекает вон как, да изнутри, от работы побольше того греет: живьем сваривает.
— А я чегой-та разъелся ноничка, — говорил Ванька, облизывая старую почерневшую ложку. Такую старую и обглоданную кругом, что ею только разве кашу и можно есть: щи-то в ней не удержатся. — Завтра опять мне приехать сюда надоть… Ты не серчай, Гришка, не отказывайся от меня…
— Да с чего ж бы я серчать стал? Глянется тебе здеся, так хоть каждый день ездий.
— Уж больно пользительный сон туга, прям ежели бы все время вот так легко было, как теперь, дак хоть бери в руки литовку да коси.
— Ну уж, сразу и литовку, — невесело усмехнулся Гришка, — ты хоть сперва ходить научись, как раньше ходил.
Ему и жалко было Ваньку, и отрадно, что повеселел он малость, но при одном воспоминании о виденном начинало давить под ложечкой и подташнивало. Потому Гришка на боку откатился подальше от скатерки, чтоб едой никакой в нос не шибало, закурил не торопясь, осторожно посоветовал:
— А ты бы не ложился спать-то на землю: земля, ведь она земля все ж таки и есть, прохватит еще тебя.
— Да что ты, — возразил Ванька, — вон как я угрелся, вольней, чем дома.
— Вольней-то, вольней, а ты устраивайся-ка лучше на рыдване, покойнее будет. Позавчерась я вон там на бугре во-от такую змеюку пришиб.
— Таких и змей-то сроду не бывает, какую ты показал.
— Ну, чуток помене, — засмеялся Гришка. — Я б тебе показал, да сороки, знать, расклевали — вчерась уж там не было ее.
Гришка боялся, чтоб не повторилось минувшее. А признаться Ваньке в том, что с ним произошло, — никак не хотелось. Радостно было видеть повеселевшие Ванькины глаза, его живость и бодрость. Ведь если бы каждый день вот так прибывало его здоровье, к осенней страде, может, и выходился бы парень. В солдаты его, конечно, не возьмут, а дома пожить бы еще мог.
11
Говорят, истина — это свет лампы, при котором один читает священную книгу, другой подделывает подписи. Свет лампы служит одинаково тому и другому.
Так же вот и ночь: и труженику, за день уставшему, нужна она для отдыха, и влюбленным — для сокрытия тайны любви, и вору для сокрытия тайны подлости. Но не менее нужна она и подпольщику, чтобы самые святые дела вершить.
Никто из Даниных не удивился — такое бывало нередко, — когда часов в пять пополудни Виктор Иванович лег спать. Зато бабушке Матильде работы прибыло. А чтобы делать свое дело, надо ей непременно выпроводить из избы Ромку с Ванькой, да подальше от двора, чтоб не мешались. Анна с Валькой в поле. А этих двоих — то по целому дню домой не загонишь, то, как на грех, из дому никак не идут.
Пришлось бабке хитрость употребить.
— Ребятки, — сказала она ласково, — уж до того я ушицы захотела, страсть как! Сходили бы на речку, рыбки бы половили…
— Рано еще, — возразил Ромка, — теперь клевать не станет.
— Так ведь пока червей накопаете, да и до места идти не близко. Где вы червей-то копаете?
— На назьмах, за Зеленым логом…
— Правда, Ромка, пойдем! — подхватил бабушкино предложение младший брат. — Пока червей накопаем да пока до Большого камня дотопаем — самое время как раз и будет… Вон ведь куда идти-то надо: там завсегда хорошо клюет… Пойдем, что ль?
— Пошли! — согласился Ромка, вскакивая с широкой лавки, и, схватив Ваньку за плечи, весело вытолкал его за дверь.
Теперь вот и Матильде можно за свои дела приниматься. Но сперва пошла она за ребятами, собраться им помогла, за ворота выпроводила и, захватив целое беремя кизяков, вернулась в избу, стала растапливать печь в столь неурочное время.
Поставив греть воду в двух ведерных чугунах, она принесла большое корыто, подняла западню, покликала:
— Миша! Ми-иш!
— Чего, Матильда Вячеславовна?
— Принимай посуду. Мыться будешь да переодеваться перед отъездом. — Она подала ему корыто, мыло, ведро, мочалку и свернутую в большой узел одежду. — Прикинь пока верхнюю-то, ладно ли будет.
Много разных дел пришлось переделать Матильде Вячеславовне, пока привела она своего подопечного в полный порядок. Вечер уж близится, скоро Анна с Валькой приедут, да и ребятишки нагрянуть могут. А как же с Михаилом-то быть? Ждать, пока все уснут? Иначе как же он из подпола выйдет, ежели вся семья домой соберется?.. Пошла будить Виктора Ивановича, чтобы посоветоваться.
Потолкав сына в плечо, спросила:
— Рано ехать-то собираешься?
— Смеркаться станет — и поедем.
— А Михаила-то как в это время достанешь из подпола: все ведь дома будут…
— Х-хе, волк вас задави, как достанешь! — усмехнулся Виктор Иванович. — Переодела ты его?
— Помытый он и переодетый.
— А где его каторжное одеяние?
— В печке сожгла.
— Так, стало быть, нет каторжанина Михаила Холопова, — засмеялся Виктор Иванович, вставая с постели и нежно положив руки на плечи матери, — а есть крестьянин, скажем, из Борисовки. Лошадей у него украли — работать в поле не на чем… Ищет вот лошадей-то, к нам забрел, поесть попросил… В город ему надо, на базаре по горячему следу коней поискать… А я как раз туда собираюсь… Сойдет для наших?..
— Сойдет, кажись, — засмеялась и Матильда Вячеславовна.
— Тащи его из подземелья на свет божий, хватит с него темниц!
Пока Виктор Иванович одевался, Матильда выпустила из подпола Михаила и немедленно принялась пересказывать то, о чем с сыном говорили.
Перед ней на лавке смиренно сидел коренастый, среднего роста мужчина. Широкие темные усы и задумчивый и будто бы настороженный взгляд усталых глаз старили его. Он то и дело непривычно одергивал крестьянскую рубаху под поясок и старался не пропустить ни единого слова Матильды Вячеславовны, ставшей ему родной за эти дни.
Виктор Иванович продолжил наставление:
— Это пока ты будешь крестьянином безлошадным, а в городе мещанином настоящим сделаешься, с хорошим документом. И запомни: с сего момента не Михаил ты Холопов, а Иван Воронов — на Руси фамилия эта нередкая… А вот усы, наверно, убрать придется…
— Нет, Виктор Иванович, — мягко, но настойчиво возразил Холопов, — усы пусть остаются, даже бороду, как видишь, окладистую отпустить хочу, потому как все мои тюремные карточки — безусые и безбородые.
— Ну что ж, резонно, — подхватил Виктор Иванович. — Тогда поужинаем вместе и — в путь…
За все эти дни им впервые предоставилась возможность узнать друг друга, потому за ужином начался интересный разговор, но вскоре возвратились ребятишки с рыбалки, а потом Анна с дочерью приехали с поля, так что пришлось отложить беседу.
Из дому тронулись в сгустившихся сумерках, и Виктор Иванович не через хутор направил Рыжку, а полевой, еле заметной дорожкой вдоль Сладкого лога выехал на городскую дорогу.
Просторная степь охватила путников со всех сторон. Яркие бестрепетные звезды глядели с вышины, роняя призрачный, едва ощутимый свет. Редкие ночные звуки не нарушали общего покоя. Рыжка, не понуждаемый хозяином, лениво вышагивал, глухо топая копытами по дорожной пыли.
— Так, стало быть, вечный солдат? — начал Виктор Иванович прерванный за ужином разговор.
— Солдат вечный, — подтвердил Михаил. — Другого званья мне нет… Двоих нас из саперного батальона за восстание в пятом году Киевский военно-окружной суд приговорил к смертной казни, потом казнь вечной каторгой заменили. Так и остались мы солдатами вечными…
На вид Михаилу Холопову смело можно бы дать лет сорок, хотя на самом деле ему было всего двадцать семь. И это обстоятельство пришлось как нельзя кстати: по новому паспорту он значился на целых одиннадцать лет старше своего возраста.
— Все мы — солдаты вечные, только не царские, — задумчиво проговорил Виктор Иванович, — а солдаты революции… Как же тебе сбежать-то удалось?
— Повезло. В арестантской камере под тумбочкой был прибит железный лист. Тихонько приспособился я его снимать… А от моего угла до забора каких-нибудь аршина три… Ну, всего-то аршин пять прокопал за полгода. По щепоточке копал стамеской и там же утрамбовывал землю, как крот… Столяр я, краснодеревщик. Шикарные оклады для икон делал. Вот в окладах-то этих и посылал весточки на волю. Связь установилась надежная. Товарищи помогли.
— А как же ты ухитрился в арестантском «мундире» от самого Тобольска добраться? Верст семьсот отмахал!
— Ухитришься, коли жить охота, — невесело усмехнулся Михаил. — Неувязка в организации вышла или помешал кто: продукты и одежду в условное место должны были принести разные люди. Так вот, котомку с едой принесли, а остальное ждать-то некогда было. Думал, в дороге добуду, да потом смекнул — к селениям лучше не приближаться, не наводить на след. Лесами да болотами за три недели далеко продвинуться можно. Шел только ночами, а в ненастное время и дня прихватывал. Теперь лето — каждый кустик ночевать пустит. Места от Тюмени здесь мне знакомые. Я ведь из-под Екатеринбурга. Много до службы колесил по найму…
Прислушиваясь к ровному глуховатому голосу товарища, Виктор Иванович радовался тому, что организация пополнилась еще одним надежным человеком, и вдруг спросил:
— Не страшновато над пропастью снова ходить?
— Страшнее смерти ничего не будет, — обыденно и очень спокойно ответил Холопов. — Вечная каторга не слаще… А здесь-то чем я заниматься буду, подумали?..
— Давно подумали, как только известие получили, что ты к нам направился… Недельки две-три поживешь у Авдея Марковича, поправишься, оглядишься, а потом на станции столяром будешь работать. И наших дел найдется достаточно. Квартиру придется сменить — тут нельзя… А есть еще одна задумка… Литература к нам из Самары плохо идет, нерегулярно. Сам увидишь, коли на станции работать будешь… Хотим лавку книжную открыть. Книги для продажи будут поступать из Самары, а с ними и наша литература пойдет ровнее… Так вот, коли все это образуется, может, и книжками в лавке торговать станешь. Не приходилось раньше-то за прилавком стоять?
— Нет. В купцах не состоял. Да ведь не боги горшки обжигают — научусь…
Когда они подъезжали к городу, короткая летняя ночь начала забеливаться с востока, померкли ближние к горизонту звезды, повеяло утренней прохладой.
12
Покосное время, хоть и было тоже нелегким, считалось оно каким-то праздничным, особенно для молодежи. Погода стоит благодатная: тра́вы, цветы кругом, и несется от них, живых и подкошенных, по всей степи неповторимый дух, кружащий, сладко дурманящий голову, прибавляющий силы. Даже редкие ненастные дни по-своему хороши — бабы и мужики отправляются тогда за ягодами, за грибами.
В том году становали Рословы верст за двенадцать от хутора. Рядом с ними — Прошечкин стан; в сторону Бродовской, в логу, Шлыковы остановились, за ними — Данины; правее и ближе их — проказинский стан. Словом, хутор в эту пору остается безлюдным, тихим и присмиревшим, а степь, и поля наполняются жизнью — днем пестрят бабьими платками, по вечерам костры тут и там светятся.
Большое травяное поле с краю длинным языком вдавалось в лес. В этом закутке Васька Рослов докапнивал вчерашнюю утреннюю кошенину. Торопился, потому как здесь, за лесом, уж не грело низкое солнце — густая тень полегла. Пока не отволгло сено — скопнить надо. Митька деревянным движком на лошади стащил рядки в большие пухлые кучи. Ксюшка с Нюркой за ним подгребали.
А теперь Васька один складывал копны. Только подхватил косматый навильник сена, изловчился в середку до половины сложенной копны втиснуть, а его кто-то как толкнет в спину. Падая, отбросил вилы и, еще не повернувшись, догадался: Катька это. Она свалилась рядом в копну.
— Я на мину-уточку, Вася! Каша там у меня варится, — оттолкнула слетевший картуз подальше и стала пальцами перебирать спутанные Васькины волосы.
— Ты чего пришла-то? — тихонько спросил Васька, блаженствуя и сдерживая дыхание под ласковыми движениями ее руки.
— Да ведь не мил и белый свет, как дружка-то рядом нет.
— Во-он чего, — жмурясь, потянул Васька.
— Вась, а ведь дошли, знать, до бога мои молитвы: не упомню я, чтоб наш стан с вашим вот эдак рядом стоял. А ноничка прям как нарочно для нас это сделали…
Васька радовался ее приходу, слушал милое щебетанье и, глядя из-под прищуренных век на смуглое Катькино лицо, не в первый уж раз думал: «Теперь-то нам хорошо, а посля как? На что же надеется девка?» А потом, будто ни с того ни с сего, сказал:
— Авось знать, вся надежа наша…
— Эт ты про чего? — не поняла поначалу Катька, но, догадавшись, посыпала: — Русак на авось и взрос. На авось мужик и хлеб сеет. А наше авось не с дуба сорвалось. То ль я с первого разу не знала, на чего шла!
— Эх, держись за авось, поколь не сорвалось! — засмеялся Васька. — Суббота ведь завтра, чуешь?
— Оттого и пришла, что завтра суббота. В баню-то поедете, что ль, домой?
— А как же!
— Ты раньше съездий и воротись. А я работников провожу да тебя ждать стану. Ладно?
— Годится.
— Сама-то я в воскресенье утром съездию… Ну, будя тут с тобой балясы точить, а то мужики придут, а кухарку бес унес в лес.
Хлестко, со всего замаху припечатав шлепок по крутому и потному Васькиному плечу, Катька выпрыгнула из копны и бегом пустилась к своему стану.
— Не надо и беса, коли ты здеся, — улыбнулся Васька, почесывая плечо: на нем будто прилипла Катькина ладошка. — Ручища-то какая тяжеленная!
К стану с вилами на плече шагал он не торопясь, вразвалку. Не доходя до скирды, где у незавершенного прикладка суетились люди, приметил, как тетка Марфа, словно бы вспомнив о чем-то неотложном, далеко швырнула от себя наотмашь грабли и двинулась к ближайшему колку напрямик. Шла она как-то чудно: нелепо широко ставила ноги, руками взмахивала, будто бы в воде огребалась, и спешила, видно, а подвигалась не споро. Сутуловатая объемистая ее фигура, против обыкновения, казалась теперь немощной и жалкой, как старое громадное дерево, скрипящее под ветром. Да еще пойдет-пойдет, приостановится, скрючится, вроде в искреннем покаянном поклоне, и опять идет…
Васька подошел к скирде со стороны колка, где никого не было, чтобы тетку Марфу видеть. Чего это с ней такое творится? Но дядя Мирон, стоявший на прикладке сверху, шумнул ему:
— Ты чего это, Васька, схоронился там от людей? Пособи мужикам, брось навильник-другой.
Выбрав из запасных деревянные вилы с длинным черенком, Васька опять же пристроился подавать с угла прикладка, чтобы не терять из виду тетку Марфу.
А Марфа, добравшись до колка, торопливо сняла с себя фартук, расстелила его на траве и, встав над ним, жестко оперлась локтями в стоящие рядом березы. Только теперь дошло до тугого Васькиного сознания: рожать Марфа-то пошла. Засовестился, ушел с угла за прикладок.
Давно уж знал Васька, что рожала тетка Марфа стоя и ни в каких повитухах сроду не нуждалась. Никого ей не надо на этот случай. В большой семье такое не утаишь.
И все-таки чудно Ваське показалось, никак не примечал он, не догадывался, что Марфа скоро должна родить. Постоянная полнота не безобразила ее на сносях, так что для неопытного стороннего глаза совсем ничего не заметно. А теперь вспомнил: после паужина поковырялась Марфа в машинном ящике, выбрала острый сегмент от косы, еще на палец лезвие попробовала, в пламени костра разок-другой повернула и, закрутив его в чистую тряпицу, сунула в карман фартука. Вон для какого дела понадобился он ей!
Пока Васька собирал последний пластик на вилы, Макар веревку через прикладок закинул, чтоб Мирону спуститься по ней. От скирды собрались дружно, захватив имущество, какое было.
Теперь не то что тень от леса — всю степь накрыло кисейным сумеречным покрывалом. Заря за оставленной скирдой разлилась алая, смиренная, покойная. Тихо — ни ветерка. Птицы на ночлег устроились, и только перепелка твердит свое назойливое «спать пора». Над кошениной, над теплой еще землей уже начал витать еле приметный прозрачный парок. А кизячный дым от костра на стану устремлялся в темно-синее небо и там вверху где-то исчезал, незримо таял.
Едва успели дотянуть до стана, оглянулся Васька — вот она и Марфа, саженях в двадцати движется. Сняла с себя юбку верхнюю, младенца в нее завернула. И шагает, не так, как давеча, — распрямилась, гордо и нежно несет свою драгоценную ношу. И ни юбка исподняя из белого холста, ни растрепанные волосы, выбившиеся из-под платка, не портят, не совестят, не унижают ее.
В растворенную дверь полевой будки вошла она медленно, не торопясь, поднявшись по шаткой стремянке. Там Мирон с Дарьей суетливо подвешивали к потолку зыбку, предусмотрительно захваченную из дома. Да и с подвеской зыбки долго мудрить не пришлось, потому как скапливалось их тут в будке порою до трех штук разом.
— Сынок, что ль? — негромко спросил Мирон.
— Дочь, — коротко ответила Марфа.
13
У Степки все в эту субботу складывалось как-то несуразно либо вовсе не склеивалось. Бывает же вот так, да и нередко: совсем ты не виноват, а тебя виноватят; хочешь сделать хорошее что-то, а выходит наоборот; иной раз ни худого, ни доброго не мыслишь, так опять же в виновники попадешь.
Лошадей на ночь не гоняли пасти — к мешаниннику, к колоде то есть, привязывали. Мешанку им делали из сухого сена с мукой, овсом кормили. Утром, понятно, напоить их надо, к ручью сгонять…
Степка уж почти проснулся. Под телегой спали они с Васькой и Тимкой. Так сладко дремлется, и в то же время сквозь сон все слышно.
— Макар, буди-ка давай Тимку, пущай лошадей попоить сгоняет!
Это говорит дядя Тихон. Косилку он смазывает, видать. Скоро запрягать станет. На уборке сена с его деревяшкой много не наработаешь, а с машиной он управляется здорово — только поспевай грести да копнить.
— Не трожь Тимку! — вступается Мирон, отец Степкин. — Степку вон подымай.
— Эт отчего же так? — спрашивает для порядку Макар.
— Оттого, что сирота Тимка, пожалеть его некому, — возражает Степкин отец. — Пущай хоть малость пока понежится.
Тимка Рушников — такой же, как Степка, парнишка, может, на годок постарше — живет у Рословых с весны в работниках. Сказывают, отец его годов восемь назад перебрался с семьей в южные степи за Оренбург. Прошлым летом с голоду да от натуги там помер. Мать с ребятишками пешком в родные края пустились. Дорогой двух сынков схоронила, да девчонка еще была, самая младшая, тоже не выжить бы ей, но где-то в приют устроить удалось. Вдвоем с Тимкой и пришли они в хутор поздней осенью. Мать-то у Кестера батрачить нанялась, и Тимка возле нее кое-как до апреля пробился. Теперь вот у Рословых за «любую десятину» работает. Само собой, одевается и кормится у них же.
Ох и досадно Степке слышать от родного отца такое. А повелось это с самого начала от деда. Чуть кто за Тимку возьмется, дед непременно за него вступится: «Сам, говорит, сиротой возрос, знаю сиротскую долю». Так в чем же вина Степкина, что не сирота он?
Долго Макар толкал его — спящим притворился Степка. Надоело Макару стоять согнувшись, вытянул племянника за ногу из-под телеги — Степка заулыбался лукаво. А потом, когда лошадей с водопоя гнал, одумался: «Нет, лучше вставать чуток пораньше, только бы сиротой не быть, как Тимка».
Новую скирду, как всегда, на шести копнах завели. Потом к ней еще такой же прикладок приложится. Мирон опять на укладку становится, Макар с Егором Проказиным, шуряком, нанявшимся к Рословым на покос, подавать в двое вил станут, Степке с Тимкой — копны возить.
Поначалу все ладно шло, и мужики добрыми казались. Перед обедом как муха вредная покусала их. Подъедет Степка с копной поближе к скирде — отец сверху кричит на него. В другой раз подальше поставит копну — Егор срывается. «Куды тебя черти понесли!» — орет.
Не первый год Степке доводится копны возить, и завсегда, примечает он, верхний, кричит «подальше», а нижний все настаивает «поближе подвози». Как их разберешь? Поехал за следующей копной, выспросил у Васьки, отчего так получается.
— Оттого и получается, — разъяснил Васька, заводя веревку вокруг копны, — что верхний боится, как бы ты скирду копной не попортил, а нижнему все время поближе надо, чтоб подавать легче. Ему бы лучше всего, ежели б ты прямо на скирду копну-то завез.
— Это выходит, как дедушка говорит, — подвел итог Степка, — паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
— Конечно! — засмеялся Васька. — А ты завсегда спрашивай, куда копну ставить, и ближе как на шаг не подвози к скирде — во всяком разе прав будешь.
Получив такое разъяснение, Степка повеселел малость. Хоть перепадало ему от мужиков и теперь не меньше, терпелись эти нападки куда легче. Тимке свою науку передал немедленно, чтоб и ему понятнее да полегче стало, когда мужики ни за что ругаются.
В обед опять же Степка на глаза отцу навернулся.
Огромное полуведерное блюдо со щами, поставленное на разостланную скатерку, в момент облепили со всех сторон, как муравьи возле какого-нибудь лакомства сгрудились, Степка всунулся между Васькой и Макаром.
— Ну чего, мужики, подбодрим щи-то, что ль? — поднял Макар большущий красный стручок: у него привычка была — красный перец трескать.
— Давай бодри, — подхватил Тихон, поудобнее укладывая свою деревянную ногу.
И Мирон согласно подкрякнул. Стручок плюхнулся в горячие щи. Митька, хоть и не доволен был этакой приправой, промолчал, конечно, Тимка и подавно, а Степка заныл:
— Вам-то хорошо, а мы как хлебать станем? Щи вон и так горячущие да еще перцем все губы опалит…
— Пущай нам в другую чашку наливают, — запротестовала Нюрка и положила перед собой ложку.
— Мы посля с бабами поедим, — вставила Ксюшка.
Мирон, поскольку был он тут старшим, ни слова не говоря, облизнул свою ложку и, будто на барабанах сыграл, — так складно три щелчка по лбам отгудело. Оно и не то чтобы шибко больно, а неловко все-таки: чешется и краснеет лоб-то.
— Ладно уж, — сжалился Макар, вытаскивая перец, — не станем мы вас травить. Кому в ложку капнуть? — Он подавил стручок в подставленные мужиками ложки, а потом весь его отправил себе в рот.
За столом после этого тишина воцарилась, только ложки о край блюда легонько побрякивают. Макар с перца-то раскраснелся, пот его прошиб, уезживает из блюда почаще других.
Не успел Степка отобедать, а ему новый наряд.
— Пригляди-ка, сынок, за лошадями, пока домой собираться станем.
Тимку вроде не видит отец, а Митька вроде и не «сынок», вроде и нету их вовсе. Умеют же люди вот так незаметно жить: и здесь они, и как будто нет их. У Степки такого никак не получается.
И чего бы за лошадьми доглядывать — вон они, на кошенине спутанные пасутся, со стана видать… Захватил уздечку с Карашки и невольником к табунку побрел. (Карашка — это соловый меринок. У богатого башкирца когда-то купили в табуне кобылу, а она по весне обратно туда же убежала из дому, да там и ожеребилась, оттого так жеребенка назвали.)
Шагая по жесткой щетке ровно срезанной травы, Степка не поднимал ног, лапти скользили, как коньки. Перепелка, оказавшаяся чуть в стороне, так бы и осталась незамеченной, если б не выдала себя бегством. Степка бросился за ней вдогонку. Часто перебирая ножками, птица виляла возле кустистых пенечков срезанной травы и почему-то не взлетала и не удалялась от погони. Кинул Степка свернутую узду и, пока птица путалась в ремнях, накрыл ее картузом.
— Попалась, разиня, — ворчал парнишка, шаря под картузом и захватывая в горсть незадачливую птаху.
Еще не видя птицы, почувствовал, как бешено колотится ее сердечко. Жалостливое что-то шевельнулось у самого в груди, когда разглядел, что у той правого-то крыла почти нет. Видать, сзади стригануло ее косилкой: часть оперения напрочь срезана и самый кончик кости отхвачен. Темно-вишневым наливом запеклась на косточке кровь. А в глазах у пичуги увидел Степка и страх, и мольбу, и будто бы они затуманились — вот-вот слезинки выкатятся.
Ласково погладил ее Степка, бережно опустил на землю и легонько подтолкнул — беги!
— Может, вырастет у ей крылушка, — вслух рассуждал Степка, нахлобучив на косматую голову картуз с оторвавшимся с боку козырьком, — и полетит вместе со всеми своими. А теперь хуже сироты она.
Пока с покалеченной птахой нянчился, кони малость к запретному лесу отошли. Казачий это лесок. Но до него еще саженей полсотни осталось либо поболее. Оглядел коней так и этак — нет Карашки. А ведь видел его Степка вот только что! Всего-то их тут семь лошадей было. Куда делся меринок?
Изловил Бурку, зауздал, снял путо и, как все мальчишки на свете, когда не хватает роста, навесил петлю повода, придержав ее на холке рукой, ступил в петлю и взлетел на коня. Для начала отогнал подальше от греховодной полосы лошадей и поехал к стану Проказиных — рукой до него подать.
Никого возле шалаша не видно, кроме самого Ильи Матвеевича. Литовку отбивает, что ли, — скрючился. Чудной он у них какой-то. С весны, как растает снег, ни картуза, ни лаптей не носит — все лето босой ходит. Перед тем как в поле выезжать, собирает все, готовится, до позднего вечера во дворе топчется. После того чисто двор подметет и на кучу сора спать уляжется, чтобы не проспать петухов утром. Перед началом покоса вот так же делает. Носит он постоянно самотканный суконный армяк, старенькой опояской подвязанный. Рост у него повыше среднего, борода черно-бурая, окладистая. А волосы нечесаные как собьются, и не поймешь: котелок на нем или шапка. Сухой, жилистый.
Прокосы Илья Матвеевич заводит широченные и длины необыкновенной. Никто за ним угнаться не может. В самую горячую пору обедать на стан не ходит, а берет с собою за пазуху калач, и пока от конца к началу прокоса возвращается — пожевать успевает. Ребята его с радостью в работники бегут: не выстоять рядом с отцом ни за что.
Все это Степке доподлинно известно, потому пялится во все глаза и про Карашку забыл — как же это: никого на стану нет, а Илья Матвеевич один тут пробавляется?.. Поближе подъехал и увидел: не отбивает он, а насаживает литовку-то. Либо косовище не стерпело, либо пятку отворотил, медведь.
— Здравствуй, дядь Илья!
— Здорово, молодец!.. Хоть и сопливый ты, а сватом доводишься… Зачем пожаловал?
— Карашка, соловый меринок наш, кудай-то запропал…
— У казачишков ищи. Сдается мне, обротал его Нестер Козюрин. Во-он заимка его.
— Да я же только что вот Карашку видал. Вместе со всеми лошадями был он.
— Ви-идал! — передразнил Степку Илья Матвеевич, не отрываясь от своего дела. — Где видал, там и ищи, коль так!
Резанул сват цыганистыми глазами, кудлатой головой помотал, как бык от неловкого ярма, и умолк. А Степка и сам стал догадываться, куда запропал его конек, да ехать-то к казачишкам страсть как не хотелось. Ни один мужик из хутора не станет связываться с ними без крайней нужды. Поехать бы Степке на свой стан, рассказать обо всем отцу… Так ведь и от него затрещину получишь непременно: прозевал, скажет.
Тяжко вздохнув, тронул Степка коня и направил к казачьей заимке. Чем ближе подъезжал к ней, тем больше чувствовал себя похожим на ту покалеченную перепелку. Сердечко вот-вот из-под рубахи выпорхнет, поймать не успеешь. До сей поры не примечал как-то, что жарища поднялась нестерпимая. Все тело липким потом взялось, даже глаза ест. Ветерок хоть бы какой в лицо пахнул — тишь могильная устоялась.
Вон она, козюринская землянуха стоит, редким плетнем огорожена. Конюшня под соломенной лапасной крышей ветром подбита. За двором, тоже в загородке, ульев штук пять виднеется. Лес тут пошел сплошняком, и тенью от солнышка прикрывает, а прохлады — никакой, вовсе дышать нечем стало.
Из двора навстречу Степке здоровенный пестрый кобель выкатился. Лает он остервенело, клыки белые скалит, космами длинными трясет, когда подпрыгивает возле Бурки, а Степка ноги повыше подбирает: зацепит клыком за лапоть — враз на землю стащит.
Во дворе стол на двух вкопанных столбиках, на нем бутылка недопитая стоит, хлеб, сало, картошка в чугунке нечищеная, парок от нее идет. На лавочках друг против друга сидят двое: Нестер Козюрин и еще какой-то казак. Краснющие оба, как из бани.
Подъехав к паршивым воротцам, из пяти палок слепленным, Степка остановился и произнес заранее припасенное приветствие:
— Здравствуйте, господа казаки! — громко сказать хотел, браво, а получилось хрипло: в горле сухота горькая. А тут еще кобель этот брехом своим глушит.
— Ты чего позабыл тута, мужичонок сопатый? — справился хозяин, пряча ухмылку в рыжих пушистых усах и поглаживая бритый подбородок.
— Коня, — фистулой пропищал Степка, — сказывают, вы увели нашего.
— Это какого еще коня? — тряхнул копной саврасых волос Нестер, распахнул ворот рубахи, обнажив золотистую волосатую грудь с крупными конопатинами. — Ты чего, щенок, плетешь!
В конюшне в эту минуту послышалось негромкое ржанье.
— Да вон он, Карашка наш, голос подает! — весь встрепенулся Степка.
— Я тебе такого Карашку покажу! — поднялся из-за стола Нестер и, по-пьяному вихляя ободранными сапогами, грозно двинулся к воротцам, тряхнув кулачищем. — Аж на том свете с толстым Карашкой встренешься!..
Как развернул Бурку и как пустил его галопом, когда отстал совсем осатаневший кобель — того Степка не упомнит, а только грохотал в ушах раскатистый казачий смех вдогонку. В момент у себя на стану очутился!
— Чего ты такой встрепанный? — хмуро спросил отец, выдергивая из бороды сухую ковылину, — отдыхал он под телегой на сене.
— Казаки Карашку нашего угнали! — сквозь слезы, всхлипывая, выговорил Степка, соскочив с коня и покаянно склонив перед отцом голову.
— Небось в статью к им лошадей упустил! — подступился Мирон к сыну сбоку. — У-у, чертенок! И все у его не славу богу! — двинул Степку жесткой ладонью по затылку — картуз слетел с головы и укатился чуть не к ножке тагана, сердито вырвал из Степкиной руки повод, сел на Бурку и поехал, по всей видимости, к казакам на заимку.
Уливаясь неуемными слезами, Степка подобрал картуз, кинул его на голову козырьком набок — уж как пришлось! — и побрел опять к лошадям: не дай бог, случится с ними еще чего. А Митька с Тимкой дрыхнут под фургоном, никаких забот им нет. За что же, спрашивается, подзатыльник этот ему достался? Ну в чем вина его, ежели казаки коней прямо на глазах крадут! И не у одних Рословых — у них-то первый раз это случилось. Другие мужики от казачьих проделок ревмя ревут. А стукнул отец, скорее всего, сгоряча, от досады: ведь и ему к казакам-то ехать — не мед ложкой хлебать.
Но и казаки разные бывают. Правда, коли на своей земле застукают с ягодами, с грибами, либо клок травы скосишь, либо порубку в лесу обнаружат — никто из них по головке не погладит. Но другие хоть коней не крадут, работают по целому лету не хуже любого мужика. А вот эти что делают — Нестер Козюрин да Матвей Шаврин! Палкин Захар Иванович тоже, сказывают, не прочь побаловаться. А злее всех из них Нестер Козюрин. Земли у них своей хватает, и работать есть кому. Так они землю эту мужикам в аренду сдадут за хорошую денежку, да еще, случалось не раз, один и тот же участок дважды пропьют. Весной съедутся мужики пахать — драка, бороды клочьями по ветру летят, а казачишкам этим потеха. Сыновей своих в работники станичным же казакам отдадут, а сами по заимкам все лето пробавляются. Этот Козюрин не раз лошадей крал. Сбудет в городе и пропивает потом. Судиться с казаками — пустое дело.
Отец показался за станом Проказиных неожиданно скоро. На казачьей, знать, оброти вел он Карашку и махал издали рукой, давая знать Степке, чтобы лошадей к своему становищу заворачивал и подгонял. И без того обед нынешний затянулся.
Мирон распорядился так: сам он сейчас домой поедет с Марфой, Ваську и Степку с собой захватит, чтобы вымылись они в бане пораньше да назад воротились — стан караулить, а все остальные вечером с ночевой отправятся в хутор, после полудня в воскресенье сюда же прибудут.
Сзади на дрожки ходка привязали кадушку из-под мяса. Отец с матерью и с новорожденной девчушкой уселись, понятно, на беседку, Васька на козлах пристроился. А Степке опять же и места нет — хоть под дугу на лошадь садись, хоть в эту самую мясную кадку лезь. Вскочил на стремянку с того боку, где мать сидела, да так и поехал. Все сестренку свою разглядывал, когда мать давала ей грудь. Личико у нее крошечное, красное, бровей почти не видать, нос пуговкой, а глаза от солнышка постоянно жмурит и ничего, наверно, не видит. А еще говорят, что на Степку будто бы она похожа. Какое же тут может быть сходство! Ежели только нос один толстый Степкин приложить к лицу, так он почти все и закроет.
— Дядь Мирон, — вдруг спросил Васька, обернувшись назад, — как же тебе казаки Карашку-то отдали?
— А так вот и отдали, — усмехнулся в бороду Мирон, подбодрив на голове картуз. — Да еще: «Извините, Мирон Михалыч, — сказали. — Зачем сам-то беспокоился? Мы бы и парнишке отдали коня, да он чегой-то загордился и скоро уехал».
— Загорди-ился! — не смог умолчать Степка. — Тут кобель брешет на тебя, кидается, а с другого боку сам хозяин попер с кулачищами. Шары-то его пьяные пострашней кобелиных показались мне…
— Чудно! — помотал головой Васька. — У других воруют, так и концов сроду не найдешь. Спросить сунешься — бока наломают, а тут, гляди ты, с извинениями!
— Ничего не чудно, — разъяснил Мирон. — Не знали они, чьи лошади паслись и чей парнишка приехал к ним. А про то, что мы со Смирновым знакомство водим, все знают. Брат атамана все-таки. Не больно шалости-то ихние поощряет он. Вот тебе и «извините». Побаиваются, стало быть. Да еще будто бы Карашку взяли они в своей статье, как на потраве…
— Врут они, врут! — с надрывом закричал Степка, аж слезы у него на глаза навернулись и под носом взмокло от этакой несправедливости. — Вон хоть у свата Проказина спросите — все он видал. Не сходили наши лошади с кошенины! Даже близко к лесу не подходили…
— А ты не вяньгай, — оборвал его отец, — и без тебя знаем, что не подходили…
«Знаем! — переговорил отца Степка про себя. Вслух-то побоялся сказать. — Дак за что же я подзатыльник вон какой сносил?»
Губы у него скривились, задергались было, но сдержался.
Версты за две или за три от стана догнал Рословых Прошечка на па́ре, как всегда он ездил.
— Здорово, кум! — крикнул Прошечка, объезжая рословский ходок.
— Здравствуй, кум! — ответил Мирон. — Легко тебе одному на двух, а нас пятеро на одной.
— С прибылью вас, что ль? Сынок?
— Спасибо! Дочь… Эй, кум Прокопий, возьми-ка хоть Степку к себе.
— Ну чего ж, — придержал Прошечка своих коней, — пущай, слышь, садится. А Марфу с дитем на доверяешь?
Кумовьями стали они давно, потому как довелось Мирону старшую Прошечкину дочь крестить, теперь уж лет пять замужнюю.
Степка не посмел сесть рядом с Прошечкой, взгромоздился на козлы, с пристрастием разглядывая упряжку. Коренной конь — саврасый, с черной гривой и черной полосой по спине. Красавец. Пристяжка гнедая, мухортая по ноздрям и с едва заметными подпалинами в пахах. Уздечки, хомуты, шлеи с белым набором под серебро, с кистями. Дуга черным лаком покрыта, и желтая широкая лента по ней витая прокрашена. Ходок, хотя и без рессор, на дрожках, но с гнутыми крыльями, с черным из волжаника плетенным коробком и белой оковкой. Ободья у колес — белые, концы ступиц медью окованы, начищены и празднично сверкают на солнце.
Прошечка коней шибко-то не неволит, лишь изредка хлестнет легонько кнутиком, и опять бегут они ровно. Кнутик у него тоже знатный — так бы и подержал в руках: трехколенный, с кольцами по концам колен, с кистями. А гибкий и прочный черенок из трех прутьев волжаника сплетен. Взмахнет им Прошечка — по лошадям-то достанет или нет, а кисточка ременная по правому Степкиному уху походит. Оттого и гнется парнишка, отклоняется подальше влево.
Заметил это Прошечка, сцапал Степку клешневатой рукой с козел, аж перчатка скрипнула на загривке у парня, и перетащил его к себе на беседку, не сказав ни слова. Ездил он посмотреть, как покос идет, и делами, видать, остался доволен.
Кони пошли тише, а потом, при взмахе кнута резко рванули ходок. Степкина рука сама собой подскочила и нечаянно попала в широкий оттопыренный карман Прошечкиного сафьянового фартука, словно из огня выдернул ее оттуда Степка и покраснел.
— Ну, ты по чужим карманам-то, слышь, не лазь, — добродушно хохотнул Прошечка. Помолчал и вдруг затянул любимую и, пожалуй, единственную песню, какую певал он постоянно в дороге:
Перед зеркалом стояла, Надевала черну шаль. Родной мамоньке сказала Про великую печаль.Пел он по-своему, без определенного постоянного мотива. И с помощью одних и тех же слов этой песни мог выразить то тоску, то иронию, то лихое беззаботное озорство, то страшное злодейство.
Я родимому отцу В поле коней разыщу, В поле коней разыщу, На жену смерти хочу. Уж ты, смертынька прекрасна, Заведись в моем дому, Заведись в моем дому, Умори мою жену. Не успел слова сказать, Стала женка часовать, Стала женка часовать, Молодая помирать. Положил жену на лавку, Накрыл белым полотном, Накрыл белым полотном, В грудь ударил кулаком. Сам из горенки — бегом!Порою куплеты этой же песни даже на манер частушек распевал он. А на этот раз в звонком протяжном голосе, на низких нотах спускавшемся до хрипоты, слышалась грусть. И Степка, может быть, впервые в жизни посмотрел на легкие ржаные волны иными глазами. В васильках, мелькавших во ржи созвездиями, вдруг увидел он не сорную траву, а нечто прекрасное и загадочное. Никакой пользы нет от них, но как веселят они рожь! Будто живые детские глаза во множестве пробиваются из-за стеблей и колосьев. Ходок идет ровно, без тряски, без стука. И даже татарник и пыльные придорожные лопухи, мурава плывут мимо с какой-то особой значимостью.
14
Перед вечером, когда ребята отправлялись на покос после бани, велено было им захватить с собою кизяков на неделю, чтоб в костре жечь, и сухой сосновый чурбак (щепки на разжиг из него тешут). Без топлива в степи никак нельзя. Продукты, фураж и все остальное привезут завтра.
— Вы таган-то не спалите тама, — наказывал дед Михайла, толкавшийся тут же во дворе и вникавший во все мелочи сборов.
Васька, укладывая кизяки в телеге, покосился на деда через плечо, ухмыльнулся и хотел промолчать. Не тут-то было!
— Ты слышишь, Вася, чего я тебе сказываю! — не отступал дед.
— Да слышу, слышу! И так мы берегем его пуще глазу. Голодные ведь останемся, ежели тагана лишимся.
— То-то вот оно и есть, — глубокомысленно заметил дед и, успокоенный, зашвыркал опорками к сенцам.
Васька торопился. На крыльях готов был в степь лететь, оттого дорогой разговор со Степкой не получался. А заводил Васька без конца одну и ту же песню:
Бывало, спашешь пашенку, Лошадок отпрягешь, А сам тропой заветною В знакомый дом пойдешь. Она уж дожидается, Красавица моя. Глаза полузакрытые, Румяна и бела.Дальше Васька не пел: либо слов не знал, либо те слова не выражали его мыслей, заветных чаяний. Степка, понятно, не догадывался, отчего Ваське полюбилась именно эта песня, и скоро надоела она ему, Степке, до одури, хоть уши зажимай. Обрадовался парнишка, услышав веселый хороводный напев, и догадался:
— Наши, знать, едут!
Рословы ехали на двух подводах в парных упряжках. На заднем фургоне Дарья, Ксюшка и Нюрка заливались:
Ах вы сени, мои сени, Сени новые мои, Сени новые, кленовые, Решетчатые…Митька подыгрывал им, барабаня по пустому перевернутому ведру кнутовищем. А Нюрка выхаживала по середке фургона, приплясывая на толстой широкой плахе. Бедовая она девчушка, эта самая Нюрка, Степке под стать.
Тихон ехал впереди на возу сена, а Макар правил второй подводой.
— Чегой-то Егора с вами не видать? — спросил Васька, не останавливаясь. — На возу, что ль, спит?
— Не поехал он, — вдогонку крикнул Макар, — вас на стану ждет.
Для чего Егору понадобилось остаться, Ваське стало известно сразу же, как только вернулись на стан. Оказывается, уговорились они с Макаром втайне от Мирона совершить одно дельце. И состояло оно в том, чтобы накосить машиной воз травы, свезти его на Прийск, сбыть на базаре да купить водки.
— А как же мы будем косить, ежели у нас всего две лошади? — недоумевал Васька.
— Чудной ты, — сердился Егор, оглядываясь на Степку, складывавшего кизяки под полевой будкой, — один воз-то и на паре накосить можно, либо вон у суседки коня попросим на час-другой, — кивнул он в сторону Прошечкиного стана, — чать-то, не откажет.
С затаенной радостью Васька одобрил этот план и охотно отправился попросить у Катюхи коня…
А уж Степке сегодня настоящий праздник выдался — никаких забот. Приказано ему кизяки под будкой хорошенько уложить, чтобы место для мешков с мукой и овсом осталось, да еду на ужин разогреть — вот и все дела. А после того сам себе хозяин, что хочешь, то и делай. Выспаться б можно всласть, да не под телегой, а в будке. Так ведь спать-то, как на грех, сегодня не хочется.
— Ты чего эт ходил долго? — упрекнул Егор Ваську, когда тот подвел коня к уже запряженной в сенокосилку паре. — Смеркаться скоро станет. Наскочим в темноте на кочку — машину попортим.
— Так ведь уговорить же надо было ее, хозяйку-то, — хохотнул Васька. — Не враз она согласилась.
— Не вра-аз. А сам, как кот после горячего блина, облизывется… Давай-ка цепляй грабли да поедем скорейши.
Хоть и добрую траву они выбрали, но пока скосили, сгребли, сложили на воз — время-то за полночь перевалило. Потому Егор Проказин сразу поехал на стан к отцу, чтобы поспать часика два-три и пораньше на базар уехать. А Васька, отработавшись, заглянул в будку — спит уж домовник — и отправился к своей Катюхе. Пока привязывал коня, корму задавал, услышала Катька, выскочила из будки.
— Васенька, долго-то как ты! Ужин давно простыл, да и ночки-то уж мало остается. А много ли ночек таких вольных у нас!
Будка у Прошечки — ни у кого такой нет — просторная, снаружи обшита в елочку, покрыта жестью, с большим окном. А раскрашена, что терем: зеленая она, наличник у окна белый, крыша красная. И не стремянка к двери подставляется — целое крылечко, тоже крашеное. Внутри и столик есть, и лежанка, и нары с одного конца.
Степка и сам удивился, отчего это ему не поспалось — на зорьке проснулся. Выспался, наверно: улегся-то вон как рано вчера. Глаза открыл, огляделся. Как же так? Ни Егора, ни Васьки нет. В будке пусто, а им, стало быть, на воздухе лучше? Не обувшись и даже картуза не накинув, наружу выбрался. Косилка и грабли тут стоят, но не то что людей — лошадей-то ни одной нет. И ужин простыл не тронутый. На душе прохладно стало, неприютно: уж не случилось ли чего? Пошире глаза распахнул, своих лошадей признал возле проказинского стана. Запряжены они, и кто-то там ходит. Вот ведь как все оборачивается! Добежать надо, узнать…
— Дядь Егор! — крикнул издали. — А Васька-то наш где же?
— А на стану его нету, что ль?
— Нету.
Егор улыбнулся, значительно присвистнул и, помолчав, неопределенно сказал:
— Не задавится, так явится… А тебе зачем он?.. Ты чего не спишь-то?
Степка понял, что ничего он тут не добьется, и, не ответив Егору, повернул обратно. Роса холодная так и бодрит, последние остатки сна как рукой снимает. Сзади вслед ему несется:
— Придет он скоро, ты спи без оглядки!
Ишь ведь какой, — без оглядки, а у самих все какие-то тайности. Ничего толком не расскажут.
Ночь-то короткая в это время — зорька с зорькой едва разминуться успевает. Вон из-за леска опять уж новый день проглядывать начинает. Забелелось там небо, а по низу, над вершинами берез, как щека Ксюшкина высовывается, — такое же бледно-румяное.
Постоял Степка на своем стану, туда-сюда повернулся, и будто кто за рукав потянул его к Прошечкиной будке. Тихонечко подступился к ней, неслышно. Сбоку к крылечку подошел, оперся на него локтями, а ухо к двери приложил. Повременил минутку-другую и еще опасливее, на пальчиках, двинулся обратно. Да такая лукавая улыбка приклеилась к его лицу — ничем не отдерешь!
Вернувшись на угретое место под суконными ватолами, стащенными с трех постелей, Степка закрылся с головой и стал думать. Вот она, песня-то Васькина, не пустая, выходит, была, хоть и надоела до смерти: «…Тропой заветною в знакомый дом пойдешь…»
Дом-то этот рядышком стоит, никакой тропы искать не надо.
15
Вторым заходом Степка уснул покрепче, покойнее, чем в первый раз. А проснувшись часов в девять и обнаружив рядом спящего Ваську, никак не мог сомкнуть глаз — таращатся, хоть выколи их.
Лежать надоело, и встанешь, так делать нечего. Однако Степка поднялся все-таки. Побродил по стану. Скука. Принялся разводить костер да вчерашний ужин, никем не тронутый, снова разогревать. Но, попробовав кашу суточной давности, скосоротился, будто нечаянно клюквину во рту раздавил. Надумал разгорячить ее сильнее, может, и воротится прежний вкус. Подкинул пару кизяков, огонь подправил и пошел Ваську будить.
— Васька, Васьк, будя тебе дрыхнуть-то, вставай!
Толкнул его кулаком в бок — Васька потянулся, замычал и открыл глаза.
— Чего тебе?
— Наши, знать, скоро приедут, а ты все спишь. Вот чего.
— Ну, еще маленечко…
— Маленечко… Ночью-то где ты был?
— Траву с Егором косили.
— А посля?
— Ну, спать лег. Чего ты привязался?
— Спать он лег, — как старик, ворчал Степка. — С Катькой ты целовался, вот чего!
От этих слов Ваську вроде бы ветром перевернуло: отшвырнул ватолу, сел и, ухватив Степку за чуб, ехидно спросил:
— Подглядывал, сопливец?
— Ничего я не подглядывал, — обиделся Степка, высвобождая космы из Васькиной руки. — А ты не хватайся больно-то — хуже будет.
Васька и сам догадался, что руки тут распускать не годится: разболтает ведь, чертенок, на весь свет, до Прошечки дойдет слух — пропала тогда Катюха.
— Ты, Степа, знаешь чего, — начал он с лаской в голосе, на какую только был способен, — не лез бы под ноги большим.
— А я и не лезу. Не поспалось мне, проснулся — никого нету. Хотел узнать, где ты. Одному-то ведь ночью скучно…
— Ну ладноть, пока греется твоя каша, я еще чуток подремлю. А ты про это помалкивай.
— Само собой. Малое дите, что ль, я?
Но подремать Ваське больше не удалось. Мысли полезли в голову нехорошие. Ведь до чего же свободно чувствовали они себя с Катькой: ни души вокруг! А она, «душа-то», рядом была…
— Васька, — просунув голову в дверь будки, жалобно возгласил Степка, — каша-то вся сгорела, пока мы тут болтали…
— Тьфу ты, стряпуха! Ну картошек свари хоть нечищеных. Есть там картошки-то?
— Есть.
— Вари давай.
Пока Степка горелую кашу отдирал от котла, мыл его, сделав из травы вехотку, костер совсем затухать стал. Только котел с картошкой на таган подвесил, Егор подкатил на паре, запряженной в пустой фургон.
— Ты чего, все один, что ль, хозяйничаешь?
— Чего же один-то? Васька вон в будке валяется.
— Нашел ты его, — выспрашивал Егор, торопливо распрягая лошадей, — аль сам нашелся?
— Да он и не терялся вовсе: в другом углу под ватолами спал, а я спросонок-то не разглядел. Темно в будке…
— Врешь ты, шельмец, по глазам вижу — врешь.
— Для чего же мне врать?
Привязав коней к колоде, Егор приволок большущий сверток и, разворачивая край попоны, заговорщически шептал:
— Глянь, чего я накупил-то!
Первой из свертка высунулась сверкающая четверть с водкой, отчего у Степки нисколько радости не прибавилось. Но дальше там обнаружились аппетитные кольца колбасы, изрядный кусок сыра и даже леденцы.
— Слышь, Степка, — шептал Егор, — целую горсть лонпосеев дозволю взять, ежели правду про Ваську скажешь.
— А я правду и сказываю, — Степка умышленно говорил громко, чтоб Ваське слышно было. — Чего ж мне напраслину возводить на человека из-за горстки конфет?
Но взгляда-то от леденцов Степка никак оторвать не мог.
Видел это Егор и ухмылялся, когда парнишка, сглатывая слюнку, независимо постукивал щепкой по горящему кизяку.
— Ладноть, бери, пес с тобой, — сжалился Егор, — да лошадей напоить сгоняй, как выстоятся они малость.
Степка растерялся даже от такой щедрости: как же это, самому, что ль, брать? Больно уж непривычно. Всегда из рук взрослых получал он гостинцы…
— Ну, чего ты глаза-то вытаращил? Бери всей горстью, — подбодрил Егор.
Поддернув повыше правый рукав, Степка прицелился, как коршун к цыпленку, и запустил в леденцы донельзя распяленную пятерню. Сжал, насколько возможно, горсть — леденцы полезли между пальцев. Тряхнул горстью разок и с великой осторожностью перенес ее в карман. Еле просунул разбухший кулак. А выпавшие конфетки подобрал и добросовестно вернул обратно в кулек.
— Ох и жаден же ты, — покачал Егор головой.
— Х-хе, жаден, — обиделся и покраснел Степка, — я и брать-то не знаю как: первый раз вот эдак беру, своей рукой…
— Ничего, — засмеялся Егор, — хоть и первый раз, а умеешь уже.
— Коль тебе их жалко, лонпосеи эти, возьми! — в сердцах гребанул из кармана Степка, однако ж горсточка получилась у него маленькая, в щепоть.
— Да не серчай ты, дурачок, посмеялся я. Шуток, что ль, не признаешь?
Егору на этот раз не до шуток было. И знать о Ваське хотел он не из простого любопытства. Давно Егору пора бы жениться, а все что-нибудь да не так выходит. До службы намеревался сделать это, так Дарья карты перепутала. Просидела она в девках малость подольше, чем принято было — годов до двадцати, — а тут за Макара в момент скрутилась и перешибла Егоровы планы. Не справить отцу две свадьбы враз, не под силу. Теперь вот уж после службы два года минуло. Молодые девки обегать стали Егора, да и сам он каким-то неловким сделался. С осени прошлогодней к Катюхе приглядывался. А пока хватился — Васька Рослов уже провожает ее. Опять же, одно дело — с вечерок проводить девку, и совсем другое — ночевать с ней в поле.
Когда Степка увел на водопой лошадей, проверил тихонько Егор: нету на стану Катюхи. Сказывал Васька, что домой собирались вечером ехать, да из-за них задержалась. Может, и уехала тогда же…
До ручья, где лошадей поили, версты полторы будет. Степка не торопясь, шажком, едет на Карашке, в поводу Воронка ведет, леденцы посасывает. А сам все думает. И леший разберет их, этих больших, чего у них на уме-то. Прошлой осенью, когда башкирцев убивали, вон ведь каких натерпелся страхов и не подумал, что какие-то остались там тайности. Все вроде бы наружу вышло, а по весне дед надрал за то же самое да язык за зубами держать велел.
Теперь вот Васька тоже. Сами с Катюхой целуются, а ему помалкивать приказал. И Егор чего-то выспрашивает. Нет уж, теперь Степку не проведешь. Лучше не соваться в дела ихние.
Рассуждая таким вот образом, Степка выехал на взгорок, откуда хорошо ручей видно. Кто-то подогнал к водопою с десяток лошадей. Степь-то, просторная, далеко смотрится, как на ладони. А ветерка нет. Парит, словно в бане. Рубаха к телу липнет.
У ручья тоже какой-то парнишка, вроде Степки, маломерок. Кони все к воде сунулись, пьют, а он подпрыгивает возле карей высокой лошади, на какой ехал, разнуздать не может… Так ведь это ж вроде бы Карюха дяди Кирилла Дуранова. Ну, конечно, она! И парнишка этот не кто другой, как Ленька Дуранов… Разнуздал все-таки, подпустил к воде. Другие лошади, напившись, отходят от ручья и табунком направляются в обратный путь. Карюха тоже отмахнула морду от воды — с губ струя побежала — и круто повернула вслед остальным. Не хочет она отставать, не привыкла. А Ленька удерживает ее, обуздать-то не смог, видно, не слушается она его. Повод через голову ей перекинул и петлю вниз опустил — ногу в нее поставить прилаживается. За холку держится и на одной ножке подпрыгивает. А лошадь не стоит никак, идет.
Степке с полсотни саженей до ручья-то оставалось. И глазом не успел он моргнуть — Ленькины руки сорвались с лошадиной холки, а босая нога в петлю повода проскочила да еще повернулась, затянув повод. Карюха побежала рысью. Голова Ленькина, мотаясь между кочками, замелькала у задних ног лошади.
Крикнул он только раз, но так, что у Степки картуз на волосах поднялся. Нечеловеческий, страшный крик застрял в ушах, прищемил сердце и заморозил душу. Наступила, видать, лошадь-то ему на голову копытом и, напугавшись Ленькиного крика, рванулась наметом.
Степка хоть и обалдел от всего этого, но, бросив повод на шею Воронку и пугнув его к ручью, кинулся наперерез Карюхе, надеясь остановить ее. Да где же остановишь страсть этакую! Карюха вмиг догнала своих лошадей, те расскочились с визгом, и понеслись все вместе. А Степка, оказавшись в хвосте этой дико скачущей, обезумевшей своры, изо всех сил нахлестывал Карашку поводом, но ни на шаг не мог приблизиться к преследуемой Карюхе. На Леньку он старался не глядеть. Да и глядеть-то невозможно было: ветер свистел в ушах, в лицо летели из-под копыт земляные брызги. Потом догадался: если приотстать, может, и кони замедлят бег. Натянул поводья, сразу отстал. Но дурановские кони, видно, и не заметили этого. Словно диким ураганом несло их по степи. И где-то там, между множества лошадиных ног, в пыли, временами взметывалось хлипкое Ленькино тело.
Впереди показался дурановский стан. Работники — их было четверо: двое братьев Гребенковых и два пришлых молодых татарина — заметили неладное и, разбежавшись друг от друга шагов на пять, встали преградой коням.
Когда Степка подъехал к ним, Карюха стояла уже на привязи возле мешанинника. Вся она взмокла, вроде бы только искупанная, тряслась мелкой дрожью, приседая на задние ноги, и кровянистым глазом опасливо косила на Леньку. Глянул на него Степка и окаменел. В горле не комок, а распорка какая-то колючая врезалась — ни дохнуть, ни слова сказать. Зареветь бы теперь во весь голос — полегчало бы враз, да не ревется. Даже слез-то никак не выдавишь. Сухо в глазах, аж режет их.
— Как это вышло-то у вас? — теребил его за ногу Петро Гребенков. — Ну, как? Сказывай!.. Немой ты, что ль?
— Никак, — не своим голосом прохрипел Степка. — До меня… еще не подъехал я, садиться-то он стал… Вот и сел… Карюха за лошадями поторопилась… а у его руки сорвались…
Работники и без Степки догадывались, как это случилось. Но всех потрясла моментальность и нелепость жуткой Ленькиной смерти. Лежал он на боку, рубашонка сорвана, только возле во́рота клочки остались. Лица не признать. Да его, лица-то, можно сказать, и не осталось. И спину будто бы огромной теркой беспощадно потерли. Сквозь врезавшуюся, втертую в тело грязь медленно проступает сукровица.
— Давай, Дороня, запрягай в телегу с коробом, — велел брату Петро, — домой везть надоть… Чего ж теперь делать-то.
— Коня поеду искать, — сказал Степка, ни к кому не обращаясь. — Бросил я его тама, как увидал, что Карюха Леньку поволокла.
Вот теперь, когда Степка остался наедине с самим собою, одолели его безутешные, жгучие слезы. Они размыли колючую рогатку в горле, расплавили окаменелость во всем теле и принесли облегчающую слабость.
Увидев место водопоя, Степка оживился малость. Туда-сюда головой покрутил — не видно Воронка. Может, напившись, к стану он утянулся, может, еще куда забрел, может, лихому человеку в руки попал — гадай теперь. Оглянуться не успеешь — новая беда навалится. Затужил парнишка. Коня напоил, не слезая с него, и заторопился к своему стану.
Но Степкины опасения, к счастью, оказались напрасными. Благополучно вернулся Воронко на стан, только повод оборвал, приступив его копытом.
— Эт чего ж ты, Степка, — упрекнул Егор, — всего-то с двумя лошадями был, и то упустил одну.
— Э-э, да он чегой-то не в себе! — подхватил Васька. — Падал, что ль?
Привязывая Карашку, Степка не торопился отвечать. Он хотел успокоиться и мужественно, не дрогнув, рассказать обо всем. Но крепости его хватило лишь до первых слов.
16
Дома в воскресенье, как говорится, встали рано, да напряли мало. Мирон с Марфой поехали в церковь крестить дочь в Бродовскую станицу. Кумовьями взяли Прошечку да Анну Данину.
На новую неделю Марфе стряпухой дома оставаться. Уговаривала она Дарью, чтобы та в ее очередь отстряпала — в поле-то полегче — не согласилась Дарья. Дома ведь содом настоящий: коров подои да напои, свиней накорми; курам бросить корму надо, яйца в гнездах пособирать; за телятами тоже догляд нужен. А тут ребятишек с трех-то семей целая пропасть: один есть просит, другому пить подай, третьему нос утри — глядеть тошно! — четвертому штаны сменить пора подоспела… Да еще в поле хлебы состряпать надо. И крутится баба от зари до зари, почаще, знать, поворачивается, чем белка в колесе.
Время уж к полудню подвигалось. Мирон с Марфой из церкви еще не вернулись. А Митька с Тимкой, взявшись двор подметать, растворили ворота настежь.
— Кому лаптей! Кому лаптей! — послышалось откуда-то со стороны Дурановых.
Это башкирец какой-то с лаптями едет. Возами они их возили. По двадцать пять копеек за пару брали.
Потом призыв насчет лаптей умолк, а через короткое время по-хозяйски вошла в распахнутые ворота лошадь с лапотным возом. Глянули на лошадь ребята и опешили — глазам своим не верят.
— Да ведь это ж Мухортиха наша! — вскричал от радости Митька.
— Правда, кажись, она, — подтвердил Тимка и, бросив метлу посреди двора, побежал в избу.
Первым во двор выскочил Макар, за ним Тихон приковылял на деревяшке, потом и дед Михайла выплыл, щупая сходцы клюкой. Окружили кобылу, так и этак разглядывают, мету на ухе проверили — Мухортиха! И она, признав прежних своих хозяев, едва слышно заржала, раздувая ноздри, и потянулась мягкими губами к уху деда Михайлы.
— Она, она это, без ошибки, — погладил дед кобылью морду щуплой своей рукой. — А хозяин-то ее где же?
— Не было его тута, — пояснил Тимка. — Сама она, одна во двор-то зашла. И без узды чегой-та…
— Сбежала, знать, от его, — предположил дед и по-молодому круто обернулся к Макару. — Сходи-ка, сынок, принеси ее погонную.
Макар в избу за бумагами побежал, а все остальные на улицу высыпали. Возле Дуранова двора, опершись одной ногой на лавочку и облокотившись на колено, стоял Кирилл Платонович, покручивая смоляной ус. Против него, прижав руки к груди, на коленях — старый башкирец. Волос из-под круглой шапки не видать, сивая борода повисла длинным клином над впалой грудью, полы старенького полосатого бешмета — в дорожной пыли.
— Отдай уздечка, прошу тебя, человек! — молитвенно причитал башкирец, тряся бородой.
— Да не брал я твоей уздечки, — осклабился Кирилл Платонович, показав белые ровные зубы, и не спеша достал из кармана кисет. — Ну чего ты ко мне привязался?
— Отдай уздечка, прошу тебя, человек!
— Ну не брал! Ты слышишь это?
— Ты брал, ты! — По морщинистым желтым щекам старика текли слезы, кустики седых бровей жалобно вспрыгивали. — Ты брал уздечка! Никто тут не был.
— Вот ведь какой надоедный, — засмеялся Кирилл Платонович, оглаживая в пальцах свернутую цигарку и стрельнув хищными кошачьими глазами по Рословым, остановившимся в трех шагах. — Где я тебе ее возьму?
— Отдай уздечка, прошу тебя, человек!.. Сын его подарил… Наборный, хороший уздечка… Умер сын…
Старик зарыдал, как ребенок. Вытянутые на шее под бородой жилы то напрягались, то мгновенно расслаблялись, и тогда вся шея покрывалась паутиной тончайших морщин.
Тимка никогда не видывал плачущих стариков. К горлу у него комок жесткий подкатился — ни проглотить его, ни выплюнуть. Поглядел на Митьку, и тот стоит, будто потерял чего.
— Ей-богу, не брал! — враз перестав смеяться, сказал Кирилл Платонович. — Ну, хошь перекрещусь?
Башкирец, рыдая, отрицательно мотал головой, в глазах у него появилось что-то похожее не испуг.
— Хошь, на Евангелие поклянусь?!
Кирилл Платонович улыбнулся так, что у Тимки под ложечкой льдинка застряла. Митьке отвернуться хотелось, но никак не мог он этого сделать. Дед Михайла перекрестился и зачастил громким шепотом «Отче наш».
— Нет, нет! — сказал башкирец. — Не надо! Уздечка брал ты. Отдай!
— Да пусть до вечера не доживет единственный мой любимый сын, ежели взял я твою уздечку… Ну, слыхал, черт прилипчивый?
— Слыхал, — с трудом выговорил башкирец, тяжело поднялся с колен и, глядя слезящимися глазами как бы в пустоту, пошел прямо на Рословых, приговаривая:
— Какой страшный человек! Какой страшный челове-ек!
Ребята, попятились. Дед, отступив от них, повернулся и слепо ткнулся в Макара, державшего в руке погонную. Тот взял отца за руку, повел домой. А башкирец, обгоняя Рословых, твердил:
— Какой страшный человек: уздечка и сын! Вай, вай, вай!
Вслед им послышался негромкий рокочущий смех Кирилла Дуранова, похожий, на ржанье Мухортихи. Отчаянно зажав руками голову, башкирец почти бегом повернул в распахнутые ворота ростовского двора. Обняв лошадиную морду, он снова горько заплакал.
— Ты вот чего, — подступился Макар, тронув его за плечо, — реветь об уздечке-то поколь погоди да скажи, откудова лошадь эта к тебе попала?
— Лошадь? — удивленно спросил башкирец. — Челяба на базаре купил… Чего?
Глаза у него просохли враз, видимо, в предчувствии новой беды. Он суетливо сунул руку за пазуху бешмета, вынул оттуда что-то завернутое в черную тряпку. Руки у старика тряслись, когда развязывал тугой узел.
— Вот, бумага есть… Гляди…
Макар взял форменную расписку с печатью, с подписями на типографском бланке, прочитал ее вслух, повертел в руках, отдал.
— Бумага на эту лошадь и у нас есть… Вот погонная… Коль читать умеешь, читай. Да дело-то, знать, не в бумаге, а в том, что весь хутор знает ее. Много лет прожила она у нас, оттого и во двор завернула…
— Я купил! Я купил! — твердил башкирец. — Челяба купил!
— Хоть и купил, а распрягать придется. Весной украли ее у нас…
— Я не украл, я купил! — выкрикнул старик и, снова упав на колени, обнял ноги лошади. — Вай, вай, вай! — опять покатились у него, слезы. — Как жить? Пять внуков-сирот, старуха — больше ничего нет! Вай, вай, вай!
— Не трожь ты его, Макарушка, — ткнул Михайла сына клюкой. — Не трожь, отпусти с богом. Не крал он, по ему знать…
— Да тебе-то откудова это увиделось? — заупрямился Макар. — Лошадь-то наша!
— А хоть и наша, дак чего ж ты в суд на его подашь? — вмешался Тихон. — Доку́мент вон и у его есть…
— Думать надоть, Макарушка, думать да бога помнить. Как же занесло бы его на этой лошади в хутор, ежели тута украл он ее? Подумай-ка, голова… Петля все это творит. Он, греховодник и вражина, кровушку из людей сосет. Да еще зубоскалит, разбойник.
Слушая отца, Макар вгляделся в жалкого, несчастного башкирца и застыл вот так, чувствуя, что переворачивается в нем все. Побежать бы прямо теперь же к страшному соседу и задавить бы своими руками эту пакость. Как земля этакого змея носит!
Не видя, что происходит с Макаром, дед Михайла ткнул его по-шибче палкой выше локтя.
— Слышишь, чего я сказываю: отстань от греха. Отпусти человека!
— Слышу, — сердито отозвался Макар и, будто спохватившись, кинулся под навес. Уздечку старенькую принес оттуда, поднял за плечо башкирца. — Возьми вот хоть такую да уезжай отседова подальше, пока цел. А то и без нас хуторские мужики признают лошадь — несдобровать тебе, помнут старые кости…
17
Васька, Егор и Степка, ожидая своих из хутора, успели поужинать. Егор истомился весь возле привезенной четверти, потому не утерпел и распечатал ее. Перед едой пропустили они с Васькой по паре глотков.
Начали оживать соседние становища. Приехали Прошечкины работники. Через недолгое время и Катюха на стану у них появилась, принаряженная, праздничная. А Рословы чего-то никак не едут.
Уж за верхушки дальних берез солнышко зацепилось, когда они подкатили к стану на двух фургонах. Старшие — Мирон и Тихон с Настасьей — так и не приехали. Пообещались быть рано утром. Мирон-то еще в субботу сказал, что в понедельник сюда вернется. А вот чтобы и Тихон дома остался, пришлось Макару позаговаривать братьям зубы. И надо было ему это для того, чтоб вольнее провести на стану воскресный вечер. Егора на торговую сделку подбил он же, Макар, и Тихону ничего не сказал о своих намерениях.
Сделавшись инвалидом, Тихон во многом переменился. В прошлом остроумный шутник и весельчак, теперь стал он ровнее характером, присмирел, что ли, куда попало не лез очертя голову. Здорово, видать, угнетала его инвалидность, но виду не подавал, крепился. Еще как из больницы домой вернулся и упросил деда отделиться от семьи по осени, сказал при всех, усмехнувшись горько:
— Пущай брательники мои на хозяйству обоими ногами встают, а я за ими на одной поспешать стану.
Ужин сотворила Дарья получше, воскресный. А водочкой не только хозяева изрядно причастились, но и гостям перепало неплохо. Понятно, Катюха тут полноправной соучастницей оказалась, потому как лошадка ее поработала на общее благо. Двое молодых работников с Катькой пришли на вечерки. Гордей Проказин, брат Егора и Дарьи, с молодой женой пожаловал. Этот еще на службу не ходил, а жениться успел раньше Егора. Осенью, как и Ваське, в солдаты ему отправляться.
Словом, народу собралось порядочно. К четверти этой мужики прямо прилипали. За ужином разговор все вокруг событий минувшего дня вертелся. Едва ли был человек в хуторе, который не знал в подробностях о случившемся.
О Мухортихе, о том, что нашлась она таким странным образом и была отдана башкирцу, говорили меньше, потому как давно догадывались, чьих это рук дело, и уж перестали дивиться злым проделкам Кирилла Дуранова. Но то, что поклялся он единственным сыном, дабы не вернуть хозяину уворованную уздечку — потрясло всех. И гибель сына — никому иное в голову не пришло — толковалась не иначе как наказание господне за ложную клятву. Если и остался в хуторе человек, не признавший никакой связи между Ленькиной смертью и клятвенными словами его отца, так им был сам Кирилл Платонович.
Видели Рословы, как после отъезда старика башкирца привез Петро Гребенков останки Ленькины, прикрытые его же пиджачком. Слышали, как надрывно убивалась над сыном Василиса. (Вот она-то, возможно, пока не знала о клятве мужа.) И сказывал Петро, даже сам Кирилл прослезился. Страшно глядеть на это было.
— Да неужли же он, лампир, и посля такого не образумится? — качал головой Макар, зажевывая колбасой только что выпитую водку. Отодвинул от себя кружку, обтер кулаком усы.
— Будя вам про его. Надоело! — взмолился Егор и, легонько вскочив, пошел к будке за своей двухрядкой. — Чего было — видели, чего будет — увидим…
На землю уж ночка упала темная, по небу звезды пропечатались во множестве. Но были они сегодня тусклыми какими-то, расплывчатыми, не сверкали начищенными бляхами по небосводу.
Как загудела в этакой тишине Егорова двухрядка, как понеслись по степи разухабистые звуки. Далеко их слышно! На звуки эти, на огонек потянулась молодежь с соседних станов. Гришка Шлыков пришел, Валька Данина вон какую даль одолела, не побоялась. И скоро на стану у Рословых такие игрища разразились — почище зимних вечерок.
Дарья, пока ребята с девками первую «польку» выхаживали, посуду прибирала. Макар возле костра сидел да ребятишек, Степку с Тимкой, подучивал, как держать костер, чтобы свету от него побольше было. Разогрела его выпитая водочка, кровь-то ключом бьет в жилах. А ноги хоть и лежат на земле, но так замысловато подергиваются под музыку, что Степка не выдержал, засмеялся:
— Ты чего, дядь Макар, бежать, что ль, собрался?
— Бежать и есть! — поддакнул Макар, вскакивая. — Даша, Даш, пойдем попляшем.
— Еще такого старья там не хватало! — сердито отозвалась Дарья.
— Да пойдем, чего ты!
— Сказано, не пойду!
Макар было направился к веселому кругу один. Дарья по-кошачьи шагнула вслед, ожгла его мокрой ладонью между лопаток и обратала сзади за шею полотенцем, каким посуду вытирала. Макар замычал, как бычок на веревочке, и, хватаясь руками за полотенце, попытался развернуться — не тут-то было. Зажав потуже полотенце, повела его Дарья впереди себя к будке, спать приказала. Поводок-то приослабила. От этакой неволи крутанулся мужик через левое плечо с присядкой да такого влепил женушке леща, что у той искры из глаз посыпались и полотенце из рук вырвалось. Дарья после этого вилы железные схватила, на мужа двинулась, вот-вот спорет… Пошла потеха.
Степка с Тимкой растерялись даже, не знают, куда и глядеть интереснее. Вертятся возле костра-то, как на горячих углях. То на Макара с Дарьей поглядят, то опять на круг уставятся. Весело там. Гармошка у Егора в руках так и бесится, а рядом Васька на поваленном мешке с овсом сидит, ложками дробь выбивает. Того гляди, ложки поколет, шельмец. Стараются ребята для Ганьки Дьякова да для Вальки Даниной. Вышли они на круг, отплясывают. У Вальки сзади косища аршинная мечется — не подходи! И частушки поют друг перед дружкой. Ловко у них выходит.
Ох, скоро ли покров, Скоро ли вечерочки. От меня от баламута Заревут девчоночки.Это Ганька поет. С виду он на кума Гаврюху смахивает, на отца, стало быть. А голос у него какой-то глуховатый — как из бочки слова вылетают. Валька режет звонко, с подвизгом, будто литовку по жалу оттачивает:
Ой, не скоро покров, Не скоро и вечерочки. Не надейтеся, ребята, Не придут девчоночки.Ганька:
Я матаню подследил Из куста орехова. Ты скажи, скажи, матаня, С кем вчерась проехала.Валька:
Круглая горошина В лапоть закатилася. Хорошо милый целует, Я не научилася.Ганька:
Сне́жки пали, сне́жки пали, Пали да растаяли. У меня штаны украли, Без штанов оставили.То ли Валька частушки этой засовестилась, то ли своей в ответ не могла придумать понахальнее — вылетела из круга. Замешкался и Ганька. Не ожидал он такого оборота. Притопнул разок-другой и остановился. Продлись это замешательство еще немного, так и музыка б, наверно, заглохла. Но в круг отчаянно ворвалась Катька Прошечкина. Остановилась в двух шагах от Ганьки, кулаками в бока уперлась и, разыгрывая сварливую бабу, набросилась на Ганьку:
Да что же ты стоишь, Посвистываешь? Штаны потерял, Не разыскиваешь?Опомнился Ганька, и снова замелькали его лапти в кругу вперехлест Катькиным ботинкам:
Милые девчоночки, Пустите на вечерочки. Я недолго посижу. На милашку погляжу.Катька:
— Мама, чаю, мама, чаю. — Чашечка разбитая. — Не пойду за Ганьку замуж, Его мать сердитая.Совсем, видать, выдохся Ганька, даже на такую занозу не ответил. Попятился задом и покинул круг. Но Катьку это ничуть не смутило:
В енту пору, на Миколу, Я каталася на льду. Приходили меня сватать, Я сказала: не пойду!Повернувшись к Ваське и выплясывая против него, ему одному спела:
Ты почаще, почаще, Почаще играй. Ты почаще поглядывай, Меня не забывай!Однако ж играть-то ни почаще, ни пореже больше не понадобилось. Неожиданно, никто и не заметил, как подкрался к развеселому рословскому стану ровный ленивый дождичек. Девки и ребята, окунувшись в темень, покинули стан врассыпную.
— Как же я потащусь даль этакую? — заныла Валька Данина, ужимаясь под каплями дождя и закрывая плечи руками.
— Ладноть, провожу я тебя. Плясали вон как славно, — сжалился Ганька. — Только за пинжаком в будку сбегаю…
— Дак нам же с тобой по путе, а ему ворачиваться придется, — подвинулся к Вальке Гришка Шлыков. — Чего ж тебе провожатого искать?
— Ишь ты какой, — возразила Валька, — у Ганьки-то пинжак есть, накрыться можно.
Понял Гришка, что не в пиджаке тут дело, и зашагал, согнувшись, в неприютную ночь.
Рословы все один за другим в будку полезли. Сегодня не придется Степке на скуку жаловаться — зажмут его в уголок, и не пищи. Егор подпалил свечку, стоящую на прилепленной к стене полочке, огляделся и едва не наступил Макару на ноги.
— Ты чего ж эт в будке-то один, что ль? — спросил Егор. — А Дарья где?
— К вашим на стан сбежала она, — хрипло выговорил Макар, сел на постели и принялся скручивать цигарку. Пошумели мы с ей тут маленечко… А вы и не слыхали за песнями да за пляской…
— Ой, знать, не маленечко пошумели-то, — засмеялся Егор, приглядываясь к Макару. — Уж не знаю, как ты с ей побеседовал, а она, кажись, не шибко ласково с тобой разговаривала — вон чего под левым глазом-то у тебя расцвело. Голубое с лиловым смешалось.
— До свадьбы заживет, — засмеялся и Макар. — Она небось тоже с примочкой спать-то легла. — Поднявшись, прижег от свечки цигарку и вышел из будки.
— Васька, — послышалось со двора, — чего ж ты по дождю-то шастаешь?
— Да иду я, иду, — отозвался Васька.
Не так они с Катюхой надеялись провести этот воскресный вечер, да порушил все планы дождик.
Утром, когда все в рословской будке еще спали, убаюканные монотонным постукиванием дождя по крыше, подъехал Тихон. Остановившись против двери и не слезая с ходка, он забарабанил в дверь кнутовищем.
— Эй, работнички, чего ж вы спите-то до этих пор!
— Часов у нас нету, — стоя на коленках, высунулся в дверь помятый, заспанный Макар. — Кочетов из хутора не слыхать, и солнушка не показывается — по чем же нам время-то знать?
— Да-а, — почесал Тихон мокрый клинышек бороды одним пальцем, уставившись куда-то вниз, под будку. — А ведь вы, никак, на четверти спали-то… Ничего? Не каталась она под вами?
— Эт ты про какую еще четверть? — не понял Макар. Не разглядел он и едва заметной улыбки Тихона, затерявшейся в усах и бороде.
— А вон про ту, что пустая валяется… прямо под тобой.
— Вот, черти, не прибрали! — перегнулся через порожек Макар, силясь заглянуть под будку. Неловко ему перед братом сделалось. И, стараясь обратить все в шутку, добавил: — А ведь я наказывал Ваське, чтоб с глаз ее долой…
— Эх вы, воришки мелкие, ротозеи: кобылу увели, а жеребенка у всех на глазах покинули! — И вдруг построжал Тихон. — А ежели б мы с Мироном подъехали? Ведь не миновать бы греха, — покачал головой, — до батюшки донеслось бы… Ну ладноть, буди всех. Посля завтрака Дарья с девками да с ребятами пущай за ягодами хоть едут, а вам с Егором валки переворачивать, ежели дождик перестанет. В углу-то в том, за колками, не успели скопнить.
Макар не признался, что Дарья от него сбежала, и пока Тихон распрягал коня, разбудив Степку, приказал:
— Добежи до Проказиного стану, покличь тетку Дарью. Скажи, что дядь Тихон велел за ягодами сбираться.
Вместе со Степкой от Проказиных пришла и Дарья, закутанная платком так, что одни лишь глаза припухлые видно.
— Никак захворала ты, что ль? — спросил Тихон, привязывая коня к колоде.
— Зубы на погоду разломило, — глухо пробубнила Дарья, оттягивая клетчатый платок у рта двумя пальцами и, не заходя в будку, принялась хлопотать о завтраке.
«И Макар чегой-то щеку прикрывал», — вспомнил Тихон и догадался в чем дело: нередко потасовки между ними бывали.
Хотя дождь почти совсем перестал, небо висело скучным серым одеялом, не предвещавшим скорого ведра. В ходок с длинным коробком, в котором приехал Тихон, шесть человек набилось. За вожжи Васька взялся, Дарья — старшая, а за нею еще Ксюшка с Нюркой да Степка с Тимкой.
— Чего, в смирновскую статью, что ль поедем? — спросил Васька, оборачиваясь к Дарье через плечо. — Там ведь поляны-то шибко ягодные.
— Туда и правь, стал быть, — согласилась Дарья.
В ходке сидели все квелые какие-то, словно пришибленные — ни шуток, ни разговоров даже. Угнетала не только погода, но и состояние Дарьи: все знали о вчерашней драке. Разве в семье такое утаишь?
Ягоды брать — занятие приятное, так ведь с оглядкой делать-то это придется. Нарвешься на казаков — не рад ягодам будешь. Подобрав под себя ноги, Степка сидел на сырой траве лицом к задку короба и, как заговоренный, безотрывно глядел на заднее колесо. Мокрое от травы, оно неустанно вертелось, временами бросая на Степку росные брызги и мелькая спицами. Кругом стлалась широкая плакучая степь.
На ягодник вышли неожиданно. Спелые, умытые дождем клубничины глазасто рдели в траве, пригнув к земле тонкие стебельки. Много их — глаза разбегаются. Девчонки так и прилипли к большущей кулиге.
— Ты с подводой-то, Вася, спустись хоть вон туда, в ложок, — распорядилась Дарья, — все не так маячить будет. А мы к траве пониже приникнем.
Ягоды брали торопясь, с азартом, как привыкли всякое дело делать. К полудню и ведро наполнили, и обе корзины. Обвязала их Дарья тряпками, специально для этой цели припасенными, и заторопилась:
— Поехали, поехали скорейши. Ягоды-то домой завезть надоть да на стан поспешать, разведривается вроде бы. Вон солнушка проглянула.
К хутору двинулись без дороги, напрямик, надеясь выехать на нее возле Зеленого лога и стороной миновать смирновскую заимку. Так оно все и получилось, как задумали. Никто им на пути не встретился. На дорогу выскочили удачно, по ней ходок покатил ровнее, без тряски. До лога оставалось еще саженей триста, когда Дарья предупредила Ваську:
— На спуске-то попридержи Ветерка, не разнес бы.
Ваське можно было не напоминать об этом, не маленький. Но, выехав на взлобок, откуда просматривалась вся дорога через лог, возница похолодел и так натянул вожжи, что Ветерок остановился. Там, внизу, стояли две подводы, а возле них, держа коня в поводу, выхаживал сам Иван Васильевич Смирнов…
— Ну, чего ж теперя… езжай, — тяжко вздохнув, сказала Дарья. — От его ведь не убежишь — увидал он нас… Езжай, чего уж будет…
Поехали шагом. В одном из хозяев, остановленных Смирновым подвод, все безошибочно признали кума Гаврюху. Другой был, несомненно, Леонтий Шлыков.
Кума Анютка — жена Гаврюхи, Манюшка и Леонтий сняли с подвод тяжелые корзины и понесли их к обочине дороги, видимо, высыпать ягоды. Опоражнивая посудины, бабы ругались во весь голос на чем свет стоит.
— Креста на тебе нету, анчихрист! — кричала кума Анютка. — Самому-то не собрать ни в жисть столь ягод! Пропали бы они все одно в поле.
— Подавиться бы тебе ими, кровосос! — вынесла приговор Манюшка.
Возмущался и Леонтий, высыпая ягоды, но за бабьим криком его не было слышно.
А Смирнов, молча следя за ними, нетерпеливо сжимал нагайку, и как только опростались корзины, пустил он ее в ход. Завизжали бабы. Леонтий, чувствуя, как загорелась спина от удара, бросился к телеге. А кум Гаврюха ягод не носил и держался в сторонке, возле подвод. Он, видать, еще от прошлой порки не опомнился.
С визгом, криком, шумом попадали ягодники на свои подводы и ударили по лошадям.
У Васьки, словно сами собой, зябко зашевелились лопатки, съежилась Дарья, прижались друг к другу ребятишки.
Подъезжая к казаку, Васька не сводил с него глаз, а Дарья косилась на огромную кучу ягод, ссыпанных на продолговатый брезент. Не могли Дьяковы и Шлыковы набрать столько. Тут, видать, еще не одна подвода опорожнена. По многим хуторянам походила, знать, нынче казачья плетка.
Смирнов как ни в чем не бывало стоял громадой на обочине. Ростом он не меньше трех аршин будет и косая сажень в плечах — богатырь. Это про таких, знать, в народе сказано: им что высоко, то и по росту, что широко, то и по плечу. Казачья справа на нем: фуражка с красным околышем, френч и шаровары с лампасами, великанские сапоги яловые. Бородища окладистая черная по груди раскинулась.
Поравнявшись со страшным этим казаком, Васька натянул вожжи, с замиранием сердца поздоровался и поклонился, согнувшись в ходке. На удивление всем, Смирнов ответил тем же. Да поклонился-то не как-нибудь, а полным поклоном, в пояс. Выпрямившись, мягким, почти ласковым голосом сказал:
— Ну, чего ж ты стоишь-то, мо́лодец? Проезжай!
Васька никак не мог сообразить, слышит ли он эти слова в действительности, или чудится ему такое. Дарья незаметно ткнула его под бок — Васька тронул вожжами коня. До хутора никто не проронил ни слова.
— Да как ж эт он? Как же он отпустил-то нас, зачем? — вырвалось наконец у Дарьи. Потом она повторяла эти слова до самых ворот. И не раз накатывал на нее безудержный смех, перекинувшийся вскоре и на остальных.
Небо к этому времени очистилось совершенно, и солнце, тоже будто умытое, вовсю поливало щедрыми лучами. Дарья перестала закрывать лицо. Да не так уж и безобразила ее едва заметная синь, разлившаяся по скуле. У Макара-то куда заметнее синячище красовался.
Во дворе встретил их дед Михайла. Мирон с Настасьей, оказывается, только что на покос уехали. Дарья, Васька и ребятишки наперебой рассказывали деду о только что пережитом.
— Да что ж эт он, признал, что ль, нас? — не переставала дивиться Дарья.
— А поклонился-то как низко! — вставил Степка.
— Да не вас он признал, глупы́е, — засмеялся дед, — откуда ему знать вас? Жеребца нашего, Ветерка признал… Сколь раз ведь на ем Мирон к Смирнову ездил… И поклонился-то он ему же, Ветерку, а не вам, глупы́м.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Проспи Ромка чуток подольше — босиком на весь денек останется. На двоих у них с Ванькой одни башмаки, и те дырявые. А на дворе-то который уж день грязища непролазная, слякоть. Оттого завелось у них правило: кто раньше встанет, тот и обутый ходит. Понятно, заботушка с вечера наваливается: кабы не проспать утром.
Очнулся Ромка и шевельнуться боится, чтобы Ваньку не потревожить. Поморгал глазами, уставясь в потолок, прислушался — сопит Ванька — и тихонько откатился к краю печи, опустил ноги, пятку в печурку всунул, чтобы опереться. В избе хмуро, пасмурно, только к порогу от чела из печи светит. Бабушка там управляется. Матери не видно. Папашки уж третий день дома нету — часто уезжает он куда-то по своим делам. А Валька — слышно из-за трубы — возле кутного окна покашливает, за столом что-то делает.
Не спеша на лавку спустился Ромка, почесывается, глаза трет… А Ванька тем: временем, проснувшись и увидев Ромкин затылок, неслышно, по-кошачьи, вскочил и прыгнул через брата на пол. Понятно, башмаки достались ему, и в один из них успел он даже ногу сунуть с разбегу. Но не мог Ромка смиряться с этакой несправедливостью — дернул второй башмак из Ванькиных рук. Тот не только удержать сумел, захваченную обувку, а еще и по скуле брату смазал башмаком.
Простить неслыханного коварства Ромка не мог, конечно, потому выскочил сгоряча во двор — в углу возле навозного вала приметил большую кость. Скула это коровья была, потемневшая от времени. Собаки, что ли, сюда ее затащили. Прошлепав через грязный двор, схватил кость Ромка да еще примерился, взмахнул, как палашом, взяв ее за тонкий конец и спрятав за спину, пустился в обратный путь. У входа опередила Ромку мать. Кизяки несла она в фартуке, держа его за углы руками.
Ванька, хватаясь за подол юбки, спрятался за мать. Ромка — за ним. И понеслись вокруг матери. Той и идти-то нельзя, и руки заняты, чтоб шлепков надавать обоим.
— Да бесы вы шалопутные! — вскричала Анна. — Ну, только бы кизяки положить!
Однако Ромка успел свое дело сделать — долбанул костью по Ванькиной голове и, не дожидаясь материнского возмездия, подался на улицу.
Ни умыться, ни поесть, конечно, не успел. Неприютно под серым клочковатым небом. Из опустившихся клочьев этих, как из невыжатых вехоток, сырость так и сочится. А под босыми ногами грязюка холодная хлюпает. Но домой воротиться никак невозможно, пока не приедет папашка. Он разберется во всем и поступит по справедливости.
Шатаясь вблизи двора, Ромка соображал: ежели в хутор уйти, никого из ребят не сыщешь на улице в этакую погоду, да и рано еще. Можно, конечно, добежать до Шлыковых — недалеко тут, — так ведь накормить-то не догадаются они, и попросить хлеба совестно. Яшки, скорее всего, дома негу. Помаялся он летом какой-то чудной хворью — ничего не болит, а он будто бы хворает — и опять скотину у Кестера пасет.
Раздумывая этак, Ромка не заметил, как отдалился от своей избы и полпути до Шлыковых отшлепал. Жидкая грязь на дороге между пальцев червячками цвиркает, а рубаха и сплошь заплатанные штаны волглыми сделались, отяжелели. Навстречу, тоже, видать, к Шлыковым, какой-то парнишка идет… Колька это Кестеров. В сапогах он, в пиджачке и в кепке серой. К воротам поворачивает…
— Эй, Колька, погоди! — окликнул Ромка. — Вместе зайдем… В гости я к Семке иду.
— Х-хе, гость, — осклабился Колька, взявшись за веревочную петлю, чтобы отворить воротца.
— Да ты погоди! — побежал к нему Ромка.
— Чего мне годить, коли по делу иду.
Колька юркнул в воротца под крышу двора, а Ромка, догнав его, ухватил за плечо, придержать хотел. Как повернется Колька да как поддаст пониже пупка сапогом Ромке — и в избу. Так и сел Ромка, да хорошо хоть не в грязь — сено тут натрушено было сырое. Такая захлестнула обида! С трудом поднялся и, корчась от боли, побрел домой, слезами заливаясь. Не побоялся материнского гнева, а пошел к ней с жалобой. Кому же больше расскажешь о своих болях, кто поймет их?
Мать, увидев плачущего Ромку, хоть и не стала за прошлое возмещать, но и ласки не нашла для него.
— Что ж ты сопли-то распустил, горе луковое! — сказала она с усмешкой. — Взял бы палку какую да и отвозил бы его, чем реветь вот так да жаловаться…
Кормить же его, как понял парнишка, никто не собирался. И бабушка, и Валька возле печи возятся и у стола, будто не замечают Ромку. Мать своими делами занимается, опять во двор собралась зачем-то. А Ванька, лукавец этот, натянул башмаки, и сидит на лавке у печи, как именинник.
— Ванька, — шепнул ему Ромка, — дай ботинки сходить мне недалечко.
— Иди ты… Дерется, да еще ботинки ему…
Ничего с ним не поделаешь. Незаметно подплыл Ромка к залавку, после того как мать вышла, схватил добрый кусок калача, пиджачишко натянул на сырую рубаху, да только его и видели. Дорогой торопился, жуя калач, дождем и слезами примоченный. А когда проходил мимо окна Шлыковой избы, заметил, что Колька-то возле самого окошка сидит без кепки…
Палку нашел Ромка ловкую. Подступился к окну и погрозил Кольке, а тот понял, что неспроста тут Ромка объявился, потому и не торопился выходить. Чувствуя себя в полной безопасности, Колька еще дразниться принялся, рожи корчить. Хорошо ему там, тепло и дождь не мочит. Такого издевательства не мог вынести Ромка. Подошел к окну, лишь на четверть от земли приподнятому, замахнулся палкой со всего плеча и глядит, как на него Колька в самое стекло пялится, а Семка Шлыков тянет его за рукав от окна-то.
— Босяк! Оборванец! — доносится до Ромки. — Папа говорит: все вы лентяи и голодранцы!
Эх, будь что будет: как хлестанет по стеклу Ромка. Не успел разглядеть, что из этого вышло, бросил палку и так отчаянно кинулся прочь, что лишь на полдороге к дому, как из-под земли, услышал:
— Ах, родимец тебя изломай, разбойник! Голову оторву, анчихрист!
Это тетка Манюшка Шлыкова надрывалась, потрясая кулаками. Побежала было она сгоряча, да куда же ей, старой, разве угнаться! Только и видела, как нырнул Ромка за угол своего двора. Но не прощать же этакого разбоя среди бела дня! Как выскочила в пимных опорках, раздетая, так и пустилась в погоню. Уж коли самой не удалось наказать, так хоть родители пусть его приструнят.
Запыхавшаяся, разгневанная, ворвалась она к Даниным в избу, даже не сбросив грязную обувку в сенцах.
— Где ваш чертенок-то, кума Анна? Ромка где?
— Еще небось чего-нибудь натворил?
— Натворил дак натворил, кума: окно у нас палкой высадил да Кестерову парнишке всю морду, как есть, раскровенил… Еще глаза, ладно, не вышиб. Да где ж он? Чего ж ты молчишь-то?
— Не заходил он домой, — ответила за Анну бабушка. — Во дворе, знать, либо за двором где-нибудь скрывается.
— А ведь это меня драть-то надо, кума, — хлопнула себя по бедрам Анна. — Шибко больно пнул его сапогом Кестеров парнишка. А я возьми да и скажи, чтоб реветь перестал: взял бы, говорю, палку да набил бы ему… Вот и набил, стал быть.
— Ну, как хошь, кума, себя дери аль его, но чтоб надрано было за такое злодейство!
— Да уж только бы домой пришел… Ведь окна-то бить не учила я его…
Если бы Ромка слышал этот разговор, возможно, и отважился бы он объявиться дома хоть поздно вечером. Но, сознавая великий непрощеный грех свой, с ходу вскочил на маленький сеновал над конюшней, с головой зарылся в сено и притаился в углу, ничем не выдавая своего присутствия. Прижух он в своем подполье, угрелся и, довольный чувством отмщения, крепко уснул. Проснулся ночью. Лежал, лежал, и вовсе не таким уютным, удобным и надежным показалось ему это убежище. Внизу лошади время от времени удилами позвякивают, ногами переступают. А тут, в сене, шевелится кто-то, шуршит. Может, мыши это, а может, и другой кто, пострашнее. Потом холодно стало, дрожь пробила. Да ведь и есть-то, опять же, хочется.
Словом, все эти неудобства выжили Ромку из укромного места. Во двор спустился. Холодно тут страсть как. А может, показалось так — ноги-то босые. Звезды на небе обозначились яркие. На улице долго не протерпишь.
Потянул Ромка дверь — не заперта. По сенцам на цыпочках прошел. Избяную дверь отворял долго-долго — скрипит, окаянная! А потом, остановив дыхание и не двигаясь от порога, чутко прислушался — спят все. Первым делом еду разыскал, насытился, попутно соображая, куда же теперь деваться. На улицу возвращаться бессмысленно. А дома оставаться — утром нещадно битым быть. И тут Ромку осенило. В углу, противоположном кутному, были у них пристроены полатцы маленькие, квадратные. Никто никогда там не спал, а служили они вместо полки, куда всякое тряпье забрасывали. Большому там не поместиться, а ему вполне устроиться можно.
Уснул Ромка не скоро: ворочался, укладывался половчее да так умащивался, чтобы утром-то не углядели его там. Тяжко, с перехватами вздыхая, вспомнил он Кольку Кестерова и позавидовал ему — спит небось Колька, обласканный матерью, в чистой постели, никого не боится, ни от кого не прячется. И все синяки теперь, наверно, отмочили на нем.
Ах, Ромка, Ромка! Не знал он и не подозревал даже, как и все хуторские жители, что мог бы иметь сейчас не только великолепные башмаки с пряжками, щегольскую курточку и фуражку — непременно учился бы в гимназии и мог ездить туда в карете с кучером, как многие дворянские дети.
Но бабушка и отец жили совсем не так, как другие дворяне в Самарской губернии, хотя имели дворянское звание и состояние немалое. Никогда не гнушалась Матильда простой черной работы. Особенность эту сыну передала, и пошел он по жизни, не выбирая легкого пути. Еще в студенческие годы навсегда связал свою судьбу с партией борцов за народное дело, без оглядки влюбился в простую крестьянку, дочь пастуха, и, не раздумывая, женился на ней. Грянул, раскатистый, кровавый и горячий девятьсот пятый год. Виктору Ивановичу казалось, что революция сметет царизм, развеет дворянские гнезда и, перетряхнув старые устои, откроет путь к социально справедливому обществу.
Захлебнулась в крови первая революция. Двоюродного брата в Самаре казнили страшной казнью — живым замуровали в кирпичный столб. Самому Виктору Ивановичу благополучно удалось провести жандармов, но, разумеется, не на долгое время. Тогда-то вот и родился мудрый план — окончательно, навсегда порвать со своим сословием и уехать в добровольную ссылку, потому как, оставаясь на месте, все равно не миновать ее.
Матильда Вячеславовна во всем поддерживала сына, участвовала во многих его делах еще до пятого года. А после грозных событий сделалась незаменимой помощницей. Усадьбу, землю и все имущество удалось им сбыть не то чтобы очень выгодно, но и неплохо. Половина вырученных денег была пожертвована в партийную кассу. С оставшейся суммой забились они в такой незаметный уральский угол и так безжалостно окрестьянили себя, что и ссылка теперь не страшна. И ни жандарму, ни тем более другому человеку, в голову не придет подозрение об истинной их деятельности.
Сотни десятин земли, приобретенные здесь, на Урале, не могли быть обработаны своими силами. Попробовали сдавать в аренду но вполне сходной цене. Это тотчас породило конкуренцию между мужиками, удовлетворение одних, недовольство других, лишние разговоры, словом, привлекало внимание хуторян. Популярность же в условиях столь глубоко задуманной конспирации отнюдь не желательна. Единственный, пожалуй, из хуторян — Кестер — усматривал в действиях Данина какой-то скрытый смысл. Но и он не знал подлинных целей этого человека.
На Ромке семейная революция эта каким-то образом отразилась, пожалуй, с зачатия. Мать, недурная собою в молодости, но очень недалекая женщина, благоговея перед мужем и совершенно не вникая в его непонятные дела, не барыней вошла в его дом, а работницей, как, впрочем, и свекровушка-дворянка.
Гостил у них в имении какой-то знакомый Виктора Ивановича, домой засобирался, вышел во двор коня запрягать. Заупрямился конь — не хочет в оглобли заходить, упирается. Анна тут же, во дворе хлопотала, помочь хотела. Хлестнула плетью по крупу, да не остереглась. Ударил ее конь копытом в живот. А поскольку была она по восьмому месяцу на сносях, то и родила в тот же день. Двойню.
Оглядели младенцев: один показался совсем безнадежным, решили — не жилец, нарекли первым пришедшим на ум именем — Романом. Другой понадежней выглядел, покрепче, жить, пожалуй, будет — его назвали Владимиром. А вышло все наоборот: дня через два преставился Володя, схоронили. А Ромка скрипел, скрипел и удержался-таки на этом свете. Месяца два его допаривали, все никак не верилось, что выживет. Потом, когда время-то подошло, заорал в печурке по-настоящему.
— Живой, волк его задави! — обрадовался отец, подхватил крошечного Ромку на руки и понесся с ним по залам и комнатам, извещая всех: — Живой! Жить будет Ромашка!
2
Простоват и по-своему хитер мужик, в поклонах расчетлив. Уж коли охватит его мертвой петлей нужда неизбывная, перед последним супостатом гнет горб, вымаливая милости. А чуть наелся досыта да голь прикрыл — так ему и черт не брат.
Даже с богом хитрить умудрялись мужики. Весной перед первым выездом в поле соберут все снасти, приготовятся с вечера. Утром встанут пораньше, запрягут лошадей. Потом идут в избу. Хлеб-соль на столе стоит, лампада в углу под иконами теплится. Молятся все: и мужики, и бабы, и ребятишки. Усердно молятся, чтоб урожая богатого бог послал.
Потом, как закрутится взахлеб работушка, — на бога надейся, а сам не плошай. Бога-то чаще всего забывают в эту пору, особенно ежели хлеба уродятся обильные. А перед уборкой только и заглядывают мужики: не пора ли начинать? Никому тут уж не молятся — на себя надеются.
Рословым в тот год больше всех не терпелось начать уборку, потому как задолжали они со строительством изрядно. Торопились первый хлеб свалить, обмолотить да скорее на базар свезти, не дожидаясь общей молотьбы.
На аппетит, известно, никогда не жаловались крестьяне, особенно в поле. Едят все, лишь бы кухарка подставлять успевала. И хотя говорят, что брюхо не зеркало, не видно, мол, там внутри-то, чего съел, а все-таки нужен продукт добротный и по возможности свежий.
Но в те недели, когда Марфа оставалась дома стряпухой, работникам в поле бывало несладко: не умела она хлебы печь, никак они у нее не выстряпывались. Удалая была эта баба — спеть и сплясать мастерица, на полевой работе любого мужика заменит. Пятипудовый мешок с зерном снесет куда надо и сена такой навильник подаст на скирду, что мужику там впору управиться с ним. А хлебы выходили у нее низкими, расплывчатыми, как шаньги, тяжелыми и некрасивыми. То пересоленный, то перекисший у Марфы хлеб, то сырой. И старается вроде баба, ведь уж много лет стряпает, получше норовит, а не выходят у нее хорошие хлебы, и только!
С пряжей вот так же: прядет быстро, веретено ее на глазах пухнет, а с «сучка́ми», сукрутинами, толстая, как у Дуни-тонкопряхи, то вот-вот порвется у Марфы пряжа. В холсте из такой пряжи шишка за шишку, узел за узел запинаются. Рубаха из ее холста дерет потные лопатки покрепче новой мочальной вехотки, — так царапины и остаются на теле, да по́том их еще разъедает.
Мирона за обедом не было — поехал он взглянуть на соседнее ржаное поле, куда собирались перекинуть машину после обеда. Проголодавшийся Макар, полулежа возле разостланной скатерки вместе со всеми, первые два ломтя хлеба сжевал безропотно, тем более что и на этот раз предварительно проглотил стручок перцу. Взявшись за третий ломоть, повертел его в руках, крякнул, откинул прядку светлых волос, повисшую на лбу и маячившую перед глазами, постукал по корке ложкой, как бы привлекая к себе внимание.
— Сверху закал и снизу закал, да в середку-то как он попал? — ухмыльнувшись, Макар подправил пшеничные усы и потянулся ложкой к быстро пустеющей чашке.
— Дак ведь мука-то солоделая ноне, — подал голос Митька, обжигаясь горячими щами. Ему и мать-то защитить хотелось, и хлеб, состряпанный ее руками, застревал в глотке.
— Какова мучка, да еще каковы ручки, — прозвенела в ответ Дарья.
— Чегой-то на той неделе не такой хлеб у Настасьи был: в рот его возьмешь — он так и никнет, сменьшается, — Макар потряс перед собой куском, — а этот в роту-то растет, больше его вроде бы становится… Как мыло, по зубам склизнет.
— Да будет вам за столом-то молоть чего не следовает, — прицыкнул Тихон на правах старшего. — Ешьте, чего есть!
— Ешьте, — не унимался Макар, — и так едим, куда ж деваться-то? А все же Настасья либо Дарья вон моя из той же муки хлебы пекут — не наешься, а этот хоть с другого конца толкай…
— Тьфу, домовой! — взорвалась Настасья. — Нешто можно такое о хлебе сказывать! Да еще за столом.
— Ты, знать, спятил, Макар, — с упреком выговорила ему Дарья, — черт-те чего при всех воротишь.
Макар не стал слушать баб. Захватив потолще кусок, откатился от застолья, покликал к себе Степку с Тимкой.
— Вы гулюшек лепить умеете? — спросил Макар у ребят, отведя их за будку на солнышко.
— Каких еще гулюшек? — недоверчиво протянул Степка.
— Ну, из глины пташек разных небось лепили?
— Лепили, — за обоих ответил Тимка.
— Ну вот, — подал ему кусок хлеба Макар, — вот из этого слепите по паре гулюшек покрасивше. Да пущай они подвянут на солнышке, заклекнут. Вот тут вота на ступицу их посадите… Поняли?
— Поняли! — бодро ответил Степка, лукаво скосив глаза. Он, пожалуй, смекнул, для чего понадобились дяде Макару такие изделия: с Лыской, наверно, домой стряпке послать сноровляется.
Понятно, не очень Степке хотелось готовить этакий подарочек для родной матери. Но ведь, опять же, совестно всякий раз попреки слышать, насмешки да издевки терпеть. «Нет уж, — рассудил про себя парень, — пущай она и сама посовестится да хлебы получше состряпает!» — и принялся вылепливать первую гулюшку, голубку то есть.
Лыска — здоровенный, длинный гончий кобель, бело-черный и высокий, как телок. Бегать скачками он почему-то совсем не умел, а только рысью. Купил его Макар по случаю у охотников. Сказывали, будто за лисами он хорошо идет. А Макар, хоть и не был настоящим охотником, до страсти любил поздней осенью или в начале зимы лис гонять, благо водились они в здешних местах во множестве.
Макар собрал объедки от обеда, накормил кобеля и повел его за будку, где все еще сидели ребята.
— Принеси-ка сюда арапник, Степка, — велел Макар и, достав из кармана маленький мешочек, чуть побольше кисета, критически оглядел пташек, сотворенных Степкой и Тимкой, покатал их в ладонях, потыкал заскорузлым тупым ногтем, выделывая нечто похожее на перья, и ссыпал в мешок.
Когда Степка вернулся с кнутом за будку, Макар крепко привязал к Лыскиному ошейнику мешочек с ребячьей лепкой, потянул его — надежно ли держится, отпустил собаку, подмигнул Степке.
— А ну-к, пужани его хорошенько!
Повторять этого Степке не понадобилось, но и Лыска знал, что к чему. Поджав хвост и виновато оглянувшись, он вымахнул из-под хлыста, едва успевшего задеть его, ходкой рысью выскочил на дорогу и пустился домой.
Такое бывало не раз. Когда в сборах участвует много людей, что-нибудь необходимое непременно забудут: то масленку машинную, то соль, то напильник самый нужный, то хватятся — перцу нет либо луку. И всегда в такой момент Лыска выручал хозяев. Напишут записку, пристроят ее к ошейнику и пугнут собаку. Дома Лыска не задерживался. Стоило его хоть чуть обидеть — он тут же возвращался на стан, так что часа через полтора-два этот быстроногий посыльный приносил нужную вещь.
* * *
Переделать все домашние дела никак невозможно: они плодятся тут же, на ходу, мгновенно. Марфа, покормив ребенка, выскочила на крыльцо. Расстегнутая кофта с завернутыми по локоть рукавами, пропитавшись по́том, прилипла к телу. Пестренький платок, схваченный концами на затылке, боком сидел на голове. Тяжело дыша, как загнанная лошадь, Марфа смахнула рукавом с лица пот и на миг остановилась на скрипучих сходцах, словно бы прицеливаясь, куда же в первую очередь броситься.
Крупно шагая, она пересекла двор, гребанула в амбаре пудовкой зерна и, растрясая его по двору, стала скликать кур. Потом кинулась под сарай, к колодцу. Подоткнув юбку вместе с фартуком, чтоб не замочить подол, принялась заполнять водопойную колоду: к вечеру, как скотина придет из табуна, водица потеплеет.
В углу гавкнул Курай, а сзади, протискиваясь в подворотню, Лыска приветливо взвизгнул.
— Господи, опять чегой-то забыли, черти беспамятные! — оглянувшись, ругнулась Марфа и, опустив тяжелую холодную бадью в сруб, присела на колоды, приготовившись встретить курьера.
Лыска подбежал к ней, вытянув морду, как бы подставляя ошейник. Марфа, не подозревая лиха, отвязала мешочек, ощупав его снаружи, легонько хлопнула собаку по шее, оттолкнула от себя.
В самый первый момент, вытряхнув на ладонь ребячьи поделки, Марфа не могла взять в толк, зачем ей такая посылка прислана. Но, бездумно подавив одного голубка пальцами, разломила его и враз встрепенулась, будто от неожиданного укола, сообразив, что гулюшки эти вылеплены из ее хлебов.
— Ах да головушка ты моя разоренная! — слезно запричитала Марфа, вцепившись руками в свои жесткие волосы. — Да чего ж мне теперь де-елать-то? Хоть в петлю лезь! Ведь не из-за лени, не во вред же я эдак делаю… Никак не выходють у мине христовые хлебушки!..
Вот уж правда-то горькая, безутешная! Не раз и не два приглядывалась Марфа к сношенницам, выспрашивала у них секреты выпечки хлеба. Те без утайки рассказывали все и показывали, потому как лучше же хлеб-то хороший постоянно есть. Но как ни старалась баба — редко-редко выдавались у нее сносные хлебы.
С досадой раздавив гулюшек в пальцах и швырнув их курам, хлопотливо топтавшимся по насыпанному зерну, Марфа тяжко поднялась и, вытирая намокшие глаза то одним, то другим рукавом, по-невольничьи вяло взялась за крюк и потянула бадью кверху.
Муку в этот день сеяла она с каким-то особым значением. Сито плясало в ее руках, шлепая о ладони обечайкой. Из амбара, пока сеяла муку, раз пять сбегала в избу взглянуть, как опара подымается. Заведя в двухпудовой квашне тесто, поставила ее поближе к печи и, туго обвязав клетчатым холщовым квашенииком, истово перекрестила сверху.
Спала всю ночь неспокойно. То Санюшку вставала кормить (так дочку новорожденную окрестили), то слушала, как возится квашня, пыхтит, работает, к утру подняться норовит. А все-таки продремала Марфа — ушло у нее тесто, стянув квашенник, выплыло через край на залавок. Но дело это легко поправимое. Подмешав квашню, побежала доить да выгонять коров.
Дед Михайла давно поднялся. То по двору бродил, кряхтя и надоедливо однообразно шаркая пимными опорками, то в свою келью удалялся, то умывальником гремел в углу. Умытый, причесанный на прямой пробор, подсел он к столу на лавку, положив обе руки, на изгиб клюки перед собой, замер картинно.
Пока раскатывала хлебы, пока расстаивались они, Марфа вроде бы и не замечала деда. Но, загребая алые угли кочергой, сердито покосилась на батюшку: не ко времени тут его поднесло! Надумала она сегодня испытать последнее средство, давно подсказанное бабкой Пигаской. Правда, ежели сказать по совести, у самой бабки хлебы выходили не лучше Марфиных, да ворчать-то на нее некому.
Помахала Марфа по по́ду сырым помелом, смела золу и, благословясь, посадила на деревянную лопату первую булку. Поправив ее ладонями с боков, затолкала в дальний левый угол. А выхватив лопату, поставила к шестку, зло оглянулась на деда Михайлу. Хоть слепой он, ничего не увидит, а все же стеснительно его присутствие… Эх, была не была!
Встала Марфа напротив чела, подняла подол длинной юбки к самому подбородку, жарко зашептала в печь:
— Подымайся вы-ше!
Подождала какой-то момент, пока жар ее заклинания смешался с жаром, хлынувшим из печи на ноги. И снова, подхватив лопату, посадила следующую булку, повторяя все сначала.
— Чегой-то ты, Марфа, гутаришь? — поинтересовался Михайла, расслышав Марфины слова.
— Да ничего я не говорю, — сердито откликнулась Марфа, сажая на лопату очередную булку. — Поблазнилось тебе, батюшка.
С давних пор, еще с молодости, знал эту бабью причуду Михайла. Даже Катюха его при крепостной неволе когда-то пробовала прибегнуть к помощи такого заклинания. Увидел тогда ее Михайла и просмеял. А теперь, представив себе сноху, засовестился, ухмыльнулся лукаво в бороду и тихонько, стараясь не шаркать ногами, удалился от греха в горницу…
Не ахти какие пышные удались и на этот раз хлебы, но, отломив от одного горбушку, стряпуха вздохнула облегченно: из этого не слепят гулюшек — пропекся хорошо, и корки славные вышли, никакого закала нет.
3
В семье у Даниных росла, завьюживалась тревога: Ромка-то исчез. Уж третьи сутки пошли, а его нет. И Виктор Иванович домой не возвращается… Анна беспомощно ахала, охала, не зная, что предпринять. Наконец бабка Матильда распорядилась искать беглеца по всему хутору.
Вальку послали в дальние избы, Анна должна обойти ближние, а Ванька за речку сбегать. Словом, через полчаса весь хутор знал, что у Даниных пропал Ромка, исчез неведомо куда.
— Хлеб да соль вам! — возгласила Анна, ступая через порог и кланяясь в низкой избяной двери Шлыковых.
— Обедать с нами, кума, садись! — подхватила Манюшка, подтолкнув за столом Семку поближе к Ваньке.
Леонтия и Гришки дома не было — в поле, видать. Ванька поторопился, хлебнул горячих щей и натужно закашлялся, отвернувшись от стола. Посвежел он за лето малость, но не работник пока.
— Какой уж тут обед, кума! Спасибо. Ромка-то ведь у нас потерялся…
— Да что ты! Когда? — тревожно спросила Манюшка, покосившись на разбитое окно, заткнутое мешком с соломой.
— Вот как мы с тобой вышли от нас — искать-то я его пошла, так с тех пор и нету…
— М-мм, — жалостно промычала Манюшка, покачав головой. — Ты, Семка, не видал его?
— Не, — сказал Семка, — не видал.
— Уж не решил ли он себя, кума? — полушепотом предположила Манюшка. — Он ведь у вас, — ух! — бедовый какой, вражонок.
— Ой, не знаю, не знаю! — заголосила Анна, пятясь к двери. — Ровно проглотил его кто… Да как же мы перед отцом-то ответим, ежели не сыщется Ромка?.. Вон ведь у Дурановых — побольше парнишка-то был, да видишь, чего стряслося…
Ванька домой последним вернулся и на вопрос бабушки, не слышал ли чего о пропавшем, горько всхлипнув, ответил:
— Никто и не видал его, даже издаля…
«Ишь ведь какой, — безжалостно отметил про себя Ромка, — теперь нюнит, а башмаков пожалел!»
Объявлять свое присутствие Ромка, однако, не собирался до приезда отца. Жилось ему в укрытии, понятно, не сладко, но потерпеть еще можно. Пролежав целый день без движений — повернуться-то не во всякое время можно — и дождавшись, пока все уснут, Ромка спускался с небес, хранивших его, на грешную землю, и тут начинался хитрый пир. Не мог же допустить Ромка, чтоб домашние догадались о его близком присутствии по исчезнувшим продуктам. Приходилось и хлебушка так отрезать, чтоб сильно-то в глаза не бросалось уменьшение булки, и во всем прочем осторожность иметь.
Прошлой ночью глядел, глядел на две холодных картошины, оставшихся в чугуне от ужина, да так и не отважился взять — уж больно заметно. Ухватил добрую щепоть соли, густо посыпал отрезанный ломоть и ладошкой вдавил в него соль. А потом осторожненько, не скрипнув дверью, подался во двор. В огороде снял с грядки пять огурцов — вот и ужин. Аппетитно хрустят огурцы, соком брызжутся, и дух от них такой свежий да заманчивый! Прямо на грядке и оттрапезничал.
Теперь вот лежит, в потолок поплевывает и гордится — выдержал! Все повесили носы, приуныли. Только бабушка Матильдушка глядит как-то по-особому, на свой манер — веселья в ней не заметно, но и грусти, как у других, нет, а вроде бы себе на уме держится…
Виктор Иванович приехал часов в пять пополудни. Встречать его все высыпали во двор. Даже бабушка, хоть и в последнюю очередь, а тоже не утерпела — вышла. Вот теперь самое время из засады выбраться Ромке. Сиганул с полатей на столик, в два прыжка пересек избу, присел на лавку возле кутного окна, так, чтобы со двора не увидели, и слушает, как мать сквозь слезы рассказывает о потерянном сыне:
— Меня ведь лупить-то надоть, я надоумила его за палку взяться…
— Тебя, стало быть, и лупить, — согласился Виктор Иванович, — коль не знаешь, чего говоришь.
Когда распрягли коня и убрали сбрую, в избу направились все скопом. Анна шагала первой, за ней — Виктор Иванович и все остальные.
— Ах да ба-атюшки! — присела мать, едва переступив порог и увидев беглеца. — А он, пес, вот он посиживает!
— Ромашка, волк тебя задави! — воскликнул Виктор Иванович, легонько оттолкнув с дороги Анну мешком, который держал за перехваченное устье. — А наболтали, что ты потерялся.
— Да не терялся я, дома все время был, — с достоинством ответил Ромка.
— Эт где ж ты был-то, что никто не мог тебя углядеть? — наступала мать, не зная, смеяться ей, плакать или ругаться. — В трубе, что ль, сидел?
— Не в трубе, а на полатях вон…
Виктор Иванович между тем поставил на лавку мешок, порылся в нем, достал сверток из грубой бумаги и, подавая его Ромке, спросил:
— Так, значит, дома и был все время?
— Дома.
— Вот это конспиратор, волк его задави! — подмигнул Виктор Иванович Матильде. — Позавидуешь. — И Ромке: — На вот, держи гостинцы. Угощай всех да себя не обдели.
Ромка сначала направился к бабушке, а Валька подбежала сзади, щелкнула брата по затылку, молвив:
— Счастливчик!
— А ты залезь вон туда да просиди тама три дня, — тоже такая будешь, — отрезал Ромка, загребая для бабушки горсть конфет.
— Не-ет, — отмахнулась она, — у меня другой гостинец — табачок хороший. — И поманила к себе Ромку. Приложившись к его уху, зашептала: — Ты когда еще раз в побег ударишься, так огрызки от огурцов на грядке не оставляй и крошки не кроши…
Ромка, посрамленный неопровержимым разоблачением, смутился, однако ж остался благодарен бабушке, потому как, выходит, и раньше хранила она его тайну, и теперь лишь ему одному на ушко сказала. Повернулся с горстью конфет и высыпал их в пригоршню Ваньке.
— Держи, — сказал он великодушно, — может, в другой раз ботинки у меня отбирать не станешь.
Вальке тоже перепала добрая жменя. А мать взяла всего несколько конфеток и шлепнула блудного сына легонько.
— Пусть уж тебе все останется, — сказала она, — за отсидку твою голодную.
А Виктор Иванович, возвращаясь вот так из своих поездок (где он был и что делал — никто не знал), по-разному бывал добр и по-разному задумчив. Порою после такой поездки он принимался играть с ребятишками в бабки, одаривая своих и чужих гостинцами; то брал ружье и уходил в степь, а иногда отправлялся в хутор — так, ни к кому, на мужиков посмотреть.
Сегодня, пообедав с дороги, снял свои тяжеленные сапоги, достал из мешка книжку и сел в чистой избе за стол. Анна знала, что это надолго, потому несмело, вслед за мужем переступив порожек горницы, тихонько, вкрадчиво заговорила:
— Витя, когда ж мы хлеб-то убирать зачнем? Поспел уж. Вчерась я глядеть ездила… А ну как осыпаться станет! Мужики-то все в поле…
— Не горюй, Аннушка, уберем!
— Посмеиваются над нашей полоской мужики…
— А мы возьмем да завтра и выедем, волк их задави! Чего ж бы им смеяться-то?
— Хозяина, говорят, у этого хлебушка нету.
— Хм-м, — задумался Виктор Иванович, играя кончиком тонкого длинного уса. — Вот чего, Аннушка, ты пока все приготовь, а утром и выедем.
— Все давно у меня готово, да машину посмотреть надоть, с покосу никто ведь на ее не заглядывал…
— Утром, Аннушка, утром. Встану пораньше, косу наточу, всю лобогрейку смажу. Ну? Косить-то на ней рано утром все равно нельзя — роса.
Недовольная таким разговором, Анна нехотя повернулась и вышла. А Виктор Иванович, поглядев ей вслед, мысленно терзал себя: «Барин, проклятый барин сидит во мне, волк его задави! И ведь никаким ядом его не вытравишь оттуда!»
Немного успокоясь, он взял книжку, повернул ее несколько раз так и этак, будто соображая, читать или не читать, — открыл на закладке. Это были «Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского. По строчкам побежал быстро, въедливо. Через пять минут отключился от всего окружающего, оставшись наедине с Достоевским.
Эту книжку читал Виктор Иванович не впервые, содержание знакомое, но то и дело задерживался на многих местах, осмысливая их и продавливая ногтем прокуренного указательного пальца чуть не целые страницы.
«Эти бездарные исполнители закона решительно не понимают да и не в состоянии понять, что одно буквальное исполнение его, без смысла, без понимания духа его, прямо ведет к беспорядкам, да и никогда к другому не приводило. «В законах сказано, чего же больше?» — говорят они и искренно удивляются, что от них еще требуют, в придачу к законам, здравого рассудка и трезвой головы. Последнее особенно кажется многим из них излишнею и возмутительною роскошью, стеснением, нетерпимостью».
Через несколько десятков страниц — снова подчеркнутые ногтем строчки:
«Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентльмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее маркиз де Сада и Бренвилье. Я думаю, что в этом ощущении есть нечто такое, отчего у этих джентльменов замирает сердце, сладко и больно вместе… Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь… Человек и гражданин гибнут в тиране навсегда… Одним словом, право телесного наказания, данное одному над другим, есть одна из язв общества, есть одно из самых сильных средств для уничтожения в нем всякого зародыша, всякой попытки гражданственности и полное основание к непременному и неотразимому его разложению».
— Пусть пока разлагается, волк его задави, — почти вслух произнес Виктор Иванович и, разогнувшись, рукой потер одеревеневшую поясницу, продолжая взглядом скользить по строчкам. И тут он наткнулся на фразу, будто выделенную красной краской, хотя внешне она ничем не отличалась от других:
«Даже всякий фабрикант, всякий антрепренер непременно должен ощущать какое-то раздражительное удовольствие в том, что его работник зависит иногда весь, со всем семейством своим, единственно от него».
Выразительно крякнув, он увидел тут же не менее заинтересовавшие его слова:
«…Не так скоро поколение отрывается от того, что сидит в нем наследственно; не так скоро отказывается человек от того, что вошло в кровь его, передано ему, так сказать, с матерним молоком. Не бывает таких скороспелых переворотов. Сознать вину и родовой грех еще мало, очень мало; надобно совсем от него отучиться. А это не так скоро делается».
— Верно пишет Федор Михайлович: не скоро это делается. И грех свой родовой никакими заплатами, знать, не прикроешь, — сказал Виктор Иванович негромко сам себе, с усмешкой оглядывая свою видавшую виды рубаху, украшенную разномастными заплатами. — Грех-то этот внутри сидит, в самой середке, как мужики говорят… Ишь ведь как: все мужики в поле, на своих полосках гнутся, а этот шатается где-то да с книжечкой сидит…
Виктор Иванович потянулся до хруста в костях, взглянул на оконце, зарумяненное багрянцем заката, перевернул назад несколько страниц и, желая подвести итог прочитанному, снова стал просматривать отмеченные строчки.
— Г-мм… Ну, телесные наказания явно растлевают и самих палачей, и наказуемых уродуют, превращая в скотов тех и других… Такие наказания победная революция может отмести просто — законом, росчерком пера. Это скоро устроится: битые сами будут подавать голос о нарушении закона. Тут все ясно… А вот здесь, — перевел он взгляд на новую отметину, — задачка похитрее будет…
И снова прочел это место:
«Даже всякий фабрикант, всякий антрепренер (надо бы добавить — всякий лавочник, приказчик) непременно должен ощущать какое-то раздражительное удовольствие в том, что его работник (или какой-то попавший в беду человек) зависит иногда весь, со всем семейством своим, единственно от него».
При втором чтении Виктора Ивановича еще более потрясла жизненная правда этих слов — голая, как ладошка, и жестокая, как зубы голодного волка. Ведь если сам он при всем беспощадном старании да еще из-за необходимости строжайшей конспирации за столько лет не может превратиться в настоящего мужика, которого бы вообще невозможно было отличить от прочих, то как же быть со всеми этими приказчиками, лавочниками, антрепренерами, вовсе не желающими изменять себя в чем-то, даже и не подозревающими, что им что-то надо менять?
А ведь все они пойдут в новую жизнь! Кто-то должен управлять хозяйством, другими людьми. Понятно, не каждый антрепренер или лавочник поражен скрытым садистским ядом, но во всяком классе непременно найдутся люди с такими задатками. Они обязательно рвутся к власти — к какой угодно, хотя бы самой незначительной. А как же распознать, что именно в этом человеке скрытно сидит ядовитый червь, который начинает усладительно извиваться внутри от одной лишь мысли, что кто-то зависим от этого человека, кто-то обязан ему подчиняться, кого-то он может казнить, а кого-то помиловать? Как это узнать и не допустить?
— Вот это задачка нашим потомкам! Ну и попыхтят они с ней! Червяка этого страшного никаким способом не разглядишь, грозным декретом его не упразднить. И будет он здравствовать много лет, власть народную позорить…
Виктор Иванович глубоко вздохнул, будто умываясь, усталость смахнул пригоршней с лица и, вскинув руку, весело погрозил в пространство, обращаясь к потомкам:
— Хватит и на вашу долю, волк вас задави! Разбирайтесь там с червяками, травите их. А нам хоть бы свое успеть сделать — свалить вседержителя да свободу вам добыть.
Покряхтел Виктор Иванович, разминаясь, после долгого сидения, спрятал книжку в сундук, натянул сапоги и собрался смазывать лобогрейку. Никто за него не сделает этого. Вот Анна сейчас обрадуется, что хозяин взялся наконец за настоящее дело! Он усмехнулся своей мысли, толкнув избяную дверь.
4
Кто хоть когда-нибудь ждал первого обмолота нового урожая и видел его, тот поймет душу хлебороба и, наверное, никогда не забудет праздничного ощущения, какого-то волнующего чувства торжества. Это отнюдь не чувство власти над природой, а, скорее, неразрывный союз с нею в едином великом деле созидания. В золотистых зернах, лежащих на жесткой, как подошва, ладони Мирона, неведомыми путями объединились и животворящее солнечное тепло, и могучие земные соки, и пот крестьянский. Попробуй сочти, сколько труда, забот, волнений, тревог, мужичьих гадательных раздумий приходится на долю этих зерен. Работа и трепетное ожидание первого обмолота продолжались в течение всего года. Мужик тешил себя надеждами, но результат увидел только теперь.
Прежде чем затянуть устье последнего мешка завязкой, Мирон приложился волосатым ртом к ладони, губами прихватил несколько зерен и, тщательно разжевав их, остался, видать, доволен.
— Веди, Бурлака, Макар, запрягать станем, — сказал Мирон, прихлопывая и утрясая верхний мешок на возу, чтобы улегся поплотнее.
В город на базар собирались на двух подводах, высоко нагруженных мешками с зерном. Первый воз казался особенно внушительным — на тройке впору везти его, — а запрягли одного Бурлака. Второй — поменьше. В него запряг Макар Бурку и сбоку на постромках пристегнул своего любимого Рыжку.
Шаг у Бурлака хотя и неторопливый, но размашистый, спорый, так что задним коням время от времени приходится делать короткую пробежку рысью, чтоб не отставать далеко. А потом снова, как ни торопятся они переступать ногами, передний воз едва заметно начинает от них отдаляться, и через десяток минут опять надо переходить на рысь. От такой неравномерности движения Макаровы кони взопрели, едва одолев половину пути.
— Вот ведь уродится же такая скотинка, — рассуждал Макар, сидя на мешках и свертывая цигарку. — Другие кони против его что жеребята, ходить-то вровень с им не поспевают. А по силе — да их и равнять смешно… И между людями вот так же. Одного бог всем наградит: и умом, и силой, и красотой, а иному почти ничего этого не перепадет… — И, раскуривая самокрутку, выпустил дым изо рта, усмехнулся:
— Хх-хе, чудно как! И мудрено до невозможности. Всем бог может одарить человека, а счастья не дать! Сусед наш вон, Кирилл Платонович, всем взял: ума у его хватает, хоть десятерых объегорить, и красив. С его достатком давно бы с купцами, дворянами на короткой ноге быть, а он в конокрадах числится… Неужли счастье в том человек находит, что отвернулись от его все, как от заразного?
Вопрос этот, вынырнувший сам по себе, неожиданно, озадачил Макара настолько, что ему на всю дорогу хватило раздумий, самых заковыристых, странных и непонятных. Под конец он совсем в них запутался, как в сетях — вроде бы видно все вокруг, а в то же время связан по рукам и ногам — ни повернуться, ни пошевелиться. Даже обрадовался, как в город заехали: теперь эти думы покинуть можно, а в степи от них никак не отвяжешься.
Хлеб продали оптом с ходу, едва доехав до базара. Получив деньги, Мирон отправился за покупками, а Макар остался при подводах. Без дела просидел он с полчаса на пустых мешках из-под зерна. Потом поманило его устроиться поудобнее да прилечь на телеге.
Полуденная жара схлынула малость, да тучки заходили — нет-нет и прикроют жаркое солнышко. Ветерок прохладный все чаще набегать стал. От этого, видно, так сладко, задремалось в считанные минуты.
— Бурлак! Родной ты мой! — сквозь дрему донеслись до Макара восторженные слова, и незнакомый голос не то зарыдал, не то засмеялся, а вернее всего, смешалось в нем и то и другое.
Макар вскинулся, продирая слипшиеся глаза, и увидел молодого мужика, повисшего на шее тяжеловоза.
— Ба-атюшки! — захлебываясь, твердил мужик. — Да откуда же бог послал тебя прямо в руки мне?
Вися на крутой и могучей шее коня, мужик целовал его в мягкие губы, горячо и крепко прижимался к морде Бурлака, то, расцепив руки, гладил его по скуле, трепал гриву.
— Ты чегой-то там распелся? — подал голос Макар.
Мужик оглянулся, суетливо полез за пазуху легкого зеленого пиджака, истертого и испачканного колесной мазью, спрашивая:
— Хозяин этого коня где? Ты знашь хозяина? Поди-ка, ушел куда?
— Я хозяин, — за спиной Макара прогудел неожиданно Мирон, остановившись у телеги.
— Хозяин ты, а конь-от мой! — засуетился мужик, сдвинув картуз на затылок и смешно двигая белыми бровями. Вместо усов и бороды по розоватому лицу его топорщились редкие белые волосинки. Веки с белыми ресницами покраснели от волнения. Был он плотен, коренаст и, казалось, вот-вот разразится отчаянной бранью.
— Вот она, погонная-то на этого коня, — говорил он, разворачивая дрожащими руками бумагу, добытую за пазухой.
— Есть у нас доку́мент на его, — сказал Макар, приближаясь к мужику.
— Где-ка он? Кажи! — мужик круто повернулся к Макару. — Ну, кажи свой доку́мент! Одна бумага на коня полагается, а не две.
— Отстегни-ка Рыжку-то, Макар, — хмуро велел Мирон, — да сгоняй домой за бумагой.
— Привезет ли, не привезет он чего, — горячился мужик, — а городового позову я.
Не успел отъехать Макар, как подошел городовой и грозно распорядился, тыча пальцем куда-то под ноги Бурлаку:
— С места не съезжать! Стоять на месте до выяснения обстоятельствов, — и, обратившись к мужику, добавил: — А ты, ежели чего, покличь меня. Тута я буду, в мясном ряду.
Побольше трех часов пришлось мучиться на базаре Мирону. Передумал все — и понял, что с Бурлаком расстаться придется. Белесый мужик, отойдя от коновязи к забору, устроился там на чурбаке и не спускал глаз с коня.
Воротился Макар на взмыленном Рыжке, даже подостланный на спину пиджак насквозь промок. За городовым дело не стало. Просмотрев еще раз погонную прежнего хозяина Бурлака и несколько раз перечитав привезенную Макаром форменную расписку, городовой без лишних слов приказал Мирону:
— Распрягай, поколь до суда дело не дошло!
И хотя Мирон готовился к этому моменту уже не один час, мысленно простился с Бурлаком и, как покойника, помянул денежки, отданные за него, однако приказ городового, короткий и категоричный, показался Мирону нелепой новостью.
— А может, вы не этого коня-то берете? — охнув, будто подрубленный под колени, понес Мирон. Чувствуя, что не следует говорить этого, он уже не мог удержаться. — Ведь скотинка, она иной раз и похожей урожается. Вон у нашего суседа точно такой же конь… Все в их одинаковое. Как их отличишь?
— Где-ка, где другой-от конь?! — подпрыгнул мужик и забегал вокруг городового, цепляясь за него, как за спасательный круг.
— Сказываю, у суседа нашего в хуторе. — Чувствуя, что проговорился, Мирон и не подумал пятиться назад.
— Стой, не распрягай! — изменил свое решение городовой.
Видно было, что не за здорово живешь старается он для мужика. Подвалил ему тот, знать, не малую толику, хоть, может быть, и из последних деньжонок.
— Садитесь все да поедемте в ваш хутор, — приказал городовой. — Далеко это?
— Верст тридцать будет.
— Вот и поехали, — подмигнул городовой мужику. — На обратный-то путь все равно уж коняга у нас имеется.
Правя Бурлаком, Мирон чувствовал себя будто облитым грязью — досадно, горестно, стыдно отчего-то, коня жалко и денег жалко.
Но стоило ему вспомнить о предстоящей встрече с Кириллом Дурановым, как все это показалось до ничтожества мелким, пустым, а на первый план выступили беспощадные глаза Кирилла Платоновича, его сатанинская усмешечка. Не охнет он, как забирать коня станут, но и не простит этого Рословым.
— Шадринской я, шадринской, — не умолкая от великой радости, жужжал белесый мужик. — На этих коньках здорово извозом промышлял… Ничего другого-то у меня и нету-ка… В Тюмень, случалось, езживал, у себя в городе ломовщину правил. А на тот раз понесло меня в Екатеринбург. Первый раз собрался, да и то не доехал: в Покровском на постоялом дворе догола и обчистили. Хлыстик один при себе остался… Да ладно хоть с товаром-то приказчик хозяйской ехал — не на одного меня вина пала… С тех пор вот никак на ноги подняться не могу… Последняя рубаха с плеч ползет.
Макар долго тащился за передней подводой. Измученного Рыжку он уж не впрягал больше в пристяжку, а привязал его поводом к телеге. Отдохнувший и выстоявшийся Бурка нетерпеливо поспешал домой, налетая на переднюю подводу. Макару надоела такая езда, и он свернул с дороги в степь, намереваясь обогнать Бурлака, все так же ровно шагавшего по дороге.
— Куда? — грозно загремел городовой, хватаясь за револьвер. — Назад! На место!
Так и ехал Макар потом до самого дому сзади, сообразив теперь, какую бы он допустил глупость, оказавшись в хуторе раньше городового: ведь неизвестно, дома Кирилл Дуранов или промышляет где.
— А городовой-то, никак, подумал, что я упредить суседа норовлю, — ворчал про себя Макар. — Нет уж, пущай и Петля малость поплатится, коли нас эдак подвел. А ведь как божился, вражина, будто дело тут чисто, без подвоху!
В хуторе миновали рословскую избу и остановились у ворот Дурановых. Городовой первым поспешил к калитке, за ним — шадринский мужик. Мирон намеревался остаться у подводы, но городовой властно махнул ему рукой и кивком головы выразительно указал на двор. Из-за любопытства следом за ними потянулся и Макар.
— О-о, гости дорогие! — воскликнул Кирилл Платонович, выходя из сеней. — Гостям завсегда рады. — Он широко и радушно улыбнулся, словно готовясь обнять всех. Но во взгляде едва уловимо нечто такое мелькнуло, отчего даже у городового заметно убыло спеси.
— Есть у тебя породный гнедой конь? — не здороваясь и пряча глаза, хмуро спросил городовой.
— Есть породный гнедой конь! — надсадно захохотал Кирилл Платонович, при этом нос у него побелел и чуток потянулся вбок, отвратительно сморщившись на одной стороне. — Хороший ломовик. Вам купить али прицениться только?
— Дома он? — малость повысив голос и положив руку на кобуру, спросил городовой.
— Да дома, дома! — еще веселее залился Кирилл Платонович. — Где ж ему быть, господин городовой!
— Показывай!
— И куда вы так торопитесь, люди добрые? Привязанный он в конюшне стоит, никуда не денется.
— Показывай! — повторил городовой.
У всех остальных будто языки отнялись. Даже шадринский мужик, обуреваемый жгучим желанием поскорее увидеть украденного коня, не вымолвил ни слова.
— А может, чайку сперва попьем? — потешался Кирилл Платонович, оглаживая смолевой клинышек бородки и скаля белые зубы. — Самовар вон у моей бабы шумит.
— Показывай! — посинев лицом, взвизгнул городовой и нервно задергал крышку кобуры, стараясь отстегнуть ее.
Кирилл Платонович враз посерьезнел и без малейшей усмешки, пожалуй, даже с напускным смирением шагнул во двор, говоря:
— Пожалуйста, господа хорошие, ежели вам недосуг чаевничать… Гляньте на мово ломовика.
Вот теперь, когда за растворенной дверью показался круп коня, а потом и весь конь, у Мирона по спине забегали мурашки, а от лица отлила кровь.
Перед ним стоял гнедой ломовой мерин и даже ста́тью несколько похожий на Бурлака, но костистый, угловатый какой-то и старше, наверное, вдвое. От этакой неожиданности никто не проронил ни слова. Дуранов, полный торжества и упиваясь растерянностью горе-сыщиков, теперь засмеялся без всякой наигранности.
— Ну, чего ж вы? Аль конь мой вам не глянется?
— Не он? — тихо спросил городовой у шадринского мужика, как бы извиняясь перед ним.
— Не-е, — жалостливо потянул мужик, — того от Бурлака ничем не отличишь — близнецы!
— Ну, другого у меня нету, — жестко сказал Дуранов, поворачиваясь к выходу и этим давая понять «гостям», что делать им тут больше нечего. — Не обессудьте, ежели чего не так.
Со двора вышли все вместе. Мирон готов был провалиться сквозь землю. У Макара тряслись руки, и он их сцепил за спиной, под серой кожей лица у него бугрились и белели желваки. Ему хотелось заорать, выплюнуть в нахальные глаза Кирилла всю правду. Но он хорошо знал, что этим только добавишь бед на свою голову.
Бурлака выпрягли тут же, на улице. На его широкую спину взгромоздились законный хозяин и городовой.
— Запамятовал, кажись, ты, дядя, где второго-то этакого конька видал, — с издевкой сказал шадринский мужик, разворачивая Бурлака в обратный путь.
Мирон, сбросав на телегу упряжь, не годную ни на одну из оставшихся лошадей, впрягся в длинные Бурлаковы оглобли. Макар взялся помочь ему, толкая телегу сзади. А Кирилл Платонович, стоя у калитки, провожал их недобрыми словами:
— Чертомели несчастные! Как черви, в земле копаетесь. Не хуже этих ломовиков чертомелите, на свой горб только и надеетесь. Нет чтобы где и умом пораскинуть… А вы умом-то жить не умеете! — сдерживая злобу, негромко распекал он неловких соседей. Для него не существовало понятий «совесть», «честь» и прочих связывающих руки условностей. Был уверен, что Рословы так ведут себя исключительно из-за тупоумия. — Слюнтяи! Олухи! Щи вам лаптем хлебать да дерьмом прикусывать. Двух слов сказать не умеют. Ну что бы мне-то знак подать сразу! Так ведь они сами влопаются и другого под монастырь подведут. Боитесь вы суседа, как проклятого…
Он, кажется, не собирался остановить своих нотаций, потянулся в карман за кисетом, но Рословы, не мешкая, убрались к себе во двор.
Кирилл Платонович досадовал не только на то, что Рословы привели к нему городового — дело это привычное, не из таких переделок выкручивался, — а больше бесило его, что соседи, как ему казалось, живут вопреки здравому рассудку. Хоть у них укради, хоть им приведи — все отдадут задарма, черти сиволапые. Правдой прожить, дураки, норовят. А она, правда-то, вот она, в кармане да не в пустом кошельке сидит. У Яманчуева в городе кошель-то вон небось миллионный — так ведь и он от помощи Кирилла Дуранова не отказывается. И коли попадешься, так не выдаст. А этим хоть разжуй да в рот положи — выплюнут. Еще во рту полоскать примутся — чужое!
Когда Мирон, опозоренный, злой, оставленный в круглых дураках, дотягивал до места к сараю телегу, а Макар выскочил за второй подводой, с заднего двора вышла Марфа и обронила первое, что пришло в голову:
— Приехали, что ль?
— Приехали, растрафить тебя, карга пустоголовая! — Мирон с грохотом бросил оглобли.
— Да ты чегой-то, Мироша, как с цепи сорвалси? Аль с телеги упал?
— С такими делами кого хошь сорвет. Вот вша негодная — из-под ногтя вывернулся!
— Марфа, к нам Петля не заходил после меня? — запирая ворота, поинтересовался Макар…
— Заходил..
— Чего ему понадобилось?
— Да спрашивал, не случилось ли чего. Ты вона какой встрепанный из городу-то прискакал…
— А ты все и вывалила ему, как на духу? — вмешался Мирон, убирая сбрую Бурлака под сарай.
— Дык чего ж я ему еще скажу-то? Бурлака, говорю, хозявы признали, доку́мент нужен.
— А он чего? — допытывался Макар.
— Ничего. Посмеялся да пошел. Вам, говорит, разжуй да в рот положь, вы и то выплюнете…
К сыновьям вышел поохать и дед Михайла. Еще и еще раз прикинули убытки, попробовали раскинуть умом (вместо Кирилла Платоновича), предугадать, какую же он еще выкинет пакость, чем покарает за привод городового в его двор. Но так ничего придумать не могли.
5
Рожь и пшеницу Рословы скосили, да и овес подходил к концу. С утра Тихон заехал на последнюю полосу и поторапливал, шевелил коней, чтобы до вечера управиться с косовицей. А сам все поглядывал, как на соседнем поле работники Кирилла Дуранова свозили в скирду снопы. Споро у них дело двигалось. К обеду очистилась от снопов половина поля, тягуче-тоскливой сделалась она, эта очищенная половина, и вроде бы какой-то ненужной, пустынной.
Все Рословы мужики тоже, конечно, возили снопы, но Дурановы еще позавчера косовицу закончили, и это задорило Тихона, задевало его крестьянскую честь.
В пахах у взмокших коней хлюпала грязная пена, самосброска тарахтела без умолку — то громче, когда кони прибавляли шаг, то немного тише, когда убывала скорость. Взлетал хлыст, и кони струной натягивали постромки — машина снова начинала захлебываться в торопливом стрекоте.
У самого Тихона светло-синяя холщовая рубаха потемнела от пота и налипшей пыли, сделалась бурой. Словно подгоняемый кем-то невидимым, косарь без устали рвался вперед и не заметил на пути косилки изрядного валунка. Ударившись о камень, косогон хрястнул. Коса, будто застрявшая в густых волосах гребенка, с треском потянула овсяные стебли. Кони стали.
— Тьфу, растрафить тебя! — выругался Тихон. — Зачни торопиться — станет из рук валиться.
И до обеда-то оставалось уж совсем немного, однако пришлось выпрягать коней да ехать на стан со сломанным косогоном.
— Чегой-то ты прискакал так рано? — недовольно спросила Настасья, орудовавшая возле тагана. — У меня и обед-то еще не сварился.
Ничего не ответив жене, Тихон привязал коней к мешаниннику и принялся за починку косогона.
Часа два приглядывалась Настасья к соседским работникам — полоса Кирилла Платоновича совсем рядом к рословскому стану подходит. Сам хозяин тут появился, чего случалось крайне редко. А работники встрепанные какие-то, суетятся, торопятся, будто на пожаре.
Петро Гребенков, нахлестывая коня, круто подвернул к суслону, выскочил из рыдвана и, сполошно работая вилами, начал бросать снопы с такой поспешностью, словно в рыдване пламя горело, а он таким способом хотел его погасить. Следом за ним Дороня подкатил и, как бы желая опередить брата, с хрустом накалывал на вилы по два снопа, швыряя их в дробины рыдвана.
Возы у братьев поднялись в момент, но стоило Петру двинуться с места, как вся его поклажа позорно развалилась. Дороня, оставив свою подводу, кинулся на помощь брату. А его конь, почувствовав свободу, потянулся за лакомыми травинками в жнивье, круто подвернул передние колеса — рыдван опрокинулся, передок соскочил со шкворня, с курка то есть.
В ту же минуту возле работников появился сам хозяин. Лучше бы не видеть его здесь — лицо бледное, крылья носа вздернуты, будто нитками подтянуты кверху. Рот перекосился, изломав красивый черный ус. Брови торчком встали, а из сатанинских глаз вот-вот горячие искры плеснутся и испепелят все вокруг.
Швырнув себе под ноги картуз, растоптал его зверски, будто бы только он и виноват был. По-страшному схватил братьев за грудки и, нагнетая злость, стукнул их друг о друга. Тут же, оттолкнув работников, Кирилл Платонович выхватил у одного из них вилы.
— Глянь, глянь, чего Петля разрабатывает! — ахнула Настасья, теребя за рукав мужа.
— Да отвяжись ты! — локтем толкнул ее Тихон. — То ль без тебя не вижу?
Кирилл Дуранов, бесясь от злобы, столкнул с рыдвана последние снопы, дико прошипел:
— Пш-ш-шли вы к…! Р-работнички!
И он завернул такое неслыханное ругательство да еще с присловием, так что Настасья, слыхавшая на своем бабьем веку немало похабщины, зажала уши руками, чувствуя, как с ручки деревянного половника, зажатой в кулаке, стекают ей на ухо теплые щи.
Мужики Гребенковы, зная, что в такую минуту лучше всего не перечить хозяину, переглянулись и, не сговариваясь, зашагали на стан к Рословым. А Кирилл Платонович, освободив от снопов рыдваны, встал на один из них, другого коня поставил в ряд и погнал к скирде.
— Отстряпались? — шутливо спросил подошедших братьев Тихон, примеривая последнюю заклепку к косогону.
— Отстряпались, — кисло усмехнувшись побелевшими губами, в тон ему ответил Петро.
— Куды ж вы теперя?
— Была бы шея, — вклеился в разговор Дороня, присев на свободный край мешанинника и доставая кисет, — а хомут завсегда сыщется.
— Я к Прошечке пойду, а он к Илье Проказину сноровляется, — разъяснил Петро, потянувшись к братову кисету. — Пора теперя самая работная, лишь бы горб выдюжил.
— Да когда ж эт вы определиться успели? — удивился Тихон, расплющивая заклепку.
— На той неделе еще, — стряхивая в кисет крошки табака с волглой коричневой ладони, сообщил Петро.
— Как так?
— А чего ж тут ждать хорошего, — подал голос Дороня, — коли наш Петля с прошлой пятницы полный разгон учинил.
— Еще кого прогнал, что ль?
— Да всех, считай, разогнал. Мы вот последние. Два татарина у его осталось, дак они ему заместо родных…
— М-мм, — загадочно протянул Тихон, словно от зубной боли. — Снопы середь поля кинул… Хлеб-то чем же виноват?
— Не до хлеба, знать, ему, — почесывая серенький ус, заключил Петро. — Ишь ведь к чему придралси: воза развалились. Да ведь рыдван, он что пьяный мужик: от ветру валится, кочка под колесо попадет — валится, а ежели повернул чуть покруче, дак и вовсе летит все к чертям.
— Мд-а, — тянул и кряхтел Тихон, отложив свою поделку и сняв картуз, — а это, ребяты, шибко плохая примета.
— Для кого еще только приметки, — поддел его Дороня, — а для нас бедки. Итить надоть, Петро.
— Затеял он, ухабака, опять чегой-то злое, — не слушая Дороню, говорил Тихон. — Завсегда у его так, ежели засобирается над кем-то беду посеять. Помяните мое слово!
— А то мы не знаем, что ль, его? Перед вашим пожаром-то всех до одного разогнал. Дороня вон и в тот раз попал ему под руку.
— А посля звать пришел опять же к себе, — вставил Дороня, — кланялся, на колени вставал… Вот ведь какой, сатана, коварный!
Братья Гребенковы, спросив у Настасьи квасу, выпили с передыхом из лагуна по две кружки и отправились восвояси.
6
А ночь-то, ночка выдалась нынче какова! Месяц с вышины глядится в застывший, онемевший пруд, покрытый тонкой прозрачной пленкой льда. Словно большущее зеркало к плотине положили — огороды, бани, прилепленные по берегу, в нем отражаются. Вон кузня дяди Тихона повисла вниз дерновой крышей и едва не задевает бок месяца старым цинковым ведром, венчающим длинную трубу. А в дальнем конце пруда верхушки тополей Кестеровых виднеются рядком. Листья с них почти все облетели, оттого на сверкающей бликами глади льда отчетливо видна каждая ветка.
Васька не удержался от нахлынувшего восторга, подхватил с земли камушек и, как бывало когда-то в детстве, с припрыжкой запустил его по звонкому льду. Долго катился и разговаривал камушек. И пока он не умолк, Васька не двинулся с места. Потом торопливо зашагал по плотине, прислушиваясь к своим шагам. Под сапогами попискивала заклеклая сверху земля, покрытая изморозью. И казалось, не под сапогами это скрипит и похрустывает, а звенящий воздух, ломаясь, идет в горло, игриво покалывая внутри.
И плотину прошел, и хутор миновал — никого не встретил. Собаки даже не тявкнули из-под ворот. Крепко спят хуторские крестьяне. Суббота нынче — наработались вдоволь да в бане всласть напарились, теперь отдыхают. Перевалил Васька Зеленый лог — туманная мглистая даль степи открылась. Щетинистая стерня, седая и серебристая вдали, упруго потрескивает под носками сапог, разбрызгивая огнистые искры куржака.
Три скирды соломы, хрустально и празднично сверкающие в ровном свете луны, стоят безмолвно. Это Кестеровы скирды. Васька с Катюхой сговорились возле них встретиться. А тишина стоит нерушимая, незаметно, чтобы кто-то был тут. Не пришла еще, стало быть, Катюха. Васька обошел скирду. В присунутой к ней копне раскопал бок, откинув солому, покрытую куржаком, оглянулся… Идет! Вон как торопится, шустро ногами перебирает и длинную юбку впереди рукой придерживает, чтобы шаг не путала.
— Заждался, знать, родной? — спросила еще издали.
— Не озябла? — спросил в свою очередь Васька, забравшись в углубление и расталкивая солому плечами. — Иди скорейши, посогрею!
Она прыгнула к нему на распахнутую полу дубленой шубы и, умащиваясь половчее в соломе, приговаривала:
— Вот и гнездушка готова кукушкиным бездомным деткам.
— Ладноть, Катя, слезу-то пущать, — прижал он ее к груди, покорную и ласковую. — Теперь, знать, все равно ничего не изменишь.
— Ой! — всполошилась Катюха. — Никак, идет сюда ктой-то…
— Где?
— А вон, за Зеленым логом чернеется…
— Тьфу ты, глупая! Да это ж кизяк там Шлыков складен… Не увезли еще.
— И пра-авда!
— Не видала, что ль, как сюда шла?
— Ничего я, Васенька, не видала: глаза туманом застило. Одного тебя доглядывала.
Сперва исцеловала Катюха прохладное Васькино лицо, долго прижималась к жестким губам, а потом уткнулась в его грудь, щекоча выбившимися волосами подбородок. Распахнула рубаху на парне и впилась в белое тело, оставляя там яркие отметины.
— Да бу́дя, бу́дя тебе, Катя! — стонал он от сладкой истомы, не отстраняя ее от себя.
— А тебе, то ль, невдомек, что последний разочек подкатился? Распоследний, Вася!
— На комиссии засмеют меня с эдакими звездами, — поежился он. — Как бог свят, засмеют.
— Пролетело счастливое наше лето, — приговаривала Катюха, всхлипывая на груди у него. — Не воротится уж больше… В памяти лишь до смерти останутся… ласки твои горячие… Ой, да кому ж ты достанешься, сладкая моя отравушка?..
Совсем неожиданно, разноголосо и нелепо в хуторе загорланили петухи, возвещая о наступлении новых суток, последних суток вольной Васькиной жизни — в понедельник в город его повезут, в солдаты.
— Ах, пропасти на вас нету, — встревожилась Катюха, — опять орут, черти хохлатые!
— Орут, — вздохнув, подтвердил Васька, — окончание радости нашей отпевают.
Катюха и Васька лениво выбрались из своего пригретого гнезда, обобрали друг с друга солому, наскоро заметали ямку в копне и двинулись к Зеленому логу. Ваське до боли тяжко было глядеть на безутешно плачущую Катюху.
— Ну, уймись, Катенька, уймись, боль моя, — уговаривал он. — Вечером же еще свидимся.
Эти слова враз остановили ее слезы, а когда спустились в лог, Катюха расцеловала залетку, отбежала от него на бугор и негромко спела:
Ах, солома ты, солома, Аржаная, белая. Ты не сказывай, солома, Че я с милым делала!— Весь вечер у вас эту «солому» стану петь! — пообещала Катюха и большими шагами, размашисто, по-мужски пошла в хутор, забирая влево, на пустырь между домами, подальше от Кестеровой усадьбы.
А Васька теперь вышагивал не торопясь, хотел перед отъездом в чужие края насладиться видением сказочной ночи в родном хуторе. Но сказка сгинула. Как это произошло — не понять. Недавно прозрачный, мглистый, сверкающий морозными иголками воздух, вселявший в душу радостную торжественность, сделался туманным, скучно-серым. Луна укатилась по небу вправо и расплывчатым пятном висела за Даниными, где-то над Сладким логом. На пруд свет от нее падал теперь сбоку, и отражения в зеркале льда уже не были празднично-чистыми, а сделались лохматыми, неясными…
Словом, вот так неожиданно закончились для Васьки обе эти чудесные сказки — лунная и Катюхина летняя сказка. Останутся они лишь в памяти. Это — навсегда. Может, и забыть когда-то захочется, да не волен в своей памяти человек, не выкинешь, как застрянет что.
Немало настойчивости и даже хитрости пришлось употребить Ваське перед своими, чтобы согласились позвать на прощальный вечер Прошечку. Не о нем, конечно, хлопотал Васька, о Катюхе, но ведь не скажешь этого прямо. Да и отпустят ли ее одну-то родители? Васька рассыпался мелким бесом, что Прокопий Силыч и кумом двойным доводится, что соседом самым ближним будет он на новом месте, что сами у него в гостях бывали не раз.
На семейном совете дед Михайла упрямился долго, хотел подешевле отделаться: посидеть вечерок своей семьей — и делу конец. Однако ж пожалел-таки Васькино сиротство. А тут еще Макар с Тихоном по этой же струне согласно ударили: чего люди-то, мол, скажут? Жил вроде бы как свой, обиды ни в чем ему не чинили, а провожать, выходит, украдкой, что ли? Засудят люди, и у парня на век в душе этот железный костыль поперек горла станет.
— Ну, вот чего, ребяты, — расщедрился дед, пристыженный сыновьями и вспомнивший свое далекое горькое сиротство, — кличьте всех, кого любо вам. Пущай погудит наша изба вечерок. А ты, Вася, друзьев покличь, товарищев, ну девок там каких для веселья… На вечерках-то бывал, небось, знаешь, кого позвать?
— То ль он обсевок в поле какой, — ответил за племянника Макар. И на вечерках бывал, и девка, небось, какая-нибудь да присушила.
Разговор этот состоялся еще во вторник перед ужином. Васька от Макаровых слов залился кумачом, аж вспотел враз, выдавая себя с головой. Но никто больше не стал его ни о чем расспрашивать. Бабы засуетились на стол собирать. А у Степки, вертевшегося тут же, между большими, так и запрыгала душонка: никто не знает про Васькины тайные дела, а ему, Степке, доподлинно это известно. И не по слухам, не по сказкам бабьим — сам знает! Искушение высказаться, хотя бы намеком, настолько обуяло Степку, что он было открыл рот, но вовремя заметил беспощадный взгляд Васьки. Прижал кулаком губы, схватил с печки пимы, какие попались, и, вроде бы по скорой нужде, вылетел во двор.
7
В воскресенье раным-рано Мирон с Марфой и Тихон с Настасьей собрались к обедне в Бродовскую. Ваську, только успевшего по-настоящему разоспаться, через великую силу стащили с полатей да так полусонного и в телегу посадили. Редко он в церкви бывал и теперь бы ни за что не поехал, однако дед велел перед отъездом непременно исповедаться. Ослушаться в таком деле никак невозможно.
Поехали на паре. Ветерка в корень запрягли, а Макарова Рыжку — в пристяжку. Телегу завалили сеном, так что спать Ваське было неплохо и здесь. А когда начало светать, Настасья, сидевшая на телеге с правой стороны, приметила на отвернутой поле Васькиной шубы застрявшую в шерсти соломину.
— Эт откуда ж у тебя в новой шубе соломина взялась? — ехидно спросила Настасья, толкая в бок Ваську, вытянувшегося по середине телеги. — Скотину, что ль, в ей убирал?
Васька спросонья подал голос, но слов его никто не разобрал.
— Помолчала бы ты, сорока! — дернул Тихон за рукав жену. — Соломы, что ль, мало везде? По нужде во двор пойдешь — она и прилепится… Следствие взялась наводить не вовремя.
Однако соломинка эта, словно бы не в шубе у Васьки, а у самой Настасьи в глазу застряла — никак не дает бабе покоя! Но поскольку Тихон говорить об этом не велит, завела она совсем с другой стороны:
— И чудной же наш батюшка — исповедаться парня заставил. А к чему она, исповедь такая? Постился вчерась один денек всего, да и то, знать, не обошлось без молостного… Ну, исповедовается он сегодня, так ведь до завтрашнего причастия опять поститься полагается, а тут винища домой натащили, гулянку затеяли. — Раззадоривая себя такими рассуждениями, она горячилась все больше. — Какая ж эт исповедь? Из церквы да за рюмку! Грех один непрощеный.
— Да замолчишь ты аль нет! — вскипел Тихон. — Сама-то перед обедней нагрешишь болтовней во сто крат больше. Свово греха не боится, а на чужой пальцем указывает.
Это урезонило Настасью, притихла баба и зашептала про себя молитву, крестясь украдкой и спеша отмолить грехи, только что рожденные. А тут еще Марфа подбавила на въезде в Бродовскую:
— Чего уж нам, бабам, в мущинские дела лезть. Язык завсегда в грех-то нас и вводит.
— А чтобы он не вводил в грех, — справедливо заметил Мирон, — дак лучше держать его без употребления, помолчать надежнее…
По станице до самой церкви ехали молча. И тут уж никто на Ваську не наседал. Обедню отстоял он мужественно, даже зевота не мучила. А перед окончанием молебствия Мирон сунул в руку Ваське пятак и шепнул на ухо, чтобы ни Марфа, ни Настасья не слышали:
— Давай вали к батюшке, не зевай, поколь там не густо.
Осторожно, стараясь не очень тревожить молящихся прихожан и не вызвать их недовольства и осуждения, Васька начал продвигаться вперед. Вначале дело пошло хорошо, но у самого выхода к аналою нарвался на затор и едва успел одолеть его до конца молебна. Вылез из толпы прямо к священнику, вперившись в него глазами.
— Тебе чего, раб Христов? — прогудел поп, вполоборота повернувшись на возвышении.
— Хочу, батюшка, исповедаться, — с готовностью ответил Васька, шагнув к аналою и подавая заветный пятак. — В солдаты я отбываю.
Покрывало приподнялось, и Васька с таким усердием нырнул под него, что чувствительно ткнулся в широченное и мягкое, как подушка, батюшкино брюхо. Поп крякнул недовольно, отступил от кающегося грешника чуть-чуть и торжественно возгласил:
— Кайся во грехах, раб божий. И да простятся тебе грехи твои.
Васька готов был каяться сколько угодно, лишь бы грехи подходящие нашлись.
— Родителей, старших почитаешь ли? — спрашивал священник, немного склонившись и оберегая тайну исповеди.
— Не грешен, батюшка: почитаю.
— Не богохульничал ли?
— Нет, батюшка, не грешен.
— Не украл ли чего?
— Не грешен, батюшка.
— Строго ли посты соблюдаешь, раб божий?
— Грешен, батюшка.
— Бог простит. Не опивался ли, не объедался ли?
— Нет, не грешен, батюшка.
— Не обижал ли кого?
— Не грешен, батюшка.
— Не прелюбодействовал ли?
Васька замялся под покрывалом, вспотел, головой мотнул, как бычок, когда его оводы донимают. И не будь на нем покрывала, ни за что бы не сказал таких слов. А тут выпалил простодушно:
— Грешен, батюшка.
— Бог простит. Не сквернословил ли?
Еще не собравшись ответить на очередной вопрос попа, Васька отметил про себя, как мучительно было его признание и как легко наступило прощение.
— Грешен батюшка, — почему-то ляпнул Васька, хотя во всей семье Рословых никто не употреблял грязных слов, да еще добавил:
— Сквернословил по горячности.
— Бог простит, — монотонно промолвил священник. — Не замышлял ли блуда против отечества?
— Нет, батюшка, не грешен.
В первый момент до Васькиного сознания даже и не дошел по-настоящему смысл этого вопроса, ответил по привычке. А когда понял — холодно под рубахой на спине сделалось. А сверху опять донеслось:
— Не лгал ли, не обманывал ли кого, раб божий?
— Не грешен, батюшка.
Крестя большим серебряным крестом над макушкой грешника, священник дотронулся им до покрывала и заключил:
— Да простит тебе господь прегрешения твои и благословит.
Отложив тяжелый крест на аналой, батюшка поднял с кающегося покрывало и спросил совсем по-домашнему:
— Не женат еще?
— Не грешен, батюшка, — ответил, как на исповеди, Васька и, бессмысленно комкая в руках баранью шапку, поднялся с коленей и повернулся, намереваясь отойти.
Поп усмехнулся было Васькиному ответу, но тут же строго одернул парня:
— Куда же ты, раб божий? Целуй крест! — и ткнул перстом в середину аналоя.
Пришлось вернуться, приложиться губами к холодному, в полторы четверти длиною серебряному кресту. После этого коротко бросил священник:
— Ступай!
Освободившись от тяжести грехов, Васька налегке двинулся к выходу. На паперти ждали его Мирон, Марфа и Настасья. Тихон ковылял на своей деревяшке за церковной оградой, возле коней. Он уже отвязал их, застоявшихся, и выводил на дорогу, призывно махая рукой своим.
8
Строги, непреклонны церковные обычаи и законы. Пятеро из рословской семьи в церковь к обедне уехали, а всем остальным есть не дает хозяйка до их возвращения. Нельзя. Грех великий. Да ежели бы и не уехали в церковь — все равно в праздничные и воскресные дни не завтракают, не едят, пока обедня не отойдет. Часов до двух все томятся и ребятишкам есть не дают.
На особом положении одна Санька пока находится, и никаких законов не признает она. Только захнычет в зыбке — Дарья ей жвачку, завернутую в тряпицу, в рот сунет.
А вот остальным ребятишкам куда как худо, тоска невозможная в животах. Около десятка их всего-то на полатях возилось, ребятишек. Макаровых двое да двое Тихоновых — эти еще малы, а верховодят Митька со Степкой да Ксюшка с Нюркой. Тимка тоже там с ними. Выспались нынче вдосталь, отлежались. И сказки все пересказали, и загадки загадывали, и по-всякому там играли. Брюхо напоминает постоянно о том, что пустое оно, и ничем его не заглушишь. А тут еще шанег Дарья напекла, пирогов, блины там на шестке где-то стоят. Дух от всего этого разносится по избе, щекочет в носу и больше того дразнит аппетит.
— Ну скоро, что ль, обедать-то? — свесив голову через полатный брус, канючил Степка.
— Как наши от обедни приедут, — в который раз поясняла Дарья, — так и на стол собирать станем. Ксюша, ты помогнешь мне?
— Помогну, тетка Дарья, — с полатей отозвалась Ксюшка.
— Вы вот ноничка никак не утерпите до обеда, — вмешался дед Михайла, давно сидевший на лавке возле стола, — а мы при барской неволе по целому году с подтянутым брюхом на барщину ходили. Бывалоча, и забудешь, как последний раз досыта наелся.
— Расскажи, дедушка, про барщину, все веселей терпеть-то будет, — попросил Степка.
— Можно и рассказать, — едва заметно улыбнулся Михайла в пушистую бороду, — коли слухать станете… Это маленьким еще был я, годов семи либо восьми, случай такой приключился. Надумала старая барыня дворовых людей овсяным хлебом кормить. Да сеять-то не велела муку на доброе сито — колючки, мякина в ем. День терпели, два, неделю эдак промучились люди, а посля пошли на кухню, взмолились: заморит, мол, нас барыня таким способом. А повар у барыни-то был, Самсон, чудной такой, бедовый мужик… Хорошо я его помню… «А вы, гутарит, вот чего… Я вас научу… Подите под окна к барыне да бегайте тама, лягайте друг дружку, да ржите пошибче по-лошадиному, чтобы непременно барыня услыхала. А дальше уж я все доделаю».
Дед весело улыбнулся своим воспоминаниям и продолжал:
— Видал я эту потеху на барском дворе. Не то что девки — бабы пожилые пошли на это. А барыня, как услыхала шум, растворила окно да и зовет: «Самсон, Самсон! Чегой-та с людями сделалось? Уж не с ума ли они сошли? Екимовна-то вон каково взбрыкивает!» Здоровенная была баба, Екимовна. «А это, матушка, должно, с овса», — Самсон ей гутарит. «С какого овса?» — барыня спрашивает. «Да ведь хлебом-то их овсяным ты приказала кормить. А лошадей вон овсом-то кормим, дак чего они делают, не удержишь!»
— И ведь поправилось дело, ребяты, не велела барыня етим хлебом людей кормить. Опять аржаной давать стали.
Стоило деду умолкнуть, как на полатях послышалось негромкое ржание, сдерживаемый писк донесся.
— Ну, вы ведь овсяного-то хлебушка не ели, — приструнил дед ребятишек. — Чего вы тама сбесились!
Со двора пришел Макар, скинул пиджак и шапку возле порога и тоже присел к столу с другого конца от деда.
— Ета же барыня, — разошелся дед, — всех дворовых девок наголо стригла, а у одной, самой смирной девки, Парашки, чубчик длинненький на лбу оставляла, чтобы об его свой гребешок чистить, как грязный станет…
Но ребята уже плохо слушали деда на пустой желудок. Вон полку из-за печной трубы с полатей видно, а на ней железные листы стоят с шаньгами. Слюнка так и течет, шаньги румяными боками так и дразнятся, так и зовут к себе.
Облизываясь, как кот, Степка неслышно спустился с полатей на печь, подобрался к трубе и потянулся за крайней шаньгой. И все бы могло обойтись благополучно, однако труба — широкая, рука — короткая, а полка — узкая, так что листы, поставленные концом к стене, свешиваются чуть не наполовину. Именно до этого нависшего конца легче всего достать.
Тянулся, тянулся Степка — да ведь надо же, чтобы Дарья не углядела, — надавил на конец легонько — скользнул с полки лист.
— Ах, родимец тебя изломай! — возопила Дарья и успела-таки черенком деревянной лопаты, какой хлеб садят в печь, долбануть Степку по макушке. Правда, больше-то трубе досталось, аж глина откололась. Но и парню перепало изрядно, шаньгу же, однако, он все-таки умыкнул — теплую, румяную.
Пока Дарья собирала с полу шаньги, поминала всяких нечистых, тут же каясь во грехах, потому как обедня, по ее расчетам, еще не отошла, Степка вернулся на полати и разделил по-братски на всех добытую шаньгу. Каждому достался маленький кусочек, зато крошек на суконную ватолу и на кошму насыпалось множество. Их тут же собрали с особой тщательностью, и не только оттого, что голодны были, нет — цену хлебу знали все. Знали, каким трудом достается он, а потому всякое непочтение к хлебу за великий грех почиталось. Всякую крошку — в ладошку да в рот.
Проглотили ребята кусочки, как птенчики принесенную матерью добычу, но не только не утолили голода, а еще больше его распалили. Оттого, понятно, думки у них никак не могли повернуться ни на что иное, кроме еды. Всех привлекала «вкусная полка», звала, соблазнительно манила. Но кто туда пойдет? Степка, получив от Дарьи свое, наотрез от повторного похода отказался. Маленьких не пошлешь — не достать им. Тимке, пожалуй, лучше не ввязываться в это дело. А Митька-тихоня только поднаущать мастак, сам ни за что не полезет.
— Большой уж я, совестно, — обосновал свой отказ Митька.
— А кусок тебе дал, дак ты без совести его слопал, хоть и большой, — справедливо обиделся Степка, потирая ладонью зашибленую макушку.
— Я тоже большая, — заявила Ксюшка, — тетка Дарья вон пособить звала…
— Эх и люди же вы! — обозлилась Нюрка, сбросив с голых ног ватолу. — Все бы вам на готовенькое да кусок побольше ухватить. Шут с вами, пойду!
К этому времени и Дарья успокоилась, и дед ворчать перестал. Когда Нюрка спрыгнула на печку, ребята дыханье затаили, а она, обернувшись, зашептала отчаянно:
— Чего рты-то разинули? Шумите, эдак мне способнее там будет.
И, шагая через пимы, сваленные кучами, осторожно двинулась к трубе. Но тут обнаружилось, что крайнего противня, опрокинутого Степкой, нету на полке. Дарья оставила его где-то внизу, а до второго листа во-он как далеко — дотянись попробуй! Другой кто из ребятишек, может, и воротился бы тут же, но Нюрку это обстоятельство не смутило. К тому же Дарья, услышав Санькин плач, ушла от печи в горницу.
— У-у, зевластая, ничего делать не дает! — послышались оттуда ее сетования.
Нюрка никак не могла упустить столь удобного момента и, стоя на коленках, вытянулась с приплечика печи к злополучному листу. Держаться-то, однако же, было не за что, оттого голова и руки перетянули ее, и нырнула Нюрка в двухпудовую квашню с опарой, стоявшую на залавке возле самой печи.
— Ээ-к-ка! — бросился Макар к пострадавшей, выхватив ее, как подбитого зайца, за ноги. — Погибла бы ведь ни за понюх табаку, блудня!
Перехватившись одной рукой, Макар ловко хлопал девчонку другой по оголенной попе. Дарья, оставив заливающуюся Саньку, подскочила на помощь, сгребая с Нюркиной головы опару, облепившую рот, и нос, и глаза, и уши, и волосы.
— Ну, ставь теперь на ноги, — скомандовала Дарья. — Чего ж она, так и будет висеть вниз головой? В корыто бы ее да кипятком залить, чтоб отмокла, шкодница паршивая!
Никакой злости у Дарьи уже не было, а разбирал ее смех. Дед Михайла, так и не догадавшись, в чем дело, настойчиво допытывался, что стряслось. Ребятишки мигом слетели с полатей и выстроились на почтительном расстоянии от опары, растекшейся на полу.
Нюрке по всем статьям надлежало реветь в таком положении, но она, как только разлепился один глаз и освободился рот, молвила с веселой улыбкой:
— Теперь я в другой раз крещенная!
— Опарой звать станем, — смеясь, ворчала Дарья. — Сладкие, знать, хлебы нынче поспеют от твоих соплюшек, негодная.
— Приехали! — завопил Степка и бросился к окну. — Наши приехали!
9
Вечером в избе у Рословых дым стоял коромыслом. Так, видно, сотворен русский человек: и берет он полной мерой, и отдает сполна. А чаще всего через меру выходит у него — хоть на гулянье, хоть в работе.
Тот же вот сват Илья Матвеевич Проказин. Минуту лишнюю на работе не упустит, обедать не придет на стан — калач с собой берет, а тут как сел за стол да увидел, что Макар по полстакана мужикам наливает, а бабам и того меньше, восстал:
— Нет уж, зять, — упрямо замотал он черно-бурой окладистой бородой, — ты мне хоть через одну наливай, хоть через две, да лей по полному, с краями вровень.
— Можно и по маленькой да почаще, — засмеялся Прошечка. — Мой дед по семьдесят наперстков спирту выпивал и домой в хутор за шесть верст из кабака на своих ногах приходил. Правда, неделю не ел, слышь, после этого. Так и сидел возля кадки с квасом.
— Эдак пьют, кому делать нечего, — сверкнул цыганистыми глазами Илья Матвеевич, бережно подвигая к себе наполненный стакан.
Босым идти в гости, видать, посовестился он, в сапогах явился. Принарядился даже малость, рубаху чистую надел с гарусным пояском. Волосы, заметно, чесал, но сбились они у него так за лето, что теперь не понять — не то кудри столь дремучие, не то свалявшиеся кочки торчат.
Степка, с полатей любуясь застольем вместе со всеми ребятишками, долго и неотрывно глядел на Илью Матвеевича, потом изрек вроде бы с восторгом даже:
— А ведь сват Илья — цыган. Ей-богу, цыган, только притворяется нашим, а сам цыган!
Проказины пришли четверо. Жена у Ильи Матвеевича захворала, что ли, не было ее. Рядом с отцом сидел Гордей — вся стать у него отцовская, через неделю и ему в солдаты отправляться. А по другую сторону от него — Манька, жена, белобрысая, упитанная, даже не похожая на молодуху баба. Егор отдельно от них, с уголка стола угнездился, потому как гармонисту и пить полагается в меру, и дело забывать нельзя.
Еще до первой стопки, пока гости сидели чинно и разумно, дед Михайла, не садясь за стол, при всех пожелал «некруту» «счастливой пути», велел служить верой-правдой царю и отечеству да ворочаться домой, как отслужится. И, не желая слушать пьяного разгула, тут же удалился в свою келью.
За столом шумно стало уже после первой разливки, а как приложились к стаканам в третий раз — туман по избе расстелился угарный.
Прошечка, ни на кого не обращая внимания, затянул свою единственную и любимую:
Перед зеркалом сто-я-а-ала, На-а-а-девала черну шаль…Глядя на Прошечку, Степка не узнавал ни его самого, ни эту песню, услышанную когда-то в поле и так тронувшую его тогда. Теперь он горланил ее по-пьяному, беспощадно выговаривая страшные слова.
На другом конце стола мужики вразнобой вытягивали нестройное и разноголосое:
…Ка-ак во то-ой степе За-амерзал ямщик…Семья Проказиных, не считаясь ни с кем, завела непременную в таких случаях песню:
Последний нонешний дене-очиик Гуляю с вами я, друзья…— Ну, чего вы, как голодные волки, завыли! — стараясь перекрыть голоса, надсажалась Дарья. — Тут плясать охота, а на их вой напал.
— Чем они тебе помешали? — возразил Макар. — Пущай поют. А вы пляшите, коль охота есть.
— Давай-ка, Егор, плясовую! — тряхнула Дарья за плечи брата, не знавшего, под кого ему подыгрываться. — Да под частушки, чтоб трафило!
Молодежь дружно покинула стол, и загудела изба в горячем аду, ходуном заходили широкие половицы, Манька Проказина, выскочив первой на середину, отчаянно пропела, перебросив льняную косу из-за плеча на грудь:
Ой, врешь ты, врешь: Я пойду — ты пойдешь!Гордей, уперев руки в бока, выставил вперед правую ногу и, повертывая ступню с пятки на носок и обратно, почти речитативом выговаривал:
Эх, пятка — носок! Выковыривай песок! Выковыривай, пошвыривай, Ударь наискосок!Дальше звуки смешались гуще, причудливее, и разобрать что-либо определенное было почти невозможно. Мужики все еще тянули:
А жене ска-ажи-ы-ы, Пусть не печа-а-алится-а-а…Тут же между этими словами — кто кого перекричит — слышалось беспощадное Прошечкино:
…Заведись в моем дому, У-у мори мою жену-у-у…С началом пляски распался хор Проказиных. Заливисто гудела гармонь, топали дружно и вразнобой десятки ног. Где пелись, а где просто выкрикивались частушки:
Я по улице, по улице Дойду до озера. Позабыла я того, Кого зимой морозила. Полюбила я его, А он, девоньки, косой. Все идут прямой дорогой, А он чешет полосой.Васька был в ударе. Он отчаянно топтался на кругу вместе со всеми и вспоминал частушки, самые нужные к моменту. Катюху старался с глаз не спускать, но мелькала она, неуловимая, где-то между людьми, не подавая голоса. Валька Данина грохала такие частушки, что бабы только повизгивали. Наконец донеслось звонкое, отчаянное, милое:
Ах, солома, ты солома, Аржаная, белая. Ах, ты не сказывай, солома, Че я с милым делала!Это было вроде бы негласным вызовом Ваське, и он подхватил эстафету, силясь никому не дать возможности запеть раньше его:
Меня дома-то ругают, Что я хлеба много ем. Сшейте синеньку котомочку — Уйду, не надоем.И тут же вперехлест — Катька:
Погуляйте, ратнички, Вам последни празднички. Лошади запряжены, Котомочки улажены.Понял Васька, что его Катюха вызывала, потому вновь не упустил момента:
На приемочку поехал, На коленки конь упал. Плохо милочка молилась — Я в солдатики попал.Катька:
Пали снеги, пали белы, Пали да растаяли. Всех ребят в солдаты взяли, А калек оставили.Васька:
По могилушке хожу Родима батюшку бужу. Родимый батюшка, вставай, Меня в солдаты провожай!Настасья прослезилась, услышав эти слова, и, дергая Марфу за кофту, закудахтала:
— Глянь, Марфа, глянь, чего Васька-то наш разрабатывает посля исповеди. Небось все грехи позабыл! — засмеялась она.
А Катюха в свою очередь уже проголосила:
А я чаю накачаю, Квасу вам нагрохаю. Повезут дружка в солдаты — Закричу, заохаю!Васька приблизился к Катюхе сквозь неимоверную толчею и вдруг обнаружил, что никто не пытается перебивать их частушечный переклик:
Я катался на гнедых, Катался на вороненьких. Свою голову положил За девчат молоденьких.Катька, незаметно подмигнув ему, отмахнулась и спряталась между людьми. Васька успел заметить, как она, захватив двумя пальцами губы, словно дужкой замка, сделала какой-то значительный намек. Догадался: умолкнуть велит зачем-то. И тут же услышал ее:
Уж я рожь веяла И овес веяла. Мне сказали — дружка взяли, А я не поверила.Замолчала Катюха, и Васька не решился продолжать: не было бы через меру заметно, ведь частушкой все рассказать можно. Правда, едва ли кто-нибудь в этом вертепе пытается что-либо понять.
Меня мама: «Я те, я те, Я те побалуюся!» А я мамы не боюся, Все равно целуюся!Это уж Валька Данина запела, перекрывая все звуки. Бояться ей тут некого. А Ганька Дьяков отвечает:
Ах, топни, нога, Да притопни, нога! Не жалей, моя нога, В переплясе сапога!Вытопывая в такт музыке и выбившись на край круга под полати, Васька почувствовал, как сильно его кто-то дернул за подол рубахи сзади. Оглянулся — Катюха манит его к двери, за ней кинулся. Жаркие, рвущиеся друг к другу, выскочили они в сенцы. Но Катька побежала дальше, выпорхнула во двор, ярко луной освещенный, и направилась под навес в дальний угол, где костром были сложены сани на лето.
— Знать, встренуться еще нам бог велит, — выговорила Катюха, дыша с перехватами, — думала, вчерашняя встреча — последняя, да послал бог еще одну радость.
Васька подивился ее перемене. В избе казалась ему Катька бесшабашно веселой, отчаянной, забывшей всякие горести, а выходит, казалось только это. В действительности же водка никогда и никому не делает настроения. Разве только горьких пьяниц утешает. Она всего лишь усиливает те чувства, какие были у трезвого. Ежели был человек веселым, станет еще веселее, а ежели тоска его обуяла, горе давит беспощадное, то после принятия горячительного зелья станет ему еще горше. Оттого и в петлю многие лезут по пьяному делу, и в речку бросаются, и отраву глотают. Смелость приходит — это верно, совесть у многих пропадает — тоже факт.
— Вася, кровинушка ты моя родная! — прижавшись к парню, горячо и в то же время как-то отрешенно зашептала Катюха. — Затяжелела ведь я…
— Да что ты?! — ахнул Васька, подрубленный такой новостью. — Давно?
— Месяца три, знать-то, есть, — загробным голосом сказала Катька, чувствуя, как спазмы перехватывают горло. — Либо около того.
Ей давно, еще в самом начале, не терпелось поделиться с Васькой несчастной, горькой этой радостью. Но приказала себе твердо: не сказывать, не печалить парня понапрасну. Ничего не изменит он и ничем не поможет.
— Ну, как же быть-то теперь? — сгорбившись враз, растерянно спрашивал Васька. — Чего делать-то станем?
— А ты не тревожься, голубь мой ласковый, бог милостив. Не тужи, Васенька.
Эти успокоительные слова выговорились у нее таким тоном, что Ваське холодно сделалось, потому как слышалась в них замогильная обреченность и звенел неприкрытый крик души.
— Как не тужить? Я-то уеду, а с тобой чего станется?..
— Ой! — будто повеселела Катюха. — Бежать надоть, кабы не хватились там нас… Ты погоди здеся, не входи за мной сразу.
Она вприпрыжку перемахнула двор и растаяла в потемках сеней.
Опомнившись от оглушившего сообщения, Васька не спеша вышел на лунную середину двора и, удивленно тараща глаза, неожиданно заметил:
— Глянь-кось ты, а ведь изба-то и впрямь ходуном ходит. Эк разобрало их, шутоломных!
Изба гудела, вздрагивала под дружный притоп и, казалось, вот-вот с тяжким стоном сама двинется по широкому двору вприсядку.
Ох, какая моя мать. Не пускает ночию. А я днем пойду — Больше наворочаю!Это услышал Васька сразу, как отворил избяную дверь — ее голос! Успела уже вклиниться в кипящую жаром толкучку и топала где-то возле стола.
— Катька, черт-дура, слышь! — вопил окосевший Прошечка. — Сбесилась ты, что ль, какие песни орешь!
Прошечка уже не пел. Отгудев раза четыре подряд на разные лады свою единственную, надоел он не только соседям, но и сам себе опротивел.
— Пошто жо, Настасья, не пьешь ты вовсе? — приставал к совсем трезвой бабе Порфирий Кустищев.
Был он приглашен тоже, поскольку тут же у Рословых квартировал. Остальные плотники жили кто где по избам в хуторе.
— Не пью, да и все тута?! — отрезала, обидевшись, Настасья. — Не хочу, стало быть.
— Не пьют на небеси, а на земле — кому не поднеси!
— Да не неволь ты ее, — вмешался Макар. — Наливать-то уж нечего. Надавлю вот всем по последней, и будя. — Он сделал знак гармонисту, чтобы тот умолк. — Ну, плясуны, прощальную пить садитесь!
10
Вроде и не было в избе вчерашнего буйства. Стол — чистый, пол бабы выскребли до восковой желтизны, все-то прибрано заботливыми их руками, всякая вещь на свое место водворена. Даже пимы на печи стоят ровненько, парами. Они хоть и не нужны пока, но разок уж зима постучалась в окошки. Теперь сколько ни потянется осень, а обувку эту прибирать далеко негоже: может понадобиться в любое время.
Слезая с полатей и протирая заспанные глаза, Васька невольно обратил внимание на этот подчеркнутый порядок в избе. Так бывало только по праздникам, а сегодня — понедельник. Лампада в переднем углу под иконами теплится. Возле печи Настасья орудует — ее неделя пришла. Блинами оттуда пахнет, и слышно, как весело шкворчит жидкое тесто, когда льет его Настасья на горячую сковородку.
Но тут же спохватился парень, что праздничность эта устроена специально для него, чтобы запомнилось ему последнее домашнее утро на все годы, какие предстоит провести где-то на чужбине.
За завтраком сидели все какие-то вялые, пришибленные. Даже ребятишки, во всякое время неугомонные и шумливые, теперь говорили вполголоса либо шепотом, словно потревожить кого-то боялись.
— А дядь Порфирий на работе, что ль? — спросил Васька, выйдя из-за стола и перекрестившись на иконы. — Не видать его чтой-то.
— Само собой, на работе. Подряд ведь у их, а зима на носу, — ответил Тихон. — Ты добежи до его, попрощайся. А мы поколь лошадей запрягем да подорожники твои складем.
К Порфирию Кустищеву можно бы и не бегать — невелика родня. Хотя проститься и с ним не мешает. Давненько прижился он в семье, шутками да прибаутками своими близким стал. Но Ваську это предложение так и приподняло, вроде бы Тихон крылышки ему приставил, потому как сам искал заделье, чтобы за речку-то сбегать. На Катюху, может, еще разок удастся взглянуть. Хоть издали.
Однако тайная надежда Васькина оказалась несбыточной. С Порфирием-то, конечно, простился и всем вятским мужикам руки пожал, а вот насчет Катюхи пустой номер вышел. С болью поглядел на длинный, приземистый, как гусеница, дом их, на мрачные, запертые покосившиеся ворота — и самого будто покосило, — сугорбился, сник весь, тяжело зашагал к плотине, прикрываясь от свежего ветра воротником полушубка.
Солнышко нынче с восхода не выглядывало и, по всему видать, не покажется вовсе. Тучи, лохматые, черно-серые, не торопясь ползут с севера. Снегом с той стороны так и относит. Но сухо пока и холодно.
Вроде что-то оборвалось в душе у Васьки: до того муторно стало — на свет бы не глядел. Отъезд из дому показался ему неправдоподобным, даже нелепым. Но, открыв калитку, во дворе увидал пару запряженных в телегу коней, и стало явью неотвратимое.
— Коляска к дому подкатилась, — натянуто ухмыльнулся Васька, вспомнив слова из песни, звеневшей в ушах со вчерашнего вечера.
В избе витал все тот же дух пришибленности. В переднем углу негасимо горит лампада. На середине чистого стола — каравай свежего хлеба с солонкой наверху.
Чтобы не маячить посреди избы, не зная, куда притулиться, чтобы не выдать своего волнения, Васька прошагал к окну кутному и, став коленом на широкую лавку, будто разглядывал что-то во дворе. В углу перекрестья оконной рамы с облупленной краской барахталась квелая, засыпающая муха. Поднявшись на несколько шагов кверху, она тут же падала обратно на раму и долго не могла собраться с силами, чтобы повторить то же самое.
«Вот и люди такие ж хилые ноничка, — подумал Васька.
— Простился, что ль, с Порфирием-то? — поворотясь от печи и держа в руке ухват, спросила Настасья.
— Простился, — глухо и коротко обронил Васька, обнаружив, что голос выдает его неуемное волнение.
— Давайтя посидим на дорожку, — велел дед Михайла.
Ваську поджидал дед с тех пор, как ушел он прощаться, и по его шагам, по каким-то неуловимым признакам понял, что тяжко парню, потому не сразу подал свою команду.
Все послушно расселись… Васька тут же у окна присел на лавку, держа баранью шапку обеими руками.
Тягостное, какое-то настороженное молчание длилось, может быть, минуту или две, а показались они вечностью. Потом дед широко перекрестился и встал. Его примеру последовали все.
— Подай-ка мне икону, Марфа, — приказал дед, — да хлеб-соль подержи. Встань рядом.
Выпрямившись по-молодому, дед Михайла остановился недалеко от стола. Марфа сунула ему в руки икону с изображением Николая Угодника, а Настасья накинула ей на руки чистое полотенце и водрузила на него каравай с солонкой. Все заметили, что Николай Угодник висит у деда вниз головой, Степка едва удержался, чтобы не сказать об этом. Но Михайла, ощупав тыльную сторону иконы, добрался до колечка с тесемкой, перевернул ее, прикладывая к груди, сказал недовольно:
— Чего ж ты икону-то мне тычешь кверху ногами? Грешно!
Опустившись на колени перед дедом и держа шапку в левой руке, Васька помолился на Николая Угодника, а дед, безошибочно нащупав макушку внука, перекрестил ее и, возложив ему на голову икону, молвил торжественно, с дрожью в голосе:
— В путь добрый благословляю!
У Васьки, растроганного столь торжественным ритуалом и всеобщим к себе вниманием, навернулись на глаза непрошеные слезы. Встав с коленей, он горячо, троекратно поцеловал деда, потом — Марфу, а после стал прощаться со всеми, целуя каждого.
Когда и до Степки дошла очередь, поднял его Васька под мышки, вынес в сенцы, зашептал, торопясь:
— Уговор про Катюху не забыл?
— По-омню.
— Молчи. Ежели замуж она выходить станет — тоже молчи. Я все знаю.
Скрипнула избяная дверь — Васька отчаянно влепился в губы парнишки, намеревавшегося что-то сказать. Одетые кто как, все стали выходить во двор.
Неожиданно и вроде бы не ко времени растворилась калитка. Медленно шагнув через подворотенку, во двор вошла Полина Полнова, жена Прошечкина. Обыкновенно полная и румяная, сейчас казалась она смятой, ссохшейся, как пожухлый осенний лист. Меловую бледность лица еще более подчеркивала черная шаль, накинутая на голову поверх платка.
— Катьку нашу не видали вы? — не здороваясь, глухо, как из погреба, спросила она.
И вопрос, и вид Полины странными всем показались. Ответить ей — тоже не просто.
— Как так — не видали? — тревожно спросил Тихон.
— Не была она у вас? Не ночевала?
— Да что ты, матушка! Все враз ведь вы вечером ушли. Никто у нас не задержался далее.
— Ушли-то мы вместе, — страдальчески, через силу тянула Полина. — А перед утром хватилася я — нету! Сперва думала, на двор вышла; постелю пощупала — холодная… Да и так видать, что разобрала лишь она ее, а не спала на ей.
— Мм-м, — поморщился Тихон, — так ведь и искать не придумаешь где.
— С пяти часов вот и мыкаюсь по дворам, — жаловалась Полина, — у Дьяковых была, сватов ваших, Проказиных, навестила, к Даниным сшастала…
— А может, она уж дома теперь объявилась, — предположил Макар.
— Была я дома только что. Оттудова к вам иду…
— Вот ведь наказанье-то, господи! — охнула с телеги Марфа. Она уже устроилась в дорогу, закопавшись по пояс в сено. Держа наготове вожжи, сидел в телеге и Мирон. А Васька, хотя и распрощался со всеми, так и стоял, приготовившись прыгнуть в телегу, поскольку сделать этого не успел до прихода тетки Поли.
— Ну и штука с луком, — подвел итог Тихон при гробовом молчании. — Го-орькая!
— А ты, Вася, ничего не слыхал от ее самой, либо от ребят, или от девок? — ударила по самой больной жилке убитая горем тетка Поля. — Не примечал ничего за ей?
Ох, не стоять бы Ваське на этом месте, а лучше провалиться! Только отворилась калитка, только показалась тетка Поля — заколобродили у него мысли, пошли-поехали… А вернее сказать, запало ему в душу тяжкое, когда еще ходил прощаться с Порфирием. Но в то время тягость эта была неуловимой, расплывчатой. Могло статься, что предстоящий отъезд и расставание давят неподъемным грузом… А теперь вот оно! Сунула куда-то свою голову ладушка, и все концы — в воду.
— Нет, не слыхал, — словно озябшими губами едва выговорил Васька, заметно побледнев.
— Ну, теперя и спрашивать больше не у кого, — застонала Полина, поворачиваясь и направляясь к калитке.
Дарья бросилась отворять ворота, Васька вскочил в телегу, набитую сеном. Котомка его давно спрятана была в передке.
— Ну, с богом! — подшевелил дед отъезжающих, крестя их издали. — Поезжай, голубь.
11
С тех пор как разогнал своих работников, остановил страдные дела Кирилл Платонович Дуранов. Никто в хуторе не сомневался, что задуман у его большой воровской шабаш. Однако никто не знал и того, куда нацелится лихой этот человек, чье хозяйство заскрипит и застонет от его неумолимого удара из-за угла. Но подобрались, насторожились все, как лошади в степи, когда зачуют поблизости волка.
Вполне могло статься, как чаще всего бывало, целится Кирилл Дуранов на стороне в кого-нибудь, а поди узнай, чего у него на уме-то! Оттого мужики хуторские приушипились, почаще доглядывать за своим хозяйством стали, попристальнее.
У Рословых, пока овес убирали, вся душа изболелась от одного вида сваленных с рыдванов и брошенных на полосе дурановских снопов. Пойдет дождь — пропало два воза такой полновесной пшеницы! Глядел, глядел на них Тихон — как бельмо в глазу, торчат перед самым станом, — и послал баб составить покучнее снопы, в суслоны.
Тревога все чаще колючим ежом ворочалась в душе деда Михайлы, спать не давала ночами, оттого превратился он в сторожа. Так-то и мужикам спокойнее отдыхалось. Одно лишь обстоятельство утешало Рословых: не каждый раз на их голову лихоимец этот камни сбрасывать станет — да ведь с вором пожиток не делен.
Чуть покойнее стало, как первый снег выпал. Но потом иссох он, истлел незаметно, исчез, хотя ночами заморозки бывали. Дни проходили ясные, тихие, по-осеннему теплые. А дня через два после того, как Ваську проводили, опять лег на землю белый-белый, до прозрачной синевы чистый снег. Ровненько все прикрыл. Недели не продержался — растаял. Слякоти, бездорожья наделал.
Ни санная, ни тележная — называют мужики эту пору. На чем ни поедешь — все несподручно. Верховому лишь дорога везде открытая. И хоть рановато еще по времени было, ничего не поделаешь, — пригнали пастухи в хутор все отгонные табуны. Скотинушка с непривычной неволи ревет в каждом дворе на разные голоса.
Дед Михайла в ту ночь глаз не сомкнул до вторых петухов, бессчетно во двор выходил, прислушивался… Тишина устоялась благодатная. Успокоился. Всласть петухов наслушался, еще посидел возле кутного окна и пошел в свою боковуху. Подремать хотел с часок, да, видно, сладко уснул…
— Батюшка! — тормошил его за костлявое, щуплое плечо Мирон. — Батюшка, очнись!
— Чего такое? — вскинулся дед на постели.
— Быков-то угнали у нас…
— Да что ты!
— Прясло на задах разворочено, и следы прямо с бугра на плотину показывают… Макар туда побежал…
Предрассветное утро хмурилось, неведомо откуда роняя скупой серый свет, напитанный по-осеннему промозглой сыростью.
Мирон с дедом вышли на задний двор, где одиноко топтался Тихон, увязая в растоптанной грязи деревянной ногой. Дед, сопровождаемый старшим сыном, не щадя своей обувки, лез по этому месиву, то и дело запинаясь за едва подмерзшие кочки бычиного помета.
— Нашел вот я тута следы, — говорил Тихон, указывая в сторону сваленного прясла. — Здоровенные чьи-то сапожищи. У нас таких нету.
— Следы с собой не унесешь, — заметил дед, остановившись посреди двора и унимая нахлынувшую одышку. — А вот руку-ногу не оставил, супостат.
В это время, будто не замечая Рословых, со своего заднего двора к гумну с вилами на плече прошел Кирилл Платонович. Набрав увесистый навильник сена, он взметнул его над головой и, шагнув обратно, обернулся к Рословым, сказал приветливо:
— Здравствовать вам, суседи!
Приветствие это столь неожиданным и наглым показалось, что в первый момент никто не смог ответить.
— Здорово, — негромко молвил Мирон.
— Чего эт вы собрались тута?
— Да вот быков у нас ночью угнали, — неожиданно для себя выпалил Тихон.
— Ух ты! — поперхнулся Кирилл Дуранов, бросил сено и вилы там, где застало его это известие, и напрямик, через прясло пустился к Рословым.
— А может, сами они ушли? — предположил он, сунув руку в карман за кисетом.
— Сроду такого не бывало, — отрезал дед, скривив под усами губы, словно бы собираясь не то улыбнуться, не то заплакать. — От стана в поле сроду не уходили ночью. С чего бы им прясло-то воротить да убегать?
— Так и пошел след вдоль хутора на выезд к Прийску, — доложил Макар, возвращаясь из своего следственного путешествия. Вспотел он. Снял шапку и, вытирая ладонью пот со лба, добавил: — Где дорогой, а где обочиной наследили. А провожатые с ими — конные, видать.
— Да и тут вон за изгородью следы конские сплошь, — подтвердил догадку Тихон.
— На Прийск, стал быть, — как бы про себя выговорил Кирилл Платонович, задумавшись и не торопясь раскуривая цигарку. — А мы ведь их догоним! — вдруг оживился он. — Ей-богу, догоним! Далеко ли они с быками ушли? Рысью их не погонишь. Запрягай, слышь, Мирон, Ветерка, а я побегу оденусь. — И бросился к своему двору. — Догоним по следу. Запрягай!
Посоветовав Мирону тоже переодеться в дорогу, Макар взялся выкатывать из-под сарая ходок. А Тихон пошел в конюшню за жеребцом. Дед, притащившись во двор позже всех, отошел к водопойной колоде, присел на ее край, опершись на клюку и рассуждая вслух:
— Ах какой ведь наянный-то, пес, а! Неужли это дело миновало его рук?
— Поди узнай, — с насмешкой посоветовал Макар, затягивая супонь на хомуте у Ветерка.
— Дык с чего ж он пособлять-то нам кинулси? — громко возразил дед. — Не просили ведь его.
— А за добрые дела, Михайла Ионыч, завсегда добром платится. — Никто и не слышал, как появился в калитке Кирилл Дуранов. — Я ведь тоже не просил ваших мужиков ставить мои снопы в суслоны. А они поставили. Услуга — за услугу, вот и весь сказ!
Хищные глаза Кирилла Платоновича так и сияли торжеством добра. Черненый короткий полушубок с мерлушковым окладом по всей поле и подолу молодцевато сидел на нем, перехваченный красной суконной опояской. На голове — черная баранья шапка с голубым донышком.
Когда выехали со двора, совсем развиднелось, хотя было все так же хмуро. Ветерок, выгибая шею, косился на седоков, резво ударял копытами и нес ходок по заклеклым кочкам. Однако порезвиться ему дал Мирон, пока лишь выезжали из хутора. Потом стал временами придерживать, зорко вглядываясь в дорогу. А следы то виднелись отчетливо, ярко, то пропадали, потому как на жнивье по бокам дороги кое-где снег остался, в иных местах топкие мочажинки встречались.
Кирилл Платонович тарахтел без умолку возле Миронова уха, строя самые различные догадки по поводу планов злоумышленников, ухитрившихся умыкнуть целый табунок быков. Ведь одного мяса поболе двухсот пудов будет, да шкуры, да сбой — ладный кусок урвали, супостаты.
Дальше все чаще дорога шла березовым лесом, и следы стали встречаться реже и реже, большею частью лишь в тех местах, где попадались небольшие поля.
Выскочив на одну из полян, Мирон было заметил слева от дороги целое токовище следов. Но в это время Кирилл Дуранов, сидя в ходке, как и полагается, слева от кучера, азартно ткнул Мирона в бок и, вытянув руку перед самым его носом, чуток приподнялся и закричал:
— Гляди, гляди, Мирон: заяц! Вон, вон у кромки скачет!
— Где?
— Да вон, правее кривой березы! Слепой ты, что ль? Серый еще. Тепло, знать, воротится, коли не меняет он шубу.
Но сколько ни вглядывался Мирон в то место, куда показывал Кирилл Платонович, ничего живого узреть не смог. Потом, когда проехали еще версты две-три, забеспокоился Мирон: следов-то вовсе не стало попадаться. Правда, и до Прийска-то осталось уж верст семь, не больше.
— А теперь и так все ясно, — развеял его сомнения Кирилл Платонович. — Куда же им деваться, окромя Прийску? Либо на бойню куда свернули, либо на базар попрут сразу… Пошевеливай Ветерка-то, сперва на базар заглянуть надоть.
Одолев верст восемнадцать по кочковатой, кое-где грязной дороге, Ветерок потемнел от пота. Под прыгающими ремнями шлеи гнедая шерсть на крупе коня взмокла, почернела и окантовалась белыми полосками потной пены. Но шел он охотно и споро.
Добравшись до Прийска, вознамерился Мирон объехать его по окраине, заглянуть на бойни, но спутник отговорил: сперва на базаре непременно побывать надо, иначе могут расторговать быков по одному, по два — потом ищи-свищи.
Весь день колесили они по Прийску, объехали все бойни (отыскали даже такие, о которых раньше Мирон и не слыхивал), на базар еще раза три заглядывали — никаких признаков пропавших быков не обнаружили. Где-то часа в три пополудни закусили на ходу в кабаке, чаркой водки подкрепились…
Домой возвращались потемну. Мирон, убитый горем, больше помалкивал, а его провожатый неумолчно рассуждал:
— Хитер, знать, вор, — вздыхая, удивлялся Кирилл Платонович, — как в речке утопил двенадцать таких «теленочков» и пузыри разогнал. Чисто, а?
— А тут и речки-то никакой нету вовсе, — натянуто хохотнул Мирон.
— То-то вот и есть, что без речки утопил. Ведь это не иголку спрятать! И как скоро!.. Да нет, уж больно долго вы чесались да приглядывались. По-суседски сказали бы мне сразу — догнали бы мы этого ловкача, как пить дать догнали бы! Ведь это быки, с ими не враз ускачешь — не кони. А то еще пойдет-пойдет да ляжет — пляши кругом его… Вон ведь сколь мурашиной вашей работы в момент уплыло! А кому-то прибыло!.. Как же эт вы прозевали, а?
Слушая спутника краем уха, Мирон упрямо ворочал непослушными своими мозгами, все больше убеждаясь, что пропажу спрятать отнюдь нелегко, что поиски надо продолжать и где-то обязательно следы обнаружатся. Кроме того, все настойчивее шевелилось подозрение: а не водит ли его за нос этот добровольный помощник?
…Наутро, стараясь не шуметь, дабы не привлечь внимание соседа и избежать его услуг, в путь снарядились Мирон с Тихоном едва начало светать. Заметно теплее стало против вчерашнего, но так же пасмурно было.
Впереди всадник показался. На сером в яблоках коне ехал рысью навстречу.
— Здорово, мужики! — подъехав, осадил он серого.
— Доброго здоровья, Иван Василич! — чуть не хором ответили братья уважаемому человеку. Смирнов это был.
— Какая нужда гонит вас по этакой погоде?
— А сам-то небось тоже не без нужды скачешь? — спросил Тихон.
— Я из городу, на заимку свою заглянуть хочу.
— А у нас вчерашней ночью двенадцать быков откормленных со двора угнали, — пожаловался Мирон. — Вчерась ездили на Прийск с Кириллом Дурановым. Туда вроде бы следы указывали, да ничего не нашли.
— Он и указал, небось, на прийсковскую дорогу? — лукаво сощурил глаза Иван Васильевич, разглаживая богатырским кулаком усы.
— Следы-то сами увидали, а он пособить взялся.
— И-э-эх, вы! Учит он вас, учит, да все, видать, не впрок. Раз уж Петля на закат кажет, так ехать — дураку понятно — на восход следует… А ведь я ваших бычков, знать, видал…
— Да ну?
— Ездили мы вчерась поразмяться, зайчишков поглядеть — стрелять-то рано еще, не переоделся косой, — так вот за Марьиным логом встрелись нам трое верховых татар, табунок здоровенных быков гнали…
— Куда гнали-то? — перебил его Мирон.
— А вот, пожалуй, на город и направлялись они. Быки-то, язви их, показались мне знакомыми, да не спросил я: до татар не близко было… Ну, удачи вам в поисках, — пожелал Иван Васильевич и тронул коня.
Ох и крепок же русский мужик задним умом! Не нами сказано. Теперь-то обо всем догадался Мирон, рассказал Тихону о вчерашнем зайце, которого он так и не мог увидеть.
— Там, стало быть, поворотили они целиком, без дороги, — заключил свои выводы Мирон. — Ба-альшой крюк для отвода глаз согнули.
— А зайца-то вовсе и не было, — подхватил Тихон. — Петля тебе, как дитенку, только что не ладошкой глаза-то на следы прикрыл, а рукавом, да голову твою этим зайцем заворотил в другую сторону, поколь нужное место проехали.
— Так, выходит, — глубоко вздохнул старший брат, сожалея об упущенном времени. Ведь до чего же просто надул его Петля этим зайцем! Остановиться бы там да поглядеть следы-то! Но для того и ездил Кирилл Дуранов, для того и дня не пожалел.
В полверсте от Токаревки — близкого пригорода, смыкавшегося с окраинными городскими улицами, — выстроилась целая семья ветряных мельниц. Один ветряк стоял совсем недалеко от дороги. Людей и подвод возле него не было видно, лишь засыпка, весь белый от муки, сидел на сходцах, покуривая трубку.
— Давай подвернем к ему, — предложил Тихон, — может, видал чего, ежели здеся прогоняли…
Подвернули и не покаялись. Засыпка, бородатый мужик лет пятидесяти, выслушав Рословых, сказал, указывая трубкой на дорогу.
— Вчерась пополудни вот тута прогоняли трое конных татар табунок шибко больших быков. Видать, издалека гнали. Так-то бы я, может, и не заметил, да один бык у них прямо напротив мельницы лег на дороге. Ох и хлестали они его бичами! Хвост крутили и уши вывертывали — не встал!
— А бык-то какой масти, — спросил Тихон, — не приметил?
— Как же не приметить, ежели он тута часов пять али шесть пролежал! Все глаза измозолил. Остальных-то угнали они, а этого бросили. Большой, красно-пестрый. Под брюхом и по боку белая шерсть, на лбу большое белое пятно. Левый рог извернут книзу… Он?
— Он. Там еще один, похожий на этого должен быть.
— Ну, теперь ни которого, считай, нету, потому как погнали их прямо на бойню к Яманчуеву. А там и с большими справляются скоро…
— Как же они отсталого-то увели? — допытывался Тихон.
— Не увели. Так и не встал он, видать, совсем ноги порешил, отбил то есть в дальней дороге. Вечером, уж темнеть стало, приехали сюда на сильной тройке, в ломовые сани запряженной, завалили его (на сани-то невысоко), так и поволокли по грязи. След от кованых саней по всей дороге пробороздили. Езжайте по нему, он вас и приведет, куда надо… Да вон отседова бойню-то видно.
— Спасибо, добрый человек! — сказал Мирон, трогая Ветерка. — Давно знаем эту бойню.
На дороге ясно виден был след кованых полозьев, придавленных огромной тяжестью и высветливших землю до блеска. Кое-где по нему виляли узкие полосы колесных шин.
— За Мухортиху аль за Бурлака нам Петля казню этакую сотворил? — размышлял вслух Мирон, не упуская из виду следа.
— За то, что снопы ему в суслоны составили, — сердито усмехнулся Тихон. — Сам вчерась сказывал, будто за добро добром платится.
Все чаще выглядывавшее солнце распарило мужиков в шубах и шапках — распоясались, шубы распахнули.
— Стой, Мирон! — вдруг ухватил Тихон за вожжи, держа в этой же руке только что снятую опояску. — Куда ж мы едем-то?
— На бойню.
— А чего делать там станем? Вышибут нас оттоль в шею и концы остальные попрячут… В полицейский участок завернуть надоть сперва.
Мирон не стал перечить столь разумному доводу и круто поворотил коня на городскую дорогу.
— Поедем к Чернову, — сказал он, — к Василию Никитичу. Чать-то, пособит он нам, не откажет. Мы ведь с им давно знакомы. В церковно-приходской школе в Бродовской вместе годок учились.
Полицейский участок, где Василий Никитич служил частным приставом, находился, к счастью, недалеко от окраины. И сам хозяин участка оказался на месте.
— О, Мирон Михалыч! — встретил он старшего Рослова, торопливо выбираясь из-за стола, задевая за обшарпанный край изрядным брюшком. — Сколько лет, сколько зим!
— Желаю здравствовать, Василий Никитич! Только зим, наверно, на одну поменьше, потому как нонешняя лишь пожаловать грозится.
— Ты один, что ли?
— Да нет, брат у меня там с конем остался, Тихон.
— Так зови его сюда!
— Стоит ли? По делу ведь я, Василий Никитич. А время не терпит.
Мирон без задержки рассказал всю историю с пропажей быков. Еще не дослушав его, Чернов сдернул с вешалки шинель и начал одеваться.
— За большого человека ты заставляешь меня взяться, Мирон Михалыч, ох, за большого! — говорил Чернов, опоясываясь ремнем поверх шинели и гремя по полу шашкой. Безбородое лицо его казалось особенно широким, возможно, оттого, что пышные темные усы как бы разделяли его надвое, торча широкими вениками возле пухлых щек. С таким тузом не страшно двинуться к Яманчуеву в гости.
На улице Мирон хотел посадить Василия Никитича рядом с Тихоном в ходок, сам же взгромоздился было на козлы. Но пристав, сознавая всю важность визита к столь знатному в городе человеку, потребовал себе коня и прихватил с собою еще двух конных городовых.
Потеплело на душе у братьев Рословых. Надежда забрезжила на справедливый конец этой грабительской истории. На бойне, даже не спросив, где хозяин, прошли все пятеро в помещение. Остановившись возле густой кровавой лужи, Василий Никитич поправил пухлым кулаком усы и, заложив руки назад, приказал:
— Шкуры ищи, Мирон Михалыч: быков-то уж теперь нету.
Встав к большой куче с разных сторон, Рословы начали перекидывать шкуры. Сырые, тяжелые, они обвисали и подвертывались парны́ми краями, шлепаясь в новую стопу. Мимо Рословых прошел молодой татарин-рабочий и будто невзначай обронил:
— Вон в той ищите, не здесь!
Но братья, увлеченные поиском, не успели заметить, куда показал человек, желающий помочь им, а тот отошел в дальний конец бойни и принялся править лезвие ножа на широком бруске.
Мужики еще для виду покопались в этой куче и перешли к соседней. Тихон заметил, что с другой стороны к ним приближается пожилой рабочий, и насторожился.
— Справа в крайней ищите! — громко прошептал человек, отвернувшись от них, и, не задерживаясь, прошел дальше.
Видимо, добрая душа была у этих людей, коли, рискуя своей работой, они решились помочь ограбленным. Многое, стало быть, знали они о делах своего богатого хозяина. Другие рабочие бойни, занимаясь каждый своим делом, будто не замечали пришельцев.
Братья Рословы, осмотрев концы шкур еще в двух кучах, перешли к указанной.
— Вот она! — весело сказал Тихон, оттаскивая в сторону огромную бурую шкуру с грязно-белыми подпалинами в пахах. — И мета наша на левом ухе.
— Довольно, Мирон Михалыч, довольно! — махнув сверху вниз рукой, остановил братьев Василий Никитич. — Ясно, что и остальные здесь.
Круто повернувшись через левое плечо, Василий Никитич почти наткнулся на хозяина бойни, словно из под земли выросшего, и остановился, глядя на него в упор. Яманчуев — небольшого роста, щуплый татарин, с узенькой длинной выбеленной бородой и редкими белыми усами — отвел глаза в сторону, сжался как-то, вроде бы желая исчезнуть, и, переступая ногами в расшитых мягких сапогах, чисто по-русски подтвердил:
— Остальные тоже здесь… Пусть… назовет хозяин среднюю базарную цену — я заплачу́..
Радостно запрыгало сердце у Мирона, как услышал эти покорные слова. Колотится внутри неуемно. Сразу-то и цену сказать не сообразил. Уж когда на улицу вышли, назвал ее. Выходило без малого четыреста рублей — огромная сумма по крестьянской мерке. Для Яманчуева это не деньги. Через его сухие, жилистые руки десятки, а может, сотни тысяч рублей переваливаются, да еще приворовывать не брезгует.
— Спасибо, Василий Никитич! — таял в искренней преданности Мирон, взбираясь на козлы. Его место в ходке занял Яманчуев, собравшийся ехать домой за деньгами. — Оттоль завернем к тебе с благодарностью.
Поколесив по узким кривым улочкам, остановились возле парадного крыльца небольшого двухэтажного дома. Низ выложен был из красного кирпича, а верхний этаж — деревянный. Оставив Тихона с конем у ворот, Мирон поспешил за хозяином вверх по скрипучей крутой лестнице.
Вошли в полупустую комнату, где, кроме небольшого ковра на полу, трех стульев и ковра на стене, решительно ничего не было. Указав на крайний стул, Яманчуев велел подождать, а сам, подняв западню рядом с ковром, юркнул под нее и захлопнул за собой творило.
Поначалу ждалось Мирону весело. Думки, понятно, в голову разные лезли. Даже такая мыслишка промелькнула: а не к лучшему ли это, что быков-то украли? Сколько бы с ними возни было, хлопот! За неделю никак не справиться. А тут сразу — живые денежки на ладошку. Чернову Василию Никитичу, хоть однокашник школьный, рублей двадцать-тридцать придется уделить за такую находку.
Однако все это возилось в голове у Мирона минут пятнадцать, не больше. Потом откуда-то изнутри начал подбираться к нему противный озноб. Не пожалел, что шапку не снял, когда вошел: в татарских домах это совсем не обязательно — икон-то нету.
Часа через два обуял Мирона непрошеный страх. Нет никого. И внизу — ни единого звука, словно в воду канул хозяин. Подозрения всякие в мозгу зашевелились. Уйти мужику захотелось. Так и уйти боится: враз да воротится хозяин — подождать велел. Скажет, не дождался, пеняй на себя. И сидеть никаких сил нет. Все чаще в окошко стал оглядываться на брата. А тому, видать, вовсе невмоготу стало — ходит возле ходка взад-вперед, руками себя похлопывает крест-накрест для сугрева. Деревяшкой своей всю землю возле ворот истыкал. На дворе-то совсем похолодало, снежинки редкие-редкие по одной пролетают.
Сколько времени так прошло — не сообразишь. По всей видимости, часа четыре минуло.
Наконец в сумеречной, гнетущей тишине этой пустой комнаты враз — без единого предварительного звука — распахнулась западня. Из проема, с трудом помещаясь в нем, высунулся по грудь громадный татарин в тюбетейке на бритой голове.
— Ты чего здесь сидишь? — прошипел татарин, выворачивая белки глаз из-под тяжелых век и шевеля обвисшими черными усами. Выше из подпола он почему-то не поднимался. — Твоя чего здесь надо?!
Оцепенев окончательно, Мирон через великую силу шевельнул присохшим языком и не своим голосом пролепетал:
— Хозяина жду… Яманчуева…
— Какой такой хозяин? Какой такой Яманчуев? — озверело спросил татарин, нервно дернул тяжелым бритым подбородком. — Ты зачем врешь? Это — мой дом! Не знаю Яманчуев. Тебя зачем шайтан принес? Воровать пришел, грабить?!
В большой волосатой руке татарина над самым ковром блеснуло лезвие кинжала, и Мирона неведомой силой вынесло за дверь. Не помня, как пересчитал ступени крутой лестницы, оказался на улице и молча полез в ходок.
— Ну, получил, что ль? — едва шевеля озябшими губами, спросил Тихон.
— К Чернову! — обронил вместо ответа брат.
Дорогой, вглядываясь в бледное лицо Мирона, Тихон окончательно понял, что стряслась беда. Только перед самым полицейским участком Мирон в двух словах рассказал о случившемся. Раньше и говорить-то не мог — трясло его беспощадно.
К Чернову Мирон вошел бочком и остановился у двери, не смея двинуться дальше. Василий Никитич не предложил ему даже сесть. Потирая одну о другую пухлые руки, лежавшие на столе, он безучастно выслушал горький рассказ Мирона, покашлял глухо, толкнул кулаком правый ус и не громко, но твердо сказал:
— Теперь уж, Мирон Михалыч, ничего сделать я не могу.
— Да как же не можешь-то, Василий Никитич? — взмолился проситель. — У тебя власть! Куда ж мне теперя ограбленному, обманутому податься? От друга детства, можно сказать…
— Хоть ты и друг, — безжалостно отрезал Чернов, — а ручку-то не позолотил в таком деле. А Яманчуев не простой мужик — ба-а-льшой купец, знатный в городе человек! Его скалка толще.
— Дак ведь ежели б дело-то выгорело, нешто остался бы я в долгу? Да еще перед другом!
— Дружба дружбой, а табачок врозь. Не обессудь на прямом слове. Прогорело, Мирон Михалыч, твое дело навылет. Сказываю, толще купецкая скалка, — ухмыльнулся Чернов. — Аль не уразумеешь никак?
— Чего уж тут разуметь, — безысходно вздохнул проситель.
Ему показалось, что не друг и не пристав сидит против него, торча над столом в полтуши, а тот же татарин, что высунулся из подпола по грудь и так же вот вначале положил толстые руки на ковер. Только голова у этого не брита да усы топорщатся в стороны, а не висят. Без ножа дорезал, разбойник.
— Прощай, стал быть, Василий Никитич, — боязливо попятился Мирон к двери. — Не ко двору, знать, лапотный мужик тута.
— Прощай! — донеслось из-за полупритворенной двери.
На этот раз Тихон дожидался брата в прихожей. И покурить не успел, как тот вылетел от пристава.
— И тут, видать, несолоно хлебамши отужинал? — выходя на крыльцо за братом, спросил Тихон.
— Рука руку моет, плут плута кроет, — безнадежно отмахнулся Мирон, влезая в ходок. — Поехали. Все они — и казачишки, и татары — одним миром мазаны.
— А Петля вон не казак и не татарин, да в одной с ими шайке, — возразил Тихон, поворачивая коня на дорогу и выплюнув припаливший усы окурок. — А работники на бойне — татары ведь, да помогали нам шкуры отыскать. Стало быть, не за одно они с хозяином-то. Какой прок им от его дармовой наживы?.. По-моему, кто побогаче да понахальнее, того и верх. Пока мы караулили тот дом, черт-те чего дожидаючись, татарин казачишке рот законопатил: половинку от наших быков кинул ему в лапу — и все довольны, окромя нас… Ведь мы ему больше тридцатки никак бы не дали. Чернов понимает это. А Яманчуев небось сотни две отвалил, а то и боле.
Ветерок, выстоявшийся и продрогший за день, уносил говорливый ходок в темноту осенней ночи. За городом редкий снег тонким слоем выбелил дорогу, чистым полотенцем брошенную под ноги коню. По бокам, потерявшись в стерне, снег не белеет так ярко и ровно.
12
Удивительна бывает уральская погода: то зима раным-рано постучится, то снова лето воротится. И совершается все это до того скоро, что не враз приноровишься к переменам. Порою в июле зарядит холодное ненастье — хуже промозглой осени. А то в октябре такая теплынь разольется — что весна красная. Озими под приветливым солнышком свежо зеленеют и нежатся, радуя глаз хлебороба. Отава по сенокосным угодьям шелковисто взметнется, и несвезенные на гумно ски́рды сена кажутся на ней застарелыми, прошлогодними. Для пущего сходства с весною мухи оживут, букашки разные. Глядишь, даже мотылек запорхает весело. Но все это кратковременно и призрачно, потому как лес-то голый, задумчивый стоит, опустелый — засыпает он. И не будят его птичьи хоры, дремать не мешают. Редкая пичуга застенчиво пискнет и смолкнет.
В предрассветных потемках побежала Дарья Рослова в новый дом свежих щепочек набрать, чтобы самовар разжечь. На ноги кожаные опорки насунула второпях — недалеко тут дойти-то, не успеешь озябнуть. Щепок, стружек насобирала в старую корзину — и назад. С плотины-то подыматься стала — заскользили ее опорки на обледенелой покатости, упала. Подобрала щепки, вылетевшие из корзины, разогнулась и невдалеке встречного увидела. Голова не поймешь чем закутана, шуба длинная нараспашку, а на ногах — бабьи, кажись, ботинки. Ступает опасливо, ноги передвигает медленно — привидение, дай только!
Пригляделась Дарья и ахнула, как поравнялся с ней человек:
— Катька, чертовка! Жива-здорова?
— Жива, — ответила Катька, будто из-под могильной плиты.
— Не признала я тебя. Либо помрешь, либо королевной богатой станешь.
— Богатой, знать, стану, — загробно тянула Катька, прикрывая праздничной шалью бледное лицо. Глаза у нее большие, провалились в глазницах. Под распахнутой шубой с чужого плеча — коротенькая пальтушка, в какой была она у Рословых в последний вечер. — Замуж ведь отдают меня…
— Слыхали про это, да что за свадьба без невесты. Эт где ж тебя черти носили чуть не две недели, милушка? Мать-то совсем извелась.
— На казачьей заимке гостила, с волей девичьей прощалась…
И двинулась Катюха своей дорогой.
Не была на заимке она — у бабки Пигаски прожила все это время в землянке. От Васькиной тягости облегчалась. Как поладили они с бабкой — богу одному вестимо, а только за так и чирей не сядет.
Много пережили они за эти дни: Катюха страдала от боли, а бабка — от страха за нее и за себя. Случись чего роковое с девкой — упекут старуху в каторгу, там и кости ее похоронят. Зато как обошлось все с божьей помощью благополучно, сам собою небось развязался узелок на бабкином грязном платке для принятия щедрой благодарности.
Дома после первых отчаянных минут — ведь уж в полицию заявлено было! — после сбивчивых лживых объяснений заголил ей Прошечка подол, отходил арапником. Затем приказано было Катьке отлежаться, а родители между тем с усердием принялись за подготовку к свадьбе.
Катька изо всех сил старалась представить дело так, будто убегала она и руки на себя собиралась наложить исключительно из-за нелюбимого жениха. А теперь вроде бы смирилась с судьбой. Но когда мать пыталась дознаться, кто же у нее любимый — не сказывала. На то ссылалась, что будто и приглядеть никого не успела.
А Прошечка, вспомнив покосное время, вспомнив множество подозрительных мелочей, которые, как тогда казалось, не стоили внимания, и, увязав их с поведением Катьки у Рословых на проводинах, задним числом безошибочно дошел до истины.
— Васькины последки небось выскребала, черт-дура! — сказал, как приговор вынес, глядя шальными глазами на дочь, лежащую в постели вниз лицом и не способную повернуться на спину. — Хотя бы и в солдаты не ушел — неровня он, слышь, нам. Сирота…
Однако Прошечка позаботился, чтобы слух о Катькином побеге до свадьбы не донесся в Бродовскую к сватам.
Катюха мысленно благодарила судьбу за то, что суженый ее, ряженый Кузя Палкин — вахлак и тихоня. Такого провести запросто можно. А и догадается после времени, так не взыщет. Не поддастся она ему. Васька, Васенька застрял у нее в голове!
Погода на свадебные дни теплая-претеплая выдалась, будто бы лето назад воротилось. Мужики в рубахах, бабы в кофтах по улице ходили — теплынь благодатная!
Свадьба вторые сутки в Бродовской у жениха разливается песнями да плясками. Рословы мужики, Мирон и Тихон, со своими бабами там гуляют. Прошечка с Полиной домой прибыли, чтобы приготовить все для гостей, когда свадебный поезд в невестин дом перекочует. К обеду приехать должны. Макар не поехал в Бродовскую, оттого что Дарья стряпухой была на той неделе.
Сегодня, как приедет поезд, Настасья стряпухой заступит, а Дарья с Макаром на свадьбу пойдут. С раннего утра управились они часов до десяти с хозяйством, захватили с собой Саньку-ревунью, дочь Марфину, и подались к Прошечкиному двору — свадебный поезд встречать. Дед Михайла за ними увязался — тоже «поглядеть» ему захотелось.
Возле Прошечкиного двора собралось много народу. Ребята и даже молодые мужики в лапту играть затеяли на поляне у рословской кузни. Девки в сторонке хоровод завели. Мужики и бабы постарше расселись на лавках у двора, на крылечке закрытого магазина, на бревнах, на досках, на верстаке возле нового дома Рословых, на предамбарье знаменитого Прошечкиного амбара, крышей похожего на шляпу Наполеона, а то и просто на травке разместились.
Здесь же толкалась тетка Манюшка Шлыкова. Садиться ей недосуг: поезда лишь бы дождаться — и домой. Перебирала она сушеные ягоды, не успела закончить да так рассыпанные на столе и оставила. Не вытерпела у нее душа посидеть еще хоть с полчаса дома. Прибегут с улицы ребятишки, как пить дать, ополовинят ягоды.
13
В избе у Шлыковых тем временем, кроме своих ребятишек, пробавлялся еще Ромка Данин. Леонтий, забравшись на печь, храпел там несусветно. Гришка два дня назад увез Ваньку в город, в больницу — опять хуже ему стало — да там и задержался чего-то.
Ягодами ребята, конечно, позабавились вволю, но больше налегали на чистые, перебранные, в глиняную латку ссыпанные. А на столе почти и не тронули, покопались только. Так ведь сухие они, ягоды-то. Вот бы еще чем-нибудь завершить, вкусненьким!
— Ты, Ромка, шибко голодал, когда скрывался после того, как у нас окно-то вышиб? — спросил Яшка, кидая себе в рот по клубничнике, а другой рукой заравнивая углубление в ла́тке.
— А я почти что и не голодал, — храбрился Ромка. — Спущался же я ночью-то да папашку поджидал.
— Не набил он тебе, как приехал?
— Не-е, он нас не бьет и мамашке не велит. Похвалил еще. Каким-то сепаратором назвал.
— Ох и врешь ты! — засмеялся Яшка. — Сепаратором-то вон у Кестеров молоко перегоняют, чтобы сливки от обрата отшибить.
— А может, не так назвал — каспаратором, — никак Ромка не мог вспомнить мудреного слова «конспиратор», — только похвалил за то, что прятаться здорово умею.
— Ребятенки! — воскликнул молчавший до сих пор Семка. — А ведь у нас в подполе ба-альшой горшок со сметаной стоит… Густая сметана, вот бы попробовать! Да тятька вон тута…
— Тятька не услышит, вон как храпит, — возразил Яшка и указал на икону в углу, — а боженька увидит. Завсегда боженька все видит и мамке сказывает. Она и дерет нас в наказание.
— А мы повернем икону к стенке лицом, и не увидит, — уверенно предложил Ромка.
— Давайте, а! — у Семки загорелись глаза.
Согласие вышло у них само собой. Ромка, не приученный молиться дома и не очень трусивший перед богом, полез на лавку икону поворачивать, Яшка западню отпахнул, а Семка схватил под залавком кошку и первым сунулся в проем.
— Это еще зачем? — возмутился Яшка.
— Зачем, зачем, — передразнил его брат. — Сгодится. Сам посля увидишь.
Окружив горшок, ребята словно бы не решались к нему подступиться. Благоговейно сняв деревянную крышку и поставив ее на ребро возле горшка, подцепил Яшка согнутым грязным пальцем упругую, загустелую, как вареное молозиво, сметану, лизнул и сам растаял от этакой благодати. Зажмурился. Ребячьи пальцы, выбеленные сметаной, шустро замелькали в сумерках подпола. Однако Семка скоро хватился:
— Эх, ямищу-то какую выкопали! Будет вам хватать-то, стойте!
Сам он черпанул последний разок, торопливо облизнул палец и, взяв кошкину лапу, начал царапать ею по сметане, старательно заштриховывая следы пальцев.
— Гляди, чего он придумал, — восхитился Яшка и бережно положил крышку на горшок. — Ай да Семка! Теперь кошке за все отвечать…
К великому огорчению Манюшки и еще многих баб, оставивших дела и прибежавших на минутку встретить свадебный поезд, выяснилось, что ждать-то пока нечего: Прошечка еще только собирался отправить свою тройку в Бродовскую за молодыми. Когда-то они вернутся! С расстройства плюнула Манюшка, обманщиком Прошечку заочно обозвала и отправилась домой — свои бабьи дела доделывать.
Издали увидев ребятишек, занятых игрой на улице, Манюшка успокоилась, перестала терзаться: обошлось без греха, стало быть. Но, перешагнув порог, по привычке глянула в передний угол и опешила:
— Господи Исусе! Да как ж эт икона-то затылком наружу очутилась?!
Икону она поправила, перекрестилась на нее извинительно, ягоды оглядела. Конечно же, поубавилось их порядочно, так ведь сама виновата — не прибрала. На залавке, на полках проверила — все на своих местах. Замок у сундука подергала — заперт крепко. Потянуло ее в подпол спуститься…
Заглянула Манюшка в сметанный горшок — аж позеленела вся.
— Ах, враженяты, чего ведь удумали! Кошка у их сметану поела и крышечкой горшок накрыла! Чуть не всю летичку собирала я эту сметану по ложечке, а они в раз… Ну, погоди!
Не захлопнув западню и оставив настежь растворенными избяную и сеничную двери, трясясь от негодования, Манюшка отломила от плетня надежную хворостину и ринулась на улицу. А ребятки, не подозревая лиха, стоят на коленочках в ряд, носы в землю уткнули — бабки считают да делят. Гневом разъяренная Манюшка и то не утерпела, злорадно ухмыльнулась: будто намеренно подставили они ей самые нужные места! По одному-то разве их догонишь?
Подошла Манюшка к ним неслышно, примерилась половчее, чтобы всем поровну досталось хоть разок, и стеганула хворостиной со всего плеча. А после того как завертелись ребятишки по полянке, спасаясь от «ниспосланного боженькой» наказания, Манюшка доставала их по одному прутом, беспощадно приговаривая:
— Ах, чертеняты, богохульники! Родимец вас изломай! Небось, Ромка всех сомустил… Кошку, кошку, лупить-то надоть! Она, окаянная, сметану потрескала!.. А вас бы погла-адить, проваленных!
Однако последние слова этого пылкого нравоучения ребята выслушали уже стоя, держась на достаточно безопасном расстоянии. Манюшка, довольная отмщением за нанесенный ущерб ее неприкосновенным запасам, отправилась в избу. Но тут поджидала ее новая беда.
Через растворенные двери в избу под предводительством золотистого петуха набилось больше десятка кур. Петух и несколько хохлаток толклись на столе. Мало что они склевывали ягоды, так хуже того — расшвыривали их ногами по полу, давая возможность подкормиться остальным. Три пеструшки с подскоком доставали клювами ягоды из неполной латки. Одна на подоконнике кутного окна азартно охотилась за мухами.
У Манюшки разум помутился от этого зрелища. Неистово заголосила она и кинулась на разбойную стаю. Тут-то вот и поднялся настоящий содом: бестолково махая крыльями, теряя перья, куры подняли невообразимый гвалт и сыпанули от страшной хозяйки кто куда. Три-четыре канули в распахнутую западню. Другие полетели напрямик в дверь, хлопая крыльями на пути стоящую Манюшку. А одна бешеная, перепугавшись насмерть, с размаху долбанулась в окошко и вышибла то самое стекло, какое недавно вставили после Ромкиного разбоя.
От переполоха этого даже Леонтий проснулся.
— Чегой-то творится тута, не понять, — свесил он взлохмаченную голову с печи, продирая заспанные глаза.
Манюшка не ответила ему, потому как сразу после звона стекла с улицы донеслось четкое, молодое:
— Ну, а теперь, кого бить станем? — Ромка это, кажется, зубоскалит. Не шибко проняло его хворостиной-то.
— Да что ж ты лежишь-то, идол плюгавый! — накинулась враз Манюшка на Леонтия. — Развалился, как боров, тама!
— А чего мне делать прикажешь? — спросил невозмутимо Леонтий. — Свадьба-то приехала?
— Да хоть бы ругал меня, что ли! Бить меня, старую дуру, надоть, палкой лупить, а он лежит!
— Х-хе, бить ее, ругать… Сама набедокурила, сама и ругайся. А хочешь, дак и бейся сама.
Это вызывающее спокойствие окончательно взбесило Манюшку, и через минуту по ее словам выходило, что главный виновник во всех бедах — Леонтий, проспавший все на свете. Отодвинулся он от края печи, на всякий случай, и попробовал еще вздремнуть под яростные причитания жены. Не удалось.
— Дак свадьба-то, что ль, приехала? — снова спросил Леонтий, когда Манюшка порядком поостыла.
— Приехала… с печи на полати… Сиди уж, где сидишь… Прошечка еще тройку не послал в Бродовскую… А я торчала тама, дурочка.
«Что ты дурочка, нам и так известно», — подумал, но вслух не сказал Леонтий. А дома сидеть ему уже надоело, потому вознамерился он побывать на людях. Может, и рюмочка там перепадет какая, пока Манюшки рядом не будет. Собираться мужику не понадобилось — на дворе теплынь. Босой выскочил из избы, вроде бы по нужде, да и был таков.
14
А у Прошечки дома тем временем произошел случай, давший повод бабьим пересудам и толкам не на один год, потому как неопровержимо считалось, что именно этот случай, и только он послужил предзнаменованием ко всем дальнейшим последствиям в жизни Катьки.
Ганька Дьяков, собираясь в Бродовскую за молодыми, смазывал ходок, выкатив его на середину двора. Наблюдая за работником, Прошечка стоял в тени кладовки. Тут же во дворе слонялся любимец хозяина, большой черный козел Кузька, известный всему хутору. То ребятишек гоняет, то бабу какую-нибудь напугает до смерти. Никого он не покалечил, но блудлив и задирист был страшно.
Смазал Ганька три колеса, а на левом заднем никак отвернуть гайку не может — ходом, видать, ее затянуло. Согнулся и кожилится с ключом возле оси-то. Козла заинтересовал маячивший Ганькин задок. Задиристо мекнув, приподнялся Кузька на задних ногах и не сильно, вроде бы для затравки, ударил парня под коленки, Ганька, сердитый из-за того, что не может отвернуть эту проклятую гайку, обернул свою злость против козла и дал такого пинка, что тому расхотелось заигрывать.
Направился было козел к погребу, но туда Полина зачем-то пошла и прогнала его. Тогда он прямым ходом устремился в растворенную сеничную дверь. Прошечка не видал этого, потому как в нем начинало закипать бешенство, оттого что работник не может справиться с таким пустяком. Прикованный взглядом к Ганькиному затылку, Прошечка все туже сжимал за спиной один кулак в другом, так что перчатки его скрипели.
Козел, миновав сени, проследовал в настежь распахнутую избяную дверь. Задрав голову, не торопясь оглядел с конца праздничные столы, уставленные всякой едой, дотянулся до малосольного огурца на эмалированной тарелке и, похрустывая его, вдруг заметил в противоположном конце комнаты подобного себе собрата. Желтые, нахальные глаза Кузьки заблестели. Козел сердито тряхнул бородой. Противник сделал то же самое. Нагнувшись и волоча мягкую бороду по полу, Кузька пошел на врага. Тот, видать, не из робкого десятка — тоже шагнул навстречу. Начался бой. Рванулся Кузька и со всей силой долбанул крутыми ребристыми рогами другого козла. Осколки от зеркала толщиной в палец со звоном посыпались на голову бойца, а Кузькин противник тут же исчез бесследно.
Как раз в этот момент и возвратилась Полина. Задыхаясь от негодования, она взревнула не своим голосом и как была с чашкой, наполненной творогом, так и бросилась на разбойника. Кузька, выбив у нее чашку, вспрыгнул на скамейку возле стены и, недосягаемый по другую сторону столов, удалился без задержки.
— Э-э, ч-черт-дура! — кипятился Прошечка, прибежавший на шум. — Чего ж ты дверь-то не притворила, слышь, разиня? Ну! Подбирай тут все скорейши, что ль! А зеркалу новую купим.
Полина, собирая осколки, заголосила с причетами о том, что и зеркало-то жалко — ведь от пола чуть не до потолка красовалось, а больше того, примета больно нехорошая. Не стал Прошечка слушать этого нытья — сам он ни в сон ни в чох не верил, — а любимца своего решил все-таки наказать примерно. Схватив висевший под сараем кнут, загнал Кузьку в щель между конюшней и свинарником и драл до тех пор, пока тот не заорал благим матом.
— Н-ну-ка! — подскочил Прошечка к Ганьке, бросив кнут в ходок. — Ляля ты, ляля, слышь, черт-дурак! Тебе, слышь, не телегу мазать, а свинье хвост закрутить и то не сумеешь!
Он двинул Ганьку плечом, сорвал с гайки ключ и бросил под ноги. Сдернув перчатки и остервенело вцепившись в шестигранник гайки руками, Прошечка аж посинел от натуги, косточки на пальцах выбелились — не получилось! Так не позориться же перед работником! Тогда он встал на колени, подвернув под них сафьяновый фартук, и, захватив гайку зубами, заскрежетал, напружинился весь и стронул-таки неподатливую гайку с места. А потом, скрутив ее рукой, подал Ганьке.
— Н-на! Черт-ляля! Ляля ты, ляля, слышь, черт-дурак, и есть — ключом простую гайку свернуть не мог, а!
Ганька, глядя на хозяина, рот разинул: откуда в этом тщедушном, маленьком человечке такая силища?
— Мажь скорейши да лошадей веди, запрягать станем… Колокольцы, ленты, ширкунцы приладил?
— Приладил…
Народ возле Прошечкиного дома так и толпился с утра. Одни уходили по делам ненадолго домой, другие приходили. Так было до Ганькиного отъезда в Бродовскую, так было и после него. Леонтий Шлыков подошел как раз в тот момент, когда, услышав звон разбитого стекла и крик Полины, ребятишки заглянули в окно дома и громко доложили о случившемся. Бабы стали креститься, предчувствуя неминучую беду в жизни молодых — жениха и невесты.
— Здорово, Макарушка! Здравствуйте вам! — приветствовал Рословых Леонтий. — Чегой-то вы не на свадьбе?
— Недосуг было, — ответил Макар, — теперь вот ждем, как приедут.
Леонтий подсел на бревно к Макару и зашептал ему в ухо, чтоб Дарья не слышала:
— Рюмочку вынесешь, как свадьба загудет?
— Вынесу, шут с тобой, — засмеялся Макар. — У меня у самого в роту пересохло.
— Дык не сразу, — возразил Леонтий, — а посля, как сам ты размочку примешь… Я погожу тута.
Тема эта была для них куда увлекательнее, чем разбитое зеркало, о котором гудела вокруг молва. Дарья, покачивая на коленях Саньку, изрядно надоевшую, прислушивалась к бабьим толкам, и разбитое зеркало неизменно связывалось у нее в мыслях с образом той Катюхи, какую видела в последний раз на взвозе у плотины — на себя непохожую. Понятно, не знала Дарья всех бед Катькиных, только чувствовала бабьим сердцем, что беспутная свадьба эта не принесет невесте добра. Не в радость она. Да и чего скружился Прошечка не вовремя? Подождали бы до зимы. Не по-людски все это выстряпывается…
— Кто на жеребца сядет — четверть вина поставлю! — выкрикивал подвыпивший молодой цыган, поблескивая большущей золотой серьгой, торчащей из-под кудрявых спутанных волос.
Люди слушали его с интересом, но никто не спешил получить четверть вина. Все с опаской поглядывали на дикого вороного жеребца — трехлетка с красивой звездочкой на лбу. Конь был выхолен знатно: вороная шерсть отливала стальным блеском; пышная, не очень длинная грива форсисто покачивалась в такт приплясывающим шагам. Тонкие раздутые ноздри, игривый шальной взгляд, прядающие стройные уши — все картинно, все привлекало красотой, а необузданная сила звала к себе и пугала.
Конь был, видать, совсем не объезжен, потому как вел его хозяин под уздцы и коротко держал на аркане.
— Ах, лети-мать, поехал бы я на ем, заработал бы четверть вина, — сокрушался кум Гаврюха, — дык плечо у мине разболелась, хрястит.
— Куды тебе, — засмеялась Анна Данина, — слетишь, дак жердей-то сколь из тебя наломается!
Цыган было сунулся к Филиппу Акимовичу Мослову. У этого-то силушки хватило бы, наверное, да запил он снова, вторую неделю под парами ходит. Обессилел совсем, самого без ветра пошатывает.
— Пр-рроваливай! — сердито зарычал он на цыгана и вяло взмахнул рукой, отчего конь шарахнулся, толкнув грудью хозяина.
— Кто на жеребца сядет — четверть вина поставлю! — опять выкрикнул цыган, подходя к Рословым. — Ну, мужики, кому выпить хочется?
— Выпить-то как не хочется, — жалостливо произнес Леонтий, — да конь твой, не то что моя Рыжуха: на его сесть не сядешь, а вино на твоих же поминках без тебя и выпьют… Лучше уж я сам кого-нибудь помяну. Прокатись-ка, Макарушка, поколь делать-то нечего.
— Мне и без его четверти на свадьбе вина хватит, — отшутился Макар. — Тебе надоть выпить, вот ты и зарабатывай.
Дарья молча сунула на руки мужу притихшую Саньку и, поднявшись, уверенно взяла за узду жеребца.
— А добуду я вам, мужики, четверть вина!
— Дарья! Сбесилась ты, что ль? — оторопел Макар. — Не дури!
— Убьет тебя зверь этот, — поддерживал Леонтий, — вдовцом ты Макара оставишь.
— Перестань дурачиться!
Но Дарья, ловко взнуздав жеребца, выдернула нахлестки из руки цыгана и накинула прорезями себе на пальцы, чтобы руки поводом не нарезало. Взяла нагайку и, уцепившись за холку, прыгнула совсем по-мужски на коня. Подол взметнулся кверху, оголив ногу чуть не до бедра, так, что Леонтий даже зажмурился. Но села она твердо, ловко, надежно. Юбка упала обратно, закрыв сильную и красивую Дарьину ногу.
— Тетка, тетка! — опомнившись, захохотал цыган, удерживая коня. — А ты пить-то умеешь ли?
— Подадут, дак не хуже тебя выпью. Отпущай, черномазый, аркан!
— Убьет он тебя, дура! — закричал Макар, вскочив с бревна и держа на согнутых руках Саньку.
Но цыган уже сдернул с крутой конской шеи аркан. Конь свечкой взвился на дыбы, ударил вприсядку задними копытами, обдав земляными брызгами подступившихся было ротозеев, и понес Дарью в сторону Кестеровой усадьбы, на выезд к Прийску. Однако после нескольких отчаянных прыжков жеребец припал на колени, сунувшись мордой в дорогу, вскочил, попятился…
— Убьет! Убьет он ее! — жалостно скулил Леонтий, с разинутым ртом глядя вслед наезднице.
Макар, покачивая на руках Саньку, ходил взад-вперед возле бревен, стараясь не глядеть на жену.
В твердой руке Дарьи свистнула плеть, удила врезались в углы мягких конских губ, так что непокорный жеребец оскалил лютую пасть и снова покорился властной руке всадницы.
Игравшие в лапту остановились, хоровод замолк, даже утихли бабьи пересуды — все взоры устремились вослед уносящейся в облаке пыли Дарье. А она то осаживала коня, то хлестала плетью, то придерживалась за пышную гриву, чтобы не слететь, когда он метался из стороны в сторону. Через минуту Дарья скрылась из виду.
Игра в лапту пошла своим ходом, опять закружился девичий хоровод, а Макар, окончательно растерявшись, не знал, что делать. Даже цыган, дотоле говорливый и нахально издевавшийся над робостью мужиков, застыл на том самом месте, с которого отпустил коня.
— Ну, чего, — первым нарушил молчание Леонтий, обращаясь к цыгану, — за четвертей бечь надоть… Села ведь на твого коня-то она и поехала… Во, баба! Манюшка моя до сей поры проворная да шустрая, а и смолоду такой не была.
— Четверть поставлю, не обману, — грустно сказал хозяин коня, — только за что пить вы ее будете — за здравие или за упокой? Трех цыган покалечил этот жеребец, отца моего покалечил! А он родился в кибитке и еще грудным ребенком ездил с матерью верхом на коне. Ты не торопись, мужик, о вине говорить. Спроси у этого сокола, не придется ли ему самому нянчить ребенка, пока он своими ногами пойдет.
— Да чего ж теперь делать-то? — твердил Макар, ни к кому не обращаясь и качая на руках крепко спящую Саньку. — Делать-то чего теперь?
— Молебен заказывать, вот чего! — подступил кум Гаврюха. — Не знал ты, что ль, куды пущал-то ее? Теперя небось валяется твоя Дарья где-нибудь в степе, либо неживая, либо покалеченная. А его, черта, жеребца-то этого, назад не дождаться. Ускачет в степь, шары вылупимши, ищи-свищи… Я его с одного взгляду раскусил, что он за птица…
— Да перестань хоть ты еще квакать-то под руку! — рассердился Макар. — Тут думать надоть, чего делать, а он заупокойную петь взялси!
— Коня, — убежденно сказал цыган, — коня давайте! Ехать надо, искать.
Он не сказал, кого искать — Дарью или коня. Каждый думал свое: цыгану не было дела до Дарьи, а Макару — до цыганского коня.
— Степка! Степк! — позвал Макар племянника, вертевшегося тут же, между взрослыми. — Бежи скорейши домой, приведи сюда мово Рыжку.
Степке никак не хотелось верить, что с теткой Дарьей могло случиться что-то неладное, а может быть, и совсем плохое. Но тревога мужиков передалась и ему, а растерянный вид цыгана, хорошо знавшего норов своего жеребца да еще рассказавшего о покалеченных им людях, совсем поверг парнишку в уныние. Домой он бежал, чувствуя себя пришибленным, связанным.
Выйдя с Рыжкой из конюшни, хотел Степка тут же во дворе и сесть на него с водопойной колоды, так опять же, кто ему калитку-то отворит? Вывел коня за ворота, с лавочки там вскочил на Рыжку. Всякий раз, когда приходилось вот так одному садиться на лошадь, сделать это хотелось быстро и просто: поставить ногу в петлю повода, толчок — и наверху. Но всегда при этом вспоминалась жуткая смерть Леньки Дуранова, и Степка во что бы то ни стало отыскивал другой способ.
— Чего ты долго-то так? — ворчал на него Макар. — Ведь уж, чать-то, целый час прошел с тех пор, как она уехала. На-ка вот Саньку, возьми у меня…
— Едет, едет! — закричали ребятишки, указывая в сторону Кестеровой усадьбы. — Тетка Дарья едет!
По улице, красиво вскидывая стройные ноги, небыстрой рысью шел вороной конь, и на нем — Дарья. Платок у нее свалился с головы и лишь узлом держался на шее, концами прикрывая вырез на кофте. Волосы растрепались, но лицо сияло счастливой, гордой улыбкой.
Не доехав до цыгана сажени три, натянула поводья, и конь послушно остановился. Из пахов у него клочьями падала желтоватая пена. Шерсть взмокла, как после купания, так что мокрая Дарьина юбка прилипла, расстелившись по боку коня. Пот проступал даже на морде коня, а глаза светились устало и ровно, потеряв шальной блеск, пугавший охотников прокатиться.
Тяжело соскользнув со спины коня, Дарья взяла его под уздцы, подвела к цыгану и, передавая повод, сказала:
— На, идол черномазый, своего жеребенка да ставь посуленную четверть, а то мужики, небось, все слюнки посглотали.
— Черт, не баба ты! — сверкнул глазами цыган, принимая повод. — Такого коня уездила да еще смеется!
Оставив жеребца в залог, цыган, сопровождаемый вездесущими ребятишками, отправился за обещанной четвертью водки к Лишучихе. А Леонтий, давно жаждавший вкусить этого горького зелья, оживился несказанно.
— Макарушка, — сучил он неуемным языком, — слышь ты, Макар, а ведь небось бывало, и поколачивал ты Дарью-то?
— Случалось, — нехотя отвечал Макар. — У кого такого не бывает?
— Случалось, — переговорила его Дарья, — да только кто считал, у кого больше синяков оставалось.
— Теперь, знать, подумаешь сперва, тронуть ли ее аль погодить, — смеялся Леонтий. — Не тебе чета, совсем дикого жеребчика уездила вон как! Сичас на ем вон и кум Гаврюха куда хошь уедет.
А кум Гаврюха, между прочим, так и держался поблизости, не отходил от Рословых, Да и другие мужики, почуяв тут дармовое угощение, заметно посгрудились и, окружив цыганского жеребца, словоохотливо толковали о его достоинствах, выискивали недостатки, прикидывали базарную цену коню и будто нечаянно оглядывались на плотину — не идет ли цыган с водкой.
— Свадьба едет, свадьба! Вон с бугра слушается обоз! — Это опять же заметили ребятишки, игравшие на поляне возле дороги.
Действительно, в Сладкий лог спускалась длинная вереница разукрашенных подвод. Разноцветные одежды баб и мужиков то ярко виднелись оттуда, то, закрываемые пыльным облачком, бледнели, а то и вовсе исчезали.
— Ну, пойду я домой, — сказала Дарья. — Настасью дождусь да кой-чего поделаю, посля приду. Ждите тут свого цыгана. Много-то не пей, Макар: успеешь еще там нахлестаться, на свадьбе.
— Тетка Дарья, отведи Рыжку, — попросил Степка.
— Давай.
— Ты, батюшка, пойдешь домой, — спросила она деда Михайлу, перехватив Саньку на одну руку и подставляя другую свекру, — аль тут с мужиками побудешь?
— Тута побуду, поколь обоз подъедет, — ответил дед охрипшим голосом, — Степка-то не убег?.. Вот он и приведет меня.
Как же уйти деду, ежели здесь теперь собрался весь хутор? Не было только Кестеров да Виктора Ивановича с бабкой Матильдой — остальная-то семья ихняя тут же пробавляется. Дуранова Кирилла Платоновича и Василисы его тоже тут нет.
Дарья ушла, а у мужиков подоспело самое развеселое времечко: свадьба на подходе, и цыган вернулся с запечатанной белоголовой четвертью.
Леонтий загодя выпросил у Полины кружку, «какая на свадьбе не понадобится», и теперь плескал в нее, угощая мужиков. Макар передал ему всю полноту власти над бутылью, сам выпил он с цыганом по полкружки за здоровье Дарьи, больше не стал. А Леонтий, «причащая» мужиков, не забывал и себя, так что пока с плотины на взвоз поднялась первая тройка, с молодыми, ему было уже не до свадьбы. Манюшка к этому времени вернулась из дому и видела, чего тут затевается, но не подошла даже, слова не сказала — все равно теперь никакими силами не оторвать Леонтия от этого дела.
Народ кинулся разглядывать жениха, сидевшего в Прошечкином ходке рядом с бледной, несчастной Катюхой. Картуз почему-то лежал у него на коленях. Жиденькие, чуть рыжеватые волосы были причесаны на пробор так, словно бы их только что телок полизал, завернув на правом виске скобочку. Лоб высокий, но не то чтобы не выпуклый и не прямой даже, а вогнутый какой-то; лицо длинное, кое-где оспой тронутое; нос длинный, будто с узелком на конце; подбородок безвольный. А глаза, как два клочка от ясного неба оторванных — голубые-голубые. Губы, что оладья, вдвое сложенная…
Бабы меньше глядели на белую вышитую рубашку жениха, на дорогой пиджак, а впивались в лицо, стараясь разглядеть его до последней черточки и сделать безошибочное заключение о будущей жизни молодых. А иная баба покрасивее, примериваясь к жениху, мысленно ставила себя рядом с ним и, незаметно плюнув, отходила в сторону.
Кум Гаврюха взглянул на жениха, правда, ему не надо было пробиваться сквозь толпу — хорошо и так все видно, поверх бабьих голов.
— Плесни-ка мне еще, Леонтий, — вернувшись, попросил кум Гаврюха, — про жениха расскажу.
— Ну, каков он? — спросил, подавая кружку, Леонтий.
— Рябой… — успел вымолвить кум Гаврюха и заткнул рот кружкой.
— С лица воду не пить, — подал свой голос дед Михайла.
— Конопатый, стал быть, — крякнув, еще подтвердил кум Гаврюха и, возвращая посудину, добавил: — Этот Кузя посмирнейши, кажись, Прошечкиного Кузьки будет — зеркалов не побьет, звезд с неба не похватает… Вахловатый, как баран кладеный.
— Не зря, знать, Катька, в бега-то от его вдарилась, — глубокомысленно и угрюмо заметил Филипп Мослов. Был он в таком состоянии, что покачивался даже сидя.
Макар ушел на свадьбу сразу, как только подъехал поезд. Цыган, побалагурив минут десять, исчез так же неожиданно, как и появился. Только теперь поехал он верхом на своем жеребце. А остальные мужики — было их человек пять-шесть возле Дарьиной четверти, — как поросята-сосуны вокруг матки увивались. По очереди глотали огненную жидкость, не забывая крякнуть после этого, «закусывали» исключительно рукавом или жесткой мозолистой ладошкой.
Дед Михайла, почувствовав вечерний холодок, покликал Степку, чтобы тот увел его домой. Но Степка не отозвался — не было, стало быть, его поблизости. Повременив еще самую малость, дед уяснил себе, что народ-то весь по домам разошелся — скотину убирать да ужинать — и ребятишек с собою растащили. Один Степка тут не станет вертеться. Забыл, выходит, деда.
Многие потом снова придут сюда, потеплей одевшись. До глубокой ночи будут глазеть под окнами на свадьбу. Но пока улица разом опустела. Пьяные мужики тоже разбрелись, правда, не все. Демид Бондарь сподобился и рюмочку пропустить с мужиками, и вовремя убраться под крылышко к своей Матрене, Филипп Мослов, вытянувшись прямо на дороге, храпел задиристо, со злыми перехватами. Кум Гаврюха, сидя на травке, обнял бревно, на котором раньше сидел, положил голову на него и натужно посвистывал — ворот рубахи, видать, глотку ему давил. А Леонтий, поджав босые ноги и скрючившись между бревном и досками, как младенца, прижимал к груди пустую бутыль. В другой руке держал он кружку и тихо спал.
— Степка! — выкрикивал дед Михайла, надеясь на то, что кто-нибудь услышит его и поможет. — Степка, бездельник!.. Ах, ты, варнак, сбежал…
А дом Прошечкин уже стонал, охал, вздрагивал, и неслось оттуда всякое:
Ох, сват сватье Подарил на платье… Ходи, изба, ходи, печь, Хозяину негде лечь. Что ж нам не сплясать, Что же нам не топнуть, Неужели в этом доме Перерубы лопнут! Пойду плясать, Доски гнутся. Сарафан короток — Ребяты смеются.Дед все чаще и все громче звал Степку, но зов его угасал безответно.
— Дедушка, дедушка! — послышалось вдруг рядом. — Да как же бросили-то тебя одного тут?
— Эт кто тута? Никак, ты, Катя?
— Я, дедушка. Вышла на улицу да тебя услышала. Пойдем: домой тебя отведу, — Катька взяла его за руку.
— Ты бы лучше позвала кого. Неладно ведь с дедом-то от жениха убегать.
— Да недалечко тут, пойдем! И жених никуда не денется.
Медленно шли они до ворот рословской избы, а обратно шагала Катюха еще медленнее: невыносимо тошно было ей возвращаться к постылому, да куда ж деваться-то?
15
Неслыханное дело — намолоченное зерно в поле на току оставить! А для Прошечки такое и вовсе, казалось бы, немыслимо. Однако ж непутевая свадьба эта, не вовремя затеянная, спутала все карты. И не у одного Прошечки спутала. Мужики, приглашенные на пиршество, в короткие минуты протрезвления от пьяного угара чесали дремучие затылки и сетовали на то, что оторвали их от горячей работы, от множества незавершенных дел. Но недовольство, залитое очередной порцией водки, тут же забывалось.
Конечно, погодить бы недельки две-три со свадьбой-то, глядишь, и подобрались бы срочные дела. А там и пируй себе. Так нет же! Как на пожар заторопился Прошечка. Большой ворох зерна остался на току. Правда, пологом его накрыли, соломой закидали и сторожить работники посменно выходили.
Ганька Дьяков, после того как привез молодых из Бродовской, отужинал в закутке на кухне, пропустив рюмочку-другую по случаю свадьбы хозяйской дочери и отправился в караул. По пути, когда выходил из ворот, Вальке Даниной подмигнул: приходи, мол, на ток-то ко мне — веселее времечко проведем.
Без слов поняла его Валька, однако за парнем вслед не пошла — неловко так вот сразу подружек оставить. Повременила малость. А тут как раз и последний народ расходиться стал. Свечерело. Будто бы домой пошла, да своротила по дороге на Смирнову заимку — от нее рукой подать до Прошечкиного тока…
Никогда раньше не касался Кирилл Дуранов Прошечкиного добра — не хотел связываться с ним, а может быть, и опасался лютой беспощадности этого человека. А тут не стерпело воровское сердце, не выдержал он великого соблазна. Да и как упустить такую добычу, коли сама в руки просится? Столько обмолоченного зерна лежит на току и прямо-таки дразнится! Вся забота: сторожа отвлечь каким-нибудь способом — и бери да вези куда хочешь.
И ночки стоят благодатные — темные, звездистые, с легким морозцем. Снегу пока нет — следы запутать легко, только на большую дорогу выехать, а там сворачивай куда надо. Само собой разумеется, что для воровского дела непогода сподручнее бы, так ведь хлеб можно попортить. Но и в тишине до хутора ни один звук не долетит: копыта у коней тряпками обвязаны, телеги не скрипнут, не брякнут — готовили их ребята надежно.
Ночи три увивался Кирилл Платонович возле этого зерна, как кот возле горячего блина, — и кружил поодаль, и поближе подходил, и все думал, как бы отвлечь сторожа.
Вот и подошла намеченная желанная ночка. Дружки Кирилловы с подводами в логу затаились. На всякий случай старуху прихватили с собой, нищенку. Хорошую плату ей посулили, чтоб она своей немощью, стонами отвлекла сторожа. И помощники, понятно, и подводы, и старуха — не со своего хутора.
Подобрался Кирилл Платонович к току пока один, пригляделся и смекнул — не понадобится старухина услуга. Сам бог ему сегодня навстречу идет, пособником сделался. Раз девка тут сидит со сторожем, так не бросит он ее, провожать пойдет. И смены для этого ждать, конечно, не станет. Повременить, стало быть, малость — и все само собой образуется. А дома-то у Прокопия Силыча — пьяный угар, не до зерна ему.
Иван Васильевич Смирнов прибыл на свою опустевшую заимку поздно вечером, затемно. Пару собак привел с собой — это чтобы утром пораньше полисятничать. А может, и волк наскочит — расплодилось их тут множество. И подремать уж успел немного казак, вдруг собаки залаяли. Прислушался: негромко лают, но настойчиво. Поднялся. На двор вышел. На всякий случай ружьишко с собой захватил. Однако спокойно все на заимке, а собаки лают, не перестают, мордами куда-то в сторону Прошечкиного тока уставились.
Осторожно Иван Васильевич к току направился. Темнотища! Но глаз у него цепок, прозорлив, ум догадлив и быстр: не иначе как шалит кто-то.
Собаки на привязи приутихли малость, когда хозяин их в степь вышел и к току приблизился. Из-за скирды вроде бы человек виднеется. Тут уж охотничья сноровка Ивана Васильевича пришлась как нельзя кстати. Громадная медвежья фигура его беззвучной тенью двинулась вдоль скирды и у конца крайнего прикладка замерла. Не разглядел Иван Васильевич, не признал человека, но ясно понял — не хозяйские руки трудятся в ночи с этакой поспешностью. На карачках кто-то по вороху зерна ползает, солому с него сдвигает.
Пристально, зорко глядел казак на этого ночного работника и, когда тот спятился задом на край вороха, чтобы заголить полог, метнулся Иван Васильевич хищной птицей, опоясал мертвым объятием вора пониже плеч и приподнял его над землей, как подростка. Тому рук не пошевелить, и оторопь взяла — не каждый день поднимают его вот так, будто мальчишку, — выворачивает голову назад, усом тычется. А Иван Васильевич тоже через его плечо тянется разглядеть лицо.
— Кто таков? — с придыханием спросил казак, жарко дохнув пойманному в затылок.
— Гы-гого! — попытался изобразить веселый смех Кирилл Платонович. — Шутишь, знать, Иван Василич?
Оглядываясь, Кирилл не мог признать своего ловца, но по силе догадался, что никто иной так не сможет сделать, кроме Смирнова.
— О-о! — признал и тот изловленного, опуская его ногами на зерно. — Да тут попалась щука знатная — не окунек полосатый! Такая с любого крючка сорвется, только зевни.
— Уж не за вора ли ты признал меня? — все еще стараясь казаться веселым, спросил Дуранов.
Но Ивану Васильевичу было не до разговоров: отпусти его чуть — уйдет. А ружье вон у приклада оставил. Да тут и ружье не поможет: сиганет за любую скирду, супостат, и в ночи скроется. Хоть бы еще одни руки!
Совсем недалеко на дороге послышался тележный стук.
— Эй, кто там? — крикнул Иван Васильевич в темноту. — Пособите!
Последнее слово получилось у него оборванным, куцым. Будто захлебнулся чем, сообразив, что поблизости, скорее всего, рыщут Кирилловы дружки. Зерно нагребать, наверно, едут…
Еще до полудня выехал из дому Виктор Иванович Данин. Съездить на Прийск и вернуться вполне мог бы он до заката солнца. Но спешка в его делах, опрометчивость всегда могут обернуться непоправимой бедой. Потому, прежде чем шаг сделать, на семь рядов обдумать его приходится, примериться так и этак, а уж после того шагнуть.
Нужного человека встретил он еще часа в два пополудни, но подойти к нему не мог: за высланными, негласно наблюдаемыми постоянно переодетый жандарм где-нибудь увивается. И попадись ему на глаза ненароком — тоже в негласно наблюдаемые угодишь. Так ведь не враз и поймешь, с какой стороны тебя разглядывают. А это не работа, коли голова только тем и забита, чтобы придумать, как от «хвоста» оторваться.
Виктор Иванович умеет вести свои дела так, что пока никому и в голову не пришло, чем он занят. На этот раз вертелся между двумя шахтами до самого вечера. А к домику, где постояльствовал нужный человек, и вовсе нельзя сунуться — наверняка там соглядатай рядом крутится.
Словом, удалось им сойтись уже в потемках за соседним двором. Говорили не больше десяти минут. Вот ради этих минут и провел Виктор Иванович весь день да еще и ночи прихватил. Зато узнал много нового и интересного о делах на Миньярском и Златоустовском заводах и в других местах Южноуралья. Узнал и еще новость, будто бы эсер Савинков Борис двинулся из Парижа с группой террористов в Россию. Кого-то прихлопнуть хотят, а жандармерия даже здесь, за тысячи верст от столицы, уже извещена об этом и поджидает «дорогих гостей». Разбойники они — не революционеры, шуму только наделают, а пользы на ломаный грош не наберется. Вред один от таких деятелей: жандармов раззудят, бдительность ищеек насторожат, потом и делом заниматься труднее станет.
Но и порадовался Виктор Иванович хорошей новости. Оказывается, в городской жандармерии свой человек обнаружился. Не коммунист он и ни в какой партии не стоит, но по духу свой. Должность занимает невеликую — регистрирует входящие и исходящие документы, — но помочь здорово может, от беды убережет многих. От него стало известно, что тайный агент, сотрудник жандармерии по кличке «Почтовый», ведет наблюдение за Алексеем. (Алексей Алексеевич Куликов, один из руководителей городской партийной организации.) Правда, он уже отбыл срок наказания, но жить собирается в здешних местах, на своей заимке, и все равно наблюдатель за ним останется, а знать его, конечно, надо…
Уставшего, некормленого коня, неторопливо шагавшего по дороге, Виктор Иванович не подгонял — спешить некуда, а думается в дороге куда как хорошо! Звезды крупные на небе, притихшие березовые колки по бокам, поля молчаливые и вьющаяся лента неторной дороги, хрупкий, пахнущий морозцем ядреный воздух — все располагает к думам.
На взлобке, когда впереди показался ночной хутор, конь привычно свернул направо и, почуяв близкий отдых, затрусил под уклон. А в низине Виктор Иванович и сам начал поторапливать Рыжку, веселее застучала разбитыми втулками телега…
Услышав крик на току, Данин круто свернул с дороги, подстегнул коня, и без того бежавшего рысью, и, схватив пустой мешок с завернутой в него пачкой брошюр, затолкал в передке под солому поглубже.
— Что тут у вас? Кто тут? — спросил, подъезжая.
— Подворачивай сюда! — приказал Смирнов, узнав по голосу Данина.
Кирилл Дуранов извивался в его могучих руках, дрыгал ногами, бил коваными каблуками по коленям богатыря, стараясь вырваться из гибельных объятий.
Соскакивая с телеги, Виктор Иванович разглядел трепыхавшегося и бледного от бессильной злобы Кирилла Платоновича, понял все, сорвал с себя опояску и подступился к Дуранову, сказав негромко:
— Ну, перестань беситься-то! Думаешь, лучше станет от того, что лишний раз ногой дрыгнешь?
И эти мирные, мягко сказанные слова будто крутым кипятком ошпарили Кирилла — обмяк весь, повис на руках Смирнова, затих.
— С ружья вон ремень сними да руки ему успокой, — велел Иван Васильевич, заламывая назад Кирилловы руки.
— Сплошал ты, Кирилл Платонович. Не такие дела делал — сходило, а тут на пустяке влип! — улыбаясь, говорил Виктор Иванович, затягивая мягкий ремень на запястьях вора. — Сколь кувшину по воду ни ходить, пора и голову сломить. Так, что ль?
Вместо ответа Кирилл рявкнул в темноту по-звериному, будто у него руку напрочь оторвали.
— Чем ты его там донял? — спросил Смирнов.
— Ничем, — отозвался Виктор Иванович. — Я ж его, как ребенка, ласково пеленал. Знак своим подает, волк его задави. Либо подмоги просит, либо убегать велит. Не понял, что ль?
Иван Васильевич за ружье схватился.
— Ежели подмога объявится, сперва главному башку расплюсну, — погрозился на Кирилла прикладом Смирнов, — а после и остальным не поздоровится!
Зря тревожился Иван Васильевич — не на помощь звал Кирилл, знак подавал своим, чтобы скорее убирались незаметно. А сам все еще на что-то надеялся. Ведь ни единого зернышка не взял он, даже ворох раскрыть не успел. И караульщика на току не оказалось! Может, сам сторож солому-то с вороха сгреб, а может, чужой кто пошалить прилаживался. Вот Кирилл Платонович и хотел прикрыть зерно-то, а Иван Васильевич, бог знает, чего подумал!
И случись такое на рословском току, хоть и при хозяевах, вполне мог отговориться Дуранов, наглостью ослепил бы и вывернулся. Но у Смирнова хватка мертвая — тут из-под кулака не выскользнешь.
— Ну, куда мы его теперь, в суд, что ль? — спросил, усмехнувшись, Виктор Иванович, когда Смирнов завалил в телегу связанного Кирилла Дуранова.
— К хозяину этого хлеба завезем, пусть он и судит, как знает, или везет куда хочет.
— Да там, слыхал я, свадьба у Прошечки-то.
— Вот мы им еще одного свата и подкинем.
— Самосуд мужики учинят…
— А ты думал, как от воровства отучивают, судом, что ли? Да он от любого суда откупится, дружки влиятельные вызволят. Потом над вами же смеяться станет. У нас в станице тоже есть охотнички пошалить, так ведь дома-то не смеют. А вы этого до того распустили, что из-под носа у вас тащит чего захочет.
— Пожалуй, медведя из берлоги легче поднять, чем наших мужиков расшевелить, — будто отвечая каким-то своим мыслям, сказал Виктор Иванович. — Терпения у них не меньше, чем у самого Христа…
Кирилл Дуранов сперва бился в телеге, извивался, норовя как-нибудь ослабить перевязи или распустить узлы. Однако Иван Васильевич огладил его пару раз кулачищем своим пудовым да еще прикладом пригрозил. И затих пленник на всю недолгую дорогу, понял, что не дадут вырваться и бить беспощадно будут — силы надо беречь.
Мужиков возле Прошечкиного дома не было, за исключением тех, что валялись без памяти после выпитой цыганской четверти. Молодые бабы толклись возле окон, девки, подростки. Виктор Иванович не стал заезжать во двор. Остановившись у ворот, попросил:
— Ну, сгружай свою поклажу, Иван Васильевич, да поеду я.
— Эй, бабы! — словно не слыша Виктора Ивановича, гаркнул Смирнов. — Покличьте-ка сюда хозяина. Гостя мы ему привезли незваного. А ты погодь малость, — обратился он к вознице, — обратно-то нам по пути, чуть не до заимки меня довезешь.
Бабы, разглядев связанного Кирилла, гурьбой бросились в избу, шумно толкуя о новости. Смирнов между тем перенес Кирилла во двор и связанного поставил против сеничной двери, откуда падал неяркий свет. Спутанные черные волосы не безобразили лицо вора (шапка, видать, на току потерялась), а вместе с усами и такой же смолевой бородкой подчеркивали мертвенную бледность. Во взгляде, наглом, не признающем своей вины, смешалось все: и ненависть, и страх, и какая-то страшная отрешенность, и в то же время надежда мелькала в нем, и явное презрение к людям, осуждающим его. Будто бы знал он нечто заветное, тайное, недоступное другим и позволяющее ему считать себя значительнее других.
Виктор Иванович, с телеги глядя на Кирилла через растворенные ворота, дивился тому, как может быть силен человек, если он до конца в своей правоте убежден, даже такой низкой, как воровство.
«Этому батюшку царя экспроприировать не надо, — усмехнувшись, подумал Виктор Иванович, плотнее сел на солому, где лежали книжки, и тронул коня. — С царем ему лучше живется. Оба грабят народ, и оба его боятся. Только у того прав больше, волк его задави…»
Из сеней повалил народ. Впереди — Прошечка, в одном жилете, без пиджака, в расстегнутой алой косоворотке.
— Эт чего тута… — и не договорил, впившись бешеным взглядом серо-белых глаз в Кирилла.
Дуранов зябко передернул плечами, короткий полушубок шевельнулся на нем, как живой.
— Пока ты тут пируешь, Прокопий Силыч, свадьбу справляешь, — загудел стоявший рядом с Кириллом Смирнов, — гостенек этот на твоем току ко хлебушку намолоченному приложился.
— Спасибо, Иван Василич. Не побрезгуй отужинать с нами, — и на Кирилла: — Ты чего, черт-дурак? Ухабака, Петля ты намыленная! — и, сжавшись, подскочил, как горный баран, ударил Кирилла головой в подбородок. Тот качнулся, будто дерево от громового удара, но устоял на связанных ногах.
— Чего ж ты связанного-то… — с дрожью в голосе, хрипло сказал Дуранов.
— Ах, связанного! — Прошечка кинулся развязывать ноги, а Смирнов в это время освобождал Кириллу руки. — Ты думаешь, я тебя развязанного побоюсь? Да я тебя живого загрызу, черт-дурак!
Он снова подскочил, клещом впился в Кирилла, норовя вгрызться ему в горло. Тот подхватил Прошечку под мышки, закружился, пытаясь уберечься от укуса, и, развернувшись, хлестко упал, подмяв под себя этого маленького человечка, схватил пятерней за волосы и придавил затылком к земле.
— Мужики, черти-дураки! — взвыл из-под низу Прошечка. — Чего ж вы глядите-то?! Бейте его…
Первым кинулся Рослов Макар, за ним хлынули с крыльца и из сеней, расталкивая баб, остальные. Неудержимым ураганом обрушилось на Кирилла Дуранова беспощадное возмездие за все прежние обиды. Его били за свои обиды и за чужие, за то, что боялись его, били все, как бьют попавшегося в овчарне волка.
Сначала он защищался руками, подгибал ноги, потом только стонал и охал при особо сильных ударах, а потом и стонать перестал. Пинали мужики уже недружно, тупо — устали. А менее обозленные совсем отошли в сторону.
— Ну, будя, будя вам! — отталкивая мужиков, к Кириллу пробирался Мирон Рослов с ведром, до половины наполненным водой. — Никак, до смерти ухайдакали.
— А его не пришибить, так и добра не видать, — запальчиво, с одышкой сказал Макар, последним отходя от Кирилла. — Вы-то в новую избу уйдете, а мне опять же с им суседствовать да бе́ды мыкать.
— Увезут в новую избу и тебя, коли убивство выйдет… Идитя, идитя за стол, — уговаривал толпившихся Мирон. — Делать тут больше нечего. Поучили — и будя. Не в каторгу же за его итить.
Мужики, обсуждая случившееся, потянулись в избу, а Мирон, поплескав на голову Кирилла холодной воды из ведра, распахнул на нем полушубок, припал ухом к груди — бьется сердце. Хотя слабо, с заскоками, а бьется.
— Ну, слава богу, — перекрестился Мирон, — живой. Отвезть его надоть домой. Чего ж он тута валяться-то будет.
КНИГА ВТОРАЯ
Не столько в Белокаменной
По мостовой проехано,
Как по душе крестьянина
Прошло обид…
Не белоручки нежные,
А люди мы великие
В работе и в гульбе!..
У каждого крестьянина
Душа что туча черная —
Гневна, грозна, — и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям…
Н. А. НекрасовЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Игривое апрельское солнышко к полудню стало заглядывать в кузню через грязное, закопченное оконце.
Тихон Рослов, размеренно потягивая из самокрутки, прищурил глаз от едкого, задиристого дымка и уперся взглядом в два лемеха, валявшихся на земляном полу, возле колоды с водой. Смирнов их оставил, Иван Васильевич. Наварить лемеха-то надо. К вечеру заехать посулился за ними.
Такой заказ откладывать нельзя, потому как нынешней зимой снова казак согласился отдать ближний плодородный клин Рословым. Три года попользовался им Прошечка — хватит. Нынче уломал Смирнова дед Михайла, но цена-то осталась та же, какую Прокопий Силыч платил за десятину — не воротишь назад прежнего. Да и за это ублажать приходится казака, угождать ему всячески. За лемеха эти ни копейки не возьмет кузнец, и сделать их надобно в срок.
Оттолкнулся Тихон от шаткого верстака, — отдыхал он так, привалившись к нему, — швырнул в горн недокуренную цигарку и туда же лемех собрался положить, да хватился — песка-то нет! Оторопело погладил клинышек бороды, подхватил небольшое ведерко и заковылял на своей деревяшке к выходу.
Благодать в эту пору на улице: снег уже сошел, — разве в лесу где-нибудь, в тени притаился или в оврагах, — а солнце льет потоки ласкового тепла, будоражит все вокруг веселым своим светом. Петухи орут по всему хутору, коровушки то в одном дворе, то в другом ревут затяжливо — на волю просятся.
Вышел Тихон за кузницу, у обрыва на крутом берегу потоптался, прикинул: ежели по пологому спускаться, так во-он где обходить-то придется, у самой плотины… Оглянулся вокруг — не видит ли кто, и — была не была! — подвернул под ягодицы брезентовый фартук, сел на него, ногу деревянную повыше приподнял, чтоб не зацепилась за что, и съехал с невысокого яра. Всего-то сажени три наберется высоты.
Песок ли ему здесь не поглянулся, или сообразил, что все равно с полным ведерком тащиться на подъем к плотине, не торопясь зашагал возле яра в ту сторону. Приглядывал песочек помельче да посуше — белый… И вдруг деревянной ногой запнулся за черную какую-то шишку. Присмотрелся.
— Батюшки! Да ведь это, кажись, уголь!
Опустился на колено, разгреб руками песок, несколько пригоршней сухого в ведерко бросил. А пенек угля, толщиною в добрый бастрык, основанием уперся во что-то твердое и там прирос. Еще раскопал пошире ямку — и ниже обнаружилась целая угольная плита…
Ударил кулаком по верхушке пенька, отломил его, бросил в ведерко и заторопился в кузню. Шел вроде бы не спеша, а ноги несли его по сыпучему песку как на пожар. Одышки не чувствовал, и что сердце, того и гляди, наружу выскочит, тоже не замечал…
Да ведь и то сказать — случай-то этакий не каждый день подвернется. Может, единственный в жизни он! Сколько годов кузня стоит на месте этом, сколько угля пожег в горне Тихон! Углем пользовался древесным, а к углежогам ехать надо за тридцать верст да опять же деньги платить. Случалось, дрова покупал, сам в лесу кученки закладывал, сам выжигал. А тут — на тебе, выходит, что кузня-то прямо на каменном угле стоит. Бери его да в горн бросай. Не чудо ли! Сколь богат и щедр Урал-батюшка.
Сунув на место ведро с песком, Тихон бросил уголь к горну, разбил его железной клюкой на несколько частей, сложил куски на потемневшие угли в горн и принялся раскачивать мех.
Красно-синее пламя, ощетинившись маленькими язычками, начало расти, облизывать кромки каменного угля. На них появились бисеринки ярко-красных точек, превращавшихся постепенно в очаги огня.
Горит! Горит жарким пламенем найденный уголь. Тихон потянулся было к лемеху, чтобы сунуть его в горно. Однако не дотянулся, бросил все и заковылял к новой своей избе.
Второй год братья Рословы жили порознь: Мирон с семьей и дедом Михайлой — в одной половине нового дома, Тихон — в другой, а Макар, как и обещал дед, остался в старой избе, по соседству с Кириллом Дурановым. Хозяйство разделили — по две коняги на пай досталось: у Мирона, стало быть, шесть лошадей во дворе, потому как и дед с ним остался, и Васькин пай туда же отошел пока.
Никому ничего не сказав, заложил Тихон карюю кобылу Машку в телегу с коробом, бросил в короб лом да лопату и подался к своей находке.
Всего четверти на полторы-две снять песок-то пришлось, а там показалась большущая черная глыба угля. Водой берег-то подмыло, и выставила напоказ богатство свое земля-матушка. Орудуя то ломом, то лопатой, скорехонько Тихон целый короб угля накидал — Машка едва с места воз этот стронула.
Только управился Тихон с углем, кобылу на место увел и приладился у верстака закурить, а тут — вот он и Иван Васильевич. Вдвое согнувшись, едва влез в низенькую дверь — сразу будто бы тесно в кузне стало, и, поглаживая раздвоенную пышную бороду, загудел:
— Готовы небось лемеха-то, Михалыч?
— Нет, Иван Василич, не готовы, — ответил, не смутившись, Тихон. — И не только погодить придется, коли время есть, а и пособить бы надобно, молотобойца-то у меня нету, а подварить без него несподручно.
Смирнов глядел на Тихона, словно не узнавая его. Будто бы тот самый Тихон и в то же время не тот. Да и с какой стати мужик его, казака, брата станичного атамана, запанибрата принял? Плевого заказа больше чем за полдня не выполнил да еще пособить просит. И даже не просит, а вроде как обязывает. Уж не забыл ли чести, оказанной всей их мужицкой семье? Землицу-то снова им арендовал, справному хозяину отказать пришлось. А к Прокопию Силычу тоже ведь кое за чем поклониться порой дела загоняют…
Ничего этого казак не сказал, только в уме перевел да лукаво покосил взглядом и вымолвил:
— Глаза-то с чего у тебя, Тиша, эдак масляно горят, ровно с любовницей на пасху похристосовался, ровно кралю поцеловал, а?
— Нет, Иван Василич, христосоваться ни с кем не доводилось, а вот клад я нашел, — выпалил Тихон и, взяв один из отобранных для показа кусков угля, подал Смирнову. — Вот чего мне в руки далось.
— И где же такой клад тебе открылся? — спросил Иван Васильевич, ухватив огромной пятерней кусок угля и поворачивая его в вытянутой руке и так и этак, словно близорукость мешала ему разглядеть что-то скрытое в нем. — За морем, сказывают, телушки по полушке да перевоз — рупь.
— В том-то и секрет весь, что не за морем, а тута вот, прямо под нами, — задыхался от радости кузнец, — чуть не в горне́, из-под берега наружу сам вылез клад.
— М-мм, — изумленно протянул Смирнов и умолк, бережно положив уголь на тупой конец наковальни.
Тихон, довольный растерянностью казака, уложил в горн лемех поудобнее, подсыпал угля каменного и собрался качнуть мех, да Смирнов остановил:
— Погоди, Михалыч, успеется. — Подошел к верстаку, привалился к нему, не боясь испачкать шаровары с лампасами, — верстак жалобно пискнул. — И чему же ты рад, голова? — глухо спросил.
Тихона будто ледяной водой окатили.
— Да как же не радоваться, коль богатство эдакое чуть не во дворе у себя открылось?
— А это вот, кажись, и есть самое плохое, что чуть не во дворе.
— Шутишь ты, никак, Иван Василич, — обиделся Тихон.
— Не шучу и тебе не советую шутить этим делом…
— Что-то не пойму я тебя, Василич.
— Поймешь, голова садовая… Ты, что же, сам клад этот разрабатывать станешь али по-другому как распорядишься?
Тихон, обалдевший было от радости открытия клада, впервые сообразил, что дело это действительно не простое — уголь-то взять.
— Мм-да, — вздохнул он, — видит око, да зуб неймет.
— Може, у Михайлы Ионовича мешок золота припасен, чтоб тута вот, на месте кузни, шахту заложить, а? — усмехнулся Смирнов. — Али сам, как из кладовой, всю жизню станешь брать уголь?
Тихон молчал, с горечью сознавая, что никакого клада не оказалось вовсе — призрак один. А Смирнов, глядя, как вытягивается у мужика лицо, как никнут и сужаются плечи, озорно хохотнул, поправив ус, легонько хлопнул по кожаному картузу Тихона, как мальчишку, и заговорил наставительно:
— Эх, мужики вы простаки — вся рословская порода! И грабят вас, и обманывают, а вам никакая наука не впрок — так и живете с разинутым ртом… Ну, чего на меня уставился? Небось, обидными слова мои кажутся?
— Да не больно ласково учишь… Ну, поучи, поучи, коль так.
— И поучу. Не серчай, Михалыч. Я бы на твоем-то месте не токмо радоваться, — засыпал бы ту ямку, притоптал, чтоб никакой водой не вымыло, да ни единой душе и не промолвил. Отцу бы родному не сказал!
— Эт отчего же так-то?
— Да все оттого, — рассердился казак не на шутку. — Донесется молва до городских тузов, нагрянут они сюда и подавят вас, как мурашей. Жить вам надоело спокойно, что ли?
Понял Тихон, что безобидная эта ямка, из какой он воз угля накопал, может обернуться подкопом не только под его двор, а под весь хутор. Что мужики-то скажут?
— Ну ладноть, Иван Василич. За науку спасибо, а лемеха-то все же давай наварим — они понадежнее мого клад подымут.
— Верно сказал ты, Михалыч, — поддержал Смирнов и, легонько отодвинув кузнеца к горну, принял роль молотобойца, стал качать мех. — Лемеха силу земли-матушки раскроют, хлебец родится — это и есть заглавный клад хлебороба.
Поправляя клюкой уголь в горне, Тихон перебирал в мыслях сказанное Смирновым и все больше убеждался в правоте его слов. Да более того, сам увидел, что ему-то, Тихону, и всей семье Рословых никакой корысти в том кладе нет.
После, когда уехал Смирнов, — а уехал он уже в сумерках, — Тихон все прикидывал, как же дальше-то быть. С одной стороны, казалось ему, что прав казак, — не клад это обнаружился, горе одно, а с другой — как-то в голове не укладывалось, чтобы посланный богом дар обернулся лихой бедой. На всякий случай, когда стемнело совсем, спустился кузнец под яр, засыпал ямку и место это заровнял. Теперь, если ветерок подует с нужной стороны, к утру совсем незаметно станет, что копано тут было. А место-то все-таки для себя приметил по щели в яру.
Поднявшись кружным путем, завернул Тихон в кузню, выбрал уголек с гусиное яйцо, сунул в карман и, не заходя домой, напрямик подался к своим. Смирновский совет хорош, да есть в нем изъян какой-то.
Дед Михайла сидел на широкой лавке возле стола, поставив клюку между ног и сложив на нее сухие жилистые руки. Едва Тихон отворил дверь и переступил порог, Михайла Ионович подал голос навстречу:
— Ты, что ль, Тиша?
— Я, батюшка… Мирон-то где?
— На дворе гдей-то. По делу ты аль так, повидаться?
— Да уж два раза с утра-то виделись. По делу…
Вошел Мирон и Макар с ним.
— Как по уговору все явились кстати, — добавил Тихон, садясь на лавку к столу.
— А ты, Тиша, вроде бы как принес чего, да показать не хошь, — молвил дед. — По голосу слышно.
— Угадал ты, батюшка, принес. И показать хочу… Вот держи, — он положил в протянутую руку деда Михайлы кусочек угля, спросил загадочно: — Угадаешь, чего это?
Дед не торопясь ощупал кусок, повертел его так и этак перед слепыми глазами, несколько раз взвесил на ладони, понюхал и просветлел:
— Уголек это. И не простой, а каменный. Возьми.
Братья, переглянувшись, усмехнулись: каков отец-то у них! Другой зрячий не разглядит того, что он, слепой, увидит.
— Вот от уголька этого хлопот у меня полон рот, — начал Тихон. — Не знаю, как и способиться с им…
— Дак ведь всяк хлопочет, себе добра хочет, — вклинился дед.
А у Марфы в этот момент сито из рук вырвалось — муку она сеяла на залавке у печи — и покатилось по полу, выбеливая за собой целую дорогу. Марфа вполголоса заругалась на себя, а Мирон, обозвав жену косорукой, добавил еще:
— Вот тебе и му́ка…
— Будет добро-то, нет ли, — продолжал Тихон, — а му́ки уж одолевают. Пришел вот к вам посоветоваться… — И рассказал все, как было, что Смирнов сказал и что сам он после этого передумал. А потом, сделав передышку, спросил:
— Дак чего ж теперь делать-то? Как вы рассудите, мужики?
Молчали все. Макар, суетливо почесав за ухом, принялся тереть ладошкой шею.
— Нет, мужики, — горячо сказал он, хлопнув по коленке, — не надоть новость эту таить. И увезть ее не в город, а на Прийск, где шахты.
— Тама ведь золотые шахты-то, — возразил дед. — Не станут небось хозявы с углем связываться.
— А чего им не взяться? — повеселел Макар. — Толстосумы, они хошь из угля, хошь из дерьма золото сделают…
— Да с какой стати об толстосумах-то взялись вы толковать? — сердито оборвал брата Мирон. — Богатеи хорошо и без нас живут… Не от той печки плясать начал ты, Макар… Тут об себе подумать надоть.
Опять все замолчали.
— Сгонють они нас отседова — и сказ весь, — отрезал дед.
— Зачем же сгонять им нас? — возразил Макар. — А кто работать у их станет? Сами они, что ль, в шахту полезут?
— Опять же ты про их, — все больше сердился Мирон. — А коль тебе не терпится в шахту залезть, на Прийск вон поезжай да и спущайся в преисподню. А мы тута все хлеборобы — на земле стоять нам, а не под землей ползать.
— Никто тебя силой не погонит в шахту, — не сдавался Макар, — сиди на земле. Хлеб-то, ведь он всем нужен, и тем, какие в шахте работают. Неужли ты не уразумел этого?.. На базар в город ездить не надоть, все из амбара дома разберут.
— Твоя правда, — вмешался Тихон, молчавший до сих пор, — хлеб в город возить не придется, потому как, скорее всего, нечего будет возить-то. Да и нашим избам несдобровать — снесут некоторые, коли шахта тут образуется.
— Хх-а, ха-а! — засмеялся Макар. — Да ты-то чего тужишь? Кузнец! Самое тебе тута и долбить молотком, коль шахта объявится… Избу вам новую жалко, дак, може, никому она не понадобится. А ежели снесут, дак ведь не даром, денюжки заплатют…
— Ах, сколь ты дёрзок да крут, Макарушка! — остановил его дед. — Возля чужого гумна и свинья, сказывают, умна. А ты вот в своем распорядись-ка. Землица-то под хутором баринова была, царство ему небесное, а теперя опчеству принадлежит. Чего мужики-то нам скажут, ежели без ихнего дозволения все повернуть?
Братья опять замолчали, а дед, почесывая затылок, добавил:
— Ну и хлопотная же находка попалась тебе, Тиша: ума не приложишь, как и способиться с ей. Спокою не жди теперя.
— Спокой на том свете надоест, — не унимался Макар, — а тута его и так не бывает. Да ведь и мужикам хуже не станет возля шахты: другой раз не знают, к кому в работники наняться, а на шахте завсегда на любую шею хомут сыщется, лишь подставляй.
— Ну, будя, будя вам, — забастовал дед Михайла. — Ямку-то, говоришь, присыпал, Тиша?
— Присыпал.
— А кроме Смирнова, еще кто видал твою находку?
— Да никто, кажись, не видал.
— Вот чего, ребяты. Коль тайность эта уберегется, пущай полежит пока уголек… Помолчим да подумаем врозь. Може, чего и надумаем. А коль огласка выйдет — опчество собирать да на Прийск ехать.
2
Станица Бродовская не на одну версту раскинулась вдоль извилистой речки. Извилины эти в точности повторила и главная улица, заселенная казачьими богатеями. Тут что ни дом, то крепость: с глухими, высокими каменными заборами, с кирпичными нижними этажами или полуэтажами, с крепкими запорами, непроницаемыми ставнями. Ни одной соломенной крыши на этой улице не сыщешь. Атаманские избы — поселкового и станичного атаманов, — церковноприходская школа, кабак — на ней же. Церковь отодвинута на взгорок, чуть в сторону от главной улицы, и как бы делит станицу на две неравные части. Но с любого конца видно ее, как на блюдечке.
На другой стороне улицы, подальше от речки, — дома победнее, но тоже крепкие. А вся окраина заселена халупами. Тут и бедные казаки, и мелкие ремесленники, и прочий люд, именуемый одним словечком — голытьба.
Захар Иванович Палкин живет не на самой богатой стороне, но и не на бедной — посередке. Дом у него крестовый, добротный, да еще с малой избой во дворе, с малухой, как ее называют. Работники там квартируют.
Однако не ахти как просторно семье живется. Кроме Кузьки, еще два сына женатых и неотделенных у Захара Ивановича есть. Средний пока со службы не вернулся — почти что погодки они с Кузькой-то. Старший, Лавруха, можно сказать, всем хозяйством правит. Отец-то больше в разъездах.
Многочисленнее оказалась у Палкиных бабья половина: свекровушка Степанида, Фроська с Лизкой — снохи, да бабушка Мавра с ними, мать Захара Ивановича… Вот в этакую семью и пришла Катюха Полнова, дочь Прокопия Силыча.
Тихо, неслышно прожила Катька первый месяц. Кузька не выдал ее, прикрыл грех девичий, первое время ласкал да жалел. А свекровушка будто присматривалась к молодухе — словом не обидела и работой чересчур не неволила. И все равно четыре недели эти целым годом показались Катюхе. Отец с матерью приезжали ее навестить. Не жаловалась им дочь, не сетовала на жизнь.
Зимой погорше стало. Коровушек одних чуть не три десятка. Подоить их надо, накормить, напоить да убрать за ними. Воды из колодца за день-то целую сотню ведер выкачаешь. Рано будила Степанида невесток.
Все чаще молодуху ставила к печи, поворачиваться приказывала покруче да все чаще попрекала за неумение, если что-то не так выходило у младшей снохи.
В родительском доме Катька тоже не сидела сложа руки — к работе приучена сызмальства. Но там когда и пожалеет родная-то мать, на себя потяжелее ношу примет, дочку побережет. У свекровушки такого не бывает. А еще хуже, если из дому свекровь отлучится. Тут старшая сноха верховодить начинает, Лаврухина жена, стало быть, Фроська. Похлеще Степаниды командует она. Сухая, жилистая эта Фроська, словно из двух лучин склеенная, глаза большущие навыкате, а носик остренький, хищным кончиком вперед выдался. Косы общипанные кралечкой завернуть норовит, а они — коротенькие — как рожки торчат из-под платка. Чисто кикимора! Дела бабьи делает она не шибко чисто и не аккуратно, зато скоро. А когда за старшую остается, от сношенниц того же требует — лишь бы скорее.
Привезла как-то Степанида из города всем снохам по платку да подарить-то хотела по старшинству. Кликнула снох. Фроська со всех ног бросилась к свекрови, запнулась за порожек, да и вытянулась во всю длину. Головой-то угодила промеж ног Степанидиных.
— Ну и поклон у тебя вышел, — засмеялась свекровушка, — самый что ни есть земной!
Лизки дома не оказалось на тот момент: к своим она убегала. Родители ее недалечко жили.
Подошла за подарком Катюха да запросто этак и протянула руку.
— Ты что, неуч эдакая, — закипела Степанида, ударив по руке молодуху, — без поклона подарочек вырвать хошь!
Низко поклонилась Катька. Не поняла она, что Фроська-то поклониться хотела, да так у нее по торопливости вышло.
— Спасибо, мамаша, — покорно сказала Катька, хотя уж и не рада была платку. — И за науку спасибо. Дома-то не знала я этого.
— Вот знай да почет старшим во всем оказывай, — смягчила Степанида голос.
Может, и свыклась бы с этакой жизнью Катька, может, покорилась бы своей планиде, не стала бы испытывать горькую судьбу, да не знает человек, что вокруг него делается…
Ведь каждый ждет перемен радостных, этим и живет, а беды сваливаются как снег на голову. И где они заготавливаются, где зреют, о том не вдруг догадаешься…
Мужики с поля вернулись — первый день сеять они выезжали. Лавруха с Кузькой гремят рукомойником, умываются. Фроська с Лизкой в малуху пошли работников кормить. А Степанида с Катюхой на стол собирали. В этот момент и вошел Захар Иванович. С хутора Лебедевского воротился. Ездил туда за чем-то к Прошечке, к свату своему.
Чернее тучи с трудом перевалился через порог Захар Иванович, обопнулся у двери, усы разгладил и бороду, словно поцеловать кого собрался, и шагнул в куть. Катька там прилаживалась щи наливать в большое блюдо. Уж половничек один плеснула на дно-то. Твердым шагом подошел к ней Захар Иванович, косы на кулак намотал да так рванул резко, что блюдо и половник в разные стороны полетели. Щами-то и его малость оплеснуло, да не до того ему — не заметил. Рванул еще раз и кулаком ударил по загривку. Сшиб с ног Катюху, потом еще сапогом в живот пнул, уже лежачую.
Зареветь бы Катьке, слезами бы горючими умыться, так ни голоса, ни слез нету. Побледнела вся, будто лицо коленкором облепили ей, губы натужно покривились, и правая бровь переломилась.
Братья на шум кинулись от умывальника. Остановились в ряд, недоумевают: никогда такого не бывало. Строг и сердит нередко бывал отец, но до такого не доходил в отношениях со снохами. Степанида от стола повернулась, руки на груди сложила, губы тонкие ужала и брови свела к переносице. Молчат все.
А Захар Иванович как повернется к сыновьям — белки из глазниц вот-вот вылезут, борода взлохматилась — да как рявкнет на Кузьку:
— А ты, баран кладеный, не понял, что ль, ничего! — и кулачищем в скулу Кузьке. — Аль от родителев утаил, щенок?
Кузька снова к рукомойнику подался — зуб выплюнуть да битое место примочить.
— Ты хоть сказал бы, отец, — не разжимая губ, спросила Степанида, косясь на лежащую Катьку, — чего ж такое вышло-то?
— Теперь уж все как есть вышло, — чуток остепенился Захар. — Испорченную, стерву, нам ее всучили!
— Да ты, мож, не разобрал чего? — ахнула, будто змеей ужаленная, Степанида.
— Тут и разбирать нечего. Поколь мы пировали, свадьбу правили, ктой-то вороты Прошечкины дегтем изрисовал… Сам же сват и увидал это раньше всех… Работник его до утра стирал, смывал да подкрашивал, А посля — помнишь небось — полога сушились по всему двору и на воротах висели?
— Да как ж эт никто не видал-то?
— Вот работник и оберегал самое опасное место, чтобы случая какого не вышло.
— М-мм, — как от зубной боли, застонала Степанида, по-страшному подступаясь к снохе. — Кто? — взвизгнула она, пиная лежащую Катьку кожаным и засохшим, как кость, опорком в самые больные места. — С кем амуры-то разводила, сучка?! С кем, змея подколодная?!
Катька пару раз охнула хрипло и затихла, выпуская розовые пузырьки из уголков губ.
— Отцепись! — толкнул жену Захар Иванович. — Былого теперь не воротишь, а ее до смерти уколотишь.
— А уколотить ее и стоит за этакое распутство! — озверела Степанида, но отошла от Катьки, вгляделась в нее — худо. Принялась водой отливать.
— А внучонка-то, кажись, того, — со значением, негромко молвил Захар Иванович, — не дождаться: попортили, знать-то…
Лавруха, не смея вмешиваться в родительские дела, укоризненно поглядел на брата, будто он был виноват один во всех грехах, и подался во двор. А Кузька то и дело подходил к лоханке, плевался кровью и не мог вымолвить ни единого слова в свое оправдание. Защищать Катьку он и не собирался, у самого зло на нее все больше разгоралось. Обдурила, выходит, его невестушка. И тятька тоже хорош — дерется теперь, а сам первый хлопотать о сватовстве-то стал. Хоть бы для порядку спросил у него, хочет ли он жениться. Женил, да и все тут. Ищи теперь виноватых.
Очнувшись и корчась от боли, Катюха поползла, оставляя за собой мокрый след. Вознамерилась она добраться до закутка бабки Мавры, потому как Мавра была единственным человеком в доме, кто разговаривал с нею душевно, мог посочувствовать и мог пожалеть. Закуток для Мавры был отгорожен в дальнем углу горницы, а сил у Катюхи хватило лишь до горничного порожка.
Красное с черным полыхнуло в глазах — и снова несчастная ухнула в бездну, гулко стукнувшись головой об пол.
— Кузька, муж благоверный, — с издевкой окликнул Захар Иванович, — чего ж ты глядишь-то, как баран на новые ворота? Берите ее с матерью да несите на кровать.
— Куды ее эдакую на кровать, — возразила Степанида, — всю постелю попортит!
— Ну, постели чего да перину-то убери, — начал сердиться Захар. — Учить, что ль, тебя, старую?
Так и не доползла в тот вечер Катюха до бабушки Мавры. Одна осталась мучиться. Но потом, в другие дни, когда оставались они наедине, Мавра не отходила от больной и помогала ей всячески.
3
Поглядишь на мужиков хуторских — живут по-разному. А отчего? Не враз на это ответишь. Разными путями и не в одно время слетались они сюда. Большинство здесь тамбовских мужиков — танбачами их тут называют, есть самарские, и из других губерний. В каждой семье десятилетиями слагался свой уклад, свои порядки. Порою эти семейные порядки кажутся со стороны смешными и непонятными.
Зачем, скажем, Илье Проказину ходить босиком от снега до снега? Для чего нередко посылал он своих ребят — Егора да Гордея — на время сенокоса в работники, в батраки, стало быть, а на жатву не только их возвращал, так еще и чужих по два да по три нанимал?
Совсем по-иному живет Иван Корнилович Мастаков — тихо вроде бы, неслышно. Может, казалось так еще оттого, что жена его, Агафья — по-деревенски, Ивашиха — была женщиной до крайности кроткой и всегда со всем согласной. Даже между детьми — коих нарожала побольше двух десятков, правда, в живых осталось и выросло лишь десятеро — умела она поддерживать мир. Из четырех девок две были замужем, а из шести ребят двое женатых, но семья-то ничуть не уменьшилась — внуки пошли.
Сам же Иван Корнилович, сутулый и неуклюжий, с брюшком, перевалившимся через гарусный поясок, до страсти любил власть, не терпел противоречия и всю семью держал в кулаке. Как и дед Михайла Рослов, никак не хотел отделять сыновей, считая, что раздробленное хозяйство непременно оскудеет. Темно-гнедые волосы подстригал в кружок и постоянно приглаживал маслом, а такого же цвета недлинная борода ни за что не хотела слушаться и всегда топорщилась кустистыми жесткими клочьями. Обувался он в яловые сапоги со сборками на голенищах, над которыми непременно виднелись на полвершка белые каемки суконных чулок.
На хуторской земле появился Иван Корнилович, сказывают, давно и не с пустыми руками. Стал на поселение обеими ногами, твердо. Не метался по наймам, как Рословы. И были на то вполне достаточные основания. Во времена пореформенные состоял он в работниках у богатой своей тетки под Тамбовом. Случилось ему гурт убойных быков гнать в Петербург. Вернувшись домой, застал он свою родственницу при смерти и оказался возле умершей первым из многих наследников.
Как он сумел развернуться в столь удобный момент и перепала ли хоть малая толика состояния усопшей другим наследникам — о том никто ничего вразумительного поведать не мог. А только оставаться ему в тех краях, видать, несподручно было, оттого предпочел удалиться на Урал. Здесь же — это не секрет ни для кого — объявился он с целым чулком золотых монет. Вот по этой причине досужие мужики и прилепили ему прозвище — Чулок. Да еще одним наградили со временем — «В голую печенку!», поскольку эти слова были единственным его ругательством.
Осмотревшись на новом месте, приобрел Иван Корнилович мещанское звание, большой дом в городе купил и сдавал его в наем под квартиры. А сам жил в просторной хуторской избе, не упуская ни единой возможности прикупить по случаю землицы. У Виктора Ивановича Данина в два приема ухватил побольше ста десятин.
При таком хозяйстве работников, сезонных и круглогодовых, держал он немало. Ведь весной, как и всякому мужику, хочется посеять хоть бы в один день, да не выходит это. А осенью всякий норовит выхватить урожай из-под возможных непогод, зерна́ не потерять. Крестьянин тогда сетует на бога, отчего же создатель не сотворил его хотя бы десятируким. Свободных рук в эту пору не враз добудешь — нету их.
Не найдя другого работника, чтобы помочь заборонить посев поскорее, Чулок нанял Климку.
Чудной был этот Климка со всех сторон.
Когда они появились на хуторе с дедом Цапаем, того никто не упомнит. И кем доводился Климка по родству деду Цапаю, определить невозможно, потому как Цапай, почему-то избегая произносить имя, звал Климку сынком, а Климка его величал не иначе как дедушкой. Был ли тот в действительности сыном, внуком или приемышем, никого такая тонкость не интересовала.
Дед, малорослый от природы, согнулся под тяжестью лет, сгорбился и высох, как звонкая лучина. Волосы на голове и борода, когда-то черно-смолевые, не просто седыми сделались, а позеленели даже, словно трава на мочажине. Каждую весну Цапай нанимался пасти отгонный хуторской табун, где вместе с овцами паслись и телята. Пробовал дед приспособить к этому делу и Климку, но из-за страшной, неисправимой лености парня отказался от своей затеи.
Жил Климка в работниках. То у одного, то у другого хуторянина побатрачит, однако нигде долго не задерживался опять же из-за несусветной лености. Кому нужен такой работник? Парню три десятка годков уж отстукало, не курил он и водки в рот не брал — горькая. А вот поесть любил до страсти. К девкам боялся приблизиться на выстрел и баб, по возможности, избегал, за исключением случаев, когда они кормили его.
Землянка Цапая почти все лето пустовала. Да в ней и при хозяевах, кроме соломы на земляном полу и голых нар, ничего не было. Зимою их жилище, прилепленное на голом берегу речки, заносило до верхушки трубы. В снегу выкапывали нечто похожее на сенцы, а к единственному крошечному окошечку прорывали длинную нору, в какую едва пролезал Климка. А как заклекнет, затвердеет по-хорошему снег, ребятишки катались на санках от самой трубы дедовой землянки под гору, к речке.
На зиму дед нанимался чистить проруби на речке, и тут уж волей-неволей Климка оказывался его помощником.
4
Поздно минувшей ночью вернулся Виктор Иванович Данин с Прийска. Сам не успел отдохнуть и коню хорошей передышки не дал. А утром пораньше в город надо было попасть, чтобы к вечеру снова дома быть. Да с берега, говорят, море красно, а в море-то по-разному бывает…
Многое за последнее время переменилось. Теперь уж Виктор Иванович с Прийска не возил запрещенную литературу, а больше туда поставлял, когда приходилось наведываться. В городе тоже куда веселее дела пошли. Не только книжная лавка работает, не только сносно поступает в нее вместе с учебниками нелегальная литература из Самары, но перепечатывать кое-что удается: нашлись и в типографии свои люди.
Только вот со средствами становилось все хуже и хуже. Как ни ужимался Виктор Иванович, как ни экономил деньги, их оставалось все меньше. Лавку Алексей взял на себя, поскольку его это была идея, но не доходы приходилось от нее подсчитывать, а все больше тонула она в долгах. Пришлось Алексею продать заимку свою небогатую.
— Не вышло из меня купца, — вздыхая, сетовал Михаил Холопов. — В долгах, что в репьях, увяз.
— За богом должок не пропадет, — отшучивался Виктор Иванович. — «Капитал»-то есть еще у тебя?
— Есть еще парочка. «Манифеста» с десяток осталось, да «Что делать?» книжечек шесть имеется.
— Вот это и есть наш главный капитал!
— Цены этим книгам нет, — как бы оправдываясь, отвечал Холопов, — бесценные они, верно. Так ведь и раздаем их бесплатно.
— Х-хе, волк тебя задави, торгаш, — смеялся Виктор Иванович. — Да если бы хоть половина российских людей знала цену этим книгам, не пришлось бы тебе совать их из-под прилавка. Вот здесь бы, на самом видном месте стояли они, потому как батюшку царя теперь бы уж отпели.
…Едет Виктор Иванович, а сон его давит немилосердно — всего часика два уснул за сутки. Задремал в телеге. И конь едва ногами переступает. А то еще идет, идет да с дороги на непаханое поле собьется. Не погоняет коня ездок — устали оба. Солнце уже припекать стало… Вдруг взвизгнул конь и захрапел. Телега остановилась. Вскочил Виктор Иванович — батюшки! — от дороги отклонились они саженей на десять. Рыжка передней ногой ухнул в сусличью нору и бьется в оглоблях, оглядываясь на хозяина тревожно и тоскливо вместе. Распустил супонь Виктор Иванович, сбросил дугу и чересседельник, телегу назад спятил. С великим трудом приподнялся Рыжка, дрожит весь и на правую переднюю ступить не может. Ощупал ногу хозяин — сломана.
— Вот уж правда-то сказано: не ищи беду — беда сама тебя сыщет, — качал головой Виктор Иванович, оглядывая степь вокруг себя. — Чего ж теперь делать-то?
Заметил впереди, саженях в трехстах, бороноволока на двух лошадях. Найдется ли там помощь, а идти надо — живой человек! На всякий случай подтолкнул телегу ближе к коню и привязал его поводом подлиннее.
Не доходя до бороноволока целую сотню саженей, безошибочно узнал его Виктор Иванович — Климка это. Понятно, у него ни уса, ни бороды — ни сохи, ни бороны. Да и ума столько же, так ни единой души вокруг-то нету.
По пашне шел Климка вразвалочку, не торопясь, вышагивал между головами двух лошадей, идущих в ряд. А на сгибе руки висела у него шуба — единственная одежка на все времена года. У шубы этой, известной всему хутору, одна пола сшита из черной овчины, другая из белой, а спинка — дубленая, красноватая была раньше. Но поскольку бывала она под дождем и под снегом, под градом и под жарким солнышком, в грязи и в пыли, то разноцветие ее постепенно поблекло, сравнялось, и различить его стало возможно лишь при близком рассмотрении. Ни при каких обстоятельствах не расставался Климка со своей шубой — ни дома, ни в поле, ни в людях.
Поле, что боронил Климка, концом упиралось в большак, наискосок пересекающий дорогу с хутора Лебедевского в город. Когда Виктор Иванович дошел до перекрестка и повернул вдоль края пашни, Климка либо загляделся на него, либо всегда так делал — вывел коней с пашни и, поворачивая их в обратный след, зацепил бороной за верстовой столб. (Никакой придорожной канавы не было в этом месте.) Бросил повода, сердито поправил на руке шубу и пошел вызволять борону.
— Верстов у дороги понаставили, с бороной заворотиться негде! — ворчал Климка, оттаскивая борону одной рукой.
— Да ведь ты не дорогу боронишь-то, пашню, — услышав ворчанье парня, издали заговорил Виктор Иванович. — А шубу-то для чего же за собой таскаешь по этакому теплу?
— А враз — дожжик?
— Ах, волк тебя задави, чего испугался, — усмехнулся Виктор Иванович, доставая из кармана кисет и отрывая клочок газеты на закрутку. — Да ты погоди, — остановил он Климку, вознамерившегося тронуть лошадей. — Чью пашню-то боронишь?
— Ивана Корнилыча, стал быть, Чулкова.
— Лошадку не дашь мне до города доехать? — шутливо спросил Виктор Иванович.
— Еще чего? А хозяин-то… Да вон он по пашне прет, опять огрехи у меня высматривает. Небось драться станет, что мало заборонил…
Климка заторопился было в работу и тронул уже коней, но Виктор Иванович снова удержал его:
— Не станет он при мне драться. Ты погоди. Дождемся его. А вот согласится ли помочь — вопрос. Твой хозяин из блохи голенище скроит; скупее самой скупости.
Хорошо знал Виктор Иванович, что самый верный способ подманить Чулка — придержать работника, сам прибежит. Так оно и вышло в точности.
— Ты чего ж эт стоишь, глаза вылупимши! — набросился на Климку хозяин, еще шагов двадцать не дойдя до кромки поля. — День-то идет, не ждет нас с тобой.
— Погоди, Иван Корнилович. Не спеши казнить, дай слово молвить, — остановил его Виктор Иванович.
— Молви, молви. Здорово, — подступился Чулок, воинственно выпятив клок непокорной бороды и недобро сверкая глазами. — Чего шатаешься по чужим полосам, на своей, что ль, делать нечего?
— Беда у меня стряслась: ногу вон конь сломал. Пособи. Кто же тут меня выручит?
Будь на месте Данина другой человек, не стал бы Чулок и разговаривать с ним. А к Виктору Ивановичу многие лебедевские мужики относились с большим уважением, грамоту его почитали, образованность. Знал это Чулок, да и сам не раз подумывал к нему обратиться. В городском его доме квартирант один задолжал и, не заплатив, переехал на другую квартиру. Надо в суд бумагу толковую написать, а кто ее напишет? Да опять же, бесплатно. И время-то до невозможности горячее. Словом, стоял он перед Виктором Ивановичем, весь подергивался, будто блохи его кусали: то бороду почешет всей пятерней, то в затылок пальцы запустит.
— Дык что за помога тебе нужна?
— Лошадку надо. Да все трое, может, Рыжку моего на телегу свалим. Совсем идти не может.
— М-мм, — заскулил Чулок, — хорошему человеку как бы не пособить, да ведь за вешней пашней шапка с головы свались — не подыму. Сопли утереть мужику некогда: только выпусти из руки поручень — соха из борозды выскочит…
— Да будет тебе плакаться-то, — перебил его Виктор Иванович — У бога дней много: успеется.
— Век-то долог, да час дорог, — не сдавался Чулок. — А бумагу мне в суд напишешь на должника?
— Большой долг?
— Двадцать рублев.
— У тебя, волк тебя задави, каждая копейка алтынным гвоздем прибита. Кто должник?
— Сынок, стал быть, купецкий… С полгода уж, почитай, по каким-то делам в городу торчит. Да все больше по кабакам шатается…
— Напишу, — в ус улыбнулся Виктор Иванович. — Выиграешь ты дело… Давай, Клим, отцепляй вот этого, а того к столбу пока привяжем.
В телегу завалили Рыжку без особых хлопот, стянув здоровые ноги и привязав его постромками, чтоб не бился. Не подымали его в телегу-то, а именно свалили стоячего, тем более что конь был не из рослых.
Затягивая веревку, Чулок пригляделся к покалеченной Рыжкиной ноге, потом ощупал ее осторожно. Спросил:
— Лечить, что ль, коня-то станешь, Виктор Иванович? Битая посуда, сказывают, два века живет. Лубок наложить — поправится, чать-то.
— Битая посуда, может, и живет два века, а на леченом коне далеко не ускачешь. Слыхал такое небось?
— Ну и куды ж ты с им теперя?
— В город, на базар. Конек не заморенный и не старый: мохан из него получится неплохой. Там же, может, и другого себе пригляжу.
Это Виктор Иванович так беззаботно говорил о Рыжке при посторонних, а как отъехал подальше, оставшись один на один со своими думами, одолела его тоска — будто лучшего друга лишился. Да он и был ему неизменным другом в постоянных тайных поездках в любое время года, суток и в любую погоду. И не мог себе простить, что задремал. Лишь однажды пристально поглядел в тоскливые лошадиные глаза, потом до конца пути не хотел повторить этого.
До города добрался он во втором часу пополудни и не к базару направился, а повернул к Болотной улице: Авдей Шитов отложит все свои извозные дела и с продажей коня управится скорее и лучше, чем он сам.
К домику на Болотной подъехал как раз вовремя: ломовая телега во дворе стоит — значит, Авдей не уехал еще после обеда.
— Вот так фунт изюму! — ахнул Авдей, выходя из калитки. — Это как же вышло-то? — спросил он вместо приветствия.
— Бывает, Авдей Маркович, что и вошь кашляет, — шуткой ответил Виктор Иванович. — Ногу сломал мой Рыжка. — И рассказал все, как было.
Авдей не стал дожидаться просьбы Виктора Ивановича — с готовностью принял все хлопоты на себя и, поталкивая гостя в плечо, заторопил:
— Иди, иди в избу. После такой дороги отдохнуть не помешает, да и закусить давно уж пора. Иди, Зоя там покормит тебя.
Умывшись из рукомойника, Виктор Иванович прошел в горенку, к зеркалу причесаться и, вперившись в свежую большую фотографию на стене, забыл про все. Постоял против нее с минуту и, малость успокоясь, ласково позвал:
— Зоюшка, Зоя, поди-ка сюда.
— Чего, Виктор Иванович? — метнулась от печи хозяйка, обтирая передником пухлые руки.
— Это что за карточка появилась у вас?
— Да вы же сами видите: литературный кружок наш. Все тут свои… В прошлое воскресенье пошли да и снялись на память…
Она не знала, что думает Виктор Иванович и что хочет сказать, но под его укоризненным взглядом залилась пылающим румянцем, потупилась и, как бы оправдываясь, добавила:
— Жизня-то вон какая нескладная выходит — кого тюрьма, кого каторга ждет, а кому подальше отъехать придется — вот и останется это на память… Садитесь за стол, собрала я там…
— Туда вы, кажись, и торопитесь, на каторгу, — будто про себя молвил Виктор Иванович, накрутив на палец кончик длинного уса. Глаза у него из голубых синими сделались, потемнели. Заговорил резко: — Да кому же такая блажь в голову влезла, волк вас задави?! Почти всю организацию как на блюдечке подали и на самое видное место вывесили! Такое счастье ни одному жандарму во сне не снилось… Ну и у-умники! Так ведь и сам Алексей тут сидит… Вот так вожак!
— А он в тот день занятие проводил в кружке. Читали мы «Что делать?». Все так понятно разъяснял. Потом и пошли к фотографу…
— Вот чего, — прервал Зою Виктор Иванович, — лети сейчас же к Алешке — одна нога здесь, другая там — разыщи его хоть под землей и — сюда.
— Да хоть бы вы поели, — начала было Зоя. — Покормлю я…
— Без тебя с готовым-то управлюсь, — снова перебил ее Виктор Иванович. — Слышишь, беги скорей!
Зоя, сбросив с себя передник и на ходу сунув ноги в сандалии, исчезла за дверью. А Виктор Иванович, прежде чем сесть за стол, вынул из рамки фотографию, спалил ее на шестке, пепел замел в печь, а рамку бросил на полку за занавеску. Он никак не мог успокоиться. Себя приучил еще со студенческих лет к беспощадной строгости в делах конспиративных. Никаких скидок, никаких погрешностей здесь не должно быть. Именно эта непреклонная строгость к себе уберегла его в пятом году там, в Самаре, и здесь позволяет пока работать без ошибок. Что бы ни делал он, всегда старался взглянуть на себя «глазами жандарма» и тут же отыскивал такой ход, чтобы им можно было воспользоваться в случае необходимости.
Алексей появился в домике менее чем через час. Верхние пуговицы серой косоворотки расстегнуты, на груди проступили пятна пота, но рубашка, перехваченная гимназистским ремнем, заправлена отлично. У порога остановился, вытер платком потное лицо и виновато оглядел пыльные сапоги, поздоровался.
— Как ты так скоро тут объявился? — подавая руку, спросил Виктор Иванович. Он поднялся из-за стола и заглянул в кухонное оконце. — На извозчике?
— Да.
— Еще, стало быть, клякса на твоей конспирации?
— Нет, Виктор Иванович, извозчика я отпустил на соседней улице, а сюда — пешком.
— А Зоя где?
— Послал по цепочке с поручением.
— Карточки уничтожать?
— Да.
— Ну присядь, отдохни. В ногах правды нет, чего ты, как солдат, вытянулся.
Алексей неохотно присел на табуретку напротив Виктора Ивановича, положил руки на стол. Весь он, плотно сбитый и ловко скроенный, заметно было, тяготился временным бездельем. Сию же минуту хотелось ему самому побывать у всех товарищей и своими руками уничтожить эту злосчастную фотографию. Потное лицо осунулось, короткий светло-русый чубчик поднялся ершистым хохолком.
— Да, брат Алеша, времена шатки, береги шапки, — заговорил Виктор Иванович, испытующе глядя на юного друга. — Как же это вышло-то у вас? Кто выдумал такую глупость?
— А теперь и не вспомнить, кому первому пришло это в голову, — отвечал Алексей, виновато почесывая кончик прямого носа, — а подхватили все, и я тоже… дур-рак!
— Погоди казниться-то. Ты думаешь, карточки уничтожишь — и все? А негатив?
— И об этом не успел подумать…
— Ведь если он попадет в жандармские руки, ничего лучшего им и не надо. Ну и конспираторы!
— Добуду! — задорно выпалил Алексей.
— Как?
— Выкуплю.
— Не вздумай сам туда пойти. Пошли кого-нибудь из девчат. Да чего сказать-то фотографу, подумай хорошенько.
— Достать полицейскую форму, — быстро заговорил Алексей, — и изъять сразу несколько негативов. Подойдет?
— Нет, Алеша. Тихая-то вода берега подмывает — потише надо, поскромнее. А это может сразу готовым следом обернуться. Полиция и жандармы возле фотографов всегда вьются. Не годится.
— Большинство снятых на карточке — не здешние, разъехались они, — зачастил Алексей, — просят карточки для родных. Заказать на всех — денег нет. Отдайте, пожалуйста, негатив.
— А что вы с ним станете делать?
— Знакомый студент приехал, понимает в фотоделе. Он бесплатно напечатает. Годится?
— Это умнее. Подойдет, пожалуй. Только версию почище отработать надо, чтоб ни одним штрихом воды не замутить. На дело послать хохотушек молоденьких, но толковых, из тех, что на карточке сняты. Старших не трогай, не показывай лишний раз.
— Ясно, Виктор Иванович, — сказал, поднимаясь, Алексей, — пойду я.
— Ух ты, какой скорый! Погоди… Служивый ничего нового не передает?
«Служивый» — это кличка пожилого человека, работавшего регистратором в жандармерии. Человек беспартийный, тихий и незаметный, он через надежных знакомых охотно делится известными ему сведениями и уже не раз выручал подпольщиков, предупреждая о беде. Виктор Иванович видел его лишь однажды, издали, и раскрывать себя перед ним не считал нужным.
— Он молодец, — говорил Алексей, прохаживаясь от стола к порогу. — Сведения поставляет верные: всех типографских рабочих и служащих взяли на учет. Яманчуев какие-то тайные связи завел в Казани. На наборщика Захарова запрос в Камышлов послали — выяснить им надо личность этого человека. Да ничего такого за ним не числится. Ухватиться им не за что. Какого-то важного политического заключенного, Русанова кажется, собираются перевести из Челябинска в нашу тюрьму: боятся, что там ему могут устроить побег. Ну и самое главное для меня — «хвоста» моего отцепили. Вроде бы я у них в благонадежные вышел, негласное наблюдение сняли.
— Не торопись в рай, Алеша, оставайся в аду, да не торчи на виду. Это ведь и ловушкой хорошей может быть. Веди себя так, будто и не снимали «хвоста». Старики говорят: береженого бог бережет, а ты на бога-то надейся, да сам не плошай… А как узнаешь, что этот заключенный сюда переведен, Авдею скажи. Ну, теперь ступай… Нет, погоди, за ворота выгляну: бывают волки и в нашем колке.
Вернулся Виктор Иванович минуты через две и объявил:
— Иди. Ни души на улице, будто вымерли все.
Алексей с готовностью ринулся в дверь. Пошел напористо, упруго. Двадцать семь лет было этому парню, а выглядел он двадцатилетним. Из Казанского университета исключили его за активную деятельность в студенческих кружках и дружинах в пятом году. Даже первого курса не дали закончить, и в тюрьме успел посидеть.
С Виктором Ивановичем знакомы они лет шесть. Много дел переделали вместе, много тревог пережили. Глядел на младшего товарища Виктор Иванович и радовался: хороший руководитель растет — да он уже и был руководителем городской организации. И подпольщик хороший, только вот выдержки бывает маловато и о конспирации порою забывает.
Авдей подъехал к воротам часов в семь. Постучал в кухонное окно кнутовищем, прокричал:
— Эй, хозяин, коня глядеть выходи!
Когда Виктор Иванович появился в калитке, Авдей не дал ему заговорить, упредив словами:
— Работничье дело невольничье, как скажет хозяин, так и будет.
К телеге привязан, как ночь, вороной конь. Был он красив, статен, а держался как-то потупленно и устало.
— Хорош конь, только заморил его маленько весной, — сказал сидевший в телеге молодой татарин, бедно одетый и тоже казавшийся усталым.
— Сколько он за него просит-то? — спросил у Авдея Виктор Иванович.
— Семьдесят просит, да за шестьдесят, я думаю, отдаст.
— Отдашь за шестьдесят, — возьму, — обратился Виктор Иванович к хозяину коня?
Тот поупирался для виду, а тут еще Авдей подзадорил покупателя:
— Рядись, да вглядись; верши, да не спеши.
Сдался продавец, махнул рукой и, соскочив с телеги, подбежал к Виктору Ивановичу, потянул его к коню.
— Вот, — говорил он, отвязывая повод и подавая его, — держи, хороший человек, давай деньги, катайся. Ну, бери! Давай деньги!
— Добавить-то много придется? — спросил Виктор Иванович у Авдея. — Разоришь ты меня, волк тебя задави.
— Два червонца выкладывай, — слукавил Авдей, хотя добавлять надо было двадцать пять рублей. Отлично знал о денежных трудностях, но и коня хотелось получше взять — добавил пятерку из своих, извозом добытых.
Нередко складывалось у Виктора Ивановича в поездках так вот: поедет с одной целью, а на деле приходится столкнуться совсем с другими делами и обстоятельствами. Алексей, конечно, не догадывался, сколь ценное известие сообщил Виктору Ивановичу, как бы между прочим упомянув о переводе политзаключенного из Челябинской тюрьмы, назвав его Русановым. А речь шла об Антоне Русакове. Именно с сегодняшней ночи надо было его поджидать в условленном месте за хутором Лебедевским, укрыть в своем подвале, через который прошло уже больше десятка беженцев, а когда приутихнут поиски, отправить Антона по железной дороге в Самару. Столько было хлопот и забот с подготовкой этого побега! Сколько волнений!
Все, выходит, прахом прошло. И сегодня ехал Виктор Иванович сюда для того, чтобы условиться с Алексеем о подготовке Антону места в поезде да вечером домой вернуться — встречать Русакова. Теперь планы перепутались. Но ходить в то место придется до тех пор, пока не прояснится судьба Антона. Неделя на это уйдет или месяц — все равно.
Зоя вернулась, когда Виктор Иванович уже сидел в телеге, намереваясь выехать из двора.
— Ну, собрали, что ль? — спросил он ее.
— Не все, — ответила Зоя, обтирая лицо кончиком платка, сдвинув его с головы, — еще штук пять осталось. Дома никого не застали.
— Завтра, волк вас задави, чтоб ни одной не осталось. А ты, Авдей, вот чего: как Алексей тебе скажет, что политзаключенный из Челябинска в здешнюю тюрьму прибыл, сразу дай мне знать. Все. — И он тронул коня. — Понял? Сразу!
В телегу заложили купленного Воронка — испытать его надо в деле. А Чулкова коня привязали к оглобле сбоку — отдать его надо в целости.
5
С тех пор как раздробилась рословская семья и Макар остался в старой избе, сделался он непохожим на себя. Казалось ему раньше, что, отделившись, повернет свое хозяйство на культурный лад и заживет по-новому, умнее. Двор перестроить хотелось да скотину породистую завести… А как остался с двумя лошадьми да с двумя парами рабочих рук — свои да Дарьины, — почти сравнялся с Леонтием Шлыковым и понял многое. Оттого все чаще приходила ему в голову поговорка деда Михайлы, отца, стало быть: «У богатого-то гумна и свинья умна. А ты вот своим обзаведись, тогда как хошь распорядись». Опять же на поклон и пришлось идти к своим. Помогают в горячую пору, хотя без видимой охоты.
А семья-то год от года растет. Зинка, правда, теперь уж пособляет матери по хозяйству. Федька к нынешнему лету подрастет: и за бороной походить сможет, и в ночное с лошадьми съездит. Сулила мужу Дарья еще сына, да родила дочь. В конце великого поста случилось это, на пятой неделе.
Макар, приучив себя к мысли, что родится сын, до того уверовал в это, что был прямо-таки обескуражен появлением на свет дочери. И на Дарью сердился и на дочь, будто они действительно в чем-то повинны были, и крестить новорожденную не торопился.
В первые дни Дарья не раз пробовала заговорить о крещении ребенка и кумовьями нарекала Тихона с Настасьей, Макар отмалчивался. А в четверг вечером на страстной неделе, прибрав на ночь скотину и едва переступив порог избы, Макар услышал негодующие слова жены:
— Эт чего ж ты творишь-то, тятя родной? — спросила Дарья, выскакивая из-за печи с мокрой тряпкой в руках.
— Да чего я такое натворил? — попятился Макар к двери, вешая на гвоздь шапку.
— А до каких пор твоей родной дочери в нехристях быть? Кутенок она, что ль, у тебя? Ни назвать, ни позвать. Зинка вон уж сама Дуняшкой ее окрестила, заместо попа.
— Во-он ты чего, — протянул Макар, успокоившись. — Дык ведь Пеструха-то вот вот отелится…
— Тебе, знать, корова дороже девки.
— Дороже и есть, — усмехнулся Макар, повесив старую шубенку и проходя к столу. — Корову тебе даром кто даст?.. То-то вот и есть. А девку берешь, дык за ей глухой воз с приданым еще привезут. Кто ж дороже-то? А у нас их, девок-то, — две. Вот и готовь два глухих воза.
— Ну, ты, Макар, кажись, умом рехнулся. От веку ведь эдак ведется. Чего ж мы с тобой переменим, что ль, это? Дурь-то из головы повытряхни да завтра с Настасьей езжайте. Тихон-то небось не поедет — в кузне у его дел невпроворот. Весна ведь. А уж я дома останусь и за хозяйством догляжу. Сичас я к ей добегу.
— Ну ладноть, — уклончиво ответил Макар, — квас воды ядренее, утро вечера мудренее. Будь по-твоему: согласится Настасья — поеду.
Утром собрались в Бродовскую не рано — долго Настасью ждали. А та, поздороваться не успев, с ходу возвестила:
— Новость-то не слыхали?
— Чего еще? — с тревогой спросила Дарья, завертывая на столе новорожденную и готовя ее в дорогу.
— Васька-то наш письмо прислал. Летом либо к осени домой прийтить сулится.
— Да ну! — повеселела Дарья. — Вот видишь, Макар, невеста для его понадобится первым делом, а не корова все-таки.
Макар хмыкнул в ответ загадочно и заторопился во двор, поскольку там давно стоял запряженный конь. Выехали чуть не перед самым обедом, и всю дорогу Макар поторапливал Рыжку.
Священника в церкви не оказалось, поскольку службы там не было. Дом поповский недалеко. Потому Макар, оставив Настасью с ребенком у подводы, отправился позвать отца Василия.
Принаряженный по такому случаю — в картузе, сатиновой рубахе, в пиджаке нараспашку и в добрых сапогах — Макар важно вышагивал по малоезженой непыльной дороге, наслаждаясь вешним теплом и стоголосой музыкой птичьих хоров, доносившихся из кладбищенской рощи, готовой вот-вот зашуметь листьями.
К вере, к церковным обычаям не был Макар пристрастен. В голове его больше сомнений гнездилось, чем простодушного верования. Однако всякий раз, когда он оказывался возле церкви либо под ее сводами, охватывало его какое-то торжественное, щемящее чувство, доходившее до умиления перед благостью убранства, перед величием храма. Сегодня ощущение это усиливалось, возможно, еще потому, что подходила к концу седьмая, последняя, страстная неделя великого поста. Надоели уж квасок да редечка, селедка да щи пустые: скоромное употреблять нельзя, особенно в эти последние дни. Грех непрощеный!
Поднявшись на крыльцо и миновав темные сени, Макар попал в светлую просторную кухню, отгороженную от коридора легкой переборкой, и остолбенел. Поздороваться даже забыл. За большим, накрытым белой скатертью столом восседал отец Василий. Роскошная раздвоенная борода почти целиком прикрывала белую салфетку на груди. На столе стоял небольшой графинчик, уже ополовиненный, рядом с ним — вместительная рюмка. А под самой бородой — сковорода с решето. Отец Василий аппетитно уминал за обе щеки жареную колбасу с глазуньей, нимало не смущаясь вошедшего некстати мужика.
Долго, видать, Макар торчал в дверях этаким истуканом, не находя слов. А отец Василий, не спеша пережевав большой кусок колбасы и тронув крахмальной салфеткой губы, спросил недовольно:
— Ну, чего уставился, раб божий? Али язык проглотил?
— Да как же можно-то, батюшка? Ведь пост великий! Страшна́я пятница сёдни! Как же ты бога-то не устрашился да уста свои оскверняешь скоромным? Да еще с водочкой! — Макара страх суеверный обуял. — Грех-то какой, ба-атюшка!
— В водочке, как известно, никакой скоромности нету. Хлебная она, — степенно разъяснил отец Василий, пряча в усах и бороде ядовитую ухмылку. — А Христос-то сказал: входящее в уста не оскверняет человека, а оскверняет исходящее из уст его.
Макар окончательно в тупик врезался.
— Эт как же? — ухватился он за свой пшеничный ус. — Выходит, я больше согрешил, коли сказал тебе о грехе твоем: ведь это из уст моих вышло?
— Смышленый ты, мо́лодец. Толковый, — отвечал батюшка, дохнув винным перегаром через всю комнату и заложив большой кусок жирной колбасы в «уста свои». — Истинно так и выходит… Полемики не получилось у нас с тобой… Ну, с чем пожаловал-то, сказывай, раб божий.
Макар так и не понял, чего у них с батюшкой не получилось, оттого снова замешкался с ответом и, как бы догоняя свою мысль, заторопился:
— Ребеночка… новоявленного… окрестить бы надоть…
— Иди ко храму, — велел отец Василий. — Туда я прибуду вскорости. Иди.
На обратном пути Макар ни приветливого солнышка не заметил, ни хоров птичьих из рощи не слышал. Зло его разбирало: дурачат попы народ да еще посмеиваются над темнотой мужичьей. Ведь за все семь недель хозяйки пальца масленого не оближут: не согрешить бы. Больные да немощные, детишки малые на постной пище изнуряются — тоже боясь греха. А тут упивается этакий шестипудовый боров — ни запретов для него, ни бога, ни грехов. Да еще скажешь ему об этом, так сам же в великие грешники попадешь, а он в святых остается!
— Ну, дома, что ль, батюшка-то? — нетерпеливо спросила Настасья. — Придет он?
— Дома, — проскрипел Макар. — Счас колбасу с яишней умнет, полуштоф водки допьет и явится.
— Ты чего ж эт грешишь-то, Макар, — испуганно вскинув брови и тряся в руках плачущего ребенка, упрекнула Настасья. — Нешто можно такое про батюшку? Да еще в страшную пятницу!
— Да что вы, сговорились, что ль, растрафить-то вас всех! — взбеленился Макар. — Он жрет, как кобель, а мине в грехах утопили!
У Настасьи дыхание перехватило от этакой дерзости, возмутилась донельзя, но возразить ничего не успела — увидела, что отец Василий чинно шествует от дома своего.
Крещение прошло быстро и обычно, без лишних слов. Однако Макар совсем лицом потемнел и вышел из церкви чернее тучи. А Настасья, садясь в телегу, и заговорить боялась первой, и распирало ее от нестерпимого желания сказать словечко. На повороте в улицу, когда отъехали от церквы, высказалась, будто великую тайну, неведомую Макару, выдала:
— А ведь батюшка-то… как пошел кругом купели да как дыхнул возля мине… Ей-богу, чуть не упала я от ентого духу… Неужли же и вправду к винищу прикладывался он? В эдакие-то дни!
Макар не разжимал губ, потому как знал — разговора с глупой бабой лучше не заводить, иначе на всю дорогу руготни хватит. Ну чего она мелет? Ведь от винного духу чуть не упала и сама себе не верит. Вот до чего заморочена баба!
— А девку-то как окрестил, — понесла, сорвавшись с тормозов Настасья, — не упомнишь вовек и не выговоришь сроду. — Она подождала в надежде, что Макар подскажет имя новорожденной, но тот не отозвался. Пришлось доходить своим умом. — Келапатра? Нет… Квелапатра, что ль?
— Кле-ва-патра, — сердито поправил Макар. — Выкопал же гдей-то, пес долгогривый!
— М-мм, — потянула Настасья, — с рожденья изнахратил батюшка девку… Неужли не нашлось у его в святцах чего получше-то, а?.. Уж не прогневал ли ты его чем, как звать-то ходил?
«А черт его знает, — зло подумал Макар, — может, и прогневал, коли в великий пост за молостной трапезой застал. Знает небось, что не умолчу об этом перед мирянами, вот и удружил, чтоб всю жизню помнил, как у его побывал…»
— Клевапатра… — повторила Настасья. — Чудно!.. Ой, здравствуешь, Катя! Как живешь-то, скажи.
Недалеко от палкинского двора Катька им встретилась. Постирушки с речки на коромысле несла. Потупилась молодуха, тихонько поздоровалась. Макар придержал коня, и Катька возле подводы остановилась.
— Чегой-то слиняла ты, девка, — продолжала Настасья, — с лица сменилась и вроде бы на себя непохожа стала. В семье, что ль, плохо живется?
— Болезня-то, она и поросенка не красит, сказывают, — уклончиво ответила Катька. — Хворала я шибко, да теперь уж поправилась.
— А мы вот дочку Макарову окрестили…
— Как назвали-то?
— Клевопатрой какой-то… А ты не слыхала — письмо от Васьки нашего пришло, к осени домой сулится.
От этих слов у Катюхи жар внутри полыхнул, кровь в лицо бросилась. Принагнула она голову, будто высвобождая воротник поддевки из-под коромысла. Шею-то гнет, поворачивает и так и этак, а распрямиться стыдно — крупные слезины из глаз выкатились.
Приметив неловкость эту, Макар тронул коня, а Настасья, отдаляясь от поникшей Катюхи, кричала ей:
— Кланяться ему не прикажешь? Аль своим поклон передать? Давно они тута были?
— Да отвяжись ты от ей! — одернул спутницу Макар и пустил коня быстрее.
Катюха подняла голову, сказала что-то, но слов за стуком колес не слышно и слез издали не разглядеть.
Всю дорогу Настасья судачила о неправедном попе, на непонятное имя новорожденной сетовала, то и дело повторяя его, чтобы запомнить надежнее. А то издалека заводила разговор про Васькино письмо, про то, что домой скоро вернется парень, что невесту ему приглядывать самая пора теперь. Но в рассуждениях ее как-то незаметно и порою совсем некстати Васька упоминался рядом с Катюхой Прошечкиной. Либо догадывалась она о бывших когда-то отношениях парня и девки, либо слухами хуторскими напиталась, либо жалела, что не досталась Ваське богатая невеста.
Макар не встревал в эту болтовню, не разжигал бабьих страстей, хотя давным-давно, еще когда потерялась Катька после Васькиных проводин, догадывался об истине, однако никому об этом не говорил, даже своей Дарье. Сегодняшние слезы окончательно утвердили его в прежней мысли. Но Макар был убежден, что в чужие сердечные дела совать свой нос негоже, и отмахивался от таких разговоров. А вот поведение отца Василия не шло у него из головы. И чем больше он думал об этом, тем больше негодовал, постепенно сознавая отца Василия своим врагом.
Как только подъехали к воротам, Настасья кинулась в избу — девчонка с голоду наревелась, да и новости все обсказать надо. Услышав, как нарек батюшка дочку, Дарья залилась горючими слезами. А Настасья, не очень заботясь о том, слушают ли ее, торопливо освободилась от бремени новостей и отбыла домой — своих ребятишек доглядеть.
У Дарьи уж первые слезы прошли, Клеопатру новоявленную накормила и спать уложила, а Макара все нет. Через окошко во двор выглянула — никого там не видно, и телега на месте стоит. Куда бы мужику деваться?
Появился Макар через недолгое время. Не раздеваясь, прошел в передний угол, выставил сороковку из кармана, будто припечатал ее в самую середину стола. Приказал, по-хозяйски крикнув:
— Дарья! Сичас же мясо вари, пельмени стряпай, блины пеки — чего хошь, лишь бы скорейши.
— Христос с тобой, Макарушка! — всплеснула руками Дарья. По спине у нее холодок боязненный пробежал. — Да ты, никак, пьян либо уж взаправду умом рехнулся.
— Пока не пьян — так, для затравки плеснул за воротник у Лишучихи. А ты делай, чего тебе говорят!
Видя, что муж не шутит, что творится с ним непонятное, Дарья послушно повернулась к печи и, досадливо передвигая горшки, запричитала:
— Господи, да грех-то какой ты на душу взял! Подумай, Макарушка, грех-то какой! Ведь и поста-то осталось всего ничего — день да две ночи… В светлое бы воскресенье и разговелся по-людски, как все, после поста. Бес уж, видно, тебя попутал. На великий грех подбил.
Видя, что жена покорно подчинилась ему, Макар смягчился:
— Сама-то не греши, Дарья. Никакой не бес меня попутал — нечего на его зря валить, — батюшка наш, отец Василий, на ум наставил: входящая в уста не оскверняет человека, а оскверняет его все выходящая. Поняла? Ты в сто раз больше нагрешила, на меня лаючись, потому как из твоих устов это вышло. Батюшка не боится бога — жрет колбасу с яйцами да водочкой припивает. А я застал его за этим занятием, дак он в отместку, видать, и наградил нашу дочку вон каким прозванием!
6
С полгода провалялся в постели Кирилл Платонович Дуранов после того, как «маленько поучили» его мужики, поймав на Прошечкином току. Потом еще долго кровью покашливал, не курил больше года. Зла в нем от того не убавилось и честным не стал, но осторожности заметно прибыло. Ни краж, ни пожаров не случалось в хуторе Лебедевском — полегче вздохнулось мужикам.
Поправившись окончательно, занялся Кирилл Платонович торговлей скотом. Брал заказы в Троицке, в Миассе, даже в Златоусте. Набирал гурты рогатого скота, лошадей, овец в Тургайской степи у скотоводов, перегонял заказчикам и торговал с прибылью. Знали мужики, что и тут не просто он торгует — и обманывает, и ворует скот, — да коли своих не трогает, кому до него какое дело? Всякий живет по себе и другого не касается.
В степи у Кирилла, понятно, свои люди были, гурты ему готовили, а перегонял скот и продавал он сам. Да в таком деле тоже без помощника не обойтись. Долго примеривался, думал, кого бы из подростков нанять в погонщики, многих ребят перебрал в уме — все не то. Хорош у Рословых парнишка, лет пятнадцать ему, смышленый, в самый бы раз для такого дела годился, да ни отец, ни дед не отдадут Степку ни за какие деньги, скажут, к воровству приучится малец. Яшку просил у Леонтия Шлыкова — не отдал. «В хуторе, говорит, пущай при глазах работает у кого-нибудь. С тобой водиться, что в крапиву садиться». Про Даниных и говорить нечего — не пускают они внаем ребят. Вот Прошечка своего Серегу, может, и отдал бы на такое дело, чтобы к торговле приучить его, так мал еще: даже десяти годков ему нету. Какой это помощник? Да и связываться с Прошечкой побаивался Кирилл.
Случайно заговорил как-то Кирилл Платонович с Кестером да и высказал ему свою заботу, а тот с готовностью предложил Кольку. Ни Дуранову, ни кому другому из хутора этот поступок Ивана Федоровича не был понятен. А вышло так оттого, что недолюбливал Кестер младшего сына, и поскольку любовь к старшему, Александру, проявлялась все ярче и откровеннее, между отцом и Колькой поселилась неприязнь, которая с годами все больше перерастала в ненависть. Со стороны из всех живущих в хуторе людей приметил это лишь один человек — Виктор Иванович Данин.
Был у Кестера справный карий мерин Цыган. Не за масть назвали его так, а потому что купили у цыгана. Конь видный, залюбуешься, взглянув на него, но ленивый до невозможности. Его и благословил Иван Федорович Кольке для новой работы. Седло старенькое дал да казацкую нагайку — вот и вся справа.
Разков с десяток прогулялся Колька в Тургайскую степь. И холодно бывало зимой, и ночевать приходилось где попало, и уставал, но домой не манило его. Помыкали им дома всячески, и стал он в семье совсем чужим. Отца постоянно честил про себя «живоглотом» и для матери теплых слов не находил. Она вроде бы видела несправедливость отцовских нападок, но и защитить сына тоже мешало ей что-то. С братом встречались редко, только в каникулы, и никакой радости встречи эти не приносили. Даже не находилось о чем поговорить.
Сидит Колька на лавочке возле своего двора одинешенек. Вечер выдался теплый, ласковый, а мысли одолевают его самые пасмурные: в семье словом перемолвиться не с кем, и ребята хуторские обегают, дружить с ним не хотят. Лишь вчера вечером появился он дома, а уж надоело тут…
Издали увидел Кирилла Дуранова. Тот шел прихрамывающей походкой, обретенной после мужицкой выучки. Весь он будто бы чуток сжался, полинял малость. В смолевой бороде и усах искрами пестрели ярко-белые волоски. И взгляд посмирнее казаться стал, только ежели зло на него накатывало, глаза становились прежними, такими же страшными и беспощадными.
— Ну, чего, Миколашка, отдохнул? — спросил, подходя, Кирилл Платонович. — Завтра в дорогу.
— Не поеду, — вдруг выпалил Колька совершенно неожиданно даже для себя.
— Эт отчего так?
— Оттого, что об Цыгана об этого жирного все руки обломал! Лупишь, лупишь его, а он и не чует даже, — разразился жалобами Колька, да еще закрылся и будто бы всхлипывать стал. — Тут скотина разбегается из гурта, заворачивать надо, а его самого никак не поворотишь и не разгонишь! И кнут при себе держать надо, и нагайку из рук не выпускай. А он, черт, прикусит удила да идет куда хочет…
— Вот дак мужик ты, Колька, — укоризненно покачал головой Кирилл Платонович, присаживаясь на лавочку и доставая кисет, — ленивый конь до слез его довел. Стыд! Ну попросил бы у отца другого.
— Попроси у его, попробуй, у скупердяя эдакого!
Затеял этот разговор Колька вроде бы шутя, из баловства, но чем больше произносил жалобных слов, тем больше чувствовал, что сейчас разревется.
— Да уймись ты, дурачок. Нашел об чем слезы лить! — Кирилл выпустил парню в лицо всю первую затяжку ядовитого дыма. — Хорошие люди сказывают: была бы оброть, а коня добудем. А у нас не то что оброть, узда и седло есть, да в придачу коняга вон какой. Хоть картину с его пиши!
— Не хорошие люди это говорят, а воры, — разошелся Колька. — Лучше уж с Цыганом маяться, чем на ворованном ездить.
— Эх, Колька, Колька, — недобро засмеялся Кирилл Платонович, — не быть тебе по отцу, богатому: всю жизню, знать, кругом свого носа плутать станешь. Да иной вор в сто раз лучше твого хорошего человека… Ну ладноть, будет у тебя конь! Такого ли аргамака выменяем — нагайку забросишь, а ежели руки болеть не перестанут, дак от того только, что удерживать его не легше, чем понужать твого Цыгана. Ну, прискачешь утром-то, что ль, ко мне?
— Ладно уж, прискачу, коль так, — великодушно согласился Колька.
— Да отцу пока ничего не сказывай. Сам посля все объясню ему.
…Ночью Кольке не спалось. И не то чтобы во сне, а прямо перед открытыми глазами рисовался ему рослый темно-гнедой аргамак — узкогрудый, поджарый, с копытами стаканчиком и почему-то белыми. Настоящий верховой скакун стоял перед Колькой, покорно склонив к нему голову, словно приглашая прокатиться. На умной благородной морде извивались тонкие жилки, они то вздувались чуть-чуть, то опадали в такт ударам горячего сердца коня. Ну, прямо хоть протяни руку да потрогай красавца!
Утром Кирилл Платонович еще не вышел во двор коня запрягать, а Колька уж возле ворот вертелся. Еле дождался, пока тот выехал.
— Ты чего эт, Миколка, ровно грош новый сверкаешь, — заметил Кирилл, подстегнув коня и поворачивая его на городскую дорогу. — Аль девку подглядел какую вчерась вечером?
— К чему мне девки, — прокричал Колька, нахлестывая Цыгана и стараясь держаться в ряд с ходком Кирилла. — Аргамак, посуленный во сне, и наяву видится.
Так вот глядишь — подрастет человек, подвытянется, вроде бы вот-вот в настоящего мужика превращаться станет, а на деле, выходит, ребенком еще остается, только что не конфетку ему посулили — коня. Понял это Кирилл Платонович и ничего не сказал больше. Едва поспевал за ним Колька, устал подгонять своего ленивца.
По городу ехали трусцой, не торопясь. И кони притомились, и ездоки тоже. А недалеко от выезда из последней улицы остановился Кирилл Платонович, подозвал к себе Кольку и, покопавшись в карманах, велел:
— Слезь-ка с коня-то да промнись малость. Добежи до винной лавки… Вон двери растворены, видишь?..
— Вижу, — сказал Колька, привязывая к длинному коробку своего коня.
— Купи две сороковки водки. — И подал деньги.
Колька в точности повеление это исполнил, а вернувшись, выслушал новый наказ:
— С дороги на Андреевку, чать-то, не собьешься?.. Негде тут сбиться — одна дорога… Я сичас малость покруче поеду, а ты свого Цыгана не шевели — как хочет, так пущай и идет. У речки остановись, искупайся с конем — хорошенько его покупай — а посля поезжай. — Кирилл Платонович так и держал в руках принесенные Колькой бутылки. Потом одну спрятал в коробок под сено, а другую подал уже сидевшему в седле Кольке. — Верст за восемь до Андреевки выпоишь ее Цыгану. Сумеешь?
— Сумею.
— Смотри не разбей сороковку-то да стеклом губы коню либо язык не порежь. И приезжай прямо на постоялый двор. — Он хлестнул своего коня, и ходок глухо затарахтел колесами по пыльной дороге.
Оставшись один, Колька понял весь лукавый замысел Кирилла Платоновича. Не раз подбадривал он продаваемых коней этаким способом и получал барыши заметные. Пока перегоняют коней до заказчика, верст двести, а то и того больше пройдут они в гурте, Кирилл приглядится к каждой лошади, оценит и уж не промахнется на торге. Кольке такого рода торговля забавной казалась и почти честной. Не воровство! Тем более что постоянно слышал вокруг: не обманешь — не продашь. Сам он не пошел бы на такое дело, однако подогреваемый жгучим желанием завладеть аргамаком, внутренне смирился с безвыходными обстоятельствами.
У речки расседлал Колька Цыгана и сам разделся, потому как нажарился за день под вешним солнышком и расслаб весь. А как въехал в воду — обожгла она голые ноги — холодно. Не лето все-таки. Цыгана тоже пожалел — как бы судорогой не свело ему ноги — не пустил вплавь, а поездил вдоль берега, так чтобы спину коню только не заливало, и минут через пять поворотил к берегу.
— Ну, вот и покупа-ались, — выговаривал Колька, торопливо натягивая штаны и стуча зубами. — Теперь бы в самый раз проскакать верст пять галопом, погреться бы, да нельзя.
Не следует этого делать до времени. Дорогу тут Колька знал хорошо, и как осталось до Андреевки поменьше десятка верст, свернул в колок. То, что взрослому сделать можно, не съезжая с дороги, просто, подростку обмозговать сперва приходится, потому как не дотянуться ему до поднятой конской головы, когда водку выливать станет. Вот для этого приглядел в колке березку, подвязал повыше коня и, достав из кармана сороковку, открыл ее, сунул коню в рот. Побольше полбутылки хорошо вылилось, а потом завертелся Цыган, зафыркал.
— Гляди ты, — удивился Колька, — лошадь и то моргует этим добром. А мужики трескают да нахвалиться не могут.
Поднявшись на невысокий пень и закрутив коню нижнюю губу, выплеснул остатки. Однако, не успев бросить бутылку, заметил, что в ней осталось еще с глоток. Поглядел, поглядел Колька на этот остаток, понюхал да вылил себе в рот. Потом плевался, пока не прошла отвратительная горечь во рту.
А с конем прямо на глазах начали вершиться чудеса. Безо всякой плетки скоро пошел он такой напористой рысью, что пришлось его даже сдерживать. Шею колесом гнет и глазом лилово-синим на седока дико озирается. А чуть натянет Колька поводья, Цыган свою пасть оскалит, ногами вытанцовывает и хвостом начинает бить по бокам. Сроду не бывал он таким.
— Вот и мужики, наверно, так же, — вслух рассуждал Колька, — плеснут в глотку-то, после и кобенятся. И кажется такому, что лучше его и на свете не бывает…
Незаметно промелькнули последние версты. В село въехал. А тут у ворот крайней избы на лавочке трое мужиков сидят. Навеселе, кажись, мужики. Всадника издали заметили, да не до него им — конь под ним огневой. Всех троих так и приподняло с лавочки-то.
— Эй, парнишка, постой! — кричал долговязый мужик, торопясь выбежать на дорогу и махая рукой. — Погоди! Продай коня!
— Да не мой это конь, — отвечал Колька, придерживая Цыгана и незаметно подбадривая его пяткой сапога, — тут гдей-то хозяин его. На постоялом дворе, знать-то. Идите к ему да спросите. Может, продаст.
— Да ты поглядеть дай! Остановись! — кричали вслед мужики, какое-то время бежали еще по пыльной дороге, потом отстали. Недалеко тут до постоялого двора-то, рукой подать.
А Кирилл Платонович, видать, поджидал Кольку, с ухмылкой выслушал его сбивчивый рассказ о мужиках, просивших продать коня, велел расседлать Цыгана, седло убрать.
Только успел Колька подпруги расстегнуть — вот он, долговязый мужик, в воротах.
— Ты коню этому хозяин? — обратился он к Кириллу Платоновичу, вытирая пот со лба рукавом.
— Я хозяин, — недовольно ответил Кирилл. — А тебе небось купить его приспичило?
— А ты почем знаешь? — удивился мужик, однако не утерпел, подступился к коню. Ощупывать его стал, оглаживать. В зубы заглянул.
А Кирилл между тем поглядывал на мужика и будто нехотя выговаривал:
— Чего уж тут знать-то… Надоели такие покупатели за дорогу, и коню не рад. Сам в Миассе купил, да всю дорогу отбою нет: продай да продай. А как цену скажешь, так и отваливают. И ты небось такой же покупатель.
— Чего ж ты, сто сот за него платил, что ль?
— Не сто сот, а сколь платил, за столь и отдать могу. Не охотник я до лошадей, да ведь кто же станет в убыток себе торговать?
— Ну, не мозоль душу, — азартно сверкал глазами мужик и, выдернув у Кирилла повод, провел по двору коня. — Сказывай толком, и — по рукам! Не люблю, кто замахнется, да не вдарит.
— Ну, вот и бей, коль замахнулся, — подхватил Кирилл Платонович, видя, что мужик совсем ошалел от желания владеть этаким конем. — Клади мне в полу семь червонцев, а я тебе из полы в полу повод переложу. На том и торгу конец.
Мужик будто присел от этих слов и заметно подрастерялся. Слова на языке у него застряли. Сказать ничего не может. А Кирилл, желая «добить» его окончательно, обратился к Кольке:
—Давай, Миколка, запрягать станем. Ехать-то вон сколь далеко еще… И этот, видать, такой же, как все прежние, горячий покупатель нашелся.
— Да ты што говоришь! — обиделся мужик. — Сичас я деньги принесу. Ну! А ты не обманешь? Не уедешь со двора-то, поколь я бегаю?
— Вот пока запрягаем да складываемся — бежи. А то, может, ты до вечера бегать будешь, либо совсем не прибежишь.
— Не уезжай, погоди! — крикнул на ходу мужик и исчез за воротами.
Не торопясь, Кирилл Платонович стал собираться в дорогу. А у Кольки уши горели, будто драли их только что, и глаз на Кирилла поднять он не мог. К тому же еще боялся, вернется мужик с деньгами, а у Цыгана запал пьяный пройдет, и весь обман вылезет наружу. Стыда не оберешься.
Однако все обошлось наилучшим образом, потому как вернулся мужик скорехонько. И, получив коня, вскочил на него и умчался куда-то влево за ворота. А Кириллу Платоновичу с Колькой надо было ехать как раз в другую сторону — направо.
7
Отлежалась Катюха и на этот раз. И здоровье вроде бы выправилось, и лицом похорошела, как прежде. Только бровь правая, надломившись в горе, так и застыла навечно, едва заметно надломленной. А во взгляде, в глубине ее карих, когда-то озорных глаз поселилась и прижилась тоска неизбывная — так вот орлица из клетки на волю глядит.
Ребеночка не дождаться ей пока: прикончили его свекор со свекровушкой, еще не родившегося. И будет ли он когда-нибудь вновь — неведомо.
В доме у Палкиных какая-то настороженность висела постоянно. Ни шутки не услышишь, ни речи веселой. Возле Степаниды Катька не знает, ни как ступить, ни как повернуться. То щелкнет ни за что ни про что, то шлепнет, то словом ядовитым прибьет, хуже шлепка. Кузька совсем чужим сделался. И тоже все чаще на кулаках объясняться стал. Пробовала Катька тем же отвечать, да только хуже себе сделала: свекровушка за сына горой встала. Некому защитить Катьку, даже самой обороняться запрещено. Одно остается — терпеть, да не всякому по силам терпеть-то.
В вербное воскресенье, вернувшись из церкви, отобедали Палкины, прибрались по хозяйству и всей семьей, захватив с собою ребятишек, отправились к сватам в гости, к Лизкиным родителям. Катька отказалась идти с ними — не до веселья ей. И Степанида не стала неволить ее, поскольку и без того семья опозорена младшей снохой.
Бабушка Мавра, отстояв в церкви не один час, отлеживалась в своем углу на кровати, гудели от усталости старые кости. А Катька, присев под окошко к столу обеденному и облокотись на подоконник, долго глядела на станичную улицу. Редко кто проедет по ней, то нарядные станичники, покачиваясь, пройдут, то молодые казачки, взявшись под руки, проплывут с песней…
Волчицей затравленной глядела на мир Катюха, и беспросветная тоска давила ее, не позволяя даже наедине с собою вздохнуть свободно. А мысли одна чернее другой проползали ненастными тенями, серостью застилая глаза, делали праздничную и солнечную улицу тусклой, невзрачной и тоскливой.
— Опять в слезах ты, родимая…
Катька вздрогнула от неожиданности. Она не слышала, как подошла бабушка Мавра, ладонями обтерла мокрые щеки и повернулась от окна к столу. А Мавра присела напротив на табуретку, позевывая, перекрестила рот, сложила на столешнице морщинистые подрагивающие руки и, не дождавшись от Катьки ни единого слова в ответ, спросила:
— Не люб тебе Кузька-то, знать? — и, опять не дождавшись ответных слов, добавила: — Спервоначалу вижу — не люб. — И поджала сморщенные, как устье у кисета, губы. А в добрых выцветших глазах не попрек, не укор, а жалость увидела Катька, и оттого еще горячее обожгли ее слезы, плеснувшись по щекам.
— Не то что Кузька, свет-то белый не мил мне, бабунюшка!
Мавра помянула длинные концы темного платка, затягивая их потуже у подбородка, одернула праздничную кофту и, снова положив руки на стол, тяжко вздохнула. Хотелось ей поговорить с Катькой, утешить несчастную, а с чего начать и как это сделать — не ведала.
— Знаю, донюшка, все знаю, все вижу, да делать-то чего же нам? Чем тебе пособить? — начала бабка издали. — Ведь и мне дед-то мой Иванушка-батюшка, царство ему небесное, — перекрестилась Мавра, — тоже спервоначалу ой как не люб да тошен был. И не мене твого я слезушек повылила, да плакать-то не давали, ругались за это, корили… Уйду я в овин да зальюсь горючими — дело-то зимой было, — весь платок от слез промокнет, а потом замерзнет начисто, ломается…
А ведь ничего, Катенька, обошлось. Право слово, бог миловал. Сжились да слюбились, да поболе сорока годков и прожили, поколь сыра-земля не приняла его. И матушка моя так же вот уливалась, и с баушкой это же было. Да хуже того: со старым барином первую-то ночь полагалось невесте ночевать, а уж посля того жениху отдавали, право слово, родимая. Ох и все мы столь несчастны, бабоньки, да как же быть-то, голубушка? Никто наших желаний не спрашивает, никто нашей любви знать не хочет — на том свет стоит, милая. За грехи наши, знать, богом это указано, царем устроено, никому до нас дела нет.
— Как же нет-то, бабуня? Если б не было дела, никто бы меня не тронул, и теперь бы тычков не получала. Нет, бабунюшка, всем до нас дело есть.
— Есть, матушка, есть, да какое только дело-то? Подумай-ка! Ведь у нас, у казаков, как ведется: сынка бог даст — двадцать пять десятинов как с небушка свалится. Четыре сынка — сто десятинов… А девок хоть десять штук народись, ни аршина землицы не пожалует царь-батюшка. На могилку вот пока три аршина не отказывают и нам, бабам… Опять же и то сказать: женится сынок — работница в доме прибудет. А девку сразу в чужие люди готовь да приданое справь ей, а то и с рук не сбудешь. Вот расчет-то все и заставляет эдак делать… И рад бы, сказывают, в рай-то, да грехи не пущают… Куды ж деваться-то, пташечка ты моя? Не в петлю же головой, не в речку…
Хотела, эх как хотела Мавра подбодрить Катюху, облегчить ее душу своим наставлением, а вышло как будто наоборот: совсем в безвыходный, беспросветный тупик молодуха попала, так что ни надежд, ни ожиданий светлых не осталось — словно в колодец ухнула. Заметила это бабка и обеспокоилась. Говорить-то уж ничего не стала. Шустро этак, по-молодому с табуретки поднялась, принесла из печи пирог рыбный, маслица постного поставила. А Катька молчала, молчала, глядя на бабкины хлопоты, да и выговорила:
— Уж лучше, знать, в петлю либо в речку, где поглубже… Не тяготилась бы ты с пирогом-то, бабунюшка. Глядеть на все тошно.
— Опомнись, глупая! — оторопела Мавра, беря со сковородки кусок пирога. И тут же отмякла враз. — А ты поешь, касатушка, поешь. Поешь да не поддавайся лукавому. Ему, сказывают, лишь намекни да подумай про это — он уж сомустит непременно. Он тебе и петельку своими сатанинскими руками изладит, и головушку твою туда всунет…
— Кто всунет-то? — спросила Катька, через силу кусая пирог.
— Да нечистый, кто же больше! Ведь про такое думать — только его, идола, тешить… Нет уж, донюшка, забудь ты про это да живи, как все живут… А ну, как твоя бы мать такое вот сделала, да другая баба, да третья, да десятая — эдак и люди на свете перевелись бы. Не гневи господа, Христово ты семечко, не надо не думай так.
— Думай не думай, все равно бьют, — пуще прежнего залилась Катька. — Ведь уж я и кулаком бита, и пинком бита, и об печь бита, только печью не бита. Живого места нету на мне.
— Не битый — серебряный, а битый-то — золотой, сказывают, — возразила Мавра. — На то мы, знать, бабы да лошади богом и созданы. Нашей сестре не поддавать, так и добра не видать. Волос нам бог удлинил, да ум-то укоротил. Вот за слабоумие бабам и достается.
— Мужики тоже, кабы не стригли, не короче бы наших волосы носили, — возразила Катька. — Вон у отца Василия какая гривища. Да небось про его никто не скажет, что ум у его короток.
— Ишь ты, куда хватила, паршивая! — осерчала Мавра. — Еще с отцом Василием сравняться вздумала! Да ведь он пастырь наш, а мы — его паства. Ты, девка, с богом да с его проповедниками не шути: за это тебе прощенья не будет…
— Не надоть мне никакого прощения! — Катька рывком поднялась и вышла из-за стола. Припухлые от слез, только что пылавшие огнем щеки враз высохли, побелели слегка. На ходу накинула на голову старенькую черную шаленку и, отворяя дверь, с порога бросила: — Прости уж ты, бабунюшка… Прощай!
У бабки на какой-то момент отнялись ноги. Так и застыла, осталась в памяти бледность, решимость Катькина. Пока опомнилась Мавра, поднялась, придерживая перед юбки, вышла в сени, во двор выглянула — нету Катюхи. Потоптавшись на крыльце и подумав малость, отправилась бабка под навес, в коровнике все оглядела, в конюшне проверила, на всякий случай в колодец глянула, за ворота вышла.
Свечерело уж. Солнышко за дальними домами спряталось. Прохладно стало, свежо по-весеннему. Поблизости на улице никого нет, а издалека откуда-то песни пьяные доносятся.
— Порешит она себя, глупая, — шептала бабка. — Ей теперь только и ходу, что из ворот да в воду.
Ноги у Мавры дрожали и подкашивались, да и всю ее знобить начало. Не знает она, что делать, куда броситься… Далеко в улице табун показался, коровушек встречать надо. Заторопилась в калитку, воротный засов отодвинула, а удержать-то в немощных руках не смогла. Упал засов и ногу бабке больно ушиб. Да хорошо, на тот случай работник во дворе оказался. Унес он Мавру в избу и коров из табуна встретил. А вскоре Степанида со снохами из гостей вернулась.
— Катька-то где? — спросила Степанида, еще не видя Мавры. — Коров доить, что ль, ушла?
— Ушла, — застонала в ответ бабка из своего угла, — ушла, да знать-то, руки на себя наложила…
— Чего? — вскинула брови Степанида, по-пожарному скоро выскакивая из праздничной юбки и продолжая двигаться в бабкин угол. — Чего ты сказала-то, маманя?
— То и сказала, чего слышала: руки, знать, Катька на себя наложила. Извелась она тута, изревелась. Посля простилась да и скрылась. А я вот за ей вышла да еще ногу себе повредила.
— Ах ты, сучка, не живется ей по-людски. Вся, как отец, сполошная, — сдерживая зло, говорила Степанида. — От ей чего хошь сбудется… Фроська! — крикнула она в кухню. — Добежи-ка до сватовых, покличь Лавруху с Кузькой. Отцу-то поколь не сказывай да не шуми лишку.
Фроська, успевшая уже переодеться, опрометью шарахнулась в дверь.
— Забили вы ее, ненавистники, — продолжала бабка. — Ведь по дважды и бог за одну вину не карает, а вы без тычка да зуботычины дня божьего не пропустите. Вот и довели до греха.
— Да будя тебе, маманя, — обиделась Степанида. — То ли всех нас не били? Бабу не бить, дак и любимым не быть…
Вернулась Фроська, налетела в дверях на Лизку — чуть подойник у нее не вышибла из рук — и с порога объявила:
— Убегли мужики.
— Куды убегли-то? — спросила Степанида. — Домой бы зайти им да посоветовать.
— Кузька на речку побег омуточки оглядеть, а Лавруха — на могилки.
— Да чего ж ей на могилках-то делать? Туда и посля отнесут, коль надоть, — рассудила Степанида, — Пойдем, Фроська, скорейши. И без того ноне припозднились: пока до последних коровушек дойдем, а с первыми уж утреннюю дойку начинать надоть. Так ночь-то и пройдет…
Захар Иванович, подпив у свата изрядно, не видел, когда бабы домой ушли, и как сыновья исчезли, не заметил.
— И где ж эт семья-то твоя, — первым хватился сват, — куды все подевались?
— Бабы коров доить ушли, — выручила более осведомленная сватья, — а за ребятами Фроська чегой-то прибегала… Уж не случилось ли чего: встрепанная какая-то была она, будто чем напужанная.
— Х-хе, — пьяно осклабился сват, — да она у их завсегда встрепанная и завсегда будто напужанная… Давай, Иваныч, пропустим еще по одной да севрюжинкой закусим.
Однако Захара словно бы сквознячком весенним продернуло, и в голове заметно посветлело. Поднялся, почуяв неладное, простился со сватом, не обращая внимания на его уговоры, и вышел в холодную темноту улицы. Без лишних рассуждений, без домыслов как-то само собою выходило, что с младшей снохой опять чего-то стряслось, потому дома, не встретив никого, прошел в горничный угол к матери. Та все ему выложила по порядку и, пока досказывала, куда ребята разбежались — в сенях шаги послышались. Лавруха это вернулся с поиска.
— Ну? — спросил его отец, шагнув навстречу.
— Где шла, там след; где была, там нет, — пословицей складно ответил сын. — Все могилки облазил и кругом по колкам походил… Сперва-то не больно темно было — ничего такого не приметил.
— Мудрено-о, — ухватился за край широкой бороды Захар. — Кого ищут, у того одна дорога, а вот у тех, кто ищет, их сто, дорог-то. По какой итить, по какой ехать?
Набычившись, Захар Иванович, словно не видя перед собой, шагнул прямо на Лавруху, тот попятился в кухню. Там у порога остановились.
— Ведь ежели не сыщется она, — раздумчиво, с великой досадой в голосе продолжал свою мысль Захар, — утром докладать атаману итить… А там следователь наедет — отвечать всем-то надоест на спросы да допросы… Прошечка тоже небось окрысится, хоть и сам виноват — не уберег дочь, — а молчать не станет… — Вдруг Захар Иванович вроде наткнулся на что-то, ему одному видимое, умолк. А через минуту спокойно велел сыну: — Бежи-ка ты к речке да зови домой Кузьку — тот дурак еще не натворил бы чего на нашу голову. А я до хутора сгоняю: не к отцу ли черти ее унесли.
Догадка эта клином вломилась в мозги, отодвинула прочь все другие предположения, целиком завладев мыслями Захара Ивановича. Ему казалось, что он уже нашел Катьку, и оставалось только доставить ее домой. Пожалел даже, что в седле поехал, а не запряг выездного коня в ходок — сразу бы и привез беженку.
Первые версты проскакал он бешено, не всматриваясь в дорогу и не оглядываясь по сторонам, потом придерживать коня стал, натужно вперивался в темноту. Раза два даже останавливался верстах в трех от хутора, чтобы прислушаться. Ничего не расслышал. И в хуторе ни единой души не встретил, поскольку стояла глухая ночь. Собак только растревожил. Шагом проехал старую рословскую избу, где теперь Макар остался с семьей, плотину миновал и, не спеша подымаясь на взвоз, неожиданно засомневался: а ежели не было тут Катьки, не пришла она сюда?
Поднявшись с плотины, Захар Иванович натянул поводья, остановился, глядя в наглухо захлопнутые ставни Прошечкиного дома. Ни в единую щель не пробивается свет. Хозяева, стало быть, спят беззаботно. Так и этак прикинул по времени — выходило, что с полчаса или с час назад Катька должна была объявиться здесь. А за это время никак не могли утихнуть страсти, рожденные появлением ее в родительском доме. Значит, нету беглянки тут.
Постучаться в калитку, поднять с постели свата и рассказать о случившемся Захар Иванович не посмел: побаивался он его, особенно после случая с Кириллом Дурановым. Бросится Прошечка и чем попало отвозит за утерянную дочь. А тут, не дай бог, и без того следователю дел хватит. Может, потому и задержался Кузька у речки, что там какие-нибудь следы утопленницы нашел.
Круто поворотил Захар коня, врезал ему по боку плетью и шарахнулся в обратный путь, проклиная и тот день, когда засватывать Катьку приезжал, позарившись на богатое приданое (тогда гайки с колес кто-то свернул — тоже по сватовству примета дурная); и тех ребятишек, что кричали ему вслед о вымазанных воротах. Чьи это ребятишки, Захар не знал и теперь каялся, что вернулся тогда к Прошечке для разбирательства. Проехать бы мимо, словно не слышал ничего, — и только. Все равно в деревне такое не утаишь, а чем больше огрызаться станешь, тем больше тебе наговорят. А теперь, как все это обернется, неведомо.
8
Выскочив из ворот ненавистного, смертельно опостылевшего палкинского дома, Катюха, пожалуй, не знала, что она должна сделать, куда идти и как поступить с собою. Единственное непреодолимое желание, овладевшее всем ее существом, — уйти из этого дома, уйти безвозвратно, не видеть больше этих людей, не слышать их. Она понимала, что идти ей некуда, потому как домой дорога наглухо заперта. Не нужна там отданная замуж дочь, да и не примет отец нового позора на свою голову.
И все-таки совсем неожиданно для себя обнаружила, что идет по той улице, которая выведет ее на дорогу к родному хутору, к милому детству, к сказочной (как теперь ей казалось) поре девичества. Но, осознав это, она свернула направо, в проулок, надеясь прямее и ближе выйти за станицу к речке. Проулок вывел ее на главную улицу, оказавшуюся в этом конце безлюдной и тихой. Только издали, из растворенного окна крайнего дома светлым ручейком струилась песня. Слов не разобрать, но чистый одинокий женский голос рассказывал о чем-то таком, от чего у Катюхи, несмотря на черную бурю в ее душе, вдруг сладко и больно защемило сердце. Она даже прибавила шагу и, стараясь расслышать слова, оттянула шаль от правого уха.
…И чем ярче играла луна, И чем громче свистал соловей, Все бледней становилась она, Сердце билось больней и больней. Оттого-то на юной груди, На ланитах так утро горит. Не буди ж ты ее, не буди… На заре она сладко так спит!Окончание песни застало ее как раз против окна, откуда только что тягуче вылились колдовские слова, вырвавшие Катьку на какое-то время из глубокого черного колодца. Мельком взглянув в окно, она увидела широкий блестящий раструб, догадалась — граммофон. У Кестеров слышать доводилось. Тоже из окна.
Все существо ее оставалось в плену завороживших звуков, не желало расставаться с ними. Уже далеко за станицей, когда впереди едва показалась речка, снова Катьку начали душить слезы и одновременно откуда-то — вроде нашептал кто — родились неожиданные слова:
— Зелены́м лугом пройдуся, на сине́ небо нагляжуся, с алой зоренькой распрощуся…
И она действительно свернула с дороги на луговину. А сзади, где-то далеко за церковью, за станицей разлилась алая ведренная заря, будто свежей кровью окрашенная. Выше нее простиралась расплывчатая белесая полоса, еще выше — бледное небо постепенно переходило от нежно-голубого к темно-синему. А впереди Катьки небо было темно-серым, скучным. И единственным украшением на нем сверкала звездочка.
— Зелены́м лугом пройдуся, на сине́ небо нагляжуся, с алой зоренькой распрощуся…
Катька безостановочно твердила и твердила эти слова, со временем утратившие всякий смысл. Так перешла вброд неглубокую речку и повернула налево вдоль берега, высматривая омуток потемнее. Где-то в далеких глубинах сознания она уже не раз ужаснулась нелепости, заставлявшей ее навсегда расстаться вот с этим лугом, с речкой, с небом… Но, все еще настойчиво продолжая обманывать себя, дышала глубоко, словно торопилась надышаться на века, пристально вглядывалась в черные заводи и скорым шагом проходила их.
Так вскоре Катька оказалась опять же на дороге, ведущей в хутор Лебедевский. Тут призналась она себе откровенно, что не хватит у нее сил расстаться с жизнью, так вот разом оборвать все. Ведь ей не надоела жизнь, а до ужаса осатанел палкинский дом. И будь подходящий омуток где-нибудь поблизости от ворот этого дома — свершилось бы непоправимое. А здесь, в степи вольной, уже не давил ее безысходный гнет, не схватывал готовой удавкой.
Скоро вся степь укрылась черным звездным покрывалом. По сторонам виднелись едва различимые березовые колки. Не только крохотных листочков, даже отдельных берез не видать, но и сюда, на дорогу, напахивает неповторимый запах свежего, клейкого, только что развернувшегося березового листа.
Катька бесстрашно шагала по укатанной, еще не разъезженной и не очень пыльной дороге, то подымаясь на взгорки, то спускаясь в лога. Ни ночного холода, ни страха, ни робости не чувствовала она. Владело ею одно опустошающее безразличие. Однако, войдя в хутор, затрепетала вся. Здесь каждый скрип, каждый шорох, даже лай собаки из шлыковской подворотни показались ей до слез родными. А когда проходила мимо старой рословской избы, поворачивая на плотину, бросилась к тыну и, прижавшись к изогнутым между жердями толстым прутьям, как к самому близкому существу, залилась неутешными слезами, жалуясь Ваське на горькую свою судьбу.
Может, и дольше задержалась бы она тут, но, услышав далеко на дороге конский топот, бросилась к спуску, перебежала плотину. Догадалась она, сердцем учуяла погоню и, выбежав на взвоз, повернула к кузне Тихона Рослова — там затаилась. Темнота не помешала ей угадать свекра. Катька даже расслышала тяжкое дыхание загнанного коня, вдруг остановившегося, будто набежавшего на невидимую стену.
Не поняла Катька, что же удержало Захара Ивановича, и обрадовалась, как ускакал он обратно.
От пережитого ли страха, от новой ли неминучей грозы ноги у Катьки подсеклись, через великую силу добралась до калитки, стукнула ручкой. Во дворе залаяла собака. Еще постучала и успела отдышаться, пока услышала, как звякнул скинутый крючок у сеничной двери, потом — громкое, задиристое:
— Кто тама?
— Я, тятя.
— Кто-о?
— Я… Катька.
Прошечка в одном исподнем подскочил к воротам, оттолкнул засов и, распахнув калитку, набросился на дочь:
— Эт чего ж ты по ночам-то шастаешь, ераха! Дня, что ль, тебе мало, беспутная!
Катька нырнула мимо отца во двор и, пока он затворял калитку, предстала перед матерью. Полина — косматая, в широкой нижней рубахе, — взглянув на дочь, оторопела и в первый момент, держа в руке зажженную лампу, едва не выронила ее и ни спросить, ни сказать ничего не смогла. Будто кол ей всадили в самое горло.
Прошечка вошел вслед за дочерью осторожно, словно бы крадучись, и молча остановился сбоку от нее. Вот молчаливость эта и встревожила Катьку больше всего, потому как знала она, что ругаться он должен теперь, кричать и бесноваться, иначе вся лютость застрянет у него внутри, а потом вырвется наружу каким-нибудь самым несуразным способом.
— Вот она, зеркала-то, на свадьбе разбитая, — заголосила Полина, едва выговаривая сквозь слезы горькие слова. — Нету тебе там до-люшки!
В объятиях матери Катька дала полную волю слезам. А Прошечка потоптался в сторонке и, как только чуть поутихли бабы, спросил негромко:
— Ты чего пришла-то, черт-дура? Прогнали, что ль?
— Да сама я… сбежа-ала, — уткнувшись в грудь матери, ответила Катька, словно мочалку прожевала.
— Говорила я, — подхватила Полина, обращаясь к мужу, — говорила, погодить с непутевой этой свадьбой, не послушался. А сколь бед-то через ее вышло!
— Вали овес, как затрещит, отдавай девку, пока верещит! — отрезал Прошечка. В его побелевших глазах уже выплясывали дикие бесенята. Ногами он выделывал какие-то замысловатые движения, вроде бы вязкую глину месил. — Не твого ума дело, не тебе и встревать в его!..
— Да отчего ж ты сбежала-то, донюшка? — спросила Полина, отодвигая от себя Катьку и со страхом глядя на нее, поскольку никак не ожидала от дочери такого поступка. Выгнать ее могли, после того как сват узнал о вымазанных воротах. Но чтобы самой сбежать, это не укладывалось в сознании матери.
— Бьют, — ответила Катька. — Все бьют… Живого места нету на мне, мамушка…
— Уж по какой реке плыть, ту и воду пить, родимая. Терпеть надоть…
— Дурака и в алтаре бьют! — взвизгнул Прошечка, бросившись к сундуку, схватил с него шаровары и, торопливо влезая в них, застрелял беспощадными словами: — Сама напакостила, черт-дура, сама и терпи теперя… Да не жалься и родителев не позорь!
Оделся Прошечка в считанные минуты и выскочил вон. А Полина, упрекая беглянку, жалела ее, потому зазвала на кухню и посадила за стол, торопясь накормить с дороги. Катька, скинув башмаки, засунула их под лавку. Шаленку сдернула с плеч и забросила на полатцы. Есть она не хотела и не могла, но, чтобы не обидеть мать, не торопясь облупила вареное яйцо…
— Да как же быть-то теперя? — охала Полина, не находя себе места и топчась между столом и печью. То к шестку сунется, будто забыла там чего, то к залавку повернется, то к столу шагнет.
— Ну, чего ж теперя делать-то? Деваться-то куда же тебе, болячка ты непутевая?
— А Сереги дома нету, что ль?! — спросила Катька, чтобы перевести разговор.
— На сеновале гдей-то, с работниками спит, — скороговоркой ответила Полина, а сама опять за то же: — Ты думала хоть, как побегла-то, куда приткнуться, где жить, как быть да чего делать станешь? Ищут уж, наверно, тебя. Найдут — отца совестить зачнут… Ой, да где ж он?..
— Не думала, — повесила голову Катька, роняя слезы на блюдечко с васильковой каемкой.
Она еще хотела что-то сказать, да не успела… Шумно распахнулась дверь — с подскоком ворвался Прошечка, ухватил Катьку за длинную косу и поволок за собой. Не сразу сообразив, чего намеревается он делать, Полина выскочила на крылечко… Ворота настежь распахнуты, любимый хозяйский саврасый конь запряжен в ходок, а на место пристяжки Прошечка поставил Катьку и, крепко привязав конец косы за скрипучий ременный гуж, вскочил на козлы ходка.
— Постой! — не своим голосом закричала Полина. — Погоди, изверг, я хоть ботинки да шаленку ей вынесу! — и бросилась в избу.
— Бабу бей хоть молотом, станет золотом! Н-но-о! — И не по коню первый хлыст походил — по дочери.
Взвизгнула Катька, присела от неожиданности, а в это время дернуло ее за косу, и пришлось поспевать вровень с конем, побежавшим рысью. Слез у нее не было — захлестнула дикая ненависть против всех на свете. А ходок спускался уже на плотину, и Катька попыталась было отвязать одной рукой косу да броситься в пруд — не тут-то было! Снова конец хлыста ядовито щелкнул по ее спине, конь прибавил шагу — не развязать при такой скорости узла одной рукой — а держаться надо за гуж, чтобы не отставать от коня, чтобы не упасть. Какими счастливыми показались ей вечерние часы минувшего дня, когда свободно шагала она по берегу речки и любой приглянувшийся омуток мог уберечь от отцовской немыслимой казни.
Пока Полина отыскала на полатях шаленку, пока башмаки схватила да за ворота выскочила — ходок Прошечкин едва слышно в ночи тарахтел уже по ту сторону пруда и быстро удалялся, повернув на дорогу в Бродовскую. Постояла в растерянности, пока не размылись и не исчезли последние звуки, затворила ворота и вернулась в избу заливать свое горе слезами.
Прошечка не походил на себя, казалось. Против обыкновения, он даже не ругался, не кричал на Катьку, а лишь время от времени молча ударял ее хлыстом. И происходило так оттого, что внутри у него злость кипела адским огнем, а он изо всех сил сдерживал этот огонь, стараясь не выпустить его наружу. Заговори теперь Прошечка да распались по-настоящему — прикончит он дочь и не заметит, как выйдет этакое.
Катька — истерзанная, избитая, измученная, боясь подставить босую ногу под копыто коня и держась за оглоблю то одной, то обеими руками, — бежала молча, без криков и причитаний. Пот на лице у нее смешался со слезами, а на спине — с кровью; расхлестнутая кофта клочьями висла с лопаток.
Савраску бешеный хозяин то хлестал кнутом, то рвал на себя вожжи. От этого нервничал горячий конь, взмок весь, как искупанный, с разорванных удилами конских губ на Катьку слетала кровавая пена.
Как она выдержала такую дорогу — неведомо. Сознание мутилось, ноги подкашивались. Она не видела ни дороги, ни окрестностей, хотя ночь уже начала отступать перед рассветом. Опомнилась, когда перебегала вброд речку, когда окатили ее с головы до ног холодные брызги. Догадалась, что мукам этим скоро конец — станица уж вот она, а какие муки еще впереди и сколько их, никто того не знает.
Во двор к Палкиным Прошечка заезжать не стал. Остановил у ворот коня, отвязал Катьку, та свалилась замертво.
— Слетала ворона за море, да вороной и воротилась, черт-дура, — ворчал Прошечка, разворачивая коня. — Небось домой теперь не побежишь!
— Нет, не… побегу, тятя, домой, — громко хотела сказать Катька, да сама еле расслышала свой голос.
Из ворот вышел Захар Иванович. Не спали они всю ночь. Да и коров выгонять уж вот-вот пора.
— Здорово, сват, — сказал Захар Иванович, косясь на лежащую Катьку и свертывая цигарку. — Чего ж не заехал-то?
— Недосуг.
— Ну, спасибо, что привез… Из-за ее Кузька чуть не потонул возля мельницы… А я ведь утром-то хотел атаману заявить о розысках.
— К чему атаман, — ядовито ухмыльнулся Прошечка, — вот она, покорная, бери да пользовайся. А Кузька твой и в броду, чать-то, захлебнется… Ну, прощай, сват! — И он тронул вожжой Савраску, торопясь выбраться из станицы, пока не погнали табун.
Уезжая все дальше от ворот палкинского дома, Прошечка смирял свой гнев, утешаясь тем, что его дочь, получив свое, не посмеет противиться обычаям.
9
Летом бабам хоть вовсе спать не ложись — некогда, И хотя сегодня праздник — светлое воскресенье, никакой разницы нет. А еще больше хлопот добавляется, когда очередь приходит пастуха кормить. Кормится он все лето по дворам и у каждого хозяина задерживается столько, сколько его коров пасется в табуне. Так ведется в хуторе уж много лет. За каждые три коровы — день прокорма, кроме платы, конечно. Не по одному разу обойдет всех за лето пастух.
Настасья Рослова не успела после хлопот вечерних глаза смежить по-настоящему, а уж вставать пора. Одна она теперь хозяйка в доме. И помощниц нет: Галька маловата еще, шестой годок ей идет. Но пособляет на вечерней дойке: то водички, вымя подмыть, поднесет, то пустой подойник подаст, а то и доить берется. Утром-то жалеет ее мать — не будит рано.
А с Мишки и вовсе — какой спрос! Ладно хоть на двор просится да нос когда себе подотрет. И еще девчонка народилась, Онька, так та едва своими ногами переступает. А Гришутка, старшенький, уж забываться стал. И пожар, наверное, забылся бы, если б не хромота Тихонова да не седина в волосах.
С коровами хозяйка одна управилась, печь затопила да блины ради праздничка затеяла. А тут и пастух подошел.
Много лет подряд хуторской табун пас дед Куличок. Откуда взялось это прозвище и когда оно к нему прилепилось, никто не знал. Да никого и не касалось это. Бабку его заглазно Пигаской все величали, а его Куличком. А в глаза называли дедушкой и бабушкой — тем и обходились. Делал свое пастушье дело Куличок исправно, хотя и чудаковатым казался, вроде бы умом чуточку тронут. Однако это вовсе не мешало относиться к нему с великим уважением за труд его. Наступал сезон, и — ни бури, ни дождь, ни град — ничто не останавливало этого деда. Праздников и болезней у него тоже не было.
— Здраствуешь, Федоровна, — негромко возвестил с порога Куличок и, не проходя дальше, стал складывать на лавку свою амуницию. Суму холщовую положил, палку поставил и аккуратненько поверх сумы водрузил извечный свой треух с подвязанными кверху ушами. Был он, треух этот, по всей видимости, заячьим, но шерсти на нем почти не осталось, и определить это в точности никто бы не смог. Так что и зимой в нем не было холодно, и летом не жарко.
— Ну, вота, — прошел дед к столу и заглянул в куть к Настасье, — у ваших суседов отъел я, теперя к вам отъедать пришел.
— Садись, дедушка, садись, — отозвалась хозяйка. — Сичас я на стол собирать стану.
Куличок оглядел свои лапти, назад обернулся — не натоптал ли на чистом полу — и как бы с опаской присел к уголку стола. Короткую, опоясанную веревочкой поддевку не снимал он ни при каких обстоятельствах.
— У-у, да ты, знать-то, блинками накормить хошь деда!
— Воскресенье ведь светлое ноничка — всем праздник…
— Ну-к что ж, блин не клин — брюхо не расколет, — простовато улыбнулся дед Куличок, оглаживая руками редкие седые волосы на голове и принимаясь за горячий блин. — А вона у Чулка небось и в будни и в праздники — щи пустые да лапшичка постная. Я ведь у их по цельной неделе отъедаю: блинка либо́ мяска, хоть постного, сроду не подадут.
Макая в растопленное масло и опасаясь капнуть на стол, дед подставлял горсткой левую руку, а масленую ладонь потом обтирал о седую бороду, усы поглаживал.
— У их ведь, у Чулковых-та, никто даром ногой не ступит. Уж больно корыстны все.
Настасью слова дедовы будто кнутом подхлестнули: упаси бог, недовольно о ней старик отзовется — и пойдет слава по хутору. Потому старалась она ни в чем не обидеть деда.
— Корысть-то, корысть, — возразила хозяйка, — да ведь и совесть у людей должна быть.
— Совесть у их, Федоровна, в рукавичках ходит: не пронять ее.
В горнице застукал деревянной ногой Тихон. Кряхтя и разминаясь ото сна, он остановился у двери, почесывая поясницу. Поздоровался с дедом.
— Здраствуешь, Тиша! — весело ответствовал Куличок, потянувшись за блином. — Чегой-та ты чуть свет подхватилси для праздника? Ай в церкву ехать наладился?
— Не в церкву — на Прийск съездить надоть…
— Будя, Федоровна, будя! — взмолился Куличок, увидев, что Настасья еще блинов ему добавила. — Мне и тех не осилить, что остались… Тишу вон покорми на дорогу.
— Всех накормлю, голодом не оставлю, — усмехнулась Настасья, сбегала к двери за дедовой пастушьей сумой и принялась укладывать в нее обед пастуху.
Тихон проковылял к порогу и вышел во двор. А Куличок, бодро, по-солдатски, поднявшись из-за стола, в последний раз вытер масленые руки о непослушные волосы, для верности ладонями на груди по поддевке потер и, перекрестившись на иконы и направляясь к выходу, молвил:
— Спасибочко тебе, Настасьюшка, с поклоном. Удоволила ты меня по-праздничному. Теперя, знать, до вечера брюхо обухом не прошибешь.
— Дедушка! Дедушка! — заторопилась Настасья вслед. — Суму-то свою возьми с обедом да скажи, чего тебе к ужину приготовить.
Дед остановился, принимая суму, задумался.
— А свари мне, милая… м-м-м… Свари мне энтих… ну, тех-то… как их, господи… — Дед никак не мог вспомнить нужного слова и сучил пальцами, будто пряжу скал для основы, морщился, копаясь в непослушной памяти, крючился от натуги. Однако нашел-таки выход: — А ты свари мне, милая, м-мокреньких…
— Эт каких таких «мокреньких»? — вскинула брови Настасья.
— Да ну, ентих… мокреньких… Зимой их посля поста все варють…
— Пельмени, что ль? — засмеявшись, просияла Настасья.
— Вот-вот, их и свари, коль можно… Совсем память зашибать стало: я уж и звать-то себя не помню как.
Немудрено, что имя свое забыл человек, потому как много лет поголовно все, включая и бабку Пигаску, звали его только дедушкой и больше никак. Знал он, что за глаза Куличком кличут, не обижался. А от имени своего отвык совсем.
Дед покряхтел тяжко, суму через плечо перекинул, нахлобучил треух и, взяв палку, складно добавил:
— Так вот и хожу по суседам за своим обедом.
С тяжелым сердцем Тихон собирался на Прийск. Будто обокрал его кто-то… Своими руками предстояло подарить найденный клад прийсковским толстосумам.
Поздно догадался кузнец, что тайна об открытом угле оставалась тайной всего несколько часов, то есть до тех пор, пока не рассказал о своей находке Смирнову. Хорошо посоветовал Иван Васильевич, да сам же, видать, и разблагостил по станице, потому как из Бродовской слухи понеслись.
Пришлось народ собирать да всем миром думать. Вот мир и постановил, а старики приговорили: ехать на Прийск, рассказать обо всем, а там — что будет, то и будет. Одна оставалась надежда — может, золотопромышленники не захотят связываться с углем. Авось все по-старому и останется. Молчать о таком деле тоже не годится — это понимали все. Ведь слух-то все равно расползется, теперь уж не удержать его — налетит разное воронье на клад этот, богом данный, драчку еще затеют — пропали тогда хуторские мужики. Как в жерновах перемелют их хищники. А ежели большой промышленник за дело возьмется либо компания — тут уж мелочь не подступится…
Много шуму вокруг этого было — кому отдать? — а урезонил всех кум Гаврюха:
— Ах, лети мать, мужики! Ну и пустоголовые ж вы. Ведь мы как живем-то — кто кого сможет, тот того и гложет… А тощий-то все ж таки пошибчей гложет, чем сытый.
— Неправда твоя, Гаврюха! — возразил ему кто-то. — Собака завсегда хватает, а сыта не бывает!
— Однажди, годов с двадцать тому, сибирского мужика я встрел, дык он вот чего сказывал, — не замечая выкриков, продолжал кум Гаврюха, — прикащик у купца одного в отдаленной деревне год просидел в лавке и дом себе поставил. Не платил ему такого жалованья хозяин, чтобы дом возвесть за год. Тут и дурак смикитит — воровал, стал быть. Прогнал его купец и другого прикащика поставил. Через год и у этого — дом. Опять, стал быть, прогнал и посадил третьего. Честного разыскал, смиреного. А и году не прошло, как третий дом к двум в рядок пристроился…
— Будя тебе сказки-то сказывать, Гаврюха, — перебил его Демид Бондарь. — Дело обрешить надоть да спать итить. Сколь же их строить, домов-то, цельную улицу, что ль?
— А нисколь, — отрезал кум Гаврюха. — Осерчал купец, озверел да прикащика того в тайгу отвез. Там раздел догола и связанного на съедение комарью бросил на ночь… Утром приехал глянуть, а на прикащике, ровно шуба из комарья. Один к одному впились в шкуру, пузатые — кровищей надулись. Сжалилси купец, отломил ветку, кровопивцев сгонять стал. А прикащик чуть слышно голос подает: «Не надоть, не сгоняй, хозяин», — говорит. «Отчего ж так?» — не возьмет в голову купец. «Да оттого, — отвечает прикащик, — что сытые эти комари, не пьють уж они кровь-то. А ентих сгонишь — голодные кинутся, опять пить стануть». Не прогнал того прикащика купец, снова на место посадил…
Мужикам Гаврюхина байка тоже сказала многое.
10
Накануне светлого воскресенья Кирилл Дуранов вместе со своим помощником Колькой Кестером оказались в Миассе. И табун пригнали они большой, и скот в дороге не заморили, и сделки со скупщиками вышли у него наивыгоднейшие — все вроде бы складывалось как нельзя лучше, а радости не было. Да больше того, как выехали из Миасса — к празднику домой хотелось поспеть, — навалилась на него тоска несусветная, хоть волком вой!
Думы в голове самые отчаянные метались. Вся эта торгашеская суетня — с обманами, с мошенничеством, с кочевой неприютностью — хоть и смахивала на прежнюю, воровскую жизнь, но во многом и не походила на нее. Ни азарта, ни бешеной напряженности, ни опасности — ничего такого здесь не было. Оттого и тоска заедала. Будто сосуна от матки отсадили. Зло брало на мужиков, избивших его до полусмерти, на Прошечку, а больше всего — на Смирнова. Досада разрывала, что невозможно вернуться теперь к прежнему, разгульному житью: боль в середке часто напоминает об этом. Да и мужики осмелели — спуску не дадут…
А в Кольке так и звенело торжество. Сиял он весь, как начищенный гривенник. Под ним картинно выплясывал настоящий аргамак! Правда, чуточку не такой, как ночью перед поездкой привиделся — ростом не столь высок, и копыта не белые, и жилки на морде не так проглядываются, — но именно темно-гнедой, узкогрудый, поджарый, горячий. И копыта — стаканчиком. Рты разинут хуторские ребятишки, как увидят Кольку на таком скакуне!
Дорога не близкая. Не одну сотню верст из Тургайской степи до Миасса проскакал в седле Колька. Да теперь до дому больше сотни наберется. Вышло так, что в субботу перед вечером оказались они в сорока верстах от своего хутора. Ночевать бы остановиться после долгой дороги, но Кирилл Платонович решенья своего не меняет: назначено утром в Светлое дома быть — будет. Потому покормили они коней, часика три передохнули и — снова в путь.
Когда перевалило за полночь и до хутора оставалось побольше часа езды — скис Колька. Того и гляди, из седла вывалится, как мешок, мякиной набитый. Пожалел его дядя Кирилл, к себе в ходок позвал.
Колька, на ходу соскочив с коня, привязал его поводом за коробок и, вытянувшись рядом с Кириллом на сене, готов был уснуть сию же минуту.
— Ну-к что же, наездник, глянется тебе аргамак-то? — спросил уж не в первый раз Кирилл Платонович, щеря в улыбке белые зубы и ковыряя в них сухой травинкой.
— Шибко глянется, — негромко отозвался Колька, уткнувшись в сложенные ладони.
— Не хуже твого Цыгана?
— Еще бы! Я уж позабыл, куда и нагайку-то спрятал… Без нужды она теперь.
— Вот-вот, — захихикал Кирилл Платонович. — А помнишь, как сказывал ты, что на ворованного коня не сядешь?
— Дак ведь он что, ворованный, что ль, аргамак-то? За Цыгана небось семьдесят рубликов дали…
— Эх ты, голова — два уха! — еще ядовитее захихикал Кирилл Платонович. — Да кто ж бы дал за его хоть сорок рублей, ежели б ты ему сороковку не выпоил?! Обманом деньги-то взяты. Без обману не проживешь — горб сломишь, да в нищих останешься.
Колька, прижатый столь очевидными доводами, молчал. Ему и конь уж не казался таким красивым, и радость померкла. А тут еще дядя Кирилл добавил:
— А коль хошь, дык я и деньги тебе эти отдам — возьми аргамака даром. Не обеднею от этого.
— К чему они мне!
— К тому, что, гляжу я, выбиться ты норовишь в хорошие люди… А найди-ка такого хорошего человека, чтоб скакуна тебе дал али хоть клячу какую… Найдешь?
Колька не рад был, что в ходок пересел. Уж лучше бы в седле промаялся. Недалеко осталось до дому-то. Хоть бросить ему коня этого вместе с седлом, из ходка выскочить, да и пусть едет. А Кирилл Платонович не унимался:
— Ты что ж, думаешь, отец твой по правде живет?
«Провалились бы вы вместе с отцом!» — озлобившись, подумал Колька. Вслух ничего не сказал. А тут впереди человек пеший показался, Кирилл тоже примолк.
— Х-хо! Здоро́во, Виктор Иванович! — догнав пешехода, придержал вожжи Кирилл Платонович. — Эт чего ж ты по ночам-то шастать надумал?
— Овечка потерялась, волк ее задави, — поздоровавшись, ответил Виктор Иванович, затягиваясь дымом из толстенной самокрутки.
— Да ведь овечки-то все вроде бы у деда Цапая, в отгонном табуне пасутся… Аль не отдали?
— Хворала она, да поправляться стала, — пояснил Виктор Иванович. — Выпустили — теперь вот ищи!
— Ух ты! — засмеялся Кирилл, не веря ни единому слову Данина. — Больно уж далеко ищешь ты ее. Небось возля речки где-нибудь спит… Ну, садись, что ль, подвезу.
— Да нет, еще погляжу. Вроде бы в эту сторону вдарилась она.
— Да плюнь ты на ее! Садись. Ты ж мине подвез как-то с Прошечкиного току.
— И еще подвезу, коли на таком же деле застану, волк тебя задави.
— Ну ладноть, — шевельнул коня Дуранов, — кто старое помянет, тому глаз вон.
Ходок затарахтел, удаляясь, а Виктор Иванович проворчал вслед нежданному собеседнику:
— А кто забудет старое, тому два вон, волк тебя задави, разбойник!
Уже вторую неделю ходил Виктор Иванович каждую ночь по этой дороге в условленное место и возвращался ни с чем. От Авдея никаких вестей нет, стало быть, Антона Русакова в Троицкую тюрьму не перевезли. Из Челябинска тоже ни звука нет. Уж не пустили ли Русакова в расход? Так ведь и об этом бы сообщили… Как бы там ни было, а пока придется ходить в назначенное место и ждать. Не выстряпывается что-то.
Не мог знать Виктор Иванович, что именно в этот час, а может быть, и в эти самые минуты, выгрузившись на станции из вагона, особо опасный политический заключенный под покровом ночи, сопровождаемый сильным — конным и пешим — конвоем, позвякивал кандалами, направляясь в Троицкую тюрьму. Это и был Антон Русаков. Но Виктор Иванович узнает об этом лишь через несколько дней.
Пронюхав о готовящемся побеге, челябинские жандармы испросили разрешения перевести Антона в Троицкую тюрьму — оттуда не было совершено ни одного побега. Но и перевозить сразу опасались. Усилили охрану Русакова, глаз с него не спускали. И перевозку так организовали, что ни с какого боку не подступиться. И дня этого долго не назначали, а назначив, держали его в строжайшем секрете.
А Кирилл Платонович после встречи с Даниным, будто на себя обозлившись и на коня, погнал беспощадно, заторопился, как на пожар, и к Кольке с разговорами приставать перестал. Всколыхнулось в нем горячей волной все былое, заклокотала ключом притушенная временем ненависть. И-эх, распотешиться бы теперь над этими праведниками! Не только тело истерзали тогда мужики ему — душу вывернули и от любимого дела отлучили: до сих пор покашливает, полгода мочился с кровью. Не хотелось, ни за что не хотелось поддаться, да ничего не поделаешь — вся жизнь перевернулась. Все переиначилось, ровнее пошло: ни гулянок ночных с дружками забубенными, ни бесшабашных вылазок и налетов. И Василиса его чуток посветлела. А недель пять назад по хутору слух прошел, бабкой Пигаской пущенный: «Дураниха-то, никак, зачижалела! Гляди ты, через сколь годов баба проклюнулась».
Развиднелось уже. Хутор открылся в неглубокой впадине сразу, весь. Подъезжали к нему со стороны Кестеровой усадьбы, потому с ходу и подвернул к его воротам Кирилл, спросил у Кольки:
— Сам, что ль, разобъяснишь отцу про замену коня аль как?
— Чего я ему разобъясню! — оторопел Колька от неожиданного вопроса, едва не плача и торопливо слезая с ходка. Откуда Кольке знать, как отец поглядит на такую замену! Ведь без спросу все сделали.
— Ну, да ладноть, — смиловался Кирилл, выбираясь из ходка и разминая затекшие ноги, — пособлю я тебе и в этот раз, хоть ты меня и за человека почитать не хошь.
Кестер был уже на ногах. Услышав, что кто-то подъехал к воротам, вышел взглянуть. А Кирилл, наградив Кольку своим пронзительным, пугающим взглядом, тут же расплылся перед его отцом в виноватой, покаянной улыбке.
— Ну, Иван Федорович, набедокурили мы в этот раз. Не ругайся. Да ведь кто богу не грешен, кто бабке не внук! Уж я виноват — я и отвечу.
Кестер, чуть слышно, сквозь зубы поздоровавшись, тревожно и выжидательно поглядывал то на Кирилла, то на Кольку, то на незнакомого коня.
— Так уж вышло, — рассыпался мелким бесом Кирилл Платонович, — в степе гурт наш разбрелси, а я на парнишку пошумел. Сноровился он поскорейши скотину заворотить, да Цыган-то под им в лисью нору возьми да и оступись… Ногу сломал… Прирезали мы его, татарам продали… Возьмешь, что ль, вот этого за Цыгана-то?
— Возьму, — повеселел Кестер. И к Кольке: — На ходу-то как он? Легок, не ленив?
— Да легок, как ветер, — ответил за Кольку Кирилл Платонович. — Парнишка нагайку ни разу в руки не брал. Породный скакун. Аль не видишь?
— Ну, может, полукровный, а неплохой. Спасибо можно сказать за него.
— Ну, покудова, коль так, — взялся за вожжи Кирилл Платонович. — А ты, Колька, фартовый: гляди-ка, стрелял в воробья, а попал в журавля. Ты, Иван Федорович, как опять поедем за гуртом, дай этого коня сыну. Пущай покатается, раз уж ему повезло.
— Дам, дам, — на радостях посулил подобревший Кестер.
11
С Прийска Тихон вернулся часа в четыре пополудни. Сумной, невеселый воротился. С Настасьей да с ребятишками дома и получаса не выдержал: как услышал за стеной пьяные голоса, подался к брату своему, к Мирону.
Только порог переступил, а там — дым коромыслом. Макар с Дарьей посиживают за столом. Краснющие оба, как из бани. Смирнов Иван Васильевич на заглавном месте восседает, будто стог сена между копнами высится. Тоже, заметно, под парами. А рядом дед примостился — как огурчик, пьяного зелья он в рот не берет. И терпит это застолье Михайла Ионович исключительно из-за уважения к Смирнову, иначе убрался бы в свой угол.
Тут же и Леонтий Шлыков почему-то оказался. Правда, не за столом сидит — на лавке, возле печи, но, видать, угощенный. Глазки у него замаслились — веселый и до крайности довольный.
Однако блаженствовать Леонтию здесь оставалось недолго. Едва успел Тихон к столу пройти да поздороваться с мужиками, как из сеней ворвалась Ма́нюшка, жена, стало быть, Леонтьева.
— Эт чего ж ты, пес плюгавый, позабыл тута?! — набросилась она с ходу на мужика.
— Дык я, Ма́нюшка…
— Ты чего, как овца блудливая, по дворам-то шастаешь! Полхутора всколготила — как скрозь землю провалилси!
— Дык ведь, я ведь, Ма́нюшка…
Манюшка ухватила Леонтия за жиденькие редкие волосы и поволокла к выходу. Тот едва шапку схватить успел с лавки.
— Ох, знать, собака и вправду умнейши бабы, — запричитал Леонтий, — та на хозяина не брешет.
— Я тебе побрешу, проваленный!.. Ванька с утра кашлем заходится, а его, ирода, со всеми собаками не сыщешь… Тебе как ни биться, а к вечеру лишь бы напиться.
— Дык чем же я пособлю-то ему? — оправдывался Леонтий уже в сенцах.
Никто этому не удивился, потому как о жизни Шлыковых знали все, как и о других семьях в хуторе. Однако Иван Васильевич передернулся, будто горячая искра по спине пробежала. Показалось ему, что сварливая баба эта не на Леонтия больше-то злилась, а на него, Смирнова. И таким ядовитым взглядом одарила, что Иван Васильевич, словно проглотил чего-то непотребное, крякнул сердито. Спросил у Тихона, присевшего к столу:
— Чего выездил, Тихон Михалыч?
Никому и в голову не пришло, что Манюшка таким вот способом не наказать своего непутевого мужа хотела, а уберечь от беды вознамерилась.
— День сегодня праздничный, — прокашливаясь, неохотно отвечал Тихон, — господам покой полагается. Дальше управляющего не допустили. Сдал я ему образцы, об деле все обсказал. Посулил он доложить обо всем хозявам, да с конпаньенами еще советовать станут… Посля уж и к нам, видать, припожалуют… А коли откажутся, дак тоже знать дадут. Письменно уведомят.
Известие это вроде бы оскорбительным показалось мужикам. Все промолчали, а дед, повертев за ручку свою клюку, сказал раздумчиво:
— Господа, они враз не кинутся. Померекать им надоть, подумать, стал быть, примериться… Про землю-то разговор был, что ль, Тиша?
— Нет. Спросил только, на чьей земле находка обнаружена. — На хуторской, сказал я ему, на опчественной…
Смирнов горой поднялся за столом, уходить засобирался.
— Брат на заимке ждет, — сказал он, — Тимофей Василич. Ненадолго я отлучился, да уж, никак, часика три минуло. К Виктору Ивановичу забегал, да нету его. Там и коня с упряжкой оставил.
— Погостил бы уж еще, Иван Василич, — просительно говорил дед, вставая с лавки и пропуская Смирнова, — теперь уж, чать-то, к одному, коль нарушил срок…
— Недосуг, Михайла Ионович.
— Мироша, — засуетился дед, — пошли Митрия аль вон Степку, пущай отвезут его. Уважить гостя надоть… Чего ж он пешим на ентот конец потащится!
— Да далеко ли тут! — возразил Иван Васильевич.
Митьки дома не было. С ребятами он где-то. А Степка тут с обеда вертелся. Подрос и возмужал он изрядно. Услышав слова деда, юркнул во двор — жеребца запрягать. Не на кляче же Смирнова везти. А прокатиться на добром коне кто откажется! Пока взрослые прощались — не скоро выходило это по пьяному делу, — Степка ходок выкатил и Ветерка в оглобли поставил. Из сеней вывалились все скопом. Дед все еще доказывал преимущество езды перед пешим ходом, хоть и на близкое расстояние.
Хутор гудел пьяными голосами. То в одном конце, то в другом заливалась гармонь. Ребята горланили частушки да песни разгульные.
Смирнов, увидя, что конь уже запряжен — осталось обвожжать его да повод подвязать, — согласился было ехать. Но тут хлестко распахнулась калитка, и во двор, покачиваясь, по-хозяйски вошел Кирилл Дуранов.
— О-о, друг мой разлюбезный! — завопил он, увидев Смирнова.
— Вот ты где! Эт ему, что ль, конь закладывается? Да на что нам подвода! Что у нас ног, что ль, нету?!
Он бросился обнимать Смирнова и норовил поцеловать, да высоковато оказалось. К тому же Смирнов отстранялся от поцелуев.
— Да не брезговай ты мной, Иван Василич! Дай расцелую! Уж сколь время с благодарностью к тебе нарываюсь, да все никак не увижу.
— Эт за что же? — усмехнулся в усы Смирнов.
— А за науку, друг ты мой милай! За науку, хоть и не шибко нежную. Ведь жизню ты подарил мне новую — тихую да спокойную. — Из глаз Кирилла выкатились умильные слезы. Он вытирал их рукавом, шмыгал носом и снова лез целоваться. — Слышь ты, друг, ведь у мине баба на радостях забрюхатела!
— Болячки-то прошли все? — спросил Смирнов.
— Да что ты, Иван Василич, какие там болячки! Ведь не всякая болезнь к смерти… Выпрягай, Степка! Зачем ты, Михалыч, запрягать ему велел? Мы с Иваном Василичем на ногах дойдем. Пошли! Тебе к Даниным, что ль? Ей-богу, до самых ворот провожу!
— Вор божится, — словно бы про себя молвил дед Михайла, — недоброе дело, знать, затевает… Садитесь, коль так, вместе да езжайте.
— Да к чему нам конь! Что мы, калеки, что ль? Пошли, Иван Василич, пошли!
Смирнов, забавляясь потугами Кирилла казаться преданным и благодарным, подрасправил по-молодецки широченные плечи, сказал негромко:
— Ну-к что же, коль тебе так охота, пойдем!
Рословы проводили их до калитки, в избу вернулись. А Степку словно на аркане потянуло за Дурановым, так надо же коня и ходок на место водворить. Из-за плотины донеслось:
Люблю сани с подрезами, А коня — за быстроту. Люблю милую с кудрями, А еще — за красоту.За прудом кто-то звонкоголосый озорно пропел почти речитативом:
Кто Царь-колокол подымет, Кто Царь-пушку повернет? Коля водочкой торгует, Шура карты продает!Кирилл в обнимку шагал со Смирновым, безумолчно сыпал словами, а Иван Васильевич, услышав частушку, сплюнул, выругался:
— Ах, стервецы! Это ведь они про царскую монополию на водку да на карты песню склали. Ничего не боятся, беспутные!
— Да што там, Иван Василич! За глаза царя кто же хвалит. Давно сказано. Вольно собаке на владыку брехать. Давай-ка и мы споем:
Чернобровая девчоночка, Напой мине водой. Я на рыжем жеребеночке Приеду за тобой.Смирнов въедливо уставился взглядом за плотину, Кирилл ухарски пропел еще одну частушку:
Мы по улочке идем, Не чикаем, не брякаем. Кому надо надаем — Долго не калякаем!А потом, глубоко вдохнув, залился протяжным разбойничьим свистом. На противоположной стороне плотины вдруг объявилась целая ватага подростков. Настроены были они явно воинственно. А Кирилл Платонович, шагая по-пьяному, рукой держался за Смирнова, ногой же то и дело попадал под ноги казаку. Тот запнулся один раз, после того насторожился и, когда вновь подвернулась ему нога спутника, будто не заметив, двинул ее так, что у Кирилла едва сапог не слетел.
Скопом начали наскакивать ребята. Нападали они вроде бы на обоих, но Смирнова облепили гуще, словно муравьи. А возле Кирилла подскакивали так себе, для порядка. Остановился Иван Васильевич, повернулся проворно и давай расшвыривать налетчиков. Как горох посыпались они от него. Яшка Шлыков летел-летел, перевертывался-перевертывался — на спуск угодил, только на плотине остановился. А Ванька Данин и дальше бы летел, да плетень у старой рословской избы остановил его.
Ребята, поднимаясь и стряхивая с себя пыль, держались в отдалении, не решаясь наскакивать, но и не отставали. А тут к ним женатики присоединяться стали, мужики немолодые. Зачуял Иван Васильевич недоброе. Снова Манюшкин взгляд припомнил и понял, что не случайно народ сюда стекается. Зябко лопатками пошевелил. И коротко в уме перевел, глядя на показавшегося против Леонтьева двора кума Гаврюху: «Порол я вас мало!»
Словно бы отвечая на его мысли, Кирилл Платонович задиристо и громко спел:
Пусть нас только кто затронет — Сам тот в проруби утонет!В это самое время, как снег на голову, обрушился сзади сильнейший удар. Кулаком вроде бы. Не успел Иван Васильевич обернуться, сбоку, повыше уха какой-то твердостью оглушило. И пошло! Со всех сторон посыпалось — отгребать не успеешь. Минуты три всего и продержался на ногах Смирнов — сшибли его. Затрещал шлыковский плетень: кум Гаврюха жердь из него выламывал.
— Ты чего ж эт, — закричала на него Манюшка, — убивство, что ль, затеваешь! — Леонтия она загнала на печь, приказав не приближаться к окну.
— Бить дык бить, лети-мать, а не бить, дык нечего и руки марать, — деловито ответил кум Гаврюха. — А Леонтия свого, небось, под подол запрятала. Не видать его тута.
Манюшка скрылась в сумерках крытого двора, захлопывая за собою узенькую дверку и недовольно ворча:
— Дураки да бешены, знать, не все перевешены.
Не раз отведав обжигающей смирновской плети, Манюшка убежденно считала, что поучить казака непременно надо, но только чужими руками. Яшке надерет она космы, коли дознается, что в драку ввязался…
А на улице ядовито покрякивали мужики, негромко поминали матерей, чертей, и душу, и глотку — кому что на память взбредет. Слышались хлесткие удары — то глухие, то звонкие.
Смирнов, сбитый с ног, первое время пробовал вырваться из окружения, выхватывал у мужиков палки, отмахивался ими, но потом, обессилев, перестал сопротивляться, затих. Озверев, мужики лупили его чем попало.
— Разбейси, кувшин, пролейси, вода! — приговаривал кум Гаврюха, охаживая великана жердью. — Вот тебе ве-енички! Вот тебе ве-енички, лети-мать! От ентих дольше чесаться не будет!
Почуяв близкую смерть и собравшись с последними силами, Иван Васильевич реванул, как сохатый в весеннем лесу. Голос его так зычно и могуче прогудел в предвечерней тишине, что Тимофей Васильевич, давно дожидаясь брата, на заимке услышал этот крик. Он и раньше несколько раз порывался наведаться в хутор, а теперь не стал откладывать.
И тут, в драке, после крика этого, на момент опешили вроде бы все, одумались: последняя минута человеку подходит. Побросали палки и подались врассыпную — кто куда. Возле Смирнова один Кирилл Платонович остался. Лежит с ним в обнимку, будто до беспамятства пьян, а сам все еще злобу вымещает: пинков поддает полумертвому, да между ног похлеще вдарить норовит. У мужиков отошла уж обида, притупилась. О себе спохватились думать — что будет, ежели не сдюжит казак, помрет? Лишку поусердствовали.
У Кирилла злоба неистребимая… Он и с мертвым счеты сводить не откажется. Однако, заслышав конский топот, недвижно замер Дуранов.
Атаман, подскакав к месту побоища, круто осадил коня и, легко соскочив с него, бросился к лежащим. За руку, обнимавшую Ивана Васильевича, он повернул Кирилла вверх лицом. Тот завозился на пыльной дороге, приоткрыл пьяные глаза. Тимофей Васильевич наклонился над братом. Разодрал на нем рубаху от ворота до подола, приглядывался, прислушивался: живой вроде бы брат, и вместе с тем на живого-то мало похож он.
— Побили тут нас мужики, — заплетающимся языком невнятно проговорил Дуранов, тяжело подымаясь на ноги, раскачиваясь и неверными движениями стряхивая с себя пыль. — Озверела голытьба совсем…
Говорит, будто слово слову костыль подает. А Тимофей Васильевич не слушает его: возле брата хлопочет.
— Мы ведь с им к его подводе шли, к Даниным, — пояснил Кирилл Платонович. — Пойду я, пригоню сюда подводу-то…
Ничего не сказал в ответ Тимофей Васильевич, даже головы не повернул вслед уходящему. Только крякнул значительно, приподымая с земли окровавленную, всю в подтеках, смешанных с дорожной пылью, голову брата. Жив он, однако едва ли долго протянет. Знал атаман, что в мужиках с годами накопилось предостаточно злобы на казаков. Но понимал и то, что забитые они, мужики-то: даже по пьяному делу не отважились бы наброситься на Ивана Васильевича. Все-таки не простой казак — войсковой старшина, брат атамана, да и силушкой бог его не обидел — не всякому с руки задираться-то на него. Кирилл Платонович подбил пьяных мужиков на драку — тут и гадать нечего. Старое зло не выветривается.
На улице, словно вымерли все — ни души. Попрятались трусливые мужичишки, ребятишек даже не видно. Тут и на брата вознегодовал Тимофей Васильевич; для чего ему с лебедевскими мужиками дружбу водить? Заимку поставил возле самого хутора, дружков тут завел. А Данин этот, по всему видать, из социалистов. От петли, знать, скрывается тут, коли, сказывают, адвокатом был. Чего ж бы ему в этакой глуши делать? Горой за мужиков стоит. Самому царю прошение писал для них. Теперь зеленских мужиков никаким ногтем не сковырнуть с земли-то. А брат с ним же и надумал посоветоваться, как на мужиков зеленских бумагу в суд написать за потраву вокруг заимки. Вот и написал… Тут же, небось, мужики с Зеленой празднуют…
Словом, пошли-поехали у атамана мысли, совсем в другую сторону повернулись. И выходило уже, по его рассуждениям, что Данин подтолкнул мужиков на такое дело, поскольку Кирилла Платоновича тоже били…
Сзади ходок застукал колесами — оглянулся Тимофей Васильевич, подождал подводу, спросил коротко?
— Хозяин-то, Виктор Иванович, дома, что ль? Чего он делает?
— Нету, — ответил Кирилл Платонович. — Еще поутру в город уехал. Там, видать, и застрял на празднике.
Тимофей Васильевич язык прикусил: зря, выходит, на человека подумал. Раз Кирилл тут — его это работа! И уж потом, когда они с великим трудом уложили богатыря на разостланное сено в длинный коробок, еще спросил для верности:
— Тебя-то за что же били? Аль снова на прежнюю дорожку своротил?
— Что ты, Тимофей Василич! Я от того разу никак не прокашляюсь. Никого не тронул… Дык ведь пьяный мужик, он кого попало бьет… Чего в руках, то и в боках… Ты трогай-ка поскорейши, пока никого нету… — И торопливо зашагал к своей избе. Теперь не качался он и совсем непохож был на пьяного.
За всю дорогу до Бродовской Иван Васильевич лишь два раза на свет глянул — ненадолго. Брата узнал, понял, какие мысли одолевают его, и внятно, четко проговорил:
— Памятный мне праздничек устроил Кирилл… Н-не забыть…
— Ты скажи-ка лучше, надолго ли твоей памяти хватит, — спросил его Тимофей Васильевич, но брат погрузился в забытье — ничего не ответил. И в другой раз, как очнулся, повторил эти же слова и снова забылся.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
1
И каков же ты есть, русский мужик? Где предел твоим силам и твоему терпению? Умрет на работе, коль надо. Умен и сметлив бывает он до невозможности, когда силится перехитрить нужду. И как всякий талант — бесконечно простодушен и доверчив, словно дитя малое.
Чего только не передумали мужики лебедевские, как ни поворачивали в думах судьбу хутора и свои судьбы, связывая их с найденным каменным углем. Но в рассуждениях этих склонялись больше к тому, что хуже не будет, если дворы уцелеют. К тому же и землица немалых денег стоит, коли в ней такое богатство покоится. Только бы не продешевить, как промышленники наедут.
А они все не ехали, промышленники-то. Уж недели три с той поры миновало, как побывал Тихон Рослов на Прийске.
— Да к чему им об угли мараться? — чаще всех повторял Иван Корнилович Мастаков, Чулок, стало быть. — Для чего им угли, когда они чистое золотце в карман кладут?
— А сам небось для чегой-то дом в городу вона какой отгрохал, — урезонил его Леонтий Шлыков, — да земельки прикупил… А она, земля-то, ведь тоже черная да грязная бывает… Чего ж ты чистое золотце в чулке не стал держать?
После таких слов Чулок умолкал, сердито теребя клочкастую непокорную бороду, будто проволочную.
Уж отсеялись хуторяне, и ждать прийсковских толстосумов надоело. А они подкатили в хмурый, ненастный денек.
Промозглый ледяной дождишко то колючими брызгами срывался с мутных небес, то застревал там где-то в лохматых низких тучах. И тогда зверовато и хищно рвал пронизывающий северный ветер.
Как светлого праздника ждет крестьянин дождя после сева. Но скучища в такую погоду одолевает несусветная. По дворам, по избам пробавляются мужики — всяк своей домашней работой занят. А то и спят со скуки. Вроде бы никто и не следит за улицей, редко где человек прошастает. А как остановились две тройки на поляне возле Тихоновой кузни — в момент собралась толпа.
Ребятишки неотступно толклись вокруг одной из троек. Невиданная то была тройка — в корню запряжен высокий статный конь, а пристяжки — чуть пониже ростом. Красавцы. Но больше всего удивляла масть. Были они светло-серые в черную клеточку, словно шахматная доска на каждом отпечатана. Такого дива не случалось видеть.
Бабы табунились отдельной кучкой. Немного их тут было. А мужики, не смея слишком приближаться к важным господам, все-таки держались поближе к открытым дверям кузни, куда вошли приезжие. Скоро донеслось оттуда:
— Ну веди, хозяин, показывай, где твой клад прячется.
Первым в дверях показался Тихон и, увязая деревянной ногой в размокшей земле, повел гостей к берегу. Мужики следом потянулись. А Тихон, дохромав до кромки яра, остановился и указал вниз:
— Вот, тута вот и лежит ваш клад… Кругом-то далеко: к самой плотине обходить надоть… Мокро нонче, грязно.
Видно было, что недоволен чем-то Тихон, и не случайно нажал на слова «ваш клад». Из приехавших знал он лишь главу французской компании Баласа. Этакий долговязый пожилой человек с покрасневшим горбатым тонким носом и рыбьими глазами. Словно клюв хищной птицы, торчал этот нос из-под надвинутого башлыка и настороженно и чутко поворачивался-то в одну сторону, то в другую. Такие движения свойственны лишь крупным птицам, отвыкшим от неожиданностей: не боятся они нападения, а добычу высматривают.
— А все же можно взглянуть на уголь, который из земли сам вылез? — мягко спросил Балас. — Где же он?
— Да гляди, господин хороший. Сколь хошь, гляди! Стоит копнуть лопатой — и гляди на его… Макар, — обернулся Тихон к брату, — добежи до кузни да с лопатой спустись вниз, копни, где я укажу.
— Копнуть-то я и сам знаю, где надоть, да за такое дело хоть бы сороковочку поставили, — плутовато хихикнул Макар, отходя от толпы.
— Об том вон с господами уговаривайся, — вдогонку ответил ему Тихон, поглубже натягивая картуз. — Чьей свадьбе быть, у того и водку пить.
Редкие капли дождя, гонимые осатаневшим ветром, хлестко щелкали по одежде, больно ударяли в лицо. Стоя недалеко от кромки яра и придерживая руками полы плаща, Балас не отворачивался от ветра, не вытирал мокрого лица, он уставился в точку, куда показал Тихон. Никто не заметил, когда Балас дал знак (либо тот сам догадался), но один из его свиты бегом пустился за Макаром, шагавшим уже к плотине.
— Ну, а с землицей-то как же? — первым вкрадчиво заговорил Чулок, вроде бы не надеясь даже, что Балас его услышит. — Решать надоть с землей.
Но Балас расслышал, оказывается, и, не повернув головы, лишь слегка поведя хищным носом в сторону мужиков, словно бы про себя спросил:
— А если я вам с пуда добытого угля платить буду — почем за пуд возьмете?
Мужики мялись, переспрашивая друг у друга, о чем говорил Балас, потому как стоял он одиноко, в стороне даже от своих спутников. Мужики тоже не лезли пока к яру. А попробуй ответь сразу на такой вопрос.
— По три копейки за пуд, — раньше всех сообразил Прошечка. — Дешевше и соглашаться нельзя.
Мужики, удивленные столь ничтожной, по их мнению ценой, зашикали на Прокопия Силыча.
— Эт задарма отдать, стал быть? — подал свой голос кум Гаврюха. — У себя в лавке такие цены назначь.
— А ты помолчи, черт-дурак, — оборвал его Прошечка, — коли бог рассудку не дал! Сам не стоит алтына, а тянется за полтиной! Тебе вон козлиные орешки от мого Кузьки и то не посчитать, как он разок до ветру сходит.
Кестер Иван Федорович хмыкнул в короткие усы, ничего не сказал. Он-то понимал, что цена не безобидная, но в разговор не ввязывался, поскольку жил на собственной земле и сюда пришел любопытства ради.
— Х-хе, — замотал головой Леонтий Шлыков, — да ведь я за три копейки заплатку на пим и то пришивать не стану. Лучше задарма сделаю…
— Еще ты, черт-дурак, туды же! — круто повернулся к нему Прошечка. — Пустоголовый. Куды конь с копытом, туды и рак с клешней. Ишь ведь заплатку к чему приравнял!
— Ты лаяться-то погодил бы, Прокопий Силыч, — заверещал Демид Бондарь своим бабьим голоском, — да пояснил бы народу про ети самые три копейки, чего они обозначают…
— Умный так разберет, а в дураке и дубинка не вольна, — отрезал Прошечка. — Чего ж вам еще пояснять-то, черти-дураки?
Балас чутко прислушивался к мужичьим голосам, но не подавал виду, окостенело уставившись под яр, где — по подсказке Тихона сверху — Макар лопатой нащупывал клад. Копнул он всего два раза, и уже показалась под песком твердая чернота. Потом она обнаружилась полукругом, по прямому срезу которого открылись несколько небольших кусков. Сопровождающий Макара торопливо схватил один из них, отряхнул сырой песок с него и крикнул вверх своим:
— Ловите!
Протянулось несколько рук. В чьи-то кусок этот попал и пошел гулять в оживившейся толпе приехавших. А Балас, покопавшись в кармане, достал золотой рубль и, простерши над обрывом ладонь, крикнул Макару:
— Ну, получай на водку, открыватель!
Мужики жадным взглядом проводили сверкнувшую монету: повезло Макару.
— Дык с землицей-то как же сладимся? — громко спросил Чулок, выжидательно глядя золотопромышленнику в затылок. Балас не торопился с ответом. Убедившись, что Макар изловил подачку, и еще подержав протянутую руку над обрывом, он не спеша повернулся к народу, И тут все увидели, что под носом у него висит нечто препротивное — даже мужикам неловко стало.
— Вот ему, — указал Балас в сторону невидимого за кручей Макара, — вот ему я все и заплатил. А вы очень богато жить захотели. Вам я не заплачу ни полушки.
— Как же так? — вырвалось у Тихона.
— Вот так. Чья это земля, где вы живете? Кому она принадлежит?
— Опчеству, — разноголосо и недружно ответили мужики.
— Нет! — возразил Балас и, заметив у себя под носом непорядок и нимало не смущаясь, полез в карман за платком. — Помещик Бородин — хозяин этой земли.
— Дык ведь помер он с коих пор, — удивился Леонтий Шлыков такому обороту. — И барыню его давно бог прибрал.
— Помещик Бородин, Николай Петрович, жив и здоров. Проживает в Петербурге. Не так давно вернулся из Парижа, с моей родины. — Балас обвел победным взглядом ошарашенных таким известием крестьян и, указав на одного из своих спутников с портфелем, добавил: — Вот там — купчая… Не я вам платить буду, а вы мне, если нужда появится. Прощайте, мужики! — и он направился к коляскам.
— Вот дык разбогатели мы с твого угля, Тихон Михалыч, — гулко выдохнул кум Гаврюха. — Вот дык озолотил ты нас!
— Стал быть, про наследника-то не байки сказывали… Жив-здоров и в Петербурге проживает, — будто про себя рассуждал Иван Корнилович Мастаков. — А чего ж он с нас деньги-то не брал столь годов, коль его это земля…
— Ты, черт-дурак, замолчи! — ощетинился Прошечка. — Чулок ты, чулок и есть суконный, черт-дурак! Ты думаешь, у его всего и наследства — вот этот клочок? Кругом-то земля продана и перепродана по пять разов. Ему дороже сборщика держать возля наших дворов… А что — уголь, дык он про его небось и теперь не знает.
— Да будя вам лаяться-то, — усмехнулся Филипп Мослов. Уж больше года не мочил он усов в водочке, хозяйство снова на ноги поставил. — Мы головы ломали об этом угле, а вышло все вон как просто.
Никто ему не ответил потому как тройки двинулись и отвлекли внимание мужиков. Первую тройку кучер направил почему-то не обратно, на Прийск, а в город, через плотину. Балас на второй подводе сидел. Видно, не ему принадлежала необычная тройка.
Коренной в упряжке, держа высоко голову, шел ровной размашистой рысью, а пристяжные, вытянув шеи и неся головы на аршин от земли, дружно подхватили наметом. И чем дальше в степь улетала эта сказочная тройка, тем более напоминала она резвую серую птицу, дружно взмахивающую крыльями. Ни слова не проронил никто, ни взгляда не оторвал, пока не скрылась птица в курганистой, дружно зазеленевшей под дождем степи.
2
С той поры как пригнал Прошечка свою дочь обратно в дом зятя, внешне, можно сказать, ничего в жизни Катюхи не изменилось. Только что попреков добавилось да шипучего зла прибыло. Даже самый пристальный взгляд едва ли уловил бы какую-то разницу, вряд ли приметил бы что-то новое в поведении молодухи. Была она послушной и с виду покорной. На судьбу свою теперь уж не жаловалась даже бабушке Мавре, хотя неразлучно ходили они в церковь, не пропуская ни единой службы. А богомольность эта опять-таки вызывала негодование свекрови и сношенниц, поскольку дел на их долю перепадало больше, когда Катюха молиться-то уходила. Бабка не в счет — все равно невелика от нее подмога. Но за усердное богомолье ругать никого не полагалось, оттого бабы злились молча, оставляя до времени ядовитые слова, как подвернется хоть сколь-нибудь подходящий повод.
Однако же изменилось в ней многое. Телом выправилась и статью наладилась — не своенравной беззаботной девчонкой выглядела, а знающей себе цену бабой. А во взгляде, с виду покорном, намертво застряла едва приметная непреклонность. И надломленная правая бровь утверждала непреклонность эту. Таким становится человек, бесповоротно решившийся на самый важный шаг в жизни, когда помощи ждать неоткуда и когда верит он лишь в собственные силы.
Как всегда, вечернюю дойку коров закончили поздно. Фроська, и Лизка, и Степанида, не теряя ни минуты, спать разбежались, потому как едва успеешь веки смежить, уж вставать пора. Катюха после всех вымыла руки, не спеша вытерла их фартуком и нехотя побрела к своей кровати, где уж часа три спал Кузька.
Усталая и разгоряченная работой, остановилась она у постели, в темноте нащупав край ватолы и откинув его, жадно вдохнула устоявшееся тепло. Но тут же передернуло ее, перекосило. Брезгливо отступила на шаг от кровати, скинула платьишко и, лениво перекрестившись, осторожно, чтобы не разбудить мужа, полезла в опостылевшую до смерти супружескую постель.
Уснула сразу, и кажется, не спала вроде бы вовсе, как ощутила на правой лопатке липкое, омерзительное прикосновение Кузькиных губ. Будто прокисшая разогретая оладья прилепилась там и маслено обжигала расслабленную сном кожу. Простонала невнятно, как сквозь сон, и не подала виду, что проснулась.
— Катя, Кать, — зазывно шептал Кузька, — оборотись, что ль… Ну, оборотись, говорю… Слышь, Катя!.. Жена ты мне аль чужая?..
Катюха не выдала себя ни словом, ни движением, хотя кипело в ней все, словно смола в адском котле — вот-вот задымится и снаружи.
— Уж недельки три небось не подпущаешь, — тянул свое Кузька, рукой покачивая жену за горячее плечо. — Уж не в монастырь ли наладилась… Посты все соблюдаешь, в церкву зачастила наравне с бабкой… Дак ведь в молодости грешить, а в старости грехи замаливать перед смертью полагается…
— Отстань, репей! — громким шепотом прошипела она, высвобождая плечо из-под потной мужниной руки. — Отстань, тебе говорят! Не дожить мне до старости: самое время теперь грехи-то отмаливать.
— Опомнись, чего плетешь-то, одумайся! Опять ведь грешишь и меня на грех наводишь. Надысь переполошила всех своим побегом. Родного отца в грех ввела…
Он продолжал перечислять беды, принесенные в палкинский дом Катькой, а она, не слушая укоров, скользнула с кровати, выпрямилась, как березка, нагнутая проехавшим возом, запальчиво выговорила:
— А мне все едино, что в монастырь, что за монастырь да в омут. Все страхи прошли! — Подхватила платьишко и торопливо влезла в него.
— Куды ты рань эдакую? — с опаской спросил Кузька.
— На кудыкину гору мышей ловить да тебя кормить.
— Да ведь никто не вставал еще… Чего эт ты враз такой угодливой стала? Ух, шалава баба! Моя бы власть — в клетке бы держал тебя да еще на цепи.
— Не дал бог свинье рогов, а боду-у́-ща была бы, — издевалась над мужем Катюха, зная, что не тронет он ее, шуметь не станет по теперешней ранней поре. — Все равно уж ложиться-то не к чему: на дойку сбираться надоть. — И она пошла к рукомойнику, не имея сил даже оглянуться на Кузьку. Да и не до него ей было. Задело ее упоминание о монастыре. Об этом непременно у батюшки, у отца Василия разузнать надо. Ни свекровь, ни свекор, ни отец родной там ее не достанут. Никто там не обидит, грубого слова не скажет. Само собой, неволя в монастыре-то, зато уж покой и отдых от мирской грызни. И все-таки это лучше, чем головой-то в омут.
Мысли эти приободрили Катьку. К тому же иванов день сегодня — обязательно в церковь идти, а там исповедаться можно да попутно и про монастырь разузнать.
Бабушка Мавра охотно одобрила Катюхино желание исповедаться, но большего Катька ей не доверила и думы о монастыре могла она поведать лишь отцу Василию под большим секретом, на исповеди. Мавру выпроводила из церкви сразу же после молебна и стала выжидать, пока возле священника народ схлынет.
Отец Василий, окидывая цепким орлиным взглядом оставшихся прихожан, приметил среди них недурную молодуху, что топталась недалеко от аналоя, а к нему все не подходила. Окликнул:
— Ты что это, раба божия, ровно потеряла чего… Подходи.
— Да нет, уж я погожу, — молодка залилась краской, полыхнувшей сквозь смуглую кожу лица. — Пущай люди проходют.
Смекнул отец Василий, что грешница перед ним — особенная, будто бы жаром пахнуло на него от зардевшихся ее щек — натужно крякнул, потянувшись за ней взглядом, повертел головой, словно бы отгоняя от себя наваждение, и поманил к себе очередного раба господня, жаждущего освободиться от содеянных грехов.
Скорехонько пропустил отец Василий нуждающихся в исповеди прихожан, и Катюха тут как тут — подплыла к аналою.
— Исповедаться? — ласково спросил поп.
— Да я… — смешалась и снова залилась краской грешница. — Да мне… побеседовать бы…
— Побеседовать? — подхватил отец Василий и не торопясь зашагал от аналоя к выходу, не доходя, свернул в угол, остановился. — Можно и побеседовать. Об чем?
Они стояли у самой стены друг против друга. Боясь начать разговор и смущаясь несусветно, Катька мяла носовой платок в потных руках, прокашливалась, но застрявшее в горле слово никак не выходило наружу.
— Успокойся, успокойся, милая, — ласково и вроде бы вкрадчиво говорил отец Василий, положив тяжелую руку на Катькино плечо. — Никто нас не торопит. Успокойся и говори, что привело тебя…
— Да мне бы… В монастырь я хочу…
— Вот оно что! — воскликнул отец Василий, пряча в усах и роскошной бороде едва заметную блудливую улыбку. — Суета, стало быть, мирская, житейские треволнения одолевают… Мм-да… Тишины благостной, покоя в святой обители восхотелось тебе… Ну-у, что же… дело это достойное и богу угодное… Кто станет супротивничать столь благому намерению?..
Катька заинтересованно, со вниманием слушала авторитетные батюшкины слова, а они становились все невнятнее, все короче, и все больше речь его напоминала мурлыканье самодовольного кота. И вдруг совершенно неожиданно она обнаружила, что крупные его руки, волосатые и белые, трепетно охватывали ее груди, гладили их сквозь голубую миткалевую кофту. Пухлые дрожащие пальцы воровато елозили у расстегнутого приполка…
Катька вздрогнула, подалась назад и, продолжая мять взмокший носовой платок, диким взглядом вперилась в отца Василия…
— Ягодка ты моя сладкая! Прими грех на душу… В монастыре-то сто раз отмолишь.
— Батюшка! — коротко зашипела Катька, будто пар из кипящего самовара вырвался.
— Да ты приди, приди вечером на кладбище-то, как говорю тебе! — твердил отец Василий, все более распаляясь и наступая на молодуху. Левая рука его рванулась куда-то вниз… И в этот момент холеную поповскую щеку обожгла звонкая, задорная оплеуха! Потом жигануло по другой щеке, потом хлесткие удары посыпались так часто, что отец Василий ошалело попятился и умолк.
— Долгогривый ты кобелина! — кричала Катька, наступая на соблазнителя и настойчиво подвигаясь к выходу. — Ополоумел ты от жиру, кобель! Это ж только такое подумать, дак за год греха не отмолить. Во храме господнем какие ведь он дела затевает, а!
Отец Василий отступил настолько, что Катька свободно проскочила на паперть и оттуда еще прокричала:
— Да как тебя, жеребца племенного, громом не пришибет за кощунство эдакое!
Когда вышла за церковную ограду, несколько раз оборачивалась и грозила блудливому попу, глядевшему вслед. К удовольствию Катьки и особенно отца Василия ни за церковной оградой, ни на дороге ни единой души уже не было. Потому и дала она полную волю слезам. Обидно ей сделалось до невозможности, горько, хоть землю под ногами грызи. Все к нему с грехами своими идут, справедливости у него ищут, а он сам-то грешнее последнего блудника. Нахалюга и бабник распоследний! Бабушка Мавра заступается за него, верит каждому его слову… А его бы на чистую воду вывести, рассказать про все… Так ведь не поверят. Нет! Тебя же обвинят…
А горше всего, больнее становилось оттого, что рухнули последние надежды. За крепкими заборами, за толстыми стенами монастырскими надеялась она укрыться от мирской несправедливости, душевный покой хотела обрести. Теперь сообразила: уж коли в святой церкви такое бывает — в монастыре, стало быть, не лучше.
Домой воротилась Катюха разбитая, расстроенная и вконец обессиленная. На свет божий не глядела бы!
Только дверь за собой захлопнула, а она снова тут же растворилась, и вбежала соседская девочка лет восьми.
— Мамка сито брала у вас, а я принесла его. Вота возьмите, — и протянула Катюхе сито. — Спасибо велела сказать.
— На здоровье, — приветливо молвила Катька, обернувшись к девчонке.
А в это время от печи Степанида щукой кинулась, перехватила сито, рванула его бешено, будто им завладеть хотел кто-то, и на сноху:
— Какое ты имеешь право благодарность принимать за чужое-то добро?! Ты его наживала, сито-то? Ты покупала его? Ты отдавала его в люди-то? Отдавала — я тебя спрашиваю?!
— Прости, мамаша, — одними губами, чуть слышно и покорно ответила Катюха и хотела пройти переодеться, да передумала. Повернулась назад, к выходу.
— Ты заведешь, ты накопишь добренького, — точила свекровь. — Остатки-то все размотаешь… Для ней, видишь ли, и обедня самая длинная служится… Баушка и то вон давнехонько дома, а тебя все нету…
Не стала Катюха дослушивать свекровкины попреки, во двор вышла одуматься. А было над чем поразмыслить…
Недели три назад, доведенная притеснениями до крайности, надумала она уйти из этого дома. Куда? Этого сразу не придумаешь: однако ж, если человек на что-то решается твердо, выход может подвернуться с совершенно неожиданной стороны.
Собралась бельишко пополоскать и пошла к Косому броду. Ближе прямиком к речке пройти можно было, а пошла вон куда! Тайное какое-то предчувствие тянуло ее в ту сторону. Через Косой брод в город вела дорога.
Облюбовала плоский большой камень, едва из воды выступавший, бросила на него белье, подол подоткнула повыше, чтоб не замочить, и принялась за дело. Светлая прохладная вода ласково оглаживает тугие икры загорелых ног, нежно холодит руки, рябит в глазах золотистым песком дно. А из кустов такие ли слышатся заливистые птичьи трели! На душе от этого радостный покой наступает — не уходила бы с речки.
— Здорово, землячка! — — вдруг послышался с брода знакомый голос.
— Гри-ишка!! — Катюха шлепнула мокрую кофту на камень и, не опустив подол юбки, бросилась к парню, выскочив из воды и не замечая острой гальки под босой ногой.
Поджидая ее, Гришка Шлыков сполз со спины Рыжухи, поправил потник. А Катька, подбежав к нему, сгоряча обняла неловко и столь же неловко чмокнула куда-то в ухо и поспешно подол одернула. Гришка расплылся весь в улыбке, зарделся кумачом — краска аж через загар пробилась. Важно спросил:
— Чегой-та ты меня как родного встречаешь?
— Да ведь, — потупилась Катюха, отступив от него, — на чужой-то сторонушке обрадуешься и своей воронушке! Встренешь, пожалуй. Как же, знакомый все ж таки. На вечерках случалось вместе бывать… Ты не сбираешься жениться-то?
— Нет, покудова не сбираюсь. — Одной рукой Гришка придерживал потник на Рыжухе, другой — повод. — По осени ноничка в солдаты итить — какая уж тут женитьба!.. Да ведь и Ванька у нас ишшо неженатый… — Он бросил повод на холку лошади и полез в карман за кисетом.
— Хворый он у вас. Сколь же тебе его ждать-то?
— А тебе тута не мед, в хуторе сказывают? — не ответив ей, спросил Гришка.
— Люди живут, как ал-цвет цветут, а наша голова вянет, что трава, — с намеком отговорилась Катюха.
— А не видать чтой-то, чтоб завяла, — Гришка даже отнес ото рта еще не слепленную цигарку и оглядел молодуху с головы до ног. — Справная ты вона какая, небось побогаче, чем в девках, стала… Аль брань в боку не болит?
— Иная брань, Гриша, чижельши лютого битья бывает… Да ежели бы только брань! — слезы, как она их ни сдерживала, наплыли на веки, потекли через край. И тут, словно уцепившись, как утопающий за последнюю соломинку, подступилась к главному: — А ты бы пособил мне, Гриша…
— Не отказал бы, — вскинул светлые брови Гришка и приподнял округлые плечи. — Да чем же я пособить могу, не сообразить никак.
— Можешь, Гриша, — Катюха качнулась к нему и тут же, закусив губу, отпрянула, словно обожглась обо что-то невидимое. — Можно, коли захочешь… Да ведь не даром же, заплачу я, Христос с тобой, только пособи-и…
— Чего душу тянешь! — обиделся Гришка, хватив из цигарки добрую затяжку. Видя ее слезы и слушая загадочные слова, он готов был хоть сию же минуту помочь, потому как знал за собой неоплатный долг перед ней. — Сказывай, в чем твоя докука! Коль силов хватит, пособлю…
А Гришкин долг был деликатного свойства и, кроме него самого, не знала о нем ни единая душа на всем белом свете. Ворота у Прошечкиного двора в свадебную ночь вымазал дегтем не кто иной, как он, Гришка Шлыков. И сделал это не по злобе, не потому что догадывался о связях Катькиных с Васькой Рословым, а из чистого озорства, даже не подумав, сколько несчастий нагрянет на людей после этого. Одумался и ужаснулся своему поступку после, когда благополучно укрылся за кузней Тихона Рослова. Ночь-то уж к концу подвигалась. Дрожал там часа два, не зная, что предпринять и как исправить содеянное. Обрадовался без памяти, как увидел, что сам Прошечка первым обнаружил его пакость и засуетился, чтобы спрятать ее. Только тогда со спокойной душой спать отправился Гришка. Но спокойствие это продолжалось лишь до первых слухов о горьком Катькином житье. Манюшка, мать Гришкина, и другие бабы все несчастия молодухи связывали с разбитым в день свадьбы зеркалом и козла Кузьку поминали, пожалуй, чаще, чем Кузьку Палкина — жениха. На козла этого нахального сыпалось множество проклятий, а он, между прочим, так же здравствовал и так же блудничал, не подозревая о бабьем злоязычии.
А Гришка, терзаемый собственной нечистой совестью, при каждом новом всплеске слухов лишался покоя. Не будь всего этого, не остановился бы он сегодня возле Катюхи, не завел бы разговора с нею. Так, издали поздоровался бы с землячкой, да и проехал.
Видя явную Гришкину решимость помочь ее беде, Катюха приступила к делу:
— На могилках склеп видал?
— Ну…
— Где он стоит, помнишь?
— Ну!..
— Туда вот ночью посля иванова дня, как месяц закатится, подъехать надоть.
— Ну…
— Чего ты нукать-то принялся. Тама ждать я стану. Отвезешь меня в город.
Гришка зябко лопатками передернул, рубаху синюю холщовую оправил. Поинтересовался:
— Эт к чему же на могилки-то непременно? Вот с этого места либо вон из тех кустов лучше бы. Прямо — в город.
— Ишь ведь ловкий какой! — обиделась Катька. — А как же мне в городу-то жить? Брось им, Палкиным, хоть все тута — не откажутся. Одежонку-то надоть с собой взять, а как мне ее из избы вынесть?.. Туда все и перенесу, в склеп этот, по штучке да по две. А оттудова заберем все разом. Пособишь?
— Ну-ну… А в городу-то куды ж ты прицелилась? Квартира есть аль как?
Потупилась Катюха и умолкла — никаких знакомых в городе у нее не было. Как там жить и что делать, не знала она.
Долго и пристально глядел на нее с состраданием Гришка, потом сказал, будто тяжелый камень с души сбросив:
— Ладноть, готовься. Завезу я тебя к одной бабке… Недельки на две, на три не откажет, чать-то, а там уж гляди сама, как дальше быть.
Гришка отлично понимал, на что шел. Попадись он на этом предприятии Палкиным — ежели и уцелеешь в живых, то калекой-то наверняка сделают. И оправдаться нечем.
После этой встречи сделалась Катька богомольной и для Кузьки неприступной. А как упомянул он о монастыре — надежда в ней возродилась: от бабки в городе в монастырь податься, там уж никто не достанет. Да вот отец Василий на корню загубил ее мечту. Померкли надежды на монастырь, и ехать туда расхотелось.
Постояла Катюха на ветерке возле ворот, мыслями так и этак пораскинула — ничего нового не придумала. От Гришкиной услуги не поздно и отказаться, а подвернется ли новый такой случай?.. Ехать! Все пожитки перенесены в склеп, все готово.
Вернувшись в избу, опасливо прошагала мимо свекрови, переоделась возле своей кровати и праздничное свое одеяние свернула потуже да положила поближе, чтобы не забыть, как ночью в путь двинется — с собой захватить.
3
— Ну, солдат вечный, Иван Воронов, как тебе здешняя тюрьма поглянулась? — спросил, улыбаясь, Виктор Иванович у Михаила Холопова, как только они остались вдвоем в домике на Болотной улице. Даже наедине Данин избегал произносить настоящую фамилию этого человека, чтобы не проговориться где не следует.
— Крепка, говорят, тюрьма, да черт ей рад, — шуткой ответил Холопов. — Никто в нее не просится, а все из нее норовят.
— С Антоном-то удалось повидаться?
— Да вот вчера первый раз свиделись. Три раза ходил до этого — не хотели, видать, показывать. Сперва говорили, что не числится у них такой заключенный. Потом — свидания запрещены, велели через день зайти… Я уж поторапливать их стал. Проездом, говорю, здесь, повидаться надо бы.
— А в этом ты молодец, волк тебя задави, что проездом-то сказал, — похвалил Виктор Иванович. — Больше пока туда ни ногой. Других найдем, а тебя для завершения всего дела приберечь надо. Жандармы по карточке тебя не признают?
— Теперь не то что жандармы, Матильда Вячеславовна, матушка ваша, и то ни за что не признает: как-никак почти пять лет минуло.
Темно-русые усы и окладистая борода с редкой искристой проседью, давно не стриженные, свалявшиеся волосы позволяли Михаилу сходить за этакого мужичка по пятому десятку, хотя ему всего лишь за тридцать перевалило.
— Ну, как там Антон-то чувствует себя? Каков он? Я ведь его тоже ни разу не встречал.
— В тюремном лазарете почему-то содержится… Спросил, как здоровье — ничего, говорит, не болел еще. А чего же, говорю, в лазарете-то? — плечами пожал и на стражника бровью повел. И самое главное — кроме него, никого из заключенных там нет, кажется.
— Проверим. Скорее всего, боятся, волк их задави. Тут ведь политических-то мало держат, а особо опасных, видать, кроме него, совсем нет — вот они и берегут его, не знают, куда спрятать. Ну и других от него оберегают, «не заразились» бы социализмом… А лазарет-то где же?
Засунув руку за пазуху, Михаил достал оттуда помятый блокнот и принялся вычерчивать расположение тюрьмы.
— Вот тут, — показывал он, — главный корпус, а сзади — лазарет. Вот так все охватывает тюремная ограда.
— На свидание-то приводили его тебе сюда, что ль? — Виктор Иванович ткнул пальцем в главный корпус.
— Да нет, прямо с задворок. У лазарета есть караулка, и в заборе окошечко прорезано маленькое, через него караульный разговаривает и передачи принимает. И с заключенным через него же говорить приходится…
— Здравствуйте!
Михаил обернулся на приветствие, хотя по голосу узнал Алексея Куликова. А тот, шагнув от порога и увидев чертежик, понял, о чем идет речь, и с ходу врезался в беседу:
— На свидания с Антоном я не ходил, а в окрестностях тюрьмы побывал только что.
— Ну вот и сказывай, как вызволить человека, — подхватил Виктор Иванович, глядя на Алексея задумчиво и с надеждой. — В тюрьме народу много, а петля-то ведь над им одним весит. Иван вот через подкоп ушел с каторги, — показал он глазами на Михайла Холопова. Ни один человек не знал его настоящего имени, кроме них двоих. — Так ведь у него там в запасе целая жизнь была…
— Нет, — мягко возразил Алексей, — о подкопе здесь и речи быть не может. — Он остановился за спиной Ивана Воронова и, не сводя глаз, разглядывал его чертежик. — Это лазарет, что ли?
— Лазарет.
— Сколько от него до забора?
— Сажени две с половиной, а то и три наберется, да там сколько-то под полом пройти надо…
— Отпадает, — безнадежно отмахнулся Алексей. — Нам каждый день дорог.
— А хороших знакомых из тюремной службы ни у кого нет? — как-то вкрадчиво и с опаской спросил Виктор Иванович, словно заведомо не надеясь на положительный ответ.
— По-моему, нет, — подумав, отвечал Алексей. — Да и кто из них отважится на такое? Ведь речь идет не об уголовнике, а о политическом смертнике. Около таких тюремная стража с почтением и робостью ходит. Никто из них не станет рисковать головой ни за какие деньги, если бы они у нас и были… — Говоря это, Алексей засунул большие пальцы рук за ремень и снова уставился въедливым взглядом в чертеж на столе. — А знаете, на вашей картинке не показана одна очень важная деталь…
— Какая? — чуть не одновременно вырвалось у собеседников.
— Стена, конечно, надежная, каменная. Но окошко-то прорезано не в стене, а в деревянной калитке. Это учесть надо.
— Есть калитка, — ответил Иван. — И даже накладка железная есть и петля, но калитка заперта изнутри, снаружи замка нет, и накладка висит без надобности.
— Нет, не без надобности! — запальчиво возразил Алексей. Он весь преобразился. Виктор Иванович почувствовал в тоне молодого товарища нечто необычное и глядел на него с надеждой.
— Для нас эту накладку тюремщики специально сделали! — радостно воскликнул Алексей и, отступив от стола, легко прошелся по крашеным половицам.
— Это что же, — спросил Иван Воронов, лукаво щурясь и пощипывая свою окладистую бороду, — это, стало быть, надо хорошенько попросить надзирателя, чтобы он отворил калитку, вывести за ручку Антона и надзирателю спасибо сказать?
— Почти что так! — Загоревшись мелькнувшей идеей, Алексей уже не находил себе места: он то шагал за спиной у Ивана Воронова, то заходил с конца стола, то делал несколько шагов в сторону окна, что смотрело на улицу. — Почти что так! Только не ручаюсь за спасибо — едва ли на это время останется.
— Днем, на глазах у почтенной публики все это разыграть? — спросил Виктор Иванович, почесывая в затылке и недоверчиво глядя на Алексея. — В авантюру ты нас тянешь, волк тебя задави.
— Дела не сделать и еще своих потерять, — добавил Иван Воронов. — А может, и всю организацию провалить.
— До организации им далеко, — возразил Алексей, — а без риска все равно не обойтись в таком деле.
— Да ведь риск риску рознь! — повысил голос Иван.
— Погоди, погоди, — осадил его Виктор Иванович. — Что верно, то верно: хоть совой об пень, хоть пнем об сову — все равно сове больно. Без риска не обойтись. А ну-ка расскажи, Алеша, всю свою задумку.
— Да не все у меня сложилось. Только сейчас ведь пришло в голову. Но основа, по-моему, есть, и ее надо развивать… Окошечко, как я заметил, крошечное. В него едва Библия пролезет. Так вот, надо придумать такую передачу, чтобы никак она в это окошко не прошла. Тогда надзирателю придется открыть калитку… А что такое открытая на волю калитка для человека, которому грозит смертная казнь?
— А ведь он дело говорит, — повеселел и Виктор Иванович. — Ну-ка, ну-ка развивай, Алеша.
— Но ведь передачи-то днем только принимают, кругом — народ, — упорствовал Иван.
— Народу как раз в том месте немного: пустырь. Да и не всякий обыватель поперек дороги станет. А вот накладочка снаружи нам пригодится — ее надо запереть замком, чтобы часовой прощаться с нами не побежал.
Такой план оказался действительно заманчивым, но бесшабашная смелость задумки обескураживала, оттого все замолчали, пытаясь представить, как это получится на деле.
— Девяносто пять процентов риску, — тяжко вздохнул Иван, доставая кисет и неотрывно глядя на свой чертеж. — Ну, ладно. Вывели мы его за ограду… А дальше — куда? За город — верховые казаки настигнут, а в городе и вовсе перехватят.
— Об этом подумать не мешает, — согласился Алексей.
— М-да-а, — раздумчиво протянул Виктор Иванович, непрестанно чадя толстенной самокруткой. Он ухватился за шнурок тонкого уса, в хитрой улыбке сощурил голубые глаза, лоб высокий наморщил: — А скажи-ка нам, Иван Воронов, только честно скажи, как на духу: опешил ты от Алексеева плана, остолбенел?
— Ежели по-честному, верно. Оторопь берет. Прямо так и бегут под рубахой холодные мурашки.
— Ну, а тюремщиков и жандармских чинуш разве не возьмет оторопь от такой лихой проделки?
— Как не возьмет! — Иван осторожно высвободил из руки Виктора Ивановича до половины выкуренную цигарку, прижег от нее свою, затянулся. — Иные небось полдня с разинутым ртом просидят, не шелохнувшись. Да только кто же устроит им этакую оплеуху?
— Я предложил этот план, мне и выполнять его, наверно, сподручней, — откликнулся Алексей, поглядывая на Виктора Ивановича и пытаясь разгадать его мысли.
— Может быть, именно так и придется сделать. Но ведь не одному, а ты, Иван Воронов, может, и пособишь ему… Всем хорошенько подумать следует. В деталях, по мелочам все обмозговать… Поторапливаться надо, но спешить никак нельзя… А теперь скоро Зоя придет — пошлем ее с передачей в тюрьму. Погляди, Алеша, вон там на полке, нет ли какой-нибудь бросовой книжки.
Покопавшись под пестренькой занавеской, Алексей нащупал обложку небольшой книги и, вытянув ее, показал:
— Вот про Николая Чудотворца — пойдет?
— Как раз чудотворца и надо, — засмеялся Виктор Иванович, принимая книжку и раскрывая ее. — Чего мы ему напишем?
— По-моему, надо предупредить Антона, что мы готовим ему побег, — сказал Алексей — А Зою ждать не стоит: передачу отнесу я. — И, чтобы не помешали ему высказаться, чтобы выслушали до конца и согласились, зачастил, никому не давая возразить: — Надо же мне видеть его лично, надо поближе познакомиться с окошечком и особенно с калиткой!
С ним никто не спорил.
— Так я пишу, — сказал Виктор Иванович и, взяв у Воронова карандаш, начал ставить точки над нужными буквами в книжке: «На днях приедем готовься к выходу на свободу». Поймет? «Сообщи свое мнение». На странице он ставил одну или две точки, не более.
— Да уж чего тут не понять, — сказал Алексей, направляясь к двери. — Только вот догадается ли, найдет ли текст-то. На полкниги точки разбросаны.
— Найдет, — покашлял в кулак Иван, — делать-то все равно нечего. Не один раз книжку эту перечитает, все заметит и все поймет… А ты куда?
— Надо же человеку хоть огурчиков свежих с грядки передать, — уже из сеней отозвался Алексей.
Алексей, будто горячая оседланная лошадь, почувствовал нестерпимую готовность к движению. План его принят, и теперь надо не упустить ни одной мелочи.
4
А в это время особо опасного политического заключенного Антона Русакова изволил посетить сам господин прокурор города, явившись прямо в лазаретную камеру. Не часто попадают в его ведение столь крупные преступники, что жизни своей не щадят, а самому царю грозятся. На такого ради любопытства и то взглянуть не помешает.
Прокурор был далеко не молод, испытан во многих делах невеселой юридической практики. В тот год, когда студент Петербургского университета Александр Ульянов был арестован и казнен за участие в подготовке покушения на царя Александра III, прокурор уже начал самостоятельную жизнь на юридическом поприще. Но служба его протекала в уездных захолустьях, потому политическая жизнь страны известна была ему больше из периодических изданий, нежели из практики. И хотя из препроводительных документов знал он, что Русаков молод, видел его фотографию, знал рост и другие внешние приметы, имел представление о характере заключенного, но когда встретился с ним, разочаровала обыденность. Решительно ничего необыкновенного в нем не было. С лазаретной койки не торопясь поднялся человек лет двадцати пяти, выше среднего роста. Даже мешковатая тюремная одежда хотя и нарушала естественную стройность его фигуры, но не лишала привлекательности молодого нежного лица с характерной бледностью и едва проступающим, словно бы горячечным слабым румянцем.
Надзиратель, сопровождавший прокурора, не очень надеясь, что заключенный назовет свою фамилию, замешкался чуток, а потом полностью представил начальству своего подопечного.
— Вы не хотите назвать себя? — спросил прокурор скрипучим, каким-то старушечьим голосом, поправляя пенсне, будто пытаясь получше разглядеть перед собой человека. — Вас не знакомили с тюремными правилами и порядками?
— Как же вы плохо думаете о столь старательных царских слугах, — проговорил Антон, скупо улыбаясь. — Они свой хлеб отрабатывают честно, учат нас неустанно…
— Довольно! — проскрипел прокурор, брезгливо сморщившись. — У вас есть жалобы, вопросы?
— Есть вопросы. Закончилось ли следствие по моему делу?
— Нет, не закончилось.
— Когда закончится?
— Сие, как говорится, от нас не зависит. Пока документы не поступили… Да и куда вам спешить, молодой человек, на тот свет? Успеете. Никто туда не торопится… Еще что?
— Почему я совершенно лишен прогулок? Это же беззаконие!
— Т-сс! — прокурор предупредительно поднял указательный палец, ощетинил стриженые усы, приподняв верхнюю губу. — О законности и беззаконии вам не следует говорить, поскольку вы нарушили законы самодержавия, выступив против него с оружием. Какое легкомыслие, молодой человек, делать бомбы! Неужели вы серьезно полагали подорвать устои государства самодельными бомбами? Какая бессмысленная игра!
— Если это — игра, так чего же тогда смертной казнью грозитесь?
— Опасная и глупая игра, молодой человек. Это так же опасно, как, скажем, позволить двухлетнему ребенку играть спичками в пороховом погребе.
— Значит, все-таки боитесь взлететь, господин прокурор?
— Бежать не собираетесь? — будто не слыша вопроса, спросил прокурор и сам же ответил себе: — Ну, отсюда сбежать невозможно. Выкиньте из головы подобные мысли, ежели они еще вас беспокоят.
— Да у меня и в помине не было таких мыслей, а вы на что-то намекаете, будто в побег подталкиваете.
— Не намекаю, а предупреждаю и надеюсь на ваше благоразумие. Так называемого рабочего класса в городе нет, социал-демократов и прочих тайных политических организаций нет, к вашему сведению. Ежели, не дай бог, вам каким-то чудом удастся оказаться вне тюремной ограды, так ведь господа казачки кругом — и в городе, и за городом, да-с! Уж они вашего брата не жалуют, где бы ни встретили.
Добравшись до тюремной калитки, Алексей несильно, но настойчиво постучал в закрытое окошко. Дверца тотчас распахнулась, и в проеме показались темные усы и борода, потом и все лицо караульного солдата.
— Тебе чего? — спросил он, показывая желтые, прокуренные зубы.
— С арестованным свидеться…
— Не велено! — гаркнул солдат и захлопнул дверцу.
— Да ты погоди! Отчего не велено-то? Кто не велел?
— Говорят тебе: не приказано! Господин прокурор тута.
Услышав такую новость, Алексей и сам счел за благо удалиться, не мозолить глаза страже. Особенно не желательно с книжкой тут трястись, перед прокурором. Да и самому лучше не показываться, потому как прокурор, случалось, в книжную лавку заглядывал, встречал там Алексея и, по всей видимости, запомнил.
Пришлось прогуляться в окрестностях, и когда, минут через двадцать, вернулся к окошечку, все потекло иначе. Караульный вызвал надзирателя, и тот без задержки привел на свидание арестованного. Спросил у посетителя:
— Чего передавать будешь?
— Да вот… огурчики… свежие, А книжку можно передать? Или вы ее на просмотр к начальнику понесете?
Заграбастав широкой рукой книжку, надзиратель оглядел ее так и этак снаружи, раскрыл, поворошил листы, проверяя, нет ли там вложений, и подал Антону, говоря посетителю:
— Божественное дозволено без догляду. А вам, молодой человек, — повернулся он к Антону, явно подражая прокурору, — вам, молодой человек, только божественные теперича и читать бы. Другие-то уж ни к чему, как господин прокурор изволили заметить.
— Так ведь и вы, господин надзиратель, справедливо заметили, что божественное теперь ему читать самое время. Станем приносить только божественные книги.
Тюремное это окошечко примечательно было не только малыми размерами, но еще и тем, что прорезано неведомо для кого: даже самому малорослому караульному, чтобы заглянуть в него, приходилось наклоняться. А высокие должны перед ним вдвое складываться. Правда, снаружи, поскольку тут никакого настила не подбросили, поклон требовался гораздо меньше.
Неудобная поза стесняла надзирателя, потому он без промедления уступил окошечко своему поднадзорному.
— Когда тебе новую принести? — спросил Алексей. — Скоро эту прочтешь?
— Делать мне нечего, даже на прогулку не тратится время… Одному-то ужас как скучно… И о слове божьем стосковался я. За сутки прочту.
Алексей отметил про себя, что сидит Антон в одиночке, что его не выводят даже на прогулку, что он догадывается о назначении книжки.
— Ты не как пономарь читай, а с чувством, с толком, со вниманием.
Алексей значительно подмигнул, а Антон таким же способом ответил, что догадывается, мол, для чего такая книжка передается.
Наклонившись друг к другу, арестованный и посетитель могли свободно пользоваться мимикой, сдабривая ею словесные намеки и не опасаясь, что надзиратель или караульный заметит.
— Ну ладно, — заторопился Алексей, — некогда мне. Завтра не приду — сеструху пришлю. Пока…
5
Лебедевские ребятишки первыми заметили невиданную оказию. С городской стороны послышались крики, свист. На пологом склоне бугра показалась целая армада коней, впряженных в единую упряжку.
Не только мелкота, но и вполне зрелые люди и даже многие старики отродясь не видывали ничего похожего. Бабка Пигаска, выскочившая из своей землянки на шум, вгляделась слабыми глазами в ту сторону, куда побежали дети, приложила сухую почерневшую руку козырьком — ничего понять не может. Напрягая зрение, шевелила она кусочками облезлых бровей, собирала в кучку и распускала по изжелта-серому лицу пучки морщин, шамкала беззубым ртом… Разглядеть расплывчатое темное пятно мешало ей яркое послеобеденное солнце, сидевшее на самом краю черной тучи, тенью накрывшей загадочный предмет.
Оглянулась бабка туда и сюда — никого нет. А узнать-то хочется, что это за диво такое? Приподняла чуток перед сбористой длинной юбки и двинулась по улице. За углом плетня старой рословской избы увидела: на плотину спускаются двое. Остановилась бабка, догадавшись, что тут она что-нибудь да узнает. В одном без ошибки признала Тихона Рослова, торопливо костылявшего на своей деревяшке. Второй был совсем незнаком. По мере их приближения Пигаска все въедливее вглядывалась в незнакомца и скоро окончательно поняла, что человек этот не хуторской, со стороны.
— Антилегент, — заключила бабка, утянув сморщенные губы, похожие на куриную гузку.
Видно, что спешили они. Тихон едва поспевал за своим спутником и даже как-то подскакивал на одной ноге, чтобы не отстать. А тот, держа в руке серую кепку, показывал ею куда-то назад, за пруд, не укорачивая широкого шага. Бабка такого человека в хуторе сроду не видывала: был он чуть повыше Тихона, черные, как ночь, кучерявые волосы, будто баранья шапка, покрывали голову, да еще недлинные бакенбарды, тоже черные и кучерявые, почти закрывали уши. Лицо смуглое, нос горбатый, тонкий, и глаза навыкате. Голубая шелковая рубаха с мелкими пуговками под самый подбородок была перехвачена узким ремешком с блестящими наконечниками. Шаровары глаженые, а обут в мягкие шевровые сапоги.
— А ведь вы, Яков Ефремович, этой оказией всю плотину у нас разворотите, — с одышкой говорил Тихон, подымаясь на взвоз.
— Ничего с вашей плотиной не случится. Только вот не накрыл бы дождь. Гляди, Тихон Михайлович, какая туча плывет на нас. Упаси бог, ежели она прольется, пока плотину не переедем!
Бабка Пигаска, заглядевшись на странного незнакомца и пытаясь вникнуть в разговор этих людей и хоть что-нибудь понять, пропустила их мимо себя, бессмысленно кивнув на приветствие Тихона, потом встрепенулась и зачастила вдогонку:
— Тиша, Тиша! Эт что ж за чуда в степе объявилась? Вся ребятня туда ускакала… И вы туды же, видать, наладились…
— И ты туды же бежала бы, коль охота есть да ноги резвые, — усмехнулся, оборачиваясь, Тихон. — Никакая не чуда это, котел для шахты на двадцати четырех тройках везут.
Не могла угнаться за молодыми бабка — на первых же шагах отстала, потому воротилась она к рословскому плетню, потрясла свою широченную, какого-то грязно-мышиного цвета юбку, отыскивая в складках затерявшийся карман, и достала заветный пузырек с нюхательным табаком. Не спеша набила нос табаком, высморкалась в изнанку подола.
— Эт что ж за котел такой, что на двадцати четырех тройках везут его?.. Эт цельного быка, что ль-то, варить в ем станут?.. А може, трех сразу? — удивленно проговорила она.
Мохнатая туча, будто в моховое болото, целиком засосала солнце, прикрыв своей тенью весь хутор и медленно продвигаясь к Зеленому логу. Прохладой со степи повеяло. Небо над хутором пока оставалось чистым и бездонным. Повиснув невидимо где между небом и землей, торопился допеть свою песню жаворонок. Рословой Дарьи куры, купавшиеся в пыли на дороге, одна по одной потянулись к подворотне.
«А може, — думала бабка, привалившись к плетню и качнув его, отчего с большого решета подсолнуха, склонившегося над плетнем, на платок и на сухие плечи посыпались золотистые лепестки, — в ем, в проклятущем ентом котле, станут вываривать грешников, какие под землей угли копают да с чертями знаются…»
Теперь бабка ясно различала и взмыленных коней, идущих в упор, и ямщиков в мокрых от пота рубахах, и ребятишек, шныряющих вокруг этого необычного обоза. А вскоре топот ста сорока четырех пар копыт, пыхтенье, выкрики ямщиков будто прижали бабку к плетню. Перед нею на полозьях из толстых бревен, сдирая землю и оставляя продавленный след, ползло это чудо, совсем на котел непохожее. Черное, обтянутое блестящими медными обручами, оно пугало своей величиной и тем еще, что такая тяжесть, казалось, никак не должна двинуться с места, а она двигалась, ползла.
Перекрестилась Пигаска и зашептала молитву. По всем видам, полагала она, как только сани въедут на спуск к плотине — загрохочет, покатится эта «бочка» в пруд и лошадей за собой утянет. Но ничего такого не случилось. И опасения Тихона Рослова тоже оказались напрасными: плотина осталась такой же, как и была, лишь пролегли по ней две блестящие борозды от полозьев.
А вот на взвозе, на подъеме с плотины застряли сани. С ходу, сгоряча, можно сказать, пошли на крутой подъем и до половины одолели его, а после того, как прилипли, как в землю вросли — ни с места!
Кони, мокрые, в мыльной пене, передергивали вальки то на одну, то на другую сторону, струной натягивали постромки и даже рвали их, но после этого, совершенно обессиленные, тряслись мелкой дрожью, жалко скрючивались под грозными окриками ямщиков и не хотели больше напрягать усилий даже от хлестких ударов бича.
— За хозяином посылать надоть! — все чаще раздавались голоса ямщиков. — Изведем лошадей попусту, только и всего.
Бабке Пигаске ни за что не хотелось, чтобы котел этот проклятущий поднялся в гору. Хоть бы провалился он тут же в преисподнюю либо на месте травой зарос. Знала она, что за новой рословской избой шахта эта самая затевается. С Прийска в хутор наемных рабочих понаехало, постояльствуют уж во многих дворах. И незнакомый человек, что шел с Тихоном Рословым встречать обоз, есть не кто икон, как «анжинер» Зурабов — главный по шахтному делу человек. Об этом бабка догадалась, как увидела их вместе с Тихоном. И на постое он у Рословых же стоит, а контору у Прошечки в дому сорганизовать намереваются.
Не только бабку, но и прочих жителей хутора удручало то, что шахта эта подорвет давно устоявшиеся хуторские порядки, попортит здешних людей, поскольку слетится сюда множество чужого народу. Больше же всего боялись хуторяне, что вот-вот объявят им плату за землю и любую избенку, если того захочет хозяин, могут снести. Словом, людям всегда бывает больно, когда в их тихую, ровную жизнь так вот бесцеремонно врывается грубая сила, способная перевернуть все.
Бабка, наверно, еще простояла бы у плетня неведомо сколько времени, злорадно наблюдая за бесплодными муками множества людей, но вдруг со степи налетел буревой ветер, прямо возле нее на дороге высоким столбом закружил пыль, и первые крупные капли дождя, шлепая по ветхой кофтенке, холодом обожгли старческое тело. Едва успела Пигаска отойти от плетня и ступить босой ногой на дорогу, как где-то совсем рядом ослепительно сверкнула молния и сразу же, без малейшего промедления, с диким пугающим треском раскололось небо. Старуха присела от неожиданности неловко, потом опомнилась, истово перекрестилась и, торопливо прошептав короткую молитву, возликовала: бог-то, стало быть, заодно с ней! Слышала она, как Зурабов боялся дождя.
— Сидеть вам тута веки вечные! — еще раз перекрестилась бабка. — Прости меня, грешную, господи батюшка.
Но рассуждать ей было некогда: капли дождя с каждой секундой падали все чаще, а со степи, со стороны города, уже висела сплошная серая пелена приближающегося ливня.
От обоза врассыпную, кто куда, кинулись ребятишки. Взрослых зевак было тут немного — весь народ в поле. А если кто и остается по домашним делам, так некогда на всякие оказии глаза пялить, разве что издали мельком взглянуть.
Измученные кони понуро стояли в ослабленных постромках. Ямщики, видя бесполезность своих усилий, тоже отчаялись. А Яков Ефремович Зурабов бегал возле них, умоляя еще чуть-чуть поднатужиться. И котел будет наверху.
— Братцы, ребятушки! — взывал он, сжимая в руке серую кепку. — От себя по четвертаку накину — ну, еще немножко!
— Пустое, барин, — отвечал ему старший ямщик, бородатый и плечистый, в расстегнутой пропотелой рубахе. — Не поднять без хозяина.
— Когда еще он явится, ваш хозяин, а тут все осклизнет, — настаивал Зурабов. — Под полозьями-то сухая земля останется, а кругом намочит!
— Ништо, — спокойно отвечал ямщик, стирая пот с лица рукавом. — Всю дорогу, от самой станции, по сухой везем — славно подавалось. Не впервой нам… Да вон, кажись, и хозяин едет.
Со стороны кестеровской усадьбы резво катились легкие дрожки, запряженные гнедым длинноногим конем.
Богатый прийсковский мужик Лагунов когда-то в молодости пытал старательское счастье и, не найдя его, решил заняться извозным делом. Не встречалось на этом пути самородков золотых, зато копеечка шла верная. Не зависела эта копеечка ни от старательских удач, ни от засушливых годов, ни от дождливых — извозных дел всегда хватало. К тому же, когда промышленные компании строили шахты, нередко требовалось доставить тяжелые и негабаритные грузы. Всегда Лагунов подряжался перевозить такие грузы. Цену запросить не стеснялся. И считал он такие моменты вроде бы за найденные самородки. Правда, и то сказать надо, что не всякий возьмется за столь трудное дело да не всякий сумеет.
Направив обоз и выведя его из города, Лагунов наказал старшему ямщику, где останавливаться на отдых, где кормить лошадей, и уехал вперед — какие-то дела у него были на смирновской заимке.
Не доехав до обоза саженей двадцать, Лагунов соскочил с дрожек, оставил коня и, на ходу оценив обстановку, звонким, тягучим голосом скомандовал:
— Выпря-а-га-ай!
Ямщики только этого и ждали. А Зурабов бросился навстречу Лагунову, размахивая руками и крича:
— Хозяин, что вы делаете?! Хозяин, разве вы не видите, что ливень подходит?!
— А что, — улыбнулся в красивые черные усы Лагунов, — вы считаете, коням будет удобнее стоять под дождем в упряжке?
— Не стоять, а двигаться! — почти выкрикнул Зурабов. Смуглое лицо его налилось краской крайнего возмущения, и он резко взмахнул сжатой в кулаке кепкой возле самого носа Лагунова.
Но тот оказался не из робкого десятка. На вершок пониже Зурабова, в картузе и ладно сидящей поддевке, в сапогах, он стройностью своей смахивал на офицера. Ни один мускул не дрогнул на его безбородом лице. Колюче покосившись зеленоватыми глазами и покрутив острый кончик уса, предложил спокойно:
— А вы свейте вот из этой пыли, — показал на дорогу, — постромку, а я погляжу, как это у вас получится.
— Если вы нарушите срок доставки котла, — не унимался Зурабов, — я потребую штраф по контракту.
— Простите великодушно, — начал сердиться Лагунов, двинувшись мимо инженера к обозу и продолжая на ходу, — подряда я у вас не брал и контракта с вами не заключал. А сроков нарушать не собираюсь: через два часа котел будет на месте. — И, подойдя к ямщикам, громко распорядился: — Хомутов не сымать, кормить и отдыхать — полчаса! — словно бы вспомнив о собеседнике, повернулся к нему, осветив заразительной улыбкой. — Для чего пустую свару заводить, господин инженер? Да нам добра не пережить!
Зурабов, сообразив видимо, что шум делу не помощник, достал из кармана серебряный портсигар и, прикрывая его кепкой от дождя, протянул Лагунову:
— Вы курите?
Тот взял папиросу и скорым шагом направился к своим дрожкам за дождевиком.
— Пойдемте в дом, — вслед позвал Зурабов, поеживаясь под дождем в промокшей уже рубахе, — здесь моя квартира, совсем рядом!
— Нет, — отозвался Лагунов, — спасибочко! Вы идите, пока настоящий не хлынул, а я уж тут, со своими. Не глиняный, чать, не размокну. — И крикнул вдогонку Зурабову: — А про котелок не тужите — доставим!
Зурабов пустился бегом, чуть не сшиб у калитки Тихона, торопившегося к нему с накидкой. И только успели они скрыться — прорвалось небо, аж с дымкой заплескались струи. Но шел ливень недолго, не более четверти часа. Несколько раз за это время раскатисто и могуче прогрохотал гром. Потом дождь почти прекратился, но небо не очистилось. Лохматые тучи тяжело плыли над степью, наглухо закрыв небо и не обещая скорого вёдра.
— Ну, хозяин, и баня нам вышла! — оглаживая мокрую бороду, говорил старший ямщик. — После этакой жары да поту славно выкупало нас и лошадок взбодрило.
— Вот и ладненько, — как-то по-отечески покровительственно поддакнул, хитровато улыбнувшись, Лагунов, хотя мужику этому чуть ли не в сыновья годился: не больше сорока ему было. — Запрягать, стало быть, самое время. Так, что ли, я говорю?
— Наше дело кучерское, — словно в трубу, прогудел ямщик и зашагал к лошадям.
Запрягали скоро (да и запряжки-то всей — постромки прицепить), а хозяин обошел все тройки, обласкал коней, подбодрил гонщиков. Огладил, охлопал основного коренника, по крутой шее потрепал его и, поднявшись на взвоз, оказался на возвышенности, как дирижер перед оркестром.
— Приготовиться! — сказал негромко Лагунов, помедлил несколько секунд и вдруг будто запел тоненьким, пронзительным голоском:
— Н-н-о-о-о, пошел, родные! По-ше-о-л! — и выразительно повел рукой снизу вверх, словно вытягивая всю эту силищу в гору.
Разом гикнули ямщики, дружно рванули кони, как струны, ровно натянулись постромки — и сдвинулись сани, плавно пошли на подъем, утюжа промытую землю.
Услышав выкрики гонщиков, Зурабов бросился к окну и, наслаждаясь зрелищем столь слаженных усилий, проговорил, не поворачивая головы:
— Я пойду проводить обоз, а ты, Михалыч, скажи Настасье Федоровне, чтобы ужин готовила с хорошей закуской. Угостить надо этого Лагунова — молодец мужик.
6
Вроде бы та же самая степь, и колки березовые вокруг — те же самые, и дорога та же… И хлеб у дороги такой же, как четыре года назад, и васильки в нем, и травы на межах, и убаюкивающий неумолчный переклик перепелок и трели жаворонка, и ястреб плавно скользит в голубой вышине, высматривая добычу, и грачи на дороге — все так же! И все-таки что-то уже не так.
Солдат Василий Рослов, выйдя поутру на станции из вагона, послонялся по городу, на Меновом дворе побывал, на базар заглянул и, ни единой знакомой души не встретив, зашагал к окраине, выбираясь на дорогу, что ведет в родной хутор. Авось какой-нибудь попутчик догонит и подвезет. А и не догонит, так велики ли для солдата тридцать верст! За службу-то сколько их пройдено — немеренных и несчитанных!
Можно бы в городе к тетке Федоре зайти, да подводы у нее все равно нет — в стряпках она живет и едва ли племянника помнит.
Пока выбрался за город, солнце за полдень по ясному небосводу скатилось. Поправил шинель на руке, встряхнул за плечами котомку и прибавил шагу. По первости занимали его мысли две широкие полосы по краям дороги. Они тянулись от самого города и нескончаемо сопровождали его на всем пути. Будто сказочно громадные сани тут проползли, выгладив эти тускло поблескивающие полосы. Такие же полосы, помнится, встречались ему где-то возле станции.
Потом надоело гадать, что это за следы и кто их оставил. Глянул на вольную степь, на спеющие хлеба, на березовые колки, живописно разбросанные по полям. К перепелкам прислушался, к жаворонку, поискал его глазами в небе — не нашел, а вместо него увидел ястреба, деловито прощупывающего полусонные окрестности зорким взглядом. И вдруг, словно прищемило душу, ощутил он нечто похожее на отчужденность ко всему этому. До боли все знакомое с детства, родное показалось Василию каким-то иным, непохожим на то, что знал с пеленок. Так в чем же тут перемена? Не находя ответа, Василий не догадывался, что больше всего изменился он сам за долгие и тяжкие годы службы. И хотя это был вроде тот же человек, неизменным осталось лишь его имя.
Задумавшись, Василий не заметил, как с тыла накатилась на него густая тень, прохладный ветерок пробрался за воротник гимнастерки, застудил на спине горячие струйки пота и умчался вперед, завихривая на дороге пыль, растоптанную множеством конских копыт.
С виду все вроде бы просто и незамысловато: воротился солдат со службы в хутор — становясь в борозду, и вся недолга. Так ведь борозда-то милее станет, коли по своей землице пройдет она, да лучше, если возле родного гнезда проляжет. Конечно, дом деда Михайлы — это и его дом, но пора бы и своим обзаводиться. А с чего начать?
Вот если б Катюху не отдали замуж, летел бы он теперь как на крыльях домой.
— Кузька Палкин обнимает ее небось, — вслух раздумывал Васька, — ластится, сюсюкает возле ее, слюни пускает… Откуда же счастье эдакое человеку?..
Неведомо по какой причине, мысли метнулись обратно, на службу. Вспомнился полковник, у которого в связных почти полгода оттрубил. Оставляя его сверх срока, как исполнительного и справного солдата, полковник-немец не раз повторял:
— Оттого зольдат гладок, што поель на бок. Здесь тебе карашо. Дома ведь у тебя фсе равно никого нет, и дома нет. Послюжи, Рослоф, царю и отечеству — это тебе зачтется.
Он не объяснял, когда и каким образом зачтется, а опостылевшая служба тянулась и тянулась как вечность.
Где-то далеко сзади ворчливо пророкотал тихий гром.
— Ишь ты, как жизня хитро сотворена! Кузька под Катькиным подолом греется, он, губошлеп, в стороне, а Васька, стало быть, в бороне! — И обуяло Василия неукротимое зло, никогда раньше не испытанное. Он выкрикнул даже: — Выходит, ежели Васька везет, его и погоняют!
Каким-то расчудесным образом полковник и Кузька слились воедино в разгоряченном воображении. Над полковничьими погонами торчала глуповатая Кузькина голова…
И вдруг — Василий даже вздрогнул — сверху, будто сухие бревна разломились и стали падать на пустые бочки. А вместе с грохотом обрушились тугие холодные струи воды, в момент промочившие всего до нитки. В сапогах противно зачавкала вода. Василий даже не попытался накинуть шинель — бесполезно. Сделалось темно, словно сумерки наступили.
Солдат шагал посередине дороги, не обходя луж. А мысль о том, что ему, Василию Рослову, будто на роду написано так вот всю жизнь шлепать по борозде и не вырваться из нее, никак не уходила из головы. Кто-то невидимыми, но цепкими руками держит мужика в этой самой борозде, не давая выступить на ровное непаханое поле. И Василию хотелось, чтобы немилосердно лил этот дождь, смывая борозды, чтобы грохотал гром и в серой пучине неба беспрестанно сверкали молнии, очищая застоявшийся воздух.
Впереди на дороге показалось какое-то мутное пятно, размываемое струями дождя. Пятно не отдалялось, не двигалось, и скоро Василий смог различить телегу и задние колеса. Лошади впереди не видать, а маячит вместо нее что-то приземистое — ниже передка. Прибавил шагу и, приближаясь, разглядел все.
Старенькая телега накрыта была дырявым грязным рядном. На нем лежало кучкой с десяток пар новеньких лаптей. В передке — узелок, в серой тряпке еда, по всей видимости, завязана. Тут же свалена сбруя. Оглобли раскинуты широко в стороны, а между ними, возле самых их концов — освежеванные, страшно красные лошадиные ноги с чисто вымытыми дождем копытами. Лошадь лежала на боку, а возле, стоя в грязи на коленках, копошился человек, снимая с нее шкуру, подрезывал ее маленьким ножом.
— А этого, знать, прям в борозде смерть настигла! — негромко сказал Василий, но человек не обернулся. — Вот она, жизня-то наша.
Между круглой шапкой и воротником полосатого бешмета виднелась тонкая, дряблая, искрещенная сеткой морщин, землистого цвета шея. По ней стекала вода за воротник. Василий обошел старика, пытаясь заглянуть ему в лицо. А тот низко склонился, подрезывая шкуру под вздувшимся животом лошади. Видна была лишь длинная белая борода. С нее, как с мочалки, стекала вода. Темные, морщинистые, с голубыми жилками мокрые руки крупно дрожали, и оттого лезвие ножа не попадало в болонь, а тыкалось то в мышцы, то в шкуру, кровавя пальцы.
Шкура с верхнего бока лошади была снята до головы. А что же дальше-то делать этому человеку? Не справиться ему одному, не повернуть тушу.
— Эт как же вышло-то у тебя, дедушка? — громко спросил Василий.
Старик вздрогнул. Острый нож чиркнул по пальцу, но это не смутило и не огорчило беднягу. Он поднял выцветшие безразличные глаза, подставляя желтоватое ссохшееся лицо дождю, хриплым, едва слышным голосом спросил:
— Чего говоришь, человек!
— Как вышло-то у тебя это? — прокричал Василий, думая, что старик туговат на ухо, и добавил: — Чего с конем стряслось?
— Шел — упал… Совсем старый кобыла был, — вроде бы спокойно ответил старик, тронув кровавым пальцем выбеленную многолетьем бороду. В глазах у него стояли слезы, и, наверно, они текли по жухлым щекам, но по лицу, усам и бороде плескались дождевые струи, размывая их соленую горечь. Эти струи тотчас же смыли с белой бороды и кровавое пятно, оставленное от прикосновения порезанного пальца.
— Дак чего ж ты собираешьси делать?
— Не знаю… Шкура взять надо бы… Телега-то оставлять жалко.
Василий подумал: не тот ли это башкирец, что всегда лапти по хуторам возил? Спрашивать больше ни о чем не стал. Бросил на телегу разбухшую пудовую шинель, там же оставил тощую котомку и, завернув до локтей рукава гимнастерки, достал из кармана свой складной нож — единственную домашнюю вещь, если не считать нательного креста. Гайтан и тот не раз поменять пришлось — перетирает его медным крестом.
— Давай-ка пособлю я тебе, бедолага. Дожжик вон и то притомился — пореже вроде бы стал. А ты и вовсе, никак, обессилел с горя-то.
Они перевалили тушу на другой бок и принялись за дело. Дождь, утихая, шел теперь лениво и ровно. Гроза ушла куда-то на север, и с той стороны изредка доносились глухие — будто сытый цепной кобель рычал — раскаты грома.
Работая возле лошадиной головы, Василий невольно присматривался к ее морде, потом суетливо схватился за ее левое ухо, ощупал его, оглядел так и этак, на хвост глянул, на шкуру и присвистнул:
— Х-хе! Да ведь эт, никак, Мухортиха наша!
— Чего? — очнувшись от долгого молчания, спросил башкирец. — Чего ты говоришь?
— Да кобыла у нас эдакая вот была, украли ее.
— Ты лебедевский, что ли?
— Лебедевский я. Рослов… Не у тебя ли наш мужик уздечку-то наборную украл?
— А, было-было. Воровал.. Потом хозяин этого кобыла плохой уздечка давал. Кобыла тоже хотел взять… Теперь моя совсем нечего брать. Вот все тут. И старуха моя нет, и внучонка нет. Один остался.
— Где ж они все?
— Одиннадцатый год унесла. Голод.
— Везет же тебе, дедуня, как утопленнику. М-мм, — изумленно тянул Василий, — вот ведь где довелось встренуться в остатний разок, а!
— Туша-то закопать бы надо — лопата нет. Как его копать?
— Лопаты нет, — подтвердил Василий. — Ладно, посля с хутора придешь, закопаешь, чего тут останется. Глянь, вона сорок-то сколь вьется — живо по всей степе весть разнесут. Коли волков покличут, к утру кости одни и останутся.
С трудом вытащив шкуру из-под освежеванной туши, Василий свернул ее и бросил в задок телеги.
— Ну, а дальше чего делать станем? — спросил Василий, обмывая под дождем руки и глядя на старика, сиротливо привалившегося к передку телеги. В усталом взгляде тоскливых глаз башкирца гнездилось жуткое безразличие. Силы его, видать, истощились до крайности и, пришибленный еще одним горем, он, кажется, ничего уж больше не хотел, как тут же прилечь и навсегда смежить дряблые веки, чтобы отрешиться от пустых и безнадежных забот.
— Не знаю, — после долгого молчания выговорил чуть слышно старик, едва разжав спекшиеся губы.
— Ладноть, — вздохнул Василий, раскатав рукава гимнастерки. — До хутора тут версты четыре либо с пяток наберется — дотянем.
Он встал в оглобли, приподнял их и, оглядываясь на старика, все еще стоявшего возле телеги, спросил громко:
— Дойдешь до хутора-то?
— Может, дойду, — ответил старик и, оттолкнувшись от телеги, будто поплыл по грязной дороге, не подымая ног, обутых в какие-то опорки, наполненные водой.
Почти пустая телега на первых порах показалась легкой, и Василий, размашисто шагая, не чувствовал неудобства. Но со временем оглобли становились все тяжелее и оттягивали руки. Решил перекинуть чересседельник через загривок.
— Э, ч-черт! — ворчал Василий, привязывая ременный чересседельник к другой оглобле. — Хоть и везет мужик на своем горбу всю Расею, а без лошадки несподручно и ему… Ах ты, не дотянула Мухортиха последних верст до родимого двора!
Башкирец тащился саженях в двадцати сзади. Либо дождь этот и низкие мохнатые тучи так темнили остаток дня, либо уж настоящие сумерки накрыли степь, а может, еще от усталости в глазах рябило — не понять. Правда, и до хутора недалеко осталось: вот одолеть этот пологий подъем, а там спуститься с бугра и — дома. Но все тяжелее становится проклятая телега, будто кто назад ее тянет. И все-таки шагал без останову — наверху отдышку себе наметил.
А с бугра, как глянул на родной, притихший в сумерках хутор, на родную избу, из какой в солдаты уходил (признал и новую), на Прошечкин дом — защемило, зажгло ретивое. Бросить ко всем чертям эту телегу и слететь бы туда! Знал он, хорошо знал, что счастливые часы, пережитые здесь, никогда не вернуть, и все же тянуло туда неудержимо.
Оглянулся Василий — далеко ли башкирец, не видно его. Вгляделся в тускло поблескивающую лужами дорогу — нет! Бегом пустился обратно и саженях в ста увидел: плашмя, вниз лицом, лежит на дороге старик. Подняться, видно, пытался — весь в грязи, от дороги его не отличишь. Подступился к нему Василий, приподнял под руки.
— Не надо! — молитвенно слабым голосом просил старик. — Оставь меня, хороший человек. Зачем тебе столько забота?
— Эх, отощал ты, дедок, совсем, либо уж от старости хизнули силенки.
Поднял его на руки — не тяжело. Пожалуй, намокший бешмет, шапка да опорки не меньше потянут, чем усохшее старческое тело. Когда устали руки, перекинул его на плечо. Так и донес до телеги. Уложил половчее, хватился:
— Эх, покормить бы тебя, дедуня! Небось позабыл, когда ел-то.
Сунулся к башкирцу в узелок. Полбулки ржаного, размокшего в кисель хлеба, лепешка — тоже в руки не взять, несколько вареных картошин, два свежих огурца.
— Не надо, ничего не надо, прошу тебя, человек, — твердил одними губами старик.
Василий свою котомку ощупал — там то же самое: хлеб раскис и перемешался с «железными» сухарями. Хороший кусок соленого сала есть, так ведь грешно башкирцу этот продукт употреблять.
— Ну, до дому придется потерпеть, дедуня, тут уж недалече. А вот закурить не помешало бы, да спички в прах размокли.
— Есть огонь, есть! — оживился старик и полез дрожащей рукой за пазуху. Рад был тому, что хоть чем-то может и он помочь доброму человеку. — Вот здесь огонь. Возьми. Совсем возьми. Старика помни…
Пока башкирец доставал «огонь», Василий свернул цигарку. Табак и бумага хранились у него в жестяной банке. Принял из холодной руки старика маленький кожаный мешочек — меньше кисета — и нашел в нем кремень, кресало и трут в медной трубке. Все сухое. У самого сердца хранил «огонь» этот истлевший человек.
Василий высек искру, раздул её и, прикурив, лихорадочно затянулся.
— Спасибо тебе, дедок, удоволил ты меня. А «огонек» свой возьми — сгодится он тебе, — и протянул руку с кожаным мешочком.
Но старик никак не ответил на этот жест, и, вздрогнув, Василий схватил его за коченеющую руку, потом раздвинул бешмет и припал ухом к груди…
— Отошел, — перехваченным голосом сказал Василий, сдернул фуражку и, крестясь, добавил: — Упокой душу его измученную, господи!
Он отступил от телеги, как бы раздумывая, что предпринять, и снова впрягся в оглобли. Легко шагая под уклон, Василий старался угадать, что теперь делают его родичи. Не ждут они своего солдата со службы. Раньше осени и сам не чаял домой попасть…
У Макара и Мирона в избах едва мерцают огоньки, а у Тихона и в горнице все окна ярко светятся. Праздник, что ли какой справляют? Уходил из одного двора, а теперь их три. Но у Василия не было вопроса, в какой из них заходить: где дед, там и его дом. Однако тащиться с телегой через плотину и подыматься на крутой взвоз не захотел.
— А придется в старую избу, к Макару, сперва зайтить, — решил Василий. — Не все ли равно мертвому башкирцу, в каком дворе ночевать!
На улице не совсем еще стемнело — все разглядеть можно. Повернул к старой рословской избе и только стал к воротам телегу подтягивать — калитка отворилась. Бабка Пигаска, будто привидение, медленно выплыла из нее и, не отпуская кольца, оторопело затопталась на месте. Василия она явно не признала, да и не до этого ей было в ту минуту. Сделала несколько опасливых шагов к телеге, свежую шкуру лошадиную разглядела.
Во дворе собака завыла жалобно.
— Здравствуй, бабушка! — приветствовал ее Василий, бросая у самых ворот оглобли.
Ничего не ответила бабка и, не устояв против великого соблазна, храбро дотронулась до холодного, мокрого лба башкирца. Дико взревнув, — даже перекреститься забыла, — по-молодому обратно в калитку метнулась. И только Василий успел растворить ворота, выскочило из сеней все семейство Макара. Даже новорожденную Патьку, Клеопатру то есть, завернутую в пеленки, Дарья возле открытой груди держала.
— Ва-ася! — Дарья первой узнала солдата и бросилась к нему, обняв за шею одной рукой и целуя в мокрую, небритую щеку. — Усы-то, как у Макара, такие же выросли. А собою, знать, покрепче да и повыше Макара-то вымахал…
— Ну, здорово, племянничек! — поправляя усы, шагнул к нему Макар и поцеловал Василия крепко в губы. — Нет, Даша, усы у его чуток потемнейши моих будут. Солдат из его ладный вышел, а баушка вон заскочила в избу да кричит: лиходей какой-то к нам припожаловал с мертвяком!
— Ух ты, невеста выросла! — удивился Василий, обнимая и целуя Зинку.
Потом он и до Федьки добрался.
— Ну, ты в ночное-то ездишь?
— Маловат еще, возля меня поколь держится, — отвечал за сына Макар, а сам по шажочку к телеге делал.
— Вася, да какой же ты грязный да мокрый-то весь! — только теперь разглядела Дарья. — И неодетый-то.
Бабка Пигаска держалась на отдалении, возле крыльца. Неловко ей было, что так опростоволосилась, не признав Василия. Так ведь опять же, и мертвяк этот, и шкура лошадья — со службы, что ль, он волокет все это?
Макар закатил во двор телегу и запер на засов ворота.
— А этим хозяйством-то где ты обзавелся? — спросил он, приглядываясь к покойнику.
— Да недалеко тут, верстах в пяти, на городской дороге. Лошадь у его пала, Мухортиха наша.
— Ну-ну, — подтвердил Макар. — Знакомый лапотный торговец… Ничего, знать, не наторговал за свою жизню, так на дороге и кончился вместе с кобылой.
Ребятишки бросились было к телеге, но Дарья отогнала их, а Макар, выпростав мокрую ряднину, прикрыл одной ее половиной башкирца. Бабка Пигаска, будто бы крадучись, отступала к калитке и, взявшись уже за кольцо, пророчески молвила:
— Радость у вас большая, суседи, а все ж таки шибко плохая это примета, как солдат с мертвяком домой воротился. Помяните мое слово: либо у вас в родне упокойникам быть многим, либо война, либо мор какой на народ случится… Не следовало тебе, Вася, подбирать его на дороге. Никак не следовало! Да хоть бы крещеный был, а то ведь — нехристь, басурман, а ты его домой волокешь. Грешно! — и двинула Пигаска восвояси.
— Х-хе, старая! — усмехнулся Макар, подталкивая племянника к крыльцу. — Васька ей войну и мор на башкирской телеге привез! Да ежели этому быть, дак оно и без всякой приметы случится… Отвезем его вон за гору да закопаем. Либо на мазарки уж отвезем.
— Нет, — жестко возразил Василий, — не годится так. Отвезть его придется в Бродовскую к поселковому атаману. Пущай уж он и определяет его.
— А это ты, пожалуй, умно рассудил, — согласился Макар, входя следом за всеми в избу. — Закопай его тута, а злой человек возьмет да донесет. Греха не оберешься. Спросы да допросы начнутся.
— Вася, Вась, — хлопотала Дарья. — Все свое мокрое скинь, сполоснись вон хоть под рукомойником, а я тебе сухое Макарово подам.
Патьку отнесла она в зыбку и в горнице приставила к ней нянькой старшенькую, Зинку.
— Дак чего ж мы, Даша, сюда, что ль, скликать всех станем аль к дедовым пойдем? — спросил Макар. Так теперь все Мироново семейство прозывалось — дедовы, поскольку с дедом жили.
— Да нет уж, неловко тута, возля телеги этой. А ты вот чего, Макарушка: добежи-ка до Лишучихи, вина купи, да и пойдем все к дедовым… Рубаху вон чистую достала я тебе. Не забудь надень.
На такое дело — к Лишучихе-то бежать — Макара подгонять не надо. В момент снарядился. И, доставая из-за божницы деньги, потревожил за столом Василия, приладившегося тут бриться. А потом, отойдя от стола и явно любуясь племянником, азартно выговорил:
— Глянь-ка ты, Даша, какой дитенок вымахал, а! Рубаха моя на ем вот-вот по швам вся распорется.
— Вижу, — весело отозвалась из горницы Дарья. — Знать, не во вред сиротинушке солдатские сухари пошли.
— Э, Даша, — сказал Макар, уходя, — доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок. Прошечку вон хоть в салу обмакни — не подрастет он и не потолстеет.
Пока Дарья сама принарядилась да ребятишек собрала, пока Макар вернулся — совсем темно на дворе стало, и дождь лениво, по капельке падал. Федька шлепал-шлепал по грязи, приотстал и подал голос, как с плотины подыматься стали:
— Ма-ам, а назад пойдем, дак и вовсе в грязе потонем.
— Да куды уж вам еще назад, там у дедовых на полатях и заночуете… Иди скорейши!
А во дворе у Мирона Дарья заговорщицки предложила:
— Ва-ась, ты пойди пока с Кураем поздоровкайся! Ишь, он, того и гляди, цепь оборвет. Узнал небось. А мы одни войдем да поманежим их загадками.
В избу из темноты ввалились все скопом, разделись у порога, а потом, пройдя к столу, Макар с торжественностью в голосе провозгласил:
— Здравствовать вам! — и выставил на стол две запечатанных бутылки.
— Добрый вечер вам! — следом пропела Дарья, вся сияя от радости и едва сдерживая смех.
— Эт чегой-то они, ровно по золотому целковому проглотили, — удивилась Марфа, засовывая голые руки под фартук. — Дарья-то так и блестить вся.
Мирон, поглаживая широкую бороду, покрякивая, поднялся с лавки от печи, к столу подошел, глядит на гостей растерянно.
— Праздник, что ли, у вас какой? — спросил дед Михайла, поглаживая сухой рукой бутылку. — Аль клад опять нашли, как Тиша в ентот раз.
— Ба-альшой праздник у нас и у вас, батюшка! — задыхаясь от восторга и сдерживая себя, сказала Дарья.
А Степка, видя, что стряслось что-то необыкновенное, слетел коршуном с полатей, зажал Федьку в полутемный угол к рукомойнику и строго потребовал:
— Сказывай, сопливец, с чем пришли!
— Мама ругаться будет, — громко зашептал Федька.
— Да не станет она ругаться: глянь, какая веселая. Ну, сказывай, а то на полати к себе не пущу!
Выведав у братишки правду, Степка бросился к двери, крича:
— Да ведь Вася наш из солдатов пришел! Во дворе он! — и вылетел в сени.
— Ах, враженяты, поиграть вдоволь не дали! — захохотала Дарья. — Вот и праздник: пришел Вася!
— Где же он? — на разные голоса, совершенно сбитые с толку, повторили и Мирон, и дед Михайла, и Марфа. А Дарья, довольная тем, что ее забава еще не кончилась, хохотала, как ребенок. А еще больше развеселились, когда в распахнутую дверь, низко склонившись, влез Василий, везя на загорбке Степку.
— Куды ты эдакого жеребца взгромоздил себе на шею! — возмутился Мирон. — Его, чертана, самого запрягать уж можно.
— А Митрий-то где же? — спросил Василий, стряхивая с себя Степку.
— На стану караульщиком оставлен, — ответил Мирон. И начались поцелуи, объятия, ахи да охи Марфины.
— Степа, Степа! — хрипловато позвал дед. — Добежи до дяди Тихона, пущай придуть. У их тама Зурабов главного ямщика угощаеть, да по такому делу все равно прибегуть.
Степка не заставил повторять эту просьбу дважды.
— Чего ж ты, солдат, — спрашивал Мирон, поправляя усы после поцелуя и держа одну руку на плече племянника, — чего ж ты во все мужичье одет? Где твоя обмундировка?
А дед, поднявшись из-за стола, приставил к стене клюку, удостоверился, что не упадет она, и, прежде чем обнять внука, ощупал голову, лицо, усы потрогал, подбородок; по шее, по плечам, по предплечьям провел узловатыми пальцами и уж после того трижды поцеловал его.
— Ладный, кажись, ты мужик стал, — сказал он, садясь на прежнее место, к углу стола. — Служба тебя, слава богу, не понахратила, внучок.
Из горницы выскочили Ксюшка с Нюркой. Нюрка не стала дожидаться, пока Василий обратит на них внимание. Подошла и сказала:
— Здравствуешь, Вася!
— О, не зря ты в опаре-то крестилась! — обнял ее Василий. — Гляди-ка вытянулась-то как!
Ксения не подошла, а этак подплыла, кокетливо протягивая руку.
— Ух ты! — засиял Василий. — Вот эт дык неве-еста. М-м… Настоящая! — и расцеловался с ней. — Небось все женихи, Ксюха, твои, а?
От этих слов и поцелуев Ксения вся занялась ярким пламенем, застенчиво и весело улыбнулась, показав обворожительные ямочки на щеках. Нюрка втайне обиделась даже, что ничего такого не сказал ей Василий, только про опару вспомнил. Подумаешь, какой ведь!
В сутолоке этой, в толчее никто и не заметил, как к гостю подкатилась на кривых ножках Санька, ухватила его за штанину и с достоинством объявила:
— А я тозэ сколо невеста буду.
— Да ну! — ахнул Василий и под общий смех начал метать девчонку под самый потолок. Соскучившись за долгие годы о маленьком этаком тельце, он щекотал ее, тискал, а Санька до синевы заливалась хохотом. Продолжалось это до тех пор, пока по рукаву рубахи не потекло горячее, отрезвляющее и большого, и маленькую.
— Вот дык неве-еста! — покрякивал Василий, поспешно ставя девчонку на пол и стряхивая с рукава мокроту. — А меньше-то у вас никого, что ль, нету?
— Нету, — сказал Мирон.
— Троих без тебя родила, — отозвалась от залавка Марфа, — да не живуть чегой-то.
— А ты жениться-то не думаешь, Вася? — спросил дед, при этом дипломатично покашляв.
— Да нет, погожу пока, — вздохнул Василий. — Оглядеться надоть.
— А ты оглядывайся, — посоветовала Дарья, — да не налети на такую, чтоб на шею тебе села. А то, гляжу я, щедрый ты больно со службы-то воротился: и башкирца на себе приволок, и Степку на загорбок водворил — всех не увезешь…
— Може, хозяйством займусь, — не слушая Дарью, перебил ее Василий, — може, в городу где пристроюсь…
— Во-она как! — с удивлением и значимостью протянул дед. — Ты и на хлеборобство, стал быть, наплевать можешь. Ну-ну-у… Готовый хлебушек тебе потреблять удобнейши, чем сеять его, да жать, да молотить, да землю пахать — так, что ль?
Обидели Михайлу такие слова внука: все поколения Рословых и при барской неволе и после нее никогда ничем иным не занимались, как хлебопашеством. Вросли в землю. И ни о чем другом не помышляли. Труд хлебороба почитался здесь за наиглавнейшее, дело на земле, потому как кто бы чем ни занимался на этом свете, а хлебушек ест крестьянский.
— А ты бы подумал, Вася, поскладнейши, — заметив недовольство деда, наставительно проговорил Мирон. Теперь он снова сидел на лавке возле печи и корявыми пальцами то широкую бороду ворошил, то нос толстый ощупывал, то мохнатую бровь поглаживал. — Тиша наш случайно вон каменный уголь нашел тута, дык на его мужики хуторские недовольны шибко. Прямо-то в глаза не говорят, а видно, что шибко недовольны.
— Ну, за глаза и царя ругают, — поговоркой ответил Василий. Он понял, что не следовало пока объявлять своих намерений. — Чего ж бы им недовольным-то быть? Какое им до этого угля дело?
— Да как же — какое дело! — зазвучала обида и в голосе Мирона. Руку вперед он выбросил, словно защищаясь. — Землицу-то под постройками у нас отняли. На задах вон за нашей избой шахту ставить налаживаются. Чуть помешаем — и сковырнут нас. Народу разного понаехало в хутор. Воришки, пакостники всякие налезли. Надысь молоток на лавочке возле двора оставил, не успел за гвоздями в чулан сходить, вернулся — его уж нету!
— Небось больше Ухабаки все равно никто не пакостит, — возразил Василий для порядка, хотя и его уже начали волновать заботы семьи.
— Х-хе, — засмеялся дед, — да Кирилл Платонович теперя у нас как шелковый. Ладно его поучили в ентот раз на Катькиной свадьбе у Прошечки. Кровью, никак, харкал, злодей…
Скрипнула входная дверь, и следом за Степкой в избе появилась вся Тихонова семья.
7
Трава хотя и сочная в этом году, буйная, все равно под обжигающим солнцем начинает дубеть, крепчать, и к обеду даже самая острая, тонко отбитая коса позванивает, будто к тончайшей прокаленной в пламени проволоке прикасается. Дзинь-дзинь! Тянуть косу становится все трудней и трудней. А на рубахе уже невозможно отыскать сухое пятно.
Изо всех сил стараясь не отставать от сына, Леонтий бросил на прокос видавший виды картуз. И рубаху сбросил бы, да оводы покоя не дадут — так и кружат они постоянно возле косарей.
Почти вся семья у Шлыковых нынче на покосе: Гришка с косой впереди идет, за ним — Леонтий, а дальше Манюшка и Яшка тянутся, кожилятся изо всех сил. Даже Семку привозят сюда. На прокос пока не ставят его, а получив от матери подробнейшие инструкции, что и как делать, орудует он на стану — обед готовит, за конями доглядывает.
Дома остается один Ванька. По годам давно бы Иваном его называть, а по делам — так Ванькой и остается. Не цветет он, не вянет. Весной совсем было уж дело до краю дошло — хоть гроб заказывай. А летом вот опять отдышался, даже по двору ходить стал и на улицу, за ворота, иногда выползает.
Сегодня утром, как уезжали, тоже худо ему было — весь в поту, в жару метался и стонал протяжно.
— Либо дожжик ноничка будет, — говорил он матери, — либо помру… Ты бы уж не ездила на покос-то…
Жалко было Манюшке оставлять сына одного дома, да все равно пришлось поехать: возле него все время не просидишь. А сена-то больше и больше надо с каждым годом — кроме Сивки да Рыжухи, еще конька вырастили — Карьку, да еще жеребеночек годовалый есть. Овец прибыло, телят и прочей животности — всех кормить целую зимушку надо.
Леонтий тянул, тянул до конца прокоса (вот-вот жилки полопаются — травища густая да высокая) и, как увидел, что Гришка на край вышел, закричал сполошно:
— Шабаш, Гришуха! Силов нету. На новую ручку не выходи.
Как ни разговорчив Леонтий — минуты в другое время не помолчит, и коли не с кем перемолвиться, так сам с собой разговаривает, — а тут вскинул на плечо косу, смолянку из-за пояска вытянул, чтоб не потерялось дорогой, в правую руку взял. Так до стана и не проронил ни слова.
— Ну, кашевар, чем потчевать станешь работников? — спросил он у младшего сына, вешая косу на сучок старой березы, к которой пристроен был балаган, травой покрытый.
— Польску́ю кашу сварил, как мама велела, да молоко вон кислое есть, — с достоинством ответил Семка.
— А лошадей давно доглядывал? Где они?
— Вон за ентим колком пасутся. Только что оттудова я воротился, на водопой сгонял. Все равно не едят они: от оводов прячутся.
— Ну молодец, — похвалил сына Леонтий. — Справным, знать, хозяином вырастешь.
Пока Леонтий с ребятами руки мыли, поливая друг другу, Манюшка недалеко от погасшего костра тряпку раскинула, на середку несколько палочек положила и на них котел пристроила. Хлеба еще нарезать да ложки положить — вот и стол готов.
Яшка первым возле котла-го приладился и, схватив ложку, зачерпнул ею польской каши, сготовленной братом.
— Куды ж ты вперед больших лезешь, вражонок! — шлепнула его по лбу ладошкой мать. — Я еще в кашу-то маслица не бросила.
Не от шлепка этого, а совсем по другой причине Яшка скосоротился весь и, глядя на Семку, сказал с издевкой:
— Чего ж ты, кухарка, посолить-то забыл, что ль? Трава травой.
— Ладноть, — примиряюще стукнула Манюшка по краю котла деревянной ложкой, — недосол — на столе. Эт ведь пересол на спине-то, — и, размешав масло, щедро посолила кашу.
Вокруг котла чинно сидели уже все члены семьи. А Яшка, почуяв неладное, помалу стал отодвигаться от круга, так, чтоб никому это не заметно было. Оглянулся назад, словно бы намечая себе путь к отступлению.
— Ну, готово, что ль? — спросил Леонтий и, на правах старшего, первым отведал каши, поперхнулся, мыча, по-козлиному тряся редкой бороденкой, сплюнул, отвернувшись от стола. — Чего ж вы, стряпухи, наделали-то? Соль ведь голимая — в рот нельзя взять!
Только теперь Манюшка поняла Яшкину проделку и бросилась было к нему с кулаками, да разве догонишь? Семка успел, правда, заехать ему кулаком разок по загривку — рядом был — так это не в счет.
Словом, ругали Яшку все, будто Семка и не виноват вовсе, а каша от этого не стала менее соленой. Пришлось разбавлять ее блошничным отваром, какой всегда на покосе вместо чая пили. Уж потом, как доедать стали, когда увидели, что весь низ котла покрыт пригаром толщиною в палец, перепало и Семке за это варево.
После обеда Леонтий, Яшка и Семка подались в тень шалаша на душистую травяную подстилку, Манюшка посуду прибрала и туда же отправилась. А Гришке надо все косы отбить да наточить их, чтоб до вечера резали траву исправно. Конечно, править их будут косари на каждом прокосе, но, жало у литовки должно оставаться тонким, тогда и поправить его легко — так, с боков смолянкой погладить, и снова коси, Но сперва Гришка выкурил здоровенную цигарку, лежа в холодке за балаганом, потом уж за дело принялся. И когда курил, и как за отбойную бабку присел, все думал, как ему слово-то перед Катюхой выдержать.
Нонешней ночью, как сговорились, ждать она станет на бродовском кладбище. Небось все пожитки свои туда перетаскала. Ехать позарез надо. А как? Соврать что-нибудь отцу да открыто уехать? Трудно в такую пору подыскать причину, чтоб важнее сенокоса была. Опять же, и мать не умолчит, непременно в разговор встрянет и его задумку разоблачит. С отцом в таких делах попроще…
А Леонтий, свалясь в шалаше на слежалую траву, думал, что сон придавит его сразу же, как только веки смежит. Но сон отчего-то не шел. Сперва принюхивался к разнотравью, запах медуниц вдыхал затяжливо, потом пчела залетела и надоедливо жужжала где-то под сводом, а тут комар присоединился и нудно зазвенел над самым ухом. Гришка начал однообразно тюкать по бабке отбойным молотком.
— Ноничка Гришуха вон пособляет, — одолевали невеселые мысли, — а на ентот год как с делами без его справиться?.. Царю, видишь ли, мой Гришка нужен, и никто у отца не спросит, сколь горько ему без сына оставаться. Вот ведь как шашки все порасставлены — иного и хода нету.
Ни говорить, ни думать коротко Леонтий не умеет. Однако промаялся не больше получаса он. Потом ни пчела, ни комар, ни стук молотка не помешали ему — захрапел сладко, с присвистом. И ничего уж больше не слышал…
Проснулся Леонтий последний, как и уснул. А вернее сказать, Манюшка его растолкала. Так и этак трясла она мужа, за бороду дергала и по лицу шлепала — спит! А тут, в шалаше, уж и лежать-то нельзя — все водой взялось. Дождь хлещет несусветный — в двадцати саженях не разглядеть ничего — и гром грохочет, будто само небо поломалось.
— Да очнись ты, засоня проклятущий! — в отчаянье восклицала Манюшка, спиной тесня ребят к наклонной стенке шалаша. — Да раствори шары-то, нечистый ты дух! — взвизгнула она, дернув Леонтия за жиденькие волосенки, но тут же опомнилась и перекрестилась истово, прося у бога прощения, поскольку нечистого поминать во время грозы — грешно и возмездие может настигнуть немедленно.
— У-у, воды-то кругом сколь! — удивился Леонтий, подымая голову и задевая ею за мокрую кровлю шалаша. — И громушек гремить. — Сел, почесал поясницу и улыбчиво добавил: — Не зря я баню во сне видал. Пар в каменке урчит, захлебывается, а ты, Ма́нюшка, будто бы по мне веничком похаживаешь…
— Походила бы я по тебе хоть оглоблей, да размахнуться тута негде, — улыбнулась и Манюшка. Чего ж делать-то станем? Вон ведь какой хлещет! И просвету нигде не видать — надолго, знать, зарядил.
— Вона вся лужа пузырями взялась.
— Ну-к, что жа, домой, стал быть, поедем. Как раз и баньку потопим. Где Гришка-то, за лошадями, что ль, ушел?
— Не видала я его. Може, до меня встал да ушел?
— Бежите, ребяты, за лошадями, — распорядился Леонтий. — Може, там и Гришку встренете. Ну, живо, живо!
Ребята нехотя полезли из шалаша — хоть и сыро в нем, да все не так мочит — и, окунувшись в дождь, бегом пустились через поляну к ближайшему колку, Манюшка с Леонтием тоже выбрались на волю — пожитки собирать да складывать в телегу.
— Слышь ты, Манюшка, — хватился Леонтий, — а где ж у нас легкая телега-то? Вот дык штука!
— Не Гришка ли уехал куда? — предположила Манюшка.
— Эт куды ж бы ему уехать, скажи на милость?
Ничего придумать, понятно, они не могли. А тут лошадей ребята пригнали. Карьку, говорят, не нашли?
— Ну, вернее всего, что Гришка на ем и уехал, — подвел итог Леонтий, запрягая Рыжуху в телегу и смахнув ладонью с бороды воду.
— Как дожжик начался, так он домой и поехал…
С таким доводом и Манюшка согласилась, поскольку подумать больше не на что было. Яшка и Семка в догадках этих не участвовали — им бы до дому скорей добраться. А Гришка не маленький — никуда не денется.
Однако и дома его не оказалось. Леонтий, растапливая баню, ломал голову так и этак. Не ребенок он, конечно, и куда попало не сунет голову, а все ж таки любопытно: куда парню деваться?
Потом и в бане все перемылись, и отужинать успели — не появляется Гришка. На дворе уж совсем стемнело, и дождь почти перестал — так себе, капля по капле падает. Спать бы теперь ложиться да не шелохнуться бы до утра. Но не до сна тут.
Мыкался, мыкался Леонтий по избе из угла в угол, на улицу раза два выходил и, потеряв надежду на возвращение сына, объявил:
— Добежать мне до Рослова Макара надоть. Стан-то их недалеко от нашего. Враз да приметил он чего, либо в дороге виделись.
— Добежи, добежи, — одобрила его намерение Манюшка. — Може, и правда, чего узнаешь.
Выйдя из двора и поеживаясь после бани на промозглом ветерке, Леонтий опасливо ступал промытыми дождем лаптями по бугоркам, обходя лужи, и норовил выбиться на мураву, где это возможно. Издали все приглядывался — не видать ли огня в Макаровой избе? Не видно что-то. Наверно, спать улеглись. Что ж, побудить придется. Зашел в палисадник, в одно темное окошко постукал, в другое — безответная тишина внутри. Подождал малость, прислушался, припав ухом к стеклу — тихо. Еще побарабанил костяшками пальцев по раме.
— Дома, что ль, никого у их нету? — негромко спрашивал себя Леонтий, пробираясь по фасаду к калитке. — Куды ж они все подевались-то?
В калитку вошел и шагов пяток по двору сделал. С крыльца к нему белым длинным пятном Лыска прыгнул да гавкнул беззлобно. Леонтий знал, что кобель этот никогда ни одного человека не укусил, но тут все вышло до такой степени неожиданно, что струхнул он изрядно и проворно отскочил влево, больно ударившись бедром о грядушку телеги башкирца, но не заметил этого, поскольку рукой нечаянно попал под ряднинку, ткнувшись прямо в холодное, уже затвердевшее лицо старика. От новой неожиданности рука Леонтия судорожно дернула рядно и открыла покойника.
— Господи Сусе! — только успел сдавленным шепотом молвить Леонтий и, не помня себя, шарахнулся к воротам. Лбом в столб угодил, а полотно калитки, растворяясь, пошло на него само. В проеме черная тень остановилась.
Вырвался из груди у него какой-то нечеловеческий вопль, и, может быть, именно он придал Леонтию храбрости сигануть мимо этой тени в темный простор улицы. Летел он, не разбирая луж и не оглядываясь.
А сзади голосом бабки Пигаски привидение это вещало:
— Кто ж эт по ночам чужие дворы проверяет? Да еще по окнам стучит.
Слов ее Леонтий не разобрал, но хоть под присягой, хоть на исповеди готов был утверждать, что видел настоящую, живую ведьму. А с той стороны — от Макаровой избы, стало быть, — вслед несся жуткий, раздирающий душу протяжный собачий вой.
Вскочив к себе во двор и трепеща всем существом своим, Леонтий трясущейся рукой накинул веревочный хомутик в притворе дверцы и, вконец обессиленный, едва дотянул до избяной двери. А перевалив порог, рухнул замертво.
— Господь с тобой, отец! — бросилась к мужу Манюшка, подхватила его и легко перенесла на лавку. — Ба-атюшки! Да ведь он весь избитый! Головушка ты моя, разоренная! Да какой же растакой лиходей загубил тебя безвинного! — слезно запричитала она, разглядывая на мертвенно-бледном лице лиловый синяк. Будто черный наперсток под кожу засунули над правой бровью.
Не зная, что делать, Манюшка стала мочить тряпку, чтобы положить ее на лоб мужу. А Леонтий, очнувшись тем временем, жмурился на язычок пламени трехлинейной лампы и тупо вспоминал детали происшедшего.
— Ма́нюшка, Маня, — заскрипел он больным и до невозможности нежным голосом, — скажи, живой, что ль, я?
— Живой, отец, живой! — обрадовалась Манюшка, бросила тряпку и склонилась над ним. — Да кто ж тебя удостоил-то эдак?
— А эт ведь упокойник поиграл со мной чуть не до смерти.
— Уж не спятил ли ты, бог с тобой? Какой такой упокойник?
Леонтий приподнял голову, повертел ею, потряс, словно надеясь таким способом водворить растерянные мысли на свои места, и, кряхтя, уселся на лавке. Видя, что Манюшка ждет не дождется от него толковых слов, разъяснил:
— Такой вот и упокойник! Во дворе у Макара на телеге лежить, как живой — и всё тута. Хоть сама сходи да погляди, коль охота есть. Я его тронул чуток, а он как вскочит да за мной. Видишь, как по лбу заехал какой-то твердостью.
— Эт что же, вперед тебе забежал он, что ль? — раздумчиво допытывалась Манюшка. — Ему бы вдогонку-то ловчейши по затылку тебя огреть.
— Дык ведь нечистый, он ведь с любого боку сноровиться может. Не знала, что ль? Да еще ведьма какая-то мертвяка ентого сторожит. Едва я от их вырвалси.
— А Макар-то где же? Дарья где?
— Пес их знает, где они. Темно в избе и не слыхать никого. Кобель один ихний во дворе, да и то, може, не он, а оборотка какая…
И верилось Манюшке во все эти чудеса, и не верилось. А оборотки — доподлинно знала она — бывают. Это баба такая, колдунья. В любую скотину оборотиться может она.
Еще ребенком была Манюшка, ее дед часто рассказывал, как в молодости проучил он одну такую.
Идет, бывало, вечером человек по улице, а за ним овечка увяжется. Потом догонит его, вскочит на загорбок и едет, пока не надоест ей. На деде она разок версты две прокатилась. А откуда взяться овечке на улице в зимнюю пору?
В другой раз дед — молодым он тогда был, на вечерки частенько похаживал — взял в карман складешок, ножичек складной. И как оседлала его овечка, стал он тыкать ей в передние ноги, повыше копыт. Все в кровь истыкал. Отстала от него овечка.
А одну бабенку все обороткой звали в деревне. За глаза, конечно. Пошел к ней дед утром — заделье какое-то придумал — и видит: все руки повыше кистей у бабы исцарапаны. «Чего это руки-то у тебя ободраны?» — спросил дед. «А это, — говорит, — я в стеклянную банку за вареньем лазила, да так и ободрала!
Вот какую историю знала Манюшка, потому расспрашивать больше Леонтия не стала. Всякое бывает на свете.
— Ладноть, отец, утро вечера мудренее, — сказала она примирительно. — Авось утром и Гришка отыщется, и беды твои прояснятся. Давай-ка спать ложиться.
8
Долго пришлось бы Гришке выдумывать подходящую причину отлучки с покоса, но жизнь всегда проще и во множество раз мудрее людских вымыслов. Она может легко помочь нашим задумкам и так же легко порушить их.
Отбивая вторую косу и оглянувшись на солнце, будто прося пощады от его немилосердных лучей, Григорий заметил, что вся южная сторона неба заволоклась непроницаемой сплошной тучей. Жутковато и грозно, молчаливо нависла эта мохнатая чернота над притихшей степью.
Повеселел парень, молоток почаще затюкал в его руке: из такой тучи непременно хороший дождь прольется, значит — остановка во всей крестьянской работе и отлучиться можно без ущерба для дела. По такому случаю и соврать что угодно можно — поверят… Ну, хотя бы сказать, что поселковый атаман велел явиться к нему в станицу еще вчера по призывному делу, а он, Гришка, совсем забыл об этом. Вспомнил только сегодня и сразу поехал… Сойдет!
Когда отбивал последнюю косу, начал накрапывать дождь. Терпеливо достукал до самого конца, еще брусочком острие поправил и заторопился. В момент коня привел, заложил его в легкую телегу, захватил одежину потеплее и тронулся. Ехать же решил он не через хутор на Бродовскую, а по прийсковской дороге до свертка и подкатить к станице со стороны кладбища. Крюк от этого выйдет порядочный, но все равно времени-то пропасть в запасе. Еще пережидать до назначенного часа где-то придется.
«Отдав коню повода» и двигаясь довольно споро, Гришка уезжал от дождя, потому настиг его настоящий ливень уже на прийсковской дороге. Пришлось накинуть зипун. Однако скоро понял, что не спасет такая одежина. Завертел головой парень, соображая, где бы укрыться.
Справа, в полуверсте от дороги, пряталась в лесу козюринская заимка. Вот бы где в самый раз переждать непогоду! Так ведь рыжий этот кобель может и не пустить под крышу, и облаять может, а то и по шее даст — от него всего можно ждать. Совсем озверел в последние годы казак. Особенно взлютовал он после того, как отвоевали крестьяне заимку Зеленую, и цену за тот клочок, где избенки стояли, платили они с тех пор твердую, независимо от желания хозяина. Нестер Козюрин всегда отличался злоязычием да похабщиной и сейчас не меньше лаялся, но самым страшным ругательством стало у него теперь слово «мужик».
Все это преотлично знал Гришка, да податься-то больше некуда, и терять ему тоже нечего — рванул правую вожжу на себя, круто свернув с дороги, и по березовому редколесью направился к заимке. Скоро показалась она, убогая и хлипкая в косых струях дождя. У редкого забора привязал коня и, отмахнув словно для смеха слепленную из пяти палок дверцу, прошагал к окошку.
— Эй, кто тута есть? — прокричал в окно, опасливо стукнув по переплету рамы. — Пустите от дожжика спрятаться!
Никто ему не ответил, потому, потоптавшись на месте с минуту и чувствуя, как виляют по спине холодные струйки, Гришка устремился к двери. В крохотных сенцах текло всюду ручьями. Согнулся в дугу и полез в низкую избяную дверь. В это самое время окошко синим пламенем полыхнуло и снова грохнуло так, что избенка запрыгала, как живая.
В углу, на нешироких нарах за очагом, зябко укрываясь дубленым полушубком, испуганно жался огненно-рыжий парнишка, тараща и без того большие серые глаза. И не понять было — страшной ли грозы он испугался больше или чужого человека, вломившегося так бесцеремонно.
— Здорово, парнище! — молвил Григорий, стаскивая с себя зипун и оглядываясь на лужу под лаптями. — Один ты, что ль, тута? Чего испужалси-то? Не боись. Я тута вот, возля порожку посижу, пока дождь схлынет, да и подамся далее.
— А тятька приказывал никого не впущать, — зыркнул из-под шубы парнишка. — Набить грозился, коли ослушаюсь.
— Ты Нестеров сын, что ль?
— Сын.
— А как же он одного тебя оставил, да еще приказ такой дал?
— Не один я — собака во дворе злая.
— Да где она, собака-то? Никого, слышь, нету.
— На задах, видать, от дождя Серок спрятался. Не выпустит он тебя до тятьки.
— Отец-то где же?
— В станицу повез он дядь Матвея Шаврина. Теперь уж вот-вот воротиться должен.
— Небось так же вот сидит где-нибудь на заимке либо на стану в балагане у кого, ежели до дождя из дому выбрался. Куды же в такую непогодь ехать! А ты еще прогнать меня хотел, — весело подмигнул Григорий пацану, достав из кармана кисет. Сохранил он его почти сухим — спину все под дождь-то подставлял.
— Не хотел я тебя прогнать, коли ты — добрый человек, да тятька сердит на мужиков больно. Никакого сладу с им нету. Как лапотного мужика увидит, ровно уголь за пазуху попадет ему горячий. Злее Серка делается.
— Да знаю я твово тятьку, — размахнул махорочный дым Григорий. — А ты сам-то небось тоже лютость на мужиков имеешь али как?
— А какое мне до их дело, — осмелел парнишка, откидывая шубу к ногам. — Только вот тятька говорит, что скоро мужики все права заберут и на казаков верхом сядут… Сам царь будто бы на ихнюю сторону перекинулся. Чего уж тут доброго ждать?
Усмехаясь, Григорий оглянулся на окошко. Дождь начал заметно спадать, и раскаты грома уходили все дальше и слышались реже.
— За царя бояться тебе не след; к вам он лицом стоит, а к нам спинкой все оборачивается. А мужики — добрые они, черти сиволапые. Шибко долго надо бить мужика, чтобы он хоть один раз отмахнулся. Но все же и у его когда-то терпеж кончается. Надысь атаманова брата не побоялись, поучили неплохо.
— В больнице он, в городу лежит по сей день. — Парнишка опустил босые ноги на пол. — Сказывают, домой скоро воротится. А кого из мужиков за это в каторгу упекли?
Отмахиваясь от едкого дыма, Григорий смотрел на казачонка вприщур и уже спохватился, что разговор их совсем неожиданно заехал слишком далеко. А о Смирнове и вовсе не следовало заикаться, потому как и сам Гришка приложился к атаманову брату.
— Поколь никого не тронули, — сквозь зубы проговорил он. — Да не наш это воз, не нам его и везть… Дожжик-то, гляди, совсем почти перестал. Пойди-ка привяжи свого кобеля, да ехать мне надоть.
— Ну вот, — возразил парнишка, вставая с нар, надел у порога какие-то опорки, — а говоришь, будто царь за казаков. Ежели бы он за казаков был, за такое дело полхутора пересажать не пожалел бы.
Григорий поднялся и бросил окурок в очаг сверху, поскольку отверстие в плите не было прикрыто. А парень вдруг показался ему чуть ли не самим Нестером Козюриным: рыжий, в конопатинах, сутуловато-приземистый — только усов нет да глаза подобрее.
— Ладноть, иди, — вслед ему сказал Гришка. — Без нас с тобой разберутся небось.
Казачонок хлопнул дверью, а через минуту со двора послышался его голос, будто сквозь слезы:
— Дя-адя! Дяденька!
Схватив зипун, Гришка выскочил во двор, но голос-то доносился из-за конюшни. Туда поторопился, держа впереди себя перекинутый через руку сырой тяжелый зипун, на случай, если пес кинется. Но опасался он, оказалось, зря. Казачонок, роняя крупные слезы, на корточках сидел возле вытянувшегося пестрого косматого пса.
— Чегой-то с им? — спросил Григорий, присаживаясь рядом с парнишкой.
— Не зна-аю, — ответил казачонок, смахивая кулаком слезы.
— Слышь ты, а ведь эт не иначе, грозой шибануло его.
— Серок, Серок! Не помирай ты, — гладил парнишка пса, а тот редко и слабо дышал, уронив нижнюю челюсть с пожелтевшими клыками и едва приоткрывая мутные глаза.
— Грозой это его, грозой, — подтвердил свою догадку Гришка и, поднявшись, направился во двор. — Ну, спасибо тебе, малец. Да о том, что погостил я у тебя, лучше тятьке-то не сказывай: пожалуй, что верно, побьет он тебя.
Уже отвязывая коня, услышал:
— А ты, дядя, случаем, не кинул ему какой отравы? — Спрашивая это, казачонок с опаской выглядывал из-за конюшни.
— Ну, ты не плети чего не следовает-то. В уме такого не было. Ежели бы здоровый он был, как я ко двору-то подъехал, дак пустил бы он меня аль нет?
— Не-ет…
— Ну, то-то вот. Еще родителю такое не брякни. Он с тебя всю шкуру спустит. Грозой, видать, пришибло его. Понял?
Григорий вдруг сообразил, что задерживаться тут ему никак нельзя, и, хлопнув вожжой коня, направил его к прийсковской дороге. Первые версты поторапливал Карьку, а потом, как доехал до свертка на Бродовскую, хватился: до станичного кладбища осталось час-полтора езды — куда же торопиться-то?
Свернул с дороги и скоро попал на чью-то кошенину. Остановился накидать в телегу мокрой травы и впереди увидел большущий зарод недавно сметанного сена.
— Вот это получше козюринской заимки-то будет! — обрадовался Гришка, бросив в телегу пару добрых охапок травы. — Не Рословых ли это покос? Тут где-то поляны Мирон с Тихоном взяли ноничка.
Поставил коня к зароду с подветренной стороны, а для себя рядом выкопал преудобную нору. С дороги зарода не разглядеть, а косари все теперь дома, так что тут уж никто не побеспокоит. Однако вначале прошелся по поляне и за дальним колком обнаружил рословский стан. Никого на нем не видать. А ежели и оставлен караульщик, так все равно дрыхнет он в будке по этакой погоде. Набиваться к нему в компаньоны тоже никакого резону нет, потому как спросы да допросы начнутся — для чего человеку из-под крыши в дождь уезжать на ночь глядя?
Все это не спеша взвесил Гришка, прикинул время, и вышло у него, что часика три верных всхрапнуть можно, а то и четыре. Коню травы под морду кинул — выбирай, что по душе: хоть сено жуй, хоть свежую траву. И завалился в приготовленную нору.
Но сон к нему не шел первое время. Сырая одежонка вспарилась, душно стало до невозможности. Пришлось перевернуться головой-то к выходу из норы. Полегчало. Но опять же мысли всякие в голову лезут, и никакого отбою от них нет. Раз пять проклял ту свадебную ночь и себя за то, что угораздило по чистой глупости махнуть помазком. Да испачкал-то лишь одну половину ворот жиденьким дегтем. На густо-зеленой краске оно и не ахти как заметно, а Прошечка углядел все-таки. Спасибо ему! Видать, о чем-то догадывался он заранее, будто поджидал этого. Не дай бог, ежели бы сразу огласка-то вышла — могла и свадьба расстроиться.
Могла, конечно… И трудно сказать, какими бы последствиями обернулось это для самого Гришки, а для Катюхи, возможно, не хуже теперешнего все устроилось бы. Не от добра, знать, решилась она на такой шаг…
Пригрелся в своей норе Гришка, теплой сыростью разморило его, будто кто мягкие ласковые руки на грудь положил. Уснул крепко и безмятежно.
Очнулся оттого, что конь захрапел тревожно, копытом ударил. Зверя небось зачуял. А Гришку больше всего испугала темно-серая мгла — проспал, наверно! Выскочил из норы, огляделся. Никого поблизости нет. Вся луговина тугим туманом от безветрия затянута, и сквозь него легкая изморось падает. Сколько же теперь времени — не понять. Бросил в телегу сена сухого, нору залатал кое-как, седельник подвязал и тронул коня.
Сумерки сгущались все плотнее. В это время к месту подъезжать пора бы уже — лишку проспал. Катюха теперь изметалась, возницу ожидаючи. Выручай, Карька, засоню хозяина!
Все чаще хлопала глухо вожжа по крупу коня. И бежал он вроде бы споро по размытой дороге, а в темноте казалось, что на месте топчется конь. Гришка примечал поляны, знакомые придорожные колки, прикидывал, сколько еще осталось ехать.
Медленно тянулось время, однако редкие бродовские огни открылись в низине как-то неожиданно. Веселее телега по склону затарахтела втулками. Вон оно и кладбище, справа от дороги, в лесочке. Стал придерживать Карьку и в конце спуска поехал шагом, потому как лишний шум в таком деле — помеха. А как поравнялся с кладбищем, ухо навострил — не окликнет ли Катюха.
Она не окликнула, а ведьмой выбросилась из высокой и мокрой кладбищенской травы, охватила руками парня и запричитала сквозь слезы:
— Гри-иша! Гри-ишенька! Принес тебя Христос… Чего ж ты не ехал-то так долго, а? Гриша, сюда, сюда вот сворачивай! Правее вон того высокого креста держи! Могила тама свежая приготовлена — конь бы не ввалилси.
Шагая рядом с телегой, Катька левой рукой ухватилась за грядушку, а правой все поддерживала подол длинной, захлюстанной в мокрой траве юбки и показывала дорогу к склепу. Гришка не перебивал ее стрекотни, потом, дождавшись короткого перерыва — Катька через корягу какую-то перешагивала, — спросил коротко:
— Давно ждешь-то?
— Как же не давно-то? Продрогла, изметалась вся! С поля ноничка днем все воротились… И коров пораньше пригнали… Теперь уж небось дрыхнут без задних ног… Месяца-то, видишь, нету, я и пошла, как все успокоились…
Катюхины пожитки скидали они на волглое сено в телегу. Прикрыли сверху тряпкой.
— А чего ж ты не оденешься-то? — ворчал Гришка, садясь в передок и трогая коня. — Одежи вон сколь наклала, а сама дрогнет.
— Да я ведь, Гриша, не от холоду, знать-то, дрожу — от страху больше. А ну как знакомый кто встренет! Мне-то уж к одному терпеть, а ты за какие грехи в молотилку угодишь?
Выехав с кладбища на дорогу, Гришка хотел было закурить, но после Катькиных слов отказался от этого намерения. О своих грехах тоже умолчал, но в уме промелькнула недобрая мыслишка: напакостив, ловко ушел от расплаты — никто и по сей день ничего не знает, а теперь вот, когда вину свою искупить надумал, очень даже просто казачки могут помять кости, да еще в суд потянут либо, не лучше, своим судом покалечат. И будет у Леонтия Шлыкова два сына-калеки.
— Мы что же, станицей прям так и покатимся, — спросил он как можно бодрее, — аль объезд где есть?
— Да какой там объезд! Чего мы кругом столь верст колесить станем?
— Ну, тогда вот что: лезь под свои узлы, а я тебя и узлы тряпкой накрою. Понадежней так-то проедем.
Скрутившись ужом, Катюха умостилась между узлами. Сверху накрыл ее Гришка дерюгой — и не подумаешь, что человек там спрятан, а по ночному делу — тем более.
Коня не останавливал, пока маскировку настраивал, и, управившись с нею, стал закуривать. Спокойно миновали церковь и промежуток от нее до улицы. В улице тоже — тишина мертвая. Ни одна собака не тявкнула. Шевельнув вожжами, Гришка скосил глаза на палкинский дом и довольно про себя отметил, что не светятся в нем окошки. Да и те редкие огоньки, какие видел он с бугра, теперь либо погасли, либо за домами спрятались. До чего подходящая выпала ночь, как по заказу!
Однако возница, пустив коня нешибкой рысью, беспокойно вертел головой, оглядывался поминутно и чутко прислушивался, за стуком втулок, чавканьем копыт и колес пытаясь уловить любой посторонний звук. Но улица глухо молчала и длинной казалась до бесконечности. Версты полторы, а то и две пришлось одолеть, пока к броду свернули.
И уж последний каменный особняк миновали, колеса успокоительно по прибрежному песку зашуршали — вдруг похолодел весь Гришка, спину коробом съежило от неожиданного звука. В первый миг и сообразить не успел, что это сзади за высоким каменным забором петух во все горло заорал. Украдкой, будто Катюха могла видеть его, Гришка перекрестился.
Ноги коня забулькали в черной воде, скоро подступившей под самые ступицы передних колес. До нынешнего дождя на этом перекате вода едва закрывала конские копыта, до щетки кое-где доходила.
На другой стороне всю пологую, песчаную часть берега залило водой, так что сразу начинался невысокий, но довольно крутой подъем. Одолев его и выбравшись на городскую дорогу, Гришка, оборотясь назад, откинул спереди покрывало, сказал с улыбкой:
— Ну, вылазь, что ль. А то задохнешься там — опять же мне каторга. Да и дожжик совсем перестал.
— Да мне тута не…
— Эй-эй, станичник, погоди-ка! — У кустов ракитника едва различимо колыхалась черная тень.
Гришка было притормозил, а Катюха из-под узлов горячо зашептала:
— Гони! Гони, Гриша! Христом-богом тебя прошу — гони!
Гришка хлопнул коня вожжой, затарахтела телега, а вдогонку неслось:
— Куды ж ты, паршивец?! Бечевки кусок на пять минут пожалел! И-эх ты!
— Може, беда у человека стряслась, а мы ускакали, — с укоризной в голосе пенял Гришка, снова придерживая коня. — Веревка, слышь, человеку зачем-то нужна.
— Да гони ты, Христа-ради, гони! — Катюха до пояса высунулась из узлов и толкнула в загорбок возницу. — Матвей это Шаврин, по голосу слышу.
— Ну и что? Пособили бы человеку и поехали.
— Ох и чешутся, знать, бока у тебя, Гриша. Ведь он, чисто репей, пристанет, окаянный. Не отвяжешься от его. Обо всем дознаться ему надоть. Да и в возу копнуть не засовестится… Никакая веревка ему не нужна. Промышляет небось, как наш Кирилл Платонович…
— Да будя тебе, Катя, причитать-то! Гришка и сам понял, что на чужую беду в их положении откликаться недосуг — своей хватает. А от нежеланного встречного и вовсе порушиться может вся задумка, сказал примирительно: — Видишь ведь — и так скоро едем. До свету в городу будем. Ты лучше скажи, как там устраиваться станешь?
— А хоть хвойку жевать, да на воле бывать! — отчаянно выпалила Катюха.
— Ишь ты — хвойку! Небось на хвойке-то взвоешь. А жить под сосной, что ль, думаешь? Али крыша какая загадана?
— Ничегошеньки не загадано, Гриша! — дрогнула голосом Катюха, но подавила слезы глубоким вздохом, будто из полыньи вынырнула. — Да ведь сам же ты сказывал надысь, что к бабке знакомой завезешь. Аль уж отдумал?
— Ну, к бабке — это само собой. Под ее крышей недельки две-три перебьешься. А дальше?.. Да и она, чать-то, не даром пустит…
— Найду я, чем расплатиться, не боись. В тягость никому не хочу быть. А посля в стряпки в какой-нибудь богатый дом наймуся.
— В стряпки, говоришь? Разнюхают казачки о твоем житье и свезут на то же место — в палкинский двор. Власти у их на то хватит… В монастырь тебе подаваться надоть, Катя. Вот чего!
— Да ну их к чертям всех попов, и монахов, и монашек! — возмущенно зачастила Катюха, вспомнив плотоядные, масленые глаза отца Василия. — Ну, чего ты уставилси? К им только попадись — как собака блин — живо проглотят. Прости меня, господи, грешницу!
— Не то-о, не то говоришь ты, Катя. Совсем не то! — Гришка горестно покачал головой, подшевелил коня, бежавшего ровной рысью, и, видно догадавшись о чем-то, с усмешкой добавил: — Ведь и не рад хрен терке, да по ней боками пляшет. Куды ж тебе податься-то, ежели не в монастырь?
— Не пойду! — отрезала Катюха.
— Кричать-то погодила бы. Не обо мне речь — об тебе. Тебе сто разов примерить надоть, да один раз отрезать.
— Отрезала уж. Напрочь!
— Ну, гляди, гляди. Тебе виднейши. Да только выбирать-то не из чего: либо с волками выть, либо съедену быть — так наши мужики сказывают.
Ничего не ответив, Катюха замолкла надолго. До сих пор все мысли, опасения, заботы ее были только о том, чтобы никто не помешал выбраться из опостылевшего палкинского дома, чтобы покинуть эту станицу и больше никогда в нее не заглядывать. Гришка расшевелил мысли, заставил глянуть вперед, в беспросветную темь и неизвестность. Пораскинув бабьим своим умом, Катюха вдруг обнаружила в словах парня неотвратимую истину.
— Ну-к что же, — заговорила она так, будто петлю для себя завязала, — мертвых с могилков не ворачивают. Коль приспичит, дак и за монастырские стены упрячусь… А може, без их обойдусь…
Гришка тоже не враз отозвался. Бывал он порою словоохотлив в отца, но чаще придерживал язык за зубами, тем более как ни гадай, как ни раскладывай бобы — все равно жизнь поворотит на свой лад. Катюха тоже вроде бы поняла это. Даже не оборотясь к спутнице, Гришка молвил, словно подводя итог:
— Вольному — воля, спасенному — рай. Не к тятьке, чай, в гости едешь.
— У тятьки-то побывала уж я, — уныло откликнулась Катюха. — Рядом с конем, косой за гуж привязанная, назад воротилась. Даже обуться не дал мне тятя…
— Слы-ыхал уж я про это.
Катюха снова умолкла. Знают, стало быть, люди об этом, хотя, казалось, ни единая душа не видела ее позора.
9
Проснулся Василий рано, как и все в рословской избе. Голова не болела от вчерашней попойки, но ощущалась в ней какая-то противная пустота, неловкость, в десятки раз усугубляемая тем, что тайно поведал ему Степка. Он и вечером не уснул на полатях, пока не лег рядом Василий, и утром чуть свет уже шептал ему в ухо, выкладывая все, что знал о жизни Катюхи Палкиной.
Слезая с полатей, Василий кряхтел натужно, постанывал вроде бы даже, тер глаза, ерошил спутанные волосы.
Дед Михайла, сидя с неразлучной клюкой у стола и чутко прислушиваясь ко всему, что происходило в избе, заслышав Василия, понял его тяжкие вздохи по-своему:
— Чижало тебе, Вася?
— М-угу, — неопределенно ответил Василий, не разобрав намек деда.
— Не зря сказано: одна рюмка — на здоровье, другая — на веселье, а третья — на вздор. Третью-то вот и не следовает брать. А у нас хватись, дак и полечиться нечем. Не оставили, знать, вчерась.
— Да не болит у меня голова, не надоть мне похмеляться.
Дед Михайла, чуточку растерявшись от такого ответа, не понял, чем недоволен внук. Да и никто, кроме Степки, ничего не понял.
— Ну, коль так, завтракай да отвезешь свого мертвяка к поселковому атаману. Карашку тебе мужики оставили… А кто не похмеляется, сказывают, завсегда здоровше бывает, — похвалил дед.
Брился и умывался Василий без привычной уставной поспешности, потому и завтракал с малыми ребятишками, после всех — ждать отстающих недосуг в эту пору.
Слушая, как Василий швыркает ложкой, дед не мог утерпеть, задал вопрос, щекотавший старческий ум со вчерашнего вечера:
— Ну, а чем займоваться-то станешь, надумал, что ль?
— Да когда же думать-то? Вчерась не до того было, и ночь всю проспал беспробудно… — ответил Василий, тщательно облизав и положив ложку. — Скорейши всего, на земле и осяду…
— Ну вот и славно бог тебя надоумил, — обрадовался дед.
— А подумать все ж таки не мешает, — продолжал Василий, выходя из-за стола и доставая свою табакерку. — В солдатах много кое-чего повидать и передумать пришлось. Теперь еще разок перетрясать все придется.
— Ишь ты, — ухмыльнулся в пушистую бороду Михайла, суча узловатыми большими пальцами поверх изгиба клюки, — у свого полковника, стал быть, обучился. А ведь хлебушка-то вы с им каждый день по три раза наш ели, крестьянский. Не застревал он у вас в горле, небось?
— У мово полковника не то что хлеб — баран с рогами сроду не застрянет. И мужик попадет, дак живым с бородой проглотит. — Чиркнув спичкой, Василий огляделся вокруг и, опасливо покосившись на тетку Марфу, тащившую на катке ведерный чугун из печи, добавил: — Чего-то бы надо такое придумать, чтоб все ж таки он подавился.
Михайла в первую минуту не уразумел всей глубины сказанных внуком слов. Покрякал, потискал в кулаке бороду, сплошь испестренную сединой, и, умом дойдя до сути, возразил:
— Были, Вася, и до нас были горячие головы, да где они теперя? С эшафота, сказывают, их отдельно от тела унесли, чуешь? И Пугач в здешних местах был, и атаман какой-то Стенька Разин по Волге ходил — об том слыхал я от свого деда… Все в бездну кануло. А вот хлебушек — вечный. Поколь жить на земле будут люди, не обойдутся они без хлебушка. До самого страшного суда господня!
— Понял я тебя, дедушка. Ладноть, — сказал Василий, накидывая шинель. — А только нонешние «горячие головы» не одной горячкой, кажись, живут — больше-то умом норовят раскинуть.
И хлопнул дверью.
Ни во дворе, ни в избе у Макара не было ни единой живой души — хоть шаром покати. Развернув телегу с покойником, Василий завел в оглобли Карашку. И тут, откуда ни возьмись — Пигаска во дворе объявилась.
— Ты, греховодник, — зашипела она из-за спины Василия, положившего левую оглоблю на гуж, — ты, греховодник, приволок этого нехристя в хутор на горе мужикам — прощенья тебе не будет, так и знай! А руки связать упокойнику не догадалси!
— И правда, не догадался, баушка, — улыбнулся Василий, перейдя на правую сторону упряжки и прикладывая оглоблю к дуге. — Да и нечем было связать-то.
— Нечем, — передразнила бабка, ощерив два своих черных зуба и высоко вскинув короткие кустики редких бровей. — Перевязала я вчерась, пока неокостенелый он был… А ты, слышишь? Чтоб, как сдашь его властям, веревочку енту сыми да мне возверни в целости. Понял, что ль?
— Эт зачем же тебе веревочка с упокойника понадобилась?
— За спросом! — вспылила бабка. — Ишь ведь чего захотел — скажи ему, для чего веревочка!.. Да попробовай ослушаться, паршивец! Всю жизню в холостяках проходишь, ни одна девка головы к тебе не поворотит!
— Да привезу, привезу, — пообещал Василий, завожжав Карашку и намереваясь растворить ворота, — не грозись по-страшному-то.
— А я не грозюсь, — подскочила к нему Пигаска, ухватив за рукав шинели. — Не грозюся я, слышишь? — При этом только что пустые ее глаза вдруг загорелись, жаром опахнули парня, так что ему и в самом деле показалось: молвит старуха одно-разъединое словечко — и прощай Василий Рослов! Испепелит на месте.
— Ты чего ко мне привязалась-то?! — обозлился Василий, вырвавшись из цепках бабкиных рук. Но вышло это у него до того неловко, что Пигаска долбанулась горбом о полотно ворот. — Сказано — привезу! Чего тебе еще надо?
Бабка, едва отлепившись от ворот, бочком шагнула к калитке, сухопарым задом открыла ее и уже с уличной стороны хрипло прокаркала:
— Коли не сымешь эту веревочку, сам живой из станицы не воротишься! — и зашаркала от ворот.
— Ну и карга надоедная, — отворяя ворота и слегка побледнев, сказал Василий. Не верил он бабкиным словам и в то же время никак не мог стряхнуть обуявшую робость. Черт их разберет, этих бабок: иная сплеча вроде ляпнет, а глядишь — в самую точку. И приворожить, и присушить могут. Это уж Василий знал точно!
Еще издали увидел — из двора Шлыковых подвода выехала и остановилась. Сроду они позже всех отправлялись в поле. Правда, сегодня, после такого дождя, в сырой, разнеженной за ночь траве коса будет мягко шуршать и похрупывать до самого обеда, но лишний часок для столь приятной работы всякий урвать норовит.
— Здоров, дядь Леонтий! — не доехав саженей десять, весело приветствовал Василий.
Леонтий вгляделся в солдата, в телегу его взглядом впился и пошел-пошел задом в ворота, тараща жиденькие редкие брови. Там на Манюшку наткнулся.
— Эт чего ты взадпятки́-то ходить зачал? — оттолкнула она его.
— Опять ентот упокойник! — Леонтий хотел сказать потихоньку, да вышло так, что и Василий расслышал.
— Ой, Вася! Едва признала я тебя, — Манюшка бросилась к Василию, тот придержал коня. — Здравствуешь!
— Здорово, тетка Манюшка!
— Когда ж ты воротилси-то? — и, не слушая ответов, зачастила: — Гляди-ка, усы у его, как у мужика. На Макара вашего с лица ты шибаешь. Ну и мужик выправилси! Ну и жених!.. Ой, а ты, никак, взаправду мертвяка везешь? Эт где ж ты его взял-то? Кто он такой? — она безбоязненно сдернула с головы покойника рядно.
— Тот самый нехристь и есть, — перехваченным голосом объявил Леонтий, трепетно подступаясь и опасливо заглядывая на усопшего из-за жены, — тот самый, какой вчерась шибанул меня… Шишка-то, вот она красуется… Ты ехал бы, Василий, куда подальше — не к добру эдакая встреча.
— Да будет тебе молоть-то, чего не следовает! — оборвала его Манюшка. — Упокойника встренешь — завсегда к счастью. Сыщется наш Гришка живой-здоровый!
— Не стрекочи ты, сорока! — до крайности возмутился Леонтий и осмелел вроде бы даже. — Видишь, глядит он одним глазом — товарища себе высматривает, стал быть.
Заметив, что у старика и в самом деле одни глаз прикрыт не плотно, Манюшка поспешно кинула ему на лицо ряднинку.
— А что, Гришка у вас пропал, что ль? — спросил Василий.
— Да уехал вчерась в обед кудай-то, не сказал ничего, — Манюшка попятилась от телеги.
— Не ребенок малый, — успокоил Шлыковых Василий, тронув коня, — как уехал, так и приедет. Дело, видать, неотложное объявилось.
10
Атаманские избы — станичного и поселкового атаманов — стояли рядом. У станичного — побогаче; у поселкового — беднее. На улице против них толпилось десятка два казаков, повозка стояла, и, уткнувшись в нее, голосисто, с причетами выли две бабы.
Издали увидев это, Василий без труда понял, что и тут, кажется, беда стряслась какая-то. Стало быть, казаки злые, потому надо ухо держать востро. Шинель он скинул еще дорогой — солнышко пекло отчаянно, словно старалось наверстать вчерашнее, от земли валил пар. Прошелся большими пальцами под ремнем, разгоняя складки, подбодрил фуражку и, подъезжая, громко поприветствовал:
— Здравствуйте, господа казаки!
— Милости просим, мимо ворот щей хлебать! — неласково бросил один из них, в урядничьих погонах.
А другой, старый казак, приземистый, в широком расстегнутом пиджаке, с палкой, трепыхнувшись, будто наседка на яйцах, взъерошил бороду и, уставясь черными глазами на подъехавшего, тревожно молвил:
— Ай, казаки! А солдатик-то, знать, еще одного подвез. Господи, помилуй нас, грешных! — перехватив палку в другую руку, закрестился старик.
Урядник, подступив к телеге, заглянул в лицо покойника, спросил:
— Татарин?
— Башкирец, — уточнил Василий.
— Одна им цена, нехристям! Ты — хуторской что ль?
— С Лебедевского я, да старик-то не наш, пришлый.
— Проваливай вон к поселковому — у его никого нету, а у нас и без тебя завозно.
Проехав к коновязи, Василий остановил подводу и пошел в атаманскую избу. Атаман, сидя за большим ободранным столом, что-то старательно писал на белом листе. В просторном помещении с широкими лавками возле стен не было ни единой души, и смахивало оно на пустой сарай.
— Здравия желаю, господин атаман! — щелкнул каблуками Василий, не доходя до стола сажени две и взяв под козырек.
Не отрываясь от письма, атаман коротко взглянул на солдата, заметил:
— Надо добавить «поселковый» атаман.
— Да ведь здесь других-то атаманов нету, — опуская руку, возразил Василий.
— Ты что, учить меня пришел, сопливец?! — рявкнул атаман, отодвигая бумагу.
Василий вытянулся, приняв стойку «смирно».
— Со службы, видать, воротился?
— Так точно!
— А порядкам тебя там, знать, не выучили. Давай доку́мент.
— Да я не только по этому делу прибыл, — замялся Василий, доставая бумагу, — мертвяка привез, башкирца.
— Да что вы, как на мельницу зачастили с возами, один еще не отъехал — другой пожаловал. — Но в голосе его уже не было злости, скорее, раздражительность и досада прозвучали в нем. — Ну садись к столу, коль так, да рассказывай все толком.
Присев на лавку, Василий рассказал все до мельчайших подробностей, утаив, пожалуй, лишь то, что старый башкирец завещал ему перед смертью огниво.
— Вот чего, коль так, — терпеливо выслушав солдата, сказал атаман, — следователь вот-вот освободится, сюда я его кликну. Ему все и расскажешь. А покудова поди на двор, погуляй. Недосуг мне.
Выйдя из атаманской избы, Василий не пошел в толпу казаков. Остановившись возле коновязи, неторопливо свернул цигарку побольше и невольно прислушался к голосам казаков и баб. Скоро из отрывков разговора он понял, что минувшей ночью сноха Матвея Шаврина бросилась в омут. Достали ее уж перед утром. Теперь вот сеструха, по всей видимости, да мать над покойницей слезами уливаются, а свекровь со свекром перед следователем ответ держат. И муж ее там же, наверное.
К толпе подошел незнакомый Василию казак средних лет, стал расспрашивать, что случилось. Ему отвечали разом в несколько голосов. А когда поутихла разноголосица, урядник, стоя в середине редкой толпы и подправив кулаком завернутый в колечко ус, громко сказал:
— Ну, казаки, знать, и сладкую жизню сотворили мы своим бабам, особливо молодым: в одну ночь по две со двора бегут.
— А еще-то кто? — нетерпеливо спросил подошедший.
— У Палкина Захара тоже этой ночью хизнула сноха, — урядник сердито повел глазами по стоявшим вблизи казакам. — Эту хоть в омуте нашли, а ента и следа не оставила.
— Да ведь чужой дом — яма, не рассудишь прямо, — мудро ответил старик с палкой, недовольно шевеля косматыми бровями.
Услышав о Палкиных, Василий не вдруг сообразил, что речь идет не о ком ином, как о его Катюхе, но, слова старика донеслись до него, будто из бездонной пропасти. Хотелось броситься к уряднику, расспросить о подробностях, но вовремя одумался. Затолкав в рот кончик светлого уса вместе с цигаркой, жевал, будто норовистый конь удила, забыв обо всем на свете.
Только что прикидывал он в уме: как сдаст башкирца, до церкви проедет, возле палкинского дома помаячит, авось и удастся хоть одним глазком взглянуть на Катюху. Пусть она его не увидит, пусть и не поговорит — только бы взглянуть!
Отворотясь от толпы, Василий облокотился на коновязь и, тупо уставясь в морду своего Карашки, силился унять разгоряченное воображение, рисовавшее перед глазами картины, одну страшнее другой. Он не видел, когда прошел поселковый атаман в избу станичного, как подошла к другому концу коновязи подвода.
— Васька, солдат бравый! — и на плечо упала тяжелая рука Гришки Шлыкова. — Откудова ты тут объявился?
— Здорово, Гриша! — сухо ответил Василий, еще не оторвавшись от своих мыслей. — Сам-то чего тут шатаешься? По тебе ж дома поминки справлять собрались!
— Пущай погодят с поминками лет сто… К поселковому я завернул. Тоже ведь в солдаты сбираюсь… А эт кого ж ты привез-то?..
— Солдат Рослов! — послышалось от атаманской избы. — Заходи! Следователь сейчас подойдет.
— Пойдем, Гриша, — позвал Василий, — там и поговоришь с поселковым, пока следователь прибудет.
— Да нет, кажись, делать мне у его нечего — скривил губы Гришка, по-хитрому прищурив один глаз. — Ты иди, а я тута ждать стану. Посля все обскажу.
— Ну гляди, — недоуменно поджал губы Василий, — тебе виднейши.
И только повернулся было идти от коновязи, увидел спешащего навстречу пожилого человека в светлой чесучовой тройке, в штиблетах с калошами и легком картузе — тоже из чесучи.
— Это вы, молодой человек, привезли труп для опознания? — Он спешил, но, боясь испачкать в грязи блестящие калоши, опасливо ступал в следы, то широко растопыривая руки, то придерживая пенсне, то приподнимая штанины. — Видите ли, я — следователь. Покажите мне его!
— Показать можно, вон он в телеге лежит. А к чему же опознавать-то еще, коли и без того все его знали: лапти по хуторам продавал.
Следователь подступился к телеге и, сверкнув чистыми стеклами пенсне, окинул цепким взглядом все, что лежало на ней. Тонким бледным пальцем пощекотал свою, заплаткой прилепленную к кончику длинного узкого лица бородку, холеный короткий усик тронул и приказал:
— Откройте весь труп.
Василий откинул рядно. К телеге подошел и Гришка.
— Как его фамилия? Имя? Сколько лет? Где проживал? — спросил следователь.
— Да откудова же знать мне все это, — возмутился Василий, — коли на дороге я его встрел!
— Ну вот, видите? А говорите, что все его знают, и никакого опознания не требуется. Так все-таки кто же есть перед нами, молодой человек? Кого мы, так сказать, созерцаем?
Василий тупо молчал, а Гришка, не выдержав этакой пытливости дотошного, как ему казалось, следователя, сказал недовольно:
— Да, башкирец это, лапти все возил по поселкам. Чего же еще узнавать-то? Он, и не кто другой.
Следователь посмотрел на Гришку, как на безнадежно больного, ничего не ответил ему, а, указав пальцем, спросил у Василия:
— Кожа?
— С его лошади.
— А это что?
— Пожитки его. Еда размоклая — дожжик-то вчерась вон какой был… И телега, и упряжь — все его. Конь только мой.
— Г-мм, — следователь еще раз медленно окинул взглядом всю телегу, словно запоминая, что и как лежит на ней. — Прикройте покойника, пожалуйста: мухота проклятая — нигде от нее покоя нет! И прошу — со мной, для составления протокола… И вы — тоже, указал он на Гришку.
— А я-то для какой же надобности вам? — ворчал Гришка, тащась за следователем и Василием к атаманской избе. — Всего с минуту до вас тута я появился.
— Вы же утверждаете, что знали покойного? — бросил через плечо следователь.
— Ну и что в том хорошего? — огрызнулся Гришка. — Я и теперь знаю его.
— Вот, стало быть, вполне сгодитесь как свидетель.
— Тьфу ты! — тихонько выругался Гришка, чтоб следователь не расслышал. — Вон ведь куда занесло дурака! Не было печали, дак черти накачали.
На подробный опрос свидетелей и написание протокола, довольно краткого, потребовалось не более часа, но ребятам показалось, будто уж и день клонится к вечеру. А солнышко еще и в южные окна не успело заглянуть. Выскочили они из атаманской избы, довольные тем, что следователь разрешил телегу с покойником оставить на месте, а им вернуться в хутор. Но Василию велел не отлучаться из дому, чтобы к вечеру побывать с ним на месте происшествия.
Поехали они вместе на Гришкиной телеге, привязав к ней Карашку.
Вывернув в улицу, что выводила на хуторскую дорогу, Гришка пристроил вожжи к передку, повернулся к спутнику и, распустив ворот холщовой рубахи и обнажив грудь, предложил закурить. А сам все на Василия поглядывал то загадочно, то плутовато, ровно подарить чего хотел. Потом спросил:
— Жениться-то не надумал? Небось приглядел себе городскую кралю.
Василий хмуро и безучастно помолчал, выпуская из носа густые струи дыма, подергал себя за ус и, соскользнув с телеги, не дожидаясь, пока Гришка остановит подводу, на ходу стал отвязывать своего коня.
— Ты чего это?
— Погоди, Гриша. Ты погоди тута минут пяток, а я ворочусь мигом! — и, вскочив на коня и ударив его каблуками в бока, крикнул: — А ежели недосуг, то ехай. Догоню!
Гришка растерянно поглядел вслед товарищу и шевельнул было коня, но, съехав на обочину, остановился. Видать, у парня срочность какая-то объявилась. Уж не к Палкиным ли кинулся сдуру? Нет, налево повернул… К атаману либо к следователю потянуло его так скоро. Ехать одному не хотелось, поскольку столь подходящего случая для откровенного разговора упускать никак невозможно.
Василий не задержался долго. Минут через пять-семь соскочил с коня прямо в телегу и уж потом стал привязывать повод.
— Погоняй, Гриша! — тяжело дыша, велел он.
— Аль позабыл там чего? — спросил Гришка, с места погнав коня рысью.
— Позабыл… Ты вот спрашиваешь, жениться не надумал ли я, а бабка Пигаска — чтоб у ей верблюжий горб вырос! — посулилась на всю жизню холостяком оставить, ежели не привезу ей, вот это. — И он швырнул на свернутую шинель замызганный, грязный самодельный шнурок. — Вот за им и ездил. А там казачишки зашушукались: чего это он к мертвяку прискакал, как встрепанный? Пришлось для виду в сенцы атаманской избы зайтить. Будто к следователю дело какое было.
— Ишь ты! — усмехнулся Гришка. — И я, ведь тоже к атаману-то для виду завернул, чтоб дома складнейши врать, а попал в свидетели… Для какой же, надобности мотузок этот ей, ведьме?
— А пес ее знает, — сердито отозвался Василий, но тут же высказал свою догадку: — Понятно, не для завязки к мешку. Колдует она, привораживает да присушивает…
— Ах, стерва старая! — тяжело вздохнул Гришка, пристально глядя в невеселые Васькины глаза. Словно по донышку больной души царапнул: — А тебе, Вася, знать, никакая присуха не понадобится. По Катьке, небось, без того вся середка иссохла.
— Эт ты чего, — будто отрываясь от тяжкого сна, оживился Василий, — у бабки Пигаски хлеб ее отымаешь? Гадать выучился? Ну-ну-у…
— Х-хе! Мирская молва, что морская волна, — все на себе носит, — лукаво ухмыльнулся Гришка! — Тайностев своих не прячь от меня, Вася, потому как ноничка я не то что за бабку Пигаску — за самую дорогую цыганку сгожусь. Без бобов и без картей правдой тебя засыплю до ушей.
Василий насторожился, подвинулся на локте к спутнику, подобрался весь, вроде к прыжку изготовился. Вот-вот за грудки товарища сцапает.
— А ну-к, сказывай, чего знаешь!
Гришка даже сробел малость от столь неожиданного натиска. Лукавость, хитрость, забава — все отлетело прочь.
— Не тяни душу! — грозно добавил Василий. — Катерину, что ль, видал где?
— В город отвез я ее ноничка ночью. Матвей Шаврин за бродом останавливал нас, веревку просил — сноху, знать, выуживали они в тот момент — а мы напужались — да по коню. И угнали.
— Про Матвея тятьке посля расскажешь, и мамка послушает. Катюху-то где ж ты оставил?
— У бабки одной знакомой, в городу…
— В городу, в городу! — сатанея от нетерпения, гундосо передразнил товарища Василий. — Где та бабка живет, как ее сыскать?!
— А чего ты в бутылку-то лезешь?! — неожиданно восстал Гришка. — Гляди, какой генерал выискался! Ничего я тебе не говорил, а ты ничего не слышал. Вот и сказ весь!
— Да ты сам-то не пузырись — лопнешь! — схватил его повыше локтя Василий, потянув на себя. — Сказывать не велела? Дак ты и сам не дурак, знал, на что шел… И ты гляди, — до боли сдавил руку Гришке, — чтоб во сне ни единой душе не проболтался. Придушу! — И, обмякнув, он снова откинулся на локоть. — Сказывай, как ее найтить.
К этому времени они уже порядочно удалились от станицы, и Гришка, сидя лицом к задку, изредка украдкой поглядывал на дорогу — не покажутся ли казаки, — но опасений своих не выдавал.
— И чем же ты красивше всех прочих? — вполне миролюбиво спросил он. — Перед всеми молчи, а ему все как есть скажи… Чем?
— А еще сказывал, будто знаешь все лучше любой гадалки, — повеселел и Василий. — Для чего ж спрашиваешь-то?
— Ловко словил ты меня! — засмеялся Гришка, приноравливаясь в меру сыпнуть табаку на оторванный клочок бумаги. — Твоя взяла. Слушай. Как в город въедешь, как поворотишь в улицу — по правой стороне считай. В четвертом домике от поворота найдешь ее. Ежели успеешь.
— Она еще куда, что ль, уехать должна? — с тревогой спросил Василий.
— Ты чисто дитенок малый, — заважничал Гришка. — Аль не слыхал, чего казаки судачили об ей? Ведь человек — не иголка, все одно сыщется. Не через месяц, так через два. А вот ежели в монастыре она спрячется, оттуда не взять ее казачишкам. Уразумел?
Василий отрешенно молчал, повянув лицом, как осенний лист. Только что вспыхнувшая и окрылившая его надежда испепелилась так же быстро, как сгорает сухой катун в ночном костре.
11
Мучительно медленно, незримо и тихо подкатывался этот летний рассвет. В высоком решетчатом тюремном оконце выбелилась постепенно и начисто истлела последняя ночная звезда. А над подоконником пролегла белесая полоса, придавленная сверху густой синевой, а снизу едва заметно заалевшая от неотвратимо подступавшего рассвета.
В левом нижнем углу оконца отчетливо виднелась одинокая веточка молодой березки с ярко-зелеными листьями, настороженно и бестрепетно повисшими в безветрии. Девять листочков насчитал Антон. Шевельнулся под серым тюремным одеялом, поднялся, но тут же обмяк весь, расслабился и притих: негоже перед надзирателем свое волнение выказывать. Его недреманное око на всякий чох к «волчку» приникает и бельмасто ворочается в отверстии, пробуравливая камеру ощупывающим взглядом.
Не первую ночь не спалось Антону Русакову, а в эту и на минутку глаз не сомкнул. Но спать ложился вовремя, терпеливо переживал мучительные ночные часы и вовремя вставал. Ни один надзиратель — будь он самым дотошным — не смог бы узреть ни малейших изменений в поведении заключенного, потому как для этого надо бы в душу заглянуть человеку.
В двадцать пять лет почти невозможно ощутить приближение смерти до тех пор, пока наступление ее не станет вопиющей реальностью. Антон не боялся смерти, не верил в нее и старался не думать о ней. Но и представить себя вдруг на свободе — тоже непросто. Как откроются все эти запоры, задвижки, крючки, замки? А где в это время будет караульный солдат и надзиратель? Не станут же они наблюдать спокойно, как уходит заключенный!
Повеселел Антон после того, как зачастили к нему посетители. Приходили все разные люди, приносили передачи, одну за другой меняли церковные книги. Узнал, что на воле товарищи готовят ему побег. Но кто же это заботится о нем? Или челябинцы протянули сюда руку помощи, или местная организация действует? Нет, без местных в таком деле никак не обойтись. Либо врет прокурор, что в городе нет социал-демократов и других тайных организаций, либо не подозревает о существовании таковой.
И все-таки углядел надзиратель перемену в настроении подопечного. Отходя от окошка после очередного свидания, Антон услышал за спиной, как он говорил караульному:
— Глянь, Тимофей, чего слово-то божье с человеком делает: ему до смерти деньки отсчитывать приходится, а он повеселел вроде бы даже. — И, догнав, Антона, тронул его за плечо: — Пособляет, стал быть, слово Спасителя, а?
— Пособляет, — отозвался арестант, не давая надзирателю забежать вперед и заглянуть в лицо. — Многим святым облегчало оно муки тяжкие.
— А Тимофей-то вот не обучен грамоте, — вздохнул надзиратель, — книжек церковных не читает и глядит волком…
— Пройдет у него это, — неопределенно ответил Антон и с тех пор еще плотнее запечатал душу.
А она, душа-то, вся трепетом исходит. Ведь через несколько часов либо воля, либо еще надежнее запоры и скорее окончательный приговор. Сжался под одеялом, скрючился, стараясь не глядеть на все более светлевшее окно. Душно закрытому, жарко. Теперь бы ходить из угла в угол по этой клетушке и рассуждать вслух, жестикулировать. Нельзя! И вонища от проклятой параши, аж в носу щиплет.
И вдруг, пробившись через зарешеченное окно, сквозь нахлобученное одеяло в ухо ворвались божественные трели соловья. В первое мгновение подумал, что показалось это от чрезмерно напряженного возбуждения. Стянул с головы одеяло: вот она птаха — крохотная, неказистая. Сидит между вторым и третьим листом на видимой веточке и упоенно заливается, глядя в решетчатое окошко узника.
Что-то до боли задушевное, веселое и важное рассказывал вольный певец. А у Антона перехватило дух, и он долго не мог прийти в себя, хотя птаха уже вспорхнула и ветка перестала качаться, застыв в оцепенении.
— «Узника» бы теперь затянуть, — со вздохом прошептал Антон, — громко бы запеть, во весь голос… — потянулся до хруста в суставах, добавил: — Ну, еще с часок помаяться и вставать можно.
12
К утру на сеновале сделалось прохладно. Авдей Маркович и Зоя Шитовы спали здесь не только из-за любви к свежему воздуху. Вторую неделю безвыездно жил у них Виктор Иванович Данин. Спал в горнице на кровати и, как ни доказывал он, что сподручнее ночевать ему на сеновале — не допустили этого хозяева: кашлял он громко, заливисто, с закатом. И опять же, не простуды испугался Виктор Иванович, а того, что кашель в ночи на весь квартал греметь будет и соседи — будь они самые нелюбознательные — станут спрашивать у хозяев, что за гость у них объявился.
Натягивая на плечи дерюжку, Авдей локтем задел влажно-росную траву, сметанную тут вчера и потеплевшую от слежалости — с верхушки копны сползли на голову две ковылины. И на одной из них — жучок. Маленький огненно-красный жучок с круглыми бархатистыми пятнами. Путаясь в волосах, он выбрался на край дерюги, но, видать, не захотел расставаться с теплом человеческого тела. По небритому подбородку достиг темного уса и вскоре деловито барахтался под самым носом, шевеля в нем нежные волосинки.
Сонно дернув рукой, Авдей чихнул отчаянно и, вырвавшись из дурманящих объятий сна, увидел на большом пальце боязливо прилипшую букашку, приподнялся на локоть.
— Вот оно что, — заворчал, тараща слипающиеся глаза. — Ну, спасибо тебе, козявка малая. Вовремя разбудила!
Услышав эти слова сквозь дрему, Зоя повернулась к мужу.
— Ты с кем это говоришь-то? — спросила она тревожно.
— Да так я… сам с собой… Чуток не проспал, говорю, — и, вздохнув глубоко, вылез из-под дерюги.
— Денек-то каков сегодня, Авдеюшка! — пропела Зоя, садясь на постели и закручивая волосы в большую шишку на затылке.
— Не охай до времени, — возразил Авдей. — День как день. И вчерась такой был. На небе, кажись, ни облачка не видать.
— А для нашего дела, чать, непогодушка лучше бы.
— Да перестань ты, — вдруг рассердился Авдей. — Откудова нам знать, чего лучше? В сырую погоду следы на дороге лучше печатаются — вот это я знаю. На улицах людей меньше будет, а в сад и вовсе гулять никто не пойдет… Лучше?
Зоя знала, что городской сад в сегодняшнем деле должен сыграть свою роль, и поняла неправоту свою…
— Ладно, — примирительно сказал Авдей, — поглядим, каким боком день этот к нам поворотится… Ты дело-то свое хорошо помнишь?
— А чего там помнить? Проулок тот хоть с завязанными глазами найду, время знаю.
— Ну, поспи еще часок-другой, поспи. А я пошел.
— Да какой тут сон, Авдеюшка!
Уже с лестницы он окинул взглядом ее округлые плечи, румяное лицо и повлажневшие глаза с дрогнувшими ресницами и через перекладинку на шаткой лестнице спрыгнул во двор.
О себе Зоя не думала и не боялась, потому как ей надлежало в назначенное время быть во втором переулке, куда свернут беглецы с широкой улицы, и, если будет погоня и спросят, куда промчались на ходке трое людей, показать неправильное направление. После этого, разумеется, исчезнуть надо немедленно. Одета будет она в обычный мещанский наряд, на руке — корзина с огурцами, с зеленым луком, с петрушкой…
Беспокоилась она за мужчин. Больше недели пропадали они на улицах и переулках, считали шаги, прикидывали время, намечали места остановок, обдумывали все до малейших подробностей. Даже, насколько хватало фантазии, пытались предугадать возможные неожиданности. Но основной расчет все-таки строился на ослепляющей дерзости, на отчаянной лихости. Как-то выйдет сегодня все это?!
Полежала Зоя еще с десяток минут, раздумывая о предстоящем, услышала, как за Авдеем приглушенно стукнула калитка, убедилась: не дождаться сна. А от безделья всякая чертовщина в голову лезет. Надо вставать — печь затопить, еду на весь день приготовить да пораньше на базар сбегать. Каждый день по четверти кумыса покупает она для Виктора Ивановича. Подлечить его хочется, а он с табачищем ни на минуту не расстается и так страшно кашляет, что глядеть на него больно.
В избу входила осторожно, на цыпочках, чтобы не топнуть, не стукнуть, Виктора Ивановича не разбудить.
— Чего это ты как воровка в свою дверь-то лезешь, волк тебя задави? — услышала она бодрый голос Виктора Ивановича из-за занавески.
— Ой! — испуганно отозвалась хозяйка. — Доброе утро, Виктор Иванович! Вас разбудить боялась…
— Утро-то доброе, Зоюшка. Авось и день такой же удастся. Поди-ка сюда.
Виктор Иванович стоял возле стола, как приказчик у прилавка. Рукава синей, выцветшей на груди рубахи завернуты невысоко. Окурок толстой самокрутки чадит из-под усов, а Виктор Иванович, щурясь от дыма, осторожно складывает крутобокие яблоки в большущий кулек из грубой серой бумаги. А на столе лежат свернутые вдвое брюки, пиджачок, наподобие студенческого, только пуговицы не светлые, и горчичного цвета косоворотка. Из-под нее выглядывает большая икона в окладе с изображением божьей матери. Тут же новенький французский замок лежит с тонкой дужкой, парик и маска, умело подкрашенная под цвет лица. И была она почему-то не полная, а лишь до верхней губы — сразу под носом обрезана.
— Держи! — протянул Виктор Иванович руку с румяным яблоком, — Держи, держи. Только это нам и останется от пяти-то фунтов. Остальные все равно стражники слопают, волк их задави… Ты чего делать-то наладилась?
— Еду сготовлю да за кумысом сбегать хочу. Успею, небось?
— Не надо сегодня кумыса, Зоюшка. Некогда его пить.
— Ну хоть вечером…
— Вечером дай нам бог пода-альше от тюрьмы и от города быть… А мне волей-неволей придется в пивной лавке у Закирова сидеть да пивцо потягивать. Там уж я и наобедаюсь. Гляди, Авдея с голоду не умори. Часов после двух он воротиться должен.
Зоя отошла в куть, сунула на полку подаренное яблоко, загадав съесть его завтра, как уж все обойдется, и юркнула в подпол.
— Тута вот вчерашнего кумыса еще с кружку осталось, — сказала она, по грудь показавшись из подпола, — выпьете?
— Выпью, — коротко отозвался Виктор Иванович и, помедлив, добавил: — Сейчас мы все это уложим в корзину да отнеси-ка ты ее Алексею на условленную квартиру… Сам я хотел попутно сделать это, но лучше не маячить мне там лишний раз.
13
Прошагав по нескольким захолустным улочкам, Авдей вышел к речке Увельке, перебрался через нее по хлипким, качающимся мосткам и, одолев еще с десяток немыслимых переулков на самой окраине, начал подыматься по подвернувшейся тропинке в гору. Там, в вольной степи вместе с другими конями отгуливается Воронко Виктора Ивановича. Сегодня коню этому, купленному за немалые деньги, — проверка.
Знакомого башкирца с конем на условленном месте не оказалось. Рано, выходит, пришел. Ждать придется. Устроился на степной кочке, закурил. А вид отсюда, с высоты, — загляденье одно! Весь город — как на ладони — перед глазами. Промышляя извозом, Авдей не по одному разу побывал на каждой улице, искрестил все переулки, знал многие адреса.
С годами на окраинах появились пригороды, слободки. А сам город улегся в низине между речками Увелькой и Уем почти правильным четырехугольником.
Разгульная, Нижегородская, — как по книге, перечислял Авдей, — Базарная, Оренбургская (Большой ее чаще называют, самая красивая улица в городе), Набережная… Тут купчишки приезжие всегда лепятся, потому как стоит переехать Уй — и вот он, Меновой двор. Торгуй себе на здоровье со всеми удобствами. В стороне на возвышенности — женский монастырь, и кладбище там же, и церковь.
Церквей в городе немало, но самая красивая — собор Святой Троицы — возвышается девятью главами на восемнадцать сажен. Стоит он на углу Большой и Соборной улиц. Из двух оренбургских соборов ни один с ним сравниться не может, сказывают. Три каменные мечети по Большой же улице выстроились, главная двумя минаретами прокалывает небо недалеко от собора.
Все это промелькнуло в сознании в одну минуту и потому лишь вспомнилось, что знание улиц и переулков нужно сегодня всем участникам дела. А больше всех — Алексею Куликову. Авдей попробовал проследить путь от тюрьмы до городского сада, но вдали переулки сливались, затягивались зеленью. Однако нужные точки все-таки отметил.
Сейчас предстояло ему совсем иным путем, не заезжая домой, привести коня к назначенной квартире в конце Соборной улицы, к Алексею, и не спеша двигаться к городскому саду. Времени будет достаточно, чтобы дойти туда пешком. Да и лучше пройтись неторопливым шагом, чем изводить себя лишними минутами ожидания. Место возле сада указано в точности, но глядеть надо в оба: мало ли чего случиться может!
Потом останется угнать подводу к знакомому извозчику, там оставить ходок и дать выстояться коню, а после того отвести его в Токаревку. Это в сторону женского монастыря. Там во дворе у типографского наборщика Захарова стоит телега Виктора Ивановича. Вот когда Воронко будет доставлен туда, можно и домой возвращаться. А пока…
Сзади послышался конский топот. Оглянулся Авдей, вскочил, бросил окурок и придавил сапогом. К нему приближался табунок лошадей. Игриво взмахивая головами, кони сбавляли шаг и, добежав до крутого спуска с горы, остановились.
Башкирец средних лет, издали поприветствовав Авдея, спрыгнул с низкорослого конька и, звякнув удилами наборной уздечки, подошел к табуну. Некоторые кони опасливо сторонились табунщика, иные стояли мирно. А Воронко, когда повисла перед ним уздечка, сам в нее морду сунул и уж потом легонько потряс головой, словно бы для того, чтоб ремни плотнее за ушами прилегли.
«Умный, покорный конек», — отметил про себя Авдей. А вслух сказал:
— Эт что же он, как телок смиреный-то? Аль не нагулял ты его?
— Э-э, совсем ничего твоя не понимает! — ответил табунщик. — Любого в табуне возьми, а его оставь. Ладно?
Авдей молча принял повод, огладил коня, с любопытством заглянул в его живые, умные глаза.
— Гулял он шибко хорошо. Овса ему давал, водой поил. Трава, как богатырь, силу дает в это время. Зачем зря плохо говоришь?
— Да не серчай ты, не серчай! — легонько хлопнул по плечу приземистого башкирца Авдей, поглядывая на лоснящуюся шею Воронка. — Посмеялся я, пошутил… А степная трава об эту пору и впрямь богатырские соки несет… На той неделе праздник был, Андрея-Наливы по-нашему называется… Озими теперь уж наливом доходят, и овес до половины дорос.
Подал Авдей табунщику обещанную плату, вскочил на Воронка и уже на ходу с чувством промолвил:
— Ты уж прости, брат, ежели чего не так. Прощай!
С места поехал Авдей не торопясь, будто присматриваясь к ходу и силам коня.
14
Свой план Алексей Куликов начал выполнять еще со вчерашнего полудня. Встречаясь со знакомыми, он с восторгом сообщал, что вечером отправится рыбачить на Уй с человеком, знающим отличное место, что вернутся они во второй половине дня непременно с богатым уловом, и приглашал на уху.
Жили они с матерью в небольшом аккуратном и чистом доме на окраине города возле березовой рощицы. И перед фасадом шумела молодою листвой раздвоенная почти до самого корня на два ствола береза. Пятнадцать лет назад стволы этой березы были совсем тонкими и гибкими, и мать, глядя на них, часто повторяла тогда: «В доме нас двое осталось, Алешенька, и возле дома два сторожа стоят. Сберечь их надо». И берегла — коня привязать за них не разрешала.
В том году погиб отец: упал с коня на полном скаку. А поскольку служил он земским врачом, то матери назначили небольшую пенсию. Сын подрастал, и нужда заставляла искать для жизни дополнительные средства. С большим трудом поступила в управление железной дороги. Регистрировала она билеты и выдавала их кассирам. Уходила на службу рано, а возвращалась по-разному.
Изгнанный из Казанского университета, Алексей пристроился в местной газете ночным корректором, потом — литературным сотрудником, а порою и репетиторствовать приходилось. Открытие книжной лавки «для торговли учебниками и писчебумажными товарами» Алексей оформил на свое имя, добившись разрешения властей и подобрав сносное помещение поближе к центру города. Он не таился от матери в главном, но и не посвящал ее во многое. Она же видела и понимала гораздо больше, чем сообщал сын о своих делах.
В тот вечер, забежав домой часов в шесть, Алексей сказал, что уезжает рыбачить на Уй, и попросил мать назавтра вернуться домой пораньше, чтобы встретить рыбака с богатым уловом. Возможно, знакомые на уху придут.
Валентина Капитоновна — так звали мать, — поправив тяжелый узел темно-русых волос на затылке, едва заметно прищурила серые глаза и, пристально вглядевшись в открытое милое лицо сына, не стала ни о чем спрашивать.
— Хорошо, — сказала она, запахнув полу старенького пестрого халата. — Вези больше рыбы и зови гостей. Будет уха. Даже выпить найдется.
— Выпить не обязательно, мама.
— Почему так? Или гости не очень дорогие?
— Гости как гости, — усмехнулся Алексей, — но не все же за наш счет: я рыбы привезу, а они пусть выпивку несут к нашей ухе… До завтра, мама!
Он выскочил на трехступенчатое крыльцо и, спрыгнув с него, крупно зашагал от дома. Знал, что мать смотрит ему вслед из кухонного окна, но не оглянулся.
Не спросила мать, почему не переоделся он, почему не захватил еды, почему не взял что-нибудь под рыбу… И еще с десяток «почему» вертелось у нее на языке, но она не хотела смущать сына лишними вопросами — все равно, если не хочет, не скажет правды. Если можно, не станет он от матери таиться. И дрогнуло ее сердце, сжалось. Ведь только что видела она в веселых и ясных глазах его что-то настороженное, отчаянное и нежное. Плакала она редко даже наедине с собою.
Алексей понимал, что мать догадывается о том, что он недоговаривает чего-то, был противен себе.
На квартире, подобранной для такого случая, хозяев не было — в гости они уехали дня три назад. Стряпка — ленивая располневшая баба — ничуть не удивилась позднему приходу Алексея, поскольку был он тут своим человеком и не раз ночевал. Знала стряпуха, что хозяева доверяют Алексею во всем, и не удивилась, когда он объявил, что завтра поедет на рыбалку в хозяйском ходке с длинным плетеным коробком. Еще беговушкой такую телегу называют.
После суматошного дня и многих тревог спалось Алексею здорово. В просторном чулане было тихо, чисто, уютно. Ни единая муха не прогудела, пока засыпал. Но неотступная забота, видимо, сторожила его и во сне, потому проснулся рано. Вставать пока нет смысла. Расслабленное сном тело нежилось в ласковой утренней прохладе, а душу еще не охватили тревоги и волнения предстоящего трудного дня.
Вдоволь наслушался петушиного разноголосья, доносившегося из многих соседних дворов. Пели кочета по-разному, порою сливаясь в общий хор. Но один выделялся до того разительно, что спутать его с каким-либо другим было невозможно. Начинал он резко, грубо, с отчаянным заиканием, похожим на кашель, зато потом, словно вырвавшись из пут, тянул громко, заливисто, дольше всех…
Натужно и глухо простонала избяная дверь, пискнули в сенцах половицы, и послышался легкий стук в тонкую дверь чулана.
— Леша! Лексей Лексеич!
— Да-да, я не сплю.
— Кушать на столе в кухне приготовлено… Пошла я к красильщику: ремки для половиков подновить хочу… Ворочусь к вечеру… Вороты-то знаешь как запереть?
— Спасибо за завтрак. Я тоже скоро уеду. Ворота и дом закрою как надо, не беспокойтесь.
— Ну, чтоб заперто было. И ключ — на место.
Она тяжело вышла из сеней, видать, с большой ношей, протопала по двору к курятнику — наверно, бросила курам корму — и удалилась.
Вот так подарок поднесла стряпуха! Насколько же проще без нее будет собираться в опасную дорогу! Вскочив с постели, Алексей сделал несколько резких движений руками, поприседал и побежал во двор умываться.
Первым появился Иван Воронов, когда Алексей прибирал на столе посуду после завтрака. Стряпуха-то хоть и неповоротливая была, но грязи в доме не терпела. И с мухами никогда у нее миру не было.
— С добрым утром, Алеша!
— Здравствуй, Иван! Проходи. Чего же в дверях-то стоять?
— Да на одну минуту я заскочил.
— Случилось что-нибудь?
— Нет. Предложение одно есть.
— Давай.
— Сейчас иду в лавку и торгую ровно до десяти, а не до полдесятого, как договорились. Потом объявляю громко, что отбываю на станцию за товаром. Сюда больше не зайду, а в половине одиннадцатого буду шагать по левой стороне улицы на выезд к пустырю. Тут ты меня и подхватишь.
— А как с маскарадом?
— Да какой там маскарад! Пиджак в дороге по пустырю натяну и маску накину.
— А ведь верно, волк тебя задави! — засмеялся Алексей, копируя Виктора Ивановича. — Твое отсутствие в лавке сократится — раз, маячить на улицах не будем с маскарадом — два, мне без попутчика тоже удобнее — три. Говорил ты с ним об этом?
— Нет. Мы же не виделись.
— Ладно. Принято. Зайдет он сюда с вещичками, объясню ему все. Если не согласится с нашим планом — заглянет к тебе в лавку. Хорош?
— Хорош. Пошел я.
Выкатив ходок на середину двора и развернув его оглоблями к воротам, Алексей принялся смазывать колеса… Пискнули петли калитки — и в проеме не Виктор Иванович появился, а Зоя с корзиной.
— Что-то случилось? — Алексей шагнул к ней, не успев бросить квач обратно в дегтярницу. С него капал деготь, и Зоя, прикрывая калитку, опасливо попятилась. — Где Виктор Иванович?
— Да чего ты всполошился? — удивилась Зоя. — Дома он… Показываться тут лишний раз не захотел. Сказал, что пойдет прямо на место.
Алексей провел Зою в кухню и там принял от нее все вещи поштучно, развертывая каждую и снова укладывая на место. На столе, отдельно от других вещей, оставил только парик.
— Когда вернешься домой, застанешь Виктора Ивановича?
— Нет, уж не застану, наверное. Уходить он собирался. А я на базар еще забежать хотела…
Алексей, соображая, что предпринять, провел рукой по лицу сверху вниз, будто снимая с него мгновенную растерянность, и, указав на дверь, подчеркнуто спокойно сказал:
— Беги.
— Куда? — не поняла Зоя, готовая сделать все, что потребуется.
— Ну, на базар, за базар — куда тебе надо, туда и беги.
Она так и ушла, не поняв его вспыхнувшей и тут же угасшей тревоги.
Оставшись один, Алексей не торопясь надел парик, приладил усы и бороду. При этом в голове неотступно вертелась мысль о том, что день только лишь начался, а в их плане произошло уже столько изменений, о которых еще вчера вечером при его детальной проработке никто и не помышлял. Поехать отсюда должны они были вместе с Иваном Вороновым — поедет один; предполагалось, что стряпуха будет находиться дома, и на этот счет были придуманы меры, чтобы выпроводить ее — а она взяла да и ушла сама; Виктор Иванович хотел зайти сюда сам — а прислал Зою.
Алексей все больше волновался, накладывая грим перед небольшим зеркальцем, висящим на стене. Стирал его, снова накладывал. В городе множество знакомых людей. Непременно кто-нибудь встретится и узнает. И парик, и грим, казалось ему, бессильны изменить внешность до неузнаваемости. А эти отступления от плана начинали смахивать на стихийность. А от нее добра не жди. Хотя, невольно отметил Алексей, пока эти изменения не только не нарушали плана, а улучшали, делали исполнение его более безопасным.
Только мазнул на щеку серой краски и, не успев растереть ее, услышал стук в ворота. Накинул картуз и выскочил на крылечко. Держа под уздцы Воронка, в калитку входил Авдей.
— Эй, дядя, — спросил он, — хозявы-то дома?
— Дома, дома, — старческим голосом проскрипел Алексей. — Проходи, племянничек.
— Ах, пес тебя залягай! — Авдей остановился на полушаге, будто ему пику в грудь наставили. — Ну и хорош — чисто оборотка. Вот артист дак артист!
— А ты глотку-то не дери на весь квартал, — урезонил его Алексей. — Не зря, стало быть, в обществе любителей театра состою.
— Да ведь ежели бы не куртка твоя нараспашку да не вот этот ремень с бляхой, ни за какие крендели не признать бы тебя!
— На куртку я зипунок накину да запахнусь потуже… Конек-то как, нагулялся? Не подведет?
— Думаю, не подведет. Попробовал я его и на степной дорожке, и в городу — идет ладно. Лишь ветерок в ушах посвистывает. В упряжке небось не хуже будет. В ходок-то заложить его тебе али как?
— Рано еще. Сам запрягу. Поставь пока под навес.
Пока Авдей отводил коня, Алексей заскочил в чулан и, накинув зипун, вернулся на крыльцо.
— Ну, теперь у тебя только душа осталась Алешкина, — с восторгом оглядывал его Авдей, — а так и мать родная открестится, не признает.
Лестно было слышать Алексею такие слова, радовало, что маскарад все-таки надежный.
— Ты место свое хорошо знаешь? — спросил он у Авдея.
— Как не знать, — ответил тот.
— Гляди подальше вокруг: может, не удастся точно-то подъехать. Может, раньше коня оставить придется.
— Это само собой, — вздохнул Авдей, — только с конем-то все понадежнее. Зачем его бросать до времени.
— Всякое бывает, — уклончиво отозвался Алексей. — Ладно, прощаться не будем, поскольку встреча у нас еще впереди. Вечером на уху тоже не приходи, пусть хоть самый богатый улов удастся.
Авдей ушел.
Вот теперь Алексей вдруг почувствовал себя одиноким. Начали одолевать всякие думы. Дело у него отчаянное сегодня, рискованное — вырвать у тюремщиков Антона Русакова и доставить его в пивную лавку купца Закирова. Что и как будет потом, кто и куда спрячет Антона — не знал Алексей. Об этом только Иван Воронов догадывался да Авдей с Зоей туманно гадать могли. Так что Виктору Ивановичу много еще забот и хлопот предстоит. А сколько волнений, страхов, сомнений бурями пронесется в душе, пока устроит он этого человека! И сколько надо на это ума, терпения, опыта и еще черт знает чего. Стало быть, надо Виктору Ивановичу что-то делать — не из простой осторожности не зашел он сюда.
Чтобы скоротать время, Алексей уложил имущество, сверху прикрыл его травой, оставленной на сеновале хозяином. Французский замок бросил в маску, чтобы Иван потом не забыл положить его к себе в карман. Осмотрел пистолет, патроны проверил, спрятал.
Делать нечего, а до выезда остается еще целый час. От безделья всякая чертовщина в голову лезет. Потому снял Алексей свою маскировку, во дворе дотошно проверил «беговушку», каждый ремешок сбруи, а потом пошел в дом, чтобы снова превратиться в старика.
15
Как ни растягивал время Алексей на запряжку коня, все равно выехал минут на пять раньше назначенного срока. Запер сени и ворота и, трогая коня, проговорил тихонько:
— Ну, Воронко, теперь мы в одной упряжке.
Ленивой рысцой поехал вдоль пустынной улицы. В это время прохожие не часто встречаются. Возле ворот подслеповатого домика, будто каменные, не шелохнувшись, мертво стояли два верблюда. А сзади них, на тротуаре, лежал маленький песочного цвета верблюжонок.
Навстречу по этому тротуару шли два рослых человека в вышитых белых рубахах. «Не знакомые ли театралы?» — мелькнуло в голове Алексея, и он отвернулся, и тотчас сзади громовым голосом загудело:
— Побачь, побачь, Остап! Такэ малэ и уже горбатэ. Ай-я-яй!
Алексей ухмыльнулся в бороду и тронул вожжой коня. Тот прибавил шагу. И тут какой-то необузданный порыв лихости вдруг обуял парня. Ведь все предприятие, на какое он идет, рассчитано на самую дерзкую дерзость. А чего стоит весь этот маскарад, если отворачиваться от каждого встречного и дрожать перед ним! От таких мыслей почувствовал он себя хозяином улицы. Приосанился, гикнул, ходок запрыгал на колдобинах.
Однако перед выездом в улицу, выходящую концом на пустырь, притормозил: а вдруг Иван еще не вышел на условленное место? С опаской вывернул из-за глухого забора, всмотрелся: дальше последнего дома по левой обочине идет человек. Иван это. Ходит он немного сутулясь, большими шагами и на каждом шагу вроде бы чуть-чуть запинается, не заканчивая его.
Минуты не понадобилось, чтобы догнать товарища. На пустыре, сколько хватает глаз, — ни души. Иван, как только запрыгнул в ходок, натянул поверх своего светлый поношенный пиджак, положил в карман замок и после того накинул на лицо маску.
— Ну как, сойдет? — толкнул он в бок друга.
— Усы выправь из-под маски, — заметил Алексей. — Минут на пятнадцать — двадцать сойдет, а там и роли твоей конец.
Не доехав до заветной дверцы саженей с десяток, Алексей развернул подводу в сторону города и поставил ее поближе к кирпичному забору. Взяли большущий кулек с яблоками, икону и зашагали к окошечку.
— Ты не суйся к окошку, сбоку пока держись, — предупредил Алексей. — Один я передавать стану. — Он занес руку и, помедлив секунду, стукнул в дверцу.
Как бы ни был отважен человек, как бы и сколько бы ни готовил он себя к решающей минуте, за которой стоят жизнь и судьбы его товарищей, — независимо от воли в груди надрывно начинает гукать сердце. Но высокая цель и само дело не позволяют прислушиваться к бешеному гуканью и этим облегчают участь подвижника.
Окошко распахнулось. В проеме показалось рыжеватое лицо часового. Он выдернул из-под опаленных усов толстый окурок и, показав редкие, круглые, как пеньки, коричневые зубы, выпустил дым в лицо Алексея.
— Чего тебе?
— С Антоном бы Русаковым повидаться мне, может, в остатный разок, — подделываясь под серого мужика, плаксиво молвил Алексей. — Передачку бы отдать… Уезжаю я нонче.
— То уезжают, то приезжают, — заворчал часовой, разгибаясь и отходя от оконца.
Отстукала долгая минута, пока вышел Антон и с ним — надзиратель.
— Горемыка ты наш, — заскулил Алексей. — Уезжаю я, может, не свидимся боле… Прими вот передачку… От всей души.
Он сунул кулек в окошко острым концом, но голова его застряла и явно не могла пролезть в проем. Вертели так и этак — не проходит.
— Тьфу ты, сиволапый! — выругался надзиратель. — Да ты отклади ему хоть в подол рубахи, он и пролезет, куль твой.
— Вот спасибо тебе, добрый человек! — обрадовался посетитель, а у самого много мыслей опасливых промелькнуло в один миг. — Надоумил ты нас.
Алексей начал подавать большие румяные яблоки по одному. А надзиратель, поглядев на это неторопливое занятие, сказал караульному служаке:
— Ты, Тимофей, догляди тут, а я отлучусь на момент.
Алексей, быстро убавив яблок, — штуки три на землю упало, — просунул кулек и шепнул Ивану:
— Не прошел первый номер, давай второй, — а в окошко снова запел жалобно: — Иконка вот тут ему на благословение передана…
Но большая икона никак не шла в проем. И тут уж ничего не убавишь.
— Не приму я у тебя такую передачу, и все тута! — запротестовал страж.
— Да как же не примешь-то? — взмолился посетитель. — Она ведь, икона-то, в церкви освященная и ему предназначена. Куда же я с ей теперь? Может, она его и спасет.
За дверью загремели ключи. К Алексею подошел Иван.
Вот он твой миг, Антон Русаков! Может, единственный в жизни миг. Сами рухнули все запоры, разверзлись глухие тюремные двери. До воли — один шаг. Там друзья твои, хотя и неведомые, но спаянные одним духом.
Так что же ты стоишь как истукан, в обнимку с яблоками? Чего ты еще ждешь? Сейчас вернется надзиратель, и все усложнится во множество раз!
Внутри у Алексея кипела буря. Вот-вот все сорвется. А часовой сбоку тянулся за иконой. Выставив ее вперед и подавая стражнику, другой рукой Алексей рванул узника на себя, так что тот вылетел за дверь и растянулся на потрескавшейся земле. Покатились яблоки.
Дверь захлопнули, но часовой с умноженной испугом силой навалился изнутри. Накладка не попадала на петлю, срывалась от нажима. На дверь давили в два плеча Иван и Алексей. Иван силился всунуть в петлю дужку замка, но это никак не получалось.
— К подводе! — Алексей бешено сверкал глазами на поднявшегося Антона и все еще не пришедшего в себя. — Переодевайся!
А дверь содрогалась, накладка прыгала… Вдруг давление изнутри ослабло. Но не успел Иван защелкнуть замок — сверху, из окошка, сверкнул блестящий штык. Правда, вреда он сделать не успел: Алексей отшиб его рукой. Защелкнулся наконец замок. Скорей к подводе!
Часовой, ошеломленный невиданной дерзостью посетителей, видать, запамятовал, что винтовка может стрелять. Стрельни он прямо в дверь, сквозь доски — случилось бы непоправимое. Расчет на неожиданность, на ослепление противника дерзостью оправдался на деле.
Антон успел скинуть свою арестантскую робу, пока бежал до подводы. Там возле тюремного забора и бросил ее. Теперь, трясясь в летящем ходке, он судорожно натягивал на себя приготовленную для него одежду, Иван помогал ему.
Бешеная тревога седоков передалась коню. Он, словно желая выскочить из хомута, казалось, птицей летел, не доставая ногами накатанной дороги.
Тюремная ограда осталась позади, и оттуда захлопали ружейные выстрелы. Опомнился, стало быть, обалдевший стражник, поднял тревогу. Через считанные минуты начнется погоня, а через полчаса-час весь город будет кишеть сыщиками. Скорее!..
Беспорядочная стрельба наделала переполох не только в тюрьме — она выгнала на улицу жителей крайних домов. Увидя несущуюся со стороны тюрьмы повозку, мужчины начали перегораживать улицу, становясь один к одному и делая живую стенку. Стенка получилась короткая, но высокий человек с черным чубом подбадривал остальных и сам, видать, не из робкого десятка был. Такой и на шею коню броситься может, и в повозку вскочить не побоится.
В первое мгновение у Алексея мелькнула мысль — круто вильнуть перед стенкой и объехать ее по обочине слева. Но там, хоть и неглубокая, есть канава. Да и на таком ходу от крутого поворота может перевернуться ходок… Отчаянно нахлестывая коня, Алексей выхватил пистолет — в коробке́ стоял он на коленях — и, выстрелив вверх, помчался прямо на стенку.
Расскочилась в последнюю секунду стенка, отпрянули охотники. Славную службу и Воронко сослужил. Не дрогнув, летел он вперед, грозясь раздавить всякого, кто на пути окажется.
Приметить что-либо не успели опешившие обыватели. А повозка, проскочив первый переулок, вильнула круто во второй, налево, так что едва не опрокинулась.
Улицы и переулки знал Алексей наперечет в этом районе. Но, готовясь к делу, специально прошел по маршруту много раз. Все приметил и выбрал такой путь, где меньше всего встретится прохожих. Здесь действительно было безлюдно, словно вымерли сонные обыватели. Только Зоя с корзинкой мелькнула. Шла она не по тротуару, а по дороге.
После третьего поворота, придержав коня, Алексей обернулся к Ивану, коротко бросил:
— Все! Уходи!
К этому времени Иван Воронов уже стащил с себя светлый пиджак, завернул в него маску. А спрыгнув с ходка, ему оставалось всунуть эти вещицы за ранее примеченную кладку кизяка и как можно скорее попасть на железнодорожную станцию, чтобы получить там товар и вернуться в свою лавку.
Алексей и Антон, сделав еще несколько поворотов, выскочили к ограде городского сада. Проехав легкой рысью еще саженей триста в сторону главного входа, остановились и, оставив коня, отправились туда пешком. За всю дорогу не обмолвились они ни единым словом. Алексей заметил, как с лавочки от ворот ближайшего дома поднялся Авдей Шитов и вразвалку пошел к Воронку.
Нестерпимо хотелось бежать, забиться куда-нибудь в щель, исчезнуть! Ноги сами несли вперед, и только громадным усилием воли удавалось их сдерживать. А путь по саду подобен был хождению по горячим углям. Правда, толпы ленивых бездельников успокоительно поглощали беженцев, но то и дело мелькали знакомые Алексею люди, и ему казалось, что вот-вот кто-то поздоровается с ним и заведет разговор.
Вон идет Тонечка Димова, дочь лесничего, слушательница Бестужевских курсов. На каникулах она. Хорошая подружка, и кое-что знает о скрытой деятельности Алексея Куликова. Но сейчас лучше бы не встречаться.
А вот навстречу, прямо лоб в лоб, с кавалером под ручку вышагивает прокурорская дочь! Не раз она в лавку заглядывала и знает Алексея отлично. Даже танцевать с ней приходилось вот здесь, в саду. Она заливается веселым смехом, а спутник, что-то рассказывая, чуть-чуть улыбается краешками губ.
Стоп! За группой молодых людей, будто плывет в полусне, держа под руку жену, сам прокурор! Антон, увидев его, замер. Свернуть некуда, и поздно уже. Как быть? Антон, как завороженный, впился взглядом в прокурора и не может от него оторваться.
Алексей легонько оттолкнул товарища с дороги, быстро нагнулся и принялся стряхивать с его брюк «пыль». Тогда и Антон склонился, а прокурор между тем важно прошествовал мимо.
«Пронесло! — облегченно вздохнув, подумал Алексей. — Какого черта слоняется он тут в рабочее время?»
— Знакомый дяденька? — негромко спросил он у Антона.
— Знакомый, — одними губами ответил тот: в перехваченном сухостью горле застряло слово.
Они сошли с середины аллеи ближе к обочине, чтобы со стороны удобнее было разглядеть встречных. До конца сада уже недалеко. Потом свернуть направо — там есть калитка, за ней, через дорогу — питейная лавка купца Закирова, а за забором — винный погребок. Сам купец, конечно, не ожидает столь опасных гостей, зато приказчик его давно готовится к этому моменту.
В дальнем конце сада все меньше встречалось гуляющих. Прошли хорошо. А выйдя из калитки, Алексей увидел Виктора Ивановича, вздохнул облегченно:
— Обошлось! Сейчас вот этот человек поможет тебе исчезнуть.
— Вот ты какой, волк тебя задави! — встретил их Виктор Иванович. — Ну и молодчина же ты, Алешка! Даже время хорошо выдержал. Хоть часы сверяй, — щелкнул крышкой часов, покачал головой. — Памятник тебе потомки воздвигнуть должны. Пошли! — Он дернул за рукав Антона, и они скрылись в узенькой и низкой калитке каменного забора…
Алексею хотелось пойти за ними, хоть на две минуты спрятаться от людей, сбросить всю эту бутафорию и по-человечески пойти по улице. Но здесь никто не должен видеть Алексея Куликова. А лихому «кучеру-мужику» надо еще прошагать по улице и по переулку, и уже тогда он исчезнет навеки.
Только теперь Алексей обратил внимание на духоту разгоревшегося жаркого дня, только теперь почувствовал, что вспотел. Поднял было руки, чтобы смахнуть пот с лица, да вовремя спохватился: грим попортишь… Дотопал до нужного домика и, войдя во двор, увидел телегу со снастями и в ней прикрытое травой корыто с рыбой. Ведра два будет.
Во дворе никого. Заскочив в пустой хлев, скинул зипун, парик стащил и внутренней его стороной начал стирать краску. Потом протер лицо носовым платком, и все это — парик, бороду и усы — туго скрутил и завязал в него.
Хозяин, услышав стук калитки, но не дождавшись вошедшего, выглянул во двор. Туда-сюда оглянулся — никого. К тому времени управившись со своими делами, Алексей показался из хлева:
— Я это, я, Григорич, явился.
— Э-э, да ты, брат, никак, тоже порыбачил! Али в речке искупался, мокрехонек-то весь?
— Порыбачил, Григорич. Дай умыться.
— Дак пошли в избу, никого там нету. Разогнал я всех своих. Степка-то на работу на склад ушел. Не спамши парень сегодня.
— С ним на рыбалку-то ездили?
— С им.
Алексей вернулся в хлев, вынес оттуда зипун и бросил под траву на телегу. А сверток занес в избу, попросил хозяина:
— Спали сейчас же в печке.
— Ну дак рыбка-то изловилась али как? — осторожно поинтересовался Григорич, глядя на огонек в очаге и вороша свою редкую темную бороденку, словно проверял, уж не она ли горит неброским пламенем.
— Изловилась, — плеская на голую грудь прохладную воду, ответил Алексей. — А вас на рыбалке видел кто?
— Да как сказать? По дороге реденько попадались встречные, дак Степка-то спал вниз лицом. А пинжак его на твой похожий… Да чисто все сделано. Не тужи ты про это.
— Молодцы, — натягивая рубаху, похвалил Алексей.
— Ты тоже молодец. В сорочке небось родился.
— А что? — встревожился Алексей.
— Я ведь в избу-то минут за десять до тебя зашел, а то все во дворе да на улице крутился. Дак вот, с четверть часа назад разъезд казачий тут проехал. Приглядел я малость за ими — вроде бы на Челябинский тракт наладились… А ну как они бы тебя встрели!
— Да уж все к одному, — усмехнулся Алексей. После умывания вернулась к нему бодрость. — В саду мы чуть с самим прокурором не поздоровались. А мой товарищ тоже знаком с ним.
— Да ну!
— Авось и тут обошлось бы… Давай, Григорич, запрягай.
— Отдохнул бы часок.
— Чем раньше с рыбалки вернусь, тем надежнее. Да и уху готовить надо, гостей встречать.
— Верное слово ты говоришь, — вздохнул Григорич и пошел запрягать коня.
16
Пуганая ворона, сказывают, и куста боится. Верно. С Катюхой-то же самое вышло. Привезенная Гришкой Шлыковым в незнакомую обитель эту, сидела она в избушке на курьих ножках затворницей, никого не видела, ничего не слышала более суток. Казалось ей, что непременно казаки наедут и станут обыскивать весь город. Вот-вот постучатся в ворота.
Первый разговор с бабкой получился у них короче воробьиного носа. Спросила хозяйка, как звать молодушку, сколько годов ей да сколько платить станет — вот и все. А Катюха даже имени не узнала у хозяйки. Так и величала баушкой. Чем жила эта старуха, на какие доходы — неведомо. А в хозяйстве, кроме козы с двумя козлятами да маленького огорода, ничего не числилось. Правда, три сына у нее тут же, в городе где-то жили. Они, наверно, помогали.
Первый-то день больше половины проспала Катька после столь мучительной ночи в побеге. Измокла вся, истряслась от страха, даже захворала вроде бы. Лечила ее хозяйка, чаем с малиновым вареньем угощала, травки какой-то в заварку бросила.
Неприветливой старуха показалась. Лицо у нее длинное, нос большой, репчатый, морщины по лицу крупные, как у мужика. И волосы крупные, сивые-сивые из-под линялого платка выглядывают. Руки у нее тоже большие, мужичьи. Говорила она мало, больше молчком обходилась. А все же, присмотревшись, нельзя было не приметить в ней неброской внутренней доброты.
Проснувшись нынче поутру, увидела Катюха, что бабка уже сходила куда-то и воротилась с полной корзиной снеди. Потом затопила печь да блины затеяла. С расспросами к постоялке своей не лезла: видно, Гришка обсказал ей главное, когда на постой-то спрашиваться заходил.
После обеда на улицу потянуло Катюху. В сторону монастыря бы пройтись, тюрьму свою добровольную оглядеть да еще на рядок все передумать, взвесить. Страх прошел к тому времени. Осмелела она и не раз уж подумала о том, что лучше бы все-таки где-нибудь работницей пристроиться, чем в монашки сразу идти.
А как вышла за ворота да как хватила вольного воздуха полной грудью — и вовсе расхотелось ей на монастырь глядеть. Тут и присела на шаткой лавочке. Нежарко в тени, поблизости никого нет. И потекли думы одна за другой — вязкие, тягучие, как патока, да несладкие. Надо же определиться как-то. А тут вот, сидя на лавочке, ничего не высидишь. И все-таки покойно ей было, уютно, и жить все больше хотелось.
Ненароком глянула в улицу и обомлела: казаки едут! Вскочила с лавки, к калитке бросилась, да с непривычки отворить-то скоро не может. Засуетилась.
— Чего ты напужалась? Эй, девка! — послышалось сзади.
— Проверить избу! — тут же команда последовала. А Катька, не чувствуя ног, проскочила сени и, отворив избяную дверь, взмолилась:
— Спаси меня, баушка! Спрячь где-нибудь!
— Да куды ж я тебя спрячу, родимая? Аль гонится кто за тобой? В сенях частая дробь от шагов рассыпалась, и через порог, скрючившись в низкой двери, два казака влезли.
— И где мужики? — спросил один.
— Какие еще мужики? — сердито зыркнула кошачьими глазами на казака хозяйка. — У нас тута годов с пятнадцать, почитай, и ноги мужичьей не бывало.
— Да чего ты с ей балясы точишь! — обозлился второй казак. — Лезь в подпол! На крышке стоишь.
Ухватив за кольцо, казак откинул западню и нырнул в неглубокий и тесный подпол. Чиркнул там спичкой, плюнул сердито. Вылез. Потом обшарили всю избенку, на чердак заглянули. Во дворе, в хлеву, в погребе другие казаки все осмотрели. Да на улице еще трое их торчало.
— Дак чего ж напужалась-то она нас? — пристально глядя на бледную Катьку, сидевшую на кровати, спросил казак.
— Да не в себе она, — охотливо заговорила старуха. — Головой хворая молодушка… Аль не видишь? Мужика схоронила на той неделе да ума и лишилась от горя.
Казак диковато покосился на Катьку и пошел прочь. Старуха за ним потянулась и за ворота выпроводила незваных гостей.
— Перестала бы дрожать-то как лист осиновый, — вернувшись, повелела бабка, недовольная этакой трусостью постоялки. — Не нужна ты им сроду. Знать, покрупнейши птицу промышляют. Сама ты их во двор и завела своей пужливостью. На Златоустовский тракт вроде бы сноровляются… Иди, иди прогуляйся по вольному воздуху, поколь не завяла в духоте этой.
Продолжая нервно вздрагивать, Катюха поднялась и, старчески сутулясь, двинулась на выход. Обидными показались ей бабкины слова. Легко сказать: не дрожи. Самой-то ей прятаться не надо — не ищут ее. За воротами вслух сказала:
— Никто, знать, горя не вкусит, пока своя вошь не укусит.
Пословицу эту мать нередко повторяла. Иные бабы считали ее счастливой с Прошечкой, а она стоном от него стонала. И не только за себя, и за Катьку — тоже. Теперь уж, наверно, слух дошел и до хутора, что потерялась у Палкиных молодуха. Вот заботы-то матери прибыло! Весточку подать ей никак нельзя. Да и делать этого, понятно, не следует.
Оглянулась Катюха туда-сюда и в сторону монастыря направилась. За город хотелось ей выйти, на поля вольные поглядеть. А страшно: враз да станичник знакомый либо свой хуторской кто навернется!
Пошла по узенькой тропке, что протоптана вдоль заборов вместо тротуара. На пологий подъем легко шагала, не замечала даже, что в гору тропка тянет ее. Все на дорогу оглядывалась.
А как поднялась к монастырю, тут уж и про дорогу забыла. Вперилась в беленую каменную стену, словно желая пронизать ее взглядом и разглядеть весь монастырь. Не устройство и порядок за глухой этой стеной занимали Катюхины мысли, а заглянуть бы в души спрятанных за ней обездоленных монашек! Поговорить бы.
Понимала она, что для этого надо переступить порог дверей монастырских. И для входа широко они раствориться могут, как и в тюрьме, а уж для обратной дороги щелку придется искать, хотя бы самую узенькую.
По пригороду между землянок шагала, не замечая их. Удивилась, когда обнаружила, что она одна-одинешенька в поле. Огляделась кругом, будто из омута темного вынырнула. Путника впереди на дороге заметила и, чтобы ни с кем не встречаться, свернула полевой тропинкой в сторону Уя, пошла, куда вынесут ноги.
Не видела Катюха, когда на прогретом голубом небе появились первые облака — редкие и прозрачные. А птичьи голоса сливались в ее душе в единую мирную песню, и казалось, будто сама она поет жаворонком вольным.
Кусты ивняка и ракитника далеко впереди тянулись кудрявой полосой вдоль извилистого берега речки. Не выбирая пути, Катюха подвигалась в ту сторону, заглядываясь то на василек в пшенице, то на ветвистую желтую сурепку, то на развесистый чудо-колокольчик — вот-вот зазвенит он нежно и тонко, — если качнется.
Нечаянно глянула вперед Катюха и обомлела от восторга. Перед нею широкой полосой до приречных кустов раскинулось голубое-голубое поле цветущего льна. Будто кусок неба опрокинулся и лег здесь! От него невозможно отвести взора. Словно миллионы голубых невинных детских глаз смотрят на тебя в радостном изумлении и не могут оторваться.
Небо к тому времени почти сплошь подернулось прозрачными облаками. Из-за речки потянул низовой ветер, и пошли на Катюху легкие и неслышные голубые волны. Она остановилась у кромки поля, трепетно прислушиваясь к тайному шепоту ласкового прибоя. И нахлынула на нее небывалая нежность, а может быть, неясная жалость к себе. Сама не поняла, как заволокло глаза голубым туманом, а щеки обожгло слезами…
Минутки через две, освободившись от удушья, обтерла Катюха щеки концом бледно-малинового платка и, глубоко вздохнув с перерывами, проникновенно молвила:
— А ведь это, знать, из бабьих да ребячьих слез озеро такое слилось. Они завсегда ленок теребят…
Радость и боль бабья — ленок. И стелют, и мнут, и треплют, и чешут, и прядут, и ткут — все бабы. Только молотить да масло льняное есть мужики пособляют.
17
С утра у Василия Рослова все шло как по писаному: встал пораньше, оседлал Карашку и в город прибыл благополучно. А самое главное, у следователя, где боялся проторчать весь день, задержали его не более двух часов. Так что в начале двенадцатого подъехал он к куликовской книжной лавке с намерением купить для ребят интересную книжку. Но лавка почему-то закрытой оказалась. Несколько человек толклось возле нее, и один из них объяснил, что приказчик будто бы на станцию за товаром отбыл и скоро вернется.
Стал Василий ждать. И время, как на грех, остановилось. Не подвигается вперед — и только! Одну за другой спалил три цигарки — аж тошно сделалось, — потом, узнав, что у одного из ожидающих часы есть, через каждые десять минут стал о времени справляться — медленно идет. Правда, вскоре муторное ожидание скрасилось проскакавшим казачьим разъездом. Казаки встрепанные какие-то, озверелые. Не часто в полусонном городе, населенном сытыми обывателями, такое бывает. Потому любопытство и недоумение всех обуяло: куда это казаки проскакали, по какому делу?
А тут господин подошел в соломенной шляпе, в очках и с тросточкой.
— Вы слышали новость, господа? — значительно проговорил он, не доходя до собравшихся возле лавки. Ему никто не ответил. — Говорят, — приподнял он трость, словно намереваясь ткнуть ею крайнего, — говорят, будто бы из тюрьмы сбежал опаснейший государственный преступник!..
— Словили его? — спросил кто-то.
— Кого? — удивился подошедший господин.
— Да преступника этого, какой убежал-то?
— Такие легко в руки не даются… Он, говорят, бомбы делал, против самого царя злое умышлял.
— А когда сбежал-то?
— Да вот сейчас и сбежал. Больным будто бы он прикидывался. В лазарете лежал. А тут стражника задушил и — на волю. От тюрьмы на тройке неслись они, как шальные. На какой-то улице двух человек затоптали…
И пошло! Кто вопросы задавал, кто догадки высказывал, а человек с тросточкой отвечал всем обстоятельно и толково, с деталями. Можно было предположить, что на его глазах все и происходило.
Никто не видел, откуда появился жандарм, сзади положил на плечо словоохотливого господина тяжелую руку и сказал ему негромко в ухо:
— Прошу вас за мной проследовать.
Охота к пересудам пропала у всех, как по команде, и снова пришлось бы скучать, но тут подъехал приказчик на пролетке с извозчиком. Оба они взяли по две больших связки книг, упакованных в серую бумагу, и внесли в лавку.
Василий долго прицеливался к книгам, разглядывал, заголовки читал. Остановился на интересном названии: «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга». Подумал и прибавил «Спутник крестьянина» — это уже для себя. А когда рассчитывался с бородатым приказчиком, попросил еще календарь на будущий, 1915, год. Все это завернул ему в грубую бумагу приказчик, туго завязал шпагатом и подал.
От книжной лавки поехал Василий по знакомой дороге, что выводила перед выездом из города на хуторскую. Жадно глядел на избы у поворота, выбирая ту, какую Гришка Шлыков назвал. Возле ворот спрыгнул с коня и привязал его тут. Связку с книжками с собой прихватил.
— Здорово, баушка! — возгласил с порога.
— Здравствуй, молодец! — покосилась на него бабка. — Зачем пожаловал?
— Катерина Полнова проживает тута?
— Какая такая Катерина? — не на шутку струсила старуха. — Одна я уж сколь годов живу… Никакой Катерины не знаю.
— Ну, коли Полновой нету, стало быть, Палкина Катерина есть.
— Да что ты, служивый, аль с полатей сорвалси́ — сказываю тебе: одна живу. Кругом одна. И где ж я тебе Катерину сыщу!
— Ну, ты вот чего, старая, — рассердился Василий, заметив на вешалке Катькину тужурку и бросив книжки на кровать, — ты по задворкам-то не виляй, а прямо выходи на парадную крыльцо, потому как Гришка Шлыков сам дозволил мне тайность эту. И не боись меня — из солдатов я только что воротился. А Катюха не чужая мне, и встренуть мне ее непременно надо.
Старуха глядела на солдата с великим недоверием. И в то же время во взгляде ее появилось явное сомнение в своих опасениях. Она растерянно шевелила морщинистыми губами, словно творя молитву, но и лгать больше уже не решалась, и правды выговорить пока не могла.
— Ври ты, старая, сколь можешь, а только не уйду я отседова. Хошь заночую, да выжду ее.
— А ты чей будешь-то, кто таков?
— Да Рослов я, Василий Григорич! И не тех Рословых, что в станице казаками живут, а с хутора Лебедевского, мужик, откуда Катерину замуж выдали в станицу. За мной, она быть хотела, да в солдаты меня забрили в ентот разок. Понятно тебе это аль нет?
— Поня-а-тно, — всхлипывая, протянула бабка, — да только все равно ее нету. Вышла.
— Вот с этого и начинала бы… Куда вышла-то? По каким делам? — уже миролюбиво спросил Василий.
— Кажись, к монастырю потянуло ее, — боязливо раскрывалась бабка, — а може, и дальше прогуляется… Того я не ведаю.
Услышав такое, Василий кинулся в дверь, не спросив даже, давно ли ушла. Гришка рассказал о намерениях Катюхи и свое соображенье выложил, что, кроме монастыря, податься ей некуда. Заторопился Василий — едва ногой в стремя попал и погнал Карашку на подъем. Ведь ежели она туда вдарилась, то и встретиться-то доведется ли?
Возле монастыря, кроме парочки разодетых полусонных барынь, в немыслимых шляпах и с веерами, плывущих вдоль стены, Василий никого не встретил и, пока соображал, куда теперь податься, обнаружил, что конь вынес его за кладбищенскую ограду… Так и не тронул он повода, пока в степь не выехал. Тут огляделся по сторонам и вдали, на фоне голубого льняного поля, заметил бледно-малиновый платок. Не она ли? Повернул коня на тропинку и, приближаясь, все отчетливее понимал: не ошибся. Она это, она!
Застучало в груди. Даже топот копыт и тряска не могли заглушить отчаянных в груди ударов. Дышать нечем. Тесен стал ворот гимнастерки. Рванул его — отлетели две верхние пуговицы.
Катюха заслышала конника издали. Сжалась вся, заметалась, не зная, куда податься, и мысленно прощаясь с только что обретенной волей. Ни всадника, ни коня разглядеть затуманенными глазами она, понятно, не могла. А военная одежда преследователя совсем сбила ее с толку: не иначе как должностное лицо специально за ней послано…
Едва повернув на межу и слегка потянув на себя повод, Василий на ходу соскочил с коня и, пробежав рядом с ним сажени три, остановился. Испуганная стояла Катюха, готовая сопротивляться. С десяток шагов разделяло их, не больше. Глянула Катерина в упор на солдата — лицо ее вмиг преобразилось, и над степью взвился режущий крик:
— Ва-а-а-ся!
Они обнялись. И потемнело в глазах у Катюхи от счастья.
— Ой! — стонала она, вытирая слезы радости. — Ой-ой! Да откудова ж ты объявился тута? Да неужли же и в мое окошко глянуло солнышко?..
— Ну, будя, будя тебе, Катя, — увещевал Василий, одною рукой придерживая ее, а другою поправляя после поцелуя светлые усы. — Ну видишь, привел бог и нам встренуться… Дак чего ж мы, так и будем торчать серед степи?
Шагая межою, они обогнули угол голубого поля с ровными бесшумными волнами, угасающими на кромке, и направились к речке, к прибрежным кустам. Карашка, их немой свидетель, то норовил пристроиться в ряд с хозяином, щекоча ему лицо пепельной гривой, то, играя, совал морду между головами дружно идущих впереди людей, словно пытаясь разъединить их.
— Глянь, как соскучился об хозяине Карашка-то, а? — говорила Катюха, поглаживая коня по храпу. — Неужли помнит он тебя, а?
— Може, и помнит, — уклончиво отозвался Василий. — И ты, гляжу я, не забыла вроде бы хотя и с Кузькой столь годов прообнималась…
— Побойся бога, Василий Григорич, — нахмурила брови Катюха, правая бровь от обиды еще заметнее надломилась. — Аль запамятовал, с какой радостью шла я за его?.. Да коли хватило бы сил смириться с его любовью, не вдарилась бы, знать, в бега-то. Уж не обессудь на прямом слове: тебя не чаяла встренуть. Думала, и глаз своих в мою сторону не поворотишь.
— Ты, чисто бабка Пигаска, про глаза-то сказываешь… Ну да ладноть… Здесь вот на травке привал сделаем.
И, умостившись на тесном потничке; переговорили они обо всем, и не только минувшее за годы разлуки обсказали друг другу, но и о будущем поговорили. Положив голову на седло и столкнут в траву фуражку, Василий лежал на спине. У самого лица его покачивался белый цветок полевой ромашки. А Катюха, сидя рядом, трепетно перебирала его русые волосы и неотрывно глядела в лицо, будто видела его в последний разок. Во веки веков не уходить бы с этого места! И ничего бы не менять в судьбе.
Они не видели, как надвинулись низкие тучи. И лишь первые капли дождя вернули их из сказки в реальный мир, к тоскливым житейским заботам.
— Поедем, что ль? — спросил Василий, надевая фуражку. — А то намочит тебя — опять захвораешь…
— Пойдем, — выдохнула она, словно голову над топор подставила. — Темнеть уж, кажись, начинает, а тебе ведь ехать-то вон сколь далеко.
Едва заметный подъем к дороге одолели вяло, нехотя.
— Поедем, что ль, на копи-то? — спросила Катюха. — Так ведь мы и не уговорились об этом.
— Погоди, Катя. С недельку хоть потерпи. Дай оглядеться, одуматься мне.
— А враз да станичники нагрянут за эту недельку, тогда как?
Пока шли полем, Василий рассуждал беспечнее, проще. А как выбрались на дорогу да в город вошли, понял он, как просто может встретиться знакомый, даже свой, хуторской, да не дай бог, с бабой — прощай тогда все секреты! Не удержать молву.
— Ну, вот чего, — сказал он решительно, — хоть три дня выдержи. Одежу свою попрячь, чтобы не торчала по вешалкам, и сама хоть под землей живи. Приеду я за тобой.
Домой возвращался Василий уже за полночь. Знал, что дед ворчать станет и допытываться, какие такие дела задержали внука в городе до поздней ночи. А более того страшил его разговор с дедом о разделе, об отъезде из хутора. И объяснить-то этого никак нельзя. Придется выдумывать что-то, врать, изворачиваться. Как и все Рословы, не умел врать Василий, не выносил лицемерия и лжи.
Дождик, так и не набрав силы, давно перестал. С чистого черного неба глядело много ярких звезд. Притихшая ночная степь не отзывалась птичьими голосами, не шептала пшеничными колосьями — спала глубоким, богатырским сном, дыша могучим хлебным духом и разнося ароматы степного разнотравья. Не подгоняя бегущего ровной рысью коня, Василий жадно пил этот родной воздух, словно прощаясь и желая насытиться им на многие годы.
Предстоящий разговор с дедом не шел из головы. Постепенно Василий открыл для себя совершенно вроде бы неожиданное: не столь деда он боится-то, а себя самого! Ему, природному хлеборобу, надо покинуть землю, крестьянский труд и семью, взрастившую его на этой земле. Как оторваться от всего этого? Как перешагнуть через себя? Но ему и в голову не приходило оставить Катюху в беде. Мысленно был он уже неразрывно повит с нею невидимыми путами навсегда.
От стольких волнений, свалившихся на него в последние дни, от недосыпания, от тяжких дум шумело в голове, как в пивном котле. Хотел закурить, хватился — ни единой спички в коробке не осталось, и огниво, подаренное перед смертью башкирцем, с собою не взял. Сойдет и без курева: до хутора, пожалуй, с пяток верст не насчитается.
Подобрал повода, кованые каблуки в конские бока впились, и ветром понесся по укатанной степной дороге. Начинал брезжить рассвет, и скоро впереди разглядел он подводу. Захотелось догнать ее, но Карашка уже минуты три шел хорошим, убористым галопом, а подвода, будто привидение, уходила от него с такой же скоростью — ни стука от нее, ни шума. Заело парня — подстегнул коня… Нет! Саженей сто тридцать словно распоркой между ними легли. От Карашки потным жаром пахнуло, но резво идет, азартно.
Вот уж последний бугор перед хутором впереди показался. И вдруг подвода вильнула с дороги влево, тише пошла, а человек, соскочив с нее, на развилке остановился. Кто таков? Что ему надо? Оробел на какой-то момент Василий, поубавил скорости.
По этой дороге никто, кроме Виктора Ивановича Данина, не ездил раньше. И выводит она в станичный конец хутора — чуть подальше его жилья… Стоп! Да ведь это он, кажись, и стоит у дороги-то.
— Здравствуйте, Виктор Иванович! — громко сказал Василий, не доехав до свертка с десяток саженей.
— Постой-постой! — весело поднял руку Данин. — Да ведь эт, никак, Рослов Васек объявился — вот так фунт изюму!
Соскочив с седла, Василий протянул руку, поздоровался.
— Карашку-то загнал, небось, волк тебя задави. Гляди, замылил коня… Табачку не найдется?
— А огонек есть? — спросил Василий. — От самого города не курил ни разу.
— Огня хоть на целый пожар хватит, а табачок вот вышел в дороге… Не могу я без его, сам знаешь небось. Тоже коня уж погнал было, да гляжу — едет кто-то… Вот спасибо, выручил ты меня… Да сыпни-ка еще в горстку, чтоб до утра хватило. А то у меня и дома, кажить, все выдохлось.
Они закурили. Василий приметил в поведении Виктора Ивановича какую-то не свойственную ему суетливость и взволнованность.
«Неужли же без табака так оголодал человек?» — подумал Василий, глядя, как у Данина просыпается табак из горсти. Подвода его в полуста саженях остановилась. В телеге что-то лежит, а что — не разобрать.
— Давно ты со службы-то воротился? — спросил Виктор Иванович, перехватил взгляд Василия, и, отступив к дороге, как бы повернул за собою собеседника.
Василий, не обратив на это внимания, отвечал на вопрос, а заодно рассказал и о случае с башкирцем, надеясь на помощь Данина, ежели еще к следователю потянут.
— Ну, спасибо, тебе, брат, — сказал Виктор Иванович, — выручил ты меня, — и, направляясь к телеге, добавил: — А об случае этом не заботься — пособлю, коль понадобится… Да нам и без того не помешало бы как-нибудь встренуться, об жизни солдатской потолковать.
Василий ничего не ответил и, тяжело поднявшись в седло, шагом поехал к подъему. Только теперь его сознание хлестнула еще одна забота. Никто не должен знать, куда они с Катюхой уедут. А враз да еще по какой-нибудь нужде следователю он понадобится — искать ведь станут. Либо хуже того, подумают, что пришиб старика да и скрылся.
Из хуторских никто так не подумает, а следователю подобная блажь как раз может врезаться в голову. Чудной он какой-то, следователь: все допытывался, не было ли у старика еще каких-нибудь вещей и для чего Василию понадобилось тащить его и телегу к себе домой.
Поднявшись на бугор и разглядев дедову избу, Василий тяжко вздохнул: может, не понадобится он следователю. Или уж самому сообщить об отъезде, чтоб не искал. Только вот куда же податься им с Катюхой, так и не решил Василий. Глубоко в мыслях прицеливался он на угольные копи. Возле Челябы где-то, сказывают, есть такие. От родных мест недалеко — по железной дороге ехать не надо, — и едва ли туда кто из станичников или из хуторских заглянет.
Упорство деда думал он сломить отказом от своего пая в хозяйстве. Возьмет он лишь одного коня да телегу. На такой козырь Василий надеялся больше всего.
* * *
Прежде чем выехать из города со столь опасным пассажиром, Виктор Иванович знал, что по всем трактовым дорогам: на Златоуст, Челябинск, Оренбург, Петропавловск, Кустанай — высланы казачьи разъезды. На станции шныряют ищейки. Вся жандармерия поднята на ноги, в городе останавливают всякого, показавшегося подозрительным.
Почти все учли жандармы, но не могли они стоять во всех переулках, на всех окраинах, патрулировать по всем дорогам и дорожкам, выходящим из города.
Разведав дорогу до выезда, Виктор Иванович двинулся в путь с Антоном Русаковым. И на диво спокойно проехали более двадцати верст. А тут и увязался за ними верховой. Кто он, куда так спешит? Повернув на свою дорожку и готовясь прыгнуть с телеги, Виктор Иванович велел Антону:
— Не подымайся! А ежели шибко закашляю — гони до крайней избы. Коня у двора оставь, а сам — в лог, в кусты.
Виктор Иванович надеялся задержать погоню хотя бы на две-три минуты — этого будет достаточно, чтобы исчез Антон. А что конь убежал домой без хозяина, так это нетрудно объяснить.
Но ничего такого, к счастью, не понадобилось. Отойдя от свертка и оглянувшись на Василия, тронувшего коня, Виктор Иванович разжал вспотевшую ладонь, стряхнул с нее прилипшие крошки табака и, облегченно вздохнув, широко зашагал к подводе.
Пронесло! Теперь еще больше уверенности, что не ищут беглеца в этом направлении. Ни единая душа не знает, где он. Стало быть, можно и оглядеться и одуматься по-настоящему.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Бывают в судьбах отдельных людей и целых народов такие периоды, когда годы и даже десятилетия текут ровно, без всплесков, без светлых струй — и запомнить в них нечего. Но бывают короткие моменты — рубежи, плотины в этом потоке, — поворачивающие судьбы тысяч людей в негаданное русло.
1
Вчерашний моросящий дождичек не попортил дело косарям — трава отмякла, и косить ее легче стало. Но метать готовое сено помешал. Зато наутро такой разгулялся день — ни единого облачка! Вчерашняя сырость, будто ночная роса, под лучами истлела. А как приподнялось до полнеба солнышко, задышало адовым жаром — над степью белесое марево разлилось. Белым жаром такую погодку мужики называют. Курить перестают, по́том глаза выедает, а времечко этакое никак нельзя упускать: ворочают, пока сил хватает, пока сердце от бешеной работы не зайдется.
Не желая тревожить деда Михайлу, избегая объяснений с ним, ночью Василий не заехал домой, а с ходу подался на покос, где семьи Мирона и Тихона одно дело делали, на одном стану становали. И там никого не побеспокоил Василий — поставил коня к мешаниннику, где кормились все лошади, и свернулся на кучке сухого сена. Часика три-четыре поспать успел до работы.
Макар с Дарьей отдельно уж не первый год косили. Недалеко от Шлыковых стан их располагался. Как они ухитрялись обходиться своими силами в такой работе, не враз сообразишь. А старшие братья частенько вспоминали дедову присказку о венике, который по прутику и ребенок переломает, а связанный вместе — силачу не поддается.
Отделился Макар да Василий в солдаты ушел — хуже дело-то пошло. А тут еще квартирант этот к Тихону навязался, инженер. Настасье в поле уехать нельзя — готовь ему да корми. Одна она дома-то на две семьи разрывается. Правда, больше двух недель не сдюжила — Ксюшку пришлось оставлять ей в помощницы.
А на покосе, как ни вертись, везде людей не хватает. С утра так распределились: Тихон косить поедет; Мирон — на скирду, сено укладывать; Василий с Митькой — подавать; Степка с Нюркой — копны возить, а Марфа — копнить. Жидковат еще Митька на скирду-то подавать, да ничего не поделаешь — надо.
Часов до десяти все ладно шло. Мирон нарадоваться не мог и, поглядывая с прикладка на разъярившееся солнце, приговаривал:
— Бог тебя но́чей подкинул, Василий. Гляди, как дело-то спорится!
А Степка с утра ходил хмурый, за распухшую щеку держался. Зубы у него болели. Но терпел, пока сил хватало. А потом задали они ему такого перцу — пот и слезы с грязью на лице смешались, криком кричит парнишка, и свет в глазах меркнет. Глядеть на него больно.
— Чего-нибудь да не слава богу у нас! — плюнул в сердцах Мирон. — Давайте шабашить, ребяты.
Дела же у Степки до того плохи оказались, что никакого обеда ему не понадобилось — метался по стану, как изжаленный осами, скулил, как побитый кутенок. Советов избавиться от боли подавалось достаточно, и все их Степка выполнял незамедлительно, но облегчение не приходило. Марфа заговаривать пробовала — не помогло.
— А ты вот чего, Степка, — сунулся со своим советом и Митька, — возьми холодной воды да во рту подержи. Сперва-то аж в глазах темно станет, а посля все пройдет. Я так делал. Спробовай и ты, авось полегчает.
Вода холодная в погребке нашлась. Подала ему кружку мать, потом подернутую, хлебнул Степка — кружку бросил и заорал благим матом. Самое время на стену лезть бы ему.
— Ты потерпи, потерпи чуток, — уговаривал его брат.
Но время шло, а облегчение не наступало. Дрогнуло материнское сердце — распорядилась Марфа:
— Вези, отец, его в город к дохтуру, и все тута! Сколь же ему страдать-то эдак!
— Какой день, — сетовал Мирон, запрягая Ветерка в ходок, — какое времечко упустим с этими зубами! Тьфу ты, пропасть!
И впрямь досадно всем было — ведь двух человек лишились. К тому же на зарод Тихона не поставишь — куда ему со своей деревяшкой по сену ходить. Снизу подавать еще сможет как-нибудь. Марфа взялась выводить прикладок. Митька с Нюркой копны стали возить. А Василий бегал как угорелый: то покопнит, то Тихону подавать поможет, как завалят его копнами. Пот с лица стереть некогда! А думы и тут не отставали от него.
Ведь как бы все просто, казалось! Женись он теперь на Катюхе — еще одна работница в дом. Родители ее рядом — живи да радуйся! И то, что отделился Макар, не отражалось бы теперь на делах… Но все выворачивается каким-то другим, несуразным боком. И жениться нельзя на Катюхе, и показываться ей перед людьми нельзя, и даже говорить о ней, имени ее называть нельзя!
Обливаясь потом, Василий с остервенением бросал диковинные навильники сена, сознавая, что через день-другой он предаст эту горячую, честную, с детства данную ему работу, оставит родных, вскормивших его, простится со степью и поедет искать какого-то неведомого счастья, возможно будет, как крот, копаться в темноте подземелья. Кто там ждет их на этой самой шахте? Куда податься в первый момент?
От злости вроде бы силы множились. Одну за другой ставя небольшие копешки, Василий оглядывался на дядю Тихона: не завалили там его с головой Митька с Нюркой? Инвалид ведь, а приходится держаться со всеми наравне. Горько пожалел дядю Василий, а еще горше пожалел о том, что редко раньше бывал у Тихона в кузне, не приглядывался к его работе, не пытался перенять его мастерства. Ох, как пригодилось бы это теперь на новом месте!
И в то же время тянула, сосала печенку забота: Катюха-то истомилась теперь. Как в клетке, сидит она в четырех бабкиных стенах. И кроме него, надеяться ей не на кого на всем белом свете. Да и ему без нее свет не мил. Для себя решил твердо: вечером ехать к деду и разрубить этот проклятый узел. О Катюхе не скажет он, понятно, ни слова. Сошлется на мнимого товарища в Челябе, с каким будто бы вместе служили. Только и всего. Отпустит ли его дед с миром и благословением или на отпустит — все едино. Ни ждать некогда, ни отступать больше некуда…
Оглянувшись в очередной раз на Тихона, Василий приметил вдали верхового, скачущего в знойной степи по бездорожью. Да недосуг разглядывать всяких проезжих. Подпер вилами пухлый валок душистого сена и двигал его с конца в упор, пока хватило сил — сразу полкопны выросло. С другой стороны рядка зашел, чтобы еще столько же сюда придвинуть. Опять на Тихона оглянулся, а всадник торчит уже возле него. Сказал что-то и снова ударил по коню.
Марфа, громоздясь на прикладке, отчаянно махала вилами и что-то кричала Василию — к себе звала, догадался он. Наскоро завершая копну, ворчал сердито:
— Еще, кажись, чегой-то стряслось. Может, что с Мироном или со Степкой приключилось. Придет беда — растворяй ворота. А еще сказывают, у кого детки, у того и бедки.
Наскоро закидав верхушку копны сухим, как порох, сеном, вскинул Василий на плечо вилы и почти рысью побежал к зароду.
2
Но ни со Степкой, ни с его отцом на этот раз ничего такого не случилось, чтобы тревожиться. До города домчались они менее чем за два часа. Степке, понятно, дорога эта вечностью показалась, потому как исполнение Митькиного совета обошлось ему дороже всех предыдущих. Сидя на беседке, выплясывал он до того отчаянно, что думалось Мирону — вот-вот соскочит парень с ходка и побежит рядом с конем. Обняв, придерживал его рукой да уговаривал.
У доктора все произошло на диво быстро и просто: вырвал он больной зуб, поколдовал над пустым местом, посидеть велел, потом еще два раза копаться принимался там. А потом сказал:
— Н-ну, вот и все, богатырь. Больше этот зуб у тебя болеть не будет.
— Богатырь, — почему-то обидело Степку это слово, — а зуба-то тоже больше не будет.
— Ах, сколь ты расчетлив, мужичок! — засмеялся доктор. — Небось когда болело, так хоть бы все согласился выдергать, а?
— Понятно, согласился бы, — признался Степка. — Не помирать же от боли!
Когда тронулись в обратный путь, Степка, до крайности измученный болью, теперь уже отступившей, Почувствовал нестерпимую усталость, запросился поспать. Он хотел просто сползти с сидушки на дно ходка и уснуть. Но в коротком коробке трудно было ему поместиться. Видя это, Мирон засуетился:
— Да ты ложись, ложись тута, сынок, поудобнейши. А я на козлы перейду.
Он так и сделал, освободив место, и Степка немедленно задремал сладко, не обращая внимания на тряску.
Сидя на козлах, Мирон придерживал Ветерка, чтобы меньше встряхивало ходок на колдобинах, по сторонам поглядывал… И вдруг сердце кольнуло предчувствие чего-то недоброго.
В больнице задержались они разве чуть поболее часа. И когда ехали туда, ничего такого не примечал Мирон. Люди кучками на улицах табунятся — встревоженные какие-то, недовольные, торопятся все куда-то, хотя идут в разные стороны. Кое-где возле заборов толпами стоят, на листках что-то читают.
Не выдержал Мирон, подвернул поближе, спросил у молодого мужика:
— Скажи, добрый человек, чегой-та тама?
— Чаво, чаво, — как с цепи сорвавшись, обозлился почему-то мужик. — Телеграмма экстренная — вот чаво!
— А про что в ей сказано?
— Про войну. Война объявлена!
— Да с кем же война-то? — вдогонку спросил Мирон.
— С германцем, дяденька, с германцем, — ответил ему уже другой человек, по виду студент.
Мирон подергал зачем-то свою лопатистую бороду, крякнул, будто залпом выпил стакан горькой, и тронул Ветерка.
Не хотел он тревожить Степку быстрой ездой — пусть бы отдохнул после стольких мук. Да и день-то все равно пропал. Куда теперь спешить? Но совсем не заметил он, как в полную силу разошелся Ветерок, и пошевеливал его вожжой. Василий-то едва успел родной порог переступить, и снова котомку ему увязывать. И не на службу пойдет — на войну! Оттуда не все возвращаются. А там, гляди, так и Митьку заберут. Макару туда же дорога.
3
Еще с бугра, как только показался хутор, увидел Мирон большую толпу на площадке между Прошечкиным амбаром и его домом. Скоро донесся оттуда бабий вой, крики. Тут уж не нужны были ему объяснения, что происходит. Без слов яснее ясного.
Проснулся в ходке Степка и, поднявшись на сиденье, увидел народ, расслышал душераздирающие бабьи крики.
— Эт чего ж там такое, тятя? — тревожно спросил Степка. — Уж не помер ли кто?
— Пока, знать, никто не помер, сынок, — горько морща переносицу, ответил Мирон, — а хуже того — война. Многие оттоль не воротются либо калеками придут.
Они уже съезжали на плотину, и Степка, тараща глаза на происходящее, никак не мог взять в толк: какая война? откуда отец, еще не подъехав и не спросив никого, уже знает, что там случилось?
Василий, еще издали увидев подъезжающих Мирона и Степку, было направился к ним, но его перехватила бабка Пигаска. Решительно став на его пути и тряся почерневшим костлявым кулачком, она застрекотала:
— Ну, Васька, вражина ты эдакий, видишь, чего ты наделал-то?
— И чего ж я наделал?
— Ишь ведь, не знает он! А кто мертвяка некрещеного в хутор приволок? Кто? Вихор тебя подыми! Аль не сказывала я тебе, что войну ты ентим нехристем накличешь?
— Побойся бога да себя побереги, баушка! — почернел от негодования Василий. — А то, не ровен час, под руку попадешь ты, да и хизнешь, на войне не побывав. — Он отодвинул ее рукой с пути и, подходя к своим, спросил:
— Ну, жив, что ль, Степка-то?
— Да Степка-то жив и здоров. Отоспался за дорогу… А твои дела как? — с тревогой спросил Мирон.
— Пошли дела на лад, и сам делам не рад, — невесело усмехнулся Василий.
— Уж выкликнули, что ль, тебя? — допытывался Мирон.
— А то как же. Котомку опять сбирать да завтра в городу на сборном быть.
— А еще кого?
— Гришку Шлыкова, Дороню Гребенкова, сватов Проказиных Егора и Гордея… Да всех-то перечтешь, что ль. Видишь, чего тута творится…
— Да-а-а, — как-то навзрыд вздохнул Мирон. — Гордей-то у свата вслед за тобой на службу пошел и воротился чуток пораньше, а недолго же дома погостил… Ну, пойдем, что ль, домой. Чего толкаться возля чужого горя — свого хоть отбавляй!.. А Макара-то нашего, не слыхал, не тронули поколь?
— Да будто бы не выкликали, не слыхал я…
С ревом, с причитаниями рассыпалась и таяла толпа. От Лишучихи одну за другой растаскивали белоголовые четверти с водкой. А поближе к вечеру застонал хутор пьяными голосами, прощальными песнями. Вино лилось рекой, а еще более полноводной рекой лились горькие бабьи слезы. Кому-то понадобилась эта война, кто-то где-то с кем-то не поладил, чего-то не поделил. Никому ни из баб, ни из мужиков это неведомо, только все доподлинно знают, что платить за все придется мужикам — кровью, ранами и жизнями своими. Хлебнут и бабы, и ребятишки горя через край, оставшись без кормильцев, без работников.
Часам к восьми мгновенно почернело небо, и хлынул буревой ливень, с грозой. Народ под крышами попрятался. И хутор, прополаскиваемый ливневым дождем, содрогаясь от частых и грозных раскатов грома, притих, съежился вроде бы под ударами необузданной стихии.
У Рословых никого чужих не было — своих полнехонька изба у Мирона набралась. Марфа, Настасья и Дарья, как по команде, истово крестились при каждом ударе грома. Мужики делали это тоже, но получалось у них недружно, вразнобой. Один дед усерднее всех крестился и шептал молитву. А Макар, держась за стакан, и вовсе руки не подымал. Василий тоже перестал креститься, но дед не видел этого, а остальные старались не замечать.
И водки уж выпито было порядочно, и слезы бабьи пообсохли, а за столом ни песен, ни басен не выходило. Все сидели пришибленные, растерявшиеся. Дед Михайла, восседая на заглавном своем месте, ежился, покрякивал, будто холодно ему было.
Дождь начал стихать, и отдалились раскаты грома. И в этой неловкой, напряженной тишине поднялся из-за стола Василий, отступил шага на четыре, опустился на колени и торжественно молвил, поклонясь до полу:
— Простите меня, родные! Не судите и не спрашивайте, а срок настал прощаться. Дело в городу есть.
От неожиданности, видимо, от удивления, словно бы языки все проглотили — стихло все, как перед громом в ночной степи.
— Благослови меня, дедушка! — еще раз ткнулся головой в пол Василий и, тряхнув русыми кудрями, добавил: — Уж простите вы меня все и прощайте! Провожать не надоть… Карашку завтра со Шлыковыми либо со сватовыми перешлю домой. А вы в город не приезжайте, не надоть.
— Эт чего ж ты надумал такое, Василий? — первым опомнился Макар, бойко перекинув ноги через скамейку и повернувшись к племяннику.
Но Василий не ответил ему, вроде бы не увидел даже. Попросил:
— Икону, дядь Мирон, подай-ка мне.
Мирон поднялся нерешительно и, глядя на деда Михайлу, будто подождав его позволения, тупо оборотился в угол с иконами и снял одну.
А дед, ошпаренный столь неожиданной просьбой, сидел остолбенело — мохнатые брови туже свел к переносице. Все застолье, особенно бабы, не дыша, уставились на деда. Приняв икону от дяди через стол, Василий всунул ее в узловатые руки Михайлы. И он, ко всеобщему удивлению, принял икону, сказав при этом как-то буднично:
— Хлеб-соль поднеси, Марфа.
Та бросилась в горницу и, хлопнув тяжелой крышкой сундука, вернулась с вышитым льняным полотенцем, а Настасья с ходу подала ей каравай хлеба и солонку наверх водрузила.
— Благословляю, внучок, на дела ратные, в путь славный. В час добрый! Служи царю и отечеству нашему верой и правдой.
Как только дед приподнял икону с головы Василия и отдал ее Настасье, солдат припал к колену деда Михайлы, потом, поднявшись, облобызал его трижды и хотел отойти, но дед придержал:
— Погоди, Вася. Давай-ка поменяемся крестами, — и, сняв с себя медный, до блеска отполированный крест, надел на шею внука, добавив: — Робости не оказывай на войне, а голову береги. Авось, бог даст, и встренуться нам доведется.
— Спасибо, дедушка, на добром слове… — отвечал Василий, хотел еще что-то сказать, да к чему тут слова лишние! Пошел седлать коня и скоро вернулся.
— Ну, готова мне сума переметная? — бодро хотел спросить, с усмешкой, но голос дрогнул, и вышло совсем горько.
Первой заголосила Дарья, за ней запричитали Марфа с Настасьей, следом за ними — Ксюшка с Нюркой, а потом и малые ребятишки, глядя на взрослых, подтянули.
— Да что ж ты нас покидаешь, Вася! — сквозь слезы, с подвизгом выговаривала Дарья. — Хоть бы ночку последнюю погостил дома!
— Куды ж ты улетаешь, сокол наш ясный! — вторила ей Марфа. — Да кто ж тебя встренет на чужой, дальней сторонушке…
Чувствуя, что вот-вот не сдержится и сам, Василий наскоро стал прощаться со всеми, целуя каждого, и, заметив, что Настасья прошла к порогу и накинула шаль, запротестовал:
— На двор не выходите за мной: дожжик там… Тута вот простимся, и все!
Выполнили его желание — никто не пошел за ним, хотя дождя-то почти уже не было — так себе, остатки по капельке выжимались из неуспокоившихся туч.
Знал Василий, что лишь дед один сидит, может быть, за столом, а все остальные таращатся возле окон — вслед ему смотрят. Потому, не оглядываясь, переехал плотину и уж за старой рословской избой развернул коня поперек дороги, остановился, прощально помахал рукой. Знал он, что родные взгляды проводят его до вершины кургана, пока не скроется за ней. Пустил коня рысью, мысленно благодаря деда за то, что не стал выпытывать секретов внука. И никто не спросил ни о чем.
Но теперь, прильнув к окну, Дарья, не обращаясь ни к кому, поминутно спрашивала:
— Да куды ж эт он заторопился-то? Ведь ровно силой погнали его из избы-то!
4
Исполняя в точности приказ Василия, сидела Катюха в эти дни затворницей, носа за ворота не показывала. И не дни — часы отсчитывала, чтобы скоротать время. Никаких дел у нее не было, оттого еще тошнее оно тянулось. А так хотелось, чтобы скорее приехал Васенька да увез ее подальше от страшных мест. Уж там заживут они с любимым! Ей было все равно, где это — «там». Лишь бы вместе, тогда никакие трудности не страшны.
Хозяйка не наседала на нее, расспросами не докучала. Но, истомленная бездельным ожиданием, Катюха сама поведала свои думы да напросилась хоть чулок ей повязать. Бабка дала постоялке чулок шерстяной в поперечную полоску, наполовину связанный, и будто бы ни с того ни с сего сказала:
— Как бог велит, так и станется все, касатушка. А ты называй меня баушкой Ефимьей. Ладно? Давно уж не слыхивала я свого имечка. И ты, знать, не заживешься у меня долго-то.
— Нет, бабушка Ефимья, не заживусь, — отозвалась Катюха, шустро перебирая блестящие спицы. — Коли уж Вася решился, не станет он менять свого слова.
— Да ведь и я эдак же думаю, Катя, — согласилась Ефимья, собираясь на базар. — Поглянулся он мне в ентот раз… Не ветреный вроде бы человек, и самостоятельный, и красавец писаный… А только, голубушка, над всеми нами — бог. И над им — тоже.
Ефимья была уже за дверью, когда до Катюхи начал доходить смысл бабкиных слов. Конечно, не все зависит от человека, но неужели еще и теперь может им помешать что-то? Она стала перебирать в уме возможные неприятности. И Гришка мог проболтаться, и Василия дед мог не отпустить из дому, и несчастье ведь могло с ним в дороге приключиться… Словом, чем больше думала она о разных бедах, тем больше рождалось их в растревоженном сознании. Но, не желая расставаться с заветной своей мечтою, не желая мириться с выдуманными страхами, она отвергала все их, оставляя себе светлую надежду.
А тут и Ефимья домой воротилась. Кошель свой тощий даже не пронесла к залавку — прямо с порога возвестила:
— Ну, Катенька, посетил, знать, бог, да не тебя одну, — всю Расею-матушку: войну ерманский царь объявил!
Катюха смотрела на бабку непонимающим взглядом, продолжая все медленнее двигать спицами. А хозяйка, не отходя от двери, вдруг залилась горькими слезами. Ревела она грубым, мужичьим голосом, и слушать ее было жутко. А Ефимья, сморкаясь в подол зеленой юбки, натерла докрасна большой репчатый нос и, вытирая подолом же глаза, сквозь слезы выговаривала:
— Пахомушку мово… младшенького… суседка сказывала… будто бы уж выкликнули… По осени в позапрошлом годе только со службы воротился… Женили мы его миром да собором… И жену бог дал… х-хорошшую… и дитеночка бог им дал… Да, знать, уж другим она зачата…
Так же неожиданно, как и начала, перестала плакать Ефимья, сказала:
— Добегу я к им, дознаюсь, не наврала ли чего суседка-то. Коли правда — Пахомушку забрили, заночую я тама. А ты уж, касатушка, за хозяйством-то догляди… Козу накормить да подоить не забудь.
— Догляжу, догляжу, баушка Ефимья, — успокоила ее Катюха. — И так уж без делов, того гляди, умом рехнусь. И подою, и накормлю, и огород полью.
— Да на улицу-то не суйся: не ровен час — какого лиходея нанесет. Калитку за мной запри.
— Запру, баушка. Только, знать, не до нас теперь: у каждого свое горе в избе.
И впрямь с ума бы сойти можно, если бы не дела домашние. За ними и время летит незаметно, и мысли дурные меньше одолевают. И все же никуда от них не денешься, от себя не убежишь. Чего бы она ни отдала теперь, чтобы узнать свою судьбу! А возьмут ли в солдаты Василия или, может, оставят пока? Успеет он увезти ее отсюда или не успеет?
Работу свою делала Катюха не торопясь, чтобы время скоротать. В палкинском бы хозяйстве подомовничать-то — не соскучишься!
Всего две грядки успела полить — дождь хлынул, с ветром, с грозой. Загнал он Катюху в избу. Темно сделалось. Но огня не вздувала. В потемках с домашними делами управилась, поужинала да еще чулок бабке довязала и спать улеглась. А сон-то никак не мог одолеть ее. Ворочаются в голове думы — спать не дают.
Дождь уж давно перестал. Тишина устоялась на улице — ни звука. Глухая темная ночь. От одиночества жутковато стало Катюхе, неприютно как-то. И враз — ровно железным молотком по сердцу долбанули — в калитку кто-то застучал.
Сжалась она в постели, скрючилась, готовая исчезнуть. Хоть провалиться бы! Ефимья не стала бы в калитку стучать — к окну бы подошла. Кто же мог припожаловать в такое время?
А стукотня гремит по калитке. Перестанет на миг и опять гудит. Что же делать-то? К окошку бросилась. Калитку и человека возле нее не видать отсюда, а конь у палисадника стоит — видно.
— Да ведь эт Карашка, знать, Васин! — ахнула Катюха и метнулась к дверям. Даже опорки бабкины в сенцах насунуть не успела.
— Отвори, баушка! — заслышав скрип двери, взмолился Василий. — Христом-богом прошу тебя — отвори!
— Да отворяю, отворяю, дедушка ты мой милый! — сквозь слезы, громко заговорила Катюха, отодвигая засов.
— Ка-атя! — удивился Василий. — А бабка-то спит, что ль, непробудным сном?
— Коня заводи скорейши! — громко зашептала она, не слушая его.
Остаток ночи мелькнул незаметно. А утро было для них ужаснее самого похмельного, потому как такое похмелье ничем не вылечишь.
Забегала к ним бабка Ефимья часов около десяти ненадолго. Справилась о хозяйстве и опять же всплакнула:
— И ты, соколик, загремел, стал быть! Ох, ребяты вы, ребяты-ы! Либо вы кого побьете, либо вас побьют — все одно нехорошо. Делов-то сколь кругом, а вас на бойню гонют…
— Ладноть, баушка, причитать-то, — оборвал ее Василий. — В том, видать, без нас разберутся. Ты скажи-ка лучше, когда Пахому твоему на погрузке быть?
— Да вот уже скоро. Сичас… К двенадцати велено ему на станцию явиться.
— Ну вот, одним поездом и тронемся, стало быть. И мне, знать, пора налаживаться.
— А ты побудь, побудь еще с часок али поболе. Не беги от Кати, бог знает, сколь вам не свидеться теперь. На коне-то долго ли до станции доскакать… Покорми, Катя, служивого на дорогу. Побегу я, как бы не ушли там без меня наши.
Словно в тумане прошел этот час, отмеренный судьбою им на двоих. Глаза у Катюхи не просыхали, что бы она ни делала. А хуже всего, как последние минутки подступятся. И продлить их — нет у Катюхи никакой возможности. Полетела бы она за любимым на станцию, проводила бы его со всеми вместе, на людях и свое горе полегче бы выплакалось… Нельзя! Теперь в городе полно и хуторских, и станичных знакомых — враз кто-нибудь да навернется. Кузьку небось и в этот раз не взяли, бракованный он. А хороших-то всем надо: и царь на войну их зовет, и смертушка с косой вострой ждет не дождется!
Во дворе у ворот стояли они уже минут десять, и ни у того, ни у другого не подымалась рука отворить калитку. Наконец Василий сказал:
— Ну, ладноть, Катя, прощай! Все равно и там ведь не всех перебьют. Може, бог приведет и нам встренуться.
— Молиться за тебя стану, ангел мой! Весь пол в монастыре лбом изобью! Услышит господь молитву мою, уберегет он тебя и от пули вражьей, и от меча вострого — не порвут, не поранят они твоего тела белого, не отымут жизню твою бесценную.
Распахнул Василий калитку и, вырываясь из Катюхиных рук, нырнул в улицу. И уже с седла, поправляя котомку, крикнул:
— Не торчи тута, запирайся. Прощай, любушка моя!
Народу возле станции собралось видимо-невидимо. Тут и гармони где-то в гущине пиликали, и песни слышались невеселые, и опять же этот осатаневший бабий рев. Пробиваясь через толпу, Василий с высоты верхового наездника отыскивал своих хуторских.
В правом крыле, невдалеке от последних вагонов, заметил он Леонтия Шлыкова. Гришка, стало быть, где-то поблизости.
— Здравствуй, дядь Леонтий! — приветствовал его Василий. — Ох, и ты тута! Здоров, Гришка!
— Здравствуешь, солдат бравый! — отвечал Леонтий. — И где ж эт черти носили тебя до сех пор? Ты должен в первым ряде стоять да молодых подучивать, а его со всеми собаками не сыщешь…
Не слушая Леонтия, Василий оттянул Гришку за рукав, спросил тихонько:
— Перекличка была?
— Да только что кончилась. Гукнул я за тебя, да чуть не влопался. Слышишь, отец-то ворчит. Чего ж долго так с кралей своей обнимался-то?
— Тише ты! — одернул Гришку Василий шепотом и вслух добавил: — Да он у вас завсегда ворчит.
— Ишь ведь он чего — ворчит, — расслышав эти слова, возмутился Леонтий.
— Ладноть, дядь Леонтий, не ругай ты нас напоследок-то шибко. Ты вот взялся бы Карашку к нашим домой отвесть — доброе бы дело сделал.
— А из ваших никого, что ль, в городу нету?
— Не велел я им ездить. И так встречать да провожать не успевают.
— Гляди-ка ты! — удивился Леонтий. — Вот ведь чего жадность-то делает! Всю работу успеть своротить норовят. А парень для их — чужой ровно совсем.
— Да будя тебе, дядь Леонтий, пустое-то молоть! Сказываю тебе, что не велел я им тута быть. Слез вон и без их хватает. А проститься часом раньше, часом позже — какая разница!
— Э-э, не скажи, Вася! А чего ж эт народ — бабы, ребятишки — тута толкется?
— Дык нету ни бабы у мине, ни дитенка… Коня-то возьмешь, что ль?
— А чего ж не взять, давай…
— По ваго-о-онам! — резанула толпу команда, катившаяся от начала поезда и передаваемая от вагона к вагону.
Василий отдал повод Леонтию и попрощался с ним, за руку. А Гришка поцеловался с отцом, подхватил свою котомку, и они пошли вместе с Василием.
Грузились без спешки. Молодой поручик, в новенькой военной форме, стоял у входа в вагон, выкликал фамилию, дожидался, пока войдет названный, отмечал его у себя в списке и называл следующего.
— Ах ты, мать-то до ветру на минутку отлучилась? — метался возле ребят Леонтий. — Ведь так и не простится, беспутная баба.
— Ну, прощай, дядь Леонтий! — заслышав свою фамилию, сказал Василий. — Кланяйся там нашим. Как до места доедем, письмо пришлю.
— Прощай, Вася! — растрогался Леонтий и опять за свое: — Да и где ж эт она, сучка старая, запропастилась?
— Шлыков, Григорий Леонтьев! — громко возвестил поручик.
— Ну, вота, дождались.
Смахивая непрошеную слезу, Леонтий обнял сына, прижался к нему, и так в обнимку дошагали они почти до поручика. Вырвавшись из его рук, Гришка вскочил в вагон.
Манюшки все не было. А тут поступило распоряжение закрыть вагоны.
Глядя, как отталкивают призывников, кричащих последние слова своим родным, как задвигаются возле их носов глухие двери, Леонтий уже не смахивал слез и не стыдился их, и походил он теперь на обиженного ребенка.
Паровоз между тем дал гудок, и поезд медленно, словно нехотя, поплыл мимо воющей многолюдной толпы.
— Стойте! Погодите, родимец вас изломай! — не своим голосом кричала Манюшка пробиваясь к путям сквозь толпу. Но крик ее комариным писком тонул в общем реве, гомоне толпы. До Леонтия она добралась, когда последний вагон, все убыстряя ход, миновал водокачку.
5
Газет никто не выписывал в хуторе, кроме Даниных, да еще у Кестера водились они. А приходили газеты редко, нерегулярно. Случалось ездить за ними в Бродовскую, а то и в город. А больше ни одному мужику нужды в них сроду не бывало, разве что на закрутку, ежели курительной бумаги не окажется.
Если уж появлялось изредка в газетах что-нибудь интересное для мужиков, то немедленно обращалось оно в «слух», обрастало всяческими домыслами.
С началом угольных разработок в хуторе газеты появились и в рословской избе — у инженера Зурабова. Испещренные бумажные листы сделались принадлежностью и Прошечкиных комнат, поскольку там была контора промышленников и жил техник — молодой чернявый парень, Геннадий Бурков — коренастый, большелобый. У него не только газеты — книгами завалена была вся комната.
Вначале Прошечка принял этого парня с уважением: гляди, какой молодой, а, знать, башковитый. Днем Геннадий почти безвылазно торчал на шахте, а ночами много читал.
Но, заглянув однажды во время отсутствия постояльца в его комнату и с пристрастием оглядев имущество парня, Прошечка весело присвистнул:
— Э-э, черт-дурак! Да у его, окромя книжек-то, — шаром покати — ничего и нету. Штанов запасных и тех не видать… Х-хе! Грамотешка его, стал быть, по ветерку идет… Тьфу, черт-дурак! — И, выходя, хлопнул дверью. — Молится своей иконе да живет в покое, голодранец.
Полина не ввязывалась в его суждения.
С началом войны изменилось в хуторе многое, хотя на первый взгляд казалось, что гремит она где-то в неведомых далях и отзвуки едва ли дойдут до столь незыблемой глуши. Но они доходили сюда. С первого же дня начали редеть крестьянские семьи — лучших работников отняла война, и этим сразу же задела кровные интересы мужика. Да и на шахте это сказалось. Некоторых рабочих уже призвали на службу, другие, почуяв неладное, потянулись к своим семьям.
Паровик был уже установлен, углубка ствола, только что начатая, продолжалась, и гудки над хутором раздавались, но собирали они жиденькую, тощую кучку рабочих, еще остававшихся при деле.
Всем — и мужикам, и бабам, и рабочим — не терпелось узнать, что же там делается, на войне-то? Кто кого одолевает, кто над кем верх берет и скоро ли эта проклятая война кончится? А она только началась, только разгоралась.
Теперь-то вот газетки в почет вошли. Относились к ним по-иному, с бо́льшим уважением. Но опять же, где их взять? И далеко не каждый мужик читать умеет. А то и прочтет, так много ли поймет он там?
Ездил как-то в город кум Гаврюха. Газеткой свежей там разжился. «Степь» называлась газета. Развернул ее Гаврюха и всю дорогу по складам читал. Пока до конца предложения домычит, начало уж и вспомнить не может. Опять от точки начинает. И до того за дорогу-то учитался — голова кру́гом пошла.
Но оставить это непосильное занятие кум Гаврюха никак не мог. Ведь старший сын — Ганька, Гаврил Гаврилович, стало быть, тот самый, что не один год прожил в работниках у Прошечки — с первых дней на войну взят. Как проводили, так с той поры ни письма, ни весточки нет. Потому хочется Гаврюхе проникнуть в смысл напечатанного, а поделать ничего не может.
И опять же тут вот поминается «Висла» какая-то, «Львов», «Неман». Что это за названия такие? Ну, Висла — это вроде бы речка. Львов — город, кажется. От людей слышать доводилось. А вот Нема́н — что за оказия и с чем ее едят?!
Ничегошеньки не понял и не запомнил мужик. Одно-разъединое слово колом в память воткнулось — «Нема́н». Осерчал кум Гаврюха и в сердцах отхватил от газеты изрядный клок на закрутку. А тут уж и хутор вот он.
Если не считать баб, по мнению кума Гаврюхи, совсем уж ничего не смыслящих в словах печатных, первого в улице встретил он Филиппа Мосло́ва. Трезвехонек тот был и, по всей видимости, торопился куда-то.
— Погоди-ка, Филипп! — окликнул его Гаврюха.
Но Мослов глянул сурово, даже шагу не сбавил и слова не проронил.
— Да ты погоди, Филипп Акимович! — просительно заглядывал Гаврюха в глаза встречному. Тот, поравнявшись, приостановился.
— Не знаешь ли ты, что такое Нема́н?
— Ман или не ман — катись ты кобыле в карман! — обозлился почему-то Филипп и пошел прочь.
Это не смутило Гаврюху, тем более что Чулок следом шел. Этот мужик башковитый, обмануть его Кириллу Дуранову и то не удается. Он все должен знать.
— Эй, слышь-ка, Иван Корнилыч! — сидя в телеге и придерживая вожжи, чтоб не тронулся конь, позвал кум Гаврюха.
— Чего тебе? — спросил Чулок, подходя.
— Не знаешь ли ты, что такое Нема́н — город какой аль речка?
— И где ж эт ты словечку такую отыскал?
— Дык вот в газетке вычитал…
— Нема́н, Нема́н… — как заклинание повторил несколько раз Чулок, дергая себя за клочкастую, непокорную бороду. — Это, по всей видимости, город, потому как речек таких не бывает. — Подумал еще, брюшко погладил, гарусный поясок поправил и, уставясь в глаза Гаврюхе, твердо заключил: — Город это. Еще маленьким я был, дед мой сказывал, будто они во французскую кампанию приступом город такой брали. На стенку лезли, а их оттудова горячей смолой поливали. Город, стал быть, и есть.
— Ну дык спасибо тебе, Иван Корнилыч. Разобъяснил ты все с понятием. Да только опять же не шибко уверенно, — поклонился кум Гаврюха и хлестнул вожжой коня.
А почти у самых ворот своей избы догнал он Леонтия Шлыкова и тоже остановил его, надеясь вместе обсудить слово и развеять сомнения.
— Ты чего ж остановил-то меня? — спросил Леонтий и подсел на телегу к Гаврюхе, когда конь ткнулся мордой в воротный столб.
— Дык вот, слышь, вычитал я тута в газетке про какого-то Нема́на. А кто он такой, не знаю…
— А ты что же, и читать, стал быть, умеешь? — перебил вопросом Леонтий. — А я ведь, грешным делом, думал, что ты и аза в глаза не знаешь.
— Еще чего — аза в глаза! Я вот в городу газетку свеженькую купил да читал всю дорогу… А вот Нема́н… може, речка это? А Чулок сказывает, будто бы город.
— Х-хе! — усмехнулся весело Леонтий. — Город им да речка еще какая-то. Да ведь эт, ведь человек вовсе. Командовающий большой. Енерал, стал быть. Из немцев небось… А то — город им тута!
Совсем запутался кум Гаврюха, но и тут что-то помешало ему поверить Леонтию. Спросил для верности:
— А ты сам-то в грамоте сколь-нибудь мерекаешь?
— А как же! — подхватил обрадованно Леонтий! — Надысь Гришке письмо нацарапал.
— Дык ты не то что по-печатному, а и писать, стал быть, можешь? — удивился такому открытию кум Гаврюха. Не случалось у них за всю жизнь такого разговора.
— А чего ж, пишу, — расправил воробьиную грудь Леонтий. — Пишу, только вот читать к Виктору Ивановичу ношу. Никак не разберу Гришкиной скорописи, да и только! А так хоть чего прочитаю. Хоть вот эту газетку и то прочитаю.
— А ну-к на, почитай, — сунул ему Гаврюха газету.
— Дык ведь, я ведь, слышь, без очков-то слепой, как куренок посля закату. Много читал, оттого, слышь, вот и ослеп.
Раскусил кум Гаврюха и этого грамотея, не поверил ему, а сам оттого в совершеннейший тупик врезался. Теперь и вовсе не знал, что же скрывается под мудреным, неведомым именем — река, город или в самом деле полководец какой? Ежели хватило бы у него сил прочесть еще раз эту статейку, то, возможно, догадался бы он, что не полководец это все-таки, поскольку речь там шла о направлении движения войск.
Но ни сил, ни охоты повторить муки чтения у Гаврюхи не нашлось, потому надумал к вечеру заглянуть либо в контору шахтную, либо к Тихону Рослову — грамотных там достаточно, все растолкуют, и газет читать не надо.
6
Уж так хотелось Настасье Рословой в тот день дотеребить на полосе оставшийся лен. Некому, кроме нее, дело это сделать. А на кого избу оставить, хозяйство? Да свои-то уж ладно — перебились бы как-нибудь, не впервой. Так ведь инженера, постояльца этого, кормить надо.
Ничего лучшего Настасья придумать не могла — пошла к Манюшке да ее уговаривать стала, чтобы за избой хоть набегом понаблюдала, обед да ужин сготовила инженеру. А у той, конечно, своих дел хватает, но в поле не выскочишь: Ванька-то снова на ладан дышит, вот-вот до смерти кашлем зайдется. Оттого сидит Манюшка дома, без веревочки привязанная.
Договор состоялся у них раным-рано. А как светать стало, накормила семью Настасья, потом — инженера, с домашними делами управилась, и вместе с Галькой — старшенькой — увез их на полосу Тихон.
Полоска эта в низине лежала, дальним концом в редкий осиновый лесок упиралась. На ней в два ряда кучки снопов — суслоны стояли. И только возле самого леска густо зеленели стебли неубранного льна. Издали совсем немного его кажется, да знает Настасья — только бы силушки хватило до темноты справиться. А пока солнышко только-только из-за осинок трясучих выглянуло. Не обогрело еще. Обильная роса серебристым инеем, разноцветными звездочками сияет и на снопах, и на траве по меже, и даже на голой земле искрится. Тихо вокруг. Редкая птичка пискнет.
Холодно было ночью, и теперь шестилетней Гальке неуютно в поле кажется, зябко. Сон где-то в уголках души у нее гнездится еще. Поспешает она за матерью, лапотками за твердые комья запинается. А глазенки непроспавшиеся таращит, по лесной опушке взглядом стреляет.
— Ма-ама! — испуганно вскрикнула Галька, показывая вперед и догоняя мать. — Волки, что ль, тама серые?
— Да что ты, глупа́я! Какие тебе волки, — Настасья взяла ее за руку. — Журавушки это! Глянь, побежали маленько да и полетели.
Теперь Галька и сама поняла, что это знакомые безобидные птицы, с восторгом наблюдала за размашистыми плавными движениями большущих серых крыльев и слушала испуганные крики взлетающих журавлей.
Вот она и стенка льняная. Настасья осторожно ставит к суслону узелок с едой, устанавливает его на ровном, чтобы молоко не разлить. В крынке оно там же, в узелке.
— Ну, чего ж, доченька, — говорит она малолетней Гальке, тяжко вздохнув, — перекрестись на солнушку вот так, благословись, да и за работу станем приниматься.
Оглядываясь на мать, Галька усердно крестится и с жаром детской души проникновенно шепчет:
— Господи, благослови нас на работу, помоги нам скорейши лен выдергать!
Мать ставит ее возле правой межи, отмеряет два шага по ширине полосы и говорит:
— Так вот и иди, боле-то не захватывай. Ну, с богом, дочка! К вечеру хоть домой не итить, а ленок прибрать надоть.
И, склонившись, она захватывает первую горсть льняных стеблей. Белый платок у Гальки на голове не поднимается выше льняных головок. Не выросла она выше льна. Но и ей склоняться приходится, чтобы выдернуть из заклеклой земли корневища. А только тронешь стебли — на голову, на плечи, на руки сыплются холодные, будто свинцовые капли росы.
Изо всех сил старается Галька и шире указанной полосы не захватывает, а все равно отстает от матери. Та уж и снопики вязать ей не велит — сама вяжет, рви только, тереби косматую непокорную гриву. Но и это не спасает, отстает девчонка. Сердится она на себя, да поделать ничего не может.
— Надери меня, мама! — хныкая, просит Галька, высоко задирая подол.
— Да за что же, моя хорошая? — спрашивает Настасья.
— А лен лекше рвать станет.
И смешно от этого матери, и горько.
Согласилась Манюшка на свою голову подомовничать за Настасью, да покаялась. И «анжинеру» угодить надо, и от Ваньки никак отойти нельзя.
Плох Ванька-то, совсем плох. В чем только душа держится. На древнего старика смахивать он вроде бы стал — сморщенный, желтый. Одни кости, кожей обтянуты. В тягость, а не в радость жизнь-то ему оборачивается и семье тоже. Сам постоянно говорит: «И рад бы смерти, да где ее взять?» Боится Манюшка — руки бы не наложил на себя парень, пока со двора-то уходит она.
Инженер Зурабов точность предпочитал во всем. Пока в городе жил и в рабочем поселке, строго выдерживал распорядок дня и вперед, заранее, мог сказать, где и что будет он делать в такое-то время. Но с приездом в хутор все чаще рушилась эта размеренность, определенность в действиях. Все чаще случались моменты, когда он решительно не мог сказать, где и что будет делать в такое-то время. Виною тому были неурядицы в начатом деле, угрожающий недостаток рабочей силы, неустроенность. Со дня объявления войны рабочих убавилось наполовину и ни одного не прибыло. Надежды на улучшение дел нет. Все это заставляет задуматься о судьбе только что начатой разработки. Да и Балас, жадный этот хозяин-француз, рвет и мечет — готов разогнать всех.
Однако на ужин Яков Ефремович явился в точно назначенный срок. В избе у Рословых никого не было, кроме новоявленной стряпухи.
Как и наказала Настасья, кормила Манюшка инженера в горнице. К его приходу на столе шумел самовар, в глиняном блюде — вареные яйца. Покосился на них Яков Ефремович, потому как в обед перед ним стояло это же самое блюдо. Но ничего не сказал, только этак недружелюбно покрякал и пошел к рукомойнику. Умывшись и встряхивая черными кудрявыми волосами, услышал:
— А щец не похлебаешь, барин? Утрешние, Настасья варила.
— Похлебаю, — в тон стряпухе ответил Зурабов, вытирая полотенцем руки. — А не скажете ли, как вас зовут?
— Отчего ж не сказать — Манюшкой, теткой Манюшкой зовут. А те, какие помоложе, бабкой Манюшкой кличут.
— Так я, по-вашему, помоложе или постарше? — допытывался постоялец, усевшись за стол и принимая от кухарки чашку со щами. — Мне-то вас как называть прикажете?
— Да какая ж я тебе прикащица, барин! Хоть горшком назови, только в печь не ставь. Манюшка — я и есть Манюшка. Чего ж тебе еще-то?
Она почтительно отступила к двери и, сложив на неопределенного цвета переднике полные руки, стала ждать дальнейших приказаний.
— Какой же я вам барин?
— Ну, стал быть, господин, что ль?
— И не господин, — строго повел горбатым носом Зурабов. — Яков Ефремович, слышали?
— Слыхала, барин…
— Вот и называйте так!
— Ладно, барин, Яков Ефремычем кликать стану.
Видя бесполезность этого разговора, Зурабов молча доел щи и, взяв одно яйцо, осторожно разбил его ложкой с конца.
— Опять крутые! — загремел Яков Ефремович. — Я же в обед просил вас не делать этого больше. Я же просил вас «в мешочке» сварить их. Неужели это так трудно?!
— Да чего ж ты кричишь-то, барин, — Манюшка кинулась к залавку и тут же вернулась. — В мешочке и варила я, в самоваре. Аль не видишь, мешочек-то не высох еще — сырой! Не узнал, а кричишь…
За шумным разговором они не слышали, как вошел кто-то, и в дверях над самым ухом стряпухи раздалось:
— Ах, волк тебя задави, тетка Манюшка, да ведь всмятку яйца-то сварить надо было! — засмеялся Виктор Иванович, проходя в горницу. — Здравствуйте!
— Восьмя-атку, — протянула Манюшка. — Эдак бы и говорил, коль так! Эт для чего ж я мешок-то в самоваре парила? Э-эх, барин, видать, не русский ты. Сказать-то не умеешь толком.
— Не буду я твой чай пить, тетка Манюшка, — стрельнул в нее Зурабов ядовитым взглядом, — лучше молока подай, только ничего в него не опускай, пожалуйста.
Смеясь, Виктор Иванович подзадоривал Манюшку:
— Давай-ка я тебя научу, как яйца всмятку варить.
— Поучи, поучи, — сердито отозвалась Манюшка, подавая молоко, — а то ведь небось не варивала я их.
— А ты не серчай, — вдруг сделал серьезное лицо Виктор Иванович, — ведь завсегда ошибиться можно и переварить. А ты их в кипяток клади да три раза «Богородицу» читай — как раз всмятку будут. Ну, а ежели «в мешочке» надо, чтобы белок схватился, а желток жидким оставался — тогда эту же молитву пять разков над кипящим самоваром неторопливо читай — вот они «в мешочке» и сварятся.
— Ну, спасибо тебе, — низко поклонилась Манюшка Виктору Ивановичу. — Эт ведь и вправду испробовать надоть. С молитвой любое дело завсегда ладится…
— Курить на кухню пойдем, — предложил Зурабов, поднимаясь из-за стола. — Здешняя хозяйка, Настасья Федоровна, чистоту любит. Мужикам воли не дает она — не дай бог, с поля нагрянет.
Не успели мужчины выбраться в переднюю, как появился Иван Федорович Кестер, потом Чулок припожаловал, Филипп Мослов… Словом, пока сюда и кума Гаврюху прибило, здесь уже и Прошечка был, и его постоялец — Геннадий Бурков, и Леонтий Шлыков, и Рословы Мирон с Макаром, и, само собой, хозяин здешний — Тихон Рослов. На кутной лавке против окна сидел Матвей Дуранов, брат Кирилла Платоновича. Два Георгиевских креста с японской принес он.
Убрав со стола и плотно притворив горничную дверь, Манюшка отбыла домой еще до прихода Леонтия. А уж накурено было в передней: не то что топор — двухпудовую гирю подвесить можно. Говорили больше всего Зурабов с Кестером. Частенько Виктор Иванович ловкое словечко вставлял, то Геннадий Бурков горячо встревал в спор, а прочие больше слушали да на ус мотали. Редко-редко голос подадут.
Понял кум Гаврюха, что не впервой собираются тут мужики. Как же он-то не догадался раньше сюда заглянуть? И сегодня, видать, уж все фронтовые новости по газетам обсудили, теперь об царя языки чешут. А все равно интересно послушать их.
Потоптался какое-то время кум Гаврюха возле стенки и присел на пол, поскольку сидеть-то уж негде было.
— Ты про царя-то потише, Яков Ефремович, — зло щетиня короткие усы и сверля противника ехидным взглядом, наставительно сказал Кестер. — Он ведь — царь, самодержец!
— Да-а, — хитро прищурил глаз Виктор Иванович, неторопливо потянув из самокрутки, — царское око видит далеко.
— А ему теперь и на запад глядеть надо, — возразил Яков Ефремович, — и на восток почаще оглядываться. И не моя вина, что раскосым от этого сделается твой Николашка!
— Да ведь, сказывают, была бы спина, найдется и вина, — подал голос Тихон.
— Все равно на свою голову он затеял эту войну! — горячо вступился Геннадий Бурков, пошевелив округлыми сильными плечами, будто собираясь броситься врукопашную. — Либо сам от престола откажется, либо столкнут его с этой высоты — упадет он и разобьется вдребезги, как фарфоровый болванчик!
— Да, — подхватил Зурабов, — война с японцами не победу, а позор принесла России, но она же и революцию вызвала.
— Вызвала! — взбеленился Кестер. — А где она теперь, та революция ваша? Где те революционеры?
— Везде! — еще более загорелся и Зурабов. — Вместо каждого кандальника, угнанного в Сибирь, появлялись сотни новых революционеров. Кто из присутствующих готов положить голову за царя — ты? Ты? Ты? — указывал он на сидящих.
— Ну, ты в мине пальцем не тычь! — взъерошился Прошечка. — Не ровен час — обломишь палец-то. Голова у каждого своя, какую бог дал. А ты мине к этим самым революционерам не примазывай — все они черти-дураки, коль выгоды своей не понимают. Ведь грамотные, черти-дураки, им бы жить да жить возля нас, темных, а они сами в кандалы лезут да казенных вшей в тюрьмах кормют.
— Ну, тебя, Прокопий Силыч, калачом не заманишь к революционерам, — весело засмеялся Виктор Иванович. — Без тебя, знать, им обходиться…
— А ты молчи, черт-дурак! — не дал ему договорить Прошечка. — Ты ведь вон какой образованный, а дурак: землю всю промотал, из дома в балаган залез по своей охоте, а кандалы тебе и бесплатно дадут.
Кестер, сидя в переднем углу, хищно косился на Виктора Ивановича. Давно догадывался Кестер, прямо-таки чуял врага в этом человеке, и злился, оттого что никогда не смог бы назвать причину лютой своей ненависти.
А прочим мужикам Прошечкины слова показались чересчур дерзкими, поскольку уважали они Виктора Ивановича.
— Да погодите вы, погодите! — закричал Геннадий, намеренно разрушая наступившую неловкость. — Дело ведь не только в том, сколько кандальников идет по Руси в Сибирь, а в том, что революционный дух вселяется и живет в душе каждого рабочего, каждого крестьянина. Там копится он тихим, но грозным громом. Пороховые погреба там образовываются. И сам царь, все его помощники постоянно подкидывают пороху в эти погреба. А пушечные взрывы на фронтах явятся именно той искрой, которая воспламенит скопившийся порох в душе каждого… Вот вы, например, — указал он на Филиппа Мослова, — вы, конечно, не революционер, но случись чего, ведь не пойдете же вы царя защищать!
— Сопливый ты ишшо господин, чтобы знать, куды я пойду, куды не пойду, — хмуро отозвался Филипп. — Иной раз и сам не знаешь, куды пойдешь. Надысь побег было к Лишучихе за косушкой, а дорогой понос прошиб. Воротился да и просидел в хлеву до темноты. А ежели бы я в тот раз причастился — не сидел бы тут с вами теперя.
Мужики загоготали, а Геннадий, не приняв эту шутку, обратился к Леонтию Шлыкову, спросив:
— Ну, а вы тоже не знаете, к какой стороне прислониться?
Леонтий действительно этого не знал. Он и без того сидел, как на горячих углях. Первый раз в жизни слышал такие смелые слова о царе и ежился от страха. Казалось ему, вот-вот скрипнет дверь, появится на пороге жандарм, и всех их кучей в город погонят, в тюрьму.
— Да чего ты у его спрашиваешь? — не выдержал долгого молчания кум Гаврюха. — Он ведь небось ерой — с колокольни отца блином убил.
— Да, — подтвердил Зурабов, горько усмехнувшись, — этот действительно революции не совершит, но и царя грудью не загородит. Каштанов из огня не натаскает.
О каштанах никто из мужиков ничего не понял. А за первые слова Кестер ухватился сразу же:
— Все вы герои, пока вот здесь языками болтаете. Сила в руках царя, войско — оно всех на свои места поставит. Каждому найдется для шеи хомут, для спины кнут, а рот можно и кляпом заткнуть.
— Вот на этом пока все и держится, — согласно кивнул Виктор Иванович, лукаво поведя взглядом по мужикам. — А тебе, Иван Федорович, не мешает кляп-то такие слова говорить?
— Мне-то не мешает, а у тебя он, кажется, все время под усами торчит и говорить не дает.
— Да не греши ты, Иван Федорович, — усмехнулся в ус Тихон. — Цигарка там у его торчит постоянно, дак ведь ее сам он себе вставляет. Не царь же ему эдакую благодать скручивает.
— И хомут, и кнут, и кляп — всего этого в достатке, — не приняв шутку, смазавшую на нет кестеровский намек, заговорил Геннадий, — и даже руки вроде бы связаны у народа, но на мозги узду не накинуть.
— Штык все мозги выправит, он ведь прямой и вострый, — не сдавался Кестер. — Вот у кого штыки, у того и сила.
— А у кого штыки? — спросил Виктор Иванович.
— Я не знаю, у кого есть штыки, кроме царя, — сердито и важно ответил Кестер.
— Тупое заблуждение, Иван Федорович, — твердо возразил Зурабов. — Все штыки в руках у ваших сыновей и братьев. Вот они-то и решат, куда их повернуть.
— Ну, мой Александр против царя не пойдет!
— Это верно, — поддакнул и Виктор Иванович. — Но у тебя еще Николай подрастает…
Он не договорил, но и этих слов хватило, чтобы у Кестера выступили красные пятна на желтоватых щеках. Младшего сына он ненавидел.
— Колька мал еще такими игрушками баловаться, — выговорил наконец Кестер.
— В войну скоро ребятишки растут, — сказал Матвей Дуранов.
— Господи! — филином от печи ухнул Мирон Рослов и, неловко перекрестившись, добавил: — Создатель один знает, чего с нами со всеми станется.
— Нет, Мирон Михалыч, — мягко возразил Виктор Иванович, — и ты должен знать кое-что, потому как создатель-то ты сам и есть.
— Эт как же так-то? — опешил Мирон, вцепившись узловатыми темными пальцами в свою широкую бороду. — Не пойму я чегой-то…
В этот момент хлопнула входная дверь, и в сумерках вечера, сгущенных клубами едкого махорочного дыма, под полатным брусом остановился Ромка Данин. Щуря глаза, он оглядел собравшихся и, подойдя к отцу, негромко сказал повелительным тоном:
— Пойдем домой, папашка, скорейши: Валька замуж у нас убегла.
— Ах, волк ее задави! Да вы хоть видели, в какую сторону побежала-то?
— Кажись, в Бродовскую уволок ее какой-то казак, — важно ответствовал Ромка.
— Ну, коль так, пойдем, Ромашка, пока все там не разбежались, — Виктор Иванович поднялся с лавки. — Вот она, молодежь-то, как скоро своей судьбой распоряжается.
Следом за ним засобирались уходить Прошечка, Леонтий Шлыков, Филипп Мослов. Поднялся и кум Гаврюха.
— Стойте, мужики, погодите! — взмолился он. — Пойду и я домой, только сперва скажите вы мне, что это за штука Нема́н? В газетке прочитал, как из городу ехал, а в толк не возьму.
— Река такая на западе нашего государства, — разъяснил Геннадий. — Только не Нема́н, а Не́ман она называется.
— Не врешь? — усомнился кум Гаврюха. — А то одни сказывают, будто город это, а Леонтий вот убеждает, что енерал такой есть.
Бурков, Зурабов, Данин и Кестер дружно хохотнули, а Геннадий добавил:
— Не вру. Большие города на этой реке есть — Каунас, Гродно — а вот генерала такого не слышал.
— Ну, коль не врешь, пошли, мужики, — успокоился кум Гаврюха и шутя двинул по загривку Леонтия. — Эх ты, грамотей!
— Ну-у, ты посуду бей, а самовар не трожь! — безобидно огрызнулся Леонтий. — Сказывал же я тебе, что писать-то я пишу, а читать Гришкины письма вон к Виктору Ивановичу ношу.
Мужики скопом покинули рословскую избу, а Мирон, ошарашенный словами Виктора Ивановича, так и сидел, вцепившись в свою бороду.
— Эт через чего же он мине создателем-то нарек? — в раздумье спрашивал Мирон. — Грешно ведь это — слова такие на всякого употреблять. Создатель-то — ведь он один.
— Не один, Мирон Михалыч, — подал голос Матвей Дуранов, — а весь рабочий люд и есть создатели. Заводы, фабрики, пароходы, дома, дороги — все ихним трудом создается. И хлебушком всю Расею мы кормим, мужики.
— Чудно, — неуверенно возразил Мирон. — Да ведь ежели бог не даст урожаю, и у нас не станет его, хлеба-то.
— Ну и тупой же ты, как вятский пим, — осерчал на брата Макар. — Никто про того создателя не говорит — мало мы про его знаем. А сдохни твой царь со всеми объедалами и захребетниками хоть завтра — ни одна коптилка в избах не мигнет. Ну, а как с народом чего случится — по всей Расеи свет померкнет… Я к тому говорю, что мы без царя проживем, а вот он без нас чего делать станет? Дошло, что ль?
Настасья в избу вошла, и Галька за ней.
— Да что ж вы, проваленные, начадили-то тута шибчей бани по-черному! — с порога разразилась хозяйка. — Трубу хоть бы открыли либо двери отворили! Как вы не задохнетесь в чаду этом? Отвори, Галька, дверь да бежи к дедовым за Мишкой! Оньку сама посля принесу. И без огня ведь сидят, шутоломные.
— К чему же огонь зря жечь, — заметил Чулок. — Карасин-то копеечку стоит. А язык, он и в темноте сколь хошь намелет.
Видно было, что и понимал он в этих разговорах далеко не все, и не всему верил, и уж никак не мог одобрить безрассудных высказываний против царя. Словом, по всем статьям выходило, что благоразумнее и покойнее будет не посещать этих собраний. Потому поднялся Иван Корнилович, поправил поясок на отвислом брюшке под жилетом и, недовольно покрякивая, направился к выходу.
Другие тоже, сообразив, что присутствие хозяйки свяжет их разговор, да и поздно уже, потянулись за Чулком. Последним тронулся Кестер.
— А ты, черт хромой, чего ж не встренул-то нас! — набросилась Настасья на мужа. — Хлестались мы тама до упаду, поколь закончили все.
Между тем со двора донесся заливистый Мишкин плач. Это Галька, спустив с братика штаны, черпала горшком из водопойной колоды и с размаху плескала на голую попу, будто пламя хотела залить. А он, согнувшись и держась ручонками за мокрый край этой же колоды, уливался горькими слезами.
— Сдурела ты, чертовка, совсем! — увидя это, закричал на Гальку Макар, первым вышедший на крыльцо. — Застудишь мальчонку, хворать он станет.
— А чего ж мне, целоваться с им? — по-взрослому отрезала Галька. Он вона все штанишки измарал, да еще сымать их не дает. А я вся усталая.
— А ну-к, марш в избу! — приказал Макар, остановив этим столь суровую экзекуцию. А Мишка, не переставая лить слезы и придерживая рукою мокрые штанишки, затопал спутанными босыми ногами к крыльцу.
— Такой вот душ революционерам делать надо, — густо загоготал Кестер, — чтоб в головах у них прохладнее стало.
— Да ведь она не на голову ему плескала-то, — возразил Макар.
— Ничего. Холодок дойдет и оттуда.
— А чего нам гадать да советовать, Иван Федорович? — уже за калиткой, где их пути расходились, молвил намеком Рослов Макар. — Коль доживем — увидим, кто кому плескать станет. Може, и нам с тобой вот эдак штанишки подержать придется. А кому из нас первому — тоже дело покажет.
7
Никогда не думал Виктор Иванович так вот исподтишка дочь замуж отдать и не хотел этого. Но поскольку так вышло, в душе он был ей благодарен за такой поступок. Ведь свадьба — это и хлопоты, и деньги, и время… А хлопот и без того хоть отбавляй, зато денег и времени вечно не хватает…
И главное все же не в этом. Антон Русаков извелся весь, укрываясь от всего мира в подвале. Надежное и безопасное место. Но чудилось ему, что из одной тюрьмы попал он в другую. На волю выбираться надо, а документы и билет на поезд все никак не выстряпываются.
Какая уж тут свадьба! Не умирать же человеку в подземелье под пьяную свадебную пляску да под песни.
За всю дорогу Виктор Иванович никаких подробностей от Ромки узнать не мог, поскольку тот и сам ничего не знал, а всего лишь выполнил поручение бабушки Матильды.
— Чего тут у вас стряслось? — спросил Виктор Иванович, шагнув через порог своей избы.
Анна, уронив голову на стол, слезами исходила. Ванька на печке смиренно сидел. А бабушка Матильда, увидев сына и указав цигаркой на дверь, направилась в горницу, поманила его за собою. До боли прижимал ухо Ромка к плотно притворенной двери в горницу, пытаясь проникнуть в тайну отца и бабки, но так ничего и не расслышал.
— Сбежала Валюха-то у нас, Вичка, — зашептала Матильда.
— Куда?
— В Бродовскую.
— За кого?
— За казака, понятно. За какого-то Совкова Родиона.
— А ты не видала, что ль?
— Одним глазком видала, да не кричать же на весь хутор, — хитро улыбнулась Матильда. — Ни Анны, ни ребят дома не было.
— А чего она с собой взяла?
— Все свое приданое как есть и взяла: перетаскала вон в Сладкий лог под ракиту да подождала чуток — вот оттуда он и схватил ее, голубушку.
— Ты помогала ей, что ль, таскать-то?
— Помогала, — хмыкнула Матильда. — Одна-то бы она и не успела.
Улыбнувшись, Виктор Иванович погрозил матери пальцем, потом спросил:
— Антон как там?
— Да ничего, перебивается. Прогулку во двор я ему днем устраивала, читал со свечкой часов до трех… А ты пойди к Анне-то, уговори ее.
8
В ту ночь Иван Федорович Кестер долго не мог успокоиться и уснуть, что случалось с ним крайне редко. А виною тому были слова Рослова Макара, сказанные на прощание, как расходились вечером после беседы у Тихона.
Всякие там слова говорились, разные мысли высказывались. Но разговор шел прямой и открытый — у кого что на уме, то и на языке. Только вот Данин Виктор Иванович держался как-то скованно, вроде бы на уме чего держал. Но вслух ничего такого не сказал.
А вот Макар напоследок не то что вредные слова произнес, а прямо-таки пригрозил ему, Кестеру. «…увидим, кто кому плескать станет. Може, и нам с тобой вот эдак штанишки подержать придется. А кому из нас первому — тоже дело покажет».
Выходит, что мужик этот, хотя и малограмотный, а твердо знает, что не уживутся они с Кестером на одной земле, стоять им друг против друга придется. А это значит, что и теперь они уже враги смертные, несмиренные.
Иван Федорович и сам едва ли сумел бы объяснить, почему именно Макаровы слова зацепили его за самое больное. Ведь Зурабов и Бурков высказывали, казалось бы, куда более опасные мысли. Но к образованным людям Кестер относился не только с почтением, а готов был поучиться у них кое-чему. Сам, с их помощью, хотел разобраться во многом. А тут простой мужик, читать да писать едва умеющий, грозится так уверенно. И не царю грозится-то, как все, а ему, Кестеру.
Выходит, ежели у царя неустойка с Германией выйдет, смутьяны эти, каким революция позарез нужна, как раз и устроят резню. На это и намекает Макар. А Виктор Иванович еще и Кольку для чего-то приплел. Неужели родной сын против отца руку поднять может?..
Измучившись в постели, Иван Федорович поднялся, не торопясь набил трубку, раскурил ее и, выйдя в прихожую, сунул босые ноги в кожаные опорки, специально для таких выходов предназначенные, накинул шляпу и стеганый пиджак и подался во двор. Даже за ворота вышел. Оглядел с высоты собственного бугра весь хутор — ни единого огонька не приметил.
Левая половина хутора не могла быть видима, потому как избы в неровном ряду прятались одна за другую, уходя в призрачные сумерки. Зато другая — заречная сторона — красовалась, как на ладони. Все избы пересчитать можно. Стояли они, жалкие и притихшие, в неверных лучах заходящего месяца, уже воткнувшегося серебряным рогом в степь за данинской избой.
И повел Иван Федорович хищным взглядом слева направо. Коршуном проплыл над жалкими избенками бабки Пигаски, Рослова Макара, Шлыкова Леонтия, Гаврюхи Дьякова. Сделал по медленному кругу над избами Кирилла Дуранова, Ивана Корниловича Мастакова — Чулка, запнулся над поместьями Филиппа Мослова и Демида Бондаря и уперся в гнездо Виктора Ивановича Данина.
Долго стоял у ворот Кестер. И трубка его давно выкурилась и погасла, и холодок сквозь исподники пробирать стал. А думы возились в мозгу, будоражили сердце, складывались в цепочки, где одно звено цеплялось за другое, и начинал созревать план действий.
Уже и месяц спрятался где-то далеко в степи, и кривой ряд изб на той стороне начал теряться в потемках, размываясь в единое несуразное мутное пятно. А тишина стояла гробовая, вечная. Думать не мешала. И показалось Ивану Федоровичу, что весь хутор погребен под его бугром. Один он, Кестер, хозяином тут остался и делать может все, что захочет.
Вдруг за прудом — в огородах, кажется, а может, в прибрежном тальнике — смех раздался. И тут же — песня в два молодых голоса:
В Петрограде снег и ветер, Ночь кромешная кругом, Александра и Распутин Наслаждаются вдвоем.Отскочили куда-то думы — нестерпимо захотелось узнать, кто же такие кощунственные песни поет. И он сделал несколько шагов от ворот по скату бугра, но вовремя опомнился, что негоже тащиться через плотину, по всему хутору в столь неприглядном виде, хотя и ночью.
А на той стороне помолчали, похихикали вполголоса, и опять:
В Петрограде злые ветры, Ночь кромешная кругом, А царица и Распутин Наслаждаются вдвоем.У Кестера глаза полезли на лоб, брови торчком вскинулись: неужели сами такое сочиняют?! Ведь в первом запеве послабее было, потуманнее, а во втором нахальнее выходило, прямее, надежнее. Сами вроде бы подправляют, сопливцы… Постоял еще, надеясь по голосам узнать ребят. Но хохотки стали удаляться от берега и скоро совсем умолкли.
Расстроенный еще больше, взъерошенный, как воробей, купавшийся в пыли, Иван Федорович вернулся домой и, засветив десятилинейную лампу в гостиной, уселся писать донесение, чтобы днем, как посхлынут самые срочные дела, увезти его на Прийск, Федосову, унтер-офицеру. Рассудил так: нечего ждать, пока в солдаты Макара возьмут. Да и винтовка в его руках страшноватой кажется. Нет! Лучше пусть он в тюрьме посидит.
Уверен был Кестер, что за словесное оскорбление царя непременно упекут Макара в тюрьму либо на каторгу сошлют. А для того тут же и сочинил это самое словесное оскорбление да еще с матерным присловием, хотя Макар таких слов не употреблял.
К Данину приглядеться не помешает пока. А вот Кольку, тупого чертенка, придется снова в гимназию определить, чтобы со здешними ребятами не якшался — того и гляди, про Распутина с ними запоет…
Так и не сомкнул глаз в ту ночь Иван Федорович. Ничего не поделаешь — дела государственные…
9
Любой из тех, кто присутствовал на стихийных собраниях у Рословых, наверно, вел бы себя совершенно иначе, знай он хоть немного о том, что творилось вокруг подспудно, незаметно для глаза.
У Прошечки собирались всего два-три раза, но если бы он догадывался, что это самое «царское око», на какое намекал Виктор Иванович, совсем рядом увивается, — к себе никого не пустил бы и сам не пошел бы к Рословым.
Но проникнуть в жандармские тайны не всякому дано, хотя сами жандармы и полиция пускают щупальца в самые темные, отдаленные уголки Руси-матушки. Хочется им все слышать и все знать. И многое знают они, да не все. Ох, как хотелось бы проведать им, куда исчез Антон Русаков! По дорогам, по деревням рыщут царские агенты, в избах все пронюхивают и прослушивают, розыск по городам разослан — а толку никакого нет. Сгинул, растаял, сквозь землю провалился Антон!
Сидит в канцелярии пожилой человек с едва пробивающейся лысиной сквозь жиденькие, чуть-чуть порыжевшие прилизанные волосы. Ни усов, ни бороды, и одет бедненько. Чиновник этот никому ни распоряжений, ни приказов не отдает, а лишь делает свое скромное дело — ведет «Секретный журнал входящих бумаг», регистрирует их в журнале и передает начальнику. Тихий и незаметный, он, пожалуй, не догадывается, что создает летопись своего тревожного века.
Алексей Куликов и еще два-три подпольщика знают его по кличке «Служивый». Ни в какой партии он не состоит, собраний не посещает, но драгоценными сведениями, добытыми за царский счет, делится, подвергая себя большому риску. За эту немалую услугу подпольщики приплачивают ему иногда. Ничего, берет безропотно, сам же никогда не спрашивает денег.
Регистрировал Служивый только входящие бумаги, а исходящие — дабы не попадали все секреты в одни руки — регистрирует другой человек. Но и одних «входящих» всегда было достаточно, а с конца июля, после дерзкого побега из тюрьмы, донесения посыпались, как новогодний снег, со всех концов. Потом началась война, и народ, и без того притесненный и обездоленный, начал заметно терять страх перед властями.
Прочитав очередное донесение, чиновник ставил порядковый номер, дату написания его и кратко, порою стандартно, вписывал содержание в свой журнал.
«О нерозыске опасного политического преступника Антона Васильева Русакова, сбежавшего из тюрьмы».
Такие донесения шли во множестве с разных концов и от разных лиц.
«Унт.-оф. Зарчука о том, что при проводах новобранцев на войну в заводе Узянском крестьянином Сысовым были выкинуты красный и белый флаги».
«Начальника Управления в надписи на циркулярном предписании Департамента полиции за № 127461 о порядке употребления флеров за выслеживанием лиц, политически неблагонадежных».
«Нач. Упр. с препровождением книг нелегального издания, отобранных при обыске в библиотеке Кочкарского приискового общества народного образования вместе с перепиской».
«Унтер-офицера Голышкина о том, что на проводах в солдаты два товарища Греков и Малышкин пели песни:
Россия, Россия, жаль мне тебя, Черная сотня сгубила тебя!»«Начальника Управления в надписи на циркулярном предписании Директора Департамента полиции за № 127306 о порядке преследования преступности среди войск с революционной целью».
«Троицкого уездного исправника сообщается, что крестьянин с. Николаевка Никита Титов говорил старшине Шавину, что «не покупай земли у гр. Мордвиновых, т. к. весной начнутся беспорядки и она безвозмездно отойдет крестьянам».
«Унт.-оф. Федосова, о произнесении дерзких и оскорбительных слов против Государя Императора крестьянином х. Лебедевского Макаром Михайловым Рословым на негласной сходке. Перечислены все фамилии и звания бывших на сходке».
Появись это донесение раньше, последствия не замедлили бы сказаться на рословских семьях и на всех участниках «сходки». Но тут, видать, не до них было властям.
«Унтер-офицера Устинова о произнесении дерзких и оскорбительных слов в арестантской камере полицейского управления административно высланным крестьянином Болдыревым против Особы Государя Императора».
«Полицейского надзирателя 2 ч. г. Верхнеуральска о том, что арестованный при полиции административно высланный крестьянин Тамбовской губ. Артем Петров Болдырев позволил выразиться матерными словами против Государя Императора и всего Семейства».
«Унтер-оф. Зарчука со сведениями о том, что кр. Ефим Ильин Ляпичев позволил себе выразиться матерными словами по отношению к Государю Императору и Государыне Императрице».
«Полицейского урядника 10 уч. 2-го стана Троицкого уезда о том, что священник Кидышевского поселка позволил себе сорвать портрет Государя Императора».
«Унт.-оф. Федосова о поступках священника Кидышевского поселка отца Дмитрия по поводу его срывания со стены трех портретов Государя Императора».
«Троицкого уездного исправника о выражении скверноматерной брани по поводу Его Величества Государя Императора кр. Лосевым и Баланцевым».
«Пристава 2-го стана Троицкого уезда сообщение о выражении дерзких слов против Государыни Императрицы Александры Федоровны кр. Задоенным».
«Троицкого исправника о том, что хлеботорговец Голубых позволил себе в поселке Таянды выразиться жителям: «Царь ваш виноторговец».
Где же тут успеешь принять меры по каждому донесению? К тому же длинные царские уши далеко не все слышат. Не уловили они и хлесткую частушку, распеваемую по хуторам:
Кто Царь-колокол подымет, Кто Царь-пушку повернет? Коля водочкой торгует, Шура карты продает!И сколько бы ни усердствовали, правда остается правдой: император Николай захватил монополию на торговлю водкой, а императрица Александра Федоровна — монополию на торговлю картами. Все «блага» может поставить царствующий дом. Как же не поминать мужику своих «благодетелей»!
А у жандармов ко всему прочему своих, «внутренних» забот все прибавляется.
«Начальника Управления в подписи за № 107398 о том, что мещанин г. Миасса Осип Томашевский не есть сотрудник, а провокатор».
«Его же. Не принимать в сотрудники дворянина Бекенова».
«Его же. Принять меры предосторожности в донесениях, получаемых от сотрудников, не выявляя их подлинных фраз, а доносить кратко».
«Начальника Управления с препровождением 10 руб. на секретные расходы сотруднику «Почтовому».
«Его же. О том, что бывший сотрудник, крестьянин Василий Ильин Сезонов не есть сотрудник, а скорее мошенник».
«Унтер-офицера Федосова с полученным сведением в пос. Масловском о том, что у казака полицией был обыскан фальшивомонетчик Буторин и его квартирант Петр Николаев Емельянов, где обнаружены бланки, цинк и проч.».
«Горного исправника 2-го округа с препровождением 3-х уставов Кочкарской трудовой строительной артели и Кочкарского общества народного образования и списка членов трудовой строительной артели».
Каждый день старательный регистратор вносил в журнал десятки записей о фактах, добытых тайными агентами и сохраняемых в строгой секретности.
А жизнь шла своим чередом, и жандармам оставалось регистрировать неприятные для них факты, но справиться с беспорядками царские слуги уже не могли, и некоторые донесения приходилось оставлять без принятия мер, поскольку даже среди своих агентов — проверенных и выверенных на десять рядов — обнаруживаются то «мошенники», то «провокаторы», а то и «шпионы».
10
Виктор Иванович вернулся из города рано, часа в три пополудни, и до того довольный, что спрятать этого не удавалось ему никак.
Дома, кроме бабушки Матильды, никого не было. Не укрылось от нее настроение сына, как только он переступил порог и бросил на лавку вместе с пустым мешком свою кепку. Однако, собирая на стол, приметила Матильда, что часто он за правым ухом почесывает, потому и спросила с лукавой улыбкой:
— Эт чего же, Вичка, все у тебя хорошо, как вижу, а голова-то чешется? Согрею тебе водички, помой ты ее.
— Голова у меня, слава богу, чистая, — ответил Виктор Иванович, побрякивая рукомойником и плеская прохладной водой в лицо, — а вот загадку одну никак не осилю — потому и чешется.
— Эт что ж за загадка такая мудреная? — поинтересовалась Матильда, наливая в деревянную миску щей.
Но Виктор Иванович, будто не слыша вопроса, кинул на крюк полотенце, шагнул к западне и, распахнув ее, присел на краю творила.
— Анто-он — позвал он. — Борода твоя выросла?
— Плохо в темноте растет она, — пошутил Антон, подходя к лестнице. — Новости, что ли, есть какие?
— Есть новости, волк тебя задави. Все документы привез тебе и билет до Самары. Только отправляться надо из Миасса… чтобы Челябинскую станцию миновать… Хлеботорговец ты вольный, понятно? — подавая документы, Виктор Иванович снова посетовал: — Ах ты, бороденка-то у тебя жидковата вышла! Ну, да что делать, зато усы вон как на картинке. Держи!
— Какая же загадка-то не дается тебе? — нетерпеливо допытывалась Матильда, по привычке глянув на кутное окно. И вдруг зашептала, вытаращив глаза: — Витя, попа черти несут!
Мигом легла на западню крышка, а Виктор Иванович, сбитый с толку столь нелепым появлением нежданного гостя, кинулся на печь и прикрылся занавеской.
Отец Василий так скоро миновал сени, что и занавеска не перестала колыхаться, как он растворил дверь. А Матильде самой пришлось за собранный обед садиться.
Оглядевшись вокруг и едва отыскав в углу крошечную иконку, поп истово перекрестился, потом поздоровался.
— Милости просим, — ответствовала Матильда Вячеславовна, едва успев намочить ложку в щах. — Добрый человек — завсегда к обеду. Садись со мной, батюшка.
— Благодарствую, сыт, — отказался отец Василий, остановясь посреди избы и зорко стреляя взглядом по закоулкам. — Мне бы с хозяином побеседовать. Где он?
— Во дворе-то не видать его? Может, на улицу куда вышел…
— А чьи это сапоги вон с печки торчат, матушка?
Вскочила Матильда из-за стола, увидела торчащие сапоги, зачастила:
— Ох, знать, на печке уснул! Да когда ж эт он? Ведь я вот с полчаса как в огород ходила, во дворе его видела… Витечка, проснись! — тормошила она сына, просунув руку под занавеску. — Батюшка к нам, пожаловал.
— Чего? — отозвался сын сонным голосом. Тут же отмахнулась цветастая занавеска, и Виктор Иванович, протирая глаза, спустился с печи. — Здравствуй, отец Василий! Чего ж ты стоишь-то середь избы? Садись.
— Присяду, — елейно заворковал поп, — как не присесть! Давненько мы знакомы с тобой, Виктор Иванович, в картишки единожды перекинуться как-то довелось в станице, помню… А вот чтобы во храме божием, кажись, не доводилось встретиться нам. Не так ли я говорю?
— Да, пожалуй, что так, — согласился Виктор Иванович, неторопливо свертывая цигарку.
Отец Василий выжидательно поглядел на собеседника, думая, что тот еще что-нибудь скажет, но, не дождавшись, выложил сердито напрямую:
— Дак что же ты приход мой позоришь, человече?
— А сам-то ты, отец Василий, веришь в то, что проповедуешь? — без обиняков спросил Виктор Иванович. — Постов-то ведь не соблюдаешь, по всему хутору слышится это. Мяско и прочие скоромности во всякий день употребляешь… Тут вот весной перед пасхой мужик наш хуторской на страстной неделе застал тебя за яичницей с водочкой. Это как?
— Все мы грешны, — покаянно молвил отец Василий, начиная сознавать, что такого разговора, как он хотел, не получится. И ожесточился: — А только грехи наши усердными молитвами окупаются.
— Да зачем же пустую работу делать: грешить, потом отмаливать? Не лучше ли ни того, ни другого не делать? А коли уж грешить сознательно, так для чего же отмаливать? Ведь вы утверждаете, что бог вездесущ, от него все равно не скроешь тайных своих помыслов?
— Нет, не скроешь!
— Так для чего же кривить душой?
— Идолу, сатане ты предался, сын Виктор! Не помышляешь о том, что станется с приходом, ежели все, подобно тебе, отрекутся от церквы? Рухнет храм божий! Так ли я говорю?
Отец Василий пришел сюда, кажется, не только для того, чтобы своей проповедью воздействовать на богоотступника. Виктор Иванович понимал это и не собирался играть с попом в прятки.
— Все ты говоришь так, батюшка отец Василий, — улыбнулся в ус Виктор Иванович, хитро подмигнув ему. — Все так, да разве один я спасу твой приход? Жена моя на молениях бывает, иногда и детишек возит в праздники.
— Да ведь мы с ней только что вот на твоей службе были, — перебила Матильда Вячеславовна, — на Семенов день. Аль не приметил?
— Не приметил, — огрызнулся поп. — Бог милостив, и храм наш не пустует.
— Так о чем же твоя забота? — подхватил Виктор Иванович. — Одним прихожанином больше, одним меньше — неужели от этого храм покачнется. Ведь не бывал я там, верно, давненько, а он благоденствует, не рушится оттого, и казна не скудеет… А раньше ты не захаживал ко мне. Чего же теперь-то пожаловал?
Понял отец Василий, что догадывается Виктор Иванович об истиной цели его визита, оттого еще больше разгневался:
— А какой пример подаешь мужикам ты, просвещенный человек? Об этом подумал? Грешат богоотступники денно и нощно: рожу неумытую лень им перекрестить лишний раз! Изверились, идолы окаянные, а ты им такой пример подаешь.
— Так за идола-то у тебя, отец Василий, мужик, стало быть, почитается… Молишься ты богу, а мзду на пропитание берешь с идола ненавистного? Ловко! — Все это Виктор Иванович выговорил мягко и вкрадчиво, будто поглаживая попа. И вдруг построжал: — Вот чего, батюшка. Анна моя с поля должна воротиться скоро. А с ней тебе лучше не встречаться и хуторским нашим бабам глаза не мозолить. Поглядел бы ты, чего тут было, как узнали они про твои дела в великий пост!
Бабушка Матильда, подвинувшись ближе к сыну, незаметно дергала его за рукав, призывая к осторожности. Но Виктор Иванович шевельнул рукой, словно муху спугнув, продолжал начатое, не сбавляя твердости:
— Сам знаешь небось: плохого бога и телята лижут — а наши бабы на телят не похожи. Им только попадись на зубы — кого хочешь загрызут.
Отец Василий прямо на глазах повял, сник, присмирел и, тяжело вздохнув, как бы нехотя поднялся с лавки.
— Дерзок ты, хитер и лукав, человече, немыслимо! — оказал он, остановись у порога. — Не верой укрощать тебя надлежит, а властию! — В этих словах послышалась нескрываемая угроза. И, показав на большой мрачный портрет царя за спиной Матильды, добавил: — Он ведь все видит и все слышит.
Толкнул дверь и, недовольно сопя и неловко скрючившись, полез в нее.
Не двигаясь с места и не проронив ни слова, хозяева проводили взглядом незваного гостя, прошедшего по двору мимо окна. Через полминуты не выдержал Виктор Иванович, вошел в горницу, не притворив за собою дверь, и скоро послышалось оттуда:
— Ах, волк его задави, трус! Не поехал ведь в хутор-то, в Бродовскую поворотил.
— Боялась я, — отозвалась Матильда, — а ты, Вичка, молодец: его мылом да ему же в рыло! Глаза-то, знать, ест… Ну да бог ему судья.
— Бог-то, бог, а сам не будь плох, — с намеком проговорил Виктор Иванович. — Давай-ка собирать Антона.
— А ты ведь мне так и не сказал про загадку-то, какую из города привез.
— Загадку-то? — повторил Виктор Иванович и привычно почесал за ухом. — А вот осколок этой загадки только что сидел тут… В жандармских бумагах появилась и моя фамилия вместе со всеми, кто у Рословых на беседах бывает.
— Посетил и нас бог, — вставила бабушка Матильда.
— Да ты погоди охать-то. Никак не разберу, кто же Иудину должность у нас в хуторе справляет… По всем видам, Кестер, Иван Федорович, должен бы этим заниматься, а по глупости донесения на Чулка похоже: главное у него, что Макар неуважительно о царе отозвался, а все остальное как бы между прочим. И я там в рядовых числюсь, только фамилия названа.
— Хоть в каких числись, — возразила Матильда, а раз попал на заметку, поберегись. Батюшка-то, слыхал, чего говорит: все видит и все слышит.
— Да где уж там все ему видеть, — отмахнулся Виктор Иванович. — Ежели бы чуть больше знали — не поп, а жандарм в гости припожаловал. А этот небось побоится меня закладывать… Ну да поживем — увидим. Умирать собирайся, сказывают, а рожь-то сей. Время не ждет. Затопляй печку. А я закушу да на часок прилягу.
И опять закружилась в хлопотах Матильда Вячеславовна — одной рукой сыну еду на стол подает, другой из печи все убирает. Как живые, заходили вокруг чугуны, горшки, ведра, крынки пустые. Корыто со двора приволокла, и тут же в подпол его спустила. И, растопив печь, кинулась за водой к колодцу.
Надо же успеть и воды нагреть, и затворника вымыть, и приодеть его да в передний угол усадить как дорогого знатного гостя. А тут, не дай бог, кого незваного нанесет, как попа этого. Часа через три-четыре Анна с ребятишками дома будет…
И крутится бабушка Матильда волчком, будто в загадочном танце возле печи-то выхаживает. На здоровье пока не жалуется она. Сын и сноха, частенько охают да за поясницу хватаются, а ей такие боли неведомы.
11
Молодой месяц, точно игрушечный кораблик, нырял в светлобоких облаках, плывущих высоко в начинающем стекленеть осеннем небе. Частые березовые колки, окрашенные то нежно-золотой, то густо-багряной краской, в призрачном лунном освещении рождали сказочный, причудливый свет. В опустевших дремлющих полях, в этом опаленном лесе чудился могучий покой богатыря, засыпающего после великих трудов — бесконечно доброго, но скупого на ласки.
Воронко без понуканий шел ровной хорошей рысью, и колеса легко бежали по укатанной беспыльной дороге. Дышалось тоже легко и от ночной свежести, и от вольного безмолвного покоя. После тюремной камеры, после не менее душного подвала, Антон чувствовал едва заметное кружение в голове и ненасытно пил ядреный, пахнущий хлебным полем воздух. Только теперь к нему пришло настоящее ощущение свободы.
От Виктора Ивановича, сидящего ближе к передку, то и дело напахивало махорочным дымком. Курил он беспрестанно, покашливал негромко и, понимая, как наскучался его спутник по этакой вольной благодати, вопросов не задавал и разговора не заводил.
— Дай-ка и мне закурить, — попросил Антон, когда уж проехали козюринскую заимку, еле различимую в стороне от дороги.
— Э-э, нет, брат, — не вдруг отозвался Виктор Иванович, словно очнувшись от думы, — негоже богатому хлеботорговцу мужичий табачище курить — дух не тот. В левом кармане в поддевке у тебя папиросы лежат — их вот и кури.
Прежде чем сунуться в карман, Антон оглядел свое новое и впрямь щегольское одеяние, невольно сравнил его с затасканным ватным пиджаком Виктора Ивановича, по цвету схожим с землей, и, прикинув, во что обошлась богатая экипировка, засовестился, нащупывая в кармане папиросы.
— Поберечь бы их, пока на люди выедем, — проговорил Антон, не решаясь открыть коробку, поворачивая ее и так и этак.
— Уж на что другое не обязательно, а на это даже у липового купца должны быть деньги, — усмехнулся Виктор Иванович. — Шкура дрожи, а фасон держи. До Самары всего у тебя хватит, а там — адрес-то помнишь? — доктор поможет, волк его задави. У него карман потолще нашего. Там как оглядишься, может, и пристроиться где удастся.
Прикурив, Антон пустил голубую струйку пахучего дыма и, еще не успев бросить погасшую спичку, заметил встречную подводу на извилистой дороге между редкими березами.
Виктор Иванович торопливо подобрал вожжи и, напрягаясь, пытался разглядеть встречного. Не коня и не седока узнал он, а когда вся упряжка на изгибе дороги повернулась почти боком, увидел кестеровскую линейку. Ни у кого в хуторе такой не было: без коробка, на рессорах, с железными крыльями, сзади — ящичек для дорожного багажа, а площадка для сидения покрыта ковриком. Когда на такой линейке едут вдвоем, то сидеть приходится спиною к спине, а ноги ставят на подножки.
Кестер тоже безошибочно узнал хозяина встречной подводы и, придержав коня, еще не поравнявшись, заговорил:
— Куда это погнало тебя на ночь глядя, Виктор Иванович?
— Новая Валькина родня спать не дает! Сбежала ведь она от нас, слыхал небось? — бойко ответил Виктор Иванович, проезжая мимо Кестера и оборачиваясь к нему через плечо. — А сам-то чего по ночам шатаешься?
— Колька-разбойник лошадей пас, да растерял, — крикнул вслед Иван Федорович, не отрывая подозрительного взгляда от спутника Данина. Так и скрылся с вывернутой шеей в сумерках ночи.
Ни один из них не поверил другому, поскольку родню, хотя и новую, чаще всего не в будние дни навещают и не ночью. А отбившихся коней, понятно, лучше искать на верховой лошади, в седле, и уж никак не на рессорной линейке, на которой ни в лес, ни в болото, ни на пашню не заедешь.
— К Федосову наушничать небось ездил, волк его задави, — предположил Виктор Иванович.
— А я, что же, в сваты попал, выходит? — спросил Антон.
— Ишь ты, как скоро присватался! — усмехнулся Виктор Иванович и пустил Воронка быстрее. — Родня родней, а ты как был попутчиком, так им и оставайся. Не знаю я тебя и видеть сроду не видывал раньше. А родней ты мне доводишься, кажись, поближе всех сватов. Так ведь я и не побывал у них и зятя не видел. С кем и как там дочь живет, не ведаю. Все недосуг. Анна слезами изошла — к дочери зовет… Вот уж ворочусь домой, все эти дела семейные переделаю…
Неловко было сознавать Антону, что хлопоты о нем, о его судьбе заставляют Виктора Ивановича поступаться многим, но и выхода другого не видел. И обворожительный лунный свет, и опаленные золотистые березы, и томительно сладкое ощущение свободы — все это поблекло после встречи с Кестером, слиняло как-то. Антон знал этого человека по рассказам Виктора Ивановича, а разглядеть его не попытался. Так, взглянул мельком и отвернулся, чтобы не насторожить встречного любопытством да и себя не дать ему разглядеть.
Докурив папиросу, Антон смял мундштук и бросил на дорогу под заднее колесо.
— А не двинуть ли мне поближе к фронту, Виктор Иванович? — бодро спросил Антон и, помолчав, словно дожидаясь возражения, добавил: — А то и прямо в действующую армию закачусь, — еще помолчал. — Ведь агитаторы там нужны как воздух.
— И в каком же качестве ты намерен там объявиться? — после долгой паузы спросил Виктор Иванович.
— Чинов у меня никаких не бывало, — пояснил свою мысль Антон, — а солдатом, я думаю, без труда можно там оказаться. За царский счет довезут… Сперва во взводе, в роте начать агитацию потихоньку, а потом и дальше можно развивать это дело. Помощники, конечно, найдутся. И руководители наверняка там есть, разыскать их только бы…
Увлекшись этой мыслью, Антон ждал поддержки старшего товарища, но тот ни возражать, ни поддерживать вроде бы не собирался, предаваясь каким-то своим думам. Но ни о чем другом Виктор Иванович думать сейчас не мог. Антона он слушал внимательно, однако не торопился высказывать свое мнение, поскольку дело их не поддавалось решениям скороспелым.
— Умный ты парень, Антон, — заговорил наконец Виктор Иванович, как бы продолжая размышлять вслух, — и слова говоришь неглупые, а изъян в них так червяком и шевелится. Давай-ка вот рассудим, пошире умом раскинем. Попасть в солдаты, как и в тюрьму, легко. Дак чего ж ты из тюрьмы-то бежишь?.. — Виктор Иванович заметил порыв Антона, желание возразить и предупредительно приподнял руку. — Не спорь. Знаю, чего ты скажешь, и соглашусь. Но пока ты потихоньку работаешь с десятком солдат, о тебе узнают царевы слуги — они ведь и там кишат, эти осведомители. И не в тюрьму повезут с фронта, а там же к стенке поставят. Такие случаи нам уже известны. Либо еще хуже — пуля или снаряд кайзеровский долбанет. Ведь они не разбирают, где там агитатор, а где солдат темный. А так-то уж и вовсе глупость получится. Возможность погибнуть у тебя и здесь была. Зачем же так далеко ехать, чтобы получить тот же результат? И потом: что ты умеешь делать? Агитировать? Бомбы самодельные лепить? Они там не нужны, хватает готовых. А ведь ты еще с печатным делом знаком. В окопах едва ли пригодится такое дело. А где-нибудь в городе листочки с нашей правдой не меньше нужны. И рассказывать сейчас не то что на листочках — на большущих полосах есть о чем. Вот и подумай, где ты можешь больше сделать. В Самаре такая литература печатается и к нам, как ты знаешь, доходит. Связь у тебя есть — найдешь.
То затухая, то разгораясь, разговор этот занимал их всю дорогу. Никто им тут не мешал. Ехать приходилось не трактом, а самыми глухими дорогами. Утро застало путников уже на подъезде к Варламовскому бору. Днем ехали мало — кормили коня и отдыхали в лесу. Лишь перед вечером, уж в пятом часу, снова тронулись в путь, чтобы без спешки поспеть к поезду.
Совсем иным был бы разговор этих людей, если б хоть чуть приоткрылась завеса перед тайнами будущего.
Вторая ночь подходила к концу. До миасской станции оставалось версты три-четыре, а времени до прихода поезда — около двух часов.
— Слышь-ка, Антон, — потянув на себя вожжи, заговорил Виктор Иванович, — а ведь нам лучше здесь, в лесу с часок побыть, чем на станции это время молоться да филерам глаза мозолить, а?
— И то правда, — согласился Антон и повел рукою, показывая на стройные сосны. — Только из-за этой вот красоты и то стоит остановиться. Ох, как истосковалась душа по воле этакой!
Виктор Иванович повернул коня в лес и, отъехав от дороги саженей на двести, остановил подводу за кустом рябины так, чтобы с дороги не видно было ее. Расстелив на редкой травке старый дождевик, устроились на нем и закусили хлебушком с малосольными огурцами, кваском, перекисшим в дороге, запили. Потом Виктор Иванович достал было кисет, но раздумал курить и затянул вполголоса казачью песню:
Как на ду-убе на высо-оком, Над шумя-а-ащею волной…Антон басовито негромко подхватил:
Одино-оку думу ду-умал Сокол я-асный, молодой.И полилась песня — задушевная, негромкая, напоминавшая певцам их судьбы.
Что ж ты, Сокол быстрокрылый, Призадумавшись сидишь, Своими черными очами В даль туманную глядишь? Или скучно, или грустно На родных тебе полях, Или нет в душе отрады В темно-синих небесах? Вот поднялся Сокол ясный, К морю синему летит, На родимую сторонку Он в последний раз глядит. Буря воет, гром грохочет, Низко ходят облака, Сокол борется с погодой, Крылья мочит он в волнах. А наутро было тихо, Солнце красное взошло, И по взморью легкой зыбью Тело Сокола несло.Пели они проникновенно, от всей души, потому как и даль виделась туманная; и не от скуки с родных полей улетает Сокол; и может статься, что на родимую сторонку он глядит в последний раз; и неведомо, какие могучие волны будут хлестать его; и выплывет ли он из них — тоже знать никому не дано.
Они бы, наверно, еще посидели здесь четверть часа, но вдруг заморосил дождичек, неожиданный в предутренних сумерках, и пришлось покинуть это славное место.
Не доехав до станции, Виктор Иванович свернул на едва заметную лесную дорожку, вилявшую между соснами и уводящую на взгорок.
— Куда ты еще? — удивился Антон.
— От дождя под соснами спрячемся, — усмехнулся Виктор Иванович.
— Какой это дождь — роса. Да и поезд вот-вот подойдет.
Виктор Иванович не ответил, а поднявшись на взгорок, остановил коня и, отойдя от телеги, поманил к себе Антона.
— Вон гляди, — показал он, — сейчас я съеду вон туда. Воронка оставлю у коновязи, а сам буду держаться недалеко от правого угла вокзала, поближе к путям. Ты пойдешь этой же дорожкой. Не торопись, чтобы не толкаться на перроне долго… Там вон, кажись, цыганы табором устроились — возле них лучше задержись, пока поезд подходить станет. А потом шагай прямо на перрон и — к своему вагону. Там еще раз увидимся издали. Так?
— Так, — вздохнул Антон.
— Ну, а теперь давай, брат, прощаться.
Они обнялись крепко и по-мужски неумело поцеловались. Оглаживая мягкие шнурки усов, Виктор Иванович как-то суетливо шагнул к коню и, на ходу вскочив в телегу, рысью покатил по спуску.
На подъезде к табору подумал: «Коновязь-то рядом, как бы Воронка не угнали, черти. Либо из телеги чего сопрут».
А табор жил своей обычной жизнью. Две цыганки стирали в корыте какие-то тряпки и развешивали их поблизости на кустиках, хотя все так же накрапывал дождь. Еще одна у костра теребила курицу. Вокруг играли ребятишки. Мужчин почему-то не было с ними. Лишь один толстый пожилой цыган с серебристой бородою кольцами сидел в сторонке на раскладном стуле, а перед ним на корточках пристроился человек, по виду русский. Они, кажется, спорили.
Что-то очень знакомое почудилось Виктору Ивановичу в этом человеке, но с затылка узнать не мог. И стоило тому лишь чуть повернуть голову, как сомнений не осталось — Кирилл Платонович это, Дуранов. И где только не шатается он, с кем только не водится! Встреча с ним здесь никак не желательна, особенно до отхода поезда. И коня оставлять у коновязи нельзя — узнает Кирилл его и хозяина искать примется.
Отвернул подальше, за дровяной сарай, там коня оставил. А в это время и поезд заслышался. Поторопился на условленное место, к перрону. Людей у вокзала немного в этот ранний час, наблюдать не мешают. Антон возле табора, кажется, едва обопнуться успел — да и не знают они с Кириллом Платоновичем друг друга, — торопливо шагает к вокзалу. Обошел его справа и, будто нечаянно задев локтем Виктора Ивановича, направился к вагону.
В дверях Антон задержался, повернувшись лицом к перрону, потом скрылся в вагоне.
Поезд стоял тут недолго. А когда застукали сцепы, двинулись колеса, Виктору Ивановичу показалось, что против третьего окна в вагоне остановился Антон. И тут же, едва пересиливая железный стук вагонов, откуда-то издалека донеслись ворчливые раскаты тихого грома. Не часто гроза в эту пору бывает.





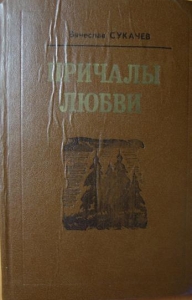
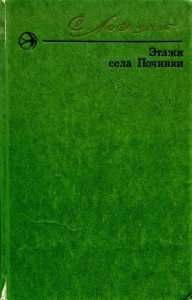
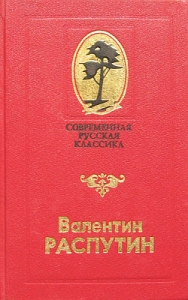
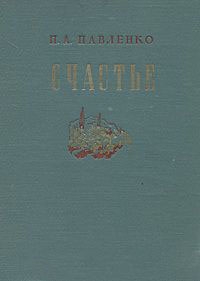

Комментарии к книге «Тихий гром. Книги первая и вторая», Пётр Михайлович Смычагин
Всего 0 комментариев