Тихий гром. Книга третья
КНИГА ТРЕТЬЯ
Собиралися мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез…
. . . . . . . . . . .
По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ…
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод
С. ЕсенинЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
1
Второй год по Европе гремела первая мировая война. Зловонно дымила порохом, скрежетала железными челюстями, перемалывая кости сотен тысяч солдат и питая невинной кровью незасеянную, овдовевшую землю фронтовых полос.
Кому надо, чтобы солдаты одной страны убивали солдат другой? За чем они бьют друг друга? Для какой же надобности солдату Рослову кровянить штык своей винтовки о внутренности немецких солдат? А заколол он их за полдня не то восемь, не то десять — не до счету. И сам лежит в отбитом у неприятеля окопе, пропоротый в нескольких местах немецкими штыками. Нижний бок шинели разбух от крови. Едва хватило сил подтянуть слетевшую папаху да подсунуть ее под голову. И под ней, под папахой, — тоже мокро. А в глазах — не поймешь — не то день меркнет, уступая права вечеру, не то сама жизнь угасает. Черные полосы плывут одна за другой, а между ними просветы искрятся, будто дядя Тихон лемех в кузне наваривает. Сознание все чаще тонет в этой холодной и безразличной черноте и все реже и короче выныривает из нее к искрам.
Рядом где-то и Григорий Шлыков должен лежать. Вместе держатся они со дня мобилизации. Вместе в прошлом году и ранены были, и в лазарете лежали, и выписались вместе, и вот до этой проклятой немецкой траншеи бок о бок держались. Сколько смертельных ударов отвели друг от друга! И теперь уж не просто земляки они, не друзья, а роднее родных братьев стали. На горячей кровушке замешано такое родство!
Это теперь — обескровленные, изнемогшие, угасающие — лежат они на дне траншеи в двух шагах друг от друга, ничего не знают и не видят, кроме ужасающей черноты перед глазами. Но ведь и днем, в обеденное время, перед атакой, будучи в добром здоровье, они знали немного больше, чем теперь. А видели чуть подальше кончика штыка своей винтовки да по бокам едва успевали оглядываться. Что же произошло в тот день на их участке фронта — не ведали они.
Беспросветная темнота давит мужика и в собственной избенке, и на полосе, и в окопе. А между тем один из военных журналистов писал тогда в «Ниве» о небывалом «германском таране»:
«Только что закончившиеся бои на нашем фронте Боржимов — Воля-Шидловская — неслыханные и небывалые даже в настоящую мировую войну. Поражает необыкновенная густота построения немецких войск. Как сообщает штаб, неприятель, с целью прорыва нашего фронта, ввел в бой на участке около десяти верст семь дивизий, поддержанных ста батареями. Некоторые дивизии развертывались на фронте около версты, когда обычно при современном огне для тактического развертывания артиллерии в среднем необходимо три-четыре версты.
Удар, направленный для прорыва нашего фронта, представлял колоссальный таран, до изобретения пороха употреблявшийся для разбития крепостных стен, но с той разницей, что настоящий германский таран был сделан не из дерева и железа, а из ста тысяч немецких солдат, образовавших одну сплошную стенобитную машину. Здесь не только полковые и дивизионные резервы шли в батальонных колоннах, но и ротные цепи на таком тесном пространстве сливались в сомкнутый строй.
Атака этого колоссального тарана поддерживалась ураганным огнем ста батарей, составляющих шестьсот орудий. Кругом было сплошное поле смерти, где каждый артиллерийский снаряд нашей артиллерии выбивал из строя десятки.
Но германский таран ударился о стальную щетину наших штыков и подался назад. Казалось, ничто не могло противостоять такому удару. Какой стальной броней из войсковых частей ни покрывать всю линию тысячеверстного фронта, нельзя же все-таки на каждой версте фронта иметь по 8—10 тысяч. Для этого не хватило бы никаких миллионных армий. Но в решающий момент на линии Боржимов — Воля-Шидловская наши силы оказались достаточными не только для того, чтобы задержать удар стотысячного тарана, но и для контратаки. Прорыв неприятеля не удался, и нашими войсками заняты неприятельские траншеи. Все колоссальные жертвы и усилия германцев не привели даже к временному прорыву нашего фронта».
Безвестный корреспондент говорит лишь о «колоссальных жертвах и усилиях германцев» и умалчивает о своих. А к раненым воинам, оказавшимся в отбитой у немцев траншее, не могли пробраться санитары, потому как все поле от рубежа контратаки было покрыто сплошным кровавым месивом.
В наступившей темноте санитары двигались на стоны раненых. А через тех, кто не мог стонать, перешагивали, как через трупы. Трупов тут было — ступить негде.
Василий Рослов не знал, сколько он пролежал в пропасти забытья. Но жизнь его пока еще не заглохла. Она едва заметно билась где-то глубоко внутри, глухо стучала, пересиливая принесенную на немецких штыках смерть.
На этот раз удалось ему на короткое время размежить веки. Увидел могильную стенку наспех выкопанной траншеи, а за краем ее, в неведомой небесной вышине, — туманную звездочку. Показалось ли так Василию или та звезда действительно плыла в тумане — понять невозможно. Только исчезла она тут же. А из глубин памяти, будто из далекого-далекого прошлого, ярко, до рези в глазах, возник только что минувший день до начала контратаки.
Он увидел себя в строю, стоящим, как и все, без шапки. После молебна полковой священник прочел послание какого-то сельского старосты Калужской губернии. Многие слова этого послания почему-то, как ржавые гвозди, застряли в мозгу и теперь шевелились там, тревожа боль:
«Да здравствуйте, христолюбивое воинство, герои русской земли. Бог вам в помощь победить врага… Не, робейте, ребята. Пущай гремит германская машина, она ему предсказывает гибель… Не поддавайтесь врагу-германцу. У нас всех, стариков, кипит геройская кровь к бою на врага; как только какая неустойка, то мы всеуспешно на поля брани вылетим… Не робей, ребята, не всех стариков побрали на войну… И все готовы умереть за веру, отечество. С нами бог, не робейте, ребята. Ура! Наша матушка Россия немало видела тревоги, но все переносила с помощью божьей, так и в настоящее время, не робейте, воины Христовы, помните, что с нами бог на всяком месте. Боже, царя храни…»
Христолюбивые воины не робели. Жизней своих не щадили за батюшку царя. Но, слушая это послание тылового героя, многие поскрипывали зубами и незаметно отводили мрачные взгляды от священника.
В такие вот моменты и рождается тихий гром в темной глубине мужичьей души. Справедливый гнев долго копится в просторной утробе, пока не станет ему там тесно. А уж коль прорвется тот гнев наружу, не станет мужик прощенья просить ни у бога, ни у людей.
И на этом не кончилось долгое стояние в строю. Потом еще крикливо и нудно говорил белокурый штабс-капитан в шинели с иголочки с золотыми погонами! Не фронтовик, видать. Он все поминал Дарданеллы и Дарданелльскую операцию союзников.
— Какие еще к черту Дарданеллы! — услышал Василий за спиной негромкий голос. — Нам и тута трех аршинов на могилу, авось, не откажут, а в общей дак и того меньше.
Василий тоже не знал, что это за такие Дарданеллы, где они, кому и для чего нужны, чтобы за них жизнями людей платить. А вот про могилу-то солдат, словно в яблочко влепил. Вот она — готовая могилушка, лишь присыпать сверху осталось.
Не знал и как-то не задумывался солдат Рослов над тем, что кровавые разбойники, затеявшие эту войну, в стороне сидят, в полнейшей безопасности, в безупречно белых сорочках и на разбойников вроде бы совсем не похожи. Как тут не вспомнить, что алтынного вора в тюрьму сажают, а полтинного — в красный угол да за казенный стол.
А то, что на убийстве каждого солдата поставщики военного снаряжения по двадцати одной тысяче долларов зарабатывают, — за семью печатями хранилось. И знать солдату никак того не положено. Это уж потом дотошные американцы сосчитают все и раскроют миру тайну.
Григорий Шлыков очнулся впервые через много часов после боя, перед утром, уже. Ему, не прошедшему, действительной службы и не знавшему ничего, кроме родного хутора Лебедевского, было труднее, чем Василию, потому и держался он за старшего товарища, как малое дитя за мамку. Во всем земляка слушался и старался на него быть похожим. Даже усы завел, но росли они у него редковатыми и не шибко солдата красили.
Свалившись на правый бок и спиною прислонясь к стене траншеи, Григорий так и лежал, неловко завернув назад правую руку. Из носа не один час подтекала кровь. Становясь все гуще и гуще, она сползала по усу и напитывала подтаявший от нее комок серой земли. Лоб у него чернее земли сделался, кожа над бровью лопнула.
Это — от приклада немецкого. Здоровенный насел на Гришку немец. По годам в отцы бы ему, пожалуй, годился. Оскалив редкозубый рот, с рыжими щетинами по верхней губе, прикладом бил он деловито, с подкряком и вроде бы не спеша.
Приколол его Василий. Теперь немец лежит наверху, а они «траншею заняли».
Григорий и сам прикрыться бы сумел — за время атаки не раз оборонял себя и Василия выручал взаимно. А тут, видать, обессилел уже — бок у него был распорот. Всадил штык в одного — выдернуть не успел. Там винтовка его и осталась, а сам в окоп загремел, как в преисподнюю. Василий, кажется, еще на ногах был.
— Ва-ася! — громко хотел позвать Григорий, но едва сам услышал свой голос, как во сне.
На этот «крик» и ушли все силы, чернота снова поглотила его…
2
— Ешь, дружки, набивай брюшки по самые ушки! — объявил Степка Рослов, оглядываясь на тетку Дарью и опуская руку в чугунок за картошкой.
Хлеб, кислое молоко, картошка вареная — на столе. Хозяйка еще о чем-то у залавка хлопочет и приговаривает оттуда:
— Ешьте, работнички! Ешьте на здоровье. Экое дело сделали: рожь дожали да пожинальный сноп не забыли домой привезть. Им ведь на Покров убойную скотину закармливают… Эт кто ж у вас догадался последний сноп-то захватить?
— Степка ваш, выдумщик, — с достоинством отвечал Ванька Данин, откусывая картошку и прихлебывая кислым молоком. — Дядь Макар посмеялся над им.
— Да уж я знаю, что Макар такого не сделает, — подтвердила Дарья, — Степка, он, как старик, все приметы знает.
— А поживешь возля нашего дедушки, как раз, и будешь знать все приметы, — горделиво объявил Степка. — Дедушка наш все знает.
— Да ведь жила я возля дедушки сколь годов — согласилась Дарья, — от его и приметы знаю. Ты, что ль, забыл уж, как вместе-то жили?
Но разговаривать за столом не полагается, да и некогда: чашка-то с кислым молоком на глазах пустеет и картошек в чугунке не остается. Здесь, как и на работе, стараются ребята друг перед дружкой.
Уговорил на сегодня Макар Степку, племянника своего, Ваньку Данина да Яшку Шлыкова помочь остатки ржи убрать. Сам он косил хлеб на машине, а ребята снопы за ним вязали да в суслоны ставили. Зинка, дочь Макара, тоже вязала снопы. А из Федьки, братишки ее младшего, вязальщика не вышло, но снопы в суслоны таскал он исправно. Теперь все за столом старались. Кроме Зинки. Она и поесть успела на ходу, и теперь матери помогает. Так начиналась жизнь каждой русской женщины.
— А где ж у нас Макар-то до сих пор? — снова спросила Дарья.
— Да уж сколь разов тебе сказывали, что машину завез он к дядь Тихону, — обидчиво заметил Степка, обтирая губы кулаком.
А Яшка Шлыков добавил:
— Тама, в поле, у его Лыска ногу сломал. Едва до хутора дотащился.
— Теперь, небось, три машины уж можно отвезть и Лыску на себе домой притащить, — возразила Дарья, ставя на стол овсяный кисель.
Семенов день сегодня — начало бабьего лета. И денек устоялся на диво приветливый: теплынь прямо-таки, будто в Петровки, ни ветерка в поле, ни облачка в небе. И тенета серебристой тканью наплывали на ребячьи лица, ласково щекотали, струились дальше, сверкая сказочными полосами на солнце.
Уставшие, пропотевшие ребята завистливо поглядывали на гладкое зеркало пруда, когда шли с работы. Но голод прогнал их в Макарову избу: еды с собой не брали, а солнышко давно покатилось под уклон. Уговорились после обеда на пруд прибежать.
Пошептавшись о чем-то, первыми выскочили из-за стола Федька с Яшкой Шлыковым. До страсти хотелось Федьке похвастаться своими бабками, потому юркнули они с Яшкой в сенцы, где под лавкой, накрытые вехоткой, хранились эти сокровища. Ребята выгребли их оттуда на середину пола и тут же сели, загородив проход. У Яшки глаза поблескивать начали при виде этакого богатства. Он отгребал мелкие бабки, щупал крупные, коротко взвешивая их на ладони, отыскивал панки, залитые оловом.
— Федька, Федьк, ты мне вот этот отдай, а? Я тебе за его десять бабок дам, если хошь!
— Ишь ты какой! Самого хорошего выбрал. Я им в пулялки завсегда выигрываю… — Федька взглянул на недовольного Яшку и великодушно добавил: — Да уж ладно, бери, коли так он тебе поглянулся. А мне тятя, може, еще зальет…
— Н-ну, расселись тута! — заворчал Степка, выходя из избы. — Мы ж сговорились купаться итить, а теперь не дождаться, пока этот Яшка соберется.
— Да чего ж мне сбираться-то?! — возмутился Яшка, вскакивая с пола и поспешно толкая в карман выменянный пано́к. — Вся одежда на коже, а еда в себе. Завсегда я собратый — пошли!
Это верно, что все они «завсегда собратые»: холщовые штаны о двух пуговицах да рубаха — тоже холщовая и тоже с двумя пуговицами — вот и вся одежа. Данины, правда, не носили самотканого, но покрой тот же и заплат не меньше.
Выйдя на крыльцо первым и увидев Макара под навесом, Степка притормозил. Ребята тоже остановились, наблюдая, как Макар, скрючившись, что-то делает с Лыской, а тот, лежа на спине, тоскливо поскуливает.
Тут растворилась калитка, и во двор вошла бабка Пигаска. Видать, к Дарье надо ей было по какому-то бабьему делу, потому направилась прямо к крыльцу, а Макар ее окликнул:
— Слышь, баушка, погоди-ка!
— Чего тебе? — остановилась у крыльца Пигаска, ухватившись высушенной рукой за ветхие перильца.
— Ты Лыске вот ногу не поправишь ли? — попросил Макар. — За зайцем давеча вдарилси, да вот либо́ сломал, либо́ вывихнул ногу-то…
— Окстись, оборотень! — стрельнула в его сторону колючим взглядом Пигаска, пошевелив кусочками бровей. — Я ведь людям только правлю-то. И заговариваю — тоже людям. А наговоры те от бога. Как ж я с кобелем твоим связываться стану?
— А ты не серчай, баушка, не серчай. Подумай сперва: кобель-то, ведь он тоже — божья тварь. Вот и пособи ему, а я тебе табачку нюхательного дам за это.
— Да что ты! — встрепенулась Пигаска, отцепившись от перил и проворно шагнув к Макару. — Весь козырек, что ль, отдашь?
— Отдам! Ей-богу, отдам, родимая, только полечи!
— Ну, тогда давай, что ль, попробоваем…
Ребятишки сунулись было следом за бабкой — поглядеть, как она лечить собаку станет, — но Пигаска беспощадно протурила их со двора. Кому по загривку, кому по затылку досталось: костлявый бабкин кулачок, будто дятел клювом, надолбил.
Оглядываясь на калитку, ребята повернули за угол забора, на плотину.
— Колдунья она, эта самая бабка, — убежденно заявил Яшка Шлыков, поглаживая больное от Пигаскиного удара место на загривке и становясь в ряд с Ванькой и Степкой. — А може, и оборотка, ведьма настоящая… Ты, Степка, помнишь, как Васька ваш из солдатов пришел и мертвяка с собой привез?
— Чего ж не помнить-то, да не видал я того мертвяка, — словно бы сожалея, ответил Степка, — увез его утром Василий в Бродовскую и там сдал не то атаману, не то следователю.
— А я видал! — подал голос Федька, забегая вперед.
— А тятька наш не знал, что мертвяка привезли, да зачем-то ночей пошел к дядь Макару во двор… Едва ноги унес он оттудова, и во-от эдакую шишку приволок на лбу. А во дворе-то, заметьте, никого не было, окромя того мертвяка да Лыски…
— И кто ж ему ту шишку пожаловал, — насмешливо спросил Ванька Данин, — коли, сам же говоришь, никого не было?
— А вот эта самая бабка, — пояснил Яшка. — Небось, и у тебя до сей поры чешется то место, по какому она своими костлявыми тукнула?
— Чешется, — сознался Ванька.
— Мы-то все ее видели, а отец твой видел?
— То-то вот и оно, — таинственно сообщил Яшка, прищурив желтый глаз, — видеть не видел, а голос ее слышал. Это как?
— Небось, у своей избы чихнула Пигаска, — засмеялся Ванька Данин, — а тятька твой с перепугу в штаны…
— Да будет вам несвойское-то молоть! — сердито перебил Степка и, собираясь побежать, добавил: — Пошли скорей!
— А от чего ж у его шишка-то эдакая на лбу соскочила?! — упорствовал Яшка, стараясь защитить отца. Но ребята побежали, ему никто не ответил, и он вырвался вперед, закричав: — Пошли вон к Кестеровым тополям — лучшее место тама!
Лучшего места на всем пруду не найти — о том все знают. Крупный песок на берегу, и в воду спуск пологий, и дно крепкое. И порыбачить бреднем кто соберется — тоже здесь.
Без передышки, наперегонки ребята миновали кузню Тихона Рослова, обогнули пруд и, когда повернули по косогору к берегу, не убавляя бега, начали раздеваться. Рубашонки соскакивали с них, как живые.
А Ванька Данин, подпрыгивая впереди, вознамерился и от штанов освободиться без остановки — запутался в них, крючком согнулся, пытаясь рукой столкнуть будто прилипшую штанину, и, ткнувшись в рыхлый песок, перевернулся через голову — слетели заштатные штаны!
Водичка-то прохладной оказалась. Не то чтобы совсем холодная, но и не такая, чтоб нежиться в ней долго. Первым на берег выбрался Федька Рослов — посинел, оширшевел, как ежик, — и стал одеваться. После него Степка выскочил. Попрыгал на одной ноге, зажал ухо рукою — это чтобы вода вылилась, — и натянул штаны.
— Солить! Солить! Солить его! — завопил Ванька Данин. А Яшка тут как тут. Его хлебом не корми, только поозорничать дай.
И полетели в Степку горсти мокрого песка — всю грудь и всю спину заляпали.
— Ну, чего ж вы творите-то, разбойники! — взбеленился Степка и, присев на корточки, начал загребать песок обеими руками и быстро-быстро швырять его в ребят.
После такой потасовки любой поросенок мог позавидовать им, потому снова пришлось возвращаться в холодную воду. Песок и в волосы набился, и на зубах скрипел. Одевались все разом по Ванькиным правилам: сперва натянули рубахи, а после того — штаны. Подчинившись большинству, в душе Степка не мог смириться с насилием.
— А все ж таки не стану я приучивать себя эдак вот одеваться, — возразил он. — Василий вон наш в солдатах служил, а завсегда сперва штаны надевает. И дядь Макар тоже. Все, кто в солдатах служил, так делают.
— Эт отчего же так-то? — спросил Ванька Данин, на ходу застегивая последнюю пуговицу на штанах и поспевая за ребятами по подъему.
— А враз да по-скорому удирать придется, — сердито пояснил Степка. — Рубаху-то и на ходу надеть можно, а штаны ты вон снять попробовал и то башкой в песок угодил.
— Ох, и дурак ты, Степка! — засмеялся Яшка Шлыков. — Какой же из тебя солдат выйдет, коли ты не дорос, а уж соображаешь, как удирать легче? Без штанов-то куда ловчее выйдет, рассуди-ка сам.
Спорили ребята долго, не подозревая, что пройдет не так уж много времени и они на деле узнают, как лучше одеваться солдату.
А пока война гремит где-то далеко-далеко. Письма оттуда идут по целому месяцу, а то и более. Бабы слушают их всегда со слезами и неустанно благодарят бога за то, что хранит родную кровинушку. Мужики загадочно покрякивают, затылки чешут. Молчат. Не хотят порушить шаткого бабьего утешения. Ведь пока тащилось письмо до родной избы, солдата на войне и покалечить могут, и в плен взять, и похоронить. И опять сжимаются сердца в тоскливом ожидании следующего письма.
А сколь силушки надо, терпенья адского, чтобы весточки дождаться! Почты в хуторе нет. В Бродовской почта, в станице. И привозит ее оттуда поселковый атаман один раз в месяц, когда срок подойдет солдаткам пособие выдавать на детишек.
Кестер Иван Федорович почаще в станице бывает, но берет лишь свою почту — с хуторской не связывается. Ему и газеты приходят, и даже журнал — «Нива» называется. И письма с фронта Иван Федорович получает регулярно, а что в них Александр, сын его старший, пишет — никому то неведомо. Только похвастался как-то перед мужиками, что сын его, ушедший на войну прапорщиком, произведен в подпоручики и скоро поручиком станет.
Бабы хуторские да и мужики поселкового атамана ждут с трепетом, с затаенным дыханием: и радость может он привезти, и горе великое. Кое-кому привозил уже. Насупится этак, взглядом в землю вперится и подаст неподъемно тяжелую весточку. По хутору в тот день бабий вой разливается. Голосят и свои, и чужие. Мужики чернее ночи бывают, слова лишнего от них не дождешься.
Это уж потом, как схлынет первое ошеломление, через неделю порою, начнутся толки, пересуды, прикидки, потому как любого такая бумажка посетить может.
3
Осенью пятнадцатого года Колька Кестер поступил в восьмой последний, класс Троицкой мужской гимназии. В хуторе все знали, что учится Колька плохо. Может быть, по тупости природной, а может, лень его одолела. Знали это потому, что Иван Федорович не скрывал своей нелюбви к младшему сыну, наказывал его постоянно, а случалось, ругал принародно. В действительности Колька учился не хуже других, а даже лучше многих одноклассников. Только вот с дисциплиной никак не клеилось. Если бы он к тому же еще и учился плохо — давно бы вытурили его из гимназии. И не однажды грозились исключить, но всякий раз гроза постепенно утихала, и опять приходили веселые деньки.
От души потешались над нелюбимыми учителями гимназисты, а урок закона божьего был, пожалуй, самым веселым. Вел его отец Досифей, маленький попик — с лица тощий, кончик тонкого розового носика вперед подался, бровей почти нет, веки вокруг серых зрачков постоянно красные. Лысину на макушке тщательно зачесывал, но она предательски проглядывала сквозь жиденькие волосы, заплетенные сзади в две жалкие косички.
Но было у отца Досифея небольшое брюшко — этакий рахитный пузырек, — оно и придавало попику степенность и важность, оттого любил он постоянно поглаживать свой животик.
На час закона божьего Досифей являлся в белой ризе. На молитву поп становился впереди класса и не имел права обернуться или даже оглянуться на молящихся послушников до конца молитвы. Этим-то и пользовались гимназисты. В спину попа летели огрызки соленых огурцов, моркови, яблок, грецкие орехи, смятые бумажки, предварительно смоченные чернилами, так что Досифеева риза сзади уже не отстирывалась и не отпаривалась. Зато спереди сверкала она безукоризненной чистотой. Это и не давало покоя гимназистам.
В хмурый октябрьский денек все-таки посетила кого-то светлая мысль. Перед часом закона божьего добыли ребята из печной трубы жирной сажи и густо смазали ею дверные ручки.
А Колька Кестер, ничего не зная о заговоре, как только наступила перемена, раздетый выскочил на улицу — снег на дворе-то был, — свернул за угол гимназии и чуть не до Монастырской улицы сбегал, чтобы нарвать репейных головок. Это задумано было раньше и входило у него в подготовку к часу закона божьего.
Репейные головки цепко лепятся почти на любую одежду, потому занятно насадить их на Досифееву ризу во время молитвы.
Только влетел он в коридор — звонок. Хорошо, что у двери стояли ребята — смазанную ручку охраняли. Так все равно Колька с разбегу ткнулся в нее рукой.
Пока стояли на молитве, Колька успел штук пять репейных головок запустить в Досифееву спину, и руку свою бумагой почти добела оттер. А после того урок длился не более пяти минут.
Едва повернувшись к классу, отец Досифей, начал размеренно поглаживать свое брюшко, оставляя на белой ризе черные продолговатые пятна сажи. Сперва послышались еле уловимые всхлипы, будто сдерживаемые рыдания. Потом прысканья стали повторяться все чаще и громче.
Отец Досифей насторожился. Ребята зажимали рты, клонили головы к партам, давились глухим смехом. Ничего не понимая, Досифей побегал растерянным взглядом по гимназистам, оглядел окна, стены класса, даже повернулся кругом несколько раз, как муха после отравы. И, взглянув на свой живот, остолбенел.
— Ах, ироды вы проклятые! — простонал попик и, словно отмахиваясь от нечистой силы, боком стал продвигаться к двери.
Как только исчез отец Досифей, класс грохнул раскрепощенным смехом. Но Колька, не однажды наказанный и не раз предупрежденный за прежние грехи, раньше всех почуял неладное.
— Чего вы ржете-то, жеребцы? — заорал он. — Сейчас же Афоня придет! — И, вскочив, вырвал из тетрадки два листа, прихватил у соседа промокашку и бросился, к двери — протирать ручку.
Ах Колька, Колька, бесталанная твоя голова! Посидеть бы тебе, прижавшись, на месте да помолчать. Авось и на этот раз пронесло бы. Так ведь нет — сунулся чужие грехи прятать. А классный наставник, Афанасий Касьянович, заметил его у двери в коридоре. Но вначале вида не подал.
Пригладив рыжие волосенки, гладко зачесанные набок, Афоня сцепил короткие, будто вывернутые руки, потянул их вперед, словно стараясь удлинить, и совсем не громко спросил:
— Н-ну-с, так кто же сегодня именинник? — Помолчал, скользя взглядом по классу. Тишина воцарилась нерушимая. — Сами скажете или дознание потребуется?
— А у нас именинников нету сегодня, — брякнул из тишины Колька и тут же покаялся.
За глаза потешались гимназисты над классным наставником по-всякому. Даже вслед ему напевали тихонько: «Афоня рыжий, злой, бесстыжий». И ведь доносились порою до его развесистых ушей такие напевчики, но делал вид, что не слышал. Самое же страшное было назвать его белой мышью. Тут уж пощады не жди.
— Стало быть, именинников нет! — побагровев, взвизгнул Афоня. — Я что, неясно спрашиваю? Кто измазал дверную ручку сажей?
Снова унылая, пришибленная тишина в классе.
— Пакостить всегда есть смелые, а признаться — нет таковых.
Опять каменная тишина. Глаза прячутся, дыхание замирает.
— Встать всем коленями на парты! — И пошел по рядам, проверяя, как выполнено его приказание. — Да не так! Не сюда! Вот в эти выемки коленками становитесь! Ручки, карандаши убрать из них, а колени поставить.
Все безропотно повиновались наставнику, и снова тишина придавила класс. Только слышались слегка шаркающие шаги Афони да его бессильное брюзжание:
— Неужели вам лучше стоять на коленях, чем назвать одного подлеца? Где же ваш разум? Где ваша честь?
Он постоял с минуту возле задних рядов и вдруг, словно его резали, закричал:
— Ру-уки! Руки вытянуть всем вперед! Ладони кверху!
Он прошел по ряду, придирчиво заглядывая на ладони каждого. Почти бегом завернул во второй ряд. И тут у третьей парты злорадно пропищал:
— Вот он, голубчи-ик!
Будто клешнями вцепился в Колькину руку и поволок его в угол.
— Становись коленями на горох и расскажи всем, как ты это делал!
— Да ничего я не делал! — обозлился Колька.
— Как? А кто же тебе вымазал руки сажей?
Колька молчал.
— Кто? — подскочил к нему Афоня и схватил железными пальцами за ухо, выворачивая его так и этак. Хрящики в ухе больно щелкали, а мочка вот-вот, казалось, оторвется напрочь.
— М-мы-ыш-шь! — злобно выдохнул Колька.
— Что? Что ты сказал? — приотпустил Колькино ухо Афоня.
— Мышь, говорю, от гороха вон побежала…
— Ах, вот что!
И посыпались звонкие «лещи» по Колькиным щекам — с потягом, с искрами. Ох, подняться бы Кольке на ноги да взяться по-хорошему за этого наставника, — дети родные не узнали бы его после этого. Так ведь за такое и посадить в кутузку могут, не то еще и судить станут.
— Мышь, мышь! — негромко твердил Колька.
Озверел Афоня, а руки, видать, отшиб. Отскочил, огляделся, схватил двухаршинную классную линейку. В это время звонок известил об окончании урока. И, словно бы торопясь отомстить, Афоня со всего плеча лупил воспитанника линейкой.
— Мышь! — заорал во весь голос Колька. — Мышь ты белая! За что бьешь?! Не мазал я ручек сажей! Не мазал. Хоть у кого спроси, не мазал!!!
Линейка переломилась. Афоня, как помешанный, продолжал долбить парня обломком и по голове, и по плечам, и по рукам.
— Мышь ты белая! Хоть убей — не мазал! Убьешь — и тебя в каторгу сошлют! — орал Колька, а в дверь уже заглядывали гимназисты из других классов. Для них была перемена.
Усталость ли, или этот отчаянный крик истязаемого остепенили Афоню. Опустошенным, каким-то потусторонним взглядом прошелся он по гимназистам, все так же стоявшим на коленях, и глухо спросил:
— Так, что ж, виноватых, стало быть, нет?
Класс молчал.
Так закончился последний в жизни Кольки урок в гимназии.
4
Пусто в хуторе стало и холодно. И в степи тоже — пусто и холодно, потому как свезли с нее все, что породила земля. Снег, пока еще рыхлый, ровненько прикрыл осиротевшие нивы, на свой лад украсил перелески, словно одеялом прихлопнул звуки. А в хуторе пусто оттого, что все меньше и меньше остается мужиков в опустелых избах, все больше плодится вдов да сирот.
На прошлой неделе Мирона Рослова забрили. Правда, ему, кажется, повезло: в Троицке полицейским стражником пока оставили. А стражников помоложе, стало быть, — на фронт. Мирону-то уж через половину пятого десятка перевалило. Теперь главными работниками в хозяйстве у него Митька да Степка остались. Так ведь ежели война-то еще годок другой потянется, Митьку туда позовут непременно — Степке тогда за всех мужиков хозяйствовать. А о том, что и на Степкину долю винтовка с боевыми патронами найдется, пока никто и думать не мог. Ни за что б не поверили, если бы кто-то сказал такое.
«Чудны дела твои, господи! — загадочно хмыкнул Тихон, когда проводили Мирона. — Да как ж эт Макара-то поколь не трогают? Бог, что ль, его берегет».
Это всегда так бывает, коли не умеют люди объяснить жизни — на бога сваливают. А Макару было все едино — бог ли его хранил, или канцеляристы потеряли из виду. Но понимал, что в любую минуту позвать его могут, и котомка с сухарями постоянно была наготове.
Вечера скучные, ранние в эту пору. Сидел Макар при тусклой лампешке в избе — хомут Рыжкин чинил. Прошел короткую строчку, дратву пригладил, ручкой шила по строчке этой постукал. Потом отнес хомут под порог и, вернувшись, мягко подошел к жене, возившейся возле залавка. Нежно сзади положил ей на плечи свои тяжелые руки, ласково сказав:
— Дата, Даш… А не съездить ли мне завтра на охоту? Как ты скажешь?
Удивленная небывалой и столь необычной нежностью, Дарья не спеша поворотилась к мужу, вытирая передником руки.
— Не спеши, коза, все волки твои будут, — пошутила она. — А не лучше ли тебе, Макарушка, дома лишний денек посидеть? Вот-вот уволокут тебя от нас. А там, знать, лиха солдатушкам без меры перепадает. Чего же тут-то еще маяться станешь!
Сознавая, что счастье ее бабье отсчитывает распоследние деньки, боялась Дарья спугнуть его, и Макару ни в чем перечить не хотела.
— Дак ведь охота, она пуще неволи, сказывают, — гнул свое Макар. — А мне, може, это и достанется только…
— Да уж поохотничай, коли тоска тебя одолела, — сжалилась Дарья.
— Ну вот и ладноть, — повеселел Макар, схлопотав этакое позволение. — В таком разе к Тихону добежать мне надоть: ружье в ентот раз у его я оставил и дубинка там же.
Он благодарно глянул Дарье в повлажневшие глаза и круто направился вокруг печи к порогу, на ходу сдернув с гвоздя шубенку и шапку.
— Ох, кабы ведать да знать — не ходить бы в рать, — присказкой аукнулся Макар и хлопнул дверью.
К Тихону добежать хотелось ему не только из-за ружья. Там каждый вечер возле инженера Зурабова и Геннадия Буркова густо табунились мужики. Завсегдатаем бывал и Кестер Иван Федорович. Начитанные все, а понимают одно и то же, видать, по-разному, оттого спорят порою до хрипоты, и послушать их интересно. Не раз Макар засиживался там до вторых петухов, а Дарья такие посиделки не одобряла. И сейчас догадывалась, что поход мужа затянется за полночь.
Шахта так и заглохла, не успев по-настоящему развернуться: рабочие, как вешний снег, исчезли — из-за войны, кредиты закрыли — из-за войны, потому и шахта как бы сама собою закрылась. Инженер и техник оставались в хуторе для того только, чтобы снять все оборудование и переправить его в Джетыгару. Им приходилось нанимать случайных рабочих, а то и пользоваться услугами оставшихся хуторских мужиков. Котел опять же недавно с помощью лагуновских троек увезли по первому снегу. Сбылось и в этом недоброе заклинание бабки Пигаски.
Войдя во двор к Тихону, Макар глянул в затуманенное кутное окно — накурено там. Потоптался на месте, словно припоминая что, и, поняв, что скоро отсюда не выбраться, подался в угол двора под сарай. Снегу во дворе почти не было, потому не скрипел он под ногами.
Остановился Макар, и вдруг ухо его изловило какие-то слова, произносимые вполголоса. Прислушался:
— …Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня, молоду, женишком… — какое-то бормотание, и опять: — Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня, молоду, женишком!
«Ах, растрафить тебя, невесту эдакую! — ахнул мысленно Макар. — Ксюха ведь это, кажись!»
Будто кот к воробью, двинулся он на этот голос и в густой темноте возле самого плетня едва разглядел расплывчатую тень. Ксюшка стояла к нему спиной. Схватил ее Макар — взвизгнула девка с перепугу. Словно косач на току, бубнила она свои заклинания и совсем не слышала, как подступился Макар.
А он охватил ее руками сзади, придавил к плетню, хихикая:
— А я тебе скажу другую побаску. По нонешним временам тоже не бесполезную.
— Какую?
— А вот: батюшка Покров, натопи нашу избу без дров.
— Да мы ж и так всю жизню без дров обходимся — кизяком топим, — хихикая, возразила Ксюшка. — Отпусти-ка меня. Ишь ведь, как медведь, облапил!
Макар ослабил руки. Ксюшка выскользнула из них, но не убежала. Одернув на себе короткую поддевку, ласково попросила:
— Ты бы не сказывал никому про это, Макар, а?
— Так и быть, не скажу, — посулил он. — Дарье своей и то не скажу. А ты за это хоть бы призналась, в кого метишь-то.
— Ишь, сколь хитер ты, Макарушка! — Повела плечом Ксюшка и шустро стрельнула мимо него в дверцу. Уже с дедовой половины двора добавила: — Н-нет! Окромя меня, знать про то всем заказано. — И затопала в сени.
— Вот дак тебе и Ксюха! Все вроде бы девчушкой была, — вслух рассуждал Макар, оставшись один. — Всех ребят на войну побрали, а у ей свое на уме. Жизня-то все равно идет, и никакой войной не остановишь ее.
В избе сидели одни мужики. Настасья с ребятишками к деду ушла. Долго боролась она против этих вечерних собраний, но так ничего и не могла поделать. Сидеть же тут с мужиками, слушать их споры да табачищем дышать — Настасья не могла. Потому забирала она с собой ребятишек, прялку прихватывала и уходила к Марфе, сношенице своей, вечеровать. Даже за стенкой слышно, как гудит изба от жарких споров.
— Допустим, в Думе уже нет разногласий, — громко говорил Геннадий Бурков, обращаясь к Кестеру, когда Макар вошел в избу. — Но ведь Дума — это не русский народ, не российский народ, а лишь правящая верхушка.
— Нет, — возразил Кестер, и щетка усов подскочила кверху, словно готовясь обороняться. — Не верхушка, а лучшие люди нашего государства. За ними народ стоит, и они знают, что надо народу.
Спор начался, видимо, уже давно, и никто даже головы не повернул к Макару. А он, углядев местечко на лавке возле печи, тут и присел рядом с Тихоном, стараясь не мешать разговору.
— Нет, Геннадий, — спокойно заговорил Зурабов, — Дума — не правящая верхушка (никем она не правит), а царская служанка она. И делает она то, что царю надо, а не народу. Да и разногласий там никаких, наверно, не было.
— Так я же про это и хотел сказать, Яков Ефремович. Все это и есть дворянская, вокругцарская верхушка, ничего не знающая и не желающая знать о своем народе…
— Врешь! — прервал его Кестер. В Думе не дураки сидят, чтобы с царем ссориться. А о своем народе царь знает больше, чем вам кажется. Если бы он не знал про таких, как вы, тюрьмы были бы пустыми. А в них тесно!
На какой-то момент в избе стало вдруг тихо-тихо. На лице у Зурабова даже сквозь смуглую кожу выплеснулась заметная бледность. Недобро сверкнув злыми глазами, он глухо кашлянул и зачем-то сунул правую руку в карман.
Геннадий приметил и понял этот жест, зная о том, что с начала войны Зурабов приобрел браунинг и не расставался с ним. Бурков заговорил напористо, снова обращаясь к Кестеру:
— А вы, Иван Федорович, знаете о том, что кадетский лидер Милюков неустанно трезвонит о необходимости сделать ближайшей задачей русской политики приобретение проливов и Константинополя?
— Что же, я должен отвечать за кадетские выдумки? — вопросом же ответил Иван Федорович.
— Э-э, нет, — обрадовался Геннадий, видя, что «щука» сама идет к нему в ловушку. — А вы слышали, читали где-нибудь, чтобы Дума не согласилась с Милюковым, чтобы царь сказал, что ему не нужны Дарданеллы и Константинополь?
— Не слышал, — признался Кестер и завозился на лавке, будто под него насыпали гороху. Он шумно затянулся из угасающей трубки и, видя свой провал, попытался выбраться из него: — Это хорошо, что правительство и Дума помогают царю, а не ссорятся с ним. Трон, значит, не шатается, крепко стоит.
Зурабов молчал, но видно было, что в молчании этом не укрощается гнев, а вроде бы скапливается, давит на запоры и вот-вот сорвет их. Ему противно было видеть наглую изворотливость Кестера, но еще больше бесила недосказанная угроза, намек на тюрьму. Зурабов, Бурков да и некоторые мужики давно, хотя и смутно, подозревали в этом человеке доносчика. Сегодня же он почти признался в этом.
— Ну, хорошо, — продолжал Геннадий с едва заметной улыбкой. — Очень хорошо. А вы лично, Иван Федорович, причисляете себя к царской верхушке или к простому народу?
— Я не люблю таких шуток, — обиделся Кестер. — Кто же я есть, если не народ!
— Прекрасно! — подхватил Геннадий. — Стало быть, царь, Милюков, Родзянко, Горемыкин и иже с ними правы, когда говорят, что интересы правительства и интересы народа в этой войне вполне совпадают?
— А как же иначе? Если каждый пойдет в свою сторону, то кто защитит государство от врагов? И что же будет делать правительство без народа, без нас?
— Хорошо. Раз ваши интересы вполне совпадают с милюковскими, то скажите, объясните нам, для чего лично вам нужны — Дарданеллы и Константинополь?..
Кестер сердито засопел, неловко скрючившись за столом, и начал набивать свою трубку табаком. А Рослов Макар вклинился тут.
— Господа хорошие, — обратился он вроде бы ко всем, но глядя на Буркова, — припоздал я чуток, оттого, видать, и не разберу никак, что это за такие Драданеллы и кто такой Константинополь. Растолкуйте, Христа ради, темному человеку.
— Охотно, — согласился Геннадий. — Дарданеллы — это пролив между Европой и Малой Азией…
— Это, что ж, и большая Азия, стал быть, есть? — не откладывая, спросил Макар.
— Есть. Между прочим, на ее территории мы и живем. А Константинополь — главный город Турции, большой порт, тоже в тех краях находится.
— И далеко они отсель?
— Да отсюда-то порядочно, тысячонки три верст наберется, либо поболее. И то ежели напрямик ехать… У вас там, случайно, нет ли каких-нибудь деловых интересов?
— Чегой-то не припомню, — пыхнул цигаркой Макар, — кажись, нету. Вот как в солдаты возьмут, може, чего и появится. Для ентих самых Драданеллов, небось, и берегут меня. Чтоб я на штыке преподнес их царю батюшке и всей его компании. А мне в награду крест посля березовый потолще вытешут.
— Да, да. Вы хоть и опоздали к разговору, но, кажется, уже кое-что поняли. Ну, а вам, Иван Федорович, для какой же все-таки надобности края те дальние, турецкие?
Кестер жадно курил, не находя, видимо, нужных слов. Ответил вместо него Зурабов:
— Он и в Турцию не откажется поехать, и даже магометанскую веру примет, ежели там кусок земли дадут. Воюет же его сын против родных соотечественников на германском фронте!
— А казаки тама, в Турции, есть? — пошутил было Макар.
Но тут Кестер грохнул кулаком по столу — искры из трубки посыпались, огонь в лампе испуганно дрогнул. И, глядя на Зурабова остекленелыми глазами, понес, как ошалевший конь по ухабам:
— Да, да! Мой сын воюет. Он имеет царскую награду, его произвели в офицеры! А ты, черная обезьяна, глубокие тут ямы копаешь, чтобы от фронта спрятаться!
Зурабов, как ужаленный, вскочил на другом конце стола. Никто не заметил, когда в руке у него появился браунинг. Кестер тоже поднялся на ноги, отступил вправо от стола и, сунув волосатую жилистую руку за пазуху, выдернул оттуда точно такой же браунинг. Тихон бросился к Зурабову, а Макар с Геннадием — к Кестеру.
— Яков Ефремыч, Яков Ефремыч! — твердил Тихон, отталкивая руку с пистолетом. — Чего ты с ним связался!
Макар ломанул Кестеру руку, на вывих — пистолет выпал из нее, а Геннадий отшвырнул его ногой под порог.
— Э, господа хорошие, — усмехнулся Макар. — Чего ж вы тута, на хуторе, войну-то затеяли? Ехайте со мной, глядишь, вместе и завоюем енти самые Драданеллы.
— Да, да, — бормотал Геннадий, — правильно где-то сказано, что война есть продолжение политики путем насилия. До чего же наглядный пример подали!
— Ну, вот чего, — объявил Тихон, — повоевали и будет. По местам все. Спать! А на другой раз перед началом такой беседы игрушки эти я у вас отберу и спрячу. Гляди-ка ты, Аники-воины!
Ругаясь матерно, Кестер пошел к порогу, поднял там свой пистолет и хлопнул дверью.
Оставшиеся переглянулись молча. А Зурабов, гася злую улыбку и пряча браунинг в карман, сердито спросил:
— Неужели вы не видите, что этот промозглый монархист не только за тем сюда ходит, чтоб царскую правду нам доказывать?
— Ну, мало ли кто за чем ходит, — возразил Макар, совершенно не задумываясь над словами Зурабова. — Я вот за своим ружьем к Тихону пришел, да засиделся тута.
— Не балабонь, Макар, — осадил его брат, легонько покашливая в кулак. — Дело говорит Яков Ефремович. Давно я к ему приглядываюсь — не с добром ходит он сюда. Уж сколь разков то на Прийске встрену его, то в Кочкаре. И все налегке в своей линейке катается, без всякой поклажи. К Федосову, знать-то, он ездит, к жандармскому унтеру.
— Именно это я и хотел сказать, — подтвердил Зурабов. — Только ты, Тихон Михалыч, не бойся. Если бы раньше, до войны, то, может быть, нас бы и пощипали, а теперь…
— Могу сообщить новость, — перебил его Геннадий, — этого самого Федосова на прошлой неделе туда же отправили — на фронт. Вчера в конторе у Баласа слышал.
— Дак ведь на его место, небось, другой сыщется, — вставил Макар. — А нас все равно дальше фронта не пошлют. Вы через недельку-другую вместе с последними железками в Джетыгару подадитесь, я — в солдаты, и останется тут один Тихон — за всех отвечать, — засмеялся Макар.
— Да так, пожалуй, оно и выйдет, — согласился Зурабов. — Только с Тихона Михалыча никакого навару им не будет. Да и Кестер перестанет к нему ходить.
Распрощались и разошлись мужики, а у Тихона беспокойство долго еще не проходило после этого вечера. Ведь одно дело — лишь собственные подозрения, и совсем другое, когда подтвердились они всеми. Ведь, кроме Макара, все, выходит, понимали, для чего тут Кестер чуть ли не каждый вечер околачивается. Вспомнилось Тихону, что и Виктор Иванович давненько тут не показывался, и Прошечка не заходит на огонек, и Чулок совсем перестал к ним заглядывать. Только вот кум Гаврюха бывает реденько, да еще Филипп Мослов, Матвей Дуранов изредка забегают. Но в споры они не ввязываются, только газетные вести с фронтов узнают. Леонтий Шлыков — тот все Гришкины письма читать приходит. Тоже, давно уже не был. Вместе Гришка с Василием где-то горе мыкают. И от Василия тоже давно никаких вестей нет.
Мог бы Тихон спокойно спать и не бояться лукавого Кестера, если бы знал, что жандармские конторы, буквально завалены всякими нежелательными донесениями, а меры не успевают они принимать даже к тем, кому в предвоенное время в двадцать четыре часа кандалы бы изладили.
К тому же и на фронте события творятся невиданные. До братания с противником дело доходит! Но в газетах и журналах про то не пишут. Сплошное геройство там разрисовано. Тихон видел у Зурабова в журнале «Нива» белые пятна, как заплатки, на страницах и спросил, почему так плохо пропечатано. А это, говорит, цензура такие куски выкидывает, чтоб не все народу известно было.
А слухи-то все равно доходят. Говорил о братании Зурабов, только без Кестера. И Василий в последнем письме написал, что ходили они «в гости к немцам». Как это понимать? Может, в разведку ходили, а может, и на самом деле брататься. Только письма Тихон давно перестал читать при Кестере и Леонтию шепнул, чтобы при нем «не таращился» с Гришкиными посланиями.
Теперь Леонтий к Тихону в кузню по этим делам приходит, вместе с Манюшкой. Заодно узнают и о том, что Василий пишет, коли вместе они находятся. И кажется порою Леонтию Шлыкову, что сын его непутевым сделался, погряз в каких-то тайностях. Видать, недоброе против самого царя замышляет. Одно утешение в том находит Леонтий, что Василий Рослов рядом с Гришкой, а он — солдат бывалый и ничего худого не допустит.
5
В Боровое Прошечка ездил зачем-то. До вечера едва с делами управился, и заночевать пришлось там. Но просыпается он со вторыми петухами, потому день у него начинается раньше всех. Выехал из Борового затемно и к станице Бродовской подкатил еще светать не начинало.
Савраска его в корню шел крупной, убористой рысью, а гнедая пристяжка подхватывала иногда наметом, взрывая неглубокий снег возле неторной, еще ненаезженной дороги. Колки по бокам стояли праздничные, убранные богатым серебром куржака и, сказочно кудрявые, белели на фоне черного звездного неба. Вспотевшие кони тоже густо куржаком покрылись и мастью теперь похожими стали. Морозец перед утром заметно покрепчал, но движений не сковывал, не давил, как зимой, а лишь придавал бодрости.
Тишина ли эта нерушимая, простор необъятный или дорожное одиночество и ровный бег коней размягчили жестокое Прошечкино сердце. Вроде бы против воли и вопреки рассудку, непременно захотелось ему к свату заехать, к Палкину Захару Ивановичу.
Полтора года Прошечка не бывал у свата и не раз говорил со злобой, что до самой смерти ноги его не будет в палкинском доме. А дочь свою, Катьку, проклял после того, как потерялась она, и не велел произносить ее имени.
Сколько с тех пор пролила слез Полина, жена Прошечкина, того никто не знает. Да и сама она не считала. Но при муже держалась и виду не показывала. А разве такое спрячешь? Не прошло и полгода, как пышные волосы ее, словно пеплом посыпали, а теперь и вовсе белыми-белыми сделались — вот как этот самый куржак на березах. Только не блестят так празднично.
С этого, кажется, и началось нынче у Прошечки. Где-то еще на половине пути, даже раньше, когда кончился сосновый лес, потом и смешанный миновался, дорога побежала полями, все более раздольными и неоглядными. Реже стали встречаться и березовые колки. Глянул нечаянно Прошечка влево и обомлел:
— Господи, красота-то какая! Да эт ведь Польки моей голова торчит! — изумленно ахнул Прошечка. — Гляди ты, молодая совсем, а волосы как раз теперешние. И коса на затылке шишкой завернута. Диво!
Он даже ясно увидел глаза, нос, губы молодой Полины и едва не вывернул себе шею, впившись взглядом и следя за этим кустом, неумолимо уплывающим назад. Это хрустальное чудо, резко очерченное на фоне черного неба, не изменилось и не потеряло формы даже тогда, когда Прошечка миновал его и шишка на затылке спряталась. Так и врезалось в память диво это дивное, а мысли далеко в прошлое отскочили, в юность. И как же удивительно похожа Катю-ха на молодую свою мать!
— Точка в точку, как мать в дочку, — вслух рассуждал Прошечка. Любил он так вот наедине поговорить с собою. — И где ж ты есть, Катюха, дочь моя непутевая? Али была под венцом — и дело с концом? Жива ли ты, либо уж на тот свет давно переселилась?.. Стоп! — оборвал он себя и вожжи натянул, придержав коней. — Да ведь не Польку я, знать, видел-то, сама Катюха мне и приблазнилась! Она! Она! А волосы, может, и у ей теперя как раз белыми сделались, коли жива. Сколь бед-то, небось, перенесла, беспутная!
Обуреваемый совершенно доселе не ведомыми ему чувствами, он трепетал от столь же непонятного восторга и совсем не догадывался, что пришло это от пробудившейся вдруг доброты, давно и безжалостно загнанной им же самим в самые дальние и глухие уголки души.
В таком вот не обычном для него состоянии подкатил Прошечка в своей кошеве к палкинским воротам. Постучал волжаниковым кнутовищем в калитку, щеколдой загремел. Во дворе залаяли собаки.
Светать еще не начинало, но в прихожей избе скупой огонек теплился, а во дворе с фонарями ходили. Уборка это утренняя. К воротам шаги проскрипели.
— Кто тама? — спросил голос Захара Ивановича.
— Отвори, сват, перемолвиться надоть, — попросил до того нежно и непривычно Прошечка, что хозяин, не сразу признал его.
— Да кто это?.. А-а, сват Прокопий! — засуетился Захар Иванович, оттолкнув засов и растворяя калитку. — Проходи, Прокопий Силыч, проходи!
— Нет, слышь, сват, недосуг мне. Из Борового еду, попутно вот завернул на минутку. Ты выдь сюда, тута и потолкуем.
Захар шагнул через подворотенку, протянул руку.
— Здорово, Прокопий Силыч! Давненько ты к этим воротам не подворачивал.
— Здравствуй, сват, — как-то покаянно ответствовал Прошечка. Никогда Захар не видел его таким… — Дела всякие по гостям кататься не пущают. Как живешь-то?
— Да как теперь все живут? С бабами вот да с Кузькой остался, и воюю тута. Лавруха с первым эшелоном ушел, а Федотка с действительной не успел воротиться… Да теперь, кажись, и не воротится, — смахнул скупую слезу рукавицей. — Самого тоже вот не сегодня-завтра покличут. Готовиться уж приказано было.
— А чего с Федотом-то? — участливо спросил Прошечка.
— Будто бы в лазарете он… от ран скончался, — с трудом выговорил Захар.
— Гляди ты, как дела поворачиваются. Лизка его, стал быть, вдовой так и осталась… А про Катьку-то ничего не слыхать?
Захар поглядел на Прошечку сверху вниз странным каким-то, непонимающим взглядом, вздохнул глубоко и после того вымолвил:
— Нет, не слыхать… Как в воду канула! Матвея вон Шаврина сноху так хоть мертвую из омута достали, а наша далеко, знать, закатилась — не слыхать.
— А може, камушек потяжельше привязала да и не всплыла?
— Что ты, сват! — живо возразил Захар. — Доводилось тебе слышать, чтоб утопленницы приданое с собой брали?.. То-то вот и есть. А ведь она одежу-то свою всю с собой захватила. Ничего не оставила.
— Да у вас-то глаза, что ль, завязаны были?
— А с умом, видать, собиралась. Так вот сумела, что ни одежи, ни следов не оставила.
— Гляди ты, какая ведь чуда сотворилась! — пощипывая бородку, словно бы простонал Прошечка. — Ну дак в розыск подавать, стал быть, надоть. Сыщется, небось.
— Э сват, какой там розыск теперь! Да и к атаману соваться лишний раз не хочу.
— Ишь ты как! И не хочет коза на базар, да за рога ведут. А все же сходил бы, Захар Иванович, а? Хоть и непутевая она баба, а все же как загубленная душа на вашей совести.
Захар лицом потемнел. Видно, хотел сказать что-то резкое, но раздумал. Переступил с ноги на ногу, через силу выдавил из себя:
— Будь по-твоему, сват! Вот со скотиной приберусь и дойду до атамана.
— Дойди, слышь, сват! — обрадовался Прошечка. — Ты дойди. А он, атаман-то, ежели откажет, так ведь и по лбу не вдарит. А я как-нибудь на днях заеду к тебе. Про все и узнаю.
Захар Иванович поспешно со всем соглашался, кивая головой, поддакивал, а сам уж без всякого стеснения готов был проводить свата поскорее да делами своими заняться. Заметив это, Прошечка шагнул к своей кошеве, не подав руки Захару, не повернувшись даже к нему, взялся за вожжи, потуже запахнул полы овчинного тулупа, сел в кошеву и, поворачивая коней на дорогу, из глубин высокого воротника крикнул:
— Ну, бывай здоров, сват!
— Бывай!.. — отозвался вдогонку Захар Иванович и вернулся во двор — дела доделывать.
Фонарь можно уже погасить. Рассвет все более заметно разгоняет потемки, неминуемо тлеют они, разбавляются пока еще редким светом грядущего дня. А как же над Катькиной тайной развеять непроглядную тьму?
Вопрос этот, давно увядший и затерявшийся за множеством дел, вдруг ожил и забился с великой силой. Ведь живой человек — не иголка, — все равно где-то сыскаться он должен. А лишний работник в доме, ох как пригодился бы теперь!
Захар Иванович все быстрей и быстрей работал вилами, задавая коням сено. Вспотел. Шапку по-молодому к затылку сдвинул, обнажил примятые влажные волосы. Парок от них завиваться стал. Бросив последний навильник сена, Захар выскочил из конюшни и, добежав до коровьего денника, через прясло крикнул:
— Лошадей напои, Кузьма, а мне к атаману добежать надоть!
6
В атаманской избе — пусто. Только сам Тимофей Васильевич за столом сидит да брат его, Иван Васильевич, на длинной лавке возле стены пристроился. В гулкой пустоте этой большой избы даже великаны Смирновы кажутся обыкновенного роста людьми. Но все в станице знают — и Захар Иванович тоже, — что у портных и сапожников специальные выкройки для них есть и только для них сапожные колодки имеются — «смирновскими» их называют. Больше-то никому не годятся они.
Не успел Захар порога переступить, а ему навстречу загудело:
— На ловца и зверь бежит! Посыльного только что гнать к тебе, Захар Иванович, собирался, а ты сам тут как тут!
— Здравия желаю, господа атаманы! — молвил вошедший, сдернул шапку и остановился посреди избы по стойке смирно.
— Ладно, Захар Иванович, садись. Настояться успеешь еще: в армии начальства много. А все ли у тебя готово к отправке?
— Все как есть готово, Тимофей Васильевич, — ответил Захар, присаживаясь на лавку недалеко от входа. — На смотру прошел я хорошо, без замечаниев.
— Ну, вот и славно! Казак Палкин всегда был исполнительным и аккуратным. Послезавтра — отправка. Большая пойдет партия. Вот Иван Васильевич и поведет вас.
— Да я, — замялся Палкин, — по другому делу-то зашел…
— Сказывай, что за дело такое.
— Сноха моя младшая, Катерина, в четырнадцатом годе потерялась…
— С тех пор и знаем о том, — перебил его Тимофей Васильевич. — Объявилась где, что ли?
— Нет, не объявилась, — вздохнул Захар. — А нельзя ли об ей розыск послать?
— Розыск, говоришь? — удивился атаман. — Да куда ж посылать-то, сказал бы ты мне?
Захар пожал плечами, не зная, что ответить.
— В том-то и дело, — продолжал Смирнов-старший. — А ежели всероссийский розыск затевать, так не то что кошельков наших с тобой не хватит, а и штанов на нас не останется. Да кто искать-то ее станет по теперешним временам? А раньше-то чего ж ты молчал? Все бы легче по горячему следу пойти.
— Да ведь она дня за два перед тем и сгинула, как германец войну-то объявил, — пояснил Захар. — Тут Лавруху отправили, с первым же эшелоном. А вскорости от Федота известие пришло, что ранетый он шибко… Потом и вовсе скончался в лазарете… До нее ли было!
— Вот и всем, Захар Иванович, не до нее теперь. Сам, небось, видишь, чего творится-то кругом. А сыщикам, так одних политических искать не переискать. Расплодилось их, прости господи, как вшей окопных.
Понял Захар Иванович, что не ко времени затеял этот разговор. А новость о его собственной отправке на фронт и вовсе перебила все карты. Ждал он, конечно, этого известия со дня на день и готовил себя к нему, но все-таки вышло как-то неожиданно, вроде бы обухом по лбу. Покашлял виновато и стал прощаться.
Вслед за ним и младший Смирнов поднялся. Тоже ведь важные сборы у него. До сих пор не раз отводил он казаков в город, а сам возвращался. Теперь же и ему дальше ехать — до самой передовой.
Но до двери не дошел Иван Васильевич. Глянул в окно на коновязь и отскочил к простенку.
— Чего ты, как сайга, скачешь? — удивился старший брат.
— А ты знаешь, кто там подкатил?
— Кто?
— Сам Кирилл Платонович пожаловал! Коня вон привязывает.
— О-о! Как встречать станем?
— Ты становись за тот косяк, подальше чуть, а я за этим, поближе встану. Авось, не сорвется щука!
Не раз и не два толковали братья об этом человеке. Страшную казнь устроил Кирилл Дуранов Ивану Васильевичу. Ведь били мужики кто кулаком, кто пинком, кто палкой, а кто и оглоблей — что в руках, то и в боках. Наверно, никто другой не выдержал бы таких побоев — насмерть били. А Иван Васильевич месяца четыре в больнице провалялся да дома, правда, с год недомогал, но вот поправился, и военная комиссия признала годным в строй.
Распахнув дверь и ничего не подозревая, Кирилл Платонович смело шагнул через порог, но, притворяя дверь, повернулся и увидел сперва Тимофея.
— Господину атаману наше почтение, — принагнулся в поклоне Дуранов, показывая белые зубы в улыбке. Между смолевыми усами и такой же бородкой зубы казались ослепительно белыми.
Атаман протянул ему руку, а в этот миг Кирилл оглянулся, словно почуяв неладное, и шустро сунулся было к дверной ручке, но на ней мертвой хваткой лежала железная рука Ивана Васильевича.
— О-о! И ты тута, Иван Василич!
Кирилл пытался изобразить лихую улыбку, но вышла такая кислая мина, и бледность в лице погасить он не мог. А братья Смирновы между тем сдвинулись, шагнули к лавке и посадили гостя между собою, в середочку.
— Я ведь по делу, господа казаки, — твердил пленник, озираясь на братьев. — Я ведь по делу прибыл-то.
— Ну, твои дела погодят малость, — спокойно сказал Иван Васильевич. — Как ты должок-то гасить думаешь? Все сроки прошли. А мне вот на фронт отправляться… Мешкать, стало быть, некогда.
Завертелись, забились в разбойной Кирилловой голове всякие мысли, но ничего умного не придумалось. Понял, что попал он тут основательно и никакая хитрость не поможет. Спросил коротко:
— Убивать станете?
— Нет! — ответили братья. Легко приподняли его, держа каждый со своей стороны за руку и за ногу, и резко посадили на пол «корчажкой».
— Смилуйтесь, люди, добрые! — завопил Кирилл Платонович уже без всякой хитрости. — Пощадите! Сын у мине!
Нет, не пощадили, не помиловали — второй раз посадили у самого порога, где половицы не пружинят, не прогибаются. Голос у Кирилла пропал. В глазах у него застыл ужас, но еще успел прошептать:
— Убейте… Христа ради!
А братья в третий раз подбросили «гостя», еще посадили и отошли от него.
— Ну, так вот: ловит волк, да ловят и волка, — сказал Иван Васильевич, поправляя роскошную бороду. — Нету за тобой долгу, Кирилл Платонович. Поезжай с богом домой.
Но Кирилл не только двигаться — ни стонать, ни говорить не мог. Лежал не шевелясь. Переполненные ужасом глаза так и остались открытыми, только слезами залились.
— А не валяет ли он Ваньку? — усомнился старший Смирнов. — Как в тот раз, когда пьяным-то притворился возле тебя, а сам добивал немощного.
— Нет, — поглядев на Кирилла, твердо сказал Иван Васильевич. — Теперь уж ни воевать, ни воровать не пойдет он. Пущай мужики лебедевские отдохнут от его пакостей.
— Ну, так давай, Кирилл Платонович, уноси свои грешные кости, — ласково сказал Тимофей Васильевич. — Не ровен час, забежит сюда кто, а ты тут в неприличном виде…
Сцепив зубы, Кирилл с трудом перевалился на бок, потом — на грудь, вскрикнул и снова затих…
— В сани его, — предложил Иван Васильевич и подступился к Кириллу. Брат хотел помочь, но он не допустил: — Куда ты! Негоже атаману таким делом заниматься. Враз да сторонний человек навернется! Иди на свое атаманское место. — Осторожно взял Кирилла в охапку и вышел вон. В санях уложил его в сено, тулупом прикрыл. Вывел коня на дорогу, вожжи под хозяина засунул и простился с «гостем»:
— Конь дорогу сыщет, дома жена встренет, а ползать до смерти придется тебе. Не обессудь, ласковей не умею.
7
Не раз и не два военные специалисты разных стран силились распознать душу русского солдата. Всего-то и надо им — заглянуть бы на дно души русского человека, и тогда все победы им достанутся непременно. Дави его, души солдата русского голыми руками и в большую могилу поленницами складывай! Так вот, не одну сотню лет на такое дело ухлопали, а душа эта самая так и остается для них загадкой.
Даже свои родные дворяне и те не знают мужичьего нутра. О скотине своей больше они пекутся, чем о мужике. А все оттого, что никому на свете мужик не нужен. О нем вспоминают лишь в тот момент, когда что-то взять с него надобно. И берут, все отнимают, не оставляя ему ничего. А коли война случилась — тут мужика первым под пули да под штыки суют. И творит он дела невиданные, порою непостижимые — храбростью, смекалкой своих и чужих удивляет.
С утра в тот день солнышко едва показалось, но тут же размыло его, заволокло неторопливыми тучами, и полетели сначала редкие снежинки, а потом все гуще, обильнее. Падали они медленно и тихо ложились на неслежавшийся еще покров.
Вечером попало Макару от Дарьи, потому как у Тихона просидел долго, а ни ружья, ни дубинки не принес — забыл. Заваруха эта с Кестером всю память отшибла. Вспомнил уж про ружье-то, как с плотины к своему плетню поднялся. Спать у Тихона не легли, конечно, так не смешить же людей своим возвращением!
Утро Дарья опять же с попреков начала. Успокоил Макар жену и принялся за сборы. Зарядил патроны, хотя заведомо понимал, что едва ли они пригодятся. Редко кто из лебедевских употреблял на охоте ружье. Загон зверя с собаками и дубинка почитались у них и доблестью охотничьей и высшим удовольствием. Потому, сунув патроны в карман полушубка, украдкой от Дарьи натеребил Макар ваты из старого одеяла, серы горючей насыпал в жестяную коробку и подался во двор — собак приготовить.
Собаки у него надежные, не раз в деле проверены. Только вот Лыска-то как же теперь пойдет, после Пигаскиного леченья? Давно не хромает он. А Дамка всегда уступала псу в резвости, но хитростью брала. Никогда не бросится гоном вслед, а все наперерез норовит. Иной раз вроде бы совсем не туда вдарится, а поглядишь — опять зверю путь пересекает.
Надел Макар ошейники на собак — заюлили они, заволновались, почуяв охоту. Хозяин было за поводки взялся, но повесил их обратно на гвоздь и, не оглядываясь, вышел за калитку. Сперва хотел он по пути заскочить к Тихону за ружьем и, не возвращаясь домой, на охоту ехать. Сделай он так — утро бы у него совсем по-иному сложилось.
Только вышел Макар из Тихоновых ворот — собака бежит от плотины, рыжая, лохматая. Приблудная, видать, собака. В хуторе не видел он таких. Шагов тридцать до нее будет. Как нечистый под руку-то его подтолкнул. Приложился и — хлоп! Убил собаку.
На выстрел, Прошечка выскочил из своей лавки. И, не сходя с высокого крыльца, запричитал:
— Ах ты, черт-дурак! Чего ж ты наделал-то! Зачем собаку убил? Я тебе, черт-дурак, спасибо сказал бы, убей ты ее чуть позже.
Откуда ж было знать Макару, что Прошечка специально бродячих собак одинаковой масти насобирал около десятка, подкормил и через недельку готовился пристукнуть их да хорошую полость на сани сшить. Ни у кого такой в хуторе не было! А Макар, выходит, нечаянно ударил по его плану.
А тут — словно из тучи вместе со снегом выпал — Гаврюху Дьякова откуда-то поднесло.
— Кум! — закричал Прошечка. — Кум Гаврюха, набей, слышь, этому дураку. Набей, кум! Обидел ведь он мине!
— А угостишь? — подмигнув, спросил Гаврюха.
— Как набьешь, так вот, слышь, сразу и поднесу сороковку.
— Кум Макар! — заорал Гаврюха. — Ты погоди-ка, ты погоди мине. Скажу чегой-та.
Макар притормозил, а Гаврюха, едва добежав до кума, — хлоп его по носу костлявым кулаком:
— Зачем чужих собак бьешь?!
Макар дубинку и ружье бросил в снег да сдачу подал. И пошло! Да так намертво сцепились — в снег упали оба.
А Прошечка на крылечке высоком аж приплясывает от радости да приговаривает:
— Так тебе, так тебе, черт-дурак, и надоть! Ишь ведь, черт-дурак, слышь, на собаку кинулси!
Ребятишек целая туча на шум слетелась. Тихон приковылял, Филипп Мослов тут же оказался, Митька Рослов с вилами из двора выскочил, Степка за ним — тоже с вилами. Уборкой, видать, занимались. Митька-то вилами на Гаврюху замахнулся, но Филипп отстранил его. Растащить попробовал драчунов — не хватило и его силушки. Тихон и Митька взялись пособлять ему — не поддаются.
— Принеси-ка воды, Степка, — велел Тихон.
А Гаврюха с Макаром вцепились друг в друга — рожи и руки кровищей залиты — не поймешь, у кого что побито.
Приволок Степка с полведра ледяной воды, плеснул — расцепились воители. Оказалось, что Макар выдрал с мясом клок бороды у Гаврюхи. Всего с год, как отращивать ее начал. Не ахти красивая борода была, а теперь и вовсе — поглядеть да плюнуть. Но и Гаврюха в долгу не остался: прокусил Макару кожу на скуле, пониже уха.
Поднялись мужики. Макар снегом умываться начал, а Гаврюха — к Прошечке:
— Ну, дык чего ж ты, дашь, что ль, посуленную-то?
— Возьми, черт-дурак, возьми! — посмеиваясь, Прошечка юркнул в лавку, тут же вернулся и бросил Гаврюхе сороковку, как собаке блин, тот поймал ее. — Возьми, слышь. Обманывать, что ль, я стану, коль уважил ты мине. Довоенная еще завалялась.
Гаврюха схватил ее, ненаглядную, и бросился опять к Макару, на ходу вышибая пробку.
— Кум Макар, кум Макар! Погоди! Мировую выпьем. Вместе заработали.
— Давай выпьем, — отозвался Макар.
А Гаврюха протянул ему ополовиненную уже бутылку, обтирая мокрую бороду и приговаривая:
— Пей, кум, — настоящая, довоенная, не самогонка. И где ж он ее берег-то, черт сполошный?
Макар, покрутив посудину, пропустил пару добрых глотков, оторвался, замерил остаток, прищурив глаз, и еще приложился. Остальное подал, Гаврюхе, примолвив:
— Собаку-то оттащи ему.
Захватив ружье и дубинку, Макар направился к плотине. Дома ухитрился на глаза Дарье не попасть, в избу не заходил. Оседлал верного своего Рыжку, собак захватил и — за ворота.
8
Легко и бесшумно катились некованые розвальни по белой, еще не накатанной дороге. Снег лениво падал большими хлопьями и пушисто и глухо дорогим ковром стлался вокруг. Копыта Воронка, бежавшего охотно и резво, плюхались, будто в мягкую кошму, почти беззвучно.
Виктор Иванович Данин, завалившись в душистое сено, брошенное в сани, прикрыл ухо вытертым воротником старого полушубка и погрузился в свои нелегкие думы.
Погода — сказочная, дорога — пушистая, конь и без понуканий ладно идет. Сначала мысли перескакивали друг через дружку, а после застряли на одном: от Антона Русакова давно никаких вестей нет. Ясно, что в Самаре отчего-то не пожилось ему. Либо в лапы к жандармам попал, либо скрывается где-то. А может быть, думалось Виктору Ивановичу, исполнил он свое намерение да на фронт подался. Все может статься.
Михаил Холопов (Иван Воронов), поскольку жил он все эти годы на легальном положении, хотя и под чужой фамилией, туда же угодил, на фронт. А Куликов Алексей сам легонько попрашивается в армию, но не берут его. Боятся, видать, жандармы расстаться с ним — негласное наблюдение снова учредили. Что-то тревожит их и заставляет держать Алексея на виду, возле себя.
Лавка книжная, окончательно разорив своих владельцев, приказала долго жить. Алексею пришлось официально обратиться к властям с просьбой о закрытии лавки, поскольку открытие ее было дозволено этими самыми властями. Тогда вот и состоялся тайный разговор между жандармским полковником Кучиным и Вороновым Иваном. Настойчиво, хотя и осторожно, полковник предлагал Ивану доглядеть за деяниями Алексея. Но предложение это было столь неожиданным, что ошеломило Воронова, и он отказался, сославшись на то, что пути их с Куликовым расходятся, поскольку лавка закрывается, что политикой он никогда не занимался и не интересуется ею, что, если не найдется в городе подходящего дела, уедет отсюда.
Вскоре после этого разговора вечный солдат Михаил Холопов опять стал царским солдатом и отбыл на фронт. Виктор Иванович пожурил его за опрометчивость, а в душе очень гордился тем, что работали они, выходит, без ошибок. Вроде бы высшей наградой пожаловал их жандармский полковник.
Ровный, бесшумный бег коня и завораживающее кружение пушистых снежинок, накрывавших верхний бок полушубка и сено в розвальнях, убаюкивали, ласково прижимали сонным покрывалом. Уже сквозь дрему у Виктора Ивановича вспорхнула мысль о Валентине, старшей дочери. Недолго побыла она мужней женой, да вот второй год в солдатках числится. Зятя Виктор Иванович с Анной всего разок и видели — чем-то он им не поглянулся, но с одного раза не доглядеть всего, не узнать. Даже матерью побывать успела Валентина — всего полгодика. Прибрал бог младенца, а Валька теперь ворочает в казачьем хозяйстве. Правда, повезло ей — в небогатую и небольшую семью вышла, в малом то хозяйстве полегче…
Вдруг несильный толчок почувствовался и — короткий вскрик. Вскинулся Виктор Иванович, натянул вожжи. Возле саней в снегу барахтался человек, пытаясь подняться. Проскочив его, саженях в трех остановился Воронко.
— Колька, волк тебя задави! — воскликнул Виктор Иванович, узнав в поднявшемся младшего Кестера. — Ты в город пробираешься аль домой?
— До-омой! — тягуче вырвалось у Кольки.
— Ну так садись ко мне, подвезу. Тут ведь еще верст двадцать до хутора-то наберется.
Уговаривать Кольку ни к чему. Отряхнув снег с шинели и потирая ушибленное левое плечо, он с радостью вскочил в сани.
— Больно ушибся-то? — спросил Виктор Иванович, трогая коня.
— Да ничего, — безразлично отмахнулся Колька, — перетерпится.
— Перетерпится, волк тебя задави. Эт ведь вышло, как у той Насти…
— У какой?
— Да была одна такая девка Настя. Идет она по улице к своему двору и ревет коровой. Рот у нее разорван, зубы выбиты. Отец у ворот и спрашивает: «Кто тебя, дочка, обидел?» — «Да вон, — отвечает, — дядин Ванька, разиня. Ехал посеред улицы и мне прямо в рот оглоблей заехал!»
— Оно почти что так и вышло, — невесело хихикнул Колька и заторопился с оправданием: — Только мне не в рот оглобля-то попала, а в плечо да сзади. Ветерок встречный, дорога мягкая — совсем не слышно коня… Толкнул оглоблей в плечо… Да мне уж к одному.
— Как это — к одному? — насторожился Виктор Иванович, глядя Кольке в лицо и примечая ссадины возле висков, на скулах, на ушах у парня. — Случилось чего-нибудь? Отчего же ты среди недели домой идешь? Что, у отца лошади не нашлось?
Колька не знал, что и отвечать. Веки покраснели, слезы из-под них сами собою выкатились. Видя неловкое замешательство парня, Виктор Иванович пожалел его:
— На ходу-то не холодно было тебе, а в санях прохладно, небось, покажется. И тулупа у меня нет…
— Да не холодно, — успокоил его Колька, — не озябну… Дома, кажись, отогреет меня отец…
Ему немыслимо стыдно было признаться в том, что произошло в гимназии, но в то же время нестерпимо хотелось поделиться своим горем хоть с одной живой душой. Знал он, что Виктора Ивановича уважают в хуторе все, кроме, пожалуй, его отца.
Виктор Иванович терпеливо ждал, пока справится парень с нахлынувшими чувствами. Повздыхал, покривился Колька, глаза рукавом шинели вытер и, словно в холодный омут шагнул, признался:
— Прогнали меня из гимназии…
— Как? — вырвалось у Виктора Ивановича. — За что?
— Да ребята ручку сажей вымазали у классной двери, — давил из себя Колька с трудом, — поп руку испачкал да потом белую ризу рукой-то извозил…
— Ах, волк вас задави, проказники! — засмеялся Виктор Иванович. — А ты-то при чем же тут?
— Поп жаловаться пошел классному наставнику, — повеселел чуток и Колька, — меня дернуло ручки эти самые бумагой протереть…
— На этом деле и попался?
— На этом, — согласился Колька, не вдаваясь в подробности.
— А чего это у тебя по всему лицу отметины, дрался, что ли?
— Нет, не дрался. Наставник это меня… допрашивал…
— Ах, злой-то ведь какой, волк его задави. А ты не сознался?
— Да в чем же сознаваться мне, коли не делал я этого!
— Ну-ну, — неопределенно произнес Виктор Иванович, — теперь, стало быть, с отцом предстоит беседа…
— Предстоит, — вздохнул Колька. — Домой хоть не показывайся.
Виктор Иванович долго молчал, что-то в уме прикидывал, сбросил рукавицы и, свертывая цигарку, ласково спросил:
— А может, нам воротиться, Коля, да похлопотать вместе? Глядишь, дело-то и выправится.
— Нет, нет! Что вы, — испугался Колька. — Ничего теперь уж не выправить.
Он понимал бесполезность этого предприятия, поскольку исключение его из гимназии назревало постепенно и предупреждение было объявлено ему с прошлого года. Отец обо всем уведомлен, а ежели он узнает, что за Кольку Данин хлопотать взялся, тогда и вовсе домой носа не сунешь — прогонит. А сгоряча и покалечить может. Нет, никак нельзя Виктора Ивановича впутывать в это дело, только греха добавится. Одно имя Данина всегда вызывает в Кестере негодование. Даже о том, что подвез он Кольку, не следует говорить отцу.
— Ну, а дознались все-таки, кто шутку-то эту сотворил? — спросил Виктор Иванович после долгого молчания — чуть не полцигарки выкурил, не проронив ни слова.
— Нет.
— Ну вот, а еще сказывают, будто кнут не бог, а правду сыщет. Сам-то знаешь, за кого крест несешь?
— На кнуте далеко не уедешь, — ответил заученно Колька. — Ребят я тех знаю, да только мне от того не легче: наставника классного обозвал я прозвищем на том допросе. А такого он никому не прощает.
Колька вдруг заметил, что говорит с Виктором Ивановичем по-товарищески, будто с равным. И как это вышло у него, уразуметь не мог, но не смутился и с оттенком гордости добавил:
— К чему же еще других-то впутывать, коли мне все равно отвечать. Вот как меня наставник отлупазил в классе, тут и кончилось всякое дознание.
Виктор Иванович швырнул окурок наотмашь и, лениво почесав за ухом, спросил:
— А в хуторе-то есть у тебя дружки?
Вопрос этот поставил Кольку в тупик, потому как сам он о том пока не задумывался, и вдруг обнаружил вокруг себя жутковатую, прохладную пустоту. Раньше, будучи мальчишкой, Колька легче сходился со своими сверстниками. Бывал и у Шлыковых, и у Рословых, и к Даниным порою заглядывал. Потом торговые поездки с Кириллом Дурановым и гимназия исподволь, незаметно отдалили его от знакомых ребят. Не знал он теперь даже того, чем занимаются сверстники, как играют, о чем думают. Выросли все изрядно.
Наскоро перебрав в уме всех знакомых подростков, Колька вздохнул тягостно, оглянулся по сторонам, будто пытаясь найти поддержку.
— Один я, кажись, на всем белом свете…
— Э-э, брат Колька, да ведь один-то и возле каши загинешь, как старые люди приметили. А ты к ровесникам поближе держись. Дело общее либо игра непременно найдутся… Глядишь, и дружки объявятся… В твои годы без друга никак нельзя…
Говоря это, Виктор Иванович пытливо поглядывал на юного спутника. Но Колька уже не слушал его. Увидя с бугра хутор, он воровато повертел головой, насколько позволял затянутый у подбородка башлык, и суетливо выпрыгнул из саней.
— Чего ж ты соскочил-то? — удивился Виктор Иванович, придерживая Воронка. — Я нарочно по логу домой не свернул, чтобы тебя поближе к дому подбросить.
— Спасибо, Виктор Иванович! — трепетным голосом отозвался Колька. — Рядом тут, добегу!
Близкая встреча с отцом страшила незадачливого гимназиста, теперь уже бывшего. В ногах и во всем теле враз почувствовалась неодолимая усталость, а заплечный мешок стал вдруг давить нещадно. Как-то по-старчески, с трудом передвигая ноги, Колька шел под уклон, затравленно поглядывая то вслед ускользающим саням Виктора Ивановича, то на пустынную плотину, одинаково белую с омертвевшим прудом, то на свою усадьбу на пригорке за голыми, печальными тополями, то пробегал взглядом по кривому ряду изб.
9
Хмурый, затравленный какой-то ехал Макар по дороге в сторону Бродовской. Угнетала его не только дурацкая драка с Гаврюхой. Он и сам себе не мог объяснить, с чего, с какой стати пристрелил Прошечкину собаку, какой бес подтолкнул на столь дикую выходку! Мерзко все это и дурно. К тому же и охота, кажись, не удастся — снег валит хлопьями, кружится и застилает все. Ни единого следа не встретил. Дальше полета саженей не видать ничего, словно под суконной ватолой, тихо-тихо.
Однако чистый воздух, пропитанный запахом свежего снега, и матовая успокоительная белизна вокруг незаметно приободрили Макара. Верст за восемь-десять от хутора встряхнулся он, пристально вокруг огляделся и спустил собак. Авось, на какого зверька наскочат.
И не ошибся. Заслышав остервенелый собачий лай, понял, что на кого-то они набрели. Свернул к березовому колку, где собаки бесновались, и, подскакав к ним, про все невзгоды враз думать перестал — охотничья страсть перешибла все прочее.
Собаки вытоптали в снегу большущий круг, а возле крайней березы лисью нору откопали. Ощетинившись, Дамка тыкалась туда носом, лаяла сердито и скребла передними лапами. Лыска то лаял возле Дамки, то носился по кругу, обнюхивая снег.
Соскочив с коня, Макар оттолкнул собаку и сунул в нору дубинку, но вошла она всего на аршин, может быть, и уперлась. Стал нащупывать Макар поворот под землей. А Дамка рвалась к норе, сердито рычала и даже впивалась в черенок дубинки зубами.
Тогда Макар освободил вход, и собака храбро туда ринулась. Она ушла в нору вся, полностью скрылась в ней. Лыске не пролезть в такую нору, да едва ли бы он и отважился на такое дело. Этот пес хорош на гону.
Макар надеялся выманить, выжить хозяйку из норы и всласть погоняться за рыжей. Но Дамка через какой-то момент вылетела из подземелья, как ошпаренная. Шерсть на груди и на холке у нее выдрана и болтается клочьями. А лиса предпочла остаться в своей пока нерушимой крепости.
Шагах в семи Лыска раскопал другой выход из лисьего жилища и заливистым лаем звал к себе охотника.
— Ах ты, хитрющая кума, — досадливо сетовал Макар, доставая горючую серу и вату. — Не хочется тебе на воле-то погулять… Ну, погоди… погоди дома, поколь околеешь тама.
Запалив вату и серу и опустясь на колени, Макар сунул этот смердящий ком в нору и, увертываясь от ядовитого дыма, несколько раз дунул в жар тлеющей сухой ваты. Дым потянулся кверху, оскверняя девственную чистоту воздуха, но, прижимаемый разлапистыми хлопьями снега, высоко подняться он не мог, а кучерявился безобразными желто-синими клубками возле норы.
Подождав немного, Макар повернул вату горящим боком в нору, поднялся с коленей и стал свертывать цигарку.
— Теперя вот поглядим, как тебе дома-то посидится, — разговаривал с невидимой лисой Макар, сделав первую затяжку и выпуская дым изо рта и из носа. — Покурим вместе: я — табачку, а ты — серки горючей, глядишь, охотка побежать в тебе и завозится.
Однако расчет Макара не оправдался. И цигарку не спеша выкурил, и собаки уж лаять устали, а толку никакого.
— Чего же делать-то мне? — сам себя спрашивал Макар, бестолково топчась то у одного выхода, то у другого. — Ведь ежели она, милушка, околела тама, дак как же ее достать? Лопатки с собой не захватил, да и земля-то мерзлая — без лома не удолбишь.
И тут увидел он саженях в пятнадцати от себя, в мелком густом подлеске, высоко торчащий березовый пень, толщиною более получетверти, а с него обрубок повис аршинный. Бегом бросился Макар к этому пню, ухватил за конец обрубок и, выкручивая его, стал переламывать недоруб. Не вдруг он поддался — топором бы всего разок тюкнуть, а голым рукам не поддаются застарелые промозглые волокна.
— Гляди ты, как верно люди приметили, — приговаривал он, бегая вокруг пня и толкая вперед себя обрубок, — без нужного струмента и вошь не убьешь!..
Полено это засунул он в нору, да еще расклинил тонким концом дубинки. Заглянул в другой выход и бросил туда остатки серы и ваты.
Рыжка понуро стоял на том же месте, где оставил хозяин, и, хотя встряхивался поминутно, снег принакрыл его со спины, Макар, обмахнув рукавицей седло, сел на коня и погнал к хутору. Собаки забеспокоились, будто не решаясь оставить свой пост, но потом увязались за хозяином. Ему же было все равно — здесь ли они останутся или за ним побегут.
Подумалось Макару свернуть на смирновскую заимку, но туда и следочка-то нет ни единого — пустует, стало быть, заимка. Доскакал до хутора и подвернул к подворью Даниных, поскольку было оно крайним. Не сходя с коня, через хлипкие воротца увидел Анну — снег во дворе она убирала.
— Здравствуешь, тетка Анна! — крикнул через воротца. — Хозяина дома нету, что ль, — сама ты снежище-то буровишь?
— Здорово! — отозвалась Анна. — В городу мой хозяин. Скоро подъехать должен. А тебе зачем он?
— Да так это я про хозяина… А у вас лопатка железная да ломик не сыщется ли? На часок бы мне. Лису из норы выкопать.
Воткнув в снег деревянную лопату, Анна сходила под сарай и, подавая через воротца инструмент, спросила, прищурив лукаво глаз:
— У тебя, небось, тоже Дарья снег-то гребет, а ты разгуливаешь.
— Х-хе, — смутился Макар, краснея, — а ежели я враз да лису ей на воротник привезу! — Он потянул повод и на ходу добавил: — Пущай привыкает. Солдаткам и дома все делать, и в поле управляться.
Он ускакал, а Анна, глубоко вздохнув и берясь за лопату, молвила:
— Нам и привыкать не надоть — давно уж мы ко всему привыкшие, бабы.
Снег падал все реже и реже, оттого все яснее проглядывалась даль. Впереди на дороге Макар заметил большое темное пятно. Оно росло, и скоро стала видна встречная подвода. Карий конь, заложенный в розвальни, бежал ленивой, полусонной рысью. Седока в санях не видать.
Макар отскочил с дороги, пропуская подводу, и вперился взглядом в человека, лежащего в санях навзничь и покрытого снегом. Только на лице да на груди, под бородой, снега не было. Взглядом успел стрельнуть по Макару, но тут же прихлопнул веки.
— Господи, твоя воля! — ахнул Макар, уже разминувшись с подводой. — Да это ведь Кирилл Платонович! Как я Карюху-то его не признал? Либо пьяный он, либо удостоили опять добрые люди… Нет, на пьяного вроде бы не похож. — Макар даже придержал коня чуток. — Э, да ну его к собакам! Хитер, пес. Он из печеного яйца живого цыпленка высидит.
Рыжка снова помчался наметом. Собаки сперва замешкались возле подводы, потом догнали хозяина и шли с ним вровень. Еще не доскакав до колка саженей полтораста. Макар приметил на снегу возле норы какое-то странное пятно. Приударил в бока Рыжке и, подъезжая, разглядел околевшую лису.
Спрыгнул с седла, подступился к ней, и собаки тут как тут заюлили вокруг. Видать, не вытерпела рыжая адского удушья. Уже отравленная, вознамерилась она выбраться на волю, да еще больше отравы хватила. Морда у нее вся опаленная, волдыри на носу. А вата, вытолкнутая из норы, все еще чадит, не спеша догорает. Притоптал ее Макар и принялся шкурку снимать.
— И до чего же хитро жизня-то сотворена, — рассуждал Макар, ловко, орудуя ножом, — и гона никакого не получилось, и нору копать не пришлось, а лиса — вот она, в руках… Чудно!.. И опять же чудно, — удивился он своему открытию, — гона-то хотя совсем вроде бы и не было, а Рыжка, небось, верст около тридцати проскакал… Дак был все-таки гон али не было? — И, поразмыслив, сообразил: — Не было его для мине, а для Рыжки, выходит, был.
Приторочив шкурку, Макар нехотя поднялся в седло и, не раздумывая, направил коня в сторону хутора. Можно бы еще поискать гона — время есть, — но отчего-то и Дарья вспомнилась (ведь против воли отпустила она его на охоту), и этот дурацкий утренний случай с собакой, и встреча с Кириллом Дурановым показалась загадочной и недоброй. Впрочем, добра от него никто и не ждал. А вот пособирают остальных мужиков да на войну угонят, и останется он в хуторе безотчетным владыкой — чего захочет, то и сотворит. Дарья с таким соседом натерпится бед. Он ведь, ухабака, жалости к людям не знает: баба ему либо старик подвернется — не пощадит, коли план его на какое дело нацелен.
Рыжка охотно бежал веселой, ходкой рысью, а Макар то и дело перехватывал рукой надоевшие ему лом и лопату, да еще дубинка мешалась. Не раз подумал, будто бы оправдываясь перед собой, что с этаким хозяйством пускаться в гон никак невозможно.
У Даниных ворота нараспашку — только что Виктор Иванович заехал, еще и коня не распряг.
— Здорово, Виктор Иванович! — поприветствовал хозяина Макар, въезжая в распахнутые ворота. — Струмент я у вас брал, да не понадобился он мне.
— Здравствуй, Макар!.. Ох, волк тебя задави, да ты, знать, лису Дарье на воротник везешь! — воскликнул Виктор Иванович, распрягая Воронка и глядя на притороченную к седлу шкурку.
— Добрая, лиса подвернулась, — с гордостью ответил Макар. — А ты навроде бы колдун, Виктор Иванович, глянул и угадал сразу. Дарье нарек я эту лису, еще как на охоту сбирался…
И тут Макар совершенно неожиданно для себя — домой ведь торопился — сошел с коня, отнес лом и лопату на место, ворота затворил, а между тем рассказал про только что минувшие охотничьи похождения, помог Виктору Ивановичу сбрую с коня прибрать и сани на место водворить. А после того закурили они, стоя посреди двора, и Макар поведал о вчерашнем случае с Кестером. Хотелось ему знать не только, как отнесется к происшествию этот грамотный человек, но и что он думает о предположении Зурабова и Тихона.
— Неужли же взаправду Кестер шпиком к нам посажен? — заканчивая рассказ, дивился Макар. — Да за кем тут шпионить-то в хуторе? За Леонтием вон Шлыковым али за бабкой Пигаской, може?
Виктор Иванович, покручивая длинный шнурок уса, горько и лукаво улыбался, видя беспросветную наивность неглупого мужика. Прокашлялся он с передыхом и сказал:
— Слыхал, небось, как в народе сказывают: козла спереди бойся, коня — сзади, а злого человека — со всех сторон. Все может статься, Макарушка, по нонешним временам.
— Ну, спасибо, Виктор Иванович.
— Спасибо-то не за что, а поберечься не помешает.
— Да мне-то чего бояться — дальше фронта, небось, не ушлют, а Тихону, пожалуй что, и впрямь поостеречься надоть.
— Да и тебе, наверно, лучше не вызывать волка из колка. Дарья-то здесь останется. А вот как на фронт угодишь — не зевай там. Голову зря не толкай куда попало да к людям прислушивайся. За царя-батюшку голову отдавать все меньше охотников остается. Рухнет вся эта царская иерархия, Макарушка. Тогда вот, кажись, и постоять придется за Русь-матушку.
Многое хотел бы сказать Виктор Иванович темному этому мужику, да всего-то сказать нельзя. А все же расстались они друзьями. Каким-то подспудным сознанием понимал Макар, что человек этот многое знает из того, чего ему, Макару, знать не полагается, потому старался слова его запомнить да еще поразмыслить над ними.
Подъезжая к своему двору, Макар ломал голову над тем, чтобы не просто преподнести Дарье свой охотничий трофей, а с каким-нибудь фокусом, повеселее. Но ничего смешного придумать не успел.
Дарья, видать, все глаза проглядела, ожидаючи мужа. И только переступил он подворотенку в калитке — с крыльца метнулась раненой птицей и, обессилев, повисла на плечах у него. Всю силу на голос она, кажись, употребила, с причетом выговаривая горькие слова:
— Да размилый ты мой, свет Макарушка! Приспело тебе времечко нести свою буйную головушку на бранное поле да сложить ее за чьи-то грехи… Ой, да на кого ж ты нас покида-аешь, сирот несчастны-ых?..
Едва опомнившись от наскока жены, Макар отодвинул ее легонько от себя и строго выговорил:
— Чего ж эт ты обо мне, как об упокойнике выть-то принялась? Може, я до ста лет проживу, а ты уж враз и похоронила… Живой, видишь, и невредимый совсем.
— Невредимый, — укоризненно повторила Дарья, — а возле уха-то, на щеке, чего у тибе кровь запеклась полукружьем?
— Да это дубинкой, тонким концом неловко задел я, — слукавил Макар, погладив прокушенное Гаврюхой место. — А ты погляди, какую лису-то привез я тебе! — Он обернулся к седлу, снял шкурку и, раскинув ее на обе руки, как полотенце, торжественно вручил Дарье, сказав: — Вот видишь, как посулил утром, так и сделал… когда явиться-то велено мне?
— Завтра, — всхлипывая, ответила Дарья, — к двенадцати в городу быть велено.
— Ну что ж, стало быть, потопить баньку надоть да родню хоть самую близкую позвать проститься… Есть у тебя к чему позвать-то?
— Есть маленько. Сберегла я для такого случая.
Продолжая разговаривать с Дарьей, Макар между тем расседлал коня и, привязывая его в конюшне, вспомнил о Дуранове.
— Даша, Даш, — ласково говорил Макар, выходя из стойла, — а може, нам и ухабаку позвать к столу? Глядишь, подобрее оборотится он к вам тута.
— Ишь ведь еще чего удумал — ухабаку позвать! Не нужен такой гость, да и не пойдет он.
— Эт отчего же так? Видал я его на бродовской дороге — непонятный какой-то, пьяный, что ль то…
— И я видала и тоже так сперва подумала. Только вышла за ворота снег чистить, Карюха-то его ко двору подвезла. Никак, с час лежал он тута либо полтора. Не шелохнулся даже. Я вон до дороги расчистила этакую ширину, а он все лежит. Сжалилась да Василисе сказала. Вместе с ей и в избу его затаскивали. Едва на кровать завалили — вонища от его, и задеть ни за чего нельзя — все болит. Все внутренности, знать-то, отшиблены.
— Да кто ж его так устряпал?
— Будто бы нагнулся он возле саней, а бык подошел бродячий да рогом ударил ему в зад… Да я чаю, с руками был тот бык: не лето теперь, чтобы скотине шляться.
— Нашего слугу согнуло в дугу, стало быть, — заключил Макар. — Ну, спасибо тому быку, будь он с рогами али с руками, все едино.
— Да ведь сколь кувшину по воду ни ходить, пора и голову сломить, — поддержала Дарья. — Обойдемся мы без такого гостя, Макарушка.
— Так ведь голова-то цела у его поколь, и о чем-то она думает.
— Бог милует, — стояла на своем Дарья. — Держаться ей уже не на чем: отбито все. Василиса молча судьбу приняла, а сынок ихний. Данька, ревел безутешно. Годов пять уж ему никак. Понимает все. А на отца-то шибко лицом схожий.
10
Вечером у Макара не проводы получились, а горькие поминки. Все Рословы, от мала до велика, заявились разом. В избе тесно и душно стало, но, кроме «здравствуйте», никто слова не проронил. Дед Михайла, усевшись на привычное свое место за столом, под иконами, кряхтел тягостно, словно непосильный воз на нем везли. Тихон, присев на лавке возле печи, свертывал цигарку и тоже покрякивал как-то загадочно. Митька со Степкой шмыгали носами где-то возле порога, под полатями. Младшие ребятишки к Федьке с Зинкой Макаровым на полати полезли. А бабы, вроде бы по аршину проглотили и сидят, боясь шелохнуться. Даже дышать, кажись, перестали.
Дарья бегала от печи к столу — собирала ужин. А Макар глядел-глядел на них, встревожился и возмутился не на шутку:
— Да что ж вы молчите-то все! Хоронить, что ль, мине собрались? Аль, не проводив, поминать надумали?
— Нет, сынок, — молвил дед Михайла перехваченным голосом, судорожно глотнув. Раньше Макара называл он только по имени, и необычное насторожило.
— Нет, сын, — повторил Михайла, — пришли мы на проводы, и хоронить тебя поколь рано. Пусть бог тебя хранит. — Голос деда совсем ослаб. — А вот Васю помянуть… надоть…
Эмалированное блюдо, как живое, выпрыгнуло у Дарьи из рук, стукнулось об пол, и оладьи вывалились из него. Бабы дружно заголосили, ребятишки подтянули вслед за ними.
Макар, глядя на всех растерянно, не вдруг осознал страшный смысл дедовых слов. Стараясь пересилить всеобщий рев, он громко спросил:
— Дак чего ж вы, известие, что ль, получили?!
Дед не плакал. Слепые, открытые глаза его блестели влагой, а по морщинистым щекам безучастно текли слезы. Говорить он не мог.
— Получили, — ответил Тихон, вздохнув.
— Гришка-то Шлыков с им ведь был, може, у их чего узнать можно? — цеплялся за последнюю соломинку Макар.
— Узнавали, — опять же Тихон ответил. — Степка вон к им ходил только что… И там на такую же бумагу напоролся. Обоих, выходит, и не стало…
— Дак убиты, что ль, они? — добивался Макар. — Схоронены где?
— Без вести они пропавшие, — пояснил Тихон, — ни в живых, ни в мертвых не числятся.
— Во-он как! — вроде бы повеселел Макар. — Дак это еще бабушка надвое сказала. Може, в плену они.
11
Избитый, истерзанный отцом, Колька Кестер пролежал в постели двое суток, не раз теряя сознание. Афонина казнь в гимназии казалась ему теперь сущей забавой. Здоровенная, какая-то несуразная и неловкая, мать ходила возле него на цыпочках, боясь потревожить покой сына, и все уговаривала, чтобы Колька простил отцу, потому как нетрудно его будто бы понять, коли сын довел себя до исключения из гимназии.
Ни возражать, ни соглашаться с нею Кольке не хотелось. Он молчал, прижимая ко лбу примочку и тупо глядя на Берту отчужденным взглядом. Большой любви к матери Колька не испытывал и раньше, хотя всегда тянулся к ней со своими бедами. Теперь же, когда она в первые минуты Колькиного возвращения бесновалась возле него вместе с отцом, а потом двое суток с нежностью опекала его, сын понял ее, и порвалась в нем та нить, что связывала их до сих пор.
Сегодня парню полегчало. И сам он, и родители поняли, что жестокая «наука», возможно, без увечья обойдется. Но Иван Федорович держался еще сердито и неприступно, и утром, даже не заглянув к сыну в спальню, зачем-то уехал на Прийск.
Погода разведрилась. В окно глядело спокойное, ласковое солнышко. Берта все так же неуклюже юлила возле сына, то и дело забегая к нему. Больное безделье утомило хуже работы, мысли всякие лезли в голову. Чтобы отвлечься от них, Колька попросил подать ему «Ниву». Тонкие книжки журнала за текущий год стояли в застекленном шкафу на особицу. Мать, не выбирая, достала одну из них.
Сначала Колька перелистал журнал, рассматривая картинки. Потом без особого интереса прочитал «Дневник военных действий». Сообщения о событиях на фронте были устаревшие, туманные и непонятные, а весь текст пестрел белыми пятнами цензуры.
Дальше встретилась ему большая статья «Война и Государственная дума». Стрельнул по ней взглядом и даже пробежал по словам:
«Обещание председателя Совета Министров И. Л. Горемыкина бороться с промышленным, торговым и земельным немецким засилием нашло горячий отклик в Государственной думе».
Ничуть не насторожили Кольку эти слова. А под рубрикой «Отклик войны», где собрана всякая всячина, его привлек заголовок «Император Александр III о Вильгельме». «Русская старина» приводит отзыв об императоре Вильгельме, в Бозе почившего императора Александра III:
«Во время пребывания императора Вильгельма II в России в 1890 году на нарвских маневрах германский император был необычно внимателен и почтителен к Императору Александру III и очень надоел нашему Государю своими любезностями. А один день, когда германский император был до приторности любезен, Император Александр III обратился к Великому Князю Владимиру Александровичу и сказал ему:
— После завтрака возьми Вильгельма на свое попечительство: я его перевариваю только до обеда».
Колька натянуто усмехнулся над державным остроумием, но тут же заметил в нем изъян:
— Это как же так — переваривать может «только до обеда», а уже после завтрака просит убрать его?.. А может, по-царски да по-барски так и должно быть?
Опять побежал по строчкам:
«В храме Путиловского завода, в Петрограде, после божественной литургии причтом церкви во главе с настоятелем протоиереем Н. М. Павским при переполненном храме был совершен чин освящения напрестольного креста для походного храма Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николаевича. Означенный крест представляет точную копию того св. креста, которым преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на великое ратное дело, закончившееся полным разгромом татарских полчищ, разорявших святую Русь».
— Ну, конечно, — забавлялся Колька, — как довезут этот крест до фронта, так германцы сразу и побегут до самого Берлина! Никакой силы больше не потребуется… — и глянул по строчкам дальше:
«Военный корреспондент газеты «Frankfurter Zeitung» в статье, озаглавленной «Наш противник», так характеризует русского солдата: «Русский солдат, — говорит он, — это противник, с которым надо очень и очень считаться. Он отважен, прекрасно питается, превосходно вооружен, исполнен личного мужества и презрения к смерти. В натиске он бурно-стремителен, в обороне — чрезвычайно стоек. Хорошо умеет пользоваться характером местности, невероятно легок на подъем, быстро зарывается в окопы, которые через несколько дней в его спорых руках превращаются уже в укрепление постоянного типа… Русские батареи маскируются так искусно, что нашим летчикам очень трудно их выследить».
После таких слов Колька и сам было «исполнился мужества и презрения к смерти». Даже подумалось ему: на фронт бы удрать от родителей и стать настоящим солдатом. Тогда-то вот отец наверняка смягчится, а мать перестанет лицемерить и зальется искренними слезами…
Хотелось Кольке еще помечтать об этом и хоть в мыслях заставить родителей сжалиться над собой. Но тут взгляд его зацепил мелкий, слепой заголовок: «Ликвидация германского землевладения в России» — и Кольке сразу мечтать расхотелось. Взглядом жадно потянулся за строчками, смысл которых явно касался Кестеров, а стало быть, трогал и Колькину судьбу:
«Правительством опубликованы Высочайше утвержденные три положения Совета Министров, касающиеся частью ограничения, а частью и полной ликвидации немецкого землевладения. Всем подданным стран, ведущих с нами войну, не только воспрещено впредь приобретение земель в России, но, кроме того, закон предписывает им полностью ликвидировать свои земельные владения в течение шести месяцев, а свои права на землю, вытекающие из аренды, — в течение года. К особым категориям отнесены немцы, принявшие после 1 января 1880 года русское подданство, а равно и их потомство. Всем им также воспрещено впредь приобретение земель в собственность и в пользование на пространстве всей России. Исключение сделано только для лиц, принявших православие до 1 января 1914 года, и для тех, которые запечатлели свою непоказную преданность России боевыми подвигами».
Никакого православия Кестеры не принимали — это Кольке доподлинно известно. Да и католическая вера, кажется, едва теплилась в этом доме. Лишь Берта чаще других вспоминала своего католического бога. Иван Федорович и сам полузабыл всевышнего, и детям редко напоминал о нем.
— Так что же это выходит? — встревожился Колька. — С земельки-то с этой согнать могут, значит, коли закон такой вышел.
И понеслись мысли одна за другой — чем дальше, тем страшнее. Ведь ежели землю отберут, разорится отец моментально. Может, предупредили его, а может, уже и отняли землю, паниковал Колька, вспоминая совсем озверевшего отца. Да и мать какая-то не такая стала…
Словом, раздумавшись, Колька до того встревожился, что и отцовские побои отошли куда-то в сторону, а первая забота — о земле. У матери ни о чем спрашивать не стал — сама бы она обо всем рассказала, да либо не знает ничего, либо говорить не велено.
Теперь ведь война — о многом не велено вслух-то говорить. Слышал Колька еще в гимназии, правда, глухо слышал, будто из-под земли, что дела на фронте идут совсем не так, как пишут о том в газетах и журналах, что там будто бы наши солдаты не хотят за царя воевать, а их заставляют. И здесь, в глубоком тылу, всюду шпики подслушивают да жандармам обо всем доносят.
Живых шпиков Кольке видеть не доводилось, но ребята говорили о них с ненавистью, с издевкой, и Колька тоже ненавидел их, словно немыслимое преступление совершил против царя. А эта заметка в «Ниве» еще больше насторожила, потому как теперь и отец, наверно, к царю другим боком повернулся. Надо бы поговорить с ним, да как разговор-то завести?..
— Колька-то у нас, как сегодня чувствует себя? — вдруг услышал он голос отца за неплотно притворенной дверью.
Дверь тут же распахнулась, и Кестер, какой-то важный, праздничный, готовый, кажется, вот-вот улыбнуться, шагнул к столику возле Колькиной кровати и, сев на стул, спросил бодро:
— Ума накопить захотел, чтением занимаешься?
— Занимаюсь, — покаянно ответил Колька и, показывая на статейку в «Ниве», спросил: — А ты вот это читал? Про нас вроде написано…
Иван Федорович принял из рук сына журнал, не торопясь достал из жилетного кармана очки, с какою-то торжественностью усадил их на переносье и стал читать, грузно сопя и шевеля щетиной бюргерских усов. Наблюдая за ним, Колька хотел заранее угадать, как отнесется отец к статье, к новым законам, так сильно ударившим по интересам немцев в России.
Но, читая, Кестер все откровеннее улыбался, словно речь шла не об отчуждении его собственной земли, а о дарованной ему награде.
— Знал я об этом еще до выхода журнала, по газетам, — построжав, сказал Иван Федорович, кинул сыну журнал и спрятал очки. — А тебя, сын, даже хорошо читать не научили в гимназии…
Колька вопросительно глядел, не зная, что сказать.
— Не понимаешь? — совсем ожесточился Кестер. — В том и есть твоя беда, что ты ничего не понимаешь! Может, за то тебя из гимназии прогнали, что ты — немец?
Колька заморгал вдруг повлажневшими глазами и впервые сообразил, что исключение его действительно могло быть связано с национальной принадлежностью, хотя причин и без того было достаточно. А еще Виктор Иванович предлагал похлопотать!..
— Ты бы внизу прочитал, — снова недовольно гудел отец, — что исключение сделано «для тех, которые запечатлели свою непоказную преданность России боевыми подвигами». А за то твой брат имеет царскую награду и в офицеры произведен…
Тут Иван Федорович замялся, словно соображая, продолжать ли разговор, и значительно, с намеком добавил:
— Да и отец у тебя не лыком шит: кое-что для царя делает. И царь обязан платить за его работу!
— За какую работу? — простодушно ляпнул Колька. — Ты что, у царя на службе состоишь?
— Если бы мы с Александром были такие же дураки, как ты, — снова озверел Кестер, — то землю отняли бы у нас полгода назад, а тебя бы тогда же из гимназии вышвырнули! Тупица! Ты своего добился и без царских указов. А твой брат голову за царя и за нас под пули да под штыки подставляет… У мужиков, у этого быдла надо отнимать землю, а не у немцев. Мужики ненавидят царя!..
— Да у них ее и нету, земли-то, — опять же невпопад сунулся Колька со своим языком.
— Нету и никогда не будет у таких дураков! — закипел Кестер. Вскочив со стула и хищно изогнувшись в наклоне к сыну, добавил: — И у тебя никогда не будет своей земли, шалопай! Хватит тебе здесь лежать! Даром никому ничего не дается… Завтра с утра пойдешь на конюшню и жить в этом доме будешь на правах работника! Он круто повернулся и вышел.
«Ну что ж, — по-взрослому рассудил Колька, — начну с работников у собственного отца, а там, может, и получше хозяина найду».
12
Вторые сутки не спеша подваливал снег. То перестанет на какое-то время, то снова невесомо кружит в воздухе, завораживает, убаюкивает, навевая сон. За лето настрадалась земля, наработалась — и зачать успела, и родить, — а теперь на покой уходит, одеялом теплым укрывается. И снежинки нежно ее касаются, боясь потревожить великий покой. Спи, родная земля, отдыхай!
Глядела-глядела Катюха на это снежное кружение из окна бабкиной избушки, и больно защемило у нее сердце, слезы на глаза набежали. Руки свое делают — шаль привычно вяжут, — а думы далеко-далеко несутся. И так захотелось ей укрыться белым легким одеялом да и уснуть вместе с землей — тоже настрадалась она и наработалась, — теперь хоть вместе с землей, хоть в самой земле успокоиться не дрогнула бы. Замучили беды — свет не мил.
Одна-разъединая теплится в ней надежда, как далекий трепетный огонек светит путнику в непогоду, — Вася. Может, уцелеет он в адовом этом побоище? Ведь кто-то и там остается, не всех поголовно косит безжалостная смертушка…
Письма приходили от него не часто, но в месяц одно, а то и два долетало. И она отвечала на них, как умела. Грамотешка-то слабая. Умение не позволяло выразить все, что чувствовала, что хотела бы сказать. Наизусть помнила прощальные слова, и в письмах не раз повторяла их: «Молиться за тебя стану, ангел мой! Весь пол в монастыре лбом изобью! Услышит господь молитву мою, уберегет он тебя и от пули вражьей, и от меча вострого — не порвут, не поранят они твого тела белого».
В монастырь так и не пошла, но молилась по целым ночам страстно: убежденно считала, что молитвы жаркие доходят до бога. Вера ее чуть-чуть пошатнулась лишь в тот момент, когда Василий прислал письмо из лазарета. Не уберег, стало быть, его бог. Но ведь отлежался и — опять в окопы.
А теперь вот уж более полугода ни единой весточки от него нет, и узнать, проведать что-либо негде. В хутор не пойдешь, у родных не спросишь. Хотела она подговорить на разведку бабку Ефимью, хозяйку свою, да у той своих забот невпроворот. И печалей не меньше.
Не прогнала бабка свою постоялку и во многом ей помогала. А Катюха берегла Ефимью, не покидала ее избушки, почитая ту избушку за драгоценную ниточку, способную связать с Василием. Отойди куда в сторонку — и оборвется ниточка. Удастся ли потом связать?
Запасы Катюхи давно истощились. Жила она у Ефимьи не то вместо дочери, не то приживалкой. Однако средства к существованию добывали они вместе. Катюха научилась вязать не только красивые пуховые шали да шарфы, но и другие нужные вещи. А бабка находила заказы, чесала и пряла пух, разносила изделия по богатым домам.
Заработок получался у них такой, что с голоду не помрешь, но и сытым не будешь. Кроме того, война обездоливала, грабила людей — заказов становилось все меньше и получить их труднее. А бабка, отрывая от себя, пыталась помочь внучатам. Пахомушка ее, как угодил в лазарет еще прошлой зимой, так и не выберется. Весь покалечен. Долго вестей не было от него, но теперь вроде бы получше ему. Авось поправится и домой придет.
И сидит Катюха целыми днями возле крошечного окошка. Руки со спицами вокруг нитки снуют, думы за тысячу верст несутся, а взгляд то по белому снегу скользит, то затуманится, а то и слеза жгучая пробежит по щеке. Будто в тюрьме заперта она, редко на улицу выходит. И все норовит либо к вечеру попозже, либо утром пораньше на улице-то побывать. Случалось, хуторян своих из окошка видела — так бы и выскочила, так бы и расспросила обо всех. Нельзя!
Бабку Ефимью не сразу она разглядела — та уж почти миновала окошко-то. Но походка странной показалась. Шла бабка раскорячившись, словно бы огребалась, и, видать, поспешала она. У Катюхи оборвалось что-то и заныло внутри.
Через минуту жалобно пискнула дверь. Бабка тяжело переступила порог, непривычно высоко занеся ногу, будто ей надо было через толстое бревно перешагнуть. Обессиленно возле двери на лавку опустилась, распахнула овчинную шубу, сдвинула на затылок шаленку, обнажив крупные пепельные волосы, и по-страшному заревела мужичьим голосом.
Много постоянных бед сокрушало Ефимью, ломили они ее и давили, но слез не допускала, берегла их на крайний случай. Катюха ждала, не расспрашивала бабку, понимая, что сама обо всем скажет со временем. Но Ефимья выла без передыху, лишь изредка поглядывая на постоялку, и, отвечая на ее вопросительный и тревожный взгляд, с трудом, сквозь слезы вымолвила:
— Пахомушка-то… мой… помирает!.. Не уберегли его… в лазарете…
И опять долго ничего не могла сказать бабка. Потом горько, с надрывом запричитала:
— На кого ж он… покинет… сиротушек-то своих?.. А как жене молодой… вековать одинокой?.. Как их… птенцов этаких… поднять на́ ноги?.. Ведь… сказывали, будто… поправляться он зачал… Вот и поправился… на другой бок…
Сдерживая себя, всхлипывала она все реже. Катюха, глядя на бабку и думая о своем, тоже залилась горючими. Но Ефимья, будто вспомнив что-то очень важное, вскинула голову, на ощупь достала подол нижней юбки и стала громко сморкаться в него. Заодно и глаза протерла, дряблые щеки, до красноты надавила большой репчатый нос.
Плакать она перестала, с лавки поднялась, разделась и, шагнув к печному шестку, спросила:
— А ты чего реветь принялась? Тебе ведь поколь страшной весточки не было.
— Да что ж мне теперь веселиться, что ль, песни петь? — сердито отозвалась Катюха, рукавом вытирая слезы.
— Ох, милушка, и без песен — кадык тесен. Да, видно, уж как замешано, так и выхлебать придется… И кто же замешал, кто заварил эту кровавую кашу? Провалиться бы тому да не воскреснуть!..
— Кто замешал, тот, небось, и войны-то никакой не видит, — заметила Катюха. — А мине уж полгода от Васи ничего нету.
— Знаю, касатушка, и твою беду знаю… Вижу, как вянешь ты. А головушка-то, знать, вскорости с моей цветом сравняется.
— Увидел бы Вася эту сивую головушку, отвернулся б, наверно.
— Не то говоришь ты, Катя, не то, — возразила Ефимья, доставая горшок из печи. — Ведь всякий цветочек алеет, поколе молодеет; станет стариться, побуреет. Сам-то он, Вася твой, тоже, небось, не раздобрел под пулями да в окопной грязище. Не глупее же он нас с тобой… А ты чего эт в шаль-то эдак закуталась? В избе, что ль, холодно?
— Да ведь худой поросенок и в Петровки зябнет.
— Ну, вот чего, поросенок, — враз построжала Ефимья, — зачи́вреешь ты в этой доброхотной тюрьме. Неси-ка ноне сама готовую работу. Попутно и новых заказов поспрошаешь. А я в Самару наведаться вознамерилась. Узнаю там, что и как, да хоть могилку Пахомушкину понаведаю. Раньше-то не собралась, дура старая! Дак ведь домой ждали солдатика, — словно бы оправдывалась бабка, наливая щей из горшка. — Назавтра же и отправлюсь по чугунке.
Слова эти прозвучали приговором для Катерины. Поняла она, нутром почуяла, что неизбежны какие-то перемены в жизни, только опять же недобрые, кажется, это перемены. Ведь ежели среди бела дня придется по городу шастать, то непременно на какого-нибудь знакомца нарвешься. А что из этого выйдет?
Хлебая горячие щи, Катерина думала о своем и не понимала вкуса этих щей, не слышала, что еще говорила Ефимья. А та, заведя издалека, сетовала на дальнюю, незнакомую дорогу, на предстоящие расходы, на трудности задуманного предприятия. И вдруг донеслось до слуха:
— А ты уж денюжек-то мне из этой выручки поболе удели. Коли не издержу все-то, дак привезу, копеечки на ветер не брошу.
— Да какие счеты! — обиделась Катюха. — Ты, баушка Ефимья, вроде бы у воды стоишь и пить просишь. Как же я откажу тебе, коли пригрела ты меня в такое вот страшное время!
— Да ведь сказывают: брат не брат, а денюжки не родня, — возразила Ефимья.
— Нет, баушка, нельзя нам по-другому — что есть, дак вместе, и нет, дак пополам. Куды ж я головушку свою преклоню без тебя?
— Ну, будя тебе, будя, — обрадовалась бабка, что не ошиблась в расчете на постоялку. — А ты как пойдешь по заказчикам, посмелее держись, палец-то в рот им не клади — откусят. А нам по-сиротски лишняя копеечка не помешает.
13
До тошноты наслушавшись бабьего воя на собственных проводинах, причитаний загробных, наказов беречь себя и писать чаще, Макар еще с вечера надумал бесповоротно избавить себя от этого шума как можно скорее.
Хоть и немного водки сберегла Дарья для столь значительного случая, но поскольку дед и Настасья не пили вовсе, сама Дарья и Марфа лишь пригубили для виду, то Макару с Тихоном досталось порядочно. И все же сидели мужики трезвехонькими, еда не шла. Макар словно бы торопился опростать посудину с горькой да скорее кончить сиденье, для всех тягостное.
Разлив остатки на двоих с Тихоном и поглядывая на притихших баб, Макар поднялся, разгладил свои усы пшеничные и молвил торжественно:
— Ну, вот чего, родные мои. Мокроты понаделали тут бабы, хоть болотные сапоги надевай да броди, а лекше от того не стало и не станет. Потому долгие проводы — лишние слезы. А давайте-ка на другой бок подумаем. Счастье, оно, конечно, не конь, хомута на его не наденешь и не взнуздаешь, но Василий вполне может быть пока живой. Хоронить его погодим. Ежели тама всех не побьют, ворочусь и я непременно. А вы тута, — хитро подмигнул он Ксюше и допил из стакана, — а вы тута, може, и свадьбу какую сыграете…
— Гляди ты, ерой какой сыскалси, — воспротивилась перелому настроения Марфа. — Всех он одолел и домой воротилси! Коза вон с волком тягались, дык рога да копыта остались.
— Не каркай ты, Марфа, Христа ради, — остановил ее Тихон. — Дело говорит Макар. А слезы и впрямь поберечь бы не мешало поколь. Много их, знать, понадобится.
Макар между тем оборотился в угол, достал с божницы икону и, толкая ее в руки ничего не понимающего деда, попросил:
— Благослови мине, батюшка, да и прощаться станем.
— Куды ты заторопилси-то? — возразил дед, нерешительно принимая икону. — Утром благословлю да и поедешь. Негоже ведь после водочки под благословенье-то становиться.
— Э-э, батюшка, чего уж там! Какая это выпивка, счет один. Отец Василий вон полштофа принял да в храме после того Патьку нашу окрестил на страшно́й неделе, — настаивал на своем Макар. — Рано мы уедем, провожать не приходите. Теперь вот попрощаемся — и все.
Не стал дед противиться настоянию сына, хотя и поспешности его не понимал, и упоминание об отце Василии не одобрил в душе. Благословил он ратника, распрощались все, как полагается, и ушли.
А у Макара в душе творилось что-то неведомое и вроде бы неожиданное. Конечно, радости предстоящий отъезд не вызывал. Но и ни страха перед грядущим, ни горечи расставания с родными, ни сожаления о покидаемой мирной жизни — ничего такого он не испытывал. А витало над всем этим какое-то незнакомое и непонятное облегчение. Он долго не спал и не вдруг сообразил, с какой стороны явилась к нему эта легкость в столь не подходящий, казалось бы, момент.
Дарья всю ночь лила слезы, не давая подушке просохнуть, и это «отпевание» еще настойчивее торопило Макара выбраться из родной избы. Он до мельчайших подробностей вспомнил момент, как ужалил Кестер инженера Зурабова за то, что тот будто бы прячется здесь, в шахте, от призыва в армию. Как взбеленился Яков Ефремович от этих слов, как схватились они за пистолеты, как разнимали их, что говорил потом Зурабов — все вспомнил. И хотя сам он ничего не предпринимал для отсрочки призыва, где-то подспудно гнездилось в нем непонятное и почти неуловимое чувство неловкости, этакой пришибленности. Может, оттого манило его одиночество, оттого и на охоту из хутора сбежал…
В город выехали они с Дарьей до́ свету, словно бы воровски. Ребятишек будить не велел Макар. Влез на полати, на Зинку с Федькой поглядел пристально и, не тревожа их прикосновением, попятился назад, путаясь обутыми ногами в большой ватоле. После того протопал в горницу, склонился над зыбкой и, разгладив усы, едва коснулся губами нежной Патькиной щеки.
Зинка остается хозяйкой в доме. Ежели неустойка выйдет в ее хозяйских делах либо с Патькой не сумеет справиться, тогда пошлет Федьку к Настасье — на выручку ее позовет.
В розвальнях, заваленных сеном, лежал Макар по-барски — конем правила Дарья. Всю дорогу дивилась она поведению мужа. То он вскакивал и обнимал ее, то принимался неловко, неумело целовать заалевшие от морозца щеки, клещом впивался в мягкие губы и все уговаривал Дарью не ехать с ним на станцию, а довезти лишь до города и сразу вернуться домой.
Где-то на полдороге согласилась она с доводами мужа о том, что лишние часы толкотни на сборном пункте, ожидания отправки на станции ничего хорошего ей не принесут, а ребятишкам до поздней ночи одним бедовать придется.
Рассвет подступился незаметно, и был он серый, неуловимый какой-то, тягостный. Низкие лохматые тучи медленно плыли с запада, словно бы нехотя роняя крупные редкие снежинки. Так же серо́ и тоскливо было на душе у Дарьи. Хоть и согласилась она не провожать мужа до отправки эшелона, но сделала это вопреки своей воле и незаметно для себя искала какую-нибудь зацепку, чтобы отказаться от этого уговора.
— Слышь-ка, Макар, — молвила она после долгого раздумья, — враз да еще отсрочку тебе дадут? Чего ж ты пешком, что ль, домой-то воротишься?
— Х-хе, Дашуня, — усмехнулся Макар, — да нешто такое бывает, чтобы ружье стрельнуло, а пуля назад воротилась? Гляди ты, чего ей приблазнилось! Да ежели и выйдет какая заминка, так сам попрошу не ворачивать назад.
— Ой! — со стоном вырвалось у Дарьи. — До чего ж тебе вся родня надоела, а жена законная, знать, больше всех.
— Нет, женушка милая, никто не надоел. А совестно мне оставаться дома…
— Ишь, совесть его извела! — перебила Дарья. — Да то ли один ты в хуторе остался!
— Один и есть. Всех годков моих давно побрали, и помоложе какие, всех подчистили, и старшие тама многие. Всех я по пальцам пересчитал… А надысь бабка Пигаска мине у двора встрела, ровно до пяток глазищами пронзила да ехидно так спрашивает: «Волю-то не дешево, знать, купил, соколик?»
— Мало ли чего бабка сморозит, — возмутилась Дарья.
— Да не в ей одной дело и не в том, что другие так же могут подумать. А как глядеть в глаза овдовевшим бабам, как сиротам в глаза глядеть, скажи ты мне!
— Для того ты надумал своих сирот скорейши понаделать, а мине вдовой оставить?
— Не дури, Даша. Чего ж мы красивше других, что ль? Ведь я и так чуть умом не тронулси. До людей дело не дошло, а вот собаку Прошечкину пришиб ни за что ни про что…
— Да с чего ж бы это?
— Помолчи да выслушай все… Я и теперь в толк не возьму, для чего стрельнул по ей…
Дарья угнездилась в сене, как наседка, и, не перебивая мужа, выслушала его откровение до конца. Потом, вглядываясь в едва задернутую розоватой пленкой отметину от Гаврюхиных зубов на скуле у Макара, с усмешкой сказала:
— Собаку ни за что убил, а сами посля того, как кобели, грызлись. Ну, коль невтерпеж, так побили бы друг дружку по-людски, кулаками, что ль. Для чего было рожу-то похабить?
— Э-э, Даша, эт завсегда так бывает: богатый в драке берегет рожу, а бедный — одежу. Глянь, шубенка моя целехонька. И Гаврюхе я ничего не попортил, кроме бороды… Борода отрастет, скула заживет — вроде бы ничего и не было.
— Нет, Макар, — возразила Дарья, своя кожа шубы дороже. Чего ж ее зря-то рвать?
— Подумаешь, кожа. Вот бы на войне такая же драка была: ружья в сторону, шашки долой и — стенка на стенку!..
Макару хотелось побалагурить, чтобы отвлечь Дарью от тяжких мыслей, но, приподнявшись на локте и увидя пригородные мельницы, сменил разговор, поскольку времени на пустые слова уже не осталось.
— Даша, Даш… ты хоть и бойкая до невозможности баба… Бешеного цыганского жеребца и то вон как уездила. Ведь сам тот цыган, хозяин, не мог на его сесть, а ты укротила такого зверя…
Макар лихо крутанул свой пшеничный ус, всунул его в рот и зажевал, будто норовистый конь, подскочив к барьеру, затоптался на месте. А Дарья глядела на него недоуменно и никак не могла сообразить, для чего это припомнил он давнее лихачество ее.
— Какой-нибудь завалящий мужик не подступится к тебе… Но ведь бывает же с бабами… с тоски… они и по своей охоте поддаются…
— Ах, дак вот он об чем! — перебила Дарья. — Башку под топор несет, а в той башке не об детишках оставленных думы, не об муках бабьих, а вон об чем!
— Ну, Даша, ты…
— Да вы сами-то, — взорвалась Дарья, — мужики окаянные, чуть от своей бабы отворотилси, уж на чужую глаза пялит.
— Не все такие, Даша. А коль бывает чего, дак, може, оттого, что своя баба плохо привечает.
— Черт вам угодит! — вскрикнула Дарья. От их шума конь заволновался и побежал быстрее. — Сколь волка ни корми, он все в лес глядит.
— Да не шуми ты, ради Христа, — взмолился Макар. — Гляди, вон Рыжку и то напужала… Ну, бывает, что пошаливают иные мужики, дак ведь не все такие…
— Вот и бабы не все такие.
— И опять же, слышала, небось, чего старики-то сказывают, — гнул свое Макар. — Мужнин-то грех за порогом остается, а жена все домой несет. Оттого мужику завсегда больнее от бабьего греха.
Раньше Дарья не слышала такой пословицы и была удивлена ее простоте и правде, оттого с возражением замешкалась. А Макар, видя ее замешательство, подумал, что снова обидел жену, и, не желая добавлять горечи в последние минуты перед расставанием, заговорил торопясь:
— Ладноть, Даша, ты уж мине прости, непутевого дурня. Да и прощаться, знать, пора приспела… Во-он до того краю татарского кладбища довезешь — и будя. Домой поворачивай. А я по-солдатски, с котомкой, по городу пешком вдарюсь.
Слова эти повернули Дарью к жестокой действительности. Ни согласиться с мужем, ни возразить ему она уже не могла — слезы хлынули сами собой и отделили ее от мира водянистой пеленой. Все поплыло вокруг, а горло перехватила колючая горечь.
— Э-э… — заикнулся Макар и суетливо ткнул руку в карман полушубка, доставая оттуда бумажный кулек, — вот чего, Даша, конфетков надысь купил я у Прошечки… отвези ребятишкам от мине, будто из городу…
Уразумев, что гостинец этот купил он за́годя, что давно обдумал, как и где проститься, Дарья задохнулась в рыданиях и мокрым лицом прижалась к щеке Макара. Потом с перехватами выдохнула ему в ухо:
— Ах, кабы завсегда ты таким вот догадливым был!
Макар между тем перехватил у Дарьи вожжи и, пропустив две встречные подводы, круто развернул коня в обратный путь и остановил его.
Суетливо выскочив из дровней, Макар наклонился, чмокнул Дарью куда-то в висок и, приподняв котомку, сильно ударил вожжой коня. Дарья, захлестнутая новой слезной волной, обернулась в санях и, утирая лицо варежкой, с укоризною простонала:
— Чего ж ты заторопилси-то, как на пожар!
— Все, Даша, все! — крикнул вслед Макар и остановился посреди дороги. — Сколь же можно терзать себя этим самым прощанием?! — это уж он для себя сказал, потому как Дарья слышать его не могла. Рыжка уносил ее все дальше и дальше. Косой полет редких снежинок все плотнее штриховал белесую, мутную даль, и скоро подвода стала превращаться в большое размытое пятно.
Сдернув с головы шапку, Макар широко помахал ею и понял, что не только от снега рябит в глазах — жгучую влагу ощутил на веках, утерся шапкой и, повернувшись кругом, едва успел отскочить с дороги: прямо на него бешено летела тройка вороных коней.
— Тьфу ты, корявый разбойник! — выругался Макар вслед уносящейся тройке и, накинув шапку, шагнул на дорогу. — Ведь без фронта оставил бы Дарью вдовой, а детишков — сиротами… Никакой войны для его нету! Никакое горе к ему за семь верст не подступится — все золотом отшибет… И до чего ж люди неровно живут — одни в муках, в слезах тонут, другие в богатстве, в радостях захлебываются… Вот бы нашелси человек да поделил бы на всех по́ровну и радостей, и печалей… — И сам себе усмехнулся Макар, шагая по пустырю к первым домикам Гимназической улицы. — Нет, у одного силов на такое дело не хватит. Мы, понятно, свое горе хоть кому бы и за так отдали, а вот он, вражина, небось, не захочет поделиться своим достатком. В драку полезет, воевать зачнет, зубами в любое горло вцепится, а гроша ломаного не уступит.
Самоедов это, Егор Прохорович, проскакал, богатый золотопромышленник и разгульный повеса. Вся округа знает его. И в лицо признать не ошибешься: корявое оно у него до безобразия, тонкие губы и нахальные коричневые глаза, реденькие темные бакенбарды цепляются волосок за волосок. Ни усов, ни бороды не носил.
— И скажи ты на милость, — не мог унять своих взбудораженных мыслей Макар, — с рожи болван, а во всем ему талан. Жена, сказывают, красавица писаная и молодая. Видать, за деньги красоту свою продала да теперь на этакую харю любуется… Не зря, знать, сказано: были бы денежки, полюбят и девушки. А ведь его рылом только детишков пужать малолетних… Небось, из городского бардака в Кочкарь к себе скачет. В Малоказарменском переулке таких заведений хватает. А рабочие на Прийске тем временем золото ему черпают, — распалялся Макар, не замечая, что вошел уже в улицу и начали изредка встречаться прохожие.
Черт поднес этого Самоедова! Все другие мысли будто провалились неведомо куда. Ненасытным клещом впился в башку нахальный повеса и развратник. Летал он по уезду на лучших тройках, никому не позволял обогнать себя. А ежели такое случалось, лупил кучера кулаками по спине и по голове, заставляя хоть своих лошадей угробить, а смельчака опередить и тройку поставить поперек дороги. После того требовал продать коня за любую, самую баснословную цену. Не согласится на то человек — Самоедов в ухо тому коню выстрелит, а хозяину бросит денег, сколько вздумается, и скачет дальше. Судиться с ним никто не решался.
А то, бывало, едет в город на базар, впереди башкирец с бочкой дегтя — тоже на базар поспешает. Бочка стоит на дрогах, а сзади у нее, в днище, — кляп забит. (Это чтобы при продаже наливать удобнее). Пошлет Самоедов кучера, тот выдернет кляп и забросит. За стуком колес башкирец не услышит из-под лисьего треуха клокотание дегтя. Хлещет он по всей дороге. А Самоедов, приотстав от дегтярных брызг, едет сзади тихонечко и заливается до слез невинным волчьим хохотом. Потом, когда ополовинится бочка, тронет кучера Самоедов и, обгоняя, бросит ошеломленному, ничего не понявшему башкирцу четвертную.
Деньги, конечно, немалые, но не всякому, уважающему свой труд, радостно получить их. Ведь человек, чтобы добыть бочку дегтя, просидел в лесу, может, целое лето. Выходит, насмеялся над его честным трудом лиходей!
Так же вот, на ходу, поджигал он у мужиков воза сена, а потом так же лихо бросал хозяину деньги за сено и за сгоревшие дровни, если не успевали выдернуть их из-под огня…
О множестве диких проделок Самоедова знают все. Знает о них и Макар, потому чувствует себя оскорбленным, униженным — идет сутулясь, будто пришибленный. И будь под рукой у него винтовка в тот момент — не удержался бы, саданул бы в разбойную башку, не успев подумать о Дарье и ребятишках.
«Издевается такой вот хлыщ над людями, топчет их, как назем, — злобно думал Макар, почти вслух выговаривая слова и не замечая встречных, — а ты гляди на его да не вздумай чего сказать — обозлится, поганец!.. Нет, такого словами не уговоришь… такому пулей только и можно заткнуть глотку… А винтовку-то мне скоро дадут… дадут винтовку-то… дадут… — словно заело в мозгах у Макара. Потом горько усмехнулся: — Х-хе, винтовочку дадут, кашки в котелок мне кинут да на германца пошлют — дерись, сукин сын, а тута Самоедов…»
Нечаянно взглянув перед собой, Макар так и остался с разинутым ртом. Шагах в десяти от него навстречу шла Катерина Палкина — дочь, стало быть, Прошечкина. Признала она земляка раньше и глядела на него пристально. Взглядом, видать, и оторвала его от глубоких мыслей. Макар даже притормозил чуток, будто проверяя себя — не ошибся ли.
— Катька, пропащая! — вырвалось у него.
Подскочив к ней, протянул руку и уже ласково, даже как-то вкрадчиво поприветствовал:
— Здравствуешь, Катя!
— Здравствуешь, дядь Макар! — ответила она с придыханием и едва слышно, будто призывая и его не делать лишнего шума.
Будь на месте Макара кто-нибудь другой из хуторян или станичников, успела бы Катерина вскочить в первую встретившуюся калитку, потому как предлог зайти в любой дом был у нее неподдельный: спросила бы, нет ли заказов на вязанье. Но уйти от Макара она не могла, иначе, когда же еще подвернется такой случай, чтобы узнать о Васе.
Сойдясь вплотную, они помолчали, не зная, с чего начать разговор. А Макар, оглядевшись, заметил с удивлением, что и мужская гимназия, и городской сад остались позади. Бросив котомку на обочину тротуара, достал кисет и, свертывая цигарку, вперился взглядом куда-то в верх лба, словно пытаясь заглянуть под пуховый платок на голове Катерины.
— Э-э, милая, да кто ж эт тебе волосы-то эдак выбелил? — спросил он и чиркнул спичкой по коробку.
Страдальчески глядя на него, Катерина подхватила котомку и позвала:
— Сойдем с дороги-то, дядь Макар, чтоб не мешаться тута.
Она отошла назад, подвернула к чьим-то воротам и, став к ним спиною, опасливо следила из-за плеча Макара за тротуаром и дорогой — мало ли кто там еще пойдет или поедет! Макар понял этот маневр — полы шубенки своей распахнул, воротник поднял, чтоб не признать его сзади, приблизился к Катерине.
— Дык из-под воды ты вынырнула аль из-под земли? — спросил он.
— Из облака выпала я, дядь Макар. Там и волосы снежком побелила.
— Ну, а все ж таки, где ты была-то, где жила столь время?
— Тута вот и жила, в городу…
— Ей-бо?
— Да чего ж бы мне врать-то, коль не укрылась я от тебя? Отсель и Васю на войну проводила…
— М-мм, — о многом враз догадался Макар. — Вот отчего, стало быть, удрал он в ентот раз прямо в ночь. И провожать, никому не велел.
— Вы уж на его не серчайте, — вступилась за Василия Катерина. — Только нам та ночка на двоих и досталась… На станцию-то не ходила я его провожать: полхутора тут наших было на про́водах, да и из станицы, небось, не меньше.
— Пишет он тебе аль как? — с надеждой спросил Макар.
— Писал, — прослезилась Катерина, — часто писал, да теперь уж, никак, с полгода ничего нету. А у вас-то слышно чего-нибудь про его?
— Да вот и я туда же с котомочкой топаю, — сказал Макар, будто не слыша вопроса и стараясь хоть на время уклониться от главного, — на станцию пока, ну а там, глядишь, в скорости и с германцем встренуться пофартит. Не видались ведь с им, считай, сроду.
— А тетка Дарья-то где ж? Никто, что ль, тебя не провожает?
— Заворотил я ее от татарских мазарков домой. Чего ей тут до вечера со мной колготиться!
Выглянув из-за плеча Макара на дорогу, Катерина дрогнула, как от грома, побледнела и, ткнувшись лицом в его распахнутую грудь, страстно запричитала:
— Спаси, спаси мине, дядь Макар! Не выдавай!
— Чего ты? — не сразу понял Макар.
— Да все они, все вон едут: и свекор-батюшка, и свекровушка, и Кузька с ими…
Запахнув ее полами полушубка и прижав к себе, Макар из-за поднятого воротника покосился на дорогу и увидел уже проехавшую в дровнях семью Палкиных. Сзади за санями на привязи шел строевой гнедой конь Захара Ивановича. За ним тянулась целая вереница подвод с казаками и бабами станицы Бродовской.
Казаки ехали хмурые, невеселые. Бабы с ними — поникшие и убитые. А на одной подводе, где-то в хвосте обоза, собралось человек пять молодых казаков. Эти зубоскалили и ржали на всю улицу. Увидев у ворот мужика в обнимку с бабой, они смекнули, видимо, что тут прощаются не муж с женой, и понеслось оттуда:
— Гляди, гляди, как он ее жмет! И людей не совестится.
— Худое дело, коли жена надоела! К суседке, видать, прилабунилси.
— А у наших казаков обычай таков, — выкрикнул кто-то постарше, уже издали, — поцеловал куму, да и снасть в суму!
Замыкал обоз Иван Васильевич Смирнов. Он ехал на высоком чалом коне в полной казачьей обмундировке, с шашкой на боку. На выкрики молодых нахмурился, провел рукой по широкой бороде, будто погладив ее, и зычно крякнул, ничего не сказав. Но голоса́ враз поникли, сгасились, уходя вдаль.
— Проехали, что ль, черти окаянные? — шепотом спросила Катерина, все еще прижимаясь к Макаровой груди и боясь шевельнуться.
— Проехали, — вздохнул Макар, только теперь поняв горькую участь этой женщины: ведь ей и по улице-то ходить опасно.
Катерина отодвинулась от него к воротам и, вытирая слезы, опять спросила:
— Дык про Васю-то чего ж ты ничего не говоришь?
Макар снова в карман за кисетом полез, нахмурился, долго с цигаркой возился и, прикурив, тяжело выговорил:
— Бумага пришла, будто бы пропал он без вести…
Катерина не заплакала. Словно голую в прорубь ее опустили. Задохнулась и через силу выдавила:
— Давно?
— Вчерась… Не видал я той бумаги. Сказывают, и Шлыковым такая ж бумага об Гришке пришла.
Не удержалась бы, наверно, Катерина — в голос бы заревела, но снова сжалась вся и приникла к Макару.
— Чего там опять? — тихонько спросил он, втягивая голову в воротник.
— Трое конных полицейских вон поехали, а с той стороны ровно бы ваш дядь Мирон едет.
— На нас глядели они?
— Кажись, нет. Разговаривают об чем-то.
— Ну и местечку ж мы выбрали для беседы! Тута, как на параде, все пройдут… Мирон-то ведь в полицию мобилизован… Ты вот чего, Катя… либо́ на другую улицу куда выбирайся, либо́ пересиди где до потемок. Нынче ведь в городу со всех волостей народ. Большая, знать, партия отправляется. Вон и свекор твой в полной обмундировке, с конем покатил. А Кузька, видать, совсем забракованный — в шубе и в малахае отца провожает.
— Никому этот Кузя не нужен, — вздохнула Катерина, — ни царю, ни добрым людям…
Сейчас она неминуемо повернула бы на Васю, но Макар, предвидя это, заговорил сам:
— Найдется и ему местечко хоть в тыловых частях где-нибудь. В станице-то, как и у нас в хуторе, бабы одни да ребятишки остаются, так что скоро тебе и бояться некого будет. А поколь еще поостерегись чуток… Ну, прощай, Катя, двигаться мне надоть. Пешком-то не шибко скоро выходит, а шагать еще далеко.
Не запахивая короткой шубы, он подхватил котомку, повернулся резко и пошел.
— Дядь Макар, дядь Макар! — заспешила она вдогонку, словно боясь оторваться от спасительных ворот. — Не сказывай ты никому, что встрелись мы тута!
— Да что ты, — обернулся он на ходу. — Дарье своей и то не пропишу.
— А, може, Васю где встренешь, поклонись ему от мине!
14
К вечеру того же дня в одном эшелоне с казаками, только в других вагонах, на фронт ехали серые мужики из разных деревень и хуторов. Захватив место на верхних нарах в теплушке, Макар забился в угол и перебирал в мыслях события последнего дня. Да и другие тоже, видать, не оторвались в думах от родных мест, от повседневных дел и забот, потому беседа не завязывалась.
А у Макара к тому же никак не выветривался из мозгов предостерегающий шепоток Мирона перед посадкой в вагон:
— Ты язычок-то покороче держи тама: в кажном вагоне царевы уши подвешены. Они у его длинные — всех вас услышат.
— Дак ведь по туше и уши, — отшутился Макар.
— Верно, — согласился старший брат, — всякие уши по туше, а ты гляди, какие длинней да куда они поворачивают.
Мобилизованный в полицию, на службе Мирон узнал много такого, о чем раньше не догадывался. Теперь его не затащить бы на горячую хуторскую беседу и на аркане.
— Нищему пожар не страшен, а мине дальше фронта не ушлют, — не сдавался Макар. — А ты вот, ежели сможешь, Тихона побереги тута.
— Не хвались, идучи на рать, — осерчал Мирон, — хвались, идучи с рати. Дурная твоя башка ничего ведь не знает об том, чего творится-то кругом! С хутора из-за печки много ли разглядишь? Слушай, чего тебе говорят, да на ус мотай!
Макар и сам понимал, сколь коротки его знания об огромном мире, начинающем гневно клокотать с самого дна, от жару. И припекает мужика не только на фронте. Здесь тоже — до того затянуло облезлую мужичью шею, аж глаза на лоб лезут. А оттого мужик чуто́к пошире видеть начинает. И хоть неприхотлив и вынослив он, казалось бы, как ишак азиатский, но и его терпение выдохлось.
«Вот ведь на бойню-то везут мужиков с казаками в одном эшелоне. Но казаков потому и откармливал царь, земли им отваливал столько, что сами они с ней никак не управятся. Крестьянин опять же и батрачит на них. Налогов-податей с них не берут. За такие блага, пожалуй, не грех и повоевать», — думал Макар.
А мужик-то, за какие ж радости башку свою нести должен под топор? И на японскую мужика тащили, и на германскую теперь вот, и в мирное время служить иди…
«А взамен мужику чего? — чуть не вслух вопросил возбужденный Макар. — И ведь скажи ты на милость, помещики и заводчики, и купцы, и мещане, и казаки — все господами именуются. Только мужики да фабричные рабочие — скоты, выходит. Все в господа повылазили и едут на нашей шее!»
Захотелось Макару крикнуть об этом на весь вагон, выплеснуть всю горечь собратьям! Но предостережение Мирона сработало вовремя. Не крикнул, а только запыхтел, заворочался в своем углу и, перекинув котомку от стены на край нар, сюда же головой перевернулся, а ноги в темный угол вытянул.
К стенке вагона жестянка была пристроена — свечка в ней торчала, и маленький рыжий лепесток пламени колебался и прыгал в лад с колесами, вздрагивая на стыках рельсов. Между нарами, в центре вагона, — чугунная печка. Возле нее мужик сидит на перевернутом ящике — курит и огонек в печке поддерживает.
— Не спится? — спросил мужик, глядя на Макара.
— Да нет, чегой-то не выходит.
На противоположных нарах тоже вперемешку торчали с краю то головы, то ноги. Не поймешь, кто спит, кто не спит. А вернее всего — понял Макар — переваливаются в мужичьих головах те же думки, что и у него. Домашние заботы пока застряли там, а к ним лепится все прочее. И до казаков, и до царя, конечно, думки доходят. Но молчат. Похоже, опасаются по первости друг дружку.
Эх, разглядеть бы эти царские уши! Должны же они тут быть, коли Мирон говорит, что в каждую теплушку их всунули. Да ведь слушать-то им нечего, коли все молчат.
Спустился Макар со своих невысоких небес, подхватил хлипкий ящичек — горкой они у стены набросаны и под нарами, видать, для растопки, — и, доставая кисет, подсел к печке. Свернул цигарку. Спичку не стал расходовать, приберег, приткнул цигарку к раскаленной дверце, подержал, пока задымилась, смачно затянулся.
— Откедова будешь? — спросил Макар.
Выбрал мужик уголек покрупнее, дверцу открыл, в печку кинул. Молчит. Роста он небольшого и в плечах неширок. Бородка светло-рыжая реденькая и усы такие же. По бледному лицу — конопатины. Шапка, кажись, заячья на затылке прилеплена. Короткая на меху поддевка, крытая бобриком, — распахнута. Поддевке той, прикинул Макар, лет двадцать с гаком будет — ворс на локтях до ниток протерт. И пиджачок на нем коричневый примерно такого же возраста.
— Ну дак чего ж ты молчишь-то? — не выдержав, опять спросил Макар. — Аль тайность какая имеется?
Мужик ухмыльнулся, растянув в улыбке блеклые губы.
— Никаких тайностев тут нету, — ответил он, — а вот ответить на твой вопрос затрудняюсь…
— Чудно́.
— Может, не так чудно, как невесело… Мать у меня рязанская, отец вяцкой. Царство им небесное, — перекрестился мужик. — На свет произвели они меня где-то в дороге из Вятской губернии до Камышлова — на своей кобылке года полтора ехали, с остановками. Рос в Ирбите и Невьянске. В Тавде робил, в Джетыгаре, аж в Читу черти носили… Да всего-то, поди, не перечесть. А баба у меня тутошняя, житарская. Она меня и заволокла в эти края. На Прийске у вас прилепился, балаганишко сляпал — три ступеньки вниз, — ковырялся тут в вашем золоте годов пять… Вот и суди после того сам, откуда и кто есть Андрон Михеев.
— Мда-а-а, — протянул Макар и будто нечаянно пробежал взглядом по нарам. Многие мужики уже не дремали, а внимательно слушали разговор. — Выходит, старатель ты приисковский. А детишки-то есть?
— Так и выходит: в старателях числился я по вчерашний день. Ноне вот солдатом, как и ты, делаться зачал. А детишки — как же без них, без детишков-то? Четверо по лавкам. Да махоньких померло с пяток, кажись. А ты сам-то из каковских?
— Здешний, с хутора Лебедевского. Потомственный хлебороб и лапотник — казаки нас так именуют. Они земелькой владеют, а мы ее, матушку, своими руками охорашиваем да им же за ее платим. А родители мои — тоже из Расеи, годов сорок тому с Тамбовщины на своей кобыле приехали, — не торопясь, толковал Макар. — Отец мой при крепостном житье на барщине горб гнул… Детишков трое. На одной лавке помещаются…
— Живой? — спросил Андрон Михеев.
— Чего? — не понял Макар.
— Отец-от, спрашиваю, живой?
— А-а, живой, только темным он давно сделался от натуги.
— На барщине ослеп-то али тут?
— Да чем она лекше барщины теперешняя жизня, — запальчиво сказал Макар и, опомнившись, метнул взгляд по нарам, будто надеясь приметить царские уши. — Тута и ослеп.
— Э-э, не скажи, мил человек, — возразил Андрон Михеев. — Сказывал мне упокойничек тестюшка, царство ему небесное, как при барах-то жили, — не больно велика радость. Плети да розги только и свистели по холопским спинам. А служили, сказывал он, по двадцать пять годов. Как в каторгу, на службу-то, провожали. Кого захочет барин, того и пошлет. Жаловаться некому. Барин мог тебя и забить до смерти, и продать, как скотину, — во всем его право. Барин моего тестя дак всю деревню целиком в карты проиграл. Вот какие дела-то, брат, вершились. А новой-от барин взял да и перевез выигранную деревню из Расеи сюда вот, за Кочкарь.
— Знаю я эту историю, — невесело подтвердил Макар. — И бывать в Житарях мне доводилось. И мужикам живется там не лучше нашего.
— А где им лучше вашего живется? — лукаво усмехнувшись, спросил Андрон Михеев. — Я вон сколь матушку Расею исколесил, до вашего берега догреб, а рая поколь не видать.
— Эй вы! Чего раскудахтались тама! — окликнул их кто-то из угла верхних нар. — Спать надоть, а на их разговор напал.
Андрон Михеев сразу язык прикусил. А Макар покашлял в кулак, соображая, кто ж это упредил их — наушник жандармский или добрый человек? Помолчали, пыхтя цигарками.
— Да пошел он к козе под хвост! — раздалось с противоположных нар. — Спать ему, видишь ли, помешали. Невелик господин — пущай дрыхнет. А вы, мужики, хоть сказку бы сказывали — все веселей будет. Скучища адская!
— Сказку? — спросил Андрон. — Можно и сказку… Дак это про стародавние времена, про барщину опять же… Вот, коли охота есть, слушайте.
— Спрашивает барин своего управляющего, кто, дескать, нам должен. А тот ему и отвечает, что, мол, господа Скобелевы по счету должны. «Да не об господах тебя спрашиваю!» — сердится барин. «А из холопьев, ваше сиятельство, — Трифон Хворый. На барщину который уж год не ходит и податей от него нет». — «Дак целоваться мне с им прикажешь! — злобствует барин. — Подать сюда Тришку!» — «Да, не ходит он, ваше сиятельство, — поясняет управляющий. — Лежит, как колода, запух и синий весь. Глядеть страшно. И дух от него идет непереносимый». Ну, значит, велел, тогда барин привезти холопа. Управляющий гонит его на поклон к барину, а мужик-от с телеги подняться не может. Хотели на руках его в дом втащить, да барин вовремя смикитил — сам во двор выскочил, чтобы, значит, покои не осквернить мужичьей хворью, и орет: «Ах, подлая твоя душа! Ах, разбойник! Притворяться вздумал, грабить барина. Да я с тебя семь шкур спущу!»
А мужик-от спокойно эдак глядит — все равно уж ему — да и говорит: «Шкура-то у меня всего одна, батюшка барин, да и та никудышняя, ничего ты не выкроишь из нее». — «Ах, дак ты еще вон как разговариваешь! Глумиться над барином вздумал! Это ты умеешь, а платить не умеешь». — «Нечем, батюшка, — мужик отвечает, — весь я перед тобой. Шкура моя и так тебе принадлежит с головой и с руками вместе, а душа — господу. Моего-то, вишь, ничего и нету». — «Ну-ну, говори», — подначивает барин. «Да вот я и говорю… Какой тебе прок от дохлого мужика? А ты бы, батюшка, отпустил меня на волю… Ведь руки-то у меня золотые… Коли не помру от недуга, обы́гаюсь — все тебе сполна возмещу…» Хохочет барин, не верит в уплату, а видит, что с Трифона ничего уж не взять, да и говорит, а сам ржет: «А ты, хам, поцелуй-ка вот этого мерина под хвост, тогда отпущу!» Ухватился за́ слово Трифон. «А чего ж, — говорит, — люди мы не гордые. Хуже барской скотины живем. Подымите-ка меня, робята. Поцелую, ништо́. Зато поглядим, сколь твердо слово барское». Ну, значит, поцеловал он мерина, сделал, выходит, что требовалось. Барину попятиться некуда. Выдал мужику вольную. Да еще домой отвезти велел.
А тут вскоре и всем крестьянам воля вышла. Завертелись мужики — кто возле барина, кто в город подался, на заработки…
Ну, значит, годов так с десять после того минуло. Мужики такими же сиволапыми остались, и господа не околели. Живут себе. Те же мужики на них и робят. И вот, значит, как-то по осени — слякоть была, грязь, холод — поехал тот барин в город верхом на коне. К вечеру домой возвращался… И тут, братцы мои, лиса из-под самых ног вынырнула. Барин — за ней, она — от него. Конь-от, понятно, не свежий уж был, пристал. По мокрой пашне да под семипудовым седоком не шибко поскачешь. А лиса — ну вот ровно того и ждала — далеко-то не уходит от охотника, то полем побежит, то в ко́лок вскочит, то снова оттудова выскочит да межой вдарится. Такая охота кого хоть раззадорит! От дождя и от поту до нитки промок барин. И от коня пар валит, пот глаза туманит. А тут сумерки падать зачали. Увидела, значит, лиса, что полем ей не уйти от погони, в лес вильнула, в кусты. Барин — за ней. Напролом полез промеж кусты да березы. Как выскочит конь из куста — да тут и рухнул! Оказалось, попал он в старый шурф. (До че́рта их тут в лесах-то. Я сам десятка два наковырял.) Конь-от провалился всеми ногами, а шеей на кромку ямы угодил. Хрипит — вот-вот задохнется, издохнет конь. А барин сойти с него не может — ноги придавило ему, заклинило с боков. Вот как попал в ловушку барин! И ругался, и лаялся по-всякому, да что толков-то. Давно уж ночь настала, как сажа, черная. На́ небе вызвездило, подмораживать круто зачало. Теперь другой пот барина прошиб — цыганский. От боли да от мороза чуть было не окочурился он. Конь подох, и барину это же подходит. И вот, братцы мои, слышит он по морозцу — телега недалеко забрякала. Дорога, стало быть, рядом где-то! И заорал из последних силенок: «Помо-оги-ите! Помоги-ите!» А телега-то, и верно, все ближе да ближе побрякивать зачала. Вот и рядом остановилась. «Пособи, добрый человек, — запричитал барин. — Бог, видно, послал тебя на выручку. До утра не дожить бы мне тут». — «Ой, да будто бы Федот Куприяныч!» — Это тот, который подъехал-то, говорит. «Я, — отвечает барин. — А ты кто, добрый человек? Назовись, век за тебя молиться стану». — «Не надо, — говорит это тот, который подъехал-то. — Не надо за меня молиться, свои руки есть… — Обошел вокруг ямы, оглядел, общупал все. — А вот вызволить-то тебя, барин, из этакой ловушки непросто… Ни лопатки, ни лома под рукой. А тут вот камни сплошные — зубом не отгрызешь». — «Не бросай! — завопил барин. — Христом богом молю тебя, не бросай!» — «Что ты, Федот Куприяныч! — мужик ему говорит. — Как же я тебя брошу! Ведь когда-то и ты меня выручил, али забыл?» Тут вот опять сделалось барину жарко: «Трифон, да неуж ты живой! А ведь я тебе все долги простил тогда». — «Ну, вот за те долги я тебя и вызволю, — посулил мужик. — Ежели лошадка моя поможет». Привязал он веревкой баринова коня за шею, за свою телегу зацепил да лошадью и потянул вбок дохлого коня. Завыл барин от боли, а ногу-то одну добыли. Потом и другую так же. Все хорошо, да только подняться-то на ноги не может барин — и все тут. Обошел его Трифон кругом, так и этак оглядел да и спрашивает: «Ну, а теперь чего делать станем?» — «Отвези домой», — просит барин. «Дак что ж мне за столько верст назад вороча́ться, а рано утром в город не поспеть. Стало быть, дорого́й подряд упустить, а ведь не каждый день такие подряды попадают». — «Отвези, Трифон, озолочу тебя и до конца дней молиться за тебя стану!» Ну, значит, подумал-подумал мужик, шапкой оземь хлопнул да и говорит: «Правда твоя, барин, всех денег все одно не ухватишь, да и твоих не надо. Только вот не на себе же я поволоку тебя — кобылка везти должна, а деньги ей ни к чему, уважь ты ее, поцелуй под хвост, и — квиты!» Заревел, затрясся в слезах барин. И деньги большие сулил, и золото, — это, чтобы, значит, честь свою выкупить и уберечь, — не сдался Трифон: «Наша, — говорит, — мужицка честь ни за деньги, ни за золото не продается». Поцеловал ведь, ребята, барин кобылку с другого конца. В самую ягодку! А Трифон-то пособляет ему, подталкивает его голову под хвост да приговаривает: «Не морговай, барин, кобылка чистая, завсегда ухоженная…»
Посмеялись новобранцы такому окончанию сказки, но вышло у них не дружно и не шибко весело. А Макар, свертывая новую цигарку, почесал за ухом и молвил:
— Сказочка занятная, хоть и невеселая по нонешним временам… Больно упал мужик, да встал здорово… А ведь выходит: будь ты хоть самый развеликий барин, а попадешь вот в такую ловушку, и вся твоя спесь мигом соскочит — кого хошь поцелуешь…
Никто разговор не поддержал. А у Макара мысли прямо в царя стрельнули, потом на Кестера перескочили. И до того все это заиграло у него в глазах, что Андрон Михеев попятился, вместе с ящиком отъезжая от печки, поднялся и, опережая Макара, сказал:
— Сказка-то, может, и занятная, а поспать все ж таки не помешает. Наш Бельдюгин все одно поспать днем не даст.
— А кто это — Бельдюгин? — поинтересовался Макар.
— Капитан, командир нашей маршевой роты, — пояснил Андрон. — Земляк мой, вяцкой… Да ты не видал его, что ли, как построение было?
— Нет, не видал, — покаянно признался Макар. — Припозднился я чуток.
— Ну, не беда — дорога длинная, увидитесь. Налюбуетесь друг на друга.
И полезли мужики на свои нары. У печки другой дневальный остался. И скоро спящих сопровождал лишь равномерный стук вагонных колес да изредка в разных углах раздавался затяжливый мужицкий храп.
15
Так вот случается иногда: живут рядом люди, многое друг для друга делают и со временем привыкают друг к другу. И надобно разлучить этих людей, хоть бы на время, чтобы они вновь, словно впервые, ощутили страшную, мертвящую пустоту там, где только что был невидимый, но дающий жизнь воздух.
Живя с бабкой Ефимьей в ее крохотной избушке на курьих ножках, Катерина до того свыклась со своими нехитрыми обязанностями, с простотою бытия, что порою теряла счет дням и неделям. Как во сне, постоянно мелькали перед глазами спицы, и, как спицы, мелькали монотонные, похожие друг на друга дни. Собственно, это была лишь видимость жизни, а сама жизнь теплилась где-то глубоко внутри, и измерялась она не днями и неделями, а промежутками от письма до письма. Получив от Василия весточку, она оживала на несколько дней, а потом снова наглухо затворяла душу и погружалась в спасительный полусон.
Ее не пугало, не удивляло и даже не заставляло задуматься почти ежевечернее повторение бабкой одних и тех же слов: «День да ночь — сутки прочь, все к смерти ближе». И не было ей дела до того, сколько в тот день событий минуло, сколько слез вдовьих, сиротских и материнских вылилось, сколько на войне кровушки пролито, сколько жизней загублено, да кто кого там одолевает. От всего мира отгородилась она ветхими стенами Ефимьиной избушки, пригрелась возле ее старой, потрескавшейся печи.
Но все это было, как теперь казалось, давным-давно. Четвертый месяц пошел с тех пор, как ринулась в неведомое путешествие бабка Ефимья, дабы спасти своим теплом либо хоть увидеть, как навеки закроются сыновние очи. В те же дни и Макар уехал. С дороги, из какой-то Орши, что ли, была от него короткая писулька, да на том и заглохло все. И бабка будто в воду канула, словно бы водяной ее слопал. А от Васи — целая вечность — десять месяцев нет ничего! А может, была та весточка распоследней? Может, давно не ходит он по белому свету, а расклевали его черные во́роны и косточки белые тлеют под непогодами.
И все-таки жадно молилась о нем Катерина, каждую ночь разговаривала, как с живым. И до того доходило, что являлся он к ней среди ночи — тощий, в чем душа держится, в одном нижнем белье, грязный весь, вшивый. Так и ползут они по рубахе и по подштанникам. Глаза угольками светятся, стыдливо прячет он их и молчит. Ни словечка не вымолвил ни разу.
Но были то лишь страшные сны и видения. В яви же начинала давить беспощадная нужда. Каждый день ходила она в поисках заказов и, ничего не найдя, возвращалась в пустую бабкину избушку. Ни козы, ни даже кошки давно в хозяйстве не было. Добрую половину мяса этой козы прихватила с собою Ефимья. Внучатам уделила сколько-то. А остатки расчетливо, с бережью доедала Катерина.
Миновали тоскливые, тягучие рождественские праздники. В ночь под Новый год пробовала Катя гадать. И на воске гадала — живой вроде бы Вася, и в то же время как-то неясно все это вырисовывается. Ничем не порадовал ее наступивший семнадцатый год, как и многие миллионы других людей, обездоленных войной.
Отчаяние породило в ней не то смелость, не то злое безразличие — по городу ходила почти без опаски, готовая встретиться с кем угодно из знакомых, и даже на всякий случай придумала хитрый разговор, чтобы заморочить человеку голову, будто не живет она в Троицке, а находится здесь проездом.
И, будто вознаграждая за смелость, судьба хранила ее от опасных встреч.
Однажды в начале светлого морозного дня, неранним утром, вдарилась Катерина в сторону Форштадта и забрела в Малоказарменский переулок. Дома тут стояли разные, но больше, видать, состоятельные обитали хозяева. Приветливостью своей, что ли, приглянулся ей небольшой дом — полуэтаж внизу, высокое парадное крыльцо, — в него и направила мученические свои стопы. Парадная дверь оказалась незапертой.
Перешагнув порог, она попала в небольшую, чисто побеленную залу с блестящим паркетным полом. Подоконники и рамы выкрашены белилами. На окнах — дорогие тяжелые шторы. Несколько небольших круглых столиков, на них — красивая чистая посуда. Возле каждого столика — по четыре венских стула, а возле стен — три мягких диванчика, обитых недорогой бордовой тканью. Портьеры на дверях, ведущих куда-то внутрь дома, — тоже бордовые. В углу на полумягком стуле стоял баян, прикрытый бархатной салфеткой.
Не понимая, куда она попала, и не видя хозяев, Катерина переступала с ноги на ногу, оглядываясь по сторонам, соображала. Может, кабак, это? Так уж больно чисто для кабака-то. И прилавка никакого нет, и вывеску с улицы непременно б заметила.
В это время половинка портьеры шевельнулась, мелькнула голова с закрученными папильотками, и послышался звонкий девичий голос:
— Зульфия Латыповна! Там девица к нам пришла.
Катерина так и стояла у порога, не смея двинуться с места. Через долгую минуту из двери выплыла дородная, вальяжная дама с высокой прической, в золотых очках, с черными усиками на полной верхней губе. Мочки ушей оттягивали тяжелые золотые серьги. Смуглую шею оттенял белый, круглый, широкий воротник, заколотый дорогой булавкой под двойным подбородком.
— О-о! — многозначительно сказала дама. — От такой я бы не отказалась. — И, не дойдя до Катерины шага три, остановилась, как вкопанная, сложив руки на высокой груди и пошевеливая пухлыми пальцами, сплошь унизанными разнокалиберными кольцами и перстнями.
— Здравствуйте, — робко молвила Катерина.
— Здравствуй. Зачем пожаловала?
— Да мне… — смешалась Катерина, — да я… работы себе ищу… вот узнать хотела, нет ли заказов… Ну, я хоть шаль, хоть кофту какую, хоть шапку из пряжи связать могу… Я все умею.
Живые черные глаза у дамы поблекли и как-то расплылись за стеклами очков. Она жеманно покашляла в пухлый кулачок и, опустив руку с оттопыренным мизинцем, грубо отрезала:
— Нет, таких заказов у нас не найдется. Да вы же знаете, что и пряжи теперь не купить. А вот работа для такой хорошенькой девицы у меня есть. Зачем тебе вязать? Завтра же ты будешь одета в прекрасное платье, и зарабатывать будешь много.
— Да что за дело-то у вас? — вырвалось у Катерины. — Какая работа? Может, я не сумею?
— Сумеешь, милая. Работа самая женская — гостей встречать, удовольствие мужчинам делать. Вот здесь и рюмочку выпить можно, и потанцевать с кавалерами. У нас не будет скучно.
«Скучно» произнесла она с таким нажимом, что вырвался звук, будто суслик подсвистнул.
Только теперь догадавшись, куда она попала, Катерина вспыхнула вся алым пламенем, опустила глаза и, словно падая назад, спиной надавила дверь и вылетела на крыльцо. Тут огляделась она — никакой вывески не обнаружила, а под тесовым надкрылечным козырьком приметила маленький красный фонарик. Но не горел он.
Торопливо шагая по проезжей улице, вспомнила когда-то слышанное:
Где красненький фонарик зажигается, Там и ворота сами отворяются.«Эк ведь куда черти занесли дурочку! — ворчала она про себя. — Да как ж эт я сразу-то не догадалась? Ну прям чуток в «работницы» не нанялась. Вот где монастырь-то женский!»
Она давно знала, что в городе много кабаков и домов терпимости. Есть они на Амуре и в Кузнецовской слободке, а тут, в Форштадте, и вовсе должно быть их много, потому как и казармы рядом, и Меновой двор недалеко, но обо всем этом она подумала только теперь и только теперь заметила, что идет обратной дорогой в сторону своей избушки, хотя делать ей там нечего.
Приближаясь к перекрестку, она решила свернуть на улицу Льва Толстого и в богатых домах поискать заказов. И тут обогнала ее подвода, проехав так близко, что кряслина розвальней шоркнула ее по левому валенку. Возница в санях, отворотясь от встречного колючего ветерка, прикрывался высоким воротником зипуна и ничего впереди не видел, зато назад был у него полный обзор.
Катерина еще не успела повернуть на тротуар по Толстовской, а возница, уже переехав улицу, вдруг натянул вожжи и, поворачивая коня, закричал сполошно:
— Эй, эй ты! Н-ну, барышня, постой-ка! Погоди-ка мине.
Похолодев от недоброго предчувствия, Катерина остановилась на углу тротуара. Мужик, путаясь в большом зипуне, надетом на дубленый полушубок, развернул подводу и остановился у самого угла тротуара.
— Здравствуешь, Катя! — хрипловато поприветствовал мужик, покашлял натужно и, смахнув рукавицей куржак с реденьких темных усов и такой же квелой бороденки, вперился в нее тоскливым взглядом.
Ничего не поймет Катерина. Сидит в санях мужик, не старый вроде бы и на молодого не похож. Баранья шапка на нем, щеки ввалились, а скулы торчат угласто, будто и кожей-то не прикрыты они, словно голые мослы выпирают. А нос у него вроде бы не тем концом пришит…
— Не признаешь ты мине, Катя, вижу, не признаешь, — разочарованно молвил мужик и, снова покашляв, сплюнул в снег. — А я вот, как глянул, так и признал тибе сразу, хоть и ты уж теперь не такая стала.
Катерина глядела на него во все глаза и не знала, как держаться с ним и что говорить — бояться этой встречи или радоваться.
— Ну, коль не признала, стал быть, поживу еще.
— Да кто ж ты? — весело вырвалось у Катерины, потому как где-то далеко в глубинах мозга догадка уже созрела.
— Да ну Ванька же я, Иван Шлыков…
— Ва-аня! — воскликнула Катерина и, легко перескочив с тротуара к саням, выдернула из варежки руку и протянула Ивану. Тот тоже скинул рукавицу и костлявыми пальцами до боли тиснул ее руку.
— Здравствуешь, Ваня! — говорила она, встряхнув надавленную руку и толкая ее в теплую варежку. — Гляди-ка ты, вышло-то как. А я ведь и не знала: живой ли ты, нет ли.
— Да я и сам давно уж похоронил сибе, а в запрошлом годе Рослов Макар с тятей барсука поймали, я его съел. Вот и пошел. Сала-то барсучья, она ведь шибко пользительная от чахотки. А ноничка по осени я сам еще одного выкопал. Теперь вот ем. В поле всю лету пособлял своим… Гришка-то наш, помнишь небось, какой богатырь был, да вот нету его, а я живой.
— Как — нету? — не удержалась от вопроса Катерина.
— Дак ведь в солдатах он был, прям с самых первых ден. С Василием Рословым ушли они. Тама вот на войне их обоих и порешили.
Над веками у Катерины косматые сумерки повисли при ясном дне, но успела возразить:
— А слух доходил, будто без вести они пропали?..
— Х-хе, без вести, — горько скривился Иван. — Как раз была такая бумага, кажись, в октябре, да вскоре потом другая пришла… В ей так и прописано, что побитые они. Сперва-то, видать, не разобрались тама начальники, либо не нашли их, побитых.
Подкосились у Катерины судорожно дрогнувшие ноги — свалилась на солому в сани.
— Катя! Катя! — встревожился Иван, не зная, что делать, и тряся ее за плечо. — Чего ты? Их тама вон сколь убивают ноничка, на всех и тоски не хватит.
Он уже стал оглядываться по сторонам — не позвать ли кого на помощь. Но Катерина открыла глаза, и тут же они стали заполняться слезами.
— Чего это с тобой, Катя, аль нездорова ты? Я тибе отвезу на квартеру. Ты где живешь-то?
Словно опомнившись, Катерина приподнялась на локте и, подавляя рыдания, горячо заговорила:
— Нет, Ванюша, никуда меня отвозить не надоть. Ты куда едешь-то?
— Да в колесные ряды заезжал — тележонка совсем развалилась у нас, — заказ тама сделал. К вечеру завтра приехать велели… Потом на Меновой двор сгонял. Теперь вот домой наладилси. Чего мине тута до завтрашнего вечера торчать?
— Ну, коль так, прокачусь я с тобой до Гимназической улицы, — согласилась Катерина, умащиваясь поудобнее возле него в соломе. — Не живу я здесь, Ваня. Проездом тут оказалась.
— А где ж ты живешь-то? — бесхитростно спросил Иван, трогая коня.
— Далеко я живу, за Самарой, в деревне. Да вот в Кургане побывать довелось, а теперь назад пробираюсь.
— Эт зачем же тебе в Курган-то понадобилось? — поинтересовался Иван и, как бы между прочим, добавил: — Не замужем ты еще?
— Да какое мне теперь замужество! А только ты не спрашивай ни об чем, Ваня, потому как ничего я сказать не могу, — снова прослезилась Катерина. — И прошу тебя Христом-богом, ни единой душе об нашей встрече не сказывай!
Иван осекся с вертевшимся на языке вопросом, однако ж не утерпел с другим:
— Эт отчего же такая тайность?
— Да какой же ты недогадливый-то, Ваня! Ведь слыхал, небось, что искали меня, как беглую каторжанку?
— Как не слыхать…
— Дак вот уж два с половиной года с тех пор миновало — попритихли все, успокоились. А скажи ты хоть одному человеку — ну, матери своей либо отцу — на другой же день весь хутор узнает. Там до наших дойдет, в Бродовскую, как пожар, перекинется. И взбаламутишь всех, снова искать примутся… Найти-то, скорей всего, не найдут, а мама небось умом рехнется. Понял?
— Да-а-а, — глубоко вздохнул и по-стариковски растянул Иван. Он лишь теперь, собрав в памяти все прежние слухи, сообразил что к чему. — Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу — так сказывают? Видал я, твою мать надысь. Волосы у ей из-под платка белейши вот этого городского снегу сверкают… А так, ничего, бодрая еще баба.
— А тятя-то каков?
— Да такой же, как был. Ничего ему не делается… А ведь я тибе, Катя, годов шесть либо семь не видал. Как захворал, так и не видал с тех пор. Совсем ведь помирал я тогда. А ты молоденькой девчонкой была, помню. Теперь уж вон, как у матери, в волосах-то у тибе засеребрило… А признал сразу. Прям, как глянул, так и признал!..
— На Гимназическую не выезжай, Ваня. Тама вон, да поворота, я вылезу.
— Как велишь, так и сделаю.
Много мыслей промелькнуло в голове у Катерины за эти минуты. От счастливого лета, когда становали на покосе рядом с Рословыми, когда виделись с Василием каждый день, а сердце полнилось восторгами. И свадьба, и постылое житье у Палкиных с ненавистным Кузей в Бродовской, и побег — все промелькнуло вплоть до сегодняшней черной ямы, в какую ухнула от Ивановых слов. Но мысли не стоят на месте — неудержимо идут вперед. И, еще смутно заглянув в завтрашний день, она чутьем начала что-то нащупывать.
— Ваня, — спросила она, выбираясь из розвальней, — а завтра ты один приедешь?
— Один.
— В какое время?
— Дак ведь к вечеру велели, а день теперь с гулькин нос — назад потемну придется ехать.
— Не боишься потемну-то?
— А чего бояться?
— А помнишь, как отца твого волк гнал от города до хутора?
— Да у мине вон вилы есть с собой.
— Поедешь по этой же дороге?
— А другой тута и нету… Ай нет, погоди… От мельниц там по пустырю на Уфимскую попасть можно, да можно и по Московской питомник объехать…
— Нет, нет! Чего уж ты колесить там станешь. Лучше тута вот и проедешь к колесным рядам. Ладноть? И ни одной душе не сказывай обо мне!
— Да не боись ты, Катя, ни единого слова не скажу и поеду вот по этой дороге, — указал он на Гимназическую и тронул вожжой своего Карьку. — Прощай, Катя, не боись! — Хлестнул коня и поплотнее запахнулся зипуном.
Сани, поворачивая, раскатились на некованых полозьях, мелькнули призрачно в солнечном свете морозного дня и скрылись за углом дома. Недолго Катерине выжидать придется, пока скроется Иван Шлыков. Пошла тихонько, заплетая ногу за ногу. По дороге сновали подводы. Подгоняемые морозцем, по тротуарам спешили куда-то горожане. Но она уже никого не видела.
Едва успев заскочить в избушку, на ходу скинула пальто и валенки и, набросив на плечи пуховую шаль, упала вниз лицом на постель. Теперь она дала полную волю слезам, горькой рекою смывая последние несбыточные надежды.
Нету, стало быть, Васи, нету родной кровинушки, милого, любимого залетушки. Да, не залетит он больше на своих крылышках в родные края. Не подойдет, не обнимет свою Катю. Не поддержит крепкой рукой, не скажет ни ласкового, ни бранного слова. Вся ворожба и сновидения сладкие — все это призрак, мельтешащий в угоду ее страстным желаниям.
Так пролежала Катерина не один час. Потом, когда схлынул горячий туман, когда вместе со слезами выплеснулся переизбыток горя, не вмещавшегося в груди, она почувствовала горькое опустошение внутри и жуткую, безбрежную пустоту вокруг. Негде опереться, не за что зацепиться, не на что надеяться.
Слез уже не было. Повернувшись на бок и тупо глядя на подернутое льдом окошко, она тяжко думала: «Да кто ж я теперь, кому я нужна? Не девка, не невеста, не мужняя жена, не вдова, не мать, не теща, не свекровка — беспутная одинокая баба, какой и терять-то нечего! Как полынь горькая придорожная: и плюнуть на тебя всякий может, и колесом наехать. Подойдет любая коза и сожрет».
И вдруг что-то встрепенулось в груди, восстало и забилось в слепом протесте.
— Да чего ж мне высиживать возля этой печки, для кого беречь-то себя?! — будто спорила она с кем. — Зря я сбежала от той золоченой тетки (как ее звать-то, забыла уж). Ну да фонарей красных полно в городу. Под какой-нибудь да возьмут… Хоть бы на месяц закатиться туда, да чтоб какой-нибудь хуторской али бродовский знакомый навестил это заведение. Тогда и монастырь не понадобится, и бежать никуда не надоть — Кузькина родня хлопотать не станет, и тятя родной к воротам не подпустит. Да он и теперь, может, не подпустит. Бабы в хуторе, небось, как куры от бешеной собаки, в подворотни нырять станут.
В избе давно уж потемки повисли, прохладно стало, и надо бы очажок подтопить, а она все лежала, выбирая, в какую петлю осиротевшую голову сунуть. Но потом одумалась, вздрогнула, соскочила с кровати, засветила трехлинейную лампешку и принялась растоплять очаг, приговаривая:
— Чего эт я, дуреха, эдак раздумалась, а враз да баушка Ефимья нагрянет. Не похвалит она за такие дела.
Как мал и ничтожен человек в своем одиночестве, как мало он знает о том, что вокруг происходит. Совсем бы не так думала Катерина, если б знала, что Шлыков Иван приехал в город вчерашним вечером, ночевал на постоялом дворе. В колесных рядах был и на Меновой двор заезжал, а между прочим, и веселое заведеньице под красным фонарем навестить не преминул. Об этом, конечно, не сказал он. А ей и в голову не пришло такое.
А еще, сойди она чуток попозже с высокого-то крыльца — как раз бы прямо на Ваньку и вышла. И тогда вся ее секретность определенно навела бы его на ту самую мысль. Окликнуть ее, конечно, посовестился бы он и, может, увез бы домой несуразную, гадючую весть. Попробуй потом докажи что-нибудь!
Но ни она не знала этой тонкости, ни он заподозрить ее не мог, поскольку не видел, откуда вышла Катерина. В ранние годы, хоть и была она чуть постарше его и надежды на ответное не предвиделось, тайно засматривался на нее Ванька. И теперь готов был сделать для нее все возможное. Она же его просто не замечала тогда, а в последние буревые годы и не знала, что жив он. Потому не пришло ей в голову, что посетить этакое заведеньице, куда она влетела в мыслях, мог и этот самый Иван.
Кизяки в очаге умиротворяюще потрескивали, а покой никак не овладевал ею. Мысли о скором возвращении бабки Ефимьи тут же истлели, а появились новые, неизбежные — как жить дальше? Где найти заказов?
И тут, будто сам собою возникнув, появился просвет: доехать с Иваном завтра вечером до хутора. Упросить его, чтобы ночью-то еще хоть бы верст пятнадцать подкинул в сторону Прийска, а там и добежать недалеко останется. Только теперь она осознала, что намерение побывать на Прийске, хотя и бесформенно, туманно, родилось у нее, когда с Иваном прощались. И выполнит она свою задумку непременно…
Вдруг от ворот стук пошел по избе. Насторожилась, собралась вся в комок.
— Да кто ж это? Неужли баушка Ефимья воротилась? Накинула шаль, в пимы на ходу вскочила и бросилась в сени.
Стучали негромко, с перерывами, будто несмело.
— Кто тама? — спросила она, подбегая к воротам.
— Отворите, Христа ради, хозяюшка! — послышался вроде бы девичий голосок с той стороны.
— А чего тебе надоть?
— Переночевать бы мне до утра…
— Одна ты, что ль?
— Одна.
Катерина прильнула к щели и, убедившись, что у ворот никого, кроме просительницы, нет, отодвинула засов. Во двор вошла девушка, закутанная шалью, в руках у нее — сумка.
— Ну, раздевайся, — пригласила Катерина, войдя в избу, — садись да скажись, кто ты, откуда. Звать-то как тебя, милая?
— Нюра я, Анна, — молвила девушка, снимая большую дорожную шаль. Пальтишко на ней было аккуратненькое — с меховым узким воротничком, на вате.
Раздевшись, она робко присела к столу, и Катерина разглядела в ней незаурядную красавицу. Такая была она ладная, будто точеная вся. Щеки с мороза разгорелись, а чуточку припухлые яркие губы так и цвели алым маком.
— В Кочкарь я пробираюсь, — продолжала она, принахмурив длинные бархатистые брови.
— Дак чего ж ночью-то и одна? Что за дело такое срочное?
— Мужик один на казенной паре по каким-то делам доехал туда и меня взялся отвезти бесплатно… — красивые губы растянулись у Нюры, скривились, она закрыла их ладошкой, и на нежные пальцы со щеки накатились слезы. — Едва из города выехали, приставать начал… А я укусила… его да из кошевы-то выпрыгнула, как отцепился он от меня… Вот и воротилась от свертка к мельницам.
— Ах, кобелина какой бесстыжий! — возмутилась Катерина, ставя на стол разогретый ужин. — Молодой?
— Лет тридцати, наверно.
— Нет, видно, девонька, не родись красивой, а родись счастливой. Такая уж судьба наша бабья. А живешь-то где?
— В Кочкаре.
— А в городу чего делала?
— Да тут, видите ли, какое… — запнулась Нюра, словно захлебнувшись горячими щами. Ела она аппетитно, с удовольствием. — Лучше уж все по порядку расскажу… Сирота я. В одиннадцатом году все мои примерли — отец с матерью, брат старший да сестренка была еще младше меня. Поехали мы пропитание искать под Гурьев. Хлеба не нашли, а маму с ребятишками там схоронили. Отец едва успел довезти меня до Кочкаря-то, да тут и его схоронили. Взял меня к себе крестный, дядя Федя. Своих-то детей у них нету, а дядя Федя сапожным ремеслом хорошо промышлял. Даже в голодный год лучше других мы перебились. А потом и вовсе безбедно зажили. Дядя-то любит меня… Учиться отдал. Хорошо училась я. Потом и в город в женскую гимназию определил. Да вот не доучилась. На той неделе взяли его в солдаты. Раньше-то все оставляли по болезни: грыжей он мается много лет. А теперь и больного забрали. — Она вытерла вспотевший белый носик концом цветастого платка, накинутого на плечи, и, сдерживая нахлынувшее вновь волнение, закончила: — Сюда за документами приезжала. Переночевала у подружки в Моховом переулке. Она мне попутчика найти помогла. Будто бы знакомый он ее отцу. А теперь далеко идти-то на тот конец, да и совестно после такого.
16
День прошел в хлопотах. Домовничать позвала Катерина бабкину сноху, а как стало смеркаться, сделала большую проталину в окошке и приникла к ней, как зверь, затаившийся в ожидании добычи. Ежели Иван не нарушит данного слова, то проедет непременно здесь и у ограды женского монастыря остановится, подождет с четверть часа.
Все было приготовлено в дорогу, и сидели они одетые, чтобы сразу вскочить и двинуться вслед за ним, потому как монастырская ограда длинная, и неизвестно, где он остановится.
Но ждать пришлось недолго. Ивана могла бы и не признать Катерина в потемках, да увидела новые белые колеса в санях. Ехал он неторопливой рысью.
— Ну, с богом, родимая, пошли!
Они захватили небогатые свои вещички, перекрестилась еще на ходу Катерина и, уже из сеней, крикнула домовнице:
— Дня через два-три ворочусь я! А ты ворота-то за нами запри!
В этот непоздний час городские улицы еще полны движения, да и пригородные дороги пока не пустуют. Припозднившийся путник спешит добраться к ночи до своего заветного огонька. А нашим путникам самое время отправляться в дорогу. Катерина, шагая чуть впереди товарки, сторонилась встречных и обгоняющих подвод, отворачивая лицо от проезжающих. Но делала это скорее по привычке, приобретенной в последние годы неприютного, тайного житья на свете. Прикрытая потемками зимнего вечера и ободренная тем, что наконец-то отважилась хоть на время покинуть свое убежище, она почувствовала в себе бесшабашность человека, которому нечего больше терять.
Различив у обочины неподвижные сани с белеющими на них колесами, она издали крикнула:
— Давно ждешь, Ванюша?
— Да вот остановилси только что. Неужели я обогнал и не приметил тибе? — Они поздоровались.
— А я вот с подружкой, и хочу просить, чтоб взял ты нас в попутчики до хутора.
Иван, выскочив из саней, подружнее уложил колеса в задке, перехватил их веревкой, поправил подостланное сено и предупредил:
— Сесть придется подружнейши.
— Чем дружнейши, тем теплейши! — подхватила Катерина, и, подталкивая Нюру, вскочила в сани, умащиваясь, как наседка, в сене.
— Эт чего ж ты, родителев, что ль, попроведать надумала? — спросил Иван, пустив Карьку рысцой.
— Нет, Ваня, туда мне дорога заказана. На Прийск пробираемся мы. А коли б ты нас уважил, так еще бы за хутор-то верст с десяток-пятнадцать подбросил.
— Да куды ж вас девать-то! — перешел и Иван на шутливый тон. — Я бы рад вас довезть до самого Прийску, да как на то Карька мой поглядит.
— Сдюжит, небось, твой Карька, — возразила Катерина. — Один-разъединый разок попросила я тебя, Ваня… И доведется ли еще когда встренуться нам — богу, знать, одному ведомо.
* * *
Богу, может, и ведомо все наперед, да не видно его и не слышно, бога-то. А люди копаются, возятся в потемках, ищут чего-то, стремятся, торопятся и на единый шаг впереди ничего порою не знают. Хотя всегда ждут от этого шага каких-то для себя выгод, за ними и гонятся, а попадают в такое месиво, какого никогда и не снилось. Не пустилась бы в эту неблизкую дорогу Катерина, знай она, что ждет ее в этот день на Прийске. И Нюру бы отговорила.
Желая продлить близкое соседство с такими хорошенькими спутницами, Иван довез их почти до самых приисковых Выселок и лишь оттуда вернулся домой.
Пока ехали они до Лебедевского, Катерина была на диво себе веселой и неугомонной. А как миновали родительский дом в хуторе — поникла, свернулась обваренным листом. Даже Иван, не отличаясь наблюдательностью, заметил это и пытался развлечь ее разговорами, но прежняя Катерина исчезла. Чувствовала, знала она, что не спала в этот момент мать, не однажды повернулась в постели и, может, еще раз проклял отец непутевую дочь.
А до этого проехали они мимо старой рословской избы, воспрянули в памяти дорогие и невозвратные встречи с Василием. Смешалось все, а в сердце уперся холодный железный костыль, и нет никакой силушки, чтобы вырвать его оттуда.
Более двух часов топали они по морозцу, пока добрались до Нюриной знакомой, тети Фени. Жила она, как и большинство здешних старателей, в балагане. Это — три ступеньки вниз, стены над землей порою всего на аршин возвышаются, два-три окошечка в них с куриный глаз, крыша — тоже земляная и опускается краями так низко, что на нее присесть можно. Буранной зимою случается, что заносит такие жилища «с головой», только труба торчит. Целыми днями потом откапывают хозяева двери и окна.
Тетя Феня — баба лет сорока, невысокая и плотная, как дубок, чуточку сутулая — приняла путниц радушно, покормила чем бог послал и спать на печи уложила в пятом часу утра.
— Сама-то я ложиться не стану, — пояснила она гостям, — дела есть, да и на работу скоро. А как пойду, разбужу тебя, Нюра, чтобы крючок на дверь-то, накинула. Еду вам сготовлю, а сама ворочусь нескоро, в потемках: шурф у нас далеко. Уходить соберетесь — ключ под рогожку возле двери суньте.
Первой проснулась Нюра. На правах знакомой тети Фени, она чувствовала себя хозяйкой и во всем опекала Катерину, называя ее то «тетя Катя», то просто «Катя». От этой путаницы сильно смущалась она и заливалась стыдливым румянцем. Желая хоть как-то отплатить Катерине за ее доброту, Нюра вызвалась проводить ее в несколько богатых домов, поскольку Прийск знала она хорошо, а Катерина совсем не знала.
Часа три мотались они по разным домам, но так и не нашли заказов. Катерина совсем пала духом.
Вернулись в Фенин балаган и расстались на том, что Нюра зайдет еще к своим знакомым и вечером отправится домой. Недалеко тут до Кочкаря — всего верст семь — пешком добежать недолго. А Катерина от нечего делать собралась заглянуть на базар, потолкаться там да еще поискать заказов либо приглядеть попутчиков на обратный путь.
Фенин балаган прилепился на задворках базара. Не желая колесить по узким кривым переулкам, Катерина выбралась на тропинку, что вела прямо к базару через небольшой пустырь, и пустилась по ней. Но шагов через тридцать тропинка, упершись в прясло, круто вильнула вдоль изгороди. На изгибе тропинки оглянулась воровски Катерина — никого не видать — и, шмыгнула между жердями в сенник, а из него — прямо в растворенные ворота какой-то громадной и богатой конюшни. По широкому пролету между стойлами прошла она чуть не до конца конюшни, и тут справа обнаружились еще ворота, которые вывели прямо на базарную площадь.
Базар по-зимнему глухо гудел простуженными голосами, скрипел полозьями. В разных концах, будто бы нехотя, пиликали гармошки. Из неплотно притворенных дверей кабака валил пар, как из бани, и скопом толклись там мужики.
«Где кабачок, тут и мужичок», — вспомнила Катерина отцовскую присказку и поторопилась отдалиться от пьяных. Проходя мимо подвод, она вглядывалась в лица баб и мужиков, боясь встретить знакомого и в то же время отыскивая человека, который мог бы сделать ей заказ.
Хотя и теперь здесь можно было купить и скот, и много разных товаров, но день был обычный, будний, да и он давно перевалил за половину. Солнце торопилось к закату, готовясь уступить место коротким зимним сумеркам, потому базарное многолюдье уже схлынуло.
Обежав ряды и успокоясь тем, что никаких знакомых здесь нет, Катерина остановилась у горшечного ряда, где прямо на утоптанном снегу стояли ла́тки, крынки, горшки, миски, кружки самых разных форм и размеров. Торговля в тот день у горшечников, видать, не бойкой была, потому сгрудились они — человек пять — в сторонке, постукивали нога об ногу в промерзших пимах, о чем-то беседовали. Наметанным глазом без ошибки определили: заглядывающая в фигурные кувшины — не покупатель вовсе, а так, «глаза продает».
Вдруг со стороны кабака шум раздался, крики, народ расскочился, будто от хлыста, образовав широкий коридор, а по нему шальная неслась тройка буланых коней. С ходу налетела она на горшечный ряд — зазвенели черепки, покатились битые крынки, горшки, кувшины, ла́тки.
— Гр-реми, Гавр-рила!!! — орал в кошеве хозяин тройки, колотя кучера в загривок.
А тройка, проскочив весь ряд, в конце площади развернулась назад.
— Самоедов опять бесится, дышло бы ему в глотку! — сказал один из горшечников. — Ну, робята, на этот раз не сдаваться — сорвем и за прошлое!
Они бросились к концу ряда побитых, изуродованных горшков, но тройка еще раз проутюжила их и, съезжая с последних черепков, Самоедов швырнул пачку рублей. Горшечники бросились собирать их, считать. Люди вокруг — кто хихикал, кто плевался вдогонку «потешнику», кто матерился, поминая бабушек, и дедушек, и душу, и царя, и царицу, и даже Гришку Распутина кто-то вспомнил. А Самоедов, остановясь напротив конюшни, кажись, затевал что-то новое. В одну минуту его окружила толпа.
«Господи! Господи, да как же ты терпишь такое надругательство над людями! — мысленно причитала Катерина, подвигаясь к толпе и оглядываясь на горшечный погром. — И где же, где у людей-то глаза? Куда глядят они да чего видят! Мужики вон лаются, а нет, чтобы палками его, аспида, вилами! Да все вместе. Потом и концов бы не сыскали… Люди добрые на войне вшей кормят да погибают, а этот чего тута…»
— Ишь ведь чего захотел, кобелина ненасытный! — перебила мысли Катерины толстая баба, закутанная шалью. — Бабу ему голую поглядеть надо. Кобылу вон мою погляди!
— С печи не лепечут, милая, — возразила ее соседка, — поди-ка да ему и скажи.
Толпа здесь делалась все гуще, все непроходимее, а Катерина пробиралась вперед, к центру.
— Ну, бабы, кто голой спляшет, сто рублей подарю! — несся из центра мужской голос.
— Холодно! — слышалось в ответ.
— Ты сам сперва голый спляши, а мы поглядим! Може, и нас посля заберет.
— Бабы, кто голый спляшет, катеринку подарю! — продолжал все тот же голос. — Ну, что же вы? Аль сторублевку задарма получить лень?
Но охотниц не находилось.
— Какая пляска без музыки! — раздавалось в толпе.
— А ежели мы голые хороводом круг тибе пойдем, дашь всем по катеринке?
— Оно бы и чарочку не помешало для смелости, — подсказал кто-то.
— Будет и чарочка. Н-ну, бабы!
Катерина пробралась к центровому пятачку. Одетый в меховую крытую шубу с бобровым воротником, в кошеве стоял мужчина лет сорока пяти. В протянутой руке держал он развернутую сторублевую ассигнацию и, потряхивая ею, дразнил окружающих. Шум стоял вокруг. Издали мужики и бабы выкрикивали разные скабрезности, а задумка Самоедова не выстряпывалась. Он устал держать протянутую руку и, вытаращив остекленелые пьяные глаза, сполошно заорал:
— Гавр-рила! Тащи стол из кабака!
Солнце уже скатилось за горизонт, морозец крепчал. Любопытные толкались вокруг тройки пьяного повесы, галдели на разные голоса, пытаясь предугадать, что же он еще придумал.
Здоровенный Гаврила приволок небольшой стол и хотел поставить его возле кошевы, но хозяин опять заорал:
— Вон туда, к воротам конюшни! Освободите проход! Гармониста сюда!
— Да я тута, — отозвался плюгавенький мужичок с гармошкой, стоявший недалеко от кошевы.
— Играй веселей! — приказал Самоедов и бросил ему под ноги смятую пятерку.
А на столе появилась распечатанная бутылка водки, стакан и кусок краковской колбасы. Гаврила отошел к кошеве.
— Ах, якри те, — зубоскалил, будто сокрушаясь, щупленький дедок, — за экую благодать и я бы сплясал, дак ведь меня голого-то родная старуха и то боится.
— Так какого же черта вам еще надо? — нешуточно свирепел Самоедов, потому как задумка его явно срывалась. — Водка — на столе, музыка играет… Н-ну, бабы! Не пропадать же добру!
Но и на это ни одна охотница не вызвалась.
— Эх, да я щедрый! — гаркнул Самоедов и, пылая корявинами злого угреватого лица, вышел из кошевы, размашисто хлопнул по столу и оставил на нем две сторублевых ассигнации. — Н-ну, бабы, бабы, кому такое богатство не лишнее? Пользуйтесь моей добротой!
— Добрый ты за мужичьим-то горбом, — прогудел сзади могучий голос.
Посмотрел в ту сторону Самоедов и, оставив на столе деньги, вразвалку, не торопясь, вернулся в кошеву.
«Ах, распоганый ты гад! — скрипя зубами, думала Катерина. — Тут жрать нечего, а он ведь, чем потешается. Н-ну, кобелиный ты выродок, образина ты сатанинская! Наплюю я на твою корявую харю — ночь спать не будешь!» — Правая бровь у нее надломилась, щеки от внутреннего огня задымились. Прикрывая лицо шалью, она вырвалась на проход, подбежала к столу и, налив чуть не полный стакан водки, выпила, стоя спиною к Самоедову.
Толпа зашикала, притихла. Только вовсю наяривала гармошка «Барыню». Схватив колбасу и на ходу зажевывая горечь водки, Катерина скрылась за воротным полотном и там спустила с себя все до нитки. Косу расплела, волосами прикрыла лицо и, ведьмой выскочив к столу, захватила в кулак хрустящие бумажки, смахнула наземь бутылку и стакан и вознеслась на помост позора.
— Вот это по-нашему!! — гаркнул Самоедов и неотрывно впился хищным взором в молодую танцовщицу.
Мужики азартно пялились на это диво, пытаясь пробиться поближе к столу. Бабы иные брезгливо плевались, тайно завидуя красоте нагого тела плясуньи. И было в ней что-то необыкновенное, невиданное, маняще-загадочное. Бросалось в глаза явное несоответствие между молодым, гибким, прекрасным телом и седыми волосами, густо падавшими с головы. Теперь уже всем — не только Самоедову — хотелось увидеть ее лицо, заглянуть в глаза.
Но лицо Катерина искусно укрывала серебряной паранджой волос, то и дело косматя их руками. Она вовсе не старалась изобразить «Барыню» — кривлялась, прыгала по-звериному, извивалась и злорадно сознавала, какую бешеную бурю сеет она в одичавшем, оскотинившемся от богатства и безделья животном, которого тешила. Знала и то, что после этой пляски непременно захочет он схватить ее и увезти в какой-нибудь притон.
Как призрак, бесновалась Катюха в морозных сумерках перед сотней жадных глаз. А голову сверлила одна мысль: как же спастись? Она не чувствовала холода, и эта адова пляска продолжалась не более пяти минут, но показались они вечностью.
Когда она спрыгнула со стола и мгновенно, как тень, исчезла за тяжелым полотном ворот, где разделась, — гармошка смолкла, и толпа зевак, словно онемев, будто парализованная, окаменела, может, на целую минуту. Вот ради этой минуты и старалась Катюха, себя и чести своей не пощадила.
— Гавр-рила! — распластнул тишину звериный рев Самоедова. — Давай ее сюда, хоть и неодетую!
Гаврила с готовностью рванулся с облучка, прыжками проскочил к воротам и скрылся за ними. Через малое время растерянно высунувшись из-за полотна ворот, он объявил:
— Да нету ее тута! Как вовсе и не было.
— Ах, ловка́, стерва! — В этом возгласе Самоедова послышалось и удивление, и досада, и вроде бы восхищение — все вместе. — Мужики! Мужики, мать вашу перетак! Ищите ее! Три сотни тому, кто приведет, ну-у!
Человек пять бросились обыскивать конюшню. Не выдержал и Самоедов — ушел туда.
— Найдешь ее! — высказалась одна пожилая баба. — Оборотка это! Куда же в экое время живому человеку деться? Ищи-свищи теперя. Она, может, кобылицей в стойле стоит, а вы бегайте да ищите.
— Да и плясала как будто не по-человечьи, — поддакнула другая. — Мне сразу сумлительно это стало.
А сама «оборотка» была уже в безопасности. Соскочив со стола, она сунула ноги в пимы, в секунду надела пальто на голое тело, схватила остальные вещички и, накидывая пуховую шаль, неслышно, как летучая мышь, метнулась за угол пролета, прижимаясь к стойлам. Пока опомнились потрясенные танцем зрители, она была уже за вторыми воротами — в сеннике. Щукой нырнула между жердей прясла и через полминуты открывала замок Фениного балагана.
Здесь было тихо, тепло и уютно. Сразу же дверь заперла на крючок. Спрятала пальто и пимы на печь, надела платье, причесалась поблагороднее и, чтобы унять волнение, подтопила очажок. Притихшая, скромная, сидела она у стола и привычно работала спицами, довязывая рукав гарусной кофты — последний троицкий заказ. Едва ли кто-нибудь из тех, кто видел ее только что на базаре, мог бы с уверенностью сказать, что сидит здесь та же самая женщина.
А там, в громадной конюшне, все еще кипели страсти. Люди обшарили все стойла, бегали с фонарями, лезли на сеновал и тыкали черенками граблей в сено, надеясь таким способом обнаружить плясунью, исчезнувшую у всех на глазах. Но сумерки быстро сгущались, мороз заметно крепчал, и скоро народ дружно потек с базара. Ехали конные, шли пешие, и многие из них были твердо убеждены, что видели пляску настоящей ведьмы и оборотки. Ее хвалили за удаль, за то, что деньги умыкнула, а Самоедову не далась.
В числе последних вылетела с базара бешеная буланая тройка. Хозяин ее, привыкший к непременному исполнению своих желаний, хотя бы и самых диких, был обманут, ущемлен, оскорблен. Какая-то бабенка обвела его вокруг пальца, и теперь эти голодранцы хихикают над ним. Направляясь в сторону Кочкаря, он и сам не знал еще, что предпримет в следующую минуту, кто станет очередной жертвой его потехи, но чья-то судьба уже была предрешена.
* * *
Дождавшись Феню с работы поздним вечером, Катерина упросила ее помочь найти знакомого надежного ямщика и той же ночью, как богатая барыня, укатила на лихой паре в Троицк.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
1
Не было неба, земли не было, стенок окопных не было — оставалась вокруг бескрайняя черная хлябь, готовая поглотить и укрыть навечно. Откуда-то издали, будто из глубины, постоянно слышались легкие и мягкие поталкивания. Словно кипел адов котел и со дна выворачивало густые черные пузыри, бесконечно толкавшие изможденное тело. Внутри все горело, и, казалось, эта черная хлябь уже прожгла, проварила всего насквозь.
«Но откуда же тогда мысли, слова? — думал Василий Рослов. — Или впрямь в аду человек опять воскрешается, чтобы чувствовать и сознавать муки господнего наказания?»
Мысли то чуть светлели, то плелись уродливым свивом. Но жизнь еще теплилась в нем, и очнувшаяся мысль сперва вырвалась тонким, едва заметным лучиком, потом проглянула шире, надежнее, и скоро уже хватило сил распахнуть глаза.
Вернувшись с того света и продолжая ощущать огонь во всем теле, не враз понял, где он и что с ним. Минуты через три сообразил все-таки, что едет куда-то на телеге, под ним мягко пружинит душистое сено. А над ним — черное, беззвездное ночное небо.
«Ага, жив, стало быть… И везут, по всей видимости, в лазарет… А где же теперь все-то? Гришка где? Где полк? Где немцы?.. Гришка-то, кажись, до конца рядом был…»
Сознание работало все отчетливее, и скоро он понял, что не все тело палит одинаково: сильнее горит левое плечо и рука, рвет и обжигает правое бедро, бок правый, в горле, словно угли горячие насыпаны — холодной водичкой залить бы их! Пить нестерпимо хочется. Попробовал шевельнуть пальцами правой руки — получилось, в локте согнул — боли нет. Двинул ее по сенному настилу от себя и рядом нащупал человека. Не считаясь с болью — аж искры из глаз посыпались, — повернул голову направо. Натужно вгляделся, попробовал шевельнуть соседа, но тот никак не отозвался. Вроде бы Гришка это, но лицо какое-то чужое, черным измазано. Да и ночь, потемки не дали разглядеть его.
«Может, Гришка это? Да живой ли он? Не отзывается чегой-то. А коли неживой, зачем бы везли его в лазарет?»
И тут увидел он деревенские избы. Но странно показалось: ни огонька, ни звука — будто вымерло все живое. Подвода подвернула к какому-то двору и, въехав в него, остановилась. Возницей оказался не санитар, как думал Василий, а крепкий, сутулый дедок в коротком кожушке и высокой бараньей шапке.
— Гануся! — негромко позвал старик, подойдя к окну.
Никто не ответил, и дед, сутулясь и теребя короткий серебряный ус, затопал кривыми ногами к крыльцу. Но дверь отворилась раньше, чем он ее достиг, и, остановясь в темном проеме, заворчал недовольно:
— Тю, стара́, та як же без Гануси я справлюсь?
Старуха, видимо, вернулась в хату, а дед прошел под поветь, погремел там какими-то палками, вернулся с попоной и расстелил ее возле телеги. Подошли две женщины — старая и молодая, могучая, чуть повыше деда ростом, грудастая.
— Ну, живо, живо, дочка! — торопил старик непроспавшуюся Ганусю. — Утро скоро, опять проклятые швабы придут! Бери того за ноги, а ты, стара, под середину поддержи.
Они осторожно сняли с телеги того, что лежал рядом с Василием, уложили на попону и понесли под поветь. Там долго пыхтели, переговаривались вполголоса, по всей видимости, поднимали раненого на поветь, под низкую крышу. Потом пришли за Василием.
— Пи-ить! — еле слышно попросил он, потратив на это последние силы.
Гануся метнулась в хату, принесла большую стеклянную кружку с молоком и, приподняв Василию голову, стала поить его. Но пил он вяло, редкими слабыми глотками. Молоко подливалось на заросший щетиной подбородок, стекало за ворот гимнастерки…
А когда взяли они его и приподняли, снимая с телеги, свет в глазах помутился, и снова ухнул он в черную пропасть. Что было дальше — не слышал, не чувствовал…
Очнулся Василий лишь где-то за полдень. Во дворе стоял шум, неслись крики.
— То не можно трогать! — слышался гневный голос деда. — То на посев оставлено! Чем же я сеять потом буду?
В довольно широкий прогал между потолочным настилом и нижним краем соломенной крыши видна была часть двора. Там стоял зеленый немецкий фургон, и солдаты в синевато-зеленых куртках и бескозырных фуражках с двумя кокардами — на околыше и на тулье — таскали мешки с зерном и по-хозяйски складывали их в большой зеленый фургон.
— Вчера овес и сено забрали, — возмущался дед, — потом холсты, рубахи, новый кожух дочкиного мужа забрали и самого угнали на окопы… Чем же я сеять буду?!
Василий видел, как дед подошел к немцу возле фургона и сорвал с его плеча мешок. Откуда-то выскочил другой немец в пыльной зачехленной каске и, размахнувшись, ударил деда в ухо. Потом еще один подбежал в каске. Старика сшибли с ног и начали пинать.
— Э-э, по́льска сви́нья! — приговаривал один из них, пиная деда. — Ну, довольно тебе але ще добавить?
Немцы между собой переговаривались, хохотали над чем-то, продолжая таскать мешки, как ни в чем не бывало. За нижней кромкой повети Василию не было видно лежащего на земле старика. Немцы в касках отошли от него. Видимо, так и лежал он, пока нагрузили подводу. И вдруг снова услышал рыдающий голос деда:
— Коня… Оставьте коня!
Дед поднялся, и Василий увидел его лицо — все оно было в синяках и ссадинах, из уха струйкой текла кровь.
— Оставьте коня, — причитал дед. — То ж все равно, что побили вы всю мою семью. Пропадем без коня.
— Ты ж сам сказал, что забрали овес и сено, — усмехаясь и коверкая слова, ответил немец. — Все равно твой конь подохнет с голоду. Жалко его.
На деда было больно смотреть. По старческому изуродованному лицу текли крупные слезы.
— Не плачь, стары́й, — зубоскалил немец в каске, выходя со двора за подводой, — завтра мы еще навестим тебя. Не скучай без нас!
Подвода скрылась за воротами, а дед, вернувшись к тому месту, где его били, склонился тяжко, поднял круглую высокую шапку и, надвинув ее поглубже, смахнул слезы, отдышался, как после бега, и, жалко горбясь и шаркая подошвами, направился в хату.
На повети было тепло и светло, потому как на противоположной от двора стороне соломенной крыши зияла дыра и в нее врывалось осеннее солнце. Вдали простиралось поле, по которому змеилась, уходя вдаль, пустая траншея. Поле — пустое, траншея — пустая, во дворе — пусто, и на душе пусто и тоскливо.
Григория Василий признал теперь, хотя и был он совсем не похож на того, с которым стояли они рядом в строю перед атакой. Русые волосы с грязью смешаны, с землей. Лоб, иссиня-черный, припух и мерзко поблескивает на солнце. Под глазами — тоже темно-синяя одутловатость. Бровь рассечена, и вокруг запеклась кровь. Щеки покрыты грязной серой щетиной, а усы, подбородок и весь низ лица запечатала сплошная черная корка. Левый бок шинели весь пропитан кровью и тоже почернел.
Трудно было поверить, что в этом обезображенном теле где-то еще теплилась жизнь. Но человек дышал. Василий даже расслышал едва уловимый посвист воздуха, проходившего в ноздри через щели запекшейся крови.
«Вот как по тебе, братуха, наследила война, — мысленно проговорил Василий, глядя на друга, — на самую сопатку железным сапогом наступила».
Себя-то не видел он. А жестокие следы войны значились всюду: и на солдатской во многих местах пропоротой шкуре, и на лице деда-хозяина, и на лице земли, изорванной снарядами, бомбами, на тысячи верст исполосованной окопами; словно бичами хлестали ее, ненаглядную, оставляя глубокие раны на лике ее от Балтийского моря до Черного. И какое же страшное чудище могло придумать столь страшный пир, где убивают, калечат, ломают, жгут, поливая все драгоценной людской кровью! Второй год свирепствует в Европе чума войны, второй год ходит Василий по краю черной пропасти и только впервые сегодня услышал разумные слова крестьянина: «А чем же я сеять буду?» Комариным писком прозвучали эти слова в зловещем гуле войны и были растоптаны кованым немецким сапогом.
Гануся появилась на повети неслышно, как привидение. Может быть, задремал Василий, потому что не слышал, как она ставила лестницу, как поднималась по ней. А подниматься пришлось ей, видимо, не один раз, так как здесь уже стояло ведро с водой, большая глиняная миска, крынка…
— Помыть же вас надо, — сказала Гануся, заметив, что Василий глядит на нее.
Налила в миску воды и, смочив в ней тряпку, стала прикладывать ее к лицу Василия. Горячей влагой отпаривала грязь, потом осторожно протирала сухим полотенцем.
— А ты гарный, хлопчик, — заметила Гануся, перебираясь с миской и тряпкой к Григорию, — почище б тебя помыть, да побрить, да подкормить… Жинка у тебя есть?
— Есть, — ответил Василий. — Где мы?
— Та где ж вы — у нас в сели́. Пусто оно, село, ни одной семьи не осталось, кроме нашей. Все уехали, пока не появились тут швабы… Хаты пустые стоят.
— А вы чего ж не поехали?
— Батько наш не схотел. Думал, сеять весной будет, а швабы и хлеб, и коня забрали.
— Слышал я, как они тут с им обошлись. Отца-то, как звать?
— Во́вчик, — отвечала Гануся, по крошечке, бережно снимая отпаренную коросту с подбородка Григория, — До́нат Во́вчик.
— А где нашел-то он нас?
— Там в окопе и нашел. Сено за лесом у него оставалось, немного.
— Ну, спаси-ибо До́нату Вовчику, — как-то навзрыд произнес Василий. — Так и загибли бы мы в той траншее… Так ведь найти же еще надо было да на воз затащить как-то.
— Стонал кто-то из вас, он услышал. А там немцы из похоронной команды шатались. Он подозвал одного и сказал, что хочет похоронить вот этих двоих на своем кладбище. Немец не соглашался, тогда батько дал ему дорогой охотничий нож — то подарил ему один русский поручик. Немец и помог поднять вас. Он-то думал, что вы — мертвые…
— Э-э-э, — задумчиво потянул Василий, — вот ведь чего бог-то может. Все он может. Гляди-ка ты, совсем под лопатой у немца были… Никто бы и прислушиваться не стал, бьется ли в тебе сердечко…
— Они крюками покойников стаскивают в яму. Батько-то сам видел.
— Да и у наших, небось, крюки такие имеются, — возразил Василий. — Кому же с мертвецами возиться охота.
Под нежными, добрыми руками Гануси преобразился малость Григорий. Всю спекшуюся кровь и грязь отпарила она и убрала с его лица. Но лоб так и остался фиолетово-черным, и под глазами — темные разводы. Потом напоила она Василия теплым молоком.
— Дак бой-то когда же все-таки был? — спросил он, отвалясь от кружки и обтирая усы заскорузлой ладонью здоровой руки. — Вчерась, что ль?
— Нет, — возразила Гануся и, подделываясь под его речь, пояснила: — еще два раза вчерась.
— Это, выходит, уже почти трое суток с тех пор минуло, как в атаку-то мы пошли… С голоду замрет Гришка, ежели не очухается… Как-то бы влить в его молочка тепленького.
— Я скоро, — сказала Гануся и метнулась, как тень, с повети.
Минуты через три появилась она тут снова. Принесла чайную ложечку и, присев возле Григория, попыталась открыть ему рот. Не получилось. Будто спаяны челюсти у солдата.
— Тута вот, в левом кармане, в шинели, ножик у меня должен быть… Достань-ка, да им попробовай.
Ножик Гануся достала, но сперва прогрела тряпку в горячей еще воде и обложила ею всю нижнюю челюсть. Раза два подержала так, погрела. Потом и лезвие осторожно заложила, повернула его слегка — зубы чуток раздвинула, и вырвался у Григория едва слышный мычащий звук.
Раза три почерпнув из кружки и слив молоко в узкую щель между зубами, Гануся затаила дыхание… Подождав, вылила еще ложечку — горло у Григория судорожно сжалось, качнулось, и первый, самый трудный, глоток получился. Долго сидела она возле него, понимая и радуясь, что жизнь — робкая, угасающая, как свечка на ветру, — пока еще как-то держится в человеке.
— Чего ж вы с нами делать-то станете? — спросил Василий, глядя на старания Гануси. — Самих-то вас голод, небось, караулит, а тут еще мы, две чурки негодные.
— Батько пошел до лесного сторожа, — ответила Гануся, шмыгнув носом. — Туда швабы не заходили. Как возьмет вас дядька Ерема, то, может, и своих повидаете когда-нибудь.
Говоря это, она поглядывала на Григория, не веря в его долгую жизнь. Василий приметил ее неверие. Да и сам он никак не мог сообразить, кто и каким способом сможет помочь им выбраться из этого черного омута — не вынырнешь из него, кажется, захлебнешься.
— Детишки-то есть? — перевел он разговор, чтобы не думать о себе.
— Дочка́ да сын.
— По сколь же им годов?
— Дочке́ шесть, а сыну три. Мужа вчера швабы на окопы угнали… А у вас тоже есть дети?
— Нет, — коротко ответил Василий и смежил веки, чтобы не продолжать разговор. Как ни верти его, а снова и снова будет выворачивать на самые больные места. Лучше не думать о них.
С трудом выпоив Григорию с четверть полулитровой кружки, Гануся собрала посуду и тряпки и ушла так же неслышно, как появилась. Василий не заметил, как задремал, а потом и уснул крепко…
Сдержанные голоса во дворе разбудили его. Была глубокая ночь или поздний вечер — не понял. Не разглядел он и лиц поднявшихся на поветь мужчин. Один из них, кажется, был До́нат Вовчик.
— Сперва того, что на краю! — услышал он снизу голос Гануси. Она стояла где-то возле лестницы.
Но только взялись за него — всего прострелило насквозь кроваво-яркой молнией, обожгло и слева и справа, и тут же мгновенно провалился он в черную бездну, ничего уже больше не чувствуя и не слыша.
2
Василий давно потерял счет дням, потому как множество раз впадал в беспамятство иногда на несколько часов, а то и на целые сутки. По его туманным, предположительным подсчетам выходило, что впервые очнулся Григорий не то на двенадцатый, не то на четырнадцатый день.
Случилось это часов в десять утра. Приоткрыл Григорий глаза, поглядел в потолок недоуменно. Потом пошире веки-то распахнул. Голову поворачивать стал. Потолок и стены — белые, чистые. Топчан его в углу стоит. Слева, где кончается топчан, подоконник виден. За ним, в углу на подставке, — горшок с геранью, дальше — опять окно, залитое ярким солнцем. Возле подоконника — небольшой стол, накрытый филенчатой скатертью. Справа в стене — дверь, потом — круглая печь в черном жестяном кожухе и, также в углу стоит другой топчан, на нем — Василий Рослов под легким зеленым одеялом.
Ничему не удивившись, будто час назад прилег он тут отдохнуть, Григорий привычно хотел приподняться на локоть, охнул жалобно и, опять смирненько уставясь в потолок, едва слышно спросил:
— Эт чего ж такое гудит, как большой колокол посля удару?
— Х-хе, — удивился Василий, — загудело, стало быть? А я ничего не слышу.
— Да как же не слышишь-то? Вон какой гуд стоит, как в праздник на колокольне, — чуть погромче сказал Григорий.
— Это, брат, у тебя, видать, в голове гудит. Бабка Ядвига, знать, лишку поднесла.
— Чего? — не понял Григорий. — Ты шибчей говори, а то гудит и не слыхать.
— Молись богу, что хоть загудело. А я уж думал, так молчком и закопают.
* * *
За окном билась голая кленовая ветка, и весь лес теснился на ослепительно белом снегу. До конца пятнадцатого года оставалось меньше двух месяцев. Сколько тысяч солдат еще успеют закопать до нового года, хотя войска, упершись друг в друга, засели в окопах. Кто-то коченел в окопах с той и другой стороны, кто-то мыкал несчастные дни в плену, а кто-то, не успев проститься с живыми, навечно отрешился от всех земных тревог и забот.
Василий отчетливо понимал, что не только судьба Григория, но и его собственная качается на шатких весах между жизнью и смертью. И никто пока не сможет сказать, какая же сторона перетянет. Утешало то, что попали они к заботливым людям, в добрые руки.
Гануся надеялась, что раненых возьмет к себе лесной сторож, дядька Ерема. Он и взял их. Но избушка у лесника крохотная и стоит почти возле самой дороги. Хоть и малоезжая, едва заметная, но все же дорога — мало ли кого занесет на нее! А вот по другую сторону небольшого продолговатого чистого пруда есть уютный домик, надежно прикрытый ветлами, рябиной, дикой акацией вперемешку с кленами, могучими тополями и дубами. Дороги туда нет — лишь тропинка вьется.
Всего с полверсты до того домика либо чуть поболее, и живет в нем одинокая бабка Ядвига. Вот у нее и устроили несчастных солдатиков. И молиться им за нее до гроба. Вымыла она их, обиходила, белье дала чистое. А потом принялась готовить отвары из трав и мази по рецептам, одной ей известным.
Днем Ядвига редко заглядывала к своим «сынкам» — только покормить да отвару подать. Зато вечерами бывала она дома, промывала им раны, смазывала, делала перевязки, питья разного подавала. Приходил дядька Ерема и подолгу засиживался тут.
Василия удивляло, почему эти люди живут отдельно, а хозяйство у них вроде бы общее? И говор у них не польский, как у Доната Вовчика, а русский. Но в долгих вечерних беседах все объяснилось.
Ядвига эта самая первые десять лет жизни прозывалась Пульхерией, потому как родилась под Смоленском. Отец ее бежал от лютого помещика и пристроился в имении пана колесным мастером. А через год в России крестьянам волю объявили — прятаться уже не надо. Позвал отец к себе в помощники еще знакомых из своей деревни. Так вот и обосновались тут все. Девочку старый пан любил, но имя ему не нравилось, потому назвал по-своему, Ядвигой, и замуж выдал за своего лесного сторожа.
Более тридцати лет прожили они вместе в этом лесном домике вдали от людей. Детей, говорит Ядвига, бог им не дал, хотя иметь их кому же не хочется! После смерти мужа назначил ей молодой пан небольшое пособие, разрешил пасти корову в лесу, брать ягоды и грибы. К тому же возле домика был клочок земли, с которого умудрялась она получать не только овощи, но и хлеб.
На место лесного сторожа назначил пан дядьку Ерему, тоже к тому времени овдовевшего. Было у него два сына, еще не женатых, но взяли их в солдаты, как и Василия, по первому же призыву, а в сентябре прошлого года погибли от одного снаряда.
— А может, ошибка это, — сеял надежду Василий, — может, в плену они либо так же вот, как мы, где-нибудь скитаются.
— Нет, — скорбно вздыхал дядька Ерема. — С ними был наш пан и, как хоронили, видел. По горсти земли в могилу бросил. А теперь и сам затерялся где-то наш пан. У войны на всех бед хватит…
Так вот и вышло, что два человека остались в лесу с глазу на глаз. У дядьки Еремы конь добрый есть, пчелы и тоже — клочок земли. У бабки Ядвиги — корова, телка, огород богатый, да постирать, постряпать руки ее способнее, чем мужские, либо, сшить чего. Так что хоть и жили они в разных избах, а хозяйства за последний год слились в одно. Общая забота о раненых солдатах еще более сплотила одиноких людей.
3
Бескорыстные, беззаветные хлопоты бабки Ядвиги не пропали даром. Она упорно верила в силу своих лекарств и умела передать эту веру «сынкам». Со временем польза ее врачевания стала для всех очевидной. И вышло так, что Григорий первым начал подниматься с постели и хоть несколько шагов делать по комнате. Но страшное, изнуряющее гудение в голове у него так и не переставало, оттого бодрствовать мог он не более полутора часов, а после того захватывал его крепкий, спасительный сон. Лоб у Григория почти очистился, чернота лишь узелками оставалась в нескольких местах.
А бедро у Василия оказалось так разворочено немецким штыком, что никакие бабкины снадобья пока не помогали, и вставать он не мог. Бок, плечо и многие царапины заметно затягивались и уже не причиняли таких болей, как раньше.
Еще по осени в солнечный денек выстирала Ядвига шинели «сынков», потом штопала. И только перед Рождеством призналась, что на Васильевой шинели насчитала она четырнадцать дырок да на Григорьевой пять.
Как-то февральским вечером Ядвига делала перевязки, дядька Ерема сидел на постоянном своем месте возле стола, неторопливо потягивая терпкий дымок из самодельной люльки. Курил он крепчайший турецкий табак с собственной грядки. Охотно делился с ребятами, но им пока было не до табака — курили редко и мало.
Особенно нескладно выходило это у Григория: курить-то хотелось ему всегда, но стоило сделать две-три затяжки, как в голове начинался такой перезвон, что свет мерк в глазах, и он тут же засыпал. Этот назойливый, одуряющий звон-гул всегда начинался у Григория с момента пробуждения. И даже казалось, что будил его ото сна именно этот гул и не покидал ни на миг.
В тот вечер, проснувшись еще до прихода дядьки Еремы, Григорий впервые ощутил себя в непривычной тишине. Лежа с открытыми глазами, он боялся пошевелиться, слово сказать боялся, чтобы не спугнуть, не потревожить эту умиротворяющую, столь желанную тишину. Василий приметил его состояние, по взгляду понял долгожданную перемену и тоже молчал, не мешая другу насладиться тишиной, так давно утраченной.
Минут десять друзья трепетно хранили блаженную тишину. Но тут вошла Ядвига с выстиранными бинтами, склянками, пристроила все это на табуретки между топчанами и, увидев, что Григорий не спит, предложила:
— Давай-ка с тебя начнем, сынок.
— А чего ж не начать, — бодро отозвался Григорий, суетливо поворотясь, и тут же, страдальчески сморщившись, зажал голову руками. — Опять загудела, проклятая!
— А что, уже не гудело? — обрадовалась Ядвига.
— Да только что было тихо, как проснулся… И опять…
— Ну, то добрая была весточка. Затихнут твои колокола помалу. Садись да рубаху скидай.
Ловко, без лишних движений снимая повязки, она бросала их на пол и приговаривала:
— Гляди-ка ты, бочок-то добреет. Видать, ребрышки уцелели… А рука и вовсе заживет скоро.
Пришел дядька Ерема, присел к столу, молча закурил.
Ядвига между тем наложила повязки на раны и, хоть сопротивлялся Григорий (до того дней пять не завязывали), снова забинтовала ему голову, смазав лоб какой-то пахучей мазью.
— Ну, ложись, погуди пока, — велела она Григорию и повернулась к другому «сынку».
— А что, баба Ядвига, — сказал дядька Ерема, поглаживая темно-русый колючий ус, остро, нацеленный вниз, — не распечатать ли нам заднюю дверь из прихожей?
— Для чего ж это? — насторожилась Ядвига.
— Да ходил я по отводу… Верст на десять к селу подался, и там, с краю, возле Донатова поля, порубку большую видел. Швабы, видать, поработали…
— Ну так что? — сердито съязвила Ядвига. — Пану б пожаловался на тех швабов, да нету его. Управу на них искать станешь?
— Не о том я, — успокоительно погладил Ерема бритый подбородок и, толкнув длинный острый конец уса, пояснил: — По той порубке дорога идет сюда. Я ж ни разу в село не ездил, как снег выпал, чтоб дорогу не показывать. На ней и теперь ни одного следа нет, так они ж на ее начало напали… А ну как их сюда потянет?
Ядвига перестала сердиться и вроде бы задумалась… И тут открыла она больное бедро Василия. Кроваво-красная рана не затягивалась, а делалась шире с каждым днем. Из-под гниющих краев кожи вокруг нее сочился гной. И дух тяжелый по всей комнате поплыл. Ерема торопливо затяжку сделал и выпустил облачко синевато-белого дыма, а Ядвига, промывая каким-то настоем рану, горестно посетовала:
— Видно, проклятый шваб самую косточку задел и все мясо разворотил тут своим поганым штыком… А ну, Васек, шевели ногой!
— Больно! — поморщился Василий, чуть-чуть сгибая и разгибая больную ногу.
По краям раны снова обильно выступал гной, как бы пульсируя в такт движениям ноги. Бабка снимала его смоченной в растворе тряпочкой и, несмотря на то, что с лица у Василия градом катился пот, заставляла его шевелить ногой. Потом и сама, видать, притомилась. Бросила тряпочку в таз и, будто сердясь на дядьку Ерему, сказала:
— Ну, ладно, растворим ту дверь, а как он пойдет? Не встает же — видишь!
— Так носилки устрою, — не сдавался Ерема. — Да и во дворе тайничок придумаю какой-нибудь…
— Мяса! — почти выкрикнула бабка. — Мяса парного надо. Пойдет у нас Василек, не догнать его швабам!
Мужики не успели сообразить что к чему, а Ядвига, метнувшись в прихожую избу, брякнула там какими-то железками и, бросившись во двор, из открытой двери крикнула:
— Рану не закрывай, я скоро!
Минут пять мужики молчали, не зная, что подумать, потом Григорий тревожно спросил:
— Куда ж эт она?.. Раздетая ведь, кажись, выскочила.
— И кофта на ей безрукавая, — добавил Василий, лежа на боку и опасливо поглядывая на обезображенное бедро. — А не встречал ты Доната Вовчика с тех пор, дядька Ерема?
— Э-э, Донат на другую ж ночь после вас удрал куда-то с семьей, — посмеиваясь, отвечал дядька Ерема. — Конягу мы ему добыли у тех швабов и столько же им заплатили, как они ему…
Вдруг дверь из сеней растворилась, бабка почему-то долго лезла в нее и уже оттуда начала командовать с придыханием, будто волокла тяжелую ношу:
— Ярема! Засвети лампу да пособи!
Бойко вскочив от стола, Ерема бросился к ней в прихожую.
— Ой, стара! Сама барашка зарезала! Чего ж ты не сказала-то? Я бы помог.
— Вот и помогай! — коротко отрезала бабка.
Там же, на полу возле порога, они принялись свежевать барашка. Сняв шкуру с его задней ноги, Ядвига отбежала к рукомойнику и, промыв руки, торопливо вырезала толстую пластину теплого бараньего мяса, обмыла ее каким-то раствором и поспешила к Василию.
— Ну, давай твою болячку, сынок! Все равно мы ее одолеем. Она аккуратно приложила пластину к ране, сверху накрыла тряпкой, во много раз сложенной, чтоб мясо дольше не остыло, и забинтовала.
— Вот эт дак ба-абка! — зашептал Григорий, когда Ядвига ушла в прихожую, захватив склянки и тазик с грязными тряпками. — Такая, знать, и от себя отрежет, коли понадобится…
— Чем же мы расплачиваться-то за все станем? — так же шепотом спросил Василий.
Постоянно видя страстные хлопоты Ядвиги и убедившись в ее знахарских способностях, они уже безоглядно верили в свое выздоровление. Все дело во времени. А сколько его, времени, уйдет, ни они, ни бабка не знали, конечно.
— Кто ж теперь овечку-то твою полюбит? — послышались из прихожей шутливые слова дядьки Еремы.
— Полюбилась она, еще осенью, — в тон ему отвечала бабка. — Ну, а как нового барашка не принесет, тебя, старого черта, покличу до моей овечки.
— Куда мне, старо́му, — покряхтел Ерема.
Перебрасываясь шутками, они делали свое дело. А раненые солдаты, ухоженные заботливыми руками Ядвиги, не могли уснуть от волнения. Где-то на громадном пространстве разбойно гуляла война, заглатывая своей ненасытной пастью все новые жертвы. Миллионы солдат мерзли в окопах, кормили зловредную окопную вошь.
— До смерти молиться нам за этих людей надоть, — прошептал Василий.
— И то, знать, не отмолиться… А то чем же… — вяло откликнулся Григорий и уснул на полуслове. Теперь не разбудить его и пушечным залпом.
— Не спите? — Негромко спросил дядька Ерема, входя в полутемную комнату и присаживаясь на свое место к столу. Сюда падал неяркий свет через открытую дверь из прихожей.
— Да я-то не сплю, — отвечал Василий. — Может, и до утра не усну: левый бок давно отлежал, и спина онемела…
— А ежели посидеть часок-другой? — осторожно предложил дядька Ерема.
— Пожалуй, попробовать надоть, — сказал Василий и несмело завозился на топчане.
Ерема помог ему. Подушку задвинул в угол, правую ногу — вдоль топчана, левую на пол опустил, а спиною на подушку навалился он.
— Благодать-то какая! — обрадовался Василий и перенес тяжесть тела на левую ягодицу. Пока не получалось у него такое сидение.
— Давно б, надо сделать это. Чего ж ты молчал-то?
— Дак ведь мы, как дитенки малые, — словно оправдывался Василий, — без чужих рук ни сесть, ни лечь… Уж куда хуже, нужды вон и то не справить. — Из глаз у него горькие слезинки выкатились от сознания немощи своей, да никто в темноте не разглядел их. — Как же мы расплачиваться станем за ваши заботы?..
Не боясь разбудить Григория, они говорили, не сдерживая голоса, потому Ядвига все слышала. Держа на весу полусогнутые мокрые руки, подлетела коршуном к топчану Василия, едва не наступив ему на ногу, и обиженно запричитала:
— Ах, какой ты заморочный хлопчонок! Да кто ж такие дела за о́ткуп делает? То был бы великий грех! А вот как залечим все ваши раны, то и у нас с дедом крылья повырастают. — Она задержалась еще чуток, словно бы ожидая возражений, вернулась в прихожую и оттуда еще добавила: — Выкинь такие думки из головы. Не обижай стариков.
— Война, ведь она для всех не конфетка, — степенно заметил дядька Ерема, не торопясь набивая трубку. — Никому от нее добра нет.
— Э-э, чегой-то не то говоришь ты, дядька Ерема, — возразил Василий. — Ежели никому от нее добра нет, то для чего же воюют люди?
Вроде, бы простой вопрос не на шутку озадачил дядьку Ерему. По всей видимости, ни задавать, ни отвечать на него этому человеку не приходилось, может быть, потому что много лет прожил бирюком в лесу. Набив табаком трубку, раздумчиво почесал в затылке и, не найдя ответа, пошел в прихожую прикурить от лампы.
— Так ведь сроду воюют люди, — снова заговорил он, воротясь и присев на свое место, — а для чего воюют, про то их и пытать надо. Вы ж воевали, вот и скажи, за что.
— Ну, про нас и собаки не брешут. Зачалась война — в теплушки посадили, винтовки, котелки выдали и повезли, куда им надо. Нас ведь иные офицерики пушечным мясом в глаза величают, а ежели поласковей, так серой скотинкой кличут. Тому вон баранчику баушка, небось, не поясняла, для чего позвала… Вот и мы на войне такие ж бараны, да и немецкие солдаты — тоже…
— То я давно знаю, — хитровато улыбнулся Ерема, распуская по комнате душистый дымок. — А ты, коли знаешь, скажи, из-за чего ж воюют люди?
— Да я тебе сказываю, что люди-то шибко разные бывают…
— Так не про серую скотинку я спрашиваю, — засмеялся Ерема, — а про людей.
— Ну, пан твой, за что воюет?
— Того не докладал он мне. Но, заметно было, пошел без радости. Панночку молодую с дитем покинул. А она, как подходили немцы, сбежала… Не верится, чтоб им нужна была та война. Где они теперь все?
В начале разговора Василию казалось все это просто и понятно. Солдатская жизнь еще до войны и потом на фронте давно отгородила его от офицеров непроницаемой стенкой. А тут вдруг понял, что есть в его суждении какой-то изъян. Выходит, что и пану война не нужна, коли потерял он все, может, и голову. Да и мало ли офицеров гибнет…
— Оно, конечно, едва ли много найдется охотников башку-то свою подставлять, — нехотя согласился он и тут же сам себе возразил: — Так ведь кому-то нужна она, проклятущая, все-таки! Кто-то ж ее зачинает?
— Хотел бы я то знать, — вздохнул дядька Ерема, вертя в руках уже погасшую трубку и поглядев на стенные часы в деревянном футляре. — Не сама же она начинается, как чума.
— Мы, как слепые котята, — усмехнулся Василий. — Глядишь на его, на котенка, тычется мордой возля самой сиськи, а найтить никак не может. Чую, что рядом гдей-то лисичка, а на след никак не выйду.
— Не нашего ума это дело, должно быть… Сидеть-то не устал?
— Нет, посижу еще… Ума-то, может, и не нашего, да шкура-то вот вся испорота наша и закапывают нас же. А, поколь голова еще на плечах и не звенит в ей, как вон у Григория, помозговать не мешает. В тот день, как итить нам в штыки, чистенький такой офицерик, видать, из тылу, все про какие-то Дарданеллы толковал перед строем. Будто бы завоевать нам их надоть зачем-то непременно… Вот он, наверно, все как есть мог бы разобъяснить.
— Не стал бы он тебе объяснять, — убежденно возразил дядька Ерема. — А когда бы и взялся толковать про то, так напустил бы туману, чтоб еще больше тебе заморочить голову.
— Эт отчего так?
— Да, сам же ты сказал, что баба Ядвига ничего не поясняла своему барану перед тем как зарезать.
— И то правда, — засмеялся Василий.
— Спать хлопчику пора, — подала голос Ядвига.
Беспрекословное подчинение хозяйке было здесь нерушимым законом, потому Ерема помог Василию улечься и попрощался.
Перевязки Ядвига делала раз в сутки — вечером. Но на следующее утро, изменив своему правилу, она посмотрела на бедре у Василия рану и расцвела.
— Ну, сынок, теперь пойдут наши дела в гору, — сияла бабка лицом. — Ты погляди, как тут очистилось все!.. Еще б разок парного мяска покласть — и заживать начнет.
— Не вздумай, баушка, последнюю овечку на это дело употребить, — встревожился Василий, — теперь, небось, и так на поправку пойдет.
— Не твое то дело, хлопчонок, лежи.
Скоро Ядвига исчезла. Потом вернулась какая-то вся светлая, молодая. Покормила «сынков» обедом и, как всегда, приказала поспать, «чтоб не слышать, как болячки уйдут».
Проснувшись в четвертом часу пополудни, Григорий опять обнаружил тишину и, храня ее, шутливо погрозил пальцем товарищу, чтобы тот молчал. Но тишина властвовала не более четверти часа. Неожиданно резко и грубо где-то невдалеке хлестанул винтовочный выстрел. Бывалые солдаты безошибочно угадали, что выстрел был именно винтовочный, а не какой-то другой. В голове у Григория завыла целая колокольня, но, взглянув в окошко, он тут же вскочил с топчана и шагнул к столу.
— Ну, слышь, Вася, чегой-то стряслось недоброе, кажись.
— Да чего там такое?! — тревожно и сердито спросил Василий, порываясь подняться.
— Тебе не видать дорожку-то оттудова? — уже спокойнее спросил Григорий.
— Нет.
— Дядька Ерема чуть не рысью вон поспешает сюда.
— Уж не немцев ли черт принес? — предположил Василий. — Ты бы оделся, Гриша…
Высокий, в кожаной шапке с козырьком, в короткой куртке и высоких сапогах, Ерема вбежал в комнату, на ходу спрашивая:
— Баба Ядвига где?
— Как проснулись, не было ее дома, — отвечал Григорий.
Стрельнув быстрым взглядом по простенку от окна к двери, Ерема ругнулся, выскочил обратно на улицу, но на дорожке больше не показался, куда-то за двор убежал.
— Чего ж он не сказал-то ничего? — растерянно спросил Василий.
— А чего тебе сказать надоть? В простенок вон глянь.
— Ну, стена как стена — белая.
— Белая, — передразнил Григорий. — Тута вон карабин висел, а теперя, где он?
— Вот эт дак ба-абка! Никак, охотничать подалась.
Через недолгое время стукнули ворота, и Григорий, подойдя к окну в прихожей, увидел стариков, затащивших на середину двора небольшого дикого кабанчика. Ерема с ходу начал хлопотать о сооружении костра, чтобы палить кабана. Бабка, увидев в окне Григория, приказала:
— Пущай Василий — повязку снимает! — А сама принялась взрезать кусок свежего мяса, чтобы скорее перенести его на рану.
4
Лето 1916 года близилось к концу. Война с обеих сторон приобретала все более очевидный «выжидательный характер», как писали в то время военные обозреватели. Австро-германская верхушка, ухватив для себя некие куски в этой шакальей грызне и желая утвердиться в выгодном положении, заговорила о «мирных предложениях». Официально этих «предложений», пока еще не было, но в австро-германских верхах, осознавших, что первоначальные планы войны недостижимы, естественно, стали думать о том, чтобы любым способом удержать захваченное.
Союзники же — Англия, Франция и Россия, — все более набиравшие сил, не считаясь с бедственным положением простого народа, решили довести войну до победного конца, разбить противника и поделить его территорию.
Ничего такого не ведали ни Василий с Григорием, ни Ерема с Ядвигой. Никто не мог предположить, что последние их письма с фронта добрались до хутора и попали к родным лишь в марте, а известие о пропавших без вести пока еще не было послано. Здесь, в лесной глуши, жизнь шла своим чередом.
Через месяц после памятного февральского вечера, когда Ядвига приколола своего барашка, Василий начал подниматься с постели и самостоятельно передвигаться. Правда, для этого бабке пришлось подстрелить еще трех кабанчиков, за что Ерема прозвал ее главным браконьером и, шутя, грозился доложить о том пану, как война закончится. Он же, Ерема, смастерил для Василия удобную клюку, с которой тот не мог расстаться до начала июня. Но и после того заметно припадал на больную ногу.
Григорий с самой весны помогал старикам во многих работах, но удаляться от дома не мог: в самое, казалось бы, неподходящее время ни с того ни с сего начинала гудеть его голова. И тогда спасение было одно — сон. Припадки эти повторялись все реже, но изводили парня с такою же беспощадностью, как и раньше.
Однако сидеть сложа руки никак не могли они — срубили новую баню, заборы и прясла поправили, крышу на скотнике починили. А потом, как забросил свою клюку Василий, стали ходить с бабкой в лес за грибами, за ягодами. И тут сами собою возникли разговоры о том, что не пора ли молодцам и честь знать — собираться надо да в сторону восточную двигаться, к своим. Но, услышав об этом, Ядвига и удивилась, и огорчилась, и сказала, что не выпустит «сынков» из дому до тех пор, пока не будут они совершенно здоровы.
Раскинули пошире умом солдаты и уразумели, что спешить им не следует, к тому же еще по-крестьянски рассудили: всю зиму просидели у стариков на шее, а теперь, как здоровьишко им подарили и пора подоспела рабочая, собрались бежать. Негоже это. Хоть сена побольше накосить да прибрать его.
Покос от усадьбы недалечко. И дело это, с детства знакомое и родное, доставило им великую радость — будто дома, в гостях побывали!
А еще раньше, когда за грибами ходили, нашли они винтовки немецкие и патронов целый ранец насобирали. Все это домой принесли — под навесом спрятали. На всякий случай. Дядька Ерема, узнав о находке, одобрил этакое приобретение.
Словом, как ни упорствовала Ядвига, солдаты исподволь, не спеша собирались в дорогу. За последние две недели у Григория не было приступов. Чтобы проверить выздоровление, курить стал по-настоящему, пробовал бегать до изнеможения, «чтоб кровь в жилах такала», кричать пробовал по-шальному — ничего. Значит, пропал звон, извела его бабка.
Хлеба в том году выспевали рано. Со дня на день ожидалось начало уборки. Дядька Ерема каждый вечер ходил на полосу, проверял колосья, выкручивал их на ладони, на зуб зерно пробовал, а возвратясь, всякий раз сообщал:
— Еще погодим денек-другой.
* * *
Натруженное солнышко устало опустилось за лес и надежно спряталось на ночь где-то в чужой западной стороне. Над дремлющими вершинами ветел, над могучими кронами дубов и ясеней вспыхнули трепетные звездочки. А внизу, видимый между кустами дикой акации и терновника, неподвижным зеркалом проглядывался пруд.
Теплынь, тишина, где-то в кустах посвистывают неугомонные ночные пичуги. Осени еще нет, редко заметишь пожелтевший листок. Но вокруг уже витает неповторимый, только этому времени присущий, запах зрелости и увядания.
На мелкой мураве, недалеко от крыльца, ребята расположились чистить винтовки и патроны — грязные они, а кое-где и ржавчиной тронуты. Скоро тут появился и Ерема, присел на чисто вымытую ступеньку крыльца и принялся набивать свою люльку, бережно положив колосок на перила.
— Ну, что, дядька Ерема, еще погодим денек-другой с уборкой-то? — усмехнулся Василий, повторив его ежевечерние слова. — Рожь говорит: колошусь, а мужик: не нагляжусь! Так, что ли?
— Так, Василек, так, — ласково подтвердил Ерема, хитро прищурив глаз, — не нагляжусь! Так бы вот круглый год ходить и глядеть на поле да вдыхать полной грудью его здоровый вековечный дух.
— Ну-ну, — поддакнул Василий, быстро скрутив цигарку и добывая искру с помощью огнива, подаренного перед смертью старым башкирцем. — Занятие это из приятных, да ведь одним — хоть и хлебным — духом сыт не будешь.
— Брось-ка мне огоньку-то, — попросил Ерема и, поймав на лету тлеющую с одного конца тесьму, раскурил трубку и не спеша сообщил: — А убирать, что ж, хоть бы и завтра можно… Только, утром-то дождичек будет, кажись…
— Эт откудова ж такая известия к тебе донеслась? — вопросил с усмешкой Григорий, задрав голову и глядя на чистое небо. — Никакой сыростью вроде бы и не пахнет. Его ведь, дождичка-то, недельки две либо уж три не бывало.
— В лесу много у меня вестников, — опять хитровато прищурился Ерема, шевеля трубкой колючий конец уса. — Ко́сы вон я приготовил. Утром вставай да беги косить, а я спать буду.
— Ой, опять они про хлеб, — вклинилась Ядвига. Видно, все бабьи дела переделала и вышла посидеть с мужиками, пристраиваясь на крылечке рядом с Еремой. — Да велико ли то поле! Я б его одна серпом сжала и зернышка б не уронила.
— Нет, баушка, — возразил Василий, — пособим мы вам, а после того и двинемся.
— Э-э, сыночки! Милые мои хлопчата, да куда ж бы вам двигаться от нашей тихой хаты? Все у нас есть, и немец не досаждает. Живите на здоровье. Не вечно той войне быть. Кончится она, и вы домой возве́рнетесь. Ну, для чего ж вам снова на эти проклятые штыки лезть?!. Что вас отсюда гонят иди туда зовут? Никто ж не знает, где вы теперь есть!
— А ведь умно говорит баба Ядвига, — поддержал ее дядька Ерема. — Дело нехитрое — голову-то под пулю подставить.
— Это что ж, выходит, как в той сказочке, — возразил Григорий, бросив очищенный патрон в ранец, — и от баушки ушел, и от дедушки ушел…
— Вот и не уходить бы вам от старых, — не дослушала его Ядвига.
— Да не про то я, — продолжал свою мысль Григорий, принимаясь за следующий патрон. — И от смерти мы ушли, и от немецкого плена ушли, и в лазарет не попали… Дак и где ж мы теперь числимся-то?
— В дезертирах, ежели по совести, — глухо отозвался Василий.
— Х-хе! — коротко хохотнул Ерема. — Были б вы дезертирами, когда бы не подобрал вас Донат в том окопе…
— Да не привез бы сюда дядька Ерема, да не взяла б в свои золотые руки баушка Ядвига, — заторопился с опровержением своих же слов Василий, пробуя, как идет в патронник очищенный патрон. — Захватили б крюком похоронники, хоть и живых еще чуток, и — в ямку. Вовек никому б не сыскать, куда подевались ребята.
— Вот-вот, — подхватил Ерема, — тогда б вы попали в настоящие дезертиры.
— Все-то оно так, да ведь неловко ж здоровым ребятам от чужих и от своих прятаться, — гнул свое Василий. — Выходит, что мы, живые, за мертвыми прячемся и сами под мертвых вроде бы работаем.
— Да уж делайте, как надумали, — тяжко вздохнула Ядвига. — Того, что богом загадано, не обойдешь, не объедешь.
Не так и не о том говорили бы эти люди, знай они о себе хоть на полсуток вперед.
— Слышь, Вася, а ведь итить-то придется нам больше в ночное время и, должно быть, не по дороге, — заговорил Григорий, приняв бабкины слова за окончательное согласие. — Как бы с путя не сбиться.
Василий поднялся, оглядывая небо, отошел на дальний край полянки перед домом и поманил к себе Григория.
— Вон видишь семь звезд ярких? Ежели все их чертой соединить, ковшик выходит. Видишь?
— Ну.
— Вот по крайнему обрезу того ковша веди кверху линию и отсчитывай пять расстояниев, как между этими крайними звездочками. А тут опять попали мы на яркую звездочку. Нашел? Там вроде бы еще маленький ковшичек…
— Ну.
— Вот это и есть Полярная звезда. Завсегда она север показывает. Понял? Ковшик этот может крутиться и так и этак, а звезда завсегда на своем месте стоит — прямо на север кажет. Стало быть, левым плечом к ей становись и точно на восход пойдешь.
Василий четко, по-строевому повернулся направо и сделал несколько шагов на восток. Потом вернулся к патронам и сел на прежнее место. А Григорий, проверяя себя, еще раз повторил весь урок и с восторгом спросил: — Эт где ж ты премудрости эдакой обучилси?
— На действительной службе.
— Солдату без такой науки нельзя, — сказал Ерема. — А тебя-то чего ж не обучили?
— Да нам не до звездочков было, — невесело усмехнулся Григорий, принимаясь опять за патроны. — Винтовку вон заряжать научили, да как штыком колоть показали — вот и вся наука. А посля вот Василий… доучивал… А!.. А!.. — Схватился он за голову.
— Опять загудело?
— Опять…
— Ну, брат, и звонкий же котелок тебе достался, — тоскливо пошутил Василий. — Один разок немец по ему тукнул — девять месяцев гудит.
— Вот оно, ваше здоровье, — возмутилась бабка, вскочив с крыльца, и подхватывая Григория под руку. — Ходи, сынок, ходи до хаты да спать ложись. — И, обернувшись к Василию, укоризненно добавила, словно выговаривая ему за провинность: — А ну, как такое дорогой станется, загинет хлопчонок. Да и сам ты далеко не ускачешь.
Григорий свалился на топчан одетый, и Василий стаскивал с него сапоги уже с сонного. Ремень снял, пуговицы на гимнастерке расстегнул. Прикрыл своим одеялом. Укладываясь спать, чувствовал себя пришибленным, виноватым. Да и перед стариками совесть постоянно грызет, хоть и в самом деле плюнуть на все да и остаться тут до конца войны, сколько бы она ни длилась.
5
Предсказание дядьки Еремы сбылось в точности. Проснувшись поутру, Василий обнаружил, что на улице идет дождь, и словно глазам своим не веря, подошел к окну, постоял, глядя на крошечные лужицы возле крыльца, то и дело пробиваемые мелкими каплями, прислушался к ровному шуму дождя и снова завалился в постель.
Неторопливый, ровный дождичек казался по-осеннему затяжным, но Василий хорошо знал крестьянскую примету: ранний гость — до обеда, потому, засыпая, не терял надежды покосить хоть во второй половине дня. Григорий спал беспробудно, и тревожить его не стоило. После приступа всегда требовалось ему отоспаться.
Второй раз проснулся Василий уже в одиннадцатом часу. Дождь к этому времени почти перестал, облака заметно поднялись, за окном отрадно посветлело. Григорий встал чуть раньше и чувствовал себя, совершенно здоровым.
У Ядвиги, как и у всякой хозяйки, дел хватает на любую погоду, потому всегда поднимается она рано. Дядька Ерема с утра не появлялся. Видно, решил отоспаться по ненастью.
Пока брились и умывались ребята, пока завтракали — солнышко засияло веселое и бодрый ветерок потянул. Стало быть, колосья обдует он моментально, да и земля скорее просохнет — промочило ее неглубоко.
В первом часу, захватив косы с пристроенными решетками и большой чайник с квасом, отправились ребята на хлебную полосу. Бабка тоже набивалась идти с ними, чтобы снопы следом вязать, но косари не взяли ее с собой, отговорившись тем, что выход этот пробный, что снопы свяжут они сами и в суслоны составят. А завтра, если погода устоится, пойдут все вместе. Тогда настоящая уборка начнется.
Оставшись одна, затеяла Ядвига небольшую стирку. Но давно известно, что поганое корыто — счастливое. В момент настирала она тазик всяких тряпок, оглянулась, а другие тоже в корыто просятся. Пришлось ей поставить большой чугун воды в печь, чтобы согреть, а с готовым отправилась на пруд — полоскать.
Устроилась она возле куста акации, на большом плоском камне, где всегда полоскала. Ветерок, запутавшись в прибрежных кустах, сюда не достает, а солнышко припекает жарко. Вся эта сторона пруда гладкая, как зеркало, и спокойная. Только за серединой, к противоположному берегу, ершится едва заметная рябь. От полоскания по воде расходятся круги и в двух саженях затухают, переходя в едва приметную зыбь, а потом и вовсе сглаживаются в сверкающее зеркало.
Избушка Еремы стоит напротив. Берег возле нее голый, с краю песчаный. Там и долбленая лодочка Еремы стоит. Хозяина возле избушки не видать. Покой этого мирного царства нарушается лишь шелестом листьев, ласкаемых бодрым ветерком.
Вдруг Ядвига расслышала какие-то глухие звуки. Насторожилась, остановив свое полоскание. Звуки все нарастали, притягивая внимание Ядвиги. Левее избушки саженей на пять-десять, где выходила из лесу дорога, показался строй немецких солдат. Впереди — офицер. Схватив тазик с бельем, бабка отпрянула за куст и несколько секунд задержалась там, не зная, что предпринять. Потом с завидным проворством рванулась к своей хате, в момент попрятала все солдатские вещи, даже Васильев топчан выбросила, и бегом вернулась к ближайшим кустам, откуда просматривалась вся площадка на той стороне пруда.
Строй солдат, человек двадцать, остановился перед избушкой. Офицер подал команду, и солдаты, смешав строй, ринулись на полянку правее избы. Сам офицер, позвав одного из солдат, видимо, денщика, направился к избушке, четко печатая шаг.
Но дверь из крошечных сеней отворилась прежде, чем он ее достиг. Вышел дядька Ерема и остановился у порога. Офицер на ходу выдернул из кобуры пистолет и подойдя вплотную, выстрелил в хозяина.
— За что-о?! — хотелось закричать Ядвиге, но не выдала она себя.
Денщик оттащил убитого от двери, и они с офицером скрылись в избушке. Солдаты переговаривались громко, словно плохо слышали друг друга, смеялись. Бабка рвала свои черные, густые еще волосы, не зная, что предпринять.
В избушке офицеру нашлось чем заняться, потому как была там бутыль с вином, и бочонок с самодельным пивом, и хлеб, и сало, и огурцы малосольные. А солдаты от безделья принялись стрелять по лесным пичугам. Денщик выглянул из дверей и, убедившись, что идет невинная забава, вернулся в избушку.
Ядвига не знала, зачем пришли эти солдаты, что они собираются тут делать, но видеть это и терзаться в бездействии больше не могла. Бегом вернулась она в свою хату, схватила карабин, накидала в подоткнутый передник патронов и понеслась вокруг дальнего конца пруда. Все это заняло не более трех-четырех минут. Перевалив изгиб берега, она устроилась за толстым деревом, окруженным вблизи кустами терновника и бузины.
Глядя на нее, можно было подумать, что старуха тронулась умом и перестала соображать. Но смертельная опасность и бешеное возмущение против несправедливости к Ереме вселяли в нее холодную решимость.
Ядвига вскинула взведенный карабин и замерла в ожидании выстрелов солдат. Она стреляла одновременно с ними, потому никто не слышал ее выстрелов. Шестерых солдат уложила бабка, прежде чем в стане их наступила тревога. Видя погибших товарищей и отчетливо сознавая опасность, они решительно не знали, откуда она грозит.
Раздались тревожные возгласы, началось паническое замешательство. Из дверей избушки вышел офицер с денщиком и остановился тут, громко спрашивая о чем-то солдат или приказывая что-то. Ядвига сжалась, в тугой клубок и прицелилась. Офицер тут же и рухнул, где стоял. Ее выстрел не выделился среди общей трескотни, но гибель командира посеяла еще большую панику.
Унтер-офицер, принявший на себя командование, пытался водворить порядок и требовал укрыться за деревьями. Но солдаты, как и сам унтер-офицер, не знали, от кого и как им укрываться, с какой стороны грозит опасность, потому вертелись вокруг крайних деревьев и палили в разные стороны наугад.
Услышав стрельбу, косари бросились домой. За полверсты до усадьбы они разбежались в разные стороны от тропинки и, соблюдая осторожность, проскакивали от дерева к дереву, от куста к кусту, чтобы остаться незамеченными. Но возле двора и огорода не было ни души, а стрельба слышалась из-за пруда.
— Доставай винтовки и патроны! — приказал Василий, а сам подался к берегу, чтобы увидеть, что там происходит.
На его глазах повалился унтер-офицер, вертевшийся возле лодки. Заметил нескольких немецких солдат правее избушки. В этот же момент над головой чиркнула пуля, и ветка, срубленная ею, упала на шляпу. (Фуражек у ребят не было, потому снабдил их Ерема старенькими соломенными шляпами.)
Пришлось прижаться к земле. Григорий, издали заметив предосторожность товарища, упал на живот и по-пластунски подобрался к Василию.
— Ну, чего ты разглядел тама? — спросил он, подавая винтовку.
— Да не враз тут, кажись, разберешься, кто с кем воюет, кто кого бьет… Видишь, вон возле лодки немец в каске лежит?
— Ну…
— Только что вот сейчас он свалился… Вон там, возле избушки, тоже ведь немцы лежат вповалку? Верхний-то, кажется, офицер. И вон правее избушки еще двое… Эт кто ж их побил-то?.. Баушка-то дома, что ль?
— Никого там нету, ни в избе, ни во дворе. Карабина бабкиного на стене нету, и топчан твой голый чегой-то во дворе валяется… Уж не старики ли тут воюют с ими, а солдаты хлебушек убирают. Умно?
— Вроде бы на то и похоже, — молвил Василий. — Хоп! Видал, вон опять один клюнулси!.. А вот куда стреляют они, разобрать никак не могу… Ты вот чего, Гриша, шагов на полсотни подвинься правее, чтоб на избу огонь их не наводить, ложись и лупи их. Стреляй редко да метко, не пали зря, себя не оказывай. А я на ентот конец пруда переберусь.
Немало подивился Василий, когда, огибая пруд, заметил Ядвигу, припавшую за деревом. Надо ж такую чудесную позицию выбрать! Подобравшись к ней сзади на четвереньках, сказал негромко:
— Назад оглядаться надоть, баушка. Обойтить могут.
— Никого там нету, — не испугалась и не удивилась Ядвига его появлению. Видом она в этот момент здорово на ведьму смахивала — черная, злая, косматая. — Двое только что в лес отскочили. Уйдут и помо́гу покличут… Ты б, Васек, подальше обошел да пересек их.
— Понял. Гриша вон там сидит, — быстро показал он и на четвереньках же поспешил от нее удалиться.
— Догадалась, — вслед ему сообщила бабка. — Двух швабов он уже положил.
Отступив на безопасное расстояние, Василий поднялся в рост и, как гончая на охоте, пустился наперехват бежавшим немцам. Сожалея о том, что не успел спросить о дядьке Ереме, он зорко стрелял глазами по редкому лесу и все убыстрял бег, не решаясь пока круто повернуть влево.
Здесь, в сосновом лесу, когда-то, видимо, посаженном руками человека, кусты встречались редко, и видеть можно было далеко. Но сколько ни смотрел Василий вперед, никакого движения не уловил. Замедлил бег, огляделся и заметил мелькание касок далеко слева и сзади. Немцы, стало быть, пробирались к дороге.
Отрезая им путь, Василий сделал несколько перебежек и, не достигнув дороги, упал за толстой сосной. Пот заливал глаза. Шляпа слетела где-то еще в кустах за прудом. Утерся рукавом и, сдерживая дыхание, принялся ловить на мушку бегущего впереди. Выстрел хлопнул коротко, немец упал, а второй, заподозрив окружение, кинулся было назад, к избушке, но страх не пустил его туда, и он снова круто начал забирать к дороге, за нею — спасительные кусты.
Выскочив из укрытия, Василий дважды стрелял стоя и вторым выстрелом, кажется, ранил немца, когда тот был уже возле самых кустов. Оттуда прогремел ответный выстрел, и все замолкло. У пруда тоже стояла нерушимая тишина, будто ничего и не было. Повременил за деревом, позаглядывал на то место, где ползком скрылся немец, и понял, что гнаться за ним бессмысленно. Доберется он до своих или нет, все равно раньше утра едва ли появится тут новая команда. Но придут они сюда непременно. Надо спешить.
Возле избушки стоял запряженный конь, а за телегой, сгорбясь, над чем-то пыхтел Григорий.
— Для чего ты коня-то запряг? — спросил, подходя, Василий и, увидев лежащего у порожка дядьку Ерему, прикусил язык. Нос у него пожелтел и свострился, глаза прикрыты потемневшими веками, усы обвисли.
— Чуток живой еще, — выпрямляясь, сообщил Григорий, — но плох… Не жилец, кажись.
— Не каркай, — возмутился Василий. — Ты не видал, какие мы с тобой были, как Донат из окопа-то нас привез, а я видал. Отдышались вот… А баушка-то где же?
— Не надо ей тута показываться, — пояснил Григорий, — тропу к ее избе тоже казать не надоть. Тама вон недобитые есть, углядят. Нам-то все равно уходить, а ей оставаться да немцев ждать.
С великой осторожностью уложили они дядьку Ерему на сено в телегу и повезли кружным путем. Даже не через плотину поехали, а дальше в лес углубились, пока избушка совсем из виду скрылась.
Постель раненому Ядвига приготовила в том самом тайничке в углу двора, который сам он соорудил для ребят еще по весне. Но ни тайничок этот, ни другие земные блага дядьке Ереме уже не потребовались.
Только попробовали приподнять его с телеги — застонал Ерема, будто просил не тревожить — из уголка рта из-под уса, запузырилась кровавая пена. Вздрогнул старик, вытянулся деревянно и обмяк, ватным сделался, затихнув навсегда. Веки ослабли, чуть-чуть раздвинулись, обнажив краешки закатившихся зрачков, и Ядвига торопливо прикрыла их…
Бабка не голосила. Все делалось быстро, бесшумно и споро. Гроб сколотить было не из чего, некогда, и стучать молотком тут негоже. Место для могилы выбрали укромное, незаметное. Пока ребята готовили последнее прибежище для доброго дядьки Еремы, Ядвига спеленала покойника двумя простынями и еще успела сбегать на то место, откуда стреляла. Подобрала там все стреляные гильзы, а на обратном пути и позицию Григория очистила.
Схоронили молча. Старательно замаскировали бугорок дерновыми пластами, а сверху еще набросали сухой травы, так что приподнялась тут не могила, а вроде бы небольшая копешка сена.
Потом начались торопливые сборы и маскировка жилья: все надо было сделать так, чтобы любой вошедший сразу понял, что живет здесь одинокая старуха и никого больше ни в хате, ни во дворе не бывало. Давно спустились потемки, но огня не вздували, говорили вполголоса, чутко прислушиваясь к тишине, стараясь не пропустить ни единого постороннего звука. За прудом было все так же мертво и тихо. Даже птицы, казалось, не смели тревожить своими голосами это безмолвное царство смерти.
Собрались ребята моментально. Немецкие ранцы набила им бабка доверху разной едой. Шинели скрутили в скатки. Фуражек у них не было, шляпу свою Василий потерял, а Григорий не захотел увечить солдатскую форму. Ужинали в потемках, сама Ядвига есть не могла. И говорила она мало, лишь не спускала глаз с сыночков, ставших ей за эти месяцы роднее родных.
Потом все вышли во двор, забрали с собою коня, корову, телка́, овечку — тоже на поводок, а ягнята от нее не убегут, и двинулись все в лес, в сторону хлебного поля. Не доходя его, скотину пристроили на привязи. Прибрали скошенный хлеб, снопы составили в суслоны и стали прощаться.
— Ну, баушка милая, — сказал Василий, — уборку-то, видишь, едва начать мы успели, остальное одной тебе доделывать…
— Все доделаю, сыночки мои, — бросилась она обнимать ребят. — Все доделаю, если швабы не прибьют. — Здесь позволила себе Ядвига негромко поголосить.
— А може, нам в леске где-нибудь поблизости задержаться, поколь немцы-то придут? — предложил Григорий. — Авось, подмогнем в трудный момент.
— Нет, нет! — испуганно оттолкнула их от себя бабка. — Уходите скорее и дальше. Без вас мне безопаснее будет.
— Ну, прощай, баушка! — скорбно выговорил Василий и отвернулся.
— Прощайте, сынки! Дай вам бог счастья.
Бабка осталась на краю поля, а солдаты двинулись в лес, в неизвестность, взяв направление на северо-восток.
В эту ночь Ядвига спать не ложилась — не уснуть. Да и дел еще нашлось достаточно. Уже перед восходом солнца, когда она, подоив корову, напоила всю скотину и задала побольше скошенной травы там же, в лесу, вернулась домой и села дрожать в комнате под окошко, из которого видна была тропинка, когда-то связывавшая ее с миром.
Одинокая, измотанная небывалыми событиями прошедших суток, жалкая и трепещущая перед грядущим, она сидела на том месте, где постоянно сиживал зимними вечерами дядька Ерема. За сутки лицо ее вдруг сделалось старым, почернело и осунулось, возле глаз и рта заметно проступили морщины. Всклоченные волосы так и не были прибраны, из черных сделались они вдруг серыми, а открытые выше локтя руки посинели и то и дело подергивались пупырчатой рябью.
Немцы появились в восьмом часу. И сколько их там пришло, из окна не видать. Но, как заслышала Ядвига топот кованых сапог, сжалась, словно желая тут же исчезнуть, еще больше почернела. Заколотило ее, лихорадочным ознобом всю ободрало. С места не двинулась. Тут и застали ее офицер с переводчиком. Другие солдаты, что шли сюда с офицером, — человек десять их было — остались шнырять во дворе и в огороде.
— Где твой лесник, матка? — спросил переводчик, входя первым и обшаривая взглядом комнату.
Офицер, осмотрев кухню, зашел в комнату и остановился на том месте, где недавно стоял топчан Василия. Бабка повернулась на стуле к нему лицом.
— Так где же лесник? — повторил переводчик свой вопрос. — Он здесь живет?
— Нет, — робко молвила Ядвига.
— А здесь, кто спит? — указал на топчан Григория.
— Мой дед спал… Он давно умер.
— А кто же немецких солдат побил, ты видела?
— Я не выходила из хаты… там страшная стрельба была… Я всю ночь не спала…
Выслушав перевод, офицер приблизился к окну, позаглядывал в него так и этак и, убедившись, что отсюда действительно ни пруд, ни берег, ни избушка не просматриваются сквозь густую листву, коротко сказал что-то и направился к выходу, поманив за собою переводчика.
С трудом отделившись от стула, потянулась за ними и бабка. На улице офицер несколько раз прошелся перед домиком по полянке, словно обнюхивая ее. А переводчик снова обратился к Ядвиге, сиротливо стоявшей у крыльца.
— Натерпелась ты страху, матка, — сказал, он, криво усмехнувшись, — но теперь тебе не будет скучно: много молодых людей здесь оставляем.
— А когда б твоя мать оказалась на моем месте, чего ж бы она делала?! — обиделась Ядвига.
Офицер позвал всех солдат со двора, и они направились восвояси.
— Моя матка умерла бы со страху, — бросил на ходу переводчик. — Да и тебе, наверно, придется постирать бельишко.
— Не твое то дело, — грубо оборвала его бабка и двинулась за солдатами. — Стыдно молодому смеяться над старым человеком!
Но прошла она за ними лишь до конца тропинки и отстала, увидев на дальнем конце площадки, возле крайних сосен, бугры вывернутой красной глины. Там немцы, засучив рукава, копали большую могилу. А другие перетаскивали к ней убитых.
Воротилась Ядвига к своему опустевшему, неприютному домику, но делать ничего не могла. Из головы не уходили слова переводчика о том, что здесь останется много молодых людей. Присела на крылечко и стала соображать: либо имел он в виду, что похороненные тут останутся, либо новая команда жить будет. Ведь первые-то зачем-то ж приходили. А для чего убили они Ерему? Подозревали в чем или так, из озорства?
Много разных вопросов теснилось в бабкином уме. Просидела она тут не один час и, уронив голову на подставленные руки, задремала.
Проснулась от грохнувшего за прудом винтовочного залпа и не вдруг сообразила, что это заканчиваются похороны. А через час вся команда ушла, но не обратно в деревню, а по еле заметной дороге за дальний конец пруда.
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
Каждый секундный размах маятника часов, подсчитали экономисты, стоит Англии 66 фунтов стерлингов (около 1000 руб.), час войны обходится 3 600 000 руб., а сутки — 86 400 000 руб. Это для Англии. А сколько для России, для Франции, Германии, Турции и прочих. Сколько же стоила в с я война? А ведь ценности, сжигаемые в этом пожаре, созданы теми же руками, что держат теперь винтовку…
О, если б хоть половина всех несчастных вдруг осознала свою роль в наполнении денежных мешков, она бы всю свою ненависть обрушила не на окопного врага, а на владельцев миллиардов и миллионов!
1
Горячий воздух, пропитанный неумолимым солнцем, затаенно висел над притихшей землей. Далеко где-то, за синеющей полосой соснового перелеска, за пустым полем, неровно перепаханным снарядами, за болотом и маленькой речкой, не раз переходившей из рук в руки, глухо и лениво рокотал артиллерийский гром, словно предвещал настоящую грозу.
А настоящей грозы давно не было ни в природе, ни на фронте. Осатанело бесконечное сидение в окопах. Все реже случались вылазки, но ежедневно и методично работала артиллерия, и казалось, что какое-то страшное чудище неустанно скрежещет зубами, принимая кровавую пищу точно по заведенному распорядку.
Тимофей Рушников, тот самый Тимка, что летом девятого года приведен был матерью в хутор Лебедевский, весною шестнадцатого мобилизован. Прямо с поля взяли, где с матерью вместе работал. В Троицке прошел первичную подготовку в двенадцатой маршевой роте. Всего три недели их поучили, да первая-то неделька ушла на зубрежку титулов и званий всего царского сословия. А потом — на фронт, под Ригу.
Все лето сидели в окопах. И долго щадила Тимофея шрапнель, но все-таки царапнула повыше локтя, нешибко. Десяток дней провалялся в полевом лазарете. Навещать его приходил Петренко, из их же разведкоманды солдат, командир отделения. Назначен был недавно, и звание присвоили ему, но урядницкие лычки все «забывал» пришить, и оставался солдатом.
Дня два последних не забегал Петренко в лазарет. Тимофей не ждал его и сегодня, но, попрощавшись после выписки с товарищами, вышел на крыльцо и носом к носу столкнулся со своим отделенным командиром.
— Х-хе, — опешил Петренко, — уже здоров, Тима!
— Здоров, — бодро ответил Тимофей. — Опять на войну под твою команду двигаюсь.
Было видно, что хотел что-то сказать Петренко и обопнулся, затормозил. Это уж привычка такая у него была: вроде бы замахнется сказать чего-то, да вдруг за мягонький темно-русый усик дернет себя, в затылке почешет и либо промолчит, либо сгородит чего-нибудь совсем не подходящее.
— Чего там у нас новенького? — спросил Тимофей, направляясь по двору к тропинке через сад.
— Да чего ж там новенькое может быть? — возразил Петренко, поглядывая на изуродованные снарядами деревья сада. — Сама война и та старой сделалась, как ведьма.
Тропинка провела их через заросли кустов и выбежала на поляну. Справа, шагах в тридцати, между деревьями и кустами забелелся свежий крест.
— Кому это честь такая? — удивился Петренко и круто повернул туда так, что толкнул Тимофея в больную руку. Тот поморщился. — Не дает забывать-то?
— Да поколь сказывается, как потревожишь.
— Ух ты! — воскликнул Петренко, выбравшись на новую поляну — Да тут целое кладбище возле лазарета-то появилось. Гляди ты, не то что в братской — надписи даже имеются.
Кресты были свеженькие, из тонких реек, и на всех одним почерком поперечины исписаны химическим карандашом, кое-где уже расплывшимся от дождя.
— Тут похоронен рядовой третьего взвода Федор Никандров пехотного полка, второй роты, прощай, товарищ… — прочел Петренко, перешел к другому кресту и опять: — Под сим крестом погребено тело Георгиевского кавалера младшего унтер-офицера Семена Висновского, скончавшего от ран житие свое. Все там будем…
Петренко было повернул назад, но его привлекла еще одна размытая надпись на покосившемся, уже начавшем темнеть кресте:
— Погребен рядовой неизвестной части, неизвестного имени, скончавшийся от ранений, не приходя в сознание…
Пробежав по написанному взглядом несколько раз, Петренко повторил эти слова вслух, словно стараясь запомнить их навсегда.
— Вот видишь, — сурово сказал он, направляясь к прежней тропинке, — был человек — и ничего не осталось, даже имени. У каторжан, у разбойников и то имена остаются в бумагах у жандармов и полицейских. А тут — ничего! Домой, конечно, из того полка написали, что пропал без вести…
Шагая следом и слушая товарища в пол-уха, Тимофей думал о своем. Чудной какой-то этот самый Петренко. Вроде бы грамотный человек и умный, а непонятный. Чего бы ему лычки-то не нашить на погоны, коли звание присвоили и командиром отделения назначили? Поручик Малов — командир полковой разведки — относится к нему как-то по-товарищески, что ли, не принуждает его. Правда, Малов ко всем солдатам добр, но Петренко у него ближе всех вроде бы. А вот со взводным, с прапорщиком Лобовым, грызня у Петренко постоянная. Иной раз и не поймешь, из-за чего она у них начинается. И всякие новости Петренко всегда узнает раньше всех.
По ходу сообщения шли молча. Уже на повороте к родной землянке до Тимофея донеслось:
— Тут вчера пополнилось наше отделение: двое бывалых солдат к нам прибыли… По-моему, хорошие ребята.
На Тимофея известие это никак не повлияло. Но, пройдя в настежь распахнутую дверь землянки и оглядевшись в ней после яркого света, увидел на нарах и признал это пополнение.
— Гри-иша! — закричал он и рванулся к своим. — И Василий тута!
— Постой-постой! — тараща глаза и двигаясь на локте к краю нар, заговорил Григорий Шлыков. — Ты, что ль, Тимк?
— Да ну, я же! Не признае́шь?
— И где ж признать этакую жердину! — Василий торопливо приподнялся и сдвинулся, на край нар.
Тут земляки обнялись по-братски, потискали крепко друг друга. Сняв шинельную скатку и швырнув ее на нары, Тимофей напал на Петренко:
— Идол ты проклятущий! Ведь знал же, наверно, что нашенские они, хуторские!
— А то как же? — невозмутимо отвечал Петренко, сидя в углу на патронном ящике. — Конечно, знал, оттого и не сказал. А вот ежели б не знал, непременно сказал бы. Я на вашем хуторе всех знаю.
Никто не стал слушать его болтовню, потому как все равно не разобрать, где в его словах правда, а где пустое зубоскальство. Отмахнулся от него и Тимофей.
— Дык как ж эт вышло-то? — не унимался Василий, поглаживая светлый ус. — Ведь вы с нашим Степкой почти что ровными были, а ты уж в солдаты попал.
— Нет, — засовестился Тимофей, — это казалось только. Заморенный я был до полусмерти. Ведь мы едва ноги приволокли с матерью из дальних степей. Отца и двух братишков тама схоронили. Да еще сеструшку, самую младшенькую, гдей-то в приюте оставили… Теперь и не найтить. А я годка на три либо́ на четыре Степки-то вашего постарше.
— Ну и ну-у! — не мог прийти, в себя Василий. — Встренься ты мне так вот где на улице — ни за какие пряники не признал бы, ей-бо!
— Х-хе, пряники! — возразил Григорий, потянувшись в карман за кисетом. — Да вы же им как в десятом годе косили вместе, так с тех пор и не видались, небось… Давно ты из дому-то, Тима?
— С весны нонешней. Три недельки с маршевой ротой подержали нас в Троицке, да и сюда вот, вшей кормить.
— Э-э, погоди, — подал голос Петренко. — Летняя вошь не такая злая, да и отгребать пока успеваем по теплу-то. А вот как дождички пойдут да снежок подвалит, тут берегись — загрызет!
— Наши-то как там? — нетерпеливо спросил Василий.
— Дядь Мирон в полицейские мобилизован в город, а дядь Макар и Митька дома еще оставались, как я ушел.
— Ну, Митька придет в свой черед. Не старше он тебя? А Макару-то как же удается дома сидеть? — удивлялся Василий.
— Дядь Макар пособлял нам весной на своих лошадях два дня, — словно защищая его, ответил Тимофей, — и тетка Дарья денек поработала. А Митька ваш месяца на три либо́ на четыре помоложе меня. Теперь уж, небось, тоже тетка Марфа сухари в дорогу сушит ему.
— А про наших чего знаешь? — спросил в свою очередь Григорий. — Ванька-то не помер?
— Нет, по хутору ходит, во дворе кой-чего делает, а то и в поле когда выберется. Это будто бы от барсучьего сала поправляться он стал. Дядь Макар ему барсука убил.
— Гляди ты, — удивлялся Григорий, — совсем в упокойниках был человек! Стало быть, жить ему предписано. Молодец!.. Ну, а семья-то как пробавляется?
— Да поколь не бедствуют, кажись. Лошадка у них четвертая появилась, Яшка с Семкой подросли — работники…
— Да, — согласился Григорий, — пока и сопливые, а все ж работники. Небось, в женихи прицеливаются?
— Вот уж чего не знаю, того не знаю. А ребятки ладные выправляются…
Ни усов, ни бороды у Тимофея, конечно, не было — не выросли. В две недели раз он сбривал жалкий, ни на что не похожий пушок. Сухое продолговатое лицо его и желтые, как у кота, глаза светились негасимой радостью от нежданной встречи с земляками.
А Петренко, сидя в углу, вроде бы думал о чем-то своем, наблюдая, как сизовато-белый дым от солдатских самокруток, собираясь в общее облако, вытягивался в длинную полосу, замысловато пронизывался солнечными лучами и вылетал в растворенную дверь.
Все приумолкли. В землянке никого, кроме них, не было.
— А за что ты воюешь, солдат Рушников? — неожиданно спросил Петренко, будто по лбу вдарил.
— Как — за что? — подрастерялся Тимофей, гася окурок о каблук сапога. — За землю, за веру, за царя и отечество…
— Ну, и сколько ж у тебя земли?
— Своей-то нету, конечно, — смутился Тимофей, но тут же вроде бы с гордостью добавил: — А три десятины арендовали мы ноничка у казаков Палкиных из Бродовской станицы…
— Да какая там земля у наших мужиков! — горячо встрял в разговор Григорий Шлыков. — Рословы вон большой семьей покрепче на ногах стоят. И земли арендуют у казаков добрые клинья. Ну, наши теперь с четырьмя лошадями да при трех работниках — тоже как-то держатся. А у этого хозяина, — показал на Тимофея, — два кола вбито, небом покрыто да ветром огорожено — вот и вся усадьба.
— Богат Тимошка, и кила с лукошко, — усмехнулся Петренко. — Так, за чью же землю все вы воюете — за царскую, за барскую, за казачью, за монастырскую? За чью?
Наступило тупое молчание. Вопрос был задан всем, потому и ответ надо бы общий отыскать.
— А сам-то за чью же воюешь, герой? — нашелся Василий Рослов. — Али своей — поля немеренные, краев не видать?
— Да, — твердо сказал Петренко, — земли́ у меня — целая Россия! Есть поля, леса, горы, руды, заводы… только все это находится во временном пользовании у помещиков и капиталистов. И время подходит востребовать все это подлинному хозяину, то есть мне.
Солдаты засмеялись, а Василий сказал:
— Ну, ежели так, то, може, и наша земля по своим хозяевам давно слезы льет.
Тимофей Рушников слышал такой разговор намеками впервые и воспринял его, как шутку. Но шутка была не безобидная — каторгой отдавала, потому вскочил и, будто собираясь закурить, вышел по траншее на перекресток к ходу сообщения.
— Гляди ты, — удивился Григорий, — молоко на губах у Тимки, а какой догадливый.
— Здесь все с понятием, — пояснил Петренко, — потому как месяц назад вот с той поляны, что за леском, куда на молитву ходим, двое в каторгу отбыли, а одного там расстреляли за крамольные речи.
— А ты, стало быть, не внемлешь и не каешься перед карой суровой? — спросил Василий на поповский лад.
— Да как сказать, — дернув себя за ус, отвечал Петренко. — Оглянуться лишний раз никогда не мешает, но бояться — постыдное унижение. А потихоньку-то весь полк о том же говорит, да и в других полках никак не иначе. — Он снова дернул себя за ус, пострелял по сторонам пронзительными черными глазами, значительно понизив голос, добавил: — И скажу вам вполне достоверно, что среди офицеров подобные разговоры тоже постоянно ведутся. Окопное время тянется долго и вполне располагает к глубоким раздумьям и откровенным беседам.
— Да к чему же офицерью-то в мужичью кашу лезть? — возразил Григорий. — Никак в толк не возьму.
— Не в мужичьей каше дело пока, Гриша, — терпеливо разгонял крестьянскую темноту Петренко. — Дело в том, что Николашка, которого вся Россия вслух называет «Кровавым» вместе с царицей и Распутиным довели до осатанения и дворян, потому многие офице…
Тут Петренко, заметив, как Тимофей шагнул в траншейный отвод и сделал короткую отмашку рукой, замолк на полуслове. И новички с изумлением и даже с суеверной робостью наблюдали, как на их глазах лицо Петренко, только что умное и даже одухотворенное, сделалось дураковатым, тупым, взгляд помутнел.
В землянку, не пригнувшись в дверях, вошел маленький, черненький, как жучок, прапорщик Лобов. На изжелта-бледном личике резко выделялись черные шелковистые брови и черные глаза. Даже могло показаться, что эти глаза и брови без лица — в пустоте висят.
Солдаты нехотя поднялись со своих мест, но и не попытались изобразить бравой стойки.
— Петренко, почему не доложил об изменении численного состава? — спросил Лобов, стараясь быть спокойным и держаться достойно. Но крылья вытянутого вперед остренького носика нервно двигались и даже белели, оттого казался он этаким хищным крошечным зверенышем, загнанным в клетку.
— Не успел, вашбродь, — промямлил Петренко и потупился. — Только что идти собирался.
— Долго ты собираешься! — Голос у Лобова был глуховатый, слабый, и тщетные попытки придать ему важную басовитость выглядели смешно. — А где твои знаки различия?
— Забыл, вашбродь.
— Что забыл?! — взвизгнул прапорщик, уже не пытаясь важничать. — Забыл, что приказывали или забыл пришить знаки?
— Забыл пришить, вашбродь.
— Ты вчера это говорил, позавчера и неделю назад. Дур-рак! Или издеваешься, серая сволочь?! — Лобов круто повернулся и, уходя, бросил злобно: — Доложу по начальству о разжаловании!
Солдаты присели на прежние места.
— Какой-то графский последыш, — разворачивая кисет, спокойно сказал Петренко. — Доброволец. Такого поберегись, братцы, — живьем проглотит, хоть и щенок. Я ж ему докладывал, как в лазарет пошел.
— Такой не запнется, — с тревогой заметил Василий, — сегодня же настрочит бумагу.
— Х-хе, — беззаботно хмыкнул Петренко, — строчил уже! Обо мне разговор иной. Жестковат я для его молочных зубов. А вот вам поберечься не помешает.
— Оглядеться надоть, конечно, на первых порах, — с крестьянской основательностью заключил Василий.
— Слышь, Петренко, а сам-то ты из каковских? — поинтересовался Григорий. — Фамилия вроде бы у тебя хохлацкая, а говоришь по-нашему, по-русски.
Василий незаметно локтем ткнул товарища в бок. А Петренко, привычно подергав себя за ус, улыбнулся лукаво и ответил опять же уклончиво:
— Да, кроме фамилии, во мне действительно ничего украинского не осталось, кажется…
— На ужин пора! — войдя, сообщил Тимофей. — На ужин, братцы. Все потянулись за котелками, и уже на ходу Петренко еще добавил:
— Призывался в Самаре. А жить приходилось во многих местах…
В ходе сообщения, чуть приотстав от Петренко и Рушникова, Василий успел, шепнуть Григорию:
— Ты уши-то шибко не развешивай, держи топориком. Этот Петренко либо́ тайный агитатор, либо́, не дай бог, слухач, наушник, от жандармов подсунутый. Слыхал я про таких еще до войны. Тут приглядеться надоть.
2
Теплынь стояла пока летняя, и осень вроде бы не проявляла себя. Но дни заметно укоротились, зори прохладнее стали, ночи — длинней. На громадное пространство падали сумерки, и война, усталая за день и напитанная солдатской кровью, ложилась спать.
Смолкали редкие винтовочные щелчки, угасал губительный гром артиллерии, но сторожевые посты на передней линии, телефонисты и прочие неусыпные службы продолжали бдеть. Сидели они тихо, неслышно, не мешая войне спать.
Поручик Малов вернулся в свою землянку, когда еще не успело стемнеть по-настоящему. В штабе полка он только что встретил знакомого журналиста, вернувшегося из Петрограда. Наговориться, конечно, не успели, но тот дал ему целую пачку тыловых газет еще довольно свежих, и Малов немедленно вознамерился их просмотреть.
Засветил плошку на шатком столике, разулся, стащил с себя пропотевшую гимнастерку и, блаженно вытянувшись на лежанке поверх одеяла, схватил первую подвернувшуюся под руку газету. Но не успел просмотреть и одной полосы, как в дверь постучали.
— Да-да, войдите! — отозвался Малов и сел на лежанке, сунув босые ноги под стол.
На пороге появился и взял под козырек прапорщик Лобов, изрядно уже надоевший, хотя в полк прибыл всего месяц назад.
— Перестаньте, Лобов, — нахмурился поручик, облокотившись на стол и приложив указательный палец к губам, так что щегольские короткие усики переломились. — Проходите, присаживайтесь. Надеюсь, не очень срочное дело загнало вас ко мне?
— Нет, не срочное, — подтвердил прапорщик, небрежно бросил фуражку на гвоздь у входа и погладил чернявый ершик на голове. Ершик так и остался ершиком, как на хорошей щетке. Потом, садясь на табуретку по другую сторону стола, непреклонно добавил: — Но все-таки откладывать этого дела я больше не намерен.
— Это вы о чем? — настороженно спросил Малов, поскольку в голосе прапорщика послышалась нескрываемая угроза.
— О том же все, о Петренко. И если вы, господин поручик, не примете к нему мер, я вынужден буду обратиться через голову, по команде. — Лобов даже вскочил с табурета, верхняя губа у него приподнялась и вздрагивала, а мелкие частые зубки, казалось, готовы были вцепиться мертвой хваткой.
— Да полно же тебе, Леня! Сядь, успокойся. Водички вон испей.
— Я не барышня слабонервная, чтобы водичкой меня отпаивать! — ершился Лобов, но невозмутимость старшего уже начала покорять его, и он сел.
— Ну, раз не барышня, давай говорить по-мужски. Чего там еще натворил ваш Петренко?
— Ничего нового он не натворил пока, но упорно не желает носить положенную форму и тем нарушает воинский порядок.
— Так, так, — постукивая пальцами по столу, Малов долгим, упорным взглядом пригвоздил мальчишку. — Лычки не пришил? Ну, допустим, завтра он их пришьет, что изменится от этого в его отделении, в вашем взводе, в полку, наконец?
— Ничего, конечно, не изменится. Но как же вы не понимаете, что своим поведением он расшатывает дисциплину! А ежели завтра другие снимут погоны? Дурной пример заразителен.
— Ну, все пока не собираются снимать погоны, да и Петренко ведь носит их. — Малов опять мягкие усики потрогал пальцем зачем-то и сказал: — Эх, милый вы мальчик, Леонид Петрович! А знаете ли вы, на чем теперь дисциплина держится в армии?
— На строгом выполнении присяги, уставов, естественно, так нас учили, — выпалил прапорщик.
— Там, где учили, никто в вас не стрелял, а здесь, как видите, постреливают и, случается, довольно метко. А разница в том превеликая… Хотите добрый, совет, Лобов?
Прапорщик скептически ухмыльнулся, но перечить не стал.
— Не смейтесь, Леня. Все гораздо сложнее и серьезнее, чем кажется на первый взгляд. И настоящая дисциплина в войсках может держаться теперь лишь на добром слове командира, на исключительно добром отношении к солдатам. Любая грубость, а тем более притеснение чреваты самыми неожиданными беспорядками. Иногда, не вдруг, не сразу, но конечный результат — один… Так вот вам мой совет: оставьте в покое Петренко — и могу поручиться, лично вам от этого хуже не будет. Не забывайте, что вам с ним в разведке бывать, а там всякое случается.
— Вы извините меня, Алексей Григорьевич, — откровенно засмеялся Лобов, — но ваш добрый совет пронизан трусостью перед серой скотинкой…
Не постучавшись, в землянку ввалился полный, неповоротливый командир первой роты, капитан Былинкин.
— Э, цари небесные, вон они как посиживают, — иерихонской трубой загудел он с порога. — У других — карты, а то и выпивка… А тут даже не покурили, кажись. Никакой благовони в апартаментах не слыхать. Словно голуби воркуют.
Он сел на табурет, пискнувший под ним, и большущей рукой выложил на стол папиросы. Потом достал громадный носовой платок и стал протирать им вспотевшую шею. Подбородок при каждом движении подергивался, одутловатые бритые щеки вздрагивали. Глядя на сидящих напротив, Малов усмехнулся про себя — как же неровно природа наделила этих людей: задень сейчас локтем Былинкин ершистого прапорщика — и тому несдобровать.
— Нет, Федор Максимыч, не угадали вы, — возразил Малов, — беседа тут состоялась отнюдь не голубиная.
— Что так? — запыхтел капитан, прикуривая. — Уж не ссора ли, не дай бог.
— Ну, до ссоры пока не дошло, — пояснил поручик. — Я вот посоветовал молодому человеку повежливей держаться с солдатами, а он меня в трусости перед серой скотинкой обвинил.
— Э, гоголек, — сказал капитан, положив ручищу на плечо Лобову, тот аж изогнулся, — мамкина манная кашка совсем не то, что солдатская. Ты вот ее похлебай с годок, а лучше два, тогда ум-то сам явится!
— Вы грубы, господин капитан, — обиделся Лобов и отодвинулся от Былинкина.
— Это по-вашему, по-петроградски, пожалуй что, и грубоват, а по-здешнему, по-окопному, в самый раз. Да не учи ты его, Алексей Григории. Солдаты — народ смышленый, выучат. Наплевать на ваш спор и растереть по-солдатски, чтоб незаметно было… Новость слышали?
— А что? — насторожился Малов.
— Будто бы немцы праздничек нам готовят, посуду по своему тылу перетаскивают. А в той посуде — зловоние. Газами нас травить собираются.
— Это уже не новость, Федор Максимыч, — возразил Малов. — Я с месяц тому назад слышал такое… Правда, сегодня знакомый журналист из Питера опять об этом же говорил.
— Не посмеют они этого, — вклинился Лобов.
— Это как сказа-ать, — не удостоив его взглядом и сделав глубокую затяжку, размышлял Былинкин. — Немец, он все может сметь. На союзниках попробовали и наших в прошлом году тоже попотчевали… Да только верить-то этим тыловым крысам закаялся я. Все-то они наперед знают, везде нос суют и пророчат всякую всячину. То газы у них, то революция, то Распутин всю Россию с потрохами продал.
— О Распутине очень много в столице говорят, — вставил свое слово Лобов.
— Дыма без огня не бывает, — неопределенно заметил Малов.
— А как пустит немец газы, вот нам будет дым без огня! — засмеялся Былинкин. — Да куда ж вы-то глядите, разведчики наши милые? Прогулялись бы поглубже к ним в тыл да сами бы и узнали. А то все из Питера вести плывут.
— Да ведь мы, Федор Максимыч, как вам хорошо известно, не сами по себе живем, не по своей охоте в разведку ходим. Коли всемогущий наш батюшка штаб соизволит отдать такое приказание, тотчас и отправимся.
— Спит он, всемогущий-то наш батюшка, — сладко позевнув, заметил Былинкин. — Только немец пушками нас и подбадривает… Давай-ка и мы спать, пока никто не мешает.
Капитан поднялся, накинул фуражку на лысеющую голову и удалился так же без церемоний, как и вошел.
— Я перед сном пройдусь по солдатским землянкам, — собираясь уходить, сказал прапорщик.
— А, знаешь, я, пожалуй, тоже прогуляюсь. Пойдемте вместе.
Малов по-военному быстро надел сапоги и гимнастерку, и они вышли в осеннюю звездную ночь.
3
Солдаты, свободные от службы, со скуки вечерами и сказки рассказывали, и прибаутки разные, и бывальщину вспоминали, и песни пели. В землянке, куда поселились ребята лебедевские, скуки никогда не было. То потешал их разными побасенками вятский парень Пашка Федяев, порою не щадя своих земляков, то Петренко по целому вечеру играл на своей неразлучной гармошке, а ребята и частушки пели, и плясали, кто как умел, и протяжные русские песни тянули.
Еще днем Григорий Шлыков прилаживался письмо домой написать и Василию тем же заняться посоветовал.
— Там, небось, давно уж за упокой нас поминают, а мы помалкиваем…
— А стоит ли будоражить-то их? — возразил Василий. — Попривыкли они без нас, успокоились… Письмо получат — опять все страсти воротятся… А тут какая-нибудь заварушка выйдет и — либо в лазарет, либо и подальше где окажемся. Чего ж их терзать-то постоянно? Повременить поколь надоть.
Григорий согласился с такими доводами, тем более, что от Тимофея узнали они о хуторской жизни, и ему наказали — ничего о них в письмах «не прописывать», а как выйдет срок, сами обо всем сообщат.
После ужина все курящие притормозили в траншее и выкурили по доброй закрутке на вольном воздухе. А потом потянулись один по одному в жилище свое, в землянку. Там Пашка Федяев, словно торопясь выполнить обязательную работу, «молотил» очередную присказку. На загорелом, обветренном лице резко выделялись выгоревшие добела широкие брови и большие глаза. Сидя на краю нар, как сыч, вертел он круглой головой в полутьме землянки.
— Это земляки мои в бедной-пребедной деревне церковь строили. А на колокол денег-то не хватило. Ну, сплели из лыка. Стали звонить, а колокол-от — шт-лык, шт-лык, шт-лык! Думали, что надо подплести сто лык. Подплели… Опять звонить зачали, а приплетенная кромка от колокола отлетела и упала на землю… Всю землю изрыли мужики вокруг церкви — не нашли обломка. Сели курить, огляделись, а обломок-от висит на крапиве.
— Это ветром, что ль, отнесло его? — смеясь, спросил Григорий Шлыков. — Вблизи-то, небось, вытоптали крапиву строители.
— Ну да, конечно, — подтвердил Федяев. — А то еще пошехонец один другого спрашивал: «Как же это Ивана Великого склали? Высоко-о!» — «Немудрено, как склали, а вот как туда кряст подняли?» — другой говорит: — «Фу, ты, чудак! Верхушку-то ему нагнули да кряст и воткнули».
— Ну, воткнули и ладно, — возразил кто-то.
— Давайте-ка лучше споем.
Но так вот сразу остановиться Пашка не мог, потому, пока доставал Петренко свою гармонь, он успел пропеть:
Ох, Ваня маленькой-премаленькой реку переходил. А штаны длинные-предлинные и те не замочил.Но Петренко наиграл мотив известной всем песенки, и солдаты дружно грянули:
Раз полоску Маша жала, Золоты снопы вязала — молодая, молодая. Шел солдатик из похода, Девятьсот второго года — притомился, притомился. Шел он, шел — остановился, Перед Машей поклонился — дай напиться, дай напиться. Я б дала тебе напиться. Да тепла моя водица — не годится, не годится…— Стоп! — громко крикнул Петренко, сжав меха гармони. — Хоть и веселая эта песенка, да глупая. А спою-ка я вам, братцы, новую, неслыханную песню. А вы запоминайте ее, после, глядишь, и вместе споем. Но для того надо дневального в траншею поставить… Ты готов, Паша, постоять за всех?
— Я-то? — отозвался Федяев. — Завсегда готовый. — Захватив шинель и фуражку, он соскользнул с пар и, выходя, добавил: — Я подальше отойду и, ежели что, чихать стану, кашлять, как чахотошный. А вы бы тут в отводе-то еще кого-нито поставили.
— Тима, — обратился Петренко, — ты помоложе всех, сходи прогуляйся да проверь, далеко ли будет слышно… Я негромко петь буду.
Ни слова не сказав, Тимофей Рушников тоже вышел, поплотнее притворив за собою дверь.
И застонала длинная и тягостная песня, там же в окопах рожденная.
Не за веру мы, братья, страдали, Не отечеству жертвы несли, Не за то свою кровь проливали, Чтоб злодеев богатства росли. По колено в грязи мы бродили, Иногда задыхаясь в пыли. Там нас голод и жажда томили, А потом нас под пули вели. Богачи между тем пировали, Собираясь в палатах своих. Мы не знали, за что погибали Далеко от родимой семьи. Богачи и попы нам внушали Проливать неповинную кровь. Командиры нас били, терзали, Если в сердце родилась любовь. Не довольно ли вечного горя? Встанем, братья, повсюду и сразу От Днепра и до Белого моря, От Поволжья до гор Кавказа.Песня была «самодельная», потому ритм кое-где сбивался, но слова разворачивали солдатские души, по коже мороз бежал…
На воров, на собак на проклятых И на злого вампира-царя! Бей, губи их, врагов проклятых! Засветилась и наша заря. И взойдет за кровавой зарею Солнце правды и братской любви, Хоть купили мы страшной ценою Это счастие нашей земли.Песня умолкла, тут же сникла и гармонь, а у солдат языки примерзли — не ворочаются!
— Вот эт дык пе-есенка, — первым опомнился Василий Рослов. — С такой в самый раз на каторгу маршировать. А как же ты петь-то ее не боишься?
— Как видишь, пока за притворенной дверью поем. Придет время и на улице грянем. А вот насчет каторги, ты, брат, приотстал здорово. Это довоенная мера — каторга-то. Теперь, да еще на фронте, за такие слова и к стенке поставить могут, или во чистом полюшке возле ямки.
— А скоро на улице-то петь такие песни станем? — поинтересовался Григорий Шлыков.
— Это как сказа-ать, — замялся Петренко, дергая себя за ус. — Я, конечно, не бог, чтобы точно месяц и число назвать. Но можно сказать, скоро. Только ведь возле солдата постоянно то шрапнель, то осколок, то пуля шальная вьется. А они, как известно, скорее всего действуют.
— Да уж наше-то дело — известное, — тяжело вздохнул Василий. Затравленный какой-то вздох у него получился. — А все ж таки знать не помешало бы.
— Все равно теперь скоро! — загорелся Петренко. — Ведь не то что солдаты, иные офицеры зубами поскрипывают, как про Николашку говорить начинают. Рушится его власть, на глазах разваливается. Только приглядеться получше надо… А песенку эту нам бы заучить не помешало, пригодится!
Он тут же несколько раз повторил слова первого куплета и тихонько запел, солдаты тоже негромко, вполголоса подтянули.
Стоя на углу, возле отвода траншеи, Тимофей Рушников услышал вдруг низкоголосое гудение в землянке, словно сотни потревоженных шмелей завозились там.
— Молитву какую завели, что ль, — недовольно подумал вслух Тимофей, свертывая вторую цигарку. — Молиться-то, небось, и без сторожей бы можно. И тут услышал он громкое чиханье, потом — заливистый кашель, с удушливыми перехватами.
— Вот черт, — удивился Тимка и бросился к землянке, — ведь и правда, как Ванька Шлыков, заходится Пашка.
Сначала он ударил в дверь кулаком, и за нею мигом все стихло. В землянку вскочить успел, пока на повороте отвода не показались гости.
— Чего там? — тревожно спросил Григорий.
— Не знаю чего. Федяев шибко кашляет, прям, как Ванька ваш.
Петренко бросил пальцы по клавишам и снова потянулся безобидный мотивчик про Машу, да души солдатские не могли так скоро перестроиться на веселый лад, потому никто не подпевал.
— Ф-фу, братцы! — воскликнул поручик Малов, первым входя в землянку. За ним — прапорщик Лобов, а Федяев так и остался снаружи у растворенной двери, продолжая надсадно кашлять. — Да у вас тут и курящему на ногах не устоять: Федяева-то отравили, выходит… Сидите, сидите, пожалуйста… Чего же вы в темноте-то, без огня?
— Песни петь да гармошку слушать и без огня можно, — ответил Петренко, стоя в углу. — Не все тратить государево добро, когда и поберечь надо.
— Да, да, — мягко подтвердил поручик, — но вы, пожалуйста, проветритесь хорошенько перед сном. Нельзя же, так относиться к своему здоровью.
— Слушаюсь, ваше благородие! — преданно ответил Петренко.
— Посочувствуйте своему некурящему товарищу, — просительно наказывал Малов, уходя.
— Слушаюсь! — снова гаркнул в ответ Петренко.
— Но почему вы даже замечания ему не сделали за погоны? — возмущался прапорщик Лобов, суетливо вертясь возле поручика и пытаясь пристроиться с ним в ряд. Но траншея была явно тесной для парной ходьбы.
— Да мы же с вами договорились, Леня, — возражал Малов. — Оставьте вы его с этими погонами, пожалуйста! Ну что вам они дались?
— А вы обратили внимание на издевательскую интонацию в его голосе, когда он говорил о сбережении «государева добра»?
— Господи! — уже с трудом сдерживал себя Малов. — Вы извините меня, но вы либо впадаете в детство, либо не вышли еще из него. Мужики говорят: рот не ворота, клином не запрешь. К тому же, за интонацию никаких наказаний не предусмотрено. А слова он сказал самые похвальные. Ну скажите, что вы могли бы предпринять в подобной ситуации?
— Н-не знаю, — покаянно признался Лобов.
— Вот и я не знаю. Ведь вы второй месяц на фронте и, что же, впервые услышали эту интонацию?
— Нет, не впервые.
— По-вашему, всякий раз по этому поводу следует устраивать потешные сцены, чтобы добиться нужной вам интонации? Глупо это. Вы слышите, глупо!
— Да, конечно, — торопливо соглашался Лобов. — Но ведь и терпеть это постоянно — тоже невыносимо. Какая-то серая мразь, едва читать умеющая, то и дело подцепляет его величество, самого царя русского!
—А как вы поступаете, когда улавливаете подобную же интонацию по отношению к его величеству в кругу господ офицеров?
— Ну, знаете! — взъерошился прапорщик, повысив голос. — Как это можно сравнивать состоятельных, образованных людей с этим дерьмом?!
— Вот что, Лобов! — Круто повернувшись, Малов остановился и, снизив голос до свистящего шепота, продолжил: — На этом дерьме, как вы выражаетесь, весь фронт держится! Попробуйте представить себе пустыми вот эти окопы. А еще лучше и для большей ясности вообразите, что все штыки из солдатских землянок могут повернуться в нашу с вами сторону. Вот чем вы тогда почувствуете себя?.. А теперь ступайте спать, не задавайте мне больше детских вопросов и не заводите этого разговора до тех пор, пока не изобретете способа изменить положение в России и на фронте. Над этим думают очень многие, но пока безуспешно. Все. Идите!
Почувствовав резкий, приказной тон, Лобов, как осаженная жесткими удилами, лошадка, переступил с ноги на ногу, повернулся «кругом» и быстро зашагал обратно.
Будучи от природы уравновешенным, сдержанным, теперь Малов кипел. Хорошо, что поблизости в траншее никого не было и никто не видел побледневшего, разъяренного поручика. Встряхнувшись и сделав несколько глубоких вдохов повлажневшего холодного воздуха, он успокоился. Постоял еще минуту-другую и тихонько пошел к себе в землянку.
«Как же разобраться в этом? Как понять, — думал на ходу Малов, — как отыскать ту грань, за которой человек превращается из человека в совершенно безнравственное быдло?! Ведь вокруг столько безграмотных, темных, забитых людей, а как они умеют заботиться друг о друге, как пекутся о раненых! Не задумываясь, жертвуют они, если надо, и отдыхом, и пищей — чем угодно, порою самой жизнью… Грубоватыми кажутся они, но, в сущности, доброте их, терпению конца нет. — Но тут он обопнулся мысленно и поправил себя: — Да, терпению-то, кажется, и приходит конец… А тут образованный, «благовоспитанный» звереныш, считая себя человеком высшей хартии, не желает знать ничего, кроме насилия, кроме обыкновенной палки… Так в какой же все-таки момент, где, как зарождается настоящий человек или такое вот безнравственное животное?»
Два Георгиевских креста на груди у поручика. Это дает ему право свободно держаться с графским отпрыском. Но все равно хлопот с ним прибыло… Совсем не то, что с прежним взводным, подпоручиком Семеновым. С ним понимали они друг друга с полуслова. Погиб в разведке. Из под самого носа у немцев выхватили его солдаты еще живого. На обратной дороге скончался. После похорон Алексей Малов написал старушке матери о кончине сына. Ужасно такое письмо сочинять — легче в любую разведку сходить. Тем более, что и у самого Алексея, кроме престарелой матери да невесты, никого нет.
Шагов за тридцать до своей землянки вспомнил о целой пачке непросмотренных тыловых газет и заторопился. Завертелись в памяти названия партий: кадеты, эсэры, большевики, меньшевики, анархисты… Надо же непременно знать, что творится в России. Правда, не всему верить можно, что пишут в газетах, но к тому времени Алексей научился вылавливать кое-что и между строк.
Малов давно разглядел влияние Петренко на солдат и догадывался об истинной его роли в армии, но не только преследовать не пытался, а даже незаметно способствовал ему, позволяя часто отлучаться из расположения команды.
4
Окопное сидение давно всем осатанело. Даже при сносной погоде тупеют люди от невыносимого однообразия. А тут целую неделю ненастье хмурилось, ленивые дождички перепадали — затяжные и тоскливые, как похоронное шествие. Но в последние три дня снова погода установилась благодатная. Солнышко обласкало сиротливых солдатушек. Везде тропинки сухие протоптались…
Обедали на мелкотравной полянке, недалеко от кухни. Лень от безделья, будто тягучей, мягкой смолой, обволакивала всех, связывала движения, пеленала и убаюкивала. Разведчики до того обленились, что даже на обед порою ходили не строем, а тащились один по одному.
Паша Федяев, пробираясь между сидящими на траве солдатами других команд, издали увидел своих и, подходя, запричитал:
— Где каша, там и наши… Где кисель, тут и сел… Где пирог, тут и лег…
Он подсел к Григорию Шлыкову, скрестив согнутые ноги, и, достав из-за голенища деревянную ложку, обтер ее заскорузлыми пальцами, дунул на нее для порядка, потом сунул в котелок со щами. Но, заметив отсутствие Петренко, спросил:
— А командир-то наш где же?
— Да ведь у его ни киселей, ни пирогов не было, — ответил Григорий. — Съел щи да кашу и отбыл. Не встрелся он тебе дорогой?
— Нет, — коротко ответил Паша, заткнув рот ложкой со щами.
— Ты гляди, — усмехнулся Василий, — эдак не то что командира проспишь, а и без обеда останешься, когда так вот опаздывать будешь.
Закончив еду, разведчики дружно поднялись и ушли. А Федяев, словно совершая торжественный обряд вкушения пищи, ел медленно, жевал долго — спешить ему некуда. Хорошо так вот посидеть вольно на траве, под солнышком — будто дома, на полевом стане, — и родных вспомнить, пока дружки не мешают. И немец уж который день снарядами не тревожит. Правда, деревьев таких — изуродованных, с обломанными сучьями, с поникшими кронами — на полевом стане не бывает. Разве после дикой грозы, после несусветной бури, какая случается, может, раз в сто лет…
— Какого черта ты тут расселси! — издали закричал ему Тимофей Рушников. — До ужина, что ль, сидеть будешь?
— А тебе для чего я спешно понадобился? — невозмутимо спросил Паша и, оглядевшись, заметил, что поляна почти опустела.
— Петренко выпросил позволения у поручика сходить нам в передовой окоп, — разъяснил Тимофей. — Какая-то представления там будто бы намечается.
— Ну?
— Ну, ежели хошь, дак пошли. А не хошь — в землянке оставайся, потому как связного там велено оставить на всякий случай.
Федяев заторопился. Доскребая со дна полной ложкой, изрек:
— Мать наша — гречневая каша: не перцу чета, не порвет живота.
— Ну, давай скорейши! — торопил Тимофей. — Ждут они нас.
До землянки не дошли они. В траншее встретили свое отделение во главе с командиром и присоединились к нему. Двигались быстро по ходу сообщения. Федяев так и не понимал толком, для чего идут они в передовой окоп. Знал ли об этом поручик Малов, и почему отпустил он отделение — это доподлинно известно лишь Петренко.
В передовом окопе, расположенном здесь всего саженях в двадцати от противника, уже началась эта самая «представления». Солдаты соорудили чучело толстого, брюхатого немца с вытаращенными глазами, с красным носом и с вильгельмовскими усами, закрученными кверху.
Чучело высунули из окопа и под гармонь пели занозистые похабные частушки про Вильгельма. Никто, не прятался за бруствером, и немцы тоже открыто торчали над окопами и во все горло гоготали, показывая на «Вильгельма». Они что-то кричали по-своему. Находились и переводчики. С той и другой стороны летели записки, которыми обертывали камни…
— Потешники, — говорил командир первой роты, капитан Былинкин, боком проталкивая свое грузное тело между солдатами, столпившимися в траншее, — потешники, головы-то поберегите. Все равно карусель эта стрельбой кончится, как всегда… Ни за понюшку табаку в чужой земле зароют…
Он выбрался в ход сообщения, ведущий в глубину обороны, и удалился, чтобы не видеть этой шутливой перебранки, чреватой порою печальными последствиями.
— А чего это Эриха не видать сегодня? — орал наш солдат громовым голосом. — Уж не понос ли его прошиб?
— Мы с Эриком скоро похоронить вас будем, Ванья! — горланил в ответ огненно-рыжий здоровенный немец.
— Ты с похоронами-то погоди, — громче всех слышался тот же голос, — а лучше в гости к нам приходи! Вашего Вильгельма за упокой помянем!
— И вашего Николашку — тоже! — отвечал рыжий немец.
С той стороны раздался выстрел, и пуля продрала плечо «Вильгельма».
— Чего ж, вы, черти, в своего царя палите! — закричали наши солдаты, прячась за бруствер.
В это время и немцы к земле приникли, а над окопом у них поднялось чучело, здорово похожее на Николая Второго, только сделали они его донельзя тощим — аксельбант с плеча болтался в ярком просвете между рукой и муравьиной талией.
Оглядевшись вокруг и не увидев ни одного офицера, Петренко бесцеремонно выхватил у ближайшего солдата винтовку, приложился и, вроде бы не целясь, выстрелил. Пуля, видимо, попала в основание каркаса чучела, и «Николай», будто схватившись за тощий живот, свихнулся и упал носом на бруствер.
— Эт кто ж у нас такой меткий? — громко спросил кто-то. — С одной разки царя сразил!
Немцы начали палить беглым. Из «Вильгельма» летели клочья, но чучело — изуродованное и лохматое — держалось неколебимо. А на противоположной стороне опять поднялся тощий «Николай». Часто захлопали винтовочные выстрелы из наших окопов. У «Николая» отшибли руку, и аксельбант свалился с плеча.
— Головы беречь! — скомандовал Петренко своим. — Зря не высовываться! За каждого головой отвечаю.
Глядя на все это, Василий Рослов не переставал удивляться. Ведь совсем вроде бы рядом живут они с первой ротой, из одной кухни питаются, вместе поют «Боже царя храни», а солдаты первой роты немцев в лицо и по именам знают, и немцы наших тоже поименно величают, стало быть, каждодневно беседуют они друг с другом!..
Теперь уже и на соседнем участке застукала перестрелка, раздвигаясь все шире и шире по фронту. Возле Василия ахнул солдат, зажимая ладонью ухо. А из-под ладони, стекая в рукав, заструилась всплесками кровь. Солдат наклонился, к нему подбежали товарищи…
— Ну, братцы, — кричал Петренко, — представление кончилось! Пошли домой! Тут они без нас разберутся…
5
С вечера тихая-тихая стояла погода. Тепло по-летнему, и артиллерия уснула с заходом солнца. Так бывало часто: пряталось солнце — смолкали выстрелы, утихали взрывы артиллерийских снарядов. И хотелось верить, что война, умертвившая за день сотни людей, насытилась человеческой кровью и теперь спит.
Но чудовище это не могло спать. Время от времени прожекторы неприятеля, сверкая огненными языками, облизывали черный молчаливый горизонт, взмахивали высоко в небе и затухали, оставляя в глазах желтые расплывчатые пятна.
Стоя на посту возле землянки поручика Малова, Паша Федяев наблюдал привычные сполохи прожекторов, протирая глаза после их света, а во втором часу ночи ощутил холодный западный ветер и на девственно чистом небе увидел черную, косматую тучку с острыми бело-желтыми краями. В передовых окопах, слышно было, хлопнуло несколько выстрелов. Потом еще с десяток выстрелов щелкнуло в разных местах. Потом, как во сне, окутал Пашу густой, липкий туман, и дышать стало невозможно. Заломило глаза, перехватило дых, подкосились ноги и, падая на дно траншеи, он нажал на спусковой крючок…
Шел третий час ночи, но поручик Малов не спал, потому как на этот раз вместе с тыловыми газетами попало ему и подпольное большевистское издание. А такую литературу лучше читать без свидетелей. Он даже не разулся — как пришел с вечернего обхода в двенадцатом часу, впился в это чтиво, так и не разгибался.
Близкий выстрел, как ветром, приподнял поручика и понес на выход. Стоило ему высунуться за дверь, как в нос ударил острый, противный запах, знакомый еще с гимназической поры.
— Хлор пустили, мерзавцы! — успел сообразить Малов, подхватил Федяева, занес в землянку и плотнее притворил за собою дверь.
Слухи о приготовлениях немцев ходили давно. Малов верил и не верил им, но на всякий случай выпросил у того же знакомого корреспондента, занимавшегося и фотографированием, коробочку гипосульфита. В двух стаканах сделал раствор, смочил в нем конец полотенца и положил Федяеву на лицо. Потом выхватил из баула все носовые платки, сколько было, развернул их и пропитал раствором.
Лежа на полу, Паша заворочался, сорвал с лица полотенце. Его начало рвать, он корчился, извивался, царапал ногтями чуть поструганные доски, постланные на земляной пол.
— Федяев! Федяев! — кричал поручик. — Ты слышишь меня? Дыши только через мокрую тряпку. Эта жидкость разлагает хлор и может спасти тебя.
Сам поручик закрыл нос и рот мокрым платком, потом сложил его с угла на угол и завязал концы па затылке.
— Слышишь, Федяев! Дыши только через мокрую тряпку! Я ухожу.
Захватив с собою пропитанные гипосульфитом платки, поручик поспешил к своим солдатам.
Яркая-яркая светила луна. По ходам сообщения бежали с носилками санитары, метались сестры милосердия, суетились врачи. Все они были в повязках, сделанных, видимо, на ходу. Но помочь пострадавшим не успевали, да и нечем помочь-то — русская армия так и не была подготовлена к отражению газовой атаки противника, — потому всем встречным советовали смочить в воде тряпку и дышать через нее.
От штаба полка бежали связные. За тыльной стороной траншеи на мелкой траве пригорка тут и там корчились и умирали в страшных муках солдаты. Это, видимо, часовые или дневальные. Не зная, что делать, они выскакивали из окопов, но и там, наверху, вдыхая эту отраву, приближали свой конец.
Малов заскакивал к своим солдатам в землянки, раздавал носовые платки и приказывал дышать только через них.
Заканчивая обход, наткнулся он в траншее на лежащего человека. Пригляделся и с трудом узнал в нем солдата третьего взвода Горина. Помощь ему не требовалась уже: лицо почернело, зубы жутко оскалены, вокруг губ — почерневшая кровавая пена.
У самого поручика нещадно слезились глаза, предметы двоились и расплывались. Вдруг захотелось пить… И тут он почувствовал, что ветерок заметно усилился и потянул уже не с запада, а с северной стороны, вдоль главной траншеи. Это обрадовало поручика, и на обратном пути он решил укрыться в землянке Петренко и там пока отсидеться.
Приближался рассвет. Тут и там по фронту слышались артиллерийские выстрелы. С нашей стороны они звучали все чаще, а противник пока молчал.
Видимо, боясь отравить своих, как уже случалось на английском фронте, немецкое командование отодвинуло в тыл солдат из передовых окопов, оставив лишь небольшие заслоны с пулеметами. Все команды, оставленные на передовой, были обеспечены противогазами. Скоро и немецкая артиллерия начала отвечать в полную силу.
В землянке у Петренко все сидели с повязками из платков поручика. Смирно сидели, потому дышали неглубоко. Да и отравы здесь было меньше, чем снаружи. Но глаза у всех заливало слезой. Памятуя о спасительном северном ветерке, поручик Малов надеялся, что их мукам скоро придет конец.
Выйдя из землянки в пятом часу, поручик обнаружил, что воздух посвежел, очистился, а прохладный северный ветерок выметал отраву из закоулков.
— Всем выйти! — скомандовал Малов в открытую дверь. — Повязки пока не снимать! Землянку проветрить! Рослов — за мной!
Лихорадочно вздрагивала и гудела земля от артиллерийских выстрелов наших орудий и от разрывов разнокалиберных снарядов противника. Теперь уже не газ, а тонкая теплая пыль пронизала воздух. В том месте за рощей, где собиралось подняться солнце, в свете зари пыль эта была особенно заметной. А сама роща — с поникшими ветвями, со свернутыми в трубку листьями — являла собою странное, жутковатое зрелище: будто всю ее окатили крутым кипятком.
— Ну, как твои дела, Федяев? — спросил поручик, войдя в свою землянку.
Паша ответил не сразу. Сперва завозился, стянул полотенце с глаз, и, увидя вошедших, поднял голову, сел на полу, облокотясь на табуретку и придерживая сырой коричневый конец полотенца у рта.
— Теперь-то уж, кажись, терпеть можно, — с одышкой, трудно выговорил он. — А вот как ушли вы, думал, пропаду тут. Вон ведь пол-от испакостил весь…
— Растворите дверь настежь, Рослов, — приказал поручик. — А тебе, Федяев, надо бы врачу показаться, да пройти туда сейчас под огнем трудно. Если сможешь двигаться, Рослов проводит тебя до околотка.
— Да лучше уж погожу малость, — возразил Паша. — А то от газов уцелел вроде бы, дак осколком добьют. Наши-то все там живы?
— Живы, — ответил Василий. — Я дневалил как раз в это время… Бог, что ль, меня надоумил — сразу догадался, в землянку залез, дверь законопатил да побудил всех.
— Молодец, Рослов, — похвалил поручик, убирая со стола газеты. На некоторые из них попал раствор гипосульфита, и они потемнели. — А вот Федяев чуть не до смерти ждал какой-то подсказки… Хорошо, что выстрелить догадался.
— Спасибо, ваше благородие, — молвил растроганно Паша. — Без этой тряпицы, — указал он на полотенце, — окочурился бы я в тот же час. Тянуло из середки так, что думал, наизнанку всего вывернет… В стакане-то оставалось тут лекарство это, так я еще потом помочил им полотенце…
— Дак чего ж мне к своим итить, что ль? — несмело спросил Василий. Все еще стоя у входа, он чувствовал себя неловко в офицерской землянке.
— Да, можно идти, — разрешил поручик.
— Погоди, Василий! — окликнул его Паша. — Вместе пойдем, только вот прибраться надо — нагадил я тут ихнему благородию…
Поручик не очень настойчиво возражал, но Паша, сдернув с ноги сапог, снял портянку и старательно протер ею доски.
— Потом выстираю, — сказал Паша, свертывая портянку и будто оправдываясь. Натянув сапог на босую ногу, он храбро поднялся, но едва устоял, опершись на стенку. — Ничего, ничего… В глазах от слабости потемнело… Пройдет.
Осторожно, будто проверяя себя, он сделал первый шаг. Василий взял его за руку и повел из землянки, как маленького.
— Обязательно покажись врачу! — вслед наказывал Малов. — Как только прекратится обстрел, сразу — в околоток. А ты, Рослов, проводи его.
— Слушаюсь! — на ходу выкрикнул Василий одновременно с недалеким разрывом снаряда.
6
Невозможно приучить себя спокойно видеть смерть. Но когда видишь ее часто, когда сам постоянно находишься под ее костлявою рукой и чувствуешь ее близкое дыхание — смерть не кажется чем-то необыкновенным. А раны, как только перестают болеть, все реже и вспоминаются.
От газовой атаки в разведкоманде пострадали все солдаты, но, кроме Федяева, даже в околоток не ходил никто. Помаялись глазами с неделю — и обошлось. Двоих схоронили. А по дивизии — слышно было — более шестисот человек недосчитались после кайзеровского «подарка».
Солдаты, как по уговору, сделались неразговорчивыми, злыми. Не могли простить немцам этакой мерзости. Ведь одно дело погибнуть от штыка, от осколка, от пули, а тут живых людей, словно крыс, травят ядом, и никакого спасения от него нет.
Из офицеров разведкоманды больше всех газового лиха хватил прапорщик Лобов, потому как спал он в ту ночь в землянке один, а дверь настежь распахнутой оставил. Ближайший часовой погиб, другие же не враз вспомнили о нелюбимом взводном… Недельки три в полевом лазарете пролежал, и не раз, может быть, подумал об отношениях со своими солдатами и, конечно, добрые наставления Малова вспомнил.
Но, вернувшись в разведкоманду, не только уроками прежними пренебрег, а сделался еще более мнительным, придирчивым и казался вроде бы перепуганным. Солдаты и злились на него за постоянные придирки, и в то же время жалели его по-своему.
* * *
С первых чисел октября резко похолодало, начали перепадать дожди — то затяжные и нудные, то принимались хлестать беспощадно, заливая окопы, и приходилось из них отчерпывать воду. Грязь размесили несусветную. Остервенелая вошь набросилась разом и размножалась моментально, будто из кошеля ее высыпали. Блохи в парной-то сырости завелись. Совсем не стало житья солдатам.
В теплое время с середины шестнадцатого года по временной железнодорожной ветке почти к самым окопам подгоняли банные вагоны, мылись регулярно солдаты. А теперь, видно, и пути размыло — не приезжает баня.
Песни все давно перепели, гармонь надоела, и побаски не на один ряд перемололи. Скучища давила невыносимая. Валяясь в землянке после обеда, Паша Федяев забавлялся как мог:
— Тима, Тимушка, — кричал он, повернувшись на бок, — вошь у меня по спине идет к загривку! Заголи рубаху-то да сними ее, окаянную.
— А може, блоха. Как ты знаешь? — лениво отговаривался Тимофей.
— Да вошь это, — настаивал Паша и судорожно дергал плечами. — По походке слышу, что она, проклятущая! Ну, сними, Христа ради!
За этим занятием и застал их прапорщик Лобов.
— Тьфу, серые скоты! — плюнул и выругался он. — Да вы и сами на эту тварь похожи… Где Петренко?
— С обеда к господину поручику был он вызван, — ответил Василий Рослов, поднимаясь на локте, — да вот пока еще не воротился…
— Вс-ста-ать!!! — завизжал прапорщик, выпучив глаза и ощерив мелкие зубки. — Совсем оскотинились и человеческий облик утратили! — Он задыхался от злобы, захлебывался словами.
Солдаты проворно вскочили с нар, но так как ни на одном из них не было ремня, а Паша стоял в нательной рубахе, не заправленной в брюки, то шаромыжный вид их еще более распалил прапорщика.
— Это не войско, — визжал он, — это стадо скотов! Они с командиром лежа разговаривают! Посмотрите, на кого вы похожи!
Лобов смачно плюнул, так что брызги отлетели в лицо Федяеву, и тот, закрываясь, резко вскинул согнутую руку. Либо этот взмах, показавшийся грозным, либо болезненная брезгливость Лобова ускорили развязку, и, круто повернувшись, он бегом вылетел из землянки…
— Гляди ты, — сердился Паша, возвращаясь на место, — плюется еще, графский выродок! А у самого, поди-ко, завозилась где-нито в непотребном месте, он и взбесился.
— Да откудова ж тебе знать, из каковских он, — возразил Григорий Шлыков и тоже на свое лежбище полез.
— И по рылу знать, что не простых свиней, — не сдавался Паша. — Поручик-то наш тоже ведь не из крестьян — образованный, а слова худого от него не услышишь. Человек!..
Вошел Петренко и, стряхивая с шинели сырость, задержался у порога.
— Слышь, Петренко, — сказал Василий Рослов, — взводный чегой-то по тебе соскучилси.
— А мне он вроде бы ни к чему, — ответил Петренко. — Чего ему надо?
— Да не сказал ничего, — взялся пояснять Григорий Шлыков. — Лаялся тут, как бешеный кобель. Прям того гляди, укусит…
Солдаты наперебой стали пересказывать разговор с Лобовым, а Паша даже пытался изобразить его в лицах. Слушая их, Петренко перестал отряхиваться, повернулся и вышел. Все подумали, что направился он к взводному, поскольку тот его искал, а Петренко, шлепая по грязи, торопился обратно к Малову.
Он только что получил задание от поручика. Сопровождать группу разведчиков в тыл должен Лобов. И хотя не понравилось это Петренко, сразу возразить не посмел, а теперь шел с твердым намерением отказаться от Лобова. Случай в солдатской землянке насторожил Петренко и придал ему решимости.
Малов удивился возвращению Петренко и сразу спросил тревожно:
— Случилось что-нибудь, Антон Василич?
Оставаясь наедине, они с недавних пор называли друг друга по имени-отчеству. Шли к этому долго и осторожно, зато теперь каждый знал о другом главное: общая идея связала их накрепко. Малов не состоял ни в какой партии, но, хорошо зная обстановку в стране, он трепетно ждал перемен и силился понять, на чьей стороне большая человеческая правда, за кем пойдет народ и как это все, образуется в итоге. Открытая печать не давала ответов на такие вопросы. Первый подпольный листок совершенно неожиданно обнаружился в газетах, подаренных знакомым журналистом. Это было странно. И, несмотря на то, что с Петренко теперь объяснились, тот первый случай так и остался загадкой.
— Так что же случилось? — повторил поручик и указав на табурет, добавил: — Садись!
Возрастом были они почти одинаковы, Петренко даже на год постарше, но разница положения сказывалась постоянно.
— Да не знаю, как и начать, Алексей Григорич… — начал Петренко, присаживаясь.
— Придется как-нибудь начинать, коли за тем вернулся.
— Н-нельзя ли под каким-нибудь предлогом оставить нашего прапорщика дома? Без него мы надежней справимся.
— А что, — живо спросил, поручик, — есть какие-то реальные опасения?
— Ничего такого нет, да ведь заегозится где в неподходящем месте — либо дело испортит, либо на грех кого наведет.
— М-да-а… А все-таки, видимо, что-то произошло? Почему же сразу об этом не было сказано?
— Пока я здесь был, забегал он к нашим — накричал, обругал всех… А вид солдатской вши прямо-таки в бешенство его приводит. Но разве люди виноваты, что помыться им негде и белья другого нет?
— Видите ли, Антон Василич, я, к сожалению, уже сообщил ему о задании… Правда, в самых общих чертах… Н-но, действительно, что-то надо придумать для его же блага… Ведь непосредственное исполнение задачи все равно на вас, а прикрытие обеспечит второе отделение… Хорошо! Спасибо за подсказку. Так всем удобнее будет. А я непременно найду — да нашел уже — способ отвлечь его совершенно корректно. Идите, Антон Василич, вместе подумайте о деле, да и отдохнуть еще немного успеете… На Рослова я надеюсь. Успехов вам!
7
Разведчикам на этот раз предстояло не сведения раздобыть, а взорвать железнодорожный мост в неглубоком тылу противника, недалеко от маленькой станции. Но сделать это надо было в одну ночь, а расстояние в оба конца — верст шестьдесят, а то и поболее, потому вся группа отправлялась на конях.
К створу прохода выехали в шестом часу вечера. В ясную погоду солнце к этому времени должно закатиться, но от зари было бы еще светло. На этот раз над миром висела такая непроницаемая ненастная муть, что за пятьдесят-семьдесят шагов невозможно было различить кустарник, о которого начинался неглубокий — с развалистыми краями и заросшим болотистым дном — широкий лог. Постепенно расширяясь, он уходил в глубину обороны немцев верст на двадцать, достигая той речки, через которую перекинут нужный разведчикам мост.
Все они раньше хаживали по этому пути не раз и не два. А Василий с Григорием здесь впервые перебрались через линию фронта. Целую неделю скрывались они тогда в окрестностях, исколесили все вдоль и поперек, пока не набрели на этот проход.
Некоторое время немцы пытались держать здесь посты, но часовые либо сами удирали от комарья и страха из этой беспросветной и жуткой урёмы, либо становились жертвой наших разведчиков. Потом стали посылать сюда конные разъезды улан, человек по двадцать. Проезжая почти всегда по одному и тому же месту вдоль линии фронта, уланы сделали тут широкую тропу.
Дождь то сеялся незримым и почти неощутимым бусом, то хлестал холодными струями, то налетал северный ветер и стряхивал потоки брызг с кудрявых ветел, между которыми пробирались всадники.
Держась чуть не вплотную за серым конем Петренко, Василий Рослов испытывал большое неудобство не от дождя, а от непривычной оснастки. В этот поход снабдили их пиками, шашками, карабинами. Все это необходимо, конечно, а в их положении тем более, поскольку действовать предстояло бесшумно.
Мост этот видели они с Григорием, знают, где караульное помещение расположено, где посты. А вот каковы сваи, глубока ли речка и как туда подобраться — это не идет у Василия из головы. Но разве же знал он тогда, что придется к этому мосту возвращаться да еще с такой опасной целью! Кажется, и прожектор виднелся там. Так ведь в солнечный день помехи от него не было, а к ночи нырнули они в беспросветную урему, думая, что ушли отсюда навсегда.
Передние молча остановились. Это приближалась уланская тропа, и надо было убедиться, нет ли поблизости разъезда.
Командир второго отделения, урядник Шипилин, послал двух солдат в разные стороны вдоль тропы. Те скоро вернулись и доложили, что все спокойно.
Отряд рысью проскочил версты две, потом Петренко, догнав урядника, велел ему реже переходить на рысь, дозорных держать подальше.
— Ну и погодушка, прости господи, — ворчал пожилой урядник, смахивая с усов воду.
— Самая подходящая погодка, — возразил Петренко, — лучшей не придумать.
Потом еще более двух часов ехали — то шагом, то рысью. Разъезды могли и здесь встретиться. Двигались длинной цепочкой, прижимаясь к, густым зарослям кустарника или к ветлам.
Передовой дозор выскочил было на опушку леса, по краю которого тянулась неторная полевая дорожка. Поняли, что надо повернуть влево, потому как лог тут круто загибается к югу и верст через шесть упирается в речку. Теперь не следовало далеко углубляться в заросли. Двигались так, чтобы не терять кромку и вовремя углядеть прибрежные кусты.
Дождь все так же принимался хлестать время от времени, а ветер, кажется, еще усилился. Правда, в лесу не было ему настоящей воли — воровски засвистывал он, путался в ветвях и злился.
Петренко выбрался на дорожку и до боли в глазах всматривался вдаль. Едва различив мутную полосу прибрежных кустов, повернул к уряднику и тихо скомандовал:
— Стой! Вот здесь оставайся, Шипилин, и жди. Ухо держать востро. В случае чего, на поле далеко не выскакивать… Вон видишь, огонек проглянул?
— Вижу.
— Это караульное там у них.
— Знаю.
— Вот ежели там заваруха большая начнется, скачи туда без промедленья.
— Понял.
Вдоль прибрежных кустов отделение Петренко продвинулось еще около двух верст и тут спряталось. Спешились и Василий с Григорием. Обследовав вместе с Петренко берег, они убедились, что ехать по той, приречной, стороне кустов невозможно: к полуторааршинному обрыву вплотную жмутся непролазные кусты.
— Пробирайтесь уж как-нибудь по этой стороне, ребятушки, — вздохнув, посоветовал Петренко. — И обратно отсюда же вас поджидать станем… Будьте здоровы. До встречи!
Василий молча поднялся в седло — Григорий уже поджидал его, — и они пустили коней наметом. Потом перешли на рысь и ехали так, пока берег начал полого спускаться к мосту, а в кустах стали появляться большие прогалины — можно к реке повернуть. Мост уже видно было впереди то частями, то весь.
И тут полоснуло по небу яркой широкой серебристой полосой — за кустом остановились конники. Длинный язык прожектора полизал заросшую низину за рекой, махнул по волнистой шершавой воде и перебрался на этот берег. В серебристом режущем свете водяной пыли, гонимой ветром, обнажилось все до ужаса. Загорелые, обветренные лица показались белыми, как покойничий коленкор.
Страшный прозорливый глаз померк, но долго еще виделись разноцветные круги, мешая что-либо разглядеть даже рядом.
— Ш-ша! — выдохнул Василий. — Слезай! Лошадей тута поколь оставим, а самим оглядеться надоть.
— А ведь он посветил-то нам как раз в самое время, — заметил Григорий, привязывая коня. — Ни разу до этого не сверкнул. Мы бы его, небось, и в лесу заметили.
— Бог, стало быть, нам пособляет… Карабин оставь — шуметь все равно нельзя, — да и пику тоже. Недалечко мы тут отойдем.
Пригнувшись и осторожно ступая, они двигались от куста к кусту и так добрались до последнего. Впереди — травянистая низина и мрачная громада моста. Повыше, справа на косогоре, кусты бежали полукругом, саженей на сто выдаваясь в сторону караульного помещения.
На обоих концах моста с трудом разглядели по часовому. Еще один обнаружился и на середине. Его даже лучше других видно было, но он то появлялся, то исчезал. Наверно, уходил на другую сторону.
— Этот вот самый вредный, кажись, — прошептал Василий, показывая на среднего. — Он ведь речку, знать, караулит…
— А это чего? — всполошился Григорий, показывая почти прямо перед собой.
Долго всматривались они в расплывчатое темное пятно, пока наконец убедились, что и здесь стоит часовой. Он почти не отличался от травы.
— Вот эт бы мы вло-опались, — проговорил Василий, обтирая мокрое лицо рукавом шинели, — Спасибо тебе, Гриша, что доглядел. — Дак ведь и на том берегу тоже такой пост должен быть.
— Нет, — возразил Василий, — по карте помню, да и так видать, что болото там, негде часовому стоять… Стой! Гляди вон! — И Василий упал на землю, увлекая за собой Григория.
— Чего ты? — не понял тревоги тот.
— Да вона, вон, гляди, от караульного сюда идут.
В это время дверь избушки растворилась, и в просвете ее Василий насчитал еще пять выходящих солдат. Но эти мелькнули мимо окна и удалились за избушку.
— Кажись, разводящие это, часовых меняют, — понял Василий. — Ты во все глаза гляди, Гриша. Надо бы их посчитать как-то.
— И так уж во все гляжу, да всего-то их два у меня.
Часового сменили. Ветром оттуда доносило негромкие слова команды, но уходили немецкие солдаты друг за другом, сливаясь в общее пятно. Пришлось еще подождать. И, когда развод шел к середине моста, тут все разглядели.
— Пятеро их топает, — убежденно сказал Григорий.
— Вижу и я, что пятеро… Разводящий не в счет. Остается четыре часовых. Так?
— Так.
— Стало быть, за речкой поста нету, — повеселел Василий и тут же сник. — А ведь чтобы нам уцелеть и дело делать, хошь не хошь, а придется этого, ближнего… Да надо поколь погодить: пущай развод закончится.
— А как подобраться к ему?
— Об том вот подумать надоть…
Показалось, долго лежали. На мокрой земле совсем холодно стало. Ушли за куст, попрыгали, там, потолкались — заходила кровушка по жилушкам, потеплело в середке.
Дождь снова начал усиливаться, и тьма навалилась кромешная, ветер хлестал немилосердно.
— Вот чего, Гриша, — живо сказал Василий, словно догадавшись о чем-то, — переведи-ка сюда лошадей поближе. Вот за эти кусты. А я тут за им понаблюдаю.
Глядя вслед Григорию, Василий удивился и обрадовался: тот исчез буквально в десяти шагах, будто растворился во тьме. А когда вернулся за куст, то и часового не смог разглядеть.
Сгоряча зашагал в рост навстречу тугому черному ветру, но вовремя спохватился, лег и — где по-пластунски, где на четвереньках — заспешил вперед. Ни сырости травы, ни дождя он не чувствовал. Его охватил какой-то звериный трепет. Наверное, так вот и хищник трепещет, когда подкрадывается к опасной добыче, способной защитить себя.
Он полз, казалось, уже долго, а часовой все не показывался. Вдруг впереди и чуть слева услышал едва уловимые, глухие хлопки. Затаился и через минуту разглядел, что часовой ходит по небольшому кругу и хлопает руками, схлестывая их крест-накрест, чтобы согреться. Винтовка висит у него на левом плече, воротник у шинели поднят.
Василий спружинился весь, сжался и, дождавшись, когда часовой повернулся к нему спиной, рванулся, кажется, не задевая земли, на ходу выдернул шашку из ножен и… Немец успел все-таки повернуться, воздуху вдохнуть успел, но крикнуть не успел… Голова у него неловко свернулась и ударилась о ствол винтовки. И упал он не враз, а будто подумав сначала.
Вытерев шашку о траву, потом еще полою шинели, Василий сунул ее в ножны и пустился в обратный путь. Он успел заметить, что отсюда даже кустов-то отдельных не видно — кажутся они сплошной бесформенной, размытой полосой. Вернулся к своему кусту, обошел его — нет Григория. Как так? Пригляделся, рукой пощупал даже — здесь примята трава, и куст, стало быть, тот самый.
Подождал с минуту, негромко протяжно свистнул, и тут прямо на него выскочил Григорий.
— Ждешь?
— Жду. Пошли скорей к лошадям.
— Чего ты надумал?
— Поторопиться надо, Гриша, поторопиться дело сделать до нового развода.
Лошади были совсем рядом, и Василий начал раздеваться.
— Ты чего это? — удивился Григорий. — А часовой?
— Забирай мои тряпки да гляди не растеряй. А часовой помолчит поколь — мы с им уговорились.
— Уговорил, что ль? — еще больше удивился Григорий.
— Уговорил… Давай шашки взрывные.
Оставшись в чем мать родила, Василий стал привязывать себе на плечи взрывные шашки, обернутые брезентом. Разгоряченный делом, до крайности взволнованный и напряженный весь, он не обращал внимания на холодные потоки.
— Дожжик-то какой принялси, — с великим состраданием сетовал Григорий, глядя на белую наготу друга и помогая ему снаряжаться.
— Голому потоп не страшен, — возразил Василий. — А для нас чем хуже сверху, тем лучше снизу… Отпусти-ка чуть правый ремень: под мышкой жмет шибко.
Проверив, хорошо ли держатся на плечах шашки, Василий торопливо перекрестился и пошел к реке. Ледяная вода обожгла все тело, но в то же время, погрузившись в нее, он почувствовал себя уютнее, потому как ветром здесь не доставало. Речка оказалась неглубокой и небыстрой. Двигаясь по руслу против течения, можно было не плыть, а идти по дну, вернее, грудь у него была в воде по самую шею, и он легонько работал руками, а ногами упирался в дно. Подвигался споро.
Однако, едва перевалив половину пути, с тревогой почувствовал, как немеет правая нога чуть пониже того места, где побывал германский штык. А тут, уже на подходе к мосту, увидел он темную фигуру часового и стал прятаться под воду, высовываясь лишь для того, чтобы хватить воздуха.
— Господи! Господи! — мысленно твердил Василий, ныряя. — Спаси мине, сохрани и помилуй…
И, словно бы именно по этой просьбе, часовой отошел от железных перил моста и скрылся. Василий надеялся, верил, что увидеть его с моста в этой черной ряби волн почти невозможно, а все-таки прятался: так надежнее.
Добравшись до нужной опоры и обнаружив на ней едва скрытые водой плечики, на которых можно стоять, Василий облегченно вздохнул, считая задачу почти выполненной. А поднявшись на плечики, нашел на опоре выемки, куда можно было вложить шашки и там их закрепить.
Но, уже снимая с себя шашки, понял, что уверенность эта преждевременна. Дождь сюда почти не попадал, зато пронизывающий ветер, казалось, обдирал шершавой беспощадной лапой сырую кожу до костей.
Закрепить шашки и пристроить шнур оказалось минутным делом. Скрюченными, окоченевшими на ветру пальцами он с трудом развязал кожаный мешочек, подаренный когда-то умирающим стариком башкирцем, достал из него непромокаемый железный коробок со спичками, специально для такого дела выданный, и, мысленно помянув господа, чиркнул спичкой. Она тут же погасла…
Вторая, третья… десятая… Руки дрожали, пальцы не гнулись. Ему казалась, что никакой кожи на нем не осталось, а остервенелый ветер гложет голое сердце, давит его, сжимает острыми зубами, и вот-вот оно совсем перестанет биться. До боли сцепив зубы, ударил спичкой по коробку — коробок, вырвался и нырнул в воду.
— Вот как! — недоуменно произнесли одеревенелые губы.
Сунул руку в мешочек, висевший теперь на шее, выдернул из него гильзу и, нащупав сухую тесьму, восторжествовал:
— Н-ну, выручай, дедушка милый, не то у часового придется спички просить!
Тесьму зажал он всей пятерней, придавил кремень и ударил по нему… Одна-единственная искра — и дело спасено! Теперь ветер из врага превратился в помощника. Тесьма засветилась ярким огнем. Василий приткнул ее к шнуру, и тот, шипя, забрызгал огоньками с дымом.
Не чувствуя ожога, Василий засунул тесьму с огнем в гильзу, весь прибор бросил в мешочек и затянул его ремешком. Только тут спохватился, что надо спешить, и плашмя шлепнулся в воду. Вышло это неуклюже и громко. Течение подхватило его. Руки работали бешено, и левая нога — тоже, а правая тяжелой колодой тянула вниз.
За свистом ветра часовой неясно расслышал всплеск, но встревожился, забегал от одних перил к другим, вглядываясь в поверхность речки. Дождь опять прекратился, и видимость чуть-чуть улучшилась. Разглядев смутное пятнышко на середине реки, часовой выстрелил по нему. Но Василий был уже саженях в сорока от моста и тут же скрылся под водой.
Часовой не переставал стрелять. От караульного помещения побежали солдаты, они тоже стреляли. А в довершение по воде полоснул убийственный свет прожектора.
Василию показалось, что плывет он преступно медленно и очень давно, а взрыва все нет. Неужели погас шнур?!
И тут грохнуло сзади, затрещало, заскрежетало. Василий нырнул поглубже, будто убоясь дела рук своих. По нему уже никто не стрелял. А в черном небе одна за другой появлялись осветительные ракеты, и стало светло до рези в глазах. Луч прожектора сердито метался то по заречью, то по реке, то по левому берегу, шаря добычу в открытом поле.
Григория увидел Василий издали и, доплыв до первых кустов, выбрался на берег. Было невероятно, и поверить в это невозможно, но никто ими, кажется, не интересовался. Бегали, суетились, запускали ракеты, стреляли где-то там, возле рухнувшего моста, а до двух русских солдат вроде бы никому и дела, не было.
Василий с ходу бросился в седло, но с трудом, перекинул правую ногу, выхватил у Григория свою сырую тяжелую шинель и надел ее на голое тело. Тревога всадников передалась коням, и они лихо понеслись, словно гнал их попутный ветер.
Вскоре кусты сузились в неширокую прибрежную полосу и пришлось выскочить на полевую дорожку. В свете ракет громадная поляна просматривалась далеко. Слева и несколько сзади, наперерез им, скакали во весь опор десятка полтора улан. Теперь и спасти, и погубить разведчиков могли одни лишь кони.
Кони неслись, обгоняя ветер. Уланы начали стрелять по беглецам, а те не могли отвечать им, оттого что Василий был безоружен и, коченея от холода, едва держался в седле, Григорий же весь был обвешен оружием да еще вез одежду товарища, и ему не хватало рук.
Отделение Петренко, не скрываясь, выдвинулось из кустов, но увлеченные погоней уланы едва ли видели его, хотя и было светло. Пропустив своих, отделение сделало два прицельных залпа по уланам. Группа их поредела заметно, смещалась, опешила вроде бы, но тут же с еще большей яростью рванулась за шестью всадниками, словно из под земли вынырнувшими.
Василий с Григорием продолжали скакать по дороге, нацеленной в угол, где прибрежные кусты соединялись с уремой. А Петренко повел своих левее, к тому месту, где оставлен был Шипилин. Урядник выдержал наказ Петренко — сразу на помощь не бросился, а теперь выскочил во фланг к уланам, сделал залп и с шашками ринулся атаковать их. Петренковцы почти от кромки леса повернули назад, так что уланы оказались в полукольце, да и осталось их не больше десятка.
Бой был короткий, обе стороны дрались отчаянно, к тому же вдруг погасли ракеты, и шестеро оставшихся улан пустились наутек. Шипилин было вдарился за ними, но Петренко послал Рушникова заворотить преследователей.
Уже на обратном пути, почувствовал Тимофей боль в раненой руке. Вначале подумал, может, старая рана беспокоит, но тут же обнаружил, что левый рукав шинели рассечен почти от плеча до локтя, и все понял.
Раненых оказалось еще трое, кроме Тимофея. Один, из отделения Шипилина зарублен. Хоронили его в лесу, недалеко от опушки.
Василий, уже одетый, прихрамывая, бегал по кругу, стараясь отогреться. Он задыхался от бега, а насквозь промерзшее тело, скованное сырой холодной одеждой, никак не оживало. По раненой ноге он колотил изо всех сил, и она уже действовала, но отходила с трудом.
— Погрейся-ка, Вася, вот этим, — подходя, подал баклажку Петренко. — В околотке на коленях вымолил.
Приложился Василий с жадностью, едва продохнул потом, зато через считанные минуты разлилось по всему телу долгожданное благодатное тепло. Хватило спирту и Григория погреть, да еще осталось.
— По ко-о-оням! — сдавливая голос, еле слышно из темноты пропел Петренко.
Выслав вперед двоих дозорных, но так, чтобы не терять их из виду, он двинулся следом.
— Ну, Петренка, ну, Петренка! — пристраиваясь к нему, заливался Василий. — Я бы ведь до землянки не дотянул, окочурился. А ты мине жизню подарил! Век такого подарка не забуду!
— Тише ты! — оборвал его командир. — Службу мы сослужили царю-батюшке. Тебе за то непременно Георгия пожаловать должны, да еще до своих не помешало бы добраться…
— А я бы не приказал теперь же домой ворачиваться, — разошелся Василий.
— Это почему же?
— А потому… Те уланы, какие остались, к начальству поскачут, все обскажут, потом по телефону знать дадут, кому надо. А те дозоров конных добавят и встренут нас по-хорошему.
— Верно, — подтвердил Петренко, пошевеливая коня. — Ты прямо стратег настоящий. И что же нам делать?
— А забраться в урему, где погуще, да и просидеть сутки. Не станут же они так долго дозоры держать.
— Плохой ты стратег, — засмеялся Петренко. Разве ж для того взрывал ты мост, чтобы ждать, пока, немцы исправят его? Ждут нас в штабе с этим известием, как пирога из печи. Потому и, приказано к утру вернуться, для того и на коней посадили. Гнать надо как можно скорей! — И он пришпорил коня.
«У немцев, конечно, связь получше нашей работает, — размышлял Василий, важно держась в седле, — так ведь ночь теперь самая глухая, да еще дожжик вон без конца поливает — не враз там всех расшевелишь. И правда, что надежней выйдет, ежели поторопиться-то».
Ехали долго и быстро. Василий, после стольких лишений и после сугрева, расслабился. Теперь он ни за что и ни за кого, кроме себя, не отвечал, потому и мысли начали никнуть. С версту не доезжая до линии немецкого дозора, притормозили. А в полуверсте от него совсем остановились.
Послали двоих в разведку. Они вернулись минут через сорок и сообщили, что разъезд проезжает очень часто: или они навстречу друг другу едут, или одна и та же группа, имея небольшой участок, «челночит» по нему беспрестанно.
Стали цепочкой подбираться к линии, но, не достигнув ее, остановились. Пашу Федяева Петренко послал вперед и наказал:
— Близко туда не подъезжай, а как проедут они и слышать их перестанешь, тихонько свистни. Да не торопись, хорошенько прислушайся, может, с другой стороны топот послышится. А только ты знак подашь, — мы броском на свою сторону. Там уж лошадушки пусть выручают.
Ждать пришлось недолго. Все сидели в седлах, пригнувшись, будто готовые раньше коней прыгнуть в темную бездну. У Паши получился не свист, а вроде бы резкий короткий писк — «ч-чиу!»
Рванулись кони. И как ни мягка была размокшая почва, шум от десятков копыт, выдергиваемых из трясины, донесся к уланам. Правда, пока они остановились, прислушались и поняли, что к чему, наши разведчики были уже далеко, но все-таки не удержались от погони, открыли слепую стрельбу, рассыпались цепью и не щадили коней.
А нашим теперь хоть пулей лететь, все равно казалось бы не быстро. Да пули-то все-таки настигали их. Держась рядом с Григорием, Василий скакал, пригнувшись к гриве коня. Вдруг вроде бы беспричинно выпрямился он резко и тут же начал оседать.
— Чего ты? — метнулся к нему Григорий, подхватив под руку.
— Ну, теперь всё! — словно бы даже с радостью воскликнул Василий.
— Чего все-то? — кричал Григорий, тормоша его за руку, будто пытаясь разбудить.
— Да отцепись ты, руку больно. Плечо зацепила, стерва!
Вот оно как выходит. Сколько пуль за ночь в него летело, и все обошли, всем дорога рядом нашлась. А тут шальная, бесцельно пущенная в кромешную тьму пуля сыскала себе живую цель!
— Ну, сидеть-то сможешь? Не упадешь?
— Не упаду. Скачи, не отставай!
Боясь напороться на русскую заставу, версты через три отстали немцы. Разведчики вздохнули свободно и, чувствуя себя уже дома, перешли на легкую рысь, а потом и на шаг. От взмыленных, коней валил белый пар, видимый даже в темноте.
Утро пока не проклевывалось. За такими тучами и дня не видать.
— Слышь, командир! — без опаски, во весь голос крикнул Григорий. — Остановиться надоть.
— Приспичило, что ли, кому-то? — спросил, не оборачиваясь, Петренко.
— Рослова перевязать надоть.
Петренко натянул поводья и, подняв руку, остановил спутников.
— Раньше-то чего ты молчал, когда всех перевязывали? — недовольно спросил он Василия, подъезжая к нему.
— Стало быть, не об чем говорить-то было! — сердито отозвался Василий. Не слезая с седла, он снял шинель, гимнастерку. Стащил и нижнюю рубаху. Вся левая половина ее пропитана была кровью.
Григорий распластал эту рубаху, наложил на продолговатую рану пакет и начал пеленать друга.
— Дак чего ж ты давеча-то сказал так? — допытывался он.
— Как?
— «Ну, теперь всё!» — повторил его слова Григорий. — Я уж думал, конец тебе. Напужал до́ смерти. А рана-то не смертельная.
— Нет, Гриша, не смертельная. Даже кость не задело, кажись… А сказал я так оттого, что пулю эту ждал с самого вечера, вернее сказать, со вчерашнего утра, да ее все не было. Теперь вот лизнула.
— Во сне, что ль, видал чего?
— Видал…
—Все! — крикнул Петренко. — Поехали! Нельзя так долго испытывать судьбу.
Поехали шагом, и одевался Василий уже на ходу.
8
До одури надоела солдатам непролазная окопная грязища. Скорей бы уж настоящая зима нагрянула, что ли! А она в здешних местах подступалась как-то несмело, с опаской и нехотя. В ноябре то снег выпадал, то таял, а то и дождичек накрапывал. Только к концу декабря вроде бы закрепилась зима и морозец ровненький устоялся. Повеселели малость солдаты.
Всю слякоть, все непогодушки видел Василий Рослов лишь из окна полевого лазарета. Пустяковая, как ему казалось, рана едва не стоила солдату жизни — антонов огонь приключился, потому в тыл отправить его не могли. А как притушили тот страшный «огонь», опять подумалось докторам, что рана залечится скоро. Да скоро-то не вышло — разворотили ножами всю лопатку до плеча. Не раз помянул Василий бабку Ядвигу добрым словом, и Григорий о том же заговаривал, когда приходил навестить друга.
— У бабки-то складнейши, знать, вышло бы, — замечал он, — дак ведь назад к ей не воротишься.
— Да и уцелела ли сама-то она, — вздыхал Василий.
Новостей с хутора давно не получали они, потому как Тимофей Рушников был отправлен в Петроград вскоре после ранения. Здесь лечить его почему-то не стали. Написал Василий письмо своим и Григорию велел то же сделать, а потом целую неделю маялся, прежде чем послать весточку Катерине. Многое передумалось, всякое в мыслях перебралось.
Вспомнил не только последние тайные встречи в городе, но больше того — покосное сказочное лето, и осень, и немой зеркальный пруд под гладким льдом, и серебристые Кестеровы скирды, осыпанные сверкающим в свете луны инеем… И до того ярко представилось все это, что даже ощутил на груди горячие поцелуи милой, родной Катюхи в прощальную ту ночь перед уходом на действительную службу. Даже запах свежей соломы учуял и потянул носом, будто в обнимку сидел с Катей в Кестеровой скирде.
И напиши он это письмо единым днем позже, сложилось бы оно совсем по-иному. Василий давно и думать забыл о словах Петренко, будто шутя брошенных в дороге после взрыва моста, еще до ранения. А чем более отдалялись эти события во времени, тем больше стиралась их острота и яркость. Антонов огонь и долгие муки между жизнью и смертью оттеснили взрыв моста куда-то в небытие. Оставалась одна радость: жизнь и на этот раз взяла верх над смертью.
Аккуратный пожилой доктор появлялся в палате всегда в одно и то же время. В тот день почему-то он задержался. Один из раненых наладился было пойти на разведку к сестре милосердия и узнать, в чем дело. Но растворилась дверь, и вслед за доктором в палату вошел молодой, сияющий, щеголеватый генерал, за ним — командир полка, два штабных капитана, поручик Малов, прапорщик Лобов, сестры милосердия.
Раненые солдаты, встревоженные посещением столь высокого начальства, начали подниматься с постелей, но генерал, предупредительно подняв руку, велел оставаться на местах. Остановясь посреди палаты и указав на Василия, доктор сказал:
— Вот это и есть солдат Рослов, ваше превосходительство.
Василий, смущенный всеобщим вниманием, откинул одеяло и — босой, в кальсонах и нательной рубахе — встал в проходе, но даже не попытался принять бравой стойки. Раненое плечо не позволяло ему расправить грудь и выпрямиться.
— Так вот ты каков, молодец! — словно бы с искренним восхищением произнес генерал и, остановясь против него в трех шагах, продолжал, обращаясь ко всем присутствующим: — Солдат Рослов совершил настоящий ратный подвиг во славу отечества. Даже несколько подвигов. Лихое и почетное дело выпало на долю его. Он скрытно проник к мосту, усиленно охраняемому неприятелем, убрал часового, сотни саженей проплыл в ледяной воде, взорвал мост, уничтожив на нем всех часовых, и при свете сильного прожектора сумел отойти под прикрытие…
Слушая генерала, Василий растрогался, глаза у него часто заморгали, но вовремя укрепился. Ему казалось, что, может, и не о нем говорят все эти хвалебные слова.
— …Такое дело… — продолжал генерал, откинув левую руку назад. Один из штабных капитанов — видимо, адъютант — подбежал и положил в его ладонь звякнувшие награды. — Такое дело по плечу лишь храброму и мужественному воину. А такие воины всегда на виду и заслуживают награды.
Он подошел к Василию и прикрепил медаль к его рубахе, приговаривая:
— Это за лихость, за храбрость твою… А вот это за большое дело — целой дивизии услужил ты, братец. — И на груди у Василия засверкал серебряный Георгиевский крест.
— Рад стараться, ваше превосходительство, покорнейше благодарю!
— Это — награда царская, — продолжал генерал, — а от себя, как только поправишься, прикажу дать отпуск домой.
— Рад стараться ваше превосходительство, — выдохнул Василий, не веря своим ушам, и, расхрабрившись, добавил: — Домой-то я хоть завтра бы поехал.
Генеральская свита усмехнулась дружно, а доктор сурово сказал:
— Невозможно это, Рослов. Пока невозможно!
— Вот видишь, — усмехнулся и генерал, — доктор утверждает, что пока невозможно… Поздравляю тебя, герой! Спасибо за службу! — И он подал Василию руку.
Все были удивлены и тронуты этим жестом, а Василия он окончательно ободрил.
— Рад стараться, ваше превосходительство! А не дозволите ли… спросить? — выпуская холеную генеральскую руку, сказал он и заметил неодобрительный, нахмуренный взгляд командира полка. Но отступать было уже поздно.
— Да, слушаю. Спрашивай.
— …Нельзя ли дать отпуск солдату Шлыкову вместе со мной?..
— Похвальная забота о товарище, — подхватил генерал. — Только чем же отличился этот ваш…
— Шлыков, — подсказал Василий.
— Да, Шлыков, это тот, что был у тебя коноводом? Тот, что одежду твою держал, пока ты плавал?
Василий даже сробел: ему показалось, что генерал сам незримо присутствовал при взрыве моста, поскольку знает даже малейшие подробности. Но и за друга обидно стало.
— Да нешто для того лишь был он со мной, чтобы одежу носить? — возразил Василий, видя, как теперь уже вся свита, а особенно прапорщик Лобов, делают ему грозные знаки, требуя прекратить разговор. — А ежели бы со мной чего стряслось? Чего ж он с моей одежей назад бы поехал, что ль? Не-ет! Он бы пошел взрывать! Так мы с им и уговаривались, потому как дело-то надо было сделать непременно.
— Он, что же, давно на фронте и ранен был? — мягко, но с нотками недовольства спросил генерал.
— Да с первого месяца войны мы с им вместе. И поранены не раз были. Штыками исколоты все… — Свита уже изнемогала от недовольства. Даже Малов начал подавать знаки, зажимая пальцами губы и советуя замолчать. А Василий, заголив рубаху и, приспустив кальсоны, показал свои боевые знаки, гораздо более значительные, чем только что врученный серебряный крест. Развороченное бедро зияло лиловыми вмятинами и оскорбляло вид поруганного войной молодого тела. Генерал даже чуток попятился от солдата.
— Эта вот нога едва не утянула мине на дно — занемела она в ледяной-то воде и повисла колодой… А Шлыков тоже весь штыками испоротый, да еще немец его прикладом по лбу вдарил, оттого, никак, с месяц очнуться не мог, он, да после более полугода в голове у его гудело…
— Хорошо! — прервал его генерал. — Убедил ты меня, храбрый солдат. За товарища горой встал. Будет вам вместе отпуск. Выздоравливай, поправляйся.
— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство! — гаркнул Василий уже в спину уходящему генералу.
В палате, как только захлопнулась за свитой дверь, поднялся шум. Василия поздравляли, но не столько за крестик и за медаль радовались, сколько посуленному отпуску завидовали.
— А здорово ты ему показал! — хихикал из угла один. — Видать, ошалело его превосходительство от твоих рваных телес.
— Ничего, — возражал другой, — хоть и попятился малость, а выдержал. Сестрички только, вот отворачивались.
— А враз да и женушка так же вот отворотится.
— Типун тебе на язык, дуралей! Да там теперь хоть какого примут, лишь бы живой воротился.
— Х-хе! — зубоскалил все тот же из угла похабник. — Да у его, кажись, только то и осталось не пропорото, к чему бабы-то поворачиваются. Пожалел его немец, выходит!
— А у нас в полку осколком ранило одного в это самое место, из лазарета списали его домой. Дак ведь не поехал, братцы, — назад в полк воротился. Чего ж, говорит, я над родной женой галиться стану, али к соседу за милостью итить!.. Дуро́м под пули потом лез — убило его…
— Да что ж эт за генерал? — стремясь быть услышанным, громко вопрошал Василий. — Кто он такой?
— А хрен его знает, чаю мы, с им не пивали и видать раньше не доводилось.
— А шишка, видать, немалая, коли кресты раздает и отпуск самолично дозволить может…
Вошел доктор с сестрой милосердия, и все умолкли.
— Доктор, — спросил кто-то, — а кто такой этот генерал?
— А вы разве не знаете? — удивился доктор. — Сей генерал — начальник нашей дивизии, коему все мы подвластны.
— Во-он оно дело-то какое, — молвил тихонько Василий. — За важную птицу, стало быть, я подержался… Гляди ты, какая ведь честь оказана!
Доктор шел по порядку — от больного к больному. Беседовал с каждым ласково, уважительно.
— Ну, поздравляю георгиевского кавалера со столь высокой честью! — говорил он, подходя к Василию и улыбаясь в пушистые усы. — От души поздравляю… Не всякому такое выпадает.
— Спасибо, доктор, — ответствовал Василий, поднимаясь с подушки и садясь на кровати, — да когда же домой-то мне ехать, скажи́те?
— Э-э, братец, о том не ты у меня, а я у тебя спрашивать должен. — Он знаком указал сестре, чтобы та сняла повязку. — Ты, может, как Христос, в одну ночь исцелишься от раны своей — вот на другой день и катись.
— Доктор, — видя, что он пока не занят, обратился с соседней койки раненый, — вот вы сказали, что не всякому такое выпадает, так ведь и герой не всякий.
— Э-э, золотой ты мой, да ведь гораздо больше истинных героев под деревянными крестами лежит, а еще больше — в братских могилах… Все под богом ходим, а начальство за всеми доглядеть не может, потому немногим достаются серебряные кресты, а тем паче золотые. Словом, не всем казакам в атаманах быть.
— Вот уж истинно, — подтвердил Василий, нагибаясь и показывая доктору больное место. — Мы с этим же Шлыковым в прошлом годе после штыковой атаки в немецком окопе оказались, бесчувственные. Спасибо, поляк нас один подобрал ночью (мы и не знали, об том), не то закопали бы немецкие похоронщики… А за ту атаку, знать, и золотого креста мало. Да уж и то хорошо, что живы. Бабка одна выпользовала…
— Ну вот, — разглядывая рану, заговорил доктор, — спросил я шепотком у твоей болячки, а ей тут неплохо живется, видимо, и месяца этак полтора просидит она еще. И ты сиди смирно, хоть и с Егорием.
Радость от этого чуть-чуть поприжала крылышки, но весь день Василий находился в каком-то взвешенном состоянии: лежать не мог, слонялся то в коридоре, то в вестибюле господского дома, где был развернут лазарет. А если и ложился, то все равно, казалось, не касался боком постели, а будто бы висел над нею, парил, не чувствуя тяжести собственного тела.
Не вмещалась эта внезапно свалившаяся радость в сердце, ссохшемся от тоски и обыденности. К вечеру собрался он вдогонку отправленным еще написать по письму Катерине и домой. Но явился Григорий, и пришлось отложить писание до завтра.
9
Неуемно плескавшийся в душе Василия восторг постепенно улегся в свои берега, как та речка, по которой он плавал к мосту. Наградили его накануне Нового года, а теперь уж январь семнадцатого на вторую половину перевалил. Дни часто выдавались яркие, с морозцем, но все равно выглядели тоскливыми и нудными. И казалось порою, что вся эта трепетная радость и посулы несбыточные пригрезились во сне.
Тогда Василий лез под подушку рукою и щупал там серебряный крест, убедившись, что все это наяву было, только дождаться срока надо. Заодно, словно святыни, касался кожаного мешочка с огнивом покойного башкирца. Ведь оно спасло его под мостом. А потом, лежа в постели, гладил под рубахой нательный крест деда Михайлы. Поменялись они тогда крестами, как дед благословил внука «на подвиг ратный».
Не верил он в бога, попов недолюбливал, а вот к вещам этим испытывал прямо-таки суеверное почтение…
— Рослов, на выход! — приоткрыв дверь, позвала сестра милосердия.
— Гришка, небось, опять приволокся, — вслух подумал Василий и поднялся с постели.
У окна в вестибюле его действительно поджидал Григорий. Прибегал он часто, но на этот раз явился, видать, с чем-то особенным: так, и светились его глаза внутренним сиянием.
— Во сне чего ноничка видал? — спросил он, расплывшись в улыбке.
— Дома всякую ночь бываю, в хуторе, — позевывая, ответил Василий. — А то уж и во сне родные перестали сниться.
— То-то вот и есть, что — дома!
Григорий шагнул к входной двери и стукнул по ней два раза — дверь, отворилась, и у Василия словно бы язык отнялся. Вошедший солдат улыбался, на ходу разглаживая пшеничные усы. Обнялись крепко, расцеловались. Ойкнул Василий, оттого что рана была ненароком задета, спросил с придыханием:
— Да откудова ж ты взялся-то, дядь Макар?
— Про все враз и не скажешь. — Макар привычно полез в карман за кисетом, но притормозил, предварительно спросив: — Курить-то дозволено тут?
— Кури. Дай-ка и я подымлю за компанию… Мы по этой нужде сюда же выходим… Дак из дому-то когда все ж таки отбыл?
— В октябре, по первому снежку… А вам с Гришей, сказывают, домой дорожка выпадает?
— Да уж больно нескоро выпадает-то, — вмешался Григорий.
— Недельки две-три сулит мне доктор. Опасается он, что антонов огонь опять воротиться может. А докторов-то в дороге нет, да и другая бабка Ядвига едва ли когда встренется.
— Сказывал мне Григорий про ту бабку — святая, знать, старуха.
— Дак чего ж ты ехал-то долго так, дядь Макар? — допытывался Василий.
— По нонешним дорогам не враз ускочишь. Воинский эшелон и тот поближе к фронту через великую силу пробивается… А на одном перегоне верст двести пешком перли… Вам ехать-то ведь как попало придется, а на буферах и здоровый хворь наживет. Встречались нам такие ездоки… Ну и… повоевать маленечко успел.
— Где?
— Да тут, недалечко от вас, в семнадцатом Сибирском полку. В разведкоманде там был.
— А сюда-то как попал ты?
— Расформировали нас, — вздохнув тяжело, полушепотом ответил Макар.
— Ну и где ж ты теперь?
— Да у нас в отделении! — не выдержал Григорий. — Не понял ты, что ль?
— Вот как! — удивился Василий. — А еще сказывают — бога нет. Как же без его могло тут обойтиться!
— Да оно, може, без его и обошлось, — хитровато прищурился Макар, сдвинув на лоб солдатскую папаху. — С Урала, видать, серую скотинку большинство в эти края гонют. А тута поручик ваш как углядел в списке Рослова, так и присвоил сразу. Спрашивать стал да про тебя сказывать. А я узрел такое его расположение, еще и дружка за собой приволок, Андрона Михеева. С первого дня, с Троицка, вместе мы с им.
— И как тебе командир наш показался? Пригляделся ты к ему?
— Да с этим-то можно, кажись, тянуть службу. А вот взводный у вас — не то перепужанный, не то бешеный (того и гляди, укусит), либо́ круглый дурак. Он же мине чуть не пристрелил запрошлой но́чей!
— Да ну! Чего так?
— Оглядеться мы не успели с Андроном, едва порог землянки вашей переступили, а тут группа набирается за языком — часть у немцев-то сменилась тут против нас, — ну, он в мине и ткнул пальцем. В деле новичка проверить надумал. Я стал просить, чтобы Михеева в группу взял, дак он рявкнул и говорить запретил. А там но́чей подобрались к часовому, а он, черт, торчит, как околевший, и в нашу сторону глядит. Все настаивают погодить, потому как проберет его морозец и двигаться начнет он, греться. А прапорщик гонит на его — и точка! Что за дурак. Шуму наделать, на всю ночь немцев растревожить, и дело провалить. Ну, тут вот я и послал его по большой матушке, да еще сказал: коль надо, иди сам да бери его. А сосунок ваш наган выхватил и к виску мине приставил… Спасибо, Петренко тут погодилси. Шепнул он ему словечку — и притих прапорщик, немым сделался, пока не воротились домой.
— А языка-то взяли все ж таки?
— А чего ж не взять! Без единой царапины «уговорили». С умом, да приглядевшись, да примерявшись, все можно сделать.
— Немец-то словоохотливый попал, — вставил свое слово Григорий, — в штабе нам, за его спасибо сказали.
— Ты тоже ходил, что ль, Гриша? — спросил Василий.
— А то как же, ходил.
— Ай да молодцы!
— А ты чего ж думал — раз георгиевский кавалер выбыл, то и разведки в полку нет? — подцепил племянника Макар. — Мы и в Сибирском полку кой-чего делали.
— Ну, а расформировали-то чего ж вас?
— История эта громкая, а говорить об ей приходится шепотом, — снизил голос Макар и приблизился вплотную к Василию. — Наступать полку велено было по глубокому снегу, а под снегом-то трясина бездонная, вода… Ну, словом сказать, на верную смерть гнали: ежели немец пушками не побьет, все равно живому не выбраться. Солдаты, понятно, роптать стали. А тут листок появился тайный. И пошел он по рукам. Как порох от искры, загорелся весь полк! Взбунтовались и не пошли в наступлению. А один листок попал как-то к начальству — спросы да допросы начались. Ну, какие поглупейши, сознались, что читали его. Вот двадцать четыре человека и расстреляли перед фронтом полка. А остальных покружили, покружили да и разогнали кого куда.
— Н-ну и дела, — раздумчиво протянул Василий. — Нашим-то рассказывал ты про это?
— Рослов, прощайся с гостями! — выглянув из коридора, приказала сестра милосердия. — На ужин пора.
— Иду.
— Рассказывал, — пояснил Григорий, — да нам Петренко еще до Нового года все как есть обрисовал.
— Вот проныра! — восхищенно молвил Василий. — От его никакая тайность не скроется.
— Ктой-то, стало быть, подкидывает ему такие новости, — заметил Макар. — Не сам же он их выдумывает.
— А не боишься такие вести-то разносить, дядь Макар?
— А чего бояться? Ежели царское ухо поблизости есть, дак от его все равно не уберечься. А так все тут свои.
— Ну, давайте расходиться, поколь без ужина не остались, — предложил Василий. — Посля обо всем договорим.
— Бывай здоров, поправляйся, племянничек! Да помни, господин георгиевский кавалер: двум смертям не бывать, а одной не миновать. Сколь ни молчи, а правда-то сама наружу лезет.
10
Много раз потом навещал Василия Макар. О хуторе все как есть рассказал: обо всех родных, о Викторе Ивановиче Данине, о Кестере, о Кирилле Дуранове; в город перекинулся, даже Самоедова вспомнил. А главное, самолично поклон от Кати передал и красочно обрисовал ее теперешнюю внешность.
«Несладко, видать, живется ей возле той бабки, — подумал Василий, — коль уж седая сделалась». Потом спросил:
— А большего ничего не наказывала?
— Нет. А чего тебе еще надоть? Ждет ведь! И как потерялся ты — все равно ждала…
И пошли, завертелись у Василия думки. Всякое перебрал: и надеялся раньше, и грезилось, что нашла она кого-то другого, а может, и к Палкиным воротилась, коль нужда такая пристигла. И писать совсем не хотел ей — чего ж, мол, чужое счастье бередить! Вот уж коль приведет господь в родных местах оказаться, там на месте виднее будет.
А тут как услышал о драгоценном поклоне — будто живое Катино сердце Макар ему в руки подал! Заходило, затрепетало все в нем. Ночи напролет глаз не смыкал. Написал ей следом еще письмо, на ответ не надеялся, потому как лишь в один конец письма шли месяцами.
Доктору житья от Василия не стало, словно от него одного зависело выздоровление. Так и не дотерпел до полного излечения. Настаивал доктор еще хоть с недельку задержаться в лазарете, да надоело уговаривать — выписал. Опять же имелось в виду, что не в строй выписал, а в отпуск — там винтовку на плече не носить.
К тому времени двадцатые числа февраля по календарю бежали. В первый же день после выписки к поручику Малову сходил, и тот принялся хлопотать им с Григорием обещанный генералом отпуск. С неделю ждали ответа. В дорогу собрались, поклоны в котомки увязали. А тут приходит к ним поручик — постный такой — и говорит:
— Подождать вам велено, братцы, с отпуском.
— Да чего ждать-то? — простодушно спросил Василий. — И сколько ждать?
— Сочувствую вам, бравые молодцы, — улыбнулся Малов, будто денежку подарил, — но добавить к сказанному ничего не могу… Видимо, какие-то важные обстоятельства мешают вашему отпуску. Потерпите еще. — И он ушел, какой-то выпрямленный весь необычно, подобранный.
Дня три недоумевали солдаты: сколько же еще терпеть и какие такие важные обстоятельства столь сильно зацепили их судьбу? Может, большое наступление задумано? Так радости от того никакой: долбанет в наступлении-то немецкой железкой — и либо опять в лазарет, либо в сыру земельку на вечный отдых: Василий уж пожалел, что настоял на выписке.
А тут как-то после ужина прибежал Петренко из околотка — веселый, прямо так и ходит вприпрыжку. Часто он в околоток-то бегал — будто бы сестра милосердия знакомая у него там была, да врет, наверно. Какая сестрица на серого солдата поглядит, коли вокруг офицеров полно — один другого пригожее!
— Братцы! Братцы! — захлебывался Петренко, бегая по проходу. — Зовите сюда отделение Шипилина, я вам новую песню спою. Зовите! Я бы и перед всей командой или перед полком спел, да тесновато в землянке-то будет.
Паша Федяев привычно поднялся, накинул шинель и двинулся к выходу.
— Правильно, Паша, — похвалил Петренко. — Кликни их да задержись там, на дворе, покашляй — все равно мы тут накурим невпродых.
— И без твоих пояснений понимаю, — огрызнулся Паша.
Скоро в землянке и без курева стало густо. Засветили плошку. Петренко держался именинником. Растянув меха, запел:
Ах, где-то рыдала, стонала гармошка, И чей-то замученный голос рыдал: «Ах, чуть бы, еще бы, еще бы немножко, Еще бы немножко — и я бы пропал!»— Ну, эту вы все знаете — для затравки я ее пустил, для настроя. А вот это я у одного мужика перехватил. И петь буду, как он меня учил. Слушайте да запоминайте!
Ах, Гришка и Сашка сидять за столом, А сам Миколашка пошел за вином. Принес Миколашка четверть вина, А за столом уж беседа полна! Гришка и Сашка легли на кровать, А сам Миколашка пошел б-б… баловать. Ах, Гришка с Ляксашкой в окошку глядять, Чего замышляють — никак не понять. Ах, Гришка с Ляксашкой в окошку глядять — Расею ерманцу надумали продать! Ах, Гришка, ты, Гришка, туды твою мать! Зачем же Расею-то задумал ты продать? Придеть революции праведный гром — Мы Гришку с Ляксашкой, как мусор, сметем! И пусть Миколашка об их не реветь Народ его тоже, поганца, смететь!С полминуты, пожалуй, в землянке мертвая тишина стояла. Потом заговорили все разом, перебивая друг друга. Дождавшись, как чуть поутихли голоса, Макар изрек:
— Ну, брат, и подарил ты нам песенку! С такой долго не погуляешь на этом свете. Враз пулей глотку заткнут.
— Не горюй, Рослов! — весело возражал Петренко. — Мы все, может, поживем пока, а Гришки Распутина, этой вонючей коросты, нет!
— Как это — нету? — спросили в два голоса Василий и Шипилин.
— А так и нету. Осатанел он всем до чертиков. Сами господа его и кокнули!
— Дак ведь об том бы в газетах, поди, пропечатали, — усомнился Андрон Михеев. — Тебе-то откудова такое знать?
— Может, напишут, А может и нет, Ему не давали, поганцу, обет.На ходу сочинились эти слова у Петренко, и пропел их да еще на гармошке подтянул. Никакого мужика он в глаза не видел, а три первых куплета этой песенки там же случайно подслушал, в околотке, — пьяные офицеры тихонько спели. И вовсе не подделывались они под мужичью речь. В последней строчке пели: «А сам Николашка пошел флиртовать». Все остальное сочинил Петренко самолично и эти слова переделал, чтобы солдатам понятнее было. А новости, не доступные серому люду, всегда получал Петренко от фельдшера.
— Ну, Гришку пришибли — и хрен с им! — подытожил Макар. — А ты ведь пел-то не только об ем. Поминалась там фигура шибко важная…
— И той главной фигуре мат, кажется, поставили!
Не зная шахматной игры, солдаты не поняли этих слов. А Петренко, до боли натянув себе правый ус, не стал их разъяснять: фельдшер строго наказывал помолчать денечка хоть два, пока все проявится.
— С матом-то у нас вольно́, — по-своему растолковал Андрон Михеев. — Кого хошь по матушке пошлют…
— Давай-ка нашу окопную споем вместе! — перебил разговор Петренко.
И загудела землянка низкими мужскими голосами:
Не за веру мы, братья, страдали, Не отечеству жертвы несли, Не за то свою кровь, проливали, Чтоб злодеев богатства росли…Солдаты Шипилина бывали тут нередко, потому песня звучала слаженно и могуче. Потом разучивали новую злую и веселую песенку про Распутина и про царя, а в завершение спели ее вместе. Получилось лихо и здорово. Уходили шипилинцы нехотя — время не позволяло дольше задерживаться.
Каждый вечер перед сном солдаты обязаны были петь «Боже, царя храни». На этот раз Петренко не просто пел, а орал громче всех, чтобы слышали, как он выводил: «Боже, царя хо-ро-ни-и!»
Непривычно и жутковато было это слышать, потому как Паша уже вернулся с охраны и в любую минуту сюда могло заглянуть начальство. Так оно и случилось, только не в этот вечер, а через два дня.
Дверь отворилась как раз в тот момент, когда Петренко начал «хоронить» царя. Побелели некоторые солдатики, как увидели, что за поручиком тащится и взводный Лобов. Но Петренко, не смутившись, так и дотянул все-таки свое «царя хорони».
Подняв руку, поручик Малов попросил прекратить пение.
— Вот что, братцы, — сказал он как-то уж очень мягко, — не пойте больше «Боже, царя храни» и спокойно ложитесь спать. Утро вечера мудренее — так в старину говорили… Происшествий нет?
— Нет, — ответил Петренко.
— Хорошо. Отдыхайте. — И он повернулся к выходу.
Лобов ни слова не сказал. Пропустил к двери мимо себя поручика, окинул всех каким-то новым, удивленным и в то же время затравленным, взглядом и выскочил следом за Маловым.
— Слышали ведь они, как ты царя-то хоронил, — сказал Паша Федяев, обращаясь к Петренко, — а все равно по-хорошему обошлось.
— Может, ласка эта кровавым боком оборотится? — укладываясь спать, опасливо предположил Андрон Михеев. Ему никто не ответил. — Может, побоялись ругнуться-то, — смертью тут пахнет, коли донесут.
— Да не сделает этого поручик! — горячо возразил Григорий Шлыков.
— Один-то бы он слышал, дак, пожалуй, и обошлось бы, — продолжал нагнетать страх Андрон, — а при этом прыще едва ли умолчать-то ему удастся: своя голова дороже.
— Э, братцы! — аж подскочил на постели Рослов Макар. — А чего ж эт поручик-то нам сказал — заметили? «Не пойте больше «Боже царя храни». Как-то понять? Либо сегодня только, либо совсем уж не петь? Дак ведь всю жизню молитву эту тянули, изо дня в день.
— И прапорщик не такой какой-то, — раздумчиво молвил Василий. — Как побитый кутенок глядит…
— Сами-то вы, как слепые кутенки, — не выдержал Петренко бушевавшей в нем радости. — Побитый он, этот щенок, да не добитый пока. Спите! А царю-то по шапке дали.
За шутку приняли солдаты эти слова отделенного командира. Притихли.
— Недобитый он и есть, — опять заговорил Макар, — а добьет его кто-нибудь все-таки! Наш ротный в маршевом батальоне вон какой кобель был — справились!
— Помолчи-ка ты, Макар, — остановил его Михеев.
— Штабс-капитан Бельдюгин (да мы его по-своему звали), — помолчав, продолжал Макар, — роту свою ненавидел пуще врага. «Седьмая рота — прохвосты-подлецы», «серая скотина»… Ни разу не назвал он нас по-человечески за всю дорогу. Да пока в вагонах-то ехали, не часто с им виделись — сносно было. А вот как пешим порядком двинулись — по грязи да с полной выкладкой, — тут уж он круглыми сутками над нами галилси… На одном привале на цельный час задержал роту всякими придирками, а потом верст семь собачьей рысью догоняли батальон. Сам-то на коне он. Гонит нас плеткой, как скотину, да посвистывает… Андрону вон нездоровилось в ентот раз — изнемог и упал. Дак он ведь его, лежачего два раза плеткой огрел. А чего ж его бить, коль силов у человека нету? А Бельдюгин бесится возля его. «Собаке — собачья смерть!» — орет. До́ смерти, знать, забил бы, стервец, да мы всем отделением кинулись к ему и отстояли. Обоз наш как раз подошел — на повозку положили… Ну, а здесь, на фронте, всего в трех боях побывал этот Бельдюгин — в конце третьего пристрелили его. И не в спину, не в затылок, а прямо в грудь.
— И кто ж эт его так удостоил? — с намеком спросил Василий.
— А кто его знает, — уклончиво ответил Макар. — Любой мог. Ежели б я там был, и у мине бы рука не дрогнула. Жалеть-то его некому было, потому как всех обозлил.
В течение всего рассказа Михеев волновался, ворочался с боку на бок, боясь, что назовет его Макар. Не назвал! Успокоился Андрон и задремал.
А Василий еще часа два или три не мог смежить веки. И не только затянувшееся ожидание отпуска волновало его. Будоражила кровь наступившая весна. Подходила к концу первая неделя марта, и здесь, под Ригой, пробуждение природы чувствовалось уже во всем. Но больше всего терзали Василия догадки. Что-то невыразимо великое, важное и загадочное подступалось вместе с весной. Оно, это «что-то», неуловимо витало всюду, неведомыми путями проникало в сердце, заставляло его трепетать и настораживаться. Вот-вот должно случиться что-то неповторимо значительное. И оно, видимо, где-то уже происходило, встряхивая землю вулканическими толчками.
Едва ли догадывался, едва ли ясно сознавал темный крестьянин Рослов, что и в нем самом постоянно что-то происходило — что-то ломалось и что-то являлось новое, доселе неведомое, — что в сущности, тот деревенский парень четырнадцатого года давно истек кровью, выболел и похоронен в окопах. А живет на свете совсем другой Рослов, с другой кровью и с другими думами, хотя и не очень пока ясными.
11
Утром едва успели глаза сполоснуть да позавтракать, как услышали в растворенную дверь:
— На митинг! На митинг идите все на поляну к штабу полка!
— А чего эт такое — митинг? — недоумевал Рослов Макар. — С чем его едят?
— А вот пойдешь сейчас и узнаешь, — бодро ответил Петренко. Но вид у него был измученный, под глазами тени. Видно, не спал всю ночь. — А как отведаешь, с чем его едят, может, и вкусно покажется.
По всем ходам сообщения густыми цепочками спешили солдаты. Словно ручьи в половодье, выплескивались они на большую поляну, растекаясь по ее пологому бледно-зеленому склону. А на пригорке, ближе к роще, сверкала белизной трибуна, сколоченная из свежих досок. Возле нее и табунился народ. Через каких-нибудь полчаса вся поляна почти до ходов сообщения была заполнена военным людом.
Солдаты, как на загадочного истукана, пялились на пустую трибуну, ожидая от нее чего-то совершенно необыкновенного. Да и сама обстановка была необычной: ничего подобного многие солдаты доселе не видывали. А по толпе самые невероятные слухи носились. Одни говорили, что немец пощады запросил, другие, наоборот, утверждали, что наше правительство мириться надумало, что царь будто бы ради этого хочет отдать Вильгельму все занятые земли да еще денег много выплатить. Вот обо всем этом будто начальство с народом посоветоваться надумало…
Но вот на трибуну поднялся человек в шляпе и сером пальто, при галстуке. Он поднял шляпу высоко над головой, приветствуя собравшихся и требуя внимания.
— Граждане солдаты! — выкрикнул он фальцетом, поправляя пенсне. — Граждане солдаты! Отныне Россия свободна! Трехсотлетняя тирания дома Романовых прекратила свое существование. Царь Николай Второй — ни-зло-жен!!!
Многотысячная толпа взорвалась криками «ура», в воздух полетели папахи, фуражки. Невообразимый гвалт, рев, топот продолжались минут пять, а оратор, стоя на трибуне, поглаживал то короткие усы, то бородку, наслаждаясь произведенным эффектом.
— Власть перешла к Временному правительству, от имени которого я делаю данное заявление и поздравляю вас со свершившимся историческим событием!
Толпа снова шумно откликнулась, но послышались лишь одинокие крики «ура», заглушаемые аплодисментами.
— Объявлена полная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям. Революционное правительство отменило все сословные и национальные ограничения. Оно даровало народу свободу слова, печати, союзов, собраний и стачек. Все политические свободы распространены и на военнослужащих. Конечно, в пределах, допускаемых военными условиями. Для солдат устранены все ограничения в пользовании общественными правами, предоставленными всем гражданам России. Все равны…
— Эт что же, — выкрикнул кто-то возле самой трибуны, — солдат и с генералом по ручке поздоровкаться может, что ль?
— Может — ответил оратор, сбитый с мысли. Потом он говорил о замене полиции народной милицией с выборным начальством, о подготовке к выборам в Учредительное собрание и в заключение выкрикнул:
— Да здравствует свободная Россия на веки вечные!
Впервые в жизни заскорузлые, мозолистые солдатские ладони горели не от жаркой работы, а от хлопанья в ладоши.
— Дак вот отчего генерал мне руку-то в лазарете подал, как награждал! — догадался Василий.
— Не враз к такому привыкнешь, — поддакнул Макар, — заблаговременно готовиться начал он, стало быть.
— И отпуск наш притормозили из-за всего вот этого, — добавил Григорий.
— Все в мире свершается по промыслу божьему, — вещал с трибуны уже полковой священник, — по его же воле и царь отринут. Все сущее на земле воле господней подвластно, потому призываю вас пещись о спасении души, подумайте о вечности, ниспосланной богом душе каждого. Все мы лишь гости в сем тленном мире, потому животы наши в руце господней. Никакие железы вражеские не сокрушат вас, коли то не угодно богу единому. Да сохранит вас всевышний, да примет в царствие небесное богу приверженных!
Его почти никто не слушал, но, когда закончил, тоже хлопали ему солдаты. Священника сменил генерал, начальник дивизии.
— Братцы солдаты! — сказал он. — К вам обращаюсь я, доблестные воины! Великий русский народ дал родине свободу, а русская армия должна дать ей победу! Народная революция принесла России свободу, отныне она стала свободным демократическим государством, а потому должна оставаться могущественной как никогда. Всякая зависимость от кого бы то ни было несовместима с полной свободой внутри государства. А для этого необходимо довести войну до победного конца! Россия непременно должна овладеть Дарданеллами. Вместе с союзниками мы непременно разобьем нашего заклятого врага — Германию, поделим его территорию — вот тогда наступит всеобщий мир и полная свобода, плодами которой может воспользоваться каждый. Да поможет нам бог!
Темные солдаты, не понимая что к чему, хлопали на радостях и генералу, звавшему их на бесконечную и бессмысленную бойню. После него выскочил на трибуну Петренко, будто пружиной выброшенный. С самого начала отбился он от своих и был, видимо, где-то там, в центре.
— Вот бог вам пусть и помогает! — зло выкрикнул он, как бы продолжая разговор с генералом. — Но воевать-то вы не бога — солдата посылаете, а мне ваши Дарданеллы не нужны! И спросите любого солдата — никому они не нужны. Господину генералу и господам офицерам нужны — вот пусть сами за те далекие проливы и воюют! А мне, солдату, и в Германии делать нечего. И не надо так далеко искать врага — вот он, здесь наш враг! — Петренко указал за тыльную сторону трибуны, где кучкой стояли все штабные офицеры. — А немецкий солдат — такой же рабочий и крестьянин, как мы. Нам с ним делить нечего. Что у меня, что у него ничего нет. С солдатами немецкими нам надо мириться, брататься надо! Долой войну!
Ох, и разодрали бы на клочки этого серого оратора офицеры, так ведь только что была объявлена свобода слова, печати, собраний, к тому же насмерть глушил несмолкающий, могучий грохот солдатских аплодисментов, и офицерам оставалось беспомощно зеленеть лицами.
Выступали и другие солдаты. Все требовали мира, прекращения войны. Здесь вдруг наружу стало выплескиваться то, что годами копилось в солдатских душах, кипело и таилось там до времени. Начальству, привыкшему видеть солдатскую покорность, казалось, что тут на глазах начинается бунт. Некоторые офицеры пытались сгладить углы генеральской речи, но, призывая, в сущности, к тому же, еще более подливали масла в огонь.
Митинг затянулся, страсти разгорались. Урезонил всех и как-то уравновесил настроения поручик Малов.
— Братцы солдаты! — сказал он. — Дорогие мои соотечественники! — От этого и солдатам потеплее сделалось, и офицеров тронуло. — Сегодня мы узнали, что в России, наконец, совершилась народная демократическая революция. Низложен Николай Кровавый, как его называл народ. Но ведь это не значит, что Россия перестала существовать. Власть перешла к Временному правительству, а в его программе ничего не говорится ни о продолжении войны, ни о прекращении ее. Для чего же нам спорить о том, что пока не приобрело ясности? Несомненно одно: никакое государство, в том числе и демократическое, не может существовать без армии. Что же это выйдет, если от своего царя мы освободились, а немецкому кайзеру сдадим позиции и окажемся под иноземным гнетом? Я думаю, среди присутствующих не найдется ни одного, кто бы согласился пойти под власть Вильгельма!
— Нет! Нет! — кричали солдаты. — Таких нету!
— Полагаю, что у всех у нас есть сегодня прекрасный повод порадоваться случившемуся, а для решения других вопросов, затронутых здесь, у нас еще будет время. Да здравствует свободная Россия!
Дипломатическая речь Малова приглушила страсти обеих сторон. Многие офицеры по-своему поняли и оценили, восприняв ее как хитрость на пути к завоеванию солдатских сердец. Но поручик говорил от всей души, без лукавства. Он твердо верил тогда, что Временное правительство, если оно намерено удержать власть, должно выполнить волю большинства народа, хотя бы и вопреки собственному желанию. А в «Программе первого общественного комитета» о войне и мире действительно не было сказано ни слова.
К вечеру были избраны полковые комитеты. Командирскому единоначалию пришел конец. Оказалось, что о расформировании 17-го Сибирского полка знают уже все. Одновременно поползли слухи о новом его сформировании, коли вышла амнистия.
12
Петренко, усталый и довольный, вернулся в землянку позже всех, перед самым отбоем. Он теперь член полкового комитета, а поручик Малов — председатель этого комитета. Солдаты, словно очнувшись от векового кошмарного сна, забрасывали отделенного командира вопросами.
— Выходит, связали вы белые ручки полковому командиру, — спрашивал Андрей Михеев, — коли не может он распорядиться по своему усмотрению, без комитета?
— Выходит, связали.
— А вот ежели б у нас в Сибирском был тогда комитет, — горячо рассуждал Макар, — не позволил бы он гнать солдат в трясину и расстрела б не допустил. Гляди ты, как умно придумал ктой-то!
— Умно-то, умно, да смотря кто в комитете сидеть будет, — возражал Петренко. — Всякое наделать могут… Вы думаете, царя скинули — и все? Нет, братцы! Не продержался бы царь триста лет, если б его помещики не поддерживали. А интересы у них одни — крестьянскими да рабочими руками все их богатства созданы. Так вот царя-то нет, а эти все захребетники на местах сидят. И пока они барствуют, не будет свободы трудовому народу. Понять это надо всем.
— Дак чего ж делать-то нам теперь? — недовольно спросил Макар.
— К большевикам прислушиваться надо, к Ленину.
— А что это за большевики и какой такой Ленин?
— Партия большевиков борется за подлинные интересы народа. А Ленин, Владимир Ильич, руководит этой партией.
— Чудно, — дивился Макар, лежа на нарах и почесывая затылок, — большевики какие-то, Ленин… Да как же не слыхать-то про их ничего? И где они?
— В том-то и беда наша, — усмехнулся Петренко, — что ничего вы не слышите, а потому и ничего не видите, даже рядом возле себя… Все революционные партии в подполье сидят. Многие в тюрьмах да в ссылках томятся. А жандармы умеют секреты беречь…
Проговорили почти до утра. Не выспались. А Василий с Григорием и радовались всему случившемуся, и с интересом слушали умные разговоры товарищей, но голову сверлил единственный неотступный вопрос: а с отпуском-то как же теперь? Выходит, пропало все, коли и начальник дивизии сам себе не хозяин. Вот ведь какая напасть!
Но с вопросом этим, как бы ни волновал он их, солдаты ни к кому не обращались — как-то неловко было, совестно. Ведь вокруг творились такие великие, важные государственные дела, всколыхнувшие всех и каждого, а тут отпуск!
Прапорщика Лобова солдаты в те дни совсем не видели. Слышно было, что будто бы затворился он в землянке у себя, одичал и за́пил горькую. Как и где добывал он запойного зелья, неведомо, но расставание с царем получилось тяжкое — и не у него одного. Офицеры второй роты и некоторые штабные оказались в таком же виде.
Дня через три после митинга в землянку заскочил перед обедом сияющий радостью поручик Малов.
— Поздравляю! — крикнул он с порога, еще не прикрыв за собою дверь. — Поздравляю наших геройских солдат с отпуском на родину!
Отпускники бросились к нему.
— Как видите, сдержал все-таки генерал свое слово, — говорил Малов, вручая им уже готовые отпускные документы. — Даже не стал на комитет ссылаться… Подводу я, между прочим, выхлопотал… Сейчас пообедаете, получите паек, пойдете на полковую конюшню, доложите старшему уряднику от моего имени, и вас отвезут до станции.
Счастливые отпускники не знали, что делать, как благодарить поручика — ведь столько времени ждали они этого момента, а вышло совсем неожиданно, будто манна с неба просыпалась. Ошеломленным, оглохшим от радости, крепко пожал им поручик руки и пожелал:
— Счастливой дороги, братцы! Порадуйте родных своим возвращением. Отдыхайте. Будьте здоровы!
Поручик ушел, а в землянке у солдат все завертелось клубком. Продукты успели они получить еще до обеда. И без того спешили по-пожарному, а Паша Федяев еще поторапливал:
— Скорее, скорее, братцы, сматывайтесь! Только бы вам из полка выбраться, поколь никаких революций нету, а то ведь опять задержат либо совсем не отпустят.
Провожать их до подводы пошло все отделение. Но, выбравшись из хода сообщения на поляну, Петренко подхватил отпускников под руки и повел их отдельно от остальных, чтобы поговорить с глазу на глаз.
— Вот что, братцы, — начал он без всяких подходов. — Уезжаете вы надолго, а время-то, сами видите, какое переменчивое. За месяц едва ли вы туда доберетесь. Да и сразу, как на место прибудете, не торопитесь отметку делать — пусть на дорогу побольше спишется. Да законный месяц — дома. Глядишь, и середина лета подкатит… А вот обратно-то лучше бы вам совсем не возвращаться…
— Эт как же так? — встрепенулся Василий. — В дезертиры, что ль, ты нас определяешь?
— Ну, дезертиры не дезертиры, а вроде бы задержавшиеся отпускники.
— Ну и ну, — засомневался и Григорий. — Поймают нас и — к стенке!
— Да не дрожи ты, как премудрый пескарь! Позавчера, восьмого марта, министр юстиции подписал декрет об отмене смертной казни. И в войсках — тоже! Завтра должны объявить об этом у нас. Так что никто вас к стенке не поставит.
— Стенка, стенка! — возмутился Василий. — Чего вы про ее заладили? За дело и у стенки постоять можно, да народу-то как же в глаза глядеть?
— Вот как раз для народа вы там нужнее, чем здесь. Понятно? А чтобы вам совсем уж раскрыть глаза, вот так сделайте: прежде чем в хуторе объявиться, постарайтесь тайно с Виктором Ивановичем Даниным встретиться. Он вам посоветует, как быть, и поможет во всем…
У ребятушек глаза полезли на лоб.
— А чтобы он сразу вас понял, поклон ему передайте от Антона Русакова, от меня, значит…
— Вот оно как! — невольно вырвалось у Василия. — Знаком ты, что ль, с им?
— Крепко мы знакомы. Но Русакова упомянуть только раз и только ему одному, а потом забыть напрочь. Про Петренко можете рассказывать где угодно и сколько вздумается.
— Ты, может, и в хуторе у нас бывал? — оторопело спросил Григорий.
— Бывал, — коротко ответил Антон, потому как уже подходили к конюшням. — Да пусть Виктор Иванович поклонится от меня Матильде Вячеславовне…
— Ну, будет вам секреты-то разводить! — крикнул Макар приотставшим отпускникам. — Прощаться давайте. Вам уж вон карета подана!
Прощались по-солдатски, сдержанно. Макар, правда не утерпел — расцеловал племянника, горячие поклоны своим передал. Потом, суетливо обшарив карманы и не найдя ничего подходящего, подал Василию два винтовочных патрона.
— Вот, Федьке моему отдай… Э, стой! Вот это еще девчонкам. — И он отдал кусочек сахару, дневную норму.
Тут и остальные полезли по карманам и тоже отдали свой сахар.
Отпускники вскочили в телегу, и расторопный Сивка рысью потянул ее по растоптанной, еще неукатанной дороге в сторону усадьбы, где находился лазарет. Оставшиеся солдаты махали папахами. Кое у кого повлажнели глаза… Сидя в телеге спиною к Григорию, Василий тоже отмахивался папахой и гнул шею, чувствуя застрявший в горле комок.
Не только друзья, не только лишения, но и пролитая кровь оставались здесь. А когда и с кем из них доведется встретиться — или последний раз виделись, — того никому знать не дано.
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
1
Мчались кони, взрывая копытами легкую поземку даже на укатанной дороге. Легко скользила роскошная кованая кошева.
К полуночи смягчился мороз, и луна, едва успевшая взойти, все чаще ныряла за светлые облака, бросая неяркий рассеянный свет на белый безмолвный мир. Неровная курганистая степь уплывала податливо назад, открывая впереди неоглядные просторы, скрашенные редкими перелесками.
Закутавшись в большой нагольный тулуп ямщика и утонув в высоком бараньем воротнике, Катерина и впрямь чувствовала себя важной барыней. Тепло ей было, уютно, и она с восторгом пила чистый степной воздух, напитываясь бодростью и силой. Умом она понимала, сколь дерзкий и стыдный поступок совершила на приисковском базаре. А в душе плескалась неожиданная и неуемная радость.
Когда проехали родной хутор и выскочили на взлобок по городской дороге, ей даже захотелось петь. И будь она одна, непременно запела бы. Она уж не помнила, когда последний раз испытывала такой восторг и, опомнившись, даже испугалась неоправданной радости, поскольку не было у нее полной уверенности в том, что на базаре не нашлось ни единого знакомого человека и что никто на свете не знает об отчаянном этом поступке…
Далеко впереди показались пригородные мельницы. Катерина завозилась, подбирая широченные полы тулупа и мысленно возвращаясь в убогую бабкину избушку.
Жилище свое не захотела она ямщику показывать, потому остановила его на пустыре против монастырской ограды, саженей за двести от первого домика в их улице.
— Как же это, барышня, — удивился ямщик, натягивая вожжи и сходя с облучка, — не страшно тебе серед ночи в пустыне одной оставаться? Я бы довез куда надо.
— Да недалечко здесь, — уклончиво проворковала Катерина, выбравшись из тулупа, — добегу!
Расплатиться хватило ей тех денег, что из дому брала с собою в дорогу, — не показала самоедовских «катеринок». Ямщик, принимая деньги, поглядел на Катерину подозрительно и, садясь на ее место в кошеву, недовольно молвил:
— Ну, гляди, пташечка, не ла́пнула бы кошечка! А мне все одно на постоялый двор гнать. Може, утром обратно кого подхвачу… Н-но, милые! — И он с места пустил коней рысью.
Оставшись посреди ночной дороги, Катерина враз ощутила не сиюминутное свое одиночество, а круглое сиротство в неуютном холодном мире. Только вон те непрочные стены бабкиной избушки пока еще уберегают ее от погибели. Мимо ворот прошла она к окошку и стала стучать в перекрестие рамы осторожно, чтобы не испугать домовницу.
— Катя! — глухо прозвучало за двойной рамой, и вскоре хлопнули дверь.
— Ты, что ль, Катя? — услышала она за воротами родной голос Ефимьи. — Одна?
— Я, баушка, я! — обрадовалась Катерина. — Одна. С кем же мне быть!
Вскочив во двор, обняла она Ефимью и сразу вопросами закидала:
— Чего же ты долго так ездила-то?.. Как там Пахомушка твой? Приехала-то когда же?
Не торопилась отвечать Ефимья. В нательной рубахе — как и во двор выходила — остановилась у стола, спросила:
— Озябла, небось, ты, милушка, и оголодала с дороги-то?
— Нет, баушка, не озябла и есть не хочу.
— Ноне прибыла я домой, — присаживаясь к столу, и тяжело вздохнув, продолжала Ефимья. — А Пахомушка, все это время помирал на моих глазах. Как свечка тонкая таял, сердешный… Ждала, ждала я, да вот и дождалась его смертушки… Сама и похоронила.
Говорила Ефимья с трудом, но слез не было. Видно, все она их вылила там, возле сына, в долгие дни прощания. А Катерина, раздевшись и присев на свою кровать, глядела на муки бабкины и заливалась горючими. И не одно Ефимьино горе рвало ее истосковавшееся сердце — своего хватало через край.
Вдруг замолчала бабка на полуслове. Торопливо перекрестив рот, проворно вскочила на лавку и потянулась темной жилистой рукой к божнице, говоря:
— Чего ж я мелю-то, дура старая, — все про свое да про свое! Письмы тебе ведь пришли. Два!
Обожгло, насквозь прострелило Катю это известие. Ни от кого никаких писем ей не должно быть… От Васи только — хоть от живого, хоть с того света! Схватила она их дрожащими руками, мельком взглянула на почерк, прижала к груди и окаменела, стояла до тех пор, пока Ефимья не напомнила ей, что письма-то почитать бы надо.
Стремясь продлить наслаждение предстоящим чтением, она стала разбираться, какое же из писем отправлено раньше. С того и начала. Буквы двоились и множились, расплывались в залитых слезами глазах. Слов она не произносила вслух, едва улавливая смысл написанного. Глядя на нее, не выдержала Ефимья, спросила:
— Ну дак чего ж он прописывает-то?
— В лазарете опять лежит, — всхлипывая, ответила Катерина, раскрывая второе письмо. — В плечо раненый…
— А отчего не писал столь время? Его ведь уж в упокойниках числили все — это как?
— В гостях у поляков зачем-то были они с Гришей Шлыковым… За линией фронта…
— Славно, знать, приветили их те поляки, коли чуть не цельный год провели тама, — ворчала Ефимья, наблюдая, как все ярче светлело разгоревшееся Катино лицо — от жара высыхают на нем слезы, а листок в руке трепещется, как живой. — Нет, не так тут чегой-та. На войне по гостям не ездиют, да еще за линию фронта… Это ведь господам — и то, небось, недозволено, а тут солдат отпустили…
— Баушка, баушка! — закричала Катя и бросилась ее целовать. — Вася в отпуск приедет! Вот как поправится, так и приедет… Сам генерал посулил ему отпуск и крестом Георгиевским наградил!
— Ишь ты как! — удивилась Ефимья и тут же сникшим голосом добавила: — Неравно́ господь награждает рабов своих: кому серебряный крест, кому деревянный, а кому и никакого не достается… Видала я в Самаре, как лазаретных-то в общую ямину складывают… — Она перекрестилась и зашептала молитву.
— При-едет! При-едет! — твердила Катя, бегая по избе с прижатыми к груди письмами. — Молиться стану, чтобы скорейши залечились его раны… Да я бы и сама к ему поехала, коли б знала, как туда ехать!
— На какие ж достатки в этакую даль кинуться! — с укоризною возразила Ефимья. — Да и разъехаться в дороге можно… Вот встренуть бы его получше, и то не знаю, где чего взять.
— Найдем, баушка, найдем! — вырвалось у Кати, и она чуть-чуть не проговорилась о своих «капиталах», понимая, что тогда пришлось бы сознаться и в том, как она их добыла. — Найдем, повторила негромко. — Сама весь город на сто разов обегу, разыщу заказов и вязать круглыми сутками стану.
— Было бы чего да из чего, — подхватила Ефимья, — вязать-то и я пособлю… И хоть долго я пробыла в Самаре, а копеечки лишней не упустила. Кой-какая малость осталась.
И она полезла за печную трубу, чтобы показать эти остатки. Сморщилась Ефимья, усохла и постарела заметно. Поубавилось в ней мужичьей хватки и уверенности. А Катерине вдруг больно и совестно сделалось за свою безраздельную радость. И жалко «баушку» Ефимью в ее безысходном, навеки непоправимом горе.
Проговорили они до утра. Спать в ту ночь не ложились.
2
Эх, деревня, деревня ты русская! До чего ж ты несчастна, забита, ничтожна и обойдена всеми! В столице российской и во многих городах творятся события долгожданные, буря поднялась, волны от которой хлещут через моря и океаны; в западных столицах и Вашингтоне знают о случившемся, а глухие деревни, хутора живут в полном неведении, потому как вести туда не торопятся.
У Рословых такой день выдался единственный за всю войну. Как-то на второй неделе марта привалило им сразу три письма! От Василия два да от Митьки одно. (Батарейцем он воюет где-то в тех же краях.) Сперва читал их Степка, потом Тихон пришел и перечитал вслух еще раз. Радость столь велика, что без слез никак не могли обойтись. И не только бабы и ребятишки глаза да носы вытирали — Тихон и тот раза три прерывал чтение из-за невозможности произносить слова.
А потом, как схлынуло малость волнение, поутихли все — схватил эти письма Степка и вдарился с ними к тетке Дарье почитать. Прибежал туда — отдышаться не может, словно гнались за ним, — а тетка Дарья сидит за столом, одетая, в шали и уливается горькими.
В руках у нее письмо от Макара, и пыталась она разобрать его по складам, да ничегошеньки из того не вышло. И Федьки, как на грех, дома не оказалось. Он-то читать умеет, отец его научил. Дарье тоже Макар показывал буквы, да не выучила она их — ни к чему! А теперь вот сидит и горе свое заливает.
Все четыре письма перечитал ей Степка, объявив предварительно, что Вася-то все-таки живой, наградили его и отпуск посулили, как раны заживут. Разговоров по всем этим делам вышло у них множество, да еще Зинка с Патькой все время вклинивались и мешали, так что вышел от Дарьи Степка часа через полтора.
Тут ему бабка Пигаска встретилась, будто ждала у ворот.
— Чегой-та разбегались вы ноничка, — спросила она, — ай письмо получили?
— Получили, — важно ответил Степка.
— Все живы?
— Все.
— А свого непутевого-то Ваську за здравие поминайте — живой он у вас. Гадала я, все живой оказывается.
— Эх ты, баушка! — возмутился Степка. — Чего ж ты раньше-то молчала? А теперь и мы знаем, что живой. Вот два письма от его получили. В отпуск домой сулится!
Услышав такое, Пигаска вроде бы обрадовалась, пошевелила жалкими остатками бровей и двинулась в сторону своей избы, бросив на ходу:
— Ну и слава богу!
Степка пошел было своей дорогой и за угол плетня к плотине уже повернул, когда услышал сзади:
— Степа! Степа, погоди!
Оглянулся — Виктор Иванович на своем Воронке подкатил с городской дороги.
— В хуторе ничего такого, важного про царя не слышно? — спросил он.
Степку такой вопрос вышиб из колеи совершенно: с чего бы это ему за царя-то еще отвечать? Он так замешкался с ответом, что Виктор Иванович и без него все понял.
— Скинули царя-то, волк его задави! А деревня, выходит, и не слышала такой новости, Степушка. Ты сядь-ка на лошадь да объяви о том хоть по своей стороне. Покричи по улице. А по этой — кого-нибудь из своих ребят пошлю.
Степка так далеко был в мыслях от всего, о чем говорил Виктор Иванович, и до того неожиданно это вышло, что никак не мог парень осмыслить сказанного и молчал, тараща поглупевшие глаза.
— Целую неделю Россия живет без царя, а тут ничего и не знают, — огорчился Виктор Иванович. — Так чего ж ты молчишь-то, объявишь?
И тут прострелило Степку до пяток — все понял.
— Объявлю-у-у! — закричал он и бросился бежать вниз к плотине.
Усмехнулся в ус Виктор Иванович, поворачивая Воронка вдоль кривого ряда изб, и поспешил домой. Около двух недель безвыездно проторчал он в городе. Новости удавалось получать регулярно, но события разворачивались быстро, цепляясь одно за другое, и непременно надо было определиться в дальнейшем поведении и действиях.
Очень хотелось подпольщикам плюнуть на всякую конспирацию и стать, наконец, «обычными» людьми, раскрыться. И условия для этого вроде бы появились, поскольку Временное правительство объявило амнистию всем политическим заключенным, свободу слова, печати, собраний…
Но, приглядевшись к местным условиям, поняли, что нельзя раскрываться всем сразу. Часть подпольщиков, хотя и будет работать почти открыто, пока не должна объявлять о своей принадлежности к партии большевиков. Виктор Иванович опять же в ту часть и попал. Но все эти дни и бессонные ночи, проведенные в городе, он летал на крыльях, — сдвинулось дело-то. «Вседержителя» больше нет!
А Степка, уразумев наконец великое значение и важность слов, сказанных Виктором Ивановичем, задыхаясь, бежал на подъем с плотины и ошалело кричал:
— Цар-ря ски-инули! Цар-ря ски-инули!
Наверху встретился ему кум Гаврюха. Домой, видать, он торопился — скотину на ночь убирать. Глянул на Степку подозрительно, подрулил к нему и — цап его за руку своей костлявой клешней.
— Захворал ты, что ль, Степка?
— С чего это ты взял?
— А чего же орешь-то несвойское?
— Виктор Иванович велел объявить, что царя скинули, — недовольно пояснил Степка. — Ну, чего тебе еще?
— Ну и хрен с им, с царем! — Гаврюхина клешня моментально расслабла, отцепилась, и он, сутулясь, пустился под уклон саженными шагами.
Во дворе Степка нарвался на мать.
— Где тибе черти носють! — набросилась на него Марфа. — Скотину прибирать надоть, а его нету.
Но Степка и ухом не повел. Вскочил в конюшню, отвязал крайнего конька, Карашка ему подвернулся, — и за ворота.
— Куды, родимец тибе изломай! — возопила Марфа, ощерив желтые зубы. А усики над верхней губой обозначились, — ну прямо, как у татарского хана.
— Царя скинули! — прокричал в ответ Степка, вскакивая на коня уже за воротами.
Мать осталась в полнейшем недоумении, а Степка, нахлестывая коня концом повода, скакал вдоль изб, заборов, плетней и кричал во все горло:
— Цар-ря ски-инули! Цар-ря ски-инули!
Вслед ему люди выглядывали из калиток, из-за плетней. Кто не расслышал слов, кто не поверил им, потому ждали гонца обратно, чтобы расспросить о случившемся. Но Степка гнал коня галопом и громко твердил одни и те же слова, ни перед кем не останавливаясь. Однако мимо Прошечки не мог он проскочить почему-то.
— Чего ты зевлаешь-то, как резаный, черт-дурак, — сказал он сердито и негромко, повелительно взмахнув рукой и приказывая остановиться. — Давно скинули-то?
— Да уж с неделю назад.
— А кто тебе сказал про это?
— Виктор Иванович.
— М-м-м, — промычал Прошечка и повернулся к калитке.
Теперь Степка помчался в другой, короткий, конец хутора. От крика он уже охрип, но дело свое продолжал, как мог. Кестерова усадьба стояла на отшибе, а сам Иван Федорович почему-то торчал у ворот и, махая рукой, звал к себе Степку. Пришлось подъехать, хотя можно было возвращаться домой, потому как и до Кестера объявление это, конечно, донеслось.
— Зачем же ты, сопливец, врешь народу про царя? — спросил Иван Федорович, сердито пошевеливая щеткой усов.
— Не вру, — возмутился Степка, — скинули его!
— Не скинули, — поучительным тоном возразил Кестер. — Никто его не скидывал, а сам он отрекся от престола!
— Ну и какая ж в том разница? — засмеялся Степка, нахально глядя на Кестера сверху и поворачивая от него коня. — Царя-то все равно нету.
Не любил и побаивался Кестера Степка, оттого Кольку, сына его, избегал и зайти к ним в дом не отваживался. А тут почувствовал себя вдруг большим, сильным и ничуть не спасовал перед грозным Кестером. Да он и был уже немаленьким, Степка, восемнадцатый год ему шел.
«И чего ж эт он об царе-то печалится так? — недоумевал парень, возвращаясь домой. — Для чего ему этот скинутый царь?»
3
По первым сумеркам, по начинающему подмерзать снежку к рословской избе хрустели шаги со всех сторон. Шли сюда по привычке, зная, что в бытность Зурабова сходки учинялись всегда здесь. Шли не только тогдашние постоянные завсегдатаи, но и те, кто раньше сюда не заглядывал, — больно уж необычна была новость.
Как ни боролась Настасья против этого немыслимого сборища — ведь уборки-то потом, как после свадьбы! — ничего у нее не вышло. В избу лезли все, не спрашиваясь и не оговариваясь. Кто чуток припозднился — пришлось в сенцах стоять и на крылечке. Избяная дверь была распахнута настежь, но в проеме ее тоже стояли люди, потому отдушина эта не успевала пропускать табачный дым.
Первыми тут оказались кум Гаврюха, Иван Корнилович Мастаков — Чулок, стало быть, Илья Проказин, Прошечка, Леонтий Шлыков.
— Вот как ноничка дело-то поворачивает, — заявил с прихода Леонтий, — самому царю по шапке дали — и никаких спросов!
— Да хрен с им, с царем! И без его проживем, — хрипловато прогудел кум Гаврюха. — Вот, кто бы нам пояснее все обсказал… Ты, Тиша, ничего не слыхал?
Но Тихон ответить не успел.
— Доигрались, допрыгались, черти-дураки! — как всегда, горячо врезался Прошечка. — Ишь, ведь чего сотворили — самого царя с трону спустили… Проживем! — передразнил он Гаврюху. — Ты, черт-дурак, проживешь! У тибе и в голове-то вон никакого царя нету. А как Расея жить станет, про то подумал? Тут в семье без хозяина либо с таким вот, как ты, порядку не бывает, а то цельная государства. Глотки ведь перегрызем друг другу, черти-дураки!
— Неловко без управы-то, конечно, — заметил Чулок. — Все равно ведь заместо его должен же кто-то быть… А може, там уж нового царя поставили?
— Чего ж ты молчишь-то, Тихон? — снова обратился к нему Гаврюха.
— Да и я столь же знаю, сколь все. Степка вон сказывает, что будто бы цельную неделю мы без царя-то живем, либо и того больше. А ведь ничего, Прокопий Силыч, все живы.
Прошечка уже готов был на Тихона броситься, но Степка, оглянувшись в кутное окно, громко сказал:
— Вон Иван Федорович идет!
— Ну, этот башковитый, — обрадовался Илья Проказин, — все разобъяснит.
— Башковитый, — возразил Тихон, — да неплохо бы знать, сват, куда башка-то его повернута. Ты редко к нам заглядывал, а я его тут наслушался…
— Ну, что, мужики, царя отпеваете, слезы льете? — спросил Кестер, проходя к столу. Пока еще в избе не очень тесно было. — Или злорадствуете?
— Да нет, — усмехнувшись, ответил за всех Тихон. — Слез поколь ни у кого не видать, а вот Зурабов-то, Яков Ефремыч, прав был, выходит. Помнишь, он говорил, что либо его столкнут, либо сам от престола откажется?
— Хорошо все помню. — Кестер сразу начал набивать свою трубку, как только присел к столу. — Помню, но никто его не сталкивал с престола, сам он отрекся от него в пользу великого князя Михаила второго марта.
— Еще второго ма-арта! — значительно повторил Чулок. — Теперь, стало быть, Михаил нами правит?
Мужики запереглядывались недоуменно, а Кестер жестко сказал:
— Нет. Михаил не принял престола. На другой день и он отказался.
— Э-э, — удивился Леонтий Шлыков и простодушно спросил: — Дык чего ж им враз царствовать-то всем расхотелось? Надоело, что ль?
Кругом засмеялись.
— Здравствуйте, мужики! — молвил Виктор Иванович, внезапно тут объявившись. — Зря смеетесь. Леонтий-то в корень глядит, волк его задави! — Данин подсел к столу. Толстая цигарка во рту у него догорала, потому начал свертывать новую. — Конечно, за триста лет могло бы и надоесть царствовать-то, но Николашке Кровавому не надоело. Он двадцать два года просидел на троне… И еще сидел бы, да снова в Петрограде пролилась народная кровь. На улицу вышли не только рабочие, но и солдаты восстали. Революция совершилась — вот отчего, Леонтий, царствовать-то и расхотелось им враз.
— Ну, Миколашке, так ему и надоть, черту-дураку! — Вдруг начал прозревать Прошечка. — И правда, что в тюрьмах уж местов не стало хватать, слыхал я от знающего человека… Дык правит-то кто ж нами теперь?
Этот вопрос больше всего волновал мужиков, потому и ответа на него ждали, как манны небесной. А Виктор Иванович вроде бы не торопился с ответом, в затылке почесывал, покрякивал загадочно.
— Власть в России перешла в руки Временного правительства, — опередил его Кестер. — Это правительство демократическое, значит, народное.
— Ишь ты, — заметил негромко Леонтий, — народное, дак потому и временное. А посля постоянно-то опять, что ль, царь будет?
— Нет, — сказал Виктор Иванович, — царя больше не будет. А вот что это за народное правительство, в котором опять же угнездились и Родзянко, и князь Львов, и Ржевский, и полковник Энгельгардт, и прочие такие же, куда они поведут Россию? Кто же за мужика-то заступится?.. У нас в городе то же самое теперь творится. Выбрали временный гражданский исполнительный комитет из семи человек, а в него вошли четыре кадета, от эсэров одна женщина, меньшевик да учитель один из казаков.
— А ты что же хотел, чтобы наших мужиков туда посадили, а Леонтия бы председателем сделали? — спросил Кестер.
На, его выпад никто не обратил внимания. У всех застряли в мозгах мудреные слова Виктора Ивановича, потому как многие, слышали их впервые.
— И кто ж они такие, эти самые, — спросил Леонтий, стараясь не упустить из памяти и повторить эти слова, — ну, эти самые кадеты, сесеры, иль как их тама, меньшевики? Чего они добиваются?
— Не просто пояснить это, — откликнулся Виктор Иванович. — Лучше сказать: все они — царские прихвостни, и простому народу добра от них не дождаться.
— Власть, она, должно быть, как баба, Леонтий: поколь не спытаешь, не разберешь, чем она тибе казнить станет, — изрек глубокомысленно кум Гаврюха. — В девках-то все они милые да ласковые.
— Нечего тут испытывать! — горячо возразил Виктор Иванович. — На бе́ды мужичьи наплевать им, да как бы свои капиталы сохранить и умножить.
— Дык мужик-то опять, что ль, сам по себе останется? — не унимался Леонтий. — К кому ж ему прилепиться-то? А земли не сулят они?
— О земле, о судьбе мужичьей, о судьбах простого рабочего народа с момента своего возникновения думает партия большевиков. Но партия эта все время вынуждена была скрываться в подполье, потому вы о ней ничего не знаете. А руководит этой партией Владимир Ильич Ленин. Вот за Лениным, за большевиками и надо идти мужику. Новое правительство ничего о земле не говорит, а призывает, как и при царе, воевать до полной победы над Германией, воевать за далекие Дарданеллы, а мужику для этого еще туже надо затягивать опояску…
— Ленин ваш Россию продает Вильгельму. Так пишут в газетах, — резко возразил Кестер и ехидно добавил: — А ты, Виктор Иванович, выходит, настоящий большевичок и есть… Давно я к тебе приглядываюсь, а в упор только теперь увидел.
— Знаю, — ничуть не смутился Виктор Иванович. — Знаю, что жандармский полковник Кучин частенько читал твои доносы. И не только моя фамилия в них значилась — все, кто вот сюда приходил при Зурабове, там упомянуты. А вот сколько платил тебе за это Кучин, не знаю.
Мужики зашевелились враз, запереглядывались, потому как почти все бывали тут в разное время. Прошечка серым сделался, землистым — вот-вот задымится и вспыхнет. А Кестер побледнел и сунул руку за пазуху.
— Ну-ну, ты не вздумай чего, Иван Федорович! — упредил его Тихон. — А то как в ентот раз за леворверы-то схватились вы… Не надо!
— Да ничего не сделает он один против целого хутора, — улыбнулся Виктор Иванович, показав на плотно столпившихся в избе хуторян. — Тем более, что и писать ему теперь некуда: жандармерия закрыта, а Кучин арестован.
Эти слова сразу приободрили всех, а в толпе, где-то в глубине ее, у дверей, послышались шиканья, кто-то лез там, протискиваясь к свету в душной тесноте. Наконец пробился Мирон Рослов, сдернул с головы полицейскую шапку и возгласил:
— Здравствуйте, граждане крестьяне!
— Гляди ты, как нас теперь именуют городские-то! — удивился кум Гаврюха. — Ну-к, расскажи нам, чего в городу-то делается.
— Чего там теперь делается — не понять и не рассказать враз-то, — вздохнув, ответил Мирон, распахнул шинель полицейскую и, достав из внутреннего кармана пачку бумаги, бросил ее на стол. Тут были печатные объявления, воззвания, «телеграммы» с заборов. — Вот, почитай, Виктор Иванович, может, вместе чего и разберем.
— Да читал я все это, Мирон Михалыч, об этом и разговор ведем. А ты вот расскажи-ка мужикам, как вы Кучина арестовывать ходили.
Степка соскочил с лавки от кутного окна, уступая место отцу.
— Ты и про это знаешь! — удивился Мирон, садясь и распахивая полы шинели.
— Не все знаю, — слукавил Виктор Иванович. — Ты вот мужикам расскажи, как все было.
— Да как там было, — раздумчиво повторил Мирон, собираясь с мыслями. — Как с пятого начались эти самые собрания да заседания, так вот и не кончаются. В ночь на шестое марта дежурил я возле окружного суда, а у их там заседание шло — временный гражданский комитет выбирали. Часа в два ночи выбрали, что ль-то… Ну, вот новая власть и послала солдата за начальником гарнизона, полковником Горячевым, а еще пятерым солдатам велели привести жандармского полковника Кучина, а они не знают, где он живет. Послали меня проводить, потому как приходилось там бывать по поручениям… Пришли. А нас не впущают: кто там, да чего там, да зачем пришли, да как вы смеете?! Ну, солдаты, правда, бедовые попались — не посмотрели, что жандарм, и шуму его не испужались. Затворами как щелкнули да штыки показали — и засобирался наш полковник! Сапоги надевает — руки у его трясутся, побледнел, а виду не хочет показывать, крепится.
Так под конвоем и привели его в заседанию. Я тоже туда с солдатами проскочил! Долго полковники там выгнибались, а наш особенно никак не хотел подчиниться новому начальству — все требовал приказу или распоряжению от центра по жандармской линии, а без того, мол, не могу я сложить обязанности и дела оставить на произвол. А как главный тюрьмой пригрозил ему да солдаты опять затворами щелкнули, тут и поник наш Кучин окончательно — на все согласился… Хотели его в тюрьму посадить, да только домашний арест дали. А жандармская управления не работает. Да и полиция последние дни отживает.
— Дык за порядком-то будет кто наблюдать, аль как? — тревожно спросил Прошечка.
— Для того милиция какая-то народная делается. Кое-кого из наших туда переведут, а мне по годам — отставка!
Слова эти у Мирона вырвались радостно, даже вроде с гордостью. Заметив это, Прошечка тут же и подытожил:
— Гляди-ка, Мирон, везучий-то ты какой! Кучину вон, говоришь, синяки да шишки от новой власти достались, мы вот все тут не знаем, как она к нам оборотится, а ему — сразу такой подарочек!
— Ну, это для его хозяйства хорошо, — выручил Мирона Виктор Иванович, — а все остальные блага от Временного правительства получит он вместе со всеми.
Устали мужики от этой беседы и поняли опять же, что ждать им от всех перемен пока нечего. А Леонтий все не унимался:
— Дык, Виктор Иванович, а посля временных-то, какие ж еще будут? Ты вот про каких-то большаков сказывал, може, от их какая польза нам будет?
— Ты, Леонтий, хоть при меньшаках, хоть при большаках — все равно дырявыми штанами сверкать будешь, — язвительно сказал Кестер, выбил золу из трубки прямо на стол, поднялся и, уходя, добавил: — Работать надо, а политикой и без нас есть кому заниматься.
Все с облегчением посмотрели ему вслед, а когда он вышел, кум Гаврюха забалагурил:
— Мирон, чего ж ты глядишь-то? Самого Кучина зарестовал, а помощник его тут шатается!
— Да ведь посадить-то его некуда, — отшутился Мирон.
— Обещают выборы в Учредительное собрание, — сказал Виктор Иванович, переждав смешки. — Но ведь опять же, кого туда изберут. Большевики, конечно, выставят своих кандидатов, а народ, если ему разъяснить, поддержать их должен. Бороться за свои права-то надо, мужики. «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой», — так вот в одной хорошей песне поется.
Мужиков волновало все это, трогало, наводило на мысли, но расходились хмурые, вроде бы их тут обманули. Ведь думалось-то как? Раз царя скинули — все должно перевернуться в лучшую сторону. Но, выходит, не стало его, царя-то, а в деревне нигде ничего и не дрогнуло — будто его и не было вовсе. Стало быть, не в нем одном дело. Многие хорошо это поняли, особенно те, кто и раньше на собрания к Рословым захаживал. Поняли, да не всем по душе пришлось это понятие, кое-кого покоробило.
4
Движение пассажирских поездов к тому времени уже не соответствовало никакому расписанию. В первую очередь пропускали воинские эшелоны на фронт, шли всевозможные военные грузы, пробивались санитарные поезда с фронта. Человек, отважившийся пуститься в дорогу, не мог знать в точности, когда начнется движение, и тем более не знал он, когда достигнет конечной цели своего путешествия.
Больше месяца Василий Рослов с Григорием Шлыковым в пути мыкались. Испытали езду на открытых площадках товарных поездов, и на платформе ехали, и в пассажирских вагонах, и на конных подводах, и даже пешком не раз прошлись по небольшим перегонам. Грязью заросли похлеще, чем в окопах. Правда, в Самаре удалось им помыться и даже белье сменить.
А на последнем отрезке пути от станции Полетаево попали они в классный вагон оренбургского поезда. Никто их, конечно, туда не приглашал, и ютились они в коридоре, но и выгнать ни у кого смелости не хватило. Тут было чисто, но отдохнуть-то, понятно, негде. Сидя на полу, подремали немного ночью.
А как рассветало — не отходили от окон. Да и как отойти от них, как не смотреть на родные края, на землю, вскормившую их! День разгорался солнечный. В деревеньках снегу почти не видать, а в поле пока лежит он тонким, уже ноздреватым слоем. Бугры — тоже голые, и лишь белеют вдали родные березы да кусты тальника темнеют. Они еще голые, но чувствуется, вот-вот начнут наливаться и тяжелеть почками. Ни единой души в поле пока нет.
За тридевять земель носила судьба этих солдат, сколько смертей им готовила! Сколько могил они обошли и прямо из могилы вынуты были. Можно ли было подумать тогда, можно ли поверить, что в родные края прилететь доведется! И вот они, родные края, — перед глазами, как в сказке несутся! Так можно ли хоть на минуту оторвать взор от них?
Как обогрело по-хорошему солнышко, не выдержал Василий — стал открывать окно. Не поддалось оно. Другое попробовал — получилось. Высунулся в него и захлебнулся, захмелел от родного воздуха. Не так, оказывается, совсем не так пахнет этот воздух! И ни с чем его не сравнить, ни с каким другим не спутать.
Григорий встал позади Василия, тоже неотрывно глядел в окно через его голову и жадно вдыхал напитанный весенней свежестью воздух. За дорогу они до тошноты наговорились, и теперь почитали за благо помолчать и подумать каждый о своем. Но подумать-то долго не пришлось.
Проехали уже станцию Нижне-Увельскую, и на каком-то разъезде поезд шел, не сбавляя скорости, а тут совершенно неожиданно вынырнул встречный на полном ходу. Да еще гудком реванул. Мгновенно отпрянул Василий от окна — затылком-то по лбу Григорию вдарил и нос ему разбил. А тот еще дернулся от Васильева затылка-то да своим об заднюю стенку стукнулся.
— Гриша! Гриша! — смеясь, кричал Василий под грохот встречного. — Гляди-ка ты, где ведь пораниться можно, и не подумаешь!
Но Григорий, зажав руками голову, держал, ее, словно боясь, что она расколется, и в то же время покачивал ею, будто ребенка, баюкая. Он, кажется, даже не чувствовал, что кровь подтекает из носа.
— Опять, опять загудела, проклятая! — стонал он, присаживаясь на пол. — У Ядвиги, кажись, и то не бывало так…
Быстро захлопнув окно, Василий постучал в дверь ближайшего купе и, не дожидаясь ответа, распахнул ее. На диване лежал горбоносый, немолодой, пузатый господин в пенсне с газетой в руке. На другом сидела старушка с вязаньем и тоже в очках.
— Место! — крикнул Василий господину. — Ослободи место контуженому солдату!
Господин приподнял пенсне, отложил газету, но вставать с дивана, кажется, не собирался. А Василий скинул шинель, по-хозяйски повесил ее на крючок и выскочил в коридор. Григорий уже спал, уткнувшись лицом в пол. Василий подхватил его под мышки и поволок в купе.
— Что ж, я вынужден подчиниться георгиевскому кавалеру, — сказал господин каким-то визгливым, скрипящим голосом, торопливо натягивая сапог. — Мамочка, пустите меня к себе, пожалуйста!
Василий уложил товарища в постель в шинели и в сапогах, занес котомки, достал утирку и принялся вытирать кровь на лице у Григория.
— Что с ним случилось, с этим вашим товарищем? — спросила старушка почти таким же голосом, как у господина в пенсне, только заметно дрожащим. — Он, кажется, был здоров, когда я проходила умываться.
— Контуженый он, — нехотя отозвался Василий.
— А что это такое — контуженый? — не унималась досужая бабка. — Это не одно и то же, что раненый?
— Немец прикладом его по лбу вдарил во время рукопашной, — пришлось пояснить Василию. — Вот с тех пор и случается с им такое.
— Но ведь так и мозги могли вылететь наружу!
— Могли, да вот уцелели поколь. Только, видать, перепутались малость…
— Ах, как это жестоко! Ах, как это жестоко! — закудахтала старуха. — Это что же, и вам приходилось убивать живых людей?
— Приходилось, — выдавил сквозь зубы солдат.
— А вы, что же, так и будете ехать до Оренбурга?
— Да нет, не боитесь вы! — начал сердиться Василий, когда она выдала главное свое беспокойство. — Счас вот в Троицке и высажусь.
— А его? — испуганно округлила бабка глаза, указывая спицами на Григория.
— Да уж вам не оставлю, возьму и его непременно.
Такой оборот дела, видимо, вполне удовлетворил и успокоил старушку, и вопросов больше она не задавала. А Василий с нетерпением ждал Троицка и предусмотрительно не надевал шинель, чтобы не закрывать награды. Папаху в мешок уложил, надел фуражку. В дальней дороге не раз убедился он в неотразимой силе серебряного креста и медали: надежнее всяких слов срабатывают они в разговоре с начальством.
Поезд еще не остановился полностью, а Василий, соскочив с подножки, почти бегом устремился к начальнику станции. Хлопоты, как он и предвидел, с помощью власти начальника станции и его телефона сразу пошли успешно, и через четверть часа к вагону подъехала карета с красным крестом. Григорий так и не очнулся, когда санитары выносили его на носилках из вагона.
Василий проводил товарища до железнодорожной больницы, ответил на все вопросы доктора и сказал, что ежедневно будет заходить туда, пока больной не очнется. Взяв шинель на руку и закинув за спину обе котомки — свою и Григорьеву, — он двинулся в город.
Еще на станции заметил он, что все заборы, стены зданий, столбы заклеены объявлениями, воззваниями, обращениями, печатными телеграммами, длинными списками кандидатов в городскую Думу — от мещан; от группы домовладельцев; от мусульманской группы; от социалистического блока при Совете солдатских, казачьих и рабочих депутатов; от трудовой демократической группы центрального казачьего комитета и украинской громады; от жителей Амура…
У Василия в глазах зарябило: ну и народилось же тут всяких партий и групп, как грибов после дождичка. А может, они и раньше были, да не знал о том солдат. Листовки клеили друг на друга, но во многих местах красовались обветшалые, старые, и списки эти были уже пожелтевшие.
От больницы двинулся он через тот самый Амур, от жителей которого тоже выдвигались кандидаты в городскую Думу. Ноги несли его все быстрей и быстрей, тяжести котомок не чувствовал, грязи под ногами не видел, в лица встречных не вглядывался. Все эти наклейки на заборах не хотел больше видеть. На том конце Гимназической улицы ждала его Катя!
И все-таки, пройдя мост через Увельку и перевалив небольшой пустырь, увидел на заборе «Резолюцию» и не смог миновать, не прочитав ее. Остановился.
«Резолюция, принятая Общим Собранием Совета Солдатских, Казачьих и Рабочих депутатов 28 марта 1917 г. в Троицке, — читал он, удивляясь, что Совет такой уже действует. Солдаты, казаки и рабочие есть в нем, а про крестьян что-то нигде и не поминают. — Принимая во внимание критическое положение России в борьбе с внешним врагом, стремящимся воспользоваться для своих ударов на фронте переходным временем внутреннего переустройства нашей Родины, и сознавая, что без победы над Германией и ея союзниками не будет ни русской свободы, ни спокойной жизни в России, ни экономического ея процветания, Собрание депутатов, призывает армию к поддержанию сознательной дисциплины в рядах войск, к тщательной боевой подготовке, к осмотрительному пользованию отпусками…»
— Э-э, — подсвистнул Василий, — да кто ж в том Совете сидит, коли говорят они словами нашего генерала?
«…к единению и товарищеской дисциплине в военных организациях армии, чтобы не допустить расстройства и беспорядков в доблестных рядах защитников Родины и тем отвратить грозящую всей Родине беду. Вместе с тем, сознавая всю ответственность тыла перед защитниками Родины, находящимися в окопах, Собрание депутатов призывает всех рабочих направить усилия к тому, чтобы армия была своевременно обеспечена всем ей необходимым и дружною, немедленною работой за станками на фабриках и заводах содействовать победе над врагами России, не нарушая этой работы требованиями, подрывающими порядок производства предприятий».
От этого чтива повернулись мысли солдата к Петренко, к Антону Русакову, то есть. Пробежал глазами еще по объявлению исполкома того же Совета о новой регистрации лошадей и зашагал прочь.
5
Катерина в тот День поднялась раным-ранехонько. Пело в ней все, радовалось. Каждую ночь теперь она с Васей во сне виделась. Не таился он от нее, не молчал при встречах и неизменно оставался таким, какого проводила на фронт. Ефимья поглядывала на постоялку, потихоньку радовалась ее радостью, а оттого и свое горе легче сносилось.
Работали они в четыре руки. Заказы брала и разносила сама Катерина. По городу ходила почти без опаски. И диво дивное: чем смелее она держалась, чем меньше оглядывалась, тем удачливее и проще все у нее выходило. Бывало, что и земляков издали видела, но всегда уходила незамеченной — словно в шапке-невидимке ходила по городу.
А теперь, узнав о новой власти и о новых законах, она и вовсе перестала бояться. Однако старую придумку о том, что будто бы не живет она в городе, а находится здесь проездом, пока держала на всякий случай — мало ли на кого нарвешься в городской сутолоке. Ефимья и дивилась таким переменам, и радовалась, и тайно сожалела: хуже ведь ей станет, если уйдет Катя.
И еще недоумевала бабка с самого приезда, с какой это стати за те же заказы стали платить вдвое больше. Правда, подорожать-то все изрядно подорожало — война свое делает, — но ведь Катерина не то что двойную, а тройную, цену берет и более! Как же это ей удается?
Удавалось просто. Разменяла самоедовские «катеринки» и добавляла в каждую выручку.
В то утро отнесла она заказ богатой приезжей купчихе в гостиницу Башкирова. Там же еще по номерам побегала и новой работы добыла. Потом загорелось ей в Бурумбайку сбегать — купить гарусных ниток у знакомой татарки. Вышла на Толстовскую улицу, потом по Татарскому переулку на Набережную выскочила, через Уй по мосту перебралась и на подъем, к поселочку двинулась.
С утра дорожка была подмерзшая, сухая, а тут уж раскисать стала. Грязь размягчилась, и лужи открылись. Да лужи-то и обойти можно, а вот извозчика берегись! Гоняют они, как сумасшедшие, и грязью нещадно брызжутся.
В последние дни редко бывало, чтоб задумки ее не сбывались — купила гаруса и как раз такого, какого хотелось. В обратный путь по Малоказарменскому переулку пустилась. Тут ей казалось прямее и проезжих меньше. Бабке такой ходьбы на весь бы денек хватило, а она к полудню вернется и еще работать будет до глубокой ночи.
На красные фонарики, хоть и не горели они днем, поглядывала Катерина теперь с особым смыслом. А знакомый дом с фонарем всегда обходила по другой стороне улицы. Так поступила и на этот раз. Но, едва миновав его, услышала с той стороны знакомый голос:
— Барышня! Барышня!
Оглянулась Катерина — на крыльце стоит знакомая ей хозяйка заведения и призывно машет рукой.
— Господи! Уж не в работницы ли опять позвать хочет, — недовольно проворчала Катерина, но все же направилась к ней, перепрыгивая через лужи.
— Ты как-то спрашивала вязальной работы, — сказала хозяйка, когда Катерина остановилась у крыльца! — А теперь ты берешь заказы?
— Беру.
— Мне надо пятнадцать… ну, таких сетчатых, ажурных воротников для моих девиц. Белых. Ты можешь связать?
— Могу. А нитки есть?
— Есть, есть нитки! — поправив очки в золотой оправе, она повела рукой — ослепительно сверкнули перстни — и пригласила: — Пройдем в зал, там я все покажу.
Робко поднялась Катерина по ступеням этого крыльца, предварительно стрельнув по улице взглядом. Внутри было все так же чисто, уютно и безлюдно. Только салфетки на столиках другие лежали.
— Аннушка! — позвала во весь голос хозяйка. — Нюрочка, принеси мне белые нитки с комода! — И опять, как суслик подсвистнул, когда она «ч» выговаривала.
Из-за тяжелой бордовой портьеры выскочила девушка с нитками в руках и, взглянув на гостью, поникла, свернулась, как ночная фиалка. А Катерина, лицом потемнев, без приглашения присела на ближайший стул.
— Вот из таких ниток свяжешь? — спросила хозяйка, лишь удивившись бесцеремонности гостьи, но не заметив главного.
— Свяжу, — глухо ответила Катерина. — А вязать-то как, образец у вас есть?
— Есть. Принеси, Нюрочка, мое платье… Нет, не найдешь ты. Сама я схожу. Посидите здесь.
— Как ж эт занесло-то тебя сюда, милая? — негромко и сурово спросила Катерина, как только вышла хозяйка. — Давно?
— Да… вот уж второй месяц идет, — сквозь жгучие, неуемные слезы молвила Нюра. — В тот раз, как мы с тобой на Прийске-то расстались у тети Фени, забежала я к своим, пригрели они меня. Я и засиделась… Завечерело уж, как в Кочкарь-то отправилась. Только за Прийск вышла — Самоедов… настиг на тройке… Тройка-то скачет… а он, как зверь, распластал на мне платьишко да и испохабил трижды… пока в Кочкарь въехали… Да я бесчувственная была… Два дня дома без памяти валялась… А потом он приехал… Забрал меня, как куклу, и привез сюда… Сказал… что платить будет хорошо и пользоваться один… будет… Недели две так и было… а потом… пустили по вся-аким…
— Копи деньги, — коротко бросила Катерина, заслышав далекие шаги хозяйки.
— Накопишь с нашей… Зульфией… Она последний кусок изо рта вырвет.
Вошла хозяйка, и Нюра, шагнув к окну, сумела не показать ей своих слез.
— Такой вот воротник, — сказала Зульфия Латыповна. — Правда, он немножко не свежий, но вязать надо так.
— О, — воскликнула Катя, стараясь отвлечь хозяйку, — у меня есть воротник с рисунком красивее этого и поуже. Только отделка — гарусная.
— У меня нет гаруса, и я не знаю, где его теперь берут, — возразила хозяйка.
— Да есть у меня гарус, есть! — горячо подхватила Катерина. Мысли работали у нее четко, прикидывая все наперед. — Правда, подороже выйдет с моим-то гарусом… Вы бы послали со мной девицу… Она принесет и покажет вам тот воротник. Какой рисунок поглянется, такой и свяжу.
— А далеко ты живешь?
— Да нет, не шибко. Возле монастыря, на краю Гимназической.
— Ну, ладно, сходи с ней, Нюра. Только недолго. Посмотрю я тот рисунок и выберу.
Сборы были короткими, и через две-три минуты две несчастных знакомки шагали уже на таком расстоянии от красного фонаря, что можно было говорить обо всем, не таясь.
— Дак чего ж вам посетители совсем ничего, что ль, не дают, али как? — продолжая разговор, спросила Катерина.
— Бывает, что и дают, богатые… Так она же нас после каждого посетителя обыскивает.
— Как, обыскивает? — не поняла или ушам своим не поверила Катерина.
— Да так вот… Бумажные деньги совсем некуда спрятать, почти никому это не удается. А вот золотая денежка ежели подвернется, некоторые ухитряются от нее утаить… Она ведь и в волосах прощупывает, и в подушке, и в рот заглядывает, и в уши… Такую стерву не проведешь. В молодости, говорят, она сама с полгода в нашем положении была. А потом будто бы взял ее какой-то богатый татарин, а она его через год уморила.
— Ну и попала ты, касатушка, в настоящий малинник! — вздохнула Катерина, не зная, что посоветовать знакомой.
— Да все они такие, эти малинники, — возразила Нюра, все еще всхлипывая. — Наслушалась я о них от знающих девиц…
— Ну и как же ты жить дальше думаешь? — спросила Катерина, будто бы с осуждением в голосе. — Так и будешь ночной подстилкой всякому приходящему?
Они пересекли уже Толстовскую и Нижегородскую улицы и приближались к Гимназической. У Нюры после этих слов еще обильнее покатились крупные слезы, но она сдержалась и твердо, с непреклонной решимостью ответила:
— Денег я ни прятать, ни копить не умею… Да и не нужны они мне! А вот ножик хороший припрятала — ни за что не найдет Зульфия! Вот уж две недели жду. Только бы захотелось еще побывать у меня Самоедову. Живой он оттуда не выйдет!
— Молодчина! — вырвалось у Кати, а краем глаза она заметила, как мелькнул и скрылся за углом Гимназической солдат с шинелью на руке и с котомкой. Как жаль, что не видела, когда он перекресток-то проходил! Словно ветром подхватило ее и понесло, так что Нюра приотстала сразу и оторопело глядела на спутницу, ничего не понимая.
— Я бы так же сделала! — продолжала Катерина, все убыстряя шаг. — Я бы этого корявого гада Самоедова голыми руками задушила, зубами бы горло перегрызла и не побоялась бы опоганиться!
Еще чуть-чуть и Катерина выложила бы историю своей встречи с Самоедовым. Но ее перехлестнуло какое-то злобное чувство, и в то же время она понимала, что, может быть, и ее невольная вина есть в несчастной судьбе Нюры, этой красивой бабочки с опаленными крыльями. Ведь это она, Катерина, довела до бешенства Самоедова своим танцем и ловко исчезла. Она-то шла на это сознательно, а Нюра совсем ничего не предполагала.
Тут они вышли на Гимназическую. Солдат маячил впереди всего каких-нибудь в тридцати шагах и вот-вот поравняется с бабкиными воротами. Катерина понеслась бегом по тротуару, не оглядываясь на опешившую, ничего не понимающую спутницу. Именно к их воротам и повернул солдат.
— Ва-ася-аа!!! — истошно, на всю улицу закричала Катерина и уже, кажется, не задевала ногами земли.
Василий оглянулся и остолбенел от неожиданности. А она налетела на него птицей, обвила шею горячими руками и ненасытно целовала заросшие щетиной щеки, горьковатые губы, нос, лоб. Слезы радости катились по ее щекам, она их не утирала.
— Милый… родной ты мой! Да как же ты не услышал, что за тобой я шла!.. За тобой, Васенька; всю жизню иду и не догоню никак…
— Ну, ладноть, Катя,— сказал Василий, поцеловав ее как-то неумело и кособоко, и, стесняясь посторонней девушки, остановившейся тут почему-то, спросил: — В избу-то позовешь, что ль?
6
В ту ночь нисколько не подмерзало: часа четыре моросил первый дождичек в эту весну. Он и после рассвета еще помочил, а часам к десяти разошлись все тучи, очистилось небо, и яркое солнце пригрело по-весеннему, так что некоторые горожане, особенно из молодых, отваживались выходить на улицу без пальто.
Во втором часу пополудни в Соборном переулке из дома с мезонином и вывеской «Ф. Ф. Сыромолотов и К°» вышла целая толпа народу. Владелицей этого дома была мещанка Тимофеева, а квартиросъемщик открыл здесь фирму по разведке полезных ископаемых и даже имел золотой прииск за Каменной Санаркой.
Вывеска эта появилась тут в самом начале германской войны, а на самом деле под нею действовал городской комитет РСДРП. Доходы от прииска постоянно пополняли партийную кассу, и там всегда можно было пристроить на работу преследуемых властями людей. Хозяин «фирмы», Федор Федорович Сыромолотов, и был руководителем троицкого подполья.
Виктор Иванович Данин ходил под эту вывеску с самого начала, только раньше пробирался он сюда, стараясь быть незамеченным, а недели три назад, еще в марте, комитет перешел на легальное положение, и посещения стали безопасными. Потому и утром шли сюда не боясь привести «хвоста», и теперь выкатились все разом и открыто направились куда надо.
Накануне, в субботу вечером, Федор Федорович получил петроградскую газету «Правда», а в ней — статья Ленина «О задачах пролетариата в данной революций». Федич — такова была его кличка, и близкие товарищи по подполью чаще называли его именно так — ликовал. Значит. Ленин вернулся из эмиграции и лично будет руководить движением, а в статье — ответы на все вопросы, по которым велись бесконечные споры не только с другими партиями, но и с некоторыми большевиками.
Вечером же организовал оповещение, а утром собрались все. Виктор Иванович с середины февраля почти постоянно жил на давнишней своей квартире у Авдея и Зои Шитовых и редко бывал в хуторе. У Федича собралось человек около шестидесяти, и после прочтения статьи завязался ожесточенный спор. Меньшевики и здесь были в меньшинстве, но такие оказались горластые и языкастые, что единого мнения никак не получилось.
Большевики считали, что мысли ленинской статьи надо проводить в жизнь, а меньшевики напрочь отвергали Апрельские тезисы В. И. Ленина, не только не желая принять их за руководство к действию, но и вообще видели в них вред для революции.
— Вы только подумайте, товарищи, — сказал Григорий Андреевич Зайцев, член временного исполнительного комитета и депутат городской Думы, — вдумайтесь хорошенько и вы поймете, куда нас зовет эта статья. Обстановка в городе стабилизировалась, между всеми партиями образуются все новые связующие нити…
— С девятьсот третьего года с меньшевиками порвались у нас эти нити, — не выдержал Федич, — а с кадетами и эсерами никогда их не было!
— Не было, но должны быть, — продолжал Зайцев. — Все демократические силы должны объединиться и навести в России порядок. В нашем городе эта согласованность уже наметилась, а статья зовет к дезорганизации общей демократии, к изоляции большевиков от других партий. Сомнут вас в одиночестве! Спрячьте эту газетку и никому не показывайте!
Виктор Иванович незаметно сидел в углу и голоса не подавал. А когда вышли все, подсел к столу, бросил на него большую кепку и, крутя свой ус, чтобы не выдать волнения, раздраженно сказал:
— Ну, Федич, хоть и запретил ты мне высовываться пока и выдержал я все их речи, чуть язык не проглотил, а теперь скажу: не сварить нам каши с меньшевиками! Делиться надо. Какая это работа! Зайцев-то, волк его задави, ишь ведь, чего поет: Ленин ему всю демократию испортил! К себе нам их не повернуть, не прибьются они к нашему берегу и работать не дадут.
Все это Федич выслушал, не проронив ни слова в ответ. Словно нерушимая скала, недвижно сидел он, вперив суровый взгляд больших глаз в собеседника и сжав полные губы, так что в уголках их образовались складки. Полное, чисто выбритое лицо и высокий лоб не дрогнули. И только в конце он вдруг улыбнулся, широкие черные брови приподнялись, будто сокол взлететь собрался, и, проведя рукой по темным слегка волнистым волосам, значительно крякнул.
— Знаю, Иваныч, вижу, — сказал он бодро. — От раскола нам не уйти. Верно ты говоришь, старый волк! А вот погодить придется… Газету, газету нам надо взять под свое влияние. «Степь» должна разнести наши идеи по всему уезду. Никакие митинги и агитаторы не сделают того, что может сделать газета… Помнишь, как в конце тринадцатого, в четырнадцатом заговорила «Степь»?
— Помню, — подтвердил Виктор Иванович, — оттого и прихлопнул ее тогда Сухомлинов. А тебе из газеты-то пришлось уйти да барином вот заделаться, волк тебя задави, фирму открыть.
— Ну, ни Сухомлинова в Оренбурге, ни в других местах генерал-губернаторов теперь нет. Хаиму Сосновскому деньги нужны — и чем больше, тем лучше — ты знаешь этого жадного кадета. А у нас и денег таких сегодня нет. Это ты тоже знаешь, волк тебя задави!
— Знаю, — засмеялся Виктор Иванович, услышав, как точно, с такой же интонацией скопировал Федич его постоянную поговорку. И делал он это с давних пор в тех случаях, когда наводил на мысль, а Виктор Иванович не ухватывал ее сразу.
— Так вот, — продолжал Сыромолотов, расстегнув верхние пуговицы френча и потянув стойку белой косоворотки, словно связывала она его, — а на безденежье, как ты ни ругай Зайцева, к газете нам не подойти — он ведь член исполкома все-таки, с Хаимом вместе сидят на заседаниях. А с разрывом чуть-чуть повременим.
— Глубоко глядишь, волк тебя задави! — засмеялся Виктор Иванович, поняв замысел Сыромолотова. — На сажень в землю видишь.
— Так ведь фирма-то моя занимается разведкой недр, — подхватил шутку Федич. — По должности мне положено видеть. А обстановка самая подходящая. Теперь даже Кучину в жандармерию не надо носить газету для досмотра. Королевства, Иваныч, захватывают и лестью, и огнем, и мечом, а сердца — добром.
— А ты знаешь, где он теперь, Кучин-то?
— Скажи.
— В Солодянке, у казаков прячется. Зубами, небось, из подворотни клацает, пес. Не зря он там сидит. Чую, не зря.
— Ну, если залает вслух, надеюсь, услышим, — сказал Федич, вставая из-за стола. Весь он был плотный, крепко сбитый, могучий. Недюжинная сила чувствовалась в нем.
— Вопросов больше нет, Виктор Иванович?
— Больше нет.
— Тогда прощаемся, — строго сказал Федич и, обойдя стол, подал могучую руку. — Надо готовить материал в газету вот по этой статье, да и о первомайском митинге пора подумать.
Выйдя на улицу, Виктор Иванович почувствовал жаркое дыхание настоящей весны. Не глядя под ноги, месил тяжелыми сапогами уже загустевшую грязь, ватный пиджак — нараспашку, и неразлучная цигарка под усами.
С тринадцатого года знаком он с Федичем, а знают о прошлом друг друга не так уж много. Не принято было в их положении исповедоваться. Знал, что родом Федор Федорович из Златоуста, из рабочей семьи. Смолоду связан с подпольем, кончил горное училище в Екатеринбурге, и свет повидал аж до Франции. В Петербурге в редакции «Правды» поработал. Там же черносотенцы погубили его жену, подстроив автомобильную катастрофу. А здесь уже схоронил единственную малолетнюю дочку, не уберег от кори.
И хотя был Федич младше на семь лет, Виктор Иванович почитал его за старшего товарища, уважая блестящий, живой ум, богатый опыт и уменье подчинить себе людей, когда это надо.
Задумавшись, Виктор Иванович не заметил, как свернул из Соборного переулка, прошел вдоль изгороди горсада по Нижегородской, а потом повернул за угол сада уже по Татарскому переулку. Все эти дни, с середины марта, он не мог насладиться свободой передвижения, блаженно сознавая, что за ним нет и не может быть жандармского «хвоста». Ведь с пятого года не хаживал без оглядки! Да оглянуться-то еще надо незаметно!
Садовый забор доходил до Гимназической улицы, и здесь на перекрестке встретил Данин земляков. Они заметили его далеко и поджидали.
— Васек! — воскликнул Виктор Иванович, словно очнувшись. — И Катя тут! Уж не на фронте ли тоже была? Откуда вы тут?
Он поздоровался с ними за руку, потискал обрадованно, как родных, и отступил на шаг, разглядывая этих молодых людей, уже не выглядевших столь молодыми. И здорово изменились с тех пор, как он их помнил.
— Поговорить бы надоть, Виктор Иванович, — сказал Василий, начав свертывать самокрутку. — Искать я вас хотел, да вот Катя углядела. Чуть не от того угла загородки поджидаем.
— С фронтовиком поговорить всегда интересно. Тут я на днях старших сыновей Чулковых встретил — тоже фронтовики, но анархисты, кажись, чертяки… А из тебя, кого фронтовой огонь испек?
— Да я, наверно, таким и остался, каким был, — ответил Василий.
— Э, нет. Такими же оттуда не возвращаются. Фронт людей переделывает…
— Ты иди, Катя, домой, а мы побеседоваем, — предложил Василий. — Приду я скоро.
Она поняла, что есть у них какие-то секреты, простилась с Виктором Ивановичем и удалилась.
— Антон вам кланяться велел, — поглядев вслед Катерине, негромко молвил Василий.
— Что? — встрепенулся Данин. — Чего ты сказал?
— Антон Русаков кланяться вам велел.
— Ну вот, — засиял Виктор Иванович, — а говоришь, таким же вернулся… Где ж вы с ним виделись-то?.. Да, вот чего, коль так, пройдем-ка до моей квартиры. Не торчать же нам здесь. А Катя подождет. Не потеряешься ты.
Всю дорогу Василий рассказывал о Петренко, а Виктор Иванович не уставал восхищаться:
— Ну, молодец, Антон, волк его задави. Ну, молодец!.. Так, значит, в полковой комитет его выбрали, говоришь? И Макар ваш там, и Тимофей Рушников с вами был?.. Ну, а Гриша-то Шлыков как же теперь, долго пролежит?
— Очнулся-то на другой день он, а теперь уж вот неделю ходим — выписывать пока не сулят. Приступы опять повторяться стали.
— Антон-то ничего больше не наказывал?
— Кланяться велел Матильде Вячеславовне… А нам с Гришею велел не ворачиваться на фронт, и будто бы вы можете помочь нам в этом… Да ведь неловко скрываться-то от всех.
Тут они подошли к воротам домика на Болотной. Виктор Иванович по-хозяйски пошел вперед и с порога возвестил:
— Зоюшка, вот Васек Рослов, наш хуторянин. С фронта он, прошу любить и жаловать!.. А Маркович-то, Авдей где?
— Да ведь в наряде он эти сутки, — ответила Зоя, поздоровавшись с гостем. — Забыли вы, что ль?
Чтобы уберечь Авдея от фронта, пришлось устроить его надзирателем в тюрьму. Да и людей своих там надо было иметь непременно.
Раздевшись, Виктор Иванович, присел к столу и, увидев крест на груди у Василия, воскликнул:
— О, да ты георгиевский кавалер, волк тебя задави! Вот отчего скрываться-то неловко тебе.
— Нет, — возразил Василий, садясь к тому же столу. — Железки эти скинуть можно… Ношу их, потому как в иных случаях пособляют они здорово… А вот с совестью как быть? Там ведь война идет.
— Э, Васек, не доучил вас Антон, выходит! Война-то ведь и тут идет, да еще какая. Чего-чего, а этого добра на наш век хватит! В Петрограде революция совершилась, царь от престола отрекся в пользу Михаила, а тот не принял этого «дара». Временное правительство телеграмму за телеграммой шлет с новыми законами, а местные власти в печать ничего не пускают. Неделю от народа таились! А Сосновский, издатель местной газеты, кадет, волк его задави, так ведь и не стал ничего печатать. Пошли мы туда да самовольно с типографскими рабочими договорились и отпечатали все листовками. Вот дела-то какие, Васек! Жандармского полковника вон, Кучина, пришли снимать с должности, а он не снимается, распоряжение от центра по своей линии требует. Солдат с винтовками пришлось посылать.
— Да без винтовки-то никто из них не захочет, видать, подчиниться, — заметил Василий, — больно уж непривычно им серую скотинку за людей признать.
— То-то вот и оно, что непривычно. И не отдадут они так вот просто свои привилегии, царем дарованные. А потому с ними воевать придется, так что совесть твоя незапятнанной останется… Вот чего, Вася, документы с собой у тебя?
— С собой. И у Григория сразу взял я их, чтобы не потерялись, пока он без памяти был.
Внимательно просмотрев документы, Виктор Иванович свернул их и положил себе в карман пиджака, сказав:
— К вечеру во вторник придешь сюда, эти возьмешь, да и новые будут еще лучше. Сами помните и всем говорите, что не просто в отпуске вы, а в отпуске по ранению. Долечиться, стало быть, вам надо. Григорий получит справку из больницы, и у тебя такая справка будет. Так что прятаться вам не придется.
— Спасибо, Виктор Иванович, — тяжело вздохнул Василий и, смущаясь, добавил: — Еще бы одно дело обрешить как-то надоть…
— Выкладывай, — подбодрил его Данин.
— Катерина-то ведь с четырнадцатого году прячется… Надо бы ей развод как-то сделать с Кузькой Палкиным, да потом бы нам с ей повенчаться.
— Х-хе, законник! Да бери ее в охапку и вези домой. Законы-то все новые теперь, на старые и наплевать можно.
— Я бы так и сделал, да ведь наши-то все восстанут. Отец ее бунтовать зачнет. А там и Палкины не попустятся, как узнают, что объявилась она. Тут надо бы какую-то бумагу сообразить.
— Ну, коль так, будет ей разводная от нынешней власти — настоящая, с печатями!
— А долго ждать-то?
— Да во вторник же и готова будет.
Домой, в бабкину избушку, Василий поспешал, как на пожар. Завечерело уже, и морозец крепчать стал, дорожки все подсушило, так что и в темноте можно было ступать без опаски. И думам ничто не мешало. Ведь всю дорогу с Григорием ломали они головы, как выполнить наказ Петренко и не вернуться на фронт. Вспоминали места, где скрываться можно…
А у Виктора Ивановича вышло все так просто! И с Катей тоже ничего придумать они не могли в устройстве своей судьбы. А тут все решилось в одну минуту. Вот и выходит, что темнота губит, а грамота от сна будит.
7
Леонтий Шлыков теперь заходил к Тихону в кузню ежедневно. И разговор состоялся у них один и тот же.
— Ну чего, Тиша, не слыхать ничего от Василия-то? — спрашивал он, переступая порог.
— Нет, не слыхать, — отвечал Тихон, обхаживая горячую поделку.
— Вот и от Гришки ничего нету, — сетовал с болью Леонтий. — Манюшка моя уж пирогов напекла — съели. В другой раз напекла — опять съели.
— А выпивка-то цела еще? — спрашивал Тихон, пристраиваясь в ряд с Леонтием к верстаку и скручивая из газетки «козью ножку».
— Да выпивку-то, кто ж тебе даст? Она ведь не портится, проклятущая! К пирогам-то бы она подошла, да власти у мине, Тиша, нету.
— Дак теперь ведь новая власть-то.
— Везде новая, а у нас все старая. Так, знать, на роду написано, Тиша… Дык солдаты-то, куда ж подевались наши?
— Дорога ноничка трудная, забитая — вот где-нибудь и скитаются.
— Ну да, — глубокомысленно, с придыханием замечал и Леонтий, — не то что своя лошадь — сел да поехал. А тама их тыщи едет на этой чугунке: кто смел, то и сел. Гришка наш совестливый завсегда был, через людей не полезет в вагон.
Говорить больше ни о чем не хотелось, потому, дождавшись, пока Тихон выкурит закрутку, Леонтий покаянно уходил. Но на этот раз, отойдя от кузницы с десяток шагов и ненароком взглянув на подъем с плотины, закричал ошалело:
— Тиша! Тиша! Прие-ехалии!!
Данинский Воронок легко вымахнул на взвоз телегу с тремя седоками. Впереди Виктор Иванович сидит, а за ним — двое солдат. Они! Они это приехали, кто же еще! И подвода направилась вон прямо к рословскому дому. Леонтий, задыхаясь, бежал туда. Захлопнув дверь кузницы, туда же захромал и Тихон, проваливаясь деревянной ногой в раскисшую землю.
Из ворот выскочили Мирон со Степкой, за ними — Марфа и Ксюшка, а из-за плотины, приподняв подол длинной юбки, бежала Дарья. Федька настиг ее и обогнал без задержки. Как всегда, мгновенно разносятся необычные вести по хутору. Словно ничем иным и не занимались эти люди, только за городской дорогой следили. Из соседних изб начали выскакивать бабы.
Солдат хватали и целовали все подряд, обнимали, так что в первую минуту понять что-либо не было никакой возможности. Виктор Иванович отрулил коня в сторону и, улучив момент, подмигнул Григорию — поехали! А Леонтий был тут настороже, тоже к телеге кинулся, крикнув, сполошно:
— Мине-то не оставляйте тута! — и вскочил на телегу.
— Матильде Вячеславовне поклонитесь! — крикнул вслед Василий.
За плотиной подхватили на подводу еще и Манюшку с Семкой, бежавших сюда же.
А у рословских ворот все еще клубилась толпа. Шинель и котомку Степка унес в избу в доказательство деду, что действительно приехал Вася. К толпе подошли Прошечка и Кестер (зачем-то он в магазин приходил). С Прошечкой Василий поздоровался особенно почтительно, с поклоном. Тот и не понял, с чего ему такая честь. А Кестер загудел, подавая руку:
— Хорошо за царя воевал, Васька, крест и медаль отхватил.
— А я за его и не воевал вовсе, Иван Федорович, — спокойно ответил Василий.
— А за кого ж ты воевал? Награды-то — царские.
— За Россию, за вас вот за всех, чтобы немец сюда не дошел… Довелось мне в Польше поглядеть, чего он с людями-то делает. Не дай бог и лихому татарину!
Только после этого хватился Василий, что ведь и Кестер — тоже немец. Смутился малость и тут же оправдал себя мысленно: «Да какой уж он теперь немец, и Сашка у его на фронте».
— Домой-то в отпуск аль как? — поинтересовался Прошечка.
— В отпуск по ранению с Григорием Шлыковым прибыли мы. Долечиться надоть. Я из лазарета, а Гришка вон уж и в Троицке полежать в больнице успел.
— Доколь же стоять-то мы тут будем, — возмутился Мирон. — Пошли в избу!
Чужие все остались, отвалились, как отмокшая глыба с берега, а Рословы табуном ринулись в калитку. На привязи под навесом скулил Курай, почуяв далекого гостя. А дед Михайла не усидел в избе — на крыльцо выбрался. Тут и встретил Василия. Ощупал его спереди, награды потрогал, обнял, губами к щеке приложился и после того молвил:
— Ну, здраствуешь, внучок! Сохранил тибе господь, вот и свиделись. Проходи в избу.
Бабы тут винтом уже вились между шестком, залавком и столом. Степку с Мироном в погреб послали — за капустой, за огурцами да за водочкой. Мирон давно ее в городе раздобыл да припрятал для случая. Тихон опять цигарку свертывать стал. А дед постоял-постоял посреди избы и, будто вспомнив чего, направился в горницу, поманив туда и Василия.
— В горницу поколь никто не заходите! — строго приказал дед Михайла и плотно притворил за собою дверь. — Разденься-ка, Вася, поглядеть я на тебя хочу.
— Да я ж и так раздетый, — не понял деда Василий.
— Ты совсем разденьси, догола… Чего ж я так-то увижу?
Недоуменно передернул плечами внук, но ослушаться дедовой прихоти не посмел. И, быстро, по-солдатски, спустив с себя все до нитки, предстал в полной наготе. Чуткие, дедовы пальцы начали «осмотр» с макушки. Они медленно двигались в русых волосах, скользили по лбу и по лицу, не пропуская ни сантиметра.
Ощупал шею и, наткнувшись на гайтан, спустился по нему к кресту. А потом слева, под самой ключицей, нащупал отметинку и спросил:
— Эт чего ж такое?
— Пулей, навылет, в четырнадцатом, — ответил Василий. — Писал ведь я вам тогда из лазарета. Вместе с Гришею попали мы.
— Писа-ал, — протяжно молвил дед, продолжая медленно водить пальцами по всей груди. — А крестик-то мой… тот самый, с благословением… Вот он, может, и уберег тибе, сиротинку… А эт чего здесь? — водил дед по правому боку.
— Ну, дедушка, ты не хуже зрячего все разглядишь, — дивился Василий. — Тут уж почти ничего не видно. Штыком это, царапины были.
— Тута вот, пониже, и на руке, тоже штыком? У-у, тута их и не посчитать!.. А эт что ж за штука такая? — насторожился Михайла, ощупывая правое бедро. — Эт бонбой, наверно, вдарило.
Хорошо, что не видел дед. Василий и сам избегал глядеть на это изуродованное место с темно-лиловыми разводами, с вывернутой клочками кожей. Склонившись, дед шарил вниз по ноге.
— Ниже не ищи, — упредил его Василий. — На ногах ничего нету.
Тогда дед зашел со спины и сразу же задержался на левом плече, потом ниже по лопатке спустился.
— Сверху штыковая, — пояснил Василий, не дожидаясь вопросов, — а вдоль лопатки — пулей.
— Чего ж ты, убегал, что ль-то, либо́ внаклонку, спереди так чуркнула?
— Из разведки мы скакали, от немецкого разъезда уходили… Хорошо, что наклонился я.
— Вот ведь чего с тобой наделали, дитенок, — дрожащим голосом сетовал дед, заканчивая осмотр. — Всю шкуру на тебе, как псы, изодрали… Ну, ладно что хоть живой, и то славу богу.
— Дедушка, — одеваясь, заговорил Василий. — Жениться ведь я надумал…
— Вот как! — словно икнул дед от неожиданности, и слепые глаза его непомерно расширились. — Эт на кем жа?
— Катерину Прошечкину взять хочу.
— Мм, дык ведь пропащая она. Какой уж год слуху об ей нету… И замуж она была выдана за казака в Бродовскую. От его и сбежала, от порченого… Ты не слыхал, что ль, ничего?
— Знаю, — возразил Василий. — Со службы-то я тогда же приходил и все знаю. А теперь вот новая власть развод ей дала законный… И письмы я ей писал… В городу скрывалась она все эти годы.
Дед стоял, опираясь на клюку, и печально, покаянно как-то кивал головой в такт словам внука. Потом он вдруг улыбнулся в бороду чему-то своему, и тонкие лучики от глаз лукаво разбежались по старческой коже. Он вспомнил все: и спешный отъезд Василия в город, и что провожать он себя не велел, и как в первый раз терялась Катерина после отправки Василия на действительную службу — все припомнил. К тому еще прибавил разные туманные слухи, и безошибочно обо всем догадался.
— Ну-к, дело-то налажено у вас с ей? — панибратски спросил дед.
— Налажено, — засмеялся Василий.
— А не испортилась она в городу-то, не испакостилась?
— Да вроде бы не должна… У баушки одной живет она там. Вязанием они промышляют, тем и кормятся.
— Дай бог, — тяжело вздохнул и перекрестился дед. — Коль так, перечить не стану.
Душа петухом у Василия запела. Не надеялся он на скорое дедово согласие, а вышло все само собою. И уж раз начал он этот разговор, надо его до конца довести.
— Свадьбы никакой не надоть, — твердо сказал Василий. — Так, вечерок со своими посидим, и то хорошо.
— На том спасибо, внучок, — растрогался до слез дед. — А то ведь свадьба-то по нонешним временам — неподъемная штука! Да и сев на носу… Ты скоро жениться-то будешь?
— Надо бы поскорейши, через недельку, наверно. Тянуть-то уж, кажется, некуда. А жить нам лучше, пожалуй, не здесь, а у тетки Дарьи пока, потому как с теткой Марфой трудно им будет уживаться.
— Да уж строга баба эта, чего там говорить, — согласился дед. — Старше-то она все злее делается. Это верно.
Василий не мог надивиться тому, что дед во всем соглашался с ним, ни в чем ему не отказывал, не перечил, не поучал, как раньше. А дело-то было в том, видимо, что в семье давно привыкли без него управляться. И жалел его дед несказанно, потому как больше всех на его долю мук выпало. Совсем ведь уж было похоронили и встретиться не чаяли.
Ощупав раны внука, дед ясно видел перед собой его истерзанное тело, сумел представить раны открытыми, сумел и боль от них ощутить. Ко всему еще прикладывалось сиротское детство Василия, а Михайла сам в сиротстве рос, вот отчего не перечил он внуку и глядел на него, как на выходца с того света, все еще не веря в счастье встречи. Как же можно ему отказать в чем-то!
— Ну, пойдем к народу, — предложил дед. — Задержались мы тута… Стол уж сготовили, небось, бабы.
Выйдя из горницы, Василий увидел Федьку Макарова и вспомнил про фронтовые гостинцы. На столе все уже было готово, но без деда и без гостя не садились обедать.
— Эх, ребятки, а я ведь вас и не угостил окопными гостинцами! — хватился Василий и, достав из котомки маленький ситцевый мешочек с сахаром, тряхнул им перед детьми.
Его окружили Галька, Мишка и Онька Тихоновы, Санька Миронова, Зинка и Патька Макаровы. Грязных, затасканных кусочков сахара хватило на всех. Отдавая последний кусочек Федьке, сказал:
— Ты уж большой, потому сахару тебе поменьше, зато еще тебе гостинец есть от тятьки — патроны винтовочные. Настоящие.
— Еще чего! — возмутилась Дарья. — Ну и ума же у нашего Макара, целый кошель. Сами там воюют, да еще парнишке такую гадость прислал! Не отдавай ему, Вася! Выбрось лучше.
— Ну, ладноть, Федя, — вышел из положения Василий, — послушаемся мамку. Я порох из их высыплю, а пули назад вставлю и вечером отдам…
— Да будет тебе с ими возиться-то, — возмутился Мирон. — Так мы и до вечера за стол не сядем!
Все дружно стали садиться за стол.
8
И как это происходит, не понять. Ведь сам Иван Корнилович Мастаков хоть и был неуклюжим и чудаковатым на вид, но до страсти любил власть, и Чулком-то в глаза, кроме Прошечки, редко кто называть его отваживался. Противоречий не терпел и всю семью держал в кулаке, в великой строгости, а сыновья — все шестеро — были какие-то разнокалиберные и по росту, и по цвету, и по характеру.
Одни были злые и взбалмошные, другие чуть подобрее, помягче, но характер всех их бабка Пигаска определяла одним словом — сболтанные. Так это словечко и осталось потом в хуторе жить как выражение крайней неуравновешенности. Двое погибли на фронте. Один еще воевал где-то. Младший был ровесником Степке Рослову и пока не призывался.
А вот двое «старшеньких» вернулись домой еще в конце февраля, но радости отцу не принесли: то пьют до безумия, то с похмелья лежат и сквернословят, а то еще в городском доме, какой Чулок под квартиры сдавал, вышвырнули жильцов из одной комнаты и сами там поселились. Квартирантов стали обирать да пропивать эти деньги, по разным заведениям прогуливать. А дома-то — семьи у них.
Как-то на пасхальной неделе облагодетельствовали они родителей своим посещением. Не зная, как их утихомирить, отец упросил сынков съездить в Бродовскую исповедаться в церковь. Авось, вернется к ним разум. На коленях молил, и они согласились.
Но согласились-то с умыслом опять же, чтобы отца успокоить и самим потешиться. Младший, Назарка, подмигивать стал Ипату — соглашайся, мол, чего бы нам не скататься до Бродовской по этакой весенней благодати! Да на добром коне!
Старший-то, Ипат, весь в отца пошел: волосы тоже темно-гнедые, лицо широкое, да еще бакенбарды для чего-то вырастил, сутуловатый, округлый такой, и походка отцовская, с важностью. Носил все время форменную одежду. А Назарка — маленький, щупленький, черненький, с короткими усиками. Одевался по-городскому — в темно-коричневом костюмчике ходил.
На церковной паперти встретили они Василия Рослова.
— О, Васька! — загорланил Ипат. — С приездом! За каким чертом тебя сюда принесло? Давно прибыл-то?
— Недавно. А вас зачем принесло?
— Нас родной батюшка пропер сюда, во грехах покаяться, — пояснил Назарка, — потому как наделали мы их множество!
— Ну вот, а меня родной дедушка послал.
— Ваших-то никого с тобой нет? — спросил Назарка.
— Нету. Вчерась все отмолились, а я не поехал.
— Ну, вот и наши все отмолились, а нас одних, сиротинок, отправили, — трещал Назарка. — Зайдем, что ль, во храм-то?
Дверь была распахнута настежь, туда и сюда бесперечь сновали люди. Несмотря на пасхальные дни, народу в церкви было негусто. С амвона поп читал проповедь. Но это был другой священник, не отец Василий. Мочальная седая борода и сивые, редкие, длинные волосы. Очки в серебряной оправе на хрящеватом носу. Голос у него скорбно дрожал и срывался.
— Батюшку-то, как зовут? — спросил Назарка у ближайшей старушки.
— Отец Сергий, — проскрипела та в ответ.
А с амвона неслись жгучие слова проповеди:
— …И Христос проповедует свободу, равенство и братство не одной какой-либо группе людей, отдавая предпочтение тому или иному классу общества, а вещает истины всем без различия…
И в этом вся сила обаяния учения Христа в противовес подделывающемуся под Евангелие учению земному о счастье всех людей. Счастье так заманчиво, к нему так жадно протягиваются со всех сторон руки, но обычно люди не ищут внутреннего содержания, их манит только самое слово «счастье» и возможность ощутить сытость и довольство, хотя бы на трупах своих ближних; в такой кровавой борьбе за такое счастье совершенно отсутствует сознательное отношение к смыслу бытия…
Свобода себялюбивого «я» освобождает человека от всяких размышлений и разрешает, не задумываясь, подвергать огню и мечу все, что составляет преграду к удовлетворению чисто животных инстинктов. Отсюда угнетение богатыми классами бедного люда, отсюда ненависть низших слоев общества к высшим, ибо во взаимоотношениях людей нет другого содержания, как только выгода, хотя бы и высшего порядка…
И вот, переживая все ужасы наших дней, мы все убедились, что свобода стоит ровно столько, сколько стоит находящийся в центре ея человек, и что свобода может не только уподобиться деспотизму, но и превзойти его. Всю гибельность власти такой свободы над человечеством сознавали лучшие умы седой древности, для них было ясно, что должна прийти другая, действительная свобода, и эту свободу принесет на землю мессия…
— Ну, хватит тебе бубнить-то! — заорал от входа Ипат. — Тут исповедаться никакого терпения нету, а он бубнит и бубнит.
Старухи и старики заоглядывались на него, зашикали, а Ипат, как ни в чем не бывало, достал из портсигара папироску и подпалил зажигалкой.
— В наше время, — продолжал батюшка, — праздник воспоминания рождества Христова приобретает особое значение: о спасителе сугубо вспомнят верующие, протянутся к Евангелию душа и рука неверующего. И снизойди к нашей немощи, господи, проясни наше сознание, дай нам познать твою истину и сделай нас свободными! Аминь!
— Ну, пошли! — позвал Назарка.
— Вы чего, правда, что ль, исповедаться собрались? — удивился Ипат, потягивая из папироски.
— А ты? — спросил Василий.
— Да пошел он к черту, долгогривый!
— Ну и оставайся со своими грехами, — зубоскалил Назарка, — а мы пойдем.
Он подхватил Василия под руку и потащил вперед. Желающих покаяться грешников возле аналоя почти не было. Одного батюшка уже исповедовал, да еще стояла тут немолодая женщина.
— Я вот за этой бабой пойду, — сказал Назарка, — а ты уж за мной.
— Иди, иди, — согласился Василий, — а я погожу…
Когда поп накрыл покрывалом Назарку и стал выспрашивать о грехах, тот без разбору отвечал: «Грешен», а священник неустанно твердил: «Бог простит». Стоя на коленях, Назарка увидел свесившуюся цепочку из часового кармана батюшкиных брюк. Часы он немедленно вытянул, а заодно из другого кармана умыкнул зеленую тетрадку.
Покончив с грехами, поп снял покрывало, а поднявшийся грешник не уходил от него, строя страдальческие гримасы.
— Есть у меня еще один грешок, — запинаясь, но громко говорил Назарка так, чтобы и Василий слышал, — да признаться-то боюсь… Расскажешь ты всем, а мне потом плохо будет…
— Да что ты, что ты, чадо Христово! — пылко возразил батюшка, потрясая серебряной россыпью волос на ризе. — Ведь за разглашение тайны исповеди священнику на том свете вечно язык пилой отпиливать станут! Могу ли я обречь себя на такую кару?
— Ну, коль так, — приободрился грешник, — пожалуй что, и признаюсь…
— Так в чем же твой грех, раб божий?
— Да часы я украл, батюшка…
— Бог простит, — успокоил поп и сам успокоился, потому как раньше он спрашивал и про убийства, и про тайные собрания, и про грабежи, и даже про заговоры против правительства. И Назарка безотказно признавал свой грех во всем. А тут всего лишь какие-то часы!
Василий нырнул под покрывало к батюшке, а Назарка, отойдя шага на три, опустил часы в нагрудный карман пиджака и цепочку, на вид повесил. А сам между тем занялся батюшкиной тетрадкой, обнаружив в ней дневниковые записи:
«3 марта 1917 г. Получилось известие о перевороте. Почему-то припомнилось выражение Достоевского: «Кто теряет своих богов, тот теряет все».
12. Начались выборы в разные комитеты, управы. С каждой почтой — масса социалистической литературы, злобной, развращающей.
15. Рубят у причта остатки кустов, зарослей. Рубят на дрова. «Наше», «Все наше», «Мы»…
17. Запрещение возить удобрение на поля.
24. На исповеди солдаты, бежавшие с фронта, ведут себя безобразно. В четверг в дом вошла кучка парней: «Ключи нам церковные, трезвонить». В колокольне устроили пляску. Сема Рябой играл на гармонии. Возвращаясь с вечеринок, поют около моего дома: «Ах ты, диакон пресвятой, что ты делал на святой…» Дальше невозможное сквернословие.
1917 г. 18 апреля. Валом валят в деревни солдаты с фронта. Карты, самогонка. Проповеди в храме встречаются смехом, злобой, угрозами…»
На исповедь больше никого не было. Проводив Василия, батюшка решил взглянуть на часы — на обед был он приглашен к зятю Красовскому, не опоздать бы! Сунулся в карман — часов-то нет! Глянул через аналой, а цепочка его красуется на груди грешника. Приподняв повыше ризу, шагнул батюшка к нему. А Назарка, мгновенно, сунув тетрадь в карман, по-страшному выкатил глаза, сильно высунул язык и, держа его за кончик левой рукой, правой стал показывать, как священнику станут пилить его за разглашение тайны исповеди.
Поп остолбенело таращился на грешника. Тетрадки своей, видимо, он пока не хватился. Василий хохотал открыто, а толпившиеся тут люди ничего не поняли. Назарка же, припугнув священника непрощеным грехом, поклонился ему низко и сказал:
— Мне ведь уж бог-то простил сей грех, батюшка, прощай и ты!
Повернулся и пошел от него Назарка. У выхода, заметив Ипата, крикнул ему:
— Слышь, браток, ты не знаешь песенку: «Ах ты, дьякон пресвятой, что ты делал на святой…»
— Нет, — аукнулся Ипат.
— Ну, придется чего-нибудь придумать самим, — сказал Назарка, вынимая поповский дневник.
— Где ты китрадку-то эту взял? — удивился Ипат. — И часы у его появились!
— Батюшка на исповеди всего меня обдарил да еще приходить велел, — отозвался Назарка и прочел несколько записей из дневника. Потом они пошептались и, направляясь к выходу, загорланили:
Ах ты, дьякон пресвятой, Что ты делал на святой? Может, с ентой, может, с той, Может, с Манькой холостой.Василию совестно было рядом с ними, и он притормозил, чуток приотстав. И все равно услышал сзади негодующее:
— А еще егорьевский кавалер! С какой ведь шайкой водится.
На улице Мастаковы приглашали Василия ехать вместе домой, но он, сославшись на то, что будто бы завернуть ему надо в одно место, отстал от них, не желая больше слушать похабных песен, распеваемых и здесь. А не доезжая станичной улицы, братья принялись палить из револьверов. Правда, раза по два лишь выстрелили и спрятали оружие: в станице-то казаков, видать, побоялись.
Но уехать спокойно, как хотелось, Василию все-таки не удалось. Сидел он в ходке с плетеным коробком и туго натягивал вожжи, стараясь придержать Ветерка, чтобы не догнать братьев Мастаковых. Их разгульные песни слышались далеко. Конь у них тоже был скорый, и они скрылись за подъемом крутого взвоза, когда Василий неторопливо приближался к одному из неказистых домиков на окраине станицы.
Издали Василий услышал душераздирающий бабий крик. Потом с треском распахнулась калитка, из нее вырвалась молодая баба в нарядной кофте, но без юбки — в белой исподнице с кружевами по подолу. За нею выскочил бородатый старый казак и, взмахнув длинным кнутом, захлестнул босую бабью ногу. Беглянка упала навзничь, подол у нее бесстыдно заголился.
— Уйди, старый похабник!! — закричала она, вскочив на ноги и пытаясь вырвать у насильника кнут.
Голос ее показался знакомым, и, когда поравнялся с ними, признал Валентину Данину. Бородач лупил ее черенком кнута по чему попало, а она пыталась ухватить его то за горло, то кидала полную руку ниже пояса, приговаривая:
— Я тебе всю снасть вырву с корнем, кобелина ты полудохлый!
Подвернул к ним поближе, спрыгнул с ходка Василий и, ломанув бородачу руку, сильно толкнул, так что тот отлетел к воротам и вдарился о подворотню горбом.
— Эт что тут за сопливец еще объявилси! — кричал старик, пытаясь подняться, но зашибся-то, кажется, он изрядно.
— Ой, Ва-ася! — сначала будто опешила, потом неловко улыбнулась Валентина. — Ты куда едешь-то?
— Домой.
— Погоди, я оденусь! — и она бросилась во двор.
А старик поднялся, опустив плетью правую руку, надел картуз левой и двинулся к Василию, говоря:
— Ну, ежели б не кавалер ты, шашкой бы зарубил, стервеца!
— Руки у тибе усохли, дед, коротки, — спокойно ответил Василий и, подняв кнут, сломал через колено кнутовище. — Чего ж ты бабу-то сильничаешь, да еще принародно?
— А твое какое дело до чужой семьи?..
— Поехали, Вася! — позвала Валентина и вскочила в ходок, бросив туда поддевку. — Пущай они управляются со своей скотиной. Вот Родя приедет, все ему обскажу!
— Не ездий, сучка! — свирепо зарычал дед. — Скотину кто прибирать станет? Он же мине руку-то отворотил напрочь!
Василий сел в ходок и тронул коня.
— Не ездий, сучка ты окаянная! Кнутом пригоню, стерва! — кричал вдогонку бородач.
— Свекор? — спросил Василий.
— Свекор-батюшка, — бешено двигая ноздрями, ответила Валентина и взялась прибирать распущенную косу. — Да не может уж ни черта, поганец, а все таращится…
Поглядев на ее могучие руки и плечи, Василий невольно подумал, что, ежели она хорошенько возьмется, несдобровать этому свекру. А Валентина всю дорогу рассказывала, что хозяйство держится на ней одной, что дед не столько не может работать, сколько ленится, что скоро приедет ее Родион, и тогда только вернется она в его семью.
Потом и Василия расспрашивала обо всем. Возле отцовского балагана выскочила из ходка, так что и останавливаться не пришлось.
9
Горячее вешнее солнышко неутомимо работало с восхода до заката. Трудами его с земли было снято белоснежное покрывало, и теперь под живыми лучами зашевелилась каждая травинка, букашка каждая, из почек на деревьях проклюнулись первые листочки. Земля, раздетая, распахнувшая просторные дали свои, нежилась под солнцем, ждала оплодотворения. Над нею висело тонкое и прозрачное, кружащее голову марево.
Целую зиму ждет крестьянин этой поры, с нетерпением вырывается в поле и начинает прокладывать одну за другой борозды. А следом за ним по черной потной борозде степенно и деловито вышагивают грачи, очищая ее от разных козявок, мешающих земледельцу в его вечном труде.
Но в том году мужики выехали на пашню недружно, вразнобой. И вышло это вовсе не от лености мужичьей, а во множестве завозились «козявки» совсем иного рода — грачам непосильные и для простого мужика почти неразличимые. «Козявки» эти распускали слухи — один страшнее другого — и, напитавшись ими, шалел мужик и бессмысленно метался в сомнениях, как отравленная муха.
Дед Михайла держался в стороне от разных слухов, а если что-то и доносилось, то переваривалось в его мозгу на свой лад. Дня три назад заглядывал к ним Виктор Иванович, побеседовал с мужиками, в город их приглашал на Первое мая, потому как митинг там состоится. А уходя, оставил у них городскую газету — «Степь» называется.
В беседе той дед не участвовал, а разговоры своих мужиков слышал и уловил в них много интересного для себя. Разных толков о политике наслушался он и раньше, но те разговоры в мозгу не застряли и расплывались как-то бесформенно. Все говорили о революции, о войне — продолжать ее или не продолжать, — о свободе, о новой власти, о новых порядках. А до земли-матушки будто и дела не было — редко поминали о ней.
А вот в газетке-то прямо сказано, что надо взять ее у нонешних владельцев, что войну с германцем кончать пора. И до того все это зацепило деда, что велел он Степке перечитать всю газету специально для него. Дед не мог терпеть безделья сам и в других не выносил этого. Слепота не мешала ему чинить скамейки, делать зубья к граблям, строгать черенки для вил…
На этот раз, сидя под навесом, подправлял он выездную сбрую для Ветерка, чтобы Василию в город ехать за невестой. А Степка сидел против него на чурбаке с газетой и начал с верхней строчки: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Впервые «Степь» вышла с таким призывом, и дед не мог надивиться глубочайшему смыслу этих четырех слов.
— А когда газетка-то напечатана, сказано тама? — спросил он.
— Двадцать третьего апреля, — сообщил Степка, недовольный тем что дед отвлекает от главного.
Но и дальше чтение шло у них медленно, потому как дед то и дело прерывал Степку, либо заставляя повторить фразу, либо пускаясь в рассуждения. Часа через два одолели они статью.
— «Труженики! Собирайтесь под алые знамена революции! Становитесь в ряды борцов за светлое дело свободы!» — закончил чтец.
— Ишь ты, «труженики», к нам это обращение-то, — заметил дед. — Ну, а еще чего там прописывают?
— Да тут вот говорится, что Первого мая в городу митинг будет.
— А чего эт такое — митинг?
— Ну, собрание на улице или на площади, как тут вот сказано, — пояснил Степка в меру своих знаний, пополняющихся в то время ежедневно. Да и совместное с дедом чтение помогло парню понять многое. Оказывается, слепой этот дед умел видеть больше иных зрячих.
Порассуждать же им вдоволь не удалось. В калитку влезла бабка Пигаска, поздоровалась издали и, остановясь посреди двора, полезла в карман своей необъятной юбки за табакеркой. Тряхнула на сухую темную ладошку, и с нее щепотью заложила в нос.
— Чего ж ты молчишь-то, баушка? — не выдержал Михайла. — Какая нужда загнала?
Пигаска прочихалась, нос вытерла изнанкой подола и завела сердито:
— Кабы своя нужда-то, Михайла Ионыч, — ходила бы, ладно уж, а то полхутора облетела, за что про что, дура старая!
— Ну и сидела бы дома, коль так.
— Сусед мой, Кирилл Платоныч, на тот свет засбиралси. А грехов, знать, наплодил столь, что его и земля-то не примает, ирода. Исповедаться перед всеми хочет, кому напакостил за жисть свою поганую. Тогда, может, без грехов-то легче в землю войдет, примет она его, матушка, удостоит.
— Да у нас и сходить-то некому, — раздумчиво сказал дед, — все ведь работают.
— Ну, пойдете ли, нет ли — было бы сказано. Из других дворов тоже не бросились… Василиса упросила сходить, а я, дура, и кинулась, как молоденькая… Ну, бывай-те здоровы! Скорей бы кости свои до места дотащить.
Пигаска ушла, а дед что-то поперебирал в уме, подумал и объявил:
— А своди-ка мине к ему, Степушка!
— Да чего тебе там делать? — вознегодовал парень. Тут свободный день выдался, потому как Василий за него в поле поехал, и хотелось от деда поскорее освободиться да по своим делам холостяцким вдариться.
— Надоть, Степа, взглянуть на его надоть.
— Да как же ты глядеть-то станешь?
— Погляжу, погляжу, — молвил дед, поспешно прилаживая последнюю бляшку к наборной шлее.
Сперва дед мирился со Степкиной скоростью, часто швыркал опорками по спуску, по плотине хорошо двигался, а на подъеме забастовал:
— Чего ж ты прешь-то мине, как на пожар!.. Успеется, небось… Не помрет он без покаяния, мошенник…
— Да кому он нужен теперь, дохлый-то? — сказал внук, резко сбавляя ход.
— Э-эх ты! А здоровый и вовсе не нужен был… да вот… послал его бог на наши головы, терпели…
Во дворе, уже на подходе к невысокому крылечку, в нос ударил смердящий дух. В сенцах он усилился, в прихожей еще сгустился. Тут никого не было, и они сразу прошли в горницу, где вовсе дышать невозможно было. Не помогало даже открытое в палисадник окно.
— Мир дому этому, — с придыханием вымолвил дед, и Степка отметил для себя, что никогда раньше не слышал от него такого приветствия.
Василиса, пришибленная и почерневшая, поднялась с деревянного диванчика, поздоровалась, пригласила садиться. Покаянно угнув голову, прикрыла рот концом платка и, подтолкнув сынишку, вышла с ним в прихожую.
Но Степка этого даже не заметил. Как увидел Кирилла Степановича — ободрало морозом спину. Если б не знал он, кто тут лежит, ни за что не признал бы этого человека. Весь он зарос косматыми сивыми волосами, сиротливо торчал желто-восковой, острый, раздвоенный на кончике нос. На лбу и лице желтизна сгустилась, и по ней в беспорядке зияли мерзкие бурые пятна, словно горохом кто-то бросил в него. Веки обтянулись и глубоко провалились в глазницах, а на дне этих ям страшно двигались такие же темные пятна, как и на лбу, только покрупнее.
Казалось, что лежит одна голова, без туловища, потому как оно, прикрытое тонким синим покрывалом, почти не возвышалось над постелью и пугало своей мертвенной неподвижностью.
— Прости… мине, дедушка, — загробным, совсем не похожим на свой, голосом простонал Кирилл. — И все… простите… Я ведь… у вас…
— Бог простит, — грубо прервал его дед, — а мы давно простили, как пакостить перестал.
— …И быков… и Мухортиху…
— Да не сказывай ты, — опять оборвал его дед, — и без тибе все знаем… Эт ведь такие вот, как ты, хитрые да поганые думают, что они умнейши всех, что люди глупые — не видют и не догадываются об делах ваших грешных. Нет, не хитростью жил ты, Кирилла, нахальством. А народ, он совестливый, он, как бог, все видит, да не скоро скажет… Теперь вот, видишь, никто к тибе не пришел и не придет…
— Понял я, дедушка… все понял…
— Да кому ж она нужна теперь эта твоя понятия? В могилу тибе закопать и то никто не придет. Ты ведь всю жизню честил нас чертомелями, землероями да мурашами. Мураши эти мир хлебушком потчевают. А ты кого за всю жизню порадовал? Ты ведь, как вша зловредная, готовую кровушку пил. А мог бы работать.
Запавшие глаза у Кирилла повлажнели.
— Прости… дедушка! — снова взмолился он. — Руки бы… я на сибе наложил… да и на то… сил нету.
Дед ничего ему не ответил, поднялся с диванчика и храбро двинулся на голос.
— А ну-к, обгляжу я тибе, — сказал он, подходя к кровати и ставя возле нее свой костыль. — Каков ты ерой типерича.
Ощупав голову, лоб, глазницы, нос, бороду, Михайла удивился:
— Ох, зарос-то ведь до чего! Пуще мине, никак.
Тонкое покрывало не мешало ему ощупать грудь, руки, живот, ноги. Так что теперь дед «увидел» едва ли не больше, чем глазастый Степка. Зловредный дух мутил парня, и он готов был выскочить из избы, боясь, что вот-вот стошнит его тут.
— Эх, Кирилла, Кирилла! — закончив осмотр, возгласил дед. — Не мать могилу-то тебе рыла: своими руками выкопал, стервец. Годков хоть на пять бы раньше ум-то к тебе воротилси. Сынок, глядишь, и взрос бы без сиротства… Пойдем отседова, Степа.
Степка с готовностью подскочил, взял деда под руку и повел прочь. А Михайла на выходе из избы еще добавил:
— Не дай бог никому такого мужа и отца.
10
Вечером на семейном совете обговорили все окончательно. Завтра ехать Василию в город да повенчаться там со своей суженой без лишнего шуму, без лишних глаз. Ну, погостит там денечка два. Первого мая Виктор Иванович просил на митинге там побывать — пусть побывают, а к вечеру — домой. Приедут сразу в Макарову избу, там и жить станут.
Дарья всему этому была радехонька. С молодыми-то веселее жить ей да и полегче. Подготовку к тому вечеру взяла на себя, ну, и Настасья с Марфой помогут. Конечно, и припасов дадут, потому как у самой-то Дарьи к весне ветерок по амбару все свободнее гулять начал. Беседа шла гладко да согласно, пока дед не спросил:
— А кого позовем?
Предполагалось посидеть своим кругом — и только. Но ведь не мог Василий брата своего фронтового не пригласить, Григория Шлыкова! И против этого никто не возражал. А тут Егор Проказин с фронта прибыл, брат Дарьи. Да и свата Илью, отца, тоже обижать не хочется. К тому же еще овдовел он недавно.
Словом, компания росла, увеличивалась, и выходило так, что и того не пригласить неловко, и другого — нехорошо. А дед Михайла сидел на лавке возле печи да помалкивал. Увидя, что разговор к концу клонится, спросил:
— А Прошечка-то, Прокопий с Полиной так и не будут знать, что дочь у их воротилась? Как-никак, сватом ведь он теперя нам доводится.
— Вот эт мы дали маху! — хватился Тихон.
— Да какой он сват! — врезалась Дарья. — Палкиным он сват, а мы у его никого не сватали. Да такую там жизню ей сделали, что баба чуть сибе не порешила. А тятя родной в пристяжку ее косой привязал да гнал вон до Бродовской. Сват!
— Ну, в обиду-то мы ее, чать, не дадим, — стоял на своем дед, — а так ведь вроде бы как украдкой выйдет. Сказать-то, я думаю, надо бы им.
— А то мало девок убегом, что ль, замуж уходит от родителев? — гремела Дарья.
— То от родителев, — взялся пояснять Мирон, а то пропащая она. Ни живой, ни мертвой для их поколь ее нету. Разница тут большая. Полина так вот узнает сразу — не сдюжит, наверно, помрет.
— Сходить к им надоть сичас же! — горячо подхватил Тихон. — Чтобы Василий знал, как они на это поглядят. И для Катерины, небось, чегой-то значит родительское слово. Ждет, небось.
— Добежи, Степа, глянь в окошку, — велел дед. — Не легли они спать-то еще. А итить придется тебе, Тиша. Ты пошустрей на язык.
— А в помогу Дарью мне отрядите, с ей повеселейши разговор завяжется, — сказал Тихон. — Водки тащи бутылку, Мирон. Не с пустыми ж руками там объявиться!
Через минуту Степка доложил, что соседи еще не спят и ужинать вроде бы собираются.
— Чегой-та поздно так они ужинают, — удивился дед.
— Вот и пошли скорейши! — обрадовалась Дарья. — Как раз к столу.
Сунул Тихон бутылку в карман, и, не одеваясь, нырнули они с Дарьей в сумерки. Дорогой уговорились, чтобы Дарья наперед не высовывалась в разговоре, а следила за Тихоном да подхватывала. И как-то бы исподволь надо завести беседу, чтобы дело сделать и Полину от боли уберечь. Простукал Тихон деревянной ногой по длинным сеням — и выстроились они у порога под полатями.
— Здравствуйте, суседи! — возгласил Тихон. — Хлеб да соль вам!
— Ой, да мы, кажись, не ко времю пришли-то, — с притворством и жеманностью молвила Дарья, не двигаясь от порога.
— Садитесь ужинать с нами, — пригласила Полина. — Хорошие гости завсегда к готовому столу являются.
— Да мы хоть и не шибко голодны, а коли закуска на столе, то и выпивка должна быть, — подговорился Тихон и, поставив на стол бутылку, присел на табуретку к столу.
Прошечка, с недоумением поглядел, как и Дарья тут же к столу прилепилась, почесал пятерней бороду. И Тихон свой клинышек потрогал да по усам пальцем провел, будто у них и дела другого не было, кроме как перед бабами охорашиваться.
— Бутылочка к еде, она, пожалуй что, и не повредит, — ухмыльнувшись, объявил Прошечка, — да, чего ж вы, черти-дураки, по ночам-то шатаетесь? Дня вам, что ль, мало аль нужда какая пристигла?
— Нужда у нас обчая с тобой, а может, и никакой нету, — подпустил туману и еще больше озадачил Прошечку Тихон.
А Дарья тем временем вперилась в настенные фотографии и ахнула:
— Ой, Катя-то у вас какая красивая! Прям, как живая, на карточке сидит.
— Давно это, — откликнулась Полина, ставя на стол рюмки и добавляя всего для гостей, — еще в девках она была, горя не знала.
— Ничего об ей не слыхать? — будто бы без особого интереса спросил Тихон, разливая по рюмкам водку.
— Нет! — как-то со стоном вырвалось у Прошечки. — Ни слуху ни духу, как в омут бросилась, непутевая!
— А может, до того и дошло? — вел разведку Тихон. — У Шаврина вон в Бродовской тогда же из омута вынули сноху.
— Да наша в ентот раз, кажись, поумнейши оказалась, — возразил Прошечка, — всю одежу свою с собой забрала… Под водой-то к чему же она ей?
— О-о! — многозначительно воскликнул Тихон, взявшись за рюмку. — Дак за чего ж бы нам выпить?
— А вот за ее, беспутную, и выпьем! — засуетился Прошечка. Странно было видеть, но даже у этого бессердечного человека затуманились колючие глаза. — Все равно с тех пор загинула гдей-то. Чем она кормиться станет?
Полина завсхлипывала, утираясь концом платка, а Тихон запротестовал:
— Нет, за это не стану я пить!
— А враз да живая она! — восстала и Дарья. — С каким-нибудь королем под ручку ходит и в гости к вам собирается.
— В гости-то после того разу, как угнал он ее в пристяжках из дому, едва ли она соберется, — усомнилась Полина.
— Сказки, Дарья, маленьким на сон сказывают, — ожесточился Прошечка и потянул к себе рюмку. — А нам не до сказок.
— Погоди, Прокопий Силыч, — упредил его Тихон. — Вот за встречу-то, пожалуй, самое время выпить. Ну!
Они с Дарьей дружно опрокинули рюмки, а хозяева глядели на них оторопело.
— Знаете, что ль, чего, дак скажите! — не на шутку взъярился Прошечка. — Как медом по губам водют, а в рот не дают.
— А вы за встречу-то выпейте, хуже от того не станет, — ворковала Дарья. — Выпейте да и поговорим.
Полина выпила, и Прошечка — тоже. Вытирая усы вместо закуски, сказал задиристо:
— Ну, черти-дураки, ежели об Катьке вести добрые принесли, то и я за бутылкой схожу!
— Иди, Прокопий Силыч, иди за бутылкой, — почти уже признался Тихон. — Заодно и охолонешь чуток.
Прошечка бросился в сенцы, у Полины тряслись руки, и всю ее поколачивало мелким ознобом, но ни о чем не спрашивала, только молитвенно глядела на этих нежданных поздних гостей.
— Еще по одной! — предложил хозяин, вернувшись, сам налил и сам первый выпил.
— Нашлась ваша доченька, нашлась ненаглядная, — весело улыбаясь, запричитала Дарья, словно ворожея. — Не за дальними степями, не за крутыми горами, а рядышком, тута, в городу… И разыскал ее королевич знатный — в крестах весь, в медалях, а больше того, в отметинах бранных… Привезет ее скоро тот королевич в мою сиротливую избу да под мою крышу. И жить они станут да добра наживать.
Счастливыми слезами залилась Полина, ухватив из Дарьиной сказочки больше, чем открылось в ней.
— Эт чего же, — допрашивал Прошечка, — Василий, что ль, ваш разыскал ее?
— Он самый, — пропела в ответ Дарья. — Любит он ее, вашу Катю, вот и нашел. Со дна моря достал!
— А ведь как я хотела, — всхлипывала Полина, — как хотела, чтобы Вася-то к ей посватался. Видела и сердцем чуяла, что тянутся они друг к дружке. Дак ведь этот ирод взял да толкнул ее вон к Кузьке…
— Ну, чего было, то прошло, — не очень сердито оправдывался Прошечка. — Я у Захара Палкина, большой клин брал в ентот год почти что за половинную цену.
Разговор тут пошел всякий, но удивительно было, что Прошечка не спорил, не возражал против сказанного, а принял все как должное. Когда же доканчивали они вторую бутылку, и вовсе сделался он каким-то смешным, на малого ребенка похожим.
11
Ждала. Ох, как ждала Катерина своего Васю. Как бы опять чего не случилось. Отчетливо, до мельчайших подробностей помнила она тот первый раз, когда так же вот договорились, и Вася готов был даже деда ослушаться, ежели не согласится, но забрать ее отсюда в любом случае. Вроде бы никаких преград не осталось на их пути к объединению.
Нашлась непреодолимая преграда — война грянула! И ведь уехал-то он тогда всего на два-три денька. Теперь нет его целую неделю, а время такое ненадежное! Неотступно сидела она у окна и редко на вязанье оглядывалась — улицу под прицелом держала. Довязать оставалось ей последний воротничок, а вернее, уголок один. Да и унести бы сразу: неловко при Васе в тот дом развеселый наведаться.
Свечерело уже. В избушке у них совсем темно стало. Собралась Катерина скорехонько и Ефимье наказала:
— Я вот заказ отнесу недалечко и тут же ворочусь. Так и скажи, ежели Вася приедет.
Тепло стало, сухо. Бежала она в одном платьишке с небольшим свертком по Малоказарменскому переулку. Предосторожность свою позабыла и, угнув голову, неслась по той стороне, где стоял развеселый дом. В крылечко уперлась, наверх взглянула — фонарь-то горит на этот раз. И музыка там играет. Поднялась на две ступеньки, заглянула в щелку между косяком и портьерой — гости там, и дым коромыслом. Только перешагни порог — живо в лапы какому-нибудь зверю угодишь.
Соскочила со ступеньки и — ходу. Но не успела отойти и двадцати саженей, как сзади с диким треском распахнулась дверь под тем фонарем, с шумом вырвались люди, и кто-то истошно закричал:
— Заре-езалии! Человека зарезали!
Люди побежали в разные стороны, они ругались матерно, поминали проституток и, слышно было, бегом топали по улице. А сзади кто-то кричал:
— Выводи лошадей! Лошадей выводи, догоним!
На улице еще встречалось немало людей, многих Катерина обогнала и, перевалив Нижегородскую, сдержала себя изо всех сил, пошла неторопливым шагом, чтобы не привлекать к себе внимание. Ее обогнала тройка буланых коней, запряженных в тарантас, и круто свернула по Гимназической влево, на выезд из города.
Как ни старалась Катерина сдерживать шаг, все равно выходило скоро — словно бы нес ее над землей кто-то. У ворот своих оглянулась туда и сюда — тройка уже в темноте скрылась. Распахнула избяную дверь — и все поняла сразу.
— Ты? — спросила она Нюру.
— Я… Спрячь меня, пожалуйста!
— Да кто ж она такая? — возмутилась Ефимья. — Сказала, что Катю подождет, а теперь еще спрятать ее велит.
— Ладноть, баушка, погоди: все объяснится. А спрятать-то ее надоть, да получше.
Она бросила сверток с вязаньем на стол, сунула руку в печную трубу и принялась мазать сажей Нюре лицо. Та не сопротивлялась.
— Платье-то скинь да мое, старенькое, надень, — приказала Катерина. — Платком подвяжись пострашнее и — на печку. Может, за глупенькую сойдешь.
— Господи, — ахнула бабка, со страхом глядя на нагую Нюру, — да она и без исподницы, голехонька!
— Не успела, небось, надеть-то? — спросила Катерина.
— Да сбросила я ее, — как во сне, тупо говорила Нюра, дрожа в ознобе, — в кровище все было. Он ведь… пока подыхал… едва не придушил меня.
— А как же тебе сбежать-то удалось? — допытывалась Катерина, когда уже Нюра, обряженная по-новому, сидела на печи. — Народу кругом пропасть.
— До потемок продержала я его у себя, — поясняла Нюра. — Ой, озябла!.. А номер-то изнутри закрывается… Не закричал он, только выдох из него вырвался… В окно я выскочила… Во дворе-то с той стороны всегда пусто… Все я раньше обдумала и дорожку себе приготовила… Двора за два по задам отбежала да в кизяках в чьих-то, наверно, целый час просидела, дура… Надо было пораньше уйти оттуда… А тут вот, как подходила… к вам, тогда и шум в той стороне услышала… Хватились, значит.
— На-ка вот выпей, — подала ей Катерина чуть неполный стакан водки, — да огурчиком закуси… И спи… Все-все пей! Через силу пей!.. Да как же не встрелась ты мне?
— А я… — задыхаясь от выпитого и с треском кусая огурец, говорила Нюра, — я ведь не по этому переулку-то шла… я на Пироговский выбралась… По нему до Гимназической дошла… Там и народу-то почти не было… Женщина встретилась да парень с девчонкой…
— Ну все, спи, — велела Катерина. — Не догадаются они, что ты здесь. В Кочкарь его Гаврила вроде бы кинулси… На той же тройке приезжал, на какой тебя подхватил, на буланой!
Имя Самоедова не произносили они, словно все еще довлел над миром несчастных этот злодей. Упомянув буланую тройку, прикусила Катерина язык: откуда вроде бы знать ей, на какой тройке впервые подхватили Нюру между Прийском и Кочкарем? Но никто внимания на это не обратил. Нюра, кажется, задремала.
Изо всех этих разговоров бабка поняла главное, а когда упомянули Кочкарь, и об остальном догадалась.
— Самого Самоедова, что ль? — спросила она, понизив голос.
— Его самого.
— Ну, слава те, господи, — перекрестилась Ефимья, — на одного паскудника убавилось. Проходу ведь никому не давал, как есть над всеми галился. И никакой власти над им не было.
— Тише, баушка, Нюра-то забылась вроде. Хоть бы уснула покрепче. Туши лампу да спать ложиться станем. Ведь покойнее будет.
— А жить-то она так и будет на печке, что ль? — опасливо спросила бабка, погасив свет и взбираясь на печь.
— Что ты, баушка, что ты! — успокоила ее Катерина. — Вот как Вася приедет, и чего-нибудь да придумаем обязательно!
Бабку она успокоила, а сама до утра глаз не сомкнула. Нюра то и дело вскрикивала во сне, бредила и лишь за полночь притихла, совсем успокоилась. А Катерину терзал неотступный вопрос: как же быть? Как можно глядеть в глаза любимому, скрывая от него что-то постыдное? До этого случая с Нюрой как-то улеглось все в памяти, стерлось и не мучило так.
А теперь, чтобы помочь Нюре, надо рассказать о ней все. Тогда Вася непременно согласится помочь ей. А о себе умолчать? И мучиться потом всю жизнь? Но вдруг он отвернется от нее, узнав о бесстыдном танце на базаре?.. Страшно!.. И где же взять сил на такое признание?.. Может быть, лучше умолчать? А ежели видел ее кто-то из знакомых на том базаре?!
— Н-нет!! — вскричала Катерина, как ужаленная.
— Да что вы, матушки, господь с вами, — крестилась Ефимья, — то одна кричит, то другая… Светает уж на дворе-то, кажись.
А страшное «нет» вырвалось у Катерины оттого, что поняла: не сможет она прямо глядеть в милые глаза, если паскудная эта тайна вечно будет давить сердце неподъемным камнем!
— Все, — страстно шептала она, — все как есть обскажу ему! И пущай он судит меня, как знает. Только его да божий суд признаю над собой! Вот ему и отдамся… Не жить мне с этой проклятой ношей!
12
Василий приехал перед обедом. Катерина выскочила встретить за ворота, и он обнял ее. Но была она сумной какой-то, настороженной. Только и спросила с ходу:
— Ну, дома-то как, все здоровы?
— Все здоровы пока, — ответил Василий, приглядываясь к ней. — А отчего же про наши дела не спрашиваешь?
Ничего она не ответила, только еще прижалась трепетно и на грудь ему слезу обронила скорбную.
— Случилось, что ль, чего? — встревожился Василий. — Дома-то ведь у нас все хорошо выстряпывается. Как думали, так все и выходит.
Катерина юркнула во двор и растворила ворота настежь.
— Заезжай, родимый ты мой, ненаглядный, все обскажу.
И пока распрягал он коня, она успела коротко рассказать всю Нюрину историю — от знакомства до последней минуты. О себе опять же не выговорилось у нее как-то, не сказалось. Озадаченный ее рассказом, Василий не знал, что предпринять.
— Пособить-то надо ей, конечно, — сказал он, — привязывая Ветерка. — А вот как это сделать?
— Может, к Виктору Ивановичу доехать, — подсказала Катерина, — он ведь все может. Захочет ли только связываться с таким делом.
— Про то же и я подумал, да не застать его днем на квартире. Все по делам бегает. Поближе к вечеру надо съездить.
Пока с Нюрой знакомила Катерина Василия, пока обедали, пока со стола убирала, словно по горячим углям ходила. И все думала, как поведать ему о главном да как он посмотрит на это? Сначала надумала попроситься вместе поехать к Виктору Ивановичу и дорогой все рассказать. Но поняла, что не выдержать ей такой пытки до вечера.
— Выйдем во двор на ветерок, Вася, — позвала она. — Душно тут, и голова болит.
Василий видел, что не в себе она, но причиной тому считал бедственное Нюрино положение и опасность, связанная с ней. Потому решил перевести разговор и подбодрить Катю:
— Венчаться-то завтра поедем? — спросил он, как только вышли во двор и остановились у ходка. — Гриша хотел подъехать, может, возьмем его в дружки?
— Ой, погоди, Вася! — зажала она руками голову, словно готовая кинуться в омут. — Скажу я тебе такое, что, может, и венчанье не понадобится.
Глядя на ее серебряные волосы, на жалкую, милую Катю, Василий сжался весь в ожидании страшного, неведомого удара. Он не торопил ее, молча готовился встретить судьбу.
Катя начала издалека. Рассказала, как не верила в его погибель, хотя не было писем, а потом узнала от Макара об извещении, как скудно жили они с Ефимьей и как потом осталась одна, да еще Ванька Шлыков рассеял последние надежды и увез их с Нюрой почти до Прийска. А жить было не на что, и совсем не знала она, что делать, на что надеяться и куда деваться. И про пляску свою рассказала, не утаив ни малейшей подробности.
— Вот чего я наделала, Вася! — заканчивала она свою печальную повесть. — Ни единой душе не сказывала про то. Ни Нюра, ни баушка не знают. А тебе вот как есть все открыла. Больше нет у меня за душой ничего. Суди свою Катю, как совесть велит!
Не обрадовал этот рассказ Василия, слинял он, поник и подрастерялся вроде.
— Дак ведь ничего ж плохого-то не случилось! — воскликнул он, свертывая новую цигарку, хотя окурок еще торчал под усами. — Не поддалась ты ему, сбежала!
— А ежели не спас бы меня господь в тот раз, то и было бы со мной то же, что с Нюрой. И поступила бы я также, как и она, только прятаться бы не стала, наверно. И жить бы не стала!
И без того понимал Василий, как трудно жилось ей здесь — о том кричал каждый седой волосок на ее голове, — но после исповеди жалость в нем удесятерилась. Схватил он ее и стал целовать ненасытно, с придыханием приговаривая:
— Все, все это прошло и не воротится больше! Успокойся! — Шершавой, грубой рукой он стер с ее разгоревшихся щек слезы. — А давай сейчас поедем и обвенчаемся! Собор-то открыт, небось.
— Неловко, Вася. В наших ремках да в собор. Куда бы поближе да попроще.
— Ну, тут вот на Нижегородской церква есть… Да теперь ведь в церквах-то не то, что раньше. В Бродовской вон побывал я, дак там и курят, и сквернословят, и батюшку ругают. А Назарка вон Чулков дак часы у батюшки на исповеди украл…
— Поехали! — решилась она. — Запрягай, а я хоть платье получше надену
* * *
Узнав, с чем приехал Василий, Виктор Иванович сказал:
— Доездился веселый Самоедов, волк его задави! А девице-то поможем. Документов у нее никаких, конечно, нет, коли так сбежала… Ну, ладно. Как ее звать-то, Нюра? А фамилию не знаешь?
— Нет.
— Ну и не надо. Придумаем какую-нибудь. Завтра в это же время приезжай сюда, получишь паспорт, билет до Самары, адресок, чтобы ей было куда хоть на первое время приткнуться… А вот садиться в поезд лучше бы ей не здесь… Ну, хоть в Нижне-Увельской, что ли. Не нарвалась бы тут на милицию. Далеко-то искать не станут, а в городе поберечься ей надо… И некогда мне, Вася, некогда. Вы уж сами ее на станцию отвезите. Идет?
— Спасибо, Виктор Иванович! Сами-то мы не знали, как и подступиться к этому делу.
— Теперь с такими делами попроще. Антона я через Миасс отправлял. Не говорил он тебе?
— Нет.
— А когда из тюрьмы его вез, ты меня и догнал, волк тебя задави! Помнишь, на свертке закуривали?
— По-омню, — встрепенулся Василий. — Дак это он и ехал тогда!
Всю обратную дорогу изумлялся Василий: живет его родной хутор, мужики в земле ковыряются, за скотиной ухаживают, и все на виду вроде бы. А рядом, под носом у них, такие дела вершатся!
13
С утра Катерина и Ефимья хлопотали о Нюре, собирая ее в дорогу: подгоняли по размеру Катины платья, пальтушку легкую отдала она ей, и тоже понадобилось ушить, еду дорожную готовили, денег немного собрали. А Василий то по двору шатался, то за ворота выходил. От безделья обдумывал он, как лучше проводить Нюру до станции, и нарвался на неразрешимый вопрос.
Ну, сделает Виктор Иванович ей паспорт — мастер такой, видать, у него имеется, — а фотокарточку-то где ж они возьмут? Раз в жизни видел он паспорт, еще до войны, когда у полковника вестовым служил. Дочь полковника тогда в Германию уезжала.
Сорвется, пожалуй, все дело из-за этакой мелочи. И ведь не спросил он вчера об этом. Забыл, наверно…
Григорий приехал в одиннадцатом часу. Важный такой, вымытый, выбритый. Одет он был во все солдатское, но узелок с собой захватил с новой рубахой и штанами праздничными. Даже красный бант Манюшка ему соорудила, поскольку ехал он в дру́жки на исполнение обряда венчания дорогого товарища. Встретились у ворот.
— Ну, все, что ль, к венцу-то готово, Василий Григорич? — спросил он сразу после приветствия.
— Все как есть готово, — усмехнулся Василий. — Да только вот один-разъединый дру́жка, и тот припозднился чуток.
— Да ты что! — всполошился Григорий. — Я ведь, как уговаривались, так и приехал. Обвенчались, что ль?
— Вчера, Гриша, обвенчались.
— Э-к, их приспичило! Не дождались, — и протянул руку. — Ну, с законным браком вас в таком разе!..
А тут и Виктор Иванович подкатил на своем Воронке.
— Здравствуйте, ребятушки! — весело крикнул он с подъезда и соскочил с телеги, пустив коня к воротам. — Нашего полку прибыло, стало быть… Вот и Гриша поможет, небось. Знает он о деле-то?
— Нет еще, — ответил Василий, — только что вот подъехал. Обскажу ему все.
— Некогда мне, други милые! Оттого и заскочил пораньше. Да и вам придется выехать засветло, потому как поезд пройдет в Нижне-Увельской, как узнал я на вокзале, между одиннадцатью и двенадцатью ночи. Успеть к нему надо. — Виктор Иванович сунул руку в боковой карман пиджака и, подавая Василию документы, добавил: — Здесь все. Билет и адрес. К доктору Бархатову поедет она в Самару. Может, у него в прислугах останется, либо в больницу сиделкой пристроит он ее.
Василий развернул паспорт и весело рассмеялся: там и места для фотографии не было — не надо ее!
— А ведь я думал, что карточка для такого документа понадобится.
— Нет, не за границу же ехать-то ей. А хоть бы и потребовалась, так их вон в милиции штук сто нашлепали — в гимназии, видать, добыли фотографию — и раздают милиционерам для опознания… Да не ищет ее никто всерьез. Так уж, если сама в руки дастся, поймают. А в другие города ничего не послали, да и посылать в теперешнее время бесполезно. Смотрите, не попадитесь до Увельской, а главное здесь, поблизости, пока выезжать будете.
Виктор Иванович сел на свою телегу и, разворачивая коня, добавил:
— Счастливо вам добраться да завтра на митинг поспеть!.. Э, вот у меня одна завалялась — возьмите на память! — И он бросил маленькую фотокарточку. Григорий подхватил ее, посмотрел внимательно. На обороте прочел: «Селянина Анна Федоровна», и бережно положил в карман гимнастерки.
Потом, уже во дворе, Василий стал рассказывать Григорию все о Нюре, поскольку в помощники брал он товарища. А между тем смастерили они валек для пристяжки, пристроили его к ходку, чтобы Григорьева конька подпрячь к Ветерку. На паре-то полегче будет и по-надежней. И, когда приготовили все, в избу подались.
— Ну, готовы в дорогу-то? — с порога спросил Василий.
— Все у нас готово, — отозвалась Катерина.
— И у нас все готово. Давайте обедать, а после подумаем, как лучше замаскировать беглянку. Выехать придется за час до закату, чтобы к поезду поспеть.
— Проходи, Гриша, садись, — радушно пригласила его Катя. — Везет тебе на беглянок-то.
— Везет, — вздохнул Григорий. — Рука у меня легкая. Одну вот привез да в жены товарищу отдал. Хоть бы себе какую подхватить.
— Найдешь, — успокоила его Катя. — Девок-то вон сколь растет, а ребят побили да покалечили.
— Слезай, Нюра, с печи, обедать вместе будем, — позвал Василий и, достав ее документы, добавил: — Не знаю, чья ты была раньше, а теперь ты есть Анна Егоровна Гребнева.
* * *
Выехали они часов в семь пополудни. Нюру пришлось опять избезобразить, измазали ее, глаз и щеку завязали платком, а поверх пальтушки большой дорожной шалью накрыли — больная. Сели они с Григорием в ходок рядышком, а Василий — на козлах, за кучера. Катерина выглянула из калитки — никого нет. Потом распахнула ворота и указала в проем.
— Ну, с богом! — сказала она. — Счастливой вам пути!
Ефимья перекрестила их вслед трижды.
Из города выскочили хорошо. Василий поторапливал коней. Солодянка, пригородный казачий поселок, недалеко, и проехать по ней придется засветло. Но близких знакомых ни у кого из них там нет, потому и опасностей не предвиделось. Так оно и вышло. Встречались на улице редкие прохожие и, мелькнув, оставались позади.
А перед выездом посреди улицы таращились двое пьяных. Узнав коня коренного и кучера, они заорали:
— Васька, стой! Погоди! Остановись!
Спьяна они бросились прямо на коней. Это были сынки Чулковы. Ипат, ударившись в грудь коню, отлетел и растянулся в дорожной пыли, а Назарка подсунулся к ходку и закричал:
— Человека задавишь, черт!
Василий придержал коней и тоже закричал:
— Нажрались, как свиньи, и лезут под ноги коню! Передавить вас и стоит!
— Дай закурить, Вася, — осклабился Назарка, едва держась на ногах.
— Вот, нате вам табаку и бумаги, — сказал Григорий, отсыпая из кисета на газетку табак, — и катитесь своей дорогой. Некогда нам, больного человека везем.
— А мы искали вот эту вот ласточку, — Назарка вытянул из кармана и показал такую же фотографию, какая у Григория, — да… вот и доискались.
Ипат уже поднялся и двинулся к ходку. Василий оттолкнул ногой Назарку и тронул коней. Нюра стонала и охала. Григорий обнял ее за плечи прижимая к себе.
— А вы кого везете? — прокричал вслед Ипат и сунулся в карман за револьвером, но выходило это у него нескоро, так что выстрел прогремел далеко сзади.
— Ну и шалавы распутные! — плевался Григорий.
— Шалавы-то, шалавы, а чего они тут отираются? И карточка у их есть. С милицией, что ль, связаны?
— Может, и связаны, — согласился Григорий. — Откуда ж берут они разные новости? Весь хутор позавчера с ума свели. Всех в город зовут и сказывают, будто бы новая власть Первого мая весь народ водкой бесплатно угощать собирается.
— Не потому ли ты прикатил? — засмеялся Василий. — Эт сколь же водки-то понадобится на весь мир? И кто платить станет?
— Для чего я прикатил, ты хорошо знаешь, а вот мужики хуторские собираются на готовенькое.
Этого разговора хватило им на половину пути, к тому же загустела темнота, и дорога совсем обезлюдела. Но с новостью этой Василий так и не согласился, поскольку не утаил бы ее Виктор Иванович. А он ничего такого не сказал. И приглашал не на бесплатную выпивку, а на митинг.
До станции доехали они спокойно и поезда ждали недолго. И, прощаясь, Григорий с тяжелым вздохом спросил:
— Может, напишешь, Нюра, как там, в Самаре-то, оглядишься? На хутор Лебедевский Григорию Леонтьеву Шлыкову, прямо в руки.
— Напишу, — посулилась Нюра, беря свой узелок. — Кате напишу непременно, только не сразу… Да еще добраться туда надо… Спасибо вам, добрые люди!
14
Не выспались в ту ночь ребята, потому как домой вернулись перед рассветом. На митинг звали с собой Катю, но не пошла она.
— Дайте хоть опомниться от всего. И вам бы лучше не ходить туда, а поехать бы всем в хутор. Соскучилась я обо всех! Ну, да уж коли Виктор Иванович приглашал, идите.
Народу на площади было множество, едва ли не больше, чем на памятном окопном митинге. Ораторы уже выступали, но слышно их было плохо. К тому же хотелось Виктора Ивановича встретить и доложить о поездке, да и в путаных речах ораторов помог бы он разобраться.
Но прежде чем они разыскали Данина, опять же на Чулковых сынков нарвались. Правда, те почему-то не остановились и разговаривать не захотели. Шныряя по толпе, братья задерживались то возле одного, то возле другого, что-то говорили и двигались дальше.
— Чего-то они тут изобретают опять, — насторожился Василий. Виктора Ивановича встретили с северной стороны толпы. Едва заметный ветерок доносил сюда слова выступающих.
— …Мы еще не успели укрепиться, жизнь не вернулась в нормальное мирное русло, мы не успели показать настоящей свободы и демократии, а большевики снова толкают народ в пропасть раздора…
— Хаим Сосновский выступает, издатель газеты, кадет, волк его задави, — говорил Виктор Иванович, слушая одним ухом оратора, а другим Василия, а взглядом впился куда-то в край толпы. — А вон, вон поглядите-ка, ребята! Вон тот господин в шляпе. Это ведь жандармский полковник Кучин так приоделся… И неспроста он тут прогуливается… И Мастаковы сыновья были в Солодянке — тоже не зря… Надо бы Федичу сказать… Вы здесь побудьте, а я попробую, пробраться туда, к центру.
— …Вы триста лет укрепляли свои позиции, — говорил уже кто-то другой, — вместе с царем укрепляли и теперь пытаетесь крепить их в том же духе. Здесь говорилось и о том, что-де не следует бояться дворян, не следует их оптом отталкивать от себя, потому что именно они первыми восстали против царя и вышли на Сенатскую площадь. Верно. Вышли. Но ничего не добились и пострадали. Это не революция, когда кучка патриотов выходит на Сенатскую площадь и требует свободы простому народу. Революция — это, когда идеи ее поселяются глубоко в душе каждого обиженного самодержавием, когда эти идеи становятся достоянием всех простых людей, даже в самых глухих местах! Идеи большевиков близки и понятны простому народу. Мы требуем национализации всех земель. Пусть землей владеют те, кто на ней работает! Мы требуем немедленно положить конец этой разбойничьей, грабительской войне, ибо напрасно льется кровь и никакого победного конца в ней не будет. Только передача всей власти Совету крестьянских, казачьих и мусульманских депутатов даст возможность решить эти вопросы в интересах народа. Да здравствует власть Советов!
Послышались аплодисменты, крики «ура». На трибуне появился новый оратор. Виднелась только его открытая лысая голова. Не успел он произнести и нескольких слов, как со стороны горсада загудел тревожный набат с церковной колокольни. Народ на площади, задвигался, заходил волнами. В одном конце кричали: «Винные склады горят!» В другом: «Винные склады грабят!»
Толпы, людей бросились на тревожный зов набата. Но казачьи сотни, бывшие на митинге в полном вооружении и на конях, обогнали пеших и унеслись вперед. Митинг прекратился. Уносимые толпой в сторону набата бежали и Василий с Григорием. В этом скопище людей, в поднятой тысячами ног пыли солнце казалось затуманенным, было жарко и нечем дышать.
Постепенно толпа редела, так как многие сворачивали в переулки или возвращались назад почему-то. Все чаще и чаще встречались группы до безобразия пьяных людей. Куда-то и зачем-то шли они. Некоторые пытались бежать. И только за два квартала до горсада увидели они весь ужас случившегося.
У винного магазина и склада купца Поклевского бродили брошенные казаками кони, толклись лохматые, в изорванных рубахах, обезображенные мужики, звенели разбитые стекла. Люди пили из четвертей, из бутылок. Иные, как лошади, совали головы в разбитые днища бочек и напивались наповал сразу. Тут же валились на разбитое стекло, в лужи вина и водки.
Подошли организованные колонны с митинга, с флагами. У ворот, у окон и стен склада быстро поставили охрану из безоружных людей. Рабочие на руках подняли Сыромолотова, и его гневный могучий голос на миг остановил мародеров:
— Граждане! — взывал он. — Опомнитесь! Прекратите этот грабеж! Вы творите беззаконие! Вас подбили на это страшное дело черносотенные бандиты! Опомнитесь! Остановитесь и разойдитесь по домам! Никакая власть не должна допускать такого разгула. Я призываю вас разойтись!
Но и могучий Федич скоро сорвал голос. После его речи на какое-то время все притихло. Может, минут на десять. Первыми опомнились казаки. Схватив наполненные четверти, они вскочили на коней и бросились в ворота. Добровольные охранники успели камнями разбить у некоторых бутыли. А озверевшая пьяная толпа снова кинулась к воротам, смяла безоружную охрану.
Некоторые из охранников-добровольцев, что стояли у окон и вдоль стен, бросили флаги и устремились туда же, в двери. Сюда бежали, как на пожар, городские жители — мужчины и женщины — с жбанами, крынками, горшками, банками, чайниками и даже с большими бутылями в корзиночной оплетке. В дверях стоял неумолчный стон, давили там друг друга.
— Дак вот как бесплатно-то угощают, Гриша, — сказал Василий, указывая на дикую свалку в дверях. Они стояли внутри двора у забора, никому не мешая.
По двору и за оградой носились молодые и не очень молодые мужчины и подбивали нерешительных, стоящих вокруг зевак.
— Это николаевское наследство! Берите, граждане!
— Берите, граждане, даром! Это наше достояние!
— Все равно склад надо уничтожать, берите, граждане, своими руками!
Крикуны сами в склад не лезли, а шныряли между наблюдателями, возбуждая в них алчность.
— Гляди, гляди, Вася! — закричал Григорий, указывая к дверям. — Вон наш Демид Бондарь посудину волокет!
— Вот тебе и Тютя! Он ведь и не пьяный, кажись, — удивился Василий.
Нет, Демид Бондарь был трезвехонек. Вместе с каким-то незнакомым мужиком они выбрались из дверей с громадной бутылью, ведра на три, в корзинной оплетке и с ручками.
В ворота вошел кум Гаврюха — грязный, в разорванной на плече рубахе — и направился к дверям.
— Дядь Гаврил, погоди! — крикнул Григорий.
— Чего годить, лети-мать! — качаясь, притормозил Гаврюха. — Его там хоть и море цельное, а все равно ведь выпьют! А вы-то чего же стоите, слюни распустили? Ждете, когда поднесут вам?
— Да мы уж выпили, — засмеялся Василий, — и тебе бы хватит.
— Ничего не хватит, лети-мать! Отца-то свого видал, Гришка?
— А где он?
— Да вместе мы внутрях тама были, небось и теперь, у бочки сидит.
Ребята значительно переглянулись, а кум Гаврюха двинул своим путем. Из дверей свалки навстречу ему выскочила растрепанная молодая баба с крынкой в руках. Гаврюха кинулся к ней, пытаясь вырвать у нее посудину, из которой плескалась вожделенная жидкость. Баба удержала крынку, но, поскольку Гаврюха охватил бабу своими трехаршинными граблями и приподнял, задрав сзади юбку, она выплеснула из крынки содержимое в его длинную, лошадиную морду, разбила крынкой висок и, почувствовав ослабление, вырвалась, да еще успела обругать, потом убежала.
— Слышь, Вася, а ведь придется туда заглянуть. Погибнет отец, ежели там он.
— Придется, — согласился Василий, — во имя спасения раба божия Леонтия. Слабинка-то у его к этому добру великая, а силенок маловато.
Гаврюха тем временем пытался проникнуть в склад. Но, поскольку его здорово раскачивало, а люди возле дверей клубились, как пчелы возле летка в погожий день, то ничего у него не получалось. Отошел к окну, выломил кусок рамы и снова двинулся на прорыв. Не успел Григорий, подбежав сзади, выхватить палку, а Гаврюха лупанул ею какого-то мужика. Тот устоял. Палку-то вырвал да и хряпнул по голове налетчику — свалился Гаврюха.
Оттащили его ребята в сторону. А в проходе лежала какая-то баба с завернутым на голове подолом. Наискосок через нее — бесчувственный мужик. И тут еще двое валялись. Кто перешагивал, а кто прямо на них и ступал. Пришлось расчистить проход. Под ногами не то вино красное, не то кровь, стекло хрустит.
— Пособите кто-нибудь! — кричал Василий. — Что же вы совсем, что ль, обезумели?!
Но его никто не слышал.
Внутри было еще страшнее. Там пили по-всякому, пытались наливать в свои посудины. Рекой лилось белое и красное под ноги. Стеклянные четверти к тому времени, видать, растащили, побили и выпили. Теперь, как шмели, жужжали и кружились возле бочек. Из дальнего угла резко шибануло в нос денатуратом. Всюду в закоулках валялись люди. Живые они или погибли — никому до того дела нет.
Леонтия нашли они под пустой бочкой. На спине он лежал. А неподалеку возился, как жук в назьме, Филипп Мослов. Он скребся руками, пытаясь выбраться из винной лужи и то и дело тыкался в нее носом.
Пока вытащили их на полянку да склали рядком с Гаврюхой, и сами стали похожими на некрасивую эту публику — измазались, промокли. Василий, хватившись, отстегнул свои награды и сунул в карман, чтоб не позориться.
— Ну, брат, такого и на фронте повидать не доводилось! — сказал он, рукавом вытирая со лба пот. — Давай, Гриша, лети за подводой, покараулю я их, да хоть обсохнут чуток после купания.
— А если б на фронте напоить людей до такой точки, чего б там было? — ужаснулся Григорий. — Давай, Вася, закурим сперва. Мутит со всего этого.
15
Солнце давно перевалило полуденную точку и падало к закату, но было еще жарко. К тому же в воздухе висело омерзительное марево смешанных испарений пролитого вина, водки, спирта.
В этом же квартале переулка Васильевского стоял универсальный магазин купца Валеева. В нем тоже разбили окна, и черносотенные агитаторы, неутомимо продолжавшие свое дело, звали туда обезумевших людей, но, кажется, никто не пошел.
На винных складах государственной монополии, расположенных между Малоказарменским и Пироговским переулками, творилось то же самое, только с большим размахом. На винных складах купцов Зарубина и Лебедева — тоже грабили. И в городе не было силы, способной утихомирить этот вселенский разгул.
Единственно, кто мог бы спасти положение, это солдат с ружьем. А его не было. Многие солдаты 131-го полка, принимавшие участие в митинге, тоже успели причаститься этой отравой. Командиры во главе трезвых нарядов вылавливали по городу однополчан. Во многих местах между пьяными солдатами и пьяными же казаками произошли вооруженные столкновения.
Чтобы не допустить еще больших несчастий, казачьи сотни пришлось отвести к ночи в загородный летний лагерь. А собранных солдат держали в казармах.
Федич и его боевые товарищи метались в поисках выхода, но ничего предпринять не могли. Вечером пришлось по телефону просить помощи из Челябинска. Всю ночь в городе властвовала разбушевавшаяся анархия, подогреваемая черносотенцами. Монопольные склады — умышленно или случайно — были подожжены. Спирт в бочках моментально вспыхнул.
Снова гремел колокольный набат. Сюда примчались пожарные части, но укротить огонь они не смогли, а лишь успели спустить остатки спирта по водосточной канаве в речку. Пламя охватило все здание, однако и оно не остановило грабежа. Осатаневшие мародеры слетались на огонь, как ночные бабочки. Не щадя себя, они умудрялись доставать водку и тащили ее в чем попало.
Лишь на следующее утро, когда из Челябинска прибыла рота революционных солдат, им с местными дружинниками удалось организовать крепкое оцепление «горячих точек». Разгул сразу пошел на убыль, и уже к середине дня в городе установилось какое-то подобие законности. Кое-кого из черносотенцев арестовали, остатки спиртоводочных запасов пришлось уничтожить.
Только на третьи сутки все окончательно улеглось, успокоилось. Будто зверски хулиганствовавший великан устал, наконец, и забылся в тяжелом похмельном сне.
* * *
— Да что ж эт за наказание такое, господи! — слезно причитала Катерина, встречая подводу с пострадавшими. — Как с войны, возами упокойников везут!
— А там и есть война, да еще поганая! — сердито отозвался Григорий. — Отворяй вороты!
— Аль живы они еще? — суетилась потом во дворе Катя.
— Кум Гаврюха поскрипывает вроде. И то хорошо, что какой-то мужик успокоил его палкой, — невесело пояснил Василий. — А эти совсем плохи… Чем-то бы надо им пособить… А чем?
— Господи, Вася! Да ведь ноничка вечером дома нас ждут!
— Ждут, — горько подтвердил Василий, — а их не бросишь. Да и мы с Гришей, как из помойки вынутые, в самый раз за свадебный стол садиться.
В эту ночь ребятам снова не удалось поспать. Не спали и женщины. Презрев свои старческие немощи, Ефимья до полуночи бегала по знакомым и незнакомым домам, добывая молока. А поскольку молоком отпаивали многих, то найти его было непросто. Выпрашивала Христа ради. Боясь разгула, обыватели еще днем затворились на все запоры, и достучаться до них не всюду удавалось.
Катерина с яростью отстирывала солдатские гимнастерки и брюки, сушила их, гладила. И все это успевалось между делом, потому как возле пьяных мужиков хватило работы всем. Рану Гаврюхе промыли, перевязали, напоили его молоком и спать уложили во дворе на старых досках. Филипп оказался покрепче и молча сносил муки.
Всю шлыковскую телегу изгадили они. А Леонтий трудно приходил в себя — корчило его, косоротило, гнуло. Сначала и молока проглотить не мог. Тоже, видать, как и Филипп, хватил он денатурата. Потом, как начал приходить в чувство, кричал блаженно:
— Ма-анюшка, да чего ж я с собой наделал!.. Помру ведь я… Ой, помру окончательно!.. Была бы ты тута, дак хоть набила бы мине… все бы полекше стало…
За полночь опять грохнул набатный трезвон, возвещая о пожаре складов. Вскоре со стороны Уя и Пироговского переулка поднялось зловещее зарево. Даже у Ефимьи во дворе светлее стало. Приглушенные расстоянием, доносились оттуда дикие вопли. Казалось, конца не будет этим страшным суткам, кои для немалого числа людей оказались последними.
Перед утром, уже на заре, полегчало и Леонтию: уснул он тихим сном праведника. Выбившись из последних сил, повалились и спасатели кто где. Часов до двенадцати проспали все мертвецки. Потом стали в дорогу собираться. Выехали в самую жару, в третьем часу пополудни. Пьяных рядком склали на телегу к Григорию, постелив им остатки сенца.
Поставила им в телегу Ефимья жбан квасу, потому как пьяные в еде не нуждаются, а пить постоянно попрашивают — горят у них все внутренности, и огонь тот заливать приходится.
Простилась Катя с Ефимьей, навещать ее посулилась, подсела в ходок рядом с Василием. И поехали они передом, за ними — Григорий с пьяным хозяйством. А Ефимья — сморщенная, усохшая и сильно постаревшая за последний год — одинокой тростинкой осталась на улице против своих ворот и, роняя скупую слезу, глядела вслед удалявшимся подводам, пока они скрылись.
Катя тоже со слезой несколько раз оборачивалась, махала косынкой «баушке», той самой бледно-малиновой косынкой, в какой уходила за город, а Василий разыскал ее, как с действительной службы вернулся. Почти три года с той поры миновало. И каких три года! Вернувшись мыслями к прошлому, Катя вдруг усомнилась в том, что едет она рядом с любимым, открыто, ни от кого не прячется. И не куда-нибудь едет — домой! И не кто-нибудь она, не женщина без определенного положения, как полынь горькая, придорожная, на какую и плюнуть всякий может, и колесом наехать, а мужняя жена!
Можно ли в это поверить? А вдруг да случится что-то в дороге! Ведь столько раз казалось, что могут они соединиться — и муки останутся позади. Но вот даже на собственный свадебный обед не сумели попасть вовремя. Как пуганая ворона, боялась каждого куста.
— Понужни Ветерка-то, Вася, — попросила она и смутилась.
— Да ведь не поспеют они за нами.
— Целовать хочу тебя, никакого терпенья нету, а они сзади тащатся!
Василий улыбнулся и чуть-чуть шевельнул вожжой. Конь сразу пошел размашистой рысью, и разрыв между подводами начал заметно увеличиваться. Под ремнями шлеи на крупе коня пролегли темные полосы.
На пахоте и на стерне в степи по-хозяйски, вразвалку, прохаживались грачи, сверкая на солнце вороным, блестящим пером. В придорожных колках сороки да вороны хлопотали, пичуги разные насвистывали. А высоко в небе, едва слышимый, заливался жаворонок. Пахло весенней землей и свежими, только что проклюнувшимися березовыми листиками.
Далеко у горизонта, на востоке, появились белые барашки облаков. Они росли, приближались, и за ними показалась черная туча.
Наслаждаясь земным покоем после минувшего городского ада, Василий молчал, испытывая какое-то двоякое чувство. С одной стороны, все в нем торжествовало вроде бы, поскольку сбылось то, к чему так долго стремился, но тут же примешивалось что-то обидное, поруганное, изувеченное в их с Катей судьбе. Чувство это рождало едва уловимую горечь и мешало радоваться.
От спутников своих оторвались они версты на три, потому Василий снова стал сдерживать коня. Вдруг впереди на дороге показался бешено скачущий навстречу всадник. Пригляделись к нему, и, когда он приблизился саженей на двести, Василий признал его:
— Да ведь эт Карашка наш, а на ем Степка, должно быть.
— Ой, Вася! Неужели опять чегой-то стряслось? — испугавшись, ухватилась за него Катерина.
Лихо подскакал Степка, но, увидев невесту, смутился и осекся враз.
— Здравствуйте! — не очень уверенно сказал он, осаживая коня и пристраиваясь в ряд к ходку. А меня уж в город послали узнать, отчего вчерась не приехали.
— Ну, теперь уж дома все обскажем, — не стал объяснять Василий. — Скачи домой, и мы следом подкатим… Да Карашку-то не загони!
Через минуту Степка исчез за колком. Василий снова стал сдерживать коня, надеясь, что Григорий догонит. Но, сколько ни оглядывались, не показалась его подвода. Солнце припекало вовсю, а на них вроде бы с чистого неба стали падать редкие капли дождя. Потом принакрыло краем облака солнце, и дождь зачастил по-настоящему.
Достав из передка шинель, Василий расстегнул на ней хлястик и вместе с Катею накрылся ею.
— Ну вот и целуйся сколь хошь, никто не увидит, — засмеялся он и, взглянув на мокрые, седые Катины волосы, проникся к ней неудержимой нежностью. Зажав коленями вожжи, он прижал к себе Катю и стал целовать ее так горячо, как никогда, кажется, не целовал. Она задыхалась от счастья в его объятиях, не чувствуя холодных капель дождя, падавших на колени.
Прямо перед ними располосовала небо ослепившая глаза молния, так что конь было шарахнулся в сторону. И тут же раскатисто загрохотал первый в эту весну гром.
— Да поехали скорейши, Вася! — взмолилась Катерина, закрывая колени полою шинели. — Не маленькие они и теперь уж протрезвились — без нас доберутся.
Василий дал коню полную волю. До хутора оставалось не более пяти верст.




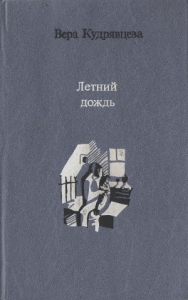
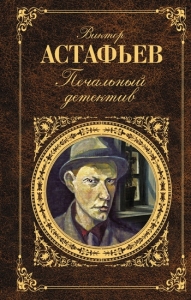
Комментарии к книге «Тихий гром. Книга третья», Пётр Михайлович Смычагин
Всего 0 комментариев