Акрам Айлисли Повести и рассказы
Талант добрый и светлый
Литература наша — азербайджанская, советская — создавалась совокупным трудом многих прекрасных писателей. И заслуги их в отдельности несомненны. Они рассказали нам об истории рождения и строительства новой жизни. Они воспели интернациональную дружбу народов в годы революции и гражданской войны, защиты Родины от фашистского нашествия и мирного труда на заводах и фабриках, на колхозных полях и нефтяных промыслах.
Жизнь — это вечное движение. Годы уходят в прошлое, становятся страницами истории, «ожидаемое будущее» превращается в «сегодняшний день», принося новые поколения поэтов, прозаиков, драматургов — с новыми темами, образами, жанрами, ритмами.
К поколению писателей, вступивших в литературу с конца 50-х годов, утвердившихся в 60-е годы и продолжающих свой активный творческий путь сегодня, принадлежит и Акрам Айлисли.
Родившийся и выросший в деревне, Акрам Айлисли возвращается к ней как художник, стремится понять и осмыслить нравственно-психологический мир людей этой деревни, выразить в картинах и образах этические, философские, эстетические отношения «сельского человека» к действительности — к жизни и смерти, к труду как образу жизни, к обществу как целой системе «неписаных», веками сложившихся народных норм социального поведения, к природе, на лоне которой они живут.
Бузбулак — «Студеный родник» — так зовется это место. Все ведет к нему. Все отсюда отправляются в большой мир. Все возвращаются сюда же. «Потому что куда бы ни отправлялся человек, в Бузбулаке хоть какой ни на есть след он оставит непременно: род-племя его останется, деревья его останутся, дом ли, развалившиеся его стены останутся. Не было случая, чтобы кто-нибудь из бузбулакцев, переезжая куда-то, продал свой дом, свой двор. Это было бы неприлично. Это все равно, что навсегда потерять человеческий облик свой…»
Да, Бузбулак — это не только тот студеный родник, источник живой воды в деревне, это не только деревня. В художественном мире писателя Бузбулак приобретает особое социально-нравственное содержание, становится поэтическим символом родной земли. Бузбулак — колыбель Садыка, сына Наджафа, отдавшего свою жизнь в войну за этот Бузбулак, за сана своего Садыка, за всех бузбулакцев. В этом Бузбулаке Рустам-киши устраивает свадьбу дочери, и на этой свадьбе играет тарист Вели («Тарист»). Здесь умирает Зияд-киши от тоски по своему инжировому дереву, погубленному «собственной своей рукой» («Осень без инжира»). Здесь Мардан сочиняет «эпиграмму» на Биляндар-оглы, за что тот мстит Мардану, отравив его любимую собаку («Майский день»). Отсюда родом Аждар, прячущийся от наказания за «три тысячи», спасшие отца его возлюбленной, но превратившие его самого в затравленного беглеца («Сердце — это такая штука…»). Отсюда едет в город и сюда возвращается Самур, с блеском окончивший школу, но бросивший институт, в который так легко поступил, потому что не понравился Самуру город («Никудышный»).
Многие горожане оказываются выходцами из Бузбулака: Джанали-муаллим — честный, неподкупный преподаватель института («Сезон цветастых платьев»), Мирза Манаф, который «уехал из Бузбулака без малого сорок лет назад и, если не считать того комариного лета, всего один раз побывал в родной деревне» («Сказка о хрустальной пепельнице»). И даже профессор Джамшидов, который каждое жаркое лето проводит в тени бузбулакских деревьев, но так высокомерно и брезгливо относится к самим бузбулакцам («Сияние шести солнц»), И «знаменитый» писатель Салим Сахиб — тоже ведь отсюда родом, хотя, по его невольному признанию, вот уже сорок лет не смотрит в зеркало, чтобы не увидеть там бузбулакца («Деревья без тени»).
Да, разные люди — эти бузбулакцы.
«А у родника все по-прежнему.
— Мухтарова-то Камала в Москве видели. Крепко, говорят, руки нагрел. Четвертных в кармане целая пачка! Это еще что, говорит, в кассу сколько положено!..
— А про Якубова Рахиба в американской газете написано: книгу какую-то сочинил про атом…
— А Гафара Казимова прогнали. Деньги со студентов брал. Опозорил деревню, чтоб ему шею свернуть!..
— Слыхали, как Салман Хасанджанов исхитрился? И сам человеком стал, и братьев к себе перетащил. В Сумгаите теперь живут, как сыр в масле катаются!..
А родник все журчит…»
Это — из «Сказки о серебряных щипчиках».
Да, разные люди живут в Бузбулаке, разными бывают бузбулакцы и за бузбулакскими пределами.
Но Бузбулак — один, единственный. Это самое лучшее, самое красивое, самое дорогое место на всем белом свете. Потому что Бузбулак — это ведь родина, родная земля, а Акрам Айлисли — ее певец, ее ашыг. Герой рассказа «Сезон цветастых платьев» Джанали-муаллим иногда «ловил себя на мысль, что Бузбулак действительно прекрасен, что только там и жить человеку… Бузбулак… был прекрасен еще и тем, что он просторен, очень просторен, нет ему ни конца, ни края. И древний он. И хлеб в нем пекут самый вкусный, и вода там самая чистая!»
Какими бы ни были люди деревни в глазах горожанина или «бывшего» бузбулакца, для героев Айлисли, близких ему по мироощущению, деревня остается олицетворением народной мудрости, народных норм и представлений о добре и зле, нравственности и безнравственности, человечности и душевной черствости.
Идея эта проходит через все произведения писателя, но заостренно она выражена в повести «Сияние шести солнц», устами Теймура, сына сельского учителя. Окончив вуз, оставшись в городе, Теймур посвящает себя науке. Но он не из тех, кто спешит забыть свое «деревенское прошлое». Теймур и диссертацию пишет, желая осмыслить представления своих односельчан в «нравственных ценностях». И в переживаниях, беспокойных размышлениях его слышится, конечно, тревожный голос самого Акрама из села Айлис. На иронический вопрос одного знакомого — «А много ли в сегодняшнем Бузбулаке осталось тех мужчин, о которых ты говоришь?» — Теймур отвечает: «Вот я и хочу, чтобы и после этих настоящих мужчин в Бузбулаке остались их наследники, чтобы продолжалось их поколение…»
Герои Акрама Айлисли (любимые герои), в общем, действительно, не очень жалуют город. Людям деревни как-то неуютно в городе. Городская сутолока гнетет их. Попав в город, они тоскуют по деревне. Конечно, и, в деревне есть свои проблемы. И все же Бузбулак есть Бузбулак. Когда герой «Деревьев без тени» вспоминает деревню, вся душа его наполняется белым-белым светом. Тем светом, который распространяется от белых-белых цветков вишневого дерева, которое растет у окна его дома.
А как любят свои деревья бузбулакцы! Бабушка Садыка («Люди и деревья») считает святотатцем того, кто поднимает руку на старое тутовое дерево, потому что старость нельзя оскорблять! А для юного Садыка айвовое дерево в цвету оборачивается красивой молодой женщиной. «В одно весеннее утро айва расцвела, и в это же весеннее утро учительница Лейла пришла в школу в белом-пребелом платке. И когда, вернувшись из школы, я взглянул на айву, перекинувшую через стену слепящие белизной ветки, я сразу понял, что она — девушка, и как я этого раньше не понимал!»
Вот почему и название повести «Деревья без тени» приобретает иной, глубинный смысл. Это и «люди без теней», люди завистливые, кичливые, жадные, радующиеся только чужому горю, готовые ради карьеры отказаться от всего, что в народном представлении свято, дорого, чисто — от дружбы, верности, любви, чести, достоинства. «В тот вечер, там, на бульваре, — вспоминает герой повести, — мною была создана новая философия — философия „людей без тени“. И в этом списке людей без тени были пока Гияс, Фаик-муаллим, и еще, что скрывать — мой знаменитый земляк Салим Сахиб. Потом этот список стал расширяться, люда, вошедшие в него, не забывались мною, хотя постепенно стал путать их порядковые номера. Людей, лишенных теней, вначале я как-то жалел. Потом, правду сказать, стал немножко остерегаться…».
Да, не все однозначно, однотонно в художественном мире Акрама Айлисли. Он, этот мир, сложен. Где-то краски художника импрессионистичны: прозаик — он лиричен сквозь юмор, сквозь иронию, даже сквозь сарказм, когда он прямо-таки преследует ненавистных ему неискренностью, двуличием, душевной окаменелостью людей.
Подробен Акрам Айлисли. Но не как бытописатель, а как эпический певец, влюбленный в каждый описываемый предмет. И нет у него ни традиционной восточной экзотики, ни традиционного восточного дидактизма, ни заигрывания в «народность». Стиль его настолько оригинален, своеобразен во внутренней ритмике фраз, варьировании мотивов и образов, что я бы ввел в литературоведческий обиход понятие «акрамовский стиль».
Талант Акрама Айлисли — добрый и светлый, простой и честный, как люди и деревья, горы и солнце Бузбулака. «Повести и рассказы» — его приглашение читателям в тот мир — мир людей и деревьев, гор и солнца Бузбулака.
Ариф Гаджиев
Повести
Деревья без тени
Посвящаю моему сыну Наджафу, названному так в честь отца, которого меня лишила война.
Глава первая
«Приемыши» Тахира-муаллима
Пожалуй, больше всего новость эта подействовала на Элаббаса. Громоздкий, двухметрового роста парень, он весь сразу как-то съежился, сжался; даже ступни его босых ног, торчавшие меж прутьев кровати, не казались сейчас такими огромными. Очень бледный, он недвижно лежал на спине, заложив руки за голову и уставившись глазами в потолок…
Гияс стоял у окна спиной к нам и курил, жадно затягиваясь; его длинная смуглая шея с двумя синеватыми жилами казалась беззащитной и жалкой.
Мазахир сидел на кровати, положив локоть на железную спинку и охватив лоб ладонью. Мазахир явно рисовался — он любил это занятие — и в своей картинной позе был сейчас по меньшей мере нелеп.
Кроме нас четверых, в комнате был еще Исмаил. Это он принес ошеломительную весть; встав раньше всех, он, как обычно, отправился на базар — обойти земляков, и вот… Газета, сообщавшая о смерти декана факультета Тахира-муаллима, лежит на столе: портрет в черной рамке и некролог. Неужели прошло всего лишь десять минут, как Исмаил принес эту газету?…
Немыслимо было представить себе, что Тахира-муаллима нет. Что означает для нас потеря своего наставника, мы до конца поймем позже, но уже сейчас сразу многое становилось нелепым. В разгар лета, в чудовищную бакинскую жару, пять человек сидят в этой огромной комнате, зря убивая время… Еще совсем рано, пожалуй, нет восьми, а все вокруг — каменные дома, деревья, воздух, — пропитано запахом гари и мазутной вонью раскаленного асфальта. Кончался июль. Студенты давно разъехались, в общежитии были только мы пятеро да еще Вильма. Вильма осталась наверху в своей прежней комнате, нас же по случаю ремонта комендант оперативно переместил в красный уголок. Кроме огромного стола, повидавшего на своем веку великое множество заседаний, а сейчас служившего нам для трапезы, пяти наших тумбочек и пяти кроватей, здесь свалено было бесчисленное множество другого имущества: старые холодильники, телевизоры, тюфяки, одеяла, какие-то доски…
В общем-то мы не жаловались. Впятером в одной огромной комнате нам даже казалось интересней. Вместе питались, вместе развлекались. Иногда мы ходили в кино, обычно к нам присоединялась Вильма. По национальности она была немкой, имя ее было Вильма, но она переделала его на азербайджанский лад — Валида.
Из всех нас один Исмаил имел виды на Вильму. Просто сказать, был от нее без ума. Из-за Вильмы он выкидывал такие фокусы, что можно было подумать: спятил. Его сдерживал лишь страх перед Элаббасом; Элаббас предупредил заранее: «Если кто положит на нее глаз, морду набью!» Вот бедному Исмаилу и приходилось играть роль, не соответствующую ни внешним, ни внутренним его данным, — роль трагического героя.
Мы с Элаббасом с первого курса жили в одной комнате, и я точно знал, что сам он на Вильму видов не имеет. Просто оба они выросли в детдоме, и Элаббас считал своим долгом опекать девушку. То обстоятельство, что сама Вильма давно уже любит Элаббаса, Исмаил то ли не знал, то ли знать не хотел. Ведь Элаббас был лет на десять старше нас — старик! Получив от девушки очередной отказ, Исмаил несколько дней расхаживал с трагическим видом…
Хотя настоящих сирот среди нас лишь двое: Элаббас и Вильма — у нас с Мазахиром только отцы погибли, а у Гияса с Исмаилом родители были живы-здоровы, — всех нас шестерых на факультете звали «приемышами» Тахира-муаллима. С первого курса Тахир-муаллим выделил нас из сотен студентов и все пять лет не выпускал из виду. Тахир-муаллим считал, что из каждого выпуска филфака в Баку непременно должны остаться человек пять «деревенских» — «для очищения свежей струей застоявшегося болота филологии». Он намеревался устроить нас в Баку. Было уже примерно известно: Вильма и Гияс пойдут почасовиками, она — на русское, он — на азербайджанское отделение, меня и Элаббаса Тахир-муаллим прочил в аспирантуру, Мазахир, взяв тему, должен был остаться лаборантом при кафедре, Исмаила предполагалось устроить в редакцию.
Все это Тахир-муаллим должен был вот-вот решить с ректором, но ректора срочно вызвали на какое-то совещание, а Тахир-муаллим уехал на двенадцать дней в Шушу. «Передохну малость и вернусь. Значит, не трепыхаться, сидеть, ждать. Все будет в порядке». Он сказал это нам на вокзале, уже садясь в поезд. Всю эту неделю мы не заходили в университет. В некрологе было сказано, что Тахир-муаллим умер три дня назад…
Элаббас все еще пребывал в прострации. Лишь в глубине его глаз можно было приметить движение: они то прояснялись, то снова их застилал мрак. Гияс неотрывно смотрел в окно. Исмаил копошился в углу, складывая в чемодан свои вещи. Поднялся, взял чемодан и торжественно направился к двери…
— Прощайте! — произнес он вполголоса. — Домой поеду. Чего здесь торчать? Баку без Тахира-муаллима — не Баку! А деревни бояться нечего. Напишу вам из дома…
Мы не тронулись с места. Гияс все так же стоял у окна. Мы с Мазахиром переглянулись: трудно было представить себе, что Исмаил вот так вдруг решил взять и уехать.
Исмаил помахал нам и вышел…
— Что ж теперь будет?
Кажется, Гияс спросил самого себя, таким голосом человек говорит только сам с собой. Или во сне. Гияс иногда говорил по ночам, и у него был точно такой голос. Но Мазахир, видно, только и ждал, чтоб кто-нибудь заговорил, пусть во сне, пусть из гроба, — любитель поболтать, он уже изнемогал от молчания.
— Уж если такое случилось, что может быть хуже? — Мазахир встал и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате. — Умер Тахир-муаллим. Кто нас теперь будет устраивать на работу? А?
Гияс наконец отошел от окна и медленно опустился на койку: он был, как во сне.
— Что же теперь будет? — повторил он.
Элаббас встал.
— Все будет нормально! — сказал он.
— Ничего не будет нормального! — раздраженно бросил Мазахир.
— Да что ж вы, черт вас подери?! — Элаббас вдруг грохнул кулаком по столу; пятисотграммовая стеклянная банка, полная окурков, подпрыгнула. — Такой человек умер, а они об одном — вдруг их дело не выгорит!..
— Ну, ты даешь… — пробормотал Мазахир.
— Отцу писать надо, — сказал Гияс, думая о своем.
Нет, с ним что-то случилось. Где наш Гияс, самоуверенный, пижонистый, с гордым видом проходивший мимо девушек, смело вступавший в спор с преподавателями и засовывавший дешевые сигареты в нарядную пачку из-под импортных сигарет? Такого, как сейчас, я видел его лишь однажды — когда он бредил. И еще — прошу извинить — к его теперешнему состоянию совсем не шли эти ярко-красные трусики.
И конечно, Элаббас набросился на него:
— Вы только гляньте! Опять нацепил! Сколько раз я тебе говорил: не смей расхаживать в своих красных трусах! — У Элаббаса было такое зверское лицо, что Мазахир, не выдержав, прыснул. И тут же, зажав рот ладонью, притворился, что вовсе он не смеется, наоборот…
Элаббас взглянул на него, отвернулся… Подошел ко мне, положил руку на плечо.
— Черт с ними, Гелендар! — Он вздохнул. — А ты молодец. Понимаешь, не в нас дело-то. Тахир-муаллим умер! Тахир-муаллим!!! А эти!
— Будь у меня такой земляк, я бы тоже сохранял спокойствие. — Гияс криво усмехнулся. Он имел в виду известного писателя Салима Сахиба, который действительно приходился мне земляком.
— К знаменитости ты первый заявился домой! Потом он! — Я показал на Мазахира. — А я там пока что не был…
Этой весной писатель Салим Сахиб проводил у нас на факультете встречу со студентами; после встречи Гияс и Мазахир выпросили у него адрес, а потом порознь ходили к нему, носили свои произведения: Мазахир — стихи, Гияс — рассказы.
— А он вам по дудке в руки — и дудите!.. — Элаббас усмехнулся.
— Конечно! Мы же не земляки! Гелендару он дудку не сунет!
— А вот я не уверен, станет ли Салим Сахиб помогать Гелендару. — Мазахир усмехнулся. — Помнишь, как он старику прямо в лоб: «Почему вы не приезжаете в Бузбулак, не изучаете жизнь сельских тружеников?» Еще бы сказал: чушь, мол, все, что вы там про деревню насочиняли!
Так грубо я, конечно, не говорил, но некоторая неловкость возникла, писатель обиделся на меня, так что положение мое было нисколько не лучше, чем у Гияса. Но Элаббас был прав: сейчас я действительно не думал о себе, все пытался осмыслить — умер Тахир-муаллим!.. Все самое теплое, самое светлое, что я увидел, испытал, пережил за пять бакинских лет, связано было с ним.
Мне все почему-то вспоминалось, как нынешней весной перед госэкзаменами я на десять дней приезжал домой, и под окном, перед самыми моими глазами, однажды утром расцвело вишневое деревце…
Прошло четыре месяца, как я вернулся из деревни, но деревце это все стоит передо мной в чистом своем уборе: днем его ясная белизна мерцает издали, ночью же, белое-пребелое, оно является мне во сне.
— Смотри-ка! — выкрикнул вдруг Гияс, читавший некролог. — Статья Салима Сахиба! — Он крикнул так громко, таким хриплым голосом, что мне опять показалось: с Гиясом на все в порядке.
А чего, собственно, кричать? Конечно, в последние годы Салим Сахиб не был такой уж крупной фигурой в литературном мире, но имя его нередко встречалось под статьями, помещенными на первых полосах газет. А то, что некролог, посвященный Тахиру-муаллиму, и статья Салима Сахиба опубликованы в один день, чистая случайность.
Мазахир подошел к Гиясу, положил руку на лоб.
— Лихорадит, — определил он. — Плохо мальчику. Надо срочно сообщить в деревню. Лично бабушке. Пускай пойдет к молле и закажет для бедного внучка хорошую трехрублевую молитву.
— Задушу!.. — Гияс вскочил и вытянул руки, будто пытался схватить Мазахира за горло. Руки его были пусты, но в длинных волосатых пальцах таилась такая яростная сила, что казалось, они душат кого-то; мне стало жутко.
Пораженный этой неожиданной агрессивностью, Мазахир съежился на кровати, изумленно поглядывая на Гияса. Элаббас стоял у окна и смотрел на улицу.
— А чай мы сегодня будем пить? — спросил Гияс после долгого молчания. Ярость его отступила: он ушел, неся в руках чайник, словно там, в кухне, намеревался смыть свою вину.
…Когда Элаббас скомандовал: «Одевайтесь, пойдем!», я решил, что мы сразу отправимся в университет, но мы пошли на вокзал — искать Исмаила. Элаббас подмял нас так внезапно, словно вспомнил что-то, дело у него к Исмаилу. Оказалось, нет у него никакого дела, просто должны проводить товарища.
— По-человечески надо прощаться. Пять лет вместе учились, вместе пуд соли съели. Это он сдуру так… Сорвался…
— Приедет, женится… — мечтательно произнес Гияс и вздохнул.
— На свадьбу-то позовет, как думаешь? — спросил я, хотя и так был уверен, что Исмаил непременно пригласит нас всех. С того дня, как мы переехали в красный уголок, он каждый вечер, ложась в кровать, произносил монолог одного и того же содержания: «Приеду, сразу жениться! Скажу отцу: знать ничего не знаю, коня продавай, ишака продавай, корову — что хочешь делай, а меня жени! На ком угодно: от пятнадцати до пятидесяти пяти — все годится. Горбатая — пожалуйста! Хромая — с удовольствием! Раз эта немецкая ханум на такого парня глядеть не хочет — все! Женюсь! Клянусь твоей бесценной головой, Мазахир, твоими красными трусиками, Гияс, наполеоновской спесью Гелендара и чистейшей, беспорочной совестью всеми нами обожаемого Элаббаса, что в день моей свадьбы вы все четверо будете сидеть возле меня: двое — по правую, двое — по левую руку!»
— Да не будет никакой свадьбы… — махнул рукой Мазахир. — Кто его сразу женить возьмется? Отец?.. Видел я его — хитрец, пройдоха, не хуже Исмаила!
Пускай хитрец, пусть даже пройдоха, но и полчаса не прошло, как он ушел, а нам всем уже было без него не по себе.
Поехали на автовокзал. Там выяснилось, что автобус, которым Исмаил мог уехать, только что отошел. Все.
Ну, что же теперь делать? Куда направиться? Мы знали, где жил Тахир-муаллим, но идти туда не имело смысла — некому было выражать соболезнование. Жена Тахира-муаллима прошлым летом умерла от рака, двоих его малышей — Тахир-муаллиму было под пятьдесят, но женился он поздно — забрала сестра. Да и окажись они дома, что скажем мы им, малым детям?
С тех пор как Тахир-муаллим уехал в Шушу, мы дни считали — двенадцать дней, а теперь, когда эти двенадцать дней потеряли смысл, и похоже, что ждать вообще нечего, вдруг выяснилось: двенадцать дней были таким большим, таким важным отрезком времени, что без них то, что называется «время», вообще теряло содержание и, лишившись формы и цельности, рассыпалось, как оборванная нитка бус…
…Мы кое-как протиснулись сквозь толпу абитуриентов, пришедших подавать документы. В узком длинном коридоре филфака висел на стене портрет Тахира-муаллима в рамке из черных лент. Дверь деканата оказалась запертой. Мы уже хотели уходить, когда дверь приоткрылась и оттуда выглянул замдекана Халил-муаллим, заспанный и взъерошенный.
То, что Халил-муаллим спит в своем кабинете, нас не смутило; человек этот отличался тем, что не имел секретов, и студенты знали не только о тесноте в его коммунальной квартире, но и о том, какой характер у соседей. Нас поразило другое — как блестели его воспаленные глаза и как этот маленький, щуплый человек за какие-нибудь несколько дней поблек и съежился.
— Ровно полчаса спал, — сказал он, взглянув на часы. — Полчаса за трое суток! Я ведь сам привез тело из Шуши, а туда — сутки в один конец. Вчера добрались уже под вечер. И сразу хоронить. В такой жарище живой протухнет, не то что…
Тахира-муаллима похоронили рядом с женой, он как-то упоминал об этом, еще когда здоров был, а там ему и подумать не пришлось о завещании: горная местность, подскочило давление, ночью спал — кровоизлияние в мозг…
Все это Халил-муаллим произнес в один прием, задохнулся и сразу же, словно потратив последние силы, замолк, уронив руки. Мы, разумеется, не собирались говорить о наших делах: ни я, ни Мазахир, ни Элаббас. Но Гияс, в течение пяти лет считавшийся самым выдержанным и культурным среди нас, сегодня выкидывал черт-те что!..
— Что ж получается-то, а? — спросил Гияс. — Как же мы?
Халил-муаллим усмехнулся; он будто ждал, что кто-нибудь из нас непременно задаст этот вопрос.
— Надо дождаться ректора, — сказал он, избегая смотреть на Гияса. — В конце месяца обещал вернуться. Не должен он вас обидеть, хотя бы из уважения к покойному. Что касается меня, я вот он. Что могу — сделаю. Но сами понимаете — я не Тахир-муаллим. Я вот еще что думаю: может, вам пока уехать? Побыть немного в деревне… Просто не представляю, что можно сделать до сентября. Ректор в конце месяца вернется, по начнутся приемные экзамены. Кто станет вами заниматься? Пожили бы в деревне, а в конце августа вернетесь. Чего мытариться в такую жарищу?
Наступило молчание. Долгое, долгое молчание. Как-то нам стало не по себе, неуютно нам стало в этом мире, когда Халил-муаллим заговорил о деревне. Почему так?.. Мне и сейчас трудно ответить на этот вопрос, хотя с того дня прошло уже тридцать лет. Чего ж мы тогда так струсили? Почему нам стало тоскливо при мысли, что нас могут послать в деревню? Ведь деревня к тому времени стала иной, люди смотрят на нее теперь совсем другими глазами. И мы были не горожане, не «чужаки», мы любили деревню, она снилась нам, и снилась такой красивой, праздничной… Вишня, цветущая под окном деревенского дома, для меня была источником света, вот уже сколько месяцев наполнявшим весь мир чистым и ясным сиянием. Теперь меня посылали в деревню. Посылали Мазахира — Мазахира, ставшего университетской знаменитостью благодаря поэме о своей деревенской бабушке: «Бабушка Чичек зовет меня». Два года назад эта поэма, опубликованная в университетской газете, была событием. Среди любителей поэзии нашлись такие, что знали поэму наизусть, а последние две строфы знали даже те, кто не был любителем поэзии:
…Что тебе загадки мирозданья? Знаешь: миром правит доброта. Мать народа, мудрое созданье, Ты нам в утешение дана. На пороге одиноком дома Ты, судьбе покорная, сидишь. Старой прялки мерное жужжанье Наполняет высшим смыслом жизнь…Правда, после этой поэмы Мазахир не достигал подобных вершин, но дело не в этом. Дело в том, что если пошарить в обширных карманах парусиновых брюк, купленных Мазахиром с помощью Исмаила за сто двадцать рублей старыми на базаре в Арменикенде, то и сейчас там наверняка можно было обнаружить стихи о красоте его родной деревни или о светоносном лице бабушки Чичек, воплощающей в себе смысл всей вселенной и проживающей в той самой деревне. Но если так, почему сейчас, когда разговор зашел о деревне, Мазахир вдруг вытаращился на Халила-муаллима? А Гияс побледнел, и его болезненно блестевшие глаза мгновенно залила злость? Ведь он тоже в своих стихах и рассказах воспевал деревенские родники, речку, луну, звезды, и за это в него влюблялись девицы самого высокого пошиба, например, Сима, отец которой был большим начальником в одном из районов Баку, и которая сама переписывала стихи Гияса, воспевающие деревенские достопримечательности, в красивый блокнот и носила их в сумочке… Элаббаса тоже задело предложение Халила-муаллима. Но для его обиды было, пожалуй, больше оснований. Во-первых, по сравнению с нами Элаббас был старый горожанин; три года служил в армии в Москве, да и в Баку приехал на три года раньше нас. В первый год срезался на первом же экзамене, пошел работать в трамвайный парк. Потом, все так же продолжая водить трамваи, он еще два раза сдавал экзамены и наконец с помощью Тахира-муаллима поступил одновременно с нами. Во-вторых, Элаббас никогда не сочинял стихов о деревне, он был литературовед, критик — стихи, которые ему иногда приходили в голову, он показывал лишь мне и Вильме; посвящались они восьмилетней дочке и жене, с которой он давно был в разводе, но которую, мне кажется, никогда не переставал любить. Прошлой зимой накануне Нового года он написал жене, прося выслать фотографию дочери, и в скором времени получил ее. Элаббас уехал из дома, когда ребенку не было года, и трудно рассказать, сколько радости доставила ему фотография семилетней девочки в школьной форме с бантом на голове. Он показал дочку девушкам из нашей группы и получил прозвище «Папочка», которое принял с превеликим удовольствием. В-третьих, Элаббас вообще был родом не из деревни, а из районного городка; Элаббас дал себе слово, что, пока не получит высшего образования — жена его кончила пединститут — и не поступит в аспирантуру, дома он не покажется. Я, уезжая из деревни, не ставил перед собой такой цели, Мазахир и Гияс тоже не связаны были никакими обязательствами — как тысячи других выпускников школ, мы просто приехали учиться. И вот обнаружилось, что цель эта сидела в нашем мозгу крохотным семечком, когда мы уезжали в Баку, а может, еще раньше, когда мы только шли в первый класс деревенской школы? Но как же тогда вишня в белом цвету? Гиясовы жемчужные звезды, родники?.. «Бабушка Чичек зовет меня»?.. Может, тут что-то непостижимое: тайна, чудо? Может, голос бабушки Чичек есть тайная сила, воплотившая в себе дух предков, лежащих в земле Мазахнровой деревни? Может, вишня, каждую ночь являющаяся мне во сне, тоже чей-то дух, и это он обращается ко мне? Так или иначе, но предложение Халила-муаллима вернуло нас к реальности.
Гияс стоял у стены, сунув руки в карманы.
— В деревню! — заорал он вдруг. — В деревню!.. Почему это мне ехать в деревню?! Не поеду! — И опять у него был такой вид, будто он готов удушить кого-то.
— А лично я поехал бы… — сказал Мазахир. — С превеликим удовольствием. Заложил бы для бабушкиных коз добрую скирду сена. Но тут одно деликатное обстоятельство, Халил-муаллим: пока я закладываю эту самую скирду, не вышибет ли меня дядя Антон из общежития? Он нас уже выставил в красный уголок — ремонт! Ремонт — это предлог. Просто красный уголок гораздо ближе к двери!
— Дельные слова! — Кажется, впервые в жизни Элаббас согласился с Мазахиром.
— Ректора нет, пусть проректор займется! — Гияс не хотел отступать. — Подумаешь, трудное дело! Тем более что один из пяти уже отбыл в деревню по собственному желанию.
— Кто? Когда уехал? Что-то я тебя не пойму, — Халил-муаллим удивленно посмотрел на Гияса.
— Да Исмаил! Собрал барахлишко и смылся. В деревню уехал. Он и раньше подумывал. Это я к тому, что четверых легче устроить, чем пятерых. Вильму в счет не беру. Девушка, в крайнем случае замуж выйдет.
— Да какая разница: пять человек или пятнадцать? Девушка или парень!.. Не об этом речь! — Раздраженно поморщившись, Элаббас отвернулся от Гияса. — Скажите, Тахир-муаллим похоронен у Салаханы?
— Там… Над гаражами… Хотите сходить на могилу?
— Да. Мы, собственно, за этим и пришли. А получилось… — Элаббас махнул рукой.
— Ничего, бывает.
— До встречи, Халил-муаллим! — сказал Мазахир. Всегда втайне завидовавший Гиясу, Мазахир чувствовал, что на этот раз вел себя гораздо достойней. Он приветственно поднял руку и, довольный собой, первым вышел из деканата.
* * *
Свежую могилу Тахира-муаллима мы нашли без труда.
— Ну вот что, — сказал Элаббас, когда мы подошли ближе. — Я говорить буду. Сказать ему хочу… Прошу тебя, Мазахир, не кривляйся, не принимай красивые позы… А ты, Гияс… Ты отойди чуть в сторонку, не лезь на могилу. Гелендар, иди сюда, встань рядом! Вот так. Здравствуй, Тахир-муаллим, это я, Элаббас. Стою у твоей могилы. Слышишь меня?
Он говорил негромко, грустно, спокойно… Говорил о том, что значила для него встреча с Тахиром-муаллимом. Говорил без торжественности, без высоких слов, а так, словно они, он и Тахир-муаллим, сидят и вспоминают… О нашем присутствии Элаббас, похоже, забыл.
— …Первый вопрос у меня был: «Произведения, посвященные коллективизации». Я сказал, что не читал ничего из тех книг, что значились в билете. Ты с интересом оглядел меня: неглаженая рубашка, оторванные пуговицы… «А сам из колхоза?» — «Да нет, уже из рабочих…» Ты усмехнулся. «Ладно, раз из рабочих, возьмем произведения о рабочем классе. „Апшерон“ ты читал?» Это я читал… Еще в детском доме… Второй вопрос был по языку, и, если бы я ответил, тройку ты мне натянул бы. Но ты не хотел ставить мне тройку, я видел, не хотел: «Переходи к третьему вопросу». Третий был Физули! Физули я знал наизусть почти всего.
— Денно и нощно горю я в огне судьбы, Из глаз моих вместо слез кровь живая сочится… Стоном моим пробужденные, люди находят счастье, Я же, гонимый судьбой, никак его не найду…Ты поставил мне «пять». И когда я уходил, шепнул: «Сочинение пиши только по Физули!» Это мое сочинение ты потом давал читать всем, даже ректору. Ты так и представлял меня: «Тот самый, что написал о Физули!..»
Когда Элаббас замолчал, Гияс наклонился, приник к могиле, несколько раз провел по земле сперва одной, потом другой щекой и поднялся, размазывая по лицу грязь и слезы.
Мазахир наклонился и поцеловал черную железную табличку, на которой неровными буквами написано было имя Тахира-муаллима. Я взял с могилы маленький камешек и, как принято у нас в Бузбулаке, трижды провел этим камешком черту вокруг места, где будет стоять надгробный камень. Потом поцеловал камешек и положил его сбоку.
Гияс сказал, что должен уйти — у него срочное дело.
— Морду-то вытри! — с ненавистью бросил Мазахир. И когда Гияс отошел, процедил сквозь зубы: — Дело у него!.. К Симе пошел, подлюга! Вот увидите: женится на ней! Я этого гнусаря насквозь вижу!
Глава вторая
Самый худший из дней
Если бы весной, перед госэкзаменами, мне не пришло вдруг в голову провести десять дней в деревне, я точно знаю: сидеть в Баку, в чудовищной жаре, томясь бездельем, было бы сейчас намного труднее. Конец июля в Бузбулаке бывает жарким, но думая о Бузбулаке, я представлял себе не летнюю жару, а те десять весенних дней, наполненных солнцем и цветением. Цвело все, все было молодое, живое, свежее, но вишневое деревце под окном, только-только покрывшееся цветами, было настоящим чудом: никогда ни на одном дереве не видел я таких белых цветов. Стоит только вспомнить деревню, и сердце мое, омытое потоком этой белизны, успокаивается, очищается… Легкие еще хранят воздух весенних дней, и во сне я часто вспоминаю его.
Десять весенних дней в Бузбулаке я провел почти в полном одиночестве и в каком-то особом, удивительном спокойствии: такая была пора — уже отсеялись, а косьба, уборка были еще впереди; деревья не надо было ни окапывать, ни поливать — все в цвету, они были неприкосновенны, как женщина, ожидающая ребенка. Грозы уже отгремели, отшумела весенняя речка, даже птицы уже не пели, не щебетали: они справили свадьбы, свили гнезда и теперь, высиживая птенцов, тихонечко сидели на яйцах. Рано по утрам приходили машины из района и увозили в кузовах моих соучеников, девушек и парней, работавших на заводе, на консервной фабрике, на стройке, на станции железной дороги. Единственные громкие звуки, которые можно было услышать в Бузбулаке, и были сигналы грузовиков. А в остальное время дома, сады, луга, солнце, цветы — все погружалось в дрему и пустоту безмолвия. И школьный звонок на перемену и с перемены не нарушал тишины, лишь заставлял ее легонько тренькать.
Никогда в жизни я так не наслаждался тишиной. Одиночество не угнетало меня, напротив, было приятно. Будто все эти пять лет в Баку я только для того и учился, чтобы, однажды приехав в родной дом, в одиночество и покой, провести здесь эти десять дней. Оказалось, что покой и одиночество необходимы мне как хлеб, как воздух — я и не подозревал об этом, собираясь в деревню.
Я никуда не спешил, не таскался, как обычно, в клуб, в чайхану — я лишь время от времени заходил в библиотеку за книгами: почти все время сидел у открытого окна, читая, а если и уходил, то искал тихое безлюдное место — мама в этот приезд не могла надивиться на меня…
Мама думала, что я готовлюсь к экзаменам. Но я не готовился к экзаменам. Книги, прочитанные мной тогда, лишь косвенно относились к наукам, по которым мне предстояло экзаменоваться. Эти книги имели отношение только ко мне самому. Получилось, что я приехал на эти десять дней, чтобы заново перечесть когда-то читанные книги, хотя, когда я садился в поезд, я и не подозревал об этом. Только один раз, когда Салим Сахиб пришел на встречу со студентами, я вспомнил бузбулакскую библиотеку. Библиотеку и еще многое другое, о чем расскажу позднее. Я вспомнил, как, еще учась в младших классах, я приносил домой толстенные книги Салима Сахиба и, читая чуть ли не по слогам, пытался постичь их смысл. Теперь, приехав на какие-то десять дней отдохнуть, подышать свежим воздухом, я вдруг снова зачастил в библиотеку, главным образом за книгами Салима Сахиба. Я и сам не понимал, почему это так: может, причиной моего интереса к Салиму Сахибу была та его встреча со студентами, может, что-то другое…
В те десять дней я заново прочитал все книги Салима Сахиба, имевшиеся в бузбулакской библиотеке, и еще несколько книг, также до дыр зачитанных бузбулакскими книгочеями, испещрившими страницы всяческими метками: плюсами, минусами, вопросительными и восклицательными знаками… Я перечитывал эти книги с таким волнением, что, когда я листал их, у меня дрожали руки. С утра до вечера сидел я перед окном: от чтения темнело в глазах, и тогда я переводил взгляд на окно и видел: вишневое деревце стоит все такое же белое. Читая, я то радовался, то горевал, а порой — чего тут скрывать? — в голову приходили гнетущие, черные мысли. И может быть, именно на этом «черном фоне» цветущая вишня и показалась мне вдруг такой немыслимо белой… Так это или не так, но именно в те, проведенные в деревне дни я открыл для себя, что на свете есть этот удивительный источник света — белый-пребелый свет надежды. Что это было, какая надежда — объяснить невозможно. Но чем бы он ни был, он существовал, белый цвет надежды, а если бы его не было, слоняться без дела в Баку в эту чудовищную жару, было бы много труднее…
Мы ждали конца июля, когда должен был вернуться ректор. По утрам пили чай в красном уголке, обедать ходили в столовую Баксовета. После того нереального, похожего на кошмар дня, когда мы узнали о смерти Тахира-муаллима, ложась ночью спать, мы дали друг другу слово, что будем держаться вместе, будем хранить свою дружбу до смерти, однако ход событий показывал, что дружбе нашей недолго осталось жить. И если главная причина тому была смерть Тахира-муаллима, другая, скорее всего, — отсутствие Исмаила. Пускай Исмаил был парень несерьезный, но он умел объединить нас… Возьмет по рублю, отправится на рынок — и смотришь, тащит сумку: сыр, хлеб, масло, картошку — еду на весь день. Он брал билеты в кино или цирк или заявлял, что в зоопарк привезли какого-нибудь диковинного зверя и мы непременно должны его повидать. Потраченные деньги он потом сдирал с нас все до копеечки, но важна была его легкость на подъем, энергия, живость — одним словом, до отъезда Исмаила мы жили намного веселее.
Гияс, кажется, и правда встречался с Симой. А может, нашел другую. Нередко он уходил рано утром, возвращался в общежитие ночью, и, стоило ему показаться в дверях, по лихорадочному блеску глаз безошибочно можно было определить, что он проводил время с девушкой. Мазахир тоже, кажется, мухлевал. Непохоже, чтоб он ходил на любовные свидания, но он все время куда-то исчезал, где-то бегал и никому ничего не рассказывал.
* * *
До конца июля оставалось еще порядочно, когда Мазахир вдруг принес известие, что встретил ректора возле университета. Ректор долго беседовал с ним и даже интересовался его творчеством. Расспросил о каждом из «приемышей» Тахира-муаллима и сказал, что проректор Фаик Маликов вплотную занят нашими делами и в ближайшее время все мы будем устроены, такова была воля Тахира-муаллима, а воля покойного священна. Мало того, ректор лично предложил Мазахиру место редактора в университетской газете, но Мазахир отказался, потому что порознь устраиваться на работу считает не по-товарищески. В заключение Мазахир заявил, что в ближайшие дни мы должны отправиться к проректору.
Все было бы хорошо, но когда Мазахир рассказывал эти новости, его маленькие острые глазки поблескивали как-то особенно хитро. Неправдоподобным было уже то, что ректор якобы стоял возле университета. Неправдоподобно потому, что хотя приемные экзамены еще не начались, ректору никак не подобает стоять и вести с кем-либо беседу, когда за ним по пятам ходят абитуриенты и их родственники. Не внушала также доверия версия, согласно которой Мазахир из принципа отказался от места редактора. Но и это все ладно, самое подозрительное — о проректоре. Мы уже с первого курса прекрасно знали, что проректор Фаик Маликов — злейший недруг нашего Тахира-муаллима. Тахир-муаллим игнорировал Маликова, не здоровался с ним, мы много раз видели это собственными глазами. Всему университету было известно, что десять лет назад, еще не будучи проректором, Фаик Маликов устроил Тахиру-муаллиму какую-то крупную подлость, чуть не подвел под исключение из партии, и дело обошлось лишь потому, что как раз в это время открылись какие-то делишки Фаика Маликова, и тот едва не полетел вверх тормашками. Ни преподаватели, ни студенты не уважали Фаика-муаллима, но знали, что человек он опасный, и строили свои с ним отношения с учетом этого качества. Конечно, были в университете люди, которые, как и Тахир-муаллим, нисколько не боялись проректора. Но важно не это. Важно то, что Мазахир говорил о посещении Фаика Маликова так спокойно, будто ничего не знал, и вот это-то и было в высшей степени подозрительно.
Мазахир побежал наверх к Вильме — сообщить радостную новость, а мы с Элаббасом лишь молча переглянулись.
Обсуждение новости, принесенной Мазахиром, началось заполночь, когда Гияс вернулся из очередной таинственной отлучки.
— Нет! Надо попасть к ректору! — решительно заявил Элаббас, подводя итог напряженным раздумьям, которым он давно уже предавался, лежа на кровати, заложив руки под голову и сосредоточенно морща лоб. — Он же не может не понимать: раз Тахир-муаллим хотел, чтобы мы работали в Баку, значит, это в интересах дела!
— Если желаете знать, уважаемый Папочка, — спокойно возразил Мазахир, — ректор подобными мелочами не занимается — только проректор. У каждого свои обязанности. Конечно, будь жив Тахир-муаллим, он бы пошел прямо к ректору. Но Тахира-муаллима нет. На его месте несчастный Халил-муаллим, а этот при виде проректора не знает, в какую щель юркнуть. Мы должны отчетливо представлять себе положение и трезво оценивать ситуацию… — На этой торжественной официальной ноте Мазахир закончил.
— Говоришь, видел ректора возле Баксовета? — как бы невзначай обронил Гияс. Кое-что в сообщении Мазахира, похоже, вызвало у него сомнение.
— Нет, дорогой мой, не у Баксовета! У университета, — Мазахир заметил подвох. — Плохо слушаешь. Забил себе башку свиданьями!..
— И во сколько же это было?
— Где-то между семью и восемью часами.
— Вечера?
— Утра!.. Я не ты, не валяюсь до полудня в постели!
— Если б вечером, еще возможно… — не слушая его, задумчиво произнес Гияс. Потом забылся или вздремнул на минутку и тотчас очнулся, словно ему совершенно необходимо было немедленно выяснить все про ректора. — И откуда же он взялся?
— Вот уж чего не знаю, того не знаю! Хорош вопросик, а!.. Ты при случае сам у него спроси. Будьте любезны, уважаемый товарищ ректор, дайте отчет, откуда вы явились: из бани или из парикмахерской? А может, от любовницы? Тогда очень прошу, в другой раз поставьте меня в известность, вместе сходим. Захватим с собой и славного сына бузбулакского народа Гелендара Шахина, работающего по ночам над замечательным произведением под названием «Письмо к матери»…
— Заткнись! — Элаббас вскочил и швырнул в Мазахира ботинком. — Это ж не рот — мотоциклетка!.. Чего завелся?! Чего спать не даешь?
На этот раз Мазахир довел и меня. Я понял, что в мое отсутствие он вдоволь порылся в моих бумагах; и Мазахир, и Гияс знали, что веской, вернувшись из Бузбулака, я начал что-то писать, — кто не писал на филфаке? — но что эта вещь называется «Письмо к матери», было известно только Элаббасу. Что же касается псевдонима «Шахин», о нем я не говорил никому, это была тайна тайн, единственная моя тайна.
— В бумагах моих роешься, сволочь!.. — Я рванул из-под Мазахира простыню. — К Фаику шляешься!.. О местечке хлопочешь!.. А нам про ректора поешь… — Я изо всех сил тянул Мазахира, но тот словно прилип к матрацу. — Ты же не только нас предал. Ты этому подонку Тахира-муаллима продал!
Не спеша подошел Элаббас, отодвинул меня в сторону, взял Мазахира на руки и, как куклу, посадил на край стола.
— Что ты предатель, это ясно, — мельком взглянув на Мазахира, сказал он. — Вот только когда ты побывал у Фаика? Да ладно! Хватит нам мозги пудрить! С твоим ректором все ясно, побереги творческую фантазию!
И тут мне стало жаль Мазахира, если б я знал, что так получится!.. Мазахир сидел на столе и горько плакал. Элаббас в растерянности поглядывал на него. Гияс молчал, положив руки под голову, но лицу его бродила странная улыбка.
— Ладно уж, — Элаббас одной рукой поднял Мазахира и отнес его обратно на кровать. — Хватит тебе, взрослый парень… Пойдем завтра к этому подлецу — пусть будет по-твоему…
* * *
С Гиясом мы должны были встретиться возле университета. Мазахир с самого утра неотлучно находился при нас, однако по дороге зашел в магазин за сигаретами — и пропал.
Гияс ждал возле университета. Каждое утро он куда-то уходил — сегодня ему понадобилось на переговорный пункт: звонить домой.
Прежде чем идти к проректору, мы заглянули к Халилу-муаллиму и окончательно убедились в том, что Мазахир все сочинил: ректор еще не вернулся, и мало того, неясно было, вернется ли к концу июля, так как после научной сессии, в которой он сейчас принимал участие, в Москве или в Ленинграде состоится какое-то важное совещание, и он в этом совещании тоже должен участвовать.
От Халила-муаллима мы узнали, что в последние дни Мазахир неоднократно бывал у проректора; с работой у него все в порядке, не сегодня-завтра должен быть приказ. То, что Мазахир скрыл от нас свои визиты к проректору, очень удивило замдекана, а выдумку насчет ректора Халил-муаллим принял за дружескую шутку — свои же люди… Но Мазахир не шутил, он понимал, что сделал, и его бегство под предлогом покупки сигарет лишний раз подтвердило это. Непонятно же было вот что: с одной стороны, он тайком бегал к проректору, с другой — и это никак не укладывалось в голове — звал нас идти к нему, хотя было ясно, что как раз у проректора все и выяснится. Может, кто-нибудь сказал ему, что ректор возвратится не скоро, и он решил поторопить события, а устроившись на работу, намеревался устроить и нас?.. Может, в нем вдруг заговорила совесть, угрызения ее стали особенно сильны где-то возле здания университета, он наскоро сочинил эту историю с ректором, бросился в общежитие — а оно рядом, — и у него не хватило времени как следует продумать версию… Это было похоже на правду, и главное — похоже на Мазахира. Может, в ту ночь он слезами смыл свое предательство? Но то, что сейчас он опять исчез, не вмещалось уже ни в какую версию.
* * *
Хотя Халил-муаллим предварительно договорился о приеме, мы попали в кабинет Фаика Маликова, просидев у дверей не меньше часа.
Говорят, нет хороших или плохих людей: у хороших будто бы может быть сколько угодно недостатков, а у плохих людей бывает полно положительных качеств.
Я думаю, все это ложь и обман. У хорошего человека могут быть плохие привычки или дурной характер, тут я согласен. Я другое хочу сказать: и хорошие, и плохие человеческие черты присущи только хорошим людям, у плохих же людей вообще нет ничего человеческого, и находить в них положительные качества — занятие опытных лицемеров.
Фаика Маликова мало кто любил в университете. Мне он всегда был неприятен, но о таком человеке, занимающем высокую должность, высказываться непросто. Невольно попадаешь в сложное положение, потому что плохой человек, занимающий высокую должность, делает не только плохое, кому-то он сделал и добро, и завзятые лицемеры уже по одному этому наверняка отыскали в нем положительные черты. Но не все в этом мире решают лицемеры. Есть еще на свете люди, которые белое называют белым, черное — черным. И лишь благодаря тому, что такие люди существуют, мир со дня его сотворения четко делится на хорошее и плохое…
Известно было, что Фаик-муаллим никогда прежде не был на преподавательской работе. Раньше он был на какой-то очень высокой должности, и проректор — это было для него резкое понижение.
Когда Фаик-муаллим шел по коридору, многие из преподавателей сторонились, давая ему дорогу. Когда он входил в аудиторию, в руках у девушек мелькали карманные зеркальца, а отвечая ему, девушки бледнели и краснели. Но я не верю, что делали они это из уважения или влюбленности. Так же я никогда не поверю, что, устроив Мазахира на работу, Фаик-муаллим станет в его глазах хорошим человеком… А если б он мне сделал добро, изменил бы я свое мнение? Никогда!.. Никогда он не станет для меня другим, хотя и не исключено, что он может сделать для меня доброе дело. Добро он мне сделает с одним условием — если я изменюсь, стану другим, своим человеком. Если плохой человек на ответственной должности делает кому-то добро, значит, в том его польза, а значит, в этом мире непременно должно уменьшиться добра. Если бы плохие люди всегда преуспевали в достижении своих целей, на свете просто не осталось бы хорошего. В этом все дело. И еще дело в том, что, распространяясь о положительных чертах плохих людей, завзятые лицемеры теряют грань между плохим и хорошим и, возможно, сами того не зная, предотвращают смертельную схватку добра со злом, тем самым спасая человечество от неминуемой гибели… — Так рассуждал я с присущей мне в те годы наивностью и категоричностью суждений.
Но входя в кабинет к проректору, я не ждал от этого человека активной враждебности, наоборот, я думал, что теперь, после смерти Тахира-муаллима, мы не должны больше быть для Фаика Маликова опасными представителями враждебного лагеря. В конце концов, мы никогда не сталкивались с ним лицом к лицу. Мы вполне прилично вели себя на его лекциях, разве что иногда вступали в спор. Правда, на собраниях, когда проректор нападал на Тахира-муаллима, мы с места бросали реплики, пытаясь защитить своего учителя; впрочем, на собраниях за Тахира-муаллима вступался весь филфак, потому что Тахир-муаллим был не просто деканом факультета, он был Тахиром-муаллимом. Ну а теперь его нет. И никогда не будет. И собраний этих больше не будет… Впрочем, если мы останемся в Баку, такие собрания вполне могут состояться… Может быть, именно потому и было сейчас у Маликова такое раздраженно-недоброжелательное лицо…
Мы сели справа от двери, не приближаясь к окруженному стульями длинному полированному столу. Халил-муаллим сел с нами, будто тоже студент.
— Я слушаю, — произнес Фаик Маликов, не вынимая изо рта папиросы.
Мы молчали. Уславливаясь с проректором о приеме, Халил-муаллим, конечно, объяснил ему, в чем дело.
— Кажется, желающих высказаться нет. Тогда, с вашего разрешения, скажу я. Чтобы не тянуть. Позавчера я по телефону говорил о вас с ректором. Вам известно, что я всегда был противником того, чтоб вы оставались в Баку. (Мы этого на знали!) Во-первых, потому, что в университете нет такой возможности. Во-вторых, лично я не вижу в этом ни малейшей необходимости. Правда, одного человека мы имели возможность устроить — устроили. Он хороший поэт, у него будущее. (У нас, значит, нет будущего!) Девушку тоже устроим, — он мельком взглянул на Вильму, — куда-нибудь в библиотеку… Сирота, выросла в детском доме… Тут еще один из вас, мой личный знакомый. Возможно, мы будем друзьями… (Гияс, честное слово, Гияс, сразу догадался я. Когда ж это они успели стать знакомыми?.. A-а, ясно! Отец Симы! Позвонил. Значит, и Гияс потихоньку обтяпал свои делишки!..) Речь идет о Гиясе. Но он вам не помеха, он будет работать не в университете, а совсем в другом месте… Ну, вот и все. Есть какие-то вопросы? Нет? Нет. Еще я хочу отметить, что этот парень из Тауза, он, кажется, из Тауза… (это он про Исмаила) лично мне нравится. Человек вовремя умеет ценить себя, это прекрасное качество. Об этом мы не раз толковали с Тахиром-муаллимом. Правда, последнее время он был в плохом состоянии, с ним было трудно договориться. Что ж, больной есть больной. Мы особенно не нажимали. Не хотелось, чтобы человек опять попал в лечебницу… — Маликов сунул окурок в пепельницу, кашлянул. — Он ведь давно состоял на учете, Халил-муаллим не мог этого не знать…
— Я этого не знал! — Халил-муаллим задохнулся от негодования.
— Не знали? Прекрасно. Подобные вещи лучше не знать, Я сказал лишь к тому, чтобы объяснить, почему с Тахир-муаллимом было так трудно найти общий язык. Контузия — это так, для красного словца… У каждого есть свои слабости. Покойного всегда влекла героическая тема. Патетика… Партизанский размах, разведка… Пусть это останется между нами, но во время войны Тахир-муаллим работал в Хачмасе начальником райсобеса.
— Я этого никогда не слышал! — совершенно багровый, Халил-муаллим лихорадочно рылся в карманах, отыскивая сигарету.
— Да этого никогда и не было! — Элаббас рывком поднялся с места и с таким видом направился к проректору, словно хотел ударить его.
— Ну? Что ж ты остановился?! — Видимо, для того, чтоб показать, что ни ростом, ни шириной плеч он не уступает Элаббасу, Маликов поднялся с кресла. — Надо же — и этот желает остаться в Баку, ученым стать!.. — Проректор усмехнулся. — Научись сначала вести себя! Ты же мне чуть не ровесник, а умеешь только хамить!
Тут не выдержал я:
— У Тахира-муаллима была куча орденов! Он что их, в Хачмасе заслужил?
— Но, может быть, Фаик-муаллим знает что-то, что нам неизвестно? — осторожно заметил Гияс. — Какой смысл затевать скандал?
— Ты что, не видел орденов? — Я был готов с кулаками броситься на Гияса.
(Ордена эти лежали в ящике стола, и все мы, и я, и Гияс, и Мазахир, видели их у Тахира-муаллима).
— Я не говорю, что не видал…
— А что ж ты говоришь?
— Ничего я не говорю!
Вильма, сидевшая рядом с Гиясом, спокойно поднялась и пересела на другое место.
— Нехорошо так говорить о покойных, Фаик-муаллим, — негромко сказала девушка. — Вы порочите имя Тахира-муаллима. Очень прощу вас, не трудитесь устраивать меня на работу.
На такой оборот дела Маликов, похоже, не рассчитывал. А люди, подобные ему, выглядят не лучшим образом, когда выходит иначе, чем они задумали.
— Ну, хватит! — бодрясь, сказал он. — Достаточно демагогии! Продолжите ваши дискуссии за дверью. У меня нет времени слушать это!
— А пороть чушь у вас есть время? — Меня понесло, я уже ничего не боялся. Но проректор, только что кричавший на Элаббаса, на меня даже не повысил голос.
— Ты, видимо на кого-то надеешься, позволяя себе такой тон? — заметил он.
— Да, надеюсь! — Странное дело, я был совершенно спокоен, будто у меня и в самом деле был свой расчет. Был. Не на кого-то, на что-то. Вишневое деревце во дворе отцовского дома смотрело на меня.
«Ты, видимо, на кого-то надеешься?» Надеюсь, Фаик Маликов, и тебе не лишить меня этой надежды! И сегодня, и завтра, и послезавтра — до последнего дня жизни мне будет светить волшебный мой светильник!..
— Спокойней, сынок, спокойней… — Халил-муаллим сказал это мне, но я был совершенно спокоен.
— Ладно, пошли! Приедет ректор, продолжим разговор! — Элаббас подошел к двери и, уже стоя в дверях, обернулся к Маликову: — Не будет по-твоему, Маликов! Таких, как ты, мы видели-перевидели! И знай, мы этого не оставим. Ты нам ответишь за клевету!
Вслед за Элаббасом я вышел в полутемный коридор.
За нами шла Вильма.
* * *
В общежитие мы вернулись вечером. Нельзя сказать, чтоб у нас было очень хорошее настроение, но и не очень плохое. Мы пообедали в столовой Баксовета, потом в летнем кинотеатре посмотрели двухсерийный индийский фильм.
Когда мы пришли, Мазахира еще не было, но Гияс сидел на кровати и курил. Увидев нас, он чуть вздрогнул: боялся, должно быть, именно поэтому и пришел сегодня так рано.
— A-а, он тут? И давно вы здесь, прошу прощения?
Ни в голосе, ни в выражении лица Элаббаса не было для Гияса ничего утешительного, но он все равно обрадовался, усмехнулся, решив, видно, что раз Элаббас шутит, объясняться мы с ним не станем.
— Да я уж… часа три сижу, жду… Я ведь остался только, чтоб… Я этому подлецу вправил мозги!
— Какому подлецу?
— Да проректору. Дрянь, конечно, но есть в нем неплохие черты. Только зацепить надо.
— А?.. Ты, значит, зацепил?
— Не то слово! Я его на сто восемьдесят градусов развернул! Совсем другую песню поет!
— Ну? Да ты же герой! — Элаббас медленно подходил к Гиясу, и тот, не спуская с него глаз, все дальше отодвигался к стене. — А может, лучше расскажешь о папочке твоей Симы? О будущем тесте? Чего ж, люди свои… Расскажи… Он какую песню поет? После того как сделал тебя другом этой гниды? А? Какие у него дальнейшие планы?
— Ладно тебе… — Гияс не смотрел на Элаббаса. — Тесть, не тесть, тебя не касается… — Он наконец уперся спиной в стену.
— Гаси свет! — сказал мне Элаббас.
— Зачем? — Я боялся, как бы Элаббас чего не выкинул.
— Ладно, не гаси, пускай… Сейчас я эту мразь раздену и голого вышвырну на улицу! Пусть отправляется к своему новому другу! Раздевайся, сволочь! Сам раздевайся, не хочу касаться погани!
— Отстань! Не лезь ко мне! — взвизгнул Гияс и так мотнул головой, что трахнулся затылком о стену, и из носа у него потекла кровь.
Вошел дядя Антон.
— Эй, что тут у вас? Чего шумите?
— Вон что! — Гияс мазнул ладонью по носу и показал коменданту окровавленную руку.
— Кто это его? — Дядя Антон кивнул на Гияса.
— Я, — сказал Элаббас. — А сейчас сдеру с него штаны и голого вышвырну на улицу!
— Ну-у? За что же так круто? Какой его грех?
— Грехов много, дядя Антон.
— Спер чего?
— Спер — это бы полбеды. Продал он нас, дядя Антон! Понимаешь, что значит продать?
— Чего ж не понять? Кого продал-то?
— Меня продал. Его продал, — Элаббас ткнул пальцем в мою сторону. — Честь, совесть, бога, пророка! Все продал!
Дядя Антон искоса взглянул на Гияса.
— Да… Ну ладно, разбирайтесь! — Он ушел.
— Слушай! Хлебом тебя заклинаю, Гияс: собирай барахло и выкатывайся! — Элаббас вдруг перешел на просительный тон: — Пожалей человека — из-за тебя да в тюрьме томиться! Дай хоть дочку-то повидать. Сколько лет отца ждет. Уходи подобру-поздорову…
— Переночую и уйду. Куда я сейчас среди ночи?
— Нет, ты уйдешь сейчас, среди ночи. Ты должен убраться немедленно. Меня хватит инфаркт, если я останусь с тобой в одной комнате!
Гияс подошел к своему чемодану, взял документы, завернул в газету…
— Ладно, я ухожу. Только знай, тебе это даром не пройдет! Счастливо оставаться! — С независимым видом Гияс направился к двери. — Завтра зайду за чемоданом.
— Не выйдет! — Элаббас схватил Гияса за шиворот. — Забирай чемодан и отваливай! Гелендар, давай сюда чемодан!..
— Да ладно, пусть… Завтра заберет.
— Неси, говорю! — Элаббас злобно ощерился на меня. — Чтоб он мне до утра глаза мозолил?!
— Я поставлю, не видно будет…
— Ну черт с тобой, выметайся! — Элаббас посторонился. — И помалкивай, ясно? Одно словечко, и я тебя!.. Пришибу, понял?
Гияс ушел. На улице было тихо. Но, видно, Гиясов чемодан и впрямь не давал Элаббасу покоя. Он встал, отнес чемодан в коридор. Потом подумал и принес обратно. Потом снова вскочил, схватил чемодан.
— Воняет от него — тьфу! Спать не могу! Может, в окошко выкинуть?..
Но он не выкинул чемодан в окно, хотя Гияс так и не явился за ним.
Мазахир пришел за полночь, пьяный в дымину. Кое-как скинул ботинки, стянул брюки и молча лег. Элаббас уже спал…
* * *
Это, конечно, был плохой день. Очень плохой. С одной стороны, открылось столько подлости, с другой — угроза навсегда расстаться с мыслью об аспирантуре стала реальностью. Стипендию за лето мы почти проели. Элаббас рассчитывал, что нам удастся растянуть ее до сентября, а там аспирантура, приличная стипендия, можно и призанять… Теперь все выглядело иначе. Оставалась, конечно, надежда на ректора, но когда еще он приедет, да и захочет ли заниматься нами? Вполне возможно, что Маликов так нас разрисует ректору, что и к кабинету близко не подойдешь. «Я его на сто восемьдесят градусов развернул!» И ведь рассчитывал, что поверят!.. Да, с деньгами надо что-то придумать. Элаббасу ждать их было неоткуда, у меня только мать, работает она уборщицей в медпункте, и зарплата у нее не больше моей стипендии. Когда я учился на первом курсе, мать эту свою зарплату почти целиком присылала мне. Летом я поехал в деревню и не узнал ее: так она осунулась, похудела, У меня комок к горлу подкатил, и, чувствуя, что сейчас разрыдаюсь, я бросился во двор, к желобу — хорошо, в тот день шла вода. Я сунул голову под струю, будто моюсь с дороги. Но я не мылся, я рыдал: я выл, я орал, ревел, как бык, — и вода, с шумом падавшая мне на голову, заглушала мои рыдания. Может, до мамы и доносилось что-то, но наверняка она думала, что это я так, покрикиваю от удовольствия…
Я твердо сказал матери, чтоб она не присылала мне ни копейки. Пришлет, тут же верну обратно… Если б я хоть не говорил ей и тогда, и потом, что сразу, как устроюсь в Баку, возьму ее к себе. Я расхваливал Баку: театры, парки, бульвары — чего я ей только не наболтал!.. Если б хоть в письмах не хвастался! Если б не все в нашей деревне знали, что за хорошую учебу меня обязательно оставят в Баку, что я стану ученым, писателем, большим человеком… Не знай этого вся деревня, вернуться мне было бы намного проще. Явился со своим чемоданчиком: здравствуйте, вот он я, Гелендар-муаллим, окончил учение, буду преподавать в старших классах… Но в деревне-то знали, что я остаюсь в Баку, и хотя не ожидали, конечно, что я стану таким же знаменитым, как, например, Салим Сахиб, но о возвращении домой не могло быть и речи. А потом, как же со «свежей струей в застоявшейся филологии»? Я поеду в деревню, а Фаик Маликов останется в университете! И Гияс! Отец Симы звонил ему, это точно, «Пойду позвоню отцу, — сказал Гияс тогда, — может, сжалится, пришлет тридцаточку…»
На этот раз Гияс не выдумал про телефон: он действительно пошел звонить, но только не с переговорного пункта и не отцу в деревню, — расставшись с нами, Гияс тотчас же отправился к Симе. И когда он поджидал нас возле университета, в лице у него уже было что-то гадкое, подлое… Да, именно подлое. И в ту ночь, без сна ворочаясь в кровати, я был совершенно уверен — клеймо подлости до смерти не сойдет с лица Гияса.
* * *
…Заснуть не получалось. На улице, прямо против моей кровати, зажегся яркий фонарь. Свет фонаря, всегда, по-видимому, висевшего здесь, сегодня бьет прямо в лицо, проникая меж ветвей мощной старой ивы. Верхние ее ветви тянулись к окну маленькой продолговатой комнаты на третьем этаже, в которой все пять лет прожили мы с Элаббасом. Весной, когда мы спали с открытым окном, сок свежей листвы как бы проникал в мое тело, пропитывал меня, и я всю ночь видел пышные, как ее крона, зеленые, как ее листва, сны. В те весны, полные надежд и света, я по ночам словно бы становился плотью ивы, ее ветвью, ее листвой… И до утра, будто легкий сон, скользя по горам, долинам, лесам — прекрасные места, похожие и не похожие на Бузбулак, — я искал среди ив братьев своих и сестер. Господи, чего только я не повидал!.. Я видел высочайшие горы, чьи облачные вершины были мягче, чем шелк облаков, видел реки немыслимой чистоты, видел такие луга и леса — ну просто ложись и помирай!..
В одном из снов я видел звезду своей судьбы, она была чем-то похожа на необитаемый остров: воды его были чисты, как слеза, зелень его лугов и лесов, смешиваясь с красным солнечным соком, струилась по горам и долам, как сон, как мечта, как музыка…
В то время я верил, что после смерти каждый переселяется на свою звезду, и понимал, что раз я на этом острове, значит, умер, но мне совсем не было страшно, потому что, если смерть такая, значит, она не хуже, чем жизнь… Словом, пять лет студенчества, полуголодных, полных лишений, полных надежд и света… И вот все кончилось.
Когда я проснулся, Мазахира уже не было; собрав вещи, он навсегда ушел из общежития.
Элаббас уже купил чаю, хлеба, вскипятил чай, поставил его на стол и широким солдатским шагом расхаживал по комнате, ожидая, когда я проснусь.
В тот день Исмаил прислал сорок рублей: мне и в голову не могло прийти, что он может прислать нам деньги. Мы накупили всякой всячины и вечером позвали в гости Вильму. Что пируем за счет Исмаила, мы открыли ей лишь тогда, когда все уже было съедено. Но надпись на обратной стороне бланка мы Вильме не показали. А написано было так: «Деньги только на вино. Тратить их на картошку, маргарин и подсолнечное масло запрещаю категорически! Пейте и наслаждайтесь жизнью! Особое почтение даме! Скажите, что сердце мое, как пес, воет от тоски. Если сдохну, то лишь от этой тоски…»
Глава третья
«Не трогайте, солнце сорвется!..»
В общежитии вовсю шел ремонт. Жара стала просто немыслимой. А тут еще Элаббас окончательно помрачнел: молчит, брови насуплены; лежит ночью и вдруг вскакивает, садится на кровати, бормочет. Или начинает проклинать кого-то… Словом, жить становится все труднее.
В эти трудные дни я всерьез начал подумывать, не пойти ли к Салиму Сахибу. Я знал, где живет писатель, и был уверен, что, если я заявлюсь к нему, он меня не прогонит. Приду, скажу: я такой-то, сын такого-то, внук такого-то… Попал в тяжелое положение, надеяться не на что, как-никак односельчане, не можете ли вы похлопотать за меня?..
Нашу встречу в деревне он, конечно, помнить не может, я был тогда третьеклассником. А вот как мы встретились в университете, это он помнит наверняка. А если и забыл, я напомню. «Этой весной, — скажу я ему, — вы были у нас в университете, вы еще пошутили тогда: „Сорок лет в зеркало не гляжусь, только чтоб бузбулакца не увидеть…“ Помните?» Нет, эту шуточку я ему припоминать не стану, потому что именно на этом месте я спотыкаюсь всякий раз, когда совсем уж было решаюсь отправиться к Салиму Сахибу. И не потому, что мне, единственному бузбулакцу, оказавшемуся среди сотен студентов, она пришлась не по вкусу. Тут дело серьезней. Во время встречи я промолчал, но зато потом, когда в кабинете Тахир-муаллима состоялось традиционное чаепитие, на которое приглашены были несколько преподавателей и студентов, я не удержался и завел разговор о Бузбулаке.
«Выходит, вы боитесь бузбулакцев?» — «Я-я-я? — Пораженный Салим Сахиб так по-бузбулакски протянул это слово!.. — Почему я должен бояться бузбулакцев?» — «Ну… Вы сказали насчет зеркала…» — «Так это шутка. Что, шуток не понимаешь?» — «Пусть шутка. Но почему ж вы тогда с сорок шестого года ни разу не побывали в Бузбулаке?» — «С какого?.. — Салим Сахиб задумался. — Да, пожалуй… А почему ты знаешь, что я был в Бузбулаке в сорок шестом году?» — «Сам видел вас. Вы приезжали весной. Я учился тогда в третьем классе. Это было в мае. В мае сорок шестого года…»
Да, стояла весна сорок шестого года, самое начало мая: ярко-зеленая, розово-красная, белая-пребелая весна… Зелеными были листья и травы, розово-красными цветы гранатов и персиков. Белыми — круглые серьги цветущей айвы, гроздья акации, жасмин, шатры вишневых деревьев. Теперь, спустя много лет, мне почему-то кажется, что и бузбулакская речка никогда прежде не видела такой весны. Река текла полноводная, бурливая, потому что зима была снежная, а в апреле шли большие дожди… Но был май, начало мая. Дожди прекратились. Туманы и ненастье, казалось, навсегда покинули Бузбулак. Мир был полон зелени, солнца, света, и сквозь этот свет, сквозь весну, сквозь солнце, ревя от изумления, мчалась синяя горная речка…
Может быть, бузбулакская речка ревела тогда от радости: пережив морозную зиму и большие дожди, Бузбулак, живой и здоровый, встречает солнечную весну — это ведь вам не шуточки. Он не погиб от холода, не вымер от голода и теперь уже не погибнет и не вымрет, потому что кончились холода и бузбулакское солнце никто не отнимет у него. Да и голод уже потерял свою смертельную силу: от него еще кружится голова, еще мутит от пустоты в желудке, еще старики недвижно лежат на своих постелях, еще надрываются в люльках некормленные младенцы, но силы у голода уже не было, и бузбулакская земля знала это. А если знали земля и камни, почему не могла знать речка?..
Как только пришла весна, женщины и ребятишки начали набирать по берегам этой речки полные подолы съедобной травы: щавеля, лебеды, кислицы… Руки у женщин были зелены от травы, зеленые были рты у детишек. Даже вороньи клювы были тогда зеленые, хотя вороны не клюют траву. Траву, которую можно есть сырой, мы съедали прямо тут, в поле, а ту, которую надо варить, несли домой Мы столько съели травы, что даже в глазах у нас появился зеленый отблеск. Но все краски наши зеленые глаза видели в их настоящем цвете. Цветы граната и персиков были розовые-прерозовые. Жаль, что их нельзя было съесть. Зато у айвы цветы были вполне съедобны. Гроздья акации тоже были сладкие. Одних трав да цветов достаточно было, чтобы не помереть с голода. А еще завязи миндаля — сейчас только их и жевать, еще чуть — и затвердеют. Потом пойдут завязи алычи и сливы, а когда и они затвердеют, начнет поспевать черешня. Потом подойдет шелковица, а там и пшеница, и ячмень начнут наливать колос… И вот когда Бузбулак, сверкая зелеными глазами, ждал, пока поспеет шелковица и начнет наливать зерно пшеница, стало известно, что приезжает Салим Сахиб, тот самый Салим Сахиб, чей портрет висел в школьном коридоре на самом видном месте — там, где вешают стенную газету.
В каком году Салим Сахиб уехал из деревни, уже помнили немногие. Но каждый бузбулакец непременно знал, что в Баку живет некий Салим Сахиб и что родился этот человек в Бузбулаке. В учебнике литературы для старших классов так прямо и значилось: «Родился в деревне Бузбулак». Впрочем, для того, чтоб это знать, необязательно было учиться в старших классах. Потому что любой бузбулакский первоклассник, выучивший десяток букв, приобщается к чуду печатного слова, по слогам разобрав слова: «Ро-дил-ся в де-ре-вне Буз-бу-лак…» Слова эти были для нас не просто словами. Ведь, кроме Салима Сахиба, ни о ком из бузбулакцев не говорилось, где он родился — родился, и все. И поэтому, даже собственными глазами прочтя в учебнике эти слова, мы, ребятишки, не могли себе представить, что знаменитый Салим Сахиб действительно родился в нашей деревне — все-таки это было чудо.
На берегу речки стоял заброшенный дом, тропку к которому давно забило травой. И вот оказалось, дом этот — родной дом Салима Сахиба. В Бузбулаке жила длинная, тощая и злая женщина по имени тетя Солтан; оказалось, что эта самая Солтан не кто-нибудь, а родная сестра Салима Сахиба, того самого Салима Сахиба, чей огромный портрет висит в школьном коридоре на самом видном месте.
О предстоящем приезде Салима Сахиба нам сообщили на большой перемене, собрав на спортплощадке учеников всех классов. Но директорша Зиянет Шекерек-кызы уже с утра металась по школе; мы и до перемены знали: сегодня что-то произойдет. Зиянет Шекерек-кызы пулей летала из класса в класс, взбегала со двора на айван, шныряла по всей школе — места себе не находила, а это случалось лишь тогда, когда предстояли важные события.
В тот день, собрав на спортивной площадке всю школу, Зиянет Шекерек-кызы, стоя на айване, долго рассказывала нам, кто такой Салим Сахиб. Она принесла из библиотеки все его книги и одну за другой продемонстрировала ребятам. Вслед за этим Зиянет Шекерек-кызы показала нам свежую газету, вернее, первую полосу газеты, потому что именно на первой полосе была напечатана статья Садима Сахиба. Когда один из отличников громко прочел эту статью, посвященную приближающемуся Дню Победы, Зиянет Шекерек-кызы сказала, что мы, бузбулакцы, в силу своей культурной отсталости не могли оценить значение Салима Сахиба. Не будь мы такими отсталыми, мы бы уже давно организовали музей в доме Салима Сахиба, а мы до такой степени забросили его дом, что не только двор, даже крыша сплошь заросла травой. Ровно через два дня, в День Победы, Салим Сахиб будет в Бузбулаке. В эти оставшиеся два дня мы во что бы то ни стало должны доказать, что мы, бузбулакцы, не окончательно отстали в культурном отношении, а потому на два дня занятия в школе отменяются. За эти два дня мы должны расчистить дорогу к дому Салима Сахиба, хорошенько перекопать сад и двор от калитки до самого дома, насадить розы. Те, у кого дома есть розы, должны выкопать по одному самому лучшему кусту и ровно в восемь утра принести их к дому Салима Сахиба… Когда она кончила говорить, мы все построились и пошли к дому писателя. В середине шли девочки, замыкали шествие старшеклассники, а мы, малыши, как всегда, были впереди.
Пока мы шествовали от школы до отчего дома Салима Сахиба, Зиянет Шекерек-кызы раздобыла в домах необходимый инвентарь: лопаты, грабли, серпы, косы, ведра… Прибыв на место, мы под руководством Зиянет Шекерек-кызы разделились на группы и с ходу взялись за работу. Девочки, достав где-то лестницу, забрались на крышу. В ту весну из-за обилия дождей на всех бузбулакских крышах, оставленных без присмотра, трава поднялась чуть ли не по пояс. Перекопать двор, поправить лестницу, выкорчевать пни давно спиленных деревьев — эта тяжелая работа выпала на долю главных школьных силачей. Нам, малышам, поручено было выбирать с земли небольшие камни, сгребать и таскать траву, которую выпалывали во дворе и выдирали с крыши, а также бегать на речку и, ведрами таская воду, поить тех, кто работал в поте лица и все время хотел пить. Во время вдохновенной работы по уборке отчего дома Салима Сахиба у некоторых кружилась голова, кое-кого тошнило, одной из девочек, работавших на крыше, стало совсем плохо. Но несмотря на это, мы в тот же день закончили основные дела, и Зиянет Шекерек-кызы к вечеру совершенно успокоилась. Зато сестра Салима Сахиба, тетя Солтан, никак не могла успокоиться — она прямо извелась, ходя из дома в дом: у одних выпрашивала муки, у других — чаю, у третьих — масла. Худая, длинная, она бродила по улицам и без конца твердила: «Брат, брат…»
Наутро, когда до Дня Победы, а следовательно, и до приезда Салима Сахиба оставался один день, из колхозного коровника взяли хорошую корову с теленком и привязали их к калитке тети Солтан. Объяснили же все это так, что корову тете Солтан дали ради мужа, который вернулся с фронта совершенно желтым — необходимо избавить фронтовика от болезни, которая делает человека совершенно желтым. Но даже и после этого события, невиданного в истории Бузбулака, тетя Солтан все равно не могла успокоиться. Она считала, что, раз Салим Сахиб приезжает, надо обязательно привести в порядок могилу его матери. Вообще-то заботу и могиле сельсовет тоже взял на себя, но сделать что-то можно было лишь после посещения Бузбулака Салимом Сахибом. Потому что привести могилу в порядок за один день невозможно. И цемент надо доставить из района, и мастеров найти. А потому пришлось взять в колхозном амбаре мешочек пшеницы, оставшейся от сева, и отнести тот мешочек тете Солтан, чтоб хоть чем-то утешить сестру Салима Сахиба. Но и могилу не оставили заброшенной. Отыскав ее с помощью тети Солтан, мы под руководством Зиянет Шекерек-кызы подняли повалившийся надгробный камень, убрали мусор, принесли с реки камушков и обложили ими могилу. Рядом на горе росли цветы, мы принесли по охапке красных маков и положили их на могилу, чтобы, приехав в деревню, Салим Сахиб не подумал, что бузбулакцы — люди отсталые в культурном отношении.
На следующее утро мы снова набрали на склоне гор вороха красных маков и цепочкой растянулись вдоль шоссе. Розы пока не распустились, но акация кое-где уже расцветала, а еще ребята наломали цветущих веток в колхозном саду. Салим Сахиб должен был прибыть в полдень поездом, чтобы ехать в деревню на машине, но мы с цветами в руках стояли вдоль шоссе задолго до прихода поезда. Конечно, стоять у дороги намного веселей, чем сидеть за партой, особенно поначалу, когда еще не устали ноги, когда еще не нажгло макушку и не кружится голова.
Ребята постарше культурно стояли, держа в руках цветы, поглядывали в сторону станции. Но от нас, малышей, не требовали, чтобы мы замерли у дороги с цветами в руках. Некоторые и думать забыли про букеты, играли, кувыркались в траве… Другие тайком обрывали цветочки с веток айвы и жевали их. Кроме того, «по крайней нужде» можно было отойти за кусты боярышника. Но все равно час от часа стоять становилось все труднее, особенно девочкам; уж не говоря о том, что у многих кружилась голова, некоторые наверняка испытывали ту самую «крайнюю нужду», но, разумеется, ни одна из них не могла позволить себе сходить в кустики: тогда лучше не жить в Бузбулаке.
Был уже самый полдень, когда, завидев вдали машину с Салимом Сахибом, мы выстроились вдоль дороги; так как младшие школьники, по обычаю, были впереди, машина остановилась возле нас. Первой к ней бросилась Зиянет Шекерек-кызы, потом машину окружили учителя. Салим Сахиб вылез, за руку поздоровался с учителями, напряженно улыбаясь, прошел вдоль наших рядов и снова сел в машину. Это был нестарый еще, энергичный мужчина. Он был и похож и непохож на портрет, висевший в школьном коридоре.
Потом мы все, еще держа в руках цветы, гурьбой тронулись к школе. На спортплощадке Салим Сахиб, Зиянет Шекерек-кызы и несколько знакомых и незнакомых нам людей поднялись на айван. Собрание это было или нет, мы не знали. Но мы знали, что сегодня День Победы, что празднуется первая годовщина Победы советского народа над германским фашизмом и что в связи с этим Салим Сахиб приехал в Бузбулак. Сперва выступила Зиянет Шекерек-кызы, потом она предоставила слово Салиму Сахибу и, сказанное им моментально распространилось по всей деревне, повсюду сея ликование. Зелеными от травы глазами Бузбулак уверенно смотрел теперь в свое светлое завтра. Бузбулак немало слышал слов об ожидающих его светлых днях, но сейчас Бузбулак радовался потому, что слова эти сказаны были не кем-нибудь, а своим, бузбулакцем. А уж если такие слова говорит бузбулакец, значит, так все и будет: про хлеб и одежду и говорить нечего, само слово «нужда» очень скоро вычеркнут из словарей.
Когда Салим Сахиб кончил говорить, нас наконец отпустили. Но уходить не хотелось. Ребята толпой валили за Салимом Сахибом; Зиянет Шекерек-кызы, сопровождавшая Салима Сахиба, то и дело оборачиваясь, метала на нас сердитые взгляды, грозила пальцем и даже показывала кулак. И хотя Зиянет Шекерек-кызы мы боялись больше всего на свете, никто не обращал на нее внимания.
Когда в конце улицы появилась тетя Солтан, шествие несколько замедлилось. Женщина стояла неподвижно, как неживая. И вдруг она ожила и с криком: «Брат, брат!..» — бросилась к Салиму Сахибу. Она обнимала его и все говорила, говорила что-то, а женщины и девушки, которые созерцали происходящее, стоя вдоль стен и у калиток домов, всхлипывали, глядя на них…
Потом Салим Сахиб с окружающими его людьми вошел в дом к сестре, но пробыл он там всего минут десять. Даже не дав человеку взглянуть на отчий дом, его повезли в лес, к роднику Бузбулак. Тут уж мы не могли ничего ни видеть, ни слышать, потому что туда никого не подпускали: на подходе к лесу поставили двух громил — колхозных сторожей, еще двое — учитель физкультуры и директор клуба — стояли под тополями у самого входа в лес. Один из бузбулакских мальчишек каким-то образом пробрался к роднику. Но рассказывал он лишь о шашлыке, больше он ни о чем не рассказывал…
Зиянет Шекерек-кызы, верная себе, не дала Салиму Сахибу уехать из деревни, не побывав в собственном музее. Так что Салим Сахиб воочию увидел плоды наших трудов. Оставалось кладбище. Пойти туда у Салима Сахиба уже не было времени, но мы о том и не больно печалились. Старались мы больше всего во дворе, а раз Салим Сахиб видел наши старания, то навестил или не навестил он родные могилы, для нас было уже не так важно.
* * *
«Да, да… Верно… Помню, помню… — растерянно повторял Салим Сахиб. Не знаю, почему, но он был ошеломлен напоминанием о его приезде в Бузбулак. — А у тебя прекрасная память… Учишься, наверное, хорошо…»
«Гелендар очень способный, — сказал Тахир-муаллим. — Один из лучших студентов». — «Что ж, значит, у него блестящее будущее… А почему тебя так беспокоит, езжу или не езжу я в Бузбулак?» — «Да нет… просто к слову…» — «А ты, сынок, никогда не говори просто к слову. Обдумай, прикинь… Особенно, если со старшими. Такой человек, как я, шутит, а ты не понял. Значит, заносчив… А заносчивость тебе не к лицу».
«Ладно, не прижимай парня к стенке! — Тахир-муаллим шуткой прервал Салима Сахиба. — Во всем университете отыскался один земляк, и того съесть готов! Мне думается, встреча удалась, прошла неплохо. Я вообще считаю, что студенты должны быть лично знакомы с писателями. Тогда они совсем другими глазами читают их произведения…».
* * *
Именно так — «совсем другими глазами». Всего лишь месяц спустя после этого разговора я совсем другими глазами прочел в тишине и покое Бузбулака книги Салима Сахиба. Читал и вспоминал встречу в университете и ту бузбулакскую весну: изобилие воды, солнца, зелени — май тысяча девятьсот сорок шестого года… Тот май не кончился с отъездом Салима Сахиба. В ту весну в Бузбулаке спустя несколько дней после посещения его знаменитостью произошло другое событие, тоже запомнившееся мне на всю жизнь: бузбулакское солнце, ударившись о прибрежный камень, разбилось на мелкие куски. «Даже поверить не могу — только ногу на камень поставила, вдруг… Не знаю, солнце в глаза или еще что, только вижу — не приведи господи увидеть — сорвалось с неба и прямо мне под ноги!..» — так позже рассказывала мама соседкам. Но я сам был там, когда солнце, сорвавшись с неба, разбилось на мелкие кусочки. Мы с ребятами играли на берегу и не видели, как мама с зеркалом в руках вошла в речку, как осторожно поставила ногу на гладкий и скользкий камень, я видел ее уже без памяти лежавшей возле этого камня, а вокруг осколки зеркала; зеркало это мама несла в соседнюю деревню — сменять на пшеницу, ячмень, картошку — что дадут, но она не дошла до деревни и вернулась: вдруг стало обидно почти даром отдавать зеркало, оставшееся из девического ее приданого.
Сбежались женщины, брызгали маме в лицо водой, хлопали по плечам, вливали ей в рот молоко, и мама, открыв глаза, сразу взглянула на небо: на месте ли солнце…
Солнце было на месте, Салим Сахиб! Желтое-прежелтое, оранжевое-преоранжевое, оно стояло точно посреди неба! О камень разбилось не оно, а наше большое зеркало, единственная ценная вещь, которую мы сумели сохранить до самого мая тысяча девятьсот сорок шестого года… Теперь это зеркало превратилось в бесчисленное количество осколков, холодно поблескивавших среди речных камней. Но жизнь его на этом не кончилась, наоборот, может быть, лишь теперь-то и началась истинная его жизнь. «Я красивая…», «Смотри-ка, я ничего…», «Хм, какие у меня, оказывается, брови!..», «Ой, откуда же у меня шрам на щеке? A-а, это я запрошлый год с груши свалилась!..». В двенадцать лет впервые увидать себя в зеркале! Кто сейчас поверит в такое?.. Быть пятнадцатилетней девушкой и вдруг однажды, глядя в осколок зеркала, узнать, что на щеке у тебя шрамик! (Нет никакого шрама! В вас нет изъянов, девушки Бузбулака, аллах создал вас совершенными, и пусть будет проклят тот, кто не верит этому!)
Осколки зеркала девушки в ту весну вместе с учебниками приносили в школу. Осколок зеркала был в кармане у каждого мальчишки, они ловили им солнышко, и на стенах бузбулакской школы, на оконных стеклах, на классных досках, на спинах учителей, на лице, на волосах, на груди красивых девочек играли солнечные зайчики… Ну, убедились теперь, что не солнце разбилось в тот день о прибрежный камень?
«Не троньте, солнце сорвется!». Эти и только эти слова твердил я в малярийном бреду лет семь спустя после этого события. «Не троньте, солнце сорвется!..». Нет, солнце никогда не рухнет с неба!
Солнце взойдет. Потом оно зайдет за горы. И так же, как всегда будет всходить и заходить солнце, цветы вишни, дающей ярко-красную ягоду, всегда будут белые-пребелые. Такие белые, что человек однажды не выдержит и поймет, что должен сказать им что-то. Что сказать, как сказать — это уже не имеет значения…
Глава четвертая
Деревья без тени
Снилось мне, что я в поезде, еду в деревню. Лежу на верхней полке. Очень хочется спать, но заснуть не могу: в купе жарко, свет бьет в глаза…
Всякий раз, стоит мне сесть в поезд, я сразу, еще на вокзале, погружаюсь в атмосферу родных мест. Каждое слово, произнесенное так, как говорят лишь у нас, коснувшись моего слуха, что-то рождает в памяти. Особенно если это женский, девичий голос, потому что в женских голосах есть все: бузбулакское утро, вечер, речка, родник, солнечное тепло, дымок самовара, аромат чурека, которым так сладко тянет от тендира… Но сейчас я словно бы сел не на тот поезд: мужчина внизу давно уже бубнил что-то густым баском; голос вроде бы мне знаком, но выговор не наш. Иногда до слуха моего доносился чей-то плач; кажется, плакала девушка. Я не мог разобрать слов, которые она сквозь слезы говорила мужчине, но его слова время от времени достигали моего слуха: «И чего ты во мне нашла? Четвертый десяток, а добиться ничего не добился… Ну, пускай поженимся мы, получим в загсе бумагу, думаешь, жизнь со мной увидишь? Не увидишь ты со мной жизни! Какой я, к черту, муж? Одной жизнь покалечил, восемь лет замуж не выходит, чертовка! И говорил я себе: устроюсь, сразу поеду к ней… Увижу, что вела себя нормально и меня из сердца не выкинула, сюда привезу. Она ж институт кончила, учительница. А главное — у ребенка отец будет… Что я могу сделать?.. Видно, на роду написано жить не по-человечески… — Элаббас повернулся ко мне, увидел, что я проснулся, заговорил громче: — Раз она так со мной, судьба проклятая, плевать я хотел на эту судьбу! И на весь этот протухший мир! Ничего не дает человеку, пока подлецом не сделает! Вон Гияс!.. В Академию устроился! На „Волге“ разъезжает! Ничего, пусть себе… Пускай так живет, а мы как-нибудь по-другому…»
Уже несколько дней Вильма с утра приходит к нам готовить еду и каждое утро выслушивает нечто подобное. Девушка не обижается на Элаббаса. Она если и плачет, то как-то тихонечко, про себя. Но сегодня Вильма, кажется, плакала по-настоящему, и хотя глаза у нее сухие, на щеках дорожки от слез; она смущенно взглянула на меня, хотела улыбнуться, не смогла и, опустив голову, вышла из комнаты.
— Ну вот чего она? А? Ведь я же правильно говорю! Или неправильно?.. — Элаббас кричит это с другого конца комнаты, спрашивая то ли меня, то ли себя.
— Не знаю, Элаббас, сам решай. Но уж больно девушка хорошая. Такой не найти, ей-богу!
— Новость сообщил!.. — Он тяжело вздыхает и садится на кровать. — Будто я сам не знаю, какая она.
— Вот и женись, не завтра жизнь кончается.
Элаббас, вздохнув, отходит от кровати.
— Для тебя, может, только начинается, а для меня, хоть и не конец, но уж во всяком случае не начало. Не хочу никому больше жизнь уродовать. Пусть едет в Ленинград к тетке. Может, найдет хорошего парня, жить будет по-человечески. Да если б не родина моя, я б тут ни на минуту не остался! Знаю: жить не смогу в другом месте! Послужил бы в армии, понял бы, о чем речь!..
— А ворчать-то зачем? Ворчишь, ворчишь на девушку, будто старик какой… С женой сойтись решил — дело другое. Но ведь сам говорил — не вернешься туда. До смерти один будешь.
— Буду!
— Посмотрим…
— Сможешь посмотреть — полбеды. Боюсь, не сможешь ты этого увидеть. Разлучат нас с тобой.
— Кто же это нас разлучит?
— Судьба, милый, судьба. Знаешь, какая это зараза — судьба? Я ее штучки на своей шкуре… — Элаббас махнул рукой. — Ну как ты, к Салиму Сахибу не надумал?..
— Нет, решил не ходить.
— Будешь сидеть, ждать ректора?
— Буду ждать.
— А вдруг он после экзаменов махнет куда-нибудь на курорт?..
— Может, и не махнет…
— Я ведь скоро уйду отсюда, Гелендар. Без меня-то что будешь делать? — Уже несколько дней Элаббас с утра, выпив чаю, уходил в город, возвращался вечером, а вчера сказал, что на днях его обещали устроить на хорошую работу в трамвайном парке. Элаббаса мучило, что, если он уйдет, я останусь в общежитии один.
— Да ведь ждать-то всего ничего осталось. Как-нибудь…
— Как-нибудь… Ладно, вставай, пока горячий… — Элаббас вздохнул, потрогал рукой чайник, постоял, подумал… — Ты вот что, Гелендар, ты слушай, что я скажу: сиди и пиши. Понял? Твое «Письмо к матери» — это настоящее, клянусь! Особенно то место, помнишь, ты мне читал… Ну, где он сует голову под желоб, чтоб мать не слышала рыданий. Прямо мороз по коже!.. И про ту женщину… Как она девчонок своих на замок, чтобы с голода за плохие дела не взялись. Да, подлецов и тогда хватало — в войну! Подлецы были и будут… Вот поэтому сиди и пиши! Голова занята, и время быстрей пройдет! — Он натянул брюки, надел ботинки. — Ну, я потопал. До вечера!
* * *
Но писать в те дни я не мог. Слова и фразы, без конца прокручиваясь в голове, выдыхаясь, гасли, и на бумагу ложилось что-то мертвое — чтобы писать, мне не хватало надежды.
Я давно уже никуда не выходил, целыми днями лежал на кровати, погруженный в мечты и раздумья.
Иногда я размышлял об Исмаиле: правильно он сделал, что уехал. С сентября работать начнет. Интересно, женился он? Если женился, какая у него жена: красивая или нет? Думая о его свадьбе, я обязательно вспоминал свадьбы в Бузбулаке и тот особый, удивительный покой, что наступал после свадебного пиршества… И молодых мужей, впервые появляющихся на улице в своем новом качестве: другой вид, другая повадка… Молодухам у нас положено дня три отсидеть дома. И вот когда кончались эти несколько дней и молодая выходила на люди, у нее тоже был совсем другой вид, другая походка, взгляд; молодухи стараются не смотреть на мужчин, прячут огонь, мерцающий в глазах…
Было жарко. Никогда в жизни не знал я такой жары. На верхних этажах заканчивался ремонт. Вильму дядя Антон перевел в только что отделанную комнату, мы с Элаббасом все еще оставались в красном уголке. Может, оставляя нас здесь, поближе к входной двери дядя Антон и вправду намекал: хватит, ребята, выметайтесь, не сегодня-завтра студенты приедут. Но куда нам было деваться?.. Халил-муаллим сказал, что Мазахир снял комнату в крепости. Он мог снять, потому что скоро получит зарплату. Гияс? Про этого можно было не думать: уж если ездит на «Волге», значит, есть крыша над головой. Допустим, Элаббас устроится на работу, тоже скоро будет получать зарплату, и, допустим, не бросит меня. Но когда еще он устроится, когда он ее получит, зарплату?.. Из общежития нам деваться было некуда.
* * *
Дядя Антон вошел в комнату, и я понял: все, выметывайтесь.
— Чего это ты все лежишь, мусульманин? — Дядя Антон носком сапога сгреб в угол набросанные на полу бумажки, сор, окурки… — Пойди, чайник поставь. Чайку попьем, потолкуем…
Ну и натерпелся я страху, пока кипятил чай!.. А ведь дядя Антон — чтоб ему жить сто лет! — вовсе не выгонять нас явился. Выпил чаю, стряхнул с лысеющей головы капли пота и, немного отдышавшись, сказал:
— Ты вот что… ты почему на этой девушке не женишься? Лучше девки не найти.
— Вы про какую девушку? — сказал я, хотя знал, что дядя Антон говорит о Вильме.
— Про эту, про немку… Чего замуж не берешь? Бог ума не дал?
— Так она ж не меня, она Элаббаса любит. А он ни туда ни сюда…
— Значит, твое счастье. Женись!
— Да не любит она меня. Его любит.
— Его любит? Эх ты… — Кажется, дядя Антон немножко принял сегодня.
— Его любит, тебя полюбит. Чем ты хуже?
— Нет, дядя Антон, так нельзя. Девушка любит моего друга, я на нее и не взгляну.
— Дурак ты, дурак. Сообразишь потом, да поздно будет. Слушай, что я говорю: весь Баку обыщи, днем с огнем такой девки не сыщешь. В сто раз лучше мусульманок, в тыщу раз лучше армянок! Только и знает книжки читать. Да будь у меня сын, я б ни минуты не думал… Нету у меня сына. Дочь есть да… — Он махнул рукой. — Натянула портки, титьки выставила и пошла!.. С утра смоется, придет заполночь… Не знаешь, где обретается…
— Сейчас много таких девушек, дядя Антон. В брюках… — ничем другим утешить его я не мог.
— Так я-то о чем? Вот я и говорю. И отец, и мать у стервы, а черт-те что выделывает; а эта сиротой росла, и такая порядочная. А что немка… Повидал я немцев за войну, много у них паршивых людишек… Но ведь и хорошие есть, особенно среди женщин. В госпитале лежал в Казахстане, меня вот сюда ранило, — дядя Антон поднял рубашку и ткнул в шрам под правой рукой. — Немка врач была. Сонечка… В госпитале по ней все с ума сходили… А я в то время не дядя Антон был, парень был картинка. Я ей говорю: кончится война, приеду, женюсь на тебе. Потом на фронт отправили. А потом не знаю что… Давай-ка еще плесни. Хороший чай заварил!..
Дядя Антон пил чай, обливался потом, и по мере утоления жажды настроение у него улучшалось.
— Да, сынок, еще раз тебе говорю, женитесь вы кто-нибудь на этой девушке. Жалко, коль дураку достанется… — Вытирая пот, дядя Антон поднялся со стула и начал ходить по комнате. — О господи, что ж это за жара такая? В тендире и то прохладней. Ну а как насчет работы? Не выходит?..
— Нет, ждем пока… (Вот оно — началось!..)
— Стало быть, те двое обскакали вас?
— Еще как!
— Ну и что? Бог даст, и вы устроитесь. Меня тут Маликов вызывал. Ну этот… Фаик-муаллим… Чего дескать, в общежитии посторонних держишь, гони их в три шеи. Девушку, говорит, не тронь, девушка пусть останется. А тех двоих — учеба кончилась, держать в общежитии не имеешь права… — Дядя Антон не смотрел на меня. Лица моего он не видел. — Ну и жара, черт бы ее побрал!.. Я ему говорю: я, Фаик-муаллим, тридцать лет в милиции служил, не хуже вашего законы знаю. Только, говорю, меня тоже женщина родила, не сучка, чтоб взять да выгнать людей на улицу… А если я армянин — что ж, над армянином бога нет? Налей-ка еще чайку…
Дядя Антон сел.
— И сесть-то нельзя, сразу к стулу липнешь… Обойдется, сынок… И на работу устроишься, и квартиру найдешь, все будет как надо… Вот увидишь. Много кой-чего еще увидишь, сынок. Это, сынок, Баку: деревьев полно, а найти такое, чтоб посидеть под ним, прохладиться!.. Вот в Карабахе, хоть огонь с неба сейся, сел под деревом и словно в рай попал. Не то что жара, иной раз прямо зябко, ветерок на тебя сон гонит… А тут под деревом сидишь, и даже пот не обсохнет. Сидишь и помираешь, потому что и под деревьями этими дышать нечем. Ты не думай, что раз я армянин, вот мне в Баку и не нравится, я здешний, сорок лет тут живу. Да ведь и в Ереване так же. Ну там хоть у воды посидишь… А здесь море. Бурлит, кипит, будто черти под ним огонь развели!.. Другое дело — речка течет!. Я считаю, это не город, если речки нет.
Странное дело, я тоже думал об этом нынешним летом: почему в Баку даже под деревьями нет прохлады? Я слушал дядю Антона и думал: да, Баку не сравнить с Бузбулаком. Еще думал, что, если бы Элаббас женился на Вильме, наверняка они были бы счастливы. И что дочка дяди Антона из той же породы, что Сима. И еще подумал, как это немка попала в советский госпиталь, да еще во время войны?.. И где теперь эта женщина? Вызовет проректор дядю Антона, чтобы велеть выгнать нас или не вызовет?.. И кроме всего этого, я думал еще что если когда-нибудь напишу книгу о Баку, то обязательно назову ее: «Город с деревьями без тени».
Уходя, дядя Антон дал мне слово, что как только отремонтируют нашу комнату, он вселит нас туда, и пусть этот Маликов гонит его в три шеи — пока мы не устроимся на работу, он нас трогать не станет.
* * *
В середине августа дядя Антон, выполняя слово, дал мне ключ от комнаты, в которой мы жили с Элаббасом и которая в течение пяти лет была прибежищем моих ивовых снов. Но Элаббас в комнате не поселился. Он уже работал слесарем в трамвайном депо и где-то там, рядом, снял комнату — от общежития до трампарка было слишком далеко ездить.
Дважды в неделю Элаббас обязательно навещал меня и всякий раз приносил бумажный пакет с продуктами: виноград, зелень, овощи… Если же он приходил без сумки, то подмышкой у него обязательно торчал арбуз. Я звал Вильму, и мы съедала арбуз. Элаббас совал мне под подушку трешку и говорил: «Сиди и пиши. Остальное тебя не касается».
* * *
Как-то утром в конце августа ко мне постучалась Вильма.
— Это Мурсал-киши, отец Гияса, — сказала она, пропуская вперед пожилого мужчину, по виду деревенского. — Приехал к нему.
— Гияс? Не знаю даже, где его искать.
— Ладно, сынок. Сперва укажи, куда мне поклажу деть, а потом будем думать. Я человек старый, со вчерашнего дня в пути…
Вся его поклажа была большая сумка, и, прежде чем положить ее, старик ждал разрешения хозяина дома. (И еще говорят, деревенские!..)
— Садитесь, пожалуйста! Если хотите, можно прилечь — отдохнуть, вот моя койка… Хорошо, что вы приехали… Как раз его чемодан тут… Внизу. Я схожу принесу…
Мурсал-киши поставил на пол сумку и сел.
— Сам-то он куда ж подевался? А чего чемодан оставил?
— Мы не знаем… — пробормотала Вильма. — Он нам не говорил…
— Ты какой нации будешь, дочка? На русскую не похожа.
— Тут есть один преподаватель, — Вильма порозовела, и я поспешил перевести разговор на другую тему, — Халил-муаллим. Он может знать, где Гияс. И проректор Фаик Маликов, он тоже, наверное, знает.
— Вот прочти-ка! — Мурсал-киши достал из кармана телеграмму. — Как считаешь, в своем уме парень?
В телеграмме Гияс сообщал, что обручился, скоро свадьба, но просил, чтобы на свадьбу никто не приезжал, кроме отца и сестры.
— Нормальный человек пошлет такую телеграмму? Пусть, дескать, приезжает только отец и сестра. А? Еще не женился, ублюдок, а уж мать признавать не хочет! А ведь его, подлеца, невеста обрученная пять лет ждет. Тьфу! Проклято будь молоко, которым тебя вскормили! Пусть только в руки мне попадется, я ему устрою свадьбу!.. Открой-ка сумку, сынок… Привез кой-чего… Ты, дочка, чайку спроворь, а там и глядеть будем…
Вильма вышла, взяв чайник. Старик одобрительно поглядел ей вслед.
— Надумал жениться, вот на такой женись. Я сразу приметил: обходительная девушка, степенная. Откуда она будет?
— Она немка. Выросла в районе, в детдоме, вот и говорит чисто.
— Немка? Надо же… — Старик задумался. — А которую наш берет, ты не видел?
— Не видел! — решительно соврал я.
— Ладно. Освобождай сумку.
Сверху лежали несколько чуреков, жареное мясо, домашний сыр, килограммовая банка сливок, соты с медом…
— Так… Чурек достань. Там мясо жареное… И банки давай на стол!
Я охотно выполнил все распоряжения Мурсала-киши. Вильма принесла заваренный чай, чистый стакан, хлеб, сыр, кусок пирога… Пирог она пекла сама.
— Ну, садитесь. Бисмиллах-рахмани-рахим! Садитесь, дочка, чего ты такая стеснительная?
Вильма поблагодарила и убежала. Когда поели, старик послал меня за чемоданом.
В чемодане, кроме книг, пальто, плаща и нескольких старых рубашек, были письма.
— От кого ж это у него столько? — поинтересовался Мурсал-киши.
— От разных людей. — Я перебрал несколько конвертов.
— А от Гюльзар есть?
— Есть.
— Видишь, какой мерзавец! Это нареченная его… Давай сюда! — Мурсал-киши распихал письма по карманам. — Значит, к начальству идти надо? Ну, пойдем. С богом! — Он поднялся со стула. — Такси-то отыщем?
…Вахтер, стоявший у проходной, ни в какую не хотел пускать Мурсала-киши в университет.
— Нельзя. Не велено. Сказали, хоть аллах с неба явится, не пускать…
— Старый ты человек, а аллаха всуе поминаешь! — Мурсал-киши сердито тронул усы. — Не сегодня-завтра предстанешь перед ним — с каким лицом?
— А ты усы не ерошь! Вылезут! Хуже себя нашел — учить!.. Малакасос! — вдруг выкрикнул вахтер по-русски. Казалось, он всю жизнь простоял в этих дверях для того, чтобы наброситься сейчас на Мурсала-киши. — Ты в горах козлят пас, а я уже аллаху молился! С двенадцати лет намаз творю! В жизни поста не нарушил! Вот ты, набожный, скажи, какой сейчас месяц?
— Август, какой еще?! — Мурсал-киши был несколько озадачен.
— Август… А еще усы ерошит!.. Про аллаха не поминай всуе!.. Что это значит — август? Это у русских да армян — август, а по-нашему, по-мусульманскому? Вот так-то! Еще берется людей учить!.. Только в твоей паршивой деревне еще и остались верующие! — Старик хитро усмехнулся. — Ладно, наука тебе! Чего явился-то?
Мурсал-киши жалобно взглянул на меня: он уж и говорить боялся.
— Это отец одного из студентов, — объяснил я. — Парень уехал из общежития, а мы не знаем куда. Может, кто из преподавателей знает.
— Какие преподаватели в такую рань?
— Халил-муаллим там?
— Он да, там.
— А проректор?
— Проректор не приезжал. Если к Халилу-муаллиму, давайте. Ты иди, тебя я знаю, учился. А ты тут постой, поглядим, какая такая твоя набожность…
Когда я вернулся, старики мирно беседовали… К сожалению, Халил-муаллим ничего не знал о Гиясе и его новых родственниках. Воспользовавшись случаем, я вместе с Халил-муаллимом вошел в приемную ректора. Мое имя давно уже значилось среди записанных на прием, но ректор пока никого не принимал. Халил-муаллим пообещал мне, что, как только ректор появится, он сам позвонит в общежитие и разыщет меня…
Хорошо, но куда ж все-таки девать старика? Как растолковать бедняге, что, если Гияс не объявится, мы не сможем его разыскать. А он не придет, совесть ему не позволит, иначе давно бы уж явился за чемоданом…
Пришли в общежитие; Мурсал-киши разделся, лег на мою кровать и проспал до, самого вечера. Выспавшись, он встал и начал делить привезенные продукты: «Это — тебе, это — девушке…». Освободил сумку, взял Гиясов чемодан и надел пиджак.
— Ты не трудись, сам возьму такси. Денег у тебя нет — дать? Да не смущайся, у меня хватает. С девушкой за меня попрощайся. Будешь в наших краях, не забудь Мурсала-киши. Я тобой доволен, сынок, да будет аллах тобой доволен! Увидишь моего подлюгу, — сказал он, уже садясь в такси, — скажи: знать его не желаю!
* * *
Дня через два дядя Антон снизу крикнул мне, чтоб скорей бежал, к телефону зовут. Перепрыгивая через две ступеньки, я полетел вниз: «Халил-муаллим? Ректор вызывает?..» Мне никто никогда не звонил по телефону.
— Ну что, все еще тут торчишь? — это был голос Гияса.
— Тут, — ответил я.
Он помолчал.
— Ну, тут и сдохнешь! — Гияс положил трубку. Он, видно, так и не знал, что отец его приезжал в Баку.
Потом я встретил Гияса вечером на бульваре, он шел пол руку с Симой. На нем был новый костюм, он отрастил усы, пополнел, посвежел… Но, ей-богу, никогда еще мне не было его так жаль, как в тот вечер. Не было у него ничего на свете, кроме нового костюма, черных пышных усов, кольца на пальце… Будто таким он и явился на свет: костюм, усы, кольцо на пальце… Будто никогда не бывал в деревне, никогда не видал тамошних людей, коров, овец, деревенские дома, тропинки… Будто никогда не жил в красном уголке, не пил чай из закопченного чайника, не стряхивал пепел в пол-литровую банку и не спал на грязном тюфяке, пахнущем клопами… Будто никогда не было на свете ни меня, ни Элаббаса, ни Исмаила, ни дяди Антона, ни девушки по имени Гюльзар… Да что там — будто никогда не было самого Тахира-муаллима!.. Тахира-муаллима не было, а вот он, Гияс, есть. И всегда будет существовать: новый костюм, пышные усы, кольцо на пальце. Здесь, в этом Баку, на этом бульваре, под этими тусклыми звездами, под этими деревьями без тени… И в тот вечер я подумал, что, чего бы ни достиг Гияс что бы он ни приобрел, никогда у него не будет своего дерева: ни вишни, ни алычи, ни яблони. Может быть, именно потому и показался он мне в тот вечер таким несчастным?
В тот вечер у меня возникла мысль о людях «без деревьев». В список этих людей «без деревьев» попал, конечно, Гияс, Фаик Маликов и, чего скрывать, мой знаменитый земляк Салим Сахиб; Салима Сахиба я поставил на третье место, и вполне возможно, поступил несправедливо по отношению к своему знаменитому земляку.
Глава пятая и последняя
День первого сентября
Первого сентября, на рассвете, когда все еще сладко спали, я вскочил и ушел из общежития. Никогда я не видал Баку в такую пору — на грани ночи и дня. И вдруг оказалось, что такой вот — уже не ночной и еще не утренний — он был мой, мой город, мой Баку. Как же долго скрывался он от меня!.. И как прекрасно, что наконец я нашел его! Нашел тогда, когда, казалось, нечего было уже ни находить, ни терять… Вчера, в последний день августа, ректор все-таки принял меня, и вчерашний день не только завершил август, положив конец лету, но и положил конец моему долгому мучительному непокою: все стало ясно. Ректор сказал мне примерно то же, что и проректор: хорошо учился, прекрасно, будешь хорошим учителем — сейчас в сельских школах должны работать высококвалифицированные педагоги. А что касается аспирантуры — на кафедре сейчас нет вакансий. Может быть, в будущем…
Что же нужно было мне сейчас, на грани ночи и дня, на улицах этого города? Куда я бреду по трамвайным рельсам, забыв про ровные спокойные тротуары? Может, ищу Элаббаса; рассказать ему вчерашнюю новость — облегчить душу, немного прийти в себя после мучительной бессонной ночи? Ведь сейчас, в предрассветных сумерках, я только у рельсов и мог спросить, где мне искать его. Завтра, второго сентября, Элаббас сам должен был прийти ко мне, но он был необходим мне немедленно: в этот час, в эту минуту.
Трамвайные рельсы тихо лежали, поблескивая в утреннем сумраке, и видели светлые, серебристые сны; по ним еще не прошли тяжелые трамваи, их не коснулась еще ничья нога, еще не тревожили их голоса людей и звонки трамваев — им можно еще было спать и видеть свои серебристые сны…
Не знаю, куда я шел, но я шел и шел, словно шагая вот так, хотел дойти до самого конца жизни… Может быть, там, в последнем моем прибежище, ждало меня что-то, что заставило вскочить до рассвета и идти. Но где оно, это «там»? Может, надо вернуться? Куда? Куда я вернусь? Что делать мне в общежитии первого сентября? Пятнадцать лет подряд первого сентября уходил я учиться. И вот опять первое сентября, а идти мне некуда. Наверное, для того, чтобы не видеть, как студенты отправляются на занятия, я и вскочил ни свет ни заря и убежал… Нет больше ни школы, ни университета. Единственное, что у меня оставалось, — удивительный предрассветный Баку, мой Баку, мой и ничей больше.
Был я, был мой Баку, и спали вдоль улиц трамвайные рельсы, и видели свои ясные серебристые сны… Деревья, три месяца подряд изнемогавшие от пыли и копоти, сейчас только начинали чувствовать, что они — деревья, и, хотя они стояли в один ряд, одного роста, подстриженные, веточка к веточке, каждое дерево было отдельным деревом, и, словно сознавая это, все они в это утро были такими живыми и прекрасными! Где-то белым-пребелым цветом цвело вишневое дерево, и оттуда, издалека, из мира его цветения, слышался мне тихий спокойный голос: «Возвращался бы ты, сынок. Приезжай, будешь работать учителем. Чего тебе там, в Баку? Все твои деды-прадеды в деревне жили…». Оттуда, издалека, ровным и ясным светом светит мне вишневое деревце. Может, он, этот ясный и ровный свет и влечет меня сейчас вдоль рельсов? И может, не к краю жизни стремлюсь я сейчас, а иду, чтоб увидеть эту ясную, чистую жизнь? Может, мне нужно что-то сказать им, цветам? Может, обратно взять слово, которое я дал им когда-то? Ведь именно слово, которое я дал когда-то вишневому деревцу, и завело меня в тупик… А может, я и не обещал, что окончу университет, стану ученым?… Обещал… Может, ты забыло эти слова, мое вишневое деревце?..
Наверное, было бы лучше, если б я не провел эти десять дней в деревне… Или еще лучше — никогда не уезжал бы в город… Говоря по правде, я и не собирался, у меня и мысли не было, хотя кончил я с золотой медалью. Это все дядя Мюрид, сторож на колхозном току. «Уезжай сынок! И смотри, не возвращайся обратно… Плохи наши дела. Разворовывают колхоз… Где с тока зерно воруют, сто лет урожаю не быть!» Дядя Мюрид разбередил мне всю душу, и как раз в ту же ночь один из колхозных управителей вывез с тока два мешка пшеницы.
В то лето я вставал спозаранок, когда еще не погасли звезды, завертывал в платок что-нибудь из еды и шел на работу. Наутро, после того, как Мюрид-киши сказал мне эти слова, я тоже встал спозаранок — в небе еще не погасли звезды — и, как всегда, взяв с собой немножко еды, ушел из дома; но отправился не к дяде Мюриду, а к Зиянет Шекерек-кызы — подписывать аттестат. В то лето наша Зиянет, которой уже перевалило за сорок, вышла наконец замуж за учителя из соседней деревни. Когда нам выдавали аттестаты, она уже переехала к мужу, и хотя для того, чтоб подписать их, Зиянет Шекерек-кызы дважды приезжала в школу, я, занятый на току, не сумел дать ей аттестат на подпись. Времени оставалось всего ничего — кончался июль. Чтобы успеть до начала экзаменов, мне нужно было срочно отправить документы в университет, именно в университет, потому что институтов в Баку много, а университет один.
Когда я дошел до деревни, солнце светило вовсю, а мне необходимо было застать Зиянет Шекерек-кызы дома, получить ее подпись и идти обратно. И как назло, перед самым моим приходом Зиянет Шекерек-кызы уехала в район, чтобы возвратиться под вечер. Оставалось ждать.
Я наведался в клуб, сходил в чайхану, в парикмахерскую, в лавку, но на все это ушло не более часа. Тогда я спустился к речке, сел, развернул узелок с едой и поел. И долго еще, часов пять, сидел там, любуясь речкой. Речка эта была намного быстрей, стремительней нашей, и в ней водилась рыба; мелкие-мелкие рыбешки порхали в прозрачной воде, наслаждаясь легкостью своих движений. Никогда еще не видал я такого «рыбьего праздника», может быть, поэтому позднее, бродя по деревенским улицам, в ожидании Зиянет Шекерек-кызы, я без конца бормотал: «Рыба в речке идет стороной… Рыба в речке идет стороной…». Вероятно, слова эти, придуманные когда-то большим бездельником, застряли у меня в мозгу, и из-за этого я чуть не поссорился с Зиянет Шекерек-кызы.
— Когда ты пришел? — спросила она.
— Утром.
— Угу. Ну, что нового?
— Рыба в речке…
— Что? Что? — Она подскочила, словно ее ткнули шилом.
— Я говорю, тут рыбки в реке красивые…
— Рыбки?.. Да, красивые. Значит, с утра ждешь, чтоб подписать аттестат? А чего ж сам не подписал?
— Там должна быть подпись директора.
— Должна. А тут вот несколько молодцов сами подпись поставили. Думаешь, поступят куда-нибудь? На пушечный выстрел не подпущу к институту!
Я достал из кармана аттестат: сложенный вчетверо, он лежал там, аккуратно завернутый в газету.
— Это что такое? Я такой аттестат не подпишу!
— Почему? — у меня оборвалось сердце — от этой Зиянет-Шекерек-кызы можно было ожидать чего угодно.
— Во что ты его превратил? Это же аттестат зрелости! Ты что — жевал его?!
— Извините, не подумал… — сказал я, чтоб подольститься. Зиянет Шекерек-кызы любила такие слова.
— «Извините, не подумал!» Как это не подумал? Аттестат с отличием, по всем предметам пятерки. Без экзаменов в институт поступишь. Да, попортил же ты мне крови, отличник! То и дело какие-нибудь выходки. Ты, конечно, способный парень, говорить нечего. Но медаль я тебе все-таки не дала бы. Знаешь, почему дала? Потому что, если б не ты, ее получила бы дочка этого идиота — заведующего учебной частью!.. Подписала. Езжай, учись. Только знай…
Зиянет Шекерек-кызы нарочно не торопилась. А я все поглядывал на горы, потому что за ними медленно опускалось солнце. Зиянет Шекерек-кызы наверняка не оставит меня ночевать, а как идти в темноте по горной дороге?..
* * *
На мое счастье, ночь выдалась не из темных. Когда солнце ушло отовсюду и в расселинах высоких гор, и на каменистых, покрытых колючками низинах, отделяющих Бузбулак от деревни, где жила теперь Зиянет Шекерек-кызы, сгустился и потемнел воздух, тотчас взошла луна и залила горы и долины ясным молочно-белым светом. И, спускаясь с высокой горы, на которую взбирался утром, я увидел залитую лунным светом сказку по имени Бузбулак…
В ту ночь с вершины высокой горы я должен был увидеть тебя, моя белая сказка, моя малая родина, огромный мой мир — Бузбулак… И колхозный ток должен был увидеть в последний раз, в белизне и прозрачной чистоте лунной ночи, должен был сказать «прощай» ему, хранилищу хлеба, который, может, и правда есть главная мировая опора. Нет, Мюрид-киши… На свете есть не только хищные звери, есть лунные ночи и звездные рассветы, и речки, в которых играет рыба… И может быть, эти звери совсем уж не так страшны, и ты зря напугал меня, Мюрид-киши. Но все равно, я больше не вернусь к тебе на ток. Я сам сейчас, как маленький мир, сорвавшийся со своей оси, — только что был вон где, и вдруг — смотри! — дом Салима Сахиба!.. А на балконе он сам собственной персоной!.. Что это он делает в такую рань? A-а, зарядку делает. Прыг-скок, прыг-скок! Раз-два! Раз-два! Молодец, Салим Сахиб!..
До дома Салима Сахиба я брел как во сне, лишь тут наконец очнулся… Было еще совсем рано, тихо еще было в городе…
Я очень устал в тот день, раз пять пересекая город из конца в конец, и совершенно выбился из сил. Когда под вечер я пришел в общежитие, Элаббас лежал на кровати и читал газету.
— Откуда ты? — Элаббас отбросил газету и вскочил. — С обеда тебя жду! С голоду подыхаю!
— Но ведь ты хотел завтра…
— А зарплату дали сегодня! Чего это ты такой? — Элаббас встревоженно поглядел на меня. — Да хватит киснуть! — Он схватил меня за плечи и встряхнул. — Знаю, с ректором ты все выяснил. Я и не сомневался, что так будет. Ничего, слава богу, Элаббас еще не умер! Ты главное — пиши! Заканчивай вещь. Остальное тебя не касается. Не рассиживайся, не рассиживайся, сейчас пойдем?!
— Куда пойдем?
— Где можно поесть как следует. А потом Вильму провожать.
— Она уезжает? Куда?
— В Ленинград, к тетке. Ну? Ты что, зареветь хочешь? Я не реву, ты надумал? И правильно, что уезжает. Может, хоть там жизнь увидит… Утром телеграмму получила. Да ты не думай, она веселая. Недавно приходила…
— А сейчас она где?
— Вроде в магазин пошла. Поезд у нее в половине девятого. Уйма времени. Надо пойти куда-нибудь посидеть, поесть…
Вильму мы встретили в коридоре. Она была в новом платье, нарядная — никогда еще не видел ее такой нарядной.
— А я сегодня в Ленинград уезжаю! — улыбаясь, сказала Вильма. Сказала это, потому что ничего другого сказать не сумела.
— Я знаю. Вернемся, проводим тебя.
— А куда вы?
— Да в ресторан. Поесть чего-нибудь… — Элаббас почесал в затылке. — Может, пойдешь с нами?
— Хорошо. Только зайдем на минутку ко мне.
* * *
Вильма устроила настоящее застолье: большая жареная курица, закуски, зелень, две бутылки вина…
— Ну? Чем вам не ресторан?! Не хватит, еще что-нибудь сготовлю. Садитесь, чего стесняетесь? У стеснительного сына не будет!..
Ишь какая вдруг стала разговорчивая! Сына ей подавай!..
Мы сидели и набивали желудок, а Вильма смотрела на нас и на глазах хорошела. Почему она сегодня такая? Рада, что едет в Ленинград? Или это новое платье?.. Или счастлива, что в день прощания сидит за столом с Элаббасом? Скорее всего так…
— Писать будешь? — спросил Элаббас.
— А куда?
— До востребования.
— Придешь на почту?
— Понадобится, приду.
— А вдруг не понадобится?
— Хватит голову морочить! — Элаббас сердито взглянул на девушку. — Замуж выходить будешь, сообщи. Только не за первого встречного, слышишь? Лучше бы, конечно, своей национальности…
Вильма не ответила. Сидела, опустив голову.
— Национальность… — не поднимая головы, пробормотала она. — Националист нашелся!.. Если ты хочешь знать, национальность моя — азербайджанка!
Теперь промолчал Элаббас. Сказать ему было нечего.
— Ну хорошо. Давай собирайся!
— Не спеши, и так уеду. Сидим же. До поезда больше двух часов.
А может, мне уйти? Пусть выскажет, бедная, все, что наболело.
— Куда? — Элаббас усмехнулся; я еще и с места не тронулся, а он почувствовал: — Вместе пришли, вместе и уйдем. — Он поднялся со стула. — Собирай вещи, Вильма, ждем тебя внизу.
Потом мы сидели в вокзальном ресторане: шампанское, фрукты, тосты… Вильма не выпила ни глотка, это я помню. Еще помню, как мы сажали ее в вагон… Смутно припоминаю, что после этого мы с Элаббасом отправились в другой ресторан. А вот что было дальше?..
Утром второго сентября я открыл глаза и не поверил им: надо мной по всему потолку тянулись трубы, трубы, трубы… Толстые и тонкие, они как стебли вьюнка, вились по стенам. И еще краны, бесчисленное количество кранов, маленьких и больших: в стену вделан был длинный котел, похожий на нефтяную цистерну, там что-то жарко клокотало… В дверь и сквозь маленькие окошки пробивался солнечный свет. У двери стоял стол, на нем посуда, два чайника: кипятить воду и для заварки… Элаббас стоял поодаль и улыбался, глядя на меня.
— Ну, привет! Что, совсем ничего не понимаешь? Эх ты, сиротинушка!..
Элаббас громко рассмеялся, подошел, пощекотал меня. И сразу вдруг посерьезнев, сказал:
— Баня это, кочегарка. И резиденция твоего друга Элаббаса. Теперь понял? Ничего ты еще не понял. Ладно, вставай, разберешься. Мутит? Я вон чай крепкий заварил… Может, сходишь помоешься?
Господи, что это он говорит? Кочегарка?.. Баня… Какая баня? И вообще, какое странное утро… А может, вовсе не утро? Который час?..
— Ты вставай, вставай… Спал неплохо. Хорошо спал. Слава богу, все обошлось… Я сам сдурил. Не надо было давать тебе столько пить.
— А что было-то?
— Совсем память отшибло! — Элаббас усмехнулся. — Как к Салиму Сахибу ходили, не помнишь?
— К Салиму Сахибу? — Я вскочил. — Мы были у Салима Сахиба?!
— И этого не помнишь? — Он покрутил головой. — Ну ты даешь!
— Подожди, подожди… — В памяти что-то смутно начало вырисовываться. Какие-то темные ворота… И еще что-то, похожее на гроб… A-а, лифт!.. — А дальше что? Что же дальше?
— И чего тебе взбрело на ум? Заладил: пошли, и все тут. Знаешь, как просил? Слезами плакал… Но все равно вина моя… Я ведь тоже хорош был.
— А что случилось-то? — обреченно спросил я, понимая, что случилось нехорошее.
— Да не бойся, ничего особенного. Малость ты ему мозги вправил… Развезло-то тебя уж потом, когда от него вышли…
— А что я ему говорил?
— Да уж все выложил! Все, что накипело! Ничего, нормально. Я утром сходил к нему, извинился. Можно сказать, помирил вас, он тебе с аспирантурой хочет помочь.
— С аспирантурой? — Я опустился на койку.
— А чего! Сделает… Что ему стоит?.. Между прочим, не такой уж плохой мужик, бывают хуже. Честное слово, ничего… Сегодня утром целый час сидели с ним, разговаривали. Сказал, как проспится, пусть приходит. Зря, говорит, до сих пор не обратился. Мы ж, говорит, земляки…
Господи, да что ж это я натворил! И после такого хамства идти к человеку в дом?.. А что я ему сказал? Ну хоть убей… Только лицо помню: багровое, глаза вытаращены…
— Ну как, очухался? Да, набрались мы вчера, нельзя столько пить! — Элаббас сел рядом, положил руку мне на плечо. — Ты не злись, что обманул насчет трампарка. Я правда хотел туда. Ходил, ходил, говорят: подожди… А тут иду — на двери объявление: требуется кочегар. Пошел к директору… Дельный мужик оказался. Вот работаю. Какая разница — в парке или тут кочегаром? Главное — какое-то время перебиться, а там видно будет… Подожди, я сейчас.
Элаббас вернулся, держа в руках мою рубашку и брюки… Они были выстираны, выглажены, да так чисто, что и не узнаешь.
— Видал? — Он аккуратно положил на табуретку мою одежду и вдруг громко расхохотался. — Я тебя от дома Салима Сахиба на горбу тащил. Хорош ты был… — Элаббас покрутил головой, потом опустился на колени и, воздев руки к потолку, произнес с комической торжественностью: — Слава тебе, всеблагой! Если после вчерашних происков шайтана мы еще целы и невредимы, значит, ты и впрямь покровитель сирых и неимущих!..
Я вышел во двор умыться и остановился пораженный — за одну ночь все краски обновились… Солнечный свет был чистый, свежий, прозрачный… Господи, что за чудо? Как это могло случиться? Солнечный свет не взбаламученный ручеек, чтоб отстояться за ночь!..
Двор показался мне знакомым, когда-то я был в этой бане. Но когда и где находится эта баня, вспомнить я не мог, будто память моя, истаяв за ночь, смешалась со светом, состоявшим из белого, красного, желтого, и растеклась по земле: от Баку до самого Бузбулака… И свет этот, вобравший в себя все оттенки радости: белый, оранжевый, красный, был свет моей двадцатитрехлетней жизни. Эти желтые отсветы я каждое утро видел, когда всходило солнце, красным был цвет самого солнца — звонкие, праздничные краски этого мира, которые я то терял, то находил вновь. И в это утро во дворе бани я пребывал в полном согласии с миром. Если бы не одно — если б я не ходил к Салиму Сахибу… Стоило вспомнить об этом, мороз продирал по коже. Как только в памяти всплывало багровое с вытаращенными глазами лицо, где-то в глубине моей души вздымался черный ветер, ветер этот хотел задуть, загасить яркость мира, его белое, желтое, розовое сияние. Но сделать этого он не мог, потому что рядом со мной был Элаббас, а может, еще почему-то, но только в то утро я был спокойный и сильный… И ничего нет зазорного в том, что Элаббас живет и работает здесь, в котельной, зря он скрывал от меня. Это же прекрасно, что можно жить и так: не приспосабливаясь, ни перед кем не сгибая спину… И может быть, именно потому, что я понимал это, мне было так спокойно и легко во дворе этой бани.
Двор со всех четырех сторон окружен был домами, построенными на старинный лад, с высокими потолками, со стеклянными галереями. Над баней тоже были жилые квартиры, и как раз напротив элаббасовской кочегарки в открытом окне стояла красивая девушка — может быть, поэтому мне не хотелось уходить со двора?.. Окна этих домов с высокими потолками были чистые — совсем не то, что у нас в общежитии. Дома дышали теплом человеческого жилья, а я крепко наскучался по дому, по семье — может быть, еще и поэтому мне не хотелось уходить с этого двора… Отсюда не были видны ни высокие дома, ни улицы, забитые людьми и машинами, ни университет, ни общежитие, ни черные ворота Салима Сахиба, через которые я проходил ночью…
* * *
Выходя из маленьких чугунных ворот, отделяющих этот мир от огромного города, я обернулся и взглянул на «резиденцию» Элаббаса.
Взглянул на окно, где только что стояла красивая девушка. Сейчас ее не было, но чистые стекла окон сверкали, и крупные виноградины в гроздьях спелого «шаны», свисавшие с ветвей мощной лозы, что поднималась из земли у самой кочегарки и затеняла чуть не полдвора, были очень похожи на глаза той девушки.
К Салиму Сахибу мы шли пешком. Проносились такси с зеленым огоньком, и Элаббас поднимал руку, но я не давал ему остановить машину. Я хотел идти как можно дольше, словно хотел подольше пожить на свете, до того как зайду в тот дом. В мире, где я хотел бы пожить, появились теперь гроздья «шаны», чьи крупные, чистые, налитые ягоды так похожи на девичьи глаза и чьей единственной грозди мне хватило бы на всю жизнь. Но если так, зачем идти к Салиму Сахибу?..
Когда вдалеке показался дом Салима Сахиба, по всему моему телу пробежал озноб, но я еще владел собой, и хотя соленый комок рыданий уже подкатывал к горлу, у меня достало сил не разрыдаться… И дерево виднелось впереди — молодая чинара; белея гладким стволом, она стояла на краю тротуара перед самым домом Салима Сахиба. В наших краях дерево это растет с незапамятных времен, недавно его саженцы появились ка улицах Баку. Дойдя до чинары, я остановился; Элаббас — тоже.
— Узнаешь? — спросил он и рассмеялся. — Знакомое деревце?
Дерево, и правда, казалось мне знакомым. Я вспомнил чинару, точно такого роста и возраста; я видел ее весной во дворе нашей новой школы. Странно только, откуда ее знал Элаббас, он никогда не был у нас в Бузбулаке…
— Ну, то самое?
— Да, то самое… — сказал я, все еще ничего не понимая. У меня слегка кружилась голова, подташнивало… От подступивших слез першило в горле.
— Видишь? Вон ту? — Элаббас показал на ветку у самой вершины. — Ночью ты до нее добрался. Хорошо, не сломалась…
— Элаббас!.. — Я провел рукой по стволу чинары, ствол был прохладный, мягкий, как бархат… Я коснулся его щекой, потом крепко обнял; под корой что-то тихо журчало, будто дерево плакало, струило слезы и слезами его омыто было все самое светлое, самое чистое на свете; я слышал легкое дуновение ветерка, голос цветущей вишни…
Элаббас молча стоял рядом.
— Хватит! — сказал он наконец. — Все нормально. Кончай реветь! — И взяв меня за руку, осторожно оттянул от чинары. Лицо у него пошло пятнами, голова втянута в плечи, в глаза мне он не смотрел. — Иди! Так встретит, будто и не было ничего.
— Элаббас! — Я стоял посреди улицы, держа его за руку; я не в силах был перейти на противоположную сторону. — Элаббас! Я не хочу!.. Я решил — домой еду! В деревню. Ой! Смотри!
Элаббас поднял голову и увидел Салима Сахиба, махавшего нам рукой с балкона.
Я бросился бежать. Прямо по дороге, уворачиваясь от машин и не обращая никакого внимания на свистки постового милиционера. Огромный, нескладный Элаббас тяжело топал за мной, прохожие останавливались и смотрели нам вслед.
Забавное, наверное, было зрелище…
Сказка о гранатовом дереве
1
В первое послевоенное лето, в тот самый день, когда нас отпустили на каникулы и я вприпрыжку мчался домой, счастливый тем, что уже пятиклассник и что впереди свобода, соседка тетя Набат остановила меня у ворот и очень строго сказала, что теперь я уже взрослый парень и кончилась моя пора без дела гонять по улицам.
Не снимая с плеча кувшин, в котором несла с родника воду, тетя Набат прислонила его к стене и начала говорить о колосках, остающихся на полях после уборки, и о том, сколько дров пропадает под ореховыми деревьями, а потом кивнула на муравейник, от которого текла к нашей стене нескончаемая живая струйка, и сказала такое, что мне показалось сказкой, — будто под стеной у нас дыра, а в ней муравьиные запасы, каждому на десять зим… Тетя Набат объяснила мне, что если я буду толковым парнем, то за лето и зерна наберу и дров натаскаю, а попадет в руки абрикос или алыча, тоже неплохо положить пяточек-другой на крышу — зимой-то как славно пожевать на переменке. Тетя Набат подробно рассказывала мне, где надо собирать колоски, в каких садах больше бывает дров; я стоял и почтительно слушал, хотя после четырех уроков и длинного-предлинного собрания, посвященного летним каникулам, мне не терпелось забраться в орешник.
Но разговором дело не кончилось. В самый разгар лета, когда все вокруг горело и трескалось от жары, тетя Набат вдруг начала пугать меня зимой. «Гоняй, гоняй, — говорила она, завидев меня на улице, — только зима-то ведь ждать не будет!» Тетя Набат все лето не оставляла меня в покое, и в конце концов я и правда начал бояться, словно не зима должна прийти, а что-то непонятное, жуткое… Пугая меня зимой, тетя Набат всякий раз обращала лицо к горам, и мне казалось, что именно там, за дальними горами, прячется то зловещее и неведомое, что неминуемо нагрянет на нас и что пока известно одной лишь тете Набат.
В жару прохладней всего у родника, и там всегда собираются ребята. В то послевоенное лето тетя Набат отвадила меня бегать к роднику. Каждый раз, когда я, до отказа набив живот абрикосами, которые необходимо было проглотить, чтобы набрать побольше косточек, являлся туда поиграть с ребятами в ямки, в конце улицы обязательно показывалась чадра тети Набат. Черная, страшная, она медленно приближалась к нам. Поставив на землю ведро, наполненное мелким хворостом, старуха клала на него торбочку с колосками, подходила к источнику и долго-долго плескала себе в лицо водой. Потом она приникала ртом к желобу, и видно было, как по глотке в ее худой, жилистой шее толчками проходит вода; вода бежала из уголков рта и, стекая по подбородку, заливала ей платье… Вытерев лицо концом платка, тетя Набат начинала ругать меня. Иногда я успевал улизнуть, и тете Набат оставалось лишь грозить мне вдогонку, случалось, что, напившись воды, она молча прислонялась плечом к дереву и, сворачивая самокрутку, пристально смотрела на меня. Это было хуже любой ругани.
Не знаю почему, но в конце концов тетя Набат оставила меня в покое. Может быть, старушке стало обидно, что я каждый раз убегаю от нее, может, ей довелось увидеть, как сторож лупит ребят, пойманных в колхозном саду, а скорей всего она просто махнула на меня рукой — с чего бы иначе перестала она со мной здороваться…
Якуб, сын тети Набат, вернулся из армии осенью. К нам он явился в первый же вечер. Перебросил через ограду ноги в черных тяжелых сапогах и сразу оказался перед айваном. Выглядело все это так, словно он не с войны пришел, а просто отлучался ненадолго, будто не четыре года, а четыре дня не было его дома. Якуб коротко поздоровался с нами и стал расхаживать по двору, оглядывая наше хозяйство. В карманах его солдатских штанов шуршали орехи. Взрослый парень, говорил Якуб, а ветки вовремя не обломал. И двор не поливал, абрикосовое дерево засохло. И трава погнила. Почему не скосил, когда положено? Пни от шелковиц надо было выкорчевать, саженцы посадить. Да и двор мог бы перекопать — вон какой здоровенный вымахал…
Тетя молча стояла в стороне, ей очень не нравилось, что Якуб с хозяйским видом прохаживается по нашему двору, не обращая на нее ни малейшего внимания. Якуб подошел к дому, дернул отваливающийся кусок штукатурки, швырнул на землю, пнул ногой расшатанную лестницу — в кармане у него громыхнули орехи. На разбитое окно Якуб почему-то не обратил внимания, хотя из шести стекол в раме сейчас не осталось ни одного. Потом Якуб ушел. Чтобы не ступать на лестницу, он стал пробираться у самой стены, касаясь ее боком; в карманах его штанов шуршали, перекатываясь, орехи. Выйдя на улицу, Якуб начал грызть их, а я слушал, как трещит ореховая скорлупа, и почему-то вспоминал слова тети Набат: «Бедная Медина… — говорила старушка, разглядывая синяки на лице моей тети. — А Якуб-то мой до сих пор по тебе сохнет… Обмирает весь, как увидит…»
Не прошло и двух дней, как Якуб привел откуда-то проворного черного ослика. Теперь нечего было и думать, чтобы поиграть с ребятами на улице, — Якуб то и дело сновал по деревне со своим черным ослом. То он ехал с мельницы, то на мельницу, то вез сено к колхозному амбару, то дрова на школьный двор, и каждый раз, завидев меня, кричал, что убьет, если еще хоть раз увидит меня, бездельника, на улице.
Якуба я не очень-то боялся, но все-таки убегал, когда он вот так начинал кричать. Во-первых, Якуб взрослый, а взрослых нельзя не слушаться, а во-вторых, мне даже на руку, что он кричит на меня: ругается, значит, родня, чужому-то какое дело. Лучше я буду слушаться Якуба, чем ребята станут думать, что у меня совсем никого нет.
А вообще-то я мог бы, конечно, и сумаха насушить — есть с фасолью — вон на горе красным-красно от него, — и ветки обломать: срежь из фундука палку и сшибай сушняк прямо с земли. Но раз никто не хочет обращать внимания на толстые красные пятерки, которыми из года в год разрисовывают учителя мои тетради, раз все считают, что я пустой, никчемушный парень, что я ничего не могу и не умею, я ничего и не буду делать, не буду — и все.
Возвращаясь из школы, я бросал сумку, доставал ячменную лепешку, припасенную тетей Мединой, и, прячась за соседскими заборами, пробирался к подножию горы. Я поднимался на склон, ложился за обломком скалы, так, чтобы меня не было видно, съедал лепешку и часами валялся на теплом песке, разглядывая нашу деревню.
Отсюда, с горы, она вся была как на ладони: земляные крыши, дворики, небольшие сады за домами; а дальше, по другую сторону деревни, колхоз — сады, пашни, поля… На крышах желтеют фрукты, разложенные для просушки. Вечером женщины поднимутся на крышу и соберут их. В этот час из всех дворов тянутся вверх дымки, вкусные и невкусные; вкусный дым в тех дворах, где ребятам дают с собой в школу фаршированные баклажаны и жареную картошку, завернутую в пшеничный лаваш; в остальных дым невкусный. Крыши, как и дымы, я тоже делю на два сорта: крыши тех, кто вернулся с войны, и тех, кто с войны не вернулся. И когда я начинаю их считать, мне не верится, что война уже кончилась, хотя я собственными глазами читал об этом и видел много разных фотографий.
Мне кажется, что война еще продолжается, кончаться она будет постепенно, и постепенно все вернутся домой. Прежде всего вернется мой отец. Потом, конечно, дядя Муртуз: какой же без него конец войны? Ведь вот тут, за этой скалой, нередко стоял он со своим биноклем, разглядывая деревенские крыши. А когда спускался, возле какого-нибудь из домов непременно поднимался скандал. Дело в том, что наш председатель дядя Муртуз на память знал, у кого сколько фруктовых деревьев, и если фруктов сушилось на крыше больше, чем должно быть, значит, они ворованные. Дядя Муртуз очень сердился на тех, кто воровал в колхозе фрукты, кричал и делал какие-то пометки в своей красной записной книжке. Накричавшись, дядя Муртуз отправлялся дальше по делам, а мы гурьбой бежали за ним, разглядывая черный бинокль; на ребят дядя Муртуз не сердился, потому что в нас нет «пережитков капитализма» и, став колхозниками, мы не будем воровать фрукты.
Когда на Первое мая или на Октябрьские школьники колоннами проходили по деревенским улицам, дядя Муртуз всегда был вместе с ними. Он шагал впереди ребят, а мы, маленькие, бежали рядом с колонной и громко радостно орали. Дядя Муртуз кричал «ура!», и мы кричали «ура!». Так мы доходили до правления колхоза. Дядя Муртуз направлялся к статуе Ленина, стоявшей возле самого правления, расстегивал пиджак, одну руку засовывал в карман, другую протягивал к нам — совершенно тек же, как Ленин, — и начинал громко говорить речь. Говорил дядя Муртуз долго, а мы хлопали, пока не начинали гореть ладони, и до хрипоты кричали «ура!».
Но даже если придут отец и дядя Муртуз — это еще не все. Для того, чтобы с войной было покончено, должен вернуться Азеров отец; нужно, чтобы на айване клуба собирался по вечерам народ, чтобы Азеров отец ходил по айвану, красивый, в белой отутюженной сорочке, и показывал, как надо играть на таре. И чтобы, проходя вечером по улице, он брал на руки маленьких девочек и подкидывал их вверх; с мальчишками Азеров отец играть не любил: меня, например, он никогда не сажал на плечо. Но все равно — раз он не вернулся, я не верю, что война окончилась…
…Отсюда, с горы, хорошо видно большую чинару, раньше здесь было самое многолюдное место, и дедушка Аслан каждый вечер заставлял парней таскать из арыка воду и, как следует смочив землю, тщательно подметать под чинарой. Теперь здесь тоже собираются по вечерам старики: сидят, прислонившись к корявому стволу, дремлют, позевывают… Дедушка Аслан всегда садится на одно и то же место и, воткнув в землю посох, задумчиво крутит его — он тоже все еще ждет конца войны. Ждет, когда вернутся «наши ребята» и будет кому подмести под чинарой, а когда они подметут под чинарой, он заставит их подмести и улицу, всю улицу до самой школы. По наши ребята все не возвращаются, и улицу поливать некому, и, посидев под чинарой, дедушка Аслан уходит, а рядом с тем местом, где он сидел, остаются на земле глубокие круглые дырочки. Проходя мимо, я всякий раз разглядывал эти дырочки, как разглядывают древние письмена. В письменах дедушки Аслана говорилось о том, что война проклятая все пустила прахом, даже дети перестали слушать старших: опостылело это все, сил нет, помирать пора, да смерть не идет; уж вернулись бы скорей наши ребята — распростился бы он спокойно с этим миром… Утром по деревне прогоняли стадо, и коровы затаптывали письмена, где дедушка Аслан писал о войне и о мире, но наступал следующий вечер, и письмена дедушки Аслана опять появлялись под чинарой…
Когда отсюда, с горы, я гляжу на деревню, мне всякий раз вспоминается, как кричала раньше ворона, что живет у нас во дворе в кроне большого ореха. Крик нашей вороны был полон слепящего солнца. Солнце затопляло горы, широким потоком света захлестывало деревню и, пронизывая лучами листву, сводило ворону с ума. Не в силах сдержать восторга, она исходила криком; ветка под ней тряслась, и ворона, взмывая вверх, с разлету бросалась на провода, тянувшиеся мимо нашего дома… Бабушка сердилась на ворону — ишь разбирает проклятую, не дай бог снег накличет, — я же в исступленном вороньем крике не слышал ничего, кроме неуемной отчаянной радости.
Зимой солнце исчезало на целые недели, возвращалось ночью потихоньку, а утром я просыпался от радостного крика вороны — все вокруг сверкало и переливалось. И хотя такое утро было праздником для всех — и для вороны, и для меня, и для бабушки, — бабушка все равно ворчала: снег накличет, вещунья проклятая. Снег бабушка терпеть не могла — у нее не было башмаков. Башмаков у бабушки никогда не было, на ее маленьких сухих ногах я всегда видел огромные отцовские ботинки. Ритмичный перестук этих ботинок неотступно следовал за бабушкой, спускалась ли она в подвал за дровами, несла ли бадейку с молоком, возвращалась ли из курятника с полным подолом яиц.
Когда солнце пригревало сильнее и земля во дворе темнела, бабушка тащилась туда, волоча свои ботинки, и, с наслаждением вдыхая влажный оттаявший воздух, внимательно разглядывала небо, прикидывая, много ли облаков. Если облаков насчитывалось порядочно, дров в подвале почему-то оказывалось мало, если же облака были редкие, дров у нас сразу прибывало и их можно было не беречь. Но много ли, мало ли, все равно надо спускаться за дровами, и бабушка волочила своя башмаки в подвал — к приходу отца ужин должен быть готов. А пока на чугунной печке, пофыркивая, варился ужин, бабушка рассказывала мне длинные-предлинные сказки. Чаще всего о том, как она ездила в Мекку к могиле пророка, как на бурдюках переправлялись через Аракс и какие там, в Мекке, чудеса. Месяц там в мужском одеянии, а на солнце — одежда девичья. И еще на нем ожерелье из золота, только видеть его дано не каждому, а лишь тем, кто воистину чтит аллаха; она, благодарение творцу, сподобилась, узрела на светиле золотое ожерелье…
В зимнее время отец каждый раз возвращался домой злым и, заслышав громыхание колхозных бидонов, в которых он возил на продажу масло и творог, бабушка тотчас же умолкала. Отец входил в комнату и сразу начинал на нас сердиться; он сердился, потому что весь день на морозе, весь день хлеб зарабатывает, а мы сидим себе в теплой комнате и поедаем заработанный хлеб. Он стаскивал с ног мокрые носки, швырял их к печке, потом хватал с тахты самую большую подушку, бросал на палас и, облокотившись на нее, принимался пить чай. Бабушка приносила из коридора сапоги, которые он бросал за дверью и ставила их ближе к огню. Отец пил чай, и, протянув ноги к печи, шевелил замлевшими пальцами: большие, плоские, они были сейчас багровыми. И пока с них не сходила краснота, а на лбу у отца не пробивалась испарина, он оставался мрачным; он приходил в себя медленно, как медленно испарялась вода из его шерстяных носков…
Бабушка считала, что все правильно, что отцы — они все такие, потому что трудно хлеб зарабатывают. И правильно, что у нее нет башмаков и не должно быть — она же не зарабатывает хлеба. И все-таки один раз бабушка завела разговор о башмаках. В деревне появился мулла, настоящий городской мулла, и бабушка решила, что хоть один раз должна она побывать в мечети — стыдно ведь перед богом-то. Но когда она заговорила о башмаках и о боге, отец пришел в неистовство и такими словами стал поносить аллаха, что бабушка не знала, куда деваться. Отец кричал, что ни черта он не стоит, этот аллах, что он самая что ни на есть последняя сволочь и что будь он настоящим богом, не было бы ни колхозов, ни этих проклятых бидонов. Всякий раз, когда разговор заходил о боге, отец почему-то начинал кричать про землю, про скотину, и я уже не знал, колхоз ли забрал у нас землю и скот или сам бог. После разговора о башмаках я больше не сомневался, что отец не покупает их бабушке не потому, что она не зарабатывает деньги, а потому что она любит бога.
Утром, когда я открывал глаза, отцовские сапоги уже не стояли у печки, бидоны, ночевавшие за дверью, тоже исчезали из коридора — отправлялись зарабатывать хлеб. Но каким бы сердитым ни был вечер, утро все равно наступало, и снова бабушка волочила свои ботинки в подвал, в хлев, в курятник…
И удивительные бабушкины сказки, и перестук ее ботинок, и сытое потрескивание чугунки, до отказа набитой сухими смоляными дровами, — все было в крике нашей вороны.
И все-таки веселый вороний крик — это прежде всего лето. Летний вечер… Повсюду на крышах женщины; они собирают фрукты и что-то громко кричат друг другу звонкими, сочными голосами… Мужчины стоят на айванах, беззлобно покрикивают на жен и степенно переговариваются. В садах уже все поспело, и каждого, кто проходит мимо, приглашают отведать фруктов… С восторженными воплями носятся по улицам мальчишки… И над всеми этими звуками стоит немолчное воронье карканье…
Теперь в деревне тихо, и когда за рекой, там, где начинаются баштаны, сын баштанщика, взобравшись на зеленую чалу, криком отгоняет птиц, я радостно прислушиваюсь к его голосу. Визгливый мальчишеский крик напоминает мне чем-то те вечерние голоса… И мне нравится, когда женщины окликают друг друга, когда они переговариваются, стоя на крышах… Но это случается редко, женщины теперь больше молчат. Словно им уже не о чем судачить: словно кошки уже не душат цыплят, собаки не таскают со двора кожи, а куры не несутся в чужих курятниках…
Под вечер у родника много женщин. И как ни далеко они от меня, Якубову жену, Садаф, я узнаю сразу: она худая-худая, на висках даже кости видны. Я всегда очень жалел Садаф, особенно когда вернулся Якуб и под глазом у нее вздулся огромный синяк. Глаз болел, но Садаф не прятала синяк, не закрывала лицо платком — ей хотелось показать всем, что у нее есть муж. Теперь ведь редко у кого мужья…
Когда солнце уходило от родника, в деревню возвращалось стадо. Правда, его уже нельзя было назвать стадом, так, десять-пятнадцать коров. Коровы разбредались по деревне и, мыча, останавливались у тех ворот, где всегда был вкусный дым. А когда солнце сползало с гор, плешивый Сафар прогонял мимо меня ягнят; он ругал их плохими словами и все время поминал их мать. Плешивый Сафар был самым младшим из подпасков, в школу мы пошли в один год. Правда, Сафар проучился только первый урок. Когда начался второй, его выгнали, потому что он был шелудивым — вся голова в болячках. Я очень завидовал Сафару, я завидовал ему всегда, а теперь, когда он завел себе щенка, зависть моя стала нестерпимой. Щенку недавно отрезали уши, и Сафар хвастался, что отрубит ему хвост. Он говорил об этом спокойно, как о самом обычном деле, а я день и ночь только и думал об этом хвосте: неужели не жалко, неужели и правда отрубит…
Помахивая коротким хвостиком, щенок бежал за Сафаром; они спускались с горы и пропадали из виду, но долго еще было слышно, как Сафар ходит по деревне и у каждых ворот громко кричит, вызывая хозяев. Потом голос его затихал, ягнята умолкали… Склон, на котором я лежал, из розоватого делался серым, я спускался с горы и задами пробирался к дому. Прячась за деревьями, я крался вдоль стены, отделявшей наш двор от улицы, и, только перемахнув через нее, выпрямлялся во весь рост. Я старался как можно сильней громыхать скобой — ведь никто, кроме Сафара, не знает, что я прячусь на горе, и тете это тоже ни к чему знать, пусть думает, что я был на улице. Раз я пришел с улицы, то, как бы поздно я ни заявился, тетя не будет сердиться. Она даже говорит, чтоб я не слушался Якуба; подумаешь, родственник — нашему забору двоюродный плетень! Только я все равно буду его слушаться. Пускай кричит — мне ни жарко ни холодно, — зато эти, с пшеничными лавашами, не посмеют сыпать тете песок в воду. Побоятся, потому что Якуб самый сильный, самый крепкий мужик в нашей деревне, он всех держит в страхе. Если бы Якуб не кричал на меня и не звал подержать осла, ребята и сейчас лазили бы к нам во двор и ради забавы били бы камнями стекла. Нет уж, пускай Якуб никакой нам не родственник, все равно я буду его слушаться.
Как-то раз, возвращаясь из школы, я увидел далеко за горами огромную черную тучу и сразу понял, что это оно, то самое, чем пугала меня тетя Набат. Туча и правда была страшная. Много дней медленно, но неуклонно двигалась она на деревню, наконец однажды ночью подмяла под себя горы, от края до края заполнила небо, и первый раз в жизни не обрадовал меня утром вороний крик: вдруг и в самом деле снег накличет…
Через несколько дней вечером тетя принесла с работы кучу желтых бумажных мешков и заделала ими окно. А еще через несколько дней, выйдя утром на улицу, я увидел, что муравьиная стежка исчезла — муравьи ушли поедать свои запасы.
Началась зима.
Из развалившегося Мукушева дома мы принесли подушки, одеяла, кусок старого паласа, чугунную печку со сломанной ногой и семилинейную лампу. Печку мы поставили посреди комнаты, подложив вместо сломанной ноги кирпич. Одеяла и подушки разложили на старом сундуке; сундук в углу комнаты я помнил с тех пор, как помню самого себя. Часть земляного пола мы закрыли паласом, и на нем каждый вечер горела семилинейная Мукушева лампа.
Поужинав, я раскладывал возле лампы свои учебники и тетради; чуть поодаль спиной к стене сидела тетя, латая что-нибудь из старья; а я, распластавшись на животе, готовил уроки. Иногда и тетя раскрывала книгу и клала ее себе на колени. Мы тихо читали, и тихо горела лампа.
Нередко к нам заглядывали соседки — в зимнее время приятно поболтать после ужина в теплой комнате. Как только гостьи являлись, мне со своими книгами приходилось отползать в сторону; тетя откладывала книгу, но не закрывала ее, а просто переворачивала раскрытыми страницами вниз, и все время, пока гости сидели у нас, тетины мысли оставались там, на раскрытой странице.
Тетя не любила болтать с соседками, разговоров их она тоже не слушала. И все-таки тетя радовалась, когда они приходили. Дело в том, что в ту зиму к нам зачастил Якуб, а если мы с тетей были одни, он и сидел дольше и говорил больше, а для тети это была настоящая мука.
Женщины приходили озябшие, красные с мороза и, войдя в дом, сразу же начинали расхваливать его; дом наш и правда был хорош — крепкий, старинной постройки, и топить в нем достаточно было раз в день.
Начав с похвалы дому, гостьи постепенно переводили разговор на другие темы: какой сахар лучше — кусковой или головками, кто сколько в этом году выручили за фрукты и что можно заваривать вместо чая. Тетя Хадиджа рассказывала, что очень хорош розовый лист, особенно если пить с тутовыми ягодами. Говорили еще, что появился какой-то порошок, на вид вроде известки. Жена Кадыра, что работает в земотделе, делает из этого порошка молоко…
Больше всего женщины толковали о пенсиях и, начав этот разговор, дом за домом перебирали всю деревню. Они точно знали, что на верхней улице получающих пенсию больше, чем на нижней, что кое-кому с нижней улицы удалось выправить фальшивые бумаги — ведь за ученых-то сыновей пенсия полагается больше, чем за неученых. Тетя Хадиджа очень расстраивалась, когда говорили о больших пенсиях — ее сыну всего год не хватило доучиться. А у тети Зивер никто не был на войне, и, когда разговор заходил о пенсиях, у нее сразу портилось настроение.
Женщины старались не говорить о погибших, не упоминать их имена, но разговор этот каждый раз возникал сам собой. Как только речь заходила о тех, кто не вернулся, тетя Хадиджа закрывала глаза и начинала медленно раскачиваться из стороны в сторону, тетя Месме глубоко вздыхала, в груди у нее что-то хрипело, и она долго надсадно кашляла. Тетя Зивер тоже делала печальное лицо, хотя очень печальным оно не получалось, не то что при разговоре о пенсиях.
О моем отце я слышал много — каждый раз, когда к нам приходили соседки. Женщины настойчиво убеждали меня, что отец мой был самым смелым, самым сильным и самым достойным мужчиной в деревне, хотя я в этом нисколько не сомневался. Тетя Месме не уставала повторять, что своими глазами видела, как, схватившись с односельчанами из-за воды, мой отец один измордовал целую ораву. А другой раз он увел у карабахцев шесть великолепных баранов, загнал во двор, когда пастухи гнали отару мимо дома, и все. Целый месяц на нашей улице пахло шашлыком. Когда тетя Месме вспоминает о шашлыке, я вижу, что у нее текут слюнки, хотя, если верить ее словам, шашлыка она не выносит и, если, не дай бог, проглотит кусок, болеть будет целую неделю. Тетя Зивер, которая доводится нам какой-то дальней родственницей, больше всего любит рассказывать о том, насколько благочестив был мой отец — завидев ее однажды у родника, он за сто шагов разглядел, что она без чулок, и тотчас же рассказал об этом мужу. Вечером муж, как положено, проучил ее палкой, а палка у него была тяжелая. Тетя Зивер рассказывает об этом с гордостью и печально качает головой: перевелись, перевелись нынче настоящие мужчины!..
А уж как было бы хорошо, если бы я удался в отца!.. Это, конечно, не легко, что говорить!.. И сад должен быть первым во всей деревне, и в лавке за сахаром я должен быть впереди всех, а если ночью был ветер и в колхозном саду посбивало орехи, я должен первым поспеть туда… А уж про двор и говорить нечего — руками бы должен вырвать, а не допустить, чтоб трава перестояла… Ведь до чего дошло — фрукты собрать ленюсь, под каждым деревом гниют, а это, можно сказать, живые деньги…
Тетя Месме с уверенностью предсказала, что из меня ничего путного не получится: «Цыпленка, его с яйца видно». Зивер не соглашалась с ней и в доказательство приводила другую пословицу про цыпленка: их, мол, по осени считают. Однако, защищая меня, тетя Зивер с таким отвращением поглядывала на разложенные на паласе тетради, что я ясно видел — не верит она тому, что говорит. Да что тут можно сказать: нисколько я не похож на отца и никогда на него походить не буду…
Конечно, если бы отец вернулся, было бы не так заметно, что я ничего не умею — при таком столпотворении, он, может, и сам не смог бы прорваться в лавку. И потом болтают, ничего, мол, не могу, ничего не умею, а подумали они о тете: пустит она меня воровать орехи и давиться в очереди за сахаром?.. Да она и разговоров этих терпеть не может. Соседки-то не догадываются, как ей противно их слушать; ни словом, ни жестом не выказывает тетя Медина своего неодобрения, но я-то знаю чего ей стоит сдержаться: губы у нее бледнеют, зрачки становятся огромными.
Еще хуже бывало, когда к нам заходил Якуб, а наведывался он нередко. Как только Якуб появлялся в дверях, тетя молча вставала и, схватив самое большое полено из тех, что он заготовил осенью, корчуя у нас во дворе кусты сумаха, запихивала его в печку. Казалось, она хочет, чтобы все эти дрова сгорели сейчас же, при Якубе, и чтобы он больше не показывался у нас.
Когда Якуб входил во двор, дощатая калитка громыхала, словно по ней били чем-то тяжелым, а железная скоба с силой ударялась о доску. И сейчас же, почти одновременно с этим грохотом, начинали скрипеть ступеньки. Якуб так быстро проходил расстояние от калитки до дома, что я только диву давался, но потом понял, что у него очень быстрые ноги — потому и с войны живым пришел…
Карманы у Якуба всегда были набиты тутовыми ягодами, знаменитыми ягодами тети Набат, которые никто больше не умел так сушить. Якуб входил к нам свободно, как свой человек в доме; он неторопливо прохаживался мимо окна, заделанного желтой бумагой, расспрашивал тетю о том о сем и все время шевелил рукой в кармане. Если у нас сидели женщины, рука так и оставалась в кармане, если никого не было, Якуб доставал горсть ягод и протягивал мне, затем — еще одну и клал ягоды перед тетей Мединой. Потом он усаживался на сундук, положив ногу на ногу, и начинал накручивать на палец шнурки своих толстых шерстяных носков, их было на нем две пары, одни поверх других. Левой рукой Якуб накручивал шнурок, правой бросал в рот ягоды; жевал он с удовольствием, говорил тоже с удовольствием.
Тетя сидела у стены, не обращая никакого внимания на лежащие перед ней ягоды, и думала о своем; как бы громко ни говорил Якуб, я знал, что она не слышит ни слова. Мне тоже надоедало слушать Якуба: по крайней мере, раз сто рассказывал он о том, как был в армии кладовщиком и как перед ним не то что солдаты — генералы на задних лапках ходили, потому что водка для русских — бог, а бог этот три года и девять месяцев был у него в руках. Насчет генералов я еще сомневался, зато у меня не было никаких сомнений в том, что на фронте Якуб из-под полы продавал землякам всякую всячину. Я верил Якубу, когда он говорил, что разыскивал на фронте моего отца и Мукуша. Разыскивал, чтобы сбыть хлеб, сапоги, сахар… Но Якубу не удалось исполнить своего намерения, и каждый раз, когда он рассказывал об этом, на его широком красном лице появлялось что-то похожее на печаль. Якуб умолкал и задумывался. И я задумывался, глядя на него. Я думал о том, зачем поверх своих красивых новых носков Якуб надевает старые. И сколько же ягод насушила прошлым летом тетя Набат, если Якуб до сих пор не может их поесть! Потом я пытался представить себе генералов, которые «ходили перед Якубом на задних лапках», и дивился тому, что на войне тоже, оказывается, бывают и кладовщики и амбары.
После всех этих историй с водкой и генералами Якуб обязательно заводил речь о моем отце; причем стоило ему упомянуть о том, каким бравым мужчиной был покойный Наджаф, он сам на наших глазах становился таким же: спина выпрямлялась, пальцы сжимались в кулаки, глаза начинали сверкать. Но вот взгляд его падал на меня, и он молча опускал голову. Якуб от души жалел меня и, не в пример женщинам, не любил болтать о моей никчемности. Он только грохал тяжелым кулаком по сундуку и тоскливо вздыхал: «Эх! Из огня да зола получается!..» И я сразу представлял себе золу, которая получается из огня: очаг, полный остывшей золы, гору золы, только что вытрясенной из самовара, чугунную печку, из дырочек которой хлопьями сыплется в мангал зола…
Якуб говорил часами, и я ни разу не замечал, чтоб тетя взглянула на него. Зато Якуб не отрывал от нее глаз. Когда ягоды кончались, и рассказы тоже подходили к концу, и пора было уходить, тете еще труднее было вынести его молчаливый взгляд. Она по-прежнему сидела в своем углу и только дышала часто-часто, словно ей не хватало воздуха; ее прерывистое дыхание отчетливо было слышно в тишине. Якуб то ли не обращал на это внимания, то ли ему нравилось, что она так дышит. Он вытягивал шею, его толстые красные губы очень смешно приоткрывались, и в такие минуты мне казалось, что Якуб сейчас запоет. Он и правда начинал петь, но уже на улице, когда за ним с грохотом захлопывалась калитка. И пока не затихал вдали его громкий заливистый голос, тетя сидела не шелохнувшись. Потом она быстро поднималась, хватала с сундука постель и, раскладывая ее на паласе, сердито ворчала себе под нос. Она отчитывала соседок, ругала Якуба, утешала меня: «Ишь выдумали! Хотят, чтоб я мальчика в пастухи отдала! Дождетесь! Как бы не так!»
По той ярости, с какой тетя взбивала подушки, видно было, что ей очень хочется не только отругать, но и отлупить кого-нибудь. Не переставая ворчать, она приносила из коридора спички, совала их под подушку и, задув лампу, ложилась. В постели тетя сразу затихала — завтра мне рано вставать, — но я знал, что она не спит, лежит и спорит с соседками, с Якубом, с тетей Набат…
С улицы слышался Якубов голос, и голос этот был ненавистен и омерзителен ей, как запах лекарства, которым санитары поливали дорогу, когда Лейла заболела тифом и ее увезли в больницу. Тетя ворочалась, вздыхала, с головой накрывалась одеялом, но от ненавистного Якубова голоса некуда было спастись, как от того вонючего лекарства. Весь день, с утра до вечера, от восхода до захода, гремел над деревней этот раскатистый хозяйский бас. По вечерам, когда у родника поднимали возню мальчишки, издалека были слышны радостные возгласы и довольное похохатывание Якуба — его сын легко клал на обе лопатки любого из своих противников. Ни у арыка, ни на мельнице, ни под чинарой — нигде не было теперь голоса громче Якубова: он проникал даже в школу через закрытые окна, и каждый раз, заслышав его, я видел сытое, довольное лицо, и мне снова и снова приходило в голову, что для Якуба война, пожалуй, и правда окончилась…
Весны ли было начало или кончалась зима?.. Печку мы еще не убрали, бумажные мешки из-под серы тоже пока торчали в окне; в тусклом свете керосиновой лампы отсыревшая желтая бумага похожа была на сыромятную кожу. Давно кончились дрова, заготовленные Якубом; тутовые ягоды, которых так много насушила прошлым летом тетя Набат, тоже кончились. Соседки к нам больше не приходили, и не было в нашем доме разговоров ни о пенсиях, ни о сахаре, ни о чае. Я лежал на паласе, разложив перед собой тетради. Тетя сидела в своем углу, прислонившись спиной к стене. Большие крепкие ноги Якуба, положенные одна на другую, торчали со старого сундука. В этот вечер Якуб против обыкновения молчал, и тетя, ни разу не сказавшая ему и двух слов, вдруг заговорила первой.
— Почему Садаф от тебя ушла?
— Я ее сам выгнал!
Якуб выпрямился и гордо взглянул на тетю. Будто не было ничего труднее, чем выгнать из дому тощую маленькую Садаф, и ему удалось, наконец, это сделать. Отчаяние мелькнуло в тетиных глазах. Она замолчала. А она должна была говорить, должна была высказать все, что накипело на сердце… Не смей позорить меня, должна была сказать Якубу тетя Медина, не смей к нам больше ходить! Нечего тебе делать в этом доме — все равно я никогда ни за что не выйду за тебя замуж!
Якуб ушел. Тетя виновато взглянула на меня. «Ну как его выгонишь, все-таки человек, не собака?..» И по-прежнему в ее глазах была надежда: «Может, поймет, может не придет завтра?..»
Самым плохим был тот день, когда Якуб вставил у нас стекла. Тетя была на работе, меня тоже не оказалось дома; когда я пришел, стекла уже были вставлены в раму, а на полу валялись обрывки желтой бумаги.
Вечером вернулась с работы тетя. Вошла и замерла, не отрывая глаз от стекол. Потом поставила на пол ведро, которое каждый день брала с собой в поле, и ушла во двор. Стемнело, в домах зажглись огни, а тетя все ходила по двору. Самовар она в этот вечер не ставила, свет не зажигала, как будто стекол не видно, если сидеть в темноте…
Но стекла были видны: и в этот день и на следующий. И был еще один очень плохой день, когда учительница Товуз, самая старшая из наших учительниц, отвела меня на перемене в сторонку и, вынув изо рта папиросу, спросила:
— Якуб взял твою тетю в жены?
Я ничего не ответил ей, но весь день до самого вечера мысленно твердил одно и то же: «Нет, Якуб не взял ее в жены! Нет, Якуб не взял ее в жены!» Ну как они не понимают: уж если Мукуш не смог ее принудить, неужели она станет спать с Якубом!
Но они не понимали. Никто этого не понимал. Наоборот, все были уверены, что мы с тетей только и мечтаем, как бы заполучить Якуба. И Садаф, которая выставляла напоказ свои синяки, и тетя Набат, которая с зимы не разговаривала с тетей и не отвечала, когда я с ней здоровался. А ведь сердилась она не потому, что я не собирал колоски и не запасал дрова, на это она давно махнула рукой — вон как она целовала меня в тот день, когда Якуб вернулся из армии!
Весна ли тогда кончалась или настало лето? Печку мы уже убрали в подвал, и она лежала там на боку, потому что у нее выло только две ноги и стоять она не могла. Лампа горела на своем обычном месте, и поскольку в окнах были теперь стекла, а не бумага, похожая на сыромятную кожу, видно было, как светит луна. Лунный свет заливал черешни; спелые красные ягоды казались сейчас белыми. Свет падал на мои учебники, давно уже отдыхавшие на подоконнике. Я, как всегда, лежал на животе перед лампой, хотя мне не надо было учить уроки. Тетя сидела в углу, прислонившись к стене. С сундука торчали две большие сильные ноги в чарыках[1]. Якуб уговаривал тетю отпустить меня с ним в район, продать ту самую черешню, что казалась сейчас белой под лунным светом. И тетя согласилась. Как это ни удивительно, она согласилась с Якубом.
Лишь только Якуб ушел, тетя взяла с подоконника мою тетрадку, вырвала из нее листок, нацедила в засохшие чернила воды из самовара, достала ручку, заложенную в одну из книг, и, задумавшись на секунду, опустила перо в чернила. И сразу лицо ее изменилось. Господи, ну какая другая женщина может так радоваться, взяв в руки перо! Лицо у тети сразу становится счастливое, и она прямо на глазах превращается в девочку, в школьницу… Я знаю, что тетя поступила учиться, когда к нам в деревню пришла Советская власть. Учителя тогда занимались с ребятами в саду под деревьями. Это было недолго, только первое время, но тетя Медина так всегда рассказывала о своей школе, что невозможно было представить ее себе в обычном классе, за партой. Только в саду. И не в обычном колхозном саду, в котором проходят у нас уроки ботаники. Тот сад был особенный: в нем все цвело, и пахло в нем по-другому. И учителя там не писали примеров, не диктовали правил — они пели с ребятами. И дорожки, по которым дети бегали в школу, были тогда не те, что сейчас. Может быть, дорожки-то были и те, но тогда они утопали в розах: ведь это о них говорилось в тетиной песне. Азеров отец тоже пел иногда в клубе эту песню. А не будь этой песни, и этой школы в саду, и Азерова отца в белоснежной сорочке, тетя Медина, наверное, не ненавидела бы Якуба. Мне даже кажется, что именно из-за этой песни не может она делать с Якубом то, чего безуспешно требовал от нее Мукуш…
И каждый раз, едва тетя успевала положить перо, цветущий сад пропадал, дорожки, обсаженные розами, превращались в обычные тропки, и в нише перед мечетью показывался Мукуш, подстерегавший тетю. Потом слышался тяжелый топот сапог. Топот черных сапог сливался с завыванием черной свадебной зурны, и в черной-пречерной темноте тетю вели к Мукушу… Потом на дороге у клуба я видел старого учителя Хашима, того самого учителя Хашима, который не здоровался с тетей за то, что она бросила школу.
На этот раз радость не сошла с тетиного лица, когда она положила ручку. Тетя поставила чернила на подоконник, сложила листок треугольником, дала мне и сказала, что я должен отнести его Мерджан. Мерджан работает в хлебной лавке возле рынка. Тетя долго растолковывала, как разыскать лавку, а потом сказала, что самое главное — не показывать письмо Якубу. И еще она строго-настрого наказала, чтоб я ни в коем случае не тащил сам черешню, пусть Якуб привяжет ведро к ослиному вьюку. Если я устану, он и меня должен посадить на ишака, только надо держаться покрепче. Как выйдем в степь, нужно остановиться и не спеша закусить, а если мне понадобится по своим делам, стесняться нечего — присел за камень, и все. И тетя первый раз в жизни сказала, что Якуб — осел и ничего этого не понимает.
Было еще темно, когда мы вышли из деревни: впереди ишак, за ним Якуб, потом я. Штаны на мне были чистые-пречистые и совершенно сухие: и когда только тетя успела их высушить? Галоши тоже были чистые, блестящие; она вымыла их, положила внутрь газету, чтобы не так чувствовались камни. Только все равно ногам было больно. Якуб шел в чарыках — и хоть бы что, а ведь носки на нем сейчас были только одни. Ишаку тоже было не больно ступать по камням — он весело вскидывал копыта, поблескивая новыми подковами.
Ведро с черешней нес я, Якуб шел налегке. Ведро я обязательно должен был нести сам, если, конечно, хочу вырасти таким, как отец, — он в мои годы мешки с зерном таскал по горной дороге.
Жаль, что мне раньше не пришло в голову — я не стал бы доверху насыпать ведро, а то Якуб так быстро шагает… Ишаку тоже шагалось легко, видно, не в тягость ему были два вьюка, он чувствовал себя великолепно, и даже помахивал красивым черным хвостом.
Мы долго шли степью: она была серая, плоская, бесконечная. И все время, пока мы шли по этой серой, плоской равнине, Якуб рассказывал мне об отце. И мне почему-то начало казаться, что лицо у моего отца было серое и совершенно плоское, тогда как я хорошо помню — отец был горбоносый и лицо у него было красное, почти такое же красное, как у Якуба.
Острые камни нестерпимо кололи ступни. Камни тоже были серые, злые и беспощадные. Весь мир сейчас состоял из этих острых, безжалостных камней, и самое ужасное было то, что их нельзя ни растоптать, ни избить, ни заставить плакать.
До рассвета было еще далеко, небо висело тяжелое, низкое, серое. Впереди маячила гора — большая, равнодушная. Я должен был тащить ведро на самую ее вершину. Очень хотелось реветь. И не потому, что нестерпимо болели ноги и ломило от тяжести спину, а потому, что весь мир состоял из серых острых и злых камней и их нельзя было ни растоптать, ни избить, ни заставить плакать.
Мы шли от одного телеграфного столба к другому, и рядом с нами тянулся по проводам негромкий сдавленный стон… Время от времени Якуб постегивал хворостинкой по галифе в том месте, где они вздувались шаром; ишак вздрагивал и бросался вперед. Маленький черный ишак не был ни злым, ни безжалостным, и он боялся Якубовой хворостины. Ослик добрый. Мне не раз доводилось заглядывать ему в глаза. В больших коричневых глазах были печаль, боль, тоска, но я никогда не видел в них злобы. Не будь здесь Якуба, я обязательно привязал бы ему ведро на спину, а чтобы он не обиделся, я почесал бы ему холку, погладил бы за ухом, согнал бы слепней с живота…
Понеси мое ведро, а? Тебе ведь не больно, у тебя войлочный палан на спине… А у меня руки отваливаются… и так ломит спину… Ну тогда хоть иди потише!..
Иногда ослик начинал медленней переступать копытцами, но хворостина со свистом разрезала воздух, и он, вздрогнув, снова бросался вперед. Якуб беспокоился, спешил, поминутно подгонял ишака — дельный человек до зари должен быть на базаре, иначе попадешь к шапочному разбору.
Несколько раз Якуб принимался утешать меня — подумаешь, ведро черешни! Они с моим отцом мальчишками зерно таскали по этой дороге — мельницы у нас тогда еще не было. Вот то была тяжесть! А сколько раз они волков здесь встречали, и ничего, не трусили… Мой отец настоящий парень был. Вот и я должен вырасти таким же: бесстрашным, сильным, смекалистым…
Иногда Якуб запрокидывал голову, глядел на небо и начинал петь, в такт песне похлестывая себя по спине хворостиной. Якуб пел потому, что не мог не петь — этим летом его обязательно поставят кладовщиком. Меня он возьмет в помощники, вот уж когда я досыта наемся сыру и миндаля. Всего у нас будет вдоволь. Горох мы станем взвешивать каждую неделю, и каждую неделю будет по пуду привесу: горох влагу впитывает. Орехи другое дело, их смачивать приходится — усыхают. Но тут, конечно, мера нужна: сколько воды в орехе, сколько песку в зерно — на все свой порядок. Якуб это доподлинно знает: отец у него тоже не один год в кладовщиках ходил…
…Большой палец на правой ноге совсем занемел — я его не чувствовал. Руки тоже были не мои. Когда мы подошли к подножию горы, Якуб, наконец, разрешил мне поставить ведро и отдохнуть. Но я не поставил ведро — я уже не ощущал боли. Я ощущал одно: Якуба я ненавижу. Я не знал тогда, что это называется ненавистью, но не хотел, чтобы она проходила: чем больше я ненавидел Якуба, тем меньше ощущалась боль, — вершина горы уже не казалась мне такой далекой…
На горе Якуб взял у меня ведро — теперь его понесет ишак… Он улыбнулся и ласково погладил меня по голове, как гладил своего сына, когда тот, схватившись возле родника с кем-нибудь из мальчишек, клал противника на обе лопатки. Моим противником было ведро, и я победил его. Потом Якуб приподнял на мне рубашку и погладил плечи, лопатки… Меня душили слезы, но я не плакал, мне было радостно, но я не хотел радоваться — боялся потерять то, что давало мне силы и что называется ненавистью. Когда мы сели перекусить, и Якуб достал жирную белую курицу, завернутую в платок, мне стоило большого труда не выпустить из себя ненависть, потому что Якуб отдал мне большую половину курицы… Это мне удалось, но лишь потому, что склон был в тени и садов не было видно. Когда же мы пошли среди садов и росистая листва деревьев засверкала в солнечных лучах, я уже ничего не мог с собой поделать. И до самого конца пути, до самого райцентра не оставляло меня опасение, не потерял ли я также и письмо, и я все время нащупывал его в кармане.
Булочную я увидел сразу, как только мы продали черешню и мне удалось ускользнуть от Якуба: она была здесь же, наискосок от базара. Отыскать ее ничего не стоило. Во-первых, на ней было написано, что это булочная. Во-вторых, у всех, кто выходил из дверей, был в руках хлеб. И в-третьих, возле лавки толпился народ, а тетя рассказывала, что больше всего народу бывает как раз возле булочной. Тетя называла еще кучу разных примет, говорила, что отыскать булочную не просто, и это меня сейчас озадачило. Где, например, машины, о которых толковала тетя, страшные машины, одна за другой грохочущие по улице? Тетя настаивала, чтобы я переждал их все, а машин не видно. Пройдет одна, а пока другая покажется, десять раз можно туда-сюда перейти… Может, не та улица? Да нет, здесь только одна такая: длинная, покрытая асфальтом. Остальные, как у нас в деревне: узкие, каменистые. И дома на них такие же деревенские…
Тетя говорила, что вдоль улицы течет арык и мне придется немного пройти вверх — там мостик. Только какой же это арык? Его ничего не стоит перепрыгнуть.
По улице перед базаром расхаживали люди, торговали зеленью, сигаретами; машины, изредка проезжавшие мимо, оглушительно гудели, будто водители находили в этом особое удовольствие. Чистильщик, пристроившийся со своей скамеечкой у арыка, не переставая колотил по ней щетками: он тоже, видно, получал от этого удовольствие. Иногда он еще принимался и кричать. Мальчишки, облепившие тутовое дерево, тоже все время орали; их было так много, что, казалось, дерево вот-вот сломится и все они попадают в арык.
Возле арыка прохлаждалось несколько парней. Двое из них разулись и сидели, болтая ногами в мутной коричневатой воде. Когда мимо проходили девушки, вся компания, как по команде, поворачивала головы; если девушка была без чулок, парни не отрываясь смотрели на ее ноги, и девушка шла прямо и глядела в одну точку. Совсем как наши старшеклассницы, когда выступают на празднике в клубе. Мне всегда казалось, что девочки боятся, что забудут слова, если отведут взгляд от плаката, висевшего в конце зала. Здесь девушки все как одна, на отрывали глаз от звезды, приделанной к башенке белого трехэтажного дома, издали звезда очень походила на кремлевскую. Звезда, башня да еще, пожалуй, радио, кричавшее что-то на всю площадь, — это и называется город. Да еще часы: на башне под звездой были часы, тоже совсем как кремлевские…
Я перешел улицу, стал у арыка. Перепрыгнуть его ничего не стоило, но я обещал тете не прыгать и поэтому побрел к мосту. Наконец я оказался перед булочной. Я не ошибся, это была те самая булочная, оттуда слышался голос Мерджан. У двери караулили четыре собаки, они бежали за каждым, у кого в руках был хлеб. Я стал ждать. Когда хлеб кончился, Мерджан прогнала всех из лавки, смела с прилавка крошки, бросила их собакам и заперла дверь на три больших висячих замка. Потом она обернулась и увидела меня.
Я не помню, что она сказала, спросила о чем-нибудь или нет. Помню только, что из-под ее белого платка выпало полбуханки белого хлеба и что собаки, сразу же окружившие нас, не посмели схватить его. Мерджан подняла хлеб, поцеловала и снова спрятала под платок. И еще я запомнил, что собаки долго бежали за нами, до большого абрикосового дерева с ободранной корой. Здесь Мерджан прикрикнула на них, и собаки сразу отстали. Собак было четыре. Три — обычные бездомные псы: тощие, некрасивые, грязные… Четвертая была совсем другая — рослая, с большой головой и сильной грудью, такая, какие бывают у пастухов.
Под абрикосовым деревом я остановился и достал письмо. Мерджан взяла его, сунула за пазуху, и мы пошли дальше вдоль арыка. Мерджан шла быстро. Она ничего не говорила, только ласково поглядывала на меня. Все встречные первыми здоровались с Мерджан. Она отвечала на приветствие, оборачивалась и с улыбкой смотрела на меня: «Ну как тебе это, Садычок?» На Мерджан было нарядное желтое платье, туфли на высоких каблуках, а на железном колечке, в которое она просунула палец, позвякивали ключи от трех замков. Мне нравилось, как они позвякивают…
Я глядел на дорогие туфли Мерджан и вспоминал, как она ходила зимой по горной дороге: одни носки внутрь, другие — поверх ботинок. И как мы с Азером раздобыли железную палку, чтобы убивать всех, кто называет Мерджан шлюхой. А ведь если бы эти ключи и тогда позвякивали у нее на пальце, если бы на ней и тогда было это красивое платье, и туфли, и шелковый белый платок, никто, наверное, не посмел бы назвать ее шлюхой. Все первыми здоровались бы с ней…
Я не знал, куда мы идем, но это мне было все равно; я согласен был идти хоть весь день. Мир уже не был ни равнодушным, ни жестоким — все встречные смотрели на нас ласково и первыми здоровались с Мерджан. Я хотел, чтобы мы шли бесконечно, чтобы людей в городе было как можно больше и чтобы все они попадались нам навстречу: такие хорошие люди!..
Мне особенно запомнилась женщина в белом переднике. Она стояла в дверях какого-то дома и улыбалась нам: мне и Мерджан. У нее были белые-белые руки, и когда мы с Мерджан вошли, она погладила меня по голове своими белыми руками. Потом женщина оправила скатерть на одном из столов — их там было много, — и мы сели. На нашем столе в банке с водой стояло несколько привядших веток жасмина, на других цветов не было. Мерджан достала из-под платка хлеб, положила на стол рядом со связкой ключей; женщина своими белыми руками разломала его на куски к положила в тарелку. Потом она ушла за едой, а Мерджан стала читать письмо.
И как мне могло прийти в голову, что тетино письмо про хлеб! Правда, это не моя вина: просто муки у нас осталось не больше килограмма. Но какой уж тут хлеб, когда Садаф и тетя Набат с зимы не здороваются с нами, когда Якуб перекопал наш огород и тетя готова бросить все и бежать, только бы не видеть эту старательно перекопанную землю. Ну, конечно, в тот вечер, увидев вставленные стекла, она думала, куда нам уйти, до ночи расхаживая по двору. Все это я сообразил мгновенно, раньше чем Мерджан подняла глаза от письма. «А чего же? — сказала Мерджан. — Приходите, и все».
Она ни о чем не стала меня расспрашивать, поинтересовалась только, как дела в колхозе. «Какой уж теперь колхоз!» — сказал я, повторив чьи-то слова.
Я давно забыл, что мы там ели, в столовой, но женщину с белыми руками, ее улыбку и ласковое прикосновение ладони — она снова погладила меня, когда мы уходили, — я запомнил навсегда. Еще я запомнил улицу перед базаром, вернее, не самую улицу, а то, как она вдруг изменилась. Все звуки стихли, и в тишине громко пело радио. Парни, час назад бойко торговавшие зеленью и сигаретами, примолкнув, сидели на тротуаре, угомонились даже те, что весь день бездельничают возле арыка, будто и у них нашлось какое-то занятие. И чистильщик уже не громыхал щетками, он сидел, облокотившись о свою доску, и слушал песню, грустно покачивая головой. Я запомнил парикмахера в белом халате: старик шел к уборной с кувшином для омовения, и слышно было, как шаркают по асфальту его шлепанцы…
Потом Якуб купил для нас с тетей полкило баранины и еще что-то, не помню что. Зато я очень хорошо запомнил все, что он говорил, когда мы возвращались в деревню. Прежде всего Якуб велел мне не рассказывать тете про ведро. Мы — мужчины, и ни к чему бабам лезть в наши мужские дела, все равно ничего не соображают. Баб надо в строгости держать, у них мозги как у курицы. И лупить, обязательно лупить, иначе совсем одуреют. Это еще мой отец его учил. Якуб говорил много и почти все, что говорил, приписывал моему отцу и для убедительности указывал на какой-нибудь куст или камень. И я уже не мог без дрожи смотреть по сторонам — по Якубовым словам получалось, что чуть ли не под каждым кустом отец обучал его мучить женщин. Вот у той высокой мушмулы он сказал Якубу, что если его жена родит девку, он эту девку тут же придушит… А когда моя мать умерла и они с Якубом наутро пошли на базар, отец бросился на землю возле того вон плоского камня и стал биться об него головой. Меня не удивляло, что мужчина, «могучий, как буйвол», может заливаться слезами и биться головой о камень. Трудно было понять другое; зачем же он так огорчался, раз женщина — это что-то вроде курицы… Потом мне вдруг пришло в голову, что моя мать умерла от страха — услышала, что ребенка хотят придушить, и умерла. До самой деревни я думал о своей матери, которую никогда не видал; мне было очень жаль ее и почему-то казалось, что она была похожа на ту женщину из столовой; я шел и мысленно целовал ее белые-белые руки…
Дня через три на рассвете мы с тетей потихоньку вышли из дому и повесили на дверь замок; мы взяли с собой только мои учебники и хлеб, который у нас оставался. Тетя приготовила еще самовар и одеяла с подушками; из самовара она с вечера вытряхнула золу, а узел с постелью крепко-накрепко перетянула веревкой: пусть все будет готово. Она потом придет и возьмет.
Все спали, когда мы запирали дверь. Еще не погасли звезды. Сухой корочкой висел посреди неба потускневший месяц, а на ореховом дереве, окутанном сероватым сумраком, еще дремала ворона.
И вода из источника текла просто так, без дела — Садаф еще не вставала. Скоро она придет, расставит у родника посуду, наскоблит со стены сухой глины, возьмет пучок травы и начнет изо всех сил тереть свои миски и кастрюли. Потом нальет доверху оба ведра, положит туда вымытую посуду и потащит домой; железные дужки ведер вопьются в ее тощие синеватые ладони. Завтра, послезавтра, а может быть, и теперь же, утром, расставляя у воды посуду или начищая до блеска огромный медный самовар, Садаф вдруг узнает, что мы с тетей ушли из деревни, и поймет, что Якуба мы у нее отнимать не собирались.
Сегодня, завтра, а может быть, послезавтра, когда учительница Товуз выйдет на прогулку и, полная достоинства оттого, что она учительница, и оттого, что курит «Казбек», будет не спеша прохаживаться по улице, ей сообщат, что мы с тетей ушли из деревни, и учительнице станет ясно, что Якуб не взял в жены тетю Медину.
Учительница Товуз остановится посреди дороги и большой костлявой рукой с набрякшими жилами задумчиво возьмется за морщинистый подбородок; на ее узком сухом пальце блеснет толстое золотое кольцо. Потом она поглядит на свои часы. Обязательно поглядит, хотя по часам невозможно узнать, когда мы с тетей ушли из деревни и зачем мы это сделали. Потом учительница Товуз присядет где-нибудь на ступеньку или на чистый камень и из-под ее синего платья обязательно будет торчать белоснежная нижняя юбка. Учительница закурит «Казбек» и станет рассказывать, как тетя Медина училась в школе, а уж раз об этом зашел разговор, она непременно заметит, что, не брось эта девочка школу, быть бы ей сейчас в Верховном Совете. Обо мне она тоже вспомнит и скажет то, что говорит всегда: «В их роду не было ученых людей, но этот мальчик далеко пойдет».
К вечеру, когда начнет смеркаться, тетя Набат накинет новую сатиновую чадру, которую сшила после возвращения Якуба, и направится к большому ореховому дереву, под которым каждый день в эту пору собираются поболтать такие же, как она, пожилые женщины в чадрах. Выйдет и увидит замок на наших дверях; он будет висеть и сегодня, и завтра, и послезавтра… И тетя Набат поймет, что мы ушли, ушли совсем. Вот когда она пожалеет, что не разговаривала с тетей Мединой и не хотела со мной здороваться. И, сидя со старухами под орехом, она теперь каждый вечер будет расхваливать тетю Медину. Прежде всего окажется, что моей тете уготована дорога в рай: подумать только — чужого ребенка растит, как собственное дитя. Потом выяснится, что Медина чиста и безгрешна. Об этом тетя Набат будет рассказывать долго и обстоятельно. Она, разумеется, не станет упоминать о том, что ее сын вот уже десять лет сходит с ума по Медине, наоборот, она будет решительно отрицать это. «Все это выдумки, — скажет она, — болтают от нечего делать. Подумаешь, стекло вставил! Такой уж он уродился, не может не помочь человеку». Если речь зайдет о том, что Якуб то и дело выгоняет жену из дому, тетя Набат махнет рукой. «Обойдется… — скажет она. — Якуб мужик норовистый, говорить нечего, а Садаф малость нерасторопна… Ничего… Без этого в семье не бывает…»
Но как бы ни расхваливала, как бы ни защищала старушка тетю Медину, все-таки большинство женщин решительно осудят ее. А как же иначе: тутовник необобранный оросила, черешня досталась птицам… Мало того, что мужний дом загубила — а какой дом был! — теперь и родное гнездо разорить хочет… Долго еще под старым ореховым деревом будут соседки перемывать косточки тете Медине…
Но сейчас под орехом пусто, в примолкшем арыке плавают окурки «Памира», те, которые выдула из мундштука тетя Набат, сидя здесь вчера со своими сверстницами. Стадо еще не выгоняли. То тут, то там незлобно побрехивают собаки, и среди хриплых собачьих голосов я отчетливо слышу тоненькое тявканье щенка. Сафар скоро встанет, и щенок, помахивая веселым маленьким хвостиком, побежит за ягнятами по склону горы… Потом дедушка Аслан, а может быть, и не он, а тетя Хадиджа и Якуб пройдут с заступом на плече к мельнице — пустить воду; вода с журчанием устремится в арык и унесет с собой окурки «Памира»… Потом проснется моя ворона и, усевшись на проводах, начнет громко и настойчиво каркать. А я не выйду. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И тогда ворона поймет, что меня здесь больше нет, а это для нее очень плохо. С кем она будет разговаривать, кому кричать, что приближается дождь, с кем вместе радоваться, когда после дождя выглянет солнце и можно вылезти из гнезда? И вообще, как она сможет обойтись без меня: я столько лет охранял ее гнездо от мальчишек. Кто будет отгонять собак и кошек, когда птенцы оперятся и наступит время учить их летать, кто полезет в любую грязь, чтобы выручить выпавшего из гнезда вороненка?…
В бескрайней предрассветной сумеречной степи было нас сейчас только двое: тетя и я. Серой тенью лежал у дороги большой плоский камень, тот, возле которого рыдал мой отец… Куст мушмулы тоже казался мне зловещей тенью. Мне казалось, что он, куст, удушил когда-то маленькую-маленькую девочку…
Мне было хорошо оттого, что во всем этом бескрайнем просторе нас было только двое: тетя и я. И все-таки очень хотелось плакать, я почему-то подумал, что и Якубу захочется плакать, когда, перемахнув через ограду, он увидит на нашей двери замок. Он сядет посреди двора, между грядками, которые засадил огурцами и картошкой, и будет плакать. Очень даже просто. Уж если мой отец, «могучий, как нар», мог рыдать и биться головой о камень, чем лучше Якуб?..
Я нес узелочек с хлебом. В руках у тети были мои учебники, завязанные в старую марлю. Тетя обула сегодня красивые, легкие туфли; еще когда была война и тетя работала на фабрике, они пришли как-то вечером с Мерджан в одинаковых новых туфлях. Мерджан быстро разбила свои — каждый день по камням ненадолго хватит, а тетя спрятала туфли в сундук, словно хотела сберечь их для этого дня.
В своих новых туфлях тетя выглядела нарядной и счастливой, но скорей всего это было не так. Тетя чувствовала, что я вот-вот зареву, и пыталась расшевелить меня, отвлечь от тяжелых мыслей. А может, ей и самой хотелось плакать, и, чтобы не разрыдаться, она то весело болтала, то начинала петь, то, хлопнув меня по плечу, со смехом бросалась вперед… Тетя говорила, что в городе гораздо лучше, чем в деревне: там есть заводы и всем, кто работает, каждый месяц выдают зарплату; рабочие покупают своим ребятишкам не только одежду, но даже башмаки… Скучать я в городе не буду — у Мерджан есть радио, хоть целый день песни слушай. Или можно пойти на улицу, там растет чинара, точно такая, как у нас… А во дворе у Мерджан гранатовое дерево; сейчас оно все в цветах: цветы красные-красные… А потом на нем появятся маленькие гранаты, а потом она купит мне новые учебники, и я пойду в школу. В городских школах замечательные учителя!
И такой у тети был голос, когда она говорила обо всем, что казалось: она поет. Она и верно напевала, тянула что-то неровным, чуть дрожащим голосом. И я знал, о чем ее песня, хотя песня была без слов… А может, она и не пела и не меня утешала, может, это была ее сказка?.. И рассказывала она ее не мне, а степи и кусту мушмулы у дороги, и плоскому серому камню, и корочке потускневшей луны. Жил-был однажды… Жил-был однажды…
2
«Жил-был однажды двор. Двор был большой и темный. Он был обнесен высокой стеной и видел мало солнца, и земля в нем была влажная и грязная. Даже муравьи не водились в том дворе. И трава во дворе не росла, не было даже колючек. Выло одно гранатовое дерево, но дерево зачахло от тоски. Оно грустило о братьях, которые привольно раскинули ветви на горных склонах и любуются высоким небом, пьют сладкую родниковую воду, наслаждаются солнечным светом…»
…Входить во двор надо было через низкую, узкую дверь. Откроешь ее и попадешь в крытую галерею, под которой глубоко-глубоко в земле течет вода. Течет и течет до самой мечети. А у мечети колодец. Там моют посуду, стирают белье и отрезают головы курам, и земля там залита кровью и густо посыпана перьями.
Дом был двухэтажный, с двумя айванами вдоль всего здания. На верхний айван выходили хорошие комнаты, внизу между закопченными столбами, подпирающими верхний айван, виднелись низкие, темные каморки. Две из них пустовали, даже сняты были двери, в двух других жили люди: в одной мы — Мерджан, тетя и я, в другой, в самом конце айвана, — одинокий парень по имени Губат. У него было смуглое лицо и одна нога короче другой. Губат говорил, что он конюх и ходит за военкомовским жеребцом, а жеребец этот бешеный, никого не подпускает, кроме него и самого военкома, но Мерджан сказала, что никакой Губат не конюх, а просто дворник — двор метет в военкомате.
Как раз против нашей каморки была деревянная лестница, ведущая на верхний айван, каждый день по ней поднимались и спускались две женщины: одна тяжело и медленно, другая бегом, вприпрыжку.
Ту, что поднималась медленно, звали бабушка Байханум; у нее было раньше четверо сыновей, но ни один из них не вернулся с войны. Бабушка Байханум постоянно беседовала с богом и, чтобы не прерывать этого разговора, больше ни с кем не говорила. Бабушка Байханум разговаривала с аллахом и когда спускалась с лестницы, и когда поднималась по ней; каждое утро она уносила из дому что-нибудь из вещей пожертвовать во имя аллаха. Каждое утро и каждый вечер бабушка Байханум совершала намаз на айване, а потом долго стояла, устремив глаза в небо, и шепотом разговаривала с аллахом…
Каждое утро девушка по имени Сурат весело сбегала по лестнице и уходила на работу в райком. Возвращалась она раньше всех, и сразу же на верхнем айване начинали радостно поскрипывать половицы. Сурат прохаживалась по айвану в нарядных белых туфлях, напевая песенку. Замолкала, жевала что-то, откашливалась и опять начинала мурлыкать. Пела Сурат потому, что получила письмо от жениха, и потому, что не сегодня-завтра жених ее должен был приехать с Дальнего Востока. Письмо с Дальнего Востока Сурат держала в кармашке синего жакета, и оно всегда было с ней: и утром, когда она спускалась по лестнице, и вечером, когда взбегала по ней наверх.
По вечерам в комнатах зажигались лампочки — две наверху, две внизу, а на айванах перед дверьми коптили четыре керосинки — ведь в городе нет ни дров для очага, ни угля для самовара. После ужина Сурат спускалась к нам, и деревянная лестница весело щебетала под ее ногами. Сурат приходила поговорить о женихе и каждый вечер читала тете и Мерджан его письма и показывала фотографии. Фотографии были всегда одни и те же, и смотрел с этих фотографий один и тот же человек. Каждый вечер Сурат считала звездочки на его погонах и рассказывала, как они познакомились. Я уже знал эту историю наизусть и, как только Сурат принималась рассказывать, сразу же видел поезд, который, посвистывая, мчится в темноте по черным рельсам… Тот самый поезд, в котором она ехала в Баку на конференцию. Вместе с Сурат ехал один призывник, они сидели у окна друг против друга. За весь день он не сказал ей ни слова, даже не взглянул на нее ни разу. А когда наступил вечер, Сурат, случайно подняв голову, заметила вдруг, что парень не просто смотрит в окно, а разглядывает ее отражение. Поезд шел, останавливался, снова набирал ход, а парень по-прежнему не отрываясь глядел в окно. Наступила ночь, все спали, он не спал. Сурат тоже не спала, в чемодане у нее лежал партбилет, а у кого в чемодане партбилет, тому нельзя спать — время тогда было неспокойное. Сурат все ждала, не скажет ли чего ее сосед, не заговорит ли, но тот молчал. Наконец, когда было уже за полночь, Сурат не выдержала, усмехнулась. Парень отвел глаза от окна и несмело взглянул на нее. Они улыбнулись друг другу. Посидели и снова улыбнулись. Так парень и не сказал ничего. На рассвете в вагоне появились солдаты — проверили документы, а когда они ушли, парень взял ее паспорт. Сурат тоже посмотрела его паспорт. Парень нашел клочок бумаги, написал что-то и передал ей. «Твой образ я буду вечно хранить в своем сердце», — было написано на бумажке.
Когда Сурат произносила эти слова, в глазах у нее сверкали слезинки, она доставала из кармана маленький платочек и вытирала глаза.
Потом была остановка, они вышли, купили конфет; на другой остановке парень раздобыл где-то платок с красными розами, подарил ей. Потом поезд остановился совсем — почему-то я не мог представить себе этот поезд стоящим, — и они провели в Баку весь день: гуляли по какой-то набережной, ходили по каким-то улицам — все это я тотчас же забыл, а вот поезд, который мчится по черным рельсам, темное окно и Сурат, отраженная в стекле, — это навсегда запало мне в душу. Парень уехал на фронт, на войну, писал Сурат из далеких городов — все это было интересно, но жило в моих мыслях, пока Сурат рассказывала об этом. Как только она замолкала, я опять видел темное окно, молодого парня, разглядывающего ее отражение, и поезд: весело посвистывая, мчится он в темноте по черным рельсам…
Говоря о своем женихе, Сурат не могла сидеть на месте; она вставала, садилась, ходила по брезенту, заменяющему Мерджан палас… Слушали только мы с тетей; что касается Мерджан, ее эти рассказы совершенно не трогали, и ей ничего не стоило в самом интересном месте встать и включить радио. Иногда она даже перебивала Сурат и начинала говорить о чем-нибудь другом или вдруг хохотала не к месту. Однако большей частью Мерджан просто сидела у стены, вытянув ноги, и, поплевывая на пальцы, спокойно подсчитывала выручку — завтра ее нужно было сдавать в банк.
Когда Сурат уходила, забрав с собой письма и фотографии, мы гасили свет. Дверь на ночь не закрывалась, в комнате и без того было душно, я лежал возле тети и во все глаза глядел на стену. Сурат ложилась не сразу, и тень от ее фигуры, освещенной электрической лампочкой, долго еще двигалась по высокой стене, окружавшей наш двор. Я смотрел, как красиво она движется, и мне начинало казаться, что женщина на стене — не Сурат, а Гюльчехра из «Аршин мал алана». Она так же, как Гюльчехра, поднимала руки, так же закидывала голову, так же напевала, а главное, она и лицом похожа была на Гюльчехру. Иногда зрелище настолько захватывало меня, что я ждал появления Аскера: сейчас, сейчас он должен появиться, веселый Аршин мал алан; перекинет во двор узелок с товарами, сядет на стене и запоет. Но веселый Аскер не появлялся, и Сурат укладывалась спать. Она медленно стягивала зеленое платье, которое носила дома, и вешала его на стул; в эти моменты я особенно напряженно разглядывал ее тень, хотя знал, что сейчас следует закрыть глаза. Очень уж мне хотелось знать, что же носит она под своими красивыми платьями. Но свет гас — «кино» кончалось. И хотя мне так и не удавалось узнать, что же надето у нее под платьем, я испытывал облегчение: нехорошо, что Сурат поет — бабушка Байханум слышит. Ведь старушка даже смотреть на нее не хочет, а все потому, что Сурат так много поет и так весело сбегает по ступенькам…
Как только Сурат гасила свет и тень со стены исчезала, а противоположном конце айвана слышалось громкое повизгивание пружин — это Губат ворочался на своей железной койке. Иногда он вдруг вскакивал среди ночи и, припадая на короткую ногу, в одном белье бросался разгонять кошек, которые сбегались к нам со всей улицы; они пролезали под дверью и, расположившись посреди двора, дрались и орали как бешеные. Губат засыпал поздно, потому что поздно вставал, чуть не до полудня валялся иногда в постели. Сначала я не знал, что, лежа в темноте на своей скрипучей койке, Губат тоже смотрит на стену, и очень удивился, когда он сказал мне об этом, Особенно поразило меня, что движущуюся на стене тень он тоже называет «кино». Я не спрашивал, какое именно кино смотрит он на нашей стене, но чувствовал, что, разглядывая девичью тень, Губат видит гораздо больше, чем я. Иногда после «кино» он тихонько окликал меня, но я не отзывался; мне хотелось, чтоб Губат думал, будто я сплю. Впрочем, утром он все равно заставлял меня признаться.
Днем мы с Губатом оставались одни. Поднявшись с кровати, он ставил котелок на керосинку и, прихрамывая, начинал задумчиво расхаживать по айвану. Иногда он затягивал песню Аскера, ту самую, которую Аршин мал алан поет в начале фильма, прогуливаясь по цветущему саду.
— Эй, Садык! — кричал он, завидев меня на айване. — Чурек по-русски как будет?
— Хлеб.
— Правильно, молодец.
Некоторое время он молчал, помешивая ложкой в котелке.
— А кашик как по-русски?
— Ложка!
— Молодец.
Он опять замолкал, помешивая кашу…
— А кечи как будет?
— Кечи? Не знаю.
— Казол!
Слова, которые он знал, а я нет, Губат произносил с особой гордостью и даже переставал помешивать хашил…
Каждый раз я ждал, что он обязательно спросит, как будет по-русски хашил, но Губат почему-то не спрашивал, хотя каждый день варил эту кашу из муки. Иногда, проходя мимо, бабушка Байханум протягивала Губату комочек масла, завернутый в лаваш; в такие дни Губат ел хашил с маслом, однако большей частью хашил у него был постный.
В комнате Губат держал только большой пустой сундук, остальное его имущество — керосинка, мешок, который он стелил на пол, присаживаясь возле керосинки, и железная кровать с постелью — всегда находилось на айване. Одеяло у Губата было совсем новое, тюфяк тоже ничего. Свою постель он показал мне в первый же день. Как только Мерджан увела тетю устраиваться на работу, Губат подозвал меня и на моих глазах несколько раз перевернул тюфяк с одной стороны на другую. Оказывается, Мерджан назвала его вшивым, он с ней даже не разговаривает, в жизни ей больше слова не скажет. Ну, в самом деле — откуда у него вшам быть! Да если она хочет знать, даже в войну, когда эти твари, как муравьи по траве, по людям бегали, он с себя ни одной не снял! Чего-чего, а уж мыла-то у него хватает — каждую неделю по куску выдают! Не за кем-нибудь, за военкомовским конем ходит.
И словно для того, чтобы насолить Мерджан, Губат каждую неделю пробирался ночью к колодцу и стирал с себя все, даже суконный китель. А когда его сероватые подштанники висели на проволоке между столбами и с них струйками стекала вода, все знали, что Губат лежит под одеялом голый и сегодня он не будет гоняться за кошками.
Подкрепившись хашилом, Губат с чувством произносил «слава богу» и поднимался. «Ну, — говорил он, вопросительно глядя на меня, — теперь коня пойти покормить, так, что ли?» Губату жаль было бросать меня одного — он знал, что я буду скучать.
Губат уходил, я наливал себе чаю — тетя Медина оставляла его на керосинке, убавив под чайником фитиль, — брал кусок белого хлеба, который мне каждый вечер приносила Мерджан, опускал в стакан кусок сахару и принимался завтракать. Позавтракав, я включал радио и садился на айване перед дверью. Иногда я начинал листать учебники, хотя назубок знал каждую страницу — делать мне было нечего… Вот тогда-то я и стал сочинять сказку о гранатовом дереве и писать ее в прошлогоднюю тетрадку. Только чистых страничек оказалось мало, они скоро кончились. А сказка еще продолжалась…
И вот мы с тетей Мединой вошли в этот двор; только что она поцеловалась с Мерджан в хлебной лавке, только что мы прошли по главной улице; опять, как тогда, в руках у Мерджан позвякивали ключи и все встречные приветливо здоровались с ней; только что спускались под гору по узким каменистым улочкам; Мерджан и тетя Медина, перебивая друг друга, говорили о деревне, о фабрике, о солдатах, которые стояли у нас во время войны; я бежал за ними и старался внушить себе, что здесь хорошо, что здесь очень даже можно жить… Но как я ни убеждал, как ни уговаривал себя, все-таки больше всего на свете мне хотелось вернуться в деревню.
Когда же мы вошли во двор и я увидел двухметровые толстые стены, грязный двор и это гранатовое дерево, — все стало ясным: ни жить, ни учиться здесь невозможно; все это чушь, нелепая выдумка, вроде красных цветов, которые будто бы распускались на этом несчастном деревце. Мы сегодня же вернемся в деревню.
Мерджан подошла к низкой, подкрашенной бурой краской двери, открыла ее. Потом поставила чайник на керосинку. Я стоял возле двери и не хотел входить, потому что комната у Мерджан была низкая, темная, без окна, потому что двор тоже был темный и грязный, потому что тетя обманула меня, — на гранатовом дереве не было ни единого цветка.
Но тетя Медина сняла возле двери свои нарядные туфли и как ни в чем не бывало вошла в эту мрачную конуру. Она даже похвалила салфетку на самоваре — оказалось, что Мерджан купила ее совсем недавно; взглянула на фотографии, развешанные по стене, потрогала посуду в нише. Мало того, тетя Медина подошла к зеркалу и стала вертеться перед ним: поправила волосы, пригладила пальцем брови, даже повернулась спиной к нему, пытаясь через плечо оглядеть свою спину.
Потом мы пили чай на чистом сером брезенте, который Мерджан стелила вместо паласа. Я сидел и думал: когда же мы пойдем домой? Мерджан и тетя Медина толковали о том, как быстрее поступить на завод, о том, что Мерджан сегодня же поведет ее устраиваться, а я все еще не терял надежды на возвращение. Ничего меня теперь не пугало в деревне: пусть Якуб приходит хоть каждый день, пусть соседки говорят что хотят, пусть Садаф не здоровается с нами — пусть! Зато дом наш стоит на горе, а позади него сад, а перед домом розы… И ягоды на тутовнике уже начали белеть, и черешня налилась соком. Ну вставил он нам стекла, перекопал огород, но ведь дом-то наш, и нигде на свете нет больше такого дома!..
Тетя не замечала ничего, она оживленно болтала, с удовольствием пила чай, громко дула в блюдечко, но все равно я не верил, что мы останемся. Мне даже казалось, что тетя потому и весела, что у нас есть свой дом и нам не нужно оставаться у Мерджан, где такой темный грязный двор, такие высокие стены, а на гранатовом дереве — ни одного цветочка, только серые, запыленные листья. Мы можем сегодня же вернуться домой: снимем с двери замок, я сразу полезу за черешней, а тетя заберется на стену и нарвет себе тутовых ягод…
Напившись чаю, тетя опять немножко повертелась перед зеркалом, опять поглядела на фотографии и опять похвалила салфетку. Потом она вышла на айван и вернулась очень довольная. Я узнал, что мы остаемся, жить будем здесь, в полутемной комнате Мерджан или в любой другой каморке: прибрать немножко, и располагайся.
Но прибирать и располагаться не пришлось: Мерджан не разрешила селиться нигде, кроме как у нее. За вещами она тетю не пустила — слава богу, одеяла с подушками найдутся. Потом тетя и Мерджан ушли на консервный завод, оставив меня в комнате. Вернулись они довольно скоро и все время смеялись, потому что им удалось провести какого-то «болвана из болванов» и устроить тетю на работу. Мерджан сказала, что в таком деле без хитрости не обойдешься и что вообще с мужиками только так и можно. А вечером, когда погасили свет, она долго рассказывала тете Медине, как устраивалась работать продавщицей. В ее рассказе тоже был «болван из болванов» — заведующий райторгом. Целый месяц морочил ей голову — все хотел, чтоб вечерком пришла. Осточертела ей эта волынка, плюнула она, разрядилась в пух и прах, как на свадьбу, и заявилась к нему. Ну, потешила она свою душеньку, такое ему, голубчику, отчубучила — сегодняшние штучки ерунда по сравнению с тем! Я, конечно, не мог понять, какие такие штучки имела в виду Мерджан, но еще больше меня занимало другое: если заведующий райторгом обманщик и болван из болванов, зачем же она каждый день посылает ему по четыре кило белого хлеба… Мерджан рассказывала, как провела заведующего райторгом, а тетя Медина слушала и так беззаботно, так легко смеялась, словно не было ни этой отвратительной душной каморки, ни нашего светлого дома, который мы бросили…
В тот вечер тетя и Мерджан долго еще толковали о мужчинах: о тех, которые были болванами из болванов, и о тех, которые не были болванами. Мерджан рассказала тете, что ее уже несколько раз приходили сватать — при хлебе состоит, желающие найдутся. Только все эти женихи болваны из болванов — хоть бы один был на мужчину похож. Про Губата Мерджан сказала, что и он не лучше других, хотя еще до хлеба вокруг нее увивался. О Якубе не было сказано ни слова, но я сам, нимало не колеблясь, определил его в болваны из болванов. В этот вечер я пришел к твердому выводу: у каждой женщины есть своя песня, вроде той, тетиной; песня эта с детства, со школьных лет живет в женском сердце, и, когда приходит пора выходить замуж, женщины вдруг вспоминают ее. Вспоминают и уже не хотят выходить ни за Мукуша, ни за Якуба, ни даже за Губата.
Не знаю, сколько дней томился бы я в этом темном дворе, если бы однажды вечером, вернувшись с работы, тетя не объявила, что с завтрашнего дня будет брать меня с собой. Я не знал, когда мы ушли из деревни, сколько раз с тех пор всходило и заходило солнце, но в тот вечер, когда тетя заявила, что теперь я не буду пропадать с тоски, я совершенно честно мог сказать, что давно уже не скучаю. Я больше не думал о деревне, не мечтал о том, чтобы влезть на ограду и, дождавшись, когда появится Якуб, пробить ему камнем голову. Я тихо сидел возле двери и ждал, когда возвратится с работы тетя. Ждал я и Губата: он будет рассказывать о военкомовском жеребце и о том, что сегодня случилось на базаре. Потом придет Сурат, она обязательно погладит меня по голове, легонько потянет за нос и, засмеявшись, быстро взбежит по лестнице. Бабушку Байханум тоже интересно ждать: она поднимется на верхний айван, развернет джанамаз с молитвенными принадлежностями и, обратив лицо к небу, будет долго разговаривать с богом…
Тетя Медина сказала, что с завтрашнего дня я буду весь день проводить в садике против завода; садик очень красивый, и рядом шоссе, машины идут туда-сюда, все-таки не так скучно… И неподалеку детсад, ребятишек водят гулять, с ними мне будет совсем хорошо. А в перерыв она станет приносить мне еду из столовой: там, в садике, и пообедать можно. По крайней мере, у нее теперь кусок не будет застревать в горле; ешь и знаешь, что дома ребенок голодный… Тетя была довольна, но я не больно-то обрадовался: очень уж боялся, что опять не окажется ни сада, ни ребятишек… Ведь в той сказке про гранатовое дерево, которую я написал на вырванных из тетради листочках, тетя по имени Медина один раз уже обманула мальчика по имени Садык, сказала, будто гранатовое дерево все в цвету, а цветов не оказалось. Садык обиделся и убежал в горы. Там, в горах, гранатовые деревья и правда был все в алом цвету, и Садык спрятался от тети в их цветущих ветвях. Она облазила все горы, разыскивая Садыка, да так и не нашла — гранатовые деревья не сказали ей, где он прячется, пусть поплачет: другой раз не будет обманывать.
Но сад был. И деревья были: и персиковые, и миндальные, и орех. Правда, на миндальном дереве все завязи были уже обобраны и ветви поломаны, но другие деревья пока еще никто не трогал — персики и орехи не станешь есть недоспелыми. Консервный завод был на краю города. Широкая асфальтированная улица, тянувшаяся от самого базара, вернее, от садика за базаром, где в окружении молодых сосенок стоит бронзовый Ленин, здесь, у завода, переходила в шоссе и спускалась вниз к вокзалу. Завод был обнесен длинным деревянным забором, и там, где он кончался, от шоссе ответвлялась дорога, по которой шли машины в нашу деревню.
Заводской забор такой высокий, что из садика мне видна была только большая черная труба. И еще одна — совсем тонкая; перед обеденным перерывом эта труба начинала громко гудеть, как гудят паровозы на вокзале, и из нее клубами валил густой белый пар. Открывались большие ворота, и улицу затоплял поток женщин в белых халатах. Вместо туфель на них были деревяшки с ремешками, и как только работницы выходили на асфальт, не было слышно ничего, кроме деревянного стука подошв. Выйдя из ворот, женщины разделялись на группы: одни шли в садик поваляться на теплой траве, другие торопились в чайхану, присаживались там за столики и, развернув узелочки с едой, принимались закусывать.
Наконец в воротах показывалась тетя. Она улыбалась мне и концом своей марлевой повязки прикрывала миску с едой. И каждый раз небольшой щупленький человечек, стоявший возле ворот, заглядывал в тетину миску; тетя сказала, что это у него такая работа. Мы усаживались где-нибудь под деревом и с удовольствием съедали суп. Потом тетя давала мне денег, чтобы я немного погодя сходил в чайхану. Самой ей никогда не удавалось попить чайку — едва мы успевали покончить с едой, длинная труба начинала протяжно гудеть, и тетя Медина, спрятав под платок пустую миску, торопилась к воротам. Теперь, в конце перерыва, деревянные подошвы девушек стучали еще громче, еще дробней, садик пустел, заводские ворота закрывались. В чайхане тоже становилось просторно, но пить чай я не шел — я копил деньги.
До самого вечера, до конца рабочего дня бездельничал я в садике против завода. А по другую сторону шоссе у заводских ворот томился бездельем невысокий худой человек. Он был обязан заглядывать в тетину миску, я — сидеть в садике и не трогаться с места. Да я и так никуда не уходил, только разве прятался, когда мимо проносились машины из нашей деревни. Я не хотел, чтобы меня видели: очень уж жалок был я здесь, у дороги.
Вдалеке, за вокзалом, часто пробегали поезда. Я глядел им вслед и думал о том поезде, на котором ехала в Баку Сурат; мне почему-то казалось, что, весело посвистывая, мчится где-то этот поезд по черным рельсам и уносит с собой в темноту неясное отражение Сурат… А может, Губат и правда конюх, может, правда, что, кроме него и военкома, никто не смеет подойти к жеребцу… А где, интересно, райторг, и кто он, этот человек, который хотел затащить Мерджан к себе в комнату?.. И почему она каждый день посылает ему белый хлеб, по целых четыре кило?.. Интересно, черешня уже сошла или есть еще? Воронята, наверно, уже вылупились… А как там у нас в огороде? Сколько он насажал огурцов, помидоров, все уж давно созрело… Садаф скорей всего у отца, а может, и вернулась. Гоняют, гоняют ее взад-вперед: муж к отцу, отец к мужу…
Я сидел в садике и думал. За день я успевал передумать о стольких вещах, что скучать мне было некогда, и я не замечал, как проходил день. Гудел гудок, и на улицу выходили женщины; теперь на них уже не было халатов, и деревяшки с ремешками оставались лишь на тех, у кого не было другой обуви. Мы проходили мимо базара, потом мимо статуи Ленина, сворачивали в узкую улочку, потом еще в одну; по утрам мы проделывали этот путь в обратном направлении.
Как-то раз, проходя утром по базарной площади, я попросил тетю оставить меня здесь, возле базара. Она согласилась, только предупредила, что по гудку я должен быть на своем месте. И еще: если я вдруг повстречаюсь с Якубом, ни в коем случае не рассказывать, где мы живем.
Якуба я на базаре не встретил, и мне не пришлось утаивать от него наш адрес — Якуб явился к нам прямо домой.
Мы с тетей недавно пришли, Мерджан еще не возвращалась с работы. Сурат, вполголоса напевая песенку, варила, как всегда, что-то вкусное, и весь двор был наполнен ароматом, поднимавшимся из ее маленькой кастрюльки. Губат тоже готовил себе ужин. Доверху наложив картошки в тот самый котелок, в котором по утрам варился хашил, Губат поставил его на керосинку и, прихрамывая, расхаживал по айвану; впрочем, он ни на шаг не заходил дальше столба, который стал пограничным с тех пор, как он поссорился с Мерджан. Губат и тетя Медина толковали о войне, о том, как нам всем довелось голодать; Губат перечислял вещи, которые за войну продал, тетя рассказывала, как променяла на хлеб полдома… Пригнув голову, словно потолок был слишком низок для его роста, Якуб приближался к нам; тетя, не повернув головы, продолжала рассказывать Губату, как отдала хлеборезу Хамзе стропила: она, казалось, не замечала гостя. Губат не понял, почему она так поступает, постоял немножко над керосинкой и скрылся в своей каморке.
Якуб остановился против двери, поглядывая, куда бы присесть: на айване ничего такого не было, а табуретку тетя выносить не собиралась. В руках у Якуба был пакет с пряниками; пряники падали из прорвавшегося пакета, и он не знал, куда его деть. Тетя стояла, отвернувшись, я опустил голову, набычился и твердо решил ни слова не отвечать Якубу… Он осторожно положил пряники на пол у столба, несколько раз кашлянул… Потом сердито посмотрел на меня, на тетю, на табуретки в комнате Мерджан и очень громко сказал:
— Я пришел за вами!
Тетя молча стояла у столба.
— Я пришел за вами, — повторил Якуб.
Тетя подняла голову и взглянула ему прямо в глаза; мне показалось, что сейчас она скажет: «Убирайся». Наверное, Якуб подумал то же.
Но тетя не сказала: «Убирайся!»
— За нами? — спросила она. — Стоило ли затруднять себя?..
— Что значит «затруднять»?! Наджаф для близкого человека никаких трудов не жалел, а если я об его сестре забочусь — затрудняю себя? Слава богу, не все еще родичи в могиле, чтоб сестра Наджафа по чужим дворам скиталась!..
Скривив толстую красную шею, Якуб поглядел на картошку, варившуюся в Губатовом котелке. Тетя тоже взглянула на картошку, потом на Якуба, и мне так захотелось, чтобы она сейчас же, немедленно выложила ему все.
— Уходи, Якуб, — сказала тетя Медина. — Уходи. А люди здесь нисколько не хуже тебя.
— Пускай не хуже! Пускай лучше! Но не могу я допустить, чтобы сестра моего друга, брата, жила бог знает где! Бросить дом — в саду чуть ветки не ломятся — и на заводе копейку добывать! Что, у нас есть нечего?! Ступай в амбар и бери что душе угодно! Слава богу, ключи в наших руках! И все спокойны бы были, знали бы, что честь Наджафову сберегли.
— А кто это тебя просил Наджафову честь сберегать? — с усмешкой спросила тетя. — Если уж такой заботливый, о жене своей позаботься — только и знаешь синяки подставлять! А насчет сада, огорода — они мне ни к чему. Сажай себе, продавай, ешь — слова не скажу. Можешь и дом взять — хоть на слом! А меня, Якуб, оставь в покое — ничего у нас с тобой не получится!
— Почему? Что я тебе сделал плохого?
— Плохого не делал. Только мне от тебя и хорошего не надо!
— Я тебя здесь не оставлю, поняла?!
— Ты?! Да я тебя знать не знаю!
— Зато я твою хозяюшку хорошо знаю!
— Знаешь? Что ж, с тобой сравнить — чистый ангел!
— Еще бы! На весь район чистотой прославилась!
— Сплетни собираешь? Или своими глазами видел?
— У меня уши есть!
Я поднял голову и взглянул на его уши: действительно есть, как это я их прежде не замечал. Тетя отошла от столба, взяла ведро, вылила из него воду в стоявший на керосинке чайник и с ведром в руке остановилась перед Якубом.
— Уши твои при тебе, — сказала тетя Медина, — скоро и обо мне такое услышишь. А теперь убирайся! Тебя сюда не звали!
Не доходя до ступенек, она тут же, возле Якуба, спрыгнула во двор и, громко позвякивая ведром, пошла к колодцу. Несколько секунд Якуб стоял, растерянно озираясь по сторонам, потом резко повернулся и быстро зашагал через двор. И когда тети уже не было видно, он приоткрыл дверь с улицы, сунул в нее голову и крикнул:
— А этого гада я все равно прикончу! В нашем роду никто не терпел бесчестья!
Дверь за Якубом захлопнулась. И сейчас же снова отворилась — во дворе показалась Мерджан. Когда тетя принесла, воду, Сурат, свесившись через перила, спросила, что это за скотина здесь орала. Ответить тетя не успела, потому что Мерджан, снимая с головы платок, сказала, что из нашего двора только что вышел парень — сдохнуть можно! Стащить с него чарыки да нацепить галстук — почище министра будет! Сурат сказала, что загнать бы такого министра в угол да палкой по башке, чтоб знал, как с женщинами разговаривать. Они, как всегда, заспорили: Мерджан утверждала, что грубость в мужчине — не главный грех, а Сурат доказывала, что это вообще не мужчина, если не уважает женщину. Тетя в споре не участвовала, сказала только, что Якуб наш очень дальний родственник, что хуже не найдешь в деревне человека и что, если бы Мерджан видела его жену, которую он вогнал в чахотку, она заговорила бы по-другому.
Спор о Якубе был недолгим, но пряники его долго еще лежали возле столба. Губат ничего не спросил о нем, и только дня через три, когда мы остались одни, он вдруг сказал, усмехнувшись:
— А этот твой земляк — порядочная скотина! Ты заметил — даже не поздоровался, как пришел!..
Через несколько дней Якуб появился возле базара, тенью надвинулся на меня и сунул мне в руку вырванный из тетрадки листок.
— Тете отдашь! — сказал он. И сердито добавил: — Бездельничаешь, лоботряс! Семечками бы лучше торговал!
Передавать тете письмо я не стал: там говорилось, что она променяла наш род на хромого калеку; хромым калекой был, конечно, Губат, а про Губата все знали, что он любит Мерджан и тетя Медина ему ни к чему. Якуб писал, что будет содержать тетю, как шахиню, что он целых пять жен может содержать, как шахинь. Выходит, Садаф, которую он вогнал в чахотку, тоже шахиня, ведь у нее в сундуке «два десятка ненадеванных платьев и платки стопами лежат». И потом в письме говорилось, что дом и сад — это все Садыково, что свой дом она еще в войну загубила. Как я мог отдать тете такое письмо?.. Я прочитал его, разорвал на мелкие клочки, бросил в арык и с удовольствием стал наблюдать, как вода уносит бумажки…
А вот насчет семечек Якуб сказал правильно. В тот же день я взял мелочь, которую накопил, складывая в баночку то, что тетя давала мне на чайхану, добавил три новеньких рубля, что подарила мне Мерджан, и купил у чайханщика щербатый треснутый стакан. Мешка у меня не было, но на свалке позади завода я нашел большую жестяную банку.
Несколько дней я скрывал от тети свои торговые операции — по гудку я всегда был на месте, банку с семечками оставлял возле будки под присмотром сапожника дяди Селима. Но долго так продолжаться не могло — тетя узнала про семечки. Узнала и не рассердилась, сказала, что это ничего — по крайней мере, ребенку есть чем заняться. Она даже сшила мне торбочку; я высыпал туда подсолнухи, а жестянку забросил на свалку, туда, где она валялась раньше.
…Брось, Садык, не надо грустить; забудь ты свою деревню!.. Смотри, как кругом хорошо: солнце только-только легло на дорогу, на него еще никто не наступал, и мусора нигде нет, и вода в арыке чистая, прозрачная…
А послушай, какая тишина… Ты ведь любишь, когда тихо. Конечно, женщина эта орет что есть силы, но ты не обращай внимания. Пусть себе разоряется: «…Руки вверх, ноги врозь… Вздохнем поглубже…» Руки вверх, ноги врозь — это тебе ни к чему, а вот вздохнуть поглубже — хорошо!.. Дыши, Садык, дыши, пока можно, видишь, асфальт тоже старается дышать поглубже…
Лавки еще на замке: «Продовольственный магазин», «Керосин», «Промтовары»… А чайхана уже открыта, водоносы таскают воду; они носят ее на крепких палках — по четыре ведра сразу; ведра раскачиваются туда-сюда, туда-сюда… Водоносы ставят их у дверей, выпрямляются и расправляют плечи, стараясь захватить побольше воздуха…
Огромный медный самовар, что стоит перед чайханой, пока еще дышит легко. Скоро появятся первые посетители, и он закипит, задыхаясь. Смотри, Садык, не проворонь свое счастье, зазеваешься — хорошие семечки разберут, оставят тебя в дураках…
А солнышко уже подбирается к будке дяди Селима. Скоро появится и он сам. Ну, скажи, Садык, зачем тосковать, когда у тебя есть такой друг? Ведь если дяде Селиму удастся выручить сегодня на мясо, он будет шутить без конца. Какие истории он тебе расскажет — одна забавнее другой!.. А раз у дяди Селима будет на ужин мясо, он обязательно принесет завтра кости, завернутые в тряпицу, и отдаст их черному псу. «Так-то, псина, — скажет дядя Селим, погладив собаку, — выходит, и правда надо было лаять…»
Собаки давно уже собрались возле пекарни. Три из них — обычные уличные попрошайки; этих дядя Селим не любит, хотя, конечно, не так, как мясник Али, который выгнал на улицу черного пса. Мясник выменял эту собаку у пастуха, отдал за нее овцу, а когда в дом забрались воры и унесли ковер, пес и не подумал лаять; Али выгнал собаку…
Вот он идет, тянет за собой на веревке сытую рыжую корову. Сейчас отведет ее в дальний конец базара под ореховое дерево, свяжет ей ноги, свалит, и из коровьего горла фонтаном брызнет кровь. Красная-красная… Потом Али разрубит корову на куски и будет продавать ее мясо. И если дяде Селиму повезет сегодня, он купит фунт этого мяса. И наутро черный пес будет грызть кости… А под ореховым деревом долго будет стоять лужа густой черной крови — все, что останется от рыжей коровы…
Базар постепенно оживает: несут фрукты, овощи, зелень… Их тащат в ведрах, в перекинутых через плечо хурджинах… Сейчас появится Сафтар со своей скамеечкой. Сядет, разложит щетки и будет терпеливо ждать. Один за другим к базару начнут с грохотом подъезжать грузовики, и из кабинок будут не спеша вылезать председатели колхозов. Каждый председатель обязательно подойдет к Сафтару и поставит ногу на его скамеечку, и тот, постукивая щетками, станет до блеска начищать запыленные черные сапоги.
Чем больше он почистит сапог, тем больше заработает. Если утро окажется удачным, Сафтар побежит на базар, принесет два больших лаваша, пятьдесят граммов меду, пятьдесят граммов масла и долго будет отмывать в арыке перемазанные ваксой руки. И только после этого примется за еду. Если же Сафтару не повезет и придется довольствоваться хлебом с солью, он ни за что не станет мыть руки.
Ты бы, Садык, хотел, чтоб Сафтар всегда ел на завтрак мед с маслом? И чтобы у дяди Селима каждый вечер было мясо и чтобы он каждое утро приносил черному псу кости? Это, конечно, было бы замечательно. Но ничего… Даже если сегодня Сафтару не повезет, ты все равно не огорчайся. День на день не приходится: завтра, глядишь, он опять будет мыть в арыке перепачканные ваксой руки… И дядя Селим тоже: сегодня не хватило на мясо, завтра хватит. Так что не огорчайся, Садык, не из-за чего тут огорчаться…
Собаки уже отошли от пекарни, бегут сюда, к базару. Господи боже мой, ну почему ты всегда такой грустный, псина? Скучаешь по родным горам? Или стыдишься бегать по улицам с попрошайками? А какой же ты безответный! Ведь ты должен бы ненавидеть мясника: он сманил тебя с гор, а потом выгнал на улицу! Цапнул бы его как следует, пусть знает, как пинать собаку, попрекать ее каждый раз этим проклятым ковром!
Ничего, Садык, не так уж все плохо, скоро Губат поведет в кузницу военкомовского жеребца, а может, просто так зайдет к тебе посидеть рядышком, посмотреть на хлебную лавку. Ты угостишь его семечками, но Губат не притронется к ним. «Товар для продажи», — солидно скажет он. Зато, если подойдет покупатель, Губат с удовольствием насыплет семечки в стакан. Вот если бы все покупатели приходили за семечками, когда Губат сидит рядом! Губат протягивает тебе рубль, взяв его у покупателя, а лицо у него такое, словно он дает тебе тысячу. И тебе до смерти хочется, чтобы Мерджан выглянула из лавки, а еще лучше — прошлась бы по базару. Ты бы не возражал, если б она сто раз на день проходила мимо тебя: возьмет из мешка горсть семечек и идет себе поплевывает… На ней белый платок, желтое шелковое платье, а в руках ключи: звяк-звяк… И пусть мясник Али смотрит на нее, скалит желтые зубы и кланяется ей униженно, как кланяется тем, кто носит шляпы и галстуки. Да можно ли тосковать, когда ты то и дело видишь, как этот громила заискивает перед Мерджан?..
Не надо, Садык, не скучай. Скоро загудит гудок, ты вскинешь на плечо торбу с семечками и побежишь к заводским воротам. Вы сядете с тетей под деревом, она накрошит в суп хлеба, и ты будешь есть: и суп съешь и хлеб. Потом ты опять усядешься возле будки дяди Селима, а он будет латать башмак и рассказывать тебе и черному псу про свою молодость. А потом вы с черным псом побываете далеко-далеко в горах; там много гранатовых деревьев; они пьют родниковую воду и цветут алым цветом… Черный пес будет сражаться с огромными волками, и ты будешь кормить его свежим мясом. Дяде Селиму ты будешь каждую неделю присылать по барану, чтобы он всегда был веселый. А если поедешь в город, на тебе непременно будут высокие черные сапоги: Сафтар в этот день сможет побольше заработать. С мясником Али ты расправишься запросто: подойдешь, одним ударом опрокинешь на землю, залитую бычьей кровью, и будешь долго бить его сапогами… Бездельники, прохлаждающиеся возле арыка, тоже получат свое: наподдашь сапогом под зад — и в арык, будут знать, как пялить глаза на голоногих детдомовских девчонок! А потом наступит твой самый главный день: громыхая черными сапогами, ты не спеша поднимешься по белой лестнице, откроешь ту самую дверь, в которую болван из болванов хотел затащить Мерджан, и убьешь этого болвана из болванов. Ты ведь уже понял, почему Мерджан каждый день посылает ему четыре кило белого хлеба…
Теперь вечера в нашем дворе проходили гораздо веселей. У меня появились свои деньги, и каждый раз, когда Мерджан садилась подсчитывать выручку, я устраивался возле нее.
Мятые грязные рубли я менял у Мерджан на новые, чистенькие. Обменивать рубли на десятки или тем более на тридцатки я не хотел, тогда у меня оказалось бы всего несколько бумажек, а так — целая стопка. Каждый день к ней прибавлялось совсем немного, но я заново пересчитывал все свои деньги и делал это неторопливо, со смаком раскладывая бумажки подальше одну от другой; так их казалось больше.
Я складывал и раскладывал рубли, а тетя Медина сидела напротив у стены и не отрывала от меня глаз. То ли ей приятно было видеть, что я наконец нашел себе какое-то занятие, то ли, глядя на меня, она раздумывала о своем… Последнее время она вообще очень много думала, сядет вот так, опершись о стену, и думает, думает, глаза у нее усталые и счастливые…
Может быть, это потому, что Якуб наконец оставил ее в покое, хотя в это и трудно поверить. Но это так — достаточно было тете один раз пройти мимо базара без чулок, чтобы Якуб отвязался от нее. Через несколько дней он поймал меня на площади, долго ругал за то, что я допустил подобное бесстыдство, а под конец назвал бабой и плюнул мне в лицо. Он, конечно, понятия не имеет, что тете Медине просто нечего надеть, что чулки, которые дала ей Мерджан, давно уже продрались и что Мерджан обещала обязательно раздобыть чулки и себе и ей, как только их привезут на склад. Очень даже возможно, что чулки скоро привезут и тетя появится на улице в новых чулках, но ведь Якуб этого не знает. С Якубом покончено — я понял это, когда он назвал меня бабой и плюнул мне в лицо. Он потом и через людей передавал тете, что не считает себя больше нашим родственником…
А может быть, тетя вовсе и не о Якубе думает, а о русском?.. Несколько дней тому назад, погасив свет, тетя долго шепталась о нем с Мерджан. В конторе заболела уборщица, и этот русский, главный механик завода, попросил тетю прибрать у него в квартире. Тетя рассказывала об этом взахлеб; во-первых, ключи от квартиры он доверил не кому-нибудь, а ей; во-вторых, это такой порядочный человек — ни разу даже дверь не открыл, пока она убирала. Но это еще что! Вытирая пыль, тетя уронила на пол зеркало, большое, красивое зеркало в деревянной оправе; оно разбилось. И, подумать только, на следующий день, увидев тетю в конторе, этот человек ни словом не попрекнул ее, наоборот, даже улыбнулся. Уборщица давно уже вышла на работу, а он каждый день дает тете ключи. И все для того, чтоб она не подумала, будто он сердится. «Ну скажи, Мерджан, кто из наших может так поступить?..»
Мерджан сонно бормочет что-то, мне кажется, она не слушает, думает о своем. Но я-то думаю об этом, я вспоминаю, как, наливая отцу чай, бабушка уронила стакан; стакан разбился, отец долго кричал на нее, не поднимаясь с паласа, а старенькая бабушка, у которой никогда не было башмаков, потому что она не зарабатывала на хлеб, молча смотрела на него и испуганно моргала глазами. Я и сейчас вижу ее глаза. И острый подбородок Мукуша. Как он злился, когда тетя разбила кясу! Кричать на тетю Мукуш побоялся, знал, что тогда она разобьет и вторую, и третью, и четвертую, он только тяжело дышал и, подбородок у него дрожал от злости. А Садаф, которая живет, «как шахиня»? Разве ей простят, если она разобьет чашку? Одну, может, и простят, но уж за другую обязательно подставят синяк… Это-то все я видел, знаю, а вот зеркало, большое, красивое, зеркало, которое разбила тетя, и того русского, который улыбался вместо того, чтоб ругать ее, мне очень хотелось бы увидеть. Но только не надо, чтоб тетя целыми вечерами думала о нем. Почему не надо, я не знаю. Скорей всего потому, что водка для русских — бог, ведь говорит же Якуб, что ради такой гадости они готовы ходить перед любым на задних лапках. А Губат еще говорил, что они не делают обрезания…
Губат и Мерджан помирились. Пограничный столб потерял свое прежнее значение, и после ужина Губат каждый день приходил к нам поболтать. Но это так только говорится — поболтать: при Мерджан он и рта раскрыть не решался. Помолчит, помолчит и уйдет, так и не сказав ни слова. Иногда перед тем, как идти к нам, Губат выпивал для храбрости и потом нарочно гремел табуреткой, громко говорил, даже закуривал, хотя терпеть не мог табака — он считал, что Мерджан ценит в мужчинах развязность. Как-то раз, осмелев от отчаяния, он вдруг на весь двор крикнул Сурат:
— Эй, женотдел, чего своим делом не занимаешься?! Сосватала бы за меня Мерджан!
Мерджан сначала сделала вид, что не слышит, а потом повернулась к Губату и издали показала ему фигу.
— А это видал?
Губату уже нечего было терять.
— Ни черта — все равно моей будешь!
— Всю жизнь о хромом мечтала!
— Хромой — полбеды! — крикнул Губат, решив, видимо, не обижаться. — У других и ноги целы, да башка не работает! — И добавил уверенно: — Не за кого тебе идти-то, все равно мне достанешься!
Время от времени Губат затевал такие разговоры, но всегда только издали, отойдя на приличное расстояние. Стоило ему приблизиться к Мерджан, у него сразу отнимался язык. И все шло по-прежнему: Сурат рассказывала по вечерам о женихе, а мы с Губатом смотрели «кино».
Сурат теперь все чаще заговаривала о свадьбе, и мне хотелось, чтобы свадьба обязательно была в нашем дворе. Вот только как быть с бабушкой Байханум: ведь ни один из ее сыновей не вернулся с войны. А может быть, вообще не надо свадьбы? Ни зурны, ни барабанов… Ведь тетю Медину вели к Мукушу под громкие завывания зурны, а ничего хорошего не получилось…
Однажды утром, придя на свое место возле базара, я узнал от дяди Селима, что вчера вернулся из армии один старший лейтенант. Потом появился Губат и сообщил, что этот демобилизованный не кто-нибудь, а жених нашей Сурат. Оказывается, Губат знает этого парня, знает даже, где он живет. Он показал мне красивый дом в самом центре города и, возбужденно блестя глазами, сказал, что не сегодня-завтра нашу Сурат с музыкой привезут в этот дом и тут уж муженек с ней «рассчитается». Не переставая поглядывать на дверь хлебной лавки, Губат подробно описал мне, какой красавец жених нашей Сурат: широкоплечий, ладный… Потом стал рассказывать о свадебной ночи, о том, как новобрачных отведут в спальню, а женщины в красных платьях будут стоять под дверью и ждать, когда жених «рассчитается» с невестой… Губат хлопнул меня по плечу и сказал с сожалением:
— Да, брат, кончилось наше кино!
Мне не терпелось поглядеть на счастливое лицо Сурат, и я ушел домой, не дожидаясь закрытия базара. Однако Сурат дома не оказалось, «кино» в этот вечер мы не смотрели. На следующий день оно тоже не состоялось; я не видел Сурат ни утром, ни вечером. Четыре дня подряд она приходила домой намного позднее обычного и молча поднималась к себе.
Утром она ьак же молча спускалась вниз и сразу убегала куда-то. Все эти дни она никому не сказала ни слова, только громко хлопала калиткой: и когда уходила и когда приходила домой. Наконец как-то вечером, кажется, это было на пятый день, Сурат неслышно, как тень, вошла в нашу комнату. Она долго стояла перед зеркалом, разглядывала свое лицо, словно после тяжелой болезни впервые поднялась с постели. Вытерла платочком красноватые опухшие глаза, пригладила брови, потрогала пальцем губы и только после этого взглянула на тетю.
— Задурили ему голову, — сказала Сурат совсем тихо и села на пол у стены так же, как и тетя, опершись о нее спиной.
И я вдруг увидел под ее нарядным шелковым платьем обычные голубые штаны. Такие, как носят у нас в деревне. Мне не раз приходилось их видеть, когда женщины наклонялись над арыком, споласкивая посуду. И Сурат показалась мне самой обычной, самой заурядной женщиной, ничего таинственного в ней уже не было. Поезд, который вез Сурат на женскую конференцию в Баку, остановился, и на дорогах, по которым, весело посвистывая, мчался он столько лет, стало вдруг очень тихо…
И вдруг в мертвой тишине комнаты послышалось встревоженное гудение шмеля: каким-то образом он залетел сюда и теперь никак не мог выбраться. Сурат заплакала и начала рассказывать, как мать и сестры жениха оговорили ее перед ним. Мать заявила, что порядочная девушка не пошла бы работать в райком; младшая сестра сказала, что если бы Сурат хоть чего-нибудь стоила, ее бы уже давно засватали, а старшая сестра, эта ведьма, эта змея, эта старая морщинистая обезьяна — она кассиршей работает в бане, — наплела, будто видела, как Сурат с мужчинами в баню ходила; сама, мол своими руками билет ей давала… А у парня еще тетка есть, ей дочку пристроить нужно, она тоже молчать не стала…
Когда же Сурат медленно, так же, как спускалась, поднялась к себе наверх, Мерджан заявила, что все ее рассказы — ерунда и дело вовсе не в этом. Прошлое лето Сурат купаться ездила на Севан с артистами из Дома культуры. И чего ее угораздило в такую даль ехать! Но это еще ладно, главное, говорят, пила она там с мужчинами, лишнее себе позволяла. Ее вроде даже из райкома тогда хотели выгнать, да пожалели — сирота. Жених как приехал, ему тотчас же все и доложили — приятель в райкоме работает — ну, тот сразу отбой — знать, мол, ее не знаю.
«Кино» в этот вечер состоялось, но это уже совсем не было похоже на «Аршин мал алан». И Сурат уже была не Гюльчехра, а самая обычная женщина, которая носит обычные голубые штаны… И она долго плакала, стоя у окна…
Много дней плакала Сурат у своего окна. Потом Губат сказал, что суженый нашей Сурат женится на двоюродной сестре, а Мерджан принесла еще одну новость — жениха Сурат назначили председателем горсовета. В ту же ночь я в своих больших черных сапогах вошел в нарядный цветник, поднялся на второй этаж красивого двухэтажного дома, который называется горсоветом, схватил болвана из болванов за ворот и вышвырнул на улицу. «Кино» кончилось, но темная тень Сурат навсегда осталась на стене.
Как-то утром, когда я торопился на базар, чтобы захватить семечки получше, Губат подозвал меня.
— Смотрел вчера? — спросил он, садясь на своей скрипучей кровати.
— Нет, — ответил я. — Я больше не смотрю.
На этот раз Губат мне поверил. Он притянул меня к себе и шепнул:
— Сегодня всю ночь не спал… Свадьба у них, девчонка чуть руки на себя не наложила. Платком удушиться хотела…
Он зевнул и снова улегся.
— Я тоже больше не буду смотреть! — сказал он и отвернулся, сердито натянув на голову одеяло; я знал, что Губат не врет.
3
До качала учебного года оставалось еще порядочно, когда тетя сходила в деревню, принесла справку об окончании мной пяти классов и отдала ее в школу номер один. Школа эта находилась недалеко от центра, по дороге от базара к заводу. Сразу за ней поднималась высокая белая стена, окружавшая детский дом.
За четыре дня до начала учебного года тетя запретила мне заниматься семечками. Я изнывал от скуки: слонялся по базару, бродил вокруг завода и от нечего делать несколько раз ходил смотреть на красивый богатый дом, который показал мне Губат. В этом доме жил тот самый парень, который не отрывая глаз разглядывал когда-то в окне отражение Сурат, а потом написал ей записку: «Образ твой я буду вечно хранить в сердце своем»; теперь он был «горсовет», известный всему городу товарищ Джалилов.
Я еще с первого класса считал, что первое сентября — праздник. Большой праздник, вроде новруз-байрама. Разница лишь б том, что к новруз-байраму готовится вся деревня: моют, чистят, стирают, а перед началом учебного года предпраздничная горячка охватывает одну тетю Медину. Во всяком случае, ни от кого, кроме нее, я не слышал выражения «сентябрьский праздник». Накануне первого сентября она всегда мыла меня, надевала чистые свежезалатанные штаны, чистую-пречистую рубаху и, посадив на большой плоский камень, старательно подстригала мне ногти на руках и ногах. Потом тетя брала длинную жердь и шла сбивать айву или персики, чтобы дать их мне завтра в школу; лазить по деревьям мне в этот день было запрещено — не дай бог запачкаюсь или порву рубаху…
Накануне первого сентября тетя отпросилась с работы пораньше. Нагрела на керосинке воды и, весело блестя глазами, принялась стирать мои штаны и рубашку. К вечеру они высохли, и тетя упросила Губата сводить меня в баню.
Утром, взглянув в зеркало, я остался доволен собой. Штаны на мне были на редкость искусно зачинены. Рубашка не просто чистая — глаженая, впервые в жизни я надел глаженую рубаху. Мерджан сунула мне в сумку четыре пряника, горсть конфет и сказала, что сегодня я очень славненький. Губат выглянул из-под одеяла и помахал мне рукой: «Желаим удач!» — по-русски крикнул он.
Двери школы, те, что выходили к базару, были открыты настежь, и вся улица запружена школьниками. Черный пес сидел возле будки дяди Селима и с бесконечным удивлением разглядывал ребячью толпу. Радио на высоком доме со звездой громко рассказывало о школе, и, словно для того, чтобы поторопить ребятишек, время от времени играла веселая музыка.
Дядя Селим, зажав между коленей старый ботинок, прилаживал к нему заплату и рассказывал черному псу, что такое школа и зачем туда идут ребята. Я торопливо скормил псу два пряника, а пока пес жевал их, дядя Селим успел благословить меня и наказать, чтобы я хорошо учился. В дверях я обернулся, взглянул на дядю Селима и понял, что сейчас он рассказывает псу обо мне.
Каждое утро, как только на консервном заводе гудел гудок, к висевшему на айване школьному звонку подходил дежурный учитель с красной повязкой на рукаве; следом за нашим звонком раздавался звонок во дворе детдома. Учителя брали журналы и один за другим спускались с верхнего айвана; там оставалась лишь директор школы Фирюза-ханум. Она стояла, облокотившись о перила, и ждала, когда начнутся занятия; ее гладкие волосы блестели, розовое лицо лоснилось, как после бани, вежливая улыбка редко сходила с губ.
Если после звонка прибегал какой-нибудь запыхавшийся мальчишка, Фирюза-ханум делала ему внушение, чтобы это было в самый последний раз, и пускала опоздавшего на урок. Потом она уходила, и, пока не раздавался звонок на перемену, верхний айван оставался пустым.
В классном журнале моя фамилия стояла последней, и парту я себе выбрал тоже последнюю. Если бы я захотел, то мог бы сесть и поближе, но мне было все равно — во всем классе меня привлекала только одна парта, та, на которой сидела девочка по имени Хакикат, но место рядом с ней оказалось занятым. Хазер, сидевший рядом с Хакикат, был первым учеником, и я сразу понял, что ни по одному предмету мне не удастся его обогнать. Хазеру улыбались все учителя, и он страшно зазнавался. Я бы смирился с тем, что Хазер — первый ученик, но уступить кому-нибудь улыбки учителей, которые столько лет были моей единственной и вполне заслуженной наградой, — это было выше моих сил.
Едва ли меня хватило бы надолго — сидеть на последней парте и вспоминать первую парту в старой школе, и старых учителей, и то, как они улыбались мне и в школе, и на айване, и на улице. Всю осень, возвращаясь из школы, я пугал своим мрачным видом тетю Медину; могло случиться, что я просто забросил бы учебу, но однажды в наш класс пришла Фирюза-ханум. Мы только что кончили диктант. Фирюза-ханум подошла к моей парте, посмотрела в тетрадь и пошла вперед, заглядывая во все тетради. Потом снова вернулась ко мне.
— Тебя как зовут?
— Садык.
— Ну-ка, Садык, покажи мне твою тетрадь.
Она взяла тетрадь, развернула ее на том месте, где был написан сегодняшний диктант, и показала всему классу.
— Видите, ребята? Садык будет одним из лучших учеников нашей школы.
Она положила тетрадь на парту и погладила меня по голове. Как только Фирюза-ханум вышла, ребята, все как один, привстали с мест и повернулись ко мне.
Прошло еще несколько дней. Сейяд-муаллим, преподаватель алгебры и наш классный руководитель, высокий сутуловатый человек, принес в класс стопку тетрадей.
— Садык! — вызвал он меня.
Я встал. Сейяд-муаллим спросил, как звали моего прежнего учителя по математике, а потом сказал, что я лучше всех выполнил домашнее задание: и задача и примеры сделаны правильно и без единой помарки. На перемене меня окружили ребята; даже кичливый Хазер признал теперь меня человеком.
То, чего я никак не хотел уступить Хазеру, я получил еще до конца первой четверти и великодушно простил ему все его остальные успехи и заносчивость. Только много позднее, зимой, я узнал, что Хазер ходит такой нарядный вовсе не потому, что его отец портной и умеет шить одежду, и важничает он вовсе не оттого, что у него по всем предметам пятерки, а оттого, что он родной брат «горсовета» Джалилова. По нескольку раз в день вызывали Хазера учителя, громко произнося эту фамилию, но лишь тогда, когда Хазер показал мне свой красивый дом, я сообразил, в чем дело.
Как-то после уроков Хазер отвел меня в сторону и предложил сходить «в одно место». Для этого, сказал он мне, нужно сначала купить на рынке орехов. Потом мы пройдем за школу к детдомовской стене. Там есть ворота, а под воротами — лазейка; Хазер свистнет, и в дыру пролезет Айша — девочка из детдома. Мы отдадим Айше орехи, а она даст нам пощупать ее.
Мы купили на базаре орехов, обошли вокруг детдома. Хазер свистнул, и в лазейке под воротами действительно показалась девочка. Девочка была плотная, коренастая, но лазила ловко, как кошка. Увидев меня, она замерла от неожиданности; сначала побледнела, потом вся залилась краской. Что касается Хазера, тот нисколько не растерялся, схватил девочку за руку, сунул ей орехи и стал тискать ее. Отпустив наконец Айшу, он позвал меня. Я не мог сдвинуться с места. Девочка постояла немножко, устремив на меня круглые от страха глаза, повернулась и шмыгнула в дыру под ворота.
Сначала Хазер поднял меня на смех, но, увидев, что я не в себе, спросил деловито:
— Чего струсил? Здесь же никто не ходит… Завтра придешь?
— Нет, — ответил я, завтра я не приду.
Но завтра я снова пришел к лазейке и послезавтра тоже. Орехи мы покупали на мои деньги, но я ни разу не осмелился приблизиться к Айше.
Я сам не мог понять, как случилось, что красивые новенькие рубли, накопленные с таким трудом, я, не задумываясь, тратил на орехи. Я сидел на своей последней парте, смотрел на редкие тополя, возвышавшиеся над белой детдомовской стеной, видел перед собой испуганные глаза Айши и думал об одном: почему вместо тополей люди не посадили возле детского дома орехи? Я знал, что Хазер считает меня идиотом: и тогда, когда, потратив свои красивые новенькие рубли, я ссыпаю орехи в карман его нарядного пиджака, и тогда, когда, притаившись у детдомовской стены, с нетерпением жду, чтоб трясущаяся от страха Айша поскорей нырнула в лазейку. Хазер каждый раз потешался надо мной и называл дураком, но я не отвечал, я думал об Айше, о том, что она сидит сейчас где-нибудь в уголке и торопливо жует орехи, которые мы ей принесли.
Как мне хотелось, чтоб Айша каждый день могла есть орехи! Я хотел этого даже больше, чем того, чтоб у дяди Селима всегда была на ужин баранина и чтоб чистильщик Сафтар ежедневно покупал на базаре лепешку с медом.
Простившись с Хазером, я не сразу шел домой, а долго еще слонялся возле базара: играл с черным псом, разговаривал с дядей Селимом. Несколько раз я видел товарища Джалилова. Он не носил шапку, его густые черные волосы были аккуратно зачесаны назад. Если ему кланялись, он не спеша наклонял голову, первым он никогда не здоровался.
И еще одного человека я часто видел возле базара. Это был даже не человек, а полчеловека, обрубок. Целыми днями инвалид неподвижно сидел на своей доске возле базарных ворот и оживал лишь тогда, когда на улице появлялись детсадовские ребятишки. Завидев ребят, инвалид хватал две дощечки и, перебирая ими по асфальту, весело катил за ребятами. Силы быстро оставляли его, он останавливался всегда на одном и том же месте — возле спиленного тополя — и долго сидел там, глядя на стайку ребятишек, поднимавшихся вверх по улице. Потом поворачивался и возвращался на прежнее место. И весь день, пока ребятишки снова не показывались на дороге, он все поглядывал на садик, в котором они скрылись…
Осень кончилась. Только здесь, в городе, вроде и кончаться-то было нечему. С обломанных веток тутовника упали последние листья, орех за базаром оголился, и его редкие ветви торчали в разные стороны, за детдомовской стеной белели стволы тополей, похожие на скелеты…
Однажды на уроке арифметики, по привычке взглянув на сухие тополя, я замер — на айване маячила высокая фигура Якуба. Он подошел, прижался лбом к стеклу, заглянул в класс и, увидев меня, довольный, повернул к двери. Не дожидаясь, пока он постучит, я спросил у учителя разрешения и выскочил в коридор.
Мы молча спустились во двор; у ворот я остановился. Якуб сунул руку в карман, достал пачку денег и, ничего мне не объясняя, спросил:
— Сорок кило картошки по три рубля — это сколько будет?
— Сто двадцать рублей.
— Так. Двенадцать кило лука по четыре рубля?
— Сорок восемь рублей.
— Хорошо. Прибавь к ста двадцати сорок восемь.
— Сто шестьдесят восемь, — не раздумывая, ответил я, видя, что Якубу нравится быстрота, с которой я считаю.
— Так. Теперь добавь еще сто пятьдесят рублей — это за огурцы и помидоры.
— Триста восемнадцать рублей.
— Здорово считаешь! Сколько, говоришь, вышло?
— Триста восемнадцать.
— Еще что осталось?
— Не знаю.
— Так вот знай. Абрикосы ваши я продал — на стены деньги пошли. Все стены обмазал. Орехов мешок собрал — все целы, ни одного орешка не тронул. Продам, желоба поправлю, и крышу надо чинить. Груш в этом году не было. Еще что-нибудь осталось?
— Ничего, — сказал я, удивленно глядя на деньги, которые он дал мне. — Ничего не осталось.
— Убери деньги! В карман положи! — И добавил, когда я убрал деньги в карман. — Никому ни копейки не давай. Слышишь? Пиджак себе справь и штаны.
— Хорошо.
Якуб молча оглядел меня: пиджак, брюки, галоши. Потом повернулся и зашагал к базару. Но вдруг вернулся, достал из кармана горсть орехов и сушеных ягод и высыпал их мне в карман.
— Учишься, значит? — сказал он.
— Учусь.
— Ну давай учись.
Я довольный побежал в класс: в одном кармане у меня шуршали деньги, другой был набит орехами и тутовыми ягодами. Случилось это незадолго до каникул. Айшу я теперь не видел — Хазер уехал с братом в Баку.
Начались холода. Как-то утром Сурат появилась во дворе в красивом зеленом пальто. Губат втащил свою кровать в комнату. Потом выпал снег, и вместе с ним на двор легла тяжелая мягкая тишина.
Площадь перед базаром постепенно пустела. Исчезла будка дяди Селима. Сафтара тоже не было больше видно. Мясник Али перебрался внутрь базара, под крышу; чурбан, на котором он рубил мясо, тоже переехал туда. Катык и папиросы продавались теперь только в чайханах, а площадь перед базаром перешла во владение ребят, целыми днями возившихся на льду.
Радио на высоком доме совсем засыпало снегом, но оно всю зиму говорило само с собой хрипловатым озябшим голосом. На стене, с четырех сторон загораживающей детский дом, лежали сугробы, я всю зиму не видел Айшу, словно и она тоже упрятана была под толстым слоем снега.
Хазер ни разу не вспомнил про Айшу. Нарядный, в теплых шерстяных варежках, в красном шарфе и блестящих черных сапогах, он целыми днями катался на льду перед базаром, а я глядел на него и думал, что забыть Айшу ему так же просто, как получать пятерки или бегать по льду…
Я не забыл Айшу, не забыл ее глаза, так похожие на глаза верного пса, который вместе со своими жалкими друзьями проводил теперь ночи за кочегаркой или у теплой стены пекарни. Как только запахло весной и снег на стене, окружавшей детдом, начал темнеть, я сам напомнил Хазеру про Айшу. Мы опять пошли в магазин, опять купили на мои деньги орехов и пряников, и опять я поджидал Хазера у белой стены, а потом день и ночь терзался мыслью, что сам напомнил ему об Айше.
В ту весну во дворе у нас было тихо, как зимой. Губат снова за что-то обиделся на Мерджан, но теперь он уже не только с ней, но и ни с кем из нас не хотел разговаривать. Домой он возвращался поздно и сразу шел к себе; кровать он так и не вытащил на айван; утром Губат поднимался, когда все уже были на работе, и, наскоро поев, уходил к военкомовскому коню. Мерджан тоже ходила мрачная, не похожая на себя. Уже несколько дней, вернувшись с работы, она ложилась на кровать и вставала только утром, когда пора было открывать лавку. Я чувствовал, что Мерджан и тетя скрывают что-то от меня, потому что они не разговаривали, даже ложась спать. Только один раз удалось мне услышать обрывок разговора; тетя рассказывала Мерджан об учителе Сейяде, о том, что он провожал ее до самого сквера, где стоит памятник Ленину; сначала он хвалил мои способности, а потом сказал, что хотел бы стать отцом Садыка, если, конечно, она согласна.
Согласна была тетя или нет, этого я не мог понять: говорила она об учителе хорошо, голос у нее был ласковый, но в то же время она упорно избегала встреч с ним, даже на работу ходила теперь мимо бани, хотя эта дорога была намного длиннее. Тетя Медина пристрастилась к чтению, Сурат приносила ей одну книжку за другой. А Мерджан по-прежнему все вечера лежала на кровати: спала или просто так лежала и думала, уставившись в потолок.
Но однажды вечером Мерджан вдруг рывком вскочила с кровати.
— Черт с ним! — громко сказала она. — Пойду за него, будь что будет! Пускай мясник, по крайней мере мужчина!
Она быстро надела кофту, кое-как повязала платок и, взглянув на себя в зеркало, выскочила во двор. Я смотрел ей вслед и не мог опомниться от ужаса: «Какой мясник? Неужели мясник Али?!»
…Утром, когда я уходил в школу, тетя Медина шепнула мне, чтобы я возвращался сегодня попозже — придут сватать Мерджан. Почему она говорила так осторожно, словно чего-то боялась? Ведь она не знает, что я ненавижу Али. Я никогда не рассказывал ей о черном псе, которого он выгнал на улицу, и о том, что, завидев пса, мясник всякий раз попрекает его ковром, который унесли воры. Почему тетя скрывает от меня, что Мерджан собирается замуж за мясника?..
Всю дорогу я мучительно размышлял над этим и наконец пришел к выводу, что дело не в мяснике, а в Губате. Тетя знает, что больше всего я хотел бы, чтоб Мерджан вышла замуж за него. Вот она и боится, что я по глупости расскажу все Губату, тот начнет скандалить, а это ни к чему — Мерджан сама знает, как ей поступать. Но если так, зачем же она все-таки сказала? Разве я не могу сбегать на переменке к Губату в военкомат? Нет, здесь что-то другое…
Обычно я не сразу шел из школы домой. Побывав возле лазейки, я долго еще бродил по базару или глазел на поезда, снующие между вокзалом и консервным заводом. Сегодня я сразу бросился разыскивать Губата. Я понимал, что иду на предательство, но ведь Мерджан выходит за мясника! Я обошел базар, наведался во все чайханы, заглянул во двор военкомата. Губат как сквозь землю провалился.
Увидел я его уже у нашего дома. Сидя на военкомовском бешеном жеребце, Губат направлял его к двери, пытаясь проехать во двор. Конь ржал, вставал на дыбы, подковами передних копыт бил по доскам. Что он делает? Ведь коню не пройти в дверь!
Вокруг толпились мужчины. Женщины, опасаясь строптивого жеребца, не подходили близко, зато их было полным-полно на крышах. Мальчишки облепили деревья. Все кричали.
— Он пьяный!
— Ты что! Усидит пьяный на таком коне! Гляди, словно гвоздем прибитый!
— А глазищи, глазищи-то! Конечно, пьяный, и гадать нечего!
— Ой, сейчас дверь сломает!
Но так кричали лишь женщины. Парни, те восхищались Губатом.
— Молодец! — кричали они. — Держись крепче!
— Прямо Буденный!
— Что там Буденный — Чапаев!
— Не, Кёроглу! Ты на коня погляди — Гырат, да и только!
— Эй, Губат, давай отсюда! Мясник идет!
— Али идет!
— Али!..
Мясник Али спокойно подошел к коню, схватил его под уздцы и подпрыгнул. Я не понял, что произошло, но в следующий момент Губат ничком лежал на земле, а жеребец с громким ржанием несся по улице. Мясник стал бить Губата ногами. Я закричал что было силы, схватил огромный камень и бросился на мясника. Но тут из калитки вышла тетя Медина, и камень выпал из моей руки.
Мясник долго ругался, разгоняя толпу. Потом он ушел. На улице остались Губат, я и тетя. Она присела на корточки и, подсунув руку Губату под голову, приподняла ее. Лицо у Губата было в крови.
Двое парней подняли Губата и понесли в дом. Мне запомнилось, как на айване кипел самовар, большой белый самовар, который всегда стоял у Мерджан на столе. Потом из ее комнаты вышли три женщины в чадрах. Мерджан высунулась, испуганно оглядела двор и снова закрылась в комнате.
Губата положили на кровать. Тетя намочила марлю горячей водой из самовара и смыла с его лица кровь. До самого вечера, пока не зажгли лампу, Губат не открывал глаз. И до самого вечера в нашем дворе все молчали.
Тетя Медина несколько раз уходила во двор плакать. Сурат тоже заплакала, когда увидела Губата. Один я не плакал. И только вечером, когда Губат открыл глаза и улыбнулся, я не выдержал. Я плакал долго, Сурат и тетя Медина никак не могли меня успокоить…
…Тетя принесла вермишелевый суп и стала кормить Губата, осторожно поднося ложку к его разбитым губам. Сурат сидела тут же на старом сундуке.
— Мы нашему Губату еще не такую сосватаем!.. — сказала Сурат.
Губат улыбнулся. Почему он улыбнулся? Разве она сказала что-нибудь смешное? Или ему приятно держать голову на тетиной руке? А может быть, он радуется, что остался жив?
Было уже за полночь, и мне давно пора было спать, но, как ни уговаривала тетя, идти к Мерджан я не согласился. Тогда она вслед за Сурат стала повторять, что высватает Губату чудесную девушку, умницу и красавицу. Потом сказала, что Али поступил нехорошо, но ведь и Губат не прав, надо все это забыть и помириться — что было, то прошло. С Мерджан Губат тоже помирится, и они все втроем — она, Мерджан и Сурат — найдут Губату невесту. Она сама все приготовит для свадьбы, и нажарит, и наварит!.. Я не верил, я слишком хорошо понимал, что это сказка, одна из ее красивых сказок, вроде той, про гранатовое дерево…
Нет, тетя, к Мерджан я больше не пойду. Ты сама сказала как-то, что во мне отцовская кровь и когда-нибудь она покажет себя. Да, тетя, я буду таким, как отец: таким же упрямым, таким же злым и таким же сильным. Я должен стать таким; мой отец схватил бы Али за горло, швырнул на землю и долго бил бы его черными сапогами… К Мерджан я не пойду! Мерджан для меня больше нет. Есть мясник Али. Есть черный пес. Есть лазейка под воротами детдома. Есть Губат с окровавленным, разбитым лицом и большой камень, который мне пришлось отбросить в сторону, Иди, тетя, ложись спать! Иди и ложись рядом с Мерджан, хотя ты не меньше меня ненавидишь мясника Али.
Тете Медине пришлось принести одеяло, подушку и постелить мне возле Губата. Губат спал крепко, только один раз вдруг всхлипнул во сне. Что ему привиделось?.. Я всю ночь видел одно — камень, который я поднял с земли и которым тетя не дала мне разбить мяснику голову. Каким-то образом камень этот оказался там, возле школы, я схватил его и, размахнувшись, запустил в Хазера. Хазер тихонько вскрикнул и свалился на землю.
Я не знаю, как попал он мне в руки, камень, которым я пробил Хазеру голову. Я знаю только, что видел другой камень, видел его с утра: на всех уроках, на всех переменах.
— Деньги есть? — с ехидной улыбочкой спросил Хазер, когда мы вышли из школы. Он и сегодня хотел, чтобы я шел с ним и стоял там, возле лазейки.
— Деньги есть, — ответил я, — но девчонку ты больше не тронешь.
— Ха! А это видел? — Хазер показал мне трешку.
— Все равно не тронешь!
Он захохотал и хлопнул себя по коленям.
— Ловко! Ты что, втюрился в эту шлюху?
— Мать твоя — шлюха!
— Что-о?!
— Твоя мать шлюха! Ясно? И сестра! И бабка! Весь ваш род шлюхи!!!
Хазер метил мне в нос, но я нагнулся, и его кулак скользнул по лбу. Если бы я не нагнулся и если бы Хазер не побежал, я, возможно, и не поднял бы с земли этот камень.
Потом мы оказались в кабинете директора. Хазера уложили на диван. Дверь закрыли. Словно в тумане, я видел, как одна из учительниц жгла носовой платок — надо было присыпать рану пеплом. Двое учителей держали меня за руки; один из них, Сейяд-муаллим, положил мне руку на лоб. «Не бойся, мальчик, не дрожи…» — негромко сказал он.
— Подумать только: оба отличники, лучшие ученики…
Слова прозвучали глухо, словно издали…
Фирюза-ханум металась по кабинету, то и дело подходила к окну и, приподнимая гардину, выглядывала на улицу. Сейчас она совсем не казалось красивой. Лицо у нее было жесткое, как из камня, глаза сверкали холодно и остро, словно кусочки стекла.
Фирюза-ханум собственным платком вытерла Хазеру слезы. Она села рядом с ним, обняла плечи и стала приговаривать нежно, ласково, словно баюкала:
— Хазер славный мальчик, Хазер умный мальчик…
Потом поднялась с дивана, и лицо ее опять стало жестким и холодным, как камень.
— Пошлите за его тетей! — сказала она. И добавила, обернувшись ко мне: — Я такого держать не могу. Пусть учится в своей деревне.
Я бросился к двери.
На улице было светло, а воздух был легкий-легкий — можно птицей лететь, когда такой воздух. Я побежал к реке. Там, за рекой, дорога, что ведет к нам в деревню. Прощай, черный пес! Прощай, дядя Селим! Прощай и ты, Айша!.. Я так ждал, так хотел, чтобы ты хоть раз отпихнула Хазера, хоть раз дала ему оплеуху! Ты этого не сделала и никогда не сделаешь! Мне незачем оставаться в городе! Прощай!..
Когда-нибудь я сам отыщу тебя, Айша. Ты наденешь зеленое платье из тонкой узорчатой ткани. Положишь мне на плечи белые округлые руки… Я обниму тебя, и ты задрожишь и прильнешь ко мне. И я стану целовать тебя, твой лоб, глаза, губы и все прощу тебе, Айша, все!..
Я шел в деревню. Приду и буду жить один, и днем и ночью один. Но сейчас был день, и ярко светило солнце, а все-таки было очень страшно. Я плакал от страха, и эхо разносило мои всхлипывания по ущелью… А тетя сейчас у Фирузы-ханум, и та смотрит на нее своими стеклянными глазами. Тете сказали, что Садык набросился на мальчика, пробил ему камнем голову. Она не верит. Поверь этому, тетя Медина! Я хочу, чтобы ты поверила, обиделась на меня и не стала бы меня разыскивать. Только одного я не хочу, хотя знаю, что это неизбежно: чтобы ты плакала там, у них, чтобы, спускаясь по лестнице, вытирала слезы концом платка!..
До деревни я добрался уже в темноте. На наши темные окна мне даже взглянуть было страшно, и я пошел к дому Якуба: здесь в окнах горел огонь. Я присел у ограды, отдышался, потом тихонько постучал. Никто не услышал. Я постучал сильнее. Вышла Садаф и открыла калитку. Она не удивилась, увидев меня, не сказала ни слова, словно так и должно быть…
По новой цементной лестнице мы поднялись на айван. Якуба дома не было. Его толстые краснощекие сыновья сидели вокруг большой миски и уписывали катык. Садаф стала убирать посуду. Закончив вечерний намаз, из соседней комнаты вышла тетя Набат, она тоже не удивилась мне.
— Пришел, сынок? — просто сказала она. — Садаф, принеси-ка ему хлеба.
Но Садаф гремела дровами у печки — она заметила, что меня всего трясет. Тетя Набат сама принесла хлеба, положила передо мной и села в уголке на сундук.
— Как тетя, здорова?
— Спасибо, здорова.
— А чего ты пришел?
Я промолчал. Тетя Набат не стала расспрашивать.
— Ешь, сынок, — вздохнув, сказала она, — мы уже поужинали.
Потом она поднялась с сундука и, волоча за собой длинную черную юбку, подошла к окну. Постояла, поглядела в темноту… Снова села на сундук, подперла рукой голову и, покачивая головой, сказала:
— А Якуба-то забрали!.. Забрали, чтоб им пропасть, этим амбарам!..
Мне приснилось, что я иду из города, позади меня бежит черный пес, я все время подзываю его — мне хочется увести его с собой в деревню. Но за черным псом неотступно трусят три тощие шелудивые собаки, и пес не хочет бросать товарищей: побежит-побежит, остановится и смотрит на них… Я пробовал отогнать собак, бросал в них камнями, они отставали немножко и снова бросались догонять пса… Мне было жалко, что это только сон, но ведь, если бы я не увидел сна, я, может быть, так никогда и не понял бы, что это невозможная вещь — разлучить черного пса с его друзьями…
Якубовы сыновья, мордастые, краснощекие мальчишки, крепко спали, лежа рядком на паласе. Тетя Набат, набросив на голову черную сатиновую чадру, совершала намаз в соседней комнате; маленькая тощая Садаф кипятила молоко на айване. Я глядел на ее огромный, с пудовый арбуз, живот и раздумывал, как это она не опрокинется, как можно таскать такой живот на таких маленьких тонких ножках.
Когда я открыл глаза, во дворе еще лежала тень, но росистая трава возле арыка уже серебрилась в лучах солнца. Дорожки, что вели от калитки к айвану, Якуб покрыл цементом, посреди двора устроил цементный водоем; чистая прохладная вода переливалась через край, свободно стекала на траву…
Я не поверил своим ушам, услышав во дворе тетин голос. Как она успела дойти? Ведь только светает…
— Садык у вас?
— У нас. Проходи в комнату, Медина…
Я сорвался с места и, сунув ноги в башмаки, бросился навстречу тете — я понял, что, если она сию же минуту не увидит меня, у нее разорвется сердце.
В руке тетя Медина держала тяжелую связку учебников. Увидев меня, она медленно опустила ее на землю. Я взял книжки, тетя немножко поговорила с Садаф, и мы пошли домой.
Тетя не сказала мне ни слова. Она ничего не спросила о Хазере, ни словом не упрекнула меня за то, что сбежал. Слишком она была счастлива. Тетя радовалась, что я нашелся, что вокруг так тихо, что воздух такой прозрачный и что возле арыка уже распустились фиалки…
Тетя вытащила щепочку, которая вместо замка была заткнута в петли калитки, мы вошли; гора, поднимавшаяся за домом, была вся красная, словно оштукатуренная солнцем.
Дорога, петляющая по склону, лежала, открытая солнцу, и, глядя на нее, я почему-то вспомнил учителя Сейяда и как он сказал тете: «Если ты согласна, Медина, пусть Садык и мне будет сыном».
Мне хотелось расспросить тетю Медину, что ей сказали в школе, выйдет ли Мерджан за мясника, поправится ли Губат. Но ничего этого я не спросил, а сказал совсем другие слова:
— Я больше в город не пойду.
Тетя сняла ржавый замок, висевший на двери дома, бросила его на мягкую землю и, толкнув дверь, вошла в прихожую.
— Я тоже не пойду, — сказала она.
В комнате было светло, удивительно светло было в нашей комнате. Стекла, которые вставил Якуб, были все целы. У стены стояла большая торба с орехами, крепко перевязанная веревкой. Тетя опустилась на колени и стала не спеша развязывать ее.
— Тетя, Якуба забрали, ты знаешь?
— Знаю.
Она развязала мешок, достала пару орехов, сжала их в кулаке; один треснул; тетя разломила его, выковырнула ядрышко, сунула в рот…
— Ты, Садык, только от школы не отставай… — сказала она. — А я лягу, устала немножко…
Тетя Медина развернула узел, в который год назад упаковала одеяла и подушки, и стала стелить постель.
Люди и деревья
Часть первая
1
Когда сына тети Набат, кладовщика Якуба, посадили в тюрьму, в деревне сразу стало очень тихо. Ведь тишина в нашей деревне зависит от того, что происходит на площади, а Якуб каждый вечер собирал возле мечети мальчишек; часа по два барахтались они на земле, и все это время в деревне не слышно было ничего, кроме восторженных воплей болельщиков. После борьбы брались за пояса — и опять крики, шум, смех… Сам Якуб на поясах, конечно, не схватывался, поскольку не мог найти себе партнера среди ребятишек, но верховодил в этой забаве он. Теперь на площади тихо, потому что Якуба забрали. И возле колхозного амбара, что стоит у горы, на самом краю деревни, тихо теперь без Якуба. Разве что вода шумит… Вырвавшись из-под скалы, она мчится в трубе под амбаром и с высоко поднятого каменного желоба падает в глубокий водоем; ее глухой размеренный гул напоминает мне чем-то басистый Якубов голос; я каждый раз думаю о нем, когда прохожу мимо.
И все-таки не было бы в деревне такой тишины, если бы дело ограничилось одним Якубом. Но только так не бывает: уж если проворовались, значит, и счетовод замешан и председатель. Счетовод, конечно, не имеет значения, а вот что председателя забрали, это очень заметно — баня закрылась, а уж если и баня закрыта, то на площади перед мечетью просто-напросто замирает жизнь. Баня откроется, когда будут дрова, а откуда взяться дровам, если нет председателя? Значит, надо ждать, пока появится новый. А пока он не появится, на бане будет висеть замок, потому что, если, не дай бог, оставить ее открытой, ребята там такого натворят: и слова матерные будут писать, и картинки похабные нарисуют, и набезобразничают всячески…
Закрыта наша баня, опять закрыта. И новый председатель появился, а дверь как была на замке, так и осталась. И на площади перед мечетью по-прежнему стоит тишина.
После Якуба из армии вернулось еще несколько человек, троих я запомнил. Один из них был Юсуф, сын тети Азры. Этот как объявился, целую неделю не вылезал из дома, говорили, что устал, спит.
Но он, видно, и за неделю не отоспался и на площади перед мечетью появился какой-то невеселый, сонный. Поздоровался со стариками, прислонился плечом к стене и, опустив голову, уставился на воду, которая, тихонько журча, бежала меж каменных плит. Словно он для того только и явился, чтоб смотреть на воду. Смотрел, смотрел и ушел…
После Юсуфа из армии пришел Гусейн. Длинный Гусейн, как его у нас называли. Целых два часа у него в доме играла музыка, а сам он прохаживался по своему айвану и говорил громко-громко, совсем как Якуб, и так же раскатисто смеялся, и мне уже начало казаться, что теперь на площади снова начнутся сражения, и мальчишки будут схватываться на поясах, словом, конец придет тишине. Однако назавтра я увидел Гусейна на том самом месте, где недавно стоял Юсуф. Самое удивительное было то, что Гусейн точно так же опирался плечом о стену и не отрываясь смотрел на воду. Несколько дней подряд я видел его там даже в самый зной, когда на площади не было ни души, он стоял, опершись плечом о стену, и смотрел на источник. В один из вечеров, глядя все в ту же сторону, он вдруг громко сказал: «Нет больше нашей деревни. Нет». Я понял: это все — не будет ни борьбы, ни схваток на поясах — ничего не будет. И мне подумалось, что Гусейновы слова каким-то непонятным образом связаны с водой, они, наверное, и Юсуфу приходили в голову когда он вот так же разглядывал воду, просто тот промолчал.
Очень мне не нравилось, что говорят про нашу деревню пришедшие с войны мужчины. Вот Якуб! Как было бы здорово, если бы все, кто вернулся с фронта, поступали как он: собирали бы мальчишек на площади, затевали бы борьбу, схватки на поясах, а главное — не было бы этих жалких разговоров. Да и что, собственно произошло, что изменилось в деревне за войну? Я не мог этого понять. Когда Гусейн, поглядывая на воду, сказал так про нашу деревню, я тоже взглянул на источник: вода как вода, ее не убавилось и не прибавилось. И миндальное дерево, что низко склонилось над родником, перегнувшись из соседнего сада, было такое же, как обычно. И густо обвившие его ветки лозы — с ними тоже ничего особенного не случилось. Разве что черешню кто-то обсадил колючкой, примотав ее проволокой к стволу… Это, конечно, от войны, но и в колючках в общем-то нет ничего страшного. Вот баня заперта — это плохо, но такое и до войны случалось — я сам сколько раз видел ее на замке.
Третий из фронтовиков был дядя Назар. Я встретился с ним на мельнице и сразу приметил его черный костюм — у нас таких никто не носил. Дядя Назар спросил, чей я, а когда я назвал отца, оживился и весело воскликнул: «А, Наджаф! Бульдозер Наджаф!» Я немножко опешил от такого слова и начал быстро соображать, что бы оно могло значить. А мельник дядя Масум решил, видно, что я расстроился, и, чтоб отвлечь меня, запел веселую песенку.
Потом я частенько встречал дядю Назара у родника. В отличие от Юсуфа и Гусейна, он не подпирал плечом стену и не говорил жалких слов про нашу деревню. За войну он побывал в разных странах, видел, какие там чистые источники, и очень старался и наш родник сделать таким же. Дядя Назар строго-настрого запретил женщинам стирать возле источника. Для стирки он выделил особое место; определил, где мыть посуду, и ему приходилось целыми днями сидеть возле мечети, на ступеньках запертой бани, и следить, чтобы женщины не нарушали порядок.
Тихо было в деревне, очень тихо. Только вода, рвущаяся из трубы в водоем, да похожие, как близнецы, письма, которые одно за другим слал Якуб из тюрьмы, напоминали о том, что были раньше. «Наперед всего кланяюсь, вам, уважаемая мамаша. Со вторых, конечно, интересуюсь, благополучны ли вы? Обо мне особо не тужите и не сомневайтесь, будто я здесь терплю муки мученические. Живу дай бог всякому, три раза в день горячую пишу принимаю. Я даже на тело подобрел, чтоб моим врагам от злости повылазило! Положением своим доволен. Бог даст, скоро вернусь. Уважаемая мамаша, по силе возможности сделать бы Гасану обрезание. Большой уже парень, стыдно… Гусейн подождет, справим, как вернусь. За Рахибом следите построже, пусть не ленится, теперь такое время, что без учения никуда. Неученому один бог помога…»
И снова тетя Набат с утра до вечера бродила с торбочкой по полям, собирала оброненные колоски, отыскивала оставшиеся в земле картофелины, подбирала рассыпанный горох… Но вечером она повязывала новую сатиновую чадру, обувала новые чусты, брала свой красный, сверкающий чайник и направлялась к источнику за водой. Тетя Набат останавливалась возле каждого дома, каждому встречному совала очередное Якубово письмо и громко, так, чтоб слышали смертельные враги, сообщала, что сын ее вот-вот вернется. Иногда, разгорячась не в меру, тетя Набат вдруг начинала нести нечто несообразное. «У меня там баранина тушится, — небрежно бросала она. — Невестке наказала, чтоб самовар ставила, а сама решила на родник сходить… Свежей водички захотелось…» И так это у нее получалось убедительно — даже жареным, бывало, потянет, совсем как до войны!.. И начинаешь верить, что и самовар у них есть, и Садаф подкладывает сейчас в него угли, хотя всем было известно, что, когда Якуба забрали, дом вымели под метелку, как еще чайник-то удалось утаить…
Тете Набат нужно было немало времени, чтобы добраться со своим чайником до родника. Она все рассказывала, все толковала про сына и, хотя голос у нее давно уже осип от усталости, старалась говорить как можно громче. «В ниточку вытянусь, а Якубовых сыновей подыму — голодать-холодать не будут!» — без конца повторяла она.
«Смертельные враги», для чьих ушей были предназначены эти слова, были по большей части пожилые женщины, в таких же, как у нее, чадрах и чустах… Разница была лишь в том, что на айванах у них цвели розы в горшочках, да и самовары у них дымили настоящие. Завидев человека, с которым не было нужды лукавить, тетя Набат сразу вся сникала, голос у нее становился тихим, движения слабыми — силы оставляли старушку. Позабыв и о смертельных врагах и о чайнике, тетя Набат прислонялась спиной к стене или в изнеможении опускалась на камень. «Солдатчину вытерпела, а тюрьму — нету моих сил!» Это тетя Набат говорила лишь тем, кого считала друзьями.
И сразу улетучивался соблазнительный запах баранины, а самовар исчезал вместе со щепками, которыми разжигала его Садаф. И я видел пустой Якубов двор, провалившиеся глаза Садаф, Гасана, которому отец не успел сделать обрезание, маленького Гусейна — любимца тети Набат, и Рахиба — пристроится где-нибудь в уголке с учебником и выбирает задачку похитрее. Теперешний Рахиб совсем не тот, что год назад, — подзадорит его, бывало, отец, любого кладет на лопатки. Ягненок стал, а не парень. Про учебу и говорить нечего: Якубу в голову, наверное, не приходило, что его Рахиб, двоечник, драчун, гроза всей школы, так решает задачки, что учителя только диву даются.
Уж если Якуб в тюрьме понял, что теперь «без учения никуда», значит, и правда настало такое время. В деревне только об этом и толковали: «Учись, детка! Ученье хлеб дает! Неученому один бог помога!» Может, Рахиб потому и взялся за учебу, что поверил этим словам и тому, что «жирного куска» ему теперь уж не ухватить. Так считали многие, но мне думается — дело не в этом. Мать его, Садаф, с недавнего времени поступила в школу уборщицей. И когда она подметала двор, мыла уборные или, натаскав из сарая дров, растапливала в классах печи, я всякий раз замечал, что, стоило ей нагнуться, Рахиб, краснея от стыда, опускал голову — из-под ее юбки выглядывали изношенные голубые штаны с большими серыми заплатами, заплаты наверняка были и у других, но те заплаты никто не видел…
Мы учились. И не только потому, что «учение хлеб дает», а «неученому один бог помога». Салатын, жившая за рекой на другом конце деревни, может, и не слыхала этих слов, и все-таки не пропустила ни одного урока: в любую стужу она, босая, прибегала в школу. Мы дразнили ее, но вовсе не из-за того, что она бегала по снегу босиком, просто у нее имя такое — сразу вспоминается «Салатын идет — белой лебедью плывет…» Не знаю, про какую Салатын придуманы были эти слова, может, та Салатын и правда плыла лебедью, но, когда я слышу эту старинную народную песню, я представляю себе вовсе не гордую, торжественную красавицу, а нашу босую, продрогшую до костей Салатын, и как ни весела эта песня, она не доставляет мне радости. Иногда и теперь, глядя на нарядных, довольных девушек, стайками выбегающих из школы или из института, я напеваю себе под нос эту песенку. И всякий раз передо мной появляется печь. Я даже слышу, как трещат в ней дрова, потому что, пока Салатын отогревалась, никто не смел пикнуть; звонок уже давно прозвенел, но урок все не начинался, и было слышно, как лязгают у Салатын зубы и как потрескивают в печке дрова. Случалось, что ноги у Салатын никак не отходили, посиневшие пальцы не хотели розоветь, и тогда девочка, не выдержав, начинала плакать. Слез у нее было так много, что, казалось, и в голове Салатын что-то замерзло, теперь оттаивает, светлыми каплями стекая по щекам; по лицу не похоже было, что она плачет, и казалось, что из глаз у нее течет самая обыкновенная вода. Пока у девочки отходили ноги, учительница Лейла, только что окончившая Бакинский педагогический институт, тихонько расхаживала за доской и, постукивая каблучками нарядных, светлых туфель, прислушивалась к потрескиванию дров. Потом выходила из-за доски и как ни в чем не бывало начинала урок. Лейла не раз заводила разговор про какие-то башмаки, которые без дела валяются у нее дома, — она очень хотела отдать их Салатын. Но стоило упомянуть про башмаки, девочка сразу начинала плакать, и эти слезы уже не были похожи на растаявший лед, это были самые настоящие слезы.
Тихо было в деревне, очень тихо. И в этой тишине тетя Набат с торбочкой в руках пробиралась по утрам на кладбище, туда, где начинались сады; в сумерках она возвращалась, прячась за ореховыми деревьями, густо заполонившими склон. А немного погодя уже шумела на тихих деревенских улицах, — дребезжал ее красный чайник, шуршало очередное Якубово письмо. Потом она приходила домой и окуривала письмо травкой — от сглазу.
По вечерам во дворе у тети Садат, из-за пустых зарослей миндаля, слышался визгливый голос Эбиша. Сын тети Садат был туговат на ухо и потому старался петь как можно громче:
Я купил самовар, да тереть некому, Про беду мою рассказать некому…Это всего лишь песня, но ее нельзя было слушать равнодушно: ведь известно, что за беда у Эбиша. Мне даже казалось, что Эбиш нарочно врет про самовар, самовара у них нет, а без самовара не женишься. Который год толкуют — купить, только это ни от Эбиша, ни от его матери не зависит. Все дело в миндале. Деревьев-то у них полно — весь двор зарос, а нужно, чтоб миндаль уродился. Тогда вырученных денег хватит и на чай, и на сахар, и на самовар. Но мороз уже пять весен подряд губит цвет, и тетя Садат не может купить самовар и женить сына. Деревья у меня перед глазами, прямо за нашим забором, и я точно знаю, что нет у Эбиша никакого самовара.
Через улицу, как раз против зарослей миндаля, был двор учительницы Лейлы, и в тихие вечерние часы ее калитка открывалась настежь. Каждый вечер в одно и то же время Лейла старательно мела двор, поливала его от двери до айвана, поливала и улицу перед домом. Потом застилала белоснежной скатертью стол, укладывала в тарелку отборные, чисто вымытые груши и яблоки, умывалась, причесывалась и садилась за стол. В эти часы Лейла обычно проверяла наши тетради или читала. А дверь она оставляла открытой для того, чтобы Длинный Гусейн, проходя мимо, мог ее увидеть, — он каждый вечер появлялся на нашей улице. Лейла не разговаривала с Гусейном, они даже не здоровались. Когда он проходил, Лейла поднимала голову и улыбалась — вот и все. Я никогда не слышал, чтоб учительница Лейла пела, но почему-то, проходя мимо ее дома, я каждый раз вспоминал одну и ту же песенку: «Как я улицу водичкой полью, чтобы милому ножки не пылить…»
Тихо было в деревне, очень тихо. Вечером, возвратившись с поля, тетя Медина подолгу стояла у стены, отделяющей наш двор от Эбишева, и думала, думала… Когда я, возвращаясь с улицы, хлопал дверной задвижкой, тетя вздрагивала, выпрямлялась и, сделав беззаботное лицо, начинала отковыривать от стены камешки и швырять ими в птиц, по-хозяйски рассевшихся на деревьях. Чудачка — будто я не знаю ее мыслей! Будто я хуже ее понимаю, что осенью опять ничего не дадут на трудодни. Что не сегодня-завтра нагрянет зима…
Многие считали, что я должен ходить в колхоз, хотя бы по утрам, до школы: сено сгребать или пускать воду. Нам бы тогда гораздо легче жилось — я ведь еще мальчишка, а мальчишка, если и стащит что: абрикосов за пазуху насует или дровец прихватит, — какой с него спрос — ребенок! И никому в голову не приходило, что тетя Медина никогда не разрешит мне воровать. И на ведро, которое она уносила из сада таким же пустым, как приносила, все поглядывали с недоумением.
Тишина стояла, полная тишина. И самые чудесные часы этой тишины мы трое — я, Азер и Рахиб — проводили на горе за деревней: лежали, глядели на деревню, мечтали. Тишина рождала мечту о дороге, гладкой, прямой и чистой; когда-нибудь такая дорога пройдет через нашу деревню и наши девушки, совсем как те, которых мы видели в кино, будут прохаживаться с нами по этой прямой и гладкой дороге. Мечеть возле источника сломают и на ее месте построят огромный Дворец культуры. Перед ним будет парк. Парк этот мы видели в кино. А что касается водохранилища, про него было написано в бумагах, оставшихся от Азерова отца, тех, что лежали вместе со стихами и пьесами. Там и место было указано, где строить. И даже приложен чертеж. Дядя Гасан писал, какие сады можно оросить водой из хранилища, какие поля вновь можно сделать плодородными. Мы только добавили парк и еще запланировали поливать дорогу, потому что без этого нам ни от чертежа, ни от водохранилища нет никакого проку.
В приложенной к чертежу записке о парке ничего не говорилось. Зато в стихах, оставшихся от дяди Гасана, полно было и парков, и дворцов, и парни с девушками прохаживались там рука об руку по гладким и чистым дорожкам. Иногда мы с Азером до ночи просиживали на склоне, упиваясь этими стихами, даже заучивали их наизусть. Рахиба стихи не интересовали, он весь был поглощен чертежом. Он даже отыскал то место, где дядя Гасан планировал строить водохранилище — километров пятнадцать отмахал вдоль берега. Вернувшись после института в деревню, мы непременно построим водохранилище — это было решено. И хотя о распределении обязанностей мы еще не договаривались, никто из нас не сомневался, что инженером нашего строительства может быть только Рахиб.
Мы учились тогда в седьмом или в восьмом классе. Не так уж много оставалось до института. Географию мы знали и знали, что Баку за горами, к северо-востоку от нас. Но по вечерам, когда мы лежали на склоне горы, за деревней, география улетучивалась из наших голов. Там, за дальним хребтом, куда уходило солнце, было по вечерам столько света, словно не одно, а тысячи солнц, перевалив через, хребет, собрались, чтоб затопить своим, светом горы. Баку, наш Баку, с которым в эти тихие часы мы связывали самые светлые свои мечты и надежды, мог быть только там, в океане солнечного света.
Иной раз мы дотемна засиживались на горе, до той поры, когда женщины, управившись с ужином, выходили на улицу и уютной кучкой располагались возле дома тети Садат. Девушки с нашей улицы тоже собирались там, и мы, остановившись поодаль, тотчас начинали обсуждать их. Не всех, конечно; нас больше интересовали ровесницы, те, что учились в нашем классе или на класс старше. Главным предметом обсуждения были, конечно, груди. Ничего более приятного и волнующего мы придумать не могли, — ведь нам было по тринадцать — четырнадцать лет. О болезни тети Шахрабану я бы тоже никогда не стал говорить, но она сама постоянно твердила о ней. Каждый вечер перед домом тети Садат заходил разговор о геморрое. Какой-то лекарь присоветовал тете Шахрабану лечиться ежиным салом, и бедная женщина донимала нас слезными просьбами поймать ежа, даже у школы подкарауливала. Зато вечером она к нам подойти не решалась — парни встречали ее оглушительным хохотом.
Тихо было, очень тихо. На одной стороне улицы сидели женщины, на другой — толпились мы, подростки. Чаще, чем о других девушках мы говорили о Динаре — у нее были самые большие груди. Лучше всех знал это Хашим, сын тети Сусен. Как-то вечером он ходил с ней к мельнице закрывать воду и там, поставив на землю светильник, стал обнимать ее. Динара была красивая, очень красивая девушка, но никто из нас не влюблялся в нее и, конечно, не мечтал на ней жениться. А вообще-то, хотя у каждого в отдельности обязательно имелась возлюбленная, живая или воображаемая, все мы были влюблены только в одну девушку — в учительницу Лейлу. Не любить ее было невозможно — у нее были очень красивые платья. И еще потому, что в мертвенной тиши тех вечеров не было ничего прекраснее ее окошка, занавешенного белой занавеской. Лейла проверяла тетради или читала, а нам казалось, что ее окошко светится где-то далеко-далеко, в другом мире, где нет ни нашей улицы, ни наших разговоров, ни нас самих…
До полуночи просиживали женщины перед домом тети Садат, потому что кричать на них было некому, дома их никто не ждал. Только тетя Джамиля — мать Лейлы — никогда не забывала о времени, каждый вечер в один и тот же час тушила свет у дочери. Тетя Джамиля уходила, в далеком белом окошке гас свет, и наша улица казалась еще пустынней, еще печальней…
2
В один из таких вечеров в деревню вернулся дядя Эльмурад, муж тети Сусен, отец Хашима. Странным было его появление. Во-первых, война уже три года как кончилась, и тех, кто не вернулся, давно перестали ждать. Во-вторых, на дядю Эльмурада пришла похоронная, а других вестей не было.
А в-третьих, он появился внезапно и чуть ли не ночью; приди он на полчаса позднее, на улице не было бы ни души.
Мы так увлеклись болтовней о девчонках, что не обратили внимания на тяжелые солдатские шаги. Только смотрим — женщины вдруг повскакали, прижались к стене, — по улице прямо на нас идет рослый мужчина с большим чемоданом на плече. Женщины молча смотрели, как он проходит мимо. И только, когда человек миновал их, тетя Садат вдруг крикнула чужим, визгливым, как у Эбиша, голосом:
— Батюшки! Да это же Эльмурад! Сусен! Эльмурад пришел!
Дядя Эльмурад остановился. Поправил на плече тяжелый чемодан и обернулся к женщинам, отыскивая среди них жену. Тетя Сусен прижалась к стене и, казалось, не дышала.
— А, ты здесь? — спросил дядя Эльмурад. — Так и торчишь с тех пор?
«С тех пор» означало «до войны», то есть уже лет семь, и когда дядя Эльмурад так сказал, все сразу почувствовали себя свободней; и тетя Садат воскликнула не Эбишевым, а уже своим голосом:
— Все бы тебе балагурить, Эльмурад! Как был шутник, так и остался!
Женщины оживленно заговорили, а дядя Эльмурад пошел дальше. Тетя Сусен бросилась за мужем, опередила его и побежала к дому. С грохотом растворилась дверь на улице. Зажегся огонь на айване. А Хашим так и остался стоять, на него вроде что-то нашло. Дядя Эльмурад подошел к нам. Остановился, но чемодан на землю не поставил. Наверное, он искал Хашима, но так и не смог узнать — смотрел на нас на всех одинаково.
— Ну что ж, молодцы, женщин наших охраняете. Дело нужное. Смотрите в оба, а то, глядишь, уворуют у вас матерей!..
Только когда дядя Эльмурад повернулся и пошел дальше Хашим, обогнал отца и стремглав помчался к дому. Немного погодя и мы все направились туда. Хашим вышел к нам какой-то не такой. Загородил дорогу и сказал, что отец устал, спит. Попросту говоря: «Убирайтесь, откуда пришли!» Мы повернули обратно, но тут вышла тетя Сусен и повесила возле двери светильник. Это означало одно: «Хашим, чтоб ему, дурню, пропасть, порядка не знает, — обычай есть обычай: если кто желает — заходите!» Оставив дверь открытой, тетя Сусен пошла вверх по улице. Она тоже была сама на себя не похожа. Лицо у нее было белое-белое, ее всю трясло. Бормоча что-то под нос, тетя Сусен прошла мимо женщин, все еще толпившихся перед домом Садат, и постучала к учительнице Лейле. Ей открыли, и из-за двери долго слышался дрожащий шепот — тетя Сусен плакала. Когда она вышла с лепешками в руках, женщины, все еще толпившиеся на улице, вдруг засуетились, зажужжали, как растревоженный улей, и все разом стали поздравлять ее. Но тетя Сусен словно и не слышала ничего. Она только бормотала что-то и вся тряслась, и каждая жилочка у нее в лице дрожала.
— Видали? Явился! Разве такого смерть возьмет?! С ним, с собакой, и сам аллах связываться не будет, чтоб ему пропасть, этому аллаху! Видали какой: брюхо вперед, загривок — что у бугая! Приходил кто-нибудь из армии с такой ряшкой? Видать, и там шлюху себе сыскал, где бы ему шататься до сих пор! Три года, как война кончилась, а он — вот он! Принимайте! У-у, скотина, проклятый! Всю печенку мне теперь вытравит, нечестивец. А чтоб ему сдохнуть-то, чтоб пропасть на чужбине! Так нет же, прибыл! Шлюха его по нему стосковалась! Ну? Чего вы на меня-то пялитесь? К ней ступайте — это у нее праздник! Пусть теперь рядится дорогого гостя встречать! Пусть себе хной… все места мажет!..
«Все места» она выкрикнула, проходя мимо нас. Если бы мы не были еще маленькими, она бы сказала по-другому «Пусть себе там намажет», но мы и так все поняли. Тетя Сусен ушла в дом, женщины стали обсуждать положение. Одни уверяли, что пропала теперь Сусен, снова пойдут подзатыльники да затрещины. Другие говорили, что не должно этого быть; Эльмурад, надо думать, остепенился, поумнел, неужто опять к Гюльшен ходить будет?..
Не знаю, кто о чем думал, какие кто видел сны, лежа в ту жаркую летнюю ночь во дворе или на айване, знаю, что сам я улегся на крыше. И что, едва я улегся, луна сразу зашла. И еще знаю, что, когда я лежал на крыше, а луна пропала за горами, я уже не хотел быть ни врачом, ни инженером — никем, кем мечтал стать раньше. Я хотел быть дядей Эльмурадом — таким же большим, таким же могучим. И я стал в ту ночь дядей Эльмурадом. Нет, нет, я не спал, я глядел на звезды. И как ни жалко мне было тетю Сусен, но, став дядей Эльмурадом, я, сам не знаю почему, сразу очутился у дома Гюльшен. Луна еще не коснулась стены, дверь была в тени. Я легонько, не торопясь, постучал в эту темную дверь. Где-то залаяла собака. И я почувствовал, что не могу больше ждать. Ни одной секунды не могу. Но меня не спросили: «Кто там?», не возились с задвижкой. Дверь тотчас же распахнулась, и Гюльшен ступила мне навстречу. На ней была только сорочка, белая ночная сорочка, грудь обнажена, волосы распущены по плечам. Я обнял ее, прижал ее голову к груди — обхватил ее всю своими сильными, большими руками. «Ради тебя я пришел, Гюльшен, только ради тебя!» Гюльшен ничего не ответила, она улыбнулась. Я сказал: «Люблю тебя, Гюльшен». Она заплакала, и я еще крепче прижал к груди ее голову, чтоб слезы, смочив мне рубашку, проникли в грудь, в сердце… Потом я стал целовать Гюльшен, сначала я поцеловал ее волосы, потом глаза, потом губы, грудь… Потом я услышал голос тети Сусен: «Пусть себе хной, все места мажет!», «Пусть мажет хной!.. Мажет хной!.. Хной!.. хной!.. хной!..»
Назавтра в полдень я увидел Гюльшен возле нашего дома. Она шла по пустынной улице, низко опустив голову; у дома тети Садат она настороженно огляделась — кроме меня, поблизости никого не было, — толкнула низкую дверь и скрылась за миндальными деревьями.
Мне не известно, каким образом я очутился прошлой ночью у дома Гюльшен, когда луна зашла и я стал дядей Эльмурадом; я не знаю, сколько там пробыл; точно так же не знаю я и того, сколько проторчал у щели в стене, отделявшей наш двор от двора тети Садат. Сначала тетя Садат и ее гостья стояли у окна и о чем-то шептались, таинственно и загадочно, как могут шептаться только женщины. Потом тетя Садат ушла в дом и притащила огромный тюфяк. Боже мой, как давно она его не выносила! А ведь до войны тетя Садат по нескольку раз в день торжественно выволакивала из дому этот огромный пышный тюфяк. Женщина — одна из тех, которые каждый день наведывались к тете Садат, — блаженно растягивалась на тюфяке, а хозяйка, посмеиваясь и нашептывая что-то, принималась выщипывать ей брови. Выщипывать брови она умела всегда, это было для нее почти профессией, но я почему-то совершенно забыл и о ремесле тети Садат, и об ее огромном тюфяке.
И вот теперь она достала тюфяк и расстелила его на траве, на том самом месте, где всегда стелила раньше. Гюльшен зевнула, потянулась, выпятив большие круглые груди, потом улыбнулась той особенной непонятной улыбкой, которую я всегда замечал у женщин перед тем, как они ложились на тюфяк тети Садат, сдернула с головы марлевую косынку и, бросив ее на ветку миндального дерева, привольно раскинулась на тюфяке. Я не смог бы точно сказать, когда она была красивее — сейчас, лежа на тюфяке под миндальным деревом, или ночью, озаренная лунным светом, который мне пришлось выдумать, потому что настоящая луна зашла, я этого просто не знаю. Но я точно знаю, что трава вокруг тюфяка, на котором лежала Гюльшен, была необыкновенно хороша. И миндальное дерево, на ветке которого белела ее косынка, было на удивление красиво. И даже бородавка на носу тети Садат была тогда симпатичной… С тех пор прошло немало лет. Трава, на которой лежал тюфяк, наверное, уже не та. Но миндальное дерево стоит, как стояло, и по-прежнему лопаются на нем весной почки, и расцветают цветы, и каждый раз, глядя на это миндальное дерево, я вспоминаю, как оно было красиво; невероятно, немыслимо красиво было тогда это дерево…
3
В наших местах не говорят — дерево. Нет такого понятия. В любом саду, в любом дворе десятки деревьев, и у каждого свое название, а у некоторых даже прозвища. И любой младенец скажет вам, у кого в деревне самая сладкая алыча, у кого раньше всех поспевают абрикосы, у чьих орехов самая тонкая скорлупа. Дерево у нас вроде как живое существо. Есть любимые деревья, такие хозяину все равно что родные дети, а от некоторых хозяин видит столько добра, что не от всякого сына увидишь. Недаром ведь живет у нас пословица: «Лучше дерево с плодами, чем сын-пустоцвет».
Но это вовсе не значит, что деревья в наших краях ценят только из-за плодов. Бывает, что дерево и вовсе бесплодно, а им дорожат; и в один прекрасный день вдруг узнаешь, что «под этой яблоней ты, сынок, свет увидел». И что схватки у твоей матери начались «возле той вон алычи»; или окажется, что «люлька твоя висела под тем вон орехом»… Есть деревья, которые давно уже погибли от старости, но до сих пор живут в памяти людей. Не раз случалось, что, выложив все свои беды и горести, моя бабушка вдруг заводила разговор про какие-то фантастические груши, которые будто бы росли прежде на нашей земле, что отошла потом колхозу. А какой виноград там был — каждая ягодка с коровье вымя… Но самое главное — туты. Стоило бабушке заговорить о тутовнике, она уже не могла остановиться; я думаю, ни один человек на свете не сумел бы так рассказать о тутовых деревьях. Когда бабушка заводила речь о своих тутах, лицо ее преображалось, светлело. И уже зеленела вокруг тутовых деревьев шелковая мурава, усыпанная спелыми, светлыми, как янтарь, ягодами. И на зеленом лугу появлялись девушки, не нынешние клуши — ленивые, неповоротливые, — а прежние: проворные, ловкие; с песнями да с прибаутками они за час подбирали все до последней ягодки. А наутро лужайка опять желтела спелыми ягодами — крупными, налитыми, прозрачными, как янтарь…
Почему именно о тутовнике рассказывала бабушка с таким вдохновением — может, под одним из этих деревьев родился ее первенец? Не знаю. Но я знаю, что весной, когда шелководы с секачами в руках отправлялись в колхозный сад обрубать с тутовника ветки, бабушка невыносимо страдала. Иногда мне казалось, что то полное неприятие и даже вражда, которые бабушка испытывала к колхозу, были порождены именно этой вот ежегодной рубкой тутовника. Бабушка никогда не ходила в сад — не могла она видеть изуродованные, обесчещенные деревья. Бабушка часто говорила, что для червей нужно сажать побольше дичков, что прежде всегда так и делали. А поднимать руку на старое дерево, рубить его секачом — это бабушка считала поношением. Бабушка была очень стара, и, наверное, потому ей тяжело было видеть такое непочтение к старости.
У нас во дворе тоже были и туты, и груши, и всякие другие деревья. И все они были мои, хотя это вовсе не значит, что они были для меня равны, слишком хорошо я знал их недостатки. «Ленивцы» отличались капризным нравом: пока плоды зеленые, того и гляди, ветви сломятся, а как им созревать, дерево вдруг возьмет да и сбросит половину. Особенно запомнилось мне одно абрикосовое дерево: веской все в цвету стоит, а ягодки от него, от жадины, не дождешься. Ох, и сердили меня эти ленивцы! Я ругал их последними словами, иногда даже камнями их бил. И все-таки я целый день ревел, когда спилили грушу возле хлева, — а уж на что противное было дерево — во всей деревне не найдешь жадней. Я ревел, а отец посмеивался, на этот раз ему почему-то нравилось, что я плачу…
Деревья делились у меня на мужчин и женщин. Черешня я слива были, конечно, женского пола, а вот яблоня и груша — мужчины. Откуда взялось это разделение, не знаю. Во всяком случае, оно не зависело ни от роста, ни от сложения. Иначе огромные чинары не представлялись бы мне до сих пор девушками, а невысокий раскидистый фундук — парнем. Разделение это сложилось у меня в голове сразу и навсегда. Вот только насчет айвы я передумал. И вот как это случилось. В одно весеннее утро айва расцвела, и в это же весеннее утро учительница Лейла пришла в школу в белом-пребелом платке. И когда, вернувшись из школы, я взглянул на айву, перекинувшую через стену слепящие белизной ветки, я сразу понял, что она — девушка, и как я этого раньше не понимал!..
4
В тот самый год, осенью, дядя Эльмурад посадил на улице перед домом четыре тутовых саженца. Вообще-то в этом ничего особенного нет, любому могло прийти в голову. Тутовник у нас не сажали вовсе не потому, что ленились, просто не хотели трудиться впустую — знали: придет лето, шелкопрядам опять не хватит корма, и тогда, хоть кричи, хоть волком вой, обкорнают твои туты, один ствол оставят. А стволы кому нужны? Вот люди и не сажали тутов, хотя чего лучше — тутовник перед домом. А дядя Эльмурад посадил. И сказал, что, если надо, пусть рубят ветки, не подыхать же шелкопряду без корма. Он даже уверял, что если каждый посадит перед домом по парочке молодых шелковиц, то и «палнамочин» с погонами не будет по дворам шнырять, вполне хватит того, что на улице. Сказал он так не зря, потому что каждую весну в конце мая, когда кормить шелкопряда становится нечем, в деревне начинается что-то невообразимое. Некоторые женщины на колени падают перед уполномоченным, плачут, умоляют… А другая обнимет дерево — телом своим загораживает: на, мол, секи мне голову, только его не тронь, — ухватится — не оторвешь… Словом, кроме дяди Эльмурада, одна тетя Набат решилась посадить перед своим домом тутовник. Я видел, как она, тяжело отдуваясь, копала большую яму. Потом притащила откуда-то кривой, горбатенький дичок и посадила его в эту яму. А больше никто в нашей деревне не захотел сажать на улице деревья.
Если бы дядя Эльмурад покрепче взялся за дело, объяснял бы, доказывал, он, может, и уговорил бы односельчан насадить тутовник. Но дядя Эльмурад не любил много толковать. Он вообще был какой-то необычный. Вот уже сколько месяцев, как он вернулся в деревню, а я ни разу не видел, чтоб он сидел перед мечетью. Дядя Эльмурад терпеть не мог бездельников, на дух не принимал курильщиков. Стоило ему появиться на улице, мы тотчас прятали папиросы, хотя не было случая, чтоб, проходя мимо, дядя Эльмурад обругал или оговорил кого-нибудь. Хашим теперь курил потихоньку от отца, да и на улицу выходил украдкой. Сам дядя Эльмурад работал без отдыха; утром с лопатой на плече уходил в поле, по вечерам дотемна возился в саду. Мало того что он высадил у себя во дворе десятки новых деревьев, понатыкал жердей между своим и соседним забором и, перебросив через забор виноградные лозы, тоненькими айвовыми прутиками подвязал их к жердям. Дядя Эльмурад высадил в саду деревья, укрепил щепой стены, обмазал крышу; Хашим уверял, что отец и баню собирается строить.
Дядя Эльмурад был всегда так занят, так увлечен своими делами, что, казалось, ему ни до чего нет дела, что он и представления не имеет, как живут у нас в деревне.
Но оказалось, что представление он имеет. Зимой, когда состоялось отчетно-перевыборное собрание, выяснилось, что дяде Эльмураду очень хорошо известно и чем живет деревня, и что творится на улице, и даже то, что некоторые девочки ходят в школу босиком. С этих босоногих девочек он и начал свое выступление. Посмотрел на сидящих в зале и очень сердито сказал, что настоящие мужчины не допустят, чтоб у них в деревне девочки босиком в школу бегали. И чтобы понятней было, для примера стал рассказывать про какую-то Европу, будто там девочек уж больно чисто водят; так что после них на наших замарашек и глядеть неохота. И мы могли бы не хуже содержать своих детей — и в чистоте и в достатке, да больно мы ленивы, работать не любим — только и смотрим, где что плохо лежит. Сидим, распахнув рты, да ждем, пока Советская власть хлеб нам в рот положит.
Дольше всего дядя Эльмурад говорил насчет воровства. Где воровство, сказал он, там ни урожая не жди, ни достатка. И опять рассказал из немецкой жизни: будто там хозяева даже лавки открытыми держат, и никто ничего не берет. А еще есть такие страны, где хозяйки с вечера оставляют на крыльце посуду и деньги на молоко, продавец утром придет, нальет молока сколько положено, возьмет деньги и идет себе дальше, — вот какие на свете чудеса бывают. Дядя Эльмурад сказал, что и мы у себя в деревне должны завести такие порядки. Вообще на этом собрании дядя Эльмурад говорил дольше всех, а под конец поглядел на инструктора райкома, сидевшего за красным столом в черном наглаженном костюме, и вдруг заговорил, совсем как когда-то барабанщик Имамали: про партию сказал, и про правительство, и что, мол, для нас, колхозников, все условия созданы…
Выступление дядя Эльмурада очень всем понравилось. Инструктор райкома первый захлопал в ладоши, а до этого никому не хлопал. Потом он поднялся и сказал, что, поскольку райком партии поручил ему провести настоящее отчетно-перевыборное собрание, он предлагает избрать председателем колхоза товарища Эльмурада, так как данный товарищ четко представляет себе задачи, поставленные перед нами на сегодняшний день партией и правительством. И предложил поднять руку, кто «за». Все сразу подняли, и дядя Эльмурад был выбран председателем колхоза.
5
Как это ни удивительно, но зимой дядя Эльмурад и правда построил у себя во дворе баню. Но и про общую баню не забыл. За зиму ее отремонтировали внутри, весной, когда потеплело, обмазали снаружи, потом на ослах и на мулах долго возили дрова (здоровенные пни), и под самый новруз-байрам, жарко истопив баню, открыли ее.
И опять на площади перед баней допоздна копошились мальчишки. Снова по вечерам выходили из бани разомлевшие, чистые, румяные женщины. И хотя дядя Эльмурад никому не давал шляться без дела, на площади перед мечетью теперь уже не было тишины.
Едва начинало светать, бригадиры шли по домам — поднимать людей на работу. Сразу после дойки дядя Назар, выбранный председателем ревизионной комиссии на том же собрании, что и дядя Эльмурад, появился в коровнике с тетрадкой в руках: каждый, кто направлялся в поле, мог получить литр молока. Хлеб — то немногое, что осталось с прошлого года, — дядя Эльмурад поделил между колхозниками. Особо нуждающимся выдали денежный аванс. Одним словом, колхоз начинал походить на колхоз.
И все-таки тетя Медина в ту весну не очень-то рвалась в поле. Все пыталась устроиться куда-нибудь, где зарплата: в библиотеку, или воспитательницей в детсад, или уж на худой конец уборщицей на медпункт. Она каждый день ходила в сельсовет, но так и не добилась от председателя ничего определенного. Каждый день он откладывал ответ на завтра, и каждый день, придя из сельсовета, тетя подолгу стояла, облокотившись на стену, отделявшую наш двор от двора тети Садат. Тетя или молчала, или на чем свет стоит костила нового «исполкома»: чурбан какой-то, пень, дубина… Абуталиб был действительно «исполком», а этот — одно название… Видно, и правда не осталось в деревне настоящих людей…
В ту весну, как всегда, зацвели деревья. В саду у тети Садат миндаль цвел так пышно, что теперь можно было надеяться: тетя Садат купит наконец самовар и женит Эбиша. В середине апреля червей, как всегда, раздали по домам, и в середине апреля раскрылись почки на горбатеньком дичке, который посадила тетя Набат. И хотя в конце мая шелкопрядам, как всегда, не хватило корма, «палнамочин» в деревню не приезжал, и те, кого обязали вскармливать шелкопрядов, не ходили по дворам с секачами — дядя Эльмурад добыл где-то в соседней деревне несколько вьюков тутового листа. Одновременно привезли саженцы и заложили новый тутовник.
В ту весну мы, как всегда, праздновали и Первомай, и День Победы. Но на этот год мы уже не забирались праздничным утром в колхозный сад и не притаскивали в школу охапки сирени и роз — дядя Эльмурад раз навсегда запретил появляться в колхозных садах всем, кто там не работает. А розы, которые испокон веку сажали у нас только для украшения и которые обычно чахли без присмотра, а если и выживали, то уж никак не за счет ухода, стали теперь «колхозным достоянием». Лепестки обирали и ведрами возили на приемный пункт консервного завода.
Однажды майским утром Гюльшен вдруг появилась у нас во дворе, хотя прежде к тете не заходила. Выпила чаю, взяла одно из трех яиц, только что сваренных в самоваре, посолила покруче и съела. Потом забрала тетю, и они вместе пошли собирать розовый лист; с этого розового листа и началась снова тетина работа в колхозе.
Незабываемое это было лето. Нам, старшеклассникам, дядя Эльмурад велел выходить в поле. Когда по утреннему холодку бригадиры приходили будить на работу, мы вскакивали первыми, и в этом раннем вставании было какое-то особое удовольствие. А как здорово было закусить в саду на траве или прямо на меже в поле!.. Мы и чайник брали с собой, кипятили на костре чай. До самого полудня мы косили, собирали фрукты, жали… А когда наступал полдневный зной и воду отводили в садовые водоемы, мы часами плескались в прохладной воде. Дядя Эльмурад запретил без дела шататься по садам, поставил сторожей с ружьями. Не знаю, как взрослым, но нам, мальчишкам, доставляло великую радость проходить мимо сторожа, зорко охранявшего наше колхозное добро.
Днем мы работали вместе: я, Азер и Рахиб. Рахиб работал еще и вечером, когда все уже расходились по домам. Ну, не то чтоб работал — ходил по горе, на том месте, где мы обычно валялись, читая стихи или разбирая чертеж дяди Гасана. Председатель поставил Рахиба сторожить воду, ту самую, которая, вырвавшись из-под горы, мчится под колхозным амбаром и с грохотом падает в водоем, напоминая мне Якубов голос; по вечерам эту воду пускали на колхозные поля. Но если бы Рахиба и не было на горе, воду все равно никто не посмел бы взять: у дяди Эльмурада не поворуешь! За дежурство у водоема Рахибу каждый месяц начисляли пятнадцать трудодней. Дядя Эльмурад, разумеется, не говорил об этом открыто, однако не раз повторял, что семье Якуба нужно помочь, потому что, если и есть в деревне пяток стоящих мужиков, — Якуб один из них. Не знаю почему, но когда дядя Эльмурад так говорил, я всегда вспоминал, что Якуб бил жену. Поразмыслив, я даже пришел к выводу, что в самом битье есть что-то таинственное, непостижимое, какая-то особая мудрость, доступная лишь настоящим мужчинам, — ведь дядя Эльмурад и сам частенько наподдавал жене и, конечно, именно поэтому был такого высокого мнения о Якубе.
До самой темноты Рахиб в одиночестве расхаживал по склону. Мы с Азером редко теперь поднимались туда, потому что на площади перед мечетью опять стало шумно и интересно. По вечерам здесь теперь собирались мужчины, допоздна просиживая на дощатом помосте, прилаженном возле ограды. Даже дядя Эльмурад нередко наведывался сюда. Правда, он никогда не присаживался, а останавливался поодаль и стоял там, держа руки в карманах, широко расставив ноги в тяжелых солдатских сапогах.
Чаще всего разговор шел о различных странах, в которых многим довелось побывать за войну, или об урожае — прикидывали, сколько может выйти в этом году на трудодень. А дядя Хилал говорил обычно, что Советская власть — это да, но уж больно много развелось сейчас всяких служащих. Дядя Исфендияр считал, что Советская власть — великая сила: захочет — за пять лет весь мир завоюет. Из этого он почему-то делал вывод, что нужно обязательно открыть иранскую границу. Говоря про границу, дядя Исфендияр очень волновался, начинал клясться и для убедительности бил себя кулаком в грудь, да так сильно, что из пиджака летела пыль.
Дядя Мюрид начинал всегда одинаково: «Я прямо скажу: я никого не боюсь!» После этого он обычно говорил то, что хотел сказать. А дядя Назар, о чем бы кто ни говорил, всякий раз совал в разговор свою дурацкую пословицу: «У каждого своя ложка, у каждого своя еда».
Дядя Эльмурад в эти разговоры не вмешивался, все больше пошучивал. И всем это было по душе, один лишь дядя Исфендияр не выносил его шуток — сразу начинал колотить себя в грудь. Он злился потому, что дядя Эльмурад советовал не очень-то его слушать: у него, мол, в Иране свой интерес — отец еще при Николашке семь ковров в Тебризе оставил, вот Исфендияру и не терпится наследство получить — откроют границу, он тотчас за коврами махнет.
Дядя Эльмурад часами мог шутить на любую тему, кроме одной: о женщинах он всегда говорил всерьез, от чистого сердца. Такая, говорил он, должна быть у человека жена, чтоб, как пришел с работы, сел возле нее, — до утра, пока в поле идти, чтоб сил не было оторваться. Такую, говорил он, нужно иметь жену, чтоб — вот сидишь ты на бюро в райкоме партии, и песочат тебя на чем свет стоит, штаны, можно сказать, спускают, и вдруг вспомнишь, что дома тебя жена ждет, и так на душе светло станет, что забудешь ты и план, и отчет, и что выговор влепить собираются, — бросил бы все и летел бы к ней как на крыльях… «Жена, — говорил он, — это не просто женщина, это — души весеннее цветение». Когда дядя Эльмурад произносил «цветение души», он каждый раз кивал на дерево, росшее возле источника, или указывал на сады за рекой; я сразу вспоминал, какие они бывают в цвету, и мне почему-то представлялась осыпанная белым цветом айва. Дядя Эльмурад говорил все это всерьез, а другие посмеивались — брось, мол, крутить, Эльмурад, знаем мы твое «цветение». Некоторые, наверно, считали, что председатель нарочно заводит такой разговор: поддразнить хочет, — баба-то у него какая. Может, так оно и было, но мне почему-то казалось, что, появись у дяди Эльмурада хоть малейшая возможность, он привел бы Гюльшен в свой дом и прекратил бы все эти разговоры. Он их потому и заводит, что не может привести Гюльшен…
Конечно, в центре внимания всегда оказывался дядя Эльмурад, но из этого вовсе не следует, что председатель ревизионной комиссии дядя Назар оставался в тени и его никто не замечал. Ни в коем случае. Попробуй его не заметь, ведь он каждый вечер надевал свой красивый черный костюм; костюм дядя Назар очень берег, но показать этого не хотел и садился вместе со всеми на доски. Только все равно ничего не получалось; костюм не давал ему покоя, и все видели, что бедняга мучается. Донимала его и другая забота — он все вскакивал, все глядел на источник; сунется какая-нибудь бабенка к воде со своими кастрюлями, дядя Назар тотчас отчитает ее, как положено. Я думаю, что поговорка про ложку, которую он то и дело совал в разговор, пришла ему в голову здесь, у источника, когда он наблюдал за женщинами с их ложками и кастрюлями.
Темнело, люди постепенно расходились, Рахиб спускался с горы и шел домой. По вечерам со двора тети Садат, как обычно, слышалась песня Эбиша, и люди с облегчением думали, что уж в этом-то году тетя Садат непременно купит самовар и женит сына. Учительница Лейла, как обычно, поливала улицу перед домом и ставила на стол груши и яблоки; и когда Длинный Гусейн проходил мимо ее двора, улыбалась ему тихо и ласково. Но теперь дело не ограничивалось одними улыбками: до утренней зари простаивали они на берегу под большим ветвистым орехом…
До последнего дня каникул работали мы в колхозе. Нам с Азером записали по сорок семь трудодней. Рахибу — шестьдесят пять. В то лето он тайком от нас все-таки поймал ежа, о котором слезно просила тетя Шахрабану. Уж не знаю, помогло ежиное сало или нет, но женщина на все лады расхваливала Рахиба и молила бога, чтоб его отца поскорее выпустили из тюрьмы.
Я не помню, ходил ли в ту зиму кто-нибудь в школу босиком. Зато мне крепко запало в память, что осенью у нас появился новый директор — женщина по имени Зиянет Шекерек-кызы, и сразу же стало известно, что в работе школы «масса серьезнейших недочетов». Главные из этих недочетов обнаружились у нас — старшеклассников. Ну хотя бы то, что ни один из комсомольцев не носил комсомольского значка. Раньше всех об этом прознала учительница Лейла — наш классный руководитель. Она сразу поехала в район, на свои деньги купила значки и на первом же уроке каждому приколола значок.
Потом началась кампания против наших матерчатых сумок. Сумки и правда все порвались, ведь большинству из нас матери шили их еще до войны. Некоторым сразу же купили сатина и сшили новые сумки, другие стали заворачивать книги в газету.
Вообще с появлением нового директора в нашей школе многое переменилось. Вот, например, опоздания. Кстати, это был самый первый вопрос. Сумки, комсомольские значки и прочее — это было уже позднее. Зиянет Шекерек-кызы заявила, что мы, старшеклассники, должны показывать пример младшим, и потому стоило кому-нибудь из нас, замешкавшись, прибежать через минуту после звонка, Зиянет Шекерек-кызы водила виновного из класса в класс, и малыши хором повторяли: «Позор!.. Позор!.. Позор!» Да так радостно, так душевно, что просто за сердце брало.
Потом наша директорша раздобыла где-то большой церковный колокол, подвесила его к балке над школьным айваном, и было установлено, что Садаф должна являться в школу за час до начала занятий и звонить в колокол. За час, остававшийся в нашем распоряжении, полагалось «встать ото сна», «проделать гимнастику», «совершить утренний туалет», «принять завтрак». Единственно, что я выполнял честно, — это умывался. Вопрос с гимнастикой волновал меня только дня два: я боялся, что Зиянет Шекерек-кызы поставила где-нибудь шпиков. Потом убедился, что за стеной никого нет, да и в щелку вроде никто не подглядывает, и успокоился. Оставалось еще решить с завтраком, но тут уж от меня ничего не зависело: если тетя не очень уставала накануне, она поднималась пораньше и ставила самовар. Тогда мы пили чай. Если же чая не было, я хватал кусок хлеба и съедал его по дороге в школу. В общем можно было жить — достаточно умываться по утрам! Однако и это правило каждый день кто-нибудь нарушал. Таких Зиянет Шекерек-кызы регулярно водила по классам, предавая всеобщему посрамлению. Иногда нарушителей всех сразу выстраивали на физкультурной площадке: директриса отбирала самых чистеньких и опрятных первоклассников, приводила на площадку, и они громко кричали: «Позор! Позор! Позор!»
Из нас троих никто пока не попался, никто ни разу не опоздал. Каждое утро Садаф чуть свет начинала долбать в свой колокол. Я, правда, сразу же засыпал, как только она переставала, но все равно вставал вовремя, потому что и так знал, когда подыматься, — у меня была своя примета, и она меня с первого класса еще ни разу не подвела. Смотря по тому, до какой скалы добралось карабкающееся на гору солнце, я точно знал, сколько осталось до уроков, и мог безошибочно определить, успею сбегать к роднику или придется дома «совершать утренний туалет»; шагом мне идти в школу или бежать; знал даже, как пить чай: в блюдечко наливать или успею из стакана…
Каждое утро, едва открыв глаза, я видел гору, озаренную солнечным светом. По этому свету я определял не только время. Много лет подряд, стоило мне открыть глаза и взглянуть на горы, я сразу вспоминал: есть у нас хлеб или нет.
А хлеб в ту осень был у всех: зерно поделили еще в конце лета. Потом выдали на трудодни орехи, а когда сняли урожай с бахчей, получился настоящий праздник; мы с ребятами три раза гоняли на бахчи за своими честно заработанными дынями и арбузами; потом еще и тетя привезла на муле целых два мешка.
В конце осени раздали на трудодни деньги. Лавчонку нашу за один день вымели под метелку. А зимой на отчетно-перевыборном собрании дядя Эльмурад сказал, что на следующий год на трудодень и масло будет — немного, правда, граммов по десять-пятнадцать, — и овечий сыр, а бог даст, и меду удастся выкроить.
Осенью Лейла вышла замуж. А вот свадьбу Эбиша тетя Садат опять отложила на год; самовар она решила не покупать — подумаешь, самовар; его и невеста может в приданое принести, — тетя Садат замахнулась на ковер; с каждым, кто собирался в Баку или Ереван, она заводила разговор о ковре.
В ту осень тетя Набат купила самовар, хотя от красного чайника отказываться пока не собиралась. Она справила обрезание Гасану. Могла бы и младшему справить, да не решилась: уж очень ей хотелось, чтоб Якуб сам сделал все, как вернется…
Мальчишек, которые после обрезания бегали в девчачьих юбках, было у нас в ту осень великое множество; табунками гоняли они по улицам или возились на площади перед мечетью. Когда эти ребятишки заводили игры перед школьными воротами, тетя Шахрабану, жившая напротив школы, ругала девчонок; им почему-то нравилось дразнить мальчуганов в юбках, а тете Шахрабану это почему-то очень не нравилось…
6
У дяди Эльмурада была кожаная полевая сумка, он носил ее через плечо, и красная авторучка — ручку он прятал в нагрудный карман гимнастерки; и хотя я ни разу не видел, чтоб он открывал кожаную сумку или писал красной ручкой, мне никогда не приходило в голову, что дядя Эльмурад — неграмотный. Узнал я это весной, когда пошел слух об объединении колхозов; оказалось, что дядя Эльмурад потому и против объединения, что он неграмотный, и в большом объединенном колхозе его ни в жизнь не оставят председателем. Дядя Исфендияр доказывал это на площади перед мечетью: Эльмурад, мол, человек неученый, с двумя колхозами ему никак не управиться. Большинство сидевших рядом не соглашалось с дядей Исфендияром, его даже подняли на смех, он распалился и опять начал бить себя в грудь. Он кричал, что ничего здесь смешного нет и что даже Мюридову слепому псу видно, что, как пошел разговор про объединение, Эльмурад сам не свой ходит.
Дядя Мюрид, дремавший в сторонке возле бани, сразу вскочил, словно только и ждал, когда дядя Исфендияр заговорит про его слепого кобеля. Он стал кричать про Исфендияра, что тот в тыщу раз поганей любой собаки, потому что зависть ему кишки сгноила, черви в животе копошатся! Ему Эльмурад почему поперек дороги стал? Да потому, что мужик сил не жалеет: и сад новый заложил, и баню сладил, и лозы на подпорки подвесил; Исфендияр как поглядит на его деревья, черви бунт подымают! Сдохнет он от своих червей! Сдохнет и будет валяться без погребения — рук никто марать не захочет! А слепой кобель, бог даст, над его могильным камнем еще ногу подымать будет! Одним словом, срамил его дядя Мюрид как только мог, а потом, садясь на прежнее свое местечко, уже спокойно добавил, что Эльмурад не то что с двумя — с десятью колхозами запросто управится.
Дня через три после этого разговора в клубе состоялось собрание по вопросу объединения колхозов. И мне, между прочим, вовсе не показалось, что дядя Эльмурад сам не свой. Наоборот, настроение у него было хоть куда. Первое слово он предоставил дяде Назару. Тот взял два тоненьких листочка, на которых было напечатано про объединение, стал читать и дочитал бумажки до конца, учителя Мисира председатель на помощь не позвал, и, пока дядя Назар читал, тот беспокойно ерзал на стуле.
Потом дядя Эльмурад стал говорить сам. Вообще-то он не умел говорить без шуток, но об этих двух тоненьких бумажках, присланных к нам райкомом, дядя Эльмурад повел разговор всерьез. Он сказал, что партия никогда не принимает ненужных решений, и все, что написано в листочках, — правильно и своевременно, и мы, колхозники, никак не против. Мы только считаем, что записанное в этих бумажках к нам не относится. Большие колхозы — другое дело: у них земли тыщи гектар, и поля у них ровные, ни гор тебе, ни ущелий… А у нас что? Где у нас тракторам разгуляться? Сады, баштаны… Ну, будь еще в том колхозе садоводство или там шелководство, о чем речь? — объединились бы с превеликим удовольствием. Так ведь у них равнина: пшеница, фасоль, лук. А абрикосы с луком в один амбар не положишь; все равно что огурец с помидорами — вместе не улежат. Этим намеком дядя Эльмурад как бы давал понять, что серьезный разговор окончен, можно и пошутить. Все засмеялись, а некоторые женщины в смущении закрывали лицо руками. Даже у дяди Назара, который, прочитав листочки, сидел напряженный и сумрачный, не зная, что сказать, после Эльмурадовой шутки сразу разгладились морщины. И дурацкая пословица, которую он придумал, наблюдая за мытьем посуды, впервые вдруг пришлась к месту: Назар громко заявил:
— У каждого своя ложка, у каждого своя еда!
Потом слово дали тете Зохре, потому что она работала в горах на летних пастбищах, там и жила, а уж если спустилась в деревню и пришла на собрание, значит, будет выступать. Тетя Зохра встала и, положив красную, обветренную руку секретарю на плечо, сказала так:
— Пиши! Мертвый был колхоз, совсем мертвый! Теперь ожил. Оживил колхоз он, — пиши, пиши! — он, этот самый Эльмурад! Он колхоз возродил! Записал? Так. Теперь пиши, что я против объединения! Пиши, пиши! И имя мое пропиши и имя отца! Я, Зохра Ханоглан кызы, колхозница с тридцать третьего года, член партии с тридцать четвертого года, не согласна на объединение! Да ты пиши — не бойся! Муж с женой, понимаешь, другой раз ужиться не могут, как же это мы вдруг две разные деревни одним хозяйством жить заставим?!
Шутка про мужа и жену понравилась всем не меньше, чем давешняя про огурцы и помидоры, потому что угодила она Эльмураду не в бровь, а в глаз… Ну, а тот за словом в карман не полезет, такое отчубучил — женщины прямо заверещали. Вообще собрание было на редкость веселое, и на нем было принято решение писать от нашей деревни в Баку. За решение голосовали единогласно. Мы, мальчишки, стоя сзади, у стенки, тоже подняли руки, чтобы наш абрикосовый колхоз не объединялся с тем — луковым.
Часть вторая
1
Нет, или тишина у нас в деревне вовсе не так уж зависит от того, что творится на площади перед мечетью, или же я вкладываю в это слово какой-то особый смысл. Когда через несколько дней после того веселого, шумного собрания созвали новое, тишины на площади никак не могло быть. Клуб в тот день был набит до отказа. Ребят перед ним собралось столько, сколько еще никогда не собиралось. Улицу поливали от чайханы до самого правления, до площадки, где ставят автомашины, потому что в тот день сам Земотдел должен был приехать в деревню.
Уж какая тут может быть тишина, раз даже артисты из Дома культуры приехали. Две женщины, напудренные, накрашенные, с блестящими волосами, прохаживались по клубному айвану; мужчины-артисты сидели в чайхане; на сцене, за занавесом, слышны были тар и свирель, а за сценой, в красном уголке, Зиянет Шекерек-кызы мучила ребятишек — сегодня состоится объединение колхозов, и в честь этого события будет дан концерт самодеятельности.
Может, они и тихо сидели, те, кто с обеда ожидал Земотдел в переполненном клубе. А может, тишина эта зависела от стола, уже с утра занявшего положенное место, и даже не от самого стола, а от роз и от графина с водой, которые на нем стояли. Стол, накрытый красным сатином, букет роз, графин с водой. Розы нарвал где-то директор клуба, вода была из источника — обыкновенная вода: чистая, прозрачная. Может быть, мне и не запомнилась бы эта вода и не было бы так страшно за розы, если б человек, которого в деревне называли Земотдел, не вошел в клуб с таким угрожающим видом; если бы и на этом собрании, как обычно, был выбран председатель и секретарь и если бы человек, которого у нас называли Земотдел, не возвышался за украшенным розами столом в таком грозном одиночестве.
Начальник земотдела грозно возвышался за столом, украшенным розами и графином с водой, а в красном уголке по-прежнему голосили первоклассники.
Дядя Эльмурад сидел в стороне на табуретке. Он словно нарочно расположился подальше, вроде сам себя отстранил от дел. По другую сторону стола, но гораздо ближе к нему, сидели дядя Назар и тетя Зохра. Эти двое совсем не были похожи на людей, которые сами себя отстраняют от дела, наоборот, оба с великой надеждой ожидали, когда Земотдел предложит им занять места за столом, покрытым красным сатином. Но Земотдел никого не позвал к себе. Сев за стол, он вытащил папиросы, закурил и некоторое время молчал, сердито оглядывая собравшихся. Потом вдруг обернулся к дяде Эльмураду:
— Встань, аферист!
Когда начальник земотдела выкрикнул эти слова, на собрание нашел страх, и стало так тихо, словно люди, сидевшие в клубе, исчезли, растворились в тишине: остался красный стол, остался графин с водой, остался начальник земотдела; розы тоже остались, но когда начальник закричал на дядю Эльмурада, розы вздрогнули, я собственными глазами видел, как они вздрогнули, поклясться готов, поклясться всем святым, что осталось еще у меня на свете.
Дядя Эльмурад не встал. Во-первых, чего это ему вставать — небось не школьник. Во-вторых, он не мог встать уже потому, что в зале сидела Гюльшен. Когда Земотдел закричал на дядю Эльмурада и сидящие в клубе люди на какое-то мгновенье исчезли, я, кроме стола, графина с водой и роз тотчас увидел Гюльшен; не глядя на нее, я отчетливо видел ее голубой жакет, белый платок на голове, даже часы на руке, те самые золотые часы, про которые говорили, что Эльмурад привез их ей из Берлина…
— Нет, вы поглядите на него! Поглядите на этого дезорганизатора! Против партии идет, аферист!..
На этот раз Земотдел произнес «аферист» гораздо тише. А мог и вообще не произносить, потому что зал все еще пустовал; людей не было, был только стол, графин с водой и букет роз. Была еще Гюльшен, но очень может быть, что кроме меня, никто и не заметил ее присутствия…
Тихо было. Совсем тихо. Только из красного уголка время от времени доносились детские голоса. Потом раздался голос тети Зохры.
— Товарищ уполномоченный, — сказала она, — ну ладно, грозность твою мы видели, а по делу когда говорить будешь?
Тут и дядя Назар набрался храбрости.
— Оплошали мы, товарищ полномоченный, — сказал он. — Прости нам нашу ошибку.
В зале начали перешептываться. Страх понемногу рассеивался. Но уполномоченному, видимо, нужен был этот страх. И он снова закричал на дядю Эльмурада:
— Ну, признавайся, сколько у тебя ульев?
Ульев у дяди Эльмурада и правда было великое множество. Не то что на нашей улице, по всей деревне его знали как великого умельца, потому что он целые вечера проводил возле ульев. Не заладится у кого с пчелами — сейчас к Эльмураду. Едва наступало тепло, и ульи открывались, пчелы заполняли все вокруг; они летали в садах, вились над цветами, жужжали в ветвях миндального дерева, склонившегося над самым источником…
Я не сомневался, что, раз уж речь зашла о пчелах, дядя Эльмурад обязательно заговорит. Но он опять ничего не ответил. Тогда уполномоченный крикнул еще громче. Дядя Эльмурад не спеша поднялся, и хорошо сделал, иначе я не увидел бы, насколько он выше, крупнее начальника земотдела; дядя Эльмурад улыбнулся, ей-богу, улыбнулся; я бы тоже не поверил, если бы собственными глазами не видел этой улыбки, и сказал так:
— Ты, товарищ Земотдел, приберег бы свои папиросы, потому разговор у нас вроде бы намечается долгий, папирос тебе может не хватить, и оконфузимся мы перед тобой: в лавчонке-то у нас такие не водятся. И второе вот что: спектакль этот нам с тобой ни к чему, потому как артисты приехали — концерт нам давать будут. Да и ребятишки извелись — репетируют да репетируют. Так что ульев моих не касайся! Не тяни к ним руку — не дам! После такого собрания десять лет надо медом отъедаться, а то все нутро сгорит!
— Нутро у тебя и так сгорело! Яд собственности стравил! А еще партбилет в кармане таскаешь!
— Извини, товарищ начальник земотдела, но должен тебе сказать: партбилет я в кармане не таскаю. Он у меня дома — в сундучке заперт. На самом дне лежит, под семнадцатью орденами и медалями, что с войны принес. Доставать его оттуда трудновато — медали поднять придется. А они тяжелы, товарищ Земотдел!.. Так тяжелы, что не всякому под силу будет… Жилу надорвать можно…
Земотдела сразу как подменили. Мне трудно объяснить, что именно с ним произошло, но, глядя на его лицо, можно было безошибочно сказать: орденов у него нет. Мне даже показалось, что, будь у начальника земотдела ордена, он не повторил бы еще раз «аферист». Потому что, когда он в последний раз повторил это слово, никто уже не испугался, не исчез из зала, наоборот, людей вроде бы стало побольше, некоторые еще и посмеивались. В третий раз повторив «аферист», начальник земотдела стал вдруг удивительно похож на одного парня из тех, что любят жульничать в игре. Так похож, сказать невозможно. Сколько я перевидел на своем мальчишеском веку этих обманщиков, а всех помню, как сейчас: один укусил меня за руку, когда я положил его на обе лопатки, другой, проиграв в альчики, бросился на меня с камнем. Как-то на новруз-байрам я выиграл у одного пария несколько сырых яиц; так последнее этот мерзавец швырнул мне прямо в лицо. И рубашку на мне рвали, и голову камнями пробивали, и все-таки ничто не запомнилось мне так, как коровий навоз, которым залепил в меня один подлюга. В тот день на собрании, когда уполномоченный в третий раз крикнул дяде Эльмураду «аферист», мне сразу вспомнились тот парень и смачный шлепок коровьего навоза.
Да, и рубашку на мне рвали, и голову в кровь разбивали… Это и теперь иногда случается, и я каждый раз заставляю себя улыбаться. Вот только, когда дело доходит до навоза, улыбки у меня не получается. Я сразу вспоминаю, как отчаянно ревел тогда на площади, с головы до ног заляпанный навозом… На все шел, чтоб только не получить навозом в морду… Но господи боже мой, нельзя же всегда проигрывать, всегда поддаваться…
Когда начальник земотдела в третий раз выкрикнул «аферист» и стал до удивления похож на того навозного подлюгу, видно было, что ему не по себе — он все елозил на стуле. В зале шушукались, пересмеиваясь. Земотдел оставил дядю Эльмурада в покое и обернулся к собранию.
— Ну, кто против объединения, поднимите руки! — сказал он, и лицо у него опять стало такое, как у тех, кто нечестно играет.
Среди сидевших спереди одна тетя Зохра сразу подняла руку. В задних рядах первым оказался Азер. Потом подняли руку и другие ребята. Я поднял руку последним, но не потому, что самый трусливый: очень уж от этого всего отдавало навозом, а что такое навоз, я знал лучше всех наших ребят.
Нас, ребят, сразу же выставили из зала, — всякой шантрапе, которая даже и в колхозе не состоит, нечего шляться по собраниям. Не знаю, как там дальше шло дело, но я на всю жизнь запомнил, какое у Земотдела было лицо. И стол, покрытый красным сатином, и графин с водой, и розы, которые вздрогнули от испуга; в том, что они испугались, я могу хоть сейчас поклясться, поклясться самым святым, что еще осталось у меня на свете.
До конца собрания мы с ребятами околачивались перед правлением возле серого «виллиса». Собрание окончилось, начальник земотдела уехал, и, наверное, потому, что объединение все-таки состоялось и дядю Эльмурада переизбрали, серый «виллис», крутя по горному склону, громко и весело гудел; он удирал, как мальчишка, сорвавший кон и не давший противнику отыграться. Потом был концерт. Сначала хором пели наши ребята. Потом выступали артисты. И сразу после концерта стало известно, что дядю Эльмурада посадят. Он, оказывается, грабил Берлин, а в чемодане, который он тогда нес на плече, лежало десять килограммов золота. Не знаю, кто пустил слух про золото, но тетя Сусен все это сразу же подтвердила. Она в тот вечер дотемна кружилась возле источника — и с ведром приходила, и с кувшином, и с чайником. И на каждом шагу все останавливалась пошептаться.
Тетя Сусен считала, что если уж его и сейчас не посадят — значит, у Советской власти совсем ума нет. Она все твердила про золотые часы, которые эта «шлюха» носит на руке, и про десять килограммов золота, привезенных в чемодане из Берлина, причем десять килограммов еще до наступления темноты превратились в пуд. Мало того — тетя Сусен сообщила, что, кроме золота, в том чемодане есть еще и пистолет, — ее убивать принес, прикончит ночью, а утром шлюху свою приведет…
Праздник тети Сусен закончился с наступлением темноты. Как только стемнело, я услышал у них во дворе обычные ее причитания, и ушам своим не поверил; я почему-то был убежден, что этот вечер дядя Эльмурад должен провести у Гюльшен. Скорее всего так оно и было, и это уже не муж, а сын тети Сусен, Хашим, решил проучить ее…
На следующий день, в конце первого урока, Зиянет Шекерек-кызы прислала за нами: мне, Азеру и Рахибу предстояло явиться на айван, — все-таки мы попались. Как только прозвенел звонок, Азер ринулся домой за значком, а мы с Рахибом стояли на айване и никак не могли сообразить, что же такое случилось, — вроде и значки при нас… Появилось еще несколько старшеклассников, их поставили рядом с нами. Потом пришла Зиянет Шекерек-кызы и объяснила, что вчера, голосуя против объединения колхозов, мы опозорили свою родную школу. Это могло значить только одно: сейчас приведут первоклашек, и начнется обычное: «Позор! Позор! Позор!» Но хор в тот день не состоялся. Наоборот, малышей, со всех сторон набежавших срамить нас, прогнали с айвана, и Зиянет Шекерек-кызы сказала, что у нее к нам серьезный разговор. Не помню, долго ли говорила наша наставница, но хорошо запомнил, что, рассказывая о масках и личинах, которые нацепляют люди, подобные дяде Эльмураду, Зиянет Шекерек-кызы привела примеры из двух пьес: «Алмас» и «Хаят». Если бы не эти примеры, я бы ни в жизнь не поверил, что на бывшем нашем председателе маска. Когда на закате я увидел дядю Эльмурада, с лопатой на плече возвращающегося с поля, у меня уже не было никакого сомнения в том, что у него не лицо, а личина.
В тот же вечер, лежа на склоне горы, мы разрабатывали план одной грандиозной операции. Основательно поломав головы, мы придумали своему плану прекрасное название: операция «Молния». Название это было не случайным: в ближайшую ночь, когда все улягутся спать, мы повернем речную воду в арык и всю ее пустим на сад дяди Эльмурада; вода с молниеносной быстротой сровняет его сад с землей. Ночью мы так и сделали: повернули большую часть речной воды в арык и пустили ее в сад дяди Эльмурада. Однако утром оказалось, что вода вовсе не смыла сад, а журча льется вдоль улицы. Она подмыла стену у тети Садат, и та, по колено в воде, запруживала поток камнями, проклиная негодяев, удумавших пустить речку на деревню… Так закончилась операция «Молния». Долгое время мы не могли додуматься, кто же отвел поток от сада. Лишь много позднее мы узнали, что устроил это Рахиб; расставшись с нами, он пошел обратно к арыку и повернул воду, а так как идти к речке ему было лень, он пустил поток прямо на улицу.
2
В ту весну тоже был Первомай, и Праздник Победы был. На чайхане и правлении колхоза висели лозунги, над дверями клуба — портреты. Теперь мы уже свободно разгуливали по колхозным садам; на Первое мая охапками таскали в школу сирень, а после Дня Победы площадь, и школьный двор, и все улицы были усыпаны розовыми лепестками.
В начале мая тутовник, как всегда, покрылся листвой, а в конце мая тутового листа, как всегда, не хватило. Шелководы с секачами в руках, с веревками на поясе пошли по деревне, повсюду сея ужас и смятение. Обкорнали горбатенький тут тети Набат, превратились в голые бревнышки деревца дяди Эльмурада. Одно из них обрубили шелководы, остальные — он сам. Рубил и ворчал: «И что творят, негодяи! Все дерево изуродовали! Если так кромсать, на тот год и рубить будет нечего!»
Но на следующий год тоже рубили, только теперь уже больше по дворам. Крик начался на рассвете возле дома тети Садат и, постепенно перемещаясь по деревне, к обеду достиг дома тети Набат. Мы услышали его в школе перед самым обедом, а после обеда знаменитые «сахарные» туты тети Набат уже стояли без единой веточки; под вечер Садаф бегала по улицам и кричала, что свекровь умирает. Женщины толпой повалили к тете Набат прощаться. Однако прощание не состоялось. Прибежав к ним во двор, я застал старушку на ногах; на тете Набат была белая рубашка, очень похожая на саван, а в руке — длинная жердь. Жердью тетя Набат гнала женщин со двора. Сбившись в кучу, они, перепуганные, бежали к воротам, а тетя Набат выкрикивала им вслед хриплым голосом:
— Убирайтесь, покуда целы!.
— Померла… Как я помру, если сын из тюрьмы не вернулся?!
— Якуб из тюрьмы не пришел, а они — помирать!..
— Не дождаться вам моей смерти! Вон отсюда, безбожницы!
Тетя Набат выгнала женщин за ворота и даже немножко гналась за ними по улице. Женщины бежали от нее толпой. Я тоже бежал, и тетя Медина. Но нам пришлось вернуться с полдороги, потому что тебя Набат вдруг громко крикнула:
— Медина, ты-то куда?! — и, переводя дух, чуть слышно сказала: — Ой, деточка, умираю!
Мы повернули обратно и вслед за тетей Набат вошли в дом. Она легла на постель и, не обращая внимания на нас с Рахибом, показала тете Медине, какие у нее на ногах отеки. Потом она долго говорила, и то, что она сказала, было очень похоже на завещание: тетя Набат наказывала нам с Рахибом всегда жить в дружбе и согласии, мы — мужчины, на нас род держится, а врагов у нашего рода всегда хватало.
Тетя Набат долго рассказывала о Якубе — гордости нашего рода, потом о Якубовом отце и о моем деде. Она даже велела, когда помрет, положить ее между отцом Якуба и моим дедушкой. Но тетя Набат так и не умерла.
Дня через два она поднялась с постели. А через неделю и отеки пропали. В ту весну тетя Набат купила у отца Гюльшен стельную козочку, но не успела та объягниться, как умерла Садаф. Ночью у нее вдруг пошла горлом кровь, днем ее обмывали во дворе, возле арыка, а под вечер мы опустили Садаф в могилу. Потом мы втроем — Азер, я и Рахиб ушли подальше и поднялись на гору за кладбищем. Немножко посидели там, не глядя на нашу деревню, потом Азер предложил нам всем побрататься. Для этого надо было проколоть палец колючкой. Мы расковыряли колючкой пальцы, пососали друг у друга немножко крови и сделались братьями; Рахиб потерял мать, но зато у него появились мы. Это Азер хорошо придумал.
3
И снова в деревне стало тихо. Пожалуй, никогда еще не было у нас такой тишины. Баня закрылась через неделю после того, как дядю Эльмурада прогнали из председателей. Дверь долго оставалась на замке. А потом какой-то сукин сын, которому, как говорил дядя Назар, матери грудь отрезать — раз плюнуть, — уволок ночью и саму дверь. Время от времени дядя Назар пытался охранять баню, спасти ее от поругания. Но безобразники делали свое дело, и мимо бани уже нельзя было пройти из-за вони. Стены были разрисованы непристойными картинками; и хотя голых женщин рисовали разные люди, подпись под всеми была одна и та же — Гюльшен.
Но Гюльшен ничего не знала об этих картинках. На работу она не ходила, возле бани никогда не появлялась. Тем летом отец просватал ее за своего приятеля в одну из соседних деревень, и скоро она должна была отправиться к мужу. Гюльшен об этом никому не рассказывала, ни с кем ни о чем не советовалась. Все больше занималась виноградом. Тетя говорила, что у себя во дворе Гюльшен ни одной грозди целой не оставила. Она и к нам приходила словно только для того, чтоб уродовать виноград. Бродит под лозами, молчит, думает, потом приглянется ей какая-нибудь гроздь, возьмет и начинает ковырять. Выковыряет одну-две ягоды — бросит. Точно все грозди хочет перепортить: пусть ни одной не останется, раз уж ее не будет в деревне…
Гюльшен и тетя Медина разговаривали очень мало; про грозди ей тетя, конечно, ничего не сказала. Гюльшен ходила по двору, выковыривала из гроздей виноградинки, а тетя сидела перед окном и латала какое-нибудь старье. Положим, кое о чем они не могли говорить из-за меня. Но я замечал, что они и без меня молчат. Несколько раз, заходя во двор, я заставал такую картину: Гюльшен бродит между деревьями, а тетя Медина стоит поодаль, облокотившись о стену, и молча думает. В то лето стена, отделявшая наш двор от двора тети Садат, опять стала тетиным любимым местом, потому что в колхозе все разладилось, и не было никакой надежды получить что-нибудь на трудодни. Опять все тащили кто что мог, а тетя Медина по-прежнему не собиралась воровать. Сады постепенно приходили в запустение, да и бахчи уже не шли в расчет.
В то лето, подолгу размышляя у стены, тетя больше всего думала обо мне. Осенью я должен был ехать в Баку. Я уже отправил в университет документы и получил извещение, что зачислен. Приняли меня без экзаменов — школу я окончил с золотой медалью, но ехать мне было не в чем, и чемодана у меня не было, и денег мы припасли только сто рублей — я получил их на приемном пункте за фрукты.
В то лето я думал о тете не меньше, чем она обо мне. Я и в колхоз пошел только из-за нее: с утра до вечера я торчал на молотильной доске, а по вечерам пас быков, которые днем таскали эту доску. И все ради охапки дров, которую каждый вечер притаскивал домой; дров я запас тете на всю зиму, сухих, ореховых… А потом вышла удивительная история. Однажды утром, когда я пригнал с пастбища быков, а молотильщики еще не пришли, дядя Мюрид, приставленный охранять ток, отдал мне странный приказ. Не прекращая утреннего намаза, он велел, чтобы я сейчас же насыпал в свою сумку зерна и отнес домой.
Я опешил — на такое не вдруг отважишься. Да дядя Мюрид вроде и сам испугался немножко. Но сразу же рассердился и стал кричать на меня:
— Пошевеливайся! Чего столбом стоишь! Я отвернулся — слышишь?!
Еще бы ему не отвернуться, ведь дядя Мюрид держал пост и совершал намаз, а человек, который совершает намаз и держит пост, не должен глядеть на подобные вещи. Тем более что это было не просто воровство, а воровство на току, а дядя Мюрид не раз повторял мне: «Если в какой местности с тока хлеб воруют, тыщу лет урожаю не быть»…
Как-то вечером, когда я пришел домой, тетя, сияя от радости, показала мне нарядный синий костюм, небольшой синий чемодан и целую стопочку десяток — это принесла мне Гюльшен…
Однажды, проходя по улице мимо женщин, я услышал, что золотые часы, которые дядя Эльмурад привез Гюльшен из Берлина, видели на руке у Мисировой жены: Гюльшен продала их Мисиру…
Как-то вечером, вернувшись домой, я узнал, что Гюльшен вышла замуж. Она уехала навсегда. Тетя показала рукой на заходящее солнце — деревня, где жил муж Гюльшен, лежала в той стороне. Потом тетя взглянула на виноградные грозди, ощипанные Гюльшен, я тоже поглядел на них; какие-то они были жалкие, никому не нужные…
В один из августовских вечеров я передал быков погонщику и навсегда распрощался с дядей Мюридом. Утром, нарядившись в подаренный Гюльшен синий костюм, я поехал в район, в баню, и там, сидя в кресле парикмахера, увидел вдруг в зеркале Якуба. Парикмахер только что принялся за мою голову, у Якуба все лицо было в мыльной пене, но, завидев меня, он сорвался с места, обхватил меня вместе с креслом и начал целовать. Потом мы с Якубом все поглядывали друг на друга в зеркало. Потом пили чай в чайхане на базаре. Потом я помылся, а вечером, вернувшись домой, увидел у нас во дворе Якуба. Он сидел на паласе и пил чай. Тетя прохаживалась под лозами, на том самом месте, где последнее время любила ходить Гюльшен. Разница была лишь в том, что тетя не выковыривала из гроздей виноградины и что в отличие от Гюльшен тетя плакала и, увидев меня, стала быстро вытирать слезы.
Я сел рядом с Якубом. Тетя налила мне чаю. Я видел, как трудно ей было задавать самые обычные вопросы: как я вымылся, как добрался домой, в открытой машине ехал или в закрытой… Тетя сердилась, когда после бани я возвращался в открытой машине. Но в тот день меня и вправду подвезла кинопередвижка. Услышав об этом, тетя сразу заговорила про кино:
— Какая будет картина? — спросила она.
Тетя Медина все фильмы делила на три сорта: смешные, грустные и — с песнями. Фильмы с песнями нравились ей больше всего, потому что в этих фильмах обязательно были сады, восходящее солнце, заходящее солнце; в таких картинах парни и девушки прогуливались под цветущими деревьями и пели, хором или поодиночке. Какую картину привезли в тот вечер, не помню. Но хорошо помню, что расспрашивая меня про кино, тетя не переставала ходить. И что кино ее тогда совершенно не интересовало, и она спрашивала лишь для того, чтобы отогнать тишину, а отогнать ту тишину было очень трудно.
Тишина стояла, такая тишина… Вдалеке, за деревьями, в сероватом мареве уже садилось солнце. Но все равно было жарко; в соседнем дворе, в зарослях миндаля, стонали от зноя стрекозы, и казалось, это стонет зной…
Якуб сидел у стены, привалившись к ней плечом. Он все пытался выпрямиться — сесть как следует, но уж очень устал, по лицу было видно, что его клонит в сон, что и слово-то сказать нет сил; время от времени он только поднимал голову и улыбался…
Тишина стояла, тишина. Только ходила под лозами тетя и сновали без устали пчелы. Они кружили над расковыренными гроздьями, липли к нашим стаканам, лезли в сахарницу… Якуб поглядывал то на пчел, то на меня — сам он не мог взмахнуть рукой. Нужно было прогнать пчел, но мне не хотелось: солнце опустится за горы, и пчелы сами улетят…
В тот день мне почему-то очень хотелось, чтоб они улетели сами. И чтобы стрекозы в зарослях миндаля сами по себе перестали стрекотать. Скоро перестанут. И Динара, натаскав из источника воды, польет улицу перед домом тети Садат и чисто-чисто подметет то место, где по вечерам собираются посудачить женщины. Динара была теперь женой Эбиша, молодой хозяйкой, а молодая хозяйка должна таскать воду и поливать улицу перед домом, чтобы все видели, что она не ленивая.
Пчелы скоро улетят, залезут в ульи, и дядя Эльмурад, вернувшись домой, закроет их — отдыхать до утра… Мне очень хотелось, чтоб и Якуб ушел и лег бы отдыхать до утра. Но он сидел, привалившись к стене плечом, и молчал. Одна тетя все говорила, говорила, без устали расхаживая под лозами. Говорила, чтобы не было тихо. И чтобы Якуб не заснул. Наконец она подошла ко мне, остановилась.
— А Садык наш в Баку уезжает, — сказала она. Улыбнулась. Помолчала. — Такие места повидает!..
— Красивых костюмов накупит…
— Нужды никогда знать не будет…
Она говорила это, как стихи, как сказку:
— А я стану в колхозе работать. И Якуб. Мы будем посылать Садыку деньги…
Долго же пришлось ей ходить под лозами, пока она нашла силы сказать эти слова. Слова, которые значили одно — я согласилась выйти за Якуба. Хорошо, что она их наконец сказала. Сказала и успокоилась; села возле меня, взглянула на Якуба. Якуб просветлел, сонно улыбнулся, но произнести хоть слово у него не хватило сил…
…Мы долго еще сидели в тишине, но это была уже совсем другая тишина. Стрекозы в зарослях миндаля еще стонали от зноя, и зной стонал от их стона. Солнце уже коснулось горы, вот-вот пропадет за вершиной. Странное это было солнце: усталое, в какой-то сонной дымке… Будто и не оно повинно в этой страшной жаре, не по его вине стонут от зноя стрекозы. Будто оно и не солнце, а кто-то из нас: то ли Гюльшен, которую насильно отправили туда, за горы: то ли тетя Медина — сказала свое слово и обессилела, лишь в глазах затаился подернутый дымкой свет; то ли Якуб — пришел из тюрьмы смертельно усталый и хочет только спать, спать, спать…
Первыми улетели пчелы, потом угомонились стрекозы. Когда солнце зашло, Якуб наконец поднялся. Я вместе с ним вышел на улицу в своем новом синем костюме. И все кругом было синее, как мой новый синий костюм. Было шумно, полно народу. Дядя Эльмурад, забравшись на крышу, плотнее утаптывал землю, крепил желоба — после такого зноя обязательно быть дождю…
Не знаю — пошел тогда дождь или нет. Я помню лишь, что улица в тот вечер была яркая, синяя, как мой новый синий костюм; и я убежал от этой нестерпимой синевы, взобрался в гору, где мы всегда сидели втроем, и долго сидел там один. И пока я там сидел, дядя Эльмурад все еще возился на крыше, а на вершину горы, за которую ушло солнце, медленно влезала густая черная туча; совсем стемнело, и только перед домом тети Садат белела, в сумраке чистая площадка величиной с ток — та, которую поливала Динара.
Утром я уеду, а Динара еще долго будет поливать улицу, доказывая, что она не ленива. А те, кто в такую пору без дела слоняется по деревне или торчит на площади перед мечетью, никогда, наверное, не смогут доказать дяде Эльмураду, что они не лентяи. И он уже никогда не станет рассказывать этим людям о разных далеких странах, о тамошних садовниках и пчеловодах. По утрам, когда все еще только просыпаются, он, поднявшись до зари, будет молча приниматься за дело. А вечером с лопатой на плече так же молча возвращаться домой…
Утром я уезжаю. Но по жердям, которые поставил на улице дядя Эльмурад, каждый год будут тянуться вверх виноградные лозы, и каждую весну дядя Эльмурад будет открывать ульи, и сады, и дворы, и крона миндального дерева, склонившегося над источником, будут полниться пчелиным жужжанием.
Я уеду, а тете Сусен по-прежнему будет доставаться, и Хашим по-прежнему будет прятать свою папиросу в дырочку на стене. Виноград соберут, он снова поспеет, ульи замажут, потом снова откроют, и рядом со всем этим в сундучке под семнадцатью тяжелыми орденами и медалями будет лежать вещь, которую никому не под силу взять оттуда, — партбилет дяди Эльмурада.
Сияние шести солнц
Теймур проснулся в темноте, не видно было ничего, кроме сероватого проема окна. Чуть поблескивал никель в изножье кровати. Завывал ветер. Казалось, он дует где-то внизу, далеко-далеко отсюда; но иногда он вдруг налетал на соседние дома, ударялся о стены, тыркался в окна и, ревя, завывая, снова проваливался куда-то…
Теймуру казалось, что он сейчас не в Баку, не в однокомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. И ветер не тут, не в Баку, он дует где-то в горах, на дне ущелья. Он загоняет в ущелье тьму, швыряет ее о скалы, а тьма орет, воет от ярости…
Теймур не помнил, чтобы за пятнадцать лет жизни в городе когда-нибудь просыпался бы вот так ночью. Только раз было что-то похожее, но тогда не он один, все общежитие поднялось среди ночи. Тогда нельзя было не подняться — такая разразилась гроза! Настоящая — с ливнем, с молнией! Гроза старалась напугать город, но не похоже, чтоб Баку боялся ее. А Теймуру так хотелось, чтоб Баку испугался, чтоб гроза оказалась сильнее города — почему, он и сам не знал. Может быть, потому, что этот большой город напугал когда-то его, Теймура, а может быть, потому, что гроза принеслась откуда-то из мест, где ветер гоняет в ущелье орущую, воющую тьму? Во всяком случае, глядя в окно, Теймур в сверкании молний видел высокие горы. И ветер казался ему своим, тамошним.
Тот ветер, что зимой перегоняет снег с солнцепека в тень, разжигает на склонах снежные костры, взметает с вершин холодный снежный дым… Весной этот ветер леденил фиалки, выросшие у арыка, фиалки мерзли, дрожали по ночам; мерзли и дрожали по ночам в холодных хлевах новорожденные телята и ягнята; они мычали, блеяли, плакали от холода; фиалкам тоже хотелось плакать, но фиалки не умеют плакать.
…Который был час, неизвестно. Да Теймуру и не надо было знать, захоти он узнать, можно было бы подняться, зажечь свет и взглянуть на будильник, стоящий на книжном шкафу. Не нужно было знать, сколько времени, потому что времени было много, слишком много — столько впереди было времени!.. Да еще то, прежнее, в котором застывали минуты и годы, которое медленно тает, приливаясь к теперешнему. И чем больше делалось времени, тем меньше оставалось надежды. В обилии времени была какая-то обреченность.
Он вспомнил, что спит с полудня. Хотел было встать, умыться, собраться с мыслями, но не встал: по полному отсутствию звуков со стороны ванной ясно было, что воду еще не дали; в этом районе воду дают под утро. Он снова попытался уснуть, призвав привычную свою мечту, всегда успокаивающую, навевавшую сон: сейчас она не принесла ни сна, ни успокоения. Она не согрела Теймура, не вселила в него уверенности. Наоборот, все, что случилось вчера, предстало вдруг во всей свой отвратительной яви. Он еще отчетливее ощутил ужас случившегося, потому что оно, случившееся, что-то отняло у мечты.
Заснуть он не мог. Думал о том, в чем причина вчерашней его неудачи? Причина того, что он лежит без сна… И снова перенесся мыслью туда, в горы, где ветер гоняет в ущельях ревущую, воющую тьму. Потому что мечта, многие годы навевавшая ему сладкие сны, тоже родилась там, в тех местах.
«В Баку трамвай есть…»
Когда учитель Мурсал, держа за руку сынишку, осторожно постучал в калитку, профессор Джемшидов расхаживал по айвану. Село солнце, горы покрыла тень, потянуло прохладой; в летнюю пору это лучшее время дня. Джемшидов, не выносивший жары, только под вечер и мог вздохнуть свободно. Только в эти вечерние часы он оживал, и у него хватало сил отдаться размышлениям, в остальное время Джемшидов чуть живой лежал на раскладушке под деревом.
Джемшидов по стуку узнал, кто к нему пожаловал. Bo-первых, стучать так мог единственный в деревне человек — учитель Мурсал. Во-вторых, учитель Мурсал значился первым в списке тех немногих лиц, которые подходили к калитке Джемшидова; он был единственный из представителей здешней интеллигенции, считавший своим долгом наносить визиты земляку-профессору. Стоило профессору прибыть в деревню, на следующий же день, всегда в одно и то же время учитель Мурсал тихонечко стучал к нему в калитку. Он мог простоять перед калиткой час, два часа, но постучать чуть громче не мог — не позволяла учтивость.
«Входите!» — бросил профессор, обернувшись к калитке, потом зашел в дом, сказал жене, чтоб достала из старого портфеля сотенную бумажку, а это также свидетельствовало, что Джемшидов не сомневался: пришел учитель Мурсал.
Приподняв скатерть на стоявшем посреди веранды столе, Джемшидов сунул туда сотенную. И снова просто так, без надобности вошел в комнату, вернулся, опять вошел — профессора нервировал этот осторожный стук в калитку, потому что стук этот всякий раз раздавался в драгоценные часы его размышлений. Кроме того, в уверенности, что стоявший у калитки человек не мог быть никем, кроме учителя Мурсала, не было ничего отрадного; глядя на этого человека, Джемшидов всякий раз ощущал, как у него поднимается давление.
Именно поэтому Туту ханум и встревожилась, узнав, что явился Мурсал.
— Возьми себя в руки, — шепнула она мужу, выходя на айван. — Гость есть гость, пришел — милости просим, что ты на всех так злишься?
Профессор ничего не ответил, кивнул. Да и некогда было отвечать: учитель Мурсал, держа сына за руку, уже поднимался по ступенькам.
— Добрый вечер! Гостей принимаете?
— Добрый вечер! — ответил Джемшидов, а сам подумал: «Гостей!..» И еще подумал, что, как не стыдно, как совести хватает у дурака — каждый раз одни и те же слова!
Подоспела Туту ханум.
— Добро пожаловать! — приветливо сказала она. — Здравствуйте, дорогой Мурсал! И ты здравствуй, детка! Сыночек ваш? А как зовут?.. Как тебя зовут, милый?
— Теймур меня зовут! — нисколько не смутившись, сказал мальчик.
— Это который же у тебя? — подал голос профессор.
— Я уж и счет потерял! — учитель Мурсал усмехнулся. — Должно, шестой. Младший, да еще единственный сын, избаловали парнишку… Вчера услышал, что к вам собираюсь, пристал, как с ножом к горлу: возьми да возьми! Даже есть не стал…
Профессор повернулся к жене.
— Принеси ребенку поесть!
— Я не в том смысле… — учитель Мурсал залился краской. — Он обедал, сыт…
Профессор хотел что-то сказать, не сказал. Только сердито заворочался на стуле.
— Я не хочу есть! — сказал мальчик. — Конфет хочу! — и показал на прикрытую салфеткой вазу.
— Теймур! — воскликнул учитель Мурсал. — Ты что? Что ты?
— Домой хочу!
— Хорошо, хорошо, сейчас пойдем! Разве ты не хотел поддаться с дядей-профессором?
— Нет!
— Тогда иди, я сейчас.
— Это хлеб, мальчик. — Профессор приподнял салфетку. — Конфеты едят после ужина.
— Видишь, — сказал Мурсал сыну, разочарованно глядевшему на хлеб, — салфеточкой прикрыли, чтоб мухи не садились.
Мальчик повел глазами по сторонам, выглядывая мух. Взгляд его наткнулся на грушу, свисавшую над перилами.
— Грушу хочу! — заявил он, снова вогнав отца в краску.
— Они еще не поспели, сынок.
— У вас тоже мухи? — спросил профессор, отворачиваясь от мальчишки.
— Дети, как мухам не быть? — Мурсал виновато улыбнулся. — У вас-то они откуда?
— Не в детях дело! Двор надо в чистоте содержать.
— Как его будешь содержать, когда дети? Невозможно…
— Вы всегда найдете оправдание! — Джемшидов раздраженно поморщился. — Детей воспитывать надо, а вы одно знаете — плодить! Если к порядку не приучены, конечно, чистоты не будет. Вонь — пройти невозможно.
— Я грушу хочу!
Туту ханум, встревоженная, вышла на веранду: мальчик капризничает, муж начинает нервничать. Сорвала две неспелые груши, протянула Теймуру.
— Держи, детка! Только не ешь, еще не дозрели. Поиграй… Сейчас чай будем пить, конфет тебе дам!
Сказала и ушла в дом. Мальчик немедленно принялся грызть зеленую грушу, и профессор почувствовал, что давление у него подскочит, непременно подскочит.
— Как дела в Баку? — осведомился учитель Мурсал. — Что нового?
— Ничего нового нет.
— В Баку трамвай есть! — сказал мальчик.
Мурсал улыбнулся, профессор — нет.
— А когда дети приедут? — спросил Мурсал, имея в виду семью профессорского сына.
— На это лето не приедут. Бешир докторскую защищать должен.
— А как его ребятишки?
— Какие ребятишки?! У него не шестеро — одна-единственная дочка!
— Так я про нее. Единственная еще слаще!
Профессор вдруг заметил, что мальчик положил на стол обе надкушенные груши и того гляди, разревется. Не желая перебивать гостя, он промолчал, лишь раздраженно заерзал на стуле.
— Беширова докторская — событие будет в науке! — уважительно произносит Мурсал.
— Почему ты так думаешь?
— Так ведь небось учёней-то нет?
— Найдутся и поученей! — Джемшидов старательно отворачивается от мальчишки, уже начавшего всхлипывать.
— Чего ты? — удивленно спрашивает Мурсал. — Чего плачешь?
— У-yl… — весело говорит Туту ханум. — Такой большой мальчик и плачет! Ну чего ты? Ты же у нас умница!
— Почему не дашь ребенку конфет? — профессор вне себя, еще чуть и начнет кричать.
— А, он из-за конфеток? Сейчас принесу! Сейчас, деточка!
— Не хочу! — говорит мальчик и замолкает. Замолкает потому, что сам не знает, почему ревет, знает только, что не из-за конфет. Тем не менее, когда Туту ханум кладет на стол горсть конфет, он мгновенно распихивает их по карманам. Хозяйка ставит на стол чай. Таков обычай: в Бузбулаке перед едой положено выпить стакан чаю.
Мальчик теперь сидит тихо, положив руки на набитые конфетами карманы. Туту ханум возится у электрической плитки. Профессор, потирая лоб, ждет, чтобы заговорил Мурсал, но тот пока что подбирает слова.
— Ну, как дела в деревне? — не выдерживает, наконец, профессор.
— Как видите, ничего особенного.
— Я вижу, мечеть отремонтировали.
Учитель Мурсал улыбается, потому что в этом месте никак невозможно не улыбнуться. Потому что который год, стоит им встретиться, профессор обязательно заводит разговор про мечеть. Потому что профессор Абдулали Джемшидов давно воюет с несчастной бузбулакской мечетью, и про войну эту в деревне ходят сотни различных анекдотов.
— Памятник архитектуры, профессор, приходится сохранять!
— А очаги культуры и общественной жизни не надо сохранять? Клуб того и гляди рухнет!
— Так ведь сами знаете, профессор, согласия нет. Никак не столкуешься с людьми.
— А мечеть ремонтировать — столковались?
Мурсал снова улыбается, потому что это тоже старый разговор. Потому что не кто-нибудь, а он, Мурсал, составив список, собирает по домам тридцатки на ремонтные работы. И прекрасно знает, к чему клонит профессор.
— Такого мракобесия, как здесь, нигде не встретишь! Желоба у мечети обветшали, из Армении камень везут! А дорога — сорок лет ни пройти, ни проехать — вам и дела нет! Каких-нибудь пять километров, а пока доберешься, дух вон!
— Починим, профессор, и дорогу починим… Что же делать: и мечеть наша — на произвол судьбы не бросишь.
— Чайку больше не хотите? — вежливо осведомляется Туту ханум. Забирает стаканы и, уже уходя, добавляет: — И как у тебя терпения хватает: каждый год одно и то же! Одно и то же!
— Хочешь сказать, болтовней занимаюсь? — Джемшидов злобно глядит на жену.
— А чем же еще? Заладил, как попугай: мечеть, мечеть!
Мурсалу нравится, что она так сказала, зато профессору это не по вкусу. Некоторое время собеседники молчат, думают о своем. Мальчик тоже думает о своем. Он думает, приедет ли еще та девочка в коротком платьице, будет ли бегать по улице. Пытается сопоставить услышанное: «На это лето не приедут…», «Бешир докторскую защищать должен», «у него же не шестеро — одна-единственная дочка!». Он думает о том, почему у Бешира одна дочка, а у его отца не одна…
Согласно давно заведенному порядку, к главному вопросу профессор переходит после ужина.
— Арык чистили?
— Да, профессор, чистили.
— По скольку собирали?
— Кто тридцать дал, кто пятьдесят…
— Хорошо, пусть будет пятьдесят. Конечно, я только два месяца пользуюсь, но это неважно…
— Ну что вы, профессор! Краснеть заставляете, честное слово! Будто я за этим явился…
— Конечно, не за этим, — хозяйка тут как тут, — просто мы обязаны это сделать. Вы же не миллионер какой-нибудь, семья — восемь человек.
Туту ханум знает, что муж взял из портфеля сотенную и та сейчас под скатертью. Не исключено, что это известно и Мурсалу, хотя он, действительно, пришел в этот дом не за деньгами. Совсем не за деньгами. Он каждый раз надеется, что профессор не заведет этот разговор.
Сто рублей — что за деньги. В конце концов, если уж не хочет оставаться в долгу, чаю привез бы, конфет каких-нибудь… Вроде гостинец. Но профессор так никогда не делает, и самое удивительное, что Мурсал всегда находит ему оправдание.
— Прошу вас, профессор, не ставьте меня в нелепое положение!
— Ты за меня деньги вносил? За арык? Вносил?
— Вносил. Ну и что? Это же уважение. Долг наш.
— А мой долг — вернуть тебе эти деньги. — Профессор достает из-под скатерти сотенную. — Так что будь любезен, возьми. Остается мечеть, но на нее, как ты понимаешь, я не дам ни копейки. Заботиться о сохранении очагов мракобесия не входит в мои планы.
…Белолицую девочку в коротком платьице и белых-пребелых трусиках звали Беневша — Фиалка, а вдоль бузбулакских арыков каждую весну полным-полно фиалок. И солнце фиалкового цвета встает по утрам из-за гор. Вечером на краю неба светятся фиалкового цвета облака… Девочка — Фиалка приезжала и уезжала, а все вокруг оставалось таким же фиалковым.
Каждый раз, отправляясь к профессору, учитель Мурсал обязательно брал с собой сынишку. Брал, чтобы мальчик повидал умного человека, послушал умные речи. Мурсал почему-то был уверен, рано или поздно Теймуру предстоит общаться с такими людьми, как Джемшидов. Бог для того и послал ему, наконец, сына после пяти дочерей, чтоб он сделал из него профессора или кого-нибудь в этом духе. Разговор про пятерых дочерей превратился уже в какую-то присказку и, прежде чем отправиться с Теймуром к профессору, учитель Мурсал с этой присказки начинал свою беседу с сыном. Как будто именно потому, что Теймур — единственный брат пяти сестер, он хоть раз в год непременно должен видеть и слышать профессора. Учитель Мурсал не уставал повторять сыну, насколько это важно и необходимо. И мальчик спешил поскорее натянуть свои единственные чистые штанишки и незалатанную рубашку — во-первых, ему не каждый день разрешали их надевать, а во-вторых, фиалкового цвета облака влекли, манили его…
Там, в доме Джемшидова, был мир фиалковых облаков. А рядом с ним был совсем другой мир; были пять его сестер, был их маленький тесный двор, были женщины в залатанных трикотажных штанах, они мыли посуду у родника, лепили кизяк на стене, пололи огороды… У колхозного амбара вечно бродила бездомная сучка, и когда живот у нее раздувался, а сосцы набухали, все начинали подсмеиваться над сторожем Мисирханом; щенков этой сучки звали Мисирхановым потомством. Мальчик понимал, почему так говорят, и мучился от того, что понимал это. Видя эти набухшие сосцы, он стеснялся глядеть на женщин, что мыли у родника посуду и пололи огороды; в школе он стеснялся глядеть на учительницу, потому что у богини из учебника «История древнего мира» были точно такие же набухшие собачьи сосцы, и знал это он один… Как-то раз, когда он после уроков пришел к матери, вместе с другими женщинами половшей огород, Гюльзар вдруг взяла его сумку и начала листать «Историю древнего мира». Она открыла ту самую страницу — две картинки друг против друга; «Бог» и «Богиня», — увидела их и так громко расхохоталась, что женщины собрались и стали рассматривать картинки. Вроде, они даже радовались, что Бог и Богиня такие уродливые, они весело хохотали, только тетя Шейда не смеялась, разозлилась, позеленела даже… Вырвала у женщин учебник, зашвырнула подальше и вдруг ни с того ни с сего набросилась на Гюльзар, сидевшую под ореховым деревом.
— Чего раскорячилась?! Ну? Сядь как следует!
— Ты что?.. — Гюльзар непонимающе уставилась на женщину, позы не переменила, хотя сидела и впрямь нехорошо.
— Срамница, чтоб тебе пусто было! — Тетя Шейда плюнула. — Нисколечко стыда не осталось!
— А что? — лениво спросила Гюльзар, по-прежнему не меняя позы. — Чего-нибудь видно, да?..
— Юбку поправь, дурища! Хоть бы парнишки посовестилась!
Гюльзар как-то устало глянула на Теймура, перевела взгляд на женщин.
— Эх! — сказала она, натягивая юбку на колени. Больше она ничего не сказала.
Теймур подбежал, взял свою книжку. Женщины уже перестали хихикать и, когда они перестали, тетя Шейда сказала:
— Это все Джемшидов! Его рук дело. Он, богохульник, все эти книжки пишет!
И была такая тетя Беяз…
У тети Беяз было три сына, дочка и две козы. И как-то утром эта самая тетя Беяз пасла на холме над арыком своих двух коз.
Это был тот самый арык, что течет во двор к Джемшидову. Тот самый арык, для очистки которого учитель Мурсал каждую весну, составив список, собирал по тридцать — пятьдесят рублей со двора. Тот самый арык, на очистку которого он каждую весну вносил за Джемшидова деньги, а потом краснел, сидя у Джемшидова в гостях.
А вот тетя Беяз была уже не та тетя Беяз. Потому что однажды она вдруг собралась и уехала в Сумгаит к сыновьям. Вернулась она оттуда «не в себе». «Не в себе» заключалось в том, что, вернувшись из Сумгаита, тетя Беяз стала говорить своим козам очень странные вещи. Тетя Беяз так говорила своим козам:
— Где мои сыновья? Где они: Ахмед, Акпер, Акрам?! Где мои сыновья? — кричала она и сразу же начинала ругать войну, а потом профессора Джемшидова, хотя с войны прошло уже больше десяти лет, а в том, что сыновья тети Беяз уехали в Сумгаит, Джемшидов не повинен был ни сном ни духом. — Молнии в небе вспыхнут! — говорила тетя Беяз своим козам. — Огонь горящий с неба посыплется!.. — И так она это говорила — просто волосы дыбом.
Она сидела на склоне холма над арыком и проклинала Джемшидова:
— Сколько вранья написал, гореть тебе в адском пламени! Чтоб сын твой под машину попал, чтобы дом развалился, чтоб совы в нем гнезда вили!.. — Тетя Беяз почему-то была уверена, что песенку «Растет Сумгаит, цветет Сумгаит…», которую часто поют по радио, сочинил не кто иной, как профессор Джемшидов, и стоило старухе вспомнить эту песенку, она взвивалась, словно на нее плеснули кипятком.
— Брехун ты, брависир! Брехун! — твердила она своим козам. — «Цветет Сумгаит!..» Чему цвести-то? Да в твоем Сумгаите и земли никакой нет! Асфальт да камни, да ветер — чистый ад! — И она опять начинала причитать: — Бедные вы мои мальчики!.. Несчастные мои детки! Да как же вы там живете? — (Наверное, так получилось потому, что тетя Беяз попала в Сумгаит, когда там еще не было ни зелени, ни деревьев, а скорей всего, для тети Беяз просто не существовало земли, кроме этой деревни, этого арыка, этого зеленого склона).
Козы мирно паслись на склоне. Тетя Беяз оживленно разговаривала с ними, а мальчик по имени Теймур со школьной сумкой в руках стоял, спрятавшись за ограду, и во все глаза глядел на тетю Беяз.
Сколько тогда ему было? В каком он был классе? Теймур точно помнил одно: это было первого сентября, он первый раз шел в школу после летних каникул. Сначала он услышал голоса. Потом выбежала девочка по имени Беневша в белых трусиках и в коротком платьице, она бежала сюда, в эту сторону. Тетя Беяз вдруг вскочила:
— Куда лезешь, брависарово отродье?! Я тебе сейчас!..
Девочка глянула на старуху, закричала. Повернулась, хотела бежать, не смогла. Подоспела Туту ханум.
— Ты что, доченька? — сказала она, боязливо поглядывая на тетю Беяз. — Чего ты? Это же бабушка Беяз, не надо ее бояться.
Потом Теймур увидел, что на том самом месте, под горкой, стоят профессор Джемшидов и его жена, а тетя Беяз, ухватив огромный камень, примеривается, как бы половчей скатить его им на голову.
— Эй, брависир, как там у тебя в Сумгаите?!
— Здравствуй, Беяз! — кричит Туту ханум, пытаясь утихомирить старуху. — Как дела? Сыновья пишут?
— С каких пор тебя поджидаю, брависир!..
Джемшидов прячется за спину жены, Туту ханум пытается уговорить старуху, а девочка в белых трусиках плачет, уткнувшись ей в колени.
— Растет Сумгаит!.. Цветет Сумгаит!.. Чтоб тебе сына единственного схоронить, проклятый!
Туту ханум в ужасе.
— Беяз, дорогая, ну что мы тебе сделали? Ничего мы тебе не сделали, Беяз, да сохранит бог сыновей твоих на чужбине!
— Ладно, ладно! Ты в сторону отойди, твоей вины нет, ты мне зла не чинила. Он, проклятый, детей моих загубил! — Тетя Беяз начинает громко причитать по сыновьям, а Туту ханум потихонечку отстраняется, прикрывая собой мужа.
Но тетя Беяз уже хохочет во все горло.
— Струсил, брависир? Пуглив, заячья душа! Думал, и правда, брошу? Как бы не так! Я еще с ума не сошла!..
Огромный этот камень она столкнула вниз, когда Джемшидов был уже далеко. Камень с грохотом скатился вниз, ударился о другой, такой же — искры, пыль… У Теймура коленки подломились от страха, прямо на землю сел, а старуха, оказывается, углядела его, давно уже углядела.
— Эй, ты, вылезай! Чего боишься, не съем! Иди в школу, учи уроки!
Содрогаясь от страха, он вышел из своей засады — другой дороги в школу не было.
— Тоже, небось, песни про Сумгаит учишь? — спросила тетя Беяз.
Вот тут Теймур зарыдал — слишком долго пытался одолеть ужас. Многие годы потом ему виделось, как он стоит заколдованный, не в силах тронуться с места. Стоит, хотя старуха давно уже забыла про него и уже толкует с козами; когда он осмелился поднять голову, тетя Беяз даже и не смотрела на него:
— Так тебе и надо, ведьма старая!.. Сама виновата… Как птицы из гнезда выпорхнули! Не устерегла, вот теперь и мыкай горе!.. А ночью-то видела… Пришли!.. Хорошие вы мои!.. Все со мной… Ахмед травку косит… Акпер стену чинит. А Акрам маленький еще!.. Вот он на руках у меня… Сама виновата, чтоб тебе!.. Не могла покрепче держать?! Все, нету! Птицей взлетел… И моргнуть не успела…
Лежа в темноте с открытыми глазами, Теймур, как в кошмаре, вдруг заново ощутил все это. Видимо, тот давнишний страх еще жил в нем. И ему никогда не приходила в голову мысль, что и Беневше тоже мог запомниться этот случай, что страх перед тетей Беяз хранится и в ее памяти, а значит, есть что-то, что их соединяет… Мелькнув, эта неожиданная мысль вдруг озарила Теймура ярким светом надежды — раз существует Беневша и этот их общий страх, значит, не все потеряно! А Беневша существует. Год или полтора тому назад он видел ее, а если захочет, может и сейчас позвонить ей, встретиться с ней, поговорить. Другое дело, что он не станет добиваться встречи, потому что есть на свете Бузбулак и просто гордость… Потому что год или полтора назад Беневша развелась с мужем. У нее дочка. Позвонить Беневше — сделать вид, будто ничего этого не было, Теймур не мог, а поэтому приходилось довольствоваться случайными встречами. Встречаясь, они всякий раз говорили о Бузбулаке. Видимо, потому, что затеять другой разговор можно было только в том случае, если захочет Теймур, а он не хочет заводить этот разговор. Он молчит, потому что земля Бузбулака, каменистые тропки, по которым бегала когда-то Беневша, до сих пор тупой болью отзываются где-то в сердце. Потому что земля Бузбулака, болью отзывающаяся в сердце, может быть, дороже ему, чем сама Беневша. Потому что даже теперь, когда он идет рядом с Беневшой, та, другая Беневша все-таки не здесь, она там в недосягаемом далеке. В чем причина — в том, что она вышла за другого? Но когда Беневша выходила замуж, он жил в общежитии в комнате на шестерых и, вероятно, поэтому, узнав, что Беневша выходит замуж, ни на кого не обиделся, не разозлился. Просто он вдруг ощутил, что Бузбулака больше нет, и какое-то время Бузбулак оставался для него пустым звуком. И когда он надписывал конверт, отправляя письмо отцу, ему трудно, очень трудно было писать «Бузбулак»… То, что Беневша ушла от мужа, вновь вселило в Теймура надежду. И как ни банальна была его самая сокровенная мечта, жизнь оказалась не в состоянии создать что-либо более прекрасное. Разве мог он представить себе, что когда случайно встретит Беневшу уже после развода с мужем, она, так холодно осведомившись о его самочувствии, будет молча идти рядом, усталая, безучастная?.. Но хотя все это очень мало похоже было на то, что виделось Теймуру в мечтах, то, что Беневша ушла от мужа, не могло не обрадовать его — Беневша должна была уйти — ради него. Да и время должно было работать на него — за те годы, что они не встречались, он во что бы то ни стало должен был получить «доктора». Но существование Теймура не имело ни малейшего отношения к разводу Беневши с мужем, время тоже ничем ему не помогло. Наоборот, оно как в тюрьму заключило его любовь, унизило ее, растоптало, довело до полусмерти, и впереди не было ничего, что давало бы надежду на ее возрождение. Лишь прошлое давало эту надежду. Есть что-то на свете, что связывает, объединяет их. Пусть их тогдашний страх перед старой Беяз. А раз есть, значит, не все потеряно.
Охваченный теплом надежды, Теймур хотел уже задремать, поспать до утра, но надежда слишком скоро остыла. И снова он был один со своими холодными, безрадостными думами. И еще ветер. Этот сводящий с ума, порывистый, резкий бакинский ветер…
«Папа, кто написал „Историю древнего мира?“»
Как-то раз, когда учитель Мурсал вел сына к профессору Джемшидову, мальчик вспомнил вдруг слова тети Шейды.
— Папа, — сказал он, — кто написал «Историю древнего мира»? Профессор Джемшидов?
Кто написал «Историю древнего мира», учитель Мурсал не знал, хотя и преподавал историю, но что автор ее не Джемшидов, это он знал точно. А потому сказал со всей решительностью:
— Нет, не Джемшидов, Джемшидов пишет о нашем периоде.
— А что он пишет о нашем периоде? — спросил мальчик.
— Историю, — сказал учитель Мурсал. — Историю нашего времени. Вот будешь учиться в десятом…
В тот день, сидя за столом у профессора, учитель Мурсал с гордостью сообщил, что сынишка его интересуется историей.
— …Сейчас только про ваши книжки спрашивал. «Историю древнего мира» он, говорит, написал. Ха-ха…
Учитель Мурсал смеялся долго и громко. Но профессор даже не улыбнулся. Подняв голову, он пристально поглядел на Мурсала, потом на Теймура, и сразу стало тревожно, очень тревожно и, не подоспей вовремя Туту ханум, услышавшая этот разговор, неизвестно, чем бы кончилось дело, но Туту ханум подоспела вовремя.
— Теймур у нас умница, — сказала она. — Способный мальчик… Я ведь когда-то и сама так думала: сколько ни есть на свете книг, все вот он написал. А у него в то время еще ни одной книги написано не было! Он меня в Баку везет в поезде, а мне вдруг втемяшилось в голову, давай его расспрашивать!.. Я как услыхала, что Беяз все песни, что по радио поют, ему приписывает, смех разобрал!.. Смешно ведь… Правда?
Смешно или не смешно, это мальчик не очень понимал. Но ему очень не нравилось, как робко поглядывает его отец на этого сурового, сумрачного человека, как заискивающе хихикает — очень это не нравилось Теймуру. А учитель Мурсал все хихикал, все улыбался:
— Наша бузбулакская земля уже подарила миру одного знаменитого историка, пусть еще одного родит… Пусть. Ай. Хи, хи…
— Земля картошку родит, а не ученых, — сказал профессор, и Мурсал опять улыбнулся.
— Горизонты науки широки. И орлам парить, и воробьям порхать — всем места хватит…
— А ты случаем стихи не пишешь? — профессор уже не скрывал раздражения.
— Нет, — учитель Мурсал растерянно поглядел на него. — А что?
— Так, пришло в голову. Потому что поэты эти вздор пишут. Лично я на горизонте ни орлов, ни воробьев не видел.
— Так я в переносном смысле…
— Уроки тоже в переносном смысле даешь?
— Хи, хи… профессор… Я же… по средним векам…
— А этого, — профессор кивнул на мальчика, — по каким векам пустить собираешься?
— Это как посоветуете, профессор.
— Я так посоветую: чем такой историк, как ты, лучше совсем не надо!
И опять учитель Мурсал улыбнулся: странный он человек, этот учитель Мурсал.
— Я понимаю, почему вы так, профессор… Мечеть имеете в виду… Так ведь памятник же, охранять обязаны, в порядке содержать…
— А очаги культуры — не обязаны?
…Была та же веранда, тот же стол и бумажка под скатертью… Туту ханум, как всегда, хлопотала у электрической плитки, готовила долму и, как всегда, то и дело появлялась на веранде — не дай бог, у мужа подскочит давление. Хлеб в вазе, как всегда, накрыт был салфеткой. На краю неба светились те же фиалковые облака. И женщины так же мыли у родника посуду и лепили кизяк на стены. Девочка еще не приехала, но места, где она любила бегать, всегда были у него перед глазами: вот тут она стояла, тут перепрыгнула через арычок, тут упала, ушибив коленку… Даже деревья, в которые она швыряла камешки, были особенные, отличные от других…
«С тебя причитается, дядя!..»
Кроме Мурада, сына родной его сестры, у профессора Джемшидова было в деревне лишь несколько дальних родственников, и родственники эти обслуживали профессора в его ежегодные наезды: мыли посуду, пекли хлеб, носили с родника воду. Зимой они приглядывали за профессорским домом, весной перекапывали и сажали огород, а в остальные времена года расхаживали по улицам, гордые от сознания своего родства с профессором.
Но родственники никогда не встречали и не провожали профессора. За день до своего приезда Джемшидов обычно звонил в район. На вокзале его встречал представитель райисполкома. В дальнейшем, на все время отпуска к Джемшидову прикреплялся специальный человек, и человек этот все лето доставлял профессору из района необходимое продовольствие. Таким образом, Джемшидову не было нужды ни ездить на базар, ни ходить в лавку: возможно, в этом заключалась главная причина того, что профессора Джемшидова никогда не видели на деревенских улицах. Тем не менее, все в деревне были твердо уверены, что профессор не выходит на улицу потому, что боится своего племянника. Так это или не так, сказать трудно. Однако голос Мурада, дрожащий от ненависти, можно было кое-когда услышать с джемшидовского айвана, и слушать этот голос находилось много любителей.
Стоило Мураду свернуть в дядин двор, площадь перед мечетью мгновенно затихала. Чтоб услышать, что говорит Мурад дядюшке, ребятня карабкалась на стены, а женщины, шедшие с родника, останавливались перед калиткой Джемшидова, поставив на землю полные ведра и кувшины.
— С тебя причитается, дядя: есть указание, не сегодня-завтра мечеть рушить будут!
— Сколько раз я тебе говорил: не приходи выпивши! Чего явился? Звали тебя?
— Явился распить с тобой по стаканчику простокваши. И опять же расширить кругозор. Давно газет не читал.
— Ты испытываешь мое терпение, Мурад. На смех меня выставляешь.
— А тебе жалко? Пусть люди веселятся. Хоть немножко морщины расправятся…
Разговор большей частью начинался с этого и затягивался надолго.
— Что тебя все тянет скандалить?
— В спорах рождается истина. Тебе это прекрасно известно, профессор.
— Пока мне известно только одно: человека из тебя не вышло! Подумать страшно, что с тобой будет дальше.
— А что дальше? Дальше в аду встретимся.
— Это ты точно. Место свое знаешь.
— Ха, профессор! Значит, ты признаешь существование ада? Смотри-ка, в тебе есть смелость!
— А у тебя были основания сомневаться в этом?
Мурад расхохотался. Он смеялся до слез. Потом сказал, зажигая сигарету:
— Кстати, чуть не забыл. Сегодня ночью Беяз во сне видел. Привет тебе передавала. Горячий.
— Слушай, Мурад, кончай эту болтовню! Есть друзья, есть враги, и у всех уши.
— Главные враги — мы с тобой, профессор, это уже давно установлено.
— Пусть! Только не забывай, что я тебе восемь лет отца заменял. Кормил-поил… Восемь лет!
— Ничего! Я перед тобой не в долгу! Я за тебя доты штурмовал. Восемьдесят восемь раз! Восемьдесят восемь ран получил!
— А сегодня бутылку восемь раз штурмовал!
— Точно. Хорошо сказано, дядя! Даже не ожидал от тебя.
— Мурад, принести тебе чаю? — спросила Туту ханум. — И улыбнулась. Ласково, очень ласково улыбнулась ему Туту ханум. — Или довги? Холодненькая!..
— Не надо довги, тетя. Иди-ка сюда: я в дяде новую черту открыл!
— Это какую же?
— Чувство юмора обнаружил.
Она подошла, грустная, положила Мураду на плечо руку.
— И что вы все грызетесь? — она вздохнула. — Ведь не чужие, родная кровь, неужто нельзя помириться?
Мурад склонил голову на плечо, легонько коснулся ее руки заросшей щекой.
— Не представляю себе, профессор, — сказал он, — как ты на страшный суд явишься? Такого человека сломил… — Тихо сказал, гневно, и снова прикоснулся небритой щекой к лежащей на его плече руке.
— Вот ее бы и постыдился! — профессор ткнул пальцем в сторону жены. — Восемь лет на тебя стирала.
— Кончай ты со своими восьмерками, профессор! За те восемь лет ты меня чуть не в нелюдь превратил! Только-только человеком становлюсь.
— Видно, как становишься! Деревне на потеху!
— Вот это ты брешешь, профессор!
Мурад вскочил со стула. Профессор побледнел. Туту ханум притихла в уголке, с ненавистью глядя на мужа. Туту ханум очень любит Мурада. Больше, чем единственного сына, — так во всяком случае утверждают в деревне.
Молчание затянулось. Туту ханум тихонько ушла с веранды. Мурад курил, профессор глядел в разложенную перед ним газету. Потом, почувствовав, видимо, что Мурад сейчас внутренне расслаблен, решил воспользоваться моментом.
— Напрасно ты тогда ушел из дома. Совершенно напрасно. Обиделся, надо было сказать.
— Обиделся? Это не обида — омерзение!
— Понятно, все понятно. Не можешь простить, что не уберег тебя от армии. Сына же не отправили на фронт, и племянника обязан был уберечь. Должен тебе сказать, что мне эта мысль всегда не давала покоя. Но вспомни, Мурад, ты ведь сам все придумал. Года себе приписал. Комиссию обманул. Слава богу, обошлось — вернулся. В орденах, в медалях… Да, верно, Бешир оставался в тылу. Но ведь не бездельничал — учился, и учился прекрасно. Защитил диссертацию. Талантливый математик… ученый всесоюзной известности. В конце концов, ученые нам тоже нужны. Нужны или не нужны?
Не глядя на Джемшидова, Мурад молча слушает его. И вдруг хватается за голову, кричит:
— Ты же подлец, дядя! Бандит! Гангстер!
Мгновенно появляется Туту ханум.
— Ну что ты?.. Не надо, Мурад… — она умоляюще смотрит на племянника. — Его не переспоришь.
— Бандитом меня назвал… — бормочет профессор. — Гангстером… А я на тридцать лет его старше!
— Тридцать лет! — Мурад горько усмехается. — Ты старше меня на два века! Ты провонял феодализмом!..
— Ты прав, милый, прав… — взглядом приказывая мужу молчать, Туту ханум подходит к Мураду; Мурад вне себя, у него дергаются губы, трясутся руки…
— Да… — говорит он, покрутив головой. — Таких подлецов, как ты, я еще не видел… Ведь знаешь: я по-настоящему люблю Бешира, он абсолютно ни при чем; ни он, ни его ученость, ни его всесоюзная известность. Что все твои слова — вранье, подтасовка, липа!.. И все равно — давай, суй в котел, наваристей будет! Ни чести, ни совести, — одно жульничество! Всех меришь на свой аршин! Даже в том, что я мальчишкой добровольно пошел на войну, тебе хотелось бы углядеть подвох… Вот скажи: для чего ты собирал в моей комнате водочные бутылки? Что ты хотел доказать? Раз в жизни правду скажи — ты же мужчина!
Профессор выдвигает ящик стола, незаметно достает таблетку, кладет в рот, запивает холодным чаем.
— Кто тебе это сказал? — чуть слышно произносит он.
— Про бутылки? Сам видел. Прокрадываешься вечером ко мне в комнату и давай под кроватью шуровать! Я когда в последний раз к тебе в стол заглянул, в тумбочке двадцать пять штук стояло. И рядом — записочки арабским шрифтом. Что там было написано? А? Скажи, профессор? Кому ты собирался предъявлять эти бутылки?
Джемшидов потрясен, он не глядит на Мурада, он не отрывает глаз от жены.
Покачав головой, Туту ханум уходит, и они снова остаются на айване вдвоем.
— Так… — медленно произносит Джемшидов. — Значит, ты шпионил за мной? Тайком лазил в мой стол? Все. Больше мне нечего тебе сказать. С меня хватит!
— Не кричи, профессор… — морщится Мурад. — Не надо этого благородного гнева. Если хочешь знать, я понятия ни о чем не имел. Бешир показал мне, куда ты прячешь бутылки. И где ключи лежат, показал. В буфете на нижней полке, в сахарнице. Так я говорю, а? Было дело?
— Да, но ты забыл, что, налакавшись водки, нес черт-те что! Все что взбредет в голову! При моих врагах!
— Вот как? Значит, твои враги ходили к тебе в гости?
— Тебя это не касается. Во всяком случае, ты… с войны вернулся в мой дом врагом!
— Это в каком же смысле?
— Ты вел себя вызывающе. Как говорил, как ходил, как смотрел на меня — во всем была враждебность. Ты не считался ни с мнением моим, ни с положением. Ты не имел права вести в моем доме всякие дурацкие разговоры!
— Так… — медленно произносит Мурад. — Значит, не имел? А ты, профессор? Ты имел право учить меня? Наставлять? Ты, все четыре года, пока я воевал и валялся по госпиталям, копивший жир в тылу, хотел учить меня патриотизму! Любви к Родине, к партии! Кто дал тебе это право? А?
— Ладно, не ори, здесь глухих нет. Неужто нельзя потише?.. Значит…
— Трусишь, профессор! Как при такой трусости ты умудрился чего-то добиться? Диву даюсь!
— Тебе придется еще кой-чему подивиться!
— Грозишь, дядюшка? Зря. Ведь ты же прекрасно знаешь: напакостить мне ты не сможешь — руки коротки.
О том, что беседа Джемшидова с племянником закончена, можно было узнать по грохоту ступенек под сапогами Мурада. Тотчас же толпа на площади рассыпалась, ребятишки соскакивали с оград, женщины брали свои кувшины и ведра и не спеша отправлялись по домам. Хлопала калитка, появлялся Мурад; ни на кого не глядя, он быстро шел вверх по улице, а люди долго глядели ему вслед…
На Доске почета, прибитой на айване бузбулакской школы, висит портрет Мурада. Он снят в форме и, пересчитывая ордена на левой стороне его кителя, бузбулакские первоклассники учатся счету.
Но одно дело — деревня, а другое — учитель Мурсал. У него свое, особое отношение к Джемшидову.
Побывав у профессора, Мурсал совершенно преображался. Даже походка менялась. Если в тот момент, когда он выходил от Джемшидова, кто-нибудь попадался ему навстречу, учитель Мурсал сдержанно отвечал на приветствия, гордо неся высоко поднятую голову, с величавой неспешностью шагал к площади и там, расположившись перед мечетью, заводил речь о профессоре Джемшидове.
— Гордость наша, — прочувствованно говорил он. — Такого человека ценить, уважать нужно…
Неделю, месяц, а иной раз и два месяца после посещения Джемшидова, учитель Мурсал любой разговор умудрялся начинать словами: «Когда мы сидели с профессором…», «Профессор сказал…», «Профессор считает…». И в школе, и дома, и на площади перед мечетью учитель Мурсал то и дело цитировал профессора Джемшидова, хотя большую часть того, что Мурсал ему приписывал, Джемшидов никогда не говорил и говорить не думал.
«У него там отец в деревне…»
Светлело, наступало утро, и Теймур все отчетливее начинал ощущать ужас предстоящего ему дня. Тоска одиночества и раньше донимала его, по временам это была настоящая боль, но она притуплялась, замирала. Сейчас боль была везде, боль владела не только телом, ею полны были мысли, память: она была в тиканье часов, в завывании ветра… В домах, плотно притиснутых один к другому…
Уехать в деревню? С какими глазами он явится туда? Что он скажет отцу? Три года подряд в каждом письме сообщал ему, что не приедет, пока не защитит докторскую, и отец отвечал, конечно, сынок, не приезжай, спешить некуда, деревня от тебя не уйдет…
…«Мы ему: женись, мол, ученый человек, кандидат, а живешь как студент какой. Не до этого, отвечает, не могу сейчас. Мы ничего, ждем, терпим, раз дело требует. А выходит, вранье. Болтовня одна…»
Растерянность отца, плачущий голос, эти слова, которые он, возможно, никогда и не произнесет, совершенно потрясли Теймура. И Бузбулак вдруг потерял в его глазах всю свою притягательную силу, показался несчастным, жалким. Потом Теймур вспомнил Мурада. Вчера в кабинете Джемшидова он не раз вставал у него перед глазами. Если б он умел также смело держаться, говорить, как он — резко, дерзко… А он ведь ничего толком и не сказал. Почему? Боялся? Стеснялся?.. А чего?
Джемшидов нажал звонок.
— Попросите Керим-муаллима, — сказал он вошедшей секретарше. Когда Керим вошел, профессор, наконец, поднял голову, но на Теймура так и не взглянул.
Они были в кабинете втроем. Керим сидел напротив Теймура. Профессорская рука лениво, с видимой безнадежностью листала диссертацию Теймура, испещренную красными пометками. Керим молчал, ждал, чтоб заговорил профессор. Но Джемшидов безмолвствовал.
— Начинайте, Керим муаллим, — произнес, наконец, он и впервые взглянул на Теймура, и такое у него было выражение — сам черт не поймет, что за выражение.
Керим откашлялся.
— Видите ли, профессор, все дело в постановке проблемы. Теймур-муаллиму я уже сообщил свое мнение. (Вчера или позавчера он, захлебываясь от восторга, говорил Теймуру о диссертации.) Дело в том, что период коллективизации — очень сложный период. В этот период были, как известно, некоторые издержки, перегибы. Но все равно: с точки зрения подхода к проблеме, диссертация очень и очень уязвима. В ряде вопросов автор явно отходит от правильной позиции. В некоторых главах есть весьма путаные утверждении. К примеру, на странице сто семнадцатой Теймур-муаллим пишет: «Крестьянин должен относиться к обрабатываемой им общественной земле, как к своему личному участку земли, потому что крестьянин, не имеющий своего участка, это уже не крестьянин, а делец… Такой крестьянин духовно безлик…»
Профессор знаком остановил Керима. Грозно взглянул на Теймура.
— Ты что — отца своего имеешь в виду?
— Допустим… — Теймуру хотелось сказать: «Допустим, отца, но только вы еще более безлики!», но он не смог этого сделать. — Керим-муаллим, — сказал он, — дочитайте страницу до конца. Ниже разъясняется эта мысль. Там суть всей главы: крестьянин должен относиться к колхозной земле по-крестьянски. Я подробно развиваю эту мысль в последующих главах.
Джемшидов повернулся к Кериму и впился в него глазами, деваться тому было некуда.
— Теймур-муаллим! Но и в тех главах, о которых вы говорите, тоже полно ошибочных положении. Например, проблема коллектива и личности. Не обижайтесь, Теймур-муаллим, но это абсолютно неверный подход. В конце концов личность для нас — неотъемлемая часть коллектива. Основа всего нашего развития — это коллектив, а не личность. А вы отрываете личность от коллектива. Это неправомерно.
— Там идет речь лишь о личном отношении к труду.
— Слушай! — Джемшидов резким движением отодвинул папку. — Ты для чего принес сюда диссертацию? Чтобы мы прочитали и сказали свое мнение. Так потрудись слушать, не цепляйся к каждому слову… Прошу вас, Керим-муаллим!
Керим кашлянул.
— В общем, мое мнение таково: диссертация должна быть переработана заново. Прошу вас, профессор, высказать свои соображения.
— А может быть, «маститому ученому» нет нужды выслушивать мое мнение?.. Кроме того… — Профессор протянул руку к папке. Керим мгновенно схватил ее и положил перед Джемшидовым. — Кроме того, я так и не смог уразуметь: роман это или диссертация?
— Именно! — Керим-муаллим едва не вскочил со стула. — Именно, профессор! Я сам хотел это сказать! Вот, смотрите мои пометки, вот… «элемент романа», «беллетристика». Надо признать, что в отношении художественности некоторые куски диссертации написаны на весьма высоком уровне. Серьезно, Теймур-муаллим — будто Толстого читаешь! В одном месте, в конце, если не ошибаюсь, вы даже даете диалог. Вы исследуете психологические корни коллективного труда. Само по себе это не вызывает возражений. Но так, как вы это преподносите… Не знаешь, то ли перед тобой роман, то ли научный труд… Серьезно, профессор, некоторые страницы меня по-настоящему тронули. Может быть, я слишком сентиментален… А может, это сила писательского дарования Теймур-муаллима… Хи, хи… Не обижайтесь, Теймур-муаллим, я честно. Я хочу сказать, что…
— У него там отец в деревне, — спокойно перебил Керима профессор, — учитель истории и в то же время самый настоящий молла. Собирает с людей деньги, организует ремонт мечети, используя, как выражается наш уважаемый «будущий доктор», «заинтересованный труд», а потом идет в школу и преспокойным образом учит советских детей атеизму.
На лице Керима выразилось предельное изумление — будто профессор, по меньшей мере, сообщил о пришельцах с Марса.
Теймур не выдержал.
— Профессор! Прошу оставить моего отца в покое. Он не имеет ни малейшего отношения к нашему разговору!
— Считаешь: не имеет отношения?
— Никакого!
— Тогда разреши, я выскажу свое мнение. Ты, видимо, заметил, что Керим-муаллим старался смягчить оценки?
— Заметил.
— Так вот. Прежде всего я должен сказать, что образ мыслей автора данной работы, сам характер его мышления чужд мышлению человека, работающего в нашей среде.
— Любопытно! — бросил Теймур. — Значит, я… — Перед Теймуром вдруг отчетливо встал Мурад, но в этот момент Керим под столом наступил ему на ногу.
— На старом рынке новые порядки наводишь? — профессор выразительно посмотрел на Теймура и, вынув листок из лежащей перед ним пухлой рукописи, швырнул его Кериму: — Читай!
И Керим стал читать:
«Этические нормы каждого слоя общества опираются на экономические и моральные законы, присущие этому слою. Этические нормы крестьянства порождены его связью с землей, с природой. Психологические факторы, определяющие нравственную сущность крестьянина, всегда отличались чистотой, прочностью, постоянством, поразительной ясностью, чем всегда привлекали внимание лучших умов — людей, заботящихся о судьбах человеческого общества. В сознании истинного крестьянина материальные блага, достающиеся человеку, измеряются трудом, потраченным на их приобретение; нравственная сущность крестьянина как моральная категория формировалась именно в процессе этого измерения. Обман, спекуляция, всегда были чужды сознанию истинного крестьянина; на вещь, доставшуюся даром или по дешевке, крестьянин всегда смотрел с подозрением; не оставлял на развод дешевого скота, опасался сеять дармовыми семенами. В результате непосредственной связи с землей, с природой, в сознании крестьянина сложились нравственные критерии „халал“ и „харам“ — „дозволенное“ и „недозволенное“; при помощи этих понятий в сознании крестьянина прямое и кривое, истинное и фальшивое разграничивалось на заработанное честным трудом и доставшееся даром. Крестьянин, утерявший эти нравственные критерии, уже не крестьянин, и есть все основания говорить об отчуждении его от специфических для крестьянина морально-этических норм».
Страница кончилась.
— Не понимаю, — говорит профессор, — о каком крестьянстве ты здесь говоришь?
— Разумеется, о нашем. Мне кажется, что это одна из насущных проблем нашего общества.
— Нет, ты неподражаем!
Что можно было сделать после этого? Подняться, открыть дверь и уйти. Но Теймур не поднялся и не ушел, потому что некуда ему было идти, не было у него никого, к кому можно было пойти в такую минуту.
— И ты уверен, что один занят этой проблемой?
— Нет, профессор, уверен, что не один. Но считаю долгом в меру своих возможностей помогать решению проблемы. Именно поэтому я должен довести свои выводы до сведения общества, иначе моя докторская диссертация лишена всякого смысла.
— Потрясающе! — сказал профессор. Собрал лежащие перед ним листки, аккуратно завязал папку. Положил их перед Теймуром. — Так. На защиту я это представить не могу. Жалуйся, если считаешь нужным. Куда тебе угодно.
«Точные науки — это вещь!..»
Неужели все так и было? Какие-нибудь полчаса, час… Абзац отсюда, страницу оттуда… И все — можешь идти… А куда?.. Пришел, повалился в постель — некуда ему идти.
Пять лет, ровно пять лет: все отпуска, субботы, воскресенья… Одно и то же, одно и то же!.. А впрочем, так ли это? Правда ли, что пять лет подряд он каждый день делал одно я то же? И пчелы ведь каждый день делают одно и то же, и муравьи. И само солнце. Разве не проделывает оно ежедневно одну и ту же работу? И в то же время каждый день понемножку обновляет мир. Незаметно, неуловимо для глаза весну оно заменяет летом, лето — осенью, осень — зимой… Времена года. Они должны сменять друг друга, без этого нельзя. Если они не будут сменять друг друга, ни пчелы не смогут жить, ни муравьи… А может быть, те пять лет, когда изо дня в день долбил он в одну точку, это не пять лет, а всего лишь один сезон, одно время года? И после этого пятилетнего времени года вчера должно было начаться, наконец, для него новое? И только потому, что оно не началось, время вдруг остановилось, словно задохнулось, словно его лишили возможности движения…
…Лежа в этом неподвижном выдохшемся времени, Теймур глядел в потолок и видел Бузбулак. И Бузбулак, который он видел сейчас, казалось, тоже был смят, придавлен: и деревья, и речка, и дома. Словно деревня испугалась когда-то Джемшидова, так испугалась, что до сих пор не может прийти в себя… Деревья, напуганные Джемшидовым, стояли у него перед глазами; напуганные Джемшидовым дороги, тропки, дома… И где-то за горами занималось сейчас напутанное Джемшидовым утро.
Он увидел глаза этого утра, испуганные, изумленные, сияющие чистотой глаза. «Ярче сияй!» — сказал Теймур. Он сказал это утру, сказал Бузбулаку и сказал так громко, что сам удивился, услышав собственный голос.
Уже десять дней, как уехал профессор. При Теймуре просить Джемшидова, чтоб позаботился о его сыне, Мурсал не решился — не хватило смелости. Поэтому в день отъезда Теймура он с утра не находил себе места — все хлопотал, суетился, говорил без умолку…
— Самому бы поехать надо… — то и дело повторял он. — Поехать бы устроить мальчика, сразу бы от сердца отлегло… Конечно, профессор не чужой человек. И от нас ничего плохого не видел…
Мурсал решил вбить это Теймуру в голову, потому что очень хотел, чтобы его мальчик, как попадет в Баку, сразу пошел к профессору и хоть на одну ночь непременно остановился бы у него.
— Переночуешь, а там видно будет… Как профессор скажет… Может, он тебя в общежитии устроит получше… А может, и не отпустит никуда, оставайся, мол, у меня, чтоб на глазах был. У Джемшидова пять комнат, да еще кухня, у них ведь там кухня не в счет…
В тот день Мурсал поднялся спозаранок, поехал в район. Баранины килограмм взял — накормить, ребенок надолго уезжает. Купил у соседа килограмма четыре отборных персиков, оборвал росший во дворе фундук — набралась добрая корзина гостинцев. Мурсал все возился, все укладывал их; то персики сверху уложит, то орехи насыплет…
— Хорошие фрукты, — приговаривал он, любуясь корзиной. — В городе разве купишь такие? Главное — свежее все. Таких фруктов, как в наших местах, нигде не найдешь… Одного жалко — сам не могу поехать. Поехал, устроил бы тебя… С профессором договорился бы… Ладно, как-нибудь потом выберусь. Будут зимой каникулы, и приеду. Лишние траты тоже ни к чему. Лучше купишь себе что-нибудь. В городе ведь за все платить надо. Да, жалко, жалко, что я с тобой не еду… Самому-то надежней.
В то время из пяти теймуровых сестер три уже были замужем, две еще оставались дома. И эти две, с самого утра то и дело принимались плакать; к полудню глаза у них покраснели, распухли, но они по-прежнему продолжали всхлипывать.
Замужние сестры не плакали — не было времени. Они нянчили своих грудников, разнимали сцепившихся во дворе сыновей, кричали на тех, кто удирал на улицу и, улучив момент, успевали еще ворчать на сестер.
— Это ж надо! Распустили сопли! Куда едет-то, соображаете? В Баку! Учиться! С золотой медалью едет!
Мать Теймура пожарила баранину. Старшая сестра тоже кое-что сготовила, принесла. И две другие замужние сестры не с пустыми руками явились: одна принесла с собой катык, другая айвовое варенье. Поставили все на подоконник, чтобы не достать ребятишкам. Чемодан Теймура, собственноручно сколоченный отцом из фанеры, красный с голубыми разводами, стоял рядом.
Под вечер, перед заходом солнца, учитель Мурсал поднял этот красный с голубыми разводами чемодан.
— Пораньше выйти надо, — сказал он.
Все пять километров до станции они отмахали пешком. Уже совсем стемнело, когда учитель Мурсал усадил сына в плацкартный вагон. На следующий день рано утром Теймур сошел с поезда в Баку. Дом профессора Джемшидова он отыскал скоро, но нажать кнопку звонка, приделанного на стене возле двери, весь день не набрался смелости. До вечера бродил он возле профессорского дома с корзинкой в руках. И только когда наступили сумерки, ему не оставалось ничего, как все-таки нажать эту кнопку. Дверь отворил Бешир.
— А, Теймур! — обрадованно воскликнул он. — Вот это да! — Легонько подталкивая в спину, он провел гостя в большую светлую комнату.
— Вот, — громко сказал Бешир. — Это сын Мурсал-муаллима!
Беневша читала, примостившись на углу огромного обеденного стола. Когда Теймур вошел, она подняла голову, улыбнулась и снова стала читать. Из соседней комнаты вышла жена Бешира, поздоровалась и ушла. Появилась Туту ханум с чаем.
…Потом вышел профессор и расположился за столом. Беневша тоже сидела тут, и Туту ханум, и жена Бешира, но кроме него, никто не разговаривал. Бешир откровенно радовался тому, что Теймур прибыл в Баку с золотой медалью, но не одобрял его намерения поступать на исторический факультет.
— Подумаешь — история! — говорил он. — Точные науки — это да, это вещь! Стране нужен всего какой-нибудь пяток хороших историков. Гуманитарные науки процветают сейчас, главным образом, в малоразвитых странах. В этих странах уровень развития гуманитарных наук намного выше точных. Хотя точные науки этим странам еще более необходимы.
Теймур внимательно слушал Бешира, с удовольствием слушал. И не потому, что тот говорил умные вещи. Потому что, говоря эти умные вещи, он смотрел на Теймура с интересом, с уважением. Совсем не похоже было на беседы, которые вел с его отцом профессор Джемшидов. Слушая Бешира, Теймур чувствовал себя уверенней, он уже жалел, что весь день прокрутился вокруг этого дома, не решаясь войти. Беневша иногда отрывалась от книги и улыбалась Теймуру, а стоило ей улыбнуться, усталость вообще как рукой снимало, он сразу весь преображался; и рубашка с короткими рукавами вроде идет ему, и руки у него ничего — длинные, мускулистые… И этот огромный город вроде совсем не такой уж страшный…
Вдруг профессор резко поднялся из-за стола. И, уже в дверях, сказал сыну:
— Давай-ка устрой его в гостиницу. Поздно уже. Парню идти пора.
Бешир укоризненно взглянул на отца, прищурился и покачал головой. Жена его молча вышла. Теймур увидел, что Беневша медленно закрыла книгу и что у Туту ханум трясутся руки.
О чем Бешир говорил с отцом в другой комнате, Теймур не слышал. Через несколько минут Бешир появился.
— Чего не умываешься? — весело спросил он. — Мойся давай и ложись. Кафедра твоя — вторая дверь налево… Иди, иди, не стесняйся! Спать будешь на диване в этой комнате. По-моему, неплохая комната…
Когда Теймур вернулся, жена Бешира готовила ему постель. Потом Бешир погасил свет и ушел. Потом в других комнатах погас свет, все затихло… Но прошло еще немного, и Теймур услышал за стеной приглушенные голоса:
— А кто будет стирать простыни, на которых он валяется?!
— Не надо, папа. Не нервничай. Ради бога, не нервничай! Я выстираю!
— Мне не нужно, чтоб ты. А вот жену свою заставь! Чтоб хоть носки мужу стирала! Почему моя жена должна вас обслуживать?
— Папа, ты не прав. Так нельзя…
— Разреши мне, пожалуйста, самому знать, что можно и что нельзя. Самому устанавливать порядки в своем доме. Я не желаю, чтоб мне навезли из деревни вшей!..
— В деревне уже лет пятнадцать, как нет вшей. Ты отстал от жизни.
— Зато ты, я вижу, слишком ушел вперед! Чересчур хорошо деревню знаешь!
— Зачем этот тон, папа? В конце концов, не я писал докторскую о культурном преобразовании деревни.
Они замолчали. Профессор кашлянул.
— Я вижу, мое докторство и у тебя засело в печенках! Ты только одно должен понимать, милый: не будь я доктором, тебе тоже бы грош цена! Ясно тебе это?
— Ясно, папа. Все абсолютно ясно. Разреши, я пойду?
Бешир на цыпочках миновал комнату, в которой лежал Теймур, осторожно прикрыл за собой дверь. Теймур, закрыв глаза, ждал, пока все улягутся, чтобы встать, потихоньку одеться и, неслышно отворив дверь, навсегда покинуть этот дом, но сон сморил его. Странное что-то снилось ему в ту ночь. Будто он в деревне, в своем доме. И будто в каждом из шести окон — солнце, фиалкового цвета солнце — в каждом окне по солнцу. И в сиянии этих шести солнц выходит Бенегша: в подвенечном платье, на голове белая вуаль; словно легкий тюлевый занавес, раздвигая ветки орешника, она идет прямо к нему. А он присел в орешнике, по нужде, он пытается выбраться из кустов и не может. А откуда-то доносится голос Бешира: «Кафедра истории…», «В деревне уже пятнадцать лет нет вшей…», «Точные науки — это вещь…». Точные науки — это да, это вещь…
Сияние шести солнц
Рассвело. Давно уже рассвело, вой ветра на улице уже смешался с другими дневными звуками… Шесть солнц… Сияние шести солнц… Умывшись, Теймур подошел к окну. Он смотрел на дома, одинакового цвета, одинакового размера и думал о том, сколько же лет прошло с тех пор, как привиделся ему этот сон… Пять лет института. Два года аспирантуры. Потом…
Потом кто-то постучал в дверь. Тихонько постучал. И если бы сейчас на глазах Теймура из-за домов, которые он разглядывал, поднялись бы шесть солнц, привидевшиеся ему когда-то во сне, он удивился бы не больше, чем теперь, увидев в дверях Бешира…
— Привет мученикам науки!.. Ну и местечко ты себе подобрал, дорогой! Нет, место отличное! Вот только попробуй разыскать!.. — Бешир взглянул на часы. — С девяти часов хожу вокруг да около. — Он легонько поддал Теймуру кулаком в бок. — Ну как? Прочный ты? — Окинул взглядом комнату. — Холостяком живешь? А комната ничего — прохладная… Слушай, ты вроде сонный какой-то. Встряхнись! Чайку гостю предложи!..
Бешир из всех сил старался казаться веселым. А выглядел плохо, хуже, чем раньше: под глазами мешки, а в глубине их тревога, боль. Чего он пришел?
Теймур тоже пытался изобразить оживление. Не получалось. Спросить гостя о чем-нибудь, и то ничего не мог придумать.
— А что ж в Бузбулак не уехали? — сказал он наконец.
— Неохота, — ответил Бешир, глядя в окно. — Ну что Бузбулак? Поесть да поспать — и все дела. — Он обернулся к Теймуру. — Шефа твоего я вчера вечером отправил. Посадил на поезд. Мать и моя жена тоже с ним уехали. И дочку Беневши увезли… Мы теперь с Беневшой на холостяцких правах. Так что в любое время можешь нанести визит…
То ли от того, что после их вчерашнего разговора профессор вот так запросто укатил в Бузбулак, то ли оттого, что услышал имя — Беневша, Теймур вдруг почувствовал, что комок подступает к горлу. Быстро пошел на кухню, налил в чайник воды, поставил на плиту. Вымыл руки, ополоснул лицо, но комок все не проходил. Не хватало только разрыдаться сейчас, при Бешире.
— Ну что, скверно на душе?
Теймур не ответил. Бешир поднялся со стула, сунул руки в карманы, прошелся по комнате.
— Я знаю про вчерашнее, — сказал он и сел за стол. — Диссертацию твою я прочел. По секрету от отца — две ночи подряд не спал. Беневша тоже читала… — Бешир помолчал. Подумал немного. — Она в диком восторге. Да ведь и впрямь здорово написано! Ей богу, здорово! Странная у вас наука. Ни бога, ни пророка, и каждый считает себя правым.
— Но что же теперь будет? — вдруг вырвалось у Теймура. — Пять лет! Пять лет работы…
Мгновенно пожалев, что сказал это, Теймур испуганно взглянул на Бешира: тот морщился — не по нраву был ему этот жалобный тон.
— Тебе прекрасно известно, что будет. Если ты прав, — слово «ты» Бешир произнес с нажимом, — это нужно доказать. Джемшидов в ваших кругах — величина, я знаю. Но свет клином на нем не сошелся. Велик верблюд, а слон больше.
«Слон», — мысленно повторил Теймур. — «Слон»… Он хотел представить себе этого «слона», но воображение представило ему не «слона», а Беневшу, читающую его диссертацию. Ему вдруг пришло в голову — вероятно, впервые в жизни, — что он и диссертацию-то хотел защитить, в сущности, ради Беневши. Да, но если это так, почему же он не мог принять во внимание, что его работа неизбежно попадет в руки к Джемшидову? Зачем обрек себя на мучения, когда можно было без особых сложностей, без шума, без скандала защититься, получить докторскую степень и мирно, спокойно прожить остаток своей жизни. Может быть, он слишком уверовал в то, что закон непременной смены сезонов распространяется на все сферы жизни… А может, это вообще ерунда — «сезоны» эти? Втемяшилось в башку, сбило с толку, запутало… Теймур размышлял об этих неутешительных вещах, а в глубине сердца маленьким веселым огоньком теплилась радость — Беневше понравилась диссертация! И тупая, сосущая боль вдруг начала отступать, вытесняя отчаяние, все его существо постепенно заполнила радость.
— Да, — вдруг сказал он. — Надо быть с людьми! Всегда быть с людьми. Иначе возникает отчуждение. Потому что люди меняются. Какой-нибудь день, час — и перед тобой другой человек. Вчера только видел его, и уже не можешь узнать. Посидишь вот так недели две дома, вышел — и какое-то все кругом чужое, незнакомое… Даже теряешься… Я, может, утрирую: не две недели, пускай месяц, год… Но меняются, очень меняются люди. Мне кажется, так не было раньше.
— А может, в тебе дело? Ты меняешься. — Бешир улыбнулся и поднялся со стула. — Пойдем, пройдемся немного! Поглядим, как там народ изменился за ночь…
— А чай?
— Чай?.. Может, действительно, чайку выпить? — Бешир хотел было сесть, но махнул рукой. — Нет, лучше пойдем, побродим… Ветер вроде угомонился.
Но ветер не угомонился, бесчинствовал вовсю. Теймур всегда поражался свирепости, с которой этот ветер гнул деревья, сдирал с них листву; каждый раз, когда начинало вот так крутить, Теймур испытывал сострадание к беззащитным деревьям, и сейчас все его существо возмутилось этой бессмысленной жестокостью. Дует и дует, губя, иссушая листву…
— Я считаю, или ветра здесь быть не должно, или этих деревьев… Они исключают друг друга.
Бешир кивнул. Он шел, поглядывая на дома, которые, вероятно, видел впервые, что-то мурлыкал под нос.
— А в Бузбулаке сейчас красота!.. — мечтательно произнес он, перестав мурлыкать. — Ветерочек легкий, свежий… Все цветет, аромат — сдохнуть можно! Джемшидов наш часа через два прибудет! Как тебе это, а?
Теймур улыбнулся.
— В Бузбулаке тоже бывают ураганы. Дважды в году. В начале весны — это ветер будит деревья от зимней спячки — и осенью, после сбора урожая. Осенью, это вроде субботника: ветки сухие, сор всякий выметает… А вот в Баку он зачем? Это даже не ветер, это бандит, разбойник какой-то!..
Они на автобусе добирались до центра, и, когда сошли, Бешир сказал, положив руку на плечо:
— Знаешь, что я тебе скажу, Теймур: держись-ка ты средней линии. Поближе к середке — ясно? — Теймур не ответил, молча шагал рядом. — Чудные какие-то историки выходят из нашего Бузбулака! — Бешир усмехнулся. — Один изловчился весь, только что наизнанку не выворачивается, другой наивен, как малое дитя!
— В каком смысле?
— В самом прямом смысле! — Бешир вдруг резко остановился. — Я уверен, что ты совершенно напрасно осложнил дело, смешав две различные проблемы: нравственную и экономическую. Тебе нужно было взять одну — разумеется, экономическую — и сосредоточить на ней все силы. Это же актуально! Ты что — газет не читаешь?
Теймур сдержанно улыбнулся — не очень удачная шутка. Ну, в самом деле, мыслимо ли отделить то, что называется «экономический прогресс» от морально-этических проблем? Тогда получалось бы, что прогресс этот существует сам по себе, независимо от человека, а рассматривать человека лишь как физическую силу, не учитывая его духовной сущности, его моральных и нравственных запросов, значит заменить изучение объективных экономических законов голым теоретизированием и грубым администрированием. Попытка же применения экономических законов, созданных без учета безгранично сложной духовной сущности человека, особенно применительно их к труду крестьянина, обречена на неудачу уже потому, что материальные ценности, созданные крестьянским трудом, — плод непосредственного, неразрывного единства человека и земли, природы. В наше время надо прежде всего тщательно, во всех направлениях изучать именно нравственное начало — мощную силу, которая мобилизует творческие силы человека. Теймур не представлял себе другого пути к материальному изобилию, не верил, что существуют другие пути достижения экономической стабильности, устойчивости и, наконец, всестороннего совершенствования человека. Разве не в этом смысл его пятилетней работы? Да, Бешир пошутил неудачно.
— Читал, читал я газеты, — сказал Теймур, — и — дочитался: экономику и нравственность спутал. — Он думал, его ответной шуткой закончится этот разговор, но Бешир и не собирался шутить.
— Ты, видимо, основываешься на опыте Бузбулака? — спросил он.
— А какая разница? Деревня везде деревня.
— Ну не скажи! Разве у крестьян одинаковая психология?
— Одинаковая. Крестьянская.
Бешир остановился, удивленно взглянул на Теймура.
— Ты что? А уровень развития?
— Ты хочешь сказать, что бузбулакцы не понимают, ради чего трудятся?
Бешир не ответил, пожал плечами. Кажется, он направлялся не домой, задумчиво вышагивая рядом с Теймуром. Надежда увидеть Беневшу, которая согревала его, давала силу идти, говорить, доказывать, сейчас шаг за шагом испарялась, и Теймуру уже не хотелось продолжать эту прогулку. Ну в самом деле, чего это он вдруг понадобился Беширу? Решил поддержать в трудную минуту? Может, считает, что после случившегося человеку впору вешаться и необходимо срочно прийти на помощь? А может, это даже и не его инициатива. Джемшидов поручил позаботиться… Не исключено, конечно, что Бешир не согласен с отцом и счел своим долгом довести это до сведения Теймура; после этой истории давняя враждебность бузбулакцев к его отцу неизбежно обострится, и Бешир решил принять меры. Хоть, дескать, мы и Джемшидовы, но мы другие, мы за тебя, и я, и Беневша… От этих мыслей тошно стало на душе, такое захотелось сказать… И Бешир, словно почувствовав это, вдруг снова обернулся к Теймуру:
— Беяз в Сумгаите, слыхал? И в Бузбулак больше не собирается.
— Не может быть!
— Да, можешь не сомневаться… сведения из надежных источников…
А между тем, Бешир все дальше и дальше уходил от дома, Беневша все больше отдалялась, и Теймур все больше и больше падал духом; было так, будто свидание, которого он ждал столько лет, которое назначил на сегодня, должно было, наконец, состояться, а Беневша не пришла.
У самого бульвара Бешир замедлил шаг.
— Давай побродим тут еще минут десять… Мне сюда на совещание надо… Ты подумай над тем, что я сказал… Это абсолютно реально, уверяю тебя.
Теймур молчал. Он думал о том, что сейчас и Бешир уйдет, и он останется один на всем белом свете. Совершенно один!..
Может, разыскать Керима? Скорей всего, тот тоже уехал куда-нибудь в отпуск… Нет, с Керимом все. Керима больше не существует… А кто есть? Кто? Куда идут все эти люди? Почему не зовут его с собой?.. Снова вступила в свои права застарелая боль одиночества.
— Мурад очень болен, слышал?
— Нет. А что с ним?
— В больнице лежит. Давно уже… Говорят, плохи его дела. Печень… Беневше пока не говори.
Теймур удивленно взглянул на Бешира — Беневше? Бешир предупредил его вопрос:
— Она хотела тебя видеть. — И добавил раздраженно: — Не думай, что только из-за этого я бросился тебя разыскивать!
Теймур не тронулся с места, но как-то дрогнул, дернулся всем телом, — туда, к ней! — и Бешир, заметивший это невольное движение, с трудом удержался от смеха.
— Вот такие делишки, Теймур-муаллим. Такие делишки… Выходит, переводятся настоящие мужчины. Мурад был из настоящих… Согласен?
— Абсолютно!
— Послушай, Теймур! А сколько в Бузбулаке тех самых «истинных крестьян»? Настоящих мужчин?
Теймур улыбнулся.
— Не знаю. Не считал.
— Так вот, поезжай и сосчитай! — сердито бросил Бешир. — А по возвращении вернемся к этому разговору.
Бешир, все это время державшийся в высшей степени спокойно, сейчас явно нервничал. Он давно уже ушел от того дома, куда должен был идти на совещание, вроде забыл. Возможно, его родительскому самолюбию претило, что он вроде бы сводил дочь с Теймуром, и он взял этот жесткий полемический тон. Ну что ж, Теймур уже обрел желание говорить, доказывать, спорить.
— Вот я как раз и хочу добиться того, чтоб в Бузбулаке не переводились настоящие мужчины. Чтобы они могли жить в своей деревне и крестьянским трудом зарабатывать себе кусок хлеба. И чтобы этот хлеб был «праведным» хлебом. Вот все, чего я добиваюсь.
Эти слова, кажется, пришлись Беширу по душе. Во всяком случае, он улыбнулся. Улыбнулся весело, от чистого сердца, и Теймур, воодушевившись, заговорил с еще большей убежденностью:
— Каждый год наши сельские школы выпускают все новые и новые группы молодежи, чурающейся сельской жизни. Все десять лет, пока ребенок учится, его родители хлопочут только об одном: спасти свое дитя от участи деревенского жителя, навсегда оторвать от родного гнезда! Крестьянину в голову не приходит, что его сын будет кормиться от земли, он и не вспоминает о ней, думая о будущем сына.
— Я тебя понимаю, — Бешир вдруг подхватил Теймура под руку. — Ладно, ты давай сейчас к нам! Я тоже через часок буду. Скажи Беневше, пусть чего-нибудь повкусней сготовит. Хлеба прихвати по дороге. Он помолчал, соображая. — Хотя нет, иди прямо к нам. Хлеб я захвачу.
На этот раз Теймур не повторил своей оплошности: он не спеша простился с Беширом, некоторое время неторопливо шагал вдоль тротуара и только когда Бешир скрылся из виду, пошел быстрее, быстрее.
Что-то вроде эпилога
Ближе к вечеру, когда уже садилось солнце, Туту ханум заметила, что муж достал из портфеля десятирублевую бумажку и, подойдя к столу, стоящему на веранде, сунул десятку под скатерть. И когда послышался осторожный стук в калитку, она молча приподняла скатерть и взяла десятку.
— Неужто совсем сердца нет? — сказала она, кладя бумажку в карман. — Сыну его что устроил. Хоть отца пожалей, не срами!
Профессор не ответил. Он наблюдал, как по дорожке птицей летит учитель Мурсал, как легко взбирается по крутым ступенькам айвана. Сам он от силы два-три раза в день спускался во двор, только чтоб не взбираться по этой лестнице.
— Здравствуйте, Мурсал, проходите! — Туту ханум приветливо улыбнулась. — Как живете? Глядите вы молодцом!
— Чего ж не глядеть! Время такое настало!
— Соколом по лестнице взлетел! — Джемшидов усмехнулся.
— Это все молодость во мне играет, профессор. Хи-хи… Полсотенки еще, пожалуй, протяну!
— А не мало тебе полсотни?
— Ничего, профессор, хватит! Полсотни — это как-никак пятьдесят лет!
— Ну и слава богу! — Туту ханум улыбнулась. — Чтоб у вас всегда легко было на душе.
— Да, как говорится, лишь бы не хуже. А так что ж… Дочек повыдавал, у каждой… — он хотел сказать: «У каждой кусок хлеба есть», но Джемшидов перебил его.
— Дочек повыдавал, — сказал он. — В школе, детей обучает: про чертей да про ангелочков — каждый месяц зарплата. Опять же ежегодно мечеть ремонтирует, аллаху взятка. Аллах ему за это, глядишь, хи-хи-хи, годок-другой и подкинет! Хи… хи… хи…
То ли потому, что муж уж больно мерзко хихикал, то ли оттого, что опять он завел этот разговор про мечеть, в Туту ханум вдруг все закипело. Зато учитель Мурсал сохранял благодушие.
— И хлеба хватает, и сахара… — продолжал он.
Джемшидов опять криво улыбнулся, и Туту ханум поняла, что хорошего ждать нечего. Вроде впервые в жизни видела у него она эту странную усмешку.
Джемшидов поймал на себе негодующий взгляд жены, посерьезнел. Мурсал сразу же уловил это.
— Сынок, у меня, слава богу, преуспевает, — сказал он, изо всех сил стараясь вернуть благосклонное расположение Джемшидова. — Заботами нашего уважаемого профессора, глядишь, еще и продвинется.
Джемшидов подозрительно взглянул на Мурсала: издевается? Но Мурсал и издевательство — разве это совместимо? В радостно сияющих глазах учителя были только вера и бесконечная преданность. Джемшидов успокоился.
— А он тебе пишет, сын? Письма получаешь?
— Пишет, профессор, аккуратно пишет. На этих днях письмо получил. Сообщает, все, мол в порядке. Этот год, дескать, обязательно в деревню приеду. Все лето пробуду. Очень, мол, соскучился по деревне…
— Ну что ты на меня вылупилась? — вдруг набросился на жену Джемшидов. — Давно не видала?
— Вылупилась! — сквозь зубы процедила Туту ханум. — Красотой твоей никак не налюбуюсь! — Она сразу ушла, но Мурсал успел заметить, что в глазах у женщины слезы.
— Завтра же к Мураду уеду! — крикнула она из кухни.
— Пожалуйста! Никто не держит!
Какое-то время все молчали, потом учитель прошептал боязливо:
— Плохи у Мурада дела, профессор… Печень, говорят, никуда… Как камень стала. А ведь какой человек!..
— Еще бы! — сказал Джемшидов. — Так водку хлестать!.. Ничем, кроме цирроза, это не могло кончиться! — Сказал тихо, чтоб жена не услышала. И подумал: продолжить тот разговор или нет…
— Весной гости с Украины приезжали, — оживленно рассказывал Мурсал, — человек десять: школьники и учитель с ними. Больше двух тысяч километров ехали — только чтоб Мурада нашего повидать! Ну, мы, правда, приняли их честь по чести. Барана прирезали, шашлык и всякое такое… Они все в больницу к нему ходили — дня четыре оттуда не вылезали… Дом его фотографировали… В районе, говорят, вопрос поднят, чтоб бюст его установить в Бузбулаке… Оказывается, большого мужества человек… Герой… Я, сказать по совести, даже и не представлял…
Джемшидов не слушал эту долгую речь, а если и слушал, то не больно вникал. Но именно сейчас он пришел к твердому убеждению, что должен продолжить разговор о Теймуре. Рано или поздно отец все равно узнает, а скрывать такие вещи при существующих между ними отношениях недостойно.
— У сына твоего плохи дела!
Мурсал прекрасно расслышал эти слова, но смысл их дошел до него не сразу. И только, когда краска отхлынула у Мурсала с лица, профессор понял, что бедняга абсолютно не в курсе дела.
— В его диссертации оказались серьезные идейные пороки.
— И-и-дейные… — заикаясь, проговорил Мурсал. — Почему?..
— Видимо, окружение такое… Я ему это прямо сказал.
— Окружение… Как это — окружение? — бессмысленно, словно в бреду, бормотал Мурсал. Он был ни жив ни мертв.
Туту ханум, подоспевшая с чаем, взглянув на гостя, сразу поняла, в чем дело.
— Мурсал, милый! Да не берите вы близко к сердцу! Он же все раздувает! Из мухи слона делает. Такая уж мерзкая привычка.
— Не лезь не в свое дело! — сказал Джемшидов, доставая кусок сахара. Он нарочно полез в сахарницу — пусть видит, как дрожит рука — угомонится…
— А ты не болтай зря! Людям расстройство и себе давление нагоняешь!
Она покачала головой, ушла. Джемшидов поднялся и начал расхаживать по айвану. Мурсал глядел на ветви, свисающие у него над головой, и вспоминал, как Теймур сидел тут когда-то, канючил! «Я грушу хочу!»
— Профессор, — сказал он наконец. — Как же это… идейные?.. Может быть, просто…
— Может быть, я просто лгу? Это ты хочешь сказать?
— Боже упаси! — испуганно воскликнул Мурсал… — Я не о том… Да если бы я… Да отсохни у меня язык! Да я ему вот этими самыми руками башку…
— Брось, Мурсал!..
— Ей богу, профессор! Я же сам… я же его вынянчил, вырастил! И отец ему был, и учитель!.. А что это за окружение, вот вы сейчас сказали?.. Как он там оказался?
— Где?!
— Да вот — в окружении!
— Ты что, первый раз такое выражение слышишь?
— Нет, — сказал учитель Мурсал. Больше он ничего не мог сказать.
За стеной рыдала Туту ханум.
— Завтра же! Завтра же уеду! — послышался из дома ее глухой, прерываемый рыданиями голос. — С ним буду! Не оставлю я его одного, слышишь?! Не дам одному умирать!.. Мальчик ты мой! Мурадик!..
Туту ханум рыдала долго, тяжко…
Мурсал и не представлял себе, что можно так рыдать, но даже слыша эти тяжкие рыдания, не в силах был произнести слова утешения.
— Пойду сейчас, письмо напишу… Всем сестрам его и их детям… Сам письма отправлю… Заказным!..
— Не делай этого.
Мурсал-муаллим вздрогнул, удивленно взглянул на Джемшидова.
— Почта — это… — Джемшидов поморщился.
Мурсал сразу же согласился.
— Советуете самому поехать?
— Я ничего не советую. Абсолютно ничего.
— Угу… Хорошо… Тогда я… Я больше не стану вас затруднять… Я только вот что… Очень прошу, профессор, чтоб между нами… Чтоб ни единая душа… Иначе просто… Хоть ложись да помирай!
Джемшидов быстро подошел к столу, приподнял скатерть. Обернулся, вопросительно поглядел на дверь, за которой скрылась жена.
— Вот, Мурсал, — сказала та, появившись со свертком в руках. — Немножко гостинцев… Внучатам… Прошу вас, ради бога! Деньги, что мы вам должны, тоже там, внутри…
Мурсал-муаллим молча сунул сверток под мышку, медленно спустился по ступенькам, медленно дошел до калитки, но, закрыв ее, сразу подхватился, заспешил, потому что принял твердое решение — немедленно ехать в Баку; до отхода поезда оставалось еще около часа…
Абдулла Джемшидов стоял, опершись о перила, смотрел на деревню, но ничего не видел — весь был сосредоточен на том, что там, в доме: успокоилась она или опять принялась плакать… В доме было тихо, ни звука… Профессор обернулся. Жена не плакала; достав из воды катык, она ложкой накладывала его на сваренный еще с утра холодный шпинат…
И светились только ивы
Светлой памяти Василия Шукшина
Глава первая
Когда Казим, перепортив несколько бланков, в очередной раз выходил покурить, он вдруг увидел среди множества людей, среди стольких незнакомых лиц, такое знакомое, такое чистое, такое ясное лицо, будто не лицо человеческое — свет увидел. Это была она, Алмас, бывшая его преподавательница. Она ничуть не изменилась.
С утра он торчал на почтамте, слоняясь из угла в угол, а тут — прямиком к выходу. Будто бы никого не увидел. Будто это исключено. Будто встретить на почтамте Алмас — совершенно немыслимая вещь.
Ведь надо же: как нарочно! Встретить Алмас теперь!.. Встретить ее, когда еле ноги унес из Москвы. Встретить Алмас, когда в кармане одна-единственная трешка, и Асмик, у которой он снимает комнату, уже четвертый день из милости подкармливает его. Везет же тебе, Казим!.. Когда, чтоб взглянуть на Алмас, полжизни готов был отдать, не было ее — пропала, и след простыл. И вдруг, пожалуйста, — отыскалась. Словно ждала, чтобы он дошел до точки. Казим решил поскорей выбраться с почтамта — ноги почему-то не слушались. Остановился — издали посмотреть на нее, но издали смотреть на Алмас ему не пришлось — она вдруг оказалась рядом.
— Казим! — сказала она. Точно так, как говорила когда-то. Как-то особенно звучало у нее «Казим». — Ты что, не узнал меня?
— Узнал…
— А чего убегаешь? Увидел и бежать?
— Да нет… Я нарочно… Я здесь хотел подождать.
— Неправда… — она улыбнулась ласково, совсем как тогда. — Просто ты… Бежишь от меня, Казим. (Как она опять сказала «Казим»!..) Бежать, завидев преподавательницу… А ведь ты ее давно, очень давно не видел. Так почему ж ты хотел сбежать?
— Я не хотел… Не убегал я.
— А на почту чего пришел?
— Да так…
— Телеграмму послать?
— Ага, телеграмму.
— Ну так пойдем, отправим.
Алмас легонько взяла его под руку; и от прикосновения этой руки по всему его телу разлилось нежное ласковое тепло. (Как-то раз, когда он спал на своей тахте у Асмик, ему приснилось, что они идут под руку с Алмас, и он потом много дней ходил гордый и счастливый, с какой-то удивительной легкостью в душе.)
— Не надо, муаллима. Я решил не посылать.
— Почему? — Алмас высвободила свою руку.
— Я лучше потом…
— Понятно… Тогда иди, пошли сам. — У нее был уже совсем другой голос. — Я не буду тебе мешать.
Они молчали. Молчали так долго, что Казим успел еще несколько раз проклясть свою судьбу. Так долго, что он далее успел собраться с мыслями и вспомнить, что он мужчина и что вообще не все еще потеряно в жизни.
— Да глупости это насчет телеграммы… Увидел, что вы идете на почту, ну и пошел за вами…
— Чтобы взглянуть и убежать? — Алмас улыбнулась.
Она снова повеселела, заулыбалась, и Казим мысленно порадовался, что хоть вранье еще способно выручить человека.
— Само собой получилось.
— Ах ты, врунишка! — Она покачала головой. — Ведь только что говорил совсем другое.
Она замолчала, и глаза ее, с каждым мгновением становившиеся все чище и яснее, не отрываясь глядели в его глаза.
— А ты все такой же, Казим, — она вздохнула.
— И вы нисколько не изменились!
— Я? — Алмас недоверчиво покачала головой. — Сколько лет, как ты ушел из института?
— Много, муаллима. Лет десять, а то и больше. — Он точно знал: скоро одиннадцать лет, как его выгнали. — Все там же работаете, муаллима?
— Там. — Только сейчас она впервые окинула его оценивающим взглядом: «А ты чем занимаешься?» Но ничего не спросила. — В институте теперь нет таких студентов, — сказала она.
— Почему? — спросил Казим, искренне удивленный.
— Нынешние идут в институт за дипломами. Очень мало таких, кто приходит за знаниями… — Она рассеянно поглядела по сторонам. — Стоим на самом проходе. Ты спешишь?
Казим хотел ответить «спешу», да язык не повернулся.
— Не спешу, — сказал он. А сам подумал: «Что бы тебе раньше-то встретиться!.. Посадил бы в шикарную „Волгу“! В ресторан повез бы… Пришли — гардеробщику десятку! Уходим — официанту сотню. Да если бы ты только позволила, я б тебе… И без всякого, просто так, от чистого сердца!..»
— Проводи меня, Казим. Поговорим дорогой.
Как удачно, что не послал он проклятую телеграмму! Трешка последняя, а вдруг машину придется взять? Все равно этот подлец ни копейки не пришлет, хоть ты ему целый Коран отпиши в телеграмме! Денег навалом, хотел бы — в Москве бы дал. Сунул полсотни, и то спасибо скажи. А ведь, если по совести, половину той тысячи сам должен был выложить — тоже в заварушке участвовал. Это ж надо подумать: такой ресторанище, а съездил соседу в морду и, пожалуйста, — иностранец! Настоящий! Мало того, что иностранец, еще и подлюга! Или плати ему тысячу за оскорбление или в милицию!.. Вообще-то хорошо, что Теймур с ним оказался. Если б он не уладил с «капиталистом», сидел бы Казим как миленький. Полтора, не полтора, а год — это верняк. Ладно, не посадили, а остальное уж как-нибудь…
Впервые Казим по-настоящему радовался, что не угодил в тюрьму. С каждой минутой настроение у него становилось, все лучше, и он во всем находил основания для хорошего настроения: ну, например, костюм на нем новый (как удачно, что за несколько дней до заварухи у него хватило ума купить костюм!) И Асмик — золотой человек. Терпит, знает, за ним не пропадет. Не убогий какой-нибудь, было время — пачками деньги складывал. И опять так будет. Если в арыке хоть раз вода текла — хоть через тыщу лет да прибудет — так деды говаривали, а они все знают, наши деды…
С проспекта Кирова они вышли к морю. Весна только-только начиналась. Погода стояла пасмурная, воздух серый, но было тихо и безветрено. Пахло чистой водой с легкой примесью соли.
Четыре года назад, в поезде «Баку — Тбилиси» ему как-то приснилось странное бузбулакское утро. Собственно, бузбулакским был там лишь свет, а дома, улицы, деревья и похожи и не похожи были на бузбулакские. Дело в том, что много лет именно этот свет, родной, как материнское молоко, и, как материнское молоко, незримо пребывающий в тебе, озарял самые нарядные дома, самые красивые улицы, самые зеленые деревья бесчисленных деревень, мимо которых он проезжал, над которыми пролетал в самолете — все они были освещены чистым прозрачным небом Бузбулака. И вот в его сне все залито было этим светом; воздух, камни, деревья, цветы — от всего исходил его запах. С огромным мешком Казим ходит от дома к дому: мешок доверху полон древесным углем, но Казим не чувствует тяжести, напротив: из мешка словно просачивается в его тело какой-то удивительный свет… Уголь Казим принес бузбулакцам, и он останавливается перед каждой калиткой и кричит: «Тетя Сусен, я уголь принес — смотрите!.. Уголь берите, тетя Фатьма!.. Ставьте самовар, люди, самовар ставьте!.. Эти чайники погубили нас…».
Всякий раз, вспоминая свой сон, Казим больше всего дивился последним словам — только во сне может прийти на ум такое: «Чайники погубили нас». Но странное дело — хотя слова эти и возникли во сне, все последние годы, вспоминая их, Казим испытывал облегчение, словно от мешка с углем, который он таскал за спиной, навсегда осталась в нем, в теле его и в душе, какая-то светлая легкость! И вот теперь, когда, умиротворенный и легкий, как во сне, Казим шел с Алмас вдоль берега моря, он наконец разгадал тот сон. Он понял: сон, привидевшийся ему в поезде «Баку — Тбилиси», предвещал сегодняшний день, его встречу с Алмас, и вот, четыре года спустя, сон этот наконец сбылся…
— Говоришь, я совсем не изменилась?
— Ну… Может, самую малость. Вы такая же, честное слово!
Алмас грустно покачала головой.
— Когда ты ушел из института, мне было двадцать пять. Вот и посчитай. Даже сказать страшно, сколько мне лет.
— Вам сейчас тридцать шесть! — без запинки выдал Казим. Чего-чего, а считать он научился. — Только все равно вы такая же!
— Ладно, Казим, ладно… — она зябко передернула плечами и взяла его под руку. — Сыро как-то…
— Да… Мне тоже холодновато.
На бульваре было холодно, тихо и безлюдно. Электронные часы, высоко поднятые на ажурной металлической опоре, показывали десять минут шестого. Но день был непогожий, и уже смеркалось, кое-где даже свет горел, и сетки тумана, окружающие горящие фонари, напомнили Казиму сорочьи гнезда в Бузбулаке. Море было темное, черное, и не различить, где кончается асфальт и начинается вода. Деревья еще и не помышляли о весне. Только ивы светили сквозной, пушистой желтизной. Казим шел рука об руку с Алмас в тишине и покое вечера, и сердце его нежилось в золотистом сиянии ив.
— Казим! Я до сих пор не пойму, почему ты ушел из института? Неужели из-за того, что лишили общежития?
— Нет… Просто не судьба мне институт. На лбу написано не было. Потому и из общежития выгнали.
— А почему ты не сказал мне, что из общежития выгнали?
Казим не мог оторвать глаз от ив; весны еще не было и в помине, а они, так исступленно ждавшие ее, уже чувствовали весну, уже перешептывались с ней…
— Говори, не говори — все равно выгнали бы, — сказал Казим, по-прежнему глядя на ивы.
— Это почему же?! — Алмас, казалось, была задета.
— Да потому что выгнали не за то, что выгнали, У некоторых ребят родственники по неделям гостили. А ко мне один-единственный раз брат приехал. Не за это меня выгнали, муаллима.
— Так за что же?
— А ни за что. Не хочу я вам все это рассказывать. Не судьба, и все. Да ведь я, если по правде, и не собирался в институт. Это все он, Джалил, брат двоюродный. Он за меня и документы собрал, и отправил. Пристал, как с ножом к горлу: учись, и все! А я и думать не думал. Работал себе в колхозе, три года уже как школу кончил — и в голову не приходило, что экзамен выдержу! И как назло — одну четверку получил. По всем остальным — пятерки.
Алмас улыбнулась, и кажется, даже не ему, а тогдашним его пятеркам.
— Но за что ж все-таки тебя выгнали из общежития? — с ласковой настойчивостью спросила она. — Не отстану, пока на скажешь!
— Ну, просто влип! — с досадой бросил Казим.
— Значит, ты действительно кого-то привел? Значит… — голос у нее дрогнул, она замолчала, и Казим понял, что придется объяснять.
— Никого я не приводил! Это другой приводил — Гасан-муаллим! Вы его знаете, он тогда отвечал за воспитательную работу в общежитии. У нас была комната на двоих…
— С Гасаном? — Алмас удивленно уставилась на него.
— Да не с Гасаном! С парнем с пятого курса. И вот этот Гасан-муаллим как-то раз подходит ко мне в коридоре, зовет в сторонку… Дай, говорит, ключ от комнаты. С соседом твоим я согласовал, он в курсе… Взял у меня ключ, достает из кармана рубль, сходи, говорит, после занятий в кино. Ну, чтоб пришел попозже… — Казиму вдруг стало так мерзко, так противно, что он даже отошел от Алмас. — Он мне прямо сказал: я в вашу комнату девушку приведу. Вот и все. Ясно?
Некоторое время они молчали, пока Казим не сообразил, что ничего ей не ясно и все равно придется объяснять.
— Отдал я ему ключ, а он начал туда студенток водить… Ну вот, я один раз запер дверь и измордовал его по высшему разряду. Хорошо, не убил… Мог убить…
Алмас молча потянула его к скамейке.
— Нет, холодная, — сказала она, потрогав перекладины. И вдруг резко выпрямилась: — Почему ты мне ничего не сказал тогда? Почему?
— Как же я мог?! Такая грязь, такая мерзость!.. Мне легче было сто раз сдохнуть!
Алмас щекой прижалась к его плечу.
— Хороший ты мой, — сказала она, чуть не плача. — Значит, не зря… не зря…
Только теперь Казим начал понимать. Господи, боже мой! Значит, все время, что он жил в том проклятом общежитии (да еще столько лет потом!..), когда Алмас чуть не каждую ночь являлась ему во сне, он был для нее не просто одним из студентов.
И опять они молча шли вдоль берега. Было тихо. И в море, и в небе… И так хорош был этот тихий вечер, пасмурный и чистый, пахнущий водой и немножко — солью…
— А где ты живешь? — чуть слышно спросила Алмас, словно боясь вспугнуть тишину. Она смотрела не на него — на море.
— У Асмик, — ответил Казим, но сообразил, что сказал не то, и добавил быстро: — Снимаю комнату. — И сразу ударил в нос тошнотворный запах крахмала от белья, которым когда-то, давно, Асмик впервые застелила тахту. Когда Асмик ушла от него, он чуть не разрыдался от сознания собственной мерзости, от отвращения к себе.
— А вы где живете, муаллима?
Алмас ответила не сразу. Опершись о перила, она пристально вглядывалась в воду. Словно хотела увидеть что-то невидимое. Наконец она вскинула голову, взглянула на него…
— Я?.. Я тут рядом живу. Пойдем ко мне.
…О господи! Чего только не случается с человеком! Такая женщина привела его к себе! Его, бродягу Казима!.. Поглядел бы сейчас на него Теймур! Сидит в своем трехрублевом чертоге в гостинице «Пекин» и думает, что он родной брат американского президента! Ладно, пусть, Теймуру он по гроб жизни обязан. Если б не он, ему от того проклятого капиталиста не то что тысячью — десятью тысячами не откупиться.
Сейчас она «поставит чайник» и войдет. И к черту все остальное. Привязался этот «капиталист» в самый лучший день его жизни!.. Прикатил, понимаешь, неизвестно откуда, расселся в московском ресторане, как у себя дома — ни дать, ни взять — племянник пророка Магомета. Курить в ресторане не разрешается, а ему — пожалуйста. Что ж, каждому свое: у тебя так, у меня — по-другому. Земли дедовой у меня нет, в торговле лопух оказался. Вот и вышло: ты чуть ли не падишах, а я так, пришей кобыле хвост… Но двинул я тебе нормально, нос выправил. За такое удовольствие не то что тысячу — миллион не жалко отдать…
— Ну, как дела? — Алмас уже стояла перед ним, держа в руках два стакана с чаем.
— А где ваш отец? — спросил Казим, вспомнив, что она, кажется, жила с отцом.
— Он… умер… — с трудом выговорила Алмас. — Недавно… — Губы у нее дрогнули, но Алмас не заплакала, улыбнулась грустно, и ее заблестевшие от слез глаза стали еще красивее. — А как твоя мама? Бываешь у нее?
Надо же — помнит! И говорили-то всего раз! Шли от института до книжного магазина, что у музея Низами. Толковали о том о сем, и он обронил, что мать у него живет в деревне, отца нет — умер от старой раны, когда он был еще маленький.
— Нет, муаллима, мать умерла. Тут у нас с вами общая беда.
Сказал вроде бы легко, но тут же насупился, замкнулся. Это было его самое больное место — о смерти матери Казим узнал спустя два месяца. Джалила винить нельзя, где он мог его отыскать: сегодня тут, завтра там… На деньги-то он никогда не скупился: случались какие, сразу матери посылал. Да только что деньги? На кладбище мать внесли чужие люди! Стоило Казиму подумать об этом, его наяву начинали мучить кошмары. И сейчас накатило сразу…
На столе появились конфеты, коньяк, закуски… Казим сразу отвел глаза. То ли коньяк смущал, то ли боялся показать, что голоден — с утра во рту не было ни крошки.
— Ты уж прости, Казим, горячего нет. Сегодня ничего не готовила, давай поближе к столу! — Она поставила перед ним коньяк. — Открыть сумеешь? — И сама улыбнулась своему вопросу.
Держа бутылку в руках, Казим пристально смотрел ей в глаза. Словно в этих глазах были заключены все тайны мира, и он прежде, чем откупорить бутылку, должен был разгадать хотя бы одну из них.
Он откупорил бутылку. Поровну налил в рюмки себе и ей.
Алмас пристально смотрела на коньяк в своей рюмке, смотрела так же, как два часа назад смотрела на море.
— Я вижу, вам не хочется, муаллима. Не пейте.
Алмас взяла его рюмку и перелила в нее почти весь свой коньяк. Она держала рюмку обеими руками, пальцами поглаживая ее, а ее глаза говорили страшное, немыслимое: она была сейчас удивительно похожа на весеннюю иву, опушенную золотистым светом надежды.
— За твое здоровье, Казим! За нашу встречу!
Странный какой коньяк: вместо того, чтобы пьянеть, трезвее делаешься.
— Муаллима! Почему вы не замужем?
— Не знаю. Видимо, никто не соблазнился…
— Ерунда!
Она пожала плечами и как-то жалко улыбнулась.
— Тебя ждала…
Казим вскочил.
— Не верю! — крикнул он. — Не может быть!
Как он был зол!.. На нее, на себя, на то, что в этом мире, в котором и так ни черта не разберешь, оказалась еще и эта чертовщина.
— Кто я такой, чтобы из-за меня замуж не идти?! Мало на свете бродяг? Сегодня я тут, а завтра? На каком базаре? В какой тюрьме?! В какой преисподней? Я же сволочь последняя — мать родную на кладбище не отнес!.. — Казим умолк, снова перед глазами у него замаячил этот страшный материнский гроб. — Нет, муаллима, не верю, И никогда не поверю! — Он сел.
Алмас не ответила.
— Пойду чаю еще принесу, — сказала она и потянулась за стаканами.
— Не надо. Ничего не надо. Посидите со мной.
— Хорошо, — Алмас улыбнулась. — Никуда не пойду. — Она помолчала, рассеянно оглядела комнату. — Странно как-то все получилось, правда?..
— Ничего, муаллима, все будет нормально. Я ведь никого, кроме вас, не любил. В детстве только одну девочку. Больная была. Умерла перед самыми майскими праздниками. — Казим улыбнулся… — Невезучий я, муаллима.
Алмас встала, подошла к нему… Прижалась всем телом и, испугавшись своей смелости, сразу резко отпрянула. Повернулась к телевизору, нажала кнопку…
На экране появилось толстое мужское лицо, потом оно отодвинулось вглубь, стало маленьким. Казим встал, подошел к окну: во дворе тоже стояли ивы, и верхушка одной из них ослепительно сияла, золотясь в свете уличного фонаря. Казалось, всю зиму ивы дремали, во сне впитывая солнце, и теперь, проснувшись, полные света, радостные, буйным цветеньем своим спешат поведать о зимних чудесных снах. Какой удивительный цвет: не желтый и не оранжевый — золотистый, да и не цвет это — воплощенная радость, радость встречи с весной.
Почему-то вдруг вспомнилась Саида. Глаза ее глянули на него из весеннего дня, полного апрельского солнца, яркой-преяркой зелени и золотистой свежести ив. У девочки был рак крови. Мать возила ее в город к врачам, сказали, умрет. Вся школа знала, что Саида скоро умрет, и она понимала, что умрет, да только можно ли в тринадцать лет осмыслить такое?
…Они сидели тогда у арыка, в густых кустах, на краю из садика. Была прекрасная пора весны — канун Первомая, ей, бедной, не суждено было дожить до него.
— Хорошо как, Казим, а… И никого кругом… Никто нас не видит… — Она взглянула на него, господи, как она на неге взглянула!.. Двумя руками взяла его руку, поцеловала… Еще раз, еще… Потом стиснула ее своими коленками и навзничь опрокинулась в траву.
У него сразу пересохло во рту.
— Казим! — тихонько позвала она. — Что ж ты, Казим?
— Что?.. — трясущимися губами выговорил он. — Что?
Его бросило в жар, потом затрясло от ужаса. Потом послышался голос ее матери, и он, бросив лежащую в траве Саиду, мигом вскарабкался на дерево и спрыгнул по ту сторону ограды… И сейчас, когда он вспоминает все это, у него перехватывает горло…
Казим подошел к Алмас, крепко обнял ее, взял на руки и бережно отнес на диван.
— Слушай, муаллима! Ты будешь моей женой!
— Да — прошептала Алмас, — да… — И прижала к груди его голову. Слезы текли по ее лицу, она дрожала…
— Не дрожи. Не дрожи, моя хорошая. Не трону я тебя. Не хочу — просто так. Хочу по-людски, по-человечески. Свадьбу хочу!.. Настоящую!
Он поднялся с дивана и начал ходить по комнате. Алмас сидела в углу дивана, закрыв глаза, обхватив руками колени.
Казим откинул гардину — хотелось увидеть море. Но моря не было — фонари на набережной погасли. Где-то далеко-далеко, сквозь плотную темноту помигивал маяк, ближе в невидимом море светился неясный огонек — корабль на якоре.
Он задернул гардины.
— Асмик красивая? — вдруг спросила Алмас.
— Асмик? — удивился Казим. И вспомнил, что сам назвал это имя. Ну да, когда она спросила, где живет… — Асмик — пожилая женщина. Я снимаю у нее комнату. — Он подумал, сколько же ей в самом деле. И снова ощутил сырой запах того белья, тошнотворную вонь крахмала.
— Казим! — Алмас не смотрела на него, смотрела вверх, на потолок. — Я буду у тебя первая? Хорошо?
— Конечно, первая! — сказал он. И добавил: — Все, что было раньше, не в счет.
— А что было раньше?
— Много всякого было. Много! — Он почти кричал.
— Кому ты хотел послать телеграмму?
— Теймуру. Из нашей деревни. В Москве, на рынке торгует. — Казим чувствовал, что начинает закипать. — Хороший мужик. Когда выгнали из общежития, я целый месяц жил у него, кормил он меня бесплатно.
— Почему? Просто я уже бросил институт. Ездил в район, закупал фрукты, Теймур продавал их на базаре. Так и жили. В Тбилиси часто бывали. Я потом почти пять лет в Тбилиси прожил. Этой осенью в Москве были с Теймуром. Потом вышла одна история. Пришлось уехать…
Алмас не спросила, что за история. И хорошо, что не спросила, потому что он ничего не смог бы ей объяснить толком. Потому что сразу начинал психовать. Психовал потому, что когда рассказываешь, — вроде, все правда, слова все правильные, и все равно абсолютная неправда, потому что не так оно было, не могло быть так. Правда, настоящая правда, она в том, что есть на свете высокие горы, и у подножья одной из них лежит маленькая деревушка, и в этой маленькой деревушке родился когда-то Казим. И что жил на свете почтенный человек по имени Кебле Казим, было у него большое хозяйство: земля, скот, сады, и правда заключается в том, что Казим — внук этого человека. Правда и то, что Казим уже не мог бы стать таким, как дед, никогда не мог бы так ходить по земле, но правда и то, что Казим тоже человек, тоже есть руки-ноги и, окончив школу, он работал себе в колхозе, и ел кусок хлеба, заработанный честным трудом… Истинная правда — это коса, росистая трава, река, источник… Саида — это правда. И зеленый-презеленый тринадцатилетний мир — тоже правда. И она — Алмас, до сих пор не вышедшая замуж, потому что никто, кроме Казима, не нужен ей — тоже истинная правда.
— А я подруге послала телеграмму, — сказала Алмас. — Чтоб летом сняла мне комнату под Таллином. Я всегда туда езжу. Ты бывал в Эстонии, Казим?
— Бывал, — сказал Казим. — Я везде был.
Бывал он везде, только не мог вспомнить ни домов, ни улиц, ни лугов, ни деревьев. Вокзалы, аэропорты, гостиницы… И всюду одно: дороги, чтобы измотать человека, гостиницы, чтоб слышать: «мест нет», кассы — «билетов нет», дома, задевающие небо, чтобы кричать: «бога нет»… И женщины, чтоб переспать одну ночь.
Казим мысленно попытался сесть в поезд, проехать по тем местам. Но поезд не захотел туда. Не спрашивая Казима, он взял и изменил направление. Так у него всегда случалось в поездах. Стоило Казиму положить голову на подушку, поезд сразу менял направление. В самолете, летя над горами, он всегда глядел в иллюминатор, выискивая маленькую деревушку в ущелье. Он перевидел тысячи снов и в самолетах, и в поездах; земля, воздух, вода, деревья в этих снах всегда были те, из той деревни. Сколько лет он все уезжал и уезжал, а ведь не было у него цели — уехать, цель у него была — вернуться. Но как это трудно: вернуться!.. «Скоплю две тыщи, и вернусь». И вот две тысячи есть, а человек не возвращается. «Ничего, — говорит он себе, — скоплю три тысячи и вернусь. Тыщу — на свадьбу, тыщу — дом отремонтировать». Остается тысяча — какие это деньги? И человек не возвращается. И пять тысяч есть, не возвращается, потому что, когда у человека есть пять тысяч, ему позарез необходимы восемь: решил жениться, разве плохо машину купить?.. И опять он не возвращается. Не возвращается и не возвращается, пока не останется в кармане вошь на аркане… А раз так, какого черта все эти годы он мотался по белу свету: с поезда на поезд, с самолета на самолет? И тогда человек ставит перед собой поллитра и начинает думать. И вот однажды, когда он, сидя за бутылкой водки, обнаруживает вдруг, что и домой не вернулся, и в кармане вошь на аркане, тогда он хватает и шайтана, и водку, и всю вселенную со всеми ее шайтанами и водками, сваливает все в одну кучу и все вместе посылает к такой-то матери. Потом точно таким же образом обкладывает матом весь свой род до седьмого колена, причем, начав с седьмого колена, постепенно доходит до самого себя. И, дойдя до самого себя, останавливается на том, что если уж теперь попадет в руки ему тыща рублей на свадьбу, и он тотчас не вернется в деревню — значит, все семь поколений его предков только того и стоят, чтоб крыть их матом. И он начинает все сначала и всеми правдами и неправдами заполучает наконец тысячу. Он готов, он может вернуться. Вернуться необходимо, хотя бы для того, чтобы снять с семи поколений предков бесчестье покрывшей их матерщины. Но прежде чем вернуться, нужно отметить событие. И отметить не как-нибудь, а в хорошем ресторане, с хорошей едой, выпивкой… Но как только перед ним возникает бутылка водки, тотчас возникает вопрос: какие же это деньги — тысяча? Кроме свадьбы, ведь и подарки нужны: отрезы, кольцо, часы… От таких мыслей глаза у него лезут на лоб, и он этими вылезшими на лоб глазами начинает таращиться по сторонам, и, конечно, ему сразу лезут в глаза вещи, не имеющие к нему ни малейшего отношения. Он, например, обнаруживает вдруг, что сидит не за лучшим столиком. И что перед вон тем, что сидит за хорошим столиком, и водка стоит получше, и одет он позаграничнее. А главное, настроение у него что-то больно хорошее, чересчур уж хорошее настроение. И что ж происходит? А то происходит, что кровь вдруг бросается человеку в голову. Пропади все пропадом: и деревня эта, и свадьба!.. И, послав к такой-то матери все семь поколений своих предков, человек вскакивает: «Я хачу с тобой гаварить!» — «Я русский непонимай», — «Как так непонимай, сукин ты сын, капиталист? Какого черта тогда приперся?» Если бы Казим был поумней, на этом их разговор и закончился бы, потому что видел он, ясно видел, что парень и правда иностранец, и не из тех продажных, что по-собачьи гавкать готовы, лишь бы за иностранца сойти. Может, из-за этих-то сук и поплатился парень. Но когда Казим хряснул «капиталиста» по скуле, ему до смерти стало жаль парня: глаза большие-большие, и слезы, как у пятилетнего малыша.
Казим молчал, стоя у окна. Как никогда мучила его сейчас проклятая тысяча: будь деньги в руках, ему бы и горя мало, Первым делом — кольцо. Завтра же утром купил бы ей кольцо — дорогое, рублей за триста, и сам надел бы на палец. Свадьба не свадьба, а вечеринку устроить надо. Хоть поначалу поставить себя мужчиной в доме, а там уж как бог даст… А у него трешка…
— Я написала, чтоб она сняла подальше от города, где-нибудь в лесу, у речки. Чтоб тихо-тихо, и только мы с тобой… Не будешь со мной скучать, Казим?
— Чего скучать? — сказал Казим. — Я свое отскучал. — Он хотел представить себе этот лес и речку в Эстонии, но перед глазами тотчас возникла горная речка, скалистые берега и пушистые золотисто-желтые ивы…
— Ну вот что, — сказал Казим и присел на диван рядом с Алмас. — Ты сейчас ляжешь спать, а мне надо идти.
— Куда? — испугалась Алмас. — Разве тебе здесь плохо?
— Мне надо в деревню. Туда и обратно. Завтра вечером буду здесь.
— Ну зачем?
— Деньги взять, — объяснил Казим. И улыбнулся виновато. Он и врал и не врал. Денег у него в деревне не было. Но был дом. Отцовский дом. И его можно было продать.
Алмас поближе подвинулась к нему, совсем-совсем близко.
— Ну зачем тебе деньги? — Она смотрела на него, ничего не понимающая, беспомощная…
— Свадьбу устроим, муаллима!
— Ой, Казим! Ну какая свадьба?! Поздно нам с тобой свадьбу справлять. — Из глаз ее покатились слезы.
— Не плачь… Ничего нам не поздно. Все только начинается!
В поезде Казим сразу заснул. Уснул и очутился в лифте. Лифт опускался, скользя меж стен какой-то знакомой гостиницы. Чтоб остановить его и выйти, надо было нажать кнопку, но Казим не мог нажать на эту кнопку, потому что глаза у него были закрыты и на веках будто висели пудовые камни. Казим изо всей силы толкнул плечом дверь. Дверь распахнулась, он вывалился из лифта, упал и очутился у Теймура в трехрублевом номере «Пекина». Теймур сидел в глубине комнаты на маленьком чемодане и молча смотрел на него. В комната было темно, но глаза у Теймура так сверкали, что можно было узнать и номер, и самого Теймура, и чемоданчик под ним. «Ты? — спросил Теймур, взглянув на Казима своими мерцающими глазами. — Чего больно быстро?» Казим упал возле самой двери, он попытался встать, подойти к Теймуру, но сил не было. «Я за деньгами», — сказал он. «Сколько же тебе надо?» — «Три тысячи. Я женюсь». — «Вот это хорошо! — сказал Теймур и поднялся. — Знаешь, сколько тут денег? — он показал на чемоданчик. — Много, очень много. Половина твоя, но ты расскажи, что про нашу деревню слышал, как она там, на месте?» — «Про деревню ничего не знаю». — «А про это ты знаешь?» — шепнул Теймур, кивнув на дверь. В коридоре за дверью вроде и правда кто-то был… Теймур на цыпочках подкрался к окну, выглянул… «Их там до черта! — Он кивнул на дверь. — Одно спасенье — окно!» — Он потянул за шнурок, раздергивая шторы. Но шнурок был уже не шнурок, а толстая веревка. Она тянулась, делаясь все длинней, длинней… Наконец Теймур вытянул ее всю, в темноте прицепил за что-то и сунул конец Казиму: — «Давай быстрее! Первый пойдешь!» Каким-то образом Казим оказался на подоконнике; он стоял, крепко сжимая в руках веревку, потом веревка исчезла, и Казим оказался в пустоте. Сейчас он рухнет вниз!.. На асфальт!.. Сейчас, сейчас!.. Но он не падает на асфальт, он плавно и медленно опускается во что-то мягкое, зеленое, пахнущее травой, молоком, солнцем… И видит, что он у себя, в Бузбулаке.
Утро, еще совсем рано. То рассветное время, когда мир еще не зеленый, а желтый; желтизна чистоты и прозрачности, чуть-чуть отдающая в оранжевый цвет; солнце полило своим соком горы, траву, камни — и все вокруг насквозь пропитано солнцем…
Казим стоит над рекой у дороги, заросшей по обочинам ивами и кустарником, — дорога эта со станции в деревню. Сквозь густую листву на взгорке видны деревенские дома, а внизу за станцией стоит черный-пречерный поезд. Должен он подняться в деревню или со всех ног бежать вниз, к поезду, Казим не знает, потому что не знает толком, когда и зачем попал сюда в Бузбулак.
Потом ему становится известно, что приехал он за деньгами, и поезд, стоящий у станции, привез его сюда, и, узнав это, Казим бегом припускает в деревню.
Бежал он как-то странно. То все вокруг было легкое, нежное, воздух полон надежд, света, и Казим тоже был легкий, воздушный, как пушинка — вот-вот птицей, взмоет в небо… То вдруг свет исчезал, меркнул, и, сразу отяжелев, Казим едва передвигал ноги, не понимая, почему дорога от станции к дому, привычная старая дорога, вдруг проходит средь скал и камней, никогда не виданных им; откуда эти огромные деревья, что, сомкнув свои кроны, закрыли небо и солнце? Ужас охватывает Казима, и он спешит, торопится, пытаясь поскорей выбраться из скал, спастись от черной тени чудовищных деревьев, выбраться на простор чистого, пахнущего солнцем мира; ему жутко от мысли, что он, может, никогда больше не увидит ни неба, ни солнца, что, погрязши во тьме, он никогда не доберется до той деревни — последнего его прибежища — и никогда не найдет своих денег.
Потом Казим оказывается у деревни, стоит и не решается идти дальше — боится навсегда расстаться с надеждой найти свои деньги. Он стоит, а стены, заборы, калитки, камни — самые родные на свете — огромными от удивления глазами грустно глядят на него. Только что начало светать, пустые улицы дремлют, и знакомый запах предутренней дремы издали доносится до Казима. И еще запах свежего навоза, оставленного вчера на дороге стадом. Земля просыпается, а вместе с ней просыпаются запахи…
И вот в рассветных сумерках Казим идет по деревенской улице, один за другим минуя дома. Дома те же, прежние. Казим начинает искать среди этих домов свой дом, но еще не отыскав его, совсем в другом месте, возле другого дома, находит и ясное небо, и яркое солнце: это дом Саиды, до блеска промытые оконные стекла, как воду, пьют розовый солнечный свет. Розовый свет всюду, он лежит и на стенах дома, и выше, на кронах деревьев, и внизу, у арыка — на мяте, траве, фиалках… А там дальше сияют золотистые ивы. За ивами — его дом. Но господи — откуда эти ворота?! Огромные железные ворота, выкрашенные в розовый цвет? Чуть подальше от них розовая машина. Тропка в десять шагов, пролегавшая от ворот до айвана, стала длинной-предлинной — не тропка, аллея, обсаженная цветами, а человек, идущий по ней, удивительно похож на Гасана, того самого, что выжил его из института.
Казим во сне понимает, что Джалил, двоюродный брат, продал его дом. Продал Гасан-муаллиму. Такого ужаса не вынести и во сне, Казим вздрагивает и просыпается.
Глава вторая
…Ты каменная, но ты много знаешь, гора: высунулась из-за других вершин и пристально следишь за станцией — глядишь на поезда, на приехавших людей, глядишь — ночью зловещая, страшная, утром — ясная, чистая. Зимой глядишь из-под белых снегов, весной — из солнечной желтизны… Так и гляди, гора, всегда гляди, не меняйся, пусть все на свете изменится, лишь бы ты не менялась… И я вроде не изменился. Вот он я. Опять приехал. Здравствуй, моя гора!..
Если смотреть со станции, изо всех Бузбулакских гор торчит только эта вершина, и, выходя из поезда, Казим всякий раз здоровался с ее кривой макушкой.
Весной здесь еще не пахло — зима. И выдалась она сухая, бесснежная. Ближние горы, похоже, и не покрывались снегом: стояли голые, отсыревшие, и вид у них был совсем не приветливый, строгий.
Казим поискал глазами: не приехал ли вместе с ним кто из бузбулакцев? Вроде нет. Отыскивать попутную среди стоявших на станцией машин у Казима не хватило терпения — дорога, белевшая впереди, настойчиво звала его. Наверное, потому что давно не ходил он по здешней дороге. А кроме того, — кто знает — может быть, перед тем, как продать деревенский дом, Казиму хотелось попрощаться с этой дорогой, самой древней из всех дорог, соединявших Бузбулак с остальным миром.
Шоссе проложили вскоре после войны. Казим только что пошел в школу. Шоссе построили, но бузбулакцы долго еще не забывали «дедовскую» дорогу. С тех пор как Казим помнит себя, он всегда видел, что люди ходят этой дорогой, той самой, которой деды и прадеды их хаживали когда-то в Мекку, в Мешхед, в Кербелу… Дорога эта снилась бузбулакским детишкам, потому что те, кто ходил по этой дороге, приносили в Бузбулак не только чай, сахар, ситцы и благоволение всевышнего, но в бессчетное множество сказок… Телефонные столбы, что выстроились до самого правления, вкопаны по обочинам той дороги. И провода, что вели к громкоговорителю, с утра до ночи говорившему что-то на столбе у конторы, тоже тянутся вдоль этой дороги. И когда лет пять назад стали проводить электричество, столбы опять почему-то вкопали не вдоль шоссе, а вдоль дедовской старой дороги. Лишь познав прелесть езды на машине, бузбулакцы начали постепенно отвыкать, отступаться от нее, и только девяностолетний Мирза-киши до самой смерти своей верен был старой дороге. Старший сын его был в районе врачом, и считалось, что старик ежедневно проделывает этот путь, чтоб в доме сына поесть мясного. Может, это и так, может, нет — кто знает. Может быть, старый Мирза-киши ходил в район старым путем потому, что лишь благодаря ему дорога, по которой столько лет, кроме ситца, сахара и благоволения всевышнего, привозили в Бузбулак великое множество сказов не стерлась с лица земли…
Казим не помнил, когда последний раз шел он этой дорогой, Дороги, собственно, уже не было. Кое-где ее вовсе забило травой и чертополохом. Но, видно, не может за какие-нибудь тридцать лет пропасть под чертополохом дорога, которую протаптывали столетиями. Кроме того, заметно было, что нога человеческая нет-нет да и ступит сюда, на дорогу дедов и прадедов: рядом со старой тропой проглядывали новые тропки.
Казим шел не спеша, что-то напевал себе под нос. Он нарочно шел не спеша. Может, он не спешил потому, что было еще рано, очень рано. Скорей всего, и чайхана еще закрыта (Казим намеревался в чайхане найти покупателя, чтобы тайком от Джалила продать дом и смыться. Потому что, если Джалил узнает такое дело, продать дом будет нелегко). А может, Казим не спешил потому, что, даже не будь Джалила, продать дом, доставшийся тебе от отца — очень нелегкое дело. А может, Казиму, прежде чем продать свой дом, хотелось не торопясь проститься со старой дорогой…
Когда-то обочины дороги сплошь обрастали ежевикой, и летом ребятишки с утра до вечера паслись тут. Потом — Казим помнил это — председатель колхоза Семендар выжег кусты ежевики, и вдоль дороги посадили тутовник — кормить шелковичных червей. Но саженцы не принялись, а ежевика проросла от корней, дала свежие побеги, и через год-другой снова заполонила обочины; сейчас вдоль дороги ее было полным-полно.
Раньше дорога была сплошь затенена ореховыми деревьями. Часть их сохранилась и теперь, и Казим с трудом сдерживался, чтоб не наклониться и не подобрать хворост; когда-то он вместе с покойной бабушкой собирал на дороге сухие ветки ореха, и бабушка Сона радовалась каждой хворостинке, потому что хворост этот — лучшие дрова для самовара — время, когда у бабушки Соны стояли полные мешки с углем, давно уже миновало. Потому что, хотя в Бузбулаке и пошла мода на чайники, бабушка чайников не признавала и, вопреки моде, два раза в день обязательно ставила самовар…
По вечерам с гор, что высились над дорогой, сюда, на пшеничное поле, слетались стаи куропаток. И рассказывая, что когда-то здесь, на месте пашни, был сад, а теперь все изменилось, бабушка Сона сердилась на тех, кто завел моду пить из чайников, словно они были виновны в том, что сады заменили пашнями.
Казим не заметил, как дошел, будто сама дорога несла его. И лишь когда кончились холмы и кустарники, и Казим увидел дома Бузбулака, он наконец сообразил, где находится. Бузбулак стоял на своем месте, стоял так крепко и надежно, что казалось, весь остальной мир — выдумка, ерунда, что-то нестоящее, несерьезное. И было страшно, что этот Бузбулак, в котором самый высокий дом — два этажа, а самая широкая улица — пять шагов, и на Казима-то смотрел сейчас как на что-то несерьезное, нестоящее. Это был совсем не тот Бузбулак, что виделся Казиму из города. Он был гораздо крепче, основательней. В этом Бузбулаке землю лопатой копнуть — сила нужна; почему же, когда глядишь из города, земля эта кажется такой мягкой?..
Со станции видна только вершина горы, сейчас она стояла перед ним вся, целиком. Смотришь на эту гору, и кажется, что кто-то взял самую страшную скалу, чуть обтесал ее и взгромоздил наверх; издали скала казалась круглой, гладкой, зато вблизи виден был диковинный серый зверь, лежавший со своим зверенышем. И насколько ласковой казалась скала издалека, настолько суровой и мрачной выглядела она вблизи. Старики говорили, что скала напирает на деревню, год от года надвигаясь на нее, и когда-нибудь рухнет на Бузбулак. Старики говорили так не потому, что гора грузнела и тяжелела, случалось, в Бузбулаке на годы забывали о том, что она может рухнуть. Разговоры эти начинались в тех случаях, когда какую-нибудь из бузбулакских невест наутро после свадьбы с позором возвращали в отцовский дом, или случалось другое непотребство: кто-то поджег соседское сено, другой отравил соседскую собаку, третий, напившись, средь бела дня приставал к девушкам и молодухам, четвертый, поправ честь и веру, забрался в чужой дом и унес вещи… Короче говоря, разговор о том, что ехала вот-вот стронется с места, был разговор старый, но скала, как и старый Бузбулак, стоит себе, как стояла.
Бузбулакское стадо было еще внизу, медленно, не спеша поднималось оно по склону. На улицах ни души, но кое-где над домами уже вился дымок. Земля еще не вскопана, не засеяна, до весны тут еще далеко.
Казим издали увидел чайхану; ее еще не открывали. Чуть поодаль, возле дверей лавки сидел какой-то человек, кажется, Артист Меджид, директор бузбулакского клуба. В Бузбулаке его еще называли Черный Меджид, называли Длинный Меджид. Но «Пьяница Меджид» его не называл никто, хотя с тех пор, как после войны, пьяным приехав в Бузбулак, человек этот дня не пропустил, чтоб не выпить. Может, это случилось потому, что в Бузбулаке уже имелся человек по прозвищу «Пьянь» (бузбулакцы не допускали, чтобы у двоих были одинаковые прозвища), может, потому, что под словом «пьяница» бузбулакцы понимают такого человека, который, выпив, безобразит, болтает чего не надо, и вершит всякие бесчинства. Возможно также, что у жителей Бузбулака просто не поворачивался язык назвать пьяницей такого культурного, вежливого человека.
Убедившись, что сидевший у лавки человек и впрямь Артист Меджид, Казим и обрадовался, и удивился. Удивился тому, что Меджид уже тут ни свет ни заря, а обрадовался потому, что в деревне не найти никого более подходящего, чтоб можно было поговорить не таясь, выложить человеку душу.
Меджид был все такой же: худой, длинный, темнолицый. Водка, которую он пил много лет, опалила его снаружи и высушила изнутри.
Расположившись перед входом в лавку, Меджид с удовольствием покуривал сигарету. Выпил он или еще не выпил — определить было трудно, потому что запах водки и табака были его постоянными запахами. Казиму он откровенно обрадовался и нисколько не удивился, увидев его, будто бог для того и создал этот мир, чтоб Меджид спозаранок сидел возле лавки, а Казим, пешком придя со станции, сразу увидел бы его.
— Как дела?
— Спасибо, нормально.
— Чего сидишь тут с утра?
— Да вот, вышел… Обалдели мы уж тут, спавши. Лично я за одну эту зиму проспал столько, что какому-нибудь проклятому капиталисту на всю жизнь хватило бы. В Баку что нового?
— Ничего… Что тут, то и там.
Вот тут Меджид очень удивился и сердито взглянул на Казима.
— Баку с нами не равняй! — твердо заявил он.
— А ты как, все в клубе?
— В клубе, — сказал Меджид, сунул руку в карман пиджака, отыскивая что-то, и добавил как бы нехотя: — Сверх того пенсия идет.
— Тогда нормально.
Тщательно обследовав карман, Меджид безнадежно вздохнул и вытащил руку.
— Если копейку положить и не трогать, — сказал он со всегдашней своей усмешкой, — будет через двести лет миллион?
Меджид был все тот же. Сорок лет этот человек пьет, кормит жену и детей и не перестает шутить. Только совсем бессовестный мог бы сказать про такого — «пьяница».
— А я решил дом продать. Как думаешь, найду покупателя?
Никому, кроме Меджида, не мог бы Казим вот так, напрямую, взять и выложить сокровенное. Сказал и внимательно взглянул на него: как? Но Меджида вроде и не удивило, что Казим продает свой дом. Будто бог создал мир еще и для того, чтоб именно в этот день, в это утро Казим приехал в Бузбулак продавать свой дом…
До самого дома Барсука Мехи Меджид не промолвил ни слова, но перед самой калиткой сказал Казиму:
— Подумаешь — дом!.. Луну с неба можно продать. Покупатель всегда найдется — это ведь Бузбулак.
Что Барсук Мехи жирный, это само собой. Но Барсуком его прозвали не за толщину, а за то, что во время войны, скрываясь от мобилизации, Мехи соорудил себе в развалинах, прозванных «Совиным гнездом», нору наподобие барсучьей и укрывался в ней. По ночам он наведывался в соседние деревни и, как настоящий барсук, хватал кур, ягнят — что в руки попадет, тащил к себе в нору. И сам кормился, и семью подкармливал, и родственников. Отправили его на передовую, но война вскорости кончилась, и Мехи целым и невредимым вернулся домой.
Меджид осторожно постучал в калитку.
— Кто там? — послышался голос Мехи.
Он сидел перед большой тарелкой, куда была налита вода и что-то насыпано.
— А, Артист, здравствуй! — сказал Мехи, старательно перемешивая темную кашицу рукой. — Где ж сыскал этого беглого?
— Как где? В «Совином гнезде». Жалуется, крысы взбунтовались, пришел с тобой посоветоваться.
Мехи не обиделся.
— А чего ж не к тебе? Ты крысиный язык не хуже моего знаешь.
— Откуда? Я с ними вместе не проживал. Что это за кушанье ты изготовил?
— Кушанье-то? — Мехи снизу вверх посмотрел на него. — Не желаешь отведать? Самая еда для артистов.
Мехи перемешивал в тарелке куриный помет (скорей всего для лимона. Мехи в горшочках выращивал лимоны; желтые-желтые, они ярко сияли на деревцах).
— Вот человек… — Меджид покачал головой. — Люди пришли к тебе в дом. Хоть бы табуретку вынес.
— И правда, что ж это я?.. Извините великодушно… Тут одно неясно — чего явился-то, вроде не звал я тебя.
— Дело есть, вот и явился. А ты думал, с утра на морду твою барсучью полюбоваться пришел? Казим дом продает.
— Ну и что? — Мехи наконец отставил тарелку с пометом и грязным передником стал вытирать руки.
— Ты вроде зимой у Мирзы Манафа дом торговал? Не купил?
— Не купил. Ну и что?
— Так ведь не купил.
Мехи принес с айвана две табуретки и покрытый тюфячком ящик.
— Я дом не для себя торговал. Для сына. А ему не понравился, двор, говорит, маловат.
— Ну тут-то двор большой.
— Где ж большой…
— Короче, — сказал Казим, — покупаешь дом или нет?
— За этот дом тебе больше пяти кусков не взять.
Меджид хотел, было что-то сказать, но не сказал.
— Ты дело говори. Пять тысяч — не цена.
— Так я свою назвал. Назови ты свою цену. Твой товар.
— Десять! — сказал Казим. Но про себя уже решил: семь тысяч, ни меньше, ни больше.
Барсук Мехи поднялся с табуретки и протянул Казиму большую, измазанную пометом руку.
— Будь здоров, сынок. Я ведь домов не скупаю. Так просто…
Меджид опять поднял голову и взглянул на Казима. Однако на этот раз Казим ничего не понял по его взгляду.
— Семь тысяч, — сказал Казим. — И давай кончать! — Казим и правда спешил кончить это дело.
— Шесть!
— Там один двор пять тысяч стоит… — не поднимая головы, пробормотал Меджид.
— За то и беру! Что там, кроме двора? Дом допотопный стоит!
— Семь тысяч, — повторил Казим и украдкой взглянул на Меджида. Вроде, тот был согласен.
— Ладно, кладу еще пятьсот. И то потому, что ты внук Кебле Казыма. Другому кому ни за что бы поверх шести на добавил!
Казим был уже готов согласиться на эту цену, но поглядел на Меджида и понял, что надо поторговаться. Сошлись на шести тысячах семистах. Деньги Мехи должен был отдать теперь же. Меджиду, согласно договоренности, причиталось с покупателя.
Мехи запер калитку и пошел в дом. Казим и Меджид молча сидели, ждали. Мехи вернулся без денег (может, деньги спрятаны были в кармане) и заявил, что хочет получить расписку.
— Давай пиши! — он протянул Казиму ручку и тетрадку.
— А что?
Мехи сосредоточенно сдвинул брови.
— Так… Напишешь, я такой-то, сын такого-то, мне, то есть Мехтиеву Мешади Муртуз оглы, продал дом и получил с него, то есть с меня, наличными в соответствии с моим, твоим то есть собственным желанием. Свидетель — директор клуба бузбулакского сельсовета Артист Набиев Меджид Вели оглы. Оба подпишитесь. И дату внизу.
— А при чем здесь сельсовет? — раздраженно сказал Меджид. — И прозвище писать ни к чему. Имя, фамилия, и все. Отца моего не вмешивайте в это дело.
— Нет, давай, чтоб как в паспорте!
— Ладно, — сказал Казим, оглядываясь по сторонам. — Куда сесть-то?
Мехи скинул с ящика подушечку, ногой пододвинул его к Казиму.
— Вот клади и пиши. Крупно пиши, разборчиво. Чтоб прочесть можно было.
Казни поспешно написал на бумажке все, что велел Барсук, Подписался и дал подписать Меджиду. Мехи заставил Казима дважды прочесть расписку, потом ушел в дом, дал еще кому-то прочесть; вернулся, неся завернутые в платок деньги. Развернул их и стал раскладывать на табуретке стопками.
— Вот твои шесть тысяч. Вот еще шестьсот пятьдесят. Пятидесяти рублей не хватает, уступи уж. И пересчитай давай!
— Тьфу! — Меджид смачно сплюнул, видно, простившись с комиссионными, встал и пошел к калитке.
— Не спеши! — сказал Мехи, увидев, что Казим, не считая, сует деньги в карман. — Делай как положено. Пересчитай.
Пересчитать деньги не составляло труда: бумажки все были по пятьдесят и сотенные; половину Казим сунул в нагрудный карман, остальные — в карманы брюк.
— Меджиду, значит, ничего не даешь? — спросил он, поднимаясь.
— Почему? Ты же видел — сам не хочет…
Отодвигая одной рукой задвижку, Мехи, другой рукой пошарил в кармане. Достал мятый рубль, еще два металлических. — На! — сказал он Меджиду.
— Вот Барсук вонючий! — Меджид сунул деньги в карман, добавил несколько слов по-русски.
Они молча шагали по улице. То, что Казим был сам не свой, дело понятное — как-никак, родной дом продал. А вот почему Меджид был вроде бы не в своей тарелке? То ли стеснялся, то ли жалел что влез в эту историю.
— Постой тут, — сказал Казим, остановившись возле дома Джалила. — Я сейчас. Загляну на минутку к брату.
— Нету его. На железной дороге работает, тоннель роют. По воскресеньям только домой приходят.
Казим приоткрыл калитку, заглянул во двор. Затворил калитку, пошли дальше. Но не пройдя и десяти шагов, Казим вернулся.
— Зайду, ребятишек проведаю. Да и сказать надо, что дом продал.
Джалилова ребятня, только что проснувшись, возилась на разбросанных по паласу тюфячках; мать их сидела возле окна, перебирала рис.
— Господи, кто к нам приехал!.. Братик! Дорогой!.. — Жена Джалила обхватила Казима за шею, покрывая поцелуями его лицо.
«Дядя приехал!» «Дядя Казим!» «Дядя!» — закричали дети. Казим почувствовал, что на глазах выступил слезы.
— Садись, дорогой, садись! Сейчас печь затоплю! — Не дав Казиму и рта раскрыть, женщина бросилась во двор за дровами.
Казим смотрел на детишек, а те, сгрудившись, молча глядели на него, будто ждали чего-то. Казим развел руками.
— Нет у меня конфеток! — сказал он и тут только вспомнил, что карманы у него набиты деньгами.
Двум старшим мальчикам Казим дал по сотне. Старшей девочке — пятьдесят. Малышам Казим денег не дал.
— Писунам не полагается! — сказал он.
Вошла жена Джалила с охапкой дров, увидела в руках у детей деньги и, изо всех сил стараясь не показать, как удивлена и рада деньгам, строго сказала:
— А спасибо дяде?
— Спасибо! Спасибо! — заверещали ребята.
— Купишь им что-нибудь… — сказал Казим и пошел к двери.
— Ты что, уходишь?!
— Уезжаю сейчас. И не приеду больше. — Сказать, что продал свой дом, Казим так и не решился.
Когда он вышел на улицу, лучше было и не смотреть на него. Меджид понимал это и молча зашагал впереди, направляясь к чайхане.
Сейчас Казим думал об одном; как отблагодарить Меджида. Денег дать страшновато — вдруг обидится. Посидеть где-нибудь по-человечески, выпить с ним — негде в деревне посидеть. Да и удирать надо как можно быстрее. Оставаться здесь было ему сейчас невмоготу, все мучило, все доставляло боль. Бузбулак, который столько лет постепенно врастал ему в душу, сейчас разом вырвали из нее. Ничего у него нет теперь в деревне. Боже мой — ничего!..
Казны понял вдруг, что дойти до чайханы у него не хватит сил — великой мукой было сейчас пройти мимо любой калитки. Он остановился.
— Не пойдем туда!
— А куда же?
Казим обернулся, долго глядел на «Совиное гнездо», скелетом белевшее под горой.
— Что, если в район поехать?
— Давай! — По лицу Меджида было видно, что сейчас он готов с ним хоть на смерть.
— Пошли садами. Дойдем до шоссе, а там на попутной…
Колхозными садами, по колено увязая в грязи, они вышли к шоссе. Больше часа проторчали на обочине. Наконец подошла машина, но шла она не в район — на станцию.
На вокзале буфет и чайхана вместе. То есть и чайхана не чайхана, и буфет не буфет. Из еды — порыжевшая брынза и «отдельная» колбаса. Ни Казим, ни Меджид есть такое не захотели. Из напитков имелся коньяк, были шампанское, сухие и крепленые вина; водки не было. Поскольку Меджид ничего, кроме белой, не принимал, то они выпили по стакану чая, решив терпеть до шашлычной.
Единственная в районе шашлычная открывалась, как сказал Меджид, в двенадцать часов. Бакинский поезд подходил вечером, в половине шестого. Сейчас было без двадцати десять, а доехать машиной до райцентра — минут десять, не больше. Выйдя из чайханы, они некоторое время слонялись около вокзала, потом зашли в «Хозтовары» на шоссе. Здесь Казим из-под полы купил Меджиду рижскую зажигалку, а себе китайский ручной фонарик. Зажигалка Меджиду нужна была не больше, чем фонарь Казиму, потому что он никогда в жизни не прикуривал от зажигалки.
В шашлычной Меджид выпил свои сто пятьдесят, и они взяли по порции пити и по шашлыку из печенки. Когда они вышли из шашлычной, им пришло в голову, что необходимо достать бензин для зажигалки. Бензина они нигде достать не смогли и часа через два снова оказались в шашлычной.
Когда они во второй раз вышли оттуда, бакинский поезд давно прошел. Было совсем темно. Меджид снова достал из кармана часы с цепочкой, которые сто раз совал Казиму под нос еще там, в шашлычной. Казим прекрасно видел и цифры, и стрелки, но все равно — поверить, что его поезд ушел, Казим не мог. Они долго стояли перед безлюдным, притихшим базаром и спорили, ушел или не ушел поезд. В конце концов Казим разобиделся на Меджида и пешком отправился на станцию. Меджид сидел на тротуаре, покуривал. Докурил сигарету, машин все не было. Он хотел уже достать новую, но тут в конце улицы увидел Казима.
Казим подошел и молча сел рядом с Меджидом. Видно, его пробрало вечерним холодком, и он наконец уразумел, что поезд ушел. Так они сидели довольно долго, потом Казим спросил!
— И что будем делать?
— Пойдем к Забите — вставая, сказал Меджид.
— Кто это — Забите? — спросил Казим, нехотя поднимаясь с тротуара.
— Наша Забите, бузбулакская. Ну что, не помнишь? Она тут в гостинице работает.
— В гостинице? — Казим почему-то обрадовался.
Женщина эта давным-давно не живет в Бузбулаке, но Казим прекрасно помнил, как она выступала на сцене бузбулакского клуба, возглавляемого этим же Меджидом и бывшего тогда на вершине своей славы. Забите участвовала в представлениях, пела песни и, вне всякого сомнения, была среди бузбулакских женщин актрисой номер один. Кроме того, она вела агитработу среди женского населения, за что ее и прозвали «Забите — депутатка».
Гостиница стояла на окраине райцентра, у речки. Меджид подергал дверь и, убедившись, что она заперта, громко крикнул:
— Эй, Забите! Открой!
— А, негодник, явился? — беззлобно отозвалась из-за двери Забите, узнав голос Меджида. Отперла дверь, увидела Казима, плюнула.
— И парня напоил?
— Нет, это он меня поил.
— Бузбулакский, что ли?
— Конечно. Внук его высокопревосходительства Кебле Казима.
— Ты в этом Бузбулаке всех, видно, готов споить, — проворчала Забите, искоса поглядев на Казима.
— Милая ты моя, Забите! — Меджид дружески обхватил женщину за шею. — Состарились мы с тобой!..
Забите оттолкнула его, но Меджид пошатнулся, и она заботливо подхватила его под руку.
— Проходи, хватит чушь пороть! Состарились!.. Ты и в молодости такой же был. Не просыхал! Не до баб тебе было!
То, что именовалось гостиницей, было простым деревенским домом: две комнаты — большая и поменьше, и застекленная веранда. Большая комната предназначалась для гостей, в меньшей, видимо, располагалась сама Забите. Но насчет чистоты и порядка все было на высшем уровне.
Забите отворила дверь в комнату.
— Люкус! — сказала она. В комнате стояло штук пятнадцать кроватей. — Вон те две, у окна, — ваши. И сосед имеется. Профессор. В кино пошел. Чай пить будете?
— Нет! — сказал Меджид. — Мне в твоем люкусе с одним чаем не заснуть. Давай-ка лучше поставь нам!
— Поставь ему!.. Можно подумать, ты ее припасал!
Забите принесла поллитровку, три холодных картофелины, маринованный перец и хлеб.
— Водка на пятьдесят копеек дороже, — предупредила она. — Паспорта давайте мне. Если нет паспортов, задаток — двадцать пять рублей. Во дворе не пакостить. Уборная, вон она! — Забите ткнула пальцем в окно.
Женщина взяла деньги, ушла. Они распили поллитровку и как были, не раздеваясь, легли.
И снова Казим увидел тот сон, что приснился ему однажды в поезде «Баку — Тбилиси». Бузбулакское чистое небо… Самые нарядные дома, самые красивые улицы, самые зеленые деревья, которые только приходилось видеть ему за эти годы, проезжая мимо различных деревень, снова были тут, под родным бузбулакским небом, прозрачным и чистым. Пахло светом… Да, да, светом! И чуть — самоварным дымком. Всем своим существом ощущал Казим блаженную невесомость мешка с углем. Он ходил от дома к дому и повторял нелепые странные слова: «Самовар ставьте, люди… Самовар ставьте… Самовар…»
Проснувшись, Казим увидал на столе вчерашнюю бутылку, но Меджида не увидел. В другом углу комнаты лежал на кровати краснолицый, лысый человек и старательно молотил себя кулаками по животу, вылезавшему из широких черных трусов. Живот был волосатый, круглый, руки толстые и маленькие…
Заметив, что Казим удивленно уставился на него, толстяк усмехнулся и сказал, не переставая колотить себя кулаками:
— Доброе утро, сынок! Ну и здоров ты храпеть! Это где ж ты так научился, прости за нескромность?
«Профессор, — подумал Казим, вспомнив, что говорила Забите. — Который в кино ходил…» То ли потому, что человек этот сразу вызвал у него неприязнь, то ли еще почему, но он быстро ощупал карманы. Деньги были на месте.
За ночь распогодилось. Солнце сияло, окрасив в золото вчерашний сероватый мир, и мир стал больше, светлей, просторней, Хотелось ходить, смотреть, гулять, хотелось жить в этом мире. Наверное, именно потому, что мир был такой широкий и светлый, отсутствие Меджида отозвалось стоном внутри у Казима, захотелось плакать.
— Тут один худощавый мужчина спал. Вы не видели его?
Профессор не ответил, был занят: дубасил себя по животу с таким азартом, как делают это иногда барабанщики на свадьбе.
Наколотившись до изнеможения, весь в поту, он раскинул руки и ноги, долго отдувался.
— Ты про этого алкаша? — спросил он, кивнув на кровать Меджида. — Всю ночь сиднем просидел. Только сейчас ушел, сказал: на базар, за мясом.
Казим постепенно приходил в себя. Он уже хотел уходить, как профессор поднялся с кровати.
— Ты откуда же будешь?
— Я здешний, бузбулакский.
Профессор был маленький, круглый человек. Он достал из-под подушки рубаху, такого же цвета, как его лысина, надел ее.
— Бузбулак — хорошее место, — сказал он и, видимо, несколько смягчившись, внимательно оглядел Казима. — И что ж ты делаешь в Бузбулаке?
— Я там сейчас не живу. — Казим немного подумал. — Сейчас я в Баку. А вы это всегда? — он стукнул себя кулаком по животу.
— Да ты и впрямь деревенский? Гимнастику не видел?
— Почему, видел.
— Ну так вот. А наперед запомни: увидишь что, удивления не показывай. В Баку где живешь?
— На Басина… — сказал Казим.
— А чего приехал?
— Так… Дело было.
— Алкаш этот тоже ваш бузбулакский?
— Нет, — сказал Казим, — из Багдада! — Ему все больше становилось не по нутру, что толстяк зовет Меджида алкашом.
— Что ж, Багдад — неплохое место. Только с Бузбулаком не сравнится. Я ведь здешний. В тридцать первом переехал Баку.
— Понятно… — вынужден был сказать Казим.
— Насчет Багдада ты хорошо ввернул, И вообще, на порядочного смахиваешь. В институте учился?
— Учился…
— Знаешь меня?
— Нет! — Казим удивленно взглянул на толстяка, никогда не встречал такого болтливого нахала.
— Мамедзаде! Мамед Ганбарович! Не слыхал?
— Не слыхал.
— Да ты же по моим книжкам учился! — Профессор был искренне удивлен. Он настежь распахнул окно, вздохнул полной грудью. — Воздух, а!.. Всякие эти кисловодски в подметки не годятся здешним местам! Подожди, я сейчас. Тоже на базар пойду.
Поглаживая живот, профессор поспешно засеменил к уборной. Казим не знал, что делать. У него не было ни малейшего желания ждать этого человека, но встать и уйти было как-то неловко.
Пофыркав перед умывальником, профессор вернулся; вид у него был довольный.
— Ну, вот — сказал он, — сейчас немного займемся бородой, и готово! — Он достал из ящика тумбочки электробритву и стал бриться. — Ну, с этот бузбулакский багдадец, он что тебе, родня?
— Нет, не родня.
— И чем он занимается, когда не пьян?
— Он директор! — выпалил Казим. — Директор клуба. И никакой он не алкаш. Он контуженный. На фронте его контузило. Ему разрешено пить!
— Вот как?.. Значит, по разрешению пьет? Справка есть?
— Не знаю… Кажется, есть…
— Не знаешь, не говори. Нет, сынок, таких справок не бывает. А чего ты не бреешься?
— Бритву не взял. В парикмахерской побреюсь.
— Когда в Баку едешь?
— Сегодня.
— Прекрасно! Значит, вместе поедем. Билет взял?
— Нет.
— Прекрасно! И я не брал. Пойдем сейчас и возьмем. «СВ» подойдет тебе?
— Можно, — сказал Казим, ничего не поняв.
— Все! Пойдем и возьмем! Значит, говоришь, алкаш — директор клуба?
— Директор клуба!
— А ты по телевизору меня никогда не видел?
— Не видел.
— Значит, не смотришь. И прекрасно делаешь. Тебе с твоим характером телевизор смотреть противопоказано! — Толстяк убрал бритву, переоделся. — Пошли! — сказал он. — Я смотрю, ты больно беспокоишься за того алкаша со справкой. Не бойся, он без своих ста граммов в Бузбулак не вернется. А вернется, так справку отберут…
Забите в очках сидела на веранде за столиком, окна были распахнуты настежь.
— Ну, как, профессор, проэкзаменовал нашего бузбулакца? Кое-что есть?
— Кое-что есть, — ответил профессор. — Ищет, куда употребить!
— Найдет! Было бы кое-что, посуда найдется!
Они явно подсмеивались над Казимом, но он только молча смотрел на них. Но куда бы он ни перевел взгляд, видел лишь пустую кровать Меджида. Ему словно заложило уши: странный, жалобный стон, возникший от вида этой пустой кровати, все еще звучал в нем.
— Меджид не сказал, куда пошел?
— На базар! — Забите сняла очки и, протирая глаза, глубоко вздохнула. — Сказал, три рубля есть в кармане, пойду ребятишкам мяса возьму полкило. Я ему еще три дала. Сказала, кило возьми. Боюсь, не купит, негодник. Напьется…
— Не напьется… — сказал Казим, с трудом сдерживая злость.
— Еще как налижется! Кому-кому, а мне про Меджида не рассказывай! Если б не водка, этот мужик знаешь кем был бы?.. Такой артист!.. Пропил весь ум, чтоб ему пусто было!
— Пошли каймак есть! — громко произнес профессор. — Вечером сдаю твой «люкс»! — Он кивнул Забите.
— Он больше ничего не сказал?
— Кто, Меджид? Чего ему еще говорить? Постой, постой, он, вроде, чего-то нацарапал тебе. Сказал, в карман сунет.
Записку, «нацарапанную» Меджидом, Казим нашел в кармане пиджака. «Я уехал в Бузбулакград. Забите сунь лишнюю трешку. И ради бога, не пей сегодня. Китайский фонарь ты, считай, пожертвовал всевышнему — не куда-нибудь забросил — на минарет. Профессору я выдал — так под утро бабахать начал!.. А Мехи-барсук — гадина, чтоб ему околеть!..»
— Ну, чего написал? — Забите снизу вверх поглядела на читавшего записку Казима. — Ерунду какую-нибудь?
— Да так… — Казим сунул записку в карман. — Сколько с меня? Я больше не приду.
— Придешь, — сказал профессор и потянул его за руку к двери. — Мы с тобой еще в нарды сыграем. Пошли, дружок, а то без каймака останемся! И выбрось из головы своего контуженного, когда с профессором говоришь!
На улице, по дороге к парикмахерской, Казима осенило: профессор приехал, чтобы купить дом. Выяснилось, что так оно и есть: профессор присмотрел подходящий дом и вчера вечером столковался о цене. Запросили с него пятнадцать тысяч, но он выторговал три, и взял дом за двенадцать, — таким образом, за каждый из двенадцати дней, проведенных им в «люксе» у Забите, он заработал по двести пятьдесят рублей, и Казиму стало понятно, почему у профессора такое превосходное настроение. Казим запасся терпением до вечера.
Они взяли меду и каймака и позавтракали в чайхане при рынке. Потом осмотрели купленный профессором дом, вернулись в гостиницу.
Потом с неменьшим терпением Казим тащил профессорский чемодан к автобусной остановке. На вокзале он столь же терпеливо ждал, пока профессор, перевернув все вверх дном, добивался билетов в тот самый «СВ». Терпение у Казима кончилось уже в вагоне, но кончилось сразу, вдруг. В хваленом двухместном купе оказалось так тесно, так душно, что Казим чуть не закричал.
Профессор опять стал совсем круглым, так как снял костюм и надел пижаму. То ли потому, что кресло, в которое он втиснулся, было слишком тесно, то ли еще почему, но живот подпирал ему подбородок, лицо и лысина покраснели. Не прошло и часа, как поезд тронулся, но Казиму казалось, что он целую вечность провел в купе с этим человеком. И доехал до самого конца. Больше он ехать не хотел. Видимо, желание ехать куда бы то ни было навсегда было задавлено в нем, может, поэтому ему так хотелось задушить профессора.
Они молча смотрели друг на друга. Кажется, профессор хотел что-то сказать, но не мог. На лице у Казима написано было одно слово — профессор сосредоточил все внимание, но прочесть это ему, казалось, не под силу.
Но вот профессор разобрал это слово. И опять хотел что-то сказать и рот открыл, и опять не мог ничего произнести. Но на исказившемся от страха лице профессора Казим отчетливо увидел суть и цвет слова.
Медленно одолел профессор расстояние в один шаг, отделявшее его от двери, тихонечко отворил ее, и, когда Казим увидел, как, промчавшись по коридору, профессор скрылся у проводника, он вскочил и, как сумасшедший, бросился за ним. Он и сам не знал, зачем побежал за профессором. Казалось бы, с чего взбрело ему в голову схватить этого болтуна и вышвырнуть из вагона?.. Казим не понимал этого, почему-то он в тот момент видел лишь железные ворота: те самые ворота, которые человек, похожий на Гасан-муаллима, вделал в ограде ихнего дома, покрасив розовой краской; те самые ворота, возле которых стояла ярко-розовая машина — машина человека, который тогда, во сне, был так похож на Гасан-муаллима… Но почему месть Гасан-муаллиму, действительно причинившему ему зло, он должен был обратить на толстяка, которого видел впервые в жизни? Может быть, терзаясь тем, что продал отцовский дом и навсегда отрезал себя от Бузбулака, единственного места, где он чувствовал себя человеком, он увидел дьявольское обличие этого лысого человека, тоже отнявшего у кого-то родной дом? Только с чего ему вдруг втемяшилось в голову, что лысый профессор тоже навесит железные ворота, тоже покрасит их розовой краской, что машина, стоящая у этих ворот, обязательно будет розовая? Наверное, Казим всех и вся ревновал к этому любимому своему цвету, а толстый болтливый профессор был один из тех, кто навсегда лишил жизнь Казима этой самой радостной краски…
Мысленно кляня дьявола, Казим добежал до купе проводника и вдруг, повернувшись, понесся в обратном направлении. Пробежал по узкому коридору «СВ», задыхаясь, ворвался в соседний вагон, миновал еще несколько купированных вагонов…
Он рвался туда, в простой, в плацкартный, без этих клеток-купе! Еще вагон! Еще!.. Заперто!.. Казим в ярости дернул ручку. Толкнул дверь плечом. Не поддается!.. Бросился к другой двери… Эта была не заперта. Казим распахнул ее…
Сорвался он со ступенек, или неудачно спрыгнул — этого так никто и не узнал…
Репортаж с поминок
Поминки
1
Недавно Садыка-киши хоронили, теперь — эту женщину. Выходит, бузбулакцы запросто могут умирать в Баку? Странно… А впрочем, что же тут странного? Человек — это человек, он смертен, смерть может застать его где угодно. Наверное, если поискать, и в Берлине отыщутся могилы бузбулакцев. Про старые времена и говорить нечего; Мекка, Багдад, Кербела… В те времена бузбулакцы нередко совершали паломничество в святые места, и вполне возможно, что кто-нибудь из них, заболев в странствии чем-нибудь вроде холеры, и скончался там, на чужбине.
Интересно, в Сибири никто из бузбулакцев не умирал? Вроде бы некому. Разве что Молла Нурмухаммед — был такой служитель веры, самый набожный, самый влиятельный в Бузбулаке — только он, говорят, умер в Гяндже, то есть в Кировабаде. Был еще Мешади Муртуз — купец. Был помещик Кебле Казим. Вроде, все. Но Кебле Казим недавно скончался в Закаталах, а что касается Мешади Муртуза, тот, говорят, до сих пор благоденствует в Шуше, даже, говорят, зубы целы — все тридцать два — (а ведь ему никак не меньше девяноста).
Выходит, уроженцы Бузбулака и раньше умирали в чужих местах. Чего ж я тогда удивляюсь? Может быть, просто не задумывался об этом? Да и повода не было — ни одному бузбулакцу и не случалось раньше умереть в Баку. Во всяком случае, пока я не кончил школу и не уехал учиться, этого не было — точно. Умри кто-нибудь в Баку, я знал бы, — если ты уроженец Бузбулака, то где бы ты ни скончался, весть о твоей кончине рано или поздно непременно придет туда. Кроме того, бузбулакцы никогда не забудут односельчанина, пускай даже человек сто лет не показывался в деревне. Потому что куда бы он ни уехал, что-то да остается у него там: или родня, или посаженные им деревья, или дом, или развалины дома… В Бузбулаке еще не было случая, чтоб, уезжая, кто-нибудь продал дом. Продать отчий дом — поступок, недостойный человека. Сказать: я продаю свой дом — все равно, что сказать: отныне я уже не числю себя в том длинном — без конца и края — списке, имя которому — «род человеческий». Во всяком случае для бузбулакцев это примерно так. Ведь в каждом доме витает дух предков, дух матери и отца, и, если человек почему-либо не может жить в доме, поддерживая огонь в очаге и радуя дух предков, пусть дух предков навсегда упокоится в доме, не тревожь его, главное — не лиши крова; только, думается мне, в Бузбулаке не найдешь человека, который согласился бы запросто хозяйничать в чужом доме. Если же такой и отыщется, все равно — не будут его считать хозяином дома: нет дома, и это не дом.
В Бузбулаке много домов, от которых остались одни руины. Но все равно — никто не посмеет самовольно строиться на месте развалин. Нужно обязательно отыскать хозяина, а если уж не хозяина, то хотя бы кого-нибудь, кто имеет какое-то отношение к дому, какие-то права на него. Человека этого надо уговорить, умаслить, получить его доброе согласие. Все это, разумеется, в том случае, если человек, решивший строить дом, собирается жить в нем по-человечески.
Да, для того, чтоб бузбулакцы не забыли тебя, достаточно иметь там хотя бы развалины дома. Потому что любой малыш знает, что тот вон рухнувший дом — не просто развалины, а бывший дом Муллы Нурмухаммеда или Мешади Муртуза, или Кебле Казима. И нет тут никакого особого чуда — взрослые говорили, ребенок услышал и запомнил. Если чудо и есть, оно в другом — в том, что раз ты отсюда, раз здешний, то вернись в Бузбулак хоть через сотню лет — ты снова будешь свой, бузбулакец. Если дом сохранился, он твой, остались развалины — твои. А если кто-то без твоего ведома на месте разрушенных стен построил себе дом, одна комната в этом доме — твоя, спокойно можешь располагаться. Вот возьми, поезжай в Бузбулак. У первого же мальчонки спросишь: «Где дом Кебле Казима?» Он скажет тебе, что Кебле Казим умер в Закаталах, а дом его — вот он. И приведет тебя к разрушенным стенам, и ты собственными глазами увидишь, что Кебле Казим, недавно скончавшийся в Закаталах, все еще обитает здесь, в Бузбулаке. И когда ты будешь созерцать развалины, тебя вдруг окликнут по имени. Ты обернешься: это мальчишки гоняют в прятки, и одного из них зовут так же, как тебя. Пусть ты зовешься Нурмухаммедом, все равно — даже это длинное, несуразное имя, носимое когда-то человеком, проповедовавшим «высший закон», оказывается, не забыто бузбулакцами.
Только вот что, хочу предупредить: не больно-то умиляйся, не особенно привечай ребятню. Это такой народ — привяжутся, до самого кировабадского кладбища гнаться будут: «Дядя молла! Дядя молла!..» Прошлым летом они учинили такое над покойным Садыком-киши, хотя какой уж он молла? Наоборот — старый большевик.
Вот так, дорогой Бузбулак, это, я тебе скажу, песня долгая. На думай только, что он один такой на свете, с неба такой свалился, или что я сидя на поминках, от нечего делать сочиняю про него всякую ерунду, только потому, что сам уроженец Бузбулака. И ради бога не думай, что в Бузбулаке нет сельсовета. Есть. И сельсовет, и правление. И документы составят — дай бог всякому; и акты, и книги записей ведутся регулярно. Но дело в том, что подобные дела нет нужды документировать, да и не товар это, что продается и покупается — тут Бузбулак сам себе и документ и книга, и если ты (только не обижайся!) хоть немного разумеешь грамоте, ты сможешь прочесть ту книгу. Не обижайся, я и сам с высшим образованием, и во мне, если хочешь знать, тоже теперь не ахти сколько деревенского. Двадцать лет живу в городе. И все же как-то не по себе, когда бузбулакец умирает в Баку. Недавно Садыка-киши хоронили, теперь — эту женщину…
2
Наверное, я уже больше часа тут; в огромной брезентовой палатке, раскинутой во дворе многоэтажного дома. Я хорошо знал покойную, в деревне мы были соседями, одно время она была моей учительницей, а вот больше часа сижу и мучаюсь, — хоть на минутку хочу представить себе лицо женщины, помянуть которую я пришел. Я молчу и не слушаю говорящих… Сижу, думаю, — чего только не лезет в голову, а вот ее лицо — лицо моей соседки, моей учительницы, никак не возникает перед глазами.
Потом что-то вдруг просветлело в памяти: я увидел крышу — их крышу, почти вплотную примыкающую к нашей. Увидел школьный двор. Родники: один, другой… Потом улицу; и сразу же вспомнился покойный Садык-киши, может, потому, что когда прошлым летом я проводил в Бузбулаке отпуск, то чаще всех встречал на улице его.
Садык-киши, по собственным его словам, не был в Бузбулаке пятьдесят с лишним лет. А вот приехал. И вроде бы насовсем. На беду, дом Садыка-киши был не из тех развалин, в которых, хоть и с грехом пополам, но можно жить, и ему пришлось поселиться в пустующем доме тети Гамер. У нее и двор, и дом были еще вполне пригодны, только ограда пообвалилась, и, пользуясь этим, бузбулакские «сопляки» совершали по временам налеты на огурцы, которые Садык-киши посадил сразу, как приехал, любовно выхаживал и которыми всерьез гордился: каждым листиком, каждым цветочком, огурчиком… Постой, а кто это там в углу — не Рафи? Точно: он, Рафи.
Господи, это ж надо: не человек, а какая-то рухнувшая стена!..
Бедная тетя Гамер
Когда, почему уехал Рафи скитаться по белу свету, знали у нас немногие, но то, что у тети Гамер есть сын по имени Рафи, знали в Бузбулаке все, от мала до велика. Потом началась война, и Бузбулак узнал, что сын тети Гамер Рафи, как и другие, ушел на войну. Потом война кончилась, и все узнали, что сын тети Гамер Рафн то ли убит, то ли пропал без вести. Но оказалось, что сын тети Гамер не убит, и не пропал без вести, а был в плену. Потом прошел слух, что, освободившись из плена, сын тети Гамер приехал в Баку, и дела у него неплохи: жив, здоров, в теле, и костюм на нем новый — шевиотовый. Известие о шевиотовом костюме принесла в Бузбулак женщина, которую, как и мать Рафи, тоже звали Гамер. Занималась эта Гамер тем, что закупала в Баку иголки, нитки, наперстки, чайники для заварки, женские трико и другие ценные вещи и везла это все в Бузбулак — продавать. Продавала и за наличные и в кредит. Не отказывалась Гамер и менять свой товар: на пендир и на сухофрукты.
Благодаря регулярным вояжам Гамер в Баку у каждой из бузбулакских школьниц красовалось на руке колечко с кусочком цветного стекла, и на уроках географии, которые вела директриса Зиянет Шекерек-кызы, мы, мальчишки, нередко ликовали: стоило Зиянет увидеть у девочки перстенек на пальце, как она немедленно производила досмотр всех девчоночьих рук, а иногда вызывала девочек к доске и обыскивала их карманы. Потом следовало наказание — Зиянет Шекерек-кызы указкой била виновниц по пальцам, била так, что недели две провинившиеся девочки, не могли расчесать косы перед зеркалом. Но это была ерунда, а не наказание. Настоящее наказание, применяемое Зиянет Шекерек-кызы, кроме битья по пальцам, включало особую меру — заставить девочек плакать перед мальчишками. Делалось это так: «Смотрите, — говорила Зиянет Шекерек-кызы, приподнимая чью-нибудь косу, — видали, сколько вшей?! Как же это ты, красавица? Кольцо нацепить ума хватает, а вшей вывести — никак?!» (Попробуй тут не заплачь!..) Закончив очередную экзекуцию, Зиянет Шекерек-кызы сажала несчастную на место и долго говорила о том, какая серьезная опасность таится в этих невинных, казалось бы, колечках со стекляшками, говорила о темном прошлом и о лучезарном будущем. И уже не спрашивала заданного урока, нового тоже не объясняла, и таким образом, мы не только спасались от опроса, но избавлены были от необходимости зубрить географию к следующему разу. Слово «мещанство», бывшее одно время самым популярным словом в нашей школе, обязано было своим появлением поездкам Гамер в Баку. Впервые произнесенное Зиянет Шекерек-кызы на общем собрании, посвященном пресловутым перстенькам, оно было мгновенно подхвачено всеми нашими педагогами; некоторые из учительниц употребляли это слово не только на уроках, но и перемывая посуду у родника, и стоя в очереди за ситцем (в обиходе бузбулакцев не так-то много слов, доказывающих образованность, да и не всякое доказывающее образованность слово так легко ложится на язык).
Но речь у нас не об этом. Речь вот о чем: известие о том, что сын тети Гамер Рафи никогда не приедет из Баку, привезла в Бузбулак та самая Гамер, что привозила иголки, нитки, наперстки, блюдца, чайники для заварки, женские трико и латунные перстеньки, и неожиданное это известие долго обсуждалось в деревне, причем каждый толковал его по-своему. Один говорил, что поскольку мы живем в погранзоне, а Рафи был в плену, его не пускают в Бузбулак; дали бы разрешение, приехал бы. Другой утверждал, что граница это только так, повод, захотел бы приехал, но не до этого сейчас Рафи — опять взялся за свое: опять свару затеял с бакинскими профессорами, старыми своими приятелями. У Рафи ведь одна наука на уме, ни мать, ни жена ему не надобны. Немного погодя сообщение это подтвердилось новым известием, привезенным из Баку все той же Гамер. Рафи сам сказал: с Бузбулаком у меня покончено. Матери передай, пусть считает: нет у нее сына, пусть считает: с войны не вернулся. Но мыслимое ли дело — считать погибшим сына, который ходит себе живой-здоровый в шевиотовом костюме? И вот тетя Гамер собралась и вместе с той, торговкой Гамер выехала в Баку. Все думали: или она там останется, или вернется вместе с Рафи, а уж если одна вернется, то такая, что лучше к ней и не подходить. Тетя Гамер вернулась одна, но совсем даже не такая. Я бы сказал, выглядела она нисколько не хуже, чем до поездки, веселая, шустрая, проворная, с обычными своими шутками да прибаутками, мало того — под чадрой у нее был надет новый шевиотовый пиджак, мужской. Вернувшись из Баку, тетя Гамер первым делом объявила следующее: на всем белом свете не найдешь такой власти, как советское наше правительство, она это, конечно, и раньше знала, но съездивши в Баку и повидав сына, в тыщу раз крепче в том уверилась. И еще она сказала, что когда на свете есть столько прекрасных мест, толковому человеку в Бузбулак ехать незачем; чего он тут не видал: горы? Если бы тут по-людски жить можно, хоть один-то из ста двадцати четырех пророков был бы здесь похоронен?.. И правильно, и молодец Рафи, что не едет. Чего делать-то? Колхоз грабить, как эти, наши? Они ж, словно волки голодные, живьем обдирают. А я не волка — сына вырастила. И не хочу, чтоб он приезжал волками этими любоваться…
Такая вернулась тетя Гамер из Баку. Но оказывается, в то время, когда тетя Гамер ездила к сыну в Баку, его там и в помине не было. Где он тогда находился, одному богу известно, только не в Баку. И кому принадлежал шевиотовый пиджак, оказавшийся на тете Гамер, тоже известно одному богу. То ли Рафи был тогда в Москве, то ли видели его в Ереване — говорили и так, и этак. Но в одном бузбулакцы были единодушны: — с профессорами бакинскими Рафи схватился насмерть. Бузбулак долго оставался при этом мнении, потому что иметь такое мнение Бузбулаку было очень выгодно, в Бузбулаке есть и высокие горы, и невысокие холмы — все есть; а поскольку все это имеется, Бузбулаку абсолютно необходим еще человек, способный схватиться насмерть с бакинскими профессорами. В этом смысле Рафи просто повезло. Да и тете Гамер тоже. Раз бузбулакцы так охотно верили в ссору Рафи с бакинскими профессорами, зачем им было препятствовать тете Гамер держать себя так, как это пристало матери подобного человека?..
И до самой старости именно так и держала себя тетя Гамер, так и жила в Бузбулаке с высокими его горами и невысокими холмами; никогда не наденет залатанных галош, не появится на людях в неглаженной чадре. Никто никогда не видел тетю Гамер бредущей с поля с сумкой, полной колосков, собранных после жатвы, никто не слышал ее голоса возле лавки, когда уши глохнут от крика женщин, сражающихся из-за ситца или из-за хозяйственного мыла, у которого и пена как пена и хватает надолго. Кто знает, приди к ней смерть вовремя, пока Рафи еще не объявился в Баку, она, может, с тем же достоинством отошла бы и в мир иной. Но смерть не пришла к ней вовремя. И когда, совсем одряхлев, тетя Гамер чуть живая лежала в постели и, сетуя на судьбу, начала наконец, жаловаться на сына, из Баку поступило известие: не вершит там Рафи большие дела, ни с какими профессорами не схватывается, а как какая-нибудь бабенка, работает простым библиотекарем. Достигло это известие ушей тети Гамер или нет — не знаю. Но в том, что когда она ездила в Баку, Рафи там не было и в помине, тетя Гамер призналась лишь после этого известия.
И зимним ненастным днем тетю Гамер похоронили. В сундуке у нее оказались деньги, довольно много, их тщательно пересчитали и после длительного совещания, которое провели, собравшись, почтенные старики и старухи, решили отправить Рафи в Баку. Для этого в помощь Гамер, торговавшей иголками и наперстками, отрядили еще двоих. Деньги снова пересчитали — теперь уже с участием посыльных — и за вычетом стоимости омовения и захоронения тела, а также дорожных расходов (три билета в Баку и обратно и питание в дороге) все деньги отправили Рафи.
Деньги у тети Гамер водились; во-первых, потому что, это она подыскивала женихов бузбулакским невестам, а позже, когда им приходило время рожать и начинались схватки, та же тетя Гамер, закатав до локтя рукава, развлекая всех шутками и прибаутками (и не прекращая чаепития), сидела возле них, готовая принять ребенка. Кроме того, тетя Гамер была мастерицей печь чуреки, а когда-то «в добрые старые времена» было у нее и еще одно ремесло: тетя Гамер ходила по домам и рассказывала детям сказки, причем брала повременно. Ходила она не в любой дом, потому что не каждый станет платить деньги за какие-то сказки, да и зачем нужны сказки, если не полыхает печь, набитая дровами, и не варится в казане вкусная еда. А в Бузбулаке и в «добрые старые времена» не в любом дома жарко топилась печь и варилась в казане вкусная еда. Ну это само собой, а вот если рассказывание сказок было для тети Гамер профессией, значит, она должна была или все время узнавать новые, или перелицовывать на новый лад старые или просто-напросто выдумывать сказки. И тетя Гамер выдумывала, или сочиняла бесчисленное множество сказок, со стихами и без стихов. В большинстве ее сказок говорилось об умных, благонравных детях, превыше всего ставивших уважение к отцу-матери, о красавицах девушках, жизнь готовых отдать ради чести, потому что в домах, где на горячей печке всегда варилась вкусная еда, сказки рассказывались большей частью девочкам, которым рано или поздно придет время выходить замуж, а родители этих девочек не зря платили деньги тете Гамер.
Были среди денег тети Гамер, с тремя посыльными отправленных в Баку, деньги, полученные за сказки, или не были, не известно. Известно только, что денег было много, и что Рафи не взял ни копейки. И хорошо сделал, что не взял, иначе Бузбулак с его высокими горами и невысокими холмами раз и навсегда перестал бы считать Рафи человеком. И сегодня Рафи никоим образом не мог оказаться здесь, среди бузбулакцев, хотя со смерти тети Гамер прошло лет двадцать пять, не меньше.
3
Рафи, съежившись, сидел в самом углу. Чаю не пил, не курил, не разговаривал. Лицо у него было бесцветно-серое, серую свою шляпу он так низко надвинул на лоб, что виднелись только глаза; глаза смотрели прямо перед собой, и если в глазах Рафи хотя бы теплился свет, значит, он был направлен назад, внутрь его существа; во взгляде же, устремленном куда-то в одну точку вперед, не было даже намека на свет.
Рядом с Рафи сидел Нариман, сын покойного дяди Садыка. Мало что на свете так не подходит друг другу как Нариман к сегодняшние поминки. Заметней всего отличало Наримана от остальных то, что он за всю свою жизнь в глаза не видел Бузбулака; и то, что он за всю свою жизнь в глаза не видел Бузбулака, написано было у него на лице. Часть сидевших здесь людей Нариман, вероятно, видел впервые, остальных же, скорее всего, узнал на отцовских поминках. И теперь, одного за другим внимательно оглядывая собравшихся, он словно пытался определить, кто из них был на поминках его отца, а кто не был. Определить это было непросто, несомненно было лишь одно: большинство сидящих здесь — из Бузбулака; они даже внешне были чем-то похожи друг на друга. Бузбулакцев было человек пятьдесят, ученых и неученых. Некоторые, как и Рафи, давным-давно уехали из Бузбулака, другие лишь в прошлом или позапрошлом году окончили институт и только еще приживались в Баку. Тут были и рабочие из Сумгаита, и спекулянты, круглый год торгующие на бакинских базарах… Трое же, видимо, только утром приехали из деревни. И словно для того, чтоб напомнить, что здесь не что-нибудь, а поминки, они, словно заранее сговорившись, время от времени по очереди принимались громко плакать, вытирая глаза тыльной стороной ладони. По главам видно было, что они устали и не выспались; по тому, как они сидели и как вели себя, видно было, что Бузбулак все тот же, а по их потрескавшимся красным рукам можно было определить, что в Бузбулаке холодно по-зимнему, и может быть, уже лежит снег…
Твоя мать, Рафи, тоже умерла зимой. Ночью выпал снег — пушистый, мягкий — должно быть, это был первый снег. Снег выпал, но мороза не было — холодно не было, Рафи. Наоборот, снег даже чуточку смягчил землю, и значит, могильщики не кляли покойную, не осквернили память ее матерщиной. Снег был, словно хлопок: теплый, мягкий, он лежал и на гробу, что стоит всегда в нише мечети, перевернутый кверху дном, и те, кто, сперва узнав о смерти тети Гамер, видели потом, что гроба уже нет на месте, наверняка вспоминали и тебя.
За полторы тысячи — из тех денег, что ты не взял, Рафи, — заказали прекрасное надгробье, купили телку, прирезали ее, напекли свежих чуреков; принесли из чайханы большой самовар, — поминки были честь по чести; на тех поминках вспоминали и тебя, Рафи. Да будет всевышний милосерден и к сыну ее, говорили люди, да решатся легко нелегкие дела его. Обратимся к престолу вседержителя, — господь наш добр и мягкосердечен, — да отпустит он Рафи его прегрешения. Пощади, всеблагой, несчастного Рафи, избавь заблудшего от адских мук — не допусти, чтоб и на том свете сын разлучен был с матерью, мать с дитятей своим. Сделай так, чтоб не оскудела в материнских сердцах любовь к детям, неблагодарным и недостойным! И все дружно произнесли: «Аминь!»
На поминках по тете Гамер бузбулакцы поручили Рафи заботам всевышнего, надеясь на милосердие его, но поручать человека заботам всевышнего — еще не значит простить его; пусть бог решает по собственному разумению, пусть сам определит, как ему поступить в этой в высшей степени непростой ситуации, но пусть только кара за муки матери — будя таковая последует от господа, — свершится где-нибудь подальше от Бузбулака. И еще — поручать заботам всевышнего человека, пребывающего в добром здравии, не обязательно значит сострадать ему, может, и наоборот — проклясть, поскольку милосердие божье — награда сирых и убогих, а также без вины виноватых или одолевающих в черные дни жизни непосильные для человека трудности, а Рафи, слава богу, жив, здоров и благополучен, сидит себе в Баку, а захочет, так к с профессорами схватится.
Только кто знает: может, Рафи и впрямь сражался тогда о бакинскими профессорами и, поручая его заботам всевышнего, бузбулакцы имели в виду и эту немаловажную сторону дела? И хотя Рафи не был ни сирым, ни убогим, очень даже возможно, что у него были тогда самые черные дни, что он одолевал непосильные для человека трудности и больше, чем когда-либо, нуждался в защите всевышнего. А может, Рафи и не был виноват, виновны были фашисты, те, что когда-то, захватив его в плен, запутали, сделали трудным такое простое дело, как приезд на похороны матери. (Возможно, Рафи стыдился, не хотел, чтобы это знали, может быть, просто-напросто боялся сказать об этом.)
А может, фашисты и ни при чем? Может, бакинские профессора виновны в том, что Рафи навсегда забыл дорогу в Бузбулак? Может, то, что заставило Рафи схватиться с бакинскими профессорами, — такое бедствие для Бузбулака, что даже смерть матери — ничто по сравнению с ним? Да, причина была, и причина серьезная. Ведь матерью Рафи обижен не был, с Бузбулаком счетов не имел. (Если что, бузбулакцы обязательно знали бы.)
Так или иначе, дело это трудное, сложное, человеческому уму непосильное, и бузбулакцы несомненно выбрали верный путь, предоставив всевышнему распутывать запутанное, непосильное для человеческого ума дело, в котором запутан был Рафи. После поминок, когда все уже наелись и напились чаю, осталось полно еды. Кроме того, осталось около тысячи рублей, и после нового совещания почтенных стариков и старух деньги эти отдали слепому Джафару. У слепого Джафара был до той поры патефон, теперь он решил купить приемник. Расторопный бузбулакский паренек, только что демобилизовавшийся из армии, вызвался ехать в Баку за приемником. Взял деньги, уехал — и только его и видели.
4
Тогда было начало пятидесятых годов, теперь — конец семидесятых. Тетя Гамер говорила, что Рафи уехал учиться в тридцать пятом, и было ему тогда семнадцать лет. Если так, сейчас ему под шестьдесят. Он кандидат наук. Работает где-то в архиве, живет где-то в микрорайоне. Дом, во дворе которого раскинута эта палатка, далеко от его квартиры, намного ближе к центру. Выходит, на сороковины сегодня приглашены все живущие в Баку бузбулакцы.
Время от времени в одной из квартир слышался женский плач и причитания. Когда-то я был в этой квартире, давно, еще студентом. Привез из Бузбулака посылку — корзину фруктов. Сначала позвонил по телефону. Подошла она, покойная. И дверь потом тоже отворила она. Почему я никак не вспомню ее лицо?.. Я поставил корзину в прихожей, хотел идти — не отпустила. Накормила меня, разрезала арбуз… И стала расспрашивать о деревне — всех перебрала, дом за домом. Этот как?.. Как тот поживает?.. Бьет ли родник? Стоит ли та черешня?..
Стоит, соседка, стоит, в Бузбулаке все на своем месте. И вода бежит из родников. И деревья цветут каждую весну. Вода будет течь и через тыщу лет. И через тыщу лет будут по весне цвести деревья. Пусть не эти, другие — какая разница?.. Впрочем, разница есть. Она в том, что те деревья ничего не будут знать о нас. И другие птицы будут вить гнезда в их кронах, и другие стрекозы стрекотать…
Ты спросила тогда про нашу черешню, склоненную над крышей вашего дома. Может, помнила еще вкус ее ягод. Или помнила, как она цветет. А может, ты спросила про нее с особой целью? Хотела напомнить, что мы соседи, близкие соседи, настолько близкие, что наше дерево склоняется над вашей крышей, и я не должен стесняться, а есть все, что положено на стол. Но ты не знала, что я слышал, как летним вечером ты плакала на этой крыше под этой самой черешней. А потом? Что было потом? Потом, ты добилась своего, выплакала — родители не отдали тебя за того, кого выбрали себе в зятья, оставили дочери право на жизнь. Право легкой походкой пройтись по улице, громко говорить, смеяться. И право вскарабкаться на шелковицу, если вдруг захотелось ягод, и петь там, на верхушке дерева, если захотелось запеть…
Помню я и другой вечер, когда ты тоже притаилась под черешней, у стены, разделявшей наши крыши. В тот день приехали сваты из Баку. Но в тот вечер ты уже не плакала под черешней, на крыше, не глотала горькие слезы. Ты пряталась лишь потому, что так принято: в дом заявились сваты — девушка должна прятаться. Но те сваты приезжали уже потом, много, много позднее… Еще были месяцы, годы были до их приезда. Был еще педтехникум в райцентре. На горных тропках, ведущих в райцентр, были еще и весны и зимы… И была однажды весною во дворе бузбулакской школы сказочная верба; желтая-прежелтая, пушистая-препушистая… И было на свете стихотворение, которому, строка за строкой, учила нас однажды весной в бузбулакской школе учительница Сафура…
…И однажды учительница Сафура вернулась из Баку в Бузбулак с одной-единственной строкой этого стихотворения:
«Солнце всходит и заходит…»
Арык, протекавший через наш двор, протекал и по их двору. Была весна. Было то время, когда в Бузбулаке вздуваются и бушуют арыки. То время, когда от хмельного бузбулакского солнца кружится, дурманится голова. А Сафура, казалось, лишь для того приезжала из Баку, чтоб читать стихи арычной воде — одну-единственную строку; с восхода до захода солнца бродила она вдоль арыка и твердила, твердила стихотворение — одну-единственную строку.
Может, с помощью этого стихотворения пыталась она отыскать свою пропавшую память, может, звала ребенка, оставленного в Баку. Кстати сказать, если б арык не протекал у самой калитки и если бы всякий раз, когда калитка отворялась, тетя Гюльгез не начинала причитать, в деревне, может, и не узнали бы так скоро ни о том, что Сафура потеряла память, ни о том, что она позабыла, бросила в Баку свое безвинное дитя…
Каждый раз, когда калитка отворялась (независимо от того, кто отворял ее), тетя Гюльгез громко и сердито кричала:
— Эй, закрой калитку! Крепче закрой, чтоб тебя!.. Запри как положено. Сбежит ведь! Сбежит, и звери ее сожрут в горах!.. У нее же дитеночек грудной, брошенный…
Но не похоже было, чтоб Сафура собиралась бежать, совсем даже не похоже. Мне казалось, тетя Гюльгез кричит так с горя. Покричав, она сразу остывала и, приткнувшись в углу айвана — на всегдашнем своем месте, — молча бралась за чулок или перебирала рис, или пряла — тетя Гюльгез никогда не сидела сложа руки. И еще тетя Гюльгез никогда не плакала, никогда никому не жаловалась (хотите верьте, хотите нет — в Бузбулаке легче терпеть горе). Только ругала Сафуру.
— Солнце всходит… Солнце заходит… — принималась она громко ворчать. — Да хоть бы оно совсем не всходило, — тебе-то какое дело?! Сунула в рот словечко и жует с утра до ночи, как резинку! Всходит… заходит… Чего бормочешь-то?! Перестань ради бога!.. Перестань, малохольная!.. По тебе ж дитеночек плачет!.. Твой дитеночек!.. В Баку!.. Один мается, без матери…
Слово «дитеночек» тетя Гюльгез выкрикивала особенно громко, резким голосом, казалось, она хочет докричаться до Сафуры, разбудить ее своим словом. Сафура и впрямь была как во сне, и в этом своем беспробудном сне она не слышала матери.
Сон из одной стихотворной строчки — странно, правда? И, пребывая в этом странном сне, глядя на бегущую в арыке воду, Сафура, наверное, видела школу, где проучилась семь лет и где один-единственный месяц сама учила детей.
Их было пятеро. Все учились на последнем курсе педтехникума. В школу же пришли на педпрактику — всего на месяц. Была весна, когда они к нам пришли. Было то самое время, когда от хмельного бузбулакского солнца кружится и дурманится голова. Но никогда еще не было бузбулакское солнце таким хмельным и дурманящим, как в ту весну — в школе не осталось ни одного не влюбившегося ученика. Пока эти пятеро, приодетые и торжественные, с журналом в руках не вошли в класс, они не были для нас учителями. Они сами учились, сами были учениками. (Разве не они каждое утро с первыми петухами отправлялись в свой техникум?) Но плохи стали дела бузбулакских школьников, когда трое из тех пятерых, что каждое утро с петухами отправлялись в техникум, вдруг оказались учителями; плохи стали дела бузбулакских школьниц, когда двое из пятерых, что каждое утро с петухами отправлялись в район, вдруг оказались учительницами. Девчонки повлюблялись в парней, мальчишки — в девушек. И клянусь: в ту весну не было никаких уроков, была сплошная повальная любовь. И как знать, может, она и была лучшим из всех уроков…
В ту весну вместе с Сафурой в бузбулакскую школу пришло трое парней: Натиг, Гасан и Сабир. Может быть, в строку, которую с утра до ночи твердила теперь Сафура, вмешался кто-то из них?.. А может быть, кроме этих троих, был на свете и еще кто-то, и в теперешнем своем сне, состоящем из стихотворной строки, Сафура видела именно его?.. Может, она охмелела от бузбулакского солнца? Может, аромат цветов привел ее в это состояние? А может, она так стосковалась в Баку по нашему арыку, что, увидев его, забыла про собственного ребенка?..
Болезнь это была или сон — не знаю. Знаю только, что однажды Сафура очнулась. Прорыдала полночи — и все. Вот, оказывается, что было лекарством от ее недуга. И оказывается, тетя Гюльгез прекрасно все это знала. И ругала, и распекала дочь для того лишь, чтоб та зарыдала… «… Я еще с вечера вижу: пойдет девка на поправку — глаза у ней были ка мокром месте. Уложила в постель, вижу — плачет. Слава богу… Поплачь, говорю, доченька, поплачь, милая… Надо тебе поплакать. Совсем, говорю, ты у меня обезумела, младенца своего грудного забыла… Плачь, милая, досыта плачь… Она как взялась, да навзрыд!.. Потом заснула, а утречком как глава открыла, сразу про дитеночка спрашивает… А ведь до той поры вроде и не понимала, бедная, что родила, что ребеночек у нее…»
Так рассказывала тетя Гюльгез соседкам историю выздоровления Сафуры. Самой Сафуры в это время в деревне уже не было. Она была в Баку возле своего ребенка; и кто знает, может быть, ради этого ребенка она забывала теперь единственную, последнюю строку стихотворения, в котором были солнце, любовь, весна и ослепительная желтизна пушистой вербы — стихотворения, которому она учила нас в ту весну в бузбулакской школе…
Позднее у Сафуры еще появились дети. Значит, порыдав однажды, она навсегда излечилась от своего недуга. Господи, что ж это было за рыдание!.. А там, где она спит теперь вечным сном, есть там любовь, свет, стихи? Стихи…
И мне вдруг вспомнились еще одни тогдашние стихи, только совсем другие.
Стихи, написанные углем
Стихи были про учительницу Физзу. Про ту Физзу, что когда-то, поднявшись с первыми петухами, громко звала Сафуру, стоя у их калитки. Про Физзу, которая вместе с Сафурой пришла тогда в школу давать уроки. У Физзы была желтая жакетка, волосы с желтовато-солнечным отливом, а верба во дворе бузбулакской школы была в ту весну желтая-прежелтая. Она была так похожа на учительницу Физзу, эта верба…
Позднее Физзу выдвинули, избрали депутатом. На школьной веранде, на правлении, на дверях, на стенах — повсюду развешаны были плакаты с ее фотографией. Как раз в то время и появились скабрезные стихи. Их написали углем на белоснежной стене мечети.
А дело в том, что в ночь ашуры, когда верующие тайком собрались у моллы Тейюба, чтобы справить траур по святым имамам, кто-то будто видел, как от Физзы вышел мужчина в черном костюме. И вроде бы не здешний он, из района. Что это был за человек, кто он был, навсегда, видимо, должно было остаться тайной.
Шуму стишок, черным углем написанный на белоснежной стене мечети, вызвал больше, чем шахсей-вахсей в ашуру. Первыми обо всем проведали мальчишки. С самого утра торчали они перед мечетью, кривлялись и улюлюкали. Потом у мечети стали задерживаться женщины — и те, что умели читать, и те, что не умели; вскоре и мужчины увидели стишок, но — странное дело — никому и в голову не пришло взять и стереть похабщину. Пришел дядя Талыб — председатель сельсовета, пришла Джейран — секретарь сельсовета; в конце концов они стерли черную надпись с белой стены мечети. Но не сразу — надпись должна была еще некоторое время оставаться, ее нужно было сфотографировать, потому что как же иначе найти написавшего стишок.
Об этом, правда, стало известно позднее, когда из района прибыли трое мужчин. Дядя Талыб, тетя Джейран, Зиянет Шекерек-кызы и те трое из района, собравшись в кабинете директора, долго бились над этой задачей: не осталось ни одного недопрошенного ученика, ни одной не просмотренной тетради: на чей почерк похоже? Но сочинитель стихов оказался хитрей даже тех, из района — писал печатными буквами — поди разбери, чей почерк!.. Так это и осталось тайной. Так же, как остался тайной человек в черном костюме, якобы вышедший ночью от Физзы. Осталась и чернота на стене — стишок стерли, но чернота долго еще не сходила с побеленной заново стены мечети…
5
На чистом имени учительницы Физзы стишок не оставил ни пятнышка. И депутатом ее избрали, и замуж она вышла, и детей нарожала. И со стены мечети сошло постепенно темное пятно. Но странное дело — где-то пятно все-таки осталось. Пятно от угля, которое стереть — раз плюнуть, и то, выходит, не исчезает в Бузбулаке бесследно. Ясно это стало лишь тогда, когда вернулся из армии Реджеб, тот, что пас раньше колхозный табун. Тот Реджеб, который, придя из армии, сразу же, в ту же ночь до полусмерти избил за мельницей председателя Джумшида, а потом сам, своими ногами пришел в милицию. Он тогда отсидел два года. Теперь Реджеб живет в Сумгаите, работает на каком-то заводе. Здесь, на поминках, он сидел рядом со мной.
Реджеб хорошо одет. Лицо у него строгое, властное. Он все молчал, покуривал, опустив голову. Изредка Реджеб поднимал глаза и окидывал сидящих выразительным взглядом: да, это я, Реджеб, это я до полусмерти избил Джумшида, и я настоящий мужчина — может, кто сомневается в этом?
То, что он до полусмерти избил Джумшида, пусть остается на его совести, но только и другие дела доказывают, что Реджеб — настоящий мужчина. Он быстро получил в Сумгаите квартиру. Женился. А главное — перевез к себе мать. И вроде бы забыл ту историю, что случилось с ним в Бузбулаке каких-нибудь пять лет назад. Только нет, такое не забывается. В наши времена не больно-то часто случаются подобные истории, а не только в Бузбулаке, а вообще на всей нашей необъятной планете. А история была удивительная. Не история, а прямо легенда, сказание.
Сказание о Рузгяр и Реджебе
Она была дояркой, он — табунщиком, оба работники животноводческой фермы. Джумшид же, когда Реджеб уходил в армию, не был еще председателем, ветеринаром был — это мы с вами запомним.
Реджеб и Рузгяр давно уже любили друг друга. Перед тем, как ему идти в армию, они обручились. Переписывались они, пока он служил или не переписывались — не знаю. Сказание же, как говорили, началось в тот самый день, как Реджеб вернулся — прямо тут, на вокзале.
Сошел Реджеб с поезда и видит: машина из Бузбулака. За рулем видит: тот же Мохсун — он водил единственную в то время машину бузбулакского колхоза. Но когда поехали, видит: Мохсун какой-то не такой — хмурится, помалкивает, на вопросы отвечает нехотя, а то и совсем не отвечает. Реджеб встревожился: или, думает, с матерью что, или с Рузгяр неладно. Спросил про мать — как, мол, она? Ничего, отвечает, здорова. А Рузгяр как? Прекрасно, говорит. Только сказать-то ведь можно по-разному. Вот Реджеба и взяло сомнение — не зря парень мнется. «А ну, говорит, остановись!» Сгреб Мохсуна за шиворот, выволок из кабины: говори, что случилось? Тот испугался, клянется, ничего, мол, такого. «Ей-богу, — говорит, все в порядке. И мать здорова. И Рузгяр. Только ее, — говорит — нет сейчас. Три дня как в Баку уехала».
— Зачем это ей в Баку?
— На совещание поехала.
— Какое еще совещание?!
— Обыкновенное.
— Кто ж ее туда послал?
— А это ты у дружка своего спроси!
— Какой еще дружок?!
— Разве Джумшид тебе не друг?
— Причем здесь Джумшид?!
— А притом, что он теперь председатель!
Но Мохсун главное не сказал. Не сказал, что Рузгяр выдвинули в депутаты. Что в Бузбулаке, на каждом шагу, и в школе, и в клубе, и в чайхане висят ее фотографии. То ли побоялся сказать, то ли от зависти не сказал. Но после этого разговора Реджеб в машину не сел. Пришел он пешком, — уже темно было — и не доходя до деревни, от сторожа, караулившего коровник, узнал, что Рузгяр выдвинули депутатом.
Рассказывают, что, не заходя домой, Реджеб прежде всего посрывал отовсюду плакаты с фотографиями Рузгяр. Потом подошел к мечети, чиркая одну спичку за другой, внимательно обследовал стену, где когда-то были стишки про Физзу, и сразу отправился к Джумшиду.
— Такая твоя дружба, подлец?! Я в армии, а невеста моя в Баку по гостиницам трется?!
Надо признать (так по крайней мере утверждают), Джумшид проявил в ту ночь большую выдержку. Он все старался вразумить Реджеба, объяснить, что ничего плохого не случилось. Что как ни высоко было достоинство Рузгяр, сейчас оно в десять раз выше.
— Мы же с тобой пуд соли съели! Пусть она слезами из глаз моих выйдет, если я к твоей невесте без уважения! Это же почет для тебя, что ее депутатом! И пятьдесят рублей на дороге не валяются; зачем их кому-то отдавать — пускай Рузгяр пользуется! А вообще, если хочешь знать, я, можно сказать, и ни при чем. Доярки были нужны. Я троих назвал, они Рузгяр выбрали, виноват я, да?.. Иди, Реджеб. Иди и ложись. Все же нормально, честное слово! Весной поставлю тебя директором фермы. Заживем с тобой!..
Но Реджеб ничего не желал слушать.
— Так, значит? Значит, заживем? Что ж, сволочам неплохо живется!.. Я вот тебя сейчас измордую, сука поганая, а потом живи, если сможешь!..
Джумшид и это стерпел.
— Ладно, — говорит, — мордуй. Только не ори, ради бога. Ночь ведь — детей разбудишь!
— Пошли за мельницу!
Вышли на улицу. Идут, разговаривают… Джумшид все надеялся уломать его, на мировую его склонял, только Реджеб ни в какую. Кончилось тем, что избил он Джумшида до полусмерти, взвалил чуть живого на спину и отнес жене.
А продолжение этой истории рассказывают в Бузбулаке так.
Притащив чуть живого Джумшида домой, Реджеб, будто бы, сразу же пошел к матери и сказал, что срок службы его продлен и прибыл он только на побывку; часок-другой и обратно. И будто бы той же ночью Реджеб явился к Мохсуну, разбудил и начал выспрашивать такое, что нормальному человеку даже и в голову не придет.
Ну, к примеру:
— На какой машине Рузгяр ехала на станцию? (Будто в колхозе еще есть машина, кроме той, что Мохсун водит).
— Какое на ней было платье? Какой платок?
— В машине ни с кем не говорила?
— Встретилась она с кем-нибудь на вокзале?
— Кто еще сел в вагон, в котором она поехала?
И даже такое ляпнул:
— А мужчина в черном костюме не влезал в тот вагон?
Словом, бред какой-то. Потом будто бы Реджеб ни с того ни с сего сказал вдруг Мохсуну, что это он сам видел тогда, как от Физзы выходил один в черном костюме. Сказал и пошел в милицию. А еще говорят, будто видели его в ту ночь у калитки Физзы — сидел на камне и рыдал, ну, это-то уж сплошная выдумка. В Бузбулаке издавна так: начнут о чем-нибудь судачить, не успокоятся, пока не получится настоящая сказка по всем правилам. Не могут у нас в Бузбулаке без сказок, никак не могут; хоть в каждый дом телевизор ставь, на каждой улице фонари вешай… Конец сказания о Рузгяр и Реджебе лишний раз подтверждает это.
Вернувшись из Баку, девушка бросилась в район: всю ночь прорыдала она под дверью предварилки, где сидел взятый под стражу Реджеб; целую неделю потом, голодная и холодная, не отходила от тех дверей. И прочее, и тому подобное…
Рузгяр будто бы подавала заявление, просила, чтоб Реджеба выпустили, только Реджеб не вышел. Сказал, если выйду, убью тебя, на куски изрежу, собакам скормлю. Словом, такой вот конец. Разбери: где кончается правда, начинается сказка. А Рузгяр, пролившая реки слез, поклявшаяся у дверей тюрьмы, что до смерти не выйдет замуж, давным-давно замужем, и по улицам Бузбулака бегают ее ребятишки…
Кстати, не читал ли Реджеб статью, напечатанную на днях в газете. Заголовок: «Доброе утро, Рузгяр!», подпись: «Неймет Намаз». (Бузбулакец Ненматулла Намазов здоров статьи писать!). Он тоже тут, на поминках, я сразу приметил у ворот его красные «Жигули». Вот это мужик! Это молодец! И причем на редкость общительный. Чуткости в нем — океан безбрежный: никогда не забывает по телефону оповестить всех живущих в Баку бузбулакцев о каждой своей статье. Газету со статьей о Рузгяр он вручил мне лично на похоронах Садыка-киши. Я прочел и тут же вернул ему газету.
6
Заглядевшись на Нейматуллу, я отвлекся и не заметил, что Реджеба уже нет рядом. Ушел. Не было и тех бузбулакцев, что приехали сегодня утром. (Вероятно, собираются ехать ночным и отправились на вокзал за билетами). Все остальные были пока на месте. Но сейчас, когда Реджеб и те трое ушли, за поминальным столом стало вдруг как-то пусто, несмотря на то, что присутствовал Неймет Намаз — фигура значительная. Может, мне показалось так потому, что большинство оставшихся я хорошо знал, и в этих людях не было для меня ничего особо интересного. Знал, что так же, как и я, они кончили институт; учили то же, что я, по тем же примерно учебникам (десять лет раньше, десять позже — какая разница?); где-то работали, получая примерно столько же, сколько я, имеют такую же примерно, квартиру, и живут примерно так же. Кроме того, уверяю вас, в том, как эти люди смотрели, говорили, даже в том, как держали в руках стакан с чаем, было достаточно много общего. И должен сказать откровенно: рядом с ними даже Нариман, сын Садыка-киши, казался человеком необычным.
Хотя бы потому, что, глядя на него, понимаешь: вот этот не имеет ни малейшего представления о хитростях и мошенничествах, во множестве существующих на свете. Совершенно ясно, например, что Нариману никогда не доводилось воровать дынь с колхозного баштана, таскать коржики из сундука у бабушки. Учителя никогда не сажали его на заднюю парту за то, что он непригляден с виду, и в институте он не стремился сесть в первом ряду, чтоб обратить на себя внимание преподавателей. Видно было, что Нариман ни разу в жизни не имел дело ни с комендантом, ни с управдомом, ни разу в жизни не сунул никому взятки, и сам ее ни разу не взял. Похоже даже (да, да, не удивляйтесь!), что Нариман в жизни своей ни разу ни перед кем не подхалимничал…
Нет у него в лице следов таких поступков. Вот слабость чуть-чуть угадывается, мне думается, это свидетельствует либо об уме, развитом несколько выше нормы, либо (прошу меня извинить!) с несколько ниже нормы развитых мужских способностях — в чисто домашнем плане, разумеется…
Нариман — главный инженер на каком-то заводе, живет он в трехкомнатной квартире, полученной Садыком-киши еще в двадцатые годы. Сейчас Нариман молча сидел возле Рафи, обхватив рукой подбородок.
По другую сторону от Рафи сидел человек по имени Даян — более популярного имени там, в Бузбулаке, нет и не было. Во-первых, потому, что у Даяна не меньше десяти домов родни, а для того, чтобы имя человека славилось в Бузбулаке, вполне достаточно, чтобы — не много, нет — один человек из каждой: дома, где живет эта родня, раз в день на улице, у родника, у тендира за выпечкой лепешек произнес бы «дядя Даян». Кроме того, в каждом из этих десяти домов имеется по десятку ребятишек. И целое поколение — это минимум! — выросшее в этих десяти домах, на протяжении вот уже скольких лет и к месту и не к месту клянется именем все того же дяди Даяна. Второй причиной популярности Даяна-киши был его сад. Огромный, без конца, без края сад миндалевых деревьев. А миндаль — кожица, что бумага!.. Такой миндаль рос только в саду дяди Даяна. Кое-кто говорил, что саженцы своего миндаля дядя Даян привез из самой Греции, но старики утверждали, что ни из какой не из Греции, а просто из Крыма. Но дело не в этом. Дело в том, что есть в Бузбулаке такой сад, и хотя он давно уже стал колхозным садом, бузбулакцы все равно зовут его «Даянов сад». Это тоже одна из причин того, что имя дяди Даяна минимум сто раз в день звучит в Бузбулаке.
Но странная иногда получается вещь. Глядишь на дядю Даяна — и не веришь, что этот человек мог когда-то разбивать сады, сажать деревья; у человека, вырастившего сад, что-то остается в лице: примета какая-то, память… В человеке вообще немало того, что роднит его с деревьями, делает похожим на них. Но главное, чем он на дерево не похож — дерево, вырванное из земли, погибает; человек же спокойно существует и вырванный из родной земли. Дядя Даян — лишний тому пример.
Он уехал из Бузбулака лет на пять раньше Рафи. Жил в Тифлисе. Работал директором бани, потом перешел в торговую сеть: был чайханщиком, буфетчиком, завмагом — кем только не был. Но слухи об этом дошли в Бузбулак много позднее, поначалу же все считали, что дядя Даян — самый большой человек в Тифлисе. Для меня, например, Тифлис и дядя Даян долгое время значили одно и то же. Мало того, когда-то я был твердо уверен, что место, называемое «Тифлис», — сплошной миндалевый сад, — в моем сознании дядя Даян неразрывно был связан с миндалевыми деревьями. Но, к сожалению, в один прекрасный день дядя Даян явился ко мне собственной персоной и полностью перевернул представление о нем. Честно должен сказать: я чуть не ругнул Даяна-киши.
Не будь того миндалевого сада
Дело было лет десять назад, я только что получил в Баку квартиру. В один прекрасный день (было около семи часов утра) раздался звонок. И дядя Даян, которого я до той поры ни разу в глаза не видел, вошел и с места в карьер начал: так не годится, милый, больно ты долго спишь.
— Вон я — скоро семьдесят, а каждое утро встаю ровно в шесть, как часы — сорок пять минут гимнастику на бульваре делаю. Потом душ холодный — пятнадцать минут. Чайку попью, закушу чего-нибудь. И на базар…
— Простите, — сказал я, — но я не знаю вас…
— Заважничал, стало быть… — старик не на шутку обиделся. — Ты же внук Курбанали? Курбанали — Медведь с нижней улицы? Не сердись, что я его так. «Медведь» — это хорошо — значит, сильный человек, крупный… Нам бы такими быть!.. С моим отцом, с Мешади Гасаном, они как братья были…
— Но…
— Постой… Я вот чего: нет ведь закона, чтоб в мои годы ходить к мальчишке. По порядку-то тебе бы надо меня разыскать. Что, неверно говорю?
— Вы говорите верно, но…
— Что «но»? Может, скажешь, имени такого не слышал — Даян? (Я сразу увидел миндалевый сад и услышал бесконечное «Дядя Даян», «Клянусь дядей Даяном»…)
— Конечно, слышал, — сказал я, — но…
— Но!.. И то, что я уже семь месяцев, как из Тифлиса переехал — этого ты не слыхал?
— Честное слово, не слыхал!
— Хочешь сказать, и на бульваре не встречал?
— Может, и встречал… Но я же не знаком с вами. Вернее, не был знаком…
Даян-киши с сомнением посмотрел на меня, и мне вдруг пришло в голову, что, пожалуй, кто-то мне его показывал издали вот, мол, тоже наш — из Бузбулака… Пока я размышлял об этом, Даян-киши задал новый вопрос:
— Сколько, по-твоему, в Баку бузбулакцев?
— Не знаю, — ответил я и подумал, что невредно было бы это знать.
— Все здешние бузбулакцы давно знают, что я уже семь месяцев, как приехал из Тифлиса, — оказывается, не статистика интересовала дядю Даяна. — И большей частью у меня побывали. Разносолов у нас в доме не водится, а пити или там бозбаш всегда найдется. А мясо это мороженое… Ни один тифлисец им и посуду марать не станет.
— Да…
— Да… — повторил он. И после небольшой паузы добавил: — Пьешь крепко…
Дядя Даян внимательно оглядел комнату, словно искал доказательств моих загулов. Но нигде ничего такого не было. Я и забыл, когда выпивал последний раз.
— Простите, — сказал я, задетый его словами, — откуда вы знаете, что я пью?
— Не знал бы, не говорил, — спокойно заявил дядя Даян. И глянул на потолок — будто доказательства пьянства находятся именно там. — Водка стольких сгубила…
Я дал себе слово не перечить этому человеку. Пусть порет чушь. Может, скорей уберется.
Вскоре Даян-киши действительно поднялся с места. Но, увы, направился не к двери, а на балкон.
— Плохо живешь, — сказал он, через минуту вернувшись в комнату. — В городе по-городскому надо жить. Жениться пора.
И дядя Даян так поглядел на меня, что я понял: отмалчиваться будет трудно.
— Да, — согласился я.
— Смотри, городскую не бери!
— Конечно, — сказал я.
— Квартиру-то когда дали?
— Конечно.
— Говорю, когда квартиру дали?
— Квартиру?.. Не помню…
— А-а… Значит, куришь. Водка уж черт с ней, выпей, коль невтерпеж, а с куревом кончай! Кончай, очень тебе советую! Это такой яд!.. Газеты-то хоть читаешь?
— Читаю, — серьезно ответил я, успев забыть свою тактику.
— Стало быть, видишь, как правительство поступает; открыто пишет: курение — вред! А в то же время, не выполни какой-нибудь председатель план по табаку, — такую клизму поставят!.. Захоти правительство, оно запросто могло бы запретить курение. А оно не хочет — нельзя силой. Хочет, чтоб люди умом дошли, чтоб сознательно, добровольно от яда отказались. Тут, брат, большая «палитка», очень большая…
Последние слова он произнес так многозначительно, что я даже, кажется, вздрогнул.
— Конечно, — сказал я. — Конечно, политика. Большая… Но только я не курю! Ей-богу!
Даян-киши с сожалением покачал головой.
— Не понимаешь, — сокрушенно сказал он. — Понимал бы, давно бы бросил. Вон тебе лет-то всего ничего, а говоришь — задыхаешься. И губы синие — все по той же причине. Завтра же отправляйся в бассейн! В воде особо не сиди — не в ней суть, главное — двигайся: поскачи, попрыгай, пускай копоть выйдет. Говоришь, не помнишь, когда квартиру дали?
— Почему не помню? Помню: ордер я получил двадцать первого февраля.
— Февраль, март, апрель, май… — по пальцам посчитал дядя Даян. — Четыре месяца. А уже ремонт нужен. У нас по соседству мастера живут — что надо!.. Тифлисские… Завтра вставай пораньше, пускай прямо с утра начинают. А то еще свяжешься с армянами. Армянин для мусульманина никогда на совесть не сделает, — это ты всегда помни.
Я чуть было не сказал опять «конечно», но тут меня осенило.
— Большое спасибо, — сказал я. — Очень вам благодарен за заботу, но я завтра уезжаю. В командировку. Надолго. Понимаете?..
— Понимаю. И билет взял?
— Взял.
— Далеко едешь?
— Далеко… На Урал, — чтобы спастись от этого человека, я не то что на Урал — в Сибирь готов был отправиться.
Дядя Даян встал и снова вышел на балкон.
— Удивительное дело, — сказал он, немного побыв на балконе. — Как ты тут можешь? Неужто не задыхаешься?
— Задыхаюсь, — ответил я. И вдруг заметил, что руки мои лежат на коленях, стиснутые в кулаки. Мне стало совестно. И когда дядя Даян язвительно заметил: «За воздух-то ведь налог не берут?», я заискивающе хихикнул.
— Окно почему не открываешь?
— Шумно очень…
— Так что лучше: шум или задохнуться?
— Задохнуться! — ответил я, — мне было уже все равно что отвечать.
— Ну, тогда задыхайся! — Даян-киши встал. — Езжай на Урал!.. Прокручивай деньги с Марусками!.. Твой дед Курбанали — Медведь косолапый, золото там для тебя зарыл!..
Нужно было, конечно, что-то сказать, но я не произнес ни слова — боялся, что старик снова опустится на стул. Слава богу, он пошел к двери. И мне вдруг захотелось выскочить на балкон, и, только старик покажется из подъезда, отругать его на чем свет стоит. К счастью, гость еще не вышел на улицу, а тут вдруг перед глазами у меня снежной белизной забелели миндальные деревья, и язык уже не повернулся ругать Даяна-киши…
7
…А здесь, на поминках, где собрались бузбулакцы, слышался сейчас один только голос — голос дяди Даяна.
— … это, конечно, так: в воспитании ребенка отец роль играет, только мать ничем не заменишь, это — статья особая. Вот тут вас, грамотных, полно, знаете, небось, в Америке есть такой врач — Бенжамин Спок, большой человек. Так вот что он пишет…
Нейматулла, чуть подавшись вперед, почтительно слушал дядю Даяна. А Рафи! Как он сжался, как съежился, бедняга! Того и гляди под стол нырнет!
… — Бенжамин Спок…
— Говорят, Ганбара опять забрали, — заметил мой сосед, — не знаешь, правда, нет?
— А не знаете, — с горечью произнес вдруг кто-то рядом, — почему никогда мы не ходим друг к другу?
И другой, словно на лету подхватив эти слова, громко повторил:
— Правда, почему? Почему мы не ходим друг к другу? Дядя Даян?
— Потому что скряги, — сказал дядя Даян, не спеша пожевывая большой кусок халвы, которую только что взял с блюда. — Жадны очень. — Оставив в покое Бенжамина Спока, он уже намеревался перейти к этой новой теме, но его перебили:
— Чего в Бузбулак не едешь, дядя Даян?
— А чего я там не видал — развалины?
— Как это? Родина же твоя.
— Нету у меня никакой родины.
— Это он верно… — с ехидцей произнес кто-то.
— Для меня то место родное, где… — дядя Даян закашлялся — то ли халвой поперхнулся, то ли еще почему…
— Где у меня сад расти может! — договорил за него тот, ехидный. — В Бузбулаке сейчас земли — навалом! Паши да засевай!..
— Ну все-таки… — видно было, что собеседник дяди Даяна так просто не отступится. — С братьями, сестрами повидался бы…
— Нет у меня там братьев!
— А Муслим? Муслим тебе что — не брат?
— Был бы братом, не женился бы на Карахановой дочке! Ведь Карахан тогда и отца нашего впутал — пять месяцев человек в тюрьме проторчал!..
— Ну, дядя Даян, у тебя на каждое слово отговорка!
— А ты умные слова говори! Не для того вас учат, чтоб чего не попадя мололи!.. — Тут дядя Даян почему-то взглянул на Неймета Намаза. — Я вот хочу сидящим здесь образованным товарищам вопрос задать. Только уж прошу повнимательнее: во вчерашних «Известиях»…
Поразительно, просто поразительно: человеку почти восемьдесят лет, и он нисколько не похож на нормального бузбулакского старика. Во всяком случае в истории Бузбулака таких стариков не было. Немножко дядя Даян похож на директора бани, немножко — на типового пенсионера, немножко (простите, ради бога) на профсоюзного работника, что ли…
Вырванные из земли деревья — погибают: наверное, в том их счастье…
8
Вскоре сидевшие за столом разбились на кучки, и в каждой завязался свой разговор (на поминках всегда так).
Нариман поднялся и распрощался, кивнув всем по очереди. Рафи тоже было заворочался на стуле, но куда там — дядя Даян бубнил ему что-то в самое ухо, да еще держал за руку, — вырваться не было никакой возможности.
На противоположном конце стола внимательно слушали Неймета; Неймет Намаз умел говорить, а главное — на свете есть много важных вещей, ему одному только известных. Так, например, Неймет Намаз прекрасно знает, что «родина» — это не Баку, не Бузбулак, не какой-то там сад миндалевых деревьев, Родина — это могучая сила, высокая цель — в общем что-то такое, к чему из всех собравшихся здесь людей самое близкое отношение имеет он — Нейматулла. Вернее, Неймет Намаз. Нейматулла — что, ерунда, Нейматуллой любой может стать, а «Неймет Намаз» — это не каждому дано. Слушавшие Неймета, видимо, именно так и полагали, потому что эффект от каждого его слова был настолько силен, что долгое время отражался на лицах, причем на многих лицах он задерживался настолько основательно, что чуть ли не заставлял человека вскакивать, бросаться к Нейматулле, обнимать и целовать его (на поминках и такое случается).
А Реджеб, наверное, уже едет: на метро, в троллейбусе, в автобусе… Мне почему-то казалось, что Реджеб, ехавший сейчас в Сумгаит, едет одновременно и в Бузбулак. Едет, чтобы помириться с Джумшидом, или уж прикончить его за мельницей. А может, и просто так: походить, поглядеть на места, где когда-то пас табун. (В этом смысле общий путь, проделанный на метро, в автобусах и троллейбусах каждым выходцем из деревни, нисколько, мне думается, не короче расстояния до самой дальней звезды). И может быть, Реджеб, едущий сейчас в поезде, метро, в троллейбусе или автобусе, давно уже в Бузбулаке и уже рассчитался с Джумшидом, и навзрыд плачет у калитки учительницы Физзы… Плачет оттого, что Сумгаит — не Бузбулак. И что жена его (пусть она даже ангел) — не Рузгяр, А может быть (как знать?), Реджеб плачет, потому что учительница Физза была тогда так красива, так красива была она… И что время, когда учительница Физза была так красива, никогда уже не вернется…
А как же Ганбар?
Кто-то сказал, что Ганбара опять посадили. За употребление и продажу анаши. Его все время то сажают, то выпускают… Но кто может утверждать, что, сидя в тюремной камере, человек не способен отправляться в далекий путь? Ой, может, и в тюрьму-то угодил потому, что была когда-то на свете учительница Физза и была она так красива, так красива… И может быть, в желтом тумане анаши видится ему желтое солнце — хмельное, весеннее солнце Бузбулака. Может, видится верба в желто-пушистом цвету во дворе бузбулакской школы… И может быть, в нем столько любви, страсти и жажды счастья, что они не втискиваются в человечью шкуру, и Ганбар истязает себя, губит свое здоровье, пытаясь сжать, сдавить, стиснуть их, чтоб осталось столько, сколько нужно для одного нормального человека. Во всяком случае, в те годы у нас в Бузбулаке не было парня сильней и ловчей Ганбара. На самые высокие деревья влезал только он. Только он плавал в самых опасных быстринах. И из всех бузбулакских мальчишек только у одного Ганбара хватало смелости в темноте пройти через кладбище…
Атаман бузбулакской ребятни, Ганбар первым влезал в окно клуба, когда там был концерт или показывали кино. На Новруз-байрам он больше всех выигрывал яиц и в мгновение ока умел утащить с колхозного баштана самую лучшую дыню… Ганбар был на два года старше меня. Мы только-только начали с ним дружить, когда их семья вдруг переехала в Баку.
В тот день Ганбар не явился в школу, а на первой перемене одна из девочек отозвала меня в сторонку и сказала по секрету, что после уроков Ганбар ждет меня в колхозном саду. Больше она ничего не сказала, да я и не допытывался: сам факт, что Ганбар ждет тебя в условленном месте — такая великан честь, что зачем бы он тебя ни позвал, не пойти было бы немыслимо. В тот день, в дальнем уголке колхозного сада, в чаще тутовника, я узнал от Ганбара, что он не придет больше в школу. Что дядя его вышел из тюрьмы. (Ганбарова дядю посадили давно, когда тот был колхозным счетоводом, а отца у Ганбара не было — не вернулся с войны). Ганбар сказал, что у дяди теперь в Баку дом, и он всех их забирает к себе. Только я никому не должен говорить — это навеки должно остаться тайной.
Ганбар внимательно посмотрел мне в лицо. Потом спросил:
— Чего ж ты не плачешь?
— А зачем? — удивился я. — Мне казалось, что такому можно лишь радоваться.
Потом совершенно непонятным образом возле нас оказалась девочка, та, что подходила на перемене. Словно возникла из воздуха — смотрю: стоит рядом.
Ганбар стрельнул на нее глазом, посмотрел на меня и улыбнулся такой улыбкой, что, вспоминая Ганбара, я всегда вижу эту улыбку на его лице.
— Ты понял, в чем дело? — спросил он.
— Конечно, — ответил я, хотя понял только теперь, когда он так улыбнулся.
— Закройте глаза, — сказал Ганбар.
Мы закрыли.
Он взял щепотку земли, посыпал голову девочки, потом мою.
— Откройте! — Мы открыли глаза. — Ну вот, — сказал он, теперь вы — брат и сестра. — Поручаю ее тебе. В кино, в клуб — ни в коем случае. Наденет на физкультуру «зиянетовы трусы», сразу напишешь мне…
Ганбар имел в виду спортивный костюм, в котором с этой осени Зиянет Шекерек-кызы велела девочкам являться на уроки физкультуры. По этому вопросу Зиянет Шекерек-кызы несколько раз собирала родительские собрания, но после того, как одна из старшеклассниц, один-единственный раз явившись на физкультуру в спортивной форме, навсегда опозорила себя, форму эту прозвали «Зиянетовы трусы», и даже наши учительницы, не говоря о прочих родителях, не разрешали дочерям надевать на физкультуру форму.
— Наденешь, башку отрежу! — свирепо сказал Ганбар. Он всерьез рассердился, вспоминая о трусах. — Иди! — приказал он, не глядя на девочку.
Девочка ушла. А мы там, в саду с удовольствием уплели одну из двух огромных дынь, которые Ганбар уволок утром с колхозного баштана. Вторую Ганбар спрятал в густой траве.
— Ясно? — спросил он, и я снова увидел на его лице удивительную улыбку, навсегда запавшую мне в память.
— Ясно, — ответил я. Потом мне всю ночь снилась огромная дыня, которую Ганбар спрятал в траве для девочки.
Они и правда тайком уехали из деревни. Ночью. К утру из Бузбулака исчезли две семьи. Ганбарова семья и семья его дяди. Оказывается, дядя уже год как вышел из тюрьмы, устроился на работу и даже построил хороший дом в одном из бакинских пригородов.
Много тогда было толков об этом ночном исчезновении. Говорили, что дядя Ганбар обижен, так обижен на Бузбулак, что не захотел больше видеть его днем. Не захотел видеть бузбулакское солнце — вот как обиделся человек. Но это, конечно, сказка. Солнце-то уж наверняка не виновато. Скорее всего Ганбаров дядя устроился неплохо. А почему ночью?.. Может, боялся, что помешают…
9
Когда, покинув брезентовую палатку, я вышел на улицу, мне показалось странным, что еще не наступил вечер — еще не зажглись огни, и как два часа назад, стоял все тот же мутноватый, промозглый декабрьский день, лишенный света и красок. И было странно, что за эти два часа время, казалось, совсем не сдвинулось с места; может быть, в эту мутную, лишенную красок погоду, слишком уж мало света, чтоб разглядеть движение времени. И мне почему-то казалось, что и через десять лет, и через двадцать лет будет такой же день: так же будут идти люди по улицам, так же стоять дома и даже вывески на этих домах будут того же содержания — та же будет их сущность… Движение времени — на данном его отрезке — означает сущностное изменение чего-то. И чтобы увидеть движение времени, ты должен быть составной частью этой сущности. Вот к примеру: когда однажды весной впервые зацвели миндальные деревья, саженцы которых дядя Даян приживил на бузбулакской земле, привезя их то ли из Греции, то ли из Крыма, он, наверняка, видел движение времени. И может быть, Рафи потому полез тогда в драку с бакинскими профессорами, что тоже хотел видеть это движение. А может, с помощью анаши Ганбар надеется повернуть время вспять? А Реджеб бил Джумшида затем, что хотел хоть чуточку подтолкнуть время?
Возможно, и Садык-киши затем лишь вернулся в Бузбулак, что хотел увидеть движение времени…
Через пятьдесят восемь лет
Когда я прошлым летом приехал в деревню, Садык-киши всего несколько месяцев как появился там, но уже обвык и так сжился с бузбулакцами, что если бы не одежда и кое-что в манере говорить, выдающее в Садыке-киши горожанина, никому бы и в голову не пришло, что этот человек пятьдесят восемь лет не показывался в Бузбулаке.
Ровесников его в деревне осталось наперечет — два-три человека. Кроме городской одежды и манеры говорить, Садыка-киши отличало от них еще и то, что он ежемесячно получал от правительства сто восемьдесят рублей пенсии. Именно поэтому бузбулакцы и считали его до некоторой степени человеком государственного значения. Но даже если бы Садык-киши и не был человеком государственного значения, в Бузбулаке нашлось бы кому два раза в день принести ему с родника воды. К тому же был еще жив Махмуд, тот самый, который с помощью Садыка попал когда-то на прием к доктору Нариманову, и не только избавился от диабета, но, как он сам говорит, повидал «большого человека», самим богом созданного возглавлять людей. «Начальство в человеке любую болезнь понимать должно, тогда и общую болезнь лечить сможет!» — таков был вывод Махмуда после встречи с доктором Наримановым. А лекарством от диабета оказался балдырган, тот самый балдырган, которого полным-полно в горах вокруг Бузбулака. Махмуд поставил таи себе палатку, три месяца в году пять раз на дню пил балдыргановый сок, и полностью излечился от диабета, что позволило ему сделать еще к такой вывод: «Начальство должно точно знать, где от какой болезни искать лекарство».
О том, как Нариманов обрадовался Садыку, как они обнимались, как шутили, Махмуд, конечно, рассказал односельчанам сразу, как вернулся из Баку. И с того времени, услышав имя Наримана Нариманова, бузбулакцы всякий раз поминали Садыка. Был период, когда имя Нариманова не было слышно, но Махмуд утверждает, что и тогда точно знал: Садык жив и здоров. Хотя бы потому, что во сне он видел Садыка только под деревом или у воды, а вода, и деревья — знак жизнестойкости и здоровья… Позднее Махмуд разузнавал, выяснилось, что Садык-киши действительно жив-здоров — сны не обманывали Махмуда.
Пятьдесят восемь лет прошло с того диабета. За все это время они ни разу не виделись. А приехал Садык-киши, и словно только вчера расстались…
Махмуд был счастлив, как ребенок, как ребенок радовался он возможности потолковать со старым другом. Дочери и внучки его ухаживали за Садыком-киши, прибирали у него, стирали белье. Только еду он готовил сам, — дескать, хоть что-то могу я делать?.. Однако в Бузбулаке понимали дело так, что готовку Садык-киши никому не доверяет. «Дольше прожить хочет». Если бы Садык-киши получал от правительства не сто восемьдесят, а только восемьдесят рублей, Махмуд, вероятно, не допустил бы, чтоб приятель его на старости лет жил один. Но в таких делах бузбулакцы — люди тонкие: вдруг да отыщется какой болтун — скажет, на Садыкову пенсию позарился…
Когда Махмуд и Садык-киши усаживались рядышком перед бузбулакской мечетью, вокруг них сразу же собирался народ. Разговор большей частью шел о Нариманове; в тишине и безмолвии Бузбулака, вероятно, и не могло быть более интересной темы, и кроме того, стоило старикам оказаться вместе и завести этот разговор, так тотчас возникали все новые и новые подробности. Рассказывая, как он умучился тогда, отыскивая Садыка, в «этом громадном Баку», Махмуд всякий раз припоминал истории, одна удивительней другой; ну, например, оказывалось, что Садык-киши водным путем доставлял Бакинским комиссарам оружие из Астрахани… В общем поговорить было о чем. Но начавшийся с Нариманова разговор, покружив вокруг да около, в конце концов почему-то неизбежно упирался в Джумшида, потому что, как сразу приметили бузбулакцы, тут у Садыка-киши было больное место. Едва Садык-киши появился в Бузбулаке, он в первый же день завел этот разговор и при всем народе заявил, что: «От Караханова сына колхозу добра не будет».
Теперь в Бузбулаке мало кому известно, чем занимался Карахан пятьдесят лет назад, чем он так насолил Садыку-киши, сам же он ничего не рассказывал. Что касается Махмуда, тот всякий раз, когда речь заходила о Карахане и Джумшиде, сперва молча посмеивался, потом начинал свой рассказ — всегда одинаково начинал, одинаково заканчивал — и, закончив его, всякий раз принимался хохотать.
— Примчался как-то ко мне, давай, дескать, вместе в колхоз вступать. «Ишь ты, — говорю, — мне от отца как-никак конь остался, пара быков. Я, если и заленюсь на колхозной работе, конь с быками мое отработают. А от твоего, говорю, отца, что осталось? Ишак? И того Караханом кличут! Как это, говорю, мы с тобой, прощелыга ты этакий, колхоз строить будем? Может, ты работать умеешь? Да если ты работящий человек, чего ж до сих пор не работал? Землю отцовскую Кебле Казиму чуть не задаром отдал, деньги — в картишки спустил?!» Плюнул ему в глаза и все. Он, дармоед, сколько лет потом в караульщиках в колхозе ходил, салом весь оброс, как свинья. И сам первый вор был.
От высказываний насчет самого Джумшида дядя Махмуд воздерживался. Может, остерегался. Может считал, что об этом только Садыку говорить. Не исключено, конечно, также, что поскольку дядя Махмуд и сам побывал в председателях, то полагал ниже своего достоинства осуждать теперешнее начальство. Когда Садык-киши принимался ругать Джумшида или возмущался непорядками, Махмуд посмеивался. Посмеивался и говорил: «Сам виноват!» Чего ж, мол, ругаться — твоих рук дело… Не потому, конечно, что дядя Махмуд и впрямь считал Садыка одним из устроителей и основателей всех порядков. Махмуд прекрасно знал, что если Садык и мог когда развернуться, так только в революцию, в самую что ни на есть заваруху. А чтоб посты занимать — откуда у него грамотность? Садык, может, потому и уберегся, и доброе имя свое сберег, что был всегда на рядовой работе, и сто восемьдесят рублей пенсии шли ему за то, что отличился в революцию. Это все так, все понятно, но что будешь делать, если даже в тех случаях, когда разговор упирался в Джумшида, Садыку-киши почему-то доставляло удовольствие считать себя зачинателем, устроителем и основателем всех порядков. Именно поэтому дядя Махмуд, и повторял так часто: «Сам виноват!».
— Невежда он… — ворчал Садык-киши. — Никакой культуры. Говоришь с ним, а он прямо слюной в лицо!..
— Сам виноват.
— Деревню совсем забросил. Библиотека столько лет не ремонтирована. А с людьми какое обращение?..
— Сам виноват.
Находились любители нарочно «завести» Садыка-киши. Некоторые пользовались его наивностью — Садык-киши был человек в высшей степени наивный. То он затевал ремонт библиотеки, то «строил» в деревне баню, то обмозговывал, где ставить новую школу, а когда затеи его одна за другой провалились, он предпринял еще одно начинание: собрал группу ребятишек и начал обучать их русскому языку. Ну и язык это был!.. Достаточно было один раз послушать «урок» Садыка-киши, чтобы никогда уже не поверить, что этот человек пятьдесят восемь лет жил в Баку.
— Ишто такой руски язык? Руски язык — язык Ленин. Руски язык зачем надо знать? Иштобы человек быт, асол не быт. Человек будешь, далеко пойдош, асол будешь, издесь будиш…
Библиотеку Садык-киши упорно называл «билботека», пчелу — «печел». Любуясь плодами на дереве или цветными камешками в реке, он, бывало, подолгу стоял, как завороженный. «Насдаящи исгусдо» — с чувством произносил он.
Случалось, Садык-киши впадал в гневливость. «Я революцию не для караханового сыночка делал!» — кричал он. Или начинал ругать земляков: «Как были вы чурбаны, так и остались! Рот да брюхо — ничего больше нет! Ничего не видите, ничего не слышите — знать ничего не хотите!..»
Иногда Садык-киши вдруг начинал тосковать. «В Баку это да, это жизнь была… Сюда только помирать ехать!» «Брось, Садык, — полушутя говорил ему Махмуд. — Не больно-то ты в своем Баку ублажался. И к нам не за смертью прибыл. Она, небось, тебя там донимала, вот и удрал сюда — от нее подальше…»
В общем такой он был, наш Садык-киши. Когда я уезжал в то лето, он оставался в Бузбулаке. Осенью я услышал, что Садык-киши снова в Баку. А потом, через сорок дней после его смерти, узнал, что Садыка-киши больше нет на свете.
10
Да, брат, такие дела.
Ну, я был уже почти дома. Немного погодя и Реджеб доберется до своего Сумгаита.
— Ну как поминки? — спросит его мать, старая тетя Муджру. — Наших много было?
— Нормально… — ответит Реджеб. — Бузбулакцев было навалом…
И тогда тетя Муджру начнет донимать Реджеба: а был ли такой-то, приехал ли тот-то? Вопросов посыплется столько, что в конце концов Реджеб взбеленится.
— Отстань! — скажет он. — Отцепись от меня со своими бузбулакцами. Чтоб он провалился, твой Бузбулак! Мне вставать утром — спать хочу!
И тетя Муджру перестанет расспрашивать сына и только жалобно скажет:
— Сыночек… Уж ты… Ради бога!.. Не хорони меня здесь!..
Мать вот-вот пустит слезу, и Реджеб решит за лучшее промолчать. Ляжет спать, и во сне увидит, что…
А, пусть себе видит что хочет! Рассказывать об этом — конца не будет. Я лучше свой сон расскажу. Мне в ту ночь такое приснилось!.. Чертовски странный сон.
Репортаж с поминок
Вроде я там, на поминках, и люди вроде все те же, только вместо серой брезентовой палатки раскинут огромный шатер, белый-белый. И кругом сад, белый-пребелый — цветет миндаль: сад и похож и чем-то не похож на бузбулакский сад дяди Даяна. И я никак не могу понять: деревья стоят за шатром или тут, внутри, потому что цветы белые-белые и шатер белый-белый — глаза режет от белизны (да, да, режет, хоть это и сон…) Кипят самовары, стоит еда — все как положено. И откуда-то доносится негромкий звук, знакомый, но непонятный: музыка это или самовар поет, закипая, или пчелы жужжат в купах миндаля — не знаю, но звук удивительно знакомый. И вдруг я понимаю: это миндаль, это голоса цветов (господи, как давно не слыхали мы голоса цветов!..); цветы то ли болтают о чем-то, то ли тихонько поют, время от времени даже знакомые слова доносятся до моих ушей, и если бы не самовар и не жужжание пчел, я разобрал бы, о чем они…
Потом мне приходит в голову, что это никакие не поминки — праздник. И еще, что я очень хочу понять, где я: в шатре или в саду — снаружи. И в то же время, когда я пытаюсь в этом разобраться, вдруг возникает Нейматулла с микрофоном в руках. (У микрофона длиннющий шнур, — как говорится, один конец здесь, другой на Камчатке).
— Начинаем наш репортаж с поминок! — бодро говорит в микрофон Неймет Намаз. — Первое слово предоставляется всеми нами уважаемому дяде Даяну. Прошу вас, уважаемый товарищ Даян.
С этими словами Нейматулла сует микрофон Даяну, тот откашливается, прочищая горло, и начинает пороть чушь (сон — во сне все возможно):
— Товарищи! Как вы знаете, я всегда против спанья. Потому что, если, поднявшись в шесть, я не выпью стаканчик чая, то до пол-одиннадцатого кусок хлеба в глотку не протолкну. Тут, товарищи, большая политика. Как сказал Бенжамин Спок, дома надо ремонтировать — чтоб воздух в них был чистый… И бросайте курить! Обязательно бросайте! Должен сказать, товарищи, что я не с пустыми руками пришел сегодня на праздник наших табаководов — славных, самоотверженных тружеников. Я прочту сейчас свои стихи, посвященные им… Нет… Я хочу сказать, что всех вас приглашаю к себе! Разносолов у нас не водится, а пити или бозбаш всегда найдется! А что касается мороженого мяса…
Не исключено, что этими словами дядя Даян мог бы испортить все дело, но Нейматулла вмешался вовремя.
— Продолжаем наш репортаж, — говорит он, в мгновение ока выхватив микрофон у дяди Даяна. Он быстро несет микрофон с волочащимся за ним шнуром к Рафи, но тут получается заминка, потому что Рафи сладко спит, положив голову на колени матери. Склонившись к спящему, тетя Гамер то ли напевает что-то, то ли нашептывает сказку…
— Тс-сс! — произносит она, когда Нейматулла подскакивает к ним. — Не трогай моего маленького. Спит. Устал. Так устал мой сыночек…
— Я всегда был против спанья, — снова заводил дядя Даян, но Неймет Намаз прерывает его:
— Спокойно, товарищи! Продолжаем наш репортаж. Слово предоставляется… — Неймет Намаз глазами отыскивает кого-то… (и ведь что значит сон!..) Дядя Даян, только что стоявший перед микрофоном, размахивая руками, спешит сюда откуда-то, с другого конца стола.
— Постой! Постой! — видимо, он кричит это Нейматулле. — Сейчас поглядим, кто тут… Под моими деревьями. По какому такому праву?! — и дядя Даян указывает куда-то рукой.
Я гляжу, куда он показывает, и вижу Садыка-киши; тот стоит под роскошным миндальным деревом, и любуется цветами (За ним в кустах какое-то движение, вроде бы кто-то прячется, но Садык-киши ничего не замечает).
— Насдаяши исгусдо!.. — говорит он.
— Что?! — дядя Даян со злостью бросается на Садыка. — Думаешь, ты один все языки знаешь?.. Думаешь, мы друга языков не знаем?!
— Простите, я вас…
— Где ж тебе меня знать! — прерывает его дядя Даян. — Занесся больно!.. Но ты знай одно: дорого тебе станет Даяна не узнавать!
(В кустах позади Садыка-киши снова что-то шевелится).
— Спокойно, товарищи! — это, конечно, опять Неймат. Волоча за собой шнур, он идет прямо на Садыка-киши. Но не успевает он подойти, как из-за кустов выныривает бородатый человек, явный классовый элемент.
— Кебле Казим, ты?! — спрашивает дядя Даян. И почему-то таким осипшим голосом, словно в горле у него застрял кусок поминальной халвы. — Хорошо что явился, давненько тебя не видно.
Кебле Казим выглядит ужасно усталым. Без сил опускается он под миндальным деревом, скрестив перед собой ноги.
— Из Кербелы иду… — вздыхает он. — Пока из Греции добирался, в Крыму задержаться пришлось. Потому и притомился малость…
(Садык-киши по-прежнему любуется цветами).
— Ну?! — обрадованно восклицает дядя Даян. — Из Греции! Выходит, ты в курсе! — Он быстро усаживается возле Кебле Казима. — Как там на Кипре?
— Даян! — Кебле Казим умоляюще смотрит на него. — Ради ста двадцати четырех великомучеников, схороненных в священной Кербеле, не лезь ты ко мне с такими вопросами! Знаешь ведь: я никогда не занимался политикой! — Это он нарочно говорит громко, чтобы Садык-киши слышал. Но, видимо, для Садыка-киши не существует сейчас ничего, кроме цветущего миндаля.
— Не ври! — дядя Даян гневно сверлит глазами Кебле Казима. — Ты старый политикан! Ну скажи, чего тебя в Грецию понесло? А? Скажи, если честный человек! Миндальные саженцы добыть? Сад мой на нет свести?! Будешь Мешади Муртузу миндаль сбывать, а мой пускай на ветках гниет?! По-твоему, это не политика? Седой бороды стыдился бы!
— Да что Мешади Муртуз… Да к Мешади Муртуза с каких пор не видел… — стонет Кебле Казим и вдруг начинает всхлипывать. — У меня за ним, если хочешь знать, столько денег пропало — за тридцать пудов коконов!..
— Так получи — он жив-здоров! В Шуше живет со всеми своими тридцатью двумя зубами…
— Что?! — Садык-киши встрепенулся, только теперь очнувшись от своей цветочной дремы. — Мешади Муртуз жив?! Не может быть! О-о! — восклицает он, заметив, наконец, Кебле Казима. — Кого я вижу?! Мое почтение, Кебле Казим!
— Я из Кербелы… — стонет Кебле Казим и опять почему-то начинает плакать.
— Не ври! — встревает дядя Даян. — Из Греции ты идешь! А саженцы припрятал — знаю! И где, знаю! — Дядя Даян бросается на куст, за которым только сейчас что-то шевелилось. Но там (чего не бывает во сне) нет уже никаких кустов. На месте кустов нелепо колышется белоснежный тюлевый занавес.
— От имени наших славных виноградарей слово предоставляется…
— …слово предоставляется музыке, — произносит кто-то женским голосом, и я вдруг вижу что-то похожее на сцену, какой-то арык, женщина… И опять этот микрофон с длинным шнуром… Держа микрофон в руках, женщина идет вдоль арыка и поет какую-то песню, мне (через короткие паузы) слышна лишь одна строка: то ли микрофон заедает, то ли громкие аплодисменты мешают слышать песню.
Кажется, аплодисменты и разбудили меня. (Видимо, по телевизору уже с утра идет передача; там громко аплодируют, и мои мальчишки тоже в восторге бьют в ладоши). Я хотел было позвать жену и сделать ей внушение. Сказать, чтоб впредь, пока я сплю, ни в коем случае не включали телевизор. Но я не позвал жену — подумал, что видел сон, а в том, что этот сон кончился не так, как бы мне хотелось, нисколько не виноват телевизор; конечно, не будь этого шума, я, может быть, посмотрел бы еще и на арык, и на женщину, послушал бы этот испорченный микрофон… И в то же время — зачем скрывать? — мне пришло в голову, что если бы мой сон не кончился так печально, дядя Даян обнаружил бы в кустах саженцы миндаля, привезенные Кебле Казимом из Греции, начался бы новый скандал, и я (раз уж мне суждено быть рассуженным) проснулся бы от их перебранки…
Рассказы
Сказка о серебряных щипчиках
Отец торговал в районе колхозными дынями, и видели мы его лишь по вечерам. Тогда был только наш дом, был двор с тенистыми деревьями, были горы и солнце; был я, была моя бабушка; еще была у нас корова; как и отец, она с утра уходила и только вечером приходила.
Все остальное было там, за нашим забором. По ту сторону забота были другие дома, другие деревья, другие люди. Там были большие ребята, они били маленьких. Там были страшные собаки: они кусали маленьких. Там, за забором, случались свадьбы: люди веселились. Бывали и похороны, поминки: люди плакали…
Был я, и была моя бабушка, и по вечерам возвращались к нам отец и корова. Еще было такое место — «тот свет», и в ночь на пятницу, когда мы ложились спать, к нам приходил с того света дедушка. В четверг бабушка скребла и мыла весь дом. Дедов черный хурджун она вытряхивала и вешала в комнате на гвоздь. Прикручивала в лампе фитиль и тайком от отца оставляла ее гореть в коридоре. Отец ворчал, когда видел это, потому что керосин стоил дорого и возить его из района было тяжело, и потом, вы же знаете, ни в какой тот свет и ни в какого бога отец мой не верил.
Спал отец в маленькой комнате один. Мы с бабушкой спали здесь, в большой комнате, и в ночь на пятницу в коридоре возле нашей комнаты тайком от отца боязливо горела лампа. В такие ночи и мне было боязно. Я очень боялся деда, хотя бабушка уверяла, что дед наш совсем не страшный. Он отроду никого не пугал, «кыш» курице не сказал — такой уж был человек. И нас он не пугать ходит — проведать, поглядеть, как мы тут, есть ли у нас керосин, хватает ли хлебушка… И еще узнать, не сбились ли мы с пути истинного. А поскольку мой отец сбился с пути истинного, бабушка после каждого намаза, обратив лицо к небу, подолгу уговаривала бога простить отцу его прегрешения. Бабушка и меня научила молитве. Я принимался тоже упрашивать бога. «Господи, — говорил я, повторяя бабушкины слова, — ты милостив и справедлив, прости моего отца! Сам видишь, замучили человека: вечно на побегушках, кто только не помыкает, отпусти ему грехи, яви свою милость!» Бабушка говорила, что моя молитва быстрей дойдет до всевышнего, потому что я невинное дитя, и ангелы, что за плечами у каждого, не записали еще на моем лбу ни единого греха; и бог обязательно простит отца, потому что отец мой не ворованное ест, в поте лица своего хлеб добывает. А есть и такие люди, которым бог вовеки не простит: воры, завистники, богохульники, те, что слова пишут на мечети и грязное в роднике моют… Но в ту пору и эти люди были от меня далеко, очень далеко — по другую сторону забора…
По ту сторону забора было еще такое место — школа, там часто-часто звонил звонок. По ту сторону забора была лавка, возле нее кричали, ссорились из-за керосина. Много кое-чего было по ту сторону забора, но все далеко, очень далеко…
Был я, и была у меня бабушка, и мы с ней хорошо понимали друг друга. Когда в кронах деревьев чирикали воробьи или кричали сороки, мы были уверены, что они говорят между собой; и я был уверен, и бабушка была уверена. По вечерам, когда солнце опускалось за горы, мы оба нисколько не сомневались, что солнышко отправилось спать. Сорочьих птенцов, что гнездились на старой груше, мы оба знали наперечет — и я и бабушка. Завидев летучую мышь, мы оба обмирали со страху — и я и бабушка… И лишь по ту сторону забора бабушка становилась другой: она там всех знала, я не знал никого, она никого не боялась, а я боялся всех.
Был я, и была моя бабушка, и по вечерам возвращался домой отец, и возвращалась домой корова. Разговаривали на своем языке воробьи и сороки. И солнце уходило спать за горы. И где-то далеко-далеко, по ту сторону забора, жили чужие люди, лаяли страшные собаки. Где-то звенел звонок. Возле лавки ссорились из-за керосина люди. Керосин у нас был, и хлеб у нас был; чтобы убедиться в этом, ночью под пятницу приходил с того света дедушка; в ночь под пятницу в коридоре до самого рассвета боязливо горела лампа; а дедушкин черный хурджун становился еще чернее, еще страшнее чернел на своем гвозде. Еще были дедушкины черные четки. И бабушкины серебряные щипчики. Еще в те времена была девушка Садаф, она приходила два раза в неделю и серебряными щипчиками вытаскивала у бабушки из век какие-то жесткие волосинки. Они очень мешали бабушке втыкать нитку в иголку, и из-за них в кастрюле часто оказывались бабушкины белые волосы, и мне страшно становилось, когда они попадали отцу в тарелку.
Однажды бабушкины щипчики пропали: упали в траву под яблоней и потерялись. Я их искал-искал — не нашел. Потом Садаф приходила, тоже искала, не нашла. Соседка тетя Шаисте всю траву под яблоней перебрала по травинке и не нашла щипчиков. Бабушка прямо донимала меня своими нитками и иголками, а белые волосы чуть не каждый вечер отец находил в своей тарелке. Потом бабушка умерла. Ее унесли и закопали в могилу. Мне сказали, что бабушка ушла совсем, никогда уж больше не вернется. Бабушка ушла совсем, а дедушка приходил, как и раньше. Еще к нам теперь часто приходила тетя Медина. По четвергам она мыла полы, вытряхивала хурджун, ставила в коридоре лампу. И по-прежнему говорили на своем языке воробьи и сороки, и солнце уходило спать за горы… А потом пришла тетя Шаисте, и оказалось, что и бабушка вовсе даже не ушла.
Тетя Шаисте стояла во дворе, прислонясь спиной к дувалу. Тетя Медина пекла лепешки. А под яблоней, на том месте, где бабушка потеряла свои щипчики, летала большая синяя бабочка. Я хотел ее поймать, но тетя Шаисте вдруг громко-громко крикнула:
— Глянь-ка, Медина… Под яблоню! Под яблоню гляди! Ведь это Эсмет, ей-богу, Эсмет! Не тронь! Не тронь, сынок! Пусть летает! Это бабушка твоя щипчики поискать явилась!..
Я замер, обомлев от страха. Я стал сначала тяжелый, как камень, а потом легкий, как пушинка. Потом я поднял голову, огляделся; все вокруг стало другое, такое непохожее все стало… И тетя была не такая, и двор какой-то не такой. Солнце уходило спать за горы — я в жизни не видел подобного солнца. Никогда больше не видел я мир такого цвета, ни гор таких, на травы, ни деревьев…
Бабушка стала мотыльком и порхала во дворе над травой. Когда она отлетела далеко от яблони, мне хотелось позвать ее, показать, может, она забыла, где потерялись щипчики. Иногда бабушка прилетала не одна, с подружками, но я и их не трогал. Я помогал им искать щипчики…
И жили-были говорящие сороки, и звезды говорящие были… А по ту сторону забора лаяли страшные собаки. Возле лавки ругались из-за керосина люди. А у нас был керосин, и хлеб был, и, чтобы убедиться в этом, к нам по-прежнему наведывался дедушка…
Однажды ночью дедушка опять пришел. Была война, и не было уже ни отца, ни керосина, ни хлеба. И, когда дедушка пришел, я впервые не испугался, я даже обрадовался. «Дедушка, — сказал я, — у нас нет хлеба, ты принес?!» Дедушка сунул руку в хурджун — хурджун был тот самый, черный, что висел на гвоздике в комнате, — пошарил в одном кармане — хлеба там не было, пошарил в другом — тоже не было. Дедушка взял хурджун, встряхнул его, и на полу звякнули бабушкины щипчики… я сразу нашел щипчики, они и правда оказались там, в хурджуне. Я достал щипчики, повесил на яблоню, и бабушка, появляясь в саду, все летала и летала вокруг яблони. А дед после этого почему-то больше не приходил. Иногда вместо дедушки мне снилась летучая мышь — огромная, черная, как дедушкин хурджун, и каждое крыло с полхурджуна.
Как-то раз в один прекрасный день я отворил калитку и впервые сам, без бабушки, вышел в тот таинственный страшноватый мир, что был по ту сторону забора. Далеко уйти я не осмелился, побежал обратно. Вернувшись, я долго расхаживал по нашему двору, под нашими деревьями, я представлял себе тех людей, и те деревья, которые впервые в жизни видел сегодня без бабушки; я хотел, я очень хотел, чтоб те деревья были точно такие же, как наши, но деревья те почему-то этого не хотели.
И однажды эти чужие деревья стали уже совсем такие, как наши. Я осмелел и добрался до самого родника. Я смотрел на людей, толпившихся на площади перед мечетью, они были чужие, но совсем не такие страшные, как прежде. Не будь среди них Слепого Ислама, я, может, набрался бы храбрости и к самой мечети подойти. Но Слепой Ислам был там. Слепой Ислам был там всегда; он сидел на камне, прислонясь спиной к стене мечети.
Вокруг Слепого Ислама толпились ребятишки. Они все спрашивали: «Дядя Ислам, кто я?» — и протягивали слепому руку. Дядя Ислам каждого узнавал по руке, сначала он называл имя мальчика, потом имя его отца.
И вот однажды я тоже подошел к дяде Исламу.
— Дядя Ислам, кто я?
Дядя Ислам удивился, даже растерялся немножко. Взял мою руку, погладил. Перебрал пальцы, ощупал запястье. Потом повернул голову и угольно-черными глазами уставился на родник, вглядываясь во что-то такое, что ему одному было видно. И снова удивился и призадумался немножко, потому что и там, куда он смотрел, — это могут видеть только слепые, — он не увидел моего имени — меня нигде не было.
И я сам сказал дяде Исламу:
— Я Садык. Сын Наджафа.
И на площади перед мечетью среди многих других имен стали поминать и мое имя: Садык, сын Наджафа.
Потом оно стало слышаться чаще других:
— Садык, славный мальчик!
— Деточка ты моя, Садык!
Но это уже было потом, когда пришла совсем другая пора, когда я уже мог ходить в лавку за чаем и за водой к роднику. Я покупал дяде Исламу чай, притаскивал ему воды, и поэтому мое имя он выкрикивал громче и приветливей, чем другие мальчишеские имена.
Во дворе у дяди Ислама рос огромный ветвистый орех. Его могучие ветви свешивались над дорожкой, что вела к роднику. Это было еще в ту пору, когда люди были чужие и чужие старики — аксакалы говорили под орехом дяди Ислама загадочные слова. Возвращаясь с родника, старухи ставили под орехом кувшины и ведра и, поднимая к небу лицо, шептали: «Слева тебе, всеблагой, за великое милосердие твое!», «Не оставляешь убогого милостию своей!..», «Не оставь, всевышний, и меня, сирую рабу твою! Яви и моим несчастным сиротам щедрость и милосердие свое!..».
Они говорили это под ореховым деревом дяди Ислама потому, что дерево сплошь было усеяно орехами, прямо ветки ломились от тяжести. Случались и такие годы, когда на дереве не было ни единого орешка, и тогда женщины приходили к ореху и говорили: «Видно, и ты, всевышний, глаза закрыл на наши горести! И ты не добрей других, чтоб тебя сокрушило! Обездоленных сирот губишь!..»
Разговоры с богом под орехом дяди Ислама начинались весной и кончались лишь осенью, когда приходила пора отрясать его. Это все было в те годы, когда отрясать Исламов орех собирался народ со всей деревни. Длинный Камал, лучше всех умевший отрясать орехи и лучше всех плясать на свадьбах, весело посвистывая, влезал на самую макушку. Он там кричал, свистел, приплясывал, как на свадьбе, а из-под его тяжелой валки на землю градом сыпались орехи.
До самого захода солнца женщины и девушки собирали их: и во дворе, и на улице, выбирали из густой травы, доставали из арыка… Женщины торопились, потому что у них и дома было полно забот: и воды надо принести, и ужин сварить, и детей накормить… Солнце садилось, женщины уходили домой кипятить чай, готовить ужин, кормить детей… И это было как раз уз время, когда мы до самой темноты не давали покоя дяде Исламу:
— Дядя Ислам, кто я?
— Дядя Ислам, а я кто?
Потом я стал первоклассником. Но воробьи и сороки все еще болтали на своем языке. И солнце все еще ходило спать за горы, и были еще на свете и чужие люди, и таинственные, непонятные слова были…
Потом дядя Ислам почему-то и слышать перестал, но руки наши все равно мог узнавать. Я протягивал дяде Исламу руку. Он гладил ее, по одному перебирал пальцы, щупал запястье и всегда точно узнавал:
— Садык, сын Наджафа!
— Садык у меня молодец!
— Деточка ты моя Садык!
Потом и женщины, шептавшие под Исламовым орехом такие строгие слова, хорошо узнали мое имя — Садык, сын Наджафа!
— Наджафов Садык одни пятерки огребает!
— Дельный парень Садык, да хранит его господь!
— Я свою дочку за Наджафова Садыка отдам, такой умница растет!..
— Эй Садык, сын Наджафа, куда это ты собрался в такую рань?
— Эй Садык, это не ты нашему кобелю ногу подбил?
И настала пора, когда однажды во время урока меня и еще четверых ребят вызвали из класса и привели на школьный айван — мы должны были идти в район вступать в комсомол. Вместе со мной собирались поступать в комсомол Азер, Рахиб, Салатын и девочка по имени Мензер.
Нас выстроили на айване, чтобы посмотреть, как мы выглядим. Мензер была наряднее всех, у нее отец председатель, но и у остальных вид был вполне приличный, потому что мы подстригли ногти, вымыли уши, нам ведь еще вчера сказали, и обуты все были по ноге. Только Салатын обулась не по ноге, на ней были большие галоши, старые и рваные; она их как следует вымыла, но все равно галоши были очень страшные.
Галоши, конечно, заметили. Салатын испугалась и так расстроилась, что даже директорше нашей Зиянет Шекерек-кызы стало ее жалко. В район мы шли пешком. Был прохладный сыроватый весенний денек. И хотя денек был прохладный и сыроватый, девочке по имени Мензер стало почему-то жарко, она сняла свою жакетку, и жакетку эту почему-то накинул я. И стоило жакетке прикоснуться к моим плечам, как все сразу стало какое-то не такое — так уже было однажды… Пропала сырая прохлада, и холодные скалы сразу согрелись, оттаяли и стали не желтыми — красноватыми… И легкими-легкими стали. Почему так получилось, не знаю. Может, я очень продрог. А может, так получилось потому, что подкладка была шелковистая, нежная, а я до той поры ни разу не ощущал такой нежности и шелковистости.
И тут же мне стало казаться, что Мензер и сама такая: нежная и шелковистая, и руки у нее шелковистые, и ноги, и груди… И эта незримая девичья нежность и шелковистость просочилась мне в душу, чтобы остаться в ней навсегда.
И однажды ночью после кино, дождавшись, когда все разошлись, я влез Рахибу на плечи и на огромной старой чинаре, что росла возле самой чайханы, написал два имени: свое и Мензер; там уже много было разных имен.
И отец Мензер углядел на чинаре эту надпись. Он здесь же, возле чайханы, залепил мне здоровенную оплеуху. Потом схватил за ухо, притащил к дереву и заставил собственной рукой соскрести свою надпись.
Потом мы с Рахибом снова остались после кино. Я вскарабкался на самый верх, на самую последнюю, самую тонкую ветку. Ночь была лунная. Была весна, и воронята в гнезде, которое раскачивалось на моей ветке, были, должно быть, еще голенькие. Ворона вылетела из гнезда. Она кричала, кружила вокруг меня, била меня крыльями по лицу, но я не сдался, я выдержал, я написал на ветке эти два слова: «Садык+Мензер».
На этот раз надпись моя до самой осени оставалась скрытой под листвой. Но листья осыпались, надпись стала видна, и, боясь председателя, я даже близко не подходил к чайхане. Потом один раз отец Мензер поймал меня в колхозном саду и за ногу сдернул с ореха. Он приволок меня на площадь под чинару, отругал там при всем народе, затащил в правление, и только тут я понял, что все это из-за моей надписи.
В правлении отец Мензер не стал меня бить, только взял телефонную трубку и погрозился вызвать милиционера. Но и милиционера не вызвал. Посадил меня на диван, сел рядом и заговорил со мной тихо и ласково. «Тебе что, девок мало — писать? — спрашивал меня председатель. — У директора школы на что красотка, не пишешь!.. У Курбана-чайханщика дочь сучка сучкой, с кем только не шьется, чего ж ты ее не пишешь? Докторову дочку пиши! Мисира дочь куда красивей моей — пиши ее! Вот тогда я скажу: молодец, тогда я скажу: мужчина! Напишешь, приходи в сад, бери, что душе угодно. А это куда ж годится — председателя позорить решил?.. Врагам моим на потеху! Ведь мы еще с твоим отцом дружили. И с тобой друзья будем!..»
Нет, председатель, ты врешь… Мисирова дочка совсем не такая красивая! И на свете есть шелковистые скалы, есть горы легкие как пушок… В кабинете мне удалось удержать слезы, но, выйдя из правления, я заплакал навзрыд. Доктор, директор школы, чайханщик, учитель Мисир все еще стояли под чинарой. Стояли и смотрели на правление. Крикун Асад тоже смотрел на правление и орал, размахивая руками. Дедушка Аслан остановился поодаль и, просверливая палкой дырочки в земле, время от времени недовольно качал головой. А Асад-крикун прямо надрывался от крика:
— Вот она, справедливость — кричал он. — Любуйтесь, люди! Любуйтесь, как в государственном учреждении солдатских сирот истязают! Невинное дитя мучают! Ребенка безгрешного терзают за горсть орехов!..
Асад-крикун долго еще орал, про сирот и про государственное учреждение, где мучают солдатских детей. Такой уж он человек: ему и дела нет, что председатель меня пальцем не тронул, все равно, пока не накричится, не умолкнет.
Той же ночью я решил соскрести с чинары свои слова. И я почти долез до ветки, но вдруг испугался, уж больно она была тонка; правда, прошли только лето и осень, но вес у меня был уже не тот, да и смелость была уже не та…
А потом и ветка исчезла вместе с моей надписью и с вороньим гнездом — «проводам мешала»…
Женщины шептались у родника:
— Наджафов Садык-то в председателеву дочку влюбился…
А потом:
— Наджафов Садык в Баку уезжает!..
……………
— Это же Садык! Из Баку приехал!
— Ба, это ты, Садык?! Насовсем приехал, сынок?!
Странная у Ислама память, руки его помнят все. А может, это на моих руках он сделал какую-нибудь заметку: когда бы я ни приехал, он сразу узнает меня. Дядя Ислам берет мою руку в долго не выпускает, мы вроде бы разговариваем руками. И каждый раз руки мои отвечают Исламу на главный его вопрос: нет, я приехал не насовсем.
Каждый свой приезд я говорю ему одно и то же, я он каждый раз снова повторяет свой вопрос. Дядя Ислам почему-то уверен: тот, кто вырос здесь, у этого родника, не может уйти навсегда, когда-нибудь обязательно вернется…
А у родника все по-прежнему.
— Мухтарова-то Камала в Москве видели. Крепко, говорят, руки нагрел. Четвертных в кармане целая пачка! Это еще что, творит, в кассу сколько положено!..
— А про Якубова Рахиба в американской газете написано: книгу какую-то сочинил про атом…
— А Гафара Казимова прогнали. Деньги со студентов брал, опозорил деревню, чтоб ему шею свернуть!..
— Слыхали, как Салман Хасанджанов исхитрился? И сам человеком стал, и братьев к себе перетащил. В Сумгаите теперь живут, как сыр в масле катаются!..
А родник все журчит.
Дядя Ислам, как всегда, сидит, привалившись к стене мечети, сидит и, уставившись на воду, разглядывает что-то такое, что видно ему одному.
Может быть, он все-таки видит? Может быть, там, куда он так пристально вглядывается, болтают между собой воробьи и сороки и солнце отправляется спать за горы?.. Может, там сейчас день, жара уже спала и бабочка порхает над травой — ищет серебряные щипчики… А может быть, там ночь, и в коридоре робко помигивает лампа, поджидая кого-нибудь «с того света»…
А может быть, там и нет никого, в том месте, куда он вглядывается, одна только черная-черная мгла…
И какой-нибудь маленький мальчик, страшась Слепого Ислама, не решается выйти на улицу. А какой-нибудь наверняка получает пятерки; может быть, его зовут Садык, а может быть, Али или Ахмед…
— Алиев Ахмед одни пятерки огребает!
— Смирный парень Ахмед, да хранит его господь!..
— Я свою дочку за Алиева Ахмеда отдам — такой умница растет!..
— Эй, Ахмед, это не ты нашему кобелю ногу подбил?..
Тяжелый камень
Рамизу Ровшану
1
В числе прочих премудростей мира сего Кебле Салману из Бузбулака известна была та простая истина, что стоит человеку умыться в роднике, освежить прохладной водой лицо и руки, как на душе сразу делается легче и мысли в голове проясняются. И когда у Кебле Салмана что-нибудь не ладилось или он окончательно выбивался из сил, он обязательно шел к источнику и умывался — за многие годы это вошло у него в привычку. Случалось, что Кебле Салман просыпался и среди ночи — так необходима вдруг становилась ему прохладная родниковая вода. Разумеется, все зависело от того, как он спал и какие ему виделись сны.
Если сон был дурной, Кебле Салман не глядя — ночь ли, за полночь ли, шел умываться; в усадьбе у него был родник, и одному богу известно, сколько дурных снов смыла и унесла в арык вода этого родника.
Время шло, Кебле Салман старел, и все чаще снились ему плохие сны, а с тех пор, как в деревне начали поговаривать о колхозе, Кебле Салман только и знал умываться.
С ранней молодости и по сегодня — а шел Кебле Салману девятый десяток — самые плохие его сны всегда начинались с черной тучи, и были тому причины. Первая причина была та, что раньше на месте его богатой усадьбы темнел пустырь, земля сплошь засыпана была галькой, завалена валунами, и столько их было, этих валунов, что Кебле Салман полжизни убил, пока расчистил землю. Вторая причина заключалась в том, что все эти камни принес в долину горный поток, а третья причина была — туча, — старики говорили, что прежде чем низвергнуться потоку, на небе явилась черная-пречерная туча. Сначала туче разразилась градом, потом из нее хлынул дождь, а вслед за дождем, все смывая на своем пути, ринулся с гор поток. Вот потому дурные сны Кебле Салмана и начинались с этой самой тучи. Только в его снах из тучи не град, а камни сыпались, огромные круглые валуны, те валуны, на которые он извел полжизни.
И потому, стоило Кебле Салману увидеть, что камни снова лежат на прежних своих местах, что земля снова завалена галькой, он срывался с постели и спешил к роднику — ополоснуться. И при всем том, настроение от этих снов у него не только не портилось, наоборот — делалось гораздо лучше. После подобных снов он с особым удовольствием расхаживал по своей усадьбе, а под каждым деревом, посаженным его руками, чувствовал себя, как в раю.
Когда начали поговаривать про колхоз, Кебле Салману чуть не каждую ночь стала являться черная туча. И каждый раз он вскакивал с постели, бросался к роднику и, только умывшись, постепенно начинал приходить в себя, однако по саду своему расхаживал без прежнего удовольствия и, сидя в тени под деревом, уже не ощущал райского блаженства. А потом Кебле Салман начал вдруг желать, чтоб этот его земной рай опять превратился в пустырь, и все лишь потому, что черная туча неожиданно пропала из его снов.
Однажды ночью вместо привычной тучи он вдруг увидел солнце, но такое страшное, такое жуткое, страшней всякой тучи, и с того дня Кебле Салман стал тосковать по своей туче, мечтал, чтоб она ему привиделась. Он потому тосковал по туче, что, во-первых, когда на небе туча, можно спать, а когда солнце, спать невозможно, а Кебле Салман в жизни своей ни разу не ложился днем. Во-вторых, потому, что тучи он боялся всегда, привык бояться, солнца же не боялся никогда, и теперешний его страх казался ему подозрительным; он начал даже опасаться за свой рассудок, хотя в общем-то догадывался, откуда у него этот страх.
Потому что сны снами, но с недавних пор так стало случаться и наяву; стоило этому самому солнцу высунуться из-за горы и, оглядев его усадьбу, приняться за дело, у Кебле Салмана сразу опускались руки. Работать как следует он не мог; повозится полчаса в саду и вдруг — глаза б ни на что не глядели — спина бессильно сгибается, руки опускаются, словно плети, к Кебле Салман, задрав голову к небу, в ужасе глядит на солнце. Глядит и словно бы наяву видит свой страшный сон; охваченный ужасом, бросается он к роднику и без конца плещет и плещет в лицо холодной водой, думая лишь об одном: неужели солнце останется на небе, если его земля уйдет из его рук?
Умывшись как следует, помочив водой голову, Кебле Салман большей частью приходил к выводу, что не может такого статься — не будет солнце на его земле растить урожай для других. От этой мысли легче становилось на душе, и некоторое время Кебле Салман мог без страха смотреть на небо к на солнце, и на свои угодья, но проходило совсем немного времени, и снова муторно становилось на душе, и снова немыслимо было жить на этом свете, и повинно в этом прежде всего было солнце.
Кебле Салман потому больше всего винил солнце, что оно было его ровесником; солнце появилось в тот самый день, когда он, открыв глаза, увидел, что живет на свете; все эти годы они работали бок о бок, вместе вставали, вместе ложились спать, а главное — когда Кебле Салман корпел на своем участке, пядь за пядью расчищая землю от валунов, солнце всегда торчало на небе. И чтоб после такого, после всего, что оно видело, солнце стало обогревать его землю для других, сладким соком насыщать плоды, которые заберут другие — у Кебле Салмана это просто не умещалось в голове. А слухи насчет колхоза с каждым днем становились все упорнее.
2
За лето Кебле Салман совсем изверился в родниковой воде, и осенью, когда работать в саду — одно удовольствие, он впервые в жизни начал ложиться днем спать. В ту осень большую часть урожая Кебле Салман собирал по ночам и перевозил ночью; в одну из длинных осенних ночей он перебрался из сада домой, в деревню, а тут выпал снег, пришла зима, а когда выпал снег, Кебле Салман, поднявшись утром, впервые за долгие месяцы почувствовал вдруг, что на сердце у него легко. Праздник был у него в то утро, потому что снег лег густо, плотно, земля Кебле Салмана надежно укрыта была снегом и, что бы там ни случилось, пока снег не стает, земля его никому другому принадлежать не будет.
Пока снег не стает, ничья нога не ступит на эту землю, никто даже и не увидит ее, и пока лежит снег, спящая под ним земля Кебле Салмана даже слова такого не услышит — колхоз; прекрасная земля, тучная земля, вдоволь напитавшись черных сливок потока, который год родит она без всяких удобрений; и как родит: пшеница — каждое зерно с горошину, подсолнухи — что твой поднос, клевер в рост человеческий; деревья по осени ломятся от плодов. Плодородие его земли больше всего и беспокоило Кебле Салмана, и сейчас, когда лежащую под снегом его землю нельзя было отличить от другой, Кебле Салман был счастлив. Выпавший за ночь снег сделал бесконечно далекими большие города, из которых приходят в Бузбулак законы и приказы, за одну ночь исчезли под снегом дороги, по которым поступают в деревню новости, и в это утро, когда дороги исчезли, низкая крыша сельсовета уже не казалась Кебле Салману зловещей.
3
С наслаждением ступая по пушистому нетронутому снегу, Кебле Салман поднялся на высокий берег. Давно не было в Бузбулаке такого снега, и Кебле Салман давно не смотрел на деревню с такой высоты. Отсюда она вся была, как на ладони: по склону горы — дома; внизу, в долине — пашни. Разделенная речкой, деревня лежала меж двумя горами вся в снегу и в солнце и вся сверкала; речка была словно и не речка, не вода замерзшая, а зеркало, и прибрежные ивы, все в снегу и в солнце, обрамляли это серебряное зеркало. Ниже, там, где кончалась земля Кебле Салмана, ивы кончались, но речка там на кончалась, она уходила далеко, потому что Аракс — мать всех рек и речушек, протекала далеко отсюда, а каждая, даже самая малая речка, должна была наконец встретиться с матерью. Кебле Салман стоял, глядел в сторону Аракса, и думал, что хоть раз в год мать-река обязательно должна увидеть детей и что-то поведать им; без этого нельзя, без этого речки иссякнут.
В то утро, стоя на высоком берегу, Кебле Салман видел, как по долинам и ущельям, вдоль бесчисленных деревень спешат к Араксу малые речки-дети, и, глядя ка эти бесчисленные речки, Кебле Салман дивился огромности мира. Наверное, потому, что вокруг было бело от снега и мир был удивительно чист и прозрачен, Кебле Салман, стоя на высоком берегу, увидел вдруг всю свою жизнь: жизнь, начавшуюся с весеннего утра, с зеленого холма, на котором паслись ягнята; он помнил цвета того утра, помнил каждого из ягнят, пасшихся на зеленом склоне.
Кроме ягнят, кроме зеленого утра, в памяти вдруг возникло еще одно — дорога в Кербелу, которой он никогда не видел — Салману не было и шести месяцев, когда его повезли в святые места, но о поездке этой столько было потом говорено, что Кебле Салман нисколько не сомневался: видел он эту дорогу и не зря его зовут Кебле. Прошли годы, и однажды в том месте, которое называют Кербела, объявился бог Кебле Салмана, и пока Кебле Салман возился со своими камнями, его бог в Кербеле тоже делал свое дело; закончив одну работу, Кебле Салман принимался за другую, а бог занимался все одним и тем же; Кебле Салман радовался его делам и дивился им, и так прошли годы…
Кебле Салман и сам не понимал, какой бог вдруг надоумил его, какая дорога привела в сельсовет, какой добрый ангел унес на легких своих крылах нескончаемую его сердечную муку…
— Пиши! — сказал Кебле Салман. — И землю мою пиши, и быков, и коней — все пиши! Пиши: я, Курбан оглы Кебле Салман, первым вступаю в колхоз!..
И с каждым выговоренным словом легче становился камень, так давно давивший ему на сердце…
Осень без инжира
1
Степь без конца и без края, снег по колено, луна, и в лунном свете по колено в снегу идут солдаты, обутые в черные сапоги; солдаты идут впереди и сзади, а он застрял, он не может стронуться с места: нога задубела, и никак он не вытянет ее из-под снега, сил не хватает вытянуть, а солдаты идут, идут и сзади, и спереди, еще немного — и те, что позади, свалят, затопчут его… Он собирает все силы, выдергивает ногу, но сапог увяз, сапог остался под снегом, а те, задние, все напирают, напирают… Он хочет крикнуть, чтобы подождали, чтоб командиру сообщили о беде: «Стойте! Сапог потерял! Сапог!». Он кричит, но никто не слышит его, потому что у него и голос пропал от мороза. Стиснув зубы, шагает он по этому проклятому снегу — одна нога в сапоге, другая — босая, и ужас в том, что разутая нога не мерзнет и не болит, ее будто и нет, этой ноги. С каждым шагом ужас сгущается, тяжелеет, а нога делается все легче, невесомей, потому что тяжесть ее ушла вверх, к сердцу, но ему сейчас не до сердца — нога, ногу пилят! Пила уже дошла до кости — сквозь скрип снега под солдатскими сапогами он слышит, как железо скрежещет о кость…
Скрежета этого Зияд-киши не вынес — проснулся; вздрогнул, глянул в окно, сел и набросил на плечи пиджак.
— Жена, — сказал он. — Пропал наш инжир!
Аруз не издала ни звука, но Зияд-киши знал: слышит; за пятьдесят с лишком лет, что он прожил с женой, не было случая, чтоб она не проснулась, если окликнуть. «Женский сон — птичий сон» — в Бузбулаке любому известна эта истина, и здешние женщины с пеленок усваивают ее.
Зияд-киши обул в коридоре галоши, спустился во двор: светло, луна сияет, и не поверишь, что с вечера мело. Неба чистое, без облачка, лунный свет как приморозился к снегу, блестит на нем свежей полудой, а из звезд будто льдинки сеются. Такого мороза не то что инжир — мушмула не выдержит.
«Своей рукой, — сокрушенно пробормотал Зияд-киши, — собственной своей рукой…» Он хотел сказать: «Собственной своей рукой убил», но поостерегся, потому что стоял возле инжира — нельзя, чтобы дерево слышало слово «убил». Горько было ему, потому что знал, потому что с вечера чуял, — быть морозу, хоть снег и валил вовсю, когда он выходил за водой. Он еще подумал укутать инжир — полотнищем, на которое ягоды стрясают с шелковиц, — да поленился из тепла выходить, от печки горячей оторваться. Но главное — погода, не поймешь ее, а то мыслимое ли дело: видишь же, что прояснилось, что быть стуже, а ты идешь себе да преспокойненько спать ложишься?..
Пропало дерево, сгубил его мороз. Крона погибла точно, может, ствол ничего, может, уцелел, тогда обрезать весной покороче — обойдется, а уж если и ствол тронут — тогда все, тогда только выкорчевать. Но выкорчевывать ли, пилить ли — одно другого не легче, — Зияд-киши и мысли не мог допустить, чтоб дерева коснулась пила: в ушах у него еще стоял ее мерзкий скрежет.
Зияд-киши словно примерз возле инжирового дерева. Нога опять задубела под снегом и — странное дело — опять не ощущала холода. Сейчас, кроме его онемевшей ноги, на всем белом свете не мерзло лишь инжировое дерево. Зияд-киши точно знал (и откуда он мог это знать), когда дерево почувствовало холод, когда начало коченеть и когда, вконец закоченев, стало засыпать смертным сном. Дерево ждало его, звало на помощь, беззвучно кричало о беде, и — самое главное — слышал, слышал он этот безмолвный крик, но лень одолела, из постели не захотелось вылезать, из тепла выходить не хотелось… Грех совершен, великий грех — старик понимал это, и он стоял и коченел, коченел, словно муками холода пытался искупить свою вину перед богом и перед деревом…
Зияд-киши вернулся в док, не чуя ни рук ни ног. Аруз уже беспокоилась: чего он там — не сдвинулся ли с места «аскал», застрявший под правым коленом?..
Сначала решила подождать: пусть согреется, отойдет, может, и боль отпустит; она ждала долго, но старик все не мог согреться, дрожал, с головой укрытый одеялом, и тогда она молча поднялась и пошла в коридор за дровами. Разожгла печку и снова легла. Печь разгорелась, свет ее озарил комнату, тепло помаленьку стадо проникать в зазябнувшее тело; мало-помалу холод отпустил старика, но горе никак не отпускало.
— Пропал наш инжир, жена! Сгубил я его, собственной своей рукой порешил.
Аруз не ответила. Слышалось лишь потрескивание дров, потом и оно смолкло. Огонь потух, дом начал выстывать, и Зияд-киши снова натянул на голову одеяло, но темнота давила его; он высунулся, открыл глаза, поискал глазами окно — увидеть лунный свет, но луна зашла, окно померкло, да и старуха уснула, и тяжко ему было в этой темноте, в безмолвии и одиночестве: беда, что случилась с инжировым деревом, казалась непереносимой…
Инжировое дерево Зияда-киши было единственным в деревне — инжир в Бузбулаке не выживал: больно зима студеная. Посадил он его давным-давно, в молодости, и все эти годы берег, холил, каждую зиму укутывал. Дерево он посадил над рекой, на самом виду, и по осени, когда созревала плоды, весь Бузбулак дивился инжировому дереву. И дивясь, всякий понимая, что хозяин этого чуда — умелец, мастер; да Зияд-киши и сам верил, что он настоящий садовод, когда стоял возле своего инжира, и по весне, когда он брал в руки лопату, чтоб окопать деревья, посадить рассаду или пристроить новые саженцы, вера эта очень помогала ему.
Каждую осень вспыхивало над рекой инжировое дерево, светясь поначалу красными, позже — коричневыми плодами; потом плоды лопались, и их маленькие пасти, полные ярко-красных зернышек, слепили завистникам глаза. А дерево стояло себе над рекой и каждое утро, на заре молча звало хозяина.
Осенними слякотными рассветами, когда глаза б ни на что не глядели, когда ни вставать, ни делать ничего не хочется, Зияд-киши подымался чуть свет, шел во двор и жадно глотал свежий осенний воздух, дивясь красоте осени и девственной чистоте вселенной. Стоило ему сорвать с дерева пару крупных росистых инжирин и съесть их, чтоб весь день чувствовать бодрость и свежесть, и бодрость эта, как бы запав ему в душу, весь год потом пребывала с ним. Каждую осень полмесяца, а то в целый месяц были праздником для Зияда-киши; теперь все, теперь праздника больше не будет, никогда не будет, и думать об этом в темноте и в одиночестве было сверх человеческих сил.
Зияд-киши хотел было разбудить жену, да пожалел, не стал. Повернулся, глянул в окно и, заметив, что уже светает, обрадовался, задумался; и так, не отрываясь от окна, вдруг увидел Казима; с деревянной саженью в руках Казим шагал прямо к инжировому дереву: это был тот, тогдашний Казим, Казим-землемер, и председатель Курсак Касым шел за ним, опустив голову. Казим мерил, Курсак подсчитывал — они отрезали от надела Зияда-киши землю для колхоза, и Зияд-киши вмиг сообразил, в чем дело: к инжировому дереву прет подлюга, прямо на него идет — в колхоз решил забрать, сукин сын! А вид делает, будто понятия и не имеет об инжире, — подпрыгивает, ухмыляется — ни дать ни взять лезгин-канатоходец!.. Сажень, пять саженей, пятнадцать саженей… Когда Казим, миновав инжировое дерево, остановился: «Все!», Зияду-киши стоило большого труда не ударить землемера по темечку. Они были ровесниками, вместе гоняли по улицам, немало влепили друг другу оплеух и затрещин, но теперешняя, не удержи себя Зияд-киши, дорого могла бы ему обойтись.
— Неверно меряешь! — сказал он, подходя к Казиму. — Давай сначала!
— Ты что, сдурел?! Как волоском срезано!
— Я тебе тем волоском башку срежу!
Казим вытаращился на него, негромко произнес: «Контра!», постоял, подумал и, видимо, решив что-то, метнулся вниз, к реке.
— Стой! — крикнул Зияд-киши. — Куда понесся?
— Казим! — крикнул председатель. И взглянув на Зияда, тихо сказал: — Ведь договорились, чего кобенишься?
— Именно что договорились. Про инжир не было уговору?!
— Дался тебе этот инжир! — председатель досадливо поморщился.
Зияд-киши мигом сообразил, что Курсак вроде за него.
— Так я что? Я разве против? — обрадованно зачастил он. — Я только про инжир. А так берите — словечка не молвлю!
Председатель отступил на два шага, носком сапога сделал на земле метку.
— Здесь. Клади сюда камень, Казим! Вот сюда! А ты все-таки чудной, Зияд! Ей-богу, чудной. Такие дела, все кругом вверх тормашками, а ты инжир!.. Интеллигент, ей-богу!
Зияд-киши насторожился, можно даже сказать, струсил.
— Это что за словечко такое? Не выговоришь… Умеют же люди слова придумывать!..
— Умеют, — согласился Курсак. — Слово новое, а смысл в нем старый: ежели ты настоящий человек, не мелочись…
Нехотя вскарабкавшись вверх по склону, Казим глянул на метку, оставленную сапогом председателя.
— Почему ж это здесь? — спросил он. Отказаться от инжира ему было не просто: мысленно он давно уже отобрал дерево у Зияда-киши, уже набил живот его крупными, спелыми плодами.
— Тут межа пойдет, — сказал председатель. — Инжир у него остается.
— Тогда меньше получается…
«Сука!» — мысленно обругал Казима Зияд-киши и сказал:
— Слушай, Курсак, что, если я его по башке трахну? Посадишь?
— Посажу!
— А почему?
— Потому что в данный момент он — не просто башка, а государственная голова. Цена другая. Ясно?
— Ясно.
— Вот так. Клади камень, Башка!
Казим взял большой голыш, положил, где указал председатель, и все, слава богу, обошлось, ни ссоры, ни кровопролития; напились у Зияда-киши чаю, перекусили и отправились восвояси в самом лучшем расположении духа… Земля по ту сторону от камня отошла колхозу, а Казима с тех пор прозвали «Башка». Такие дела… Слава тебе, всевышний, за великое милосердие твое!
Аруз хоть и улеглась, а сердце не на месте: уж больно старик тяжело вздыхает.
— Ну, чего ты? — наконец спросила она. — Чего развздыхался?
— А?
— Чего, говорю, вздыхаешь?
— Так… Сна нет.
— А нет, так и валяться нечего. Светает уже, еще чуть — и солнышко взойдет.
— Нет, жена, рано…
— Нога не мозжит?
— Нет.
— Чего ж тогда? Неужто по дереву убиваешься?
— Нет, тебя оплакиваю!
Аруз обрадовалась, но промолчала. Обрадовалась, потому что добрый это знак — когда старик шутит, и промолчала потому, что доспать ему надо, вздремнуть, пока не рассвело, а то днем ляжет, а после дневного сна он как больной ходит.
Она стала ждать, пока муж задремлет, а тем временем потихоньку начало светать, Аруз принесла дров, растопила печку, чай вскипятила, пошла готовить еду, сготовила, а когда вернулась в комнату, увидела, что Зияд крепко спит.
Присев у печурки, Аруз начала придумывать, как бы ей поднять мужа, потому что хуже нет — вот так валяться в постели: проспит до полудня, ночью без сна измается, а если ночью сна нет, чего только в голову не лезет… Сначала Аруз решила разбудить старика и послать его к одной из дочерей. Сына бог не дал, зато дочерьми не обидел: девять дочек, и все тут, в своей деревне пристроены — Зияд-киши далеко дочерей не отдавал, и правильно, что не отдавал, теперь у них, почитай, на каждой улице родня, есть кого навестить, есть к кому в гости наведаться. А чтоб не с пустыми руками ходить, об этом Аруз заботилась. Гранатов привезут из долины — гранатов купит, а яблок да груш у нее и своих до весны хватало; соберется старик внуков проведать — гостинчик припасен. Сундук и сейчас не пустовал, и гранаты, и яблоки, и виноград уцелел, и лимончики. С этим-то все в порядке, другое ее заботило. Уж больно сильный ночью мороз был, поди, обледенело все, как он тронется по такой-то дороге? Вот если подгадать, чтоб недалеко, да ведь надо еще, чтоб в доме том давно не был. Старик по очереди навещал дочерей, считая это святым своим долгом. У Зияда-киши и в мыслях не было наставлять, читать нравоучения; посидит с зятем, выпьет стаканчик чайку, внуков приласкает; но с его появлением в доме кончались ссоры, мелкие и немелкие, легче казались трудности.
Младшая дочь жила совсем рядом, да и сходить к ней пора: не больно, вроде, жизнь ладится — женщины у источника давно уж шептались об этом, но, как назло, их младшенькая жила в самом неподходящем месте, на горе; зимой ребятишки с утра до ночи оттуда не сходят — так раскатают — не дорога, а не поймешь что. Они и сейчас наверняка уж на горе — нечего туда и соваться… Аруз мысленно перебрала все дороги, ведущие к дочерям, и решила, что лучше уж ему не трогаться из дому: «Поскользнется, не приведи господь!» Однако она придумала, как поднять мужа с кровати: «Скажу, хингал готовить буду. Давай, дескать, иди за Казимом-Башкой, зови в гости! Враз поднимется! Его хлебом не корми, дай только с Казимом посудачить!..»
Довольная своей выдумкой, Аруз налила в миску воды, достала из сундука курут, положила отмокать и подошла к мужу. Подошла близко, а разговор завела издали.
— Меньшего-то у Казима в Москву послали… — издалека завела старуха разговор, издалека. — Поздравил хоть человека?
Зияд-киши открыл глаза, во вроде еще ничего не понял.
— Ты про что?
— Да про Казимова меньшого… Говорят, в Москву послали на учение. Как вернется, райкомом будет.
— Хм… — сказал Зияд-киши и снова закрыл глаза.
— Да будет тебе! Вставай… Я уже курут намочила. Хингал сготовлю. Сходи позови Казима, посидите, потолкуете…
Зияд-киши открыл глаза.
— Хм! — повторил он и сел. — Я что, я мигом!.. Говоришь, в Москву?
— В Москву…
Зияд-киши встал, оделся. Жена полила ему теплой воды из кувшина.
— Что ж, если в Москву, так оно и выйдет… Кто в Москве учебу проходит, на низовую работу не ставят.
— У Башки, слава богу, все сыновья пристроены. Все в люди вышли, все при должностях.
— Да, — согласился Зияд-киши, — сыновья удались. А сам как ни тужился, шишка из него не вытужилась!
И снова Друз порадовалась тому, что муж шутит. Насчет «аскала» она почти успокоилась, а вот дерево не шло у нее из головы, потому что знала она, что значит для старика это инжировое дерево.
Зияд-киши сел было пить чай, некоторое время молча глядел на еду, но, так до нее и не дотронувшись, накинул на плечи пиджак.
— Пойду взгляну!
Но на дерево Зияд-киши глядел недолго, сил не было на него глядеть.
2
Как всегда, весной первыми распустились ивы. Потом зазеленели миндаль, алыча, слива — одно за другим деревья покрывались листвой. Подошло время, и шелковицы выпустили на божий свет свои ворсистые, шероховатые листики, но инжировое дерево так и не распустилось… Зияд-киши хотел было спилить половину, — рука не поднялась. Тогда он решил — под корень! И пень выкорчевать: с глаз долой — из сердца вон! — но и этого не смог сделать. В эту весну у него не было ни сил, ни желания чем-нибудь заниматься…
Аруз не зря тревожилась, осколок в ту ночь все-таки стронулся с места, у старика теперь частенько прихватывало ногу… Но в прежние годы, хоть осколок и начинал гулять по ноге, Зияд-киши каждую весну справлял что положено; навозу одного столько, бывало, доставит из конюшни; нога волоком, а все равно: и деревья окапывал, и огород засевал… В эту весну он про навоз и не вспомнил; покопался малость во дворе, тут ковырнул, там царапнул; под фасоль начал землю готовить — бросил, помидоры сажать надумал, рассаду начал искать, да все больше у чайханы торчал, так что и с рассадой ничего у него не вышло… Навоз он на ишаке возил, теперь Аруз пришлось ведрами таскать. Она и огород перекопала, и грядки сама засеяла; ни зятьям, ни внукам даже намека не дала — не дай бог старика заденешь.
Ну огород, работа, бог с ними, а вот на улицу он зачастил — плохо. Зияд-киши прекрасно понимал, что для поддержания престижа человек должен лишь время от времени бывать на людях. Да и удовольствие это: принарядиться, расчесать бороду, неспешно пройтись по деревне, ты людям радуешься, и люди тебе радуются. Парни дорогу уступают, подростки встают, сигареты за спину прячут — лестно это… Красивый, осанистый, прибранный — на улице Зияд-киши чувствовал себя именно таким, и то, что женщины и ребятишки тайком поглядывали на него из-за калиток, было тому подтверждением.
В эту весну он без конца появлялся на людях, даже со счета сбился, и понял вдруг, что, без конца показываясь на улице, теряет что-то очень важное, очень ценное для себя, и тяжесть этой потери давила на него, как неподъемная ноша. Несколько дней Зияд-киши не выходил из дому — на ногу жаловался. Потом дней пять все собирался: торчал перед зеркалом, причесывался, усы ножницами подправлял, то с одного бочка, то с другого, и вдруг — как швырнет их в угол!
— Глаза б не глядели на эту морду!
Он понял вдруг, в чем дело, понял, чего боится. Осколок, с войны застрявший у него в ноге, медленно двигался к сердцу, у него все чаще давило в груди, но старик не на сердце жаловался, жаловался на свое лицо.
— Помру, что делать будешь? — спросил он жену, поднимая ножницы. — Покойников-то не очень боишься?
— Забрал в голову! — не отвечая на вопрос, зачастила Аруз. — Толковать больше не о чем? А ну, подымайся! Детей проведай! Спятишь — весь день в постели валяться!
— Может, я, и правда, умом ослаб? А, жена! Возможное дело, годы-то мои какие!..
То, что муж ее и впрямь сдал, Аруз заметила как-то вдруг, утром, когда Зияд-киши с афтафой в руках вышел из уборной, он словно в одну ночь ссохся, сгорбился, ноги что палочки… В этот день Аруз впервые сказала соседкам, что Зияд-киши заболел.
Но когда ее стали спрашивать, какая у него немочь, Аруз ничего не могла объяснить, потому что сама не верила, что такой несокрушимый мужчина пропадет из-за засохшего дерева.
— Ты хоть бы на волю вышел, на двор бы взглянул… Из-за какого-то поганого дерева помирать надумал!
Зияд-киши отмалчивался, когда жена заводила этот разговор, потому что смерть, что ж, смерть от бога, она никого не минует, но сойти в могилу с тоски по засохшему дереву — это ему и самому казалось странным. И, наверное потому, что не было у него никакого желания умирать, старик все старался представить себе утро, одно из тех осенних утр, когда он вставал с постели бодрый, веселый, сильный, легкий, как ветерок, и шел к своему инжиру. Не получалось: как ни старался он увидеть дерево живым, плодоносным, оно возникало перед глазами иссохшее, мертвое, и пусто становилось у него в душе, и все вокруг было мертво и пусто. И не было в этой мертвенной пустоте ни утра, ни осени, ничего не было…
Старание увидеть осень изматывало старика; устав, он закрывал глаза, тогда осень, которую он так хотел увидеть, скрывалась вдруг под погребальным покрывалом, и Зияд-киши понимал, что скоро умрет… День ото дня он слабел, все чаще впадал в забытье, а когда приходил в себя, снова, тайком от жены, начинал раздумывать, почему же все-таки, умирает, но додумать это у него не хватало сил: то начинало болеть что-нибудь, то в голову лезло совсем другое, то снова вдруг появлялось черное покрывало и затемняло все, и смерть тотчас овладевала всеми его помыслами, и от нового ее появления память, и без того ослабевшая, изнемогала. Сил у него уже не было, но он еще надеялся, надеялся хоть разок, только один разок увидеть осеннее утро, больше он ничего не хотел; сердце его билось лишь для того, чтоб из всего многоцветия мира увидеть единственный цвет — цвет осени, но смертное покрывало все вокруг делало одинаково черным.
Каждый вечер являлся Казим-Башка, подолгу просиживал у постели, по очереди приходили дочери, и, хотя старик не мог говорить, он весь день слышал их голоса. И как-то вечером, когда все ушли, в доме вдруг стало так пусто и покойно, что в этой пустоте и покое Зияд-киши забылся и впал в небытие. Невесомый и бестелесный, он снялся с постели и начал кружиться в пустоте и, кружась в этой пустоте, увидел вдруг дочерей, младенцами увидел, детьми… Как призрак, кружился он в пустоте и покое, и вокруг него кружились, плавали девять пар глаз — они сияли, эти глаза, и сила их сияния вернула его в жизнь, он собрал силы и очнулся. Снова он возвратился в этот мир, но возвратился он с новым горем: теперь он горевал о дочерях… Никогда прежде не видел он их под своей крышей всех вместе; одна за другой покидали они отчий дом; вылетали, словно птенцы из гнезда, и, как повзрослевшие птенцы, улетев, начинали вить свои гнезда. Он думал о дочерях, но видел каких-то птиц, гнезда их видел, и жаль ему было и этих птиц, и их гнезда, и он плакал тайком, неведомо для всех. И дочери его, выходя замуж, вот так же плакали, неведомо для всех. «Дочка, тебя сватает такой-то, сын такого-то, внук такого-то…» И дочь убегала, скрывалась с глаз, и он потом видел, что она бежит к инжировому дереву, где Казим положил когда-то межевой камень. Перелезши через забор, девушка пряталась в ивняке — потайное местечко, и, возвратившись, приносила ответ: «Как скажешь, отец». Порядок этот завела старшая, потом и остальные поступили так же: ивняк был тем местом, куда убегали они, прежде, чем дать ответ. О чем они думали там, в ивняке, отец не знал, да и зачем ему было знать? Ни разу не усомнился он в том, что возвратись из ивняка, дочери по доброй воле дают свое согласие на брак. Но теперь, когда смерть стояла у него в ногах, его вдруг охватило сомнение. Очень нужно было ему сейчас, перед смертью, понять, о чем они думали, там, в ивняке; его неудержимо тянуло туда, там его ждали дочери, и сейчас, перед смертью, он так хотел увидеть их, своих девочек, увидеть всех вместе, услышать их голоса — больше он ничего не хотел.
К утру Зияду-киши полегчало, ночью он не хотел помирать, дню, свету хотел он вручить свою жизнь. За какие такие грехи всевышний умертвит его ночью? Ничего он такого не совершал, и всевышний знаком своим дал ему знать об этом. Знаком этим был свет, льющийся с высоких небес, прозрачная чистота и ясность — как еще может создатель беседовать с творениями своими? Зияд-киши понимал это и был безмерно благодарен всевышнему…
— Не можешь ты свести меня в сад? — попросил он жену.
Он сам, своими ногами, выбрался во двор на солнышко. Аруз лишь поддерживала его. Долго добирались они до низкой деревянной кровати, где в летнюю пору стелили ему постель. Аруз думала уложить в нее мужа, но Зияд-киши не захотел ложиться, он надеялся добраться до ивняка, присесть там и хоть разок вздохнуть полной грудью, а коль придет его смертный час, там и принять смерть. С тоскою глядел старик на ивняк, на склон, на противоположный берег… Долго-долго глядел он в ту сторону, прощаясь с последней своей надеждой, потому что там был забор и, как низок он был, одолеть его было невозможно…
— Казим… — произнес старик. — Казим…
Если бы он захотел, у него, может, и достало бы сил сказать: «Пойди, позови Казима!», но он понимал, что сил мало, берег их, потому что надо было сказать Казиму очень, очень важную вещь… Потому что осколок уже коснулся сердца, потому что сердце его висело на нескольких волосках, и волоски эти рвались один за другим, и он слышал, как они слабо тренькают, обрываясь…
3
Вручая жизнь свету, дню, старик почему-то опять увидел покрывало. Странно — сейчас это было полотнище, то, которым он много зим подряд укутывал свой инжир, только цвет был другой — черный… Черное полотнище медленно закрывало солнце, свет мерк, и вдруг из солнца хлынула на мир черная-пречерная река; мощная, как горный поток, она неслась сюда, затопляя землю. Когда чернота затопила ивняк, Зияд-киши ушел из этого мира.
Тарист
Если бы Рустам не настаивал, на девичник в невестин дом тоже наверное, пригласили бы зурначей. Но Рустам-киши твердо стоял на своем.
— Я такого бесстыдства не допущу, — сказал он. — Или приглашаем Вели, или никого. Ведь мы же соседи, как я ему в глаза смотреть буду?
Вечером накануне свадьбы Рустам подошел к ограде, отделявшей его двор от двора Вели.
— Добрый вечер, сосед! — сказал он. — Завтра ведь свадьба, знаешь? Давай налаживай свой тар, играть у нас будешь.
Еще бы Вели не знал про свадьбу! Он не только про свадьбу знал, знал он и про разговоры, которые уже несколько дней ведутся в доме Рустама-киши, и прекрасно понимал, что на завтрашний той его приглашают исключительно из вежливости. И все-таки не смог отказаться.
— Тар у меня в порядке, — сказал Вели. И сразу где-то рядом, близко-близко, вроде у него в голове, что-то тихонько тренькнуло, издавая стон, словно тронули струны тара.
Вели хотел было послать мальчишку за барабанщиком Мухаммедом разучить парочку мелодий, но сразу же отказался от этой мысли: зачем, настоящий праздник состоится в жениховом доме, а туда его никто не приглашал. И потом, если они сейчас заиграют, у Рустама опять пойдет спор про музыкантов, а Вели легче помереть, чем представить себе, что снова пойдут эти разговоры.
Вечером, когда стемнело, в дом жениха приехали зурначи — их привезли из райцентра. И сразу на том краю деревни вдруг началось такое, что, слушая надрывный вой и рев, Вели только диву давался: или люди совсем посходили с ума, или он, старый тарист, понятия не имеет о музыке.
Но зурначи вскорости умолкли, потому что был еще не той, а как бы уведомление о завтрашнем тое; поиграй они чуть подольше, набежали бы ребята со всей деревни, попробуй разгони их потом… Вели осторожно высунул голову из-за ограды, поглядел — двор жениха залит электрическим светом, и горько ему стало от мысли, что развешанные на деревьях лампочки будут гореть до утра.
Старик подумал, что, будь он мальчишкой, тотчас перемахнул бы через забор, влез на дерево, поглядел бы, как готовятся к свадьбе, а главное, собственными ушами послушал бы, что они там толкуют про музыкантов. Но ничего не поделаешь, он не мальчишка. Вели тихонько отворил калитку, прошел вниз по улице и устроился в кустах возле речки… Журчала вода. Где-то куковала кукушка. Иногда налетал ветерок, и листья негромка шелестели…
Укромное это местечко Вели облюбовал уже давно, сразу как в Бузбулаке пошла мода приглашать на свадьбу зурначей. Вели приходил сюда всякий раз, когда тяжко было на душе. Сидел и слушал, как журчит вода, как шелестят на деревьях листья, как кукует кукушка… Прислушиваясь к этим звукам, Вели тихонько раскачивался, глаза у него начинали слипаться, дремота охватывала его, и сквозь дрему доносились до него чуть слышные переборы тара. Звук этот был тихий, едва уловимый, и шел он непонятно откуда; может, скрыт был в журчании воды, может, в шелесте листьев, но звучал, звучал невидимый тар, он всегда звучал в Бузбулаке. Подремывая на берегу реки, Вели непременно начинал размышлять о том, почему такое происходит, и всякий раз приходил к одному и тому же выводу.
Бузбулак не может быть без тара, голос тара неотделим от деревни, как птичий гомон, как голоса людей, как журчание воды в арыках. Иногда Вели приходило в голову, что, если бы тар замолк, вдоль бузбулакских арыков не цвели бы так пышно фиалки, не была бы такой изумрудной трава, вода не была бы прозрачной…
Музыка, звуки тара пронизывали память Вели. Ровный и чистый свет, с утра до вечера заливавший склон за их домом, — был голос тара, а мальчик по имени Вели пас ягнят на зеленом склоне. Самые красные, самые яркие в мире облака клубились на небе тогда, когда мальчик по имени Вели слушал игру тариста; голос тара до облаков вздымал его деревянного коня, скачки по багряным облакам — это тоже был голос тара… А пока мальчик носился по деревне на своем деревянном скакуне, отец его ходил с таром по свадьбам и празднествам; он приносил Вели ногул и другие вкусные вещи, и потому голос тара означал еще и ногул и другие вкусные вещи…
Все, что сохранила память Вели, было музыкой, звуками тара; и всякий раз, когда старый тарист, глядя на речку, прислушивался к невидимому тару, он все это видел перед собой…
И в тот вечер, видя перед собой все это, старый Вели думал, что завтрашний той будет, наверное, последним в его жизни. И думал, что не стоит ему идти завтра на той, что пора бросать, что надо разом покончить с этим. Пускай Рустам обижается, пусть, на худой конец, не станет с ним разговаривать, зато все в деревне будут знать, что старый Вели не нуждается в поблажках, что мастерство свое он дешево не ценил и никогда дешево ценить не будет…
«Ну, а потом… А потом… А потом?..» Вели без конца повторял эти слова и в такт им привычно раскачивался из стороны в сторону. Но как ни старался он представить себе это «потом», ничего у него не получалось, и старый тарист с горечью думал, что потом не будет ничего, кроме простой радости завтрашнего тоя и отказаться от этой радости сил у него не хватит.
Река текла, слышно было, как журчит вода, как листва шелестит на деревьях, но Вели почему-то не дремалось, и тара почему-то не было слышно. Он слышал звон посуды, которой уставят завтра праздничные столы, и радостные вопли ребятишек, облепивших стену вокруг дома… «Дорогу музыканту! Чаю музыканту, чаю! Халат музыканту!..» Да, так… И ничего тут смешного нет — Вели полжизни провел на свадьбах и празднествах.
Река текла, журчала вода… Откуда-то издалека доносился голос кукушки, налетал ветерок, шелестела листва на ветвях… A Вели видел тар, висящий у окна на стене, и играл, играл те мелодии, которые будет исполнять завтра, и голос тара, на котором он мысленно играл, снова слышали ивы, и камни, и речка… И тар старого Вели звучал с такой силой, что не слышать его было немыслимо, а услышав, немыслимо было уйти, и жители Бузбулака толпой валили на той, слушать, как он играет… Но Вели понимал: не будет этого, не может этого быть; он знал, что большинство людей, даже те, что живут по соседству, повалят завтра туда, где ревут зурны, что молодежь будет веселиться у жениха и что праздник в доме невесты — это так, видимость…
Наутро двор Рустама-киши заполнен был женщинами и девушками, и ребятишек было полно, и еще полно было солнца, ярким ковром расстилалось оно по двору, и на этом солнечном ковре кипели самовары, дымили очаги, взад-вперед разгуливали люди.
С того конца деревни неслось завывание зурны, но здесь, во дворе, где полно было солнца, звучал тар, и никогда еще Вели не радовался так его голосу. От этого голоса мир становился светлей, просторней. Голос тара заставлял кипеть самовары, он давал огонь очагам; и Вели казалось в это утро, что, разжигая самовары и раскладывая очаги, люди на солнечном ковре движутся в такт его мелодии.
Солнце оставалось во дворе Рустама до полудня, и до полудня, залитый солнцем, играл и играл Вели, и, залитые солнцем, плясали девушки и женщины, возились ребятишки, кипели самовары, дымили очаги…
После полудня очаг погас, но солнце еще не ушло, и самовар еще оставался на месте, и народу было порядочно, и рев зурны на той стороне деревни не был еще таким оглушительным. Но постепенно он становился слышнее, и люди постепенно расходились, а потом в доме невесты остался лишь пяток родственников да несколько дряхлых старух, и тогда Вели вдруг увидел, что солнце уже не то и самовар какой-то не прежний, да и двор уже совсем не тот…
И ведь как устроено на свете: было много людей и музыка была настоящая, а разошлись, и сразу не то, и тар звучит по-другому, и нет в его струнах силы, и завывание зурны уже заполнило деревню. Будь такая возможность, Вели вообще не стал бы больше играть, но возможности такой не было, потому что пяток родственников и несколько древних старух все еще желали развлекаться.
Вели продолжал играть, а сам ворчал себе под нос, и слова, которые адресовал он этому миру были очень даже необычные слова. Если бы Мухаммед чуть потише колотил в бубен, слова, которые Вели адресовал этому миру, можно было бы и расслышать, но Мухаммед колотил что есть силы — хотел выручить притомившегося тариста. Но дело в том, что тарист нисколечко не устал, — инструмент у него расстроился, а главное, он уже не пытался его настроить. Он все поглядывал по сторонам, словно хотел отыскать солнце, совсем недавно так щедро заливавшее этот двор, но солнце давно уже ушло, оно было далеко, и только на краю неба еще оставалось немножко света.
Вели и сам не знал, зачем нужно ему солнце, почему без солнца ничего у него не выходит, но он играл, играл, потому что нельзя не играть. Рев зурны давил и крушил все вокруг, и Мухаммед колошматил по бубну, так, что не было возможности терпеть, но Вели ничего не говорил ему, потому что в это время вел разговор сам с собой и не хотел посторонними словами мешать этому разговору.
…Потом Вели начало казаться, что женщины, еще оставшиеся во дворе, слушают только бубен, тара никто не слышит. А потом он увидел, что край неба уже погас и вечер опустился на деревню.
Стемнело, из женихова дома приехали за невестой, на улице за стеной надрывалась зурна, и, хотя во дворе по эту сторону стены еще звучал тар, Вели вдруг понял, что и тут, во дворе, люди слушают не тар, а зурну; пляшут под ее рев; понял вдруг так отчетливо, что ему уже ничего больше не хотелось сказать этому миру. Он взял тар и потихоньку ушел. А когда невесту увезли и праздник кончился, Рустам-киши долго искал соседа, чтобы выяснить, в чем же дело, но найти Вели он не смог, потому что тарист Вели сидел у реки на своем всегдашнем месте, и своем любимом укромном уголке.
Синее море
Сыну моему — Ильясу
Дом учителя Нияза стоял на горе, в сторонке. А школа была внизу, как раз посреди деревни. И меж ними лежала улица, вся залитая солнцем, светлая, особенно светлой была эта улица по весне, когда зацветали деревья.
И вот, сынок, в какую-то из весен глядели друг на друга два дерева, издали поглядывали они друг на друга зрачками своих цветов: одно росло во дворе у Нияза, другое — на школьном дворе, одно дерево было айва, а другое дерево — яблоня.
Яблоня — у нас в Бузбулаке есть такой сорт — красноватым цветом цветет, а у айвы цвет белый-пребелый. И вот под этой белой-пребелой айвой по утрам умывался Нияз, умывался и весело напевал. Потом улицу заливало солнце и оттуда, из солнца, из света доносился голос Нияза, чистый и ясный; в чисто-пречистой рубашке учитель Нияз шел в школу учить ребят. Шел по солнечной улице и здоровался с людьми, и ни с чьим голосом нельзя было спутать голос учителя Нияза. Голоса, сынок, хочешь верь, хочешь нет, тоже ведь цвет имеют… Вот стояла школа, а рядом с ней яблоня, вся в цвету, и от яблони этой на веранде все в красноту ударяло: звонок школьный на веранде и тот красным звоном звонил…
А потом опустела школьная веранда. И улицы стали пустые, и дома затихли, как неживые. И поглядывали друг на друга два дерева: айвовое — во дворе у Нияза, и яблоня — на школьном дворе.
Чтоб видеть мир вот таким, надо, наверное, быть совсем, маленьким, может, даже поменьше тебя… Скорей всего, та весна была первой, какую я видал на свете. Вглядываюсь я в нее из теперешней моей дальней дали, кажется мне, что в ту весну только два дерева и цвели и только одну ту улицу заливало своим светом солнце… И кажется мне, что письмо, которое написал учитель Нияз, потому и получилось такое прекрасное, что жил он меж теми двумя цветущими деревьями, а в солдаты ушел по той светлой, залитой солнцем улице.
Письмо учителя Нияза читалось у нас во дворе при свете керосиновой лампы. Было это летом, в разгар уборки, женщины только что пришли с поля. Смеркалось. Темноты еще не было, еще серое было все кругом, и лишь в ветвях, у самого их основания, у ствола, темнота уже стала плотной; постепенно густевшие тени шевелились, будто перешептывались; и шевелились тонкие ветки, в гнездах своих устраивались на ночь вороны…
В тот вечер, когда тетя Мензер при свете керосиновой лампы читала письмо учителя. Нияза, сам он был где-то возле моря. Море это называется Черное море, но вода в нем синяя-синяя, и по синей-пресиней воде плавают белые-пребелые птицы — чайки… А по берегам того моря леса, а в лесах — деревья; у нас не растут такие… Вот кончится война, вернется Нияз и обязательно повезет Мензер в те края. И будут они гулять в тех лесах. Она и море увидит. И плавать будет в синих волнах… Все будет, все, только береги себя, белая моя голубка. Хочешь, чтоб ребеночек наш был красивый, спи больше, фруктов ешь побольше. И еще, хорошая моя, на красивое глядеть старайся, как выдастся минутка, обязательно смотри на красивое…
«На красивое глядеть старайся…» Странные эти слова поначалу развеселили женщин. Потом они вдруг посерьезнели, задумались и стали рассуждать, какая есть на свете красота.
Начала разговор моя бабушка:
— Правильные его слова, — сказала она. — Об этом еще в Коране сказано. Ты, Мензер, на чистую воду гляди, — кра-а-си-вый ребенок будет!..
— Самая красота в тюльпанах, — сказала тетя Эсмер, — а тюльпаны, они весной, сейчас по всей деревне не найти. Может, потерпишь? — Тетя Эсмер усмехнулась. — Не рожай пока, распустятся по весне тюльпаны, тогда и родишь своего красавца.
— А может, тебе свекровь мою привести? — пошутила тетя Фатьма. — Приведу, пусть при тебе будет, нет-нет да и взглянешь на красотку!
Бабушке эти слова не понравились.
— Незачем свекровей поминать, — сердито сказала она. — Они вам всегда поперек горла!
Мама сидела молча, всматривалась в темноту. Тихо-тихо сидела, все думала. Потом будто очнулась:
— Господи, боже мой, — сказала мама. — Это ж представить надо — война, смерть, а он о красоте не забыл…
А потом мама рассказала что-то непонятное, что-то вроде сказки:
— Я тебе, Мензер, одну вещь скажу, только ты не смейся, ради бога… Ляжешь спать, положи себе руку на грудь. И будет тебе сон… Будто ты на горе… Высокая, высокая гора… И будто вся она облаком укутана, мягкое такое, пушистое… И будто покачиваешься ты легонько, как в колыбельке. А внизу будто моле бескрайнее: трава зеленая-презеленая, и повсюду тюльпаны, тюльпаны… И еще увидишь подсолнух, желтый-прежелтый, огромный, прямо с таз. И орел черный прилетит, прилетит и на подсолнух сядет. Ты его не пугайся, ты, главное, глаз не открывай. Откроешь, все пропадет. А вытерпишь, не откроешь глаза, почуешь вдруг на груди что-то теплое, ласковое, будто птичка на грудь тебе села. А это совсем и не птичка, это рука, Ниязова рука, и сам он тут, с тобой рядышком… Проснешься, и такая вся будешь легкая, не хуже того облака…
Мама умолкла, и тетя Мензер сразу положила руку на грудь.
Тетя Фатьма сказала, что ей тоже недавно привиделся сон, такой удивительный сон, только рассказывать сон она не стала. Вместо нее стала рассказывать тетя Эсмер, но сон у нее оказался очень длинный, и женщины начали дремать. А вскоре разошлись, потому что намаялись за день, а завтра опять вставать чуть свет, снова жать с темна до темна.
В то лето женщины жали с темна до темна, но про письмо все равно не забывали: врезались в память Ниязовы слова… И солнце садилось — вспоминали письмо, и луна всходила — вспоминали. Стоило засвистеть в ветвях соловью, женщины принимались звать Мензер. Красота, про которую писал учитель Нияз, была то росистой травой, то пунцовой розой… Как-то поутру прошел ливень, а когда ливень кончился, с крыши тети Фатьмы раздался вдруг громкий крик.
— Мензер! — кричала тетя Фатьма. — Выходи! Скорей выходи!.. Гляди, какая радуга!
Я тоже вышел на крышу. Тоже глядел на радугу. Это была самая первая радуга, которую довелось мне увидеть…
Уборка кончилась, сынок, женщин стали посылать на бахчи, и как-то вечером, возвращаясь с бахчи, тетя Мензер сказала, что она вроде бы вот-вот… И только потому, что она так сказала, наутро соседки не дали ей встать с постели, а меня посадили у нее в комнате, у окна. Я плакал, не хотел там сидеть. Чтоб я не скучал, женщины поймали мне кузнечика, привязали его на ниточку, и я его за эту ниточку держал. Кузнечик все о стекло бился, упрыгнуть хотел, а как упрыгнешь: и дверь закрыта, и окно. Я вдруг подумал, что и мне отсюда не выбраться, и начал громко реветь.
Тетя Мензер поднялась, открыла мне дверь.
— Иди, детка, — сказала она, — поиграй во дворе, только не уходи далеко…
С их двора вся деревня как на ладони. А на зеленом склоне, над речкой, огромные желтые подсолнухи. Солнце чуть-чуть только высунуло голову из-за гор. «Господи, боже мой!.. Война, смерть, а он о красоте не забыл…»
Весь день просидел я на глиняной ограде, окружавшей двор тети Мензер. По ту сторону, за оградой, была свалка, воняло, но я все равно не хотел уходить оттуда, потому что в том месте ограда была пониже и мне все было видно: и вершины гор, и ущелья…
…А когда я открыл глаза, то увидел, что лежу в траве. Из дома послышался голос доктора Сафии, потом закричал ребенок, и я понял, что тетя Мензер родила.
Родила она дочку, все сразу сказали: красивая. Только уж больно долго она у тети Мензер без имени оставалась. Из сельсовета ходили-ходили, записать, мол, надо ребенка, имя дать, а тетя Мензер говорила: «Вы как хотите, а я Ниязу письмо послала. Придет ответ, тогда и дам имя.»
Ответ от учителя Нияза так и не пришел…
Часами, бывало, сидит Мензер на ограде, где самое низкое место, и все смотрит, смотрит куда-то. Иногда подзовет меня.
— Видишь, — говорит, — море? — А сама на горы показывает.
А я гляжу, гляжу, на горы гляжу, на ущелья, и начинает мне море видеться… И такое оно синее, это море, такое синее, что так бы я в нем все и плавал.
Майский день
Т. Калякиной
Дома на склоне горы пчелиными сотами лепились один к другому. Местами на крышах еще лежал снег. Кое-где из труб поднимался дым, взахлеб брехали собаки.
Мердан стоял на горе; своим криком, свистом и пением он крепко досадил ей, пока взбирался; сейчас он стоял молча, смотрел на деревню. Дым, поднимавшийся из трубы сестриного дома, он сразу узнал среди прочих дымов, а вот голоса своей собаки никак не мог различить, хотя уже спустился вечер, деревенские псы то ли от радости, то ли со страха прямо надрывались от лая, и эхо далеко разносило их голоса. Это Мердану сразу испортило настроение, и, спускаясь в деревню, он мысленно ругал свою собаку; он считал, что раз его полтора месяца нет в деревне, эти полтора месяца пес должен лаять особенно громко. Так должен заливаться, чтоб всех собак заглушить, чтоб этот выродок Биляндар Сеттар-оглу каждый вечер его голос слышал; чтоб ни на минуту не забывал проклятый: хоть Мердана и нет в деревне, он жив-здоров, у него полный порядок, и он все равно сюда вернется. Мердан возложил на пса самую что ни на есть ответственную задачу и был уверен, что тот поймет, насколько все это важно.
Пес не лаял. Но как ни потрясен был Мердан предательством своей собаки, стоило ему подойти ближе и совсем рядом увидеть прилепленные на склоне дома, сердце его не выдержало — растаяло. От радости хотелось вопить, но Мердан не завопил. Хотелось свистнуть громко-громко… Свистеть он тоже не стал. Вместо этого он с воодушевлением продекламировал четверостишие собственного сочинения, то самое, которое написал тогда на двери клуба, на столбе в коровнике и на арке у входа в старую заброшенную мечеть:
Всем прекрасен наш чудесный Бузбулак. Расцветает по весне здесь гузгулак. Если б только здесь не жил один дурак, Биляндар Сеттар-оглу, тупой ишак!Дом Биляндара Сеттар-оглу, заведующего фермой, стоял на самом краю деревни, выше всех, из трубы у него тоже шел дым. Прочел стишок, и опять на душе тошно. И не потому, что имя ненавистное произнес, и не потому, что дом его увидел. Потому что собаку любимую его именем пришлось назвать… А пес-то молчит, не лает.
Сразу отворять калитку Мердан не стал, сначала легонько звякнул кольцом. Ни звука, собаки будто и нет во дворе. Он осторожно приоткрыл калитку, калитка скрипнула. И опять тихо. Мердан изо всех сил пнул калитку ногой — чуть с петель не сорвал, вошел во двор. Огляделся, собаки не видно.
— Джульбарс! Джульбарс!
Откуда-то послышалось жалобное, словно щенячье поскуливание. Вроде из-под айвана, где сено, — племянник прошлым летом скосил траву и под айван сложил. Мердан влез под айван и в полумраке с трудом разглядел собаку: тощая, страшная, она жалобно поскуливала в углу, пытаясь ползти ему навстречу: на шее у нее болталась цепь, другой конец цепи был прикреплен к столбу, подпиравшему айван.
— Джульбарс! Это ты?!
Собака заскулила сильнее.
У Мердана сперло дыхание, затряслись руки. Скрипнув зубами, он со всего размаха трахнул себя кулаком по лбу, в глазах потемнело, и сразу же из них потекли слезы.
Мердан снял с собаки цепь, взял ее на руки. С силой долбанул ногой по дверце курятника, куры всполошенно закудахтали. Куры на месте, значит, мальчишка только что приходил. Да и сестрица, видно, наведывалась: во дворе чисто, все прибрано… Что ж они, сволочи, собаку-то довели?
Не выпуская из рук Джульбарса, Мердан нагнулся, из дырочки под рамой достал ключ, отпер дверь. Хотел положить пса в коридоре, но пол был холодный. «Нельзя, замерзнешь. И так весь дрожишь… Что ж это ты, Джульбарс? Полтора месяца не мог без меня продержаться?! А как же я — с восьми лет без отца, без матери?! Не ожидал я от тебя, никак не ожидал… Скажешь: на цепь посадили. Ну и что? Все равно должен был держаться — назло им всем! Зачем же этот сволочонок тебя к столбу привязал?… Ладно, разберемся, пусть только явится, подлюга!..»
В доме было уютно, прибрано. И печь топили не раз, вон и дрова сложены. Мердан устроил собаку возле печи на старом паласе: «Ложись, тут потеплее…» — зажег лампу и сразу же погасил: пусть пока не знают, что вернулся, не дай бог, сестра явится! А он домой-то шел с одной мыслью: спокойно, без всяких объяснений проспать эту ночь на своей кровати. Не меньше, чем возможное появление сестры, пугало Мердана то, что может прийти племянник: увидит свет, прибежит, а он его и прихлопнет сгоряча…
Излупить-то, конечно, надо, — такое спустить нельзя, — но не сегодня, сегодня опасно… Мердан отыскал старый пиджак, прикрыл Джульбарса. Пес обеспокоенно заерзал, вылезти из-под пиджака у него не хватало сил, он только взглянул на хозяина. Мердан убрал пиджак. «Не хочешь — не надо. Я потому, что замерз ты, а печку затопить нельзя. Гаденыш этот еще не лег, понимаешь? Ты небось есть хочешь?.. Сейчас чего-нибудь раздобуду!..»
В коридоре стоял большой шкаф, там хранились продукты. На верхней полке Мердан нашел стопку сухих лавашей, на другой — топленое масло, варенье — Сафура прошлый год наготовила… Все было на месте, все, как должно. Он побрызгал лаваш водой, чтоб стал помягче, сверху намазал масла, присел перед собакой, протянул ей лаваш. Пес не ел, поскуливая жалобно. Мердан поднес хлеб к самой морде. Джульбарс ткнулся носом в кусок, повел головой и начал лизать ему руку. Лизал и заглядывал в глаза. Мердан понимал, чего он смотрит, знал, о чем хочет спросить, давно хочет, с первой минуты, как увидел, и его злила эта настойчивость, потому что ни объяснять, ни оправдываться он не хотел. А сейчас не выдержал. «Что глядишь? Уехал? Бросил тебя?.. Все правильно — бросил. А знаешь, где я был? Не знаешь. То-то и оно. В тюрьме сидел! Ясно? За дурость свою. Ну чего ты морду воротишь? Ешь, не дури! Назло не жрешь, да?! С голоду решил сдохнуть? Ну и сдыхай! Нечего тогда скулить! Развылся, как баба!»
Он вытер руку о палас и ничком бросился на кровать. Кровать скрипнула под ним и скрипела долго, а когда кончила скрипеть, собака тоже затихла.
* * *
Мердан лежал на кровати, курил, глядел на холодную сероватость окон, еще не слившуюся со всеобщим мраком, и ждал, чтобы кончился вечер. Ждал, когда деревня заснет и можно будет встать, затопить печку и сварить Джульбарсу похлебку. Но страшная мысль — мысль о том, что Джульбарс умрет и он больше никогда не услышит его заливистого лая, — не давала ему покоя. Если бы кто-нибудь мог понять, чем был для Мердана этот веселый, громкий собачий лай!..
Где бы ни был Мердан: на улице, в поле, у чайханы, — заслышав Джульбарса, он сразу становился сильней, веселей, смелее… Беззаветную преданность и несокрушимую веру слышал он в этом звонком лае. В лае Джульбарса была любовь, восторженная, неизменная, вечная. И этот лай напоминал Мердану самый счастливый в его жизни день: школьный двор и Зохра, и только что распустившаяся сирень… Джульбарс был тогда щенком, он в тот день еще и лаять не умел. А вырос и научился, и лаял так весело, так беззаботно, так радостно, что, слушая его, Мердан каждый раз вспоминал тот день, светлый, прозрачный, пахучий… Было Первое мая. В школьном дворе громко играла музыка, Зохру позвали танцевать. Она не пошла. Она поглядела на него и потупилась. Вообще-то они переглядывались давно, три года только и делали, что переглядывались, но этот взгляд был не такой. Этот проник насквозь, в самое сердце и остался там навсегда: всю жизнь мучить, всю жизнь согревать… Он так и ходил весь день с этим теплом в сердце. В полдень Мердан и еще несколько десятиклассников взяли в лавке пол-литра, прихватили закуску и пошли в лес. Как он там вопил в лесу — вспомнить страшно: до сих пор в ушах эти радостные, сумасшедшие вопли; и не только в ушах, но и где-то внутри… Не переставая кричать и петь, они отправились в соседнюю деревню. Вот тогда и взял Мердан у баштанщика своего Джульбарса. Новые ботинки за кутенка отдал, босиком в деревню явился.
Ему крепко досталось от Сафуры за ботинки. Очень даже крепко. Но странное дело: когда, без малейшего колебания отдав баштанщику ботинки, он босиком отправился домой, не было у него под ногами ни колючек, ни острых камней, — он ступал в блаженной пустоте, сотканной из света, надежды и радости, и стоило ему теперь, лежа на кровати, чуть шевельнуть пальцами, ноги сразу погружались в теплую и мягкую пустоту… А в руках у него щенок. Мягкий, пушистый собачий детеныш…
Щенок рос удивительно быстро, за три месяца вымахал в здоровенную псину: толстолапый, громкоголосый, на редкость жизнерадостный пес. Джульбарс не только весело глядел, весело прыгал и махал хвостом — каждая шерстинка его отливала весельем и радостью. Мердан не держал собаку на привязи — незачем, Джульбарс никуда со двора не убегал, а когда они ходили с Мерданом, ни на кого и не гавкнул ни разу. Вообще в его обращении с людьми было что-то непостижимо человеческое. С женщинами он всегда был сдержан и почтителен, никогда не пытался заигрывать. Гонял и возился он только с мальчишками, и то лишь со смелыми. Трусов Джульбарс узнавал с первого взгляда и больше их не замечал, видимо, за людей не считал. А вот над маленькими пугливыми девочками Джульбарс любил подшучивать: взглянет на девочку, отвернется — вроде она ему ни к чему, а сам так и крутит, так и бьет хвостом… Мердан каждый раз со смеху помирал, глядя на эти фокусы. Другой собаки ему и не нужно было, добра особого нет, сторожить нечего. А вот то, что в схватках с деревенскими собаками этот беззлобный и с виду смешноватый пес, ни разу не посрамив хозяина, одолевал самых злобных могучих кобелей, доставляло Мердану огромное удовольствие. Конечно, многие считают, что его пес — дармоед и бездельник. Пусть! Тут уж ничего не поделаешь, про него и про самого-то иногда не лучше говорят. Ну в самом деле: школу кончил, а учиться не едет и ни к какому делу не пристал. Все это правильно. Он и сям понимал, что так продолжаться не может. Но ведь он до последней минуты не мог себе представить что, когда Сафура свахой отправится к Биляндару, тот грубо выпроводит ее: не затем, мол, я дочку растил, чтоб собачьему пастуху отдать. Ему и в голову не могло прийти, что Сафура, с давних пор мечтавшая женить брата, чтобы не гас огонь в отцовском очаге, уйдет от Биляндара ни с чем.
Поначалу Мердан чуть не спятил от такой новости, но вечером, как стемнело, подстерег Зохру, пошептался с ней у реки, и у него отлегло от сердца. Откуда ему было знать, что в одну из ближайших ночей Биляндар, подыскавший дочке жениха в городе, тайком увезет ее и выдаст замуж за сапожника. Когда Мердан услышал об этом, кровь бросилась ему в голову, и, встреть он Биляндара один на один, совсем скверно могло бы выйти. По счастью, столкнулись они в чайхане. Долго молчали, глядели друг на друга. Потом Мердан взял и плюнул ему в глаза. Хорошо плюнул, со смаком. И сказал: «Ну, сволочь, я не я буду, если собаку твоим именем не назову!» Сгоряча, конечно, сказал, просто придумать ничего не мог пообиднее, а делать нечего — от слова не откажешься. Так и получилось у пса две клички: Джульбарс и Биляндар. Понятно, что Биляндаром он называл свою собаку только на людях, чтоб слышали.
— Биляндар! Ко мне!
— Лежать, Биляндар!
— Слушай! Не бросай потроха, я их Биляндару скормлю.
Послушный пес отзывался и на вторую свою кличку, но когда Мердан кричал «Биляндар!», он подходил неохотно, медленно и шерсть на холке у него всякий раз слегка приподнималась. Сафура сначала ругала брата за поношение солидного человека, но после того, как на двери клуба, на столбе в коровнике и на арке у входа в мечеть появился тот самый стишок и вся деревня начала потешаться над заведующим фермой, тоже стала посмеиваться. Биляндар, конечно, бесился, но виду не подавал. Если бы Мердан не надумал ехать в район, или не выпил бы там, или выпил бы, но к этому проклятому сапожнику зашел до выпивки, все, может, и обошлось бы, затихло. Вообще-то у него и после водки в мыслях не было затевать драку, думал, скажет ему пару слов — и обратно. А тот, паршивец, не смолчал. Ну и повалился с первого удара без памяти. Сейчас же врач, больница и все такое… А Мердана — в отделение. Полтора месяца отсидел как миленький. За дело сидел, сам виноват, да он не тюрьмы, он больше Сафуры боялся — всяких с ней объяснений. Так боялся, что и на свидание ни разу не вышел. И передачи, что она носила, каждый раз обратно возвращал.
Он глядел на серые, холодные окна и думал, что надо будет устраиваться на работу, сразу нужно за дело браться. И сад нужно в порядок привести, а может, и жениться придется — не разорваться же Сафуре. В общем, кончать надо с этой историей. Вот поправится пес, и не будет он его больше Биляндаром звать, помириться надо со стариком. Зохры ему не видать, дело сделано, какой смысл всю жизнь враждовать?.. А вот Фарруху он не простит, что голодом пса заморил. Это, конечно, и к сестре относится. В тюрьму харчи таскала, а нет чтоб собаке кусок хлеба бросить!.. Слава богу, не война.
Мердан говорил сам с собой. Джульбарс лежал возле печки, чуть слышно дышал, и в глубокой мгле, поглотившей весь мир, чуть светились четыре холодных, сероватых окна…
Среди ночи он встал, зажег свет, растопил печку. Потом взошла луна, и при свете луны он выкопал у забора глубокую яму и, завернув мертвую собаку в старый палас, опустил ее в эту яму. Луна не заходила до рассвета. И до рассвета горела в доме лампа, и до рассвета стояла возле печки миска с пролитой наполовину похлебкой…
Мердан задремал лишь под утро и проснулся, как только начало светать. Он спал в брюках, в рубашке, даже не сняв ботинок. Только пиджак бросил на стул. Он весь продрог без одеяла, но взять пиджак, накрыться не было никакого желания. Хотелось курить, но нужно было протянуть руку за сигаретами. Он лежал, уставившись в потолок, думал. Думал до тех пор, пока в комнате не стало светло. Пока не встало солнце и крайнее окно не зарумянилось в его лучах. Думал до тех пор, пока не скрипнула калитка, вошел Фаррух, выпустил из курятника кур и, весело насвистывая, стал кормить их. Добросовестно выполнив свои обязанности, мальчик уже хотел уйти, но вдруг поднял голову и увидел дядю Мердана: тот стоял на айване, опершись о перила, и молча глядел на него.
— Дядя! Ты приехал?! — В голосе мальчика была неподдельная радость, и Мердан при всем нежелании не мог ее не почувствовать.
— А ты, я вижу, за курами хорошо смотришь.
Мальчик заулыбался, обрадованный.
— Знаешь, дядя Мердан, молоденькие уже несутся! Вот эти, летошние, видишь, все несутся, ни одна не лодырничает!
— Ишь ты! А поклянешься моим здоровьем?
— Клянусь твоим здоровьем! Не веришь, спроси у мамы!
Фаррух ни о чем не подозревал. Разве мог он догадаться, что со вчерашнего вечера дядя думает только об одном: излупить его. Ведь он не знал, что Джульбарса уже нет, и ему было невдомек, что кроется за безобидным разговором о курах. А Мердан растерялся. Вместо жестокого палача, встречу с которым он обдумывал со вчерашнего вечера, явился самый что ни на есть обычный Фаррух, добрый, доверчивый… Прибежал чуть свет, накормил кур, сейчас, радостный, побежит к матери, расскажет о приезде дяди, съест, что дадут, сделает, что велят и пойдет в школу получать пятерки. Но ведь надо же что-то сделать, надо его наказать, а значит, придется разжечь, разозлить себя. Мердан спустился во двор.
— А ты, оказывается, подлец! — сказал он, подходя к племяннику.
— Почему? — Приоткрыв от удивления рот, мальчик смотрел на него.
— А вот я тебе сейчас покажу почему! — Мердан схватил парнишку за руку и потащил под айван.
— Где Джульбарс? А? Где собака? Что ты с ней сделал?!
Не веря своим глазам, мальчик молча глядел на болтающуюся на столбе пустую цепь; заглянул во все углы, перетряхнул сено… Нескольких секунд, которые он ползал под айваном, достаточно было, чтоб глаза его налились слезами, — мальчику до смерти было жаль Джульбарса:
— Вчера здесь был… Клянусь, был! Наверно, его волк утащил… Или чужие собаки… — Фаррух всхлипнул. — Дядя! Знаешь, он все равно бы сдох… Он знаешь как болел!.. Есть ничего не мог!..
Мальчик стоял в углу, где раньше лежала собака, и полными слез глазами глядел на Мердана. Тот встал меж двумя столбами, чтоб схватить Фарруха, если тот попытается удрать. Но видно было, что у мальчика и в мыслях нет бежать, и разозлиться на него у Мердана никак не получалось.
— Сгубил собаку, подлец! Голодом заморил!
— Не морил! Честное слово, не морил! Каждый день хлеб ему таскал! Вот, гляди!
Мальчик нырнул в угол и протянул Мердану засохший кусок лаваша. Мердан молча глядел на лепешку.
— А на цепь зачем посадил? — спросил он.
Мальчик ничего не ответил. Мердан снова двинулся на него. Фаррух видел, что дядя сейчас его ударит, но с места не тронулся. Мердан не ударил. Он схватил цепь, которой привязана была вчера собака, хотел было защелкнуть ее у Фарруха на шее, но перехватил полный ужаса взгляд и прицепил мальчику за ногу. Фаррух не мигая смотрел на Мердана.
— Дядя! Чего ты?.. Я же не виноват…
— Ничего, посидишь! Узнаешь, каково на цепи!
Мердан поднялся на айван и, стараясь погромче топать, начал расхаживать над головой у Фарруха. Время от времени снизу доносился жалобный голос:
— Отпусти, дядя!..
— Я не виноват, дядя!
— Дядя! Я в школу опоздаю!..
* * *
Мердан намеревался часа два продержать племянника на цепи, но прошло минут десять, и он не выдержал, спустился с айвана.
— Ну, сладко на цепи сидеть?
— Нога болит…
— А у Джульбарса шея не болела?!
— Значит, ты меня за Джульбарса?
— Нет! За подлость твою!
Мальчик вздохнул. Подумал.
— Он ведь совсем бешеный был…
— Джульбарс бешеный! Значит, ты его бешеным сделал!
— Я не делал. — Фаррух шмыгнул носом. — Это не я…
— А кто?! — Мердан метнулся к мальчику схватил за плечи.
— Кто?! Говори, кто?!
— Поклянись, что маме не скажешь!
— Клянусь!
— Биляндар!
Одно это слово сказал ему мальчик. Все остальное он говорил кому угодно: сену, столбам, курятнику, но не ему — Мердан ничего не слышал.
— Биляндар и отраву подбросил… Ночью слышим — скулит… Пришли, а Джульбарс… Изо рта кровь… Думали, сдохнет… Он не все мясо съел, немножко осталось, маленький кусочек… Мы сразу догадались, что Биляндар… Я утром пришел кур кормить, а он высунулся из-за забора, глядит: сдох или нет. Джульбарс не сдох, все только блевал, блевал… А потом какой-то такой стал… Бросаться на всех начал. Меня чуть не разорвал, когда я на цепь привязывал. Хорошо, он уже слабый был… Вон как за руку схватил! Гляди…
Мальчик долго еще говорил, показывал ему руку, но Мердан ничего не слышал, не видел. То первое слово свинцом залепило ему уши, пеплом засыпало глаза. Он не помнил, как отцепил мальчика, как вылез из-под айвана, почему оказался на земле. Он лежал плашмя — ртом хватал снег, снег таял от его дыхания, а он рыдал, рыдал…
Чудился ему светлый весенний день… Сирень в цвету…
А голос мальчика, впервые в жизни опоздавшего в школу, все повторял, все твердил:
— Не плачь, дядя… Не плачь…
Никудышный
1
Видимо, беда заключалась в том, что брат был значительно старше Самура, настолько старше, что, когда Самур пошел в школу, Хашим был ее директором. И учил брата: в школе учил, и дома, и на улице… Хашим почему-то был уверен, что Самур — лентяй, лоботряс и хорошие отметки ему ставят просто так, потому что брат директор школы. Как обстояло на самом деле, лучше всех знала их мать Шовкет. Если Хашим начинал допекать братишку дома, она всякий раз вставала на его защиту, доказывала старшему сыну, что Самур и умнее, и добрей его…
После смерти матери они года два жили вместе. Хашим к тому времени ушел из школы, стал председателем сельсовета. Самур подрос, учился уже в восьмом классе, можно сказать, взрослый парень. Брат не был теперь директором школы, но отметки у Самура по-прежнему были неплохие. И Хашим по-прежнему продолжал придираться к нему, стал вроде еще ворчливее. Самуру не повезло еще и в том, что у брата не было детей, а жена его, Нубар, молодая была, слишком молодая.
Как-то вечером, после ужина Хашим завел с братом разговор о разделе. «Дом твой, тебе хозяином оставаться, а мы с Нубар к ее родным переедем. Конечно, пока семьей не обзаведешься, моя жена и постирает тебе, и приберет, и еду сготовит… Все теперь: нотаций больше от меня не услышишь, как нравится, так и живи… Другое дело, что, пока на ноги не встанешь, я тебе и за брата, и за отца — на это можешь рассчитывать. И кормить стану, и одевать. Вот на сигареты, — это уж извини, не считаю нужным, хотя знаю: куришь давно. Что человека из тебя не будет, — это я, конечно, понимаю… Никогда из тебя ничего путного не выйдет…»
Зимой завел Хашим этот разговор. На дворе мороз, снег лежит. После этого разговора Самур вышел и долго стоял, глядя ка заснеженный двор, — пытался понять: чего Хашиму приспичило перебираться? Зима, снег кругом — тепла подождать не может? Стоя во дворе, Самур думал, может, тогда уж лучше ему уйти из дома, прямо сейчас взять и уйти? Куда и как уйти, это он обдумал. А вот понять — с чего это брат так вдруг заспешил, Самуру не удалось. Он, может, никогда не сообразил бы, в чем дело, да люди растолковали. Ревнует, мол, брат, жену свою к тебе ревнует. Только теперь понял Самур, почему всякий раз, когда Нубар приходит постирать или сготовить обед, Хашим обязательно увязывается за ней.
Хашиму он ничего не сказал — нету слов, чтоб высказать такое; будь его воля, просто убил бы Хашима… Как-то раз чуть не дошло до драки; Нубар прибирала в доме, Хашим стоял на айване, облокотись о перила, Самур расчищал дорожку от снега и, чтоб досадить брату, насвистывал. Изо всех сил свистел, прямо исходил свистом, чтоб только Хашим разозлился, не выдержал, сказал что-нибудь, а тот вроде и не замечал ничего, помалкивал себе, навалясь на перила, и один только бог знает, как хотелось Самуру наброситься на брата, стащить его с айвана… Самур, насвистывая, отбрасывал в сторону снег, свистел все громче и громче, чтоб довести брата, а сам уже представлял себе, что стащил Хашима с айвана, шмякнул об землю; тот струсил, визжит, как собачонка, и слушать этот воображаемый визг было одно сплошное наслаждение.
Самур ни разу в жизни не свистнул в присутствии брата. Ни разу не закурил при Хашиме. А в тот день, вдоволь насвистевшись, поднялся на айван, встал рядом с братом и, облокотясь о перила, достал сигарету. Дым лез Хашиму в горло, тот кашлял, крутил головой, но опять ничего не сказал, словечка не вымолвил — то ли понял, чего Самур добивается, то ли слово решил сдержать. «Нотаций больше от меня не услышишь, как нравится, так и живи…». Нубар прибрала в доме, сготовила, привела все в порядок, и они молча ушли. А Самур в тот день от злости ни печь не топил, ни свет вечером не зажег. Наутро он подошел на улице к невестке и сказал, чтоб больше они к нему не ходили, а вернувшись домой, увидел Хашима; брат сердито расхаживал по айвану. «Это дом моего отца! — сказал он Самуру. — Понимать должен. Пока я жив, в доме будет и свет гореть, и еда в казане вариться, все будет как положено — это мой долг… И матери я, когда помирала, слово дал. Обещал, пока не встанешь на ноги, голодным тебя не оставлю. Другое дело — взрослый был бы, тогда сам о себе думай. Вот кончишь школу, посмотрим…»
В тот вечер, уже все сказав, Хашим долго расхаживал по айвану, но Самур ни слова не сказал брату, потому что не хотелось ему ничего говорить, потому что не было уже ни гнева, ни ярости, будто он уже сбросил тогда Хашима с айвана, а повторять это не было у него ни малейшего желания…
С тех пор как Хашим переехал, Самур иногда скучал, иногда — чаще всего по ночам — вдруг начинал тосковать; нападали кошмары, и он до утра не гасил свет. Но случалось, что даже при свете лампы ему чудились мамины глаза; два глаза, но они смотрели отовсюду, любящие, ласковые, и Самур плакал навзрыд, с головой забившись под одеяло. В такие минуты — только в такие минуты — и брат вдруг начинал казаться ему родным, близким; глядя в глаза матери, Самур видел его глаза — они были так похожи, — тогда, позабыв про мать, он плакал, жалел брата, сброшенного с айвана… Но, слава богу, все это было лишь ночью. Днем Самур снова становился независимым, свободным, шел в школу, насвистывая, с сигаретой в зубах — демонстрируя перед всей деревней эту свою свободу и независимость…
2
Хашим сдержал слово. Даже, когда Самур, окончив десятый класс, поехал в Баку поступать в институт, старший брат не стал делать никаких наставлений. Положил ему в карман деньги: «Езжай, чем черт не шутит, хотя я лично совершенно уверен: с институтом у тебя не выйдет…»
Но оказалось, что поступить в институт намного проще, чем добывать разные справки, в июльскую жару мотаться в район — в фотографию, или ловить директора, то и дело уезжавшего в Баку торговать на базаре, чтобы подписал аттестат.
На экзаменах Самур ни капельки не волновался, а положив в карман выписку из приказа, ни капельки не обрадовался. Получив выписку из приказа о зачислении, он прямо из института направился на базар, потому что единственный знакомый ему в этом городе человек днем всегда находился на базаре (Алекпер окончил в прошлом году школу и теперь торговал на одном из бакинских рынков, Самур и поселился у него); каждый вечер они пропускали по кружечке в пивной, недалеко от Алекперова дома, а уже часов в десять по деревенской привычке укладывались спать… Взяв в руки выписку, Алекпер стал внимательно изучать ее, вечером в пивной он несколько раз заставил Самура показать ему бумажку, разглядывал ее со всех сторон, даже на свет смотрел… Словно это была не выписка из приказа, а сотенная…
Самур еще дня три прожил у Алекпера, потом пошел в институт, попросил справку для общежития, и справку эту ему дали запросто, безо всякого; Самур рассчитывал, что с этой справкой он также запросто получит место в общежитии, но не тут-то было; ему и в голову не могло прийти, что комендант общежития отправит его за другой справкой — из санпропускника, без этого, мол, никак невозможно. Самур с ног сбился, пока в эту жуткую жарищу отыскал, где дают такие справки. Но хотя он и отыскал это место, добыть справку ему не удалось — видно, не суждено было поселиться в общежитии…
Перед желтоватым домом, от которого несло гарью, было полно народу. По одну сторону от двери стояли в очереди девушки, по другую — парни, — как назло, в баню только что привели ребят из ремесленного, и ясно было, что целый год пройдет, пока они перемоются.
Самур узнал, что есть еще одна баня — при вокзале, пошел туда, но и перед этой баней увидел ту же картину; тогда ему пришло в голову вернуться, сунуть коменданту трешку — он видел: кое-кто потихоньку совал коменданту деньги, и тот пускал безо всякой справки. Сначала-то он не осмелился, а теперь что ж делать: не мог же он знать, что ремесленники через час перемоются; ведь пока он добрался до общежития, чтоб сунуть коменданту трешку, ребята уже вымылись, встали в строй и, распевая про то, что чистота — залог здоровья, утопали к себе в общежитие… У коменданта было злое лицо, обрюзгшее, с редкой бородкой, и малюсенькие, круглые, как бусины, глаза. Самур поразился: сколько беспощадности, подлости может проглянуть вдруг в таких крошечных глазках.
— Но ведь ты только что брал у ребят!
— Что? Катись отсюда, пока… Мерзавец!
Самур снова поплелся к вокзальной бане; под вечер, когда до закрытия оставалось не больше часа, он наконец попал внутрь. И увидел длинный коридор и множество совершенно голых людей с трусиками и майками в руках, они стояли в очереди перед отверстием какой-то ржавой трубы; видимо, там, за стеной, все эти трусики и майки посыпали порошком и выжаривали в печке — от белья шел запах гари и дуста. За стеной сердито бубнила женщина, будто ругала чьи-то грязные трусы, ворчливый голос ее доносился из вонючей железной дыры, вероятно, это она посыпала порошком и выжаривала майки и трусики. Женщина выходила из себя, лютовала, а люди в коридоре смеялись, передразнивали ее — женщина еще больше злилась, еще громче кричала, и Самуру казалось, что женщина за стеной — это уборщица Заравшан, потому что, сколько он себя помнил, Заравшан всегда злилась на ребят за то, что они смеются… Но здесь, в коридоре, смеялись взрослые и к тому же, совершенно голые, здешней Заравшан приходилось намного хуже, потому что над ней смеялись голые люди… Голые люди совали свои майки и трусики в одну дыру, из другой дыры получали их. Голые люди мылись, плескались где-то за стеной. Они радовались, эти голые, и Самур никак не мог взять в толк, чему они радуются. Раздеваться при них донага Самур не хотел, не хотел стоять голым перед ржавой дырой, он хотел как можно скорей удрать отсюда, но он не удирал, стоял, словно заколдованный, и в этом странном заколдованном небытии ему снова представилось, что это школа: это школьные ребята плескались там, за стеной, их были голоса… Самуру казалось, что сейчас прозвенит звонок и начнется перемена… И еще казалось, что где-то льется, шелестит дождь, теплый, кроваво-красного цвета…
Когда он вышел из бани, было уже не жарко, город угомонился, затих, но дождь все еще шелестел где-то, словно сквозь сон слышал Самур его мертвенный шелест. И как сквозь сон слышал он голос коменданта, и голос этот тоже был теперь мертвый — он не пугал Самура, не внушал ему страха, тупая боль в глубине души, помучив, отпустила, растаяла, смешавшись с мертвенным шелестом дождя. Да, все это было похоже на сон… Он толком не знал, где он. И сколько времени, он не знал. Он только знал, что сейчас намного поздней того часа, когда они с Алекпером ходили в пивную. Знал, что Алекпер давно спит. Может быть, знал еще, что больше уже не сможет вернуться к Алекперу. А вот где находится этот пивной павильон за железнодорожными путями и как он попал сюда, одному богу известно. Только теперь перед этим пивным павильоном Самур наконец очнулся. Дождя уже не было, не было этого тихого мертвенного шелестения… Очнувшись у пивного павильона, не понимая, который теперь час, Самур долго разглядывал стоявшие перед ним бутылки: их было пять: одна пустая, четыре с пивом — он никогда не мог за один присест выцедить столько пива. И никогда прежде пиво не доставляло ему такого наслаждения. Он наслаждался пивом и радовался, что у него еще целых четыре бутылки… После этой бани, после коменданта, после этого мертвенного дождя луна в небе — такая луна — откуда она такая?! В ее ярком сиянии, вытянувшись, спят длинные, темные рельсы… На буфетчике белоснежная майка, он сидит, пьет чай: как хорошо, что у буфетчика такая белая майка, как хорошо, что там, в бане, он не стал ни мыться, ни раздеваться… Как хорошо, что в этом пивном павильоне нет никого, кроме продавца и двух каких-то железнодорожников, и что эти двое разговаривают вполголоса, не кричат… Как хорошо, что он взял много пива — целых пять бутылок…
Часть неба была совсем светлой — как луна. Здесь, за вокзалом, было пусто — в этой прохладной пустоте спали рядышком темные рельсы; отдыхали, поблескивая в свете луны. И земля, изнемогшая за день под солнцем и под ногами людей, теперь отдыхала, пустая, свободная… Палатка и лавочки у вокзала были давно уже заперты. Пивной павильон, на который Самур не помня как набрел в это неурочное время, открыт был ради этих двух в железнодорожной форме, но Самур этого не знал. Он только понимал, что уже очень поздно. Что город спит. И было наслаждением сознавать, что в такой поздний час он спокойно, нисколечко не робея, сидит перед пивным павильоном; ни один бузбулакец не решился бы на такое; Алекпер, с каких пор живущий в городе, ни на шаг не осмелился бы отойти ночью от своего дома. А уж пива бы наверняка взял только кружечку, потому что, по мнению всех бузбулакцев, в Баку ухо надо держать востро — не деревня…
А вот ему не страшно, абсолютно не страшно. Блаженствуя, отпивая по глотку холодное пиво, Самур как бы поглядывал на себя со стороны и, может быть, первый раз в жизни ощущал себя таким сильным, свободным… Впрочем, не в первый — ведь это он, Самур, один, совсем один плавал тогда ночью за мельницей, где вода падает со скалы, плавал, плескался в холодной, чистой, пронизанной лунным светом воде…
В то лето он перешел в восьмой, Алекпер — в девятый класс. А вот теперь Алекпер дрыхнет, девятый сон видит, в комнате душно, смрадно… Там, за вокзалом, тоже сейчас, должно быть, душно, потому что там стоят поезда, горит яркий свет, ходят люди. Самур старался не смотреть туда, на небо смотрел, на луну, на белеющие возле нее прозрачные облака, потому что там, в этой прозрачной белизне, была прохлада…
И ясность была в этой белизне, удивительная ясность. И в сознании Самура, выпившего пока лишь одну из своих пяти бутылок, была та же удивительная ясность. Он словно бы потерялся, пропал, а теперь вдруг заново обрел себя в этот поздний час, перед этим пивным павильоном, пораженный открывшимся ему миром, Самур не помнил, зачем он в этом городе, где должен ночевать… Был он, был прилавок, на котором стояли его бутылки, и была луна посреди неба, такая луна, что на всей земле не было для него этой ночью никого дороже и родней. Еще был где-то Бузбулак, там тоже светила луна, и белый, как молоко, лунный свет, разлит был на бузбулакских земляных кровлях. Мягкие, плоские, гладкие, они белели в свете луны. Как хорошо, что майка на продавце была белая… И как хорошо, что не разделся он в той бане, не отдал выжаривать белье…
Вокруг луны, стоявшей посреди неба, светились прозрачные, легкие облака. И, наслаждаясь прохладой, исходящей от этих облаков, Самур видел Бузбулак, сладко дремлющий в лунном сиянии, и бакинская комната Алекпера представлялась ему адом. Он старательно отгонял мысль о ней, потому что каждый раз, когда в памяти возникали тюфяки с ржавыми пятнами от раздавленных клопов, по спине у Самура пробегала дрожь, а к горлу подступала тошнота; похожее ощущение испытывал он, вспоминая коменданта общежития…
Коменданта он больше не увидит — об этом и речи не может быть.
А вот Алекпер — другое дело, тут уж никуда не денешься. Месяца через два, а может, и через две недели он явится в Бузбулак и со значительным видом — как-никак денежный человек! — будет разгуливать по улицам, а бузбулакские невесты будут значительно на него поглядывать. И как-нибудь вечерком один из бузбулакских стариков будет попивать чаек в одном из домов, где есть девушка-невеста, и, попивая чаек, будет расхваливать Алекпера; ушлый парень, скажет он, — деловой, сообразительный, в городе жил, не чета здешним… Получив положительный ответ, старик уйдет, а одна из бузбулакских девушек до утра не сможет заснуть от счастья. И ведь что удивительно: девушка эта так никогда и не узнает, что нет ей сна из-за того самого Алекпера, что ворочается сейчас в адской духоте комнаты на грязной постели с ржавыми пятнами от раздавленных клопов…
За несколько недель, проведенных в Баку, Самур этой ночью впервые ощущал себя свободным и независимым; не спеша потягивал пиво, потому что те двое в железнодорожной форме, негромко беседовавшие за столиком, тоже не спешили; и буфетчик никуда не спешил: сидел в своей белоснежной майке на низенькой табуретке и глоток за глотком отхлебывал чай из маленького стаканчика… И какое-то чудо: потягивая пиво в этом павильоне за вокзалом, Самур не пьянел, не наливался тяжестью, а наоборот, ему делалось все легче, все приятней, все ясней становилась голова. Впервые в жизни он как следует увидел Бузбулак, целиком увидел, со всем, что в нем есть: и деревья, в кустики, и скалы, и камни, и реку, и родник, и даже тени от деревьев… В лунном свете белеют верхушки деревьев, а внизу под ветвями тьма… Люди спят на айванах, на крышах, во дворах — кто под каким деревом, даже это он видел. В такое время, если кто и спит в доме, так только Хашим, и Самур видел, как брат лежит, вытянувшись на широкой кровати рядом с женой Нубар, повернувшись к ней задом…
Он не заметил, как ушли те двое в железнодорожной форме.
Только увидел вдруг, что буфетчик стоит перед ним, собирая пустые бутылки, что бутылки поблескивают и что человек в белой майке устало улыбается ему, — больше Самур ничего не видел…
3
На следующий день, рано утром, Самур сошел с поезда километрах в двадцати от Бузбулака. Подъехать на машине было не на что — деньги, что оставались, пришлось отдать проводнику. Можно было бы и бесплатно — на любом попутном грузовике, но Самур никому не хотел показывать, что у него нет денег. Отправился в Бузбулак пешком. Шел кратким путем — по тропке, и к полудню, когда солнце стало припекать макушку, добрался до бузбулакских садов. Летние фрукты уже сошли, осенние еще не дозрели. Он отыскал на ветках несколько абрикосов, сорвал неспелое яблоко, пару недозрелых груш, твердый, как камень, персик… Искупался в пруду, поплавал, потом забрался в самую гущу ежевики и вдоволь наелся ягод. Лег у арыка, в тени огромного дерева, отоспался на славу и, проснувшись под вечер, отправился домой.
Электричества Самур зажигать не стал — луна, и без того светло. Кроме того, Самуру до смерти не хотелось видеть сейчас брата, а зажги он свет, Хашим увидит и явится. Но Хашим и без всякого света узнал уже о возвращении брата. Самур еще раздумывал, зажигать или не зажигать электричество, а Хашим уже отворил калитку. Он не спеша шагал к дому по широкой дорожке, вытягивал шею, разглядывая ветви плодовых деревьев. Пока старший брат таким образом добирался до дома, Самур успел решить, что будет говорить про институт.
— Чего это свет не зажигаешь?
— А… Только что приехал…
— Не ври, не только что приехал! — Хашим взглянул на часы на руке. — Ты давно уже… — Он включил свет и уселся за круглый стол, всегда, сколько помнил Самур, стоявший здесь на айване.
— Чего приехал? Деньги кончились?
— Нет… Деньги есть…
— Ладно. Не крути… Ну так как? Я слышал, вроде поступил?
— Не поступил! — выпалил Самур — только так можно была спастись от Хашима. Потому что иначе тот сразу же отправит его в Баку, хотя до начала занятий еще неделя.
Хашим нахмурился.
— Что ж, не хочешь говорить всерьез, заставлять не буду. Дело твое — балбесничай!
Самур ничего не ответил. Хашим тоже молчал. Взглянул на потолок, окинул взглядом двор.
— Пойдем ужинать… — Хашим поднялся из-за стола. — Там и потолкуем.
— Я ел.
— Ладно, хватит ломаться!.. Нубар долму из баклажанов сготовила. Идем!
— Не пойду. Я обедал.
— Где ты обедал?
Самур смутился, ему казалось, что он действительно сегодня обедал, а вот где и как, он не мог вспомнить.
— Ты ведь еще утром с поезда. Ведь день в саду околачивался. Может, объяснишь, в чем дело?
Самур молчал. Ему не давала покоя бумажка с приказом о зачислении: лежит она в кармане или нет — ни вчера, ни позавчера ни разу не вспомнил о ней. Соврешь, а брат протянет руку и вынет ее из твоего кармана… Вроде не выбрасывал он бумажку, а сунуть руку, пощупать — боязно…
Хашим подумал и снова уселся за стол.
— Мне сказали, ты поступил в институт.
— Кто сказал?
— Это что, очень важно?
Молчание. Хашим поднялся, опять стал ходить по айва ну.
— Непонятный ты человек, Самур! Совершенно непонятный. Ну вот скажи, чего ты добиваешься? Чего хочешь — ума не приложу!.. Поехал в Баку, так опять по-человечески сделать не можешь — остановился у жулика, у спекулянта!.. Не у кого больше, да? Или я тебе денег не дал на комнату? Соображать бы должен: у меня не только друзья, и враги есть… Приехал брат председателя сельсовета и у спекулянта приживальщиком…
— Почему приживальщиком?! Я за жилье платил!
— В другом месте надо было платить!
— В каком другом?! Я там больше никого не знаю!
Хашим отвернулся, опершись о перила, смотрел куда-то в сторону, но Самур по-прежнему не решался сунуть руку в карман.
— Ладно. Что было, то было… Так поступил ты в институт или не поступил?
— Не поступил.
Хашим повернулся, взглянул на него.
— Врешь ведь!
— А ты откуда знаешь?
— По глазам! — Хашим опять подошел к столу, сел. — Приказ в кармане?
— Нет.
— А где?
— Я же сказал: не приняли!
Хашим постоял, подумал немного и поверил: не приняли; и сам Самур вдруг поверил в это.
— Что же делать думаешь? В армию?
— Ну и что — в армию, — ответил Самур. Сказал — и как гора с плеч.
Хашим встал. Вроде решил наконец уйти, но не уходил. Заложив руки за спину, молча расхаживал по айвану и, расхаживая по айвану, был удивительно похож на того, в классе: каждый раз, прежде чем начать урок, он вот так ходил между партами — голова опущена, руки за спину, и, пока он не начнет говорить, ребята дыхнуть не смели.
— Что я могу тебе сказать? — негромко произнес Хашим. — Сам все понимаешь… Живи как нравится. Но… — Он помолчал. — Условие такое: помощи от меня теперь не жди… Значит, не пойдешь ужинать?
— Нет, спасибо.
Хашим спустился по лестнице и медленно, не спеша пошел к калитке, внимательно оглядывая деревья. Привычка — вот так оглядывать деревья — появилась у Хашима после того, как он оставил отцовский дом. Самур понимал, почему старший брат с таким сожалением смотрит на деревья: горько ему было, что эти породистые, хорошо ухоженные деревья, которые он когда-то сам сажал и равных которым не найдешь по всей деревне, достались его никудышному брату…
Однажды лунной ночью
1
На улицах свет луны был разбавлен электричеством. На других улицах на стенах домов плясали суматошные огни реклам.
А здесь, в новом, недостроенном еще микрорайоне, на этой нескончаемой, в рытвинах, будущей улице, не было ни электрического света, ни реклам, ни домов. И оттого свет месяца струился здесь чистый и незамутненный, почти осязаемый в своей мерцающей чистоте. И в плотности этого лунного света, казалось Кериму, было что-то металлическое. Во всяком случае, он, Керим, отчетливо улавливал тонкий запах металла на этой улице, окутанной лунным светом.
Этот лунный запах будил в нем надежду. Тень чего-то, давно забытого, но такого важного, касалась сердца, и вот еще немного, еще шаг, другой, еще один глоток этого лунного воздуха — и он все вспомнит, казалось Кериму. Но воспоминание рвалось, не превращаясь в мысль, и сердце Керима полнилось горечью невосполнимой утраты.
Он шел по этой строящейся улице, и ноги его не ощущали привычной твердости земли. Или, точнее, ощущали, ее, но земля казалась не надежной твердью, а пронзала прикосновением, словно разрядами, электрического поля. Шаг — пауза — удар тока, и еще шаг, и еще…
Этот проникающий из земли ток холодил все в Кериме, завораживал. И тогда ему снова начинало казаться, что он стоит на верхней ступени длинной лестницы того дома, который люди почему-то назвали Дворцом счастья, и воспоминание это сразу вычеркивало Керима из лунной чистоты ночи, делая тело его чужим и неуверенным.
…Да, да, именно сегодня, на ступенях беломраморной лестницы он ощутил это впервые… Да, этим вечером, в доме, названном Дворцом счастья, у самого входа в него, да, да, у самого входа, в первые же минуты свадьбы возникло в нем это чувство беды… Теперь, кажется, Керим вспомнил точно — в самом начале свадьбы…
И тогда на первую ступеньку лестницы этого самого Дворца счастья шагнул уже не Керим… А он, Керим, ясно чувствовал: там, в глубине сверкающего дворца, должно случиться что-то непоправимое. И все-таки это именно он, Керим, поднялся на первую ступеньку лестницы, и на вторую, и прошел ее всю, прошел под десятками, сотнями взглядов…
Теперь отчего-то ужас и позор этого дня связались в памяти Керима с Наги. Точнее — с голосом Наги. Нет, он не мог вспомнить, что именно говорил Наги, но голос… — голос и сейчас звучал в ушах Керима. И именно этот голос, как ни странно, возвращал ощущение реальности, давал возможность вернуть каждый момент сегодняшнего вечера. Голос Наги — и Валида, Валида, которая поднималась вместе с Керимом по нескончаемым ступенькам. Это потом уже, позднее на голос Наги наложились голоса гостей, певца, кларнета, нагары…
Весь многочасовой свадебный меджлис так и остался для Керима сумятицей голосов, накладывающихся друг на друга, смутных, звенящих и смеющихся. Голоса, голоса, голоса… И над всеми ними ему вновь явственно слышался голос Наги.
— Ты чего притих? Умер, что ли? Давай-ка по одной!..
— …И еще одну! Да брось ты, не бойся, все будет в порядке…
Странно, но после выпитых залпом двух бокалов водки Керим и впрямь, кажется, пришел в себя. Будто порвалась крепкая веревка, связывавшая его с Валидой все последнее время, и Керима обожгло чувство свободы. Собственно, зависимость свою он по-настоящему и ощутил именно в те минуты случайного освобождения.
…Из-за светящихся облаков появился тонкий чудесный серп месяца, и тут же раскололся, рассыпался о сизые, сразу заблиставшие рельсы. И так же внезапно, как изломанный серебристый серп, явилась и заискрилась перед взором Керима та долина… О, Керим сразу узнал ее, эту долину — тогда, много лет назад, когда он, решив отправиться в город, впервые сел в поезд, за спиной его мерцала, переливаясь нестерпимой своей чистотой, именно эта долина. Но как случилось, что далекий свет той оставленной долины настиг Керима вот сейчас, здесь, этой ночью?..
Как могло случиться, что выпитая на собственной свадьбе водка перенесла Керима в затерянную в прошлом мерцающую долину, до которой столько часов езды? И там, под чистым светом этой оставшейся в детстве долины, все повторялось: Керим снова садился в поезд, снова уезжал в Баку, но теперь, в этот свой приезд, он так отчаянно хотел, чтобы все сложилось иначе! Он уезжал, тоска и мечты жгли ему сердце, а в окна вагона, словно прощаясь, вливался тот ровный и чистый свет.
Но как, как, скажите на милость, как он мог бы желать иначе начать жизнь, если вся она, отпущенная Кериму, уже кончилась? Кончилась — и никогда с такой безнадежной ясностью не понимал этого Керим, как понял и ощутил в этот вечер, на ступеньках уже другой лестницы. Ему никогда не забыть, как это было: типовой дом нового микрорайона, где на втором этаже помещается собственная его, Керима, однокомнатная квартира. Теперь, через несколько минут — его и Валиды. Господи, ну почему, почему он не сбежал еще тогда, когда у порога этого гнезда новобрачных стояли Наги, Таира и Валида, а он медлил, отсчитывая последние ступени. Ведь уже тогда, в темноте того подъезда, на вымазанной белилами и известкой лестнице, Керим ощутил со всей ясностью и безнадежностью то, что ждало его за запертой пока дверью комнаты…
Конечно, он не сбежал, он даже — Керим это помнил точно — сдержался и не заплакал. И все-таки тогда, когда захлопнулась за ним дверь, и гнетущий ужас от необходимости остаться наедине с Валидой смешался с суетой и глупостью длинной, нескончаемой свадьбы, когда все это готово было уже раздавить Керима — один бог знает, как был он благодарен Наги, предложившему выпить у новобрачных стакан чаю… Как благодарен был ему Керим за эту крохотную отсрочку…
Наги был пьян. Впрочем, ему и трезвому было все равно, где проводить время. Наги вполне был способен просидеть в доме новобрачных до утра, ничуть не заботясь о несуразности такого поведения. И вот они вчетвером сидят и пьют чай, и облегчение рассвета не спешит на смену нескончаемой, никому не нужной ночи…
* * *
В этом звенящем, победном свете месяца улица казалась такой длинной, такой широкой, такой безлюдной, что Керим невольно придержал шаг и затаил дыхание. На какой-то миг он и вовсе, кажется, перестал дышать, и тогда горло его вновь перехватил спазм близкого плача — господи, куда, зачем я иду, от чего бегу, господи, ведь я знаю, что безжалостный реальный мир в любую минуту оборвет последнее, что у меня еще осталось — эту льющуюся в никуда улицу…
Однако в том мире, где сейчас жил Керим, не существовало конца ни пути его, ни этой улицы. Потому что у него, у этого зыбкого лунного мира, были свои законы. И по законам этим выходило, что улица, по которой шел Керим, не имела ни конца, ни начала. Ни начала, ни конца — так, словно и улицы самой не было вовсе… Улицы не было, а Керим был. Здесь, в этом мире, все было возможным. И еще в этом мире, где ее было никого, кроме Керима, лицом к лицу с ним жил лунный свет. Вот так и получилось, что Керим шел в эту ночь по дороге несуществующей, но дороге нескончаемой, по лунной дороге.
Он шел, не оборачиваясь. Все, что комом подступало к горлу — дом в новом микрорайоне, свадебный меджлис, ступени лестницы, на которых он, не упав, все равно как бы ушибся до смерти, — все это теперь стало неважным, померкло, забылось, быльем поросло… Сейчас по лунной дороге шел совсем другой Керим. Этот был спокоен, он был поразительно, безгранично спокоен. И он уходил.
Все началось еще утром. Да, проснувшись сегодня утром, Керим уже знал, что с ним должно произойти. Он помнил внезапное ощущение холодного ужаса.
Первое, что он почувствовал, еще не открыв глаза, — холодная, мерзкая внутренняя дрожь, тяжелая глыба застывшего в груди плача. И тогда же, еще не открыв глаза, он уже знал, что даже слезы не принесут ему облегчения в это утро. И ему показалось, что все дело и было в этих непролитых слезах — они, только они одни могли бы растопить застывшую в груди тяжесть. И еще они могли смыть, стереть в нем даже мысль о предстоящей свадьбе, и тем отвести беду — большую, необъяснимую, что вызрела неизвестно как и заполонила его всего, без границ и без края. Пролейся слезы — и он, конечно же, смог бы встать, и одеться, и уйти, убежать от страшной глупости предстоящей свадьбы.
Наверное, так было бы лучше и для Валиды. Кто знает, может, она и поняла бы все, а может, нашла бы какую-нибудь понятную ей причину. Но только прошел бы день, другой, обида и боль ее стихли, и жизнь потекла бы заведенным порядком.
А в нем могла бы к дальше жить эта глупая упрямая надежда когда-нибудь, проснувшись, зажить своей собственной, своей настоящей, лишь ему предназначенной судьбой…
* * *
А теперь оставался только этот лунный свет, ни в чем другом надежды больше не было. Лунный свет плескался под ногами Керима, лунный свет мерцал в его сердце. И там, где в лунном свете струились, поблескивая, рельсы, там, за этими рельсами, снова возникала та долина. Она лежала, и зыбкий свет скользил по ее нетронутой белизне. И Керим вновь и вновь шел бежал по этой долине, спешил на все тот же поезд…
* * *
Ему не было и семнадцати, когда он впервые поднялся в вагон. А теперь Кериму тридцать шесть. Кто бы мог подумать, что с тех пор прошло целых девятнадцать лет?.. Это были долгие годы: пять из них Керим учился в институте, восемь ушли на диссертацию. Что еще? Ах, да — шесть лет Керим стоял в очереди на квартиру. Вот как все переплелось, сложилось, и все это, как оказалось, было нужно для того, чтобы, как говорят люди, построить свою жизнь, обзавестись семейным очагом, детьми, домом…
Но отчего тогда пришло и не пропадает чувство вины, отчего? Словно тогда, девятнадцать лет назад, семнадцатилетний Керим непростительно поспешил. Поспешил покинуть эту мерцающую лунной чистотой долину, поспешил с приездом в большой город, поспешил с институтом, поспешил с однокомнатной своей изолированной секцией и — господи! — поспешил с женитьбой. И еще жило в нем, вместе с этим чувством — пугая Керима, ощущение краткости пройденного пути. Тогда Кериму начинало казаться, что все, на что понадобились ему девятнадцать лет, не стоило и половины этого времени…
Сегодняшнее утро перечеркнуло все. В свете этого утра и диссертация, и квартира, и научные достижения Керима как-то вдруг утратили свою ценность. Больно и осязаемо возникло все утраченное за долгие девятнадцать лет. Господи, кто же знал, что когда-нибудь придет, встанет перед Керимом утро, в суровом свете которого вернется все прожитое. И тогда, под этим взглядом нежданного утра, он поймет, что то, чем он жил долгие девятнадцать суматошных лет, было не главным, и ни за чем из того, что принесли эти годы, другой, семнадцатилетний Керим не стал бы спешить к поезду, в окна которого лился прощальный свет той, главной долины… Да, но ведь того, семнадцатилетнего Керима больше не было на свете! Он исчез, растворился, остался на давней станции, в давно ушедшем вагоне. Но тогда откуда такая боль, господи, откуда такая боль?..
— Давай-ка по одной!
— И еще одну! Да брось ты, не бойся, нее будет в порядке…
Вчера, недавно, тысячу лет тому назад? — когда все это было? Откуда, почему над этой свадебной пьянкой повис, видимый одному Кериму, тот, девятнадцатилетней давности свет? Керим и сейчас помнит, как тихонько звенел он в его ушах, плыл над пьяными выкриками, звоном бокалов, голосом Наги. Он звенел, и звон этот будил в Кериме давно забытую боль. Он звенел, и тонкая льющаяся стена вставала между Керимом и его собственной свадьбой… И вот теперь он выманил Керима из дому, и беспощадно гонит, гонит, гонит его по ночным улицам. Он стал пленником этого волшебного голоса, о господи, пленником голоса света, голоса света!
И там, где царил этот голос, вновь открывалась та давняя, та прекрасная, та единственная долина, и Керим снова шел по ней, спешил к поезду, не зная, что поезд увезет его навсегда и от той долины, и от того семнадцатилетнего мальчика. И все-таки незадолго до свадьбы Керим вновь прошел той дорогой, оставшейся в девятнадцатилетней давности — прошел в мечтах. Прошел — и разминулся с мальчиком, что торопился по этой лунной, сверкающей надеждами дороге навстречу большому городу.
Сегодняшняя ночь все смешала, и Керим уже не мог отличить, где кончалась дорога памяти и начиналась та, по которой ступал он теперь. Керим шел по льющейся, затопленной лунным светом улице, и всем существом своим понимал — в эту ночь светит ему не обычный, а тот самый свет единственной его долины, свет которой, не умирая никогда, жил в каждом из этих девятнадцати лет, пусть даже дорога Керима пролегала в тени, и ему порою казалось, что мгла эта всеобъемлюща. И в том, что свет лунной долины его юности был вечен и неизменен и заключалась главная правда.
Он шел. В воздухе резче обозначился металлический привкус лунного света. Керим явственно ощущал его на губах, и ощущение это было тревожащим. Когда-то нечто похожее с ним уже случалось, да, когда-то он уже чувствовал на губах своих такой же точно привкус. Но воспоминание не давалось, ускользало, взамен себя оставляя легкую горечь и еще белее острый привкус металла.
— Ну-ка, еще одну выпей! Давай-давай, теперь еще одну!
А что если привкус луны на твоих губах — всего лишь осадок от выпитого на собственной свадьбе?
Вот они вчетвером остались в их с Валидой квартире, и Валида пошла на кухню заваривать чай, а Керим с Наги выпили еще по бокалу шампанского. Наги повеселел. «Жизнь прекрасна, старик!» — с пьяным добродушием проговорил Наги. Нет, он почти прокричал это: «Жизнь прекрасна!» Возглас камнем упал в тихой комнате, в одном углу которой сидела усталая женщина, жена Наги, а в другом считал долгие минуты он сам, Керим. Керим отчетливо помнил, как неуклюжее веселье друга больно кольнуло сердце. Помнил вспыхнувшую мгновенную жалость к непробиваемо-веселому Наги. Керим глядел на улыбающийся рот и печальные глаза друга, и чувствовал, как слова участия, любви и тепла теснятся в его груди. Но он не произнес тогда этих слов. А потом минута ушла, затерялась в ночи… Керим вышел на балкон, и мерцающее таинственное колдовство света вновь овладело им. Он уже не помнил ни о поджидающей к кухне Валиде, ни об отшумевшей свадьбе, ни о Наги с его пьяным весельем, от которого так щемит сердце. В ночи их вновь было двое — Керим и тонкий привкус лунного света.
И еще — легкий холодок от выпитого шампанского…
2
С Валидой Керим познакомился давно. Вот уже пять, а то и шесть лет, как работали они в родственных учреждениях, встречаясь изредка по делам, и служебные их комнаты походили друг на друга, как близнецы. Была Валида тоже одинокая, хоть и немногим младше Керима. Кто знает, отчего жизнь складывается так, а не иначе? Вот и у Валиды — девушка не хуже других, да то ли человек подходящий не встретился, то ли когда-то повстречался, да не заметила… Годы бегут быстро, свежая поутру надежда к вечеру увядает.
Кто знает, может, именно одиночество и толкнуло их друг к другу? Произошло это все как-то буднично, без лишних слов и волнений. Раз после работы Керим проводил Валиду до дому. В другой — сходили в кино. А уже в третью встречу Валида незаметно свернула к универмагу. Керим тогда не сообразил, в чем дело, лишь потом (это была уже четвертая их встреча). Валида вручила ему аккуратно сшитые занавески на окна. Занавески он взял, хоть и удивился: как Валида догадалась, что в новой его квартире как раз занавесок и нет?..
Потом была еще встреча — из нее Керим запомнил долгое стояние с Валидой у остекленного прилавка, на котором в аккуратных гнездышках поблескивали обручальные кольца. И еще встреча, и незаметно для себя Керим оказался в доме у Валиды, познакомился с ее родителями. И еще был день, когда Валида неожиданно распахнула перед Керимом двери нарядного ателье, и он вошел в него. И так случилось, что в костюме, заказанном Валидой в тот день, Керим брел сейчас один, по недостроенной улице, брел наугад, покорный лишь неверному голосу света.
Уходил… Но куда? Похожий на бегство путь его — разве не лежал он к долине, которая тоже принадлежит этому миру? Он помнил каждый домик деревушки в верховьях того ущелья. Оторванный, заброшенный в город, разве забыл он тесноту родного села? И разве не одним и тем же человеком был тот, прежний, рвущийся на простор большого мира, и этот, бредущий сейчас по огромному спящему городу?
Как случилось, отчего вся широта мира теперь оказалась для него сосредоточенной в том, сжатом горами ущелье? И по какому бы кругу ни неслись мысли Керима, они замыкались все там же, на той же долине, словно она и была главной в мире. И казалось ему, что один только взгляд на ту луну, те звезды, один лишь глоток воздуха того ущелья сделают сразу его жизнь значительнее и осмысленнее.
И этот металлический привкус на губах, ну отчего, господи, взяться металлическому привкусу у лунного света? Или и привкус этот донесся оттуда, из глубины в девятнадцать лет — так, кажется, пахли в лунной дали сбегающие по склону ущелья рельсы. Нет, нет, наверное, все проще, и где-то здесь, рядом, невидимый в темноте, притаился завод или обычная свалка металлолома. Но кет — этот запах, сводивший с ума Керима, не мог рождаться на какой-то свалке. Тревожный, едва уловимый, он, несомненно, доносился издалека. И Кериму казалось, что еще несколько шагов, и он добредет, наконец, до этой непонятной дали. И снова колдовской, магнетический голос света вел его, подчиняя своей воле. И снова Керим шел и шел в этой ночи, и в ушах его пел, слышный лишь ему одному, голос света.
Так, незаметно, он миновал длинный каменный забор. Там, за забором, сразу же начиналось немыслимое нагромождение металла. Лишь теперь, увидев ржавые вздыбленные металлические конструкции, Керим, наконец, понял, где он находится.
Это была окраина города. Редкие еще, разбросанные новые дома. В ту ночь, пять или шесть лет назад, блуждая по пустырю в поисках квартиры Тогрула, они тоже натолкнулись на свалку металла, именно на эту свалку. Вот отсюда, от этого кладбища металлолома, Керим в прошлый раз безошибочным деревенским чутьем отыскал дорогу к дому Тогрула. А до того они больше часа плутали среди одинаковых новостроек, и водитель такси, совсем уже отчаявшись, собрался разворачиваться обратно в город. Вот тут им и встретилось это громыхающее кладбище. Они вышли из машины, и уже через несколько минут стояли перед дверью квартиры Тогрула. Потом, приезжая к Тогрулу, уже без Наги, Керим всякий раз ориентировался на эту металлическую гору.
В ее немыслимых развалах можно было отыскать, кажется, любую металлическую вещь — от спинки кровати до винта пропеллера. Металл мок под водой, ржавчина прогрызала в нем глубокие борозды, и запах разрушающегося металла витал над всем пустырем.
Вдали виднелись дома. Лунный свет милосердно затушевывал на панельных стенах пятна отвалившейся штукатурки и подтеки, отчего этажерки зданий казались наряднее и светлее. Керим подумал, что человеку, глядящему на улицу оттуда, из темных окон спящих домов, могло показаться, что в лицо ему бросили серебристую горсть металлической пыли.
Да, теперь, наконец, Керим понял, где он находится. Но зато объяснить, каким образом добрался он пешком на эту отдаленную окраину — этого бы он не смог ни за что. Ни одна дорога не вела от микрорайона, в котором жил Керим, к этому незастроенному пустырю. И все-таки Керим был сейчас здесь, и единственным объяснением тому казалось самое неправдоподобное — он пришел, ведомый лунным светом. А лунный свет отовсюду притягивался сюда, словно именно здесь, на кладбище мертвого металла, и было его убежище в этом ночном городе. И хоть Керим абсолютно точно знал, что прямой дороги сюда не существует, он все-таки не мог припомнить, чтобы хоть раз свернул за время долгого своего пути. И больше того — весь ужас заключался в том, что теперь он, Керим, не смог бы найти дороги к собственному дому.
Но Керим и не хотел искать эту дорогу. Это было странным повторением происшедшего с ним пять или шесть лет назад. Ведь и тогда, выйдя из такси у металлической горы и доверившись своему деревенскому чутью, он у этой свалки металла почувствовал и другое — он не захочет возвращаться из этой квартиры Тогрула, не захочет — и он знал это, еще не переступив ее порога. Предчувствие кольнуло и пропало, и осталось только желание поскорее покончить с затянувшимся поиском. Ведь, кроме Наги, в машине ждали те две девушки…
Знакомство было внезапным и неожиданно простым. Девушки стояли в центре города на остановке такси. Наги с Керимом только вышли из ресторана. Вечер выдался легкий, голова слегка кружилась от выпитого, хотя пьяными они не были. Им обоим чудовищно везло в тот вечер, Наги и Кериму.
Легко и непринужденно познакомившись с девушками, они пошли их провожать. Наги был остроумен, девушки веселы, так они и бродили по вечернему городу, пока им не встретился зеленый огонек такси. Они проголосовали, потом долго кружили в машине по городу, и Наги вдруг неожиданно направил машину в этот вот новый район. Девушки притихли, а Наги, напротив, стал еще веселее, не переставая, шутил, смеялся — так до самой квартиры Тогрула.
Тогрул был другом студенческих лет Наги и Керима, В старую городскую его квартиру Керим заходил часто. Но он не знал, что у Тогрула появилась и эта комната. Для чего она была нужна Тогрулу, Керим тоже понял только в ту ночь… Керим впервые в жизни был в такой квартире… И в лунном свете, льющемся в незанавешенные окна этой комнаты, Керим долго-долго целовал девушку. И ему казалось, что ни свету, ни поцелуям этим не будет конца, а едва в сердце проникал холодок скорого рассвета, Керим вновь склонялся над лицом девушки, словно был в состоянии сделать эту ночь бесконечной. Тихо билось сердце Керима. И сердце его, и поцелуи, и лунный свет, и девушка, и вся эта ночь были пронизаны одной мелодией. Музыка этой ночи… Господи, где, когда затерялась эта ночь в жизни Керима?.. Ночь, которая никогда больше не вернется. Ночь, ради одной которой жизнь стоила того, чтобы ее прожить…
* * *
«Наги, Наги, Наги…» — и в груди Керима становилось светло. Ком подкатывал к горлу — ведь Наги вправду был Кериму другом, настоящим другом. Вот и та ночь возвращалась Кериму красотой девушки, добротой Наги, покоем лунной комнаты. В ту ночь Наги оставил Керима с девушкой в комнате, а сам вместе с ее подругой ушел на кухню. Конечно, все вполне могло быть и наоборот, и ничего бы, наверное, не изменилось. Что знал бы в этом мире Керим без Наги? Какие ночи, кроме бесконечных ночей над книгами и тетрадями?
Да, Наги причинял ему немало тревог и волнений. И все-таки всякий раз, когда между ними пробегал холодок отчуждения, это было следствием жесткости Керима. В нем, в Наги, жесткости не было и в помине.
Вот уже пять-шесть лет минуло с тех пор, как Наги, что называется, сбился с дороги. Легко ли было Кериму упрекать его за это? Наги забросил готовую кандидатскую диссертацию и пробавлялся тем, что время от времени писал диссертации для других… Для тех, у кого было все, кроме докторской или кандидатской, кроме заветной степени. У них была сильная воля: они запирали Наги в комнате и заставляли работать — и он неотрывно работал. А потом, вырвавшись, так же беспробудно пил. Если им доводилось случайно встретиться, Наги, едва поздоровавшись, звал Керима выпить, и никогда не верил в искренность его отказов. В таких случаях Наги подолгу смотрел в лицо другу. И все-таки никогда, ни разу Наги не заставлял его пить.
Увещевания и уговоры Керима Наги выслушивал с безмерным удивлением, молча. И улыбался, тихо, с любовью улыбался. Кто знает, может быть, доводы и уговоры Керима и вправду были смешными…
Порой в самых далеких закоулках своей души Керим находил что-то похожее на зависть к Наги. Его тянуло к другу — и в то же время в нем росла сила отталкивания. Уйти, уйти! Иначе трясина, в которую ступил Наги, неминуемо затянула бы и Керима. Волей-неволей Керим должен был оказаться сильней тяготения к другу. Иного пути не было. Без этого Керим не смог бы ни закончить диссертацию, ни защитить ее — свою, настоящую диссертацию. В этой честной работе, считал Керим, не было ни грамма предательства по отношению к Наги. Напротив — здесь была верность их прежней дружбе — честной и неподкупной. Верность, которой так дорожили они оба. И чтобы эта верность не была нарушена, считал Керим, надо было жить правдой — в науке, в буднях, во всем. Другой верности не знал Керим.
Но и иного друга он не знал. С Наги был связан целый мир, и занять его место в этом мире никому другому было немыслимо…
* * *
«Наги, Наги, Наги!», — и он спешил к светлеющему в ночи дому Тогрула, спешил, словно знал, что там, у Тогрула, с тех пор все еще сидит и ждет его верный, улыбающийся Наги, прежний Наги.
И ждет девушка. Словно не существовало разделившее их время, и где-то по-прежнему в эту минуту есть комната, в незанавешенные окна которой льется лунный свет, и свет этот, серебристый и тягучий, можно пить. Лунный свет и залитая им девушка, а все остальное, все пролегшие между нынешней и той ночью годы — это всего лишь дорога, волшебная дорога, ведущая в ту лунную комнату.
И надо же — чего не случается в мире! — балкон над головой Керима и вправду оказался балконом Тогрула. В квартире и сейчас никто не жил. Это было видно сразу — по грязной, в подтеках штукатурке на балконе, по слою пыли на стеклах. Все то же, неведомое чувство, подсказало Кериму, что ключ должен лежать вот здесь, с левой стороны, под выщербленным кирпичом…
Он отпер дверь и вошел. Не включая света, бросился на диван. И только потом уже медленно встал и зажег свет. Комната не изменилась. Все было на месте: старый, продавленный диван, несколько стульев. В центре, на прямоугольнике стола — консервные банки, коньяк, несколько винных бутылок…
Керим погасил свет. Теперь он лежал на диване вниз лицом. Он ничего не видел, но знал, что на неубранном столе четыре бокала. Кому принадлежали они? Кто бывал здесь — Наги, Тогрул или сюда ходят теперь вовсе незнакомые Кериму люди? Господи, ну какое же тебе дело до тех, кто пил вино из этих бокалов? До тех, кто входил в эту комнату… И не наваждение ли та, живущая в памяти Керима ночь? Неужто, кроме тех двух девушек, и вправду нет женщин во всем мире…
А они, те девушки, едва настало утро, ушли, словно растворились. Они не разрешили Наги и Кериму проводить их. Впрочем, ни Наги, ни Керим на этом, кажется, особенно не настаивали. Ведь впереди было так много встреч, и первая из них — сегодняшним вечером, все на той же стоянке такси. Но этой вечерней встречи не получилось — девушки не пришли. Тогда, напрасно прождав их, Керим расстался с Наги, и один пришел сюда, в эту квартиру, и на этом вот продавленном диване плакал навзрыд, так он плакал первый раз в своей жизни. Сколько потом дней кряду в одиночестве напрасно ждал он здесь, в этой комнате… Однажды Керим, выпив, во всем признался Наги. Он говорил, сбиваясь и задыхаясь, и по лицу его текли слезы. Ни улыбки, ни слова неверного не позволил себе Наги в тот раз, не сделал ничего, что могло бы испачкать память о девушке в сердце Керима. Наги словно боялся спугнуть волшебство той ночи. Как благодарен за это был ему Керим!
В то, что ночь та была необычной, сумасшедшей, счастливой случайностью, Керим верил тогда безоглядно. И вот теперь, пять-шесть лет спустя, никто на земле не знал, как важна была Кериму вера в волшебство, в неповторимость той ночи…
Он долго лежал, не зажигая света, уткнувшись лицом в обивку продавленного дивана. Глаза его были закрыты, но Керим снова и снова видел льющийся лунный свет. И еще он видел четыре бокала. Свет вливался в бокалы, плавился в них, и бокалы растворялись, исчезали в потоке света. И когда в серебристом облаке растворился последний бокал, Керим уснул.
3
И вот он уже в знакомом ущелье. Внизу стелется, мерцая, пелена белоснежного тумана. Во всем мире только Керим и серебристо-белое сияние. Постепенно в этом зыбком сверкающем мире прорисовываются сказочные тени — тень горы, тень дерева, темь куста…
Откуда-то до Керима доносится тонкий запах росы, теплый — молока, резкое дыхание молодой травы. Ни одной травинки не видно в этом мерцающем ущелье, но все-таки он знает, что там, под плотным светящимся туманом, заполнившим ущелье, растет свежая пахучая молодая трава.
Вдруг из плотной пелены непрозрачного света выступили тени, до боли знакомые Кериму. Он узнал силуэты выстроившихся в ряд деревьев. Гору. Знакомый до последнего листочка куст. Но и эта гора, и деревья, и куст тонули в затопляющем ущелье светлом тумане и оставались лишь миражами, тенями. И Керим не мог понять, то ли красота самого тумана мешает явиться знакомым теням в настоящем их виде, то ли зыбкие тени пришли, чтоб напомнить ему о деревьях, кустах, горе его детства, то ли мерцающее сияние, окружающее Керима, исходит не из ущелья или равнины, а рождается на незнакомой ему планете, куда и тень дерева, и тень горы, и тень куста проецировались его памятью, словно переводные картинки из мира детства.
И эта деревня в верховьях ущелья, что, как тайной, окружена клубящимся светом, — такой она приходила и в сны Керима. Что за светящаяся связана с ней тайна, о господи? Ведь было же время, когда Керим знал в этой лунной деревне, которую сейчас своим светом прорисовывал месяц, каждый дом, каждую улицу, каждый клочок земли, а теперь они встают перед ним, словно лунным лучом исполненные наброски.
Он узнал вот этот набросок… На нем мальчик Керим, вырвавшись вечером из рук бабушки, забрался в мечеть, чтоб зажечь там светильник, и светильник этот должен был помочь убить войну, чтобы и отец Керима, и все, кого она забрала из этой деревни, вернулись, наконец, домой, вернулись живыми и здоровыми.
И ночь, в которую старая бабушка Керима молилась молодому месяцу, просила, запрокинув лицо к холодному свету неба, послать крохотный лучик добра в сердце председателя колхоза Самандара и колхозного сторожа Гейбата, потому что был день, когда Самандар сорвал дверь с их ветхой мечети, унес ее и навесил в хлеву, и жидкое пламя светильников плясало на ветру; а сторож Гейбат из-за несчастной горсти алычи ни за что оскорбил девушку, внучку старой Гызтамам — Лалазар.
А на другом рисунке этого месяца была ночь, и черный гроб, в котором однажды отнесли на кладбище бабушку Керима… И еще световое пятно — самая красивая девушка деревни возвращается из кино. И еще лунный рисунок — сам Керим, разглядывающий все это. Вот сейчас он встанет и пойдет…
Но куда он пойдет, Керим не знал. Он знал только, что непременно, обязательно должен идти. Но идти ему не хотелось. Еще немного побыть здесь, куда не долетало ни шума, ни шороха. Но он знал, что первые лучи дня позовут его в дорогу, и в этом была разгадка того, почему в удивительном своем сне Керим так боялся рассвета.
Он боялся, что солнце проснется и растопит белоснежный туман, сотрет с лица земли дорогие тени.
Проснется солнце — и мир покинут этот запах молока, дыхание росы. Взойдет солнце — и вместе с ним проснутся пауки и гады. Вновь зазвучат невыносимо громкие трели соловьев. Солнце разбудит кусты, целые заросли алых роз. И любовь тогда вновь примется колдовать, слагать свои приторные дастаны на фарсидский манер. Мир захлебнется тягучим сладким ароматом, едва лишь в нем взойдет солнце.
Взойдет солнце, и проснется время, — время учиться, время жать, время молотить… И времена председателя Самандара вспомнятся вместе с их жатвой и молотьбой, поспевающими хлебами и шумными гумнами, что затаились в самом отдаленном уголке этого мира, в той неведомой дали, где прячется солнце.
Здесь же, где находился Керим, времени не было. Не было ни жатвы, ни молотьбы зерна, ни жары не было, ни холода. Именно поэтому, должно быть, места эти и показались Кериму похожими на другую планету.
И по законам своего удивительного сна Керим знал, что он должен непременно пройти из конца в конец это ущелье до восхода солнца. Но тогда почему он не шел, чего ждал? То ли опьянил его воздух этих мест, не позволяя сделать первый шаг?.. Керим медлил. Словно в мире, где не было времени, не могло существовать и движения. Словно здесь и верно была другая планета, и законы ее оставались Кериму неведомы.
Он незаметно поддался призрачному, обманчиво похожему на небытие чувству, но длительное пребывание в абсолютном покое неожиданно пробудило в нем сомнение, и он содрогнулся, и внезапно открыл глаза, и увидел все ту же комнату и знакомую тень ка стене. Керим вздрогнул и проснулся окончательно. Тень на стене могла принадлежать только живому Наги, и, конечно, сам Наги неторопливо прогуливался по комнате, ожидая пробуждения Керима.
4
Наги продолжал молчать и тогда, когда убедился, что Керим проснулся; он только небрежно включил свет, все так же небрежно подошел к столу. Отыскав среди бутылок с вином одну нераскупоренную, Наги вытащил зубами пробку, выплюнул ее на пол. Затем поднес бутылку к губам и жадно, пока хватало дыхания, пил. Потом долго разглядывал на свет остаток вина. Затем принялся изучать лицо Керима, глядя на него сквозь все ту же бутылку. Это начинало походить на странную пантомиму. Наконец, Наги, по-видимому, обдумав мысль, заключил:
— Нет, тебе нельзя. — И пояснил: — Тебе пить вредно.
Оглушенный событиями ночи, Керим почти не понимал происходящего. Мелькнула дикая мысль: что, если, пока он спал, мир сместился куда-то, и комната эта сжалась, став ниже и уже, и диван этот показался ему сброшенным с какой-то неведомой высоты, и даже самого Наги будто бы только сейчас бросили на землю. Было похоже, что весь мир упал, став ниже и мельче, и Керим мучился этой тайной, не в силах ее разгадать.
— Ты что, еще не очухался?
Керим буркнул что-то в ответ, и сам подивился хриплому своему голосу.
Наги снова взял бутылку, поднес ее к губам, однако пить не стал.
— Хорошо же ты выдрыхся, — проговорил он. — Гляжу, умиляюсь… Прямо зайчонок… Жаль было тебя будить. Э, друг, ты вообще, я скажу, напоминаешь мне зайца. Слушай, почему все-таки ты похож на зайца, Керим?
Наги сделал несколько глотков и, держа бутылку в руках, широко улыбнулся. И то ли от вина, выпитого Наги, то ли от довольной его улыбки, то ли от чего другого, но к Кериму неожиданно вернулась сила.
— Что, долго я спал?
— Ты это у меня спрашиваешь? — Наги согнал с лица улыбку, отпил еще немного. Затем опустил бутылку на пол, закурил. — Так зачем же ты сюда явился?
— Не знаю.
— А то, может, снова случай подвернулся?
Керим изумленно взглянул в лицо Наги.
— Да нет, — сказал он, — не было случая.
— Приехал на такси?
— Нет.
— А на чем тогда?
— Ни на чем.
Наги сделал попытку улыбнуться, но улыбки не вышло. Теперь, когда он снова посмотрел на Керима, во взгляде его сквозило сомнение.
— Неужели с тех пор ни разу не представилось случая?
Керим промолчал, потому что во всем, что касалось «случаев», он до сих пор разбирался слабо.
Наги пригасил только что зажженную сигарету в консервной банке.
— Я, кажется, напрасно уговаривал тебя сегодня пить водку, — вдруг сказал он. И нервно добавил: — Э, ты что ж мне на спину свой груз валишь? Может, скажешь, я нарочно тебя спаивал?
— A-а, ерунда все это… — проговорил Керим и взглянул прямо в лицо Наги.
Но долго смотреть ему в лицо Керим не смог. Отсвет незамеченного им прежде уродства лег на знакомые черты Наги. Они тоже принадлежали окружающему теперь Кериму миру. Только ему — и ничему больше…
И Керим, сброшенный резко и больно с чистой высоты своих ночных видений, поднялся с дивана, встал на ноги. И тяжелое, непреодолимое желание сказать Наги жестокие и тяжелые слова овладело им. Он приблизился вплотную к этому почти незнакомому лицу и выдохнул в него:
— Пить надо поменьше, вот что!
Взнесенная рука Наги вздрогнула, бутылка качнулась и медленно опустилась на пол.
— Э, ты что, опять взбесился? — произнес он. — Или, похоже, проснулся, наконец, а?
Наги поднял и протянул руку вперед. Керим отпрянул. И в тот же миг оба почувствовали, что разделяющее их расстояние в один шаг превратилось в бездну, разрослось в пространстве и во времени.
— Как ты узнал, что я здесь?
— А это, как говорится, я на твоей дубильне знаток кож… — Наги разом опрокинул в себя остатки вина. — Ну, так что ты еще мне скажешь?
— Пошли отсюда.
— Мы-то пойдем, а ей как ты теперь все это объяснишь?
— Кому — ей?
— Кому, кому — да твоей собственной жене!
— А никак не объясню.
— То есть, как это «никак»? Ну нет, надо что-нибудь придумать.
— Что именно?
— Ну, например, можно сказать, что ты встревожился — одного из самых близких родственников не было на свадьбе. Ты никак не мог понять, что случилось. И решил сам узнать, в чем дело… Вот и пришлось ловить такси и прямиком в Бузовны.
— Какие еще Бузовны?
— Да что ты цепляешься ко мне? Пожалуйста, можно в Маштаги. Но ведь куда-то же ты должен был поехать, верно? — Наги двинулся к двери. — Где ключ?
— Ключ? Не знаю. Посмотри под дверью — может быть, там.
Наги оглядел комнату, погасил свет. Потом, заперев дверь, аккуратно положил ключ на место.
— Так, теперь, вроде, все в порядке? Что еще нам осталось? Ну, конечно — найти имя этому твоему бессовестному родственнику. Ну, имя — дело нетрудное. Как тебе Агакерим? Сойдет?
— Нет!
— Ладно, я сговорчивый, пусть будет Агагусейн.
— Не будет и Агагусейка.
— Тебе что, не нравятся имена с «ага»?
— Нет.
Наги быстро сбежал по лестнице и неожиданно остановился внизу.
— А что, собственно, было?
— Ничего не было. Врать я ей не буду.
— Ладно, с меня хватит. Сыт по горло. Что ты, приятель, ломаешься? И вообще — откуда в тебе столько подлости?
Теперь взорвался Керим:
— Послушай — я скажу ей, что сошел с ума… Понял? Ветер у меня в голове поднялся, буран! А этими штучками с родственниками морочить ее не буду! Я не буду ей врать, не хочу — ты в состоянии понять хоть это? Не буду — и катись со своими советами!
Наги промолчал. И в жутком молчании этой бесконечной ночи Кериму ответил лишь едва слышный звон в его душе.
— Так ты говоришь, что врать не станешь? — голос Наги звучал теперь хрипло и отчужденно. И эта отчужденность Наги была созвучна с тем, что происходило в душе Керима. Неужели только это и осталось теперь от времени, когда они были друзьями? Так, как разлитый в воздухе запах металла был памятью о кладбище старого железа…
— Оставь меня в покое, Наги, я же сказал: врать ей не буду.
— А ведь ты иногда бывал приличным человеком, — процедил Наги.
— И когда это было?
— Бывало, друг, бывало — когда ты был пьян. Вот жаль только, что стоило хмелю выветриться — и твоя подлость опять вылезла наружу.
Керим оглянулся в тщетной надежде отыскать ту дорогу, что привела его сюда. Но дороги не было. Кажется, она и впрямь пролегла в мире лишь раз, и только в эту ночь — а теперь вот минул срок, — и дорога исчезла навсегда. Кто знает, может, та дорога и была проложена самой луной, вымощена ее светом… Один, только один-единственный раз за целую жизнь мог человек пройти по этой дороге.
Обычное, абсолютно реальное шоссе начиналось здесь, у бакинской окраины, и вело прямо к центру города. Луна уже зашла, но до восхода солнца было еще далеко. И, насколько хватало глаз, перед ними лежала пустынная ночная дорога.
— Далеко отсюда до дому?
Наги уселся на камень у обочины.
— Это тебе виднее, сам должен знать, — ухмыльнулся он.
— Клянусь, поразительное дело…
— Что еще?
— Да я же пешком сюда по этой дороге пришел.
Наги молчал, не сводя глаз с темной поверхности шоссе.
— Ты во сне шел, — наконец, проговорил он. — Чего другого можно ожидать от человека, который так похож на зайца? Вот ты и шел, шел, шел с закрытыми глазами и дошел… Так и подлецом стал…
— Выходит, чтобы не быть подлецом, нужно врать?
Наги встал, неторопливо подошел к Кериму. Положил руку ему на плечо и некоторое время стоял так, весь напрягшись, крепко сжимая пальцы. Потом устало расслабился, руки его повисли, словно вместе со злостью из Наги ушла и жизнь, и Керим услышал его обесцвеченный, мертвый голос.
— Подлец ты, подлец! Это правда, и то, что я тебя боюсь, правда! Клянусь, никого не боюсь я в этом мире, а тебя, размазню, тихоню, подлеца — боюсь!
Керим молчал, не в силах произнести ни слова. Он не мог, не хотел позволить себе поверить в то, что человек, стоящий перед ним — Наги, что знакомого и дорогого для него человека больше не существует, он умер, растворился в этом, стоящем перед ним незнакомце… Керим стоял и судорожно искал слова. Одно только слово, которое должно было бы взорвать затянувшееся молчание, молчание конца.
— Чего тебе бояться?
— Чего? Да того, что никак не могу разобраться до конца в твоей подлости! Ты думаешь, я пьян? Ни черта! И, клянусь, никогда голова моя не была такой ясной, как теперь. Я совсем трезвый, как стеклышко. А говорил я тебе когда-нибудь, что стоит мне стать чутким и трезвым — как я испытываю огромное желание придушить тебя. Вот так, гляди! — Наги вновь положил руки на плечи Керима, но теперь пальцы его были вялыми.
Со стороны, наверное, это было похоже на дружеское объятие… Керим стряхнул с себя руки Наги.
— Ладно, хватит, не дури… Человек ты или нет, черт тебя возьми…
— Вот и опять врешь, — взорвался Наги, — не человек я, и ты это отлично, лучше многих других знаешь. Да что там — ты ведь и сам так давно думаешь, вот только сказать не можешь. Слабо сказать правду в глаза, а?
— Ну хорошо, пусть будет по-твоему, только, бога ради, убери, наконец, свои руки!.. Говорим, как глухие. Ты хоть способен сейчас что-нибудь услышать? Вот, например, если я сейчас умру…
— И опять врешь! Не умрешь, не пугай! Ты не из тех, кто умирает вот так, за здорово живешь. Просто слегка чокнулся, а теперь просыпаешься, приходишь в себя. Хочешь ты сейчас по-настоящему только одного — попасть поскорее домой. Что, не так? Придешь, на брюхе приползешь, прощения клянчить будешь у молодой жены, жаловаться на меня, пьяницу. Ведь ты чистенький у нас. Но запомни — ты все равно скажешь ей о Бузовнах… Не забыл, как родственника зовут, а?
Керим поглядел на дорогу.
— А вот и машина, кажется, — сказал он. — Спрячь руки, Наги, дорогой, и, пожалуйста, запомни — нет у меня никакого родственника. Нет, понял?!
Наги отошел, встал на самой середине дороги и поднял руку. Машина приближалась, она дошла уже почти вплотную к Наги, а тот все так и стоял, загораживая ей путь, с поднятыми руками. Но машина, не затормозив, обогнула его, пронеслась у самой обочины и только тогда, когда вдали растаял ее силуэт, Наги, крепко выругавшись, сошел, наконец, с дороги.
— Ну что ты за дрянь, а? Неужели ни разу не можешь уступить старому другу? Все, всегда и все должно быть только по-твоему? Но почему, черт тебя подери? Хочешь быть чистеньким, чистоплюй, а? Или тебе кажется, что ты и есть настоящий мужчина? Да что там мужчина, ведь ты здесь, на земле, исполняешь миссию самого аллаха! Никак не меньше, угадал?
— Да пропади ты пропадом, всю душу мне вымотал! Пусть будет по-твоему. Скажу я, слышишь, скажу, что ездил в Бузовны. К родственнику. К Агагусейну. Чего ты еще от меня хочешь? Заткнешься ты, наконец, или нет?
Наги смолк. Было похоже, что слова Керима пришлись ему по душе.
— А что, если бы ты сказал это немного раньше, — умер бы, что ли? Нет, все-таки подлец ты, большой подлец. Да еще и упрямый, как осел. И чистоплюй — это уж точно!
Черные глаза Наги не отрывались от земли. Вдруг по лицу его вновь отчетливо скользнула все та же мерзкая тень. И сразу вслед за этим мир вновь затопил лунный свет, чистый, прямой. Но глаза Наги мешали Кериму отдаться этому свету, и прекрасный мир этой ночи, мир, лишь недавно принадлежавший Кериму, не впускал его в свои владения. На дороге появилась еще одна машина, и было похоже, что эта, наконец, их подберет. Она подошла совсем близко, когда Керим произнес слова, от которых мгновенно проснулась притихшая было ярость Наги.
— А что будет, если я возьму свое обещание назад? Умри, перевернись, лопни — и все-таки не стану я врать, понял?
Теперь Наги рассвирепел окончательно.
— Что ж, черт с тобой, говори! Ты много на себя берешь, если думаешь, что мне так уж важно, что ты там будешь говорить!
— Как знать! По тому, как вел ты себя все это время, что-то непохоже. Или же ты и здесь валял дурака — просто потому, что уже не можешь иначе?
Последние слова Керим произнес, стоя у борта грузовой машины. Наги, не шелохнувшись, застыл у обочины.
— Так как, не едешь?
— Будь здоров!
— Давай поскорее, не дури…
Наги нерешительно приблизился. Теперь они сидели в кузове и молчали.
— Значит, отказываешься рассказать жене про родственника? — прервал молчание Наги.
— Отказываюсь.
— Ну, ну… Стал, наконец, мужчиной!
— Хватит паясничать, Наги, давай кончать с этим.
— А если я хочу, чтоб ты знал, до чего я ненавижу эту твою мерзкую принципиальность?
— Может быть, ты и прав. Твой вариант с родственником, наверное, лучше. Но только вот что, Наги, в одном ты врешь — не презираешь ты меня, а боишься. Ты сам ведь это сказал, помнишь? Вот это и есть правда.
Наги пересел из задней части кузова вперед, к кабине. Теперь он съежился и оттого выглядел меньше, чем был на самом деле. В тусклом свете, падавшем из кабины, лицо его казалось совсем темным. Но что за тайна, господи, отчего вдруг темный, страшный Наги опять показался Кериму своим, близким? И теперь он уже не понимал, для чего ему нужно было унижать этого съежившегося на ветру человека, как мог он усомниться, хоть на мгновение, в том, что этот темный Наги — близкий и дорогой человек. Теперь, сделай Наги хоть одно движение навстречу, Керим готов был обнять его, забыв обо всем, что было. Но Наги не делал этого движения. Наги сказал:
— Ну хорошо, допустим, дубовая твоя стойкость поможет подняться еще на одну ступеньку. Ну, станешь ты доктором, а потом?
— А потом… Постараюсь доставить как можно больше неприятностей тем, кто делается докторами с легкой руки таких торгашей, как ты… — сказал Керим и впервые за много лет без ставшего уже привычным отвращения подумал о своей докторской работе.
Наги поерзал на месте.
— Да, все-таки это я точно тебя определил — дубовый ты… Только и теленок еще, мой дорогой. Не понимаешь главного: зачем все это? Не все ли равно — что то, что другое? Разницы-то ведь на самом деле никакой нет… И не кривись, словно у тебя зубы болят…
— Что поделаешь, Наги? Ты меня почти рассмешил… Вот как только пойму, чего ты, наконец, от меня хочешь, снова стану серьезным.
— Хочу, чтоб ты, наконец, человеком стал.
— Ладно, будет исполнено!
Что-то изменилось в лице Наги, потеплело. На мгновение Наги задержал в себе этот проблеск света, задержал, словно этот свет мог помешать Кериму произнести непоправимые слова, и тогда ночь могла бы уйти навсегда, не оставив хоть крохотный луч надежды…
И, боясь спугнуть эту надежду, сидели они, сонные и измученные, а машина неслась по предрассветному городу. И вот уже Керим спрыгивает с подножки, оставляя Наги в кузове.
— Скажи Таире, чтоб спускалась вниз, — хрипло проговорил Наги и резко тряхнул головой, напугав Керима. — Иди, иди, с шофером я расплачусь. Новобрачный…
5
А потом не было уже ни Наги, ни Таиры, и эта удивительная ночь незаметно таяла, навсегда покидая мир.
Пришел день. И как обычно, чуть трепетали в свежем утреннем воздухе зеленые занавески на окнах, пропуская красные лучи нового солнца…
Керим лежал на кровати.
Валида спала, крепко обхватив его руку.
Врать Валиде Керим не стал. Но почему-то, хотя зеленые занавески на окнах светились от солнечных лучей, Керима не покидало чувство, что где-то там, в Бузовнах, Маштагах ли, или бог весть где еще, у него и впрямь живет близкий родственник.
И еще казалось Кериму, что если бы не этот самый родственник — ничего бы и не произошло в волшебном мире минувшей лунной ночи.
Письмо
С тех пор как Халык женился, он ни разу не написал брату, и это его очень мучило. Вот сегодня — открыл глаза и сразу вспомнилось: за три недели не написал ни одного письма. Впрочем, Халык проснулся с уверенностью, что сегодня он наконец осилит это письмо. Может быть, такое ощущение возникло потому, что в комнату заглядывало молодое утреннее солнце, а может, потому, что Халык выспался и видел хороший сон. Не исключено, что существовала и еще какая-нибудь причина.
Так или иначе, Халык точно знал, что письмо к брату будет отправлено. Потом ему пришло в голову, что, может быть, он зря так волнуется; совсем не обязательно, что брат объяснит его молчание семейными неприятностями, — наоборот, человек женился — новые заботы, новые обязанности, где уж тут письма писать?..
Сейчас Халык был почти уверен, что брат именно так и понимает отсутствие его писем. Да ведь и прошло-то всего ничего — каких-нибудь три недели!..
Халык с аппетитом позавтракал, напился чаю, сунул под мышку завтрак, завернутый в газету, скинул в передней шлепанцы, обулся и, бросив возившейся в кухне жене: «Я пошел!» — стал спускаться по лестнице.
Халык был уже на следующей площадке, когда Салтанат окликнула его: «Братец! Братец!»
Он поднялся на несколько ступенек, жена на несколько ступенек спустилась.
— Вот, — сказала она, протягивая Халыку листок, вырванный из школьной тетрадки, — отошли, пожалуйста, письмо.
Халык кивнул, сунул листок в карман и тотчас же ощутил какое-то смутное недовольство — не потому, конечно, что придется идти на почту, — не первое письмо отправляет, — тут что-то другое…
Халык спустился еще на один этаж и вдруг понял, что все дело в этом «братец», не любит он, когда жена его так называет.
У выхода Халык остановился: ему пришло в голову, что Салтанат опять могла захлопнуть дверь. Убедившись, что жена не осталась на лестнице, он вышел из подъезда, миновал ворота и тут отчетливо ощутил, что с письмом к брату все опять стало трудно, что это ненаписанное письмо камнем висит у него на шее.
Дело в том, что у Халыка был один-единственный брат. Он служил в армии, и Халык часто писал ему, сообщая о себе все подробности. И когда на четвертом курсе ему неожиданно предложили должность литсотрудника, Халык прежде всего побежал на почту, — его распирало от радости, и он должен был немедленно излить эту радость на бумаге. Одну страницу письма Халык посвятил своему состоянию, другую заполнил описанием замечательного человека, который устроил его в редакцию; он даже пытался обрисовать брату его внешность.
Потом Халык побывал дома у этого удивительного человека. Опьяненный теплым приемом и всем, что видел в доме своего начальника, Халык в немом восторге долго слонялся по улицам и в конце концов опять-таки оказался на почте. Он был в таком состоянии, что не мог запомнить, что именно написал в том письме, но точно знал: письмо получилось хорошее — брат порадуется за него.
Потом, опять же с помощью своего начальника Курбанлы, Халык получил однокомнатную квартиру в новом районе. Когда он, единым духом взлетев по той самой лестнице, по которой спускался сегодня, идя на работу, вошел в свою квартиру, то понял, что должен сейчас же, немедленно написать брату. И действительно, через час Халык уже сидел на почте и писал; впрочем, он только водил рукой — слова сами лились из-под пера: кухня, ванная, облицованная плиткой, лоджия с видом на море…
Халык ничего не скрывал от брата, кроме, может быть, тех незначительных подробностей своей жизни, о которых люди вообще не говорят и не пишут. О том, например, что до женитьбы чуть не каждый день ходил в кино: он и жил от фильма до фильма. Лучше всего об этом знала его кровать в общежитии, скрипучая железная койка с провисшей сеткой; ей было досконально известно, что хотя Халык лежит сейчас на кровати в общежитии, он далеко-далеко, совсем в другом мире. И видит он не эту кровать, а роскошное благоухающее ложе; сам того не замечая, Халык каждый раз, возвращаясь из кино, выбирает для этого ложа самых красивых из встретившихся ему девушек. И красотки эти сейчас с ним, рядом. На них коротенькие, выше колен, юбочки, лежат они, как лежат красавицы из заграничных фильмов: руки живописно раскинуты, отчего грудь обрисовывается особенно отчетливо… Некоторые даже курят, а Халык ничего не имеет против…
Когда Халык переехал из общежития в собственную квартиру, он прежде всего купил кровать — красивую деревянную кровать за пятьдесят рублей, тюфяк — за десять рублей и одеяло — за четырнадцать. Но на этой пятидесятирублевой кровати уже не было живописно раскинувшихся красоток, с ним теперь постоянно была только одна девушка. Была, разумеется, в переносном смысле, потому что находилась она далеко, очень далеко…
Как-то раз после утомительного обсуждения плана Халык поймал на себе взгляд начальника, снова ощутив его отеческую заботу. Начальник оглядел брюки Халыка, ботинки и потом сказал со свойственной ему значительностью:
— Знаешь что, парень, пора бы уж тебе две подушки заводить!
Через несколько дней Халык столкнулся с начальником в коридоре.
— Ну что, все болтаешься бесприютный? — бросил Курбанлы, стремительно, как экспресс, проносясь к себе в кабинет. Через несколько минут он вызвал Халыка и завел с ним откровенный разговор.
— Вот что, парень, — сказал Халыку начальник. — Натаскался по шлюхам — хватит! Пора остепениться. Одно дело — в такси ездить, другое — в собственной машине.
Халык промолчал — он никогда не пользовался тем «такси», которое имел в виду редактор. А главное — когда Курбанлы заговорил о такси, Халыку сразу представилась машина Курбанлы, и, словно боясь, что начальник тоже увидит эту машину и то, что видел в ней сейчас Халык, он поспешно вышел из кабинета.
А потом наступил день, когда Курбанлы вызвал Халыка в кабинет и без всяких околичностей велел ему написать заявление об отпуске.
— Поезжай в деревню, — сказал он, — выбери приличную девушку и вези сюда. Пора. А то прицепится какая-нибудь городская вертихвостка — ни за что пропадешь!
Так Халык оказался в деревне. Жениться старинным порядком он, разумеется, не желал, поэтому ему организовали встречу с намеченной девушкой — это была дань современности.
Встретились они у родника, разумеется, девушка пришла к роднику совсем не для того, чтобы мыть посуду, хотя посуды она притащила целое ведро, и он оказался у воды вовсе не потому, что хотел пить, хотя ему и пришлось проглотить несколько пригоршней.
Когда Халык, уходя, бросил взгляд на девушку, он заметил, что та стоит вся пунцовая, на лбу бисеринки пота, а в глазах — неудержимая, отчаянная радость.
«Ладно, — сказал он себе, — женюсь!»
Сказал, присел на камни и стал думать… Потом он послал сватов к девушке. Потом была небольшая вечеринка. Потом поезд… и Салтанат. Салтанат, Салтанат… Ее восторженный взгляд, ее руки, ее колени… И ее голос: «Братец, это уже Баку?»
Она начала спрашивать об этом от самых Баладжар и повторяла свой вопрос перед каждой крупной станцией. И все время «братец, братец».
Потом они садились в такси на вокзальной площади, и Халык вспомнил слова Курбанлы: «Одно дело — в такси ездить, другое — в собственной машине».
Брату нужно было написать на следующий же день! Не пришлось бы недели таскать на шее этот пудовый камень…
С этим камнем Халык влез в автобус, дошел до редакции, втащил его по крутой лестнице…
Халык со студенческих лет привык первым, раньше всех приходить на работу: занимался здесь… Поскольку он и теперь оставался верным своей привычке, вахтер, выполняя давнишнее распоряжение начальника, продолжал давать ему ключ. Сегодня Халык тоже оказался первым.
Он отпер комнату, вошел, сел за стол и сунул руку за папиросами — курить в редакции тоже было его давнишней привычкой.
Потом он достал из стола листок бумаги, положил перед собой и, взяв правой рукой авторучку, другой стал сосредоточенно тереть лоб. Когда лоб стал совсем красным, Халык встал и подошел к окну: «Не могу, — прошептал он, — не могу!..»
Окно выходило во двор. Высокие кирпичные стены с трех сторон окружали двор, образовывая глубокий колодец.
На грязной серой стене были намалеваны две черные фигуры. Когда Халык первый раз увидел их из окна, он решил во что бы то ни стало уничтожить эту мерзость — при всей неумелости рисовавшего ясно было, что это мужчина и женщина, и страшно было подумать, что такой человек, как Курбанлы, вынужден каждый день видеть это непотребство. Рисунок на стене долгое время смущал Халыка. Лишь после того как Курбанлы заговорил о «такси», Халык перестал думать о рисунке, теперь он его просто не замечал.
Халык стоял у окна, задумчиво глядя на черные фигуры. Хлопнула дверь, пришел Наджимли — заведующий отделом поэзии, Халык узнал его по шагам.
Когда все уже сидели на местах и головы были старательно склонены над бумагами, Халык тоже сел за стол, тоже достал папки и тоже стал глядеть в рукопись.
Халык не читал и не писал, но он мог спрятать лицо и молчать, а это было почти счастье. Однако счастье оказалось недолгим. До обеда оставалось еще порядочно, когда в редакцию явился пожилой писатель.
Выяснив, что его материал идет в очередной номер, он закурил и, удобно расположившись на стуле, начал что-то рассказывать. Ну а когда подобный человек что-нибудь рассказывает, полагается не читать рукопись, а, вытянув шею, смотреть ему в глаза, всем своим видом показывая, что тебе до смерти интересно, что ты просто подыхаешь от любопытства!
Халык меньше всего был способен сейчас проявлять интерес ж чему бы то ни было, но он, как и все, вытянул шею и сделал соответствующее выражение лица.
Когда Халыку, наконец, удалось сосредоточиться, он начал понимать, что маститый писатель, чей материал идет в очередном номере, говорит о какой-то деревне в Лерикском районе и о тамошнем роднике, в котором такая вода, что выпьешь стакан — и запросто можешь умять ягненка.
Потом речь пошла о Зардобском районе: там на берегу Куры такой лес, такой лес, никто и понятия не имеет, что это за лес…
До обеда писатель с вдохновением повествовал о живительном лесном воздухе, о целебной родниковой воде и о том, какой удивительный шашлык получается на дубовых углях.
Когда начался перерыв, писатель ушел, но аромат леса и соблазнительный запах шашлыка все еще витал в воздухе.
Очень может быть, что живительный лесной дух и упоительный запах шашлыка долго еще оставался бы в комнате, если бы сразу же после обеда в редакцию не сунулся молодой поэт. Он в одну минуту разогнал ароматы леса и шашлыка. Что касается Халыка, он не почувствовал, что от поэта как-то особенно пахнет, но когда тот ушел, Наджимли, потянув носом, решительно заявил, что граммов триста парень принял. Наджимли приходилось верить — он собаку съел на таких делах.
Пока перед ними сидел пожилой человек, Халык не мог встать из-за стола — это было бы верхом неприличия, когда же молодой поэт, размахивая руками, начал доказывать, что во всей этой редакции никто ни черта не смыслит в поэзии, и комната, только что полная запахов леса и шашлыка, стала полниться Блоком, Элюаром, Пастернаком и Вознесенским, Халык молча вылез из-за стола и тихонько проскользнул в коридор.
Он стоял перед окном, смотрел во двор и думал о том, как же написать брату. Письмо не должно было отличаться от прежних писем, иначе он сразу поймет, в чем дело. А может, не надо письма, бросить открытку! «У нас все благополучно, живы, здоровы, на работе тоже порядок. Привет от твоей сестры Салтанат». Может, так и сделать? Если он пошлет такую открыточку, брат едва ли догадается, что с ним творится. А в самом деле, что же все-таки с ним происходит?
Хуже всего — это «братец». Видимо, так обращались к мужьям в древности, в те незапамятные времена, когда детей обручали с пеленок и когда принято было жениться на двоюродных сестрах. В деревне многие женщины до сих пор так зовут мужей, это, конечно, пережиток родового строя… Да, но при чем здесь письмо? Ведь три недели он ни строчки не писал брату!
И тут Халыку вдруг пришло в голову, что последние три неделя он вообще ни строки не написал, на работе-то он тоже не сделал ни на копейку. Мысль эта ошеломила Халыка, он тотчас же вернулся к своему столу и, хотя до конца работы оставалось не больше пяти минут, набросился на пухлые папки.
Рабочий день кончился, Халык побрел на почту. Нужно было отправить письмо жены и хоть пару слов черкнуть брату.
— Ха-лык! Ха-лык! — услышал он знакомый голос.
Голос этот прозвучал как с другой планеты. Ну если и не с другой планеты, то, во всяком случае, из такого места, где совсем-совсем иная жизнь, где женщины не называют мужей «братец». Халык там бывал, скрипучая кровать в общежитии могла подтвердить это. Он, как сказал бы поэт, несколько лет вдыхал аромат этого земного эдема и ждал, терпеливо ждал, когда судьба улыбнется ему и он придет на почту, толкнет тяжелую стеклянную дверь, пройдет к столику у окна, возьмет перо и напишет: «Брат, дорогой, я счастлив».
Шейда сидела в машине рядом с водителем; высунувшись в окошко, она махала ему рукой. Курбанлы расположился на заднем сиденье. Расположился очень удобно — «одно дело в такси ездить, другое — в собственной машине…».
Халык не знал, как ему поступить, — машина ведь не затормозила. Он даже видел, что Курбанлы кивнул шоферу: «Давай, давай езжай!»
Шейда все-таки остановила машину. И все равно Халык не двинулся с места. И только когда Курбанлы махнул ему, он подошел, открыл дверцу и сел рядом с начальником. Машина тронулась, Шейда сидела боком к Халыку, положив руку на спинку сиденья, и рука была у него прямо перед глазами.
И нужно честно сказать, что хотя все остальное осталось там, по другую сторону сиденья, и перед Халыком была только рука: тонкое запястье и пять нежных белых пальцев, — одной этой руки ему хватило бы на десять жизней…
Когда машина остановилась перед светофором, Шейда, мучительно соображавшая, с чего бы начать разговор, вдруг обернулась назад.
— Папа, а почему Халык к нам больше не приходит?
Курбанлы улыбнулся и отцовским жестом положил Халыку руку на плечо:
— Он очень занят, детка.
— Я знаю, что занят… Диссертацию пишешь, Халык? Все вечера в архиве просиживаешь?
Никакой диссертации Халык не писал и об архиве не имел ни малейшего представления. Поэтому он ничего не ответил, а только кивнул, не поднимая головы. Курбанлы кашлянул и, заметив, что красный свет давно уже сменился зеленым, сердито взглянул на шофера.
— Чего ждешь? — раздраженно спросил он. — Езжай! И давай-ка там крутани — посмотрим, что передают!
Рычажок щелкнул, и сильный голос наполнил машину. Женщина пела красивую грустную песню. Шейда наклонилась, убавила звук и снова положила руку на спинку сиденья.
— Сегодня я Халыка никуда не отпущу! — сказала она. — Слышишь, папа? Сейчас приедем, поужинаем — и к морю. Все равно — в такую жару в архиве торчать невозможно!
Опять она сидела, полуобернувшись к Халыку, опять ее рука была перед его глазами. Опять грустно пела женщина, и опять Курбанлы отеческим жестом положил ему руку на плечо.
— Халык спешит, девочка. Его теперь есть кому ждать. На следующее лето, глядишь, с наследником поздравлять будем!.. Хе, хе… Сделай-ка погромче, дочка, уж больно хороша песня!..
Шейда метнула на отца быстрый взгляд, отвернулась и вместо того, чтобы сделать громче, резко повернула рычажок — песня замолкла… Рука ее, лежавшая на спинке сиденья, медленно сползла вниз. Халык сидел, опустив голову, он не видел, как залилась краской белая шея девушки, он только слышал, как она снова щелкнула рычажком, и радио запело громко, во всю мощь… Потом услышал голос Курбанлы:
— Останови-ка, парню сойти надо…
Машина остановилась неподалеку от парка. Халык вышел. В витрине какого-то магазина мелькало его отражение: высокий, стройный парень… И волосы густые, черные — это он увидел уже в другом стекле… Потом Халык сел на скамью в дальнем уголке парка, сунул руку за папиросой, нащупал письмо Салтанат, достал… Читать он его, конечно, не собирался, он был сейчас далеко, очень далеко…
Он сидел в квартире Курбанлы, на низком красном диване, и Шейда показывала ему свои новые снимки. Потом сидел и писал заявление об отпуске, а против него за столом сидел его начальник Курбанлы — где уж тут читать письма?.. Впрочем, письмо Салтанат он сунул в карман еще раньше — когда смотрел с Шейдой фотографии.
Не дописав заявления, Халык снова вернулся в дом Курбанлы. Чтобы Шейда еще раз проводила его, чтобы еще раз сказала: «Приходи, Халык, я буду ждать…». Потом он стоял возле родника и горстями черпал воду, хотя воды этой ему совсем не хотелось. А потом пил, жадно пил воду, целое море воды, той, в которой будет сегодня купаться Шейда…
Домой Халык вернулся в темноте. А через три дня его младший брат, служивший в армии, получил такое письмо:
«Дорогая мама Сафура!
Пишет вам ваша Салтанат из далекого города Баку и шлет вам свой привет. Еще шлю привет дорогим сестрам Перизад и Шукуфе, и братишке Джовдату, и тете Пакизе, и дяде Хан-киши! А если интересуетесь узнать, как мы тут, — у нас все слава богу, чего и вам желаем. В городе жить — не то что в деревне: все под рукой. Тюфяк я обтянула ситцем, очень хорошо получилось. На одеяло тоже сошью чехол — такой красивый сатин купила: поле лазоревое, а по нему маки раскинуты… На базар теперь сама хожу, а булочная, так она под нами, в нашем доме. На базаре есть все, что твоей душеньке угодно. Вот если кто поедет, захватить бы домашней лапши — засыпки на три, — очень уж ее Халык любит. Я тут вермишель отварила, а он говорит: вот бы домашней лапши, поел бы с удовольствием. Халык — он так ничего, крепкого здоровья, только иногда головой мучается. Я думаю, его сглазили, — а то с чего бы ему во сне разговаривать?… Может, пришлете немного травки, я бы окурила его, как заснет. Он и знать не будет. Не придумаю, что еще написать… Желаю, чтоб сестрам моим Перизад и Шукуфе тоже господь счастье послал… Целует вас ваша дочь Салтанат. И ваш Халык».
Паспорт
Желтоватые отсветы только что закатившегося солнца медленно сползают с вершин, сереет небо; вечерняя грустная тишина опускается на деревню. Опустела площадь: магазин на замке, парикмахер тоже повесил уже на дверь замок. В чайхане под чинарой — никого, чайханщик занят уборкой.
На замке и правление и сельсовет. Только почта еще работает. Небольшая комната с низким потолком. На стене — ходики, к гире привешен солидный булыжник. Две табуретки. Весы, телефон и старый заржавленный сейф. Дядя Ашраф стоит перед сейфом, что-то укладывает туда. Курбан, паренек лет семнадцати, сидит у окна на табуретке и не отрываясь глядит на клуб, откуда доносится громкое постукивание нардов.
Дядя Ашраф запирает сейф. Кладет в карман ключ, подходит к столу, садится. Он очень выразительно поглядывает на Курбана, но тот не замечает этого укоризненного взгляда — он весь там, на клубной веранде, где в окружении толпы болельщиков сражаются в нарды два парня.
Не переставая исподлобья поглядывать на Курбана, дядя Ашраф подвигает к себе стакан с водой, одну за другой начинает наклеивать на конверты марки; потом встает, подходит к часам — на часах ровно половина восьмого — и тянет за привешенный к гире камень. Снова останавливается перед сейфом. Достает из кармана ключ.
— Курбан, — негромко говорит он, — которое сегодня число?
Курбан молчит — он не слышит. Дядя Ашраф снова отпирает сейф. Достает стопку денег и, подержав в руках, снова кладет на место.
— Тринадцатое сегодня, — бормочет он себе под нос. — А паспорт ей так и не прислали. Представляешь, Курбан, не прислали! Не прислал ей, негодяй, паспорт!..
Не переставая сердито бормотать, дядя Ашраф снова запирает сейф. Снова кладет ключ в карман, садится на свое место и снова начинает недовольно поглядывать на Курбана. Потом говорит несколько уже раздраженно:
— Скажи, Курбан, пятьдесят пять рублей — это сколько же выходит денег?
Курбан поворачивает голову и несколько секунд оторопело глядит на своего начальника.
— На старые деньги — пятьсот пятьдесят рублей, — торопливо говорит он, недовольный тем, что его потревожили.
— Так… — многозначительно произносит дядя Ашраф, водя мокрым пальцем по марке. — Теперь скажи мне вот что: сколько пудов муки можно купить на эти деньги? И сколько сахару?
Курбан наконец поворачивается, взгляд у него виноватый. Чувствуется, что ему очень трудно оторваться от увлекательного зрелища.
— Пятьдесят пять рублей, — продолжает дядя Ашраф, — это двенадцать — тринадцать пудов пшеницы; заметь: по рыночной цене считаю. Пятьдесят пять рублей — это пятьдесят пять кило сахару! И мы с тобой не для того здесь посажены, чтоб такие деньги зазря получать!
Он умолкает, целиком занятый марками. А Курбан все поглядывает в окошко, от клуба доносятся смех, громкие возгласы. Это сейчас самое веселое, самое шумное место в деревне; все остальное уже накрыла вечерняя тишина. Солнце сползло с вершин, поблекли, потемнели скалы. Во дворах вовсю дымят самовары, а чайхана уже спит: большой замок висит на ее двери. Такой же, как на дверях магазина, чайханы, парикмахерской… И на правлении, и на сельсовете — замок… Они словно бы переглядываются молча, забытые, грустные… А на почте еще нет замка, почта открыта, ходики показывают без пяти восемь.
— Я говорю, слава богу, что у нас отделение открыли, — продолжает дядя Ашраф. — Где еще такую работу найдешь: спокойно, чисто? И жалованье день в день… А раз так, сынок… — Дядя Ашраф поднимает голову и видит, что парень снова прилип к окну. Дядя Ашраф говорит громко, очень громко, но Курбан все равно не слышит. — Знаешь, сколько Реджеб получает?!
Курбан слегка поворачивает голову.
— Какой Реджеб?
— А тот, что уборные порошком посыпает. Я про того толкую.
— Рябой Реджеб? Они за мельницей живут?
— Да, — говорит дядя Ашраф, — за мельницей. Так вот этот рябой Реджеб каждое утро чуть свет топает в район. От самой мельницы. Ясно? А вечером обратно. И весь день уборные нюхает. А сколько получает — знаешь?
То ли оттого, что дело дошло уже до уборных, то ли голос у дяди Ашрафа совсем стал сердитый, но Курбан вроде бы очнулся. Он поворачивается и садится перед дядей Ашрафом лицом к лицу. Старик сразу успокаивается.
— Вот ты, — мягко говорит он, — каждый месяц пять сотен в карман кладешь, а мысли твои совсем не на работе…
Наступает тишина. В этой тишине отчетливо раздается громкое тиканье ходиков. С клубной веранды слышны веселые голоса, стук костяшек; сквозь бреньканье тара доносится мычание пришедших из стада коров, блеяние овец, собачий лай…
Дядя Ашраф молча прилепляет еще несколько марок. Пересчитывает конверты с марками, кладет сумму на счеты и складывает конверты стопкой. Оставшиеся марки тоже складывает, тоже пересчитал, тоже кладет на счеты. И, видимо, желая немножко смягчить свою суровость, заводит разговор о другом:
— Стало быть, если бог даст, этот год учиться уедешь? Что ж, дело доброе… Вот только деньжонки тебе понадобятся. Подкопил небось — ты ведь у меня больше года работаешь?
Курбан оживляется.
— Подкопил! — радостно говорит он. — Каждый месяц пятнадцать рублей откладывал, отцу отдавал. Сказал, пальто мне купит. А чемодан у меня есть. И свитер есть — бабушка связала. Она и носки свяжет. А отец сказал, первым делом пальто нужно…
Видно, что дядя Ашраф попал в точку — Курбан все говорит, говорит. Он говорит, а дядя Ашраф быстро-быстро щелкает на счетах. Наконец Курбан замолкает, и старик, перекинув последнюю костяшку, провозглашает торжественно:
— По моим подсчетам, у тебя имеется сто восемьдесят рублей новыми деньгами!
— Двести тридцать рублей! — с не меньшей торжественностью уточняет Курбан. — Да пятнадцать рублей за Сусанной. Я ей дал, когда ситец в магазин завезли. Телка прирежут, сразу отдаст!
И снова недолгая тишина. Снова тикают ходики. Снова где-то поблизости мычит корова, побрехивает чей-то пес. Голоса на веранде постепенно стихают…
Дядя Ашраф собирает конверты без марок, убирает в стол. Берет марки и конверт с марками и встает. До восьми еще три минуты. Он подходит к сейфу, достает из кармана ключ, отпирает. Вынимает из сейфа деньги, смотрит на них…
— Что ж делать-то будем, а? — озабоченно говорит он. — Паспорт-то ей опять не прислали!
— А тетя Зейнаб деньги требует?
— Требует!.. Разве она будет требовать?.. — Дядя Ашраф бросает пачку денег в угол сейфа. — Ничего она не говорит. Стыдится. А ведь быть того не может, что деньги ей не нужны. И в кассе нельзя ее деньги держать — не дай бог ревизия!
— Так отдай ей!
— Как это отдай? На подлог идти?
— Какой тут подлог? Пенсия-то ее, все равно получит.
Дядя Ашраф бросает на парня сердитый взгляд и молча захлопывает сейф. Оба молчат. Слышно лишь тиканье ходиков. Потом дядя Ашраф подходит к Курбану и кладет руку ему на плечо.
— Сынок, — говорит он, — чтоб выдать пенсию, нужен документ, паспорт. Так по закону положено. По закону — ясно тебе? Ведь почему у ее парня материн паспорт потребовали? Он как думал? Напишу, мол, мать у меня, живет в деревне, теперь, со мной будет жить — и все, получай жилплощадь. Не тут-то было. Паспорт нужен. А почему? А потому, Курбан, что так положено по закону. А уж если там, в городе, где и народу чуть не миллион, так строго закон соблюдают, нам и вовсе нарушать не годится! Зейнаб я от роду знаю — соседка, дом в дом живем, а все равно закон есть закон. И не для того я тридцать лет в партии состою, чтоб советские законы нарушать. Я и ей так сказал. Сколько лет, говорю, мы с тобой соседствуем, и ни разу промеж нас никакого раздора не случалось. Орешник мой у самого забора растет, хоть раз твои ребята польстились на мои орехи? Твой виноград по моему забору вьется, грозди до зимы висят, было хоть раз, чтоб мои парни ягодку какую сорвали? Ты, говорю, мне, Зейнаб, все равно что родная, но тут дело государственное, тут ни на родство, ни на свойство глядеть не приходится. Так что, говорю, как получишь паспорт, приходи и забирай свои деньги!
Курбан внимательно смотрит на дядю Ашрафа, слушает. Вокруг уже совсем тихо. С клубной веранды все разошлись. Вечерние сумерки проникают в комнату, слышен стрекот цикад.
Дядя Ашраф подходит к сейфу и достает какую-то бумагу.
— Вот видишь — справка. Написал на всякий случай. Слушай. — Дядя Ашраф нацепляет очки. — «Выплата пенсии в сумме сорок два рубля, получаемой гражданкой 3. Халиловой за погибшего на фронте старшего сына Имрана, приостановлена по случаю получения квартиры проживающим в городе Баку младшим сыном гражданки 3. Халиловой Ахсаном». Эта за прошлый месяц. В этом я тоже составил. Вместе с деньгами держу, в сейфе. Придет пенсия, опять справку и — в сейф… Ты, Курбан, одно пойми: советская власть не зря деньги тратит, грамоте нас уча. Для того учит, чтоб всякая работа по порядку шла, как должно… Правильно я говорю?
Дядя Ашраф не успевает произнести последнюю фразу, как начинают громко хрипеть ходики. Гиря с привешенным к ней камнем со скрежетом ползет вниз.
— Восемь! — Курбан обрадованно срывается с места.
Дядя Ашраф захлопывает сейф, опечатывает. Вместе с Курбаном они запирают дверь и выходят. Идут мимо притихшего клуба. Мимо замков сельсовета, правления, чайханы… Идут молча, прислушиваясь к стрекоту цикад, поглядывая на погружающиеся в сумерки горы, на огоньки, мерцающие меж деревьями, — во дворах уже зажгли лампочки. Переходят неширокий мост.
— До свидания! — говорит Курбан.
— Будь здоров, сынок, — отвечает ему дядя Ашраф. — Спокойной ночи!
Они расходятся.
2
Перед одной из калиток дядя Ашраф замедляет шаг. Некоторое время стоит в нерешительности. Идет дальше. Прошел немножко, обернулся, заглядывает во двор. В доме свет. Дядя Ашраф поворачивается, подходит к калитке, трогает ее, видит, что открыта, входит во двор и кричит:
— Зейнаб! Эй, Зейнаб! Гостя примешь?
— Это ты, Ашраф? — приветливо откликается ему с веранды седая женщина. — Заходи, дорогой, заходи! Какие вести принес?
— Новостей-то никаких нет, Зейнаб, — говорит дядя Ашраф. — Шел мимо, дай, думаю, загляну, как она там.
— Вот и хорошо, что заглянул. А паспорт что ж, никуда он не денется. Лишь бы у них все устроилось… С квартирой чтоб все в порядке…
Ашраф входит в дом. Маленькая, аккуратно прибранная комната. Деревянная кровать, несколько старомодных стульев. В переднем углу — стол. На столе и на стене позади него — бесчисленные фотографии. На самом видном месте в застекленной рамке выцветшая фотография молодого солдата; кажется, что он смотрит на десятку, лежащую посреди стола. Остальные снимки — «мирные», сделанные главным образом в Баку: худенький черноглазый паренек на фоне музея Низами, другой — постарше — на фоне Девичьей башни, на набережной, в нагорном парке… Бросаются в глаза коллективные фотографии с виньетками: на одной — группа школьников, на другой — студенты.
Дядя Ашраф сразу замечает лежащую на столе десятку. Садится. Глядит на солдата. Откидывает взглядом остальные фотографии.
— Зейнаб, — говорит он. — А чего это ты в доме? Почему во дворе не спишь? Ведь задохнуться можно!
Зейнаб ставит перед ним варенье, сахар, приносит чайник.
— От тебя, Ашраф, мне таиться нечего, — со вздохом говорит она. — Не могу без них уснуть, — женщина кивает на фотографии, — привыкла, чтоб рядом.
Дядя Ашраф отпивает глоток, бросает взгляд на десятку. Снова принимается за чай. Некоторое время сидит понурившись. Потом поднимает голову.
— И чего этот проклятый паспорт не приходит, — с сердцем говорит он. — И деньги в кассе зазря валяются, и в глаза тебе глядеть совестно!..
— Тоже выдумал — совестно! Ты же все по закону делаешь. Да и посуди, на что мне деньги-то? Много ль надо одной? Этот год, слава богу, все уродило. Собрала ведро абрикосов, сдала на консервный завод, вот и сыта неделю! Три раза уж собирала. Черешню хотела было сберечь, думала, Ахмед приедет. Потом вижу, пропадет ягода, собрала, что осталось… Писал, с женой приедет. Видно, не получилось. С Ахсановой квартирой и ему, надо думать, мороки хватило. Ничего, была бы квартира, намаялся парень по общежитиям…
Тетя Зейнаб загрустила. Взяла с подоконника жестянку из-под чая, достала из нее табак, бумагу, начала сворачивать цигарку.
— Ты, Ашраф, за деньги мои не переживай — я об них нисколечко не печалюсь. Чай есть, сахар есть — чего еще нужно? Килограмм масла возьму, на месяц хватает. И на столе у меня — сам видишь — деньги не переводятся. Ведь я как? Пенсию получаю, сразу сюда, на стол. Неделю даже и не притрагиваюсь. Пускай, думаю, поглядит парень. Пусть знает, что мать не бедствует, по чужим людям не побирается, что ей каждый месяц на дом деньги приносят… Ведь Имран-то у нас кормилец был… семью тянул!.. Он и Ахмеда выучил, человеком сделал. И Ахсану заместо отца стал… Не сын у меня был, Ашраф, а чистое золото, ему по справедливости-то тыщу лет бы жить…
Старики долго молчат. Ашраф потягивает чай, тетя Зейнаб сидит перед окном на паласе, грустно покачивается и курит. Ашраф все думает, как бы ему развеселить Зейнаб, отвлечь от тяжелых мыслей. Придумал. Обрадовался.
— Зейнаб! А помнишь, как паспорта получали?
— Помню, Ашраф, — говорит она, — как не помнить. Имран тогда вроде уж в школу бегал. Ахмед грудной был. А Ахсана и вовсе еще не было.
— Фотограф еще из района приехал. Усатый такой. А с ним уполномоченный, молоденький парнишка. По домам ходили, женщин заставляли на паспорт сниматься. Мужья — ни в какую. Такое в деревне творилось!.. Помнишь?
— Да… Музыка играла… А вечером на школьном дворе концерт устроили… Еще тогда Махизер, дочка Ханали, выступала. Плясала. Так плясала!.. Я всю помню, Ашраф, как сейчас, помню…
— Да, хорошее это было время. — Дядя Ашраф встает из-за стола. — Ну, я пойду: не стали бы тревожиться…
Тетя Зейнаб тоже поднимается с пола.
— Иди, Ашраф, — говорит она. — Спасибо, что зашел, дай бог тебе здоровья. Сегодня с самого утра сердце не на месте… Хоть бы, думаю, заглянул кто…
Тетя Зейнаб проводила Ашрафа до самых ворот. Вернулась. Комната. Ночь. Старая женщина, розовая десятка на столе и бесчисленные фотографии…
3
Солнечный летний день. Окна на почте открыты. Издали доносится надсадное гудение мотора — по горной дороге взбирается какой-то грузовик.
Вот он уже на площади. Это большая крытая машина, на борту написано «Почта». Машина останавливается перед почтой. Водитель бросает на порог большой бумажный сверток, перетянутый бечевкой, и, высунувшись из кабины, кричит:
— Эй, хозяева, забирайте товар!
Выбегает Курбан, берет лежащий на крыльце пакет. Дядя Ашраф разрезает бечевку. Они достают газеты, просматривают письма. Один конверт дядя Ашраф рассматривает особенно долго. Надевает очки, смотрит, щупает, вертит конверт в руках и радостно говорит Курбану:
— А ну-ка, сынок, гони к тете Зейнаб. Паспорт пришел. Паспорт — больше тут нечему быть!
Только он успевает выговорить это — Курбан уже на улице. Вот уже и Зейнаб на углу, возле чайханы. Она идет бытро, но поступь у нее гордая, торжественная. Голова вместо платка повязана черной сатиновой чадрой. На ногах — черные чувяки. А в глазах — радость, старушка вся так и светится.
— Поздравляю тебя, Зейнаб! — Дядя Ашраф с письмом в руке торжественно встречает ее. — Видишь — паспорт прислали! Думаю, паспорт — больше тут нечему быть!
Тетя Зейнаб осторожно вскрывает конверт. В конверте действительно паспорт. Но почему она вдруг помрачнела, понурилась, почему у нее померкли глаза?
Женщина заглядывает в конверт, потом берет паспорт, перелистывает его. Несколько раз перелистывает она странички паспорта. Дядя Ашраф и Курбан молча смотрят на нее, вроде бы боятся заговорить. Потом дядя Ашраф встает и подходит к сейфу. Достает деньги, кладет на стол.
— Вот, Зейнаб, твоя пенсия за три месяца. Сто тридцать шесть рублей. Дай-ка мне паспорт, номер спишу.
Но Зейнаб крепко держит паспорт. Она смотрит на черные печати, черные милицейские штампы, заполняющие листочки паспорта. Их там четыре — большие прямоугольные штампы, по два на странице. На верхних написано: «Прописан постоянно», на нижних — «Выписан».
Тетя Зейнаб протягивает паспорт Курбану.
— Прочитай-ка, сынок, что тут написано.
— Город Баку. От-де-ле-н… милиция… Дальше непонятно… Про-пи-сан постоянно. Пос. Муса-бе-кова. Нач. пасп. стола — подпись. Еще дата…
Курбан горд, что так лихо читает по-русски. С довольным видом глядит он на тетю Зейнаб.
Старушка тычет пальцем в другую печать:
— Вот это прочти!
Курбан снова делает серьезное лицо.
— Тут тоже: Город Баку. От-де-лен… Выписан. Все то же самое… Внизу подпись: нач. паспорт. стола. И дата.
Тетя Зейнаб показывает на штамп на другой странице:
— Это читай!
Курбан снова с превеликим старанием принимается за дело. Читает он про себя, от усердия шевеля губами. Потом поднимает голову.
— И здесь то же самое, тетя Зейнаб, больше ничего не написано.
Женщину словно ударили. Лицо ее сразу темнеет. Она вырывает у Курбана паспорт.
— Читать не умеешь! — гневно говорит она.
Курбан оторопел. Вытаращив глаза, с бесконечным удивлением смотрит он на старую женщину. Ашраф тоже поражен — никогда прежде не видел он Зейнаб в таком состоянии. Он осторожно берет у нее паспорт. Нацепляет очки и после долгого изучения печатей говорит виновато:
— Он верно все прочел, Зейнаб. Ничего здесь больше не сказано… А что, полагаешь, должно быть написано?
— Ну, про него… Про Ахсана… имя-то его написано?
— Нет, не написано.
— И Ахмедова имя не написано?
— Не написано, Зейнаб.
— Не может такого быть! Прочесть не умеете. Давай сюда! Пойду к учителю Гусейну — он прочтет, он детей русскому языку учит! Имена не написаны! Как же это? Они ж родные мои сыновья! Не умеете вы читать!
Тетя Зейнаб разгневана, потрясена, вот-вот заплачет. И заплакала. Вытерла глаза кончиком головного платка. Дядя Ашраф отвернулся, Курбан опустил глаза…
— Зейнаб! — Дядя Ашраф вздыхает. — Зря ты себя растревожила. Тут имена ни при чем, тут имен писать не положено. Из надписей другое видно: Ахсан твой квартиру получил! Видишь печать? Она свидетельствует, что и тебя в ту квартиру прописали. А эта — что выписали, нельзя было не выписать. Или ты там, при них, должна оставаться, а если тут, значит, там надо с учета сниматься… Поняла в чем дело-то? Квартиру твой сын получил!
— Получил?! — Зейнаб снова преобразилась. Опять лицо ее засветилось радостью, опять сияют глаза.
— Квартиру получил?! Чего ж сразу-то не сказал, Ашраф?
У Ашрафа на лице тоже разглаживаются морщины. Он садится и быстро начинает списывать что-то с паспорта.
— Получил! — говорит он. — Получил твой Ахсан квартиру, это здесь в точности указано. Мы ведь, Зейнаб, тоже немножко грамоте понимаем… Ну-ка подпиши эту бумажку — деньги тебе сейчас дам. Так что вот: сын твой получил квартиру. Поздравляю тебя, Зейнаб!
Тетя Зейнаб обмакивает палец в чернила и прикладывает к тому месту, которое указывает Ашраф.
— Спасибо, Ашраф, на добром слове. Получил, значит… Ну дай нм бог всяческого благополучия… А мы тут уж как-нибудь… Много ли жить-то осталось?..
Тетя Зейнаб берет паспорт, бережно заворачивает его в чадру. Берет деньги.
— Прости меня, сынок, — говорит она. — Погорячилась я.
И, отворив дверь, выходит.
4
В задумчивости бродит Зейнаб по дому. То шкаф откроет, то в нише шарить начнет, а что ищет, сама не знает. Подойдет к столу, возьмет фотографию, подержит, другую возьмет… Пенсия ее лежит на столе, как раз против портрета Имрана. С других фотографий, снятых на фоне Девичьей башни, Приморского бульвара, музея Низами и прочих достопримечательностей Баку, смотрят на тетю Зейнаб два младших ее сына…
Тетя Зейнаб выходит в коридор. Берет чайник, ставит на подоконник. Вспоминает, что нужен стакан, открывает шкаф, достает из него стакан. Наливает себе чаю и со стаканом в руках садится в углу, на паласе, опершись спиной о стену. Отпивает глоток, потом поднимает глаза на солдата.
— С доброй вестью тебя, Имран, — улыбаясь, говорит она. — Поздравляю, сынок, брат твой квартиру получил!
Запах меда
1
В огромном Баку, в небольшом учреждении, спокойствием и неспешностью делопроизводства напоминавшем нотариальную контору, много лет работал человек по имени Гурбет Азизов. Он жил на зарплату и вполне укладывался в нее: не хуже других одевался, покупал сигареты, обедал в кафе «Бахар» и два раза в неделю ходил в кино…
Потом Гурбет женился. И хотя зарплата осталась прежней, в образе его жизни значительных изменений не произошло. Разве что с кафе «Дружба» пришлось распрощаться. Ну еще кино: раньше ходил два раза в неделю, теперь один раз, зато с женой. Короче говоря, если не считать кафе, зарплаты Гурбета Азизова вполне хватало и на двоих.
Потом появилась Наргиз. Следом за ней — Джафарчик. Мальчик, что называется, в рубашке родился: как раз в том месяце, когда он появился на свет, работникам сферы обслуживания повысили зарплату, и Гурбет Азизов стал получать больше.
Но если бы даже зарплата и не изменилась, Гурбет все равно как-нибудь обошелся бы. Он был не из тех, кто плачется я жалуется на судьбу, — это его качество прекрасно знали все знакомые. Впрочем, знакомых-то у него не было, и очень возможно, что именно в этом заключалось его спасение.
Должен предупредить, что вовсе не собираюсь распространяться насчет зарплаты Гурбета Азизова, — она никогда не была его главной заботой, — но уж поскольку об этом зашла речь, прямо скажу: очень может статься, что вопрос о зарплате волновал Гурбета Азизова, что время от времени в душе его рождалось недовольство, что ему хотелось бы и жить посвободнее, и детишек одеть понарядней. Ведь по субботам и воскресеньям он выводил Джафарчика и Наргиз в парк и, глядя на разряженных ребятишек, не раз, наверное, вздыхал о том, что зарплата-то у него не очень. Это возможно. Но что касается квартиры, тут я могу смело утверждать: Гурбет был ею совершенно доволен и ни сном ни духом не помышлял о новой квартире.
У Гурбета была всего одна комната, но зато прекрасная комната: двадцать семь метров, светлая, высокий потолок, много воздуха, а район какой! Уж если такая комната не нравится, то, значит, человек или дурака валяет, или представления не имеет, что такое плохая квартира.
Что касается Гурбета, он имел об этом очень точное представление, да и Ситемханум не во дворце жила — Гурбет привез ее из полуподвала. И тем не менее последний год она до вольно часто ворчала: то комната ей тесновата, то ей, видите ли, необходима отдельная кухня и передняя — не зря же говорят, что аппетит приходит во время еды.
Ворчанию жены Гурбет не придавал особого значения. Он был твердо убежден: не может человек не оценить такую прекрасную комнату, а что квартира коммунальная, тут уж ничего не поделаешь, ему тоже не доставляло особого удовольствия созерцать в коридоре горшки соседских ребятишек, особенно утром и по вечерам, когда их укладывали спать. Но, между прочим, интересная штука: ведь, если вдуматься в такой картине тоже есть своя прелесть, своя особая поэзия, хотя, конечно, не каждому дано ее ощутить. Что касается Гурбета, он умел находить поэзию во всем, и когда один за другим появились на свет Наргиз и Джафарчик, а в соответствии с этим — два горшка перед их собственной дверью, его представление о прекрасном расширилось, и детские горшки в коридоре уже не портили ему кровь.
Мысль, что комната тесна, некогда не приходила Гурбету в голову. Как это тесна? И кровать стоит, и платяной шкаф, и у Джафаровой кроватки прекрасное место. У них даже целых два стола: раскладной — обеденный и письменный стол Гурбета — стоит в стороне, никому не мешает.
Придя с работы, Гурбет обычно ужинал, играл немного с ребятишками, потом ложился отдохнуть. Но ни кровать, ни общение с собственными детьми не давали ему того полного и глубокого отдыха, который получал он, сидя за своим маленьким письменным столом. Здесь он пил чай, читал газеты. Здесь же, на письменном столе, лежала его толстая синяя тетрадь. Это было нечто вроде дневника, хотя большая часть слов, заполнявших страницы синей тетради, взята была Гурбетом из газет. Ту часть записей, которая отражала события и обстоятельства его собственной жизни, Гурбет всегда помещал после того, что выписывал из газет. Видимо, кроме способности повсюду находить поэзию, он обладал умением в каждом номере газеты находить мудрые и ценные советы, иначе дневник не отличался бы такой последовательностью.
Переехав в новую квартиру, Гурбет в первые дни по-прежнему с превеликим удовольствием проводил часок-другой за столом: делал выписки из газет, добавляя к ним свои собственные замечания и соображения; это был для него лучший отдых, за письменным столом Гурбет отдыхал душой. Тому, что этот маленький стол так много значил для Гурбета Азизова, было две причины: прежде всего, это был его старый любимый стол, Гурбет купил его еще в юности, когда снимал койку у одной старушки на Мало-Морской; в те времена, когда он ежедневно наведывался в кафе «Дружба» и два раза в неделю ходил в кино, за этим столом Гурбет писал стихи. Главное же достоинство стола было в том, что это был личный, собственный стол Гурбета Азизова, который отличался от такого же точно стола в учреждении тем, что здесь Гурбет мог сидеть как хочет, писать что хочет, думать о чем хочет. А иногда, если уж очень о чем-нибудь размечтается, и вздремнуть, не вставая со стула. Не последнюю роль играло и то, что Гурбет обладал способностью во всем, в том числе и в письменном столе и лежащей на нем синей тетради, находить свою, особую поэзию. Записи в синей тетради Гурбет делал с определенной целью: он хотел, чтобы его дети, войдя в года, могли прочитать отцовские записи, узнать, как жил их отец, какие трудности ему пришлось пережить, когда он приехал из деревни, как поступил в институт, кончил его, получил квартиру; дети должны знать, что их отец Гурбет Азизов честно прожил свою жизнь, ни разу не польстившись на дармовой кусок, что он был человек прямой и никогда ни перед кем не гнул спину… Записать это все Гурбет считал своим святым долгом и, может быть, именно поэтому испытывал за письменным столом удовлетворение и душевный покой.
Когда возникла эта история с квартирой, Гурбет, разумеется, тоже записал кое-что в свою тетрадь. Можно было бы даже сказать, что именно, но я этого делать не стану. Придет время, Наргиз и Джафарчик прочтут синюю тетрадь, прочтут и узнают, как честно и бескомпромиссно прожил свою жизнь Гурбет Азизов, и у них возникнет желание столь же достойно прожить свою.
А с новой квартирой дело обстояло так.
Однажды, когда до обеденного перерыва оставалось всего пять минут, директор того самого тихого и мирного учреждения, что так похоже на нотариальную контору, вызвал к себе Гурбета Азизова. Едва Гурбет приоткрыл дверь кабинета, директор поднял руку и громко приветствовал его:
— Ура, Азизов! Браво, Азизов!
Гурбет довольно спокойно отнесся к этому, казалось бы, необычному приветствию, потому что оно было характерно для директора Мурадова; именно так он здоровался, когда у него было хорошее настроение, когда же настроение у него было плохое, он вообще не здоровался с сотрудниками. Однако вместе с тем в Мурадове было сегодня что-то необычное, и, присмотрись Гурбет повнимательней, он сразу заметил бы: Мурадова распирает от какой-то новости.
Но Гурбет особенно не присматривался, потому что знал: если Мурадов в настроении, от него всего можно ждать. Кроме того, до обеденного перерыва оставалось пять минут. Гурбет основательно проголодался и, хотя сидел в директорском кабинете, мысли его витали там, возле ящика стола, куда он утром, придя на работу, положил две холодных картофелины, кусок хлеба, пару котлет и соленый огурец.
А между тем Мурадов продолжал начальственно рокотать, весело поблескивая глазами:
— Молодец, Азизов, ей-богу, молодец! Вот теперь ты мне нравишься! Так и надо, Азизов! Те времена прошли, — теперь другое время!..
Пока Гурбет с тоской думал о лежащем в столе завтраке, Мурадов продолжал осыпать его похвалами, с воодушевлением повторяя его фамилию. Потом вдруг перестал хвалить Гурбета и очень серьезно спросил:
— Слушай, Азизов, а что ты там написал в заявлении? Поделись опытом, может, и мы напишем.
Гурбет оторвался от размышлений и внимательно поглядел в лицо начальника.
— Я не понимаю, товарищ Мурадов. О чем вы? Я никаких заявлений не писал.
Если бы я сочинял рассказ, я бы обязательно сказал, что в этом месте Мурадов рассмеялся. Но я не пишу рассказ, моя задача — честно изложить все, что произошло с Гурбетом Азизовым, и я говорю только правду. Итак, я должен сказать, что Мурадов вовсе не рассмеялся. Наоборот, он вдруг насупился, у него стало именно такое лицо, какое бывает, когда он не здоровается с сотрудниками, и между Гурбетом и директором Мурадовым начался очень серьезный разговор.
— Ты в Баксовет писал?
— Нет, не писал.
— А почему же тебе квартиру дают?
— Какую квартиру?
— Хм, интересно… Может, у нас в учреждении есть другой Гурбет Азизов… Твоя жена звонила туда?
— Моя? Куда?
— Да не крути ты! Ведь я уже все в Баксовете разузнал. Тебе дают квартиру. Такую квартиру, что никому и не снилась! Я даже адрес знаю!..
Вконец разобиженный, Мурадов склонился к бумагам, а потрясенный его сообщением Гурбет стоял и молча смотрел на директора.
Если бы я писал рассказ, я бы, конечно, мог продлить этот диалог: дать Мурадову еще несколько вопросов, на которые Гурбет вынужден был бы ответить. Но я уже объяснял, что моя задача другая. Именно поэтому я обязан сообщить, что беседа их на этом закончилась, так как именно в этот момент Гурбет повернулся и выскочил из кабинета, оставив Мурадова в том самом состоянии, когда он не здоровается с сотрудниками. Гурбет направился прямо к себе: надеть шапку, схватить портфель и бежать домой — должен же он наконец понять, в чем дело. Он надел шапку, схватил портфель, и когда он, случайно открыв ящик, увидел в нем сверток с котлетами, огурцом и холодной картошкой, его вдруг осенило: это все Ситемханум.
2
О письме жены Гурбет не имел ни малейшего представления, иначе он, конечно, не разрешил бы ей никуда писать. Кроме того, квартира, которую они теперь получали, была хуже прежней, во всяком случае, Гурбету она правилась гораздо меньше: он не находил в этой квартире никакой поэзии. Но, повторяю, дело не в квартире, какая б она там ни была, дело не в ней.
Квартиру им дали в недавно отстроенном доме, но Гурбет оказался не первым ее хозяином. С прежними жильцами они встретились, когда переезжали: те как раз грузили пожитки на машину. Главу семьи Гурбет увидел возле грузовика, они поздоровались, пожали друг другу руки, ребятишки встретились на лестнице, а жены по всем правилам приветствовали друг друга в дверях квартиры.
Прежний хозяин их квартиры был невысок ростом и смугл лицом. По его обхождению, а также по тому, как он был одет, и по вещам, лежавшим на грузовике, видно было, что это человек культурный. Жена его тоже производила хорошее впечатление: красивая, приветливая женщина. А о детях и говорить нечего, картинки, а не дети: чистенькие, упитанные, розовые. Один мальчик был ростом с Наргиз, другой чуть побольше Джафарчика.
Жильцы, выехавшие из этой квартиры в другую, видимо большую, были людьми не мелочными: уезжая, они даже не сняли в столовой люстру. Кроме того, в кухне остался дорогой, совершенно новый линолеум, а возле плиты стоял еще вполне пригодный кухонный столик.
Фамилии своего предшественника Гурбет не знал: он прочел ее потом на счете за газ. А насчет адреса — откуда он мог знать, что получится такая заваруха; он бы, конечно, поинтересовался и адресом.
Все началось в воскресенье, в первое воскресенье после переезда. Гурбет еще спал, когда в передней прозвонил звонок. Он вышел в коридор и увидел небольшого осетра, осетр лежал прямо на полу, на плотной серой бумаге. Ситемханум стояла и смотрела на рыбу, причем смотрела довольно выразительно.
До полудня осетр пролежал в коридоре. Потом Ситемханум почистила рыбу, разрезала ее на куски, положила в корзинку и спустила с балкона, решив про себя, что когда хозяева явятся за рыбой, они, учитывая проявленную ею заботу, оставят кусок-другой для ребятишек.
Но за осетром никто не пришел. В следующую субботу, придя со службы, Гурбет увидел в коридоре половину бараньей туши. Он рассердился. Рассердился и устроил жене скандал: как она смела взять, почему позарилась на чужое, почему не сказала, что те люди переехали?..
Гурбет, бушевал довольно долго, но на Ситемханум это почему-то не произвело ни малейшего впечатления. Когда он перестал кричать, она очень спокойно объяснила, что ни в чем не повинна. Что она могла сделать? Позвонили — открыла. Какие-то молодые парни… Они и слушать ничего не стали. Не бежать же ей вдогонку.
Они долго еще стояли в коридоре и размышляли, как поступить; Гурбет был весь красный от гнева, жена же, напротив, казалась довольной. Может быть, именно поэтому Гурбет снова набросился на нее. Жена в долгу не осталась. Тогда Гурбет сердито хлопнул дверью и ушел в спальню, он даже спать лег без ужина; после этого письма в Баксовет разговаривать с Ситемханум стало совершенно невозможно.
К осетру Гурбет не притронулся. Если бы я сочинял рассказ, я написал бы, что он отказался и от баранины. Но вам уже известно, что я не пишу рассказ, цель у меня совершенно другая, а потому пусть вам будет известно: баранину Гурбет ел. Ел и думал, что должен непременно разузнать, кто же он такой, этот низкорослый, смуглый человек, живший до него в квартире.
Начал Гурбет с соседей. Имя своего предшественника он узнал сразу, но вот относительно того, чем он занимается, мнения соседей разошлись. Один сказал, что он завмаг, другой — инженер, а третий стал утверждать, что писатель.
А один старик, услышав это имя, так рассердился, что его начала бить дрожь. «Жулик! — кричал старик. — Подлец! Паразит! Такие кровь сосут из народа!..» Старик весь посинел, руки у него тряслись, и голова тряслась, и Гурбет уже не рад был, что начал расспросы.
Уже три недели Гурбет Азизов жил в своей новой квартире. Письменный столик, который появился у него еще на Мало-Морской, и здесь стоял рядом с его кроватью. Гурбет по привычке садился иногда за свой стол, но в синей тетради не появилось больше ни строчки.
Не писалось Гурбету, не мог он писать. Ну, вырастут Наргиз с Джафарчиком, прочтут его записи, — что толку? — разве смогут они жить честно, как их отец, если уже сейчас едят чужое?..
Не зная, на что решиться, бедный Гурбет со страхом ожидал развязки. Он терзался муками совести, ругал себя, принимал твердые решения, но Наргиз и Джафарчик так поправились последнее время, так порозовели…
У Джафарчика после кори остался хронический бронхит. Бывало, чуть сквознячок — и ребенок уже в кровати, а теперь они думать забыли о бронхите…
А Наргиз?. Сколько крови она ему перепортила своими болезнями!.. Размышляя за письменным столом о превратностях судьбы или поглядывая на розовые щечки дочери, Гурбет вдруг по привычке начинал перебирать в памяти болезни и лекарства, которые ему довелось узнать из-за нее: «Колит, паротит, дистрофия, анемия…»
Да, Гурбет Азизов любил своих детей. И постепенно забыл не только названия болезней, которыми они прежде болели, но и свой дневник. И застань он теперь в передней не то что барашка, а живого быка с рогами, он уже не стал бы ни возмущаться, ни ругать жену. Но случилось так, что в одну из суббот он увидел в коридоре не быка, не барашка, а двадцатилитровый бочонок с вином. Вот тут он возмутился, он стал кричать. Пришла из кухни жена, и по ее лицу тоже не заметно было, чтоб она особенно радовалась, совсем не то, что при виде осетра или барана. Гурбет долго поносил жену, взывал к ее совести и в конце концов строго-настрого приказал: отныне ничего не брать — просто не открывать, и все.
В тот вечер Гурбет дал себе слово завтра же разыскать прежнего жильца и узнать наконец, кто он такой, этот низкорослый смуглый человек.
Гурбет думал об этом весь вечер, даже во сне ему снилось, что он куда-то идет, кого-то ищет, бродит по каким-то учреждениям… Гурбет и наутро остался тверд в своем решении. «Во что бы то ни стало сегодня иду в милицию! Кончу — и сейчас же в управление. Скажу — родственника разыскиваю. Только вот до которого часа они там работают?.. А ничего, в крайнем случае, отпрошусь у Мурадова пораньше. Я его непременно разыщу: фамилию знаю, старый адрес знаю… Переехали, мол, родственники, а я адреса не знаю, давно не встречались. Нет, так, пожалуй, не годится, лучше скажу, что они переехали, а я никак дома не застану, хочу на работу к нему зайти…»
До самых дверей своего маленького, похожего на нотариальную контору учреждения Гурбет Азизов пребывал в уверенности, что все кончится благополучно. Но в дверях им вдруг снова овладело сомнение: хорошо, а вдруг они спросят, как зовут отца этого моего родственника?..
Хотя этот случайно возникший вопрос и озадачил Гурбета, он все-таки не отступил от своего решения: отпросился у Мурадова и, на час раньше уйдя с работы, отправился в главное управление милиции. Там у него действительно спросили об отце интересующего его человека, и Гурбет так растерялся, услышав этот вопрос, что сама его растерянность пошла ему на пользу. Может, только поэтому его и не отправили с пустыми руками, а открыли большой шкаф и долго листали какую-то пухлую книгу. Потом сказали: ваш родственник — преподаватель вуза, работает в таком-то заочном институте.
Некоторое время Гурбет стоял молча, не отрывая глаз от толстой книги. Когда ее поставили на место, он открыл дверь и вышел в коридор. Сначала он даже решил вернуться. Вернуться и попросить, пусть посмотрят, может, еще есть человек с таким же именем и фамилией: преподаватель — это скорей всего не то, ведь отца-то его Гурбет не знает.
Когда Гурбет, спустившись по лестнице, подошел к наружным дверям, он уже был твердо убежден, что тут какая-то путаница, адрес ему дали не тот, и придется разузнать, как зовут по отцу прежнего квартиросъемщика. Он ехал домой и мысленно повторял про себя: «Тут какая-то путаница…»
Итак, Гурбет Азизов ехал на трамвае домой. Была весна. В окна задувал легкий теплый ветерок. Садилось солнце. Впрочем, упоминать об этом нет ни малейшего смысла, потому что солнца могло и не быть — Гурбету Азизову было в тот вечер не до солнца. Ветерки, закаты и тому подобное пусть описывают те, кто сочиняет рассказы, а я обязан доставить Гурбета Азизова домой и передать его жене и детям. Я только должен заметить, что, когда Гурбет возвращался в трамвае домой и в окна задувал легкий весенний ветерок, он чувствовал, что бесконечно устал. И не потому, что утомился на работе или обессилел, стоя в очереди в милиции, а потому, что попытка разузнать, кто же он, прежний жилец, так и не увенчалась успехом. На свете слишком много однофамильцев, носящих одно и то же имя; чтобы установить личность человека, надо непременно знать его отца; а если не так, зачем бы писать отцовское имя в метриках и паспортах…
…Как только Гурбет открыл дверь, в нос ему ударил запах меда. Он хотел спросить у жены, откуда мед, но не спросил, а только осторожно потянул носом и прошел в комнату. Ситемхнум принесла чай. Он выпил чаю, поужинал, запах меда все не исчезал; Гурбет несколько раз искоса поглядел на жену, пытаясь понять, в чем дело, но та молчала. Наконец он не выдержал:
— Слушай, Ситемханум, медом пахнет! Ей-богу, пахнет!
Жена ничего не ответила, только улыбнулась. Потом встала и, не переставая улыбаться, пошла в кухню и принесла на блюдечке два куска чистого, как слеза, сотового меда и поставила на стол перед мужем:
— Ну и нос у тебя, Гурбет!.. Надо же, в кухню унесла, казан крышкой накрыла — все равно учуял! — И она снова улыбнулась.
Как ни странно, Гурбет тоже улыбнулся. И не потому, что мед был такой уж соблазнительный или ему пришлось по сердцу, с какой легкостью его жена пользуется добром, предназначенным другому, — не поэтому. Гурбет улыбался потому, что ему вдруг вспомнилось детство, деревня, покойная бабушка. Как она тогда жаловалась деду: «Ни за что от него мед не убережешь! Хоть самую малость положи, хоть ложечку, — все равно учует! Нюх у него на мед, как у медвежонка!..»
Вот поэтому Гурбет и улыбался. Улыбался, а сам поглядывал на мед. Поглядывал и думал: «Нет, адрес не тот, с адресом какая-то путаница…» Потом он вышел на балкон, достал папиросу и закурил.
В соседней комнате спали Наргиз и Джафарчик…
Сердце — это такая штука…
1
Если бы Сарвар вернулся из армии в другое время, он, возможно, и не начал бы так скоро скучать. Но вернулся он в деревню осенью. Поздней осенью. С полей все уже было убрано, и баштан отцовский — пустой… На склонах, где трава в человеческий рост, все скошено до последней травиночки; сады давно обобрали и опавшую листву пожгли; несколько плодов айвы, уцелевших средь голых ветвей, да скирды соломы, желтеющие кое-где на колхозных токах, — вот все, что оставила Бузбулаку осень от своего изобилия.
В первый же день Сарвар вышел на улицу и за несколько часов успел увидеть все, чего не видал три года. Увидел, что девушки и женщины по-прежнему носят с родника воду, мужчины пьют чай в чайхане, а подростки в клубе играют в домино. Увидел, что по вечерам односельчане по-прежнему собираются под чинарой, толкуют о футболе и о политике, а потом не спеша расходятся по домам и точно так же, как три года назад, в тех же самых словах, тем же самым порядком приглашают друг друга зайти попить чайку. В тот же вечер несколько человек пригласили Сарвара зайти попить чайку, и он пригласил нескольких… Возвращаясь домой, он увидел на углу соседских мальчишек — уже курить начали, в другом месте приметил новую стайку шушукавшихся девчонок. И узнал, что отца его Агалара по-прежнему зовут Кошачьим Старшиной, а мать — Цыплячьей Барыней. И почувствовал отчаянную скуку.
Он понял вдруг, что зиму ему здесь не протянуть: замрет все, машины и то не услышишь; эти упершиеся в небо снежные горы на три месяца надежно спрячут Бузбулак от всего мира… Дом — чайхана — дом… Зима страшила Сарвара, он заснул в ужасе перед зимой, и во сне ему привиделось лето — теплая и светлая летняя ночь.
Будто он на баштане, будто спит на помосте, и будто он вместе с помостом парит высоко-высоко в воздухе, и баштан перед ним как на ладони. Над баштаном разлит лунный свет, белый, как молоко, и белые дыни отарой белых овец привольно развалились на грядках… Глядит он на эти дыни и вдруг видит: на краю, у самой горы, копошатся какие-то тени — кусты не кусты… Странные, зловещие, они шевелятся, движутся, перешептываются — замышляют что-то… И вдруг снимаются с места и бросаются к баштану; из кучи этих округлых, похожих на кусты фигур подымается огромный чабан в бурке и с палкой в руке; он взмахивает палкой, и белые дыни, мирно дремавшие на грядках, вскакивают и отарой белых овец бегут вслед за великаном в черной бурке. Сарвар хочет крикнуть — не может, хочет вскочить — не может. И тут рассветает, наступило утро, и Сарвар видит: чабан в черной бурке — это Аждар. Он стоит на вершине горы и машет рукой: «В Баку поезжай!.. В Баку!.. В Баку!..»
Сон сном, Аждар Аждаром, но когда Сарвар утром встал с постели, ему было совершенно ясно, что вопрос с зимой решен окончательно. Он с легким сердцем умылся, наскоро поел, вышел на улицу, постоял возле соседнего, дома, пустого, давно заброшенного. Это был Аждаров дом; двор — одна сплошная колючка, и крыша поросла травой… О том, что Аждар в Баку, Сарвар узнал в чайхане. И что Теймур там на базаре торгует. С Теймуром Сарвар учился раньше в одном классе, потому он сразу настолько осмелел, что, не сказав ни слова отцу и не попросив у матери денег, в кредит начал делать заготовки. Торговать ему раньше не приходилось, но он слышал, что выгоднее всего везти в Баку миндаль и грецкие орехи. Не раздумывая, он направился к тем, у кого были миндальные деревья и орехи. Походил, поторговался, как заправский перекупщик, и в конце концов дело сладилось: у тети Шовкет сторговал шестьдесят килограммов орехов, у тети Гольгяз пятьдесят пять килограммов миндаля; пришел домой, кое-как уговорил мать, а потом они вместе уломали отца. И пока Сарвар все это устраивал и улаживал, перед глазами у него стоял Баку, весь огромный Баку, хотя побывать ему довелось только в пригороде, в Баладжарах, когда их отправляли в армию; Сарвар уже видел, как, расторговавшись, с большими деньгами, свободный и беззаботный, в новом пальто и в новом костюме, разгуливает он по улицам Ленинграда, по которым ходил, когда случалось получить увольнительную. И еще он все время вспоминал Аждара и ту давнюю историю.
…Стояло лето — пора, когда начинают поспевать дыни. И вот в то самое лето с баштана из железной клетки пропала курочка-молодка. Утром, обнаружив пропажу, Сарвар с отцом сразу облазили весь баштан, с ног сбились, отыскивая курицу, но даже и перышка не нашли. На следующую ночь исчезла еще одна курочка. Тогда Агалар решил не ложиться спать и с ружьем в руках притаился в кустах под деревьями, но к утру его сморило, и, стоило ему задремать, исчезла еще одна курочка и как сквозь землю провалилась. Агалар рассердился не на шутку, потому что дело оборачивалось скверно — человек замешан: никакая другая тварь курицу из железной клетки не достанет. И тут уж не до кур — бог с ними, с курами, — тут уже честь задета. К тому же было ясно, что на этом не кончится, — начинали поспевать дыни…
Долго думал Агалар, и так и этак прикидывал, всех врагов своих в деревне припомнил, перебрал в уме ненадежных парней из соседних деревень, но ни к какому выводу так и не пришел. Куриного вора Агалару увидеть не привелось, увидел его Сарвар: в одну из ночей вор этот собственными ногами явился на баштан. Мало того, что на баштан, — к самому помосту подобрался… Агалар уже спал, похрапывал во сне, а Сарвар просто так лежал. Лежал на животе и глядел на дыни, рядами белевшие меж серых грядок в белом, как молоко, лунном свете. И вдруг кто-то окликнул его по имени. Сарвар вздрогнул, испугался, так испугался, что даже крикнуть — отца позвать — не смог.
— Не кричи! — услышал он снизу шепот. — Слезай! Иди сюда. Не бойся, это я, Аждар…
Но Сарвар так перетрусил, что спуститься вниз не смог. У него лишь хватило сил приподнять голову, и прямо под собой он увидел прижавшегося к столбу Аждара. Тот стоял, приложив палец к губам: «Тш-ш-ш!..» Все его длинное, тощее тело было сплошное «т-ш-ш!..». Потом Аждар протянул руки, снял Сарвара и осторожно поставил на землю. Они молча прошли по баштану, на самом краю его, под большим орехом, Аждар остановился.
— Садись!
Сарвар сел.
— А ты молодец, что крик не поднял. — Аждар улыбнулся и хлопнул Сарвара по плечу.
Некоторое время они молча глядели друг на друга.
— Здорово ты испугался, а?
Сарвар не ответил.
— Слушай, притащи чего-нибудь пожевать, — попросил вдруг Аждар. — Ноги с голодухи не держат… Только будь мужчиной! Кошачьего Старшину не буди.
Сарвар молча встал и пошел за едой. Принес овечьего сыра и два больших лаваша. Когда Аждар поел, Сарвар спросил несмело:
— Кур ты унес?
— Я…
— А тебя тогда в деревне искали!..
— Я знаю.
— Пять милиционеров приезжало.
— Ишь ты!..
— У нас тоже спрашивали про тебя. Отец сказал: ты в Баку… А ты не был в Баку?
— Был.
— Чего ж не остался там?
— Пронюхали. Продал один подлюга.
— Чего же теперь будешь делать?
— Отсижусь пока здесь, а поутихнет — обратно двину.
Больше Сарвар не спрашивал: остальное и так было известно. Месяца три назад Аждар, работавший приемщиком на консервном заводе, взял три тысячи, будто для закупки алычи, и исчез; историю эту в Бузбулаке знал каждый. Потом кто-то встретил Аждара в Баку на рынке, эта новость тоже мгновенно распространилась по деревне. Много кой-чего наслушался Сарвар за эти три месяца, и Аждар, их сосед, обыкновенный человек, которого он каждый день встречал на улице, превратился в его воображении в какого-то сказочного разбойника. Сарвару было страшновато сидеть с ним ночью вдвоем в открытом поле. Сарвар молчал, все думал, думал о нем, а потом осторожно спросил:
— А где ж ты ночью-то спишь?
На этот раз Аждар ответил не сразу, он долго и пристально смотрел мальчику в глаза, так долго и пристально, что Сарвар даже испугался немножко. Потом Аждар спросил:
— А ты не продашь?
— Что ты!.. Я никому не скажу!
— Поклянись!
— А чем?
— Ну… во что веришь!
Сарвар долго думал, но ничего такого не мог придумать.
— А в луну веришь? — спросил Аждар, показывая на небо.
Сарвар поднял голову. Луна в ту ночь была такая большая, светлая, и в самом деле нельзя было в нее не верить.
— Верю! — сказал Сарвар.
— Клянись!
— Луной?! Клянусь!
— Вставай. Пошли!
Они шли очень долго, пока не добрались до зарослей у самой горы; до того места, которое в деревне звали «Змеюшником». Здесь, в чащобе, под раскидистыми ветками мушмулы, со всех сторон окруженной колючей ежевикой, устроил себе Аждар нору. Чтобы пролезть в нее, нужно было долго ползти под кустами. Лунный свет не проникал сюда, и только фонарик Аждара немножко освещал этот таинственный мир… Больше всего удивило Сарвара в ту ночь, что здесь, в ежевике, издавна считавшейся в деревне скопищем ядовитых змей, не было ни единой змеи. Они ползли долго, пока кусты не стали немножко реже. Наконец Сарвар вылез, распрямился и обомлел: сплетенная из прутьев хижина, а перед ней старательно расчищенная поляна, вся трава сжата, земля перекопана, разровнена и даже полита; за хижиной, у самой горы, бил из-под камней родничок. Аждар устроил здесь маленькую запруду, и под лунным светом вода в ней мерцала, словно расплавленный свинец; возле очага валялись закопченный чайник и несколько куриных косточек.
Будто для того, чтобы окончательно ошеломить мальчика, Аждар остановился перед хижиной и свистнул, будто подзывал собаку; только из хижины выбежала не собака, а ежик. Сарвар удивился, что ежик здесь запросто расхаживает. Он впервые видел, чтоб ежик так вел себя при людях. А тот словно понял мысли Сарвара, свернулся и спрятал голову. Это почему-то очень понравилось Аждару.
— Братишка мой, — сказал он. — Вот так и живем — на пару… Надежный мужик! Сплю, а он караулит. Ни одна тварь не подползет!
Внутри хижины вещи все были знакомые: телогрейка, бидон для керосина, керосиновая лампа, ведро, с которым ходила за водой покойная мать Аждара, казанок… (Все это Аждар принес из деревни. Пробрался как-то ночью к себе домой и взял.)
Эту плетеную хижину, похожую на паутину из веток, родничок, ежика, и даже черный от копоти чайник, и заржавленную лампочку без стекла Сарвар вспоминал часто, когда был в армии. И не удивительно: месяц, а может, и полтора, дождавшись, когда отец заснет, он каждую ночь пробирался в заросли ежевики. Целый месяц, а может, и полтора, они с Аждаром, набрав на колхозном поле пшеницы, гороха или фасоли, варили по ночам такую похлебку, что ничего подобного Сарвару едать не приходилось. И не было в его жизни дней счастливей этих, хотя ему бывало и страшно, очень страшно. Да и тайну хранить было не просто, тем более что Аждара искали, милиция приезжала искать. Нелегко Сарвару приходилось и в школе, особенно на уроках Шекерек-кызы, которая каждый раз заводила разговор о честности, о гражданской бдительности, о необходимости непримиримой борьбы против врагов и шпионов, а, по словам Шекерек-кызы, Аждар был самый что ни на есть шпион и враг. К тому же Сарвар был уже не ребенок: пятый класс — это пятый класс, и он прекрасно понимал, что значат казенные деньги. Один раз Сарвару даже пришло в голову открыть свою тайну, показать, где прячется Аждар, но стоило ему пробраться в заросли и увидеть хижину, похожую на паутину из веток, как он сразу отбросил эту мысль. При свете луны Аждар совсем не был похож ни на «врага», ни на «шпиона», это был просто Аждар, длинный, худой, и похож он был на покойную тетю Хавер…
Весь сентябрь в том году прошел в страхе и в какой-то непонятной радости; случалось, они всю ночь просиживали у костра. Зато днем Аждар от нечего делать спал с утра до вечера, у него даже глаза опухали от сна, иногда он плел из осоки какие-то странные вещицы, похожие на корзины и на ведра; запруду перед родником он чуть не каждый день строил заново и от скуки даже стихи стал писать.
Охраняй меня, ежик-сиротка, Убежал я из дома в леса, Родной дом свой, добро свое бросил И живу здесь в кустах, как лиса…«О, взгляни, гнусный мир, это всходит луна…» Этой строкой начиналось другое стихотворение Аждара. Он сидел перед хижиной, глядел на луну и без конца повторял эту строку. Дальше стихотворение не получалось, и конца его Сарвар так и не узнал.
Наступила осень, зарядили дожди, и в одну из темных ночей они молча простились возле хижины. Аждар держал в руках только телогрейку и ежика, и, как это ни странно, Сарвар был уверен, что ежика Аждар повезет в Баку… Но Аждар поцеловал зверька в черный влажный нос и осторожно опустил на землю. Потом он обнял Сарвара, его тоже почему-то поцеловал в нос и сразу, ястребом взмыл на вершину горы; стоял там, на горе, и махал ему рукой: «В Баку приезжай… В Баку приезжай… В Баку… В Баку».
2
И вот теперь они стояли лицом к лицу у ворот бакинского рынка. Аждар немыслимо растолстел, у него вырос второй подбородок, брюхо — вперед. Дышал он тяжело, с хрипом, и сердито смотрел на Сарвара, а Сарвар никак не мог взять в толк, чего это он так сердито смотрит.
— Чего явился? — Это были первые слова Аждара.
— С товаром приехал. Привез кое-что… Продам, в Ленинград хочу съездить…
Аждар долго глядел на его отглаженные брюки, на выглядывающий из-под пиджака белоснежный, с красными разводами свитер, какие на всем этом свете умеют вязать только бузбулакские старухи; смотрел долго и думал о чем-то.
— И в таком виде на базаре будешь сидеть? — Аждар вытащил из кармана щепотку сухой травы. Понюхал, закашлялся, долго кашлял, потом спросил хрипло: — Что привез?
— Миндаль и еще орехи. Всего сто пятнадцать килограммов.
— А где оставил?
— У Теймура, на том базаре.
Некоторое время Аждар задумчиво смотрел на дорогу. Потом вышел вперед и остановил проезжавшее такси.
— Садись. Поедешь, привезешь все сюда.
Немного погодя они вдвоем выгрузили из этой же самой машины два огромных мешка; оставили их на базаре у какого-то незнакомого Сарвару человека, а сами через другие ворота вышли на улицу… Падал мокрый снег, падал и таял, с земли поднимался парок, было влажно. Аждар молча, понурившись, шел сквозь сырость и гниль, вел куда-то Сарвара. Сарвару хотелось спросить, куда они идут, но спросить он не осмеливался. Ему хотелось напомнить Аждару про кур, по луну, про хижину у горы, про ежика, даже стихи прочесть; может, улыбнется, повеселеет. Но Сарвар промолчал и рад был, что промолчал, — вдруг не поймет, вдруг подумает, что он на благодарность напрашивается: я, мол, тебе тогда помог, теперь ты мне… Так они молча вышагивали вдоль трамвайной линии, и, только когда уже почти дошли до места, Сарвар не выдержав, заговорил:
— Слушай, Аждар, я не затем приехал, чтоб тебя от дел отбивать. Сам справлюсь — не первый раз в городе: три года в Ленинграде служил.
— Ладно. — И больше Аждар ничего не сказал.
Свернули за угол, вошли в какой-то дворик. Там стоял старый одноэтажный домишко с застекленной верандой; на веранде седая женщина гладила белье.
Оставив Сарвара внизу, Аждар поднялся в дом, о чем-то потолковал со старухой и подозвал Сарвара:
— Ну вот, останешься здесь. — Аждар открыл одну из двух выходивших на веранду дверей. — Это твоя комната, твоя кровать… Пей чай и ложись отдыхай. Захочешь, прогуляйся, в кино сходи… А это Марго. Грузинка, женщина одинокая… Деньги будут нужны — у нее спроси. На базаре тебе делать нечего. Сам все продам.
Понятно, что Сарвару не по вкусу была такая встреча: почему он его к базару не подпускает? Подумаешь, ребенка нашел!.. Чем он хуже Теймура?.. Но ослушаться Аждара Сарвар почему-то не смел, возражать тоже не решался.
Весь день Сарвар пробродил по городу, к вечеру вернулся и стал ждать Аждара. Он был уверен, что вечером тот непременно придет сюда. Но вечером Аждар не пришел, утром он тоже не появился. Сарвар прождал до полудня и помчался на базар, но и там Аждара не нашел. Мешков своих ему тоже обнаружить не удалось, хотя он обыскал весь базар; человек, которому они вчера передали товар, исчез. Сарвар шел обратно к Марго, чтобы выведать у нее адрес Аждара, и все ломал себе голову, что это могло означать. Но старуха адрес не сказала, хотя наверняка знала. Оставалось одно: идти к Теймуру. К вечеру, перед самым закрытием базара, Сарвар нагрянул к нему.
— Слушай, ты Аждара не видел?
— Видел. Он утром в Тбилиси уехал.
— Как уехал?!
— Очень просто. Уехал, и все.
— А про меня ничего не сказал? — Сарвар готов был расплакаться.
— Сказал. Велел, чтоб, как нагуляешься, сразу в деревню ехал. Сказал, не получится из тебя торговца.
— А деньги! — закричал Сарвар. — А мои мешки?!
— Насчет денег мне неизвестно. — Теймур был невозмутим. — Это уж сами разбирайтесь. Что велено, я передал… Еще он сказал, чтоб ты в нечетный день уезжал. По нечетным дням у него проводник знакомый в седьмом вагоне. Пусть, мол, билет не покупает, проводник его так довезет. Поезд в час ночи. Скажешь, Аждар прислал… Седьмой вагон, не забудь…
Если б они не учились десять лет в одном классе, разговор на этом бы и кончился. Но разговор на этом не кончился, потому что они десять лет учились в одном классе. В самом конце разговора, произнося самое последнее слово, Теймур допустил малюсенькую оплошность, он вроде чуть-чуть усмехнулся, что-то промелькнуло в его глазах, и Сарвар сразу узнал пройдоху Теймура.
— Не трепись, — сказал он Теймуру. — Ни в какой Тбилиси Аждар не уехал. И ты знаешь, где он!
— Ха, знаешь! — Заметно было, что Теймур встревожился. — Этого ни один человек не знает. Десять лет без прописки живет.
— А чего про Тбилиси плетешь?! Я ж по глазам вижу — брешешь! Совесть-то у тебя есть?
Теймур молчал. Сарвар почувствовал, что он колеблется.
— Я ж его человеком считал… — уже мягче сказал Сарвар. — Если б знать, что он так меня облапошит! Два мешка — больше ста кило! Забрал и смылся!
— Надо было самому сидеть! — сказал Теймур.
— А он дал мне сидеть?! Забрал, и все. Я ж и понятия не имел, что он аферист. Сволочь такая!..
Теймур молчал. Молча они собрали с прилавка товар. Завязали мешки, сдали на хранение сторожу. Вышли с базара.
— Видишь, какая погода? — спросил Теймур.
— Холодно.
— Видишь, как ясно? Совсем как в Бузбулаке.
— Может, сейчас и в Бузбулаке снег, — сказал Сарвар. — Я уезжал, дождь шел…
— В такую погоду у Аждара всегда приступы, — неожиданно сказал Теймур.
— Какие приступы?
— А ты не знаешь? Он ведь больной очень… Астма у него. Дурацкая болезнь — чуть похолодает, он уже и дышать не может. В такую погоду на базаре его не ищи, в ресторане отсиживается. Подвальчик есть недалеко от моря…
— Думаешь, и теперь там?!
— Может… Кто его знает… Только смотри, меня не поминай!
Сарвар ни о чем больше не спросил. Бросил Теймура и прямиком — в тот самый подвал; там, в темном уголке, он и нашел Аждара.
— Ага! Так, значит, ты в Тбилиси уехал?! Ну и аферист! Ну и подлец!
— Садись, сын Кошачьего Старшины! Не трепыхайся!
— Я с тобой… сидеть не собираюсь! Идем! Ты мне мои мешки отдашь!
Аждар потянул Сарвара за рукав.
— Садись!.. Нету твоих мешков. Продал я. Теперь вот… — Он показал на стоявшую перед ним полупустую бутылку.
— Давай деньги, ворюга! — Сарвар замахнулся на Аждара кулаком.
Тот спокойно отвел его руку.
— Драться хочешь? Потом, когда выйдем!.. Сиди, сын Кошачьего Старшины!
— И отца, значит, задеваешь?
— Да я, если хочешь знать, этому Кошачьему Старшине задницу готов вылизать за то, что сына такого вырастил!
Он налил Сарвару водки. Подозвал официанта, велел принести еще закуски. Но Сарвар пить не стал, к еде тоже не притронулся.
— Зря я тебя тогда не выдал, — сказал он Аждару. — Может, и не стал бы таким подлецом!..
Аждар нисколько не обиделся. Рассмеялся. Потом вдруг спросил:
— А с чего это ты в Ленинград надумал? Девушка знакомая или с товаром?
— Это тебя не касается! Ты деньги мои давай!
Аждар помолчал немножко. Потом достал из кармана горсть миндаля, из другого — три грецких ореха, положил на стол и исподлобья глянул на Сарвара.
— Узнаёшь?
— Узнаю! Из глотки у тебя все вытащу!
— Ладно, потом вытащишь! Пока пей давай!
— Не хочу!
— Ну тогда ешь. — Аждар взял со стола орех. — С дерева тетки Шовкет? — Сарвар кивнул. — А миндаль взял у тетки Гюльгез. С того дерева, что за нашим забором, где вербы кончаются. Там еще инжировое дерево было. И алыча возле хлева, у стены… Она и осенью зацветала… Стоит алыча-то?
— Стоит, куда ей деваться!.. Не дури ты мне голову, Аждар. Отдай деньги!..
— И верба стоит?
— Стоит, чего ей сделается…
— Я под той вербой с Соной целовался…
Аждар умолк, потом вдруг засопел тяжко, словно кузнечные мехи… Из груди его вырвался хрип, и сквозь страшный этот хрип Сарвар разобрал:
— Скажи той вербе: умирает Аждар!
И вдруг заметил, что глаза у Аждара полны слез, что он плачет; слезы капают одна за другой, текут ему на пиджак… Сарвару стало жаль Аждара, захотелось утешить, сказать что-то доброе, хорошее, но он не сумел ничего такого сказать; схватил стоявшую перед ним стопку и опрокинул в рот.
— Сегодня какое число? — спросил Аждар.
— Тринадцатое.
— Тринадцатое… Счастливый у меня сегодня день.
— Пойдем, — сказал Сарвар. — Закрывают уже.
Они поднялись после того, как погасили огонь. Стало холодно, лужи прихватило морозцем, улица, освещенная луной, была светлая и совсем пустая.
— Уезжай сегодня.
— Это еще почему?
Аждар повернул к бульвару и долго шел вдоль берега, не отрывая глаз от моря, потом сказал:
— Не выйдет из тебя торгаша.
— Я и не собираюсь торгашом быть!
— Чего ж тогда приехал?
— Я ж говорил. Погулять. В Ленинград съездить!
Погулять… Я тоже приехал погулять. До сих пор гуляю.
— Сравнил! Я ж казенных денег не крал!
И тут из Аждаровой груди вырвалась такая жуть, такой ужас… Он скрючился и всем телом навалился на железные перила. Он кашлял, хрипел, задыхался, а Сарвар стоял рядом и ругал себя за то, что сказал. Аждар с трудом разогнулся. Говорить он был не в состоянии. Стояли, смотрели на море… Ночь была лунная; луна остановилась как раз посреди неба, и в ее ярком свете холодным огнем горело море.
— Обиделся? — огорченно спросил Сарвар.
— Нет, — ответил Аждар, — я не обиделся. — И опять начал кашлять. — Это всё те деньги душат, — с хрипом выдавил он из себя. — Три тысячи проклятые. Здесь стоят, в глотке! Душат меня, жизнь мою отнимают. Думаешь, я не хотел вернуть? И деньги в руках бывали. Сначала не решался, совестно вроде как-то, а когда решился — поздно уже. Последние пять лет и не бывает у меня таких денег. Запросто мог бы иметь. Не хочу. Нету желания, сердце не принимает. А сердце — это такая штука…
Потом уже разговор пошел спокойный:
— А чего ты с этими деньгами удрал?
— Я с ними не удирал.
— А как? Украли у тебя их?
— Никто не крал.
— А чего ж тогда?
— Да это все Али-оглу… Он ведь в лавке торгует, недостача у него вышла, три тысячи. А я дочку его любил, Сону, очень я ее любил и сейчас люблю, чуть не каждую ночь снится… Прибежала ко мне вся в слезах — отца забрали! Ну и не выдержал я, какие были на руках деньги, отдал ей… Потом вижу — дохлое дело-то. Я не боялся, что заберут. Я почему удрал? Потому что думал: останусь — все откроется. Ну, а дальше… Потом узнал, что подлец этот замуж ее отдает. Оборвалось у меня все внутри. Если б попал тогда в деревню, прикончил бы его. Я ведь приехал, только в деревню не пошел, потому что обида была большая в сердце. А сердце — это такая штука…
Аждар умолк. У Сарвара перед глазами стояла деревня… Дом Али-оглу, лавка, где он торгует, и толстые краснощекие сорванцы — детишки его старшей дочери Соны.
— Пойдем, — сказал он Аждару Потому что слов больше не было.
— Куда пойдем?
— Куда хочешь.
— Тогда — к вокзалу.
Они долго шагали по хрустящему, прихваченному морозцем снегу, потом Аждар сел на скамейку.
— Времени сколько?
— Пол первого.
— Значит, мало осталось?
— До чего?
— До отхода поезда.
— А чего ты меня все гонишь?.. Деньги растратил, поэтому?
— Нет. Просто вижу, застрять ты здесь можешь… И запутаешься.
— Теймур же не запутался!
— Теймур никогда не запутается.
— А я почему?
— Потому что ты не сволочь!..
На том разговор закончился. Они снова долго молчали. Сарвар вдруг взглянул на часы.
— Пойдем! — сказал он.
— Поедешь? Честно?
— А когда я тебя обманывал?
Аждар поднялся со скамьи.
— Деньги твои у проводника. Седьмой вагон — Теймур тебе говорил. Пятьсот рублей, как доедете, сразу и отдаст. К вокзалу — по этой улице, прямо, никуда не сворачивай. Иди… А я… туда не пойду. Я тут…
Десяток была целая стопка, завернутая в вырванный из тетради листок, и на этом листке посередке надпись карандашом, бледные, мелкие буквы:
Не хочу, чтоб ты торгашом становился, А то будешь таким же, как я. Ты потом придешь к моей могиле, Будешь ты благодарить меня.Сарвар забрал у проводника деньги, сунул в карман, тут же, при нем, прочитал записку, сложил листок и тоже убрал в карман.
…И то, что слова эти были написаны стихами, нисколько не удивило Сарвара; когда еще учился в школе, он написал одной девочке письмо стихами и с тех пор знал, что существуют на свете вещи, о которых только в стихах и можно сказать…
Не ко времени весна
В бузбулакской чайхане никогда не бывает особенно многолюдно. А сейчас и время такое — еще и одиннадцати нет.
В чайхане сидело всего четверо. Да и те у доски с нардами: двое играли, двое других смотрели — ждали очереди. Огромный, на четыре ведра, самовар только-только вскипел, только что заварили чай. Кирпичный пол, с утра политый и тщательно выметенный, еще хранил влагу, и солнце, светившее в дверной проем, лежало на влажных кирпичах, чистое и очень свежее. Гариб, то и дело поглядывавший на него, вскочил вдруг и положил кости.
— Не хочу больше!
— Да хоть игру закончи!
— Не хочу! — со злостью бросил Гариб.
Достал рубль и сунул под блюдце, что значило: отцепись, считай меня проигравшим; в бузбулакской чайхане большинство посетителей садилось за нарды так, провести время: проигравший платил за чай, на худой конец добавлял еще на сигареты. Гариб, во всяком случае, ни на что другое не играл.
Уступив место очередному игроку, Гариб пересел лицом к окну. Теперь ему стала видна плоская вершина горы. Солнце лежало на ней такое же, как тут, на полу, — чистое и очень свежее. И Гарибу так вдруг захотелось вскарабкаться туда, на гору, и поглядеть вокруг — далеко-далеко, насколько глаз хватит. Но взгляд его зацепился за подножье горы, желто-белое от цветов миндаля и кизила, и мысли приняли другое направление. Гариб посмотрел на берег арыка, сплошь усыпанный фиалками, и у него мелькнула мысль, что ничего нет на свете глупее, чем такая вот, не ко времени, весна. И, не переставая размышлять об этом, Гариб вышел из чайханы.
Весна и впрямь вытворяла непонятное. Только еще февраль на исходе, а миндаль уже зацвел, и кизил. Если дальше так пойдет, через неделю все в цвету будет. Вон возле чайханы абрикосовое дерево горбатится: ветви, что с солнечной стороны, надулись, порозовели — ни дать, ни взять вымя у нетели, дохаживающей последние дни. А если теперь да снег?.. «Нет, лучше не надо!..» Гариб даже головой покачал — ветви у абрикосового дерева и впрямь были, как вымя у молодой коровы, вот-вот собирающейся телиться, и Гарибу было их очень жалко.
Гариб в задумчивости постоял возле лавки: взять поллитровку, выпить и лечь, чтоб до утра?.. Но представил себе муки похмелья и пошел дальше. Потоптался возле правления, может, Джумшид попадется под руку, сказать ему, чего, мол, тянешь — арыки копать пора, хватит людям без дела маяться, руки намозолили нардами! Однако, завидев председателя, Гариб, сам не зная, почему, мгновенно отказался от этой мысли. Мало того, ускорил шаг и так быстро проскочил мимо правления, словно боялся, что его идея по воздуху передастся Джумшиду.
До самого вечера Гариб бродил по колхозным полям, даже обедать не приходил. Под вечер он появился в чайхане, но за нарды не сел; сцепив за спиной руки, раза два прошелся туда-сюда, потом встал у самовара и объявил:
— Я мельницу решил наладить! — Слава богу, никто не засмеялся. Потому как дело было вечером, народу порядочно, и засмейся хоть один, все могло бы кончиться плачевно.
По-прежнему держа руки за спиной, Гариб снова прошелся по чайхане.
— Какая у нас в деревне мельница была! Пекут чуреки — на всю деревню пахнет! А чуреки какие… Какой вкус был — ешь да облизываешься!.. — И, обернувшись к сидящим в чайхане, спросил: — Верно я говорю?
— Верно! — подтвердили все в один голос.
— Чего ж мы теперь без мельницы?
— А теперь, сынок, муки полно, — ответил ему один из стариков. — Первый сорт — тридцать копеек, второй — двадцать семь копеек. Бери двадцать два рубля, езжай, купи мешок первого сорта — семьдесят килограммов — и грузи на ишака. Еще тридцать копеек лишку будет — чайку попить в чайхане!
— А если правительство не привезет муки? — спросил человек, которого тоже звали Гариб. (Этого второго Гариба мельница заинтересовала вроде не меньше, чем первого). — Я считаю, в деревне нужна мельница…
— А с пекарней чего прикажешь? На замок?
— Будто ты каждый день покупной хлеб ешь!
— Да все равно: нет сейчас той пшеницы!.. А эту хоть и сам мели, вкуса не будет!
— Будет! Магазинную-то, ее электричеством мелют! Из-под жернова — другое дело!
— Жернов! Тот жернов давно в труху превратился! С каких пор мельница брошенная…
— А с каких? С войны?
— Почему!.. До пятьдесят второго работала… Потом уж нет.
— Спасибо еще, Мирали-ага приглядывает. И стены бы давно рухнули.
— А откуда вы знаете, что больше войны не будет? — Кулу-Песмис обвел сидящих мрачным взглядом. «Песмис» по-бузбулакски значит «Пессимист», бузбулакцы не зря дали этому человеку такое прозвище.
— При чем тут война? Мы про мельницу!
— Очень даже при чем!
— Никакого отношения!
— А Китай?! День и ночь зубы точит!
— Что твой Китай!.. Лучше скажи про ту страну, где недавно самого президента…
Гариб понял, что разговор может затянуться. Надо было брать быка за рога.
— Мельницу я пущу, — сказал он. — Ваше дело — зерно возить. — И, подумав, добавил: — А то налажу и буду сидеть, загорать…
Снова первым подал голос Гариб.
— Налаживай! — сказал он. — А зерно — не твоя забота.
— Спасибо, тезка… Эй, Песмис! Чего задумался? Будешь зерно возить?
— А чего?! Привезу!.. — И Песмис так поглядел вокруг, словно кто-то уже решил идти ему наперекор.
* * *
Вот так все и началось. Наутро Гариб первым делом направился к дяде Мирали. (Дядя Мирали жил по соседству с мельницей и держал там сено: мельница была у него на замке). И когда этот самый дядя Мирали, постучав по жернову клюкой, сказал: «Камень-то никуда!», Гариб нисколечко не огорчился. Он знал: есть еще один жернов. На соседней мельнице в Дарыдаге. Мальчишкой он часто слышал, как расхваливали дарыдагскую мельницу и ее жернов. (Если здесь, на бузбулакской мельнице, случалась давка, бузбулакцы и сами возили зерно в Дарыдаг). Теперь-то, конечно, и та давно не работает. А раз не работает, жернов можно забрать. Забрать и поставить вместо этого.
Дяди Мирали одобрил такую мысль.
— Этот-то совсем никудышный, — он снова ткнул палкой в жернов. — И то сказать — без малого сто лет стоит. А в Дарыдаге у них камень новый. Хороший камень. Армянин тесал — большой мастер…
— Считаешь, можно везти?
— А чего ж? Очень даже. Возьми ребятишек покрепче, наймите машину и везите. Ничего не составляет!
В тот же вечер, еще до закрытия чайханы, Гариб в момент сумел обделать дело: отобрал пятерых парней из тех, что толкались возле нард, и объявил им, что завтра утром они едут в Дарыдаг за жерновом. Мохсун, водитель колхозной трехтонки, запросил было десятку, по потом как миленький согласился на трешку. По дороге домой Гариб прихватил в магазине три поллитровки, а у Иси, охранявшего колхозный курятник, купил четыре десятка яиц, по тринадцать копеек штука. И когда он с этой водкой и с яйцами явился домой, вид у него был такой, что Сусанбер подумала: выпил парень…
— Вот, — сказал Гариб, передавая жене яйца, — свари. И погляди там: может, чего найдется: пендир, маринованное что… Завернешь вместе… Дело есть… Завтра меня пораньше буди!
* * *
Назавтра Гариб сам встал раньше жены. Зато поднять с постели парней, что должны были ехать с ним за жерновом, оказалось делом нелегким. Что ни говори — зима, долго спать привыкли. Особенно намучился он с Мохсуном — пятерых легче было вытащить из постели, чем одного этого. Глаза не продрал, сквалыга, а уже начал: на кой ему эта трешка, подавитесь вы своей трешкой — пока не выехали, все ворчал. Только Гариб стоял на своем — ни гроша не добавил. Столковались на трешке — все. Мужчина — значит, держи слово. А что тебе сейчас поспать дороже любых рублей, это дело понятное.
Когда солнце высунулось из-за горы, тронулись в путь. Кроме Мохсуна, все ехали в кузове. Настроение — лучше не бывает. Сон как рукой сняло: пели, смеялись, тузили друг дружку. То и дело ныряя в канавы, машина вскарабкалась на гору и пошла вдоль колхозного сада. Гариб глядел на эти деревья и думал, что в этом году ему, слава богу, не придется больше стеречь их. Не надо больше ссориться с людьми, набрасываться на ребятишек… Он, как вернулся из армии, пятый год уже садоводом. А сад дело такое: за ним или по-настоящему ходи, или совсем не касайся, Джумшид этот черт-те что учинил: за клевером у него один глядит, за травой — другой, за фруктами — третий; Гариб только за деревья отвечал. Собирал фрукты, сдавал на консервный пункт. А все равно не хозяин. Поди, скажи тому, кто при клевере, кончай, мол, полив — цветы осыпаются… Или тому, кто на сене, — запрети ему осенью скотину под деревом привязывать. Плевать они на тебя хотели — каждый свое знает. У этого — трава, у того — клевер. И правильно, потому что план, потому что приказ есть: ты столько-то клевера сдашь, ты — сена; голова не знает, что руки делают, руки — что голова думает… А так-то, если к этим фруктам ловкого человека приставить, что хочешь, мог бы иметь. Машину купил бы, дом бы отгрохал, что твой дворец. Но это, конечно, не каждый может, — потому что не человеком, собакой быть надо. Положим, косят женщины с подростками клевер этот или траву; пекло, весь день на солнце, запрети им персик сорвать или абрикос; да она, если днем и не съест, все равно вечером сорвет, домой снесет ребятишкам… И потом, хочешь деньгу иметь — на рынок тори дорожку. А Гариба убей, не будет, торговать на базаре. Да и на кой ему? Дом есть (он еще по армии построился, тесть подсобил), корова имеется, куры… Из своего сада фрукты продать по сходной цене, тоже, глядишь, две — три сотни. Опять же Сусанбер шелкопряда выкармливает; тут, если без обмана, до тыщи в год заработаешь. Деньги, что за прошлый год получены, до сих пор у нее лежат. (Он, когда пришел из армии, разнежился как-то раз, разомлел, ну у него и выскочило: в Ленинград, мол, тебя свожу. С тех пор Сусанбер каждый год деньги свои откладывает: все надеется поехать — повидать места, где Гариб служил). Летом-то он и сам верит, что свезет жену в Ленинград, а как зима, не хочется чего-то с места трогаться. Ну, а деньги понемножку расходятся: туда, сюда… Двое парнишек у них растут — Сусанбер их одного за другим родила. Гариб еще и в армии не был. А сейчас, видно, кончилась щедрость божия, пять лет уже не рожает… В общем, с мельницей — это он правильно. Во-первых, никто над душой не стоит, не помыкает… Второе круглый год при деле, с тоски не сдыхать в этой чайхане. А главное — хлеба настоящего поедят люди. Конечно, пылища на мельнице, в муке с головы до ног… Только ведь покойный дядя Машдислам сорок лет эту пыль глотал, — а мужик был — дай бог каждому: в девяносто лет сидит, бывало, чаек попивает да о бабах разговаривает… Будешь ты о них разговаривать, если здоровья нет?! А у Джумшида этого сгниешь в чайхане от безделья!..
Словом, пока ехали за жерновом, Гариб окончательно убедился, что самое подходящее для него занятие — быть мельником, как дядя Машдислам…
По жернов-то не ждал его, не лежал готовенький. Крыша обрушилась, завалила все, хорошо еще, дежа выручила — накрыла, уцелел под ней камень: выяснилось это, правда, лишь тогда, когда они, добыв в деревне лопаты, часа четыре провозились в развалинах… Откопали, присели на бережке, выпили, закусили, потом взяли две крепких доски, положили, дядя Мирали уже стучал клюкой по жернову и, не выпуская изо рта трубку, похваливал покойного армянина-каменотеса.
* * *
Не иначе, сам бог помогал Гарибовой мельнице. А так — с чего бы дяде Мирали в его-то годы с утра до вечера крутиться на мельнице? Он даже к начальству ходил — пускай, дескать, будет по закону — скажут еще потом, что Гариб самочинно все устроил.
Дело мельничное дядя Мирали понимал до тонкостей. Не успевал Гариб наладить одно, дядя Мирали указывал ему на следующую неполадку. Дом его был в пяти шагах, но старик другой раз и поесть туда не ходил — с собой приносил. Ну, и понятное дело, первая мука, смолотая новым жерновом, была из того ячменя, что дядя Мирали купил для своих кур.
День этот был для Гариба, может, самым счастливым в жизни. Сусанбер пришла с утра пораньше; убрала старую мельницу, как невесту: стены были уже побелены, окна и дверь покрашены, она все вымыла, подмела земляной пол, табуретку принесла, цветок в горшочке поставила… Точь-в-точь как у покойного дяди Машдислама: кошма на полу, самовар… Гариб даже нарочно не провел электричества, а добыл старую керосиновую лампу и повесил ее на толстый, бог знает с каких пор торчавший в стене гвоздь… Он пил чай, а дядя Мирали сидел на табуретке и попыхивал трубкой. Крутился мельничный жернов… И у Гариба перед глазами на кошме, кроме самовара, сахарницы и двух стаканов, лежал четырехугольный кусочек солнца размером в оконный проем; солнце лежало на полу старой мельницы, чистое и очень свежее.
Ячменную муку дядя Мирали в тот же вечер ссыпал в мешочек и понес домой, чтобы, смочив, скормить ее курам. На следующий день Гариб впервые за все это время пошел в деревню — самолично известить односельчан, что мельница уже на ходу.
В чайхане сидели все те же, что всегда. Несколько человек, как обычно, — у доски с нардами. Поскольку Гариб не был тут целую неделю, то с каждым поздоровался за руку. Потом подошел к самовару, окинул всех взглядом и торжественно объявил:
— Мельница на ходу! Можете завозить зерно.
Смех грохнул так дружно, что у Гариба глаза на лоб полезли.
— Чего это вы гогочете?… — растерянно пробормотал он.
— Говоришь, зерно везти?.. Ты в каком веке живешь-то, парень?
В смятении Гариб бросил взгляд на Гариба. Потом на Кулу-Песмиса: неужели смеются? Гариб не смеялся, а Кулу заливался вовсю.
— Эй, Песмис! Когда это ты, сукин сын, смеяться выучился?!
— Ты научишь! — сквозь смех выкрикнул Кулу. Вытянув шею, он, как индюшка, клокотал горлом. И впрямь, сучий сын, на Гарибе тренироваться решил!..
— Ну что ж, смейтесь, давайте… — не глядя ни на кого, произнес Гариб. И, чтоб не дать волю рукам, повернулся и вышел на улицу.
Жена в хлеву доила корову.
— Сусанбер, ради бога, где у тебя те деньги, за шелкопряда?
— Где ж им быть — дома… — сказала жена. И грустно улыбнувшись, добавила: — Никак совесть заела, решил в Ленинград везти?..
— Пшеницы куплю! — сказал Гариб. Вспомнил, как по-индюшачьи заливался смехом Кулу и изо всей силы пнул ногой дверь хлева.
— Господи! Да на что тебе пшеница?!
— Смолоть хочу и продать. Пусть попробуют, какой вкус у хлеба! Все зерно повезут!
* * *
Пшеницы было сорок мешков по шестьдесят килограммов каждый, и, въезжая в Бузбулак на машине дарыдагского колхоза, Гариб размышлял о том, как же все изменилось: такой стал дешевый хлеб. Он хоть и не пережил войны и настоящего голода не знал, но хорошо помнил время, когда с хлебом было туговато. А сейчас он за половину вырученных женой денег купил целый грузовик пшеницы. Грузовик!.. За каких-нибудь пятьсот рублей. А пшеница!.. Зерно к зерну, семенная. Если б поторговаться, и еще уступили бы — у них в Дарыдаге от позапрошлогодней амбары ломятся.
Считая, что сидеть на хлебе — грешно, Гариб пристроился на кабинке, зацепившись ступнями за доски борта. Машина уже подъезжала к Бузбулаку. «Ладно, поглядим сейчас… Узнаете, кто чего стоит!» Наклонившись к шоферу, Гариб попросил его медленней ехать мимо чайханы, уселся поудобнее и запел… Но до чайханы машина не дошла. Возле правления, прямо на пороге, подняв руку, стояли два человека: один был из госконтроля, другого Гариб не знал.
Гариб бросил взгляд на чайхану: у входа толпился народ, все глядели сюда, в его сторону…
Гариба посадили в другую машину, грузовик с зерном тоже отправили в район.
* * *
Дней через пять в бузбулакской клубе состоялся открытый суд. Но суд был только так, «для галочки». Потому что все это время дядя Мирали каждый день с утра уезжал в район, а к слову его прислушивались: как-никак трое сыновей на войне погибли… В Бузбулаке известно было каждое словечко, сказанное дядей Мирали в райкоме, в суде и госконтроле. Знали даже про завитушку, похожую на рыбью голову, которую (по причине малограмотности) поставил вместо подписи дядя Мирали, подтверждая, что берет Гариба на поруки…
При всем том клуб был полон (большинство, конечно, пришло на суд поразвлечься). Сусанбер тоже была здесь — сидела в уголке, пристроив по обе стороны ребятишек. Дядя Мирали то и дело ободряюще поглядывал на Гариба — не бойся, мол, все в порядке, сейчас выпустят. А Гариб время от времени бросал взгляд на Сусанбер и тихонько покачивал головой: он был уже в курсе дела.
После суда они с дядей Мирали вышли из клуба вместе. Погода была самая что ни на есть весенняя. За те дни, что Гариб отсутствовал, повсюду расцвели и абрикосы, и алыча.
Гариб шел, смотрел на цветущие деревья и думал: нет, не годится. Потому что, сидя в тюрьме, пришел к твердому убеждению: ничего нет на свете глупее, чем такая вот, не ко времени, весна; не начнись весна этот год так рано, ничего, может, и не случилось бы.
Сезон цветастых платьев
1
Оба окна в квартире Джанали-муаллима были распахнуты настежь, дверь на лестницу он тоже приоткрыл и лежал на кровати, от полного и абсолютного безделья давно уже ломал голову над одним в высшей степени нелепым вопросом.
Джанали-муаллим размышлял о том, почему в прежние годы лето в Баку было несравненно жарче? В чем дело? Только в том, что раньше у него не было отдельной квартиры? А может, еще какие-то причины?.. Ну, допустим, одна из причин заключается в том, что в те годы, когда у Джанали-муаллима не было этой однокомнатной квартиры, ему очень не сладко жилось. Пять лет института: тридцать-сорок рублей в месяц (триста-четыреста старыми). Два года аспирантуры — это уже, правда, семьдесят. Пятнадцать из этих семидесяти он ежемесячно посылал в Бузбулак — матери. Потом год «почасовик». В тот год Джанали-муаллим получал сто пять рублей в месяц, тридцать из них в деревню, что остается? Семьдесят пять рублей. А ведь, пожалуй, будь у него к семидесяти пяти рублям эта однокомнатная квартирка, все обстояло бы иначе, и мир представлялся бы ему в ином свете. Неужели это и впрямь может так сказываться на жаре?..
Вот таким образом размышлял Джанали-муаллим.
Была та пора, когда, выражаясь языком бузбулакцев, от жары «змеи блеют»; август, самая его середина, да и время самое жаркое — двенадцатый час дня. Что ж, возможно, это действительно не лишено смысла, потому что, если измерять жару только термометром, обливаться бы ему сейчас потом; когда он был на базаре, передавали в последних известиях сводку погоды; было сказано, что в Баку тридцать восемь градусов. Тридцать восемь!.. А где они, эти тридцать восемь? При тридцати восьми градусах у него, бывало, язык на плечо свешивался… Может быть, дело в том, что в прежние годы был слаб, несравненно менее вынослив и иначе реагировал на жару и холод?.. Вполне можно допустить… Можно допустить и такую вещь: какая-нибудь ерунда, мелочь испортит настроение, расстроишься, и наш прекрасный мир начинает тебе казаться адским пеклом: ну, например, зачем я поздоровался с этим субъектом, а он будто и не заметил? Или какой-то там декан сторговался с каким-то завмагом, чтоб им пусто было всем этим деканам и завмагам!.. И почему на базаре такие дорогие куры, как возможно, чтоб они столько стоили?!. Да еще Феттах с этой своей дурацкой машиной… Что ж, может быть, очень даже может быть; раздражение, возмущение, ненависть, а от ненависти и давление, и жара, и дышать нечем… — Одним словом, влияние субъективных факторов на объективные условия, — Джанали-муаллим улыбнулся. А что, может быть, подобные вещи и впрямь могут влиять на погоду?..
Джанали-муаллим лежал, удобно расположившись на кровати, и старался уяснить себе этот вопрос, неожиданно пришедший ему в голову (очень возможно, что он возник под влиянием сводки погоды, которую Джанали-муаллим прослушал на базаре), а в это самое время на кухне доваривалась курица, которую Джанали-муаллим купил сегодня утром на базаре. А в ванной комнате в это самое время по трубам, журча, лилась вода. И видно, какая-то часть его существа осталась там, в Бузбулаке, иначе зачем бы ему, прислушиваясь к журчанию воды в трубах, мысленно бродить вдоль арыков?.. Все арыки были у него сейчас перед глазами. По арыкам текла вода, но текла она вроде бы и в нем, потому что весь Бузбулак был сейчас в нем со всеми своими арыками; словно Джанали-муаллим и не человек вовсе, а одна только мечта, химера; родившись когда-то у бузбулакских арыков, мечта эта как бы снова вернулась туда, смешалась с водой арыков и текла, текла… Кто знает, может быть, летняя жара потому и казалась ему раньше сильнее, что жилось ему в те годы гораздо беспокойнее, чем теперь. Когда тебе позарез надо выбиться в люди, и когда в то же время ты день и ночь думаешь о том, что жизнь проходит, годы летят, а семьи нет. Когда из-за отсутствия рядом близкого человека тебя день и ночь палит пламя твоего одиночества… Возможно, вполне возможно… И теперь в тот же летний зной в том же самом солнечном Баку ему кажется прохладней именно потому, что жар того пламени стал несравненно меньше…
Джанали-муаллим лежал на кровати и думал. И в то же время мысль его витала вдоль бузбулакских арыков. И в то же время на кухне варилась курица, которую он купил утром на базаре. Тонкие, едва различимые тени ветвей стоящего перед его окном тополя лежали на противоположной стене комнаты. И красноватые жаркие отсветы солнца тоже лежали на стене.
А какой свет (боже, какой свет!) привиделся ему сегодня во сне?.. Утро… Солнце… Комната, пронизанная солнцем; оно лишь сейчас выглянуло из-за зеленых гор и, отразив в своем сверкающем зеркале весть о том, как чист и прекрасен мир, только что принесенную из далеких, но абсолютно надежных мест, ликуя, сообщает ее всему миру. На окнах комнаты легкие белые занавески. Стол покрыт белой скатертью, за столом дети в белых рубашечках: сын и дочка Джанали-муаллима. В том сне и жена его тоже была одета в белое, и лицо ее лучилось светом, похожим на свет того удивительного солнца…
Джанали-муаллим ощутил вдруг, что тот жар, то неугасимое пламя вновь начинает жечь его изнутри, и, видимо, именно поэтому и не смог додуматься, по какой причине в Баку было раньше несравненно более жарко.
Он решил не думать пока, вообще ни о чем не думать, — просто полежать, целиком отдаваясь блаженному ощущению, возникшему от чудесного сна, и, видимо, именно оно, это блаженное ощущение, немного погодя перенесло его совсем в другой мир, потому что кроме курицы, варившейся в кухне, солнечного света, смешавшегося с тенями листьев, и чудесного сна (сон этот снился ему часто — еще со студенческих лет) и феттаховой машины, на свете жила еще сказка. Сказку ему рассказывала когда-то его мать Махрух (странная это была сказка). И так случалось, что в то очень жаркое время (студенчество, аспирантура, почасовая работа) Джанали-муаллим ни разу не вспомнил ее. Но услышанная в детстве, сказка вдруг вновь явилась ему однажды (уже здесь, в собственной квартире) и с того времени все крутилась и крутилась в голове, не давая покоя… Джанали-муаллим пытался вспомнить ее целиком, но у него ничего не получалось; от всей сказки в голове удержались лишь две фразы, и он весьма туманно представлял себе общее ее содержание. Он не раз пытался рассеять этот туман и целиком восстановить в памяти сказку. Ему даже приходило в голову пойти в библиотеку, взять все изданные сборники сказок и посмотреть, есть ли такая. Джанали-муаллим неоднократно выходил с этой целью из дома, но каждый раз так и не попадал в библиотеку (видимо, она порядком осточертела ему за годы аспирантуры). Кроме того, кто знает, может быть, Джанали-муаллим даже боялся обнаружить эту сказку в одном из сборников; боялся, что отпечатанная типографским способом, сказка вдруг утеряет свою чистоту, и целомудрие. (Надо полагать, Джанали-муаллим имел некоторое представление о славных делах, творимых печатными машинами в благодатном воздухе типографий). И, наконец, весьма сомнительно, так ли уж он старался разрушить этот туман и представить себе сказку во всей ее ясности, потому что вряд ли получил бы от этого истинное удовольствие — мир, родившийся перед его глазами, когда ему впервые рассказали сказку, еще существовал, еще жил в нем. Все в этом мире ласкало глаз и радовало сердце: и яркость звезд, и напоенный ароматом воздух. И стоило Джанали-муаллиму вспомнить о сказке, прекрасный мир ее вновь возникал перед ним, в голове у него все путалось, тщетно пытаясь вспомнить сказку целиком, он без конца повторял две запавшие в память фразы:
«…Скажи, Дочь Портного, сколько рейхана на грядке?» «Скажи, Сын Падишаха, сколько на небе звезд?»
Вновь начав прокручивать в голове сказку, Джанали-муаллим поднялся с кровати и пошел в кухню взглянуть на курицу. В кухне солнца еще не было, но из окна виден был залитый солнцем двор. И следя за курицей, упревающей в кастрюле, Джанали-муаллим краем глаза видел и это солнце. Видел он краем глаза и Бузбулак; у матери его Махрух, сидевшей под этим самым солнцем, сейчас должно быть неплохое, хорошее должно быть настроение. На очаге варится обед, а сама она, наверное, присела меж грядок; сорвала немножко рейхана, лука, салата — придерживая рукой уголочек головного платка, она кладет туда зелень. Немного погодя мать возьмет горсть этой зелени и будет есть ее, перетирая лук, салат и рейхан двумя уцелевшими корешками передних зубов. Как бы продолжая разговор, который еще с утра завела сама с собой, Махрух обязательно будет говорить за едой, то тихо, то погромче, то вслух, то про себя… А когда от этой с превеликим трудом сжеванной зелени у нее заноют два ее корешка, Махрух рассердится и станет ругать сына — Джанали-муаллима: «Говорила дурню — женись! Не слушал, ишак упрямый!.. Намаешься теперь! Узнаешь, каково в такие-то годы самому белье стирать, обед варить…»
Поняв, что мать уже не на шутку рассердилась, Джанали-муаллим отвел взгляд от окна. И подумал, что надо съездить в деревню, обязательно надо съездить, хоть на денек — проведать мать и обратно. (В первый же год, как он получил квартиру, мать весной приехала к нему и целый месяц пробыла в городе. А уезжая, предъявила ультиматум: «Пока не приведешь в свой дом жену, ноги моей не будет в этом вашем Баку!»).
Чепуха, конечно, но как она тосковала «в этом вашем Баку!» И через сто лет не забыть! На Махрух больно было смотреть, особенно когда она, стоя у окна, глядела на улицу. Во-первых, потому, что, кроме трамваев, изредка громыхающих по рельсам, разглядывать на улице было абсолютно нечего. Во-вторых, трамваи, которые мать разглядывала в окошко, вероятно, напоминали ей поезда. А в-третьих, стоя у окна, мать наверняка видела не городскую улицу с трамвайной линией, а свой Бузбулак. И поезда, которые виделись ей, когда она глядела на проходящий по улице трамвай, мать все провожала туда — в Бузбулак. И если в ее улыбке, в движениях, в глубине ее глаз проглядывало вдруг оживление, Джанали-муаллим точно знал, сейчас она в Бузбулаке. В такие минуты он и сам видел Бузбулак ее глазами и понимал, что он действительно прекрасен, что только там и жить человеку… Бузбулак, который он видел глазами матери, был прекрасен еще и тем, что он просторен, очень просторен, нет ему ни конца, ни края. И древний он. И хлеб в нем пекут самый вкусный, и вода там самая чистая. Но дело даже не в воде и не в хлебе — в Бузбулаке, который он видел глазами матери, было полно людей. И глядя на дрожащие губы матери, когда та молча смотрела на трамвайную линию, Джанали-муаллим был уверен, что она ведет сейчас беседу с одним из своих многочисленных земляков. Впрочем, он прекрасно знал, что ту же беседу мать могла вести и с горой, и с вороной, и с курицей. Даже с рейханом на грядке.
«…Скажи, Дочь Портного, сколько рейхана на грядке?»
Грядка рейхана в сказке, начинающейся этим вопросом, лежала где-то под чистым, чистым небом, усыпанным бесчисленными звездами. Это прекрасное место (оно и похоже на Бузбулак и не похоже). Блаженный покой, прохлада, и в прохладном покое серебристые звезды струят на грядку рейхана такой чудный свет, что и рейхан сияет, как сияют звезды на небе. Когда Шахский Сын задает Дочери Портного свой вопрос, серебряные глаза звезд устремлены на грядку рейхана. Когда же Дочь Портного отвечает ему, цветы рейхана поднимают головки к звездам. Так однажды вечерней порой в прохладном мире звезд и рейхана и началась эта удивительная любовь. А сейчас был полдень, самая жара, и мать Джанали-муаллима Махруг, держа костлявыми пальцами только что сорванную зелень, не спеша перетирает ее двумя еще уцелевшими корешками зубов. В ветвях невысоких деревьев неумолчно стрекочут стрекозы. А синеватые тени высоких деревьев лежат на прокаленных солнцем тропках, и кажется, что от тропок этих исходит похожее на стрекот кузнечиков назойливое зуденье: «Здравствуй. Джанали-муаллим!.. Добро пожаловать, Джанали-муаллим! Когда ж ты с женой-то прибудешь, Джанали-муаллим?! Седеть уж начал, Джанали-муаллим!..». Болтливые жительницы Бузбулака свободно расхаживают по прокаленным солнцем тропинкам, а он, Джанали, ступает по ним осторожно, с оглядкой, и не потому, что горяча, очень горяча земля, а потому что когда человек в таких годах приезжает в Бузбулак один, он не имеет права по-хозяйски расхаживать по этим тропкам. Потому что, хоть и хорошо посидеть в этакую жару дома или в теми деревьев, вода в роднике не должна течь без пользы, а, значит, обязательно встретишь какую-нибудь с ведром или с кувшином: «Добро пожаловать, Джанали-муаллим!» — и опять тот же самый разговор. И так же громко, с таким же подъемом, — не только деревьям и камням — пивным бутылкам, которые Феттах, с утра пораньше отправившись на вокзал, привез на своих красных «Жигулях» (сейчас бутылки охлаждаются в воде у родника), станут известны эти печальные обстоятельства его биографии… Да, в Бузбулаке много кой-чего такого, и не случайно, размышляя об этом, Джанали-муаллим совсем забыл, что давно уже стоит у газовой плиты и держит в руке крышку от кастрюльки, в которой варится курица.
Джанали-муаллим накрыл кастрюлю и погасил газ. (Курица была готова, но до обеда оставалось еще порядочно времени). Сейчас половина двенадцатого, у них во дворе, в Бузбулаке, солнце еще не добралось до шелковицы. Значит, матери тоже еще не пора обедать. Когда солнце подберется к шелковице, Махруг примется за еду. А когда оно совсем уйдет с их двора, мать положит в ведро единственную испачканную тарелку, и медленно побредет к роднику, — убить время, а встретив у родника одну из самых красивых, самых ловких, самых чистоплотных молодух, хоть чем-нибудь досадит ей за то, что принадлежит не ее сыну, а другому мужчине, и, когда Махруг будет возвращаться оттуда, единственная ее тарелка будет слегка покачиваться в полном ведре… Но сейчас еще рано. Матери еще не пора к роднику. Солнце еще не добралось до шелковины…
Потом бузбулакское раскаленное солнце поднимется выше, встанет посреди неба, и тогда Феттах в пижамных полосатых штанах и белой безрукавке, с пустым ведром в руке спустится к роднику; сперва он опустит ведро в воду — пусть остынет (пока ведро остывает, он и сам малость охолонится, умывшись студеной водичкой), потом наполнит ведро, одну за другой вынет из воды бутылки, поставит в ведро и тронется в путь; пока Феттах не спеша нес домой тяжелое ведро, Джанали-муаллим созерцал голубоватые отсветы, что отбрасывает на желтые тропки Бузбулака зеленая листва. Он видел новые «Жигули», стоявшие в тени ореха возле одной из калиток, слышал радостные вопли мальчишек, бесновавшихся возле ярко-красной машины. Потом солнце ушло с бузбулакских улиц, померкла яркая желтизна дорог, улицы стали сероватыми, Джанали-муаллим увидел на площади, где собираются взрослые (невдалеке от машины, все еще облепленной мальчишками), окруженного толпой Феттаха и поразился — как все в этом мире продажно… Он молча прошел мимо односельчан, взявших в кольцо Феттаха, пробрался к реке и устроился на берегу в укромном уголке. В тот вечер в том укромном уголке Джанали-муаллим сначала сказал речке так: я кандидат наук, меня ценят, студенты одного из самых больших бакинских институтов клянутся моим именем. Потом Джанали-муаллим сказал: я получаю двести сорок пять рублей, у Феттаха зарплата сто пятнадцать (в этом месте Джанали-муаллим не преминул сообщить речке, что Феттах и живет-то в «нахалстрое»). Потом Джанали-муаллим будет настойчиво доказывать речным камням, что так больше продолжаться не может, что рано или поздно все в этом мире должно встать на свое место. И в самый интересный момент, когда Джанали-муаллим скажет о неминуемом торжестве справедливости, он, вскинув голову, увидит в небе луну, и его разговор с луной будет того же примерно содержания. А когда на бузбулакских улицах все затихнет, и Джанали-муаллим будет возвращаться домой из тайного своего убежища, до слуха его неожиданно донесется: «Прощай, Бузбулак, прощай!..» Услышав этот возглас, Джанали-муаллим вздрогнет, потому что голос вроде бы его, но в то же время и не его — голос мальчика лет семи…
Да, в тот последний раз Джанали-муаллим вернулся из Бузбулака именно в таком расположении духа. На этот раз он приезжал в деревню вовсе не для того, чтоб спастись от бакинской жары — или навестить мать, — в то лето Махрух сама гостила у него в Баку — Джанали-муаллим приехал туда, чтоб воочию убедиться в величии и прелести Бузбулака, которыми мать любовалась отсюда, из Баку. Но получилось так, что он и недели не смог выдержать в Бузбулаке. И вернувшись в этот огромный город, может быть, впервые в жизни с гордостью отворил дверь своей квартиры; вошел и, счастливый, вздохнул полной грудью. Вероятно, именно тогда он впервые по-настоящему ощутил, как ценны для него этот город и эта его квартира.
Джанали-муаллим радовался своей квартире, радовался и газовой плите, и водопроводу, и тому, что не нужно заботиться о дровах. Конечно, временами он тосковал по бузбулакской родниковой воде. Конечно, не мог забыть деревенскую печку, чуял даже аромат лапши, сваренной в этой печке… Подчас ногам его хотелось замерзнуть — чтоб только погреться у печки, порой и руки его теряли покой — тосковали по топору, по лопате, им тоже хотелось озябнуть, чтобы погреться у печки… Иногда Джанали-муаллиму даже приходило в голову, что именно в этом и заключен смысл жизни, что кроме этого, ничего собственно и не существует. Но Джанали-муаллим прекрасно понимал, что все это ерунда, прекраснодушные мечтания, такие же, как желание жениться на чистенькой хорошенькой деревенской девочке, только что окончившей десятилетку (в ее голосе — дыхание гор, в дыхании — аромат цветов), потому что, по мнению теперешнего Джанали-муаллима, сомнительно, чтоб такая девочка вообще существовала на свете, а если она и существует, то уж во всяком случае не в жизни, а в сказках, в песнях. (Правда, в жизни существовали песни, услышав которые, Джанали-муаллим начинал верить, что и в этом бренном мире существовала такая девушка.) Девушку эту унесли из его жизни годы, а он не заметил… «Унесли ее горные потоки, унесли сероглазую Сару…» На языке песни это можно выразить примерно так, но если говорить попросту без всяких там песен, можно смело сказать: Джанали-муаллим отнюдь не намерен был расставаться с городскими удобствами, чтобы ехать в Бузбулак и глотать дым, сидя у очага…
Итак, живет где-то семнадцатилетняя красавица (портрет ее аллах написал как бы специально для Джанали-муаллима, написал давно, очень давно, может, тогда, когда Джанали только обрел способность мыслить, может, тогда, когда впервые ощутил себя мужчиной — в тот самый день, в тот час. И хотя творчество господа бога на поприще изобразительных искусств, возможно, и не вполне удовлетворяет высоким требованиям, которые предъявляются сегодня к произведениям подобного рода, некоторый профессионализм исполнения все же чувствуется, потому что Джанали-муаллим уже много лет с негаснущим интересом созерцает этот портрет и, возможно, долго еще будет созерцать…). Кроме того, дымит очаг, Джанали-муаллим ловит носом его приятный запах. И, вернувшись из кухни и вновь растянувшись на кровати, думает о том, забудет ли со временем запах дыма, или же он, как эта девушка, сможет когда-нибудь напомнить вдруг о себе, сбить с толку, затуманить голову, запутать направленные в совершенно новое русло спокойные, ясные, не доставляющие мук представления об этом мире)… Джанали-муаллим думал и слушал песню — где-то включено было радио. Очень возможно, что именно благодаря этой песне и возникли в его воспоминаниях и дым очага, и портрет девушки, нарисованный самим господом богом. «Унесли ее горные потоки, унесли сероглазую Сару…»
Когда песня кончилась, Джанали-муаллим взглянул на часы — после половины двенадцатого прошло только пять минут. Время текло медленно, и по его медленному течению Джанали-муаллим определил, что стало еще жарче. Он встал, распахнул наружную дверь и хотел уже снова лечь, как вдруг услышал веселый девичий голосок: «Вас просят к телефону!»
Странно — кто может просить его к телефону? Кто может знать этот номер? (Джанали-муаллим и сам не знал, какой у соседа номер телефона). «А вдруг… — тихо произнес он, — вдру…» и когда он произнес это «вдруг», что-то тоненькое, как волосок, на миг вспыхнуло в нем, вспыхнуло и испепелилось… Джанали-муаллим шел к телефону, мысленно оплакивая мать. Но когда он, взяв трубку, жалобно произнес: «Да?», голос в телефонной трубке оказался совершенно не похожим на голос какого-нибудь бузбулакца, а услышав то, что говорил этот голос, Джанали-муаллим успокоился окончательно: его вызывали в институт на приемные экзамены. (Вон, как дело пошло!..) Голос был женский: в такой-то час, такая-то группа, такой-то предмет… Джанали-муаллим положил трубку и искоса взглянул на дочь своего соседа. На девушке было длинное цветастое платье — в начале этого лета такие вошли в моду в Баку; загадочно улыбаясь, соседка глядела ему прямо в лицо. Он тоже улыбнулся девушке, но поняв по ее глазам, что кроме них в квартире никого нет, счел неудобным оставаться здесь дольше. Вернувшись к себе, Джанали-муаллим остановился перед зеркальным шкафом, который в его комнате единственно мог считаться мебелью. Он глядел на свое отражение, но где-то в глубине зеркала видел длинное платье соседки, потому что мелкие ярко-красные цветочки на платье были ему удивительно знакомы. Впервые увидев девушку в этом платье, он чуть не целый день ломал голову, пытаясь вспомнить, какие же это цветы, и размышления Джанали-муаллима всякий раз заканчивались одним и тем же: он всерьез огорчался, что у него так слабеет память.
Сейчас Джанали-муаллиму совсем не хотелось огорчаться: шутка ли — впервые в жизни вызвали принимать вступительные экзамены. И оставив до поры до времени девушку, ее платье и красные цветочки где-то в глубине зеркала, он отошел от шкафа… Такая-то группа, такой-то час, такой-то предмет… — Что ж, сказал он, налаживаются наши дела, Джанали-муаллим! Потом, взглянув на трамвайные пути за окном, подумал, что если ехать к матери, то тянуть нечего, сразу ж взять и поехать, потому что в конце месяца достать билет в Бузбулак, а тем более выбраться оттуда будет почти немыслимо…
II
— Нет, милый, так не пойдет. Если рассуждать подобным образом, ты никогда не сможешь прийти к определенному выводу. Устанешь, измучаешься, в голове все перепутается и придется начинать сначала. С новой строки. С новой страницы. И так без конца. До самой смерти. До самой смерти не сумеешь понять, что же тебя терзает. Конечно, лучше всего было бы вообще выбросить из головы эти мысли. Но поскольку это у тебя не получается, по крайней мере, систематизируй их. Строй свои рассуждения так, чтоб прийти к определенному результату. Поставь перед собой конкретный вопрос, продумай его до конца. Ну вот, например, тебе кажется, что мир становится все хуже. Так? Если так, положи, как говорится, перед собой папаху и обмозгуй все спокойно. Подумай, только конкретно, что тебя не устраивает? Вспомни, в пятьдесят пятом, когда ты приехал в Баку, лучше было, чем теперь? Если лучше, то чем? Вместо сахара в магазинах давали леденцы. Из-за килограмма самого обычного масла люди чуть не убивали друг друга. Видел ты это? Да, собственными глазами. Почему же теперь, стоит тебе увидеть, как люди давятся в магазинах из-за импортного барахла, ты возмущаешься и теряешь самообладание? — В конце улицы мелькнула девушка в платье, похожем на платье соседки, Джанали-муаллим на секунду прервал свои размышления, однако не дал мыслям рассеяться. — Конечно, сказал он себе, — когда некоторое время спустя человек, надев это «импортное», выходит на улицу, чтоб продемонстрировать его, как новейшее выражение человеческого достоинства, утонченности и красоты, ты поражаешься. У тебя не умещается в голове: неужели это те самые люди, которые вчера, позавчера или час назад, давясь в очереди за «импортными» платьями или туфлями, проявляли наиновейшие формы человеческой низости, дикости, безобразия? И тебе кажется, что красивая девушка, что только что вышла из ЗАГСа с темноволосым парнем в черном костюме и в украшенной красными лентами машине едет к могиле 26 бакинских комиссаров, чтоб возложить цветы к монументу, когда-то в одной из таких вот очередей утеряла свое человеческое достоинство. И что темноволосый парень в черном свадебном костюме тоже в чем-то замешан, то ли обманул кого-то, то ли оболгал — совершил что-то недостойное. Тебе так кажется, Джанали-муаллим. И ты начинаешь сомневаться, что и теперешняя их любовь, и завтрашняя их семья, и дети, которые у них будут, и даже цветы, которые у них в руках — настоящее ли это? Возможно, ты преувеличиваешь. Но при всем при том думаешь ты так, так чувствуешь. Понял теперь, как полезно систематизировать свои мысли?
Джанали-муаллим от души порадовался тому, что так быстро сумел заставить себя мыслить систематически. До начала экзамена еще оставалось время, и он решил пройти одну остановку пешком. Но было жарко. Было ужасно жарко. Полуденное солнце пекло ему голову, от раскаленного асфальта струился горячий воздух. Жара мучила нестерпимо, не давала собраться с мыслями, но, несмотря на это, Джанали-муаллим по-прежнему старался мыслить систематически.
— Смотри, говорил он себе, — сколько с пятьдесят пятого года построено домов, сколько посажено деревьев!.. А бульвар? Его не узнать. Город изменился: разросся, похорошел. А что касается внешнего вида людей, тут просто, можно сказать, произошла революция. И не только в Баку. И в Бузбулаке. А сколько там за последние годы построено домов. Не сочтешь. Вот только Гюльали-муаллим, бедняга… С чего он вдруг помешался? В Бузбулаке говорят, от мыслей… Что ж, от мыслей запросто можно сойти с ума, но только какие же такие мысли могли у него быть? Помешался, угас потихоньку… Бедный Гюльали-муаллим!.. Какой был учитель! Где теперь такие учителя?.. Теперь вон Феттах, и тот в учителях ходит. Диплом имеет. Тьфу, господи — куда ж это меня опять кинуло?.. Значит, пятьдесят пятый год… Так… Вагон насквозь провонял арбузами. Прокисшим арбузным соком. Вагон изнывал от жажды. На каждой станции люди тащили и тащили арбузы, и не было конца ни арбузам, ни человеческой жажде, ни забитым арбузами станциям, от раскаленных платформ которых воняло горящей тряпкой… Вагон утопал в арбузном соку. Под ногами трещали арбузные семечки. Штаны липли к лавке от арбузного сока… И пот… запах пота… Запах кислых арбузов… Пятьдесят пятый год… Тринадцатый вагон… Бесплацкартный… Э, так нельзя, милый, так не пойдет, опять у тебя все путается…
Некоторое время Джанали-муаллим пытался собрать мысли, но у него ничего не получалось. Чудовищный зной вынудил его отказаться от своего намерения.
… «Скажи, Дочь Портного, сколько на небе звезд?..» Нет, про звезды она спрашивала. Она про звезды… Интересно, какому идиоту пришло в голову устраивать приемные экзамены в августе? А вот кто ввел моду на цветастые платья, должно быть, башковитый человек. Цветы в жару! На улице, в троллейбусе, в магазинах — повсюду. Глаз отдыхает. Вроде даже дышится легче… Интересно, «импортное» это или у нас тоже есть такие ткани?.. Все цветы, какие есть на свете — вся ботаника на куске материи! Ни единого цветика не забыли! Нет, милый, насчет этого ты не спорь: Бузбулак действительно прекрасное место… Хотя бы потому, что там есть все эти цветы… Минуточку, Джанали-муаллим, а у соседки на платье какие цветочки были? Не арбуза?… Цветок арбуза… Цветок арбуза… Нет, это не арбуз, у арбуза цветок желтый. Может, фасоли? У нее ведь разные цветочки: и белые, и розовые, и желтые… Нет, не фасоль. Какой же это все-таки цветок? — Джанали-муаллим вытер пот и сел в троллейбус. Сзади, возле дверей было свободное место, он осторожно опустился на сиденье. — Да, — сказал он, — надо быть великим мудрецом, чтоб в середине августа назначать экзамены. Такому памятник ставить надо. Монумент… — Джанали-муаллим внутренне усмехнулся. — Бессистемно мыслишь Джанали-муаллим, вот и допер до монумента… Ну, хорошо, а в Ашхабаде? В Ташкенте? В Душанбе?.. Что там сейчас делается!.. Утром передавали, в Ашхабаде сорок шесть… В Ашхабаде сорок шесть, в Москве двенадцать. В Риге, в Таллине, в Вильнюсе дожди… Зачем нужно, чтобы экзамены везде обязательно в августе? Да, в Прибалтике дожди, а в Бузбулаке, должно быть, небо чистое, чистое и все в звездах. Как там сказано: «Сколько звезд на небе?» Да, это спрашивает Дочь Портного. Не растерялась, не отступила перед шахским ублюдком. Ответила — дай бог всякому. А почему? Потому что Дочь Портного — самый что ни на есть народ. А ни в одной из существующих в мире сказок, ни один представитель народа никогда не терпит поражения. Он может быть лентяем. Неряхой. Даже плешивым. Но слабым, побежденным — никогда.
Джанали-муаллим, у которого снова все перепуталось в голове, первый раз в своей жизни ехал принимать вступительные экзамены в институте, где уже много лет преподавал, и внимательно разглядывал платье красивой девушки, стоявшей возле кассы спиной к нему. В руках у нее был экзаменационный лист, стало быть, ехала она по тому же делу: с экзамена, или на экзамен. Платье, если смотреть вблизи, было как бы из одного огромного подсолнуха. Удивительно этот подсолнух был немножко похож на солнце, и еще на море был похож. И молодой деревенский парень на противоположном конце троллейбуса так глядел на девушку, словно плавал в этом море, словно плескался в лучах этого солнца — он весь светился, этот парень. Джанали-муаллим не видел лица девушки, но экзаменационный лист она держала так, что фотография была сверху, у него перед глазами; на фотографии девушка была недурна, очень недурна, но по тому, как смотрел на нее парень, ясно было, что она гораздо красивее, чем на фотографии.
— Итак, почему же представители народа никогда не оказываются побежденными? Почему они всегда умны, сильны, осмотрительны? — Мысленно Джанали-муаллим уже экзаменовал стоящую рядом девушку, лица которой не видел. — Ответь, только не спеши, подумай, припомни все сказки, которые когда-нибудь слышала или читала. Не бойся, я тебе помогу… Не знаешь? Сказок не знаешь? Ни одной сказки? Не может этого быть! Бабушка у тебя есть? Бабушка, бабушка! Мать отца или матери. Или няня. Была няня и не рассказала тебе ни одной сказки? Такого не бывает! — Джанали-муаллим разнервничался, будто впрямь принимал экзамен. — Ну хорошо, этого ты не знаешь — оценка будет ниже. Но, может, ты скажешь мне, что такое сказка вообще? Да, сказка. Одна из самых распространенных форм устного народного творчества. А?.. Не знаешь… И этого не знаешь. Не знаешь, что такое сказка, и хочешь поступать на филологический. Ладно, отвечай по билету. Но…
Но это действительно была красивая девушка. Теперь она стояла перед задней дверцей троллейбуса в двух шагах от Джанали-муаллима. Девушка собиралась выходить, и свет в слегка обалдевших глазах парня, стоявшего на другом конце троллейбуса, постепенно мерк.
«Дочь Портного…» — да, земляк, она ушла. Ушла. Ну а раз ушла, что толку глядеть ей вслед? Садись, милый, и не горюй. Ответь-ка ты на мой вопрос. Скажи, почему в сказках представители простого народа никогда не проявляют слабости? Они — нет, а ты проявляешь. Очень даже. Иначе бы ты не пожирал ее глазами, не было бы у тебя этого обалдевшего взгляда. И девушка поняла бы, что ты настоящий парень, мужчина, что другого такого не найти. А теперь что она о тебе думает? Только одно: деревня. Она тебя, можно сказать, и за человека-то не считает. Ты же знаешь: сейчас деревенские девушки и то не хотят иметь дела с деревенскими — лучше меня знаешь. А насчет ответа на мой вопрос, извини, земляк, это тебе еще рано знать. Узнаешь, непременно узнаешь, если, конечно, не дурак. И поймешь, почему в сказках истинные представители народа никогда не терпят поражения… Если ты не дурак, ты когда-нибудь поймешь, что в той девице нет ни солнца, ни моря, ни подсолнуха — это всего лишь платье. Есть мясо, кости — плоть, но сказки нет. Нету. И тогда ты поймешь, что ты действительно деревня. Самая что ни на есть. И тебе станет стыдно за сегодняшнее. Но сейчас еще рано. Сейчас ты — одна сплошная сказка. Сейчас ты вполне мог бы побежать за такой даже на четвереньках… Но если, случись, тебе повезет и ты попадешь экзаменоваться ко мне, я за одно твое сердце, где еще живут сказки, поставлю тебе роскошную «пятерку». Чтобы ты хоть раз в жизни почувствовал, что «деревня» — это не так уж плохо… Что? Разве ты не выходишь? Ну, привет, земляк, я пошел…
III
Первый вопрос в первом билете был: «Изображение в азербайджанской советской литературе классовой борьбы в деревне в период коллективизации». Джанали-муаллим от нечего делать заглянул в другой билет. Потом положил его на место и стал украдкой следить за девушкой в цветастом платье, притаившейся на последней парте. Дело в том, что платье на ней было точь-в-точь из такой же материи, как у его соседки. Он приметил это платье еще в коридоре, до экзамена. И уже там, в коридоре его снова стали мучить эти чертовы цветы — что же это? II сейчас, во время экзамена проклятый вопрос по-прежнему не давал ему покоя. Арбуз так цветет? Или горох?.. Может, земляника!.. Постой, постой, а просо? Бывают у проса цветы? Нет, у проса цветов не бывает. Просо оно, как начинает поспевать, краснеет. Как семечки инжира… А конопля?.. Что? А, вы готовы? Пожалуйста…
Те, кто первыми вошли в аудиторию, один за другим подходили к столу. На смену им появлялись другие, тоже тянули билеты, готовились, отвечали, уходили. А та, на последней парте, все сидела. И как ни странно, Джанали-муаллима даже устраивало, что она все сидит. Во всяком случае он не собирался торопить девушку.
Значит, не просо. Но тогда что же? Они ведь не очень красные, темно-розовые, как цветок граната. Хотя нет, у граната цветы поярче… Постой, дорогой, ты не точно определяешь метафору. Не спеши, подумай, ты ведь знаешь, я вижу… Ну так как же, Джанали-муаллим, вспомнишь ты, что это за цветок за проклятый?.. А девка чего-то хитрит — как пить дать. Сидит, поглядывает воловьими своими глазами. Ну чего ты глядишь, чертовка? Знаешь, так выходи, отвечай, не знаешь, получай свою «двойку» и выкатывайся! Во-первых, я ведь не из тех, кто ставит пятерки за красивые глазки. (Если бы так, меня бы уж давно ввели в приемную комиссию.) Во-вторых, моя дорогая, в таких платьях на экзамен не ходят. В таком только на свидание идти. А в третьих… Третий вопрос пока оставьте, по второму еще мало сказали, там есть о чем говорить. Нет, нет, я абсолютно никуда не спешу. И вы не спешите. Не торопитесь, скажите все, что знаете. Так… Правильно… Кое в чем вы разбираетесь, «тройка» есть. А насчет «четверки», это зависит от следующего вопроса… Нет — к матери надо поехать, обязательно надо поехать… Вдруг, не приведи господи…
За экзаменационный стол уселась бойкая, речистая деревенская девушка и пошла сыпать словами. Джанали-муаллим не особенно вникал в суть, потому что точно знал: отличница. Он чувствовал это по голосу девушки, по тому, как она на него поглядывала. По значительности, с которой произносила каждую фразу. И странно, пока она говорила, он ни о чем не мог думать. Текст учебника был заучен девушкой до последней запятой, она метала слова, как дробь, дробь эта била ему точно по мозгам, и мозг отказывался работать. Он хотел было остановить абитуриентку, но та все сыпала, сыпала… Видно было, что она наслаждается своим ответом. Джанали-муаллим заглянул в ее экзаменационный лист: так и есть — две пятерки.
— Достаточно! — сказал он. — Довольно! — Джанали-муаллим вздрогнул от собственного голоса. Девушка замолкла в изумлении — она ничего не поняла. — Разрешите, я взгляну на ваш билет. Так… Значит, первый билет. Ясно… Переходите ко второму вопросу: «Сюжет»… Не так громко, чуть тише, пожалуйста. Да не строчи ты, как автомат!.. Побереги силы, пригодятся. Выйдешь на трибуну и от имени коллектива будешь говорить под бурные продолжительные аплодисменты… А не можешь ты привести пример какого-нибудь сюжета? Например, сказочного… А?.. «Скажи, Дочь Портного, сколько цветов на грядке рейхана?..» Есть такая сказка, может, слыхала? Нет? А, черт с тобой!.. Я знаю — тебе нельзя задавать такой вопрос. К ректору побежишь, скандал подымешь. Слезы лить будешь — с горошину: завалить хочет, сбивает, вопросы задает вне программы… И прочее и тому подобное… Объясняй потом вам, двум невеждам, что литература состоит не только из длиннющих сказок, составляющих глубокосодержательное творчество какого-то там Алигулу или Велигулу, что существуют еще на свете и настоящие сказки… Семь дней, семь недель, семь месяцев, семь лет подряд Шахский Сын каждый вечер выходил на веранду и задавал Дочери Портного свой вопрос, и умная Дочь Портного каждый раз давала ему один и тот же ответ. Сын Шаха вырос, стал взрослым юношей. Дочь Портного день ото дня становилась краше: увидит ее человек, рассудок теряет… Как говорится, всякому плоду с ветки падать, каждому цветку быть когда-нибудь сорванным. Но как ни старались люди, Шахский Сын не хотел жениться. И от портновых дверей сваты уходили ни с чем. И велел Шах призвать к нему сына своего и наследника. «Трон, говорит, твой, корона твоя… Весь мир покорен тебе: от Тебриза до Дербента с железными его воротами. Неужто не приглядел в цветнике подлунного мира какую-нибудь из роз? Неужели ни одна не полюбилась?» Понял Шахский Сын, что кроется за такими словами: «Знаю, говорит, отец, чего ты хочешь — открою тебе мой тайну… Близко ли, далеко ли яблонька стоит, яблочко на ней наливное, увидел я его и присох сердцем, разреши пойду да сорву?» Обрадовался шах: «Это дело, сынок!» Но как назвал ему сын имя портновой дочери, шаху даже нехорошо стало. Так ему стало плохо, милый ты мой, что в глазах потемнело. Видит шахский сын, что с отцом творится, бух ему в ноги. «Раз говорит, такое дело, дозволь я убью ее! Потом твоя воля: на ком прикажешь, на том и женюсь, а пока жива она, нет мне счастья». Следующее за этим место, самое интересное, Джанали-муаллим помнил в высшей степени туманно… Положение создалось безвыходное, пришлось Шаху дать сыну разрешение на убийство. Устроили свадьбу ему с Дочерью Портного, только не настоящую (настоящая потом должна быть — с дочкой везира). Обещал Шахский Сын, что как выпьет чашу ее крови, так и явится на настоящую свадьбу. Взял кинжал и пошел делать черное свое дело; но умница Дочь Портного разведала про злой умысел, не легла на свадебную постель, а сунула под атласное одеяло бурдюк с дошабом, а сама спряталась за занавеску. А Сын Шаха вспорол кинжалом бурдюк и давай пить, так пил, так, словно умирал от жажды; чашку за чашкой, чашку за чашкой — сколько он их испил, не счесть… И захмелел Шахский Сын от вареного виноградного сока, захмелел и забыл и про свадьбу, и про визирову дочь, и про свое обещание — стоял с кинжалом в руке над свадебной постелью и горючими слезами заливал атласное одеяло. Потом приставил он острие кинжала к своей груди и вдруг слышит знакомый голос: «Скажи, Шахский Сын, сколько на небе звезд?» И Дочь Портного с улыбкой на устах вышла к нему из-за занавески. Шахский Сын зарыдал и впал в беспамятство. Сколько он так пролежал, неизвестно, но в конце концов пришел в себя. И как это бывает в каждой сказке, свадьба была, пир был на весь мир, сорок дней и сорок ночей, а потом стали жить они в счастье и согласии. Джанали-муаллиму почему-то не правился такой конец. И не переставая внимательно слушать сменяющих друг друга абитуриентов, поглядывая на девушку в цветастом платье, до сих пор так и не поднявшуюся с места, Джанали-муаллим размышлял о том, что если бы Шахский Сын, так никогда и не протрезвев, ушел бы в пустыню и стал бы отшельником, любовь в этой необычной сказке казалась бы еще сильнее, глубже… «Сорок дней, сорок ночей праздновали во дворце свадьбу, но Шахский Сын так и не протрезвел. Напрасно визирова дочь, откидывая атласное одеяло, приоткрывала белоснежную грудь, Шахский Сын ничего не видел, ничего не слышал, ничего не понимал — он был пьян, пьян любовью. „Любовью надо переболеть, кто не испытал ее, не поймет…“ — кажется, это сказал Физули… „Чтобы привести Шахского Сына в себя, призвали к нему Дочь Портного. Но и тогда не протрезвел Шахский Сын и не узнал своей любимой…“ Нет, появление Дочери Портного — это уже слишком, это уже не сказка, а „Лейли и Меджнун“. Причем „Лейли и Меджнун“ не Низами, а Физули. Низами гораздо реалистичнее, он — педагог, а потому в его „Лейли и Меджнуне“ разум превыше страсти. Физули — другое дело… „Такая болезнь во мне — слаще сотни бальзамов…“ Низами в жизни не сказал бы подобного, уже потому, что психически здоров был как бык… К тому же реалист… Самый что ни на есть неисправимый реалист. Ага, значит, ты все-таки решилась, цветастая красотка? Садись. Давай твой билет, посмотрим, про что ты собираешься нам рассказать…
IV
Ужасно было не то, что цветастая девушка вместо билета протянула ему какую-то бумажку. Весь ужас был в том, что бумажка написана была его собственной — Джанали-муаллима — рукой. „Во-первых, пламенный привет славному сыну Бузбулака от его земляков! Во-вторых, да будет Вам известно, что подательницу сего зовут Диляра. По двум предметам она уже имеет „пятерки“. Теперь „пять“ с Вас, „три“ — с нас. Извини, Джанали, что не смог разыскать тебя до экзамена. Я тут рядом, за стенкой принимаю историю. От тебя требуется клочок бумажки — имя и фамилия экзаменатора. Напиши и отдай Диляре, она передаст мне. Слава великой советской литературе! Фети“.
Что ж, все ясно. Фети — это Феттах. В школе его так звали. В Бузбулаке его и теперь многие зовут Фети. Но почерк! Значит, он у Феттаха так и не изменился. С третьего по седьмой класс они сидели на одной парте. В третьем классе Фети еще не умел толком писать. В начале второй четверти директорша Зиянет Шекерек-кызы (чтоб тебя разорвало, ведьма!) — стала проводить в жизнь очередной новый принцип: „Передовые должны подтянуть отстающих. В Бузбулакской школе не должно быть неуспевающих“. Она перетасовала весь класс, пересадила всех с места на место, и в результате бедняга Джанали оказался за одной партой с Феттахом. С этого дня Фети списывал у него все: и контрольные, и диктанты, и домашние задания. Когда они были в четвертом классе, Джанали вдруг обнаружил, что почерк у Фети точь-в-точь, как у него. Позднее это заметил и учитель Гюльали-муаллим, и немедленно отсадил Фети, но, к сожалению, было поздно. Когда Гюльали-муаллим отсадил Фети, они учились уже в седьмом классе, и Джанали ничего другого не оставалось, как только изменить свой почерк. Он попробовал это сделать, но безуспешно. Потом бросил думать, забыл. Зато долго не мог забыть чуреки и пендир, которые притаскивал ему из дома Фети в расчет за списанные задания… Отец Фети был тогда кладовщиком. А председателем колхоза был Али-оглы Семендар. А, черт подери, вспомнил! Допер все-таки Джанали-муаллим! Горицвет! Горицвет, черт его подери!
Довольный тем, что вспомнил, наконец, какой это цветок, Джанали-муаллим забыл даже, что держит в руках не экзаменационный билет, а бумажку. С чувством огромного облегчения он спокойно, с явным удовольствием смотрел на цветастое платье девушки. Потом перевел взгляд на ее лицо и только тут вспомнил, что держит в руках не билет, а записку Феттаха.
— Так… „Пять“ с Вас, „три“ с нас… „Пять“ — это пятерка, ясно, а „три“? Может, он хочет сказать, что если я устрою это дело, цена мне будет „тройка“?.. Но почему? Какая-то здесь загвоздка… „Тройка“.. Тьфу, черт подери!.. Вот что, девушка, идите-ка, подумайте еще. Я вижу, вы не готовы.
Джанали-муаллим и сам не мог понять, зачем собственно посадил ее обратно на место. Вероятно, потому, что не знал, как поступить. Время хотел выиграть. Но когда девушка снова села на последнюю парту, Джанали-муаллим понял, что поступил правильно. Что в создавшемся положении это единственно верное решение: не привлекать ничьего внимания, не нарушать нормальный ход экзаменов. Будто ничего не случилось. Будто не было никакой записки. Так-то оно так, но готовившиеся отвечать ребята, кажется, заметили что-то. Это уже плохо. Это уже никуда не годится. Чтобы такие ребята хоть на минуту сочли его жуликом — это было Джанали-муаллиму в высшей степени неприятно.
За стол сел парень, он был очень бледен. Джанали-муаллим улыбнулся ему, улыбнулся, чтобы подбодрить — не бойся, мол — и еще чтобы эта, на последней парте, Диляра или как ее там, не думала, что Джанали-муаллим взволнован, в панике. Пусть не надеется, что эта бумажонка вывела его из равновесия.
„Пять“ с Вас, „три“ с нас… Да… А у тебя явные способности, парень… — Хороший язык. Говоришь свободно, своими словами… Хорошо… Так и давай… Когда парень, успокоившись, „взял разгон“, Джанали-муаллим снова скосил глаза на девушку; точно, горицвет! И подумал, есть ли это слово в литературном языке, потому что слышал он его только в Бузбулаке, в то время, когда председательствовал там Али-оглы Семендар. Отец Феттаха Керим был тогда кладовщиком в колхозе… Большое поле пшеницы, и посреди этого поля, где только-только заколосилась пшеница — мальчик по имени Джанали. Председатель колхоза Али-оглы Семендар шагал по пояс в пшенице, наклонялся, с корнем вырывал пышно разросшиеся кустики горицвета, в ярости отбрасывал их, и на чем свет стоит крыл кладовщика Керима: „Сукин ты сын, мать твою… Такая у тебя, значит, семенная пшеница?! Ну, мерзавец! Ну, сукин сын! Хлеб сгубить!.. А ведь как распинался!.. Как клялся!.. Чтоб в семенной пшенице столько сора!.. Мать твою?!.. Сестру твою… дочь твою толстозадую…“ Самое ужасное было то, что, один за другим вырывая кустики горицвета и на чем свет стоит честя кладовщика, председатель шел прямо на Джанали. Мальчик хотел бежать, но ноги вдруг стали ватными. И руки сразу отсохли. Если бы у Джанали не отсохли руки, он хоть бы сунул его за пазуху — мешочек с пшеницей — там и была-то горстка… Сначала Джанали увидел лицо председателя, серое-серое, потом пучок горицвета в его руке. А потом Джанали, наверное, уже ничего не видел, потому что в то, что случилось потом, немыслимо было поверить: председатель Али-оглы Семендар вдруг повернулся, словно заметил змею, и молча, даже перестав ругаться, медленно пошел прочь… Али-оглы Семендар застал среди только что заколосившейся пшеницы вора и ушел… Председатель Али-оглы Семендар!.. Может, он не заметил Джанали? Может, ему и впрямь попала под ноги змея? А может, это просто был сон? Обыкновенный сон… Когда председатель ушел, Джанали долго еще сидел среди пшеницы. Потом хотел опростать мешочек, — рука не поднялась высыпать пшеницу на землю. Он доверху наполнил его, карманы тоже набил зерном. В тот день они с матерью долго вышелушевывали зернышки, немножко поклевали так, а остальную пшеницу пожарили на сковородке, посыпали солью и съели. Назавтра стало известно» что в правлении составлен список: семенную пшеницу, что осталась от сева, будут раздавать семьям фронтовиков — по полпуда на семью. Когда, получив эти полпуда, Джанали нес зерно на мельницу и тут лицом к лицу встретился с председателем, он остановился, снял с плеча мешок и положил его на камень, чтобы вежливо поздороваться с председателем. Джанали думал, что тот ответит и пройдет мимо. Но председатель не прошел мимо. Али-оглы Семендар взял в руку мешок, прикинул на весу, словно хотел убедиться, будет ли тут полпуда, потом развязал и стал неспеша перерывать пшеницу. Джанали увидел, что в пшенице действительно полно семян горицвета. Плоские, похожие на чечевицу, только поменьше. Вообще-то горицвет — не плохо. В пшенице он обязательно должен быть — от него хлеб вкусней. Но горицвета должно быть в меру. Если его слишком много, тесто не подойдет. И хлеб получается невкусный, и цвет не тот, — во всяком случае, в те, хлебные еще времена, в Бузбулаке многие так говорили… У Джанали бешено колотилось сердце, — он боялся, что Али-оглы Семендар припомнит ему тот случай. Но ни тогда, ни после председатель ни словом не обмолвился про тот случай. Будто ничего не было. Будто быть не могло… Да и правда: Али-оглы Семендар средь бела дня застал в колхозной пшенице вора и, не избив, даже не отругав его, молча повернулся и ушел — такого действительно не могло быть.
И все-таки было, милый. Было. И такое бывает на свете. С горицветом дело обстояло именно так. Он и теперь еще небось растет в Бузбулаке. Впрочем, нет, не должно, потому что горицвет рос только средь сортовой бузбулакской пшеницы, а в Бузбулаке она давно перевелась. Нерадивость колхозников, щедрость колхозных руководителей… Одно, другое, третье… Кроме того, ты же знаешь, там, где Керим, чистого семени не жди. Думал ты когда-нибудь, что за штука чистое семя? Это сложно, милый, очень сложно. Целая наука. Философия. Не хлебом единым… «Спросил огурец у чинара: скажи, братец, что мне делать, чтоб стать таким же высоким?» Чинар отвечает: «Не станешь, потому что для живота растешь». Как сказано, а, — «для живота растешь»!.. Да будет земля тебе пухом, Гюльали-муаллим!.. Уж на что могуч был председатель Али-оглы Семендар, и тот не смог сохранить чистоту семян. Сейчас-то его в Бузбулаке ни в грош не ставят (это раньше ценили там настоящих мужчин). Есть у дяди Семендара пара ульев, пяток кур, — голодный не сидит. Сейчас он окапывает во дворе деревья, закладывает корм в ульи. Когда дядя Семендар достает в мае первый мед — он наверняка угощает и Керима — сосед. В Бузбулаке с незапамятных времен такой порядок: корова отелилась, несут молозива, барана зарезали — мяса, мед достают — медку: соседу обязательно выделяется доля. Угостить-то он Керима угостит, но и посмеяться случая не упустит. Старый ты, скажет, пройдоха; а не будет поблизости баб с ребятишками, покрепче чего сказануть может. Только проку-то? Не трогают Керима всякие такие высказывания, потому что прекрасно знает: будешь вникать в подобные вещи, колхозная птицеферма ни гроша дохода не даст. Где у него время вникать в слова какого-то Семендара? Он же к курам приставлен, они, проклятые, привычку взяли — черт-те где несутся. Курятник знать не хотят, кладут яйца где какой любо. Да ведь еще что удумали, подлые: несется, так хоть бы разок кудахтнула!.. Поди узнай, где она яйцо положила? Если во всякие там насмешки вникать, кто яйца по кустам искать будет? Глаза-то уже не те. Пока он по кустам рыщет, ребятишки все до единого повытаскают. Выполни тогда план! Потому и приходится: берешь свои деньги да и в Баку, в магазин! Сколько Керим из Баку перевозил корзин с яйцами, никто точно сказать не может. Цена же зависит от сезона. Зимой яйца идут по рублю за десяток, весной, перед Новрузом Керим берет рубль за пяток. И летом не спускает цену — летом в Бузбулаке приезжих полным полно… Да, Джанали-муаллим, ты полагал, что Феттах там в Бузбулаке, а он, выходит, здесь. Здесь, сукин сын!.. «Пять» с Вас, «три» с нас. «Три…» А-а-а, дошло!.. Деньги! Точно — три сотни! Уж если этот собачий сын мне триста положил, значит, себе никак не меньше. Так… «Пятерка» — шестьсот рублей. Три «пятерки» — тысяча восемьсот… Хорошие цены. Цена науки. Цена института… Цена нации. Тьфу, господи! Опять все в голове перепуталось — нация-то при чем?.. Нация здесь абсолютно ни при чем. Нацию ты оставь в покое, Джанали-муаллим! Так, ну что ж, иди сюда, милая. Посмотрим, чего ты стоишь?..
Кажется, девушка встревожилась — у нее вдруг изменилось лицо.
— По какому билету будете отвечать, дорогая моя?
— Ой, что ж вы меня так называете?..
— Хорошо, не буду. По какому билету будете отвечать, Диляра-ханум?
Ясно. Хочешь сказать, что ты еще девица. Девушка. Невинная, чистая, доверчивая девушка. Возможно. У меня нет оснований сомневаться в твоей невинности. У меня к тебе один-единственный вопрос: что такое наш мир?
— Что вы говорите?
— Я спрашиваю: что есть наш мир?
Наконец-то бедняжка поняла: свой человек. И сразу перестала смущаться. Волнение, неуверенность, робость исчезли мгновенно.
— Очень трудный вопрос, товарищ преподаватель, — кокетливо сказала девушка.
— Можете вы ответить или нет?
— Могу. Папа говорит: наш мир — гнилой фундук… А мама… Забыла… Мама как-то интересно говорила…
Сперва Джанали-муаллим аккуратно сложил записку Феттаха и на глазах у девушки положил ее в карман рубашки. Потом вывел в экзаменационном листе аккуратную «двойку».
Джанали-муаллим ждал, что девушка переполошится, зарыдает, поднимет скандал. Но она не закричала, не заплакала — поднялась и молча пошла к двери. В дверях обернулась, взглянула на него. Без единого слова. Девушка ушла, но экзамен не кончился, и хотя в аудитории сидело еще пять человек, стол перед Джанали-муаллимом долго оставался пустым. Он никого не вызывал. И никто из сидевших в аудитории не спешил к экзаменационному столу. Некоторое время Джанали-муаллим молча смотрел на этих пятерых. И они, эти пятеро, тоже не отрывали от него глаз. Джанали-муаллим видел в их глазах уважение, любовь, восхищение, и вспомнил Гюлбали-муаллима. Необычная пауза кончилась, экзамен пошел своим чередом, а Джанали-муаллим слушал ответы абитуриентов и видел перед собой Гюльали-муаллима.
«…наш мир… Мир — это твои глаза. А что такое глаз человеческий? Светильник разума. А разум? Разум то, что отличает человека — высшее творение природы — от остального животного мира… Зачем бог дал глаза животным? Чтобы те могла насытить брюхо. А человеку? Чтобы созерцать, видеть мир… Так что же нужно человеку, чтоб видеть мир? Скажи, Фети! Подумай, подумай! Пошевели ленивыми мозгами! Ну, что молчишь? Чего таращишь глаза? Я — что, зря сотрясаю воздух?! Ну объясни Фети: чем ты отличаешься от животного? Есть между вами разница? А если нет, возникнет ли она когда-нибудь? „Огурец сказал: братец чинар…“ Эх, Гюльали-муаллим, да будет земля тебе пухом, ты хорошо умел сказать об этом. „Наша земля, наш мир из камня, не из мяса, но если на него без конца плевать, он станет смердящей падалью!“ Гюльали-муаллим часто повторял это. Кто-то где-то произнес речь, — миру в лицо плюнул. Книгу вчера прочел — известный поэт, а наплевал человек миру в лицо. Гюльали-муаллим говорил так, когда обнаружил опечатку в учебнике, и когда сапожник Аллахверди наспех латал его видавшие виды ботинки. И когда, отвечая у доски, ученик начинал кружить вокруг да около, Гюльали-муаллим говорил: „Давай-ка, верблюд, кончай плеваться! Я тебя урок отвечать вызвал“. Слова Гюльали-муаллима стали бузбулакским фольклором, вошли в поговорку. Ребятишки повторяли их в шутку, но ты не шутил, Гюльали-муаллим. Ты прекрасно понимал этот мир. Насквозь его видел… Весь наш огромный мир. Да так ли уж он велик, этот мир? Как может он быть велик, если какой-то поганый грипп вчера начался в Гонконге, а сегодня уже в Баку. Из Баку перекинулся в Москву, оттуда в Прагу, в Париж, в Мадрид, в Лиссабон… Нет, не так уж велик наш мир. И если все время плевать на него, его и впрямь можно превратить в падаль. А что тогда будет? А тогда будет то, что нельзя станет жить на свете. Тебе. Мне. Али. Ивану. Гансу. Джону… Одни феттахи смогут существовать в мире. Погаснет светильник разума. Людей нельзя будет отличить от животных. Исчезнет чистое семя. А потом? Что будет потом? Потом мир действительно превратится в гнилой фундук. Фундук!.. „Пять“ с Вас, „три“ с нас». Нет, извести надо Феттахову породу! Стереть с лица земли. Трудно? Конечно, трудно. А легко в такую жару сдавать экзамены? Парню вон как достается… Так, какой у нас вопрос?..
Джанали-муаллим громко и внятно прочел стоявший в билете вопрос. Потом не спеша стал объяснять суть его сидевшему перед ним абитуриенту. И одновременно думал, что сразу же после экзамена надо поехать на вокзал и за неделю вперед взять билет в Бузбулак. Только непременно в мягком, потому что в это время года изо всех остальных вагонов и теперь, наверное, несет прокисшими арбузами…
Сказка о хрустальной пепельнице
I
Снилось Мирзе Манафу, что едет он в каком-то странном троллейбусе; желтовато-розовый, немножко похожий на бакинский фуникулер, троллейбус этот идет вдоль арыка к речке, шурша по зеленой траве, и ехать в нем — одно сплошное удовольствие. Удовольствие заключается уже в том, что хотя Мирза Манаф спит, он на сто процентов уверен, что все происходящее — сон, что троллейбус этот ему только снится, а потому, хотя склон крутой, нет ни малейшей опасности свалиться в речку… А если даже и свалится? Все вокруг невесомое, воздушное: и речка, и склон, и троллейбус… Сновидение это доставляло Мирзе редкостное наслаждение, и он не спешил открывать глаза, с точностью до минуты ощущая, который теперь час. Мирза Манаф не боялся, что опоздает на работу; он и во сне прекрасно понимал, что время здесь совсем не то, что там, и что пока большая стрелка на стенных часах переползет на одно деление, он может вдоволь насладиться поездкой в чудо-троллейбусе, скользящем вдоль бузбулакского арыка.
Не переставая блаженствовать, Мирза Манаф постепенно начинал переходить от сна к действительности, и по мере того, как он переходил от сна к действительности, пейзаж перед его глазами постепенно менялся. Видимо, Мирза Манаф начинал видеть возникавшие перед ним предметы в их истинном, так сказать, обличье: арык, который он только что созерцал, оставался на месте, и река оставалась на месте, но трава по берегам арыка была уже не той высоты, и вода в реке была совсем не тон прозрачности; мало того, пока Мирза Манаф переходил от спа к яви, арык все больше и больше отдалялся от речки, меж ними образовалась глубокая пропасть, и Мирза Манаф, полуспящий, полубодрствующий, стоял на краю этой пропасти, глядел на речку и думал о том, как все-таки удачно получилось, что он не высунулся в окошко зачерпнуть пригоршню воды; потому что все время, пока он блаженствовал в этом скользящем по изумрудной траве неземном троллейбусе, им владело только одно желание — протянуть руку и зачерпнуть из речки воды, а если бы он — не дай бог — допустил подобную оплошность, ему бы уж никогда не подняться с этой постели, чтоб, приглушив несколькими стаканами крепкого чая бушующий в желудке огонь, вызванный вчерашней долмой с чесноком, сесть в восьмой троллейбус и с легкой душой поехать на службу…
Мирза Манаф окончательно проснулся я открыл глаза; арык и зеленый склон уже исчезли из поля его зрения. Но река текла, и на сбегающих к реке огородах пламенели огромные оранжево-красные тыквы, являя собой чудесное, ласкающее глаз зрелище.
Проснувшись в таком превосходном настроении, Мирза Манаф счел нужным развеселить жену, чего и достиг веселой шуткой. Выйдя затем в коридор и увидев, что кувшин, наполненный теплой водой, уже ожидает его на обычном месте возле уборной, Мирза Манаф ощутил в душе настоятельную потребность дополнительно сказать жене что-нибудь приятное и легко нашел такое слово, и сказал, но даже и этим не удовлетворился; покончив с кувшином и умывшись, он торжественно провозгласил с другого конца коридора: «Ничего, жена, подожди! Вот пойду на пенсию, увидишь, какую я тебе жизнь устрою!»
И тем не менее про сон свой Мирза жене не сказал, так как сон этот связан был с Бузбулаком, а в оценке точки земного шара, именуемой Бузбулаком, у Мирзы Манафа и Бике-ханум имелись некоторые расхождения. Во-первых, Бике-ханум никогда не видела того Бузбулака, который привиделся нынче ее мужу. Только раз в жизни побывала она в деревне, да и то на редкость неудачно — в тот год в Бузбулаке кишмя кишели комары. Сначала комары лишили Бике-ханум сна, потом у нее пропал аппетит, а потом у бедной женщины начался от этих комаров такой зуд, что, даже вернувшись в Баку, она ровно полмесяца тем только и была занята, что чесалась. (Прошло уже восемь лет, но до сих пор, стоит только упомянуть о Бузбулаке, у Бике-ханум немедленно начинает зудеть все тело…) Вот поэтому, а еще потому, что сегодня он отнюдь не расположен был выслушивать критические замечания в адрес Бузбулака, Мирза Манаф и умолчал про свой сон; напился чаю, положил в портфель завтрак, попрощался с женой, вышел из дому и лишь теперь, направляясь к троллейбусной остановке, медленно произнес: «Слава тебе, господи, наконец-то и в Бузбулаке довелось увидеть троллейбус…»
Мирза Манаф уехал из Бузбулака без малого сорок лет назад и, если не считать того комариного лета, всего раз побывал в родной деревне. Приехал и через пять дней отбыл обратно, дав себе зарок никогда больше сюда не приезжать. На этот раз не комары были повинны в столь спешном его отъезде; аллах — свидетель: в то лето в Бузбулаке не было ни единого комарика… Просто бузбулакские мальчишки над ним малость пошутили, а Мирза Манаф всерьез разобиделся на них. А потом разве можно сказать наверняка; может, мальчишки ему насолили, может, была другая какая-нибудь причина, а может статься, что все объяснялось утонченностью, отличавшей необыкновенно вкусные нити, душбере и долму, которые готовила Бике-ханум и которых Мирза Манаф не желал лишаться надолго. Не исключено также, что Мирзе Манафу просто-напросто надоело с утра до вечера валяться в сухом арыке под ивой. Во всяком случае, когда озорники мальчишки открыли водосток и вода хлынула в арык, где дремал под ивой Мирза Манаф, он, очнувшись от сна в холодной воде, раз навсегда дал себе зарок не приезжать в Бузбулак. Мирза Манаф был так разгневан проделкой бузбулакских сопляков, что по возвращении в Баку собрал всю свою семью и провел нечто вроде митинга. На этом митинге Мирза Манаф так обоснованно, так аргументированно критиковал Бузбулак, который столько лет подряд столь же усиленно расхваливал, что его чада и домочадцы делали невероятные усилия не расхохотаться; дело дошло даже до того, что Бике-ханум вместо того, чтоб начать чесаться, что случалось с ней всякий раз при упоминании о Бузбулаке, стала вдруг громко и очень ненатурально кашлять — только б не рассмеяться.
* * *
В троллейбусе, удобно расположившись на сиденье, уступленном ему каким-то юнцом, Мирза Манаф положил на колени свой заслуженный, видавший виды портфель и стал размышлять о том, что, пожалуй, не стоило ему так поносить Бузбулак при детях. Потому что не вредно было бы хоть разок свозить их туда: а вдруг да понравится? Вдруг сын или один из зятьев возьмется отремонтировать старый дедовский дом, приведет в порядок сад, огород, и на лето можно будет возить в деревню детишек? Впрочем, Мирза Манаф сразу же отказался от этой мысли — вспомнил, что еще до того, как разругать Бузбулак, он не раз заводил дома этот разговор и, установив, что мечта его несбыточная, успокоился на этот счет. Успокоившись, Мирза Манаф стал обдумывать будущую свою жизнь и, обдумывая будущую свою жизнь, пришел к выводу, что у него есть все условия, чтобы спокойно прожить оставшиеся дни: квартира хорошая, ванна, балкон — да и пенсия не намного меньше зарплаты. «Дочери у тебя замужем. Сын женат. У всех квартиры… Самое время на пенсию идти. Иди себе на пенсию и живи помаленечку да полегонечку… Чего тебе еще нужно на этом свете?»
Мирза Манаф мысленно уже заканчивал эту тираду, как вдруг осекся и настроение у него резко переменилось, потому что он нисколько не сомневался, что директор их, Курбан Атабалаевич Казмамедли — сволочь из сволочей, и одному богу известно, как жаждал Мирза Манаф до ухода на пенсию увидеть Казмамедли вылетевшим из своего кресла. Правда, в последнее время распространялись упорные слухи о его смещении, но когда еще это будет, а до пенсии какой-нибудь месяц, и потому всякий раз, задав себе вопрос: «Чего же тебе еще нужно?», Мирза Манаф непременно застревал на этом месте. Проклятый вопрос и сейчас заставил Мирзу Манафа глубоко вздохнуть, и он, в который раз запретив себе задаваться этим вопросом, постарался сразу же выбросить Казмамедли из головы, потому что троллейбус уже приближался к месту его работы и Мирзу Манафа отнюдь не радовала перспектива явиться на службу с таким настроением.
Мирза Манаф был человек тихий, скромный, эти его качества можно было определить даже по портфелю. Да что портфель, если бы Мирза Манаф не был поистине скромным человеком, он не называл бы свою превосходную профессию «бумагомаранием», а свое прекрасное учреждение — «бумагомарательной конторой». «Где работаешь, Мирза Манаф?» — «В бумагомарательной конторе». — «Какая у тебя работа, Мирза Манаф?» — «Пером себе могилу рою». Есть выражение «иглой рыть могилу» — оно известно любому образованному товарищу, а вот выражение «пером могилу рыть» обязано своим рождением единственно скромности Мирзы Манафа.
Выбросить из головы Казмамедли Мирзе Манафу не очень-то удалось, но, как ни странно, на этот раз он не побоялся явиться на службу с подобными мыслями. «А что он мне может сделать? Пенсию уменьшить? С работы прогнать?» И Мирза Манаф стал решительно подниматься по лестнице. Правда, до самого верха он все же не поднялся. Прошел два пролета и остановился. «От этого мерзавца всего можно ожидать!» — сказал себе Мирза Манаф и, именно в этот момент вспомнив, что забыл купить газеты, стал спускаться вниз — к киоску.
* * *
— Привет, Мирза!
— Доброе утро, Мирза!
— Как дела, Мирза?
— И что это ты, Мирза, день ото дня моложе?
— Ну ты прямо огурчик, Мирза! Нисколечко не стареешь!
Так начался и сегодняшний рабочий день, и этим торжественная его часть завершилась. Теперь, если все будет спокойно, Мирза Манаф разложит перед собой газеты и будет почитывать их; время от времени он будет заваривать себе чайку, время от времени мечтать, строя планы будущей своей жизни на пенсии. Да, пером рыть себе могилу Мирза Манаф больше не станет, тридцатилетняя его деятельность на этом поприще окончена. До пенсии остался один месяц, какой дурак станет спрашивать с него работу. Он уже, можно сказать, был гостем в этом доме, — вот-вот в путь тронется. Естественно, что новой работы ему не поручали; в учреждении, где Мирза Манаф проработал тридцать лет, за ним числились теперь всего две папки, причем одна из них превратилась для него в источник совершенно новых и очень приятных ощущений. Если Мирзе Манафу захочется испытать удовольствие, он достанет папку из стола и займется этим непривычным делом. Сначала он прочтет название рукописи: «Письмо моей маме». «Письмо, — скажет Мирза Манаф, — письмо… Ну что ж, неплохо, пусть будет письмо…» Потом Мирза Манаф взглянет на имя автора: «Гелентар Шахин… Шахин… Буревестник — ишь ты!.. Потише летай, сынок, потише!..» Затем он прочитает начало, несколько фраз на самой первой странице, аккуратно подчеркнутые его собстственной рукой. Прочитав эти несколько фраз, Мирза Манаф встает — он в этом месте почему-то всякий раз встает, чтоб заварить чайку покрепче, и, заваривая чай, с удовольствием будет бормотать себе под нос слова, которые уже заучил наизусть. «У меня ревматизм, мама, иногда кости ноют — сил нет… Это от той сырости, что у нас дома, и оттого, что в Баку очень влажно… И от твоих слез, мама…»
В этом месте нашего повествования непременно следует отметить, что, помимо скромности, Мирзе Манафу не в меньшей степени присущи были исполнительность и аккуратность. Если ему поручали новую работу, он никогда не мариновал рукопись в столе. Сказанное относится к двум последним папкам, лежавшим сейчас у него в столе, причем судьба одной из них была уже, можно сказать, решена. Рукопись была просмотрена почти до середины; где следовало стоять галочкам, Мирза Манаф поставил галочки, где необходим был вопрос — стоял вопрос; на нескольких страницах он даже, по всегдашней своей привычке, сделал пометки арабскими буквами, что является лишним доказательством его (то есть Мирзы Манафа) ответственного отношения к делу; тому же, что другая рукопись, подписанная «Гелентар Шахин», превратилась для Мирзы Манафа в источник нового, неведомого ему раннее удовольствия, есть, вероятно, своя причина, но это что-то уж очень сложное, и не исключено, что даже самому Мирзе Манафу было не очень ясно, чего ради застрял он на этих нескольких фразах про сырость и про кости. Возможно также, что Мирза Манаф уже с первой страницы понял, что парень, принесший рукопись, не из настырных и за рукописью придет не скоро, — тут можно быть совершенно спокойным, а потому считал, что для спешки нет никаких оснований. Очень может быть, что Мирза Манаф пришел к выводу, что в этих фразах что-то есть, может быть, даже, они напомнили ему, что и сам он когда-то пописывал… «Манаф Маариф, „Утро Бузбулака…“» Потише летай, сынок, потише!.. А может быть, причиной того, что Мирза Манаф застрял на этой рукописи, было нечто совсем другое. Может быть, причиной того, что Мирза Манаф застрял на этой рукописи, явилось то обстоятельство, что Казмамедли, эта сволочь из сволочей, был явно заинтересован в той, другой рукописи. Во всяком случае, то, что Казмамедли в высшей степени заинтересован в судьбе рукописи, в которой Мирза Манаф ставил галочки, вопросительные знаки и арабские буквы на полях, известно было даже такому чудику, как поэт Сервер Садык (сотрудник редакций), которому вообще ни до кого и ни до чего нет дела. Возможно, что именно сейчас Мирзе Манафу хотелось выглядеть в глазах этого самого Сервера Садыка хоть сколько-нибудь порядочным человеком. Но вообще-то дело, конечно, не в этом, дело в том, что Мирзу Манафа всегда отличали аккуратность и ответственное отношение к служебным делам, а ему оставался какой-нибудь месяц, чтоб навсегда распроститься со службой.
И теперь, накануне того момента, когда он навсегда распростится со службой, Мирза Манаф начал подумывать о том, не вернуться ли ему по выходе на пенсию к писательской деятельности. Ради одного того, чтоб, создав образ Казмамедли, отдать его на суд грядущих поколений, Мирза Манаф готов был сжечь себя в огне творческого горенья: ненависть его к этому человеку была океан, бескрайний и безбрежный. Более пятнадцати лет барахтался Мирза в этом океане, по нескольку раз в день вознося благодарение аллаху за то, что тот не дал ему сгинуть в бездне. Кроме того, за пятнадцать лет Мирза Манаф мысленно произнес по адресу Казмамедли сотни монологов, и монологов этих вполне хватило бы не на один — на несколько солидных романов… Может быть, именно это умение произносить монологи при полной неподвижности губ и непроницаемом выражении лица и дало Мирзе возможность целых пятнадцать лет удерживаться на должности. К тому же Мирза Манаф обладал способностью в любое время, в любой необходимой ему степени отключаться от действительности, погружаясь в мечты и воспоминания, — эта его способность была просто чудо какое-то, причем чаще всего Мирзу Манафа выручал Бузбулак. Так, например, лет десять назад в жаркий июльский полдень он, сидя в кабинете Казмамедли, так глубоко погрузился в воспоминания, что хрустальная пепельница на полированном директорском столе явила ему вдруг удивительное зрелище: сначала ее сверкающее отражение представилось Мирзе гроздью прозрачных льдинок, потом льдинки стали быстро-быстро расти, множиться, и перед глазами Мирзы Манафа возникла зима, настоящая бузбулакская зима. В тот знойный июльский день в кабинете директора Казмамедли Мирза Манаф долго любовался гроздьями льдинок, свисающими с бузбулакских водостоков.
Утро, раннее зимнее утро… То самое утро, когда Мирзу Манафа (тогда еще просто Манафа) послали взять запеченную в соседском тендире тыкву, огромную, оранжево-красную… Ты ребенок, и в руках у тебя такая тыква… Может быть, именно благодаря тыкве и запомнилось Мирзе Манафу то утро?… А может быть, дело в том, что в Баку было нестерпимо жарко, и Мирза Манаф просто-напросто тосковал по зиме? Возможно, ничего тут странного нет. Странно другое — с того самого июльского дня бузбулакская зима с гроздьями мерцающих льдинок навсегда осталась под пепельницей, и каждый раз, войдя в директорский кабинет, Мирза Манаф устремлял взгляд на пепельницу. И когда Казмамедли проводил у себя собрания или совещания, пепельница на директорском столе становилась для Мирзы Манафа единственным спасением, потому что, зная Казмамедли, слушать его выступления было мучением в полном смысле этого слова. А Мирза Манаф на беду прекрасно знал директора Казмамедли: «Давай, давай, мели, подлюга!.. Тебе что — тебе сам черт не брат — деньги твои по всему Баку ходят… Дочери — квартиру, сыну — квартиру… На даче фонтаны бьют… Зарплата у тебя, у подлюги, двести сорок, а ты и любовнице квартиру построил… Говори, говори, красно говоришь — бисером рассыпаешься… Ты скажи, любовница запишет… Говорите, пишите, протоколы составляйте… Посмотрим, долго ли пропишете…» По стилю и по содержанию монологи Мирзы Манафа были примерно такого характера и, произнося их, Мирза Манаф ни на секунду не отрывал глаз от хрустальной пепельницы.
Если сегодня Казмамедли вызовет его к себе по поводу интересующей его рукописи или по другому какому-нибудь поводу, Мирза Манаф непременно уставится на пепельницу; любуясь льдинками, он немножко остудит кипящую в сердце ненависть, и, когда вернется к себе в комнату, у него даже достанет сил улыбнуться. Он улыбнется, чтоб никто не понял, какое оскорбление и унижение он только что пережил в кабинете Казмамедли, но найдутся люди, которые иначе истолкуют его улыбку; кто-кто, а уж тот самый Сервер Садык обязательно решит, что Мирза Манаф только что провернул у директора какую-то очередную подлость, и, пытаясь угадать, ire его ли касается эта подлость, будет подозрительно, исподлобья глядеть на Мирзу Манафа страшными, красными с перепоя глазами, даже когда тот уже усядется за стол.
Но в тот день директор Казмамедли не вызвал к себе Мирзу Манафа. И назавтра не вызвал. А когда в один из распрекрасных дней тот самый Сервер Садык, вернувшись с обеда, ногой распахнув дверь, ввалился в комнату и, стоя посреди нее, начал психовать и орать: «Мертвецы, мертвецы!» — и хохотать, точь-в-точь как пьяный Искандер из пьесы Мамедкулизаде, Манаф понял, что Казмамедли нет в директорском кабинете и теперь уже никогда не будет. Так разрешился вопрос: «Что тебе еще нужно?», в высшей степени интересовавший Мирзу Манафа теперь, когда после тридцати лет плодотворной деятельности он готовился пойти на пенсию. В тот день, возвращаясь со службы, он всю дорогу задавал себе этот вопрос, а придя домой, сразу позвонил сыну и зятьям, а когда вся семья была в сборе, Мирза Манаф, обратившись к Бике-ханум, при помощи всего каких-нибудь пятидесяти граммов коньяка произнес такой блестящий монолог, что жужжанье бузбулакских комаров навсегда исчезло из памяти его жены. Постигнув наконец, женой какого умного человека была она целых тридцать лет, Бике-ханум сперва все улыбалась, потом ей малость взгрустнулось, а потом она до такой степени расчувствовалась, что даже вытерла подолом шелкового платьица маленькой своей внучки Егане две слезинки.
2
Прошел месяц со дня описанных нами любопытных событий, происшедших с Мирзой Манафом. Много воды утекло за этот месяц, много ветров продуло, вот только дождя не было, но последнее объясняется лишь тем, что дело происходило летом.
Было утро. Умывшись с особой тщательностью, объясняемой тем, что сегодня он в последний раз идет на службу, слегка даже помассировавшись, Мирза Манаф сел за стол завтракать. В честь того, что Мирза Манаф в последний раз идет сегодня на службу, Бике-ханум готовила в кухне омлет с зеленью, и когда этот омлет появился на столе, Мирза Манаф услышал вдруг от жены такие слова, что даже ушам не поверил:
— Как ты себя чувствуешь, Мирза?
Мирзу Манафа искренно порадовал этот необычный вопрос, но он решил не проявлять своей радости. Он стал искать слова, чтоб столь же достойно ответить на несколько странный, но исполненный благородной заботы вопрос, но почему-то — скорее всего от спешки — не смог придумать ничего подходящего.
— Я чувствую себя превосходно, — просто ответил он. — А ты как?
Бике-ханум молча разрезала омлет на четыре части; три из них положила на тарелку Мирзы Манафа, одну — себе, нарезала хлеб и только потом сказала:
— У меня-то все в порядке. А вот ты… Надо бы тебе к доктору сходить.
Если бы на месте Мирзы Манафа оказался человек, менее воспитанный и деликатный, он, возможно, вспылил бы. Но Мирза Манаф не вспылил, он только вроде бы слегка растерялся.
— Ты что-нибудь имеешь в виду, Бике? Говори, я слушаю.
— Ты сегодня во сне что-то бормотал.
— И что ж я такое бормотал?
— Не знаю… Ерунду какую-то нес: чайник пришел, чайник ушел… Потом про ревматизм начал… Если у тебя по ночам кости болят, почему к доктору не сходишь?
— Ничего у меня не болит!
— А чего ж тогда ноешь?!
Если б в эту минуту не зазвонил телефон, неприятный диалог, возможно, продолжался бы. Но телефон выручил Мирзу Манафа. Звонила младшая дочь Эльфира.
— Ну как? — сказала она. — Вечером отмечаем?
— Конечно, — ответил Мирза Манаф. Он положил трубку и, вернувшись за стол, почувствовал, что настроение у него уже не то, и хотя не подал виду, ему было очень неприятно сознавать, что ночью он бредил и болтал всякую чепуху. Особенно возмутил его чайник. Во-первых, проникновение в его сны такой безделицы, как чайник, было просто-напросто оскорбительно. Во-вторых, стоило только жене открыть рот, как он сразу учуял, о каком чайнике речь. Это единственно мог быть чайник для заварки, которым Мирза Манаф пользовался на работе и который давно решил презентовать Серверу Садыку в тот день, когда получит окончательный расчет… Именно поэтому Мирза Манаф и смог одолеть только один из тех трех кусков омлета. Всегда выпивавший по четыре стакана, он выпил на этот раз только два и, оставив третий стакан недопитым, вышел из дому, и, пока он шагал к остановке восьмого троллейбуса, этот проклятый чайник продолжал портить ему кровь; только усевшись в троллейбус, Мирза Манаф смог наконец избавиться от чайника, потому что в последнее время у него вошло в привычку, усевшись в троллейбус, обдумывать сюжет будущего своего романа о Казмамедли; теперь у него не было ни малейшего сомнения в том, что, выйдя на пенсию, он сразу засядет за роман, а стоило Мирзе Манафу начать обдумывать сюжет этого романа, он тотчас забывал все остальное.
Поскольку рассказ наш, покружившись вокруг да около, скова вернулся к этой теме, уместно будет отметить, что хотя Мирза Манаф держал в уме немало готовых монологов, он не так-то легко пришел к решению писать свое произведение, и причина его затруднений заключалась в том, что, имея в виду Казмамедли как прообраз отрицательного героя, Мирза Манаф пока что не смог приглядеть для своего произведения героя положительного. Дело дошло до того, что в процессе мучительных творческих поисков Мирза Манаф начал даже оценивающим взглядом поглядывать на Сервера Садыка. Мучительный поиск продолжался до появления нового директора. Когда же Мирза Манаф увидел на месте Казмамедли молодого, цветущего мужчину, он наконец облегченно вздохнул. «Это он!» — сказал себе Мирза Манаф, и в этот момент в нем окончательно дозрело решение относительно будущего романа.
Теперь, когда Мирза Манаф в последний раз направлялся к месту своей многолетней службы, на его лице нетрудно было увидеть целый ряд примет той самой созревшей решимости. Мирза Манаф ехал и в подробностях припоминал первую свою встречу с человеком, занявшим место Казмамедли, потому что встреча эта непременно войдет в будущий роман, и весьма возможно, что именно она станет одной из центральных, наиболее интересных сцен.
«Прошу вас, Мирза, заходите… Может быть, отложим пока вопрос о пенсии?.. Нам позарез необходим работник с вашим опытом и умением…»
Если бы в этот момент взгляд Мирзы Манафа не зацепился глазом за эту злосчастную пепельницу, он, вероятно, услышал бы немало подобных слов, бальзамом льющихся на сердце. Но привычка (чтоб он сдох, этот Казмамедли!) сделала свое дело — Мирза Манаф уставился на пепельницу и, заметив это, новый директор чуть заметно, как это свойственно чутким и деликатным людям, улыбнулся.
— Я вижу, вам нравится эта пепельница, Мирза Манаф? Пожалуйста, я с удовольствием подарю ее вам…
Мирза с трудом взял себя в руки.
— Нет, нет, — поспешно сказал он, — не надо.
Но новый директор не поверил в его искренность.
— Вы курите? — спросил он.
— Иногда, — ответил Мирза Манаф, потому что папироса, которую он выкурил в поезде, взяв ее у одного зангезурского армянина, когда после того недостойного поступка бузбулакских мальчишек возвращался в Баку, почему-то крепко запала ему в память.
Таким образом, из-за этой злосчастной пепельницы Мирза Манаф не смог в тот день вдоволь насладиться приятной беседой и, горячо поблагодарив директора за столь высокую оценку его деятельности и в высшей степени культурно доведя до сведения нового руководителя, что откладывать уход на пенсию не считает возможным, Мирза Манаф вышел из кабинета, однако облик положительного героя будущего романа сложился для него окончательно…
За это ценнейшее приобретение Мирза Манаф испытывал огромную благодарность к новому директору, занявшему место Казмамедли. В то утро Мирза Манаф испытывал благодарность к троллейбусу за то, что тот шел плавно, без толчков и не вытряхивал из его головы мысли. Если бы мы в нашей побасенке про Мирзу Манафа с самого начала уделяли бы, как это принято в ряде лучших произведений нашего времени, должное место описанию природы, сейчас было бы самое время изобразить восхитительное утро, в которое Мирза Манаф последний раз ехал в троллейбусе на работу. Но поскольку мы все равно не учли вовремя эту важнейшую сторону художественности, то считаем целесообразным, сохранив указанный недостаток в числе прочих дефектов нашей творческой манеры, ничего уже не менять. И именно поэтому, ограничившись упоминанием о том, что утро было восхитительное, обязанные продолжать повествование в присущем ему стиле, мы должны наконец-то довести троллейбус номер восемь до места работы Мирзы Манафа и там остановить.
Когда Мирза Манаф сошел с троллейбуса, на улице было уже полно народу, причем большая часть людей толпилась у газетного киоска. Мирза Манаф тоже подошел к киоску, встал в очередь, купил газеты и уже начал подниматься по лестнице, и тут ему вдруг ударило в голову, что не зря он болтал во сие про чайник, — этот Сервер Садык человек на редкость супротивный, и не исключено, что он может запросто отвергнуть его подарок и плюс к тому такое наговорить, что испортит человеку его самый последний, самый дорогой из проведенных на работе дней.
И тем не менее, входя в комнату, Мирза Манаф твердо стоял на своем решении: чайник он подарит только Серверу Садыку.
Как всегда, начались приветствия:
— Привет, Мирза!
— Доброе утро, Мирза!
— Ты прямо огурчик, Мирза! Молодец!
В то утро среди этих веселых голосов был слышен также голос молчуна Сервера Садыка.
* * *
Потом, когда до конца рабочего дня осталось несколько часов и вопрос с чайником был уже решен положительно, Мирза Манаф, держа одной рукой папку, другой рукой тихонечко тронул дверь директорского кабинета.
— Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас. Я только что собирался сам к вам идти. Садитесь…
Опустившись на стул, Мирза Манаф заметил вдруг, что пепельницы на столе нет; пепельницы вообще нигде не было. И тогда Мирза Манаф увидел, что директор улыбается, видимо, он сразу понял, что Мирза Манаф ищет глазами пепельницу. Мирза Манаф уставился на папку, которую держал в руке. Кажется, директор тоже взглянул на папку, которую держал в руке Мирза Манаф.
— Шахин-муаллим… — прозвучал голос Мирзы Манафа.
— Шакир-муаллим, — деликатно улыбаясь, внес уточнение директор. — Пожалуйста, слушаю вас…
— У меня к вам небольшая просьба, Шакир-муаллим: проглядите, если можно, эту рукопись…
И Мирза Манаф торопливо раскрыл папку. Положив ее на стол перед директором, он хотел было уйти, но так и не ушел, потому что директор, взяв первую страницу, стал сразу же внимательно читать ее, причем, читая, одобрительно кивал головой.
Через несколько минут, проведенных Мирзой Манафом в напряженном ожидании, директор перевернул страницу.
— Прекрасно, — сказал он, — почитаем. Начало, во всяком случае, удачное. И название оригинальное: «Письмо к моей маме». Очень хорошо, спасибо… Чем еще могу быть полезен?
Пытаясь скрыть радость, от которой у него даже сперло дыхание, Мирза Манаф несколько раз кашлянул. Потом поднялся со стула.
— Большое спасибо, — сказал он. И по той же причине, о которой мы только что уведомили уважаемого читателя, снова принялся кашлять.
Директор встал и, виновато глядя на Мирзу Манафа, сказал:
— Прошу меня извинить, но я не смогу присутствовать на празднике, который устраивается сегодня в вашу честь. Неотложное дело в верхах, не пойти невозможно.
Мирза Манаф мысленно пожелал ему: «Всегда в верхах пребывай, сынок!», а насчет праздника ничего не понял, потому что чуть не до половины рабочего дня все искал подходящего момента, чтоб вручить Серверу Садыку чайник для заварки, и даже не подозревал, что в соседней комнате готовится роскошное застолье в честь проводов его, Мирзы Манафа, на пенсию.
Когда, выйдя из кабинета директора, Манаф, и без того уже растроганный, сразу попал за пышный стол, то еле-еле удержался, чтоб не заплакать от радости, потому что стол и впрямь был великолепен: яблоки, помидоры, цветы… На столе, составленном из нескольких письменных столов, стояли бесчисленные бутылки шампанского, а на противоположном его конце, там, где тихим ягненочком притулился Сервер Садык, бросалась в глаза бутылка пиратского коньяка, и отблески коньячного багрянца играли на его щеках.
И усадили Мирзу во главе стола. И пошел у них пир горой. И открыли они шампанское, и начались в честь сотрудника их, Мирзы Манафа, всяческие тосты и здравицы. А потом Мирзе вручили подарки: золотые часы — от профкома, розы красные — от комсомола. А когда Мирза узрел последний подарок — лично от товарища директора, — он заплакал навзрыд, потому что — проницательный читатель давно уже догадался — личным подарком директора могла быть только та самая хрустальная пепельница, под которой так много лет светились бузбулакские льдинки…
Когда, вытерев платочком глаза, Мирза Манаф, второй раз за этот день конкретно и содержательно выразив самое свое заветное пожелание: «Всегда пребывай наверху, сынок!», до конца осушил бокал в честь директора и хотел отломить дольку мандарина, он вдруг заметил, что коньячная бутылка, стоящая перед Сервером Садыком на противоположном конце стола пуста. Переведя взгляд на лицо Сервера Садыка, Мирза Манаф сразу определил, что в том понемногу закипает что-то похожее на монолог, и понял, что сейчас самое время покинуть это застолье.
* * *
Мирза Манаф не спеша направился домой: в одной руке у него был портфель, в другой — та самая, завернутая в бумагу, пепельница. Пройдя немного, Мирза Манаф остановился и положил пепельницу в портфель, потому что в тот день в нашем солнечном Баку, как всегда, было очень солнечно, и казалось, что жар этого солнца может расплавить льдинки, заключенные в хрустальной пепельнице, которую Мирза Манаф держал в руке…
Примечания
1
Чарыки — деревенская обувь из сыромятной кожи.
(обратно)


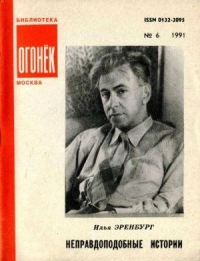



Комментарии к книге «Повести и рассказы», Акрам Айлисли
Всего 0 комментариев