Георгий Витальевич Семенов Жасмин в тени забора
Семенов Георгий Витальевич (1931–1992) — прозаик, окончил Литинститут в 1960 году, член СП с 1962 года, лауреат Госпремии РСФСР имени М. Горького (1981). Автор романов, повестей, рассказов. Произведения: «Сорок четыре ночи» (1964), «Вечером, после дождя» (1969), «Вольная натаска» (1976), «Голубой дым» (1979), «Утренние слезы» (1982), «Ум лисицы» (1986), «Чертово колесо» (1988).
1
Как-то вечером, когда солнце, уйдя за облако, похожее на гроздь спелого винограда, готовилось покинуть землю, в тишине цветущей речной долины раздалась ритмическая музыка. Чуть слышная, будто из-под земли, она вскоре обрела источник — магнитофон устаревшей конструкции. Его нес черногривый цыган. Он шел один по шоссе, держа в руке звучащий пластмассовый ящик, и, наверное, слушал ритмы, которые помогали ему идти. Шаги его по асфальту тоже ритмично вплетались в танцевальную мелодию.
Цыган был одет в бледно-серый костюм и бежевые полуботинки. В золотистом цвете вечера лицо его и руки казались масляно-коричневыми, а черные волосы, спадающие на плечи, отливали синевой.
Узенькое шоссе, бегущее под горку, а потом взбирающееся на пологий холм-тягун, было совсем пустынно. Кончился рабочий день, и грузовые автомашины разъехались по базам.
Залатанное потрескавшееся шоссе после каждой весны требовало ремонта. Подземные воды вспучивали асфальт, тяжелые машины разрушали полотно, дырявили его.
Но в хорошие летние дни далеко была видна с холма вогнутая его полоса, и казалась она монолитной. Светло-песчаные обочины оттеняли свинцовую тяжесть укатанной дороги, пролегшей между цветущих кюветов, березовых перелесков, и чудилось тогда, будто не люди проложили нешумную дорогу, а сама она с удовольствием разбежалась среди мягких холмов и пестрых лесов, игриво перекинувшись через тихую речушку.
В этот вечер тишина стояла такая, что слышно было, как похрустывали песчинки под подошвами бежевых ботинок, как неверный шаркающий звук порой выбивался из четкого такта шагов, слышно было, как повизгивали стрижи над речкой и звенели кузнечики в траве. Одна лишь музыка казалась чужеродным дребезгом.
Она гасла, не успев разгореться, чадила в душистом воздухе, шипела и была, как это ни странно, беззвучна под небесным куполом и ничтожно мала, словно бы это не музыка, а бренчание вилок, ножей и ложек в мойке было записано на пленке.
Но цыгану, видимо, нравилось это, иначе он вряд ли бы нес с собой тяжелый магнитофон. Походка его была бесовски-легкая и уверенная. Перед ним далеко виднелась шоссейная полоса, уходящая вверх, заворачивающая вправо, в зеленеющие, белые частоколы березовых лесов.
Куда шел цыган со своей музыкой, и что ожидало его впереди — кочующий табор с костром и спутанными лошадьми на лугу или оседлость в далекой деревне?
Шаги его затихли, музыка подзенькала и тоже умолкла, фигурка уменьшилась до размеров пингвина, а покачивающийся этот пингвин превратился в маленького воробушка, который вспорхнул и как будто улетел куда-то.
Женщина с букетом лесной герани, ромашек и дикой астры, смотревшая не отрываясь на странного цыгана, вздохнула и подумала, что на свете есть еще загадочные люди. Они не отвыкли жить на земле и ходить по ней, как по своему жилищу, у которого нет углов, потолка и пола, а есть лишь распахнутое в мир окно. «Хорошо это или плохо? — подумала она, отводя взгляд от шоссе. — Могла бы я так или это страшно?»
Женщине было двадцать семь лет, звали ее Георгиной — Гешей. В двадцать один год она вышла замуж, но в двадцать три — развелась, взяла годовалого сына и переехала к родителям, взамен оставив в семье мужа плохое воспоминание о себе. С тех пор она думала лишь о сыне, растила его умником, обожала и возвысилась в своем представлении о мироздании до гордыни, презирая попытки женщин устроить свое счастье с помощью мужчины. Стремление это казалось ей ложным, и она перестала любить женщин, думая о них как о глупых существах, обреченных на несчастья.
Когда-то у нее была подруга, которая тоже вышла замуж и тоже развелась, оставшись с дочерью. Однажды Геша встретилась с ее матерью.
— Как ты живешь? — спросила та, едва узнав в Геше худенькую девочку, с которой дружила ее дочь.
— Отлично! — ответила Геша, сияя радостью.
— Замуж вышла?
— Ни в коем случае! Никогда! Ни за что! — сказала Геша, брезгливо выпятив нижнюю губу, и глаза ее замутились презрением, хотя она и не переставала открыто улыбаться.
— А что? — спросила женщина, вглядываясь в глаза Геши. — Предлагают?
В тот день Геша была недовольна собой: она не смогла ответить на вопрос и при этом заметила, как грустно улыбнулась стареющая женщина. Геша себя чувствовала чуть ли не оскорбленной такой бесцеремонностью, как будто мать бывшей подруги заподозрила ее в обмане, в лукавой игре, в делании из себя счастливицы, ибо счастье для страдающей матери вязалось только с семьей, с семейным благополучием и уютом, и она представить себе не могла счастливую женщину, у которой нет любящего и заботливого мужа.
Геша разозлилась в тот день на весь белый свет, словно не только эта женщина обидела ее, но и все люди грустно улыбнулись, заметив ее смущение, Неприятный вопрос долго не давал ей покоя, точно ей кто-то насмешливый и грубый сказал в глаза: «Кому ты нужна, дурочка».
Впрочем, случай этот укрепил ее в сознании своей исключительности, и, хотя она не собиралась становиться при удобных обстоятельствах «девочкой для развлечений», раз и навсегда все-таки решила избавиться от предрассудков.
Она считала, как всякая уважающая себя женщина, что обладает утонченным вкусом, сильным характером и, разумеется, достаточной красотой, чтобы покорить любого мужчину и подчинить его своей воле. С этим ощущением потенциальных своих возможностей она и пустилась в плавание по житейскому морю, испытав уже одно крушение, которое, как Геше казалось, придало ей силы и уверенности в себе.
Житейское море, крушение, утонченный вкус — все эти понятия, попахивающие бабушкиным нафталином, были близки Геше и естественны для нее, наполнены свежим ветром, который будоражил душу и сознание. Она любила думать о себе, как о родившейся не в свое время и что в этом мире не было и не могло быть достойного мужчины, способного оценить ее добродетели, ее красоту и высокий полет мысли и чувства.
— Читать вредно, — говорила она с уверенностью завзятого книгочея. — Книги рождают иллюзии, которые мешают жить. Я боюсь за сына — он очень любит книгу. Нужно отучать его от вредной привычки. Чтобы никаких иллюзий. Я мать, а какая же мать хочет зла своему сыну? Я вычислила: чем лучше книга, тем больший вред она приносит. В том смысле, что порождает глупые иллюзии… Зачем они современному человеку?
Но это она говорила только в тех случаях, когда попадала впросак, обнаруживая незнание известной книги, которую стыдно было не знать. Она вообще отличалась способностью защищаться в самых невероятных ситуациях, когда, казалось бы, надо покраснеть или просто смутиться, признать свое невежество, и, если даже мозг отказывался идти на выручку, помогала интуиция, которая, помимо воли, подсказывала ей правильный путь и всегда выводила из затруднений. Она безоговорочно верила в свой инстинктивный ум, в охранительный этот орган души и тела, выручающий в самые критические минуты.
В жизни ее были потрясающие случаи, необъяснимые с точки зрения всех признанных наук. Так, например, однажды она вышла из дома в ветреный день. Саженные липки гнулись под гибельными порывами ураганного ветра, потрескивали ломающиеся ветви тополей, по мостовой мчались сорванные листья. Она, пригнув голову, шла вдоль стены восьмиэтажного дома, и вдруг какая-то сила толкнула ее вправо, в дверь продовольственного магазина, которая захлопнулась за ней с оглушительным, как ей показалось, грохотом. Она остановилась в недоумении, не понимая, зачем зашла в магазин, когда ей надо было торопиться по делу… И тут же увидела за стеклянной дверью ужасную картину. Грохот, который она приняла за дверной, изошел от упавшей, сорванной ветром тяжелой балки с листами ржавой жести, громоздящейся именно на том месте, где Геша только что проходила. Под балкой, под гвоздистой, рваной жестью лежала старая женщина, придавленная и, может быть, убитая сорванным перекрытием. Геше стало плохо, и она с трудом устояла на ногах.
Зачем, почему, каким образом очутилась она в тамбуре магазина? Кто подсказал ей об опасности? Привычка заходить в магазин? Но она торопилась! Ей нельзя было заходить в магазин. У нее для этого не было ни минуты свободного времени. К тому же она не просто свернула в дверь, как это обычно делала, а ее словно бы кто-то с силой втолкнул в эту дверь — самое же мгновение, когда она очутилась за дверью, выпало из памяти, будто она сделала это бессознательно.
Подъехала «Скорая», Геша попросила нашатырного спирта, чувствуя, что силы оставляют ее. Изуродованное лицо бедной старушки с жалобной укоризной взглянуло на Гешу из-под приспущенных век… Волосы, блестевшие от крови, серый рядок искусственных зубов…
— Как же это? — спросила она у медсестры, нюхая нашатырь. — Как же? Может быть, это я? Я только что здесь… И вдруг… так. Почему?
— Успокойтесь! — резко оборвала ее медсестра. — Возьмите ватку. Некогда с вами… Возьмите!
«Скорая», мигая тревожно-синим, пронзительным маячком, умчалась с сиреной, К утру убрали груду жести и тяжелые балки, показавшиеся в тот день Геше железным птеродактилем, рухнувшим на тротуар из допотопного, доисторического неба. А сама она, успокоившись, подумала с изумлением, что с ней произошло чудо — волшебная сила, заключенная в ней самой, толкнула ее в дверь магазина и спасла тело от увечья или от гибели. И она решила после этого случая, что в ней живет таинственный хозяин, имя которого неизвестно, но силы — неисчерпаемы. Его можно, конечно, назвать инстинктом, но инстинкт есть у всех живых существ, У нее же он особенный, очень сильный и по-звериному чуткий. Она даже стала прислушиваться к себе по ночам, как прислушивается женщина к жизни ребенка в чреве, но лишь сердце отзывалось ей своими ударами. Маленький же хозяин исчез бесследно, затаился в засаде, следя рысьим взглядом за блуждающей в мире опасностью, замер в ожидании нового случая, когда понадобится опять его волшебство.
И случай этот, как говорится, не заставил себя ждать.
Но прежде необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что отец Гешиного мальчика родом был с Каспия. Он страдал опасной болезнью, посвятив свою жизнь и свое умение, все природные способности добыванию денег. Был рискованно богат, скрывая от жены источник добычи, уверяя ее, что все теперь так живут, как живет он сам. Он был европейски воспитан, когда оставался с Гешей наедине, и по-восточному деспотичен, если в даме появлялись гости. Даже высокая температура не спасала Гешу от обязанностей покорной рабыни, подающей чай на серебряном подносе сомнительным личностям, с которыми муж был вежлив, не замечая при них своей жены, как будто она была на несколько порядков ниже любого из них.
Когда она развелась с мужем, родители которого сыграли в этом скандальном и неинтересном деле важную роль, не простив сыну легкомысленной женитьбы, он, помня об европейском своем воспитании и желая разойтись с женой миром, отдал ей автомобиль «Жигули». К тому времени она окончила местный университет, получив право преподавать французский язык, научилась ездить на автомашине, и, бросив мужу с презрением все золотые цацки, все камушки, приняла белую машину, к которой привыкла, как если бы она была красивой и умной лошадью, и увезла на ней своего годовалого сына. Четыре дня ехала до дома, принимаясь много раз плакать вместе с сыном. Останавливалась кормить его, как цыганка, на дороге, вывалив из разреза кофточки голубую молочную грудь, к которой припадал проголодавшийся ребенок, чернея челочкой липких от пота волос и лия слезы из черных глаз. Звали его Эмилем. Чем дальше увозила она его от Каспия, тем горше ей становилось при мысли, что сына зовут Эмилем.
Она, полуживая, въехала в родной город на запыленной машине, с темным от дорожной пыли и горящим лицом, с грязными руками, от которых пахло бензином, и с грязным, измученным, плачущим Эмилем. Когда же вошла в отцовский дом, то чуть не упала, увидев ужас в глазах матери, ничего еще не знавшей о разводе.
— Мамочка, — сказала она, привалившись к дверному косяку и протягивая матери плачущего сына, — это Эмиль, а там, во дворе, моя машина… Больше у меня ничего нет. И, пожалуйста, ни о чем не спрашивай, иначе я сойду с ума. Мамочка, прости! Я тебя обманывала в письмах. Я была в рабстве. Сбежала! Теперь я свободна, и ты не плачь… Не плачь! Все хорошо. Это Эмиль. Вот, возьми… Твой внук.
Было жаркое лето, от Каспия до северных широт — всюду светило солнце. Геша стояла, возвышаясь над матерью, в узеньких длинных джинсах из золотистого вельвета, протершегося на складках, в кофте из белого полотна с украинской вышивкой и с маленькими тесемочками на груди. Лицо ее было бледно под пылью, большая нижняя губа, пересохшая и полопавшаяся от слез и от зноя, казалось, кровоточила. Взгляд истощенных, выцветших глаз болью своей чуть не убил растерявшуюся мать, которая в бессилии ахнула, увидев дочь, и едва оправилась от потрясения, ничего не понимая и только чувствуя, что с дочерью случилась беда.
А Геша, не помня себя от усталости, опустилась, скользнув спиной по косяку, на пол. Острые ее коленки поднялись выше головы, которую она уронила между ног, плечи ее задрожали, из-под каштановых, крашеных волос оголилась худенькая шея с коричневой родинкой.
— Ничего не спрашивай, — сквозь слезы шептала Геша, еле выговаривая слова. — Все хорошо… Я очень устала. Я не знаю, как доехала… без сна четверо суток… В глазах темно… я потом… Ты накорми… Эмиль плачет… Господи, почему же он? — спрашивала она, не в силах бороться с обморочным, тяжелым и страшным сном, в который погружалась, как в воду, теряя ощущение собственного веса и самой себя в мире.
Покойный отец Геши, много лет работавший на Каспии, говорил ей, когда она выходила замуж: «Смотри, Георгина!», — не объяснив тогда, что имеет в виду.
Теперь она понимала, что отец был прав. И хотя муж ее тоже окончил университет, изучив европейскую культуру, родительская власть над ним была сильнее любви к жене и к сыну, не говоря уже о власти денег, которым он отдал душу. Денег было так много в доме, что взгляд обязательно натыкался на сиреневые, зеленые или красные купюры, которые лежали на столе, в шкафу, на полках, как в иных домах лежат книги. Муж делал вид, что презирает деньги, вытаскивая из карманов брюк скомканные, смятые двадцатипятирублевки, и не поднимал их с пола, если они выпадали из кармана, когда он доставал носовой платок.
«Ибрагим, откуда у тебя столько денег? — со страхом спрашивала иногда обеспокоенная Геша. — Где ты их берешь?»
«В тумбочке, — с улыбкой отвечал черноокий муж с яблочным румянцем на смуглых щеках. — Знаешь анекдот? „Где берешь? В тумбочке. А в тумбочку кто кладет? Жена. А жене кто дает? Я даю! А ты где берешь? В тумбочке“. — И он смеялся, блестя чистыми, сильными зубами, умея вдруг согнать с лица веселую браваду и превратиться в разгневанного, взбешенного тирана, цедящего сквозь те же чистые и сильные зубы проклятия: — Еще раз услышу этот вопрос, загрызу».
Машину свою он отдал, конечно, не по доброте душевной, а из соображений престижных или, может быть, желая таким образом заткнуть ей рот, о чем, впрочем, в то время Геша не догадывалась, зная только, что при разводе супругов имущество делится поровну, и, взяв машину, она понимала, что доля эта принадлежит ей по праву. Хотя, разумеется, если бы закон вмешался в деятельность ее бывшего мужа, то машина наверняка была бы конфискована, как приобретенная на нетрудовые доходы. Но спроси Гешу, каким образом муж ее добывал такие суммы денег, она со всей искренностью ответила бы: «Не знаю», — он ее не посвящал в свои дела, украшая золотом и драгоценными камнями со страстью маньяка, жена которого должна быть красивее и богаче, чем все остальные жены на свете. «Не забывай, чья ты жена! — говорил он угрожающе, если она выходила на улицу или появлялась перед гостями в затрапезном виде. — Не позорь меня!»
«Не позорь моего сына, — вторила ему свекровь, которая без тени смущения твердила Геше, что Ибрагим ошибся, женившись на ней, и что сама она всегда была против этого брака. Когда же Геша напоминала об Эмиле, она отмахивалась и криком отвечала ей: — Другая жена народит Ибрагиму десять таких сыновей! Еще лучше, чем этот!»
Через несколько месяцев после развода Ибрагим женился на молоденькой, утешив наконец своих родителей, воле которых он на сей раз безропотно подчинился. Но, как ни странно, известие это совсем не тронуло Гешу, как будто речь в письме подруги шла о постороннем человеке, общем знакомом, который когда-то нравился ей своей щедростью и лаской. Она даже не вспомнила в этот момент, что Ибрагим — отец Эмиля.
Город в то время был укутан снегом, завален сугробами. Белая долина широко и далеко раскинулась под городом, под стеной старинного монастыря, красный кирпич которого, украшенный снежными гривами на зубцах, мрачно темнел в метельные дни, укрепившись башнями на глинистом обрыве. Ветер трепал на стенах голые ветви бузины. Черные бойницы угрюмо смотрели в белую степь, заштрихованную грифельными полосками лесов.
— Почему я люблю метель? — спрашивала Геша у матери. — Я себя чувствую счастливой, когда на улице метет. Это ненормально? Или мне опостылело солнце? В метель идешь и радуешься, что в лицо тебе снег, снег, снег с ветром… Ах, как хорошо! Я слышу Грига, когда метель, когда снежинки снизу вверх и все сугробы дымятся. Если б ты знала, как я истосковалась!
Она все эти месяцы жила в восторженном состоянии, ее радовало в жизни буквально все. Даже синицы, прилетавшие на заснеженную террасу, на кормушку, приводили ее в тихий восторг.
— Ты знаешь, мама, — говорила она полушепотом, каким рассказывают детям таинственные сказки, — я совсем недавно жила, как эта синица! Возьмешь зернышко и оглядываешься, нет ли врага. Как будто я тоже прилетала на кормушку… Так нельзя жить человеку! Теперь я, может быть, слишком расслабилась, не оглядываюсь, не боюсь ничего — хорошо ли это? Но это пройдет, я знаю, хотя жить и ничего не бояться… Если бы ты знала! Как это приятно — жить и не оглядываться! Но ты посмотри, какая красивая синица! Мама, посмотри! — говорила она, смущая неуемной восторженностью и словно бы требуя от матери полной взаимности и подчиненности своему состоянию.
— Ну, конечно, красивая, — отвечала мать, искоса поглядывая на дочь с тревогой.
— А где?.. Ты помнишь, у нас, у папы, была когда-то… Я очень хорошо помню! Коллекция ночных бабочек, Где она, ты не знаешь? Я помню коробки со стеклянными крышками, а под стеклами пушистые бабочки с большими глазами, с такими крохотными хрусталиками… Это я хорошо помню. Не знаешь, где?
— Не знаю, Гешенька. Прошло столько лет!
— Я хотела отнести в школу. Надо поискать.
Она с осени работала преподавателем французского в школе и, в отличие от всех преподавателей иностранных языков, была очень довольна своими учениками, едва лепетавшими непонятные слова.
— Нет, мама, в моей комнате будут только книги… Вообще, моя ближайшая задача — купить письменный стол, стул-вертушку, книжную стенку до потолка. Можно заказать, если будут деньги… И больше ничего. Ну, конечно, настольную лампу и торшер возле кровати. Чтобы ничего лишнего. Чтобы Эмка с детства привыкал к рабочему столу и книгам… Как ты считаешь, мама? Меня это беспокоит. У нас не было книг. Вернее, книг, которые… Ну, ты сама понимаешь! Книга должна всегда смотреть с полки, А наши отворачивались от нас и прятались. Их как будто и не было, — Геша задумчиво хмурила брови, морщила чистый лоб. — У нас был, — говорила она, глядя в пространство, — каменный дом… И люди в нем каменные, окаменевшие. Сплошные окаменелости. Книги тоже, как камни, — одни дороже, другие дешевле. Нет, мама! Надо что-то делать.
— Но что? — спрашивала мать.
— Не знаю, но что-то надо! Надо так наладить жизнь, чтобы каждая вещь излучала тепло и звала к труду, к занятиям, а мальчика к играм. Чтобы не было… Ну, ты сама понимаешь! Я боюсь за Эмку! Он очень похож на отца. Ты словно не хочешь понять меня! Никакого участия!
— Ты, Гешенька, сплошное электричество! Не искри, не искри, — говорила мать, всю жизнь прожившая с инженером-электриком. — Иди-ка ты в туман, ну тебя! — добавляла она с кокетливой улыбкой нестарой еще женщины, мягко отталкивая от себя дочь.
Геша была права, говоря, что все это пройдет. Хотя, конечно, нельзя всерьез относиться к нынешнему ее взгляду на книги, когда она говорит, что чтение вредно — это своего рода реакция на собственный опыт, на крайность, с какой она выстраивала умозрительную модель жизни сына и своей собственной, Жизнь пока еще никому не удавалась без чего-то лишнего. Иной раз даже именно это нечто лишнее и становилось единственным украшением праведной жизни, в конце которой человек с нежностью и душевным трепетом вспоминает о таких пустяках, что даже сам диву дается, как это он мог при своей трезвой расчетливости допустить милую глупость — завести, например, собаку и прожить с ней лет пятнадцать, не совсем ясно понимая, кто кого ведет на поводке и кто хозяин: собака или он сам. А сколько лишних слов произносит человечество! Сколько лишних вещей производит всякое общество, без которых могли бы обойтись здравомыслящие люди. Да и что значит — лишнее? С чьей точки зрения лишнее? Лучше уж не размышлять на эту тему. Логически рассуждая, можно прийти к такому абсурду, что и сама жизнь человека покажется лишней, потому что все равно придется рано или поздно умереть — так не лучше ли совсем не рождаться? И так далее и тому подобное. Чепуха все это!
А тот случай, который, как известно, не заставил себя ждать, произошел с Гешей сравнительно недавно. Ей самой до сих пор кажется, что все это случилось с ней вчера, так остро она почувствовала опасность, когда в хороший, прохладный летний день ехала со скоростью сто километров в час по загородному шоссе, которое только что открыли после реконструкции, превратив в прекрасную автостраду с двухрядным движением в каждую сторону и с огражденной камнем разделительной полосой. Полоса эта, правда, не была еще закончена — глинистая земля, измятая строительными машинами, высохла на солнце и представляла собой нагромождение бугров и ям, глубоких вмятин, превращенных солнцем в керамический хаос, который требовал многих еще усилий, чтобы со временем там выросла газонная трава. Но покрытие было превосходным. Не заезженный еще, черного цвета, крупнозернистый, обладающий надежным сцеплением с протектором шин жесткий асфальт однотонно гудел под колесами. Машина шла ровно, и сидеть за рулем было приятно, тем более, все они — Геша, Эмиль и молодая бабушка — ехали в деревню к родственникам на выходные дни, зная, что в лесу пошли белые грибы.
Бабушка с внуком разговаривали на заднем сиденье, Геша улыбалась, слушая их, а сама тем временем изящно, как ей представлялось, обгоняла попутные машины, делая это по правилам дорожного движения, хотя и нарушала эти правила, превысив скорость на десяток километров. Но ее тоже обгоняли! И если уж кого-то штрафовать, так это лихачей, которые мчались со скоростью сто двадцать в час. Сама она, в общем-то, шла в потоке, не отставая, но и не вырываясь вперед. Машин на шоссе было много, как всегда перед выходными днями. Солнце уже стояло над лесом, положив на шоссе тени высоких елок. Солнечный свет и резкие тени мелькали перед глазами, чередуясь с неравномерной периодичностью, как вспышки магния, бьющие по глазам и гаснущие, но вновь возникающие на мгновения. Нельзя сказать, что это мешало следить за дорогой, но все-таки приходилось напрягать зрение. Обстановка на автостраде не предвещала никаких неожиданностей.
Впереди, натужно ревя мотором, тянулся автокран, занимая середину дороги. Заметил быстроходную «Ладу», блистающую в солнечных лучах чистым кузовом, и стал, замедляя ход, прижиматься к правой обочине, то есть, как поняла Геша, останавливаться. Она включила левую мигалку и, легонько прижав педаль акселератора, с ускорением решила обойти тяжелую машину… И вдруг!
Нога сама прыгнула на тормозную педаль, раздался пронзительный визг заблокированных колес, скользящих по асфальту. Стрела крана, качаясь, развернулась хоботом поперек дороги, темная туша машины, загородившая шоссе, стремительно приближалась… Столкновение неминуемо — деваться некуда! Тормозной путь слишком велик — тормоза не в силах были остановить разогнавшуюся машину… Мгновение — и Геша, бросив тормозную педаль, свернула влево, на разделительную полосу. Машина с резким ударом выскочила на сухие колдобины. Земля — небо, земля… — удар, удар… Руль бешено вертелся в руках то влево, то вправо… Опять нога ударила по тормозу… Руки, неспособные удержать руль, освободили баранку, и она, бешено скользя под напряженными пальцами, стала дергаться, крутясь то в одну, то в другую сторону, а Геша лишь подправляла, лишь фиксировала очень сильной ухваткой пальцев взбесившийся руль, стараясь удержать машину от опрокидывания… Стрела с тросами промелькнула над ветровым стеклом — водитель, видимо, затормозил тяжелый автокран. Бухающие удары, прыжки, провалы — Геша, не помня себя, делала что-то такое, что никогда еще в жизни не приходилось делать: машину кидало вправо, она тут же крутила руль вправо, машина вставала с ударом на дыбки — резко вертела рулевое колесо влево, выправляя движение, фиксировала руль в прямом направлении, и в конце концов выпрыгнула из ураганной тряски на асфальт и, притормаживая, остановилась на обочине. Ничего не понимая, ничего не слыша и не видя, она распахнула дверцу и, заметив автокран, который, нарушая правила, пересек автостраду, съехал на старую, узенькую дорогу и удалялся по ней, побежала за ним, размахивая рукой и что-то крича вослед. Но, сообразив, что не догонит, вернулась к машине, увидела пыль, поднятую с воздух, остановившиеся другие машины, заметила сочувствующие, уважительные взгляды, посмотрела на мать и сына, которые, не шелохнувшись, сидели обняв друг друга, испуганно ожидая от нее чего-то.
— Что? — спросила Геша. — Ах, скотина! — воскликнула она, озираясь вокруг.
Колеса были на месте, кузов не помят, ничего не подтекало, мотор работал в привычном ритме, постукивая износившимся распредвалом. Она никак не могла понять, что ей надо делать? Неужели опять садиться за руль?
Подошли двое мужчин, свидетелей смертельного трюка, вежливо поздоровались.
— Все живы? — спросил один. — А машина что? Другой сказал, присев на корточки и заглядывая под днище:
— Кажется в порядке… Подвеска, конечно… развал, сходимость…
— Что? — спросила Геша, слыша, как гудят голоса.
— Регулировочку! Не видели, что ли?
— Что?
— Как он налево…
— А что я должна? Здесь только прямо.
— Все правильно. Вы молодец! Я думал… Пьяный, наверное.
— Кто? Может быть. Так, ГАИ, конечно, нет… Всегда так. — Она пнула узеньким носком туфли в серый бок резины и, презрительно выпятив губу, сказала с шоферской бравадой: — Могла стать гробиком. Удовольствие повышенного риска. — И виновато улыбнулась.
Она только теперь вдруг почувствовала острый, тошнотворный испуг. С трудом заставила себя сесть за руль, захлопнуть дверцу, пристегнуться ремнем.
— С богом? — спросила она у матери. — Эмиль, не ушибся, мальчик? Нет! Ну и хорошо!
Мать спросила, почему она кричала так громко. Испугалась?
— А что я кричала? — удивленно спросила Геша.
— «Спокойно! Спокойно!»
— Странно… Я совершенно не помню. Когда?
— Перепугала до смерти, «Спокойно! Спокойно!» Кричала, как будто на нас с Эммочкой. Не ври, пожалуйста. Помнишь! «Спокойно!» Громко, во весь голос! Когда кувыркались…
— Правда, не помню, — отвечала Геша и улыбалась, довольная собой и своим «хозяином», который, видимо, и кричал вместо нее, заставляя делать то, чего она не умела и не делала никогда. — Это не я кричала… Это меня кто-то учил и успокаивал…
— Нет, Гешка, ты сплошное электричество! Позже она прочитала или услышала где-то, что в подобных ситуациях нельзя держать руль, а надо, чтобы он скользил в руках и чтобы руки при этом были готовы в любой момент сделать нужную поправку и вывести машину из опасного крена. Это она и делала, как если бы опыт пришел к ней в мгновение ока. Она знала, что такого не бывает, и никому не поверила бы, не испытай сама на деле странное наитие, спасшее жизнь матери, сыну и ей самой.
Теперь она была безусловно уверена, что в ней живет заботливый и мудрый хозяин, который может даже прикрикнуть на нее в экстремальных ситуациях, заставить сделать то, что надо сделать немедленно, когда разум уже не в силах помочь, не в состоянии что-либо вычислить и подсказать. Именно в этот момент и выходит на сцену хозяин, заранее знающий все, что она должна сделать. И сделать при этом с виртуозностью мастера, движения которого доведены до автоматизма, потому что в подобных случаях времени остается в обрез.
— Очень странно! — тихо говорила она с тех пор и улыбалась, когда разглядывала себя в зеркале. — Очень странно… — Не сомневаясь в том, что природа наградила ее особенными, редкими способностями, которых лишены все остальные люди.
Неестественно набухшая рубиновой кровью толстая губа придавала лицу брезгливое выражение, как будто она специально выпячивала ее, выказывая свое отношение к людям. Высокие ее плечи, откинутые назад, как если бы она замерла в сладостном потягивании после утреннего пробуждения, придавали всей ее фигуре жеманность и ту приятную женственность, какую ждут в бессознательном своем поиске женолюбивые мужчины. Руки она обычно держала согнутыми в локтях, а кисти с длинными пальцами, как бы надломленные в запястьях, безвольно были опущены вниз. Она любила носить джинсы и туфли на очень высоком каблуке, сменяя каблуки только за рулем, когда это мешало. Презирала тапочки и халаты. Прически себе делала сама, вполне овладев этим тонким искусством. Любила шоколадное мороженое с рюмочкой ликера «Мокко». И не могла жить без черного кофе: у нее было пониженное давление.
Женщины, незнакомые с Гешей, почему-то сразу же злились на нее, видя в ней хищницу, озабоченную одной лишь низменной страстью, в чем, кстати, виновата была ее заметная, чувственно разбухшая губа, за что злоязычные ненавистницы дали ей кличку «гривастая».
Слово это, видимо, имеет происхождение древне-славянское, ибо по-чешски, например, губы — грибы. Но каким-то образом люди отыскали его в современном русском языке и прилепили к Геше. Когда Геша впервые услышала свою кличку, она обиженно улыбнулась, вскинула взгляд в поднебесье, пожала плечиком и горестно вздохнула.
— Мне никто не говорил этого в глаза, — сказала она. — Чепуха какая! А вообще-то древние еще знали: войну может развязать и трусливый. Но закончить способны только смельчаки, сильные духом и телом. Сделать это труднее, чем развязать. Но зато почетнее. Я готова! Хотя, господи, что я говорю! Какая война? С войнами можно было мириться в век пороха и даже динамита. Теперь не то! Есть, конечно, людишки со способностью маленького лесного зверька замирать: «Меня здесь нет». Маленькие. Всякий может обидеть и даже съесть. Какая-нибудь крупная птица поймает и съест. Надо замирать, исчезать, прятаться. Но то зверьки! А когда это люди — противно. У меня вообще странное отношение к людям… Я, например, увижу человека с зонтиком и думаю: хороший человек. Почему? А потому что с зонтиком. По-моему, плохие с зонтиком не ходят. — И она неестественно весело рассмеялась. — При чем тут зонтик?
Ей очень не понравилась кличка. Она понимала, конечно, что отменить или поменять ее не удастся никогда.
Второй год она работала в горисполкоме. Ее уговорили перейти сюда из школы, включив в комиссию по работе с молодежью, а точнее сказать, по борьбе с некоторыми вредными привычками, грозящими здоровью подростков. Теперь она вплотную была связана с органами внутренних дел. Хотя комиссия, в которой она работала штатно, не обладала никакой властью. В задачу ее входило выявление неблагополучных молодых людей, к чему была привлечена общественность: директора школ, ПТУ, заводов. Геше приходилось много времени тратить в районном управлении внутренних дел, убеждая работников милиции в неизбежности совместной борьбы с коварным злом, методы и способы обнаружения которого не были еще как следует разработаны и внедрены в практику.
Когда знакомые любопытствовали, где она работает, она отвечала однозначно: в горисполкоме, не вдаваясь в подробности. И вид у нее при этом бывал такой, что, казалось, ей неприятно говорить о своей работе.
Но это было не так. Она страстно увлекалась новым делом, понимая всю его чрезвычайную важность, и, по привычке думать о себе в высоком стиле, считала себя сражающейся за идеалы общества, на самом переднем крае тихой войны. Это ей придавало энергию и уверенность. И она с удивлением вспоминала о прошлой своей работе, жалея о зря потраченном времени. Впрочем, французский язык пригодился ей и на новом месте: в старинный город нередко наезжали иностранные туристы, Геша очень старалась быть хорошим переводчиком, развивая в себе артистические способности и совершенствуясь с каждым разом в искусстве общения с людьми. Она не испытывала при этом ни тени страха или сомнения. Бывала естественна и обаятельна, наученная еще Ибрагимом улыбаться гостям даже в те минуты жизни, когда хотелось плакать.
Разумеется, все эти вынужденные превращения нужны были лишь для того, чтобы пресечь, если понадобится, контрабанду «дури», источники проникновения которой в известную среду молодежи были непредсказуемы и требовали тщательного поиска.
В сложных этих занятиях проходила теперь вся ее жизнь. Она много читала специальной литературы, включая и медицинскую, и часто задумывалась, откладывая книгу, вперившись невидящим взглядом в пространство, в зыбком свете которого возникал вдруг образ Ибрагима, многорукого красавца с яблочным румянцем, заваленного разноцветными купюрами денег и внешторговских чеков. В душе ее звенела в эти мгновения электрическая струнка, издавая предельно тонкий, как мышиный писк, пронзительный звук, словно в сознании ее включался экран испорченного аппарата, искажающего изображение до неузнаваемости. Мозг ее, отключившись от будничных дел, начинал играть, рисуя воображаемые картины мести с изощренностью малолетнего садиста, не укрепившегося в нравственных принципах. «Так-так, — говорила она, злорадно усмехаясь и дрожа ресницами, — значит, из тумбочки? Так и запишем — из тумбочки». И почему-то пистолет оказывался у нее в руке, и почему-то свекровь падала на колени: «Не убивай моего сына! Не убивай моего сына!» — умоляла она, сцепив костистые пальцы с молочно-белыми, длинными ногтями. «Мама, не мешай! — требовал сын, лицо которого взялось землистым цветом. — Я заслужил!» «Он отец твоего сына! — стонала свекровь, ломая руки. — Пожалей моего сына!» «Он убийца», — спокойно говорила Геша, прижав к бедру руку с пистолетом… И так, с бедра… Нет! Тут картина вдруг пропадала, и Геша не слышала грохота выстрелов. Она только видела страдальческую улыбку на землистом лице Ибрагима. Оцепенело смотрела на себя в зеркало, и ей казалось в эти минуты, что она похожа на врубелевскую Тамару. Сердце ее бешено колотилось, дыхание было затруднено. «Нужны сирени, — думала она. — Огромные мокрые цветы, какие мог писать лишь Врубель. Такие цветы только на его полотнах, такие не бывают в жизни, они лучше, чем в жизни… Боже мой, с каким наслаждением я положила бы его в эти сирени! Какая я была курица!»
В небольшом ее кабинете, под настольным стеклом, рядом с распластанным календарем, глянцево блестела фотография Эмиля, сидящего на трехколесном велосипеде. Он был очень похож на отца. И только на переносице, между густыми бровями, голубел, как чернильный штрих, тонкий кровеносный сосудик, который с невероятной точностью передался ему от матери: Геша до сих пор смущалась, когда кто-нибудь путал этот сосудик на ее переносице с мазком синих чернил. «Ты чернилами испачкалась, — говорили ей веселые мужчины, любившие ее. — Послюнявь платок».
А мужчины любили ее с той великолепной забывчивостью, какая свойственна, пожалуй, только людям женатым, обладающим в полной мере чувством долга и верности, — любили, как любят дети цветы, солнечный восход, не зная еще о том, что вся эта красота, данная им словно бы в награду, вечна, а сами они, увы, ненадолго прописаны на земле. Георгина Сергеевна, или Геша, словно бы одним своим взглядом отпускала грехи и заставляла без всякого усилия со своей стороны забыть о бренности всего живого на земле, как если бы обладала, сама того не подозревая, таинственным даром омолаживать души и заглушать вопли и стоны страдающей памяти, напоминавшей о глухой толще прожитых лет. Мужчины старше сорока млели в ее присутствии и готовы были согласиться на все, что требовала от них эта добродушная красавица. Работники РУВД, встречая Гешу, распускали на лицах улыбки, и даже самые строгие из них не могли побороть в себе чувства восхищения, ломая свои привычки, если она заходила в их кабинеты. Они плыли в выжидательной полуусмешке, как будто хотели предупредить ее, что с ними она не сумеет расправиться с той легкостью, с какой удавалось ей это с менее стойкими товарищами, но в конце концов тоже расслаблялись и всячески хотели оставить о себе приятное впечатление.
— Георгина Сергеевна, — говорил ей седой подполковник, доверительно прикасаясь кончиками волосатых пальцев к ее руке, — вы умница. Вы расставляете все точки над «i», и это хорошо… При условии… При единственном условии! — восклицал он, с отеческой улыбкой глядя на Гешу. — Если существует само это «i»… Понимаете меня?! Не ставите ли вы точки над пустым местом? Надо прямо сказать, проблема эта не придумана вами, но, может быть, вы преувеличиваете?
Она тоже улыбалась красивому подполковнику, волосы которого, переняв цвет мундира, казалось, отсвечивали голубизной, и говорила как будто бы совсем о другом, не имеющем никакого отношения к делу:
— Я знаю одну знаменитую оперную певицу… У нее голос — божественный… Но, знаете, чего ей не хватает? Легкости вдоха. Слышно, как она набирает воздух на вдохе. На выдохе у нее все прекрасно. А на вдохе… Тайна пропадает, загадки нет… Все есть, а этого нет и не будет никогда. Так и вы тоже! На выдохе у вас все хорошо, а на вдохе — шумно.
— Не понял вас…
— Что же тут непонятного?! Не хотите всерьез — то есть легко и просто! — взяться за новое дело. Поете хорошо, а на вдохе тяжеловаты, не можете легко набрать воздуха в грудь. Вон она какая у вас широкая! А вы не хотите… Я вас вычислила, работы вам хватает. Но и вы нас поймите. Что мы без вас?
Подполковник усмехался, хотя и слыл гневливым человеком.
— Тогда и я вам тоже издалека, — говорил он, откидываясь на стуле. — Вчера иду мимо универмага, а в урне торчат хорошие туфли, которые лет тридцать пять назад стоили больших денег. Вы не помните, к счастью. Вы другие люди — молодежь. Купили новые, а старые тут же выбросили. Это, наверное, хорошо. Так и надо. Но моя супруга да и сам я тоже никогда бы этого не сделали. Привычки нет. Я привык ремонтировать обувь. Износились туфли, их бы выбросить, а я несу в мастерскую и, признаюсь, радуюсь, когда получаю хорошо починенные: еще на несколько месяцев сгодятся. А вы что предлагаете? Плюньте на старье и давайте обнову. Завидую вам: вы многого не знаете. Вы не знаете, что значит чинить старую обувь, которая не жмет ногу. Я ведь не от скупердяйства, а потому, что люблю старую обувь, привык к ней. Это, знаете, кок охотник пошел на охоту в новых сапогах и убил ноги вместо дичи. Нет, Георгина Сергеевна! Прежде надо хорошенько все обсудить, а уж потом, как вы говорите, воздуху в грудь без шума набрать. Для меня важно, как я выдохну и что выдохну. А как вдохну — это дело личное. А вообще, вы умница. Работаете в правильном направлении. Будем откровенны! Сбросим шелуху, — говорил он, свысока поглядев на свою собеседницу. — Я люблю думать и всегда думаю, что занимаюсь карающими операциями. Я воин, оберегающий отечество от внутренних врагов. Значит, в руках у меня карающий меч. Красиво? Но верно. Поговорка есть такая: куда дерево клонилось, туда и повалилось. Покажите мне это дерево! Но не предлагайте, чтоб я его исправил… Это не мое дело. Не современно? Понимаю. Но мое дело вырубить это дерево, чтоб оно не портило лес, а не ставить подпорки. У меня старая закалка. Знаете, как я в свое время карманников вылавливал в городском парке? Провоцировал! Незаконно? Верно. В пиджачочке в толпу воткнусь, а вот сюда, в верхний кармашек, тридцаточку суну, красненькую… Раньше тридцаточки были, вы не помните… Рука в карман, а я за руку. Куда клонилось, туда и повалилось. Я караю, Георгина Сергеевна, караю! И не хочу знать ничего лишнего! Это мне мешает. Я человек дела. И меня в обмашку не возьмешь!
— Слово какое-то непонятное… В обмашку, — говорила Геша, сердясь.
— А очень просто… Обманным путем.
— Ах, это старина! Конечно! Очень важно не забыть, помнить всегда… «В обмашку»… Это в старину тоже говаривали: «Супруге, прошу покорнейше, напомнить о себе», — говорила Геша, поднимаясь и чувствуя, что на лбу у нее под волосами выступил пот, которого она всегда боялась… — «Прошу покорнейше!»
— Перестаньте, пожалуйста. Сядьте! Сядьте, сейчас же! — говорил осерчавший подполковник, хватая ее за узкое, хрупкое, непривычное запястье, выбить из которого руку ничего не стоит, никаких усилий… — Что вы от меня хотите?
— Помощи! Господи, простой, человеческой, запрограммированной помощи! Ничего больше, честное слово!
— Что значит запрограммированной? — сердито тоже спрашивал подполковник, глаза которого становились похожими на глаза невыспавшегося человека. — Говорите яснее, Георгина Сергеевна.
— А то! Ваша обязанность, ваша программа — помощь, а потом уже кара.
— У нас что получается… Вы на каких-то иностранных оборотах обходите меня. Я на наших, русских. Что такое? Вы русская? Русский язык знаете? Говорите со мной просто, по-русски… Что надо? Я скажу да или нет. Надоело!
— А что это вы так со мной разошлись? Я к вам не с улицы!
— Не с улицы. А я как с товарищем. С товарищем ругаюсь! Надо прямо сказать. С улицы придут, — говорил подполковник, меняя гнев на милость и улыбаясь опять отечески, — я с ними, знаете, какой вежливый. Положение обязывает. А мы с вами, Георгина Сергеевна, товарищи по оружию, нам не грех и поругаться ради выяснения позиций. Вот так я думаю. Думаю, что мы с вами сработаемся… Шефу своему привет. Кстати, как ваша машина бегает? Если что надо, скажите, поможем. И вот что еще помните, — говорил он, вставая из-за стола и кладя на спину Геши теплую руку, под ладонью которой волновались, как птичьи крылья, Гешины лопатки. — Помните, Георгина Сергеевна, вы занимаетесь серьезным делом. Будьте осторожны. Чтоб никакой самодеятельности!
— Но вы-то сами понимаете? — спрашивала Геша, ощущая обжигающе-горячее прикосновение руки. — Ухожу от вас ни с чем.
— Как это ни с чем? — изумленно воскликнул подполковник. — А голова? Надо прямо сказать. Она битком небита информацией! Будем думать! Разве этого мало? Набросали столько вопросиков, а говорите ни с чем! Будем думать. Ах, лет на тридцать помоложе бы! — говорил он, провожая Гешу до дверей. — В нашей молодости таких красавиц не было. Таких красавиц мы не видели, нет. Удачи вам! И не забывайте старика. Вот что еще напоследок хотел я сказать вам, уважаемая Георгина Сергеевна! Вы ведь знаете, есть самолеты туполевские, а есть ильюшинские… Какая разница, знаете? А та, что туполевские идут в небо круче, чем ильюшинские. Ту — сразу нос задирает, а Илы постепенно набирают высоту. Если же летчик с Ту на Ил пересядет, может по привычке и Илу тоже нос после взлета задрать… Что получится, знаете? Самолет рухнет. Так вот, я вроде бы по характеру как ильюшинский самолет, а вы, девочка моя, туполевской конструкции. Понятна разница? Давайте летать, как положено, вы по-своему, а я уж по-своему, как привык. Хорошо?
— Хорошо.
— Ну, вот и умница. Надо прямо сказать — умница.
Подполковник носил сапоги из хрома высокого качества, сшитые, видимо, по заказу. Они всегда блестели у него, какая бы ни была погода на улице, делая ноги похожими на стеклянные бутыли. Этот секрет раскрывался просто: подполковник держал в кармане тюбик пасты и маленькую сапожную щеточку в чехле, ни одной капельки грязи никогда не оставляя на поверхности черной кожи.
А на улице тогда моросил тихий дождик. Белая машина, на которой всюду ездила Геша, была грязна, как белая охотничья собака, набегавшаяся по болоту. Два полукружия на ветровом стекле чернели в глинистой мути. Геша тоже терпеть не могла грязную машину, как подполковник нечищеные сапоги, ей даже казалось, что мотор хуже тянет, а она сама хуже управляет, когда машина испачкана по самую крышу.
Была весна. Снег растаял. Только кое-где лежали еще пласты черного спрессованного льда. Дворники долбили его ломами, разбрасывая колотые куски сочащейся черноты на мостовую, полагая, что колеса автомашин раскрошат их вдребезги. Приходилось тормозить и объезжать ледяные выбросы.
Старые дома тесно стояли вдоль улицы, желтея крашеной штукатуркой. Улица шла под уклон. Внизу блестели мокрые крыши старого города, двухэтажных особняков, обветшалых и требующих постоянного ремонта. Когда-то перед фасадами этих купеческих и мещанских домиков зеленели палисадники, пестрела булыжная мостовая, пропахшая лошадиным навозом, чирикающая воробьями, каркающая и звонко вскрикивающая воронами и галками. Тучи их чернели в небе, кружились над куполами церквей и шпилями колоколен. Теперь асфальт, как полая вода, подошел под самые цоколи домов, затопив улицу серой массой, в безликости которой выстроились вдоль тротуара американские клены. Теперь над покатыми крышами домов торчали бесчисленные телевизионные антенны всевозможных конфигураций, а над мостовой натянуты провода троллейбусов и уличных фонарей. Теперь особняки кажутся очень старыми, а архитектурные их достоинства — фронтончики с лепными лавровыми венками, перевитыми лентой, с летящим ангелом или каким-нибудь вензелем, похожим на герб; лепные карнизы или даже колонны с капителями, — все эти особенные лики домов теперь представлялись жителям и гостям города приятной достопримечательностью, воплощенной в камень и пробуждающей ностальгические чувства.
В горисполкоме давно уже спорили о будущем этой улицы или, точнее, многих улиц, составлявших исторически сложившуюся центральную часть города. В последние годы побеждало мнение, что дома эти надо сохранить, благоустроив жилища людей, мечтающих переехать в те новые кварталы, которые видны были из любого места города. Они белой массой возвышались над старыми домами в дневные часы и светились в ночи бесчисленными окнами, как горы горячей, тлеющей золы с пробегающими тут и там искрами.
Геша жила в деревянном доме и не хотела никуда переезжать. Дом этот стоял в переулке с булыжной мостовой и с булыжными тротуарами, между камней которых зеленела трава. Рядом с домом сохранились тяжелые деревянные ворота, висящие на ржавых петлях, и калитка, открывавшаяся с визгливым пением. За калиткой был дворик с тремя дощатыми сарайчиками, по числу семей, живших в доме. По договоренности с соседями Геша ставила машину во дворе, возле самых ворот, где под травою глыбились вдавленные в землю булыжники. Во всех уголках дворика росла густая курчавая трава. Пахло тут влажными дровами, а летом жареной или вареной пищей. У всех жильцов была своя квашеная капуста, которую они шинковали или рубили поздней осенью во дворе, на широкой, врытой в землю скамейке. На этой же скамейке грелись на солнышке старики или играли дети. Играла когда-то и Геша.
Деревянный дом, обшитый выгоревшей, потемневшей вагонкой с шелушащейся краской, был похож на большую голубятню. Застекленные террасы, поблескивая мутными квадратиками, громоздились и на втором его этаже, поддерживаемые толстыми кирпичными тумбами, между которыми, в свою очередь, тоже блестело стекло террас первого этажа. Чудилось порой, что не люди строили этот растрепанный дом, а сам он вырос тут, как растут деревья, горы мусора или грибы.
Дом страдал, неистребимой жаждой, пропуская все дожди в свое нутро. Профиль крыши был так изломан, что вода обязательно находила себе какую-нибудь щелку и просачивалась в комнаты второго этажа. Но этот дом был искусно спроектирован, у каждой семьи была небольшая квартирка с отдельным входом и при этом одна комната размещалась на втором этаже, а две и кухня на первом: было где спрятаться от капели. Террасы тоже были у каждой семьи, как будто кто-то когда-то позаботился о том, чтобы в доме этом люди чувствовали себя независимыми друг от друга хозяевами, у которых общим был только двор, место для встреч и разговоров о жизни, о делах, о детях, о войне и международной политике. Люди так привыкли к своему жилищу, так ругали его и так любили, что слухи о сносе дома приводили их в уныние. Забывались тогда протекающие потолки и гулькающие звуки капель, падающих в тазы и мешающих спать по ночам. Люди себя чувствовали так, будто им хотели предложить взамен на старенькую беличью шубку синтетическое великолепие. Особенно горевали, конечно, старики и старухи, которые представить себе не могли жизни в многолюдном гиганте и заранее ругались, ворчали, спорили заочно с местными властями, отстаивая свое право спокойно закончить жизнь в родном доме. В общем, старобытная жизнь в деревянном доме устраивала всех без исключения, и никто никуда не хотел уезжать.
К вечеру вместо дождя полетел снег. Как всякий весенний снег, он казался бессмысленно веселым и, точно глупец, пытающийся развлечь своими шутками умных людей, был пушист и настырен, битком набив воздух белой кашей. Поднявшийся ветер взвихривал лохматые снежинки, они празднично и светло носились в воздухе, пугаясь мокрой земли и мокрого асфальта, соприкосновение с которыми грозило им гибелью. Снег этот, как всякий весенний снег, красовался в воздухе и пропадал на земле. Только крыши холодных автомашин, крыши сараев. И стебли прошлогодней травы давали ему временный приют.
Но утром город проснулся в черно-белых тонах, как будто глупый снег сумел договориться с темным ночным морозцем и настоял на своем назло умным людям, которые знали, что этого не должно было случиться.
Рано утром Геша проснулась с острой тоской на душе. Тоска эта словно бы мучила ее всю ночь, а теперь совсем расслабила волю. Ей хотелось плакать, и она с трудом сдерживала раздражительность.
По радио говорили о трудностях. О трудностях полеводов и животноводов. Дикторша, читавшая текст, упивалась трудностями, известными ей понаслышке, выдерживала паузы, горестно вздыхала, украшая текст соответствующей интонацией.
— С ума, что ли, сошли! — злым полушепотом воскликнула Геша, выключая приемник. — Трудно, трудно, трудно! Лентяю и неумёхе все на свете трудно! За что ни возьмется, все трудно! Безобразие какое! Скоро договоримся до того, что жить тоже трудно… Совсем обалдели! Тоску на людей нагоняют, нагоняют! Кто это все пишет? Зачем? Радоваться совсем разучились…
Она это говорила, ни к кому не обращаясь, с механической, нервозной торопливостью жуя пережаренную яичницу, о которой вдруг вспомнила, и резко отодвинула от себя горячую сковородку, бросив вилку, звякнувшую об стол.
Этот звякнувший звук вилки, которая, стукнувшись об стол, упала на пол и тоже дребезжаще звякнула, совпал с неожиданным и продолжительным звонком в дверь.
— Да что это такое! — сказала Геша, плаксиво морщась. — Иди открой, мама. Но только никого не пускай. Всех к черту! Подожди, я уйду наверх.
Уже сверху она слышала, как мать открыла дверь, как мужские голоса шумно ворвались в дом, как тяжело затопали по полу чьи-то ноги, неся кого-то в этот ранний час в полусонное ее жилище с той решительностью, какая бывает только у людей, имеющих право войти в чужой дом.
У нее зашлось сердце в предчувствии непонятной беды, но на ум не приходило ни одно мало-мальски подходящее предположение, кто бы это мог быть.
И вдруг она услышала имя сына, произнесенное мужским голосом. У нее закружилась голова, на лбу выступил пот, она опустилась на жесткий диван и стала с силой растирать виски, ничего не понимая, находясь в полуобморочном состоянии, из которого никак не могла выкарабкаться.
«Идите все к черту! — хотелось крикнуть ей вниз, но сил у нее не было. — Все к черту! Убирайтесь!»
Вот уж кого не ожидала она в этот день в своем доме, так это Ибрагима. То есть не то, чтобы в этот день! Она вообще не думала, не могла себе представить, что он ворвется в ее жизнь спустя столько лет почти полного забвения.
Она была очень смущена. И больше всего потому, что в это утро плохо выглядела, не успела причесаться и была слишком раздражена, чтобы выглядеть счастливой и вполне независимой. Она была истинной женщиной и знала, что раздражительность и красота — несовместимые понятия. Заперлась в комнате и принялась приводить себя в порядок, то и дело выпячивая нижнюю губу и поглядывая исподлобья с задумчивой хмуростью. Она знала также, что если прическа, какую она задумала, не получится с первого раза, то и нечего больше стараться — все равно ничего не выйдет. У нее были послушные волосы, и она легко собрала их в пучок на макушке, оголив шею и оставив на ней только два-три тонких полупрозрачных завитка. Она знала, что и небрежность в прическе должна быть хорошо продумана и отлично исполнена, — и ей это удалось. Такие же тонкие пряди она оставила на висках, а на лоб пустила густую челку, тоже как бы небрежно упавшую с темени. Легкомысленное выражение, которое не замедлило появиться на лице, она усилила, выбросив локон, отделив его от массы вьющихся на лбу волос и придав горячими щипцами, которые были у нее под рукой, игривое движение; Она со всех сторон оглядела свою голову, сделав это с помощью небольшого овального зеркальца, и осталась довольна собой. Тенями она никогда не пользовалась, но на этот раз, чтобы скрыть заспанность на лице, едва заметно тронула надглазья коричневым тоном. А на губах усилила блеск бесцветной помадой. Она помнила, что Ибрагим любил, когда от нее сильно пахло хорошими духами. У Геши были хорошие духи, которыми она не пользовалась с той далекой поры.
Ей, конечно, хотелось бы усилить блеск коричневой радужки глаз, чтобы получились три сияющих пятна на лице, составленных из глаз и темной губы. Но она была и так уже хороша необыкновенно. Волнение, которое охватило ее, прибавляло теперь красоты: ресницы вздрагивали, ноздри тоже, взгляд был тревожен и робок, даже губа и та волновалась, когда она, надев на себя строгий костюм темно-зеленого цвета, спустилась вниз. Она спускалась по крутой деревянной лестнице, придерживаясь за скользкое перильце с таким чувством, будто выходила впервые в жизни на большую сцену. Нога ее в узенькой туфле тянулась к следующей, к нижней ступени с той грацией, с какой, быть может, только наяда ступала обнаженной ножкой в прозрачный ручей, вода которого холодна и быстротечна, а дно каменисто.
Голоса умолкли, когда она вся появилась на нижнем этаже, изображая крайнее удивление.
В комнате, которая считалась гостиной, сидели трое мужчин. Все они поднялись со стульев. Ибрагим поздоровался, склонив голову, и, ошалело улыбаясь, громко сказал:
— Что я говорил?! — обращаясь к тем двоим, с которыми приехал. — Красавица! Я им говорил: первая моя жена — красавица! Не верили! — сказал он, как бы извиняясь перед Гешей. — Это мои друзья.
Геша подняла брови и посмотрела искоса на друзей Ибрагима. Один из них с ярко-белой лысиной и оттого высоким лбом, под которым прятались в бровях и ресницах пронзительно голубые глаза — некрасивое, но умное лицо. Второй — каких много: бесцветный, серенький, с седеющими волосами, тяжелая голова на короткой шее, подбородок упирается в узел галстука, воротник рубашки чуть ли не до ушей — невзрачный и, наверное, равнодушный. Поднялся со стула, потому что все поднялись, поздоровался, потому что так полагается, увел взгляд, потому что ему все равно, красива или нет первая жена Ибрагима. В тесном клетчатом пиджаке, из обшлагов которого багровели налитые силой и тяжестью руки, он первый уселся на стул и как бы исчез из поля зрения.
Геша качнула глазами, здороваясь со всеми, и, овладев собой, сказала матери:
— Напоила бы чаем, что ли… Ранние гости — наказание.
— Мы с аэропорта, — вежливо сказал Ибрагим. — Прилетел посмотреть на Эмиля. Имею право.
— Если хотите травмировать мальчика, скажите, что вы его отец, — сказала Геша, не глядя на Ибрагима, и добавила презрительно: — Имеете право.
Вместо Ибрагима ответил лысый:
— Что-нибудь придумаем, — придвинувшись слишком близко к ней.
— Кстати, — обратилась Геша к нему, — вы с аэропорта. Очень хорошо! Но у меня не харчевня и не гостиница!
— Не позорь меня, — взмолился Ибрагим. — Я говорил, ты красивая, интеллигентная женщина! Я пришел к сыну. Ты его мать, я отец. Зачем так?! Мы остановились в гостинице. Э-э, нехорошо! В жизни бывает всякое, но об этом не надо знать Эмилю. Зачем ты меня обижаешь? Разве я не понимаю! Я подарки привез! — сказал он и обиделся, как избалованный ребенок.
Голос его дрожал, когда он жалобно и страстно говорил все это. Она сказала:
— Надеюсь на твое благоразумие. А как ты… что ты ему скажешь? Он спросит, а ты?
— А что говорила ему ты?
— Я говорила? Говорила, что папа живет очень далеко и что когда… потом… Я говорила, что ты когда-нибудь приедешь… Вообще он не спрашивает. Ты можешь передать ему привет от якобы отца… Что он якобы очень занят… Что-нибудь в этом роде, я не знаю… А разве тебе обязательно разговаривать с ним?
— Где он сейчас?
— Спит. В соседней комнате. Если мы не разбудили.
— Я подумаю, — сказал Ибрагим.
— Могу подвезти до гостиницы. Всех! Я тороплюсь. Мне бы не хотелось, чтоб все это произошло без меня. Извини. Я этого очень боюсь. Вы надолго в наш город?
— Я нет. Вот они — да. Что значит надолго? Все относительно.
— Выходит, ты с ними. Ну ладно. Не они с тобой, а ты с ними. Попутно.
— Надо поговорить.
— Поговорим по дороге.
Лысый, самый вежливый и умный из троих, стал надевать кожаное пальто. Поднялся и Серый, не выражая никаких эмоций.
— Хорошо, — сказал Ибрагим и тоже стал одеваться.
Запахло новой кожей. В помещении потемнело от тесноты, громоздкости мужских тел.
Геша долго грела мотор, долго соскабливала обледеневший снег со стекол грязной машины. Мужчины о чем-то азартно, но тихо спорили, не обращая на нее внимания. А для Геши было самым главным сейчас увезти эту троицу из дома и, может быть, потом, уже на нейтральной территории, встретиться с Ибрагимом, если он будет настаивать. Прийти с Эмилем, если этого нельзя избежать, и все сделать так, чтобы Эмиль не догадался, кто этот красивый мужчина.
Лысый стал отворять ворота. Вытащил деревянный, круглый и гладкий засов, с усилием раздвинул широкие створки, примерзшие к снегу, потащил в сторону сначала одну, проводя на заснеженной земле циркульный след, потом другую. Бугристый переулок белым светом хлынул во двор.
Из окон смотрели соседи, прячась за занавески. Все они, конечно, могли подумать, что трое мужчин ночевали в ее доме.
— Выезжайте, я закрою, — сказал Лысый, пряча в черных ресницах васильковую синеву.
Сказал так, будто успел затесаться в друзья, понимая больше, чем кто-либо другой, ее волнение и невольную грубость. «Что-нибудь придумаем», — словно бы говорил его взгляд.
Ибрагим, усевшись рядом с Гешей, критически разглядывал постаревшую машину. В моторе громко барабанил распределительный вал. Когда-то на черной панели приборов была наклеена яркая тигриная морда с ощеренной клыкастой пастью. Геша заметила, как он погладил пустое место, глазам своим не поверя, что такая красота бесследно исчезла.
— А где же тигр? — спросил он, задумчиво улыбаясь.
— Слинял.
Лысый затворил ворота и, скользя, подошел к машине, вытряхивая из-за шиворота снег, упавший с навершия ворот. На ногах у него были тонкие, на коже, черные ботинки знаменитой фирмы «Саламандра» — пешком этот человек не ходил.
— Итак, — сказал он, колыхнув машину грузным телом. — Путь открыт… Все за семафором! За рулем цветок по имени Георгина. Машина старая, как печка, а в салоне чудо. Нет, Ибрагим, ты Емеля-дурак! Из русской сказки. Я как человек за семафором могу тебе это прямо сказать, и ты не обидишься. Знаете, — обратился он к Геше, приблизив дыхание свое к самому ее уху, — мужчина в командировке — это мужчина за семафором.
— Вы мне мешаете, — сказала она, отстраняясь. Тяжело груженная машина требовала газа, но скользкую дорогу держала лучше. Геша подъехала к гостинице и, остановившись, молча ждала.
— Чего или кого ждем? — спросил Ибрагим.
— То есть? — спросила Геша, скосившись.
— Xa! — воскликнул Лысый. — Но это не та гостиница! Ничего, ничего! Мы зайдем и сюда. Выходим! Как раз время завтрака. Все выходим!
— У нас другой, — сказала Геша, стараясь скрыть удивление, — нет.
— У вас — нет, у нас — есть, — загадочно пояснил Лысый, намекая как бы на что-то такое, о чем не надо все знать. — У нас особая гостиница, закрытая.
Ибрагим задержался.
— Надо поговорить, — сказал он и повернул ключик в замке зажигания.
Улица шумела. Автомашины опять, как зимой, вертели пушистыми хвостиками пара, люди словно бы почернели, одевшись в зимнее, торопились по белым, нетающим покровам тротуаров. Геша смотрела сквозь боковое стеклышко, вслушиваясь в хруст шагов и жесткий гул резиновых скатов, катящихся по мостовой.
— Вы, оказывается, в командировке… — сказала она с усмешкой. — Или опять не имею права спрашивать? Не загрызешь?
— Надо поговорить, — сказал Ибрагим с упрямством в голосе.
— О чем? — воскликнула она, оборачиваясь к нему всем корпусом. — Ты бы спросил, хочу ли я говорить с тобой? Для начала. Нам с тобой не о чем. Надо тебе или нет — мне все равно. Не о чем говорить!
— Я отец Эмиля.
— Слушай, сделай так, чтоб я тебя искала! Уйди за горизонт! — вырвалось у нее чужое, вновь приобретенное, хлесткое, как ей казалось, выражение. — Сделай, пожалуйста! Какой ты отец! Ты просто алиментщик. Знаешь лучше меня. Иди к черту!
— В школе научилась? Или где ты сейчас?
— А что за люди с тобой? Сначала поговорим о них, а потом уж… Что у них за дела?
— Большие люди. Что они делают в городе, знают только несколько человек. Тебе не обязательно, — сказал Ибрагим, снисходительно поглядывая на Гешу, которая вдруг улыбнулась ему и, меняясь на глазах, изобразила на лице растерянность, сказав при этом:
— Неудобно получилось. Надо заранее предупреждать. А не лучше ли встретиться вечером? Я тороплюсь. Извинись, пожалуйста, перед ребятами… Я себя плохо чувствую… Приходи сегодня часиков в семь. Можешь с друзьями. Вот тогда и поговорим.
Ибрагим внимательно посмотрел на нее.
— К тебе? — спросил он осторожно.
— Легкий ужин. Ничего больше. С вилками, конечно. Ну, что-нибудь! Я кое-что вспомнила, — сказала Геша и поняла, что Ибрагим слишком внимательно вглядывается в ее глаза. — Нарушаю планы? — спросила она, перестав улыбаться и с тревогой уже понимая, что совершила какую-то ошибку, вызвавшую подозрение Ибрагима. — Как хочешь. В конце концов, надо это тебе, а не мне. Придете вместе, Эмиль ни о чем не догадается. Так будет лучше. Как зовут твоих ребят?
— Ребят? Они тебе сами назовутся, — сказал Ибрагим с внезапной злостью в голосе и вынырнул из машины, оставив дверцу незапертой.
В смущении она потянулась к дверце, и ей стало вдруг страшно. Она испугалась не за себя, ей стало страшно за то, как она глупо ошиблась. Слишком круто изменила свое отношение к Ибрагиму и к его друзьям. Раскололась, сделав вид, что поверила. Будь на его месте другой! Но он-то, зная ее, не мог же всерьез говорить о какой-то секретной работе «больших людей». Она промахнулась на шутке. Ибрагим хотел замять неприятный вопрос, пошутил: «Закрытая гостиница! Важное задание!»
«А я, дура, сделала вид, что поверила, — думала она с небывалым смущением и страхом за свою очевидную ошибку. — Догадался? Что-то новенькое. Такая вдруг злобная подозрительность! Вечером будет нелегко. Надо думать».
Она завела мотор и тронулась с места, но тут же затормозила, услышав сзади пронзительный сигнал черной «Волги», из-за стекол которой что-то грубое прокричал ей злой парень; она легко представила себе все, что он кричал, и опять смущенно улыбнулась, понимая свою вину и чувствуя: кровь приливает к голове, обжигая глаза стыдом.
Ибрагим не мог, конечно, забыть, как она беспокоилась, подозревая его и требуя объяснений, откуда в доме деньги, и, разумеется, понимал — она не такая дурочка, чтобы принять его за сотрудника, выполняющего какое-то задание, о котором знают очень немногие… Такого быть никак не могло.
Геша снова и снова возвращалась к своему испугу, мозг ее напряженно работал, словно бы ощупывая каждую черточку поведения Ибрагима и двоих его спутников, находя все больше и больше подозрительного в той, как это ни странно, подозрительности, с какой эта троица относилась к ней. Ей казалось странным, что Ибрагим, приехав взглянуть на сына, не захотел посмотреть на него спящего, то есть не настоял на этом, а легко согласился дождаться вечера. Странным казался ей слишком ранний визит и чрезмерная вежливость Лысого, молчание Серого, как будто все они, нагрянув с аэродрома, к — ней, путали след, с удовольствием согласившись тут же уехать на автомашине. И наконец, подозрительность Ибрагима, который словно бы обжегся вдруг, наткнувшись на ее нелепую, хотя и очень естественную игру в доверчивую дурочку…
Обедать она собралась чуть раньше обычного, уже не сомневаясь к тому времени, что приезд Ибрагима с друзьями имеет тайную цель, отнюдь не связанную с Эмилем, о котором якобы вспомнил любящий отец. Эмиль в этом деле играл, по всей вероятности, роль надежного прикрытия.
Расставив в своем уме все эти вопросы, Геша была озабочена лишь одним, очень важным обстоятельством: ей необходимо было успокоиться и взять себя в руки. Но сделать это было не под силу — она очень волновалась.
Днем растаял весь снег, было грязно, светило солнце, ослепительно блистая всюду, куда попадали его лучи. Геша бросила машину в переулке, рядом с воротами, и, не оглядываясь, чуть ли не бегом пошла домой. Эмиль играл во дворе, руки у него были испачканы в земле. Мать встретила Гешу очень встревоженно.
— Ну что? — с порога спросила она, испуганно глядя на дочь.
— Что — что?
— Ты его видела?
— Кого?
— Ибрагима. Он только что ушел. Я решила… Не дождался и ушел. Сказал, вы условились.
— А зачем приходил? Когда он пришел? А Эмиль? Подожди, подожди… Что-то я ничего не понимаю. Приходил Ибрагим, и что?
— Пришел часа два назад или час. Сидел, спрашивал… Ждал тебя. С Эмилем говорил… Но какой-то странный. Удивился, что ты не в школе. Интересовался… По-моему, я что-то не то сделала, — призналась вдруг мать, теребя пальцами мочку уха и виновато глядя на дочь. — По-моему, я зря ему все рассказала.
— Мамочка! — ласково воскликнула Геша, жалостливо улыбаясь. — А что же ты могла ему рассказать? Что значит — все? Или я ничего не понимаю, или мы с тобой сошли с ума! — Она скинула мокрые туфли и босая вошла в комнату, плюхнулась на диван и, по-мальчишески расставив коленки, опять спросила, глядя на мать снизу сверх: — Что же ты рассказала, интересно? Все это очень интересно. Расскажи. Пришел Ибрагим… и что? Ну так что же? Пришел Ибрагим… Дальше что? — говорила она как можно спокойнее, чтобы мать не пугалась. — Расскажи, пожалуйста.
Рассказ матери был сбивчивым, она волновалась. Беспокойство дочери, с которым та не сумела справиться, приводило ее чуть ли не в ужас, словно она ненароком совершила против нее преступление и только теперь начинала понимать глубину пропасти, какая открывалась перед ней по мере того, как она с подробностями рассказывала, что произошло.
Ибрагим объяснил свое возвращение смиренным желанием скорее увидеть сына. Он был настолько деликатен, что, любуясь Эмилем, ничем не обнаружил особенного отношения к нему и даже, делая знаки растерявшейся женщине, спрашивал, как зовут мальчика, сколько ему лет, расхваливая его за общительный нрав, за что и подарил зеленый танк с электромоторчиком, очень похожий на настоящий, умеющий ползать на резиновых гусеницах, поворачивать в разные стороны и двигаться назад. Эмиль в восторге убежал с игрушкой в другую комнату, в детскую, как называла ее Геша… А Ибрагим посмотрел на часы и сказал, что Геша должна вот-вот прийти, потому что у нее сегодня мало уроков и она освободится рано. И что мать удивленно спросила, какую школу имеет он в виду. Она давно уже не работает в школе. Он что-то путает. И решив набить, так сказать, цену дочери, рассказала ему о новой ее работе, не скрыв от него тех подробностей, какие слышала сама от Геши, о связи ее с органами внутренних дел, доказывая таким образом Ибрагиму, что бывшая его жена прекрасно обходится без него, ни в чем не нуждается, занимаясь очень серьезным и важным делом, с чем, безусловно, согласился Ибрагим, не уставая восхищаться Гешей, за которой раньше не замечал способностей общественной деятельницы. А потом опять посмотрел на часы, хлопнул себя по коленке, сказал, что не сумеет дождаться, торопливо оделся и, не простившись с сыном, вышел из дома.
— Я ему сказала, — говорила мать, — что ты вот-вот придешь обедать, а он сказал, что вспомнил о каких-то делах, заспешил и убежал. А я только потом поняла, что он мне соврал: ведь не могла же ты ему сказать о школе. Как подумала об этом, так у меня сердце опустилось от страха. Что-то он мне очень не понравился. Все выпытывал, вынюхивал… А эти друзья его! Особенно этот, молчун…
— Да, мамочка, — сказала Геша с вялой улыбкой, — ты, конечно, умница. Я, кстати, тоже не отличаюсь большим умом. А насчет страха преувеличиваешь. Пусть боятся они. Нам-то чего?
— Ты так думаешь? — нерешительно спросила мать.
Она с некоторых пор очень изменилась, смягчила властный нрав, уступив незаметно для самой себя первенство дочери, считая ее теперь главной решающей силой в семье. Геша, тоже незаметно, приняла это как должное, разговаривала теперь с матерью добродушно-насмешливым тоном, как с бывшим диктатором, ушедшим в отставку.
— Ну, хорошо, — сказала Геша тяжело поднимаясь с дивана, со старческой сутулостью и словно бы ломотой в ногах идя по комнате. — Кофе и коньяк с бананами отменяются.
У нее была узкая продолговатая ступня, струнно напряженная сухожилиями. Нерастоптанная пятка, совершенно не приспособленная для ходьбы босиком; на ходу Геша гулко постукивала по полу, не умея ходить без каблука, или шла на цыпочках.
— Скажи мне, что все это значит? — просила мать. — Я не могу взять в толк.
— Кто-то сказал, — отвечала Геша, — эмансипированная женщина — как собачка, умеющая ходить на задних ногах… Ходит плохо, но все восхищаются. Вот и я тоже похожа. Мне бы за ребенком смотреть и котлеты жарить. Сегодня страшный день! С самого утра все не так, все кувырком! На всякий случай, сделай к вечеру какой-нибудь салатик. Майонез? Банка, по-моему, оставалась. Огурцы соленые привезла. И, как дура, купила коньяк. Ибрагима я ждала вечером. Он меня опередил. Не знаю, но догадываюсь, зачем. Ах ты, осьминог! — говорила она, словно бы восхищаясь бывшим мужем. — Все рассчитал. Но, я думаю, вечером они придут. Почти уверена.
— Я отказываюсь, — сказала мать.
— Что?
— Встречать их без тебя. Мало ли что на уме!
— Я буду дома. Не бойся, они не придут. Мы их спугнули.
В верхней комнате отсырел в углу потолок. Крупная капля навернулась в ржавой его сырости, образовалась, как драгоценная жемчужина — в цветистом перламутре. В комнате книжный шкаф, приобретенный еще отцом вскоре после войны, когда мебельная промышленность только разворачивала свою деятельность: фанерные дверцы, волнистое стекло, буковая конструкция, грубо покрытая паком, — он был дорог Геше своими воспоминательными достоинствами, точно шкаф этот все время возвращал ее в детство, к первым романам и повестям, которые до сих пор стоят на липовых полках. Отец считал лучшим романом «Белую березу» Бубеннова. Геша тоже привыкла так думать и говорила, что лучше этого романа она ничего не читала в современной литературе. Но из современной отечественной прозы она вообще почти ничего не читала, интересуясь «Иностранкой», — зарубежным романом и детективом. К развлекательному жанру относилась с некоторой насмешкой, как бы признавалась людям в своей слабости, ребячестве, если несла домой потрепанную книжку, обещавшую ей недреманные часы полуночного чтения. Но была, кажется, создана для подобного чтения, и ничто не доставляло ей такого удовольствия, какое она получала от густо наперченного заграничного детектива.
Она, конечно, преувеличивала значение книг в своей жизни. Ее высказывания о литературе никак нельзя назвать серьезными. Но все-таки шкафчик был и книги любимые тоже.
Две картинки на стенах, одна чеканка авторской работы поблескивала над письменным столом, похожим на туалетный: тут и зеркало, и всевозможные склянки, и гребенки, и бигуди… Платяной шкаф, на крышке которого рулон бумаги, вентилятор, китайский термос в малиново-серебристом футляре и всякая всячина, ненужная и давно забытая, лежащая там до первой серьезной уборки. Зеленый палас под ногами, колючая жесткость которого доставляла странное удовольствие, когда Геша ходила босая. Все тело начинало как будто искриться, словно босые ноги впитывали в себя неведомые токи, рождающие наслаждение. Кожа на ступнях была тонкая, как у детей, точно Геша до сих пор порхала над землей, не касаясь ее, и не успела сбить ненатруженные ноги.
В этот день не хотелось ничего делать: обедать, ехать обратно на работу, что-то кому-то говорить. Она легла на кровать и стала разглядывать широкую в окружности, плоскую каплю, думая про нее, что капля эта может упасть, а может и высохнуть на потолке, оставив еще один след, ржавое колечко. Скорей всего останется след, если не хлынет дождь, который, конечно, нужен всем, но только не ей.
«Только не мне, — думала она отрешенно. — Дождь теперь для меня сигнал тревоги. Надо что-то делать. Неужели нельзя как следует починить крышу? Худая крыша не просто худая крыша — это путь к эгоизму. Всем нужен дождь, а мне не нужен. Надо все-таки, — неожиданно подумала она, поднимаясь с постели, — обязательно позвонить подполковнику».
Ноги с нежностью приняли колючую массу паласа. С голого дерева за окном слетел воробей.
— Я поехала, — сказала она матери. — Ничего не бойся. Быстро вернусь. Смотри за Эмилем.
Подполковника не было на месте. Это показалось Геше хорошим знаком: все-таки надо дождаться вечера, а утром дозвониться.
Вечером никто не пришел, хотя Геша надеялась, прислушивалась к шагам во дворе, к тормозящим автомашинам, к хлопающим дверцам. Эмиль допоздна играл со своим танком. Танк грозно гудел и лязгал, дергался вправо и влево, ворочая длинным пушечным стволом, наезжал на препятствия, давил пластмассовых солдатиков, которых выстраивал на его пути Эмиль.
В гостиной низко над круглым столом висел оранжевый абажур с густой бахромой, от которой на крашеном полу шевелились длинные тени. В этих золотистых тенях играл Эмиль, не заподозривший, что подарок ему сделал отец: Геша была благодарна Ибрагиму за то, что не сподличал.
Утром она доела остатки салата, выпила чашку кофе и умчалась на работу. Сказала шефу, что едет в РУВД по делам, тот велел передать привет друзьям. «Ты что-то зачастила, — сказал он лукаво. — У подполковника жена — министр».
Сияющая, уверенная в себе, как крупная, смелая собака, она вышла из грязной машины и, ловя приветные взгляды знакомых ребят, стоящих поодаль, указала им, любуясь собой в это раннее утро:
— Здрасьте, юноши! — Голос ее ломко прозвучал в прохладном воздухе, и воздух, казалось, радостно вздохнул, приняв в себя глоток нежных звуков.
«Юноши» отозвались не очень весело, не подошли здороваться, а виновато потупились, как будто не поняли ее.
Подполковник принял ее тоже неласково, посмотрел на часы, намекая на время, которого нет у него. Часы старенькие, стальные, с черным циферблатом, что-то вроде «Победы».
— Слушаю вас, Георгина Сергеевна, — сказал, как в телефонную трубку. — Вы, конечно, знаете о случившемся…
— Что случилось? — спросила Геша, чувствуя, как не в меру екнуло сердце в груди и как разлилась слабость по жилам. — Не знаю…
Ей хотелось вскрикнуть: я знала, что-то должно случиться. Вчера еще знала! Неужели?
— Сотрудник ГАИ, — сказал подполковник и поморщился. — Только что скончался в больнице. Стоял на посту… Знаете парк? Прекрасно. Там, вчера вечером… Жил всю ночь. Успел кое-что сказать. Короче, какая-то мразь! Там, говорит, в кустах драка, женщину бьют два подростка. Тот и побежал, а эта мразь за ним… Никакой драки. Обрезок трубы. Этим обрезком по голове лопушка нашего. За пистолетом охотился! Ушел с пистолетом. Вот так. Слишком доверчивыми стали! Неприятная история. Распространяться об этом не нужно, — предупредил подполковник и внимательно взглянул в глаза побледневшей женщине, которая, как ему показалось, едва удерживала себя на стуле.
— Ужас! — чуть слышно сказала Геша. — Какой ужас! Боже… — И вцепилась в угол столешницы…
А очнулась, пришла в себя уже под распахнутым настежь окном. В ушах шелестели как будто катящиеся по слякоти шины. Над ней озабоченные лица, погоны на серых мундирах. Шелест шин обрел вдруг глубокий звук, который упруго, как резиновое колесо, покатился по стенам и по потолку. Звук этот дошел до слуха тревожным вопросом:
— Что? Обошлось?
«Кто это говорит?» — подумала она и прошептала:
— Простите, я что-то…
— Лежите, лежите, — сказал опять голос. — Сейчас придет врач.
— Не надо.
— Обязательно.
— Нет, нет, все хорошо. Я бы не хотела, не надо. Я себя хорошо… — вяло говорила Геша, поднимаясь с вонючего дивана, обитого холодным липким дерматином. — Окошко… очень дует…
Ее бил озноб. Пальцы были холодными, ногти поголубели. Она подумала, что на переносице сейчас синеет чернильный мазок… Ей не хватало зеркала, и она, как раздетая, смутилась вдруг, увидев над собой лица мужчин. Дрожащими пальцами застегнула пуговки на груди, постаралась улыбнуться и заметила насмешливую улыбку подполковника…
— Что с тобой, девочка? — спросил он подчеркнуто бодрым, отеческим тоном. — Ушиблась? Пощупай голову — шишку, наверно, подставила. Затылком об пол. Напугала!
— Нет, — ответила Геша, подчиняясь и ощупывая затылок. — Немножко… Вот здесь… Почти не больно.
Пришла молодая женщина в отглаженном халате с чемоданчиком в руке. Теплым, ухоженным пальцем мягко нажала на боевую жилу в запястье, прислушалась.
— Ничего страшного, — сказала. — Простой обморок. Раньше случалось? — спросила она, поглядывая на переносицу Геши. — А это что?
— Это с детства… У меня и у сына… тоже. Не знаю. Спасибо. Я себя чувствую хорошо.
Ей было стыдно, что она заставила понапрасну волноваться людей, и виновато сказала:
— Извините, пожалуйста… Мне очень неловко.
— Ну, хорошо, хорошо. Сейчас мы вас отвезем домой, дома полежите…
— Нет, я сама, — сказала Геша, вспомнив об автомашине. — Тут я вам не подчинюсь. У меня дела.
Женщина-врач промолчала и, словно бы обидевшись, ушла. В кабинете остался один лишь подполковник.
— Сейчас, — сказал он, — нам принесут чаю. Я заказал покрепче. Правильно?
Он был явно озабочен, и Геша хорошо это понимала.
— А вы, девочка, что-то скрываете от меня, — сказал он и весело улыбнулся, будто очень хорошо пошутил. — Все-таки чай в стакане, по-моему, вкуснее, чем в чашке… Как вы думаете? Смотрите, какой цвет, почти красный.
— Я привыкла к кофе.
— Нет, я чайник! — так же весело сказал подполковник, обжигая губы горячим напитком. — Что же у нас с вами? Какие дела? Не поговорили. Я слушаю вас. Только, чур, больше не падать! Что случилось?
Она подумала и решила ничего пока не говорить подполковнику: слишком близко находились две точки — провести черту между вчерашним визитом и преступлением очень заманчиво, прямая черточка — самый короткий путь от одной точки до другой, но именно это и остановило Гешу. Она сказала, не притрагиваясь к чаю:
— Очень устала. Хотела поговорить, а о чем не помню. То есть, я конечно, никогда не забываю о своих делах! А тут вдруг такое отчаяние, хотела ругаться с вами. А вы меня убили новостью. Лобовое столкновение. Я и свалилась. Страшно почему-то сделалось и очень жалко… «Доверчивый»… Это хорошо, что доверчивый.
— Сначала проверяй, а потом доверяй, — возразил ей подполковник. — Чай остынет, пейте.
— И все-таки! Сначала доверяй, а уж потом, если понадобится… Иначе, какие мы люди? Это собаки сначала обнюхиваются, рычат, шерсть дыбом, а уж потом дерутся или хвостом виляют.
— Не то говорите! — прервал ее подполковник. — Разве можно! При чем тут собаки? Случай из жизни знаю поучительный: врач молодой напился на банкете, а работал в ведомственной железнодорожной поликлинике. Напился и стал твердить, что все железнодорожники, простите, суки. Начальник поликлиники услышал и говорит: «Вы хотите сказать, что вы ветеринар?» А пьяненький: «Хочу сказать, что сказал». «Значит, вы ветеринар, если утверждаете это. А нам ветеринары пока не нужны. Зайдите завтра с заявлением». Тот наутро приходит и кается, пощады просит, обещает исправиться, ругает себя и водку. А начальник стоит на своем: «Нам ветеринары не нужны». И вынудил в конце концов уйти молодчика этого. По-моему, правильно сделал.
— Слава богу, вы не мой начальник, — сказала Геша и поднялась. — Спасибо за чай.
— Ох, Георгина Сергеевна! Как все близко к сердцу! Что же вы от меня скрываете? Не хотите рассказать. Что?
— Каждая женщина — актриса, — ответила она с нарочитой кокетливостью и осторожно пошла к двери, пока не убедилась, что ноги крепко держат ее на прочном полу, а потом и на серой лестнице, марши которой тоже прочно впаялись в свое место, в ярко-синие, пахнущие свежей краской стены.
«Все хорошо, — подбадривала она себя. — Все так, как надо. Это, конечно, не они. У них что-то другое. Я это чувствую. Мозг меня обманул: он дурак. Надо верить чувству».
На что она надеялась, она и сама не знала. Но что-то ей подсказывало, что поступила правильно, отложив рассказ о встрече с черной троицей. Скажи она подполковнику, тот, по всей вероятности, пошел бы по ложному следу. Уж очень все очевидно! В жизни так не бывает: Ибрагим, зеленый танк, Эмиль, а потом убийство. Нет, тут что-то другое.
И она стала ждать. Ездила, ходила ли по городу, сидела ли дома или в своем кабинетике, стояла ли в магазине — где бы ни была, ее не покидало ощущение, что она лежит в засаде, внимательно вглядываясь во тьму, вслушиваясь в тишину, уверенная, что рано или поздно встретится взглядом с одним из тех трех, которые стали мерещиться по ночам.
Земля к тому времени затянулась зеленой травой, деревья влажно зашумели листьями, зацвела черемуха. Все это образовалось так быстро и так незаметно, что порой даже чудилось, будто ветры, согнавшие с лица земли холод и принесшие тепло, были сами зеленого цвета — оттого и окрасилось все вокруг в этот цвет, запахло смолистым соком, забылось в жарком и торопливом цветении. Всего-то прошла неделя, а люди уже оделись в летнее платье, город умылся первыми дождями, река успокоилась и вода в ней прояснилась. И хотя не прилетели еще стрижи и ласточки, весна была уже сделана.
2
В чистой, отполированной машине, в двигателе которой заменили износившийся распределительный вал, Геша ехала домой обедать.
День был солнечный. Ветровое стекло было так прозрачно после мытья специальной жидкостью, что казалось, будто его не было совсем перед глазами.
Она плавно остановилась перед светофором, благо издалека заметила, как погас зеленый и загорелся желтый сигнал, подумала (в который раз!), что никогда не любила и не любит проезжать перекресток на зеленый, если этот зеленый горит так долго, что вот-вот перельется в желтый, улыбнулась, поймав себя на этой мысли, и с улыбкой огляделась. Рядом стоял синий «Москвич» с большим самодельным багажником на крыше, на котором были связаны проволокой старые доски, испачканные в извести. Небритый мужчина обнял обод руля, навалился на него грудью, нетерпеливо глядя на светофор, в который били солнечные лучи, испепеляя свет электрических ламп. Доски везет, наверное, на садовый участок, собрал их на какой-нибудь стройке и ждет теперь не дождется, когда пустит в дело. Какое-то дело у него впереди! Приедет, загонит машину на крохотный участок, снимет с багажника доски, сложит их аккуратно…
Зеленый сигнал отвлек ее, и она навсегда забыла о случайном соседе в потоке. Неторопливо тронулась с места, наслаждаясь приятной ездой; по левой стороне тоже двинулись навстречу нетерпеливые машины. И вдруг!
Краем глаза, скользящим, неверным взглядом узнала в мужчине, который сидел в такси… Нет, не узнала! Ей показалось. Рядом с шофером сидел, белея крутой лысиной, тот самый, который…
Она вела машину на второй передаче и, не помня себя, вдавила акселератор в пол. Машина взвыла и рванулась, визжа резиной, буксующей на асфальте. До разрешенного разворота было слишком далеко, и Геша, улучив удобный момент, круто заложила руль влево, машина с вибрирующим резиновым визгом, кренясь вправо, ретиво сделала крутой разворот… Геша с трудом справилась с управлением, едва усидев на месте, ибо ее по инерции потащило вправо, но удержалась на сиденье, вывернула руль воющей машины, разогналась, не видя ничего вокруг, перешла на третью, на четвертую передачу и, в отчаянии слыша милицейский свисток, крикнула:
— Иди к черту! Потом!
Догнала такси, пристроилась, превратившись в комок нервной энергии, прилипла к заднему бамперу, видя перед собой знакомую лысину. Шофер такси пытался оторваться от слишком рискованной дурочки, но она не отставала и наконец, перестроившись, пошла с правого борта, вглядываясь в незнакомого мужчину, который вместе с шофером внимательно смотрел на нее, не понимая действий красавицы. Шофер, мельком поглядывая и не упуская из виду дороги, ткнул себе в висок указательным пальцем и повертел им, словно ввинчивая в голову.
— Сам дурак, — незлобиво сказала Геша и отстала от такси, понимая, что милиционер, торопливо идущий ей наперерез, уже предупрежден по рации о грубом нарушении. Он очень удивился, увидев перед собой взволнованную и чертовски красивую женщину, лицо которой показалось знакомым.
— Ошиблась, — сказал Геша, предъявляя документы. — Ищу одного типа. В этом все дело. Понимаю, нарушила… — И страдальчески воскликнула: — Очень похож! Думала: он!
— Понятно, — нерешительно сказал инспектор. — А что за тип?
— А вот найду, тогда и расскажу. Да сделай ты мне просечку, наконец! — крикнула она вызывающе. — Или отдай удостоверение. Время дорого, обед кончается.
И тот, смутившись, вернул удостоверение, попросив ездить поосторожнее.
Что бы там ни говорили об особенностях женского ума, как бы ни относились к его возможностям, а все-таки не отнимешь у него редкого дара предугадывать грядущие события, предчувствовать их даже тогда, когда, казалось бы, нет никаких внешних и внутренних причин для этого, и всякий здравомыслящий человек, обладающий аналитическим умом, только руками разведет. А женщина, не понимая своих душевных импульсов, но слыша и чувствуя их, с удивительной порой точностью угадывает то, что должно произойти, словно бы и в самом деле чуткое сердце что-то говорит ей и надо лишь внимательно прислушаться к его голосу.
Предчувствия не обманули Гешу: Ибрагим с друзьями приезжал в город по важному и весьма загадочному делу, не имеющему никакого отношения к убийству.
Пока она ждала их и разыскивала, произошли вот какие странные события.
Серый, как про себя назвала его Геша, а по паспорту — Сергей Федорович Круглов, сорок седьмого года рождения, был коренным жителем города, состоял на учете в наркологическом диспансере. Недавно вернулся после отбытия двухгодичного наказания. Несколько месяцев назад въехал, за неимением других претендентов, в маленькую комнатушку на первом этаже старинного особняка. Плохо видел, плохо слышал, но очки не носил. «Мерил, — говорил он сердито, — на мартышку похож. Не буду». Поэтому и вел себя необычно: не отвечал, когда с ним здоровались, и сам тоже проходил мимо, не удостаивая никого даже кивком. Походка была, как у пьяного: зрение подводило его и здесь, хотя не только зрение, конечно, было виновато, но и алкоголь. Работал на местной фабрике грузчиком: физические силы пока позволяли Круглову справляться с нелегким трудом.
Жил замкнуто и бесшумно, ничем не мешал соседям: никогда не включал ни радио, ни телевизор, ни магнитофон, потому что ничего этого не было у Круглова. Никто не знал, дома он или нет. И лишь вечером, в потемках можно было догадаться об этом по светящемуся окну, наполовину загороженному картоном упаковочной коробки, в которой когда-то были бутылки пива, о чем гласили надписи по-чешски «Праздрой», видные с улицы. Впрочем, стекла были настолько пыльны и грязны, а лампочка светила так тускло, что никаких занавесок вообще не требовалось. К тому же прежний хозяин, скоропостижно умерший в этой комнатке, обнес окно с внешней стороны металлической решеткой. Круглов увидел прочную решетку, мрачно усмехнулся и сказал себе под нос: «Это вполне…» — и поселился тут.
В комнату он привез старую железную кровать с сеткой, два стула, тумбочку, полушерстяное одеяло и подушку. Матраса не было. Он настелил на панцирную сетку такой же картон, каким загорожено было окно, набросил на него грязное пикейное покрывало и стал жить. Скромный свой гардероб развесил на гвоздях, которые вколотил в стену; зимнюю куртку и шапку-ушанку, пиджак из букле и брюки, не знавшие утюга. Обедал в столовой, а ужинал дома, на тумбочке, залитой лиловыми чернилами. В комнате всегда были две-три пустые бутылки из-под портвейна — неприкосновенный запас на тот случай, если в доме не останется ни копейки.
Круглов с детства испытывал отвращение к никотину и никогда не курил. Но в комнате, тем не менее, вскоре настоялся густой и очень неприятный запах, который исходил от самого Круглова, от его грязной и потной одежды; от куска хозяйственного мыла, лежавшего на тумбочке в замыленном блюдце рядом с тощей кисточкой для бритья; от черного хлеба, черствеющего на той же тумбочке; от огрызка соленого огурца, лежавшего тут же и успевшего покрыться плесенью.
Впрочем, сам Круглов никакого запаха не замечал, как не замечает человек, наевшийся чесноку, своего чревоухания.
Вся эта обстановка не заслуживала бы такого подробного рассказа о ней, если бы не одно чрезвычайно интересное явление, какого, пожалуй, не знало еще человечество, накопившее в своей долгой истории множество из ряда вон выходящих случаев, записанных любознательными людьми со слов свидетелей, что, конечно, не умаляет достоинств этих правдивых и очень интересных записей.
Надо и то сказать, что Сергею Федоровичу Круглову повезло родиться и вырасти в нашем обществе. О нем, бывшем осужденном, наказанном за непростительное хулиганство, заботились с таким бескорыстием и с такой надеждой на исправление, что не только устроили на работу, но и выделили жилье, вполне отремонтированную, побеленную и оклеенную новыми обоями, с поблескивающим дубовым, прочным паркетом комнату. Где еще могло произойти такое чудо, как не у нас?
А винить общество в том, что Круглов не в силах был укротить пагубные страсти, конечно же, нельзя. Он всегда отличался распущенностью и врожденной ленью да к тому же еще агрессивностью, которая и привела его когда-то на скамью подсудимых.
Ирина Васильевна Круглова, ища защиты у людей, рассказывала в былые времена, не унимая легких слез: «Всегда с ножиком ходил, грозился: все равно никуда не уйдешь. Разве я вышла бы! Всех ребят разогнал и заставил… У него и отец такой же. Всю жизнь живет с женой, не разводится и мучает ее всю жизнь. И этот тоже в отца. Я ему и нужна, чтобы мучить. Как войдет… Ой, вспоминать страшно! „Ага! — говорит. — Сейчас всех, кто тут есть, убивать буду“… Страшно! А мы с дитем, если сбежать сумеем, то у соседей ночуем. Сколько так-то ночевали!»
Теперь это в прошлом. Жены с ребенком нет, и мучить теперь некого. Посторонних людей он никогда не трогал и даже побаивался, будучи пьяным, если чужие. Подлая его натура словно бы спряталась в потемках. Круглов успокоился и, как думали люди, знавшие его раньше, исправился. А потому и шли ему навстречу. Так уж у нас принято поступать с заблудшими овцами: одна из ста заблудится — девяносто девять бросаем, и все на поиски этой одной-единственной, как будто лучше ее нет, и не будет никогда. Привычка! Потерять боимся, а что имеем, не ценим. К чему все это приводит, видно на примере того же Круглова. Живет он теперь на свете так, как если бы его очень обидели, и он в этой своей обиде волком смотрит на людей, живущих по человеческим законам, и словно бы грозит отмщением.
Однажды он пришел домой, усталый и голодный, без копейки денег в кармане, отворил дверцу тумбочки, посмотрел на зеленые бутылки, стоявшие там, но, скинув ботинки, завалился спать. Усталость сморила его. Он даже свет не сумел выключить и, ворочаясь на скрипучей, взвизгивающей сетке, злился на желтый свет, мешавший спать.
Было, наверное, часов семь вечера, на улице завывала метель, сквозь потолок слышался бубнящий голос диктора, слова которого стуком большого барабана доносились до слуха. Сон никак не приходил. В углу комнаты, слева от окна, под стояком отопления, опять, как и вчера, кто-то старательно и задорно грыз и грыз жесткое дерево. Круглов, прислушиваясь к этому хрусту, улавливал тонкие, цокающие звуки, бившиеся в металлической трубе, точно вместе с горячей водой там проскакивали мелкие камушки, ударяясь об металл. Он вскоре понял, что не иначе — как кто-то царапает когтями трубу или пробует зубами на прочность. Крыса, конечно…
И с этим неприятным для себя открытием уснул. Или, во всяком случае, ему показалось, что он уснул. Потому что через некоторое время хруст и металлические звуки прекратились, а вместо них послышался требовательный и громкий писк, заставивший Круглова свеситься с кровати и взглянуть туда, откуда раздался визгливый голос.
Он увидел большую крысу с голым, неуправляемым хвостом, который непонятно для чего служил наглому животному. Крыса стремительной тенью пробежала в тусклом свете комнаты, приблизилась к тумбочке, на которой лежал кусок черствого хлеба, встала на задние лапы, вытянулась и попыталась забраться по древесине наверх. Это ей не удалось, она ловко, как мячик, упала на пол, не ушиблась, но, увидев Круглова, шмыгнула в угол и пропала в черной дыре, которой совсем недавно еще не было там.
С этими животными Круглов встречался не впервые, а потому не испытал никаких особенных чувств, подумав лишь о том, что крысу надо изловить и сжечь во дворе в назидание другим, а дырку законопатить минеральной ватой. Можно, конечно, позвонить в санэпидемстанцию и вызвать там кого надо, чтоб отравили вездесущее племя ядом.
Но все-таки, продолжая смотреть в угол, где была дырка, он с интересом ждал, что будет дальше: заберется крыса на тумбочку или не сможет — хлеб она, конечно, учуяла, и теперь не оставит попыток стащить его. На всякий случай поднял тяжелый, как кирпич, сырой ботинок с пола и поудобнее улегся на кровати, чтобы метнуть ботинок правой рукой в крысу: авось попадет.
Ждать пришлось недолго. В углу, а вернее, в утробной его глубине, послышалась возня и непонятный бумажный шорох. Он напряг слабое зрение и в туманной полутьме увидел что-то шевелящееся и шуршащее… Что-то засветлело в углу, как если бы оттуда вылезала белая или розовая крыса или кто-то выпихивал из дыры какую-то бумагу… Происходило что-то непонятное. Круглов опустил ботинок, пытаясь понять, что происходит. Он явно слышал хрустящий бумажный шорох, очень знакомый и желанный, видел подозрительно розовый шевелящейся комок, который то показывался, увеличиваясь в размерах, то словно бы исчезал. Наконец эта бумага (а это была, конечно, бумага!) как будто выпрыгнула из черной дыры и, скользнув по лакированному паркету, сгорбилась, замерев на полу, напоминая что-то очень знакомое. А следом за ней высунулась острая морда крысы, и Круглов увидел блеснувший глаз животного. Крыса несмелыми толчками вынесла свое податливое тело из узенькой норы и, как бы образовавшись из ничего, уселась возле бумаги и стала грызть ее, ухватив за краешек и шурша.
Неясная догадка сбросила Круглова с кровати, крыса исчезла, а он, тяжело топая, подошел к розовой бумаге, нагнулся, взял ее нерешительно и не поверил слабым своим глазам: в руке была десятирублевая денежная купюра — червонец. Непослушными руками расправил десятку, поднес к лампочке, вгляделся. Десять рублей! Бумага почти новая, хрустящая, с отгрызенным уголком, номер на месте…
Круглов улыбнулся (а это случалось с ним очень редко) и подумал с удивлением, что такого чудного сна никогда не видел в жизни. Понял, что проснулся, хотел открыть глаза, но… Глаза были открыты. Кровать пуста. Он стоял посреди комнаты. В руках — червонец. Он в ужасе посмотрел в угол комнаты и с перехваченным дыханием увидел там черную дыру. Не поверил самому себе, подошел, опустился на корточки, пощупал шершавые края дырки, поднес пальцы к свету, заметил древесные крошки, прилипшие к ним, ощутил их кожей, потерев палец о палец…
И услышал музыку. Она слетала к нему с потолка, как будто кто-то играл на аккордеоне, а женский голос пел. Словно был летний вечер, пахло цветами, а все вокруг было так хорошо, как никогда еще в жизни Круглова не случалось… Слишком хорошо! Это его испугало, и он, не выпуская из руки червонца, зажал уши, словно музыка, звучащая в нем, звучала во сне. Он ведь не спал, черт побери! При чем тут музыка? И не сошел с ума! Почему же музыка?
Он прижал ладонь к левому уху и стал, как это делают, выгоняя воду из уха, нажимать на него ладонью и отпускать. Попрыгал на левой ноге, свесив голову набок. Проделал то же самое с правым ухом. Но ничего не помогло. Музыка звучала очень глубоко, не в ушах, а словно бы в самой голове, забравшись под лобную кость, под глаза и пугая своей не проходящей, очень нежной и красивой мелодией, которой Круглов никогда раньше не слышал.
Он с отчаянием подумал, что все-таки, наверное, спит и чудеса эти снятся ему. Осторожно положил десятку на тумбочку, шатаясь подошел к кровати, снял с себя брюки, погасил свет и в страхе спрятался под шершавым одеялом, глуша музыку скрипучей сеткой.
Утром проснулся с головной болью, вспомнил необычный сон, прорычал со злостью и звучно зевнул. За окном едва синело утро, окрашивая комнату в пепельный цвет. Зевота мучила его. Пора было вставать. Но он, свесив ноги на пол, чувствуя, как холод входит в теплые ступни, долго еще зевал, почесывался, поглаживая колючую щетину на подбородке и, как всегда, тянул до последней минутки…
Свет слабой лампочки брызнул в глаза, Круглов зажмурился, а когда огляделся вокруг, зевая и почесывая грудь, оцепенел в крайнем изумлении и с раскрытым ртом.
На тумбочке лежала новенькая, помятая десятка. Горбушка черного хлеба бесследно исчезла. В углу чернела дыра.
Он схватился за голову, за уши, потому что снова услышал аккордеон и мелодичный голос, поющий на очень высокой, комарино-тонкой ноте. Подташнивало, и кружилась голова. Понял, что с ним происходит что-то нехорошее. Подумал о медицине. Испугался, сердце его заколотилось с такой частотой, что он даже вспотел и едва перевел дыхание, поглядывая в углы комнаты с мистическим ужасом и небывалым душевным страданием. Он уже не сомневался, что заболел, и это ввергало его в глубокую тоску.
Машинально оделся, машинально зашнуровал ботинки, не понимая, зачем это делает, если все равно сошел с ума.
Он вышел из дома и, словно забыв, куда ему нужно идти, вспомнил вдруг, что не взял с тумбочки…
«А что не взял? — спросил сам себя Круглов. — Разве там что-нибудь? Может, там и не было ничего? — размышлял он, возвращаясь в дом и отпирая висячий замок на двери комнаты. — Конечно, не было».
Но там, на тумбочке, была все-таки десятка. Он взял ее двумя пальцами с легкомысленной усмешкой, понимая, что берет пустоту, которая ему чудится. Но все-таки взял, ощутив плотность бумаги, и так же легкомысленно, как что-то несуществующее, сунул якобы во внутренний карман пиджака, с сожалением посмеявшись над собой как над окончательно чокнутым, пропащим человеком, хотя и почувствовал при этом скомканную жесткость бумаги на груди.
Круглов даже вспомнил бога и прочувствованно обратился к нему, беззвучно шевеля губами: «Господи, прости меня, грешного, старого, недостойного. Прости. Да будет воля твоя. Грешен я, господи!»
Был он человек не религиозный, но о боге иногда помнил, мня его своим защитником, а порой даже крестился украдкой, стыдясь самого себя, будто совершал что-то непристойное.
После вчерашней метели, как это часто бывает, небо прояснилось, ветер совсем утих, снежные наметы островерхими волнами белели тут и там, скульптурной своей пластикой являя людям великое мастерство хозяина зимних ветров. Еще не утоптанные языки снега лежали и на тротуаре, чередуясь с голой чернотой соленого асфальта.
Круглова пошатывало. Ему казалось, что он идет по шпалам, то и дело сбиваясь с шага: то поскальзываясь, то увязая в сыпучем снегу, то семеня по твердому покрытию — ноги его привычно, по зимнему, осторожничали, мышцы их были напряжены, как бы сами собою ожидая коварной ледяной дорожки. В сумерках, будь они утренние или вечерние, глаза совсем плохо видели.
На автобусной остановке, слушая свою бесконечную музыку, которая угнетала его, как похоронная, Круглов покашлял предупредительно и, тронув рукой плечо пожилой женщины, стоявшей к нему спиной, спросил смущенно:
— Где бы это… самое… Вы не знаете? Зайти бы надо… Медпункт какой-нибудь… А?
— Чего? — отозвалась женщина с испугом, как спросонья.
— Медпункт какой-нибудь… Не знаете где? Поблизости есть какой-нибудь или нет? Зайти надо.
— Болит чего?
— Да так, надо… Музыка какая-то мешает… Не пойму сам…
— Давление, что ль?
— Не знаю, — ответил Круглов с надеждой. — Может, и оно. Никак чего-то… Трясу башкой, а она как пчела в волосах…
— Сходи, сходи. Проверься, конечно, — сказала женщина. — То циклон, то какой-то антициклон… Крутит, вертит — ничего не поймешь.
— А где это? Медпункт-то…
— А тут рядом! Вон, по Никольской пойдешь, под горку спустишься, красный дом увидишь, а налево голубой. Вот в этом голубом «Приемный покой». Там увидишь. Там «скорые» стоят. Зайдешь и спросишь, где дежурный… Я почему знаю, потому что зуб рвала ночью как-то. На стенку лезла! Пошла, а мне тут же и вырвали. Рубль даю, а он обиделся. Ты, говорит, что это?! Ты лучше, говорит, пойди и медсестре дай, а мне не надо. А за чтой-то медсестре? Что она, помогала, что ль? У меня у самой зарплата не больше ее. Спасибо сказала, и ладно… А ты не шути, молодой еще, иди, иди…
Подошел автобус, засипел пневматическими тормозами, заблокированные колеса его, скользя по накатанному льду, опасно понесли всю огромную тушу автобуса на людей, которые попятились на тротуар, а колеса стукнулись резиной о бортовой камень и остановились на поблескивающем ледяном панцире.
Круглов похлопал себя по ушам, растянул рот в принудительной зевоте, стараясь избавиться от звучания аккордеона, и пошел по Никольской, под горку, боясь поскользнуться, чувствуя себя так, будто крутая эта улица тянет и тянет его вниз, как пропасть, над провалом которой он едва держался, цепляясь испуганными ногами за земную твердь. Небо над крышами окрашивалось в голубо-алый цвет. Стены казались лиловыми. Стайка сизых голубей паслась на тротуаре, подбирая крошки, брошенные из окон. Разбежались из-под ног, как куры. Один взлетел, задев маховым пером, обдав лицо морозным ветром.
Круглов увидел красный дом, а наискосок от него, через улицу, купоросно-голубой фасад больничного типа. Приземистый длинный дом со стеклянной вывеской, предупреждающей пешеходов о выезде машин. Выстрелом хлопнула в морозном воздухе входная дверь на пружинах, из нее вышел парень, держась за щеку. Видно, зуб… Круглов к нему.
— Эй, мужик! — окликнул он. — Погодь малость!
Тот остановился, блаженно глядя и улыбаясь перекошенным лицом. В уголочке разбухших губ запеклась свежая кровь, в глазах — счастье, во рту зажата окровавленная вата.
— Ну, как? — спросил Круглов. — Отпустила?
— Не говори! — ответил тот, улыбаясь, будто встретил старого друга.
— А где тут это… вход-то? Здесь, что ли?
— Здесь… Войдешь и потом направо. Иди, там нет никого. Без очереди.
— А ты не знаешь, тут это… Чего-то у меня музыка в голове какая-то, — сказал Круглов, повертев возле виска растопыренными короткими пальцами. — Слушай, как думаешь, а? Помогут?
— Помогут! — воскликнул добродушный парень, которому весь белый свет казался в радужном сиянии.
— А слушай, а это… Вот посмотри-ка, — сказал Круглов, протискивая руку за пазуху. — Извини, я тут это… Чего-то ничего не пойму… Вот это вот, видишь, что это? — спросил он, достав и показывая смятую десятку. — Как думаешь?
— Ты даешь! — с неловким, ватным смехом отвечал парень. — Как чего?! Червонец!
— Точно!
— Сомневаешься, давай мне, — говорил он, не переставая смеяться. — Тебе не сюда, наверное, — махнул он рукой на дверь, — а куда-то еще надо. Тут первая помощь…
— Закатай губы…
— Чего ты говоришь?
— Губы, говорю, закатай, — мрачно повторил Круглов и, расправив десятку, засунул ее обратно в карман.
Странная догадка осенила его, ознобом пройдясь по всему телу.
— Так, — сказал он, глядя на обескураженного парня. — Хвосты рубаются.
— Что?
— Уйди, перемычка, скройся в тумане… Чего ты? Или машинка закаточная нужна? Чего ты так губы раскатал? Уйди, — говорил он нахраписто, хотя на самом деле вовсе не злился на парня, а был даже очень благодарен, говоря с ним по-своему шутливо и задушевно. Иначе он не умел, не мог говорить с людьми, у него не получался разговор, а вылетали бранчливые блатные словечки, понятные далеко не всем, и окрашены были эти слова в черный как будто цвет. — Не обижайся, — сказал он парню и похлопал по плечу. — Фотография у тебя веселая.
А когда остался один, вынул опять таинственную десятку, разглядел ее всю от краешка до краешка, заметил даже следы крысиных зубов и дырочки от острых когтей, тонкие проколы.
Душа его возликовала, он понял, что свершилось чудо, что крыса откуда-то из подполья принесла ему червонец за краюху хлеба и что грех будет, если он эту дурную денежку не прогуляет.
Музыка его утихла, отдалилась, как улетевший комар. Но теперь Круглову и самому захотелось петь, душа просила шумной радости. Он посмотрел на купоросный фасад «Приемного покоя», посторонился, пропуская «скорую», и потихоньку пошел пешечком обратно в горку, безумновато бормоча себе под нос:
Как рыба корюшка. Ты рыбка жадная… Ах, Оля-Олюшка… Любовь площадная…Голуби опять бежали из-под ног, трещали крыльями. Ему было жарко, душа горела радостью, ликовала, избавившись от смертельной тоски: он давно не чувствовал себя таким здоровым и беспечным, рожденным как бы для веселья и музыки:
Как рыбка корюшка. Ты рыбка жадная……Домой вернулся поздно и никак не мог попасть ключом в замочную скважину, сопя у закрытой двери. А когда все-таки справился и зажег в комнате свет, первым делом прошел в угол. Там, как и утром, чернела дыра, которая на этот раз показалась ему более широкой. Медленно опустился на корточки, придерживаясь рукой за стену, достал из кармана небольшой кусок сала с жестким просоленным клочком кожи и, невнятно напевая «Как рыбка корюшка», положил его около норы.
— Еще принесешь, — ласково говорил он в дырку, — чего-нибудь… Поняла? Биксы жареной с луком хочешь? Накормлю. Как хочешь! «Мы рады вам, но больше рады выи», — запел он снова и едва не пустил слезу от умиления. — Падаю на хвост. Тишина! Гоп! Тишина.
Улегся в кровать, провалившись в сетке, как в люльке, а утром, не помня извилистого своего пути домой, знал только, что нес в кармане кусочек сала и очень берег его.
Чудо есть чудо. Оно, может быть, и случается в жизни, но — без свидетелей. Это уж потом о чуде рассказывают, ссылаясь на якобы свидетелей, и даже описывают иногда в популярных газетах и журналах, не говоря о старинных книгах и о тех далеких временах, когда чудеса происходили гораздо чаще, чем теперь. Теперь любое «чудо» можно объяснить и поставить, на место с помощью научных достижений нашего времени — всегда найдется образованный человек, который четко и ясно все объяснит, обоснует и легко развеет суеверия невежественных людей. И хотя даже умным людям порой не хочется верить образованному человеку, истина от этого не страдает. Во всяком случае, все чудеса, происходившие в последнее время, никогда не повторялись, не давали повода для серьезных размышлений; возникнув в чьем-то воспаленном сознании, давали вспышку, капсюлировали, так сказать, взрыв всевозможных слухов, толков и россказней, а спустя немного времени благополучно забывались, как забываются интересные сны. Можно даже сказать, что самое чудесное чудо — это всего лишь навсего загадочный сон наяву, сон определенных общественных кругов, а вовсе не целого народа… Сны эти у каждого круга разные. Здесь все зависит от воспитанности, образованности и даже чувствительности того или иного слоя людей. Чем выше интеллект, тем грандиознее чудо. Только раньше были чудеса, захватывавшие сердца и умы всех общественных слоев… Но это говорит лишь о том, что раньше люди были талантливее — как сочинители, так и читатели.
А вот случай с крысой, которая прогрызла дыру в комнате Круглова и принесла в обмен на черный хлеб десятку, можно, наверное, назвать из ряда вон выходящим, потому что тут, как это ни странно, было продолжение.
В субботнее утро проснулся ничего не помнящий Круглов, напился теплой воды из поллитровой банки, и взгляд его упал на крысиный лаз, возле которого опять лежала смятая десятка…
Витиевато выругался шепотом и, вспомнив вчерашнее, удивленно поднял с пола свеженькую, хрусткую купюру, на которой в этот раз не нашел следов когтей или погрызов.
Нужно ли объяснять, как кстати пришелся этот подарок! Круглов не знал, кого благодарить. Дрожащая его душа плакала в счастливом забытьи. Мозг отказывался что-либо понимать, но при этом не утратил способности правильно мыслить, подсказывая Круглову, что нужно сейчас же отправляться в магазин или на рынок за салом. Нельзя же остаться в долгу перед животным, которое кое-что соображает.
Крысы всегда отличались острым умом и необыкновенной храбростью. Но этим они отличались и тысячелетия назад. За долгие века они, конечно, поумнели, а крыса, которая вышла на Круглова, была самая умная из всех, какие когда-либо жили на свете.
Так примерно подумал обескураженный Круглов. Сердце его, словно бы обдуваемое холодные ветром, зябко колотилось в груди. Радость и таинственный страх — все перемешалось в нем, сбивая с толку. Смелые мечты о будущем бросали в пот. Он чуть ли не падал, подкошенный слабостью, когда думал о завтрашнем дне или сегодняшнем вечере, потому что, как он полагал, животное к вечеру вполне может проголодаться.
В нем впервые в жизни проснулся заботливый хозяин. С этого дня он стал прислушиваться к каждому шороху, ибо животное, очень быстро сообразившее, что требуется от него для получения лакомого кусочка сала, выносило денежные купюры по нескольку раз за вечер. Круглову оставалось только подбирать деньги с пола и, расправив, прятать в карман. Был один вечер, когда животное вынесла ему семьдесят рублей!
И если в первые дни, когда Круглов подбирал деньги и, относясь к ним как к чему-то случайному, неверному, тратил не считая, хотя, конечно, не забывал и о своем животном, но спустя некоторое время он уже всерьез задумался над загадочным явлением. Бросил пить, торопился с работы домой, запирался в комнате и, громко шурша бумагой, в которой приносил сало, а приносил он всякий раз небольшой кусочек, считая, что в комнате нельзя оставлять шмат сала без присмотра, посвистывал весенней синицей, клал кусочек шпига возле засалившейся норы и ждал выхода животного. Ждать ему приходилось недолго.
Сначала показывалась остренькая горбоносая мордочка с поблескивающими бусинками умных глаз, потом лоснящееся животное, которое со временем стало казаться Круглову красивым, без опаски уже хватало кусок сала и проваливалось во тьму подполья. Все затихало, но вот раздавался шорох, царапанье жесткой бумаги о неровные края отверстия, и из черноты, как из брюха живородящей рыбы, появлялась денежная купюра.
Новый кубик сала между тем уже лежал перед дырой. Животное отпихивало от себя бумагу и с торопливостью дрессированного циркача, исполнившего нелегкий номер, хватало лакомство, тут же по-тюленьи ныряя, словно в воду, во тьму подполья.
Теперь наступала очередь Круглова, и он тоже торопливо хватал новую десятку, будто бумага, как животное, тоже могла ускользнуть от него в подпол. В долгие часы невероятной этой охоты он забывал обо всем на свете, во рту пересыхало, а взгляд был прикован к темному отверстию, возле которого белел следующий кусочек жирного сала. Иногда он тихонечко посвистывал, умея это делать самым превосходным способом: свисточки получались тонкими и ласковыми, похожими на птичье пение. Это всегда помогало. Животное с любопытством высовывалось и как бы спрашивало у него, сидящего на стуле: звал? Но, как ни странно, не каждый раз соблазнялось салом, а бывали даже случаи, что на свист она вытаскивала десятку, выпихивала ее из норы и снова удалялась восвояси.
В этих случаях Круглов проявлял благородство и, забрав червонец, больше не тревожил свою благодетельницу. Остатки же сала, разрезанного заранее на маленькие кубики, оставлял перед дырой. Утром еще одна десятка лежала на полу.
Лишь однажды животное огорчило его и вынесло клочок полуискрошенной купюры с обгрызенными краями. Была купюра старая, грязная, пропахшая чужими карманами, сумочками и бумажниками. Впрочем, к тому времени, когда это случилось, Круглов уже так обогатился, что только усмехнулся, ругнув про себя несознательное существо, сьевшее старенькую десятку, от которой, наверное, вкусно пахло.
К тому времени он собрал довольно большую сумму денег, так что сумел купить себе приличный костюм темно-синего цвета, серый свитер, теплое, на ватине, пальто с цигейковым воротником, югославский плащ, ботинки и необходимую мелочь; купил ватный матрас, подушку и два комплекта постельного белья, купил платяной шкаф, сделанный на той самой фабрике, где работал, и, конечно, обеденный стол. Кроме того, он купил по объявлению старый холодильник «Саратов», купил кое-какую посуду, хорошие ложки из мельхиора, складывая все это звенящее богатство на полках холодильника, в котором, кстати, держал и сало, не мотаясь теперь в обеденный перерыв по магазинам и не заходя на рынок, где покупал раньше, как побирушка, сто граммов шпига.
Но и после всех этих приобретений у него оставалось рублей семьсот — восемьсот, к которым каждый вечер и каждое утро прибавлялись новые суммы денег. Он никогда не вел строгого учета сумасшедшим этим деньгам: суеверие останавливало его, и Круглов только приблизительно знал, сколько их у него.
Он, конечно, понимал к тому времени, что сообразительное животное (он некогда даже в мыслях не называл его настоящим именем) приносит деньги из какого-то тайника. И он мог бы, разумеется, попытаться разобрать паркет и обнаружить клад. Но, поразмыслив, решил не делать этого и оставить все как есть, потому что, во-первых, это было бы уголовным преступлением: узнать о тайнике и присвоить себе шальные деньги, на которых, возможно, была чья-то невинная кровь; а во-вторых, он уже так нежно полюбил серое животное, что не хотел нарушать мирной его и сытной жизни.
Частенько по утрам видел на полу мелкий, черный, как семена репейника, помет животного, которое по ночам бегало по комнате, а однажды даже спало у него в ногах, на кровати, как избалованный теплолюбивый песик. Он улыбался и, укоризненно покачивая головой, заботливо подметал веником эти семена сытной жизни, хотя и ворчал иногда на бестолковое животное, если находил испражнения в неподходящем месте, в ботинке, например, или в носке, особенно если обнаруживалось это неудобство, когда он уже натягивал носок на ногу или надевал ботинок.
Перед восьмым марта в солнечный, но морозный день Круглов увидел на рынке, куда пришел за салом, алые тюльпаны. В цветочном ряду на дощатых столах светились большие, похожие на террариум ящики из органического стекла. За прозрачными их стеклами лежали влажные, большие цветы. У них были сочные листья, которые казались голубыми. А в глубине распахнутых багрово-алых цветов ярко желтели венчики, окружая бархатную черноту тычинок и пестиков.
В прозрачных этих теплицах горели свечи. Озябшие на холоде продавцы переминались с ноги на ногу, серые и невзрачные рядом с роскошным, нездешним салом, согретым стеариновым пламенем свечей. Они как будто были приставлены здесь для охраны зимнего чуда, как будто не хозяевами были, не искусными цветоводами, а слугами холодных, равнодушных цветов, красующихся на виду у прохожих в стеклянных своих дворцах.
Цены на цветы были баснословно высокими — три рубля за штуку. Но никто не роптал.
Возле запотевшего стеклянного чертога, в сияющей туманности которого грудились цветы, Круглов остановился. Тюльпаны, казалось, были фарфоровыми. Он подумал, что за такую красоту на месте хозяев запросил бы в три раза дороже. Велел подать один цветок, не совсем понимая, что делает.
Здоровый сивый мужик в напяленном на шубу белом халате поднял крышку ящика, осторожно вынул, словно опасаясь разбить, верхний цветок и аккуратно завернул его в прозрачный целлофан. Щеки у мужика были свекольного цвета.
Тюльпан, похожий на красотку в нейлоновых одеждах, очутился в руке у Круглова. Он очень смутился, впервые почувствовав рукой хрупкую невесомость цветка, и торопливо пошел прочь.
— А деньги! — услышал он сиплый голос мужика. Круглов остановился, понимая, что это относится к нему, мазанул рукой, нахмурился и, вернувшись, вынул червонец, который подобрал сегодня утром в углу своей комнаты.
— Совсем чего-то, — сказал он виновато, слыша шорох целлофана, напоминавший привычную уже азартную охоту за деньгами. — Извини. Ум за разум… Гоп, тишина!
Он спрятал покупку за душной пазухой, а дома развернул шумно хрустящий, поблескивающий целлофан и бросал цветок на пол, к норе, почувствовав головокружение. Сказал насмешливо:
— Это тебе витаминчики… Любви все возрасты покорны, — забормотал он и улыбнулся, как пьяный, — но денег больше — и любовь сильней… Пригодятся. Гоп, тишина!
Растение лежало цветком к норе. Нижний лепесток, ударившись об пол, безжизненно подвернулся. Животное высунулось на шорох и, увидев цветок, испугалось красной его пасти. Но любопытство взяло верх, осторожное животное, скрывшись было, снова посунулось и вытащило себя из норы, подкралось к тюльпану, приволакивая за собой дохлый хвост, обнюхало цветок и, опять чего-то испугавшись, нырнуло во тьму.
— Не нравится? — спросил Круглов. И ногой отшвырнул цветок к батарее отопления. — Ну ладно! Я тебе сейчас сала отрежу. Видал, какого купил!
Два дня и две ночи Круглов ходил, как лунатик, не спуская глаз с черного отверстия в углу своей комнаты. Кусочек сала лежал нетронутый. Животное не являлось и на посвист, видимо, тюльпан так напугал его, что оно глухо затаилось под полом. Или обиделось на Круглова, который вместо села подкинул ему растение.
Он, конечно, уничтожил тюльпан, измял его, изорвал и спустил в уборную. Протер кусочком сала даже место на полу, где лежал цветок, уничтожив запах, который мог опять напугать животное. Он проклинал себя и свою дурь, мучился, не выходил из дома, сбегав только в поликлинику, за больничным листком, который ему выписали, взглянув лишь на истощенное тоскою лицо с безумоватым взглядом покрасневших плаз. Ему снились страшные сны, как будто он спускался в мокрое и холодное подземелье, полз в полумраке по осклизлым камням, и, задыхаясь, просыпался в поту и предсмертном ужасе, потому что подземелье кишмя кишело пищащими и верещащими крысами, но не было среди них той, какая сдружилась с ним.
Ему было очень плохо. Жизнь потеряла всякий смысл, и, хотя он понимал, конечно, что запасы подпольных денег не бесконечны, ему все-таки чудилось, что там их очень и очень много. Но, спугнув добродушное животное проклятым цветком, он их никогда уже не увидит, животное же прогрызет себе нору у соседей и погибнет, отравленное ядом.
Он боялся уснуть, прислушиваясь к малейшему шороху в спящем доме — до слуха доносились храпы и сонный брад людей, скрипы и стоны, дремотный топот босых ног и шум воды в трубах. И чудилось тогда Круглову, что он лежит во чреве каменного существа, которое переваривает в ночной тишине дневную пищу. А он потягивался с позевотой и слушал, как происходит эта таинственная работа.
Он очень страдал, умоляя животное вернуться, и так измучился, что когда вдруг услышал знакомую возню в подполе и верещанье с писком, то вскочил с кровати, упал на колени, закрыл лицо руками и хотел заплакать. Очень хотел! Но слез не выдавил.
— Пришло, — шептал он дрожащими губами, слыша бумажный хруст и шорох. — Ах ты, господи! Тащит… Ну-ну… Где ты скиталось? Чудо заморское!
Но замолчал, увидев светлеющий клин нарождающейся купюры, которую толкало перед собой вернувшееся животное, — он никогда не мешал серьезной работе, тем более в этот раз.
Тем более в этот раз! Ибо перед умиленным взором растроганного Круглова сиреневой гроздью расцвела купюра достоинством в двадцать пять рублей. В два с половиной раза больше, чем до сих пор! Он, как рыбак, привыкший подсекать и вываживать на берег хороших подъязков, зацепил вдруг крупного язя, в дугу согнувшего упругое удилище, и, с трудом справляющийся с охватившим его волнением и с рыбой, молил теперь небо, чтобы добыча не сорвалась, чтобы все до конца было удачно и рыба оказалась бы у него в садке.
Выпихнуть из норы эту крупную купюру животному было труднее. Круглов хорошо понимал это и с перехваченным дыханием следил за нелегкой работой, с трудом сдерживая себя, чтобы не ринуться на помощь животному.
Но наконец-то измятый комок сиреневого цвета выпрыгнул из норы, скользнув по паркету, добродушная морда животного хитро блеснула веселым глазом, туловище выскользнуло из тесноты шершавой дырки, желтые зубы вонзились в кусочек сала — и животное исчезло.
Круглов, истосковавшийся по добыче, тихонечко, на цыпочках подошел к норе, поднял с пола четвертную и возликовал.
— Ах, рыбка корюшка! — воскликнул он сдавленным шепотом. — Ах, Оля-Олюшка! Ты смотри, что получается! Глубоко копаем! Та-эк! — Срочно сало! Гоп, тишина!
Свежий кубик сала вновь забелел в углу комнаты. Проголодавшееся животное, словно учуяв его, вынырнуло из-под пола и с молниеносной быстротой схватило свею добычу.
В жизни Круглова начиналась новая эпоха. Он даже подумал, грешным делом, что животное, израсходовав все червонцы, может быть, сомневалось, нужны ли человеку новые бумаги; может быть, эти бумаги пахли не так, как прежние, и оно мучилось там у себя в потемках, голодало, но не решалось предложить их в обмен на сало, и только голод заставил поступиться совестью и вывести эту нехорошую, по его мнению, бумагу доброму человеку. Может быть, все так и было, а он напрасно подумал, что животное испугалось тюльпана?
Но, как бы то ни было, вечер оказался рекордным — животное наградило Круглова тремя сиреневыми купюрами. А еще одну он обнаружил утром, выспавшись наконец и воспрянув духом.
Соседи отпраздновали Международный женский день, отшумели, отсмеялись; жизнь опять вошла в привычную колею. Круглов богател, но ни один человек на свете не догадывался об этом. На мебельной фабрике он работал истово, стал еще более молчалив и замкнут и вел себя чуть ли не как глухонемой, зная свои обязанности и исполняя их самым добросовестным образом. Даже женщины, работавшие в цехах, обратили на него внимание, прослышав, что человек бросил лить и взялся за ум, приоделся, обедать ходил в ресторан, который, правда, кормил комплексными обедами почти за ту же цену, что и столовая, но в отличие от столовой блюда на стол подавались официантами. Каждый месяц Круглов получал небольшую премию, и, если его приглашали обмыть ее, он молча доставал из бумажника трешницу и совал в карман приглашавшему.
— Вышей за мое здоровье. Гоп, тишина! — говорил он мрачно, будто ему неприятны были слова и вообще всякий звук, вылетавший из собственного рта. И торопился домой.
Он с детства знал, в юности чувствовал, в зрелых годах надеялся: в жизни его произойдет когда-нибудь что-то такое, что ни с одним человеком на всей земле не могло и не должно было произойти. Теперь, когда это с ним произошло, он понимал, почему никогда никакое учение или профессиональная работа не представляли для него интереса; почему он лениво учился, лениво работал и смотрел на трудолюбивых людей свысока, как на обыкновенных неудачников, которым ничего не светит в их скудной жизни. Все эти радости казались ему неестественными, и он их презирал. Хотя и бездельников тоже не любил, потому что знал, чувствовал, был уверен, что ничего примечательного, достойного у них уж тем более никогда в жизни не случится, что пробудут они свой век в безделье, так и не поняв, для чего и зачем были рождены на свет.
Себя же всегда причислял к избранникам судьбы и теперь безусловно знал, что не ошибся. Единственно, что угнетало его, — это вынужденное молчание, безвестная слава избранника, о котором никто, ни один человек на земле ничего не знает и даже представить себе не может, что он уже есть, этот избранник, живет, ходит в простой одежде, ест простую пищу, ютится в маленькой комнатенке, и поневоле делает вид, что он такой же, как все, трудяга, хотя без зарплаты и премий может спокойно обойтись, позволив себе жизнь богатого бродяги, знающего толк в наслаждениях и презирающего человеческий труд.
Круглов иногда еле сдерживал себя, чтобы не проговориться. Были случаи, когда под ярким солнышком душа его оттаивала и, возбужденный думами о себе, он начинал вдруг издавать кряхтящий стон, с хмурой усмешкой глядя в глаза одутловатого собрата по работе.
— Чего? — спрашивал тот, греясь на весеннем солнышке. — Живот, что ли?
Круглов, перебарывая себя, вздыхал в отчаянии и говорил с мучительным стоном:
— Дурак ты, вот чего…
Но умный собрат по труду был уверен, что он не дурак, и не обращал на слова Круглова никакого внимания.
— Отказываться от привычки вредна, — нравоучительно замечал еж. — Есть даже смертельные случаи. Организм знает, что ему нужно. И отказывать ему не надо — это вредно. Вот у меня, например, два сына, младший в меня пошел — любит соль. А старший в мать — огурцы и помидоры ест без соли. Соль, конечно, вредна для почек, но я люблю соль. И не отказываюсь от нее никогда, потому что, значит, так надо.
А Круглов смотрел на него, корчась от желания ошеломить самоуверенного «дурака», рассказать ему о чудесах, которые свалились на Круглова кучей денег.
— Да ты разве, — говорил еж, с трудом разжимая стиснутые зубы, — от чего-нибудь откажешься?
— А ты? А ты-то?
— Гоп… тишина! — мрачно заключал Круглов.
На фабричном дворе пахло стружкой и ацетоном, на пологой крыше отделочного цеха грелись сизые голуби, спали на солнышке, распушившись и вобрав головы в мягкое перо межкрылий, и были они похожи на маленьких кошечек, разомлевших в тепле.
Денег у Круглова скопилось так много, что стало уже опасно держать их дома, хотя окно и было забрано решеткой. Висячий замок на двери тяжел и внушителен, но отпереть его ничего не стоило даже новичку в рисковом том деле. Круглов врезал, внутренний, номерной, оставив и висячий. Но душа ого была неспокойна в дневное, рабочее время. Ночью теперь не чистят квартиры, а вот день, когда все на работе, стал опасен. Хотя если подумать: кто же полезет в убогую комнатенку одинокого мужчины, в которой холодильник — и тот старой марки? Но именно за холодильником, с тыльной его стороны, в старом детском портфельчике, найденном во дворе, Круглов и прятал свое богатство, перевалившее уже за третью тысячу. Круглову и не снились такие деньги! Конечно, это еще не «Жигули», но ведь и животное не отказывается от сала.
Умное, сообразительное животное! Оно все отлично понимало и тоже по-своему было, наверное, довольно беспечной, сытой жизнью. Мех его приобрел кротовый лоск, выражение носатого лица, когда животное дремало в комнате, возле теплой батареи, было хоть и брезгливо и злобно, как и положено всякому представителю неистребимого племени, но Круглов, однако, находил в нем некоторую благообразность и, что самое главное, глядя на лоб, видел таинственный ум, который как бы отражался на лице брезгливостью к бессильным и глупым обитателям земли, в том числе и к нему, к Круглову, внушая к себе уважение. Рядом с этим животным он порой себя чувствовал неуклюжем бегемотом в вольере, на которого животное поглядывало добродушно, но в то же время высокомерно, как на существо низшего порядка.
Это сопоставление вызывало в нем улыбку, и он, восхищенно глядя на спящее животное, тихо бубнил себе под нос:
— У-у, дракон рогатый! Нажрался… Спишь! Хорошо тебе, перемычка! — (Никогда не зная, какого рода этот дракон, мужского или женского, Круглов думал о нем уважительно как о животном вообще). — Разлеглось тут! Всю комнату загадило, заразным.
Мир да гладь царили в эти минуты в душе умиленного Круглова, хотя и смешно ему было отвлечься порой от действительности и взглянуть на себя со стороны. Здоровый мужик в тренировочном костюме, толстоногий, с мощными ляжками, распиравшими синий трикотаж, с железными от переноски тяжестей мышцами плеч, груди и живота, он и в самом деле попал в кабалу к своему животному, был зависим от его загадочного рассудка, который в любую минуту мог выкинуть что-нибудь неожиданное, какое-нибудь такое совершить действие, которое то ли в уныние ввергнет, то ли в радость — никогда не угадаешь.
Круглов очень устал от всех этих нервных забот, от бессонницы и от физической нелегкой работы. Иногда общее утомление сказывалось так ощутимо, что он чуть ли не в обморок падал, теряя всякие силы и едва добираясь до постели, чтобы провалиться в мертвецки тяжелый сон. И в конце концов он понял, что ему необходим отдых.
А весеннее солнце тем временем уже растопило снег не только в городе, но и в окрестных лесах. На вечерних зорях над розовыми теплыми березняками тянули вальдшнепы, встречая выстрелы охотников с безразличием фанатиков, умолкая лишь на короткое время, если вдруг сноп визжащей дроби просекал воздух слишком близко. До темноты в лесу красиво и гулко пели дрозды-дерябы. Рябинники со своим сплошным щебетом умолкали, а дерябы пели до первых звезд, затихая сразу, как по команде, незадолго до окончания вальдшнепиной тяги.
Тишина весеннего леса, нарушаемая журчащей водой, была сродни той мерцающей звездами небесной тишине, в просторах которой высоко пролетали звенящие далекими турбинами, холодные, неземные, самолеты. Последний вальдшнеп в земных пределах, пронзительными высвистами врывался с запоздалой своей страстью в лесную тишину и, невидимый, призрачный, тянул в потемневшем небе над оцепеневшими березами, похрипывая в любовном азарте и резко всвистывая таинственную песнь в молчаливый лес, — один во всем подзвездном мире славящий весну.
А полая вода меж тем скатилась уже в реку, вспучив ее и замутив; перелетные птицы, осев в окрестностях, занялись строительством гнезд и брачными игрищами; перезимовавшая под снегом трава радовала глаз, уставший от зимней белизны; на солнечных припеках светились желтые низкорослые цветочки мать-и-мачехи, а в городских скверах и парках набухли и позеленели на дымчатых ветвях почки сирени.
Круглов надел свой югославский плащ цементного цвета, накинул на короткую шею шелковистый шарф, сунул руки в шелковистые карманы и пошел по улице поблескивая новыми ботинками. Ему нужен был почтовый конверт и бумага.
Терпение лопнуло. Он больше не мог скрывать свою тайну и понял, что настало время попроситься в отпуск, махнуть куда-нибудь подальше и, набив карманы деньгами, пожить немножко так, как положено богатому и нестарому человеку. У него имелся заветный адресок, оставленный когда-то человеком с юга, с которым он работал в одной бригаде на арматурном заводе. Он помнил запах железной окалины, игольчатые ее уколы, когда она отскакивала в лицо со сгибаемой в станке проволоки, помнил красные от ржавчины рукавицы, дребезжащий грохот железной арматуры, однообразный запах горячего обеда и тяжелый храп лысого южанина, спавшего рядом. Куда ни посмотришь, всюду зеленели, золотились масляными стволами густые сосны, от запаха которых Круглову делалось тошно. Он не любил вспоминать о том времени и о тех местах, сумев в конце концов сделать так, что вычеркнув из памяти, из жизни те годы, обманул себя и поверил, что ничего этого не было.
Был только южанин, его рассказы о богатой жизни в теплой стране, о Каспийском море и о терпких, густых винах. Звали его Саша, Александр Борисович Кантонистов, единственный человек, которому Круглов, по старой памяти, мог доверить тайну.
Надежды, правда, было мало, что тот откликнется, приедет, поживет в его комнатенке, но все-таки Круглов, давно не писавший, старательно выводил строчки письма: «Хорошо тебе бичевать, а тебе дело человек предоставляет. Делом пора заняться. Дело такое, в письме не напишешь. Вместе будем в зените славы. Приезжай, сам увидишь. Поживешь в моей лачуге и уедешь довольный. Дело чистое. Даже смешное. Приедешь, увидишь сам. Брось телеграмму, буду ждать. Поговорить надо. Прошу тебя», — писал он, сидя за казенным столиком на почте.
Опустит письмо в ящик с таким чувством, будто сделал что-то не так, очень растерялся, когда услышал, как письмо стукнулось о донышко: теперь уже не вернешь. И стал ждать телеграмму.
Но Александр Борисович неожиданно приехал сам и привез с собой товарища, имя которого было Ибрагим. Когда Круглов увидел Кантонистова, радость его омрачилась — перед ним стоял холеный подозрительный белолобый мужчина в дорогом кожаном пальто. Сашка, как привык называть его Круглов, не бросился в объятия, не прослезился, а холодно подал руку, на безымянном пальце которой тяжело блеснула золотая печатка.
— Тебе повезло, — сказал он. — А вот мой друг, у него тут сын, скажи ему спасибо, — уговорил. Времени нет! Ну, здравствуй… Нет времени совсем! Тебе повезло! Круглов обиженно сказал:
— Тебе, может быть, тоже.
— Ах, чудной человек! — воскликнул неузнаваемый Сашка и рассмеялся добродушно. — Извини, но в прошлое дороги нет. Задний ход я не даю. Что у тебя за дело? Где зенит нашей славы? Ну?! Это все, что ты имеешь? — спросил, окидывая взглядом убогое жилище. — Хижина! Вижу, что хижина, а это уже хорошо — не обманул. Ты честный человек.
— Да уж не трепач, — с усмешкой сказал Круглов. — Не пожалеешь, что приехал.
Кантонистов был ошеломлен, когда увидел чародейство Круглова. Ибрагим сидел с пылающими щеками не веря в чудеса, и долго не мог прийти в себя, ощупывая купюру, принесенную животным. Кантонистов поглядывал на Ибрагима, Ибрагим — на Кантонистова, а вместе они с недоверием смотрели на Круглова, который скромно торжествовал.
Была глубокая ночь, когда все это произошло. Приехали они перед полночью и, конечно, шумом шагов и разговорами смутили животное, и оно не сразу: откликнулось на призывное посвистывание.
— Я готов, — сказал Кантонистов, пронзительно глядя на Круглова, когда на улице стало уже рассветать. — Я согласен. Ибрагим поедет с тобой, а я останусь. Ты хорошо отдохнёшь. Договорились? А теперь, — добавил он, постучав ногтем по часам, — теперь заедем к одной красавице, посмотрим на мальчика и примемся за дело. Времени, товарищи, нет! — воскликнул он, играя роль деятельного распорядителя.
После бессонной ночи они и заявились к Геше, сказав, что нагрянули прямо с аэродрома, с неба, так сказать; на голову. Подозрение Геши, которая заметила странное их поведение, оказалось ложным: они устали и торопились отдохнуть после дороги и всякой чертовщины, от которой гудели их возбужденные головы. Другое дело, Ибрагим! Его поведение было, конечно, странным, и Геша имела основания заподозрить его в преступных намерениях. Но вот в каких? Об этом она ничего не знала и даже не догадывалась, пока перед ней не раскрылась тайна, повлекшая за собой, увы, опять трагедию.
3
Однажды теплым вечером, когда окно было настежь распахнуто, Геша, делая последние мазки на весеннем, порыжелом своем лице, услышала звонок в дверь. Звонок мелодичным колокольчиком вплелся в веселье радостных звуков, которыми были наполнены комнаты: в доме звенела джазовая музыка, а за окном, на позолоченные ветвях распускающегося тополя чирикали и поцелуисто пели воробьи. Казалось, будто чирикали сами нежно-зеленые лопнувшие почки. Из музыкальной этой шкатулки Геша не сразу услышала звонок, а только со второго раза, хотя и ждала его.
На ней было лилово-дымчатое платье с перламутровой брошкой в виде большой и тоже темно-лиловой бабочки: Геша себя чувствовала в этот светлый, розовый вечер созданной для повелительных взоров и жестов. Веснушки, которые высыпали рыжеватым загаром на окрылках носа, только молодили ее лицо и, притуманенные пудрой, казались искусственным оттенком матовой кожи, как если бы изощренная модница нанесла их в минуту озарения тонкой кистью фантазии и удивилась сама своей удаче.
Она знала, что тот, кто сейчас увидит ее, будет поражен, и, сбегая вниз, часто-часто щелкая каблуками по деревянным ступеням, словно бы слышала себя и видела со стороны легкую, лилово-дымчатую, душистую и очень красивую.
В этот вечер она не могла ошибиться! Человек, который заехал за ней, был смущен и озадачен, точно встретился с незнакомой и очень красивой женщиной, выдававшей себя за Гешу, и мучительно думал теперь, что ему нужно делать и как себя вести с ней: верить или не верить. Так, примерно, ощутил себя рядом с Гешей капитан Корольков, никогда не упускавший случая что-нибудь приятное сказать ей в былые дни, которые далеко отодвинулись теперь, убежали длинным эшелоном в туманную даль и, отгромыхав, уступили место тихому празднику.
Боже, боже, где те легендарные мужчины, которые при виде такого чуда припадают на колено и, покорно склоня голову, ждут приказаний госпожи своего сердца?! В каких дебрях истории затерялись они? Или изощренный ум поэта извлек этот образ из своего сердца, отдав ему кровь и душу, чтобы он вечно напоминал живущим на земле об упущенных человечеством возможностях? Или о заблуждениях, о падении нравов и обнищании душ, не способных торжествовать над бездной унылых будней… Может быть, Геша не зря говорила, что чтение художественной литературы вредно? Может быть, и в самом деле оно порождает иллюзии, утрачивая которые, человек разочаровывается в жизни?
— Нет слов! — только и сказал капитан Корольков; когда Геша, источая нежнейший аромат, шла с ним рядом к ожидавшей автомашине.
Нет слов и у нас продолжить описание той прелестной, притягательной красоты, которая в этот вечер несла на своих крыльях возбужденную и жаркую, податливую на внимание мужчин, милую Гешу, приглашенную друзьями в ресторан, чтобы отпраздновать там день рождения диктора местного радио.
В гостиничном ресторане играла музыка, и ее было слышно с улицы. Геше сегодня нравилось, что оркестр играл так громко.
— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, — говорил знакомым громким голосом очень вежливый, целующий руку диктор радио, встречая Гешу возле безлюдной в этот час стойки администратора, за стеклами, за деревянным барьером которой сидели молоденькие женщины. Одна из них знала английский, изучив его в институте иностранных языков в Москве, другая — немецкий, одну из них звали Валентиной, другую — Таней. Танечка в этот вечер была тоже приглашена на ужин и зашла за барьер по привычке. Все были счастливы видеть друг друга, всех впереди ожидал долгий и шумный вечер, чуть-чуть похожий, может быть, на карнавал без масок, хотя все они знали, что маски мелькают в ресторане на каждой странице прейскуранта. Это всегда, сколько помнила Геша, было предметом для шуток и смеха: «Беф-бризе, соус-загадка! — говорил кто-нибудь, читая тяжелый прейскурант. — Держу пари, это котлета с рисом, орошенная супом!» Все смеялись, словно каждому было приятно разгадывать французско-русский кроссворд и при этом убеждаться лишний раз, что никакой загадки нет и бризе тоже нет, зато все воочию убеждались в исключительной любви шеф-повара к домашним котлетам и рису. Белая масса отваренного риса выкладывалась на тарелку двумя полусферами, с помощью разрезанного пополам резинового мяча, с розовыми кусочками свеклы на вершинах. Удивительное воображение шеф-повара повергало мужчин в восторженную истому: недоваренный рис разрушался их вилками со сладострастным вожделением, точно они никогда ничего вкуснее не пробовали в жизни. Котлеты тоже шли за милую душу. Из них торчали веточки петрушки, как будто котлеты были подстрелены поварам в тот самый момент, когда они лакомились зеленью, и, зажаренные, были поданы прямо с зеленого луга за пиршеский стол. Да здравствует беф-бризе! Да здравствует соус-загадка! Древние римляне, возлежавшие на бражном пире в полузабытой истории, никогда не видели такого риса и таких котлет. Что там колбасы, вываливающиеся вместо кишок из зажаренного на вертеле оленя! Что там живые голуби, вырывающиеся на чрева жареного вепря, которому по мановению пьяного хозяина вспарывали брюхо счастливые рабы, гордясь своим кулинарным искусством. Блюда эти давным-давно известны благодаря римским сатирам. И ни один современный интеллигентный человек даже бровью не поведет, окажись он по воле машины времени на том разухабистом и обжористом пиру! Какие живые голуби? Что за издевательство над бедными птицами, упрятанными в душное брюхо свиньи! И при чем тут жареные колбасы? Зачем все эти громоздкие и противоестественные фокусы, когда есть котлета с зажатым листиком петрушки в поджаристой мордочке, есть нежнейшие и белейшие грудки риса со свекольными сосочками и есть неуловимый аромат соуса-загадки? Пируй, веселись, смотри, как блестят женские глаза и губы, кричи на ухо своей соседке любовные слова, благо никто, кроме нее, не услышит, потому что оркестр в ударе, и, еще немножко, музыканты, заложившие беруши в ушные раковины, взорвутся со своими инструментами и превратятся в облако дыма или в конце концов не выдержат бешеного темпа и оборвут на громовой ноте популярную танцевальную музыку. Интуристская гостиница до полуночи слышит подземный гул, похожий, наверно, на гул землетрясения, и, может быть, даже потихонечку шатается в ритме скорострельного барабана, в пушечном его гуле, зудом ползущем по бетонным перекрытиям полустеклянного, полукаменного здания, на мирных этажах которого сидят за столиками тихие дежурные, кроткие стражи порядка и нравственности.
И как же хочется нырнуть из этой тишины в звенящий грохот и шум, в сверкающее множество бело-скатертных столов, в заманчивый и грозный мир, мутящий разум и волю. Так страстно хочется принять добровольную пытку молодым людям, стоящим у стеклянных, запертых дверей.
Но лишь компанию из шести человек — трех женщин, одетых одна другой лучше, и трех обыкновенных мужчин, — провожаемую завистливыми взглядами, пропускают сквозь эти стеклянные двери, как будто срабатывает фотоэлемент, распахивая перед ними прозрачные створы.
Они идут, иронически улыбаясь, как идут люди на пошлое зрелище, отдавая себе отчет в том, что делают, и осознанностью этой возвышаясь над человеческими страстями и слабостями.
То была, конечно, компания, которая праздновала день рождения диктора радио, человека в городе известного и уважаемого. Накрытый на шесть персон угловой стол мерцал фарфором и стеклом, пестрел салатом, который лоснился свекольными, морковными, яичными, огуречными изделиями, изображавшими розы и другие фантастические цветы, растущие среди зелени лука и петрушки. В этом ресторане заведено было встречать гостей, заказавших стол, тоже цветами, но только не настоящими, а бумажными, похожими на георгины. Какой-то искусник так наловчился делать бумажные георгины, что, по всей вероятности, получал надбавку к зарплате. По мнению организаторов этой местной традиции, новшество было выгодно всем. Над этой традицией тоже шутили острословы. Не остались в долгу и на сей раз, покачав головами и вздохнув. Но никто не хотел обращать особого внимания на укоренившийся обычай, никто не хотел портить праздничного настроения. Официантка, заждавшаяся гостей, была так вежлива и услужлива, что улыбки вскоре вновь запорхали над овощными розами, над пожелтевшим майонезом, над красным, золотистым, прозрачным сиянием стекла. Конечно, фужеры не для вин, но что поделаешь! Стоит ли огорчаться из-за таких мелочей, когда перед тобой знаменитый диктор радио, которому завтра исполнится тридцать пять лет, когда на тебя посматривают в красноватом полумраке глаза друзей, а черные испанские маслины, жирно поблескивая в белом фарфоре, просятся на зубок!
Но странное дело! Чем дольше тянулся вечер, тем печальнее становилась Геша, хотя она танцевала и с диктором, и с капитаном, и с Танечкиным мужем, и опять с милейшим диктором. У него вместо галстука была коричневая бабочка в белый горошек, он что-то говорил, говорил, говорил, как радиоприемник, который, увы, невозможно выключить, а она улыбалась, улыбалась, улыбалась, чувствуя затылком чей-то внимательный взгляд, неприятный, пронзающий импульс из зала, словно кто-то следил за каждым ее движением, не сводя с нее глаз. Она оглядывалась, но видела людей, занятых только самими собою. Ощущение тревоги росло с каждой минутой, Геша нервничала и с трудом уже управляла мышцами улыбающегося лица, боясь показать тревогу друзьям.
А тут как раз подошла ее очередь произносить тост, и самозваный тамада, не по возрасту полный, розовощекий муж Танечки, заставил ее, растерявшуюся, говорить. Она говорила явную глупость и, говоря, знала это, мучаясь чуть ли не до слез, когда слышала свои слова о том, что она просыпается под голос новорожденного и засыпает тоже под бархатистый его баритон и что теперь она счастлива лично пожелать ему здоровья и радости в жизни и что единственным ее желанием является желание сейчас же услышать привычную фразу, которая всегда придает бодрости и уверенности, и что она очень просит сказать его: «С добрым утром, товарищи»…
Диктор был очень тронут, друзья тихонечко похлопали в ладоши, когда он, глядя увлажнившимися глазами на Гешу, сказал дрогнувшим голосом:
— С добрым утром, товарищи!
Геша была смущена, не ожидая от себя такого вопиющего лицемерия, и тряслась в мелком противном смехе, пряча глаза от диктора, который ей напомнил вдруг попугая, сказавшего по ее велению: «С добрым утром, товарищи!» — звенела ножом, старательно нанизывая на вилку зеленый горошек, а сама нервно смеялась, недовольная собой и расстроенная окончательно.
Когда же умолк оркестр, певец, исполнявший ресторанные песенки о любви, объявил на весь зал, что среди гостей присутствует известный всем человек, голос которого каждый горожанин слышит ежедневно, и что человек этот — диктор местного радио — празднует день своего рождения. Певец призвал всех поздравить диктора и пожелать долгих и счастливых лет жизни. Геша совершенно расстроилась, не зная, что и подумать.
Оркестр заиграл выход тореадора из знаменитой «Кармен», публика нестройно зааплодировала, кто-то крикнул: «Ура!» — вызвав шумный смех, а диктор стоял и раскланивался, прижимая руки к груди. Он так расчувствовался, что даже послал воздушный поцелуй оркестрантам, бравурно игравшим в честь его классику, приложил две ладошки к губам и словно бы выпустил невидимого голубя, молитвенно разведя руки и устремив их в сторону эстрады.
— Да, да! — нервозно воскликнула неуправляемая Геша. — Очень торжественный момент! Очень! Я просто никогда еще… — говорила она, охолаживая себя и приводя в чувство, — не имела такого удовольствия сидеть за одним столом со знаменитостью… Впечатление на всю жизнь! До гробовой доски. Конечно! — чуть ли не вскрикнула она. — Конечно, Верди — великий композитор, но зачем же… При чем тут ресторан?!
Диктор очень вежливо улыбнулся, правильно оценив накалившуюся обстановку, и с легким наклоном головы заметил:
— Да, разумеется… Верди велик… Но и Бизе, я бы сказал, тоже…
Этого только и не хватало Геше! Она почувствовала, как жар окутал ее глаза и затмил весь свет, а она одна-одинешенька, на виду у всех, такая непросветная дурочка, спутавшая Верди с Бизе, сидит голенькой…
— Господи, — сказала Геша очень серьезно. — С ума сошла. — И тряхнула головой, как подавившаяся утка, из стороны в сторону.
Тишина, воцарившаяся за столом, и то смущение, которое испытывали теперь друзья, сочувствуя Геше, вынужденное молчание, довлеющее над застольем, — все это показалось ей вечностью, провалом в бездну, кромешной тьмою и страшной душевной мукой. Выйти из этого состояния было очень трудно, хотя, казалось бы, ничего особенного не произошло: вспылила, ошиблась сгоряча — всего-то! Но у кого из людей чувствительных и самолюбивых не случались в жизни подобные казусы, или, как говорил один летчик-испытатель, обалдения, коэффициент которых равен единице? Он, правда, вывел коэффициент по-другому, куда более серьезному поводу, но что-то подобное было и за праздничным этим застольем. Люди как будто потеряли способность управлять своими эмоциями, не могли стронуться с места даже в мыслях, которые как бы увязли в болоте смущения. Нужна была посторонняя помощь, чтобы вылезти из затягивающей все глубже и глубже трясины.
Именно в этот критический момент, когда лица всех присутствующих обрели оттенок идиотизма, Геша резко поднялась со стула.
— Геша! Геша! — воскликнули все. — Георгина Сергеевна! Геша! Куда это? Ну что такое?! Геша!
— С добрым утром, товарищи! — сказал словно очнувшийся после глубокого обморока, обескураженный диктор. — Продолжаем нашу программу…
Он чуть ли не силой усадил Гешу за стол, за которым раскрепощенные, обретшие свободу, вольные в своих проявлениях друзья смеялись так, что стали оглядываться люди с соседних столиков.
Геша тоже стала оглядываться, делая это молниеносным движением шеи, случайно взглядывая на соседей, постреливая глазами и тут же прячась, словно всего-навсего нервно потряхивала прической, откидывая при этом рукой пружинки волос, спадающих на виски. Но взгляд ее был исключительно зорок в эти мгновения. Ей показалось, когда диктор усаживал ее за стол, что в поле ее зрения возникло вдруг напряженно внимательное лицо, которое она совсем недавно видела в своем доме, а потом гналась на автомашине, спутав это лицо с другим. Неожиданно, как предательский удар, над ухом у нее раздался знакомый голос:
— Я приветствую вас, Георгина Сергеевна… Перед ней стоял, конечно, Кантонистов, ни фамилии, ни имени которого она еще не знала.
Геша очень испугалась, увидев его.
— Прошу прощения, — сказала она, взглянув на капитана, который удивленно поднял брови, и на всех друзей, разглядывающих незнакомца. — На минуточку… — И, быстро встав, увлекла за собой Кантонистова в гардеробное помещение, где возле окна стояли стулья.
Села, пригласив его сделать то же, и он подчинился. Возбуждение ее достигло опасного предела, она слышала влажный стук сердца, ей было жарко, лицо горело, мысли путались, она не могла объяснить, зачем утащила за собой этого человека, понимая лишь одно: друзья могли принять этого субъекта за хорошего ее знакомого.
— Во-первых, — сказала она, переводя дыхание, — я не знаю вашего имени и фамилии… Я не люблю разговаривать с безымянными предметами… Итак?
— Александр… Кантонистов, — ответил тот, шаркнув кожаной подошвой по полу. — Разве Ибрагим не сказал?
— Нет. Он повел себя странно. Кстати, он тут?
— Он дома. Я здесь один.
Она испытующе оглядела Кантонистова. Воротничок голубой рубашки на перламутровых пуговках, темно-серый, тяжелый, поблескивающий костюм, галстук в красную, вертикальную полоску и, конечно, «Саламандра», начищенная до лакового лоска… На руках надутые жилы под черными волосами. Он доверчиво улыбался, тоже разглядывая ее с любопытством, как если бы сравнивал с той Гешей, которая с припухшими после сна глазами, бледнолицая и недовольная, резкая, встретила их ранним утром.
— Ну, хорошо, — сказала она. — Я верю. Признаться, я не должна была бы… потому что… вы начали знакомство с вранья. Терпеть не могу, когда мужчина врет! Это вызывает физическое отвращение, гадливость. Что тут у вас за дела? Зачем приезжал Ибрагим?
— Ибрагим идиот, — сказал Кантонистов, не слыша ее вопросов. — Расстаться с такой женщиной! Глупый человек, — объяснил он с дружеской, доверчивой интонацией и досадливо причмокнул губами.
— Не хотите отвечать. Что за секреты? Я ждала вас вечером того же дня, Ибрагим почему-то тайно пришел…
— Не тайно! — воскликнул Кантонистов. — Зачем ему тайно, если он хотел посмотреть на сына. Он только для этого и летел сюда. Честное слово! Случайно узнал, что я собрался в этот город, — вот и все! Купил танк, взял билет и полетел. Какая тут тайна?
— А почему не пришли вечером?
— Времени нет! Дела! Никакой тайны, честное слово! — похохатывая, говорил Кантонистов. — Если хотите знать о моих делах, вы не поверите! Я любопытный человек, и все! Меня поманили пальцем, сказали, есть уникальное зрелище, а я любопытный… Я живу в бедной лачуге. Зачем мне говорить вам это? Даже не могу пригласить в гости… Я сиделка… Хозяин уехал отдыхать, оставил вонючее животное, я должен кормить его салом… Вы мне не верите? Ха! Я сам себе не верю! — сказал Кантонистов, хлестко шлепнув тугую свою коленку. — Честное слово!
Судя по его странной, но как будто правдивой исповеди, ясно было, что от Ибрагима он кое-что узнал о ней, и Геша терялась теперь в догадках, почему он так откровенен и зачем ему надо было подойти первым.
— Я вам не верю, — сказала она. — Что значит бедная лачуга, сиделка, животное? Что вы мне голову морочите?
Кантонистов взглянул на часы, постучал ногтем по стеклу, сказал решительно:
— Нет десяти… Я не люблю, когда мне не верят. Бросьте ваших пижонов, поехали, я вам покажу лачугу, животное, и вы все поймете. Этот хмырь, вы помните, он приходил к вам, так загулял, что его не прогонишь теперь домой. А мне надоело! Он мне подсунул липу! Это очень смешно.
— Во-первых, — строго сказала Геша, — я не знаю, кто вы и зачем вы здесь… И прошу моих друзей не называть так, как вы изволили их назвать. Или только в лицо, если вы мужчина… Иначе это подлость. А во-вторых… — Геша задумалась на мгновение и твердо сказала: — Поехали.
Этого, видимо, не ожидал Кантонистов и взволнованно воскликнул:
— Я гарантирую!
— Что?
— Все! Безопасность, хорошее настроение. Немножко развлеку и привезу обратно, если вы пожелаете… Клянусь!
— Пожелаю, пожелаю…
Геша вернулась к столу, встретила тревожный, вопрошающий взгляд капитана.
— Я на часок, — сказала она, поведя глазами в сторону двери. — Я обязательно вернусь.
Капитан незаметно кивнул ей и, взяв салфетку, стал торопливо вытирать губы.
— Нет, нет, — сказала Геша, обращаясь уже ко всем, — вы оставайтесь, веселитесь, а мне необходимо отлучиться на часок… Это очень важно. До скорого! — Она помахала стиснутыми пальцами, держа руку возле груди, сощурилась в улыбке, как бы прося прощения, и потаенно спросила глазами у капитана: «Что ты хочешь делать? Ни в коем случае, ты мне не нужен».
«Почему? — так же потаенно спросил насторожившийся капитан. — Я это сделаю, как надо».
«Нет, я прошу тебя. Ты можешь все испортить».
«Хорошо, хорошо, я остаюсь», — ответил капитан и, покорно опустив глаза, положил салфетку на стол.
— Мы вас не отпустим, — сказал диктор. — Я довольно скоро должен родиться, часов через пять или шесть… Как сейчас помню…
Кантонистов ждал ее, надев черную кожу, помог одеться Геше, подержав ее плащ за лацканы, распахнул перед нею дверь, сунув швейцару деньги, взял вскоре частника на «Жигулях», быстро договорившись с ним об оплате. Геша спустилась по ступенькам гостиницы и огляделась по сторонам. Садясь уже в машину, увидела и услышала с нежным чувством облегчения, как на больших оборотах греется двигатель «Москвича», на котором привез ее сюда капитан.
В новенькой, душистой и уютной «шестерке» звучало радио, машина легко разогналась и бесшумно катила по темной улице, освещая серый асфальт ближним светом. Геша удивленно улыбалась, видя боковым зрением не отстающего от них, растворенного во тьме сизого «Москвича».
«Чудак, — думала она с волнением, — он ничего не понял. Ровным счетом ничего. — Но ей было приятно, что Капитан не понял ее и все сделал по-своему. — Так, а теперь мы свернули на Никольскую, — размышляла она. — Ага, понятно… Но что же он хочет предпринять?»
«Москвич» ехал следом метрах в пятнадцати, и Геше казалось, что Кантонистов в любой момент может обнаружить преследование — так явно и неумело вел свою машину по следу капитан. Но Кантонистов, кажется, дремал, уронив голову на грудь. Возле старого двухэтажного дома он огляделся и велел водителю остановиться. Геша заметила, как «Москвич», замигав сигналом левого поворота, проехал мимо и свернул в ближайший переулок, темнеющий с другой стороны улицы, наискосок от дома, куда повел Гешу полусонный и молчаливый Кантонистов.
Темный двор, тусклая лампочка над крылечком, полутьма каменной лестницы, ведущей наверх, четыре двери первого этажа, бряканье и звон ключей, которые Кантонистов вынул из кармана. Одним из них он отпер входную дверь коммунальной квартиры.
Геше стало не по себе, когда он, обняв ее за плечи, подтолкнул в желтый полусумрак длинной и тесной прихожей.
— Соседи, — прошептал он и поморщился.
На деревянной, крашенной в коричневый цвет, филенчатой двери висел тяжелый замок.
— Экзотика! — шепотом сказал Кантонистов, отпирая висячий замок, а потом другой, внутренний.
Он был мрачен и казался очень усталым.
— Что это по-вашему? — спросил он, зажигая свет в маленькой комнатке. — Разве не лачуга?
Геша подумала, что капитан, конечно, заметит свет, зажегшийся в туманном окне, и на душе ее стало полегче.
— Ну, хорошо, — сказала она с усмешкой. — А где животное? Вообще я боюсь собак и ждала какое-нибудь чудовище.
— Подождите, — устало сказал Кантонистов. — Может быть, и увидите… Это, действительно, чудовище…
Геша брезгливо села на краешек стула с грязной засаленной обивкой неопределенного цвета и огляделась. Комната как комната, маленькая, рассчитанная на одного человека, и то очень неприхотливого. Окно заложено картоном. Грязное, мутное стекло. Амбарный замок на столе, куда положил его Кантонистов. Кружевной клочок обгрызенной какой-то… нет! Это была не просто бумага! Это был клочок двадцатипятирублевой купюры! Она удивленно взглянула на Кантонистова, а тот, нахмурившись, смахнул его на пол, как мусор, сделав это слишком поспешно и притом постаравшись скрыть это движение от озадаченной Геши.
— Времени нет! — сказал он, разводя руками. — Некогда убраться. Я вам говорил! Всюду мусор. Не привык жить без женщины… Женщина в доме — это всегда порядок. У вас не болит сегодня голова? Какое-то проклятие… А собственно, зачем мы с вами приехали в эту лачугу? Скажу откровенно, меня обманули. Я завтра же улетаю домой. Что будем пить? Здесь нет даже приличной рюмки! — Пейте, что хотите, меня увольте. Кантонистов снял пиджак. На покатых плечах, на рубашке маленькие погончики. Взгляд его был потухшим, как будто он обратил его вовнутрь, прислушиваясь к самому себе. Ни улыбки, ни движения на безжизненном, бледном лице.
Достал из маленького холодильника початую бутылку пива, на ходу поддав носком ботинка лежащий на полу кружевной, очень странный клочок купюры, загоняя его под холодильник. Геша заметила это и зябко передернула плечами. А Кантонистов, стоя, кивнул ей, залпом выпил пива из горлышка и зажмурил глаза.
— Вот что интересно! — сказала Геша, поднимаясь. — Вы меня позвали продемонстрировать свое искусство пить из бутылки?
— Подождите, — ответил Кантонистов, махнув рукой. — Мне нужно прийти в себя. Я ж вам говорю, очень устал! Не могу жить, ночевать, спать на паршивой этой постели, боюсь одиночества. Дайте прийти в себя! Мне необходимо с вами поговорить. — И он внимательно, исподлобья, долго смотрел в глаза Геши.
Она с трудом выдержала этот взгляд, чувствуя, как дрожат веки и ресницы.
— Дайте прийти в себя, — повторил он. — Тоска! Вы знаете, что такое тоска? Женщинам не дано почувствовать. У них другие заботы. Тоскующая женщина — это всего навсего женщина, которую разлюбил мужчина. Мыльный пузырь. Простите за откровенность, — сказал он, усаживаясь на кровать.
— Бог простит, — отшутилась Геша.
— Никогда так не тосковал. Никому никогда не жаловался. Цените! Что за город такой тоскливый?
— Уже оценила. Что дальше?
— А дальше? Сядьте, пожалуйста. Стул грязен, как капот грузовика. Что я могу? Садитесь на кровать. Здесь почище. Но вы не захотите, знаю… Как же! И правильно сделаете. На кроватях не сидят. Особенно в таком платье. Красивый цвет: не лиловый, не серый… Ибрагим дурак… — сказал он, превозмогая себя. — Мальчишка, ай-яй-яй!
Речь Кантонистова стала медлительней, тупее, а глаза, взгляд которых был направлен на Гешу, сделались совсем каменными — голубовато-серыми халцедонами в пасмурную погоду, когда ни один лучик не светится в глубине.
— Я думал о вас, — сказал Кантонистов. — Ложился на эту, не знаю, как ее назвать, и единственное мое спасение — вы… Все эти дни вы были рядом…
— У вас больное воображение. Чья эта комната?
— Я ведь не задал вам еще ни одного вопроса, едва ворочая языком ответил Кантонистов. — Мне не хочется слышать и от вас. Устал. Давайте помолчим.
— Глупость какая-то! «Помолчим»!
Перед ней сидел на застеленной кровати дьявольски усталый или мертвецки пьяный человек, принадлежащий к тому кругу друзей Ибрагима, в котором не принято было церемониться с женщинами. Жить просто так из дружеских чувств в «бедной лачуге», не получая выгоду от вынужденных неудобств? Что же его удерживало здесь? Какие-то дела… Почему обрывок купюры валялся на столе? Все это угнетало Гешу, а деньги, которые опять, как когда-то, бросились ей в глаза, наводили на мрачные предчувствия, словно пробудившийся инстинкт пророчил беду, тревожа Гешу и побуждая к каким-то неясным действиям.
В наступившей тишине она услышала вдруг подозрительный шорох в темном углу комнаты. Пращуровский страх холодным дождем окропил кожу.
— Тихо, — шепотом сказал Кантонистов, подняв указательный палец. — Животное идет. Не пугайтесь. Темный угол, с которого не сводила глаза обомлевшая Геша, зашевелился, что-то сдвинулось там, тьма прорезалась светлым пятном и другой тьмой, мелькнувшей в непредсказуемом судорожном движении… Геша попятилась к двери, увидев большую крысу, кинувшуюся в шалом беге к холодильнику… Крик, готовый вырваться из груди, застрял у нее в глотке. Глубоким испуганным вздохом она словно бы загнала этот крик в свою грудь, погасив его ахающей, шепотливой, сиплой струей воздуха.
— Проклятие! — услышала она голос Кантонистова и увидела его бросок к столу, тяжелый и плавный, как погружение в воду моржа или сивуча. — Она смеется надо мной!
Мелькнула рука, схватившая тяжелый амбарный замок. Геша увидела резкий замах и услышала грохот массивного замка, пущенного, как из пращи, в засуетившуюся крысу, которая была отброшена ударом к стене, опрокинута на спину…
— Господи! Что вы делаете?! — воскликнула она, глядя на Кантонистова. — Что это?
— Животное, — ответил он мрачно. — Сушит лапки…
Крыса, вздрагивая в последних конвульсиях, сучила маленькими ножками, словно бежала, бежала в ужасе от мучительной боли, на которую она никак не рассчитывала в этот вполне обычный вечер долгой ее жизни. И не могла убежать.
Все это произошло на глазах у Геши и произошло так быстро, что она не успела всерьез испугаться и, не понимая ничего, схватила плащ. Но Кантонистов, ринувшись в угол, поднял что-то с пола…
— Видите, что она делала, — вскричал он, держа это что-то в руке. — Посмотрите! Мне надоело! Еще немножко, и я сошел бы с ума. Она жрала где-то деньги и делилась со мной огрызками. Вот! Эта пятерка… Да — пять рублей… Она издевалась надо мной! Вот! Смотрите. Вы любопытная, хотели все знать… Смотрите во все глаза и слушайте, иначе я сойду с ума.
Кантонистов облизывал сухие губы и казался в самом деле сумасшедшим. В левой руке его трепетал в трясущихся пальцах клочок синеватой бумаги, в… правой он держал, как камень, бурый от въевшейся ржавчины тяжелый кусок железа с болтающейся дужкой. Лицо было искажено ужасом, как будто он только что убил человека.
— Вы свидетель, — сказал он, ткнув рукой в сторону дохлой крысы.
Он тяжело дышал, поглядывая то на Гешу, то на замок в руке, в который он вцепился с такой бешеной силой, что побелели пальцы.
— Проклятие! Зачем это нужно? Устал! Честное слово! Вы мне не верите? Вот — убил…
Он взглянул на замок и осторожно положил на стол, огрызок пятерки выбросил на пол. Отряхнул руки, попытался улыбнуться…
И вдруг глаза его подернулись пепельным страхом: дверь в комнату бесшумно отворилась, и человек, стукнув тяжелым чемоданом о косяк, запыхавшись, вошел, возник, образовался, как только что в углу образовалась крыса, валявшаяся теперь с оскаленными желтыми зубами, с мокрой мордой у стены.
Геша метнулась в раскрытую дверь, выбежала из комнаты и, толкнув в коридоре какую-то женщину в тапочках и халате, торопливо прошла, как будто протиснулась к другой, спасительной двери.
На улице хорошо пахло свежим воздухом, тополиными почками и землей. Капитан прохаживался под окном, загороженным картоном, и, увидев бегущую Гешу, поймал ее, схватил за плечо.
— Что? — спросил он. — Этот, с чемоданом, тоже туда? Кто это?
— Не знаю! Я ничего не знаю! Ужас, ужас!
За окном раздался вдруг воплевый рев, который тут же смолк. Грохот сдвинутого стола донесся из комнаты, где только что была Геша, и глухой стук… И наступила тишина.
4
До сих пор Геша не могла без волнения вспоминать дьявольское это дело. Труп Кантонистова она, конечно, видела, чуть не упав в обморок, но в расследовании убийства, разумеется, не участвовала. Подробности дела знала только по рассказам капитана и подполковника, который, кстати, в мае пошел на повышение.
— Дали папаху, — говорил он, пряча довольную улыбку. — Скорей бы зима, Георгина Сергеевна! Щегольнуть хочется! Перед зеркалом покрасовался — смешной какой-то я в ней, а жена говорит — ничего. Ничего так ничего! Придется теперь папаху темно-серого каракуля хочешь не хочешь носить.
Таинственное дело с крысой и деньгами раскрылось довольно легко. В толстой стене комнаты бывший ее съемщик, скоропостижно скончавшийся одинокий старик, некий Петров Иван Захарович, под видом естественного холодильника вырубил нишу в кирпичной кладке, обшил ее досочками, сделал деревянные полки и дверцы и стал туда ставить кастрюли с супом или картошкой, мясо или рыбу, которые в зимние месяцы покрывались инеем, и прочую снедь… Пока не пришла нужда в тайнике.
Давнее дело с ограблением кассира, с пропажей восемнадцати тысяч рублей, предназначенных для оплаты рабочим текстильной фабрики, лежало мертвым грузом в архивах местной милиции.
Когда тайник был обнаружен и из него извлекли четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь рублей, частично превращенных в бумажную труху хозяйственной крысой, устроившей себе гнездо в тайнике, подполковник присвистнул с удивлением, вспомнил, разглядывая фотографию старика, рецидивиста Ивана Захаровича, с которым был когда-то знаком по долгу службы, держа его в памяти под кличкой «Ваня-клык», и понял с досадой, что дал промашку, не потревожив в свое время одышливого старичка, поверив Петрову, что тот в глухой завязке и с прошлым своим покончил навсегда. Однажды только этот Петров возник в памяти, удивив подполковника и вновь насторожив его.
Было это в теплый дождливый денек, двенадцатого августа, накануне дня рождения жены подполковника. Гостей позвали именно двенадцатого, потому что число это выпало на субботу. Подполковник в гражданской одежде, под японским зонтиком, в поисках подарка зашел в ювелирный магазин, носивший название «Изумруд», и, минуя отдел изделий из золота, прошел туда, где продавалось серебро и полудрагоценные камни.
В фирменном магазине было жарко и безлюдно. Две миловидные женщины лениво обслуживали старого толстяка, который внимательно разглядывал ожерелье из лазурита. Недорогие камушки васильково-синего и небесного цвета сияли в пухлых его ручках шлифованными, сглаженными гранями. Неторопливо, как четки, перебирал их в пальцах внимательный покупатель. Пестрые осколки окаменевшего неба издавали тихий звон капели.
Продавщицам было скучно в дождливый день. Одна из них сказала сквозь зевоту, рассчитывая на ответную шутку:
— Сначала ожерелье, потом золотые серьги потребует, а там, глядишь, и перстень с бриллиантом. — Это уж как водится, — ответил старый живчик, раскачиваясь над стеклянным прилавком. — Покажите, пожалуйста, голубушка, другое ожерелье. Может быть, найдется совсем синее. Камни эти бывают изумительного цвета. Лазурит приносит счастье.
— Счастье приносит не камень, — со вздохом откликнулась другая продавщица, — а мужчина!
— Золотые слова! — сказал толстячок со стариковской лаской в голосе. — Я мог бы отстегнуть и покрупнее сумму. Но человек я приметчивый и в счастье свое не устал верить. Вам, красавицам, оно дается легко, а мне всю жизнь пришлось гоняться за ним, как за солнечным зайчиком. Авось, думаю, камушки теперь помогут. Тайна в них огромная… Нам с вами не понять.
Приглядываясь и прислушиваясь к толстячку, который, словно бы смазанный жиром, плавал в тяжелом душном воздухе, кокетничая с молоденькими женщинами, подполковник решил и жене купить в подарок недорогое это украшение. А толстячок все рассматривал, все разглядывал, перебирая в пальцах тяжеленькие, налитые синевою камушки.
Был он в просторном, засаленном костюме темно-елового цвета, в желтой плетеной шляпе и в промокших на дожде, дамских как будто бы туфельках, испещренных черными дырочками.
«Ваня-клык! — чуть ли не воскликнул подполковник, когда тот обернулся к нему, скользнув темным нефтяным взглядом. — Ты смотри, какой привереда! Давно ли в телогреечке вернулся, а уже камушки разглядывает».
— Иван Захарыч, не узнаешь? — сказал подполковник с усмешкой.
— Как же не узнаю, — ответил Петров, отрываясь от темно-синего великолепия. — Сразу узнал. Вы еще на улице были, узнал.
— Вон ты какой! Зоркий… Чтой-то тебя на камушки потянуло?
— Нервы поистрепались…
— При чем тут нервы?
— Как при чем?! Камушек за камушком, из руки в руку, один за другим. Это отвлекает. Теплые, живые, приятные на ощупь… И думать с ними легко. А года мои такие, что только и осталось о боге думать. Жизнь была тяжелая, если знаете, если припомните.
— Интересно, какого же ты бога взял на вооружение?
— А ведь я язычник! — удивленно воскликнул постаревший, толстенький Ваня-клык. — Камень найду на улице, увижу в нем что-то, поставлю перед собой на стол — вот тебе и бог. Лавой огненной кипел, лился, как вода, видел начало мира, а теперь у нас под ногами валяется и никто не замечает. А в нем тайна великая! Вся история земли! Разве не бог? А икону человек написал красками на доске, другой кланяется. Какой там может быть бог, если его человек придумал? Нет, я язычник! Вот куплю лазуриты и буду смотреть на мир синими глазами. Это же счастье. Верно, девушки?!
— Ну, а живешь как? — спросил подполковник. — Что делаешь?
— Я-то ничего… На отдыхе. А вы-то что? Дедушкой стали? Светочка замуж вышла? Хорошая у вас дочка, красивая…
— Внук у меня, и тоже зовут Ваней, но только не в твою честь, конечно…
— Ну уж, это, конечно, — смущенно махнул рукой Иван Захарович. — Поздравляю. Ваня нынче в моде. Хорошее имечко! Здорова ли супруга? Тоже красивая женщина. Сколько я — лет, наверное, восемь — не видел… Ну да восемь лет — разве для нее время! Такая же, небось, молодая и обаятельная… Откровенно говоря, думал, вы уже где-нибудь в Москве делами ворочаете. Таланты у вас огромные! Могли бы и заметить. Не ценят у нас таланты! Какой-нибудь выскочка заправляет, а истинные таланты сидят в тени и подчиняются. Тормоз это очень серьезный… Помните, как вы мою «куклу» расшифровали? Признаться, я был очень удивлен…
— А что, Иван Захарыч, — прервал его подполковник, — слышал я, будто ты из колонии побег совершить пытался? Я не поверил! Серьезный человек и вдруг такую глупость придумал. Было или нет? Развей ты мои сомнения.
Иван Захарович Петров потупился красной девицей и пошел потихонечку от прилавка к окну, приглашая взглядом и подполковника. Возле окна он с обидой оказал:
— Зачем же вы при милых женщинах так нехорошо говорите? Я бы не хотел, чтобы посторонние люди думали обо мне плохо. С прошлым покончено, наказание принял с достоинством и отбыл от звонка до звонка, даже лишний год протрубил за побег… Не побег это был, а игра фантазии!
Подполковник слушал, не веря ни одному слову Вани-клыка, а потом сказал назидательно:
— Не знаю, так ли все было. Но вот натура у тебя вредная. Почему ж ты человеку не веришь, что он жизнь твою хотел спасти? Жизнь твоя, хочешь ты или не хочешь, — бесценная штука, Ваня. Ты, может, на его месте и не подумал бы, а он подумал об этом. Он хороший человек, а ты, Ваня, как был брехуном и крохобором, так им и остался. Молись на свои камни, а мне с тобой говорить больше не хочется. И лучше не попадайся в другой раз мне в эти вот лапы, а то я человек с пристрастием, и рассказ тебе обязательно припомню. Эх, Ваня, Ваня… Старый стал, а как ребенок! Сколько, кстати, лазуриты эти стоят? Мне подарок надо сделать, — добавил он хмуро.
— Копейки! — воскликнул Ваня-клык, не ожидавший такой грубой реакции подполковника. — Я, ей-богу, хотел рассмешить вас, а вы не поняли, — говорил он, поспешая за ним к прилавку. — А камушки ничего не стоят, хотя тайна в них сокрыта великая! Это я вам говорю. Я даже удивляюсь: дешево у нас ценят изумительную красоту!
Теперь, при воспоминании о давнишней встрече и разговоре с Иваном Захаровичем, подполковнику казалось, что тот ехидно ухмылялся, поглядывая с фотокарточки, словно говорил насмешливо: «Игра фантазии! Сами видите, деньги все замуровал в стену, не пользовался и копейкой… Я ведь язычник! Сделал все, как вы велели, в лапы вам больше не попался, хотя таланты у вас огромные… А кассу я взял от скуки. Извините, пожалуйста… Больше уж точно не буду».
— Старый знакомый, — едко сказал подполковник. — А крысу кто дрессировал? Петров или сама талант проявила? Читал я где-то, что крысы — самые умные животные.
Капитан сказал:
— Да, я тоже по телевизору смотрел. Легко дрессируются. Может быть, и Петров. Но думаю, что это случайность. Счастливая, конечно, для Круглова… Кормилицей была.
— Какая же она для него счастливая? — возразил подполковник. — Он из-за этого животного человека убил! Трагическая, а не счастливая случайность!
— Я тоже так думаю, — сказал капитан. — Я имел в виду эфемерное счастье Круглова.
— Какое?
— Призрачное. Таким людям не везет в счастье. Жить бесчестно — невыгодно.
— Кто это сказал? — спросил подполковник, не веря, что капитан способен на такие формулировки.
— Чернышевский, товарищ подполковник.
— Молодец! Читаешь… классиков! Придется это выражение изъять у тебя для служебного пользования — доклад скоро делать. Кстати, ты это обоснуй на бумаге и покажи. Добро?
— Добро, товарищ подполковник, буду рад помочь.
— Какая же это помощь?! Ты что говоришь-то? Помощи я не просил ни у кого и никогда. — Я имею в виду коллективный разум, товарищ подполковник.
— Другое дело.
Подполковник был не в духе и выглядел, как это часто бывает с рассерженными деловыми людьми, довольно смешным. Капитан, зная об этой особенности начальника, не вдавался в рассуждения и, конечно, не спорил с ним, заранее зная о неминуемом поражении.
— Круглов нанес удар тяжелым замком по темени Кантонистова за то, что тот убил животное. Во всем признался, и, кажется, нам тут делать нечего. Тем более что Георгина Сергеевна и я были, можно сказать, свидетелями происшествия.
Подполковник, который уже догадывался о папахе, дожидавшейся его, криво усмехнулся.
— Почему Георгина Сергеевна, — спросил он как бы между прочим, — и зачем уехала с Кантонистовым из ресторана? Она была знакома с ним. Что за связь? Надо это отработать. Тут может быть ниточка.
— Вы так думаете? — спросил обескураженный капитан.
Подполковник всем корпусом повернулся к нему и строго сказал, повысив голос:
— Уверен!
Именно в этот день, вечером, Геша неожиданно для самой себя прижалась к матери.
— Ты знаешь, мама, я безумно люблю Черное море и Крым! Мне обязательно нужно съездить туда еще раз! Ты меня отпустишь?
— Черное море? — удивленно спросила мать. — Но ты была совсем еще девочкой! Неужели ты помнишь Крым?
— Я вдруг вспомнила! — призналась Геша. — Сначала думала, что это мне приснилось, а потом поняла, что нет. Я вспомнила, как порезала стеклом руку… Помнишь, порезала палец? Собирала на пляже стекляшки… Море их обкатало, а я уронила на камушки, стала подбирать осколки и порезала себе палец. Я хорошо помню, ты испугалась, потому что кровь стала капать на камни.
— Но тебе тогда было всего три года! — воскликнула мать. — Ты не можешь помнить. Наверное, я тебе когда-нибудь рассказывала, вот ты и помнишь… Или, может быть, папа…
— Нет, — сказала Геша, — я сама. Там был мальчик, который мне нравился. Он смотрел на мою кровь, и морщился, и очень страдал, по-моему… Забыла, как его звали. Помню, он ходил в белой панаме, а на руке следы от ссадин. Около локтя. Корочка отвалилась, и кожа там была светлее. Я хорошо это помню. И море тоже помню. С одной стороны горы и с другой, а там, где мы жили, камушки на пляже, впереди, между горами, море… Все в искорках. Если бы ты знала, как я хочу туда хотя бы на две недельки! Мама. Ты молчишь?
— Это так неожиданно, — ответила мать и погладила Гешу, как маленькую, по голове, или, точнее, по пышным, упруго причесанным волосам, ощутив рукою пружинистую непрочность коричневой волны.
— Только не говори «нет»! — воскликнула Геша. — Я должна знать, что у меня нет никаких преград. Что я совершенно свободна… Пожалуйста, скажи — поезжай. Я тебя очень прошу.
— Поезжай, — сказала мать.
Геша поцеловала ее и шепотом, со слезами на глазах, с дрожью в голосе сказала:
— Спасибо. Я, может быть, никуда не соберусь, но я должна знать, что, если вдруг соберусь, меня никто не удержит дома. Я, наверно, никуда не поеду… Но все равно… Спасибо.
— Тебе надо отдохнуть. У тебя голые нервы.
В этот день Геша была на грани истерики. Она не могла найти себе места, и ей казалось, что она все время плачет, хотя и не плакала.
— Ну почему я не играю на гитаре? — спрашивала она в отчаянии, как будто в жизни ее случилось непоправимое несчастье, и восклицала: — В доме у нас никогда не было гитары! Я так завидую людям, которые играют. Мне кажется, я все вечера проводила бы с гитарою! Ты говоришь, я не помню Крыма! Как же не помню, если я даже стихи написала?
— Ты? Стихи?
— Не стихи, но я бы под гитару… я бы подобрала музыку и пела бы… Это, наверно, не так уж трудно.
Она целый час просидела за своим столом и написала такие строчки:
Как друза аметистовая В дымке голубой, Ты снишься, кипарисовая, Зимнею порой. Таврида моя нежная, Согретая весной, Вершины твои снежные И крокус, под сосной…Ей так это понравилось, что она боялась продолжать, хотя и чувствовала — нужно было сказать еще кое-что о Крыме и о себе. Но дальше у нее получалось уж слишком:
К тревоге я приучена И ветра слышу вой (?). В груди моей измученной… Грохочет твой прибой… Зовут в дорогу дальнюю С севера на юг, В страну мою миндальную Без слякоти и вьюг…Кто зовет? Она не понимала и не могла ничего придумать. А строчка, в которой можно было бы объяснить этот зов, никак не складывалась в голове. «В груди моей измученной…» — повторяла она горькую, как ей казалось, фразу, которая ей очень нравилась! «Корабли, журавли…» — выжимала она из себя рифмы, надеясь, что «корабли и журавли» позовут в «дорогу дальнюю», но они глухо молчали… «Воплем корабли зовут в дорогу дальнюю, на краешек земли»… А как же будет тогда: «В страну мою миндальную»? Эта строчка ей тоже нравилась.
Ей вообще казалось очень интересным это занятие — писать стихи: что-то вроде кроссворда.
— Мне нужна гитара, — говорила она страдающим голосом. — Как ты думаешь, — обращалась она к матери, которая, скрывая тревогу, ласково поглядывала на нее, — очень трудно научиться играть на гитаре? Ну, не играть, конечно, а просто аккомпанировать… Как ты считаешь?
— Другие играют, — отвечала мать с грустной улыбкой. — Значит, и ты сумеешь.
— Ты мой самый хороший друг, мама! — восклицала Геша, никогда не отличавшаяся излишней чувствительностью. — Ты просто чудо! Спасибо тебе.
Ночью была гроза. Первая в этом году, она обложила все небо над городом тучами и вспыхивала в разных его концам своим электричеством, освещая и тучи, и город, стучащие под ветром ветви бесноватых, белесых под молниями деревьев: рушила на землю, на крыши домов и автомобилей шумящую массу воды, в грохоте которой громы казались веселым трескам пастушьего кнута.
Геша никак не могла избавиться от слуховой галлюцинации: тупого стука падающего тела, слыша вместе с ним и вопль смертельно раненного Кантонистова. Неживые его глаза словно подглядывали за ней из-под полуприкрытых синих век… Ужас этой смерти был еще и в том, что на полу рядом с телом лежала дохлая крыса, только что убитая тем же замком. Неужто закон моисеев — «око за око» — явил тут себя во всей своей жестокости? Смерть крысы приравнялась к смерти человека, словно человек этот был из крысиной породы. Или крыса возвысилась до значения убитого Кантонистова?
Суетные поиски странной закономерности там, где торжествовал случай, не давали ей покоя. Она не спала, измученная бесконечной чередой совпадений, в которые и сама она была вовлечена, пугаясь в догадках, какую роль во всем этом происшествии играл Ибрагим, отец ее сына.
— Он меня сведет с ума, — четко сказала она, гладя в темный потолок и слушая, как моросит за окном в тишине успокоившейся ночи дождик. Голос ее прозвучал безучастно, как чужой. Она услышала его, улыбнулась и вдруг поняла, что с ума не сойдет. — Глупость какая! — прошептала она и потянулась в зябком ознобе, прячась под одеяло.
Туманным утром в теплом воздухе пахло молодой травой, тополиными листьями. Земля, напоенная дождем, кратко смотрела в небо чистыми лужами, на дне которых застыли, как впаянные, бурые прошлогодние листья, пронзенные иглами травы. Было тихо и влажно. Небо, залитое молочным светом заоблачного солнца, повизгивало первыми стрижами. Полет был размашист и смел, и глаз не уставал любоваться быстрыми птицами. Летали они низко в это туманное утро, над самыми крышами, стремительно загребая воздух косыми крыльями, юрко отворачивали от натянутых проводов, от телевизионных антенн, ел от но играли с опасностью, жарким своим визгом оглашая живое небо, празднуя возвращение на гнездовья.
Начинался новый день зеленого роста на земле. Росла трава, росли листья, сбросившие с себя клейкие панцири почек, росли цветы мать-и-мачехи, медуницы, одуванчиков, которые в это утро, когда солнце белым шаром висело над крышами, робко прятались в зеленых венчиках, дожидаясь жарких его лучей. Росли и маленькие листья на пепельно-сером, невысоком еще кусте жасмина. Матово-зеленые, гладкие, они прорезали острыми вершинками мертвенно-серую кору и зелеными цветами украсили куст, который совсем недавно казался вымерзшим, иссохшим, не перенесшим зимних морозов. Зеленая эта жизнь тянулась к свету, отгороженному от куста глухим забором. Жасмину еще много лет надо было расти и крепнуть, чтобы одолеть извечную тень, в которой ему по прихоти человека суждено было жить. Но в это туманное, паркое утро, когда свет, казалось, проникал всюду, ему было очень хорошо. Маленькие листья, словно тугие лепестки крохотных роз, цепко держали шарики дождевой воды, похожие, как чудилось Геше, конечно же, на жемчуг, отливающий перламутром. Черная земля, в которой рос жасмин, как всякая земля под старым забором, лоснилась многолетним перегноем и, влажная, источала жирный, животворный дух. Трава, хоть и лишенная солнца, росла тут сочная, густая. Зеленые иглы ее начали свой новый рост, устремившись в зенит с извечной силой и самоуверенностью, как будто ничто не могло помешать душистой траве, никто не вправе был нарушить законы, по которым протекала хрупкая ее, ничем не защищенная жизнь, нацеленная, как к магниту, к невидимому солнцу.
— Вы, наверное, рассчитываете на благодарность, — сказал в этот день Геше благодушно настроенный подполковник, который уже точно знал о присвоении ему очередного звания: был звонок приятеля из министерства.
Минут сорок сидели они вдвоем в его бледно-розовом кабинете, пропахшем новым дерматином. Подполковник внимательно выслушал ее, кое-что записывая для памяти и для дела в большой блокнот.
— Вы мне не поверите, — говорила Геша волнуясь. — Не поймете меня! Я стала бояться денег. Больших денег, которые были всюду. Они валялись как что-то не очень нужное, как, например, валяются иногда книги или детские игрушки, когда их много. Они мне мешали думать, вернее, я жила, оглушенная ими. Вздрагивала от испуга, если вдруг выдвигала какой-нибудь ящичек, а в нем валялась пачка денег, которых вчера еще не было. Я боялась на них смотреть! А что я могла сделать? Этот человек — отец моего сына. Я просто сбежала, и все. Откровенно говоря, я боялась не только денег. Здесь, с мамой, я почувствовала себя опять человеком. И вдруг этот утренний визит! Мне показалось, что он приехал со своими дружками неспроста. Он никогда ничего не делал просто так! Хотя я не имела никакого представления, чем он вообще занимается. А этот Кантонистов, или как его там… Я его никогда раньше не видела. Мне кажется, он очень… он был усталым, как будто ему все на свете надоело, и он ждал только смерти. А может быть, он не мог перенести вида полусъеденных денег? Эти люди… у них болезнь наживы. Что ему эти жалкие десятки или двадцатипятирублевки?! Он наверняка ворочал тысячами дома, а здесь вдруг польстился… Что-то тут другое! Чует мое сердце — другое. Нервное потрясение, ужас. Я не знаю, как назвать это состояние, но, видимо, он не мог переносить, когда на его глазах уничтожалось то, ради чего он существовал. Он, наверное, испытывал страшные муки. Какое-то серое ничтожество, хвостатое существо приносит ему, как в насмешку, никуда негодные деньги. Для него это пытка! Пускай хоть три рубля, но они уже ни на что не годны. У него, наверное, сердце разрывалось от ужаса: он ведь больной человек, для него нажива — наркотик! Он наверняка испытывал состояние, какое испытывают наркоманы в период, когда у них нет возможности, нет какого-то там средства наркотического. Они ведь жилы могут себе порвать, если не удовлетворят свою потребность. А такие, как Кантонистов, мало чем отличаются от наркоманов. Я наблюдала, я знаю, он вел себя очень странно. У него были мертвые глаза. Я как раз думала об этом сходстве, когда он схватил замок со стола. Потом, правда, испугалась. Он никак не мог выпустить из рук эту тяжелую железку, смотрел на меня и, я почувствовала, с большим усилием заставил себя положить замок на стол. Между прочим, я тогда свалилась в обморок, потому что по думала вдруг, будто это они убили работишка ГАИ. Но потом поняла, что болезнь у них другая…
— Болезнь? — с усмешкой спросил подполковник. — Вы все время подчеркиваете, что это больные люди. Только почему-то «больные» тянут денежки к себе, в свой карман или там ящик, как вы говорите, и, уверяю вас, жилы себе не рвут. У вас, извините, разыгралась фантазия. Да, вы правы, на этот раз пистолет понадобился не им, у них другой какой-то метод добычи денег. Мы, конечно, разберемся, какой… Но, представьте себе, что метод добычи устарел или был перекрыт контролем, короче, отказал. Почему бы не предположить, что эти «больные» в период простоя не парей дут на открытый грабеж? Вот тут я готов с вами согласиться — нажива равносильна болезни, да… Болезнь эта затягивает, и человек уже не может остановиться. Все верно! Только почему-то этим больным обязательно нужно иметь при себе оружие! Сначала для устрашения, а потом и для убийства. Вы, Георгина Сергеевна, слишком большое значение придаете эмоциям. А у бандюги простой расчет, холодная голова и, главное, никакого понятия о жалости, человечности, гуманизме. Что ж я с ним о совести буду говорить? Он понятия не имеет, что такое совесть. Если он болен, то болезнь эта сначала начисто съедает совесть, потом жалость, потам душу, и человек перестает быть человеком. Становится крысой. О чем же мне говорить с крысой, извините меня?
Подполковник говорил спокойно, стараясь почаще улыбаться, чувствуя свое явное превосходство над растерянной, перепуганной женщиной, которая, конечно же, рисковала, связавшись с этим Кантонистовым.
— Вы, наверное, рассчитываете на благодарность, — сказал он, отечески дотрагиваясь до ее белокожей, с голубыми тенями, долгопалой руки.
— Зачем вы меня обижаете? — спросила Геша, поглядев на него исподлобья. — Это я вас должна благодарить… Вернее, капитана, который был рядом.
— С капитаном я еще поговорю! Отпустить такую хорошенькую женщину, потерять ее из виду, а самому прогуливаться на свежем воздухе. Ничего себе герой!
— Откуда он знал, какие у меня отношения с этим человеком? Я же ему ничего не сказала! Он, слава богу, сам догадался, хотя я не боялась и не хотела, чтобы он ехал за мной. Это уж потом! Не могла же я предположить, что такой ужас… какая-то крыса, а потом этот… Нет, я очень ему благодарна! Я выскочила, как сумасшедшая. Боже мой! — шепотом воскликнула она и жалобно взглянула на подполковника.
— Что такое? О чем вы? — встрепенулся тот.
— Как я скажу Эмилю, когда он вырастет! — сказала Геша в отчаянии. — Что я ему скажу об отце!
— Об этом еще рано думать, — хмуро ответил подполковник. — Сначала надо во всем разобраться.
А примерно через месяц, в жаркий летний день, поблескивая новыми звездами, он пожал ей руку и таинственно сказал:
— Спасибо, Георгина Сергеевна.
— За что? — не поняла она, качнув ресницами. — Чудесный день!
— Скажу по секрету, наши ребята там, где вы когда-то жили, напоролись на очень большой клубок змей. Или крыс. Это уж как вам больше нравится. Болезнь, надо сказать, неизлечимая, что-то вроде бешенства… у этих животных.
Она стояла перед ним на солнце в полотняной кофточке, расшитой ярким орнаментом, в широкой синей юбке до колен, в алых босоножках на высоком тонком каблуке, ярко освещенная, блестящая и смущенно смеющаяся, как если бы хотела понравиться щеголеватому полковнику в серой рубашке…
Улыбка еще играла на ее лице, чувственно-выпяченная губа еще дрожала в радостном возбуждении, но глаза уже потухли, жалость и страдание словно бы свели их судорогой, когда она прошептала самой себе;
— Бедный Эмиль!
Полковник спохватился, нахмурился:
— Простите, Георгина Сергеевна, — сказал он виновато. — Совсем забыл… Не учел!
Но было уже поздно.
— Бедный мой мальчик, — сказала Геша с жалкой улыбкой. — За что ж ему-то такое наказание?
Они стояли на песчаной дорожке, в сквере перед фасадом горисполкома, между алых, как кровь, цветов, двумя кострищами стелющихся перед гранитными ступенями лестницы.
Полковник предупредительно поддержал ее под локоть, видя, как заблестел побледневший лоб и словно бы почернели глаза ее и губы. Голубая жилка явственно обозначилась на переносице.
— Спасибо, — тихо и задумчиво сказала Геша. — Я давно знала, что так… что все это… Давно готовилась… Я знала, конечно… Боже мой! Как я не хотела называть его Эмилем! Правда, это очень смешно для мальчика — Эмма? Его и так-то жалко… А тут… Я-то переживу. Я давно знала. Да. Ну, ладно… Не было и нет. Не было, нет… не будет. Я знала это. — Она опять жалко улыбнулась. — Спасибо. Я не такая уж слабенькая, как вы думаете. И в обморок не падаю. В прошлый раз я надышалась этой химией… Как вы там целый день сидите? Удивляюсь.
— Поменяйте имя, — сказал полковник. — Назовите, например, как я внука… Ваней… Или, например, Мишкой. Чем плохо? «Ведь ты моряк, Мишка!» А?
— Ну, уж это! — обиженно сказала Геша. — Это не ваше дело!
— Я пошутил!
— Это не ваше дело!
— Конечно, конечно…
— Эмиль — красивое имя.
— Конечно.
— Эмиль! Я привыкла. Я ведь люблю-то Эмиля, Эмку… Как же так?!
— Конечно.
Простенький фонтан с круглым бетонным бассейном пришелся очень кстати. Он выстреливал вверх белой струей вспененной воды, мелкие брызги которой относил в сторону несильный ветерок. Под этот ветерок и под летящие пылевые брызги полковник как бы случайно подвел вздыхающую то и дело, ослабшую, крепящуюся что было сил женщину и стал говорить ей о пользе фонтанов, об успокаивающей силе живой воды, об этих искусственных оазисах, которые просто необходимы в современных больших городах. Говорил о том, что людям порой очень важно остаться наедине с живой водой, уйти в нее взглядом, утонуть в плеске и трепете прохладной струи и забыться, как забываются люди, глядящие на живое пламя, пляшущее в ночи перед задумчивым взором.
— Понятно, — говорила ему Геша, согласно кивая. — Понятно.
В Крым она не собралась, а, как обычно, уехала к бабушке «на дачу», поселившись с Эммой и с матерью в хорошем деревянном домике. «Ты, Эммочка, счастливый! У тебя есть прабабушка! — говорила она сыну. — Такое счастье редко кому достается».
В тот вечер, когда она увидела цыгана, идущего по шоссе, мозг ее уже освободился от печалей и был занят решением новой загадки: хорошо или плохо ходить по земле, не зная дома? Куда шел цыган, и что ожидало его впереди — кочующий табор или оседлость в деревне? Или идет он по земле, как по своему жилищу, у которого ни углов, ни потолка и пола, а лишь одно окно, распахнутое в мир?
В тот вечер, когда облако, похожее на гигантскую гроздь винограда, светилось самоцветом в золотистом небе, Георгина Сергеевна впервые в жизни почувствовала вдруг свою растворенность и счастливую затерянность в огромном мире. В руке у нее нежно пылали лилово-розовые цветы герани, которые быстро, увы, увядают в вазе. Ромашки жарким благовонием кружили голову… Некошеный луг над речкой и лента шоссе, по которой ушел загадочный человек с магнитофоном, — все это всколыхнуло ее душу, и она в восторженном благоговении перед вечной жизнью ощутила всем телом свою малость и необязательность в этом мире. Ощущение это пришло нежданно и радостно, как будто «хозяин» ее тленной оболочки напомнил вдруг о себе, сказав, что она всего лишь гостья на этой земле и что настанет когда-нибудь час расставания и ей придется навсегда покинуть этот чудный мир, который расстилался перед ней в мудрой простоте и ясности.
Сердце ее сжалось в остром ощущении своей незначительности, блаженство разлилось по телу, словно кто-то пообещал ей бессмертие и вечную радость, и она не знала теперь, кого благодарить за эту щедрость. Благодарить за жизнь, которая показалась вдруг бесконечной; благодарить за прожитые годы и за завтрашнее утро, которое придет, за чудо обновления, которое свершилось в ней, точно она покинула наконец-то свой тесный кокон и, как во сне, полетела над зеленой речной долиной.

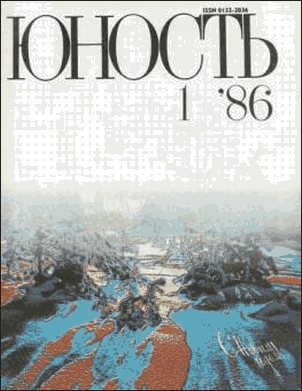

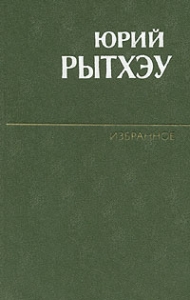


Комментарии к книге «Жасмин в тени забора», Георгий Витальевич Семёнов
Всего 0 комментариев