Глава первая
Памяти боевых друзей-десантников, погибших в дни Великой Отечественной войны и умерших от ран после Победы.
АвторВ Подмосковье хозяйничал май. Березовые рощи распарились под незакатным весенним солнышком, пили из глубин земли первые сладкие соки. С тихим звоном лопались на ивняке, боярышне и черемухе переполненные влагой почки. Воздух густо настоялся тополиной клейковиной и пересохшими травами. Изредка по ночам перламутровой россыпью покрывались сады, предвещая хорошую погоду.
Уходила на запад война. Просчитавшиеся завоеватели откатывались огромной серой армадой поближе к родным местам, оставляя на полях сражений сотни тысяч убитых, знамена и собранную со всей Европы технику.
Сержант Павел Крутояров, высокий черноволосый парень, выписался из госпиталя, когда на фронтах резко обозначился перелом. Советская Армия получила не только новое снаряжение и оборудование, но и новое пополнение солдат, прошедших отменную выучку в полковых школах, запасных полках и военных училищах.
Весной сорок третьего под Москвой формировались воздушно-десантные бригады. Командный состав — офицеры и сержанты, испытавшие начальный период войны, рядовые — курсанты военных училищ и других учебных подразделений.
Несколько эшелонов автоматчиков, пулеметчиков, саперов прибыло из Уральского военного округа.
Павел проходил отборочную комиссию, в состав которой были включены бригадный военврач — майор медицинской службы, два представителя командования воздушно-десантных войск и вновь назначенный командир первого гвардейского батальона, гвардии майор Родион Павлович Беркут, единственный из всей комиссии, кого сержант знал лично, с кем пришлось ему вместе отступать от западной границы, участвовать в тяжелых оборонительных боях.
Вместе с Беркутом были они в госпитале. Павел приходил к нему в палату, оставляя у входа костылек, и Беркут, приподымаясь с постели, жал ему руку.
— Как здоровье, сержант?
— На войну хватит. Нога почти зажила, а пулю из легких врачиха вынимать боится… Говорит, что люди с пулями до сотни лет живут.
Они подолгу вспоминали подробности того трагически закончившегося боя, в котором получили тяжелые ранения.
Маленький красноармейский отряд (остатки полка) окопался у обочины, на опушке соснового леса. Подразделения бокового охранения немцев наткнулись на отряд и, попав под огонь единственного в отряде «Максима», побежали… И вот тут-то по окопам ударили просочившиеся в тыл вражеские десантники. Снаряды и мины рвались почти рядом. Это был истинно кромешный ад.
В памяти остались двое истекавших кровью бойцов из батареи. Они лежали рядом в песчаном окопе, как в могиле. И еще Павел помнил, как осел под пулеметной очередью Беркут, как застонали и упали наземь раненые кони.
А потом в фашистских порядках громыхнул неимоверной силы взрыв. Партизаны спасли маленькую горстку бойцов, предводительствуемых Беркутом.
— Письма-то от родных получаешь? — уходил от воспоминаний Беркут.
— Пишет тетка, остальных дома никого нет.
— О чем?
И начинались обыденные, невоенные разговоры: какая наступит после войны жизнь, кто, где будет работать и что бы надо еще сделать, чтобы навести порядок… Лишь после того, как в палате появлялась сестра с градусниками, госпитальные будни и далекие-далекие бои опять делались близкими. Нет, война была еще реальностью, надо было готовиться к атакам, к штурму огневых точек, к форсированию рек, к дальним парашютным десантам. Предстояло отвоевывать все потерянное ценою большой крови.
И тогда Павел просил:
— Помогите, Родион Павлович, после госпиталя с вами в одну часть угадать.
— Ладно. Попробую. — Беркут укладывался в постель и подавал Павлу руку.
На комиссии вышла неурядица. Врач, разглядывая едва затянувшуюся рану на правом бедре Крутоярова, заявил:
— Не годен. Ходить еще не научился, а в десантники лезешь. С печки на полати тебе прыгать, а не с парашютом!
— Так мягкие ткани же!
— Ну и что?
— А вот смотрите! — Павел развел руки, крутнулся на одной ноге и пошел вприсядку.
По Исети, по реке, Полотенце тянется. Стара милка не приходит, Новая — не глянется!— Хотите на руках пройдусь?
Комиссия смеялась. Беркут, вздыбливая черную бороду, сказал Павлу:
— Ну, Крутояров, и везучий же ты, братец!
— Сам не повезешь, товарищ гвардии майор, так никто же не повезет!
— Давай в первую роту, в первый взвод. Командиром. Офицеров у нас не хватает. А тебе старшего сержанта присвоили. Пойдет?
— Так точно!
Врач хмуро молчал.
Здесь, в первом десантном батальоне, и встретил Павел своих земляков: командира роты Федора Левчука, сержанта Сергея Лебедева, назначенного командиром отделения во взвод Крутоярова, старшину Петра Завьялова и санинструктора Людмилу Долинскую. Земляк на войне — брат кровный. Все поймет, обо всем подумает. Слово какое скажет — понятно. Павел обнял Завьялова, прикоснулся к его тщательно выбритым щекам, спросил:
— Как ты, Петруша?
— Так. Ранило под Ярцевом в плечо, а тут фрицы… Шатуном прошатался по лесу две ночи. Кровью истекал… Сначала они жарили из всех пушек, а потом наши принялись кромсать… Тошно. На третий день санитары подобрали, в лесу. По госпиталям возили, аж до самой Тюмени. Подлечился — и в запасной полк… Звание старшины присвоили, и вот, видишь, в эти самые десантники попал.
Тихими вечерами они уходили в непотерявшую довоенной прелести березовую рощу и не могли наговориться. Все вспомнили. И какие в районном Доме культуры танцы танцевали, и как самый модный в селе парень, продавец Аркашка, кашне подвязывал, и какие вкусные были в районной столовке раки с пивом… Убегали мыслями домой, в родимое Зауралье. Сторонились говорить только о тягостном и горьком. Лишь однажды гвардии лейтенант Левчук нарушил этот молчаливый обет. Рассказал, как саднит у него на душе: за две недели до начала войны уехала в отпуск на Украину молодая жинка Левчука с дочкой Татьянкой. И пропали без вести. Искал, запросы посылал — безрезультатно.
— Попали, наверное, под немецкий сапог… Горе! — Он чиркал пальцем по черным излучинам, опоясавшим рот.
Это было только один раз. Больше Левчук ни словом, ни жестом, ни намеком не напоминал землякам о случившемся: у каждого своей беды было немало, к чему прибавлять еще и чужую. Не хотел командир показать своей слабости, старался быть оптимистичным, уверенным, не сраженным. Потому-то, наверное, узнав о том, что Павлу исполняется двадцать три, он, поглаживая шелковые усы, сказал:
— Дюже гарно получится, хлопчик, коли добуду я к вечеру поллитровку да мы с тобой и выпьемо.
— Не знаю. Не пробовал отродясь!
— Попробуешь.
Обычная текла жизнь в десантной бригаде. Шли тренировочные прыжки. Прыгали с гондолы, с четырехсот метров. Ветер таскал неумело приземлявшихся по покрасневшей от жаркого солнца траве. Потянув стропы, они гасили купола парашютов, бежали на командный пункт к комбату Беркуту.
— Товарищ гвардии майор! Ефрейтор Петров совершил пятый ознакомительный прыжок!
Майор сидел на груде парашютов, прячась в тени большого рябинового куста, придирался к десантникам:
— Как совершен прыжок?
— Хорошо, товарищ гвардии майор!
— Видел я, как ты носом землю пахал.
— Так точно!
И тут Беркут выходил из себя:
— Что «так точно»? Что «так точно»? Десантник ты или черт знает что такое? — кричал он.
Крутояров и Завьялов прыгнули с гондолы по пятому разу на «отлично», и Беркут был доволен. Он, как всегда, жал Павлу руку, а старшину похлопывал по плечу, приговаривал:
— Не в каптерке тебе сидеть, старшина, а по тылам немецким гулять!
Петр Завьялов действительно был дельным старшиной. В минуты отдыха он мог развлечь, в минуты опасности — помочь. К тому же в любое время умел достать из продуктов, что душа пожелает. И на бригадных складах, и в штабных столовых, и в городской торговле — везде у него были «ниточки с иголочками». «Дайте только приказ, и мы с нового году свежу клубнику есть будем!»
Ранение у старшины было нелегкое. На красную рану, затянутую молоденькой кожицей, боязно было даже смотреть, но кость осталась целой, и Завьялов, как и Павел, радовался: «Были бы кости, а мясо нарастет!»
Вечером батальон Беркута закончил прыжки, и над полигоном заклубилась туча. Весело ударил гром. Набирающие цвет ромашки, росшие по обочинам дороги, вздрогнули обрадованно. А гром, будто сконфузившись, на мгновенье смолк, но тут же, решив, что робеть нет причин, раскатился с новой силой. Такой уж он озорной и веселый первый майский гром! Туча протянула серебряную пряжу к гондоле; и когда гондолу посадили на грузовик, по ее горбине застучали первые крупные капли, будто посыпали на спину дирижабля белый сухой горох.
Павел шел впереди взвода и смотрел на цветы. Они мотались под дождем радостно и завороженно. Нераскрывшиеся еще совсем головки тянулись безудержу вверх, а дождины молотили по ним, и, казалось, что цветы смеются.
В далекий край товарищ улетает, Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд…Дождь прошумел быстро. Засверкало над бором солнце. И все стало привычным. Будто не было никакой войны: ни мучительного отступления от самых границ, ни стыда перед остававшимися под немцем городами и деревнями. Просто собрались парни, идут после выпускного вечера по примолкшим улицам родного села и наутро не услышат никаких военных команд. И кто-то прикроет ноги стеганым одеялом и тихонечко откроет форточку. И спать можно будет долго. И воробьи в сиреневом палисаднике, под окнами родного дома, разговаривать станут негромко, а мирные позывные столицы — «Широка страна моя родная» — зазвучат в утренней свежести, как гимн детства…
Но это пока смотришь на счастливые после короткого дождика ромашки. Окинь взором окрестность: каждый дом — крепость, по углам — зенитки, каждый мост — гарнизон, в лесах — аэродромы, полигоны. Войска. Все приведено в готовность номер один. Но все пока что укрыто, неведомо противнику и хранит в себе неизведанную силу.
* * *
Перед отбоем лейтенант Левчук позвал Павла в старшинскую каптерку. Усадил на груду солдатских рукавиц-однопалок, неведомо для какой надобности запасенных рачительным Завьяловым, и, приложив палец к пушистым усам, прошептал:
— Товарищ гвардии старший сержант, на твои именины прибудет наша достоуважаемая землячка Людочка Долинская.
Павел вспыхнул, и от Левчука это не ускользнуло.
Стараясь не замечать смущения младшего своего товарища, Левчук начал рыться в столе.
— Знаю, — миролюбиво заговорил он, — сохнешь. Но запомни, Павел, дивчина — она, как тень: ты за ней — она от тебя, ты от нее — она за тобой. В добрую пору при твоем положении надо бы медовуху варить да сватов засылать… Любовь… Никакие золотые горы не надо, была бы только любовь… Ну, а сейчас, что поделаешь? Не то времечко!
— Хватит, товарищ гвардии лейтенант!
Когда Павел думал о Людмиле, в его сердце всплывал задернутый белой дымкой родной зауральский городишко Далматово, известный с древних времен монастырем и многолюдными торжищами. Жаркое лето калилось в церковных монастырских маковках, душистыми травами в дни сенокоса пахли улицы… Гудела летняя Далматовская ярмарка, и Павел шагал вместе с отцом, Николаем Васильевичем Крутояровым, по кривым улицам на базарную площадь, сосал сладкого «петушка», отдающего сосной и свеклой.
Отец был высок и щеголеват. Руки у него корявые, как терка, рубашка синяя, просторная, вышитая желтыми птичками крестом по подолу и вороту. Отец ходил по рядам, приценивался к новеньким сапогам-бутыльцам и, как и обычно, выпив в частной столовой стакан «протфельного», как он сам говорил, начинал баловаться с нэпманами. «Это — контра, — говорил отец. — И хотя товарищ Ленин пока что дал ей свободу, но он и укорот тоже сыщет!» Отец подходил к лавке, около которой стояли приваленные к стене жернова «малой руки» для мельниц-ветрянок и говорил продавцу-приказчику:
— Хочешь, я у тебя сейчас жернов украду?
Силенка у отца — на всю округу. Это знали, а потому торговец пугался:
— Укради, Миколай Васильевич. Не жалко. Да только кто его мне обратно принесет, эку тягость. Нанимать придется.
— Принесу. Будь спокоен, — сулился отец. — А если не принесу, значит, про тебя кое-что знаю.
Собиралась толпа, и отец, легко подняв жернов, относил его к соседней лавке, приваливал выход. Приказчики то ругали его, то умоляли:
— Миколай Васильевич! Ну будь добрый, убери эту штуковину обратно. Нам робить надо-с!
Отец смеялся и уступал:
— Ладно, валяйте, капиталисты недобитые, обсчитывайте публику! Недолго вам осталось!
Потом возвращались домой. Единственный на дворе конь Игренько с волнистой, свисающей почти до самой земли гривой, приветствовал их громким ржанием. Игренько любил отца и Павлика и всякий раз, встречая, радостно подавал голос.
В тридцатом году они переехали в Чистоозерский район. Отец после окончания шоферских курсов работал в совхозе. Цвела под окошками черемуха. Жужжали пчелы. Шумел на большущем озере ребячий хоровод… Они были друзьями — Людмилка, Павел и отец. Жили в большом двухэтажном деревянном доме, в районном поселке. Ранними утрами Людмилка, маленькая льняноволосая красавица с голубыми глазенками, залезала в кабину крутояровского «АМО», бралась за гладкий руль, давила на сигнал.
— Мальчишки-и-и! — кричала из кабины. — Толкайте! С буксира все равно заведется!
Николай Васильевич наблюдал за Людмилкой из распахнутых створок, посмеивался в ус.
— Ну и ушлая! А вот и не заведется. Ключик-то у меня!
Людмилка беспрекословно соглашалась: раз Николай Васильевич говорит, что не завести — точно не завести. Он обманывать не станет.
Часто Людмилка и Павел ездили с Николаем Васильевичем на поля, где стрекотали машины-лобогрейки и глотала снопы жадной пастью красная молотилка. Взрослые парни и девушки бросали зерно железными ведрами и плицами в кузов машины, дети барахтались в нем, смеялись. А потом машина катила по степи к складам.
Вместе любили они и груздовать.
В тот полдень окатной дождь прошумел над пашнями, наполнив мутной водой заросшие лопухами канавы. Дорога раскисла. Отец возвращался с поля один. Из-под колес летели черные ошметья грязи. Вот и Чистоозерка. Направо — тесовый забор, налево — овраг, пятидесятиметровая пропасть. Спускаясь под уклон, Николай увидел, как мелькнула через дорогу маленькая фигурка сына, за ним, с лукошком в одной руке и башмаками в другой, бежала Людмилка. На середине дороги девочка упала, рассыпав грибы. Отец давил тормоз, но, несмотря на мертво зажатые колеса, машина скользила под уклон, на Людмилку. И отец повернул налево.
Не стало отца — самого сильного во всем Чистоозерском районе человека. Оказался Павлик Крутояров круглым сиротой: мать его умерла от повального тифа, ходившего в Зауралье давно. Мальчик не помнил матери, но был потрясен смертью отца. Кричал в сердцах на маленькую свою соседку:
— Из-за тебя мой папка жизни решился!
И она стояла перед ним виноватая, и слезы, большие светлые картечинки, бежали одна за другой по румяным щекам.
И не однажды дядя Павла, родной брат отца, Увар Васильевич, урезонивал племянника:
— Не из-за Людмилки, а из-за того, что людей любил шибко!
В последнюю предвоенную осень их, уже старшеклассников, послали работать на уборку… Занимались от холодных рос осины, золотился березовый лист, боязливые пленицы — верные признаки ядреного бабьего лета — плавали в воздухе. Устилал проселки листопад.
Возили зерно от комбайна к току. Павел нагружал брички. Людмилка правила лошадью. По дороге обычно молчали. Слушали знакомое покряхтывание колес, оставлявших за собой гладкие, как солдатские ремни, следья. Однажды Павел начал петь:
Облака, облака, пролетаете Над родною моей стороной, Край родимый мой оставляете И любовь мою рядом со мной!Петляла между колками дорога. Уплывали к югу косяки журавлей. Падали листья. Она отдала ему вожжи, легко спрыгнула на обочину и пошла в лес. Павел остановил лошадь. Она вернулась скоро. В руке был маленький цветок.
— Вот, возьми. Колокольчик.
— Зачем?
— Скоро в армию уйдешь. Чтобы помнил.
Людмилкин подарок Павел засушил в блокнотике и берег пуще глаза. Прощались они, как и все другие в то время: «До свиданья». — «До свидания». И все. Только высохший цветок увез Павел с собою.
В десантной бригаде Людмилка появилась позже других.
— Здравствуй! — обрадовался ей Павел. — Колокольчик-то все жил у меня в книжке. А потом ранили — потерял.
Она обняла его и заплакала совсем по-бабьи, тихо и безысходно, но тут же, испугавшись своей слабости, высушила платком глаза.
— Тот самый колокольчик?
— Тот.
Поднялась в душе Крутоярова нежность, а вместе с ней — смятение. Одна девчонка на целый батальон! Как она могла решиться на такое? Павел постоянно, но неумело искал встреч с ней. И, встречаясь, Людмилка улавливала в его голосе, во взгляде возмужавшую твердость. Это все было дорого Людмилке, и сердце ее радовалось.
Людмилка, а точнее санинструктор первой роты, гвардии сержант Людмила Долинская, пришла в старшинский «кабинет» веселая, сияющая. Белые локоны вылились из-под пилотки, глаза лучились, и во всем ее облике было столько простоты и женственности, что мужчинам показалось, будто они у себя на родине, на тихой улице с палисадниками, забранными тыном. Будто тенькал кто-то ведрами у озера и плескалась из них мягкая вода, прикрытая капустными листьями.
— А где же наш товарищ старшина и где Сережа? — осведомилась она.
Левчук усмехнулся:
— Осмелюсь доложить, доктор, что они исправно несут службу: Завьялов — помощник дежурного по батальону, а Сергей во внешнем наряде. Так что ждать мы их не будем…
Левчук не успел закончить свой доклад, дверь каптерки распахнулась (сразу чувствовалось: хозяин пришел), и Завьялов, предстал перед собравшимися, серьезный и важный. Красная повязка на рукаве, и противогаз, и ремень с портупеей — все выглядело, как с иголочки.
— Присаживайся!
— Вы смеетесь? Я ведь помдеж по батальону.
— Ну, раз помдеж, то дуй отсюда, а мы трошки примем за «новорожденного».
— Валяйте. Только, чтобы было все в порядке.
— А как же, товарищ гвардии старшина! — Левчук начинал злиться. — А как же! Наказ твой выполним. Была бы ладанка или иконка какая, навроде талисмана, мы бы твои слова на тыльную сторону наклеили в письменном виде.
— Не шутите, Федор Леонтьевич, я же для порядку.
— Ладно. Иди!
Когда Завьялов ушел, Павел признался ротному:
— Не узнаю в последнее время старшину.
— И я тоже, — согласился Левчук. — Глаза прячет и завирается, по-моему, чересчур.
— Надо закрыться на задвижку, — предложила Людмилка.
— Нет. Ни в коем случае. Не бойтесь.
Левчук застелил стол газетой, поставил на нее фляжку со спиртом, нарезал хлеб. Людмилка раскупорила банку консервов.
— Ну, товарищ Крутояров, давай за твои именины… Конечно, на столе у нас не густо. Но вот разочтемся с «гостями», тогда уж все по порядку справлять будем… И Полина моя, и Танюша, может быть, с нами за одно застолье сядут.
Людмилка опустила кружку. Павел залпом осушил свою и закашлялся. Дверь вновь приоткрылась, и старшина показался в притворе.
— Я ведь не в приказной форме, товарищ гвардии лейтенант, а так, — сказал он и прикрыл каптерку.
Все переглянулись.
— Лезет, как голодный комар, — подался к дверям Павел, но Левчук остановил его:
— Прекрати, Крутояров… Не обращай внимания!
Левчук кольцами пускал дым, усы его обвисли. Он глядел в сторону, чтобы никто не заметил, как наливаются и краснеют у него веки. Все знали горе лейтенанта Левчука. Все его понимали. Но Левчук не хотел принимать сочувствия сослуживцев. Считал, что откровенные излияния и жалостливость могут расслабить людей и вредить делу. И сейчас в этой мальчишеской назойливости старшины он уловил что-то недоброе, слащавое.
* * *
На другой день батальон почти до вечера томился на аэродроме. Когда подошла очередь для прыжков, покрепчал ветер. Почувствовалось это в самолете: от аэродрома до места высадки десять минут лету — «болтанка» страшная. Наконец, сигналы: «пи-пи-пи». Павел прыгнул первым. Осмотрелся, поправил подвесную систему, начал готовиться к приземлению. Но парашют тащило почти параллельно земле. Тянул на себя стропы, тряс их ожесточенно… Вот под ногами перелесок. Уложены штабелем бревна… Удара Павел не помнит. Только голубые Людмилкины глаза. Они возникли будто из темноты.
— Второй день, Паша, — шептала она.
— Второй?
— Тише, не говори, тебе нельзя.
— Можно, — Павел пытался улыбнуться, ощупывал голову. Она была забинтована и казалась огромной.
— Что со мной?
— Ушибся. Ты помнишь бревна? Парашют перехлестнуло.
— Ничего. Не горюй, — сказал сидевший тут же Сергей Лебедев. — Не такое бывало!
Этот спокойный голос Сергея и напугал Павла. Павел знал, что после серьезных травм бригадная санчасть без излишних проволочек устраивает десантникам медицинские комиссии, и многих после этого отчисляют в другие части, иногда даже и нестроевиками. Конечно, служба десантная — не шоколад. Но сейчас она для сержанта казалась самою лучшею. Павел и представить не мог себя без своей роты, без ребят, дружных, настырных. Десантники! Воздушная пехота. Это легенда! Не царица полей, а богиня! Бригадная комиссия неумолима и беспощадна. Это Павел знал еще по отборочной. Беркут! Только он мог заступиться.
Письмо командиру батальона гвардии майору Беркуту
«Товарищ гвардии майор! Перед последними прыжками я получил из дому весть: дядя Увар Васильевич — на фронте, двоюродный брат Лева умер в госпитале. Осталась одна тетка, Авдотья Еремеевна. Она работает в колхозе денно и нощно. Спрашивает меня, как я служу и как мое здоровье? Я что-то должен ей ответить. Вы знаете, товарищ гвардии майор, что тетя и дядя у меня — простые люди. Отец тоже был обыкновенным рабочим, шофером, но рано погиб. А мать я совсем не помню. Тетка Авдотья всегда была для меня как мать. Она вырастила нас с Левой на равных, а потому, когда нас отправляли в армию, наказывала одинаково: «Идете в драку — не жалейте волос!»
На последних прыжках со мной вышло несчастье. Вы скажете, что «от случайностей никто не гарантирован». Это правильно. Но я боюсь другого: комиссия может отстранить меня от прыжков или отчислить из части вообще. Это, товарищ гвардии майор, для меня самое худшее. А ушибся я не сильно. Хожу по палате, и все со мной в порядке. Но батальонный врач считает, что надо все-таки комиссию. Это значит — могут отчислить. За что? И что скажут люди? В тылу покалечился, трус?
Товарищ гвардии майор! Вы — большевик, вы поймете меня…»
Ходить по палате Павел пока не мог. Он не закончил своего послания, не сказал главного: уйти из части — потерять Людмилку. Это было непереносимо. Сознание покидало его.
…Шли по горящим камням, вздымая снопы минных разрывов, танки. Лука, герой горьковского «дна», присел на кровать, начал гладить его по голове и приговаривать: «Кто кому чего хорошего не сделал, тот и плохо поступил». — «Ты это к чему?» — «К тому, милый, что придется тебе попрощаться с воздушной бригадой. Но ты не противься. Шагай помаленьку. Оно и легче станет». — «Значит, не противиться?» — «Угу». — «Послушай, дедушка, тебя когда-нибудь по-настоящему били?» — «А как же? Били… Да ты не ерепенься. Жить надо ровно, постромки не рвать. Вот тогда и благополучие на земле будет. Все — люди. И все, концы в концах, прозревают. Понял?» — «А фашисты?» — «Что фашисты? И фашистов, паря, способнее всего человеками называть». — «Ну и гад же ты, дедушка, — обозлился Павел. — Если бы не воинская дисциплина, я бы тебе за такие слова…» Лука испугался и начал кланяться. Павлу это надоело. «Катись отсюда!» — выругался он, и Лука исчез.
Павел попытался подняться, застонал.
— Тише, Павлик, тише, — он всегда тут, с ним рядом, голос Людмилки. — На, выпей водички!
Павел открыл глаза. Людмилка продолжала:
— Приходил Беркут вместе с доктором, когда ты спал.
— Письмо мое?
— Взял с собой. Сложил вчетверо и в планшет.
— Читал?
— Читал. И доктор тоже. А потом майор сказал: «Хорошие у нас парни».
Людмилка за эти дни осунулась, похудела. Огромные глаза ее стали усталыми и взрослыми.
Ни Людмилка, ни Павел Крутояров, конечно, не понимали, что в отношениях поколений бывают такие периоды, когда дети очень быстро взрослеют, а отцы продолжают оставаться молодыми. В такое время они становятся сверстниками. Только старшие, как бы инстинктивно, охраняют и защищают младших. Происходит это естественно, ненавязчиво.
Беркут был внимателен к своим сослуживцам, берег молодых, как сознающий ответственность за судьбы поколения.
* * *
Молодость есть молодость. Шрам затянуло быстро, температура спала. Надев десантную форму, он расхаживал по палате, чувствуя, как наливается здоровьем тело. Ходил на носках, вытягиваясь вверх так, что хрустело в позвоночнике, пробовал ходить на руках, проверяя, как подействует прилив крови к голове.
За этим занятием его застал батальонный врач.
— Тренируешься?
— Да так, немножко.
— Смотри, не поломай тут у нас чего-нибудь.
— Выписывайте поскорее, товарищ гвардии майор.
— Вот приедет главврач бригады — посмотрим…
— А комиссии не будет?
— Нет. Для чего она тебе?
— Она мне ни к чему, — Павел едва не кричал от радости.
Когда врач ушел, в палате появилась Людмилка. Она молча положила на заправленную кровать синий треугольник и молча вышла.
Письмо Людмилы Долинской Павлу
«Я не могу не сказать тебе об этом, хотя говорить не время. И все-таки я думаю, что оставлять на «после войны» нельзя. Всякое может быть.
Когда ты был без памяти, беспрестанно шептал: «Люблю». Это было при Беркуте. А рядом стоял доктор. Доктор наш — чудесный человек. Он не посылал меня в роту, не вызывал на занятия. И все дни я провела возле тебя.
Я о многом подумала, Павел.
Ты даже не знаешь, как я оказалась здесь, рядом с тобой. Не удосужился ни разу спросить, а я ждала, что спросишь… Столько я мытарств перенесла, чтобы так все получилось, знаешь? Когда ты ушел в армию, я сказала девчонкам: «Пойду за ним». Меня подняли на смех. «Подумаешь, любовь, — говорила мама, — девки в твоем возрасте умнее. Вон Лелька Бартовская вышла замуж за военкоматовского офицера. И деньги, и наряды, и муж есть».
Оба мои брата попали на фронт с первых дней войны. Я тоже написала заявление, чтобы отправили в действующую армию. Не приняли. Мама упросила врачей, и они нашли у меня какие-то изъяны в легких. Мама есть мама. Ровно через месяц после этого мы получили похоронку: погиб отец. Сколько я пережила! Работала на хлебопекарне чернорабочей. А есть было нечего. Был только запах хлеба. Некоторые ухитрялись стащить со склада булку-две. А я? Когда и ни в чем не виновата — и то краснею.
Потом бросила все. Попрощалась с мамой, поехала в Свердловск. Вагоны забиты, билеты не продают. А я еще пальцы на ноге ознобила. Приехала в УралВО, начала просить: «Пошлите в военное медицинское училище». — «Обращайтесь в военкомат по месту жительства», — отвечают. «Никуда я больше обращаться не буду. Давайте ваше направление». Лейтенантик, принимавший меня, щурился, ехидничал: «Девушка, перестаньте дурочку корчить». Ну уж тут я разошлась: «Как вы сказали? Как ваша фамилия?» — «А вам зачем?» — «Затем, чтобы сообщить куда следует и рассказать о вашем бездушии и бюрократизме! Как вам не стыдно! Война идет, а вы тут сидите в тылу да еще и над людьми издеваетесь!»
В общем, через три дня я была в училище, в Верещагине, на курсах санинструкторов. А потом получила твой адрес и задумала попасть в вашу часть, к тебе, мой миленький. И к кому только я не обращалась, и что только не выдумывала.
И вот встреча с тобой, счастье мое. Мы с тобой теперь вместе, на всю жизнь, правда? Целую тебя, мой родной.
Л. Д.»Ходил Павел Крутояров по палате. Семь шагов — на запад, семь — на восток. Полный покоя и счастливый. Читал, перечитывал дорогое послание.
* * *
В скворечнике, пришитом толстыми гвоздями к старому телеграфному столбу, хлопотала скворчиная семья. Больше всего трудилась скворчиха. Серая, нахохленная (забот полон рот — не до внешности), она приносила прожорливому семейству, необыкновенно быстро взрослеющему, мохнатых желтых гусениц. Скворец, угольно-зеленый красавец, иногда позволял себе вольности. Он садился на тонкую струну телефонного провода, пел песни, передразнивал десантников. Самонадеянный и сильный, он косил бисерный глаз на лазившего по углам рыжего кота, вздергивал клюв и кричал: «Вот черт! Вот черт!» А потом дико, по-хулигански свистел.
Однажды кот добрался до скворечника. Тремя лапами уцепился за его неструганые бока, а четвертой пытался достать скворчат. Скворец сначала ругался на кота, а потом начал звать на помощь. И собрались соседи. Свирепо налетели они на бродячего разбойника и готовы, кажется, были вцепиться в его клочковатую шубу. Не выдержав натиска, кот свалился вниз и захромал к подвалу. Это сражение было решающим. Хозяин скворечника стал еще бесшабашнее, его песни зазвучали еще веселее и суматошнее.
…Шло собрание комсомольского актива первого батальона. В президиуме — командир Родион Беркут. Десантники — на скамейках, на стульях, на полу. Людмилка Долинская, откинув краешек одеяла, присела на чью-то кровать. Доклад комсорга Вани Зашивина о чести и дисциплине, о том, что приходит время отправки на фронт или даже высадки в тыл противника, что надо быть сильным не только физически, но и духовно.
— За истекшие два месяца, — говорил Ваня, — ни один гвардеец не проявил фактов недисциплинированности. И только гвардии старший сержант Крутояров, бывший фронтовик, допустил пьянку, а в результате… Я не буду рассказывать подробности, пусть сам скажет… Он член комсомола… Иди давай, доложи!
В казарме воцарилась тишина. Павел подошел к столу, и голос у него сорвался:
— Простите, товарищи! Гвардейское слово даю: все вышло случайно.
— Случайно? А ты разве не знаешь, что от маленького нарушения до большого преступления — всего один шаг?
— Извините, ребята! И вы, товарищ гвардии майор! — повторил Павел.
— Не водку тебе пить, а простоквашу, — разошелся Ваня. — Не с Людмилкой… а у бабушки…
— Отставить! — Беркут секанул ребром ладони по столу. Стоявший на краю стола колокольчик соскочил на пол, зазвенел. Людмилка закрыла пылающее лицо пилоткой.
— Как тебе не стыдно, Зашивин!
И тут из задних рядов поднялся старшина.
— Учти, если будешь такое про Крутоярова говорить, я тебя лично сам…
— Товарищ гвардии майор, — прервал старшину лейтенант Левчук. — Дайте мне слово!
— Говори, лейтенант.
— Это я во всем виноват, — взволнованно сказал ротный. — В тот день Крутоярову исполнилось двадцать три года. Я поздравил. Потому, что мы земляки. И я его знаю сызмальства, и родню его всю знаю… Он — правильный человек. Верно, ребята?
— Верно! — шумела казарма.
— А Иван Зашивин, он хотя и тоже славный парень, и комсорг наш, но ему придется сейчас же извиниться перед санинструктором Людмилой Долинской… Она у нас одна, и обижать ее мы никому не позволим… Крутоярову, я думаю, давать комсомольское взыскание тоже не следует.
Левчук помолчал, вытер платком лоб и добавил совсем по-простецки:
— Тем более, завтра опять прыжки… Смотрите, какая погода запоказывалась! — Он махнул рукой на горизонт. Весь запад пылал светло-багряным цветом, небо замирало, освещенное последними солнечными лучами. — А то как получается: в санчасти почти полмесяца ночевал, да еще выговор получит… Раз выпил — два раза крякать приходится.
Старшина Завьялов ставил себе в заслугу «спасение» Павла Крутоярова. Гвардии лейтенант Федор Левчук радовался замечательной педагогичности батальонного командира Беркута. Беркут же еще раз проверил на «массе» одного из своих командиров: с ними он собирался высаживаться в тыл врага, характеры их он хотел знать до малой детальки. Он и раньше любил составлять мнение о комсоставе не по официальным характеристикам, а по настроению рядовых, по маленьким, казалось бы, незначительным репликам и даже шуткам. Детали складывались в образ, точный, позволяющий делать безошибочные выводы.
Все были довольны исходом собрания. Терзался только Павел Крутояров. После отбоя, захватив с собой плащ-палатку, он ушел в рощу, лег на отволгшую траву и предался размышлениям о случившемся. Мелькали в глазах лица ребят… Не было в выступлении Вани Зашивина его обычной доброты. Отчего же? Павел готов был понести любое наказание, только чтобы все выходило начистоту. Он боялся быть отчисленным в нестроевики и написал об этом Беркуту. Он боялся клеветы, которая могла взрасти лишь из-за одного промаха: ведь найдутся люди, которые усмотрят в неудачном приземлении нежелание служить. «Отлынивает!» — так и скажут. Весь взвод, кроме командира, приземлился удачно. Почему?
«Десантник должен быть на голову выше солдата из любого другого рода войск. Он должен уметь все. Это самый смелый, дисциплинированный воин, готовый к любым испытаниям», — говорил Беркут. Впрочем, подобное он говорил и не десантникам, а тем, кто вместе с ним уходил от врага, прогрызая вражеские заслоны. Павел не жалел себя, не искал оправданий. «Самый дисциплинированный?» Какое там! Шуточки всякие, выпивка. Людмилка… И тот прыжок!
Он придумывал слова извинений, хотел повиниться перед майором Беркутом, перед лейтенантом Левчуком, старшиной, Людмилкой, Сергеем Лебедевым и Ваней Зашивиным. Он любил их всех. Он не умел объяснять себе свои чувства; они смешивались в сознании в нечто единое, в котором была и Людмилка, и тихий берег в родном селе, и береза, под которой они встречались, и дядя Увар Васильевич, и тетка Авдотья Еремеевна с материнским радушием на лице, появлявшемся в минуты, когда Павел ранними утрами возвращался с рыбалки и садился завтракать! Такое, или похожее, было в жизни каждого. А если было, значит, поймут!
Открытый и сердечный парень комсорг Ваня Зашивин. Еще вчера вечером он играл на баяне и пел песню о четырех Степанах:
Первый был Степан Иваныч, А второй — Степан Степаныч, Третий был Степан Кузьмич, Да еще Степан Лукич.Ноги его пристукивали, притопывали, руки носились по клавишам, как в вихре. Пилотка чудом держалась на затылке.
Не быстро умел Павел Крутояров находить друзей. Но сержант Иван Зашивин был его другом. Это он просил Павла, уходившего в увольнение в город, передать телеграмму жене. «Так и отбей, — говорил, — люблю тебя и Степку, люблю тебя и Степку. Три раза повтори. Вот адрес: Копейск Челябинской области. Отбей, Паша, потому как я не могу по-иному. Ведь и у тебя любовь к Людмиле не маленькая». — «Но Степки у тебя покамест никакого нет. А вдруг девка родится?» — «Сейчас уж родился! Не девка, Степан. Во сне видел».
А потом письмо Светланы он показывал всему взводу. Обведенная красным карандашом на клетчатом тетрадном листке детская пятерня. «Видите, какая ручища у моего наследника! А?» Иван белозубо смеялся и наигрывал на баяне песню о четырех Степанах.
Он приносил котелки с подрумяненными в духовке сочными котлетами с чесноком в санчасть. «Да сыт я! Чего ты носишь?» — смущался Павел. «Ешь давай! Не форси!» — посмеивался комсорг.
О войне Ваня говорил жестко, ругался: «Фашисту пространство надо, а то не поймет, что нельзя пялить глаз на чужой квас… Ох, и подожжем мы евонные мундиры, аж до самых хлястиков! Попомните меня!»
Как же он мог говорить такое на собрании? И про Людмилку такое сказал? Что с ним произошло? Нет, нет, это не его слова, сторонние.
Павел вздрогнул. Темный силуэт проплыл за деревом.
— Это ты, Павел? Это я, Зашивин Иван.
— Ну?
— Не могу заснуть. Недопонял я что-то в этом деле. Прости.
— Зачем надо было так, принародно поглумиться?
— А ты знаешь, кто посоветовал привести в качестве примера недостойного поведения именно тебя?
— Кто?
— Земляк твой. Старшина Завьялов.
— Не может быть, Ваня. Он же на собрании что крикнул? Разве ты забыл?
— Мне-то какой расчет врать? Виноват я перед тобой. Не сдержался. Чужой совет словил и понес…
Павел успокоился, даже повеселел:
— Черт с ним, со всем этим делом. Давай двинем домой, подъем скоро.
Брезжила утренняя заря. На окраинах маленького подмосковного города пели редкие петухи. Новое утро катилось над миром.
* * *
Наступила зима. Разыгрались в степях, по оврагам и рощам бураны. Начались учебные маневры. НП воздушно-десантной гвардейской бригады расположился на крутом взлобье, поросшем сосняком. В долине дымили оборонительные линии «противника». В двенадцать часов по сигналу красной ракеты открыли огонь минометчики. Потом двинулись друг на друга цепи. На флангах заработали станковые пулеметы. От холостых автоматных очередей звенело в ушах.
И вдруг все стихло. Опустили оружие, забыли о войне — по равнине, почти на одинаковом расстоянии от мнимых противников, заломив рога на спину, бежал лось-горбач, за ним рысила комолая лосиха. Как только стрельба затихла, звери остановились, прядая ушами, осматривались.
— Вот они, красавцы, — защелкал языком старшина. — Сейчас я срежу.
— Тише! — предупреждали его солдаты. — Пусть уйдут.
Никто не заметил, как старшина, пошарив в грудном кармане, загнал в патронник боевой патрон. Громыхнул выстрел. Вспушила у самых ног лося снежный султан пуля. Горбач сделал огромный прыжок и, легко выбрасывая тонкие ноги, рванулся на цепь. Солдаты вжались в снег. Лось подбежал к стыку подразделений, увидел незамкнутый проход и спокойно прошел его. За ним проскочила лосиха. Потом они бежали уже легкой рысцой, не оглядываясь, будто знали, что тут, на взгорье, собрались не враги, а друзья.
На привале после анализа «наступления» Федор Левчук «отесывал» старшину. Разговор шел более чем крепкий.
— В беззащитную скотину стреляешь! — кричал Левчук. — И не совестно?
— Да что она, колхозная, что ли? Щи были бы добрые. Надоела уже похлебка!
— А если бы укокошил кого-нибудь на той стороне? Вот была бы похлебка.
Крепко попало и взводному, Павлу Крутоярову: старшина временно был зачислен в расчеты первого взвода, и Крутояров, как и другие командиры взводов, должен был лично отвечать за расходование боепитания, выделенного на маневры.
— Откуда во взводе взялись боевые патроны? Вы что, под трибунал захотели? — угрожал Левчук.
Павел смущенно отмалчивался. Он, конечно, понимал, как и сам ротный, что старшине ничего не стоило «сэкономить» боевые патроны на стрельбах. Но ответственность есть ответственность.
Именно в этот день Павел впервые и всерьез задумался о метаморфозах, происходящих с ротным старшиной… Случилось так, что старшина, вернувшись из одного гарнизонного наряда, принес старый немецкий фотоаппарат «Кодак», две новеньких опасных бритвы и машинку для стрижки волос — «нолевку». С тех пор в батальоне он стал завзятым фотографом и парикмахером. Но в каждом деле допускал «переборы». Бреет клиенту голову — мыло с лезвия вытирает о его же гимнастерку, сфотографирует кого — обязательно деньги просит на «проявитель-закрепитель». Те, кто посмиренней, молча сносили эти старшинские выходки. Но Павел увидел в этом худое.
— Ты только попробуй хотя бы одну каплю мыла уронить мне на гимнастерку, — говорил Павел, — я тебя заставлю с четвертого этажа без парашюта прыгать.
— Не волнуйся, — отвечал Завьялов. — Тебя как земляка по-культурному побрею.
— Не только меня, но и других, — твердил Павел. И Завьялов соглашался.
После комсомольского актива старшина решил пооткровенничать с Крутояровым.
— Кажется мне, что зол ты на меня за что-то? — спросил. И не увидел, как болезненно искривились губы Крутоярова.
— Когда в миномет две мины затолкнешь — разорвет стволину. Ты в душонке, на мой взгляд, два заряда стал носить…
…Потешался над равниной буран. Окопы, оставленные час назад, затянуло снегом. В сумерках батальон вышел к кухне, на опушку большой белой рощи, полукольцом огибавшей железнодорожную станцию. Здесь ночлег. Спать придется в палатках. В одночасье батальон построил брезентовую деревню в две улицы и четыре переулка.
Перед отбоем, несмотря на усталость, Павел и Людмилка ушли в рощу. Разыскали в глухом месте полуразвалившуюся беседку и, сбросив со скамейки еще не успевший затвердеть причудливой формы снеговик, долго наблюдали, как бегут над голыми вершинами берез дымные облака. Буран кончался.
Павел обнимал Людмилку, припадал к ее маленькому уху и нежным завитушкам, торчавшим из-под шапки. С ним никогда такого не бывало: ловил запах ее волос, слушал ровные стуки сердца.
— Что ты, Пашенька?
— Так, ничего.
— Ну говори же.
Громыхали на станции военные составы.
Вы замечали, что гул проносящихся поездов похож на шум водопадов? Особенно это заметно ночью, на маленьких станциях. Поезд накатывается издалека, и гул его приближается с каждой секундой. Затем он обрушивается, захлебываясь, как падающая вода. Белым потоком сверкают слитые воедино окна вагонов. И когда сигнальные фонари стремглав пролетают прочь, на полустанок облегченно падает тишина, как за высокий берег. Отдаленным всплеском донесется затихающий гул — и безмолвие, до следующего поезда.
Этот вечер для Павла Крутоярова и Людмилы Долинской был сверкающим потоком огней. Людмила прикасалась теплыми пальцами к его лицу, шее, притягивала к себе.
…Шумели березы, как и обычно, как три года назад, как пять, десять и двадцать. Роняли под ноги себе сережки.
Возник из полумрака дежурный по батальону, кашлянул предупредительно. Это был Сергей Лебедев.
— Павлик, тебя комбат кличет.
— Хорошо, Серега. Я сейчас.
Они ушли из беседки в полной уверенности друг в друге, в своих чувствах и будущем. Война? Войны — не вечны. Мир стал злым и холодным не навсегда. Засветятся еще огни Чистоозерки. Ухнут музыканты духового оркестра в районном Доме культуры. И зашепчутся между собой чистоозерские парни и девки. «Пашка Крутояров приехал! И Люська Долинская с ним!» — «Не диво: сызмальства повенчаны!» Никто не осудит. И будет свадьба!
Комбат при свете двенадцативольтовки играл в шахматы с незнакомым капитаном в новенькой форме, с новенькими погонами в голубой окантовке. Капитан был жилист и широкоплеч. Как только Павел откинул брезентовую дверь, комбат осторожно поставил карманную шахматную доску вместе с нетронутыми крошечными фигурками на перевернутый кверху шерстью полушубок.
— Крутояров, вы?
— Так точно, товарищ гвардии майор!
— Садитесь.
Ветер вырвал из рук Павла брезентовую штору, и она сердито захлесталась о наружную стенку палатки. Павел неловко схватил ее обеими руками и притянул к себе. Жилистый капитан встал и пришнуровал брезент.
И опять приспело время выслушать Павлу Крутоярову упреки.
— Не пойму тебя, старший сержант… Там, в окружении, у пушки… ты был другим. А сейчас? Откуда мальчишество? Ты что, мало каши ел?
Незнакомый капитан внимательно и, как показалось Павлу, нагло рассматривал его. И это обожгло до оскорбления.
— Вы знаете, товарищ гвардии майор, сколько я ее съел! Кое-кому такое не понять!
— Пойму, — уловил намек капитан. — Зачем не понять?
— Прекратите грубить, Крутояров… Познакомьтесь-ка лучше с нашим комиссаром, гвардии капитаном Сосниным. Он еще один твой земляк… Ты из Чистоозерки, а он…
— Из Рябиновки, — улыбнулся капитан. — Летом двадцать пять километров, а зимой, когда встанет озеро, — десять. Давай лапу, землячок… Меня зовут Кирилл Сергеевич.
Он подал перевязанную чистым бинтом руку.
— На фронте? — растерялся Павел.
— Под Фастовом.
Беркут потянулся к фляжке с водой и рассыпал шахматы. Обозлился и, закрутив полушубок, чтобы не потерять ни одной фигуры, уже так, как бывало там, в боях при отступлении, сердито спросил:
— Откуда во взводе оказались боевые патроны? Вы отвечаете за боепитание?
— Патроны нашлись у старшины… Он временно был зачислен в штат… Врать не буду… Со стрельбищ, наверное, остались…
— Наверное? А ты, командир взвода, не знал?
— А старшину Завьялова вы хорошо знаете? — капитан будто крапивой ужалил Крутоярова.
— Петра-то? Да вы что, товарищ гвардии капитан? Конечно!
Соснин спокойно раскурил папиросу, отмахнул перевязанной кистью дым от недовольно поморщившегося Беркута, продолжил:
— Я к тому, что на войне все полагается делать всерьез. Тебе с твоими подчиненными, и со старшиной тоже, доведется ходить в бой… Все это надо учитывать. И спрашивать надо сейчас друг с друга по-фронтовому… И верность великая, братец, нужна… Хороших щей не хватает — полбеды, после войны отъедимся, роты недоукомплектованы — тоже полбеды… А вот если верности не хватит — беда.
Крутояров смотрел, как у капитана подрагивает на виске живчик, как каменеют скулы. Он представил Рябиновку, старое зауральское село, растянувшееся вдоль берега. Павел знал многих рябиновских парней, учившихся вместе с ним в Чистоозерской средней школе. По характеру они были смиренными, но отличались необычным упорством и упрямостью. Сколько бы их ни строгало школьное начальство за срывы уроков, они аккуратно, каждую субботу, всем гамузом уходили в Рябиновку через озеро и приходили только лишь в понедельник к последним урокам, обожженные ветром, раскрасневшиеся, с полными сидорами калачиков и кругов мороженого молока. Проводить среди них какую бы то ни было воспитательную работу было бесполезно. «У Ванюхи мать на сносях», «У Петьки отец должон на мельницу ехать», «Да и провиянт у всех вышел. Идти надо было домой. Иначе нельзя», — уверенно объясняли они свои прогулы.
Все они были высокорослые, с белыми, как ковыль, волосами, степенные и рассудительные. «На одну колодку деланы», — посмеивались в школе. Но обижать никто не обижал. Первое дело — рябиновские этого не заслуживали, а второе (весьма немаловажное) — попробуй задерись, намнут бока исправно. Рябиновские!
И этот комиссар батальона, заместитель по политчасти, как их сейчас стали называть, Кирилл Соснин уверен в себе. Знает, зачем пришел к десантникам. Крепкой закваски мужик. Видно сразу. С такими безопаснее. От них сила прибавляется. Павел слушал комиссара и успокаивался, соглашался с ним душою.
Встреча с Людмилкой, ее слова, разговор с комиссаром, сильным и спокойным, наполнили разум ясной уверенностью: друзья, побратимы, земляки — все идут на большое сражение. Не за горами победа. Павел был счастлив.
* * *
Май тысяча девятьсот сорок четвертого был необыкновенным. В каждом мгновенье его жило предчувствие близких перемен. Плескался яблоневый цвет в окошки казарм, белым кружевом метались лепестки. Дурманяще пахли зори. Воздушно-десантная бригада, переформированная в гвардейский стрелковый полк, покинула ставший родным маленький подмосковный городок. Уносили десантников красные эшелоны на север, в далекую страну Карелию, где замирали над искореженной землей белые ночи.
Эх, белые ночи, белые ночи! Сколько в мертвенном вашем свете пройдено дорог, сколько дум передумано! Сколько потеряно друзей! Вы, вечные хранители тайн, сияете и сегодня над мирно спящим Ленинградом, над голубыми реками Невой и Свирью, над старым русским городом Лодейное Поле, над Олонцом, над Видлицей, над великими Ладожским и Онежским озерами. Если бы вы могли поведать о всем, что свершилось под вашим светлым куполом!
Прибытие на фронт новых подразделений не осталось незамеченным для неприятеля, и он решил скрытно отвести свои войска с плацдарма Онежское озеро — Свирьстрой за реку Свирь. Но отход был обнаружен, полетел по частям приказ о немедленном преследовании.
Гвардии старшина Петро Завьялов, кормивший на большом привале роту, возмущался.
— В чем досада, старшина? — пытал его капитан Соснин.
— Досада? А ну, товарищ Зашивин, — обратился старшина к помогавшему на кухне «дублеру» Ване, — принеси товарищу комиссару эти листовки, поди, оставил на растопку?
Зашивин принес пачку фашистских прокламаций.
— Вот слушайте: «На фронт прибыли новые пополнения советских солдат. Это не солдаты, а выпущенные из тюрем воры-рецидивисты, именующиеся в настоящее время в СССР гвардейцами». И как у них, у сволочей, язык поворачивается такое говорить. Чтоб они все поиздыхали!
— Так это же фашисты писали.
— Знаю, что фашисты. Но совесть, хоть маленькую, надо иметь?!
— Какая же у фашистов совесть, — вмешивался Павел Крутояров. — Они ее, Петро, еще в детстве с квасом выхлебали.
Павел подкручивал несуществующие усы, будто собираясь со старшиной христосоваться. Басок его был притворно-наставительным. Гвардейцы смеялись. А Ваня Зашивин, уминая круто наваренную кашу с маслом, подстегивал старшину:
— Не знаю, товарищ Завьялов, то ли ты из пеленок вчера выпал. Как маленький!
— Помолчи, Зашивин! — взъедался старшина. — Делай свое дело, не суйся!
Вечером первый взвод назначили в боевое охранение. В полночь, во время смены караулов, Крутояров увидел между соснами мелькающую тень. Финский солдат. Без оружия. Почти бежит. Серый китель, серые брюки. Сам весь серый. Ищет кого-то глазами. Вот он.
— Стой! — скомандовал Павел.
Лицо финна на малую долю минуты исказилось. А потом он улыбнулся, с готовностью поднял руки вверх.
— Не враг я вам, — сказал чисто по-русски. — Нас много из двенадцатой дивизии убежало. У меня родной дядя в Ленинграде. Наверное, и живого нет… Финны — простые люди — не хотят воевать с русскими и ненавидят фашистов… Ты можешь меня убить, если я вру.
— Ясно. — Павел опустил автомат. — Взять.
Караульный гвардеец проверил карманы пленного, воротничок. Выросли, как из-под земли, еще двое десантников. Бесшумно увели пленного в глубину обороны. «Вот и еще одна встреча с врагом. И враг ли это?» Павел вспомнил первого пленного немца, которого они взяли еще там, в лесах на Брянщине. «Брот, брот, клеп», — протягивал он грязную руку. Павел отдал тогда ему половину своей пайки. Не показался немец Павлу Крутоярову ворогом. «И этот финн — тоже не враг», — размышлял Павел.
— Можете идти отдохнуть, товарищ гвардии старший сержант. Секреты расставлены. Порядок, — тихо сказал несущий караул.
— Ладно. Пойду.
Шептались сосны. Где-то далеко-далеко с хрустом рвались мины, стучал автомат. Все эти звуки были в нескладном противоречии с замирающим в летней истоме лесом.
* * *
Раздавали старшины сухой паек.
Батальон, в котором служил Павел, известно, — первый, рота — первая и взвод — тоже первый. Вот потому-то в любом деле быть приходилось первыми: и в легком, и в трудном. Таков уж необъяснимый закон. Подходила пора дежурить по гарнизону — шли в первую очередь, начинались прыжки — тоже начинали первыми. И на обед ходили в первую очередь, и патроны и сухой паек положили в вещевые мешки раньше всех.
«Укрепрайоновцы», на смену которым прибыли десантные части, судачили с гвардейцами о том-сем, искали земляков, с завистью поглядывали на вооружение гвардии — новенькие карабины и автоматы с откидным ложем. Пожилой ефрейтор с рыжими усами и медалью «За отвагу» подошел к расположению роты.
— Главное, ребята, побольше патронов и гранат с собой берите, — советовал. — А еды там найдете.
— Где это «там»? — сердито вмешался лейтенант Левчук, не отрываясь от планшета с картой. — Вы не агитируйте! Пусть берегут паек. Пригодится.
— Берегут? Где вы видели, товарищ Левчук, чтобы солдат пайку берег?
Павел, дремавший на скатке, услышал знакомый голос. Кольнуло в сердце что-то близкое-близкое. Открыл глаза.
— Дядя Увар? Ты, что ли?
— Пашка! Едрена копоть! Племяш!
Оторвался от планшета ротный. Подошел к Увару Васильевичу:
— Извините, не узнал.
— И я, Федя, не узнал спервоначалу-то!
Все трое обнялись. Расцеловались. Подскочили на шум еще двое: Сергей Лебедев и старшина.
— Господи, да тут полдеревни нашей!
— Ну, как воевали, дядя Увар?
— А так и воевали. Мы, едрена копоть, почитай, с самого сорок первого эти тропочки топчем. Пообвыкли уж. Случалось, стоишь на посту и по всей передовой ни одного выстрела не услышишь, а они на той стороне речки в волейбол играют!
— Медаль-то за что получили?
Увар немного смутился, но потом лихо сдвинул на затылок пилотку.
— Это перед новогодним праздником, в прошлом годе… С месяц боев не было. А они все в рупор через речку кричали: «Русь, сдавайся! Крышка тебе!» Мы ничего на эти дурацкие крики не отвечали. Редко кто слово покрепче выпустит…
Увар Васильевич присел на одно колено, вынул кисет, ловко свернул цигарку. Окружающие затихли.
— Ну и дальше? — спросил старшина.
— Сказал бы я тебе чо дальше, да народу мало!
Лицо у старшего Крутоярова было широкое, улыбчивое, ямочки на щеках и на подбородке — верные приметы завзятого весельчака — завихрялись маленькими воронками.
Солдаты смеялись.
— Нет, я в самом деле? — покраснел старшина.
— А в самом деле получилось так. Вызвал нас командир роты, задание дал: сходить ночью через речку, достать языка. К финнам идти — не к немцам. Немцы могут и проспать, и струсить, а финны вояки — во! — Он показал прокуренный палец с желтым ногтем. — Ну пошли мы… Пурга — свету белого не видно! Куда идем — не ведаем. Смотрю — огонек, махонький, как мышиный глаз. Дал сигнал ребятам, чтобы покамест залегли, а сам — к огоньку. Вижу — землянка, а в землянке солдат. Карты раскладывает. Ворожит или мечтает о чем. Как взять без шума? Решили так: я забегаю внутрь, Василко, мой дружок, на посту остается, а Егоров с плащ-палаткой у входа… Заскочил я в эту схрону, заехал ворожею автоматом по загривку…
— Ладно у вас получается, как по газете читаете, — съязвил Завьялов.
— Не надо, Петро. Коли что не так скажу, потом поправишь… Ну, так вот. Законопатили мы этому «другу» рот тряпицей, связали руки-ноги и — на плащ-палатку… Почти до самой нейтральной шли хорошо. А потом у него тряпка-то из глотки выпала, и он заорал. Ветер в ихну сторону. Услышали они и рубанули по нам из всех пулеметов да минометов. Лежим на снегу ни живы ни мертвы, а солдат орет, и прожектор в темноте бродит, нас ищет… Только к утру и вышли… Вот оно какое дело… Дружок мой, Василко, на льду остался, а фашиста целехонького доставили… Потом разведчики за Василком сходили…
Увар Васильевич еще раз полез за кисетом, прикурил от кресала и, полузакрыв глаза, сказал старшине:
— Ты, Завьялов, не сердись. Я сейчас, как вот этот камень у кресалки, со всех сторон тесан…
— Ничего, — ответил старшина. — Знаю твой характер. Любишь под шкуру залезти.
* * *
Этот день для Павла Крутоярова был приметным. На всю жизнь зарубы в душе остались.
Катила холодные воды Свирь. От Онеги до Ладоги сомкнули строй гвардейские части. Готовили к удару самоходные пушки, танки, тяжелую артиллерию, «катюши», самолеты, машины-амфибии. Молчал лес. В зарослях его разбита большая брезентовая палатка. За походным столиком члены парткомиссии: командир дивизии, замполиты, начальники штабов. Тут же батальонный, гвардии майор Беркут Родион Павлович, тут же капитан Кирилл Соснин.
Капитан докладывает:
— Командир первого взвода Крутояров. Его заявление: «Прошу принять меня в ряды Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. Клянусь, что пока жив…»
— Вопросы? — Председатель комиссии положил на заявление широкую ладонь.
— Сколько вам лет?
— Двадцать четыре.
— Может быть, рано его в партию?
— Никак нет! — твердо возразил Павел. — Не рано.
— На фронте были?
— Был в сорок втором.
Председатель упрямо сжал губы.
— Есть предложение принять. Нет возражений?
— Нет.
Капитан Соснин протянул Павлу руку:
— Поздравляю.
Вокруг палатки ждали своей очереди гвардейцы, принятые в партию в первичных парторганизациях.
— Ну как? Строго спрашивают?
— Строго, но по-доброму. Не волнуйтесь.
Около разлапистой сосны со старшиной и Сергеем Людмилка вслух читала Устав партии:
— «Членом ВКП(б) может быть любой гражданин Советского Союза, признающий Программу и Устав, активно участвующий в строительстве социализма, работающий в одной из партийных организаций, выполняющий решения партии и…»
— Постой, постой, — недоумевал старшина. — Тут сказано «работающий в одной из партийных организаций…» А как же мы? Мы ведь нигде не работаем?
— Чудак ты! Война — это самая трудная для народа пора. Кончишь войну — будешь работать. Неужели можно задавать такие глупые вопросы? — Лебедев строго глядел на старшину.
— Пока кончишь войну, копыта отбросишь.
— Если боишься, незачем и заявление подавать.
Было общее собрание коммунистов полка. Аудитория — поросшая кустарниками лесная просека. Коричневые, задубевшие на всех ветрах лица десантников. Металлически звучал голос Бати, командира полка, седого полковника:
— Товарищи гвардейцы! Дорогие мои соколы! Завтра — в бой! Может быть, кого-то мы и не досчитаемся после этого боя. Может быть. Но врагу нас не остановить. Это точно.
Он долго молчал, вытирая платком вспотевшее лицо. И в молчании этом чудился каждому ответ на его короткую речь: «Не остановить!»
— Скажите свое слово, товарищи коммунисты! — закончил Батя.
Первым выступил Кирилл Соснин.
— Наши партийные ряды, — говорил он басом, — пополнились большой группой десантников — членов комсомола. Поздравляю всех принятых в кандидаты партии. Это — хорошее пополнение. Мы — освободители родной земли. И за нее, за нашу прекрасную Родину, мы постоять сумеем… Будем бить фашистов сильно, без пощады, по-гвардейски. Так я говорю?
— Правильно-о-о!
— Эту мысль я предлагаю записать в резолюции!
На собрании выступали офицеры и старшины, молодые и в возрасте. Павел, будто впервые, видел решительные лица сослуживцев, коммунистов, крепко, до скрипа сжимал автомат.
* * *
Представление о человеческом счастье, об истинном его смысле у разных людей — разное. Для одних смысл жизни и все счастье — в безмятежности и в довольстве, для других — в трудных дорогах, в познании неизведанного и в открытиях. Но есть еще и третьи — нетужилки. Для них все нипочем. Посмотришь на такого: за плечами тяжкие годы, а он идет не сгибается и еще других подталкивает. И в огонь бросится не колеблясь, и в атаку пойдет — не испугается, и руку протянет без корысти, последний кусок поделит.
На таких держится вся наша жизнь.
Родион Беркут до войны, как говорят, был сугубо штатским человеком. Он окончил Тимирязевку и работал в одном из южных уральских совхозов.
По утрам, когда бледно-голубой дымкой курился над степью туман, а по берегам озер, в ивняках, пели подсоловки, Беркут приходил в совхозную контору, связывался по радио с отделениями, разбросанными в округе на десятки верст. Маленькая черноглазая радистка вызывала отделения: «Воскресенка! Воскресенка! Ответьте, пожалуйста, главному зоотехнику!» И всякий раз голос ее в утренних сумерках казался Родиону голосом далекой Аэлиты — девушки с голубыми волосами. Он так называл ее, встречая утром у конторы: «О, Аэлита моя, идемте скорее в вашу студию!» Радистка, казалось, с удивлением смотрела на него, робко шла за ним.
Деревенские бабы, выпускавшие коров в стадо, часто видели их, шагающих по прохладной утренней улице. «Пошли наши раноставы! Ха-ха-ха!» Слух полз по совхозу. Не слышали его только Беркут и Аэлита. Законная жена Беркута, зоотехник Ирина, ревновала.
Так продолжалось всю весну. В июне, когда благоуханно задышала земля и отцвели в садах ранетки, девушка сказала ему: «Хочу, чтобы ты был мой! И ничей больше! Никому тебя не отдам». — «А Ирина?» — «Ирина тебя не любит. Я люблю!»
Разыгралась не где-нибудь, а в кабинете директора совхоза сцена: Родион подал заявление с просьбой послать его селекционером на самую отдаленную ферму, за пятьдесят километров от центральной усадьбы. Думал так: расстояние приглушит и утишит вспыхнувший в сердце огонь. Директор поддерживал решение Беркута. Но Ирина была неумолима:
— Я — жена, и я должна ехать с ним? Ни за что. Не имеете права! Не поеду!
— Почему? — выдавливал вопросы смущенный директор.
— Что я там буду делать, в этой ссылке?
— То, что и Родион Павлович. Заниматься животноводством, заведовать фермой… И оклад хорош, и квартира будет прекрасная… А ссылкой наше хозяйство называть не советую. Ферма там не простая, элитная. На весь Урал одна! На золото за границей скот купили… Там спецы позарез нужны, иначе погубим идею!
— Нет. Ни за что. Ничего мне не нужно, никаких ваших идей… И Родион мне ваш тоже не нужен!
Она, видимо, давно уже готовилась сказать подобные слова, искала какого-то подходящего повода, но сейчас они вылетели внезапно, и она задохнулась от волнения.
— Как же так? Вы подумайте! Не горячитесь! — продолжал директор.
Но уговоры были бессмысленными. Их не слушал уже и Родион.
…Они любили бывать с Ириной в Сокольниках. Уходили в самые потаенные местечки, лежали на траве, и она, Ирина, первою сказала ему: «Люблю». И все однокурсники знали, что чувство это прочно и незыблемо, потому что и Родион и Ирина были глубоко порядочными людьми во всем. И сама Ирина, отправляясь из Москвы вместе с ним, была бесконечно счастливой. Но случилось с ней то, что не мог предвидеть Родион, о чем не знала она сама, москвичка, представлявшая сельские тоскливые будни в розовых тонах. Она почувствовала обман. Все было не так, как думала она ранее.
И сам Беркут — тоже был обман: не мог он, бессребреник, дать ей то, чего она ждала.
Через день Родион распрощался с директором, захватил свой студенческий чемоданчик и уехал в глухомань. Осенью того же года Ирину назначили главным зоотехником, и она вышла замуж.
…Блекла степь. Ветер будоражил сонную в озерах воду. Шли дожди. Как и раньше, по утрам, когда ненадолго проглядывало холодное солнце, Беркут приходил в контору отделения к рации. Он слушал далекий голос Аэлиты: «Воскресенка! Воскресенка! Ответьте, пожалуйста, главному зоотехнику!»
Что мог ответить Родион бывшей своей жене, если она стала чужой? И что из того, если бы он вдруг заговорил с Аэлитой? Обычно он отдавал трубку управляющему отделением со словами: «Скажите, что меня нет в конторе».
Война не представлялась Беркуту реальной. И в Тимирязевке, и в совхозе он слышал оптимистичные, а порой самонадеянные песни о неизбежной и быстрой победе над врагом и не обращал на все это внимания. Надо петь — ну и пусть поют. Но когда война пришла и стала реальностью, Беркут преобразился. Он сказал себе: «Нет для тебя, Родион, сейчас никакого другого дела, кроме защиты Отечества. Надо сначала выгнать захватчиков, а потом уж жить своими мыслями и делами».
В первые дни финской кампании он по партийной путевке ушел в армию. Водил лыжников в лобовые атаки на линию Маннергейма, пробирался с разведчиками через леса к самым укреплениям врага и брал «языков». Рота, которой командовал впоследствии, выстояла по горло в ледяной воде несколько часов в выжидании и повязала целиком штаб большого артиллерийского соединения. Хорошо были подготовлены финские воины. Но тут они натолкнулись на людей с другим, рожденным революцией характером. Это и низвергло их с построенного тогдашним буржуазным правительством дутого пьедестала.
Немало дорог истоптал Беркут и после финской. Но будни войны не огрубили его; и часто, оставаясь наедине с собой, он вздыхал украдчиво, и в глазах его жила тоска. Как-то не так, как у людей, складывалась жизнь! Эти минуты Беркут называл «бабьими» и старался отгонять навязчивые думы. В деле Беркут был упрям и смел. Нес оружие в руках, как рачительный хозяин. Его батальону и выпала честь выделить шестнадцать гвардейцев для выполнения боевого задания. С этим он и пришел в крутояровский взвод на построение. У Павла екнуло сердце: неужели не пошлет?
— На воду будут спущены плоты и лодки, — негромко говорил Беркут. — На лодках — чучела солдат. Надо, чтобы противник поверил, что именно на этом участке мы готовимся нанести удар. Он откроет по переправляющимся огонь. Держаться надо стойко, действовать быстро. Этого будут ждать артиллеристы, чтобы уничтожить огневые точки противника. С началом артподготовки все, кому удастся переправиться, должны находиться в квадрате 302. Ясно?
— Ясно.
— Предупреждаю, задание рискованное. Кто желает добровольно — два шага вперед!
Строй колыхнулся, взвод дважды глухо стукнул сапогами по закаменевшей земле.
— Отставить, — скомандовал Беркут. — Так не пойдет. Нам надо шестнадцать… Вот они: сержант Елютин, рядовые Юносов, Тихонов, Павлов…
Беркут зачитал список. Командира взвода Павла Крутоярова в нем не значилось.
— Товарищ гвардии майор! — попросил Павел.
— Прекратить разговоры. Все — на отдых.
Белую ночь перед боем провели вместе с «укрепрайоновцами», покидавшими утром насиженные места. Почти не спали. Увар Васильевич тайком посасывал козью ножку, лейтенант Левчук чистил пистолет и журил старшину:
— Весь запас горячей пищи надо было распределить по термосам и унести солдатам в траншеи, а ты около кухни болтался.
— Я так же сперва думал.
— Думал. Индюк думал, да сдох. За целые сутки не мог дело сделать. И роту не накормил как следует.
— Товарищ гвардии лейтенант, — обиженно возразил Петро. — Ну спросите, кто голодный, а? Ну кто голодный? Силком толкал, не едят!
— Потому и не едят, что ты помогал повару кашу варить, и один черт ей только рад. Ты бы сварганил что-нибудь такое, чтобы язык проглотить можно.
— Зря, лейтенант, про кашу такое говоришь, — потирал усы Увар Васильевич, огрузневший от еды. — Каша сытная получилась. Я полкотелка съел — наелся. Без хлеба.
Молчали. Глядели на белый туман, расстилавшийся по реке, по лесу, по траншеям.
— Эх, дела, дела! — Увар Васильевич вздохнул.
— Вы о чем?
— Да о жизни. О чем же еще? Сейчас у нас дома сенокос начинается. Травостой хороший. Дожди в самое аккурат время прошли. Ведь ты, хотя у нас и в колхозе числился, а работал-то больше в торговле, а я — вечно колхозник… Бывало, в середине августа по полтора плана по сену выполняли. И сено-то какое! Коровы едят и глаза от удовольствия защуривают. А сейчас Авдотья пишет, нет во всем колхозе ни одного мужика. Старики да ребятишки. Бабы на своем горбу все везут. Второй фронт открыли. Вот оно как.
— Не гарно нашим сейчас, — согласился Левчук. — Но ничего, дядя Увар, потерпим-подождем, мы свое сальдо-бульдо подсчитаем.
Плыли над головами мокрые клубы тумана, звенели в траве комары, пахло горелым. Когда солнце едва-едва коснулось горизонта, стала проглядываться гладь воды. Туман — хороший друг. Под его покровом притянули к берегу плоты. На них усадили чучела. Враг не мог заметить движения советских войск, заполнивших все прибрежные траншеи.
Ровно в четыре часа шестнадцать, названных Беркутом, разбившись на пары, бесшумно вошли в реку и вплавь, толкая перед собой плоты и лодки, направились на ту сторону. Судорожно дернулся берег противника, сверкнул жалами огней. Мелкие фонтанчики вспенили воду. На самой середине флотилию накрыли батареи. Одно за другим суденышки начали переворачиваться.
— Не дотянуть! Пропали! — Заколотился в нервном ознобе Павел Крутояров.
Его одернул Левчук:
— Не надо трагедию разыгрывать! Пока все идет по плану.
И правда. После ненастья наступило ведро. Раскололся воздух от ударов сотен орудий и минометов. Послышался нарастающий гул. Над головами пронеслись тяжело груженные советские бомбардировщики, за ними располосовала небо волна штурмовой авиации. Весь северный берег окутало черным дымом. Взметнулись в воздух вместе с глыбами земли осколки долговременных вражеских укреплений. Заиграли «катюши».
Более двух часов все дрожало и рушилось.
Когда орудия смолкли, а в ушах остался еще высокий-высокий звон, как от замирающей струны, разнеслась по траншеям команда:
— Пе-ре-пра-ва-а-а-а! Вперед!
И пошли.
Вот он, изрытый снарядами правый берег.
Амфибии еще не коснулись прибрежного галечника, а десантники были уже на берегу.
— В проходы! Обследовать укрытия! — Беркут с пистолетом в руке шел во главе батальона. — Крутояров! Разыщите своих!
— Есть!
…Прочесывание укреплений противника показало, что основные силы его отошли в глубь обороны. Сопротивление маленьких отрядов, оставленных для прикрытия, оказалось недолгим. В батальоне Беркута было всего четверо раненых. В их числе оказался командир первой роты гвардии лейтенант Левчук и сержант Сергей Лебедев. Левчука, как он сам выразился, «облюбовала» пуля, прошив левое предплечье, и он был в сознании. Лебедев же, искавший по приказу Крутоярова переправившихся на плотах солдат, втесался со своим отделением в самый центр обороняющихся финнов. Ему разнесло разрывной пулей руку и повредило ноги. Сергей бился на носилках и никого не узнавал. Кровь заливала брезентовое ложе, капала на землю.
— Скорее, спасайте его, черти! — ругался на санитаров Павел. — Скорее!
Горела земля, лес, остатки блиндажных накатов. Сажа — легкие черные мухи — забивала глаза, оседала на мокрых, просолившихся гимнастерках.
* * *
В результате первого дня наступления гвардейские части отдельного экспедиционного корпуса, в который входили воздушно-десантные бригады, продвинулись в глубину обороны на пятьдесят-семьдесят километров.
К полуночи батальон Беркута вышел к маленькой лесной реке. В долине, на другой стороне ее, дымился хутор. Всю ночь играли по лесу желтые блики. Утром оказалось, что старая мельница, стоявшая на отшибе, захвачена противником. Заработали финские пулеметы. Стало понятно: они будут сдерживать порыв наступающих, остальные части отступят на новые рубежи.
К пяти утра в первую роту поступил приказ Беркута: обойти вражескую огневую точку и уничтожить ее. На задание шли две группы: отделение под командой Павла Крутоярова и отделение Сергея Лебедева, возглавляемое ротным старшиной. Расчет прост — одна из групп все равно дойдет.
Крендель — километров десять: в обход, по точно намеченному маршруту, иначе нарвешься на финские заградительные отряды… Под ногами хлябь. Следы на дернине, будто ковшички, полны воды. Воздух банный, сырой. Солдаты, как тетеревиный выводок, незаметно проскальзывают от куста к кусту. Дрогнет ветка — и никого. Страшная опасность — услышать сухой щелчок: финские «кукушки» бьют точно.
Секунда за секундой, минута за минутой. Нечеловеческое нервное напряжение. Шлепает под ногами размокшая земля. Слились с изумрудной зеленью кустарников, с вытянувшимися к солнцу головками цветов маскхалаты.
Прошло полтора часа. Гимнастерки взмокли и от дождя, белого, тихого, и от пота. На опушке леса, подступившего к самой мельнице, — ни души… Десять-пятнадцать минут лежат десантники в траве. Из мельницы бьют вражеские пулеметы по переднему краю гвардейцев.
Вот они, совсем близко. Совсем близко! И у Павла будто повязка слетела с глаз. А почему? Неужели ловушка? Не может быть, чтобы финны, такие осторожные и осмотрительные, не оставили хотя бы маленького боевого охранения, хотя бы часового. Не может быть!
И вот ответ — протяжный жалобный стон.
— Кто стонет?
Молчание. Стон повторяется. Он доносится сверху. Над десантниками — вниз головой, привязанный к сосне за ноги финский солдат. Лицо залито кровью. И сразу все прояснилось: автоматчик-смертник. Он был оставлен для охраны.
— Приготовиться к броску! — скомандовал Павел.
Отделение Завьялова подалось к забору. Павел со своими рванулся в мельницу… Приникли к пулеметам шюцкоровцы: за двухметровой гранитной стеной — настоящая крепость. Очередь из автомата. И пулеметы глохнут. Из соседнего отсека вниз по лестнице сбегает, что-то выкрикивая, офицер. Один из десантников щукой кидается ему под ноги, и он падает, нелепо взмахивая руками. Другой в эти же секунды вырывает у финна автомат, отбрасывает его в сторону. Офицера закутывают обрывками маскхалата, пеленают туго по рукам-ногам, как большое дитя.
— Ура-а-а-а! — Несется на финскую крепость батальон Беркута.
Слышны внизу шум, возня, отборная ругань старшины Завьялова. Павел спешит на крики. Видит вспотевшего старшину и девку-карелку с белой косой. Старшина не выпускает из рук маленький серый комочек, отбивается ногами, а девка кидается на него с маленьким ножиком в руке.
— Стой! Ты что, сдурела? С ножиком бегаешь? — зашумел Павел.
Увидев его, девчонка заплакала, присев на груду кирпича.
— Никто не сдурел. Вы — сдурел!
— В чем дело? — Крутояров строго взглянул на старшину.
— Да вот щенок…
— Что щенок?
— Там, внизу, в каморке, собака ощенилась. Я взял одного. А она, дура, полезла в драку.
— И вовсе не за щенок. Зачем ты врешь? Ты собаку тюкнул с нагану — я и тогда ничо. Ты щенка взял — я опять ничо. А ты косынку мою хвать!
— Какую еще косынку? — у Завьялова дрогнул голос.
— А вот здесь, в кармане. — Девушка бросилась к старшине. — Мой мама смерть принял, мне — косынка на память. А ты отобрала. Я тебе хто? Я советский человек. Я вон там… — Показала на опушку, где висел вниз головой солдат. — Я сама тебе помогала, а ты собаку тюкнул и косынку на карман!
Она горько заплакала.
— Ладно, не реви! — успокоил ее Павел и, взяв старшину за ремень, отшвырнул от себя, потянулся к пистолету. Старшина побелел.
— Прости, Павел.
Павел оглянулся. К мельнице выходили роты первого батальона.
* * *
Людмилка очень любила стихи. Сочиняла их сама. Все новые и новые. Сочинила и про собаку:
На границе безвестного века Подружились они всерьез, Предки древнего человека И мохнатый бродяга пес.Когда Людмилка читала стихи, на глазах ее выступали слезы:
— Разволновалась, совсем не могу!
Но десантники просили читать еще и слушали терпеливо.
Протестовал обычно лишь старшина:
— Не читай, Людмила. Здесь, понимаешь, не у всех нервы в порядке. Не надо.
— Нет. Надо. Вот кончится война, а у меня будет уже целая книжка стихов. Поэтом стану.
— Поэтами в большинстве мужчины бывают, а женщины — редкость. Они только женами поэтов могут быть или любовницами, — убежденно говорил старшина. — Так что ты не мели.
— Дурак ты! — еще более убежденно говорила Людмилка. — Жениться собираешься после войны, а о любовницах плетешь.
Перед самым наступлением в распоряжение Людмилки была прикомандирована еще одна девушка, санитарка Нина Рогова, голубоглазая блондинка, очень похожая лицом и фигурой на Людмилку. Она заигрывала с Завьяловым, посмеивалась над его нескладной выправкой: «Туесочек ты мой березовый».
— Хорошая невеста. — советовала Людмилка.
Но старшина решительно отказывался:
— Верен я Мане. Ждет она меня.
— Ты верен, а она тебе? Поди давно уж крутит с кем-нибудь!
— Крутит. Быкам хвосты.
— Вижу я, что Нина Рогова тебе нравится. Влюблен?
— Какая уж тут любовь, когда того и гляди пулю схватишь!
И было непонятно: шутит старшина или в самом деле страх обуял его. Выяснилось все вскоре.
…Шли все дальше на запад. Катили самоходки и танки, подпрыгивали по бревенчатым настилам грузовики. Шел вместе со всеми по болотистым тропкам старшина. И никто не заметил, как с началом боев слинял он и скис. Белесые ресницы его подрагивали, зрачки наливались ужасом. Не понял никто тайных мыслей Завьялова, тлевшей в душе загнетки: уйти, выжить за любые коврижки. И старшина торопил себя: «Действуй, думай. Нет положений безвыходных. Все в твоих руках!» Он все чаще приходил к таким мыслям. Представлял, как распрощается с этими людьми, как заживет устроенной жизнью. Ждать конца войны? Погибнуть? Глупо. Пусть подставляют башку дурные бараны, а я свое отдал. Хватит. Сознание превосходства над солдатами примиряло его немного с ними, вызывало к ним даже жалость. И он сидел иногда среди них у костров, на привалах, как свой, пряча глаза. «Ни за что пропадешь тут, на этом треклятом фронте. На кой она мне сдалась эта Карелия?»
Худые задумки гнездились в голове Завьялова.
Людмилка разбудила Павла за полночь:
— Павлик! Слышь ты, вставай!
— Что, Людмилочка?
— Старшина пьяный, по лесу шатается. В руке пистолет.
— Ну и что?
— Что, что? Неуж-то не понимаешь. Ведь фронт.
— Заградотряды кругом.
— Господи, да к озеру он пошел.
— К озеру? И там есть.
Павел все-таки поднялся, разбудил десантников, попросил Людмилку показать, где она видела Завьялова. Крадучись пошли по светлому лесу… Вот впереди пьяный старшина. Постоял у сосны, пошел к берегу вихляющейся походкой. У Павла заиграли в голосе озорные нотки:
— Давайте проследим, что все-таки он будет делать. Весь спирт, что нам на роту выдали, сам, наверное, выпил.
А старшина уходил. Вот он продрался через заросли ивняка к маленькому ручейку, впадающему в озеро, и затаился на берегу. Ребята наблюдали. Ваня Зашивин ворчал:
— Да ну его к чёмору. Сейчас оправится под ракиту и домой пойдет, а мы не спи!
Но старшина делал нечто необычное. Он наклонился к звенящей воде, вымыл руки… Затем, окунув левую ладонь в воду, правой нацелился в нее из пистолета.
— Стой! — Павел выскочил из засады. Но поздно. Старшина успел выстрелить.
— Не подходите! — не своим голосом рявкнул он. — Не подходите. — И, спохватившись, добавил: — Ранен я, ребята. «Кукушка», наверное!
Выстрел взбудоражил часовых. Началась тревога. И когда Завьялова привели в расположение, все были уже в строю.
— Кто стрелял? — глухо спросил Крутоярова Беркут.
— Ранен я, товарищ гвардии майор, — ответил Завьялов. — «Кукушка» стреляла.
Павел не помнит, что произошло с ним. Неудержимое бешенство хлынуло в сердце. Он подскочил к старшине, от воротника до подола распластнул на нем гимнастерку и ударил кулаком в лицо.
— Не ври, паскуда!
Завьялов попытался обороняться, он наотмашь хлестнул Крутоярова окровавленной рукой и взвыл от боли. Павел выхватил финку. Десантники с трудом оттащили его от самострельщика. Он смотрел на Людмилку, как она раскрывала санитарную сумку и как перевязывала Завьялова, рвался из цепких объятий десантников, ругался и кричал:
— Брось подлеца!
Утром на маленьком совещании командиров Кирилл Соснин упрекнул его:
— Так распускаться стыдно.
Командиры молчали. Ничего не мог возразить Соснину Павел. Все верно. На труса наткнулся. На земляка, которому верил. Самосуд учинил. Где, в какой стране живешь, за что воюешь? Не знал, куда от стыда деваться.
* * *
Двадцать третьего июля в тыл врага, в междуречье Тулоксы и Видлицы, Ладожская военная флотилия высадила при поддержке самолетов семидесятую морскую стрелковую бригаду. Противник в тылу, что нарыв на спине. На это финское командование не рассчитывало, это было неожиданностью. Все дороги от Олонца на Питкяранту были перерезаны, все артерии, питавшие части, сжались. Вскоре финны опомнились: решили во что бы то ни стало сбросить моряков в озеро. Завязались бои.
Десантники подошли к Олонцу. Закопались в укрытия, не обращая внимания на постоянно пролетавшие над головами мины. Появились связные: «Командиров рот, командиров взводов — к комбату!»
Беркут сидел на огромном поваленном взрывами авиабомб дереве, остальные расположились по краям воронки.
— Итак. Утром выйти на подступы к городу и по сигналу начать штурм, — говорил он. — Сегодня выдать боепитание, хорошо накормить солдат. Пусть спят. Ясно?
— Ясно.
— А кормить чем будете?
— Почти нечем. Сухой паек. Кухни отстали.
— То-то же.
— Я знаю, чем кормить, — сказал Крутояров.
— Чем?
— В двух километрах к северо-востоку сгорел продуктовый склад. Подвалы целы. Там масло, мясо и галеты!
— Откуда узнал?
— Наши там уже были. Склад под охраной второго эшелона, но они все равно принесли восемь котелков масла и два окорока.
Командиры засмеялись.
— Десантник с голоду не помрет!
— Смотрите, — закончил Беркут, — водки не разыщите.
Утром после короткой артиллерийской подготовки начался бой за город. Фашисты засели на чердаках и крышах, на улицах, изрытых снарядами, под мостами, в подвалах. Батальон Беркута первым вышел на окраину, занял оборону за полуразрушенной кирпичной стеной. Здесь атака захлебнулась: из большого белого дома бил вражеский крупнокалиберный пулемет. Пули целовали красный кирпич, пели, рикошетом уходя в небо.
Сердито гремя, подошла сзади самоходка. Командир ее, веснушчатый лейтенант, подполз к гвардейцам.
— Видишь, — показал ему Павел.
— Вижу.
— Давай садани.
Лейтенант уполз к самоходке. Орудие развернулось, ударило беглым огнем по дому. Рухнула крыша. Поднялась туча пыли. Белой стаей вместе с землей и досками вспорхнули тысячи бумажек, затрепыхались в воздухе, опустились в реку. Синяя гладь, словно льдом, покрылась белым слоем бумаги.
Пулемет смолк. Прогромыхали по мостовой самоходки. Гвардейцы продвинулись вперед… Они бежали вдоль улицы и закидывали чердаки «лимонками». Взлетали оконные переплеты, сыпалось стекло. Черными клубами метался в небе дым, ветер подхватывал искры, гнал их на соседние дома. Плескалось то тут, то там пламя.
— Отставить! — кричал Беркут на связных. — Чей город жгут, твою мать!
Бывает так ранними веснами: насохнет, как порох, прошлогодняя трава и загорится. Кто-то неведомый пускает по оврагам, лесам и болотам палы. Пал пустить просто. Брось спичку — и побегут желтые ручейки, затрещат. Остановить пал почти невозможно. Он буянит свирепо, валит лес, уничтожает молодняк. И выгорают иногда из-за шалости детской или по милости незадачливого человека, задумавшего получить на своем участке чистую от коряг поляну, большие лесные массивы. Поджег один — не потушишь колхозом.
Трудно было гвардии майору Беркуту остановить обозлившихся, вконец измотанных ежедневными боями десантников. «Лимонки» лопались в домах. С визгом вылетали рамы.
На чердаке узкого двухэтажного дома заработал вражеский автомат. Павел с полувзводом стремительно бросился к дому. Ворвались в душный коридор, похожий на больничный: жесткие белые кушетки, белый стол, расколотая цветочная ваза. Крутояров остановился в торце коридора, подпираемый сзади гвардейцами. С той и с другой стороны двери. Нажал спуск, рассек противоположное окно длинной очередью.
Медленно открылась одна из боковых дверей в середине коридора. Вышла женщина, бледная, измученная. Внизу, под полом, послышался топот ног.
— Кто там? Ну? — Павел направил на женщину автомат.
— Там они. Эти…
— Проводи.
— Вон люк. — Женщина показала на дальний конец коридора.
— За мной!
…Штабные офицеры, казалось, ждали русских. Они быстро стали в шеренгу и подняли руки.
— Оружие! — скомандовал Павел.
— Оружие все на столе, товарищ командир. Сейчас принесли автомат последнего, стрелявшего с чердака! — сказал один из офицеров, и Павел сразу же узнал его. Это был тот самый, который говорил, что у него в Ленинграде родной дядя. Та же доверчивая улыбка и мелкая дрожь в голосе.
— Хорошо, — сказал ему Павел. — Понятно.
Павел обошел строй пленных, внимательно вглядываясь в каждого. Серые, небритые лица, равнодушные и спокойные. И опять в подсознании взводного забродила старая и знакомая мысль: «Какие же это враги? Подневольники, честное слово. Они, кажется, даже рады, что все для них кончилось так мирно и благополучно. Какие же это враги?»
— Подняться всем наверх! — приказал. — Быстро!
К вечеру затих старый Олонец, бывший русский губернский город. Дремали на скатках солдаты. Грустил с баяном Ваня Зашивин и смеялся:
Ох, конь вороной По дорожке ходит, Жинка сына родила, На меня походит!И вдруг команда: «Встать! Смирно!» И гул голосов. В подразделении появился гвардии лейтенант Левчук. Рука его висела на марлевой подвеске.
— Здравствуй, взводный! — Он крепко обнял Крутоярова здоровой рукой. — Как живешь?
— Что с Сергеем? — вопросом на вопрос ответил Крутояров.
Лейтенант помрачнел:
— Худо, Павел. Руку у него отняли. Да и с ногами что-то не лады!
— Эх, Серега! Вот беда-то! Вот беда!
Появился капитан Соснин, Беркут, другие офицеры.
— Совсем? — спросил Левчука комиссар.
— Совсем.
— А разыскивать не будут?
— Нет, товарищ гвардии капитан. Уговорил всех.
Соснин осуждающе молчал. Ждали, чем кончится эта «перестрелка», остальные. Левчук заволновался:
— Что же у вас такое имеется против меня? Я же не в тыл удрал, а к вам! Что же вы?
И улыбка у Федора Левчука, командира «непромокаемой и непросыхаемой» первой гвардейской роты, была жалкой.
— Давай, гвардии лейтенант, принимай роту, — сказал, как отрезал, Беркут.
* * *
Двигались на соединение с истекавшими кровью моряками семидесятой морской… Лето благоуханное, щедрое ярилось над лесом. То тропически обжигало солнце и звоном звенели травы, то хмурилось небо и плескал дождь. Играли в голубом мареве мотыльки, пахло живицей. Тоненький перешеек разъединял гвардейцев-моряков и гвардейцев-десантников. Десантники закрепились на опушке леса и прислушивались к все удаляющимся минным разрывам. Глухо роптал лес. Несли мимо стонавших, с кровавыми повязками солдат. Иные шли сами. На вопросы не отвечали. Что отвечать? Сейчас пойдете, увидите.
Хвостатым змеем взвилась ракета.
— Приготовиться! — пронеслась знакомая команда.
Пошли в атаку.
Дымились траншеи. Жалостью не запаслись ни те, ни другие.
Они — из автоматов, и десантники — из автоматов, они — в ножи, и десантники — в ножи.
В тринадцать тридцать к Беркуту прибежал связной:
— Товарищ гвардии майор, посыльный от моряков явился!
И в ту же минуту перепуганной насмерть мухой зажужжал зуммер: звонил командир полка.
— Беркут, ты? — хрипел полковник. — Разведка моряков должна на твой участок выйти. Жди с минуты на минуту.
— Уже прибыла, товарищ гвардии полковник.
— Отлично. Через полчаса начинайте. Справа будет второй, слева — третий.
Доведенный до отчаяния противник дрался упорно. То и дело работали шестиствольные минометы-«скрипачи». Павел не считал убитых. Боялся сказать себе правду, до того она была страшной. Из сорока двух действовало… только шестеро. Лежали в песчаных окопчиках, готовясь кинуться в атаку.
И вот из-за леса ударила «катюша». Смерч пронесся над линиями противника. И тогда все в полный рост пошли на вражескую оборону, увидели бегущих навстречу черных, заросших бородами, оборванных, окровавленных моряков.
— Братцы-ы-ы-ы! Ура-а-а-а!
…Еще во время обстрела «скрипачей» Павел видел, как подсекло осколком капитана Соснина, как посиневшая от страха Людмилка тянула его к сгоревшему танку. Потом он видел, как она вскочила на броню, спряталась в люке. После боя Павел прибежал к сгоревшей машине. Около растянувшейся по траве гусеницы, неловко запрокинув голову, лежал Кирилл Соснин. Он был мертв. Павел вскочил на синюю броню, с трудом отворотил крышку… Людмилка сидела на корточках. Лицо ее было неузнаваемо. Кровь запеклась на груди, залила распотрошенную санитарную сумку. От прямого попадания мины в башню танка окалина сгоревшего металла струей брызнула ей в лицо, изорвала его, изуродовала. Людмилка тоже была мертва.
Не нашли после того боя десантники и санитарку Нину Рогову.
…В июле сорок четвертого года Павлу Крутоярову исполнилось двадцать четыре года. Много лиц перевидел он за свою жизнь: и суровые лица беженцев с тоской в глазах, и старческие изувеченных войной детей, и лица, овеянные дыханием смерти. Но Людмилкино лицо — сплошное кровяное пятно с клочьями засыхающей желтой кожи…
Павел присел у завернутых в плащ-палатки тел капитана Соснина и Людмилки, совсем по-детски уткнулся в Людмилкину грудь.
Вы видели, когда вместе плачет много мужчин?
Вечером Людмилку и капитана Соснина похоронили. Трижды выстрелили над могилой.
Ушли дозоры на передний край, в белую коварную ночь.
Письмо от Сергея Лебедева из села Рябиновки
«Дорогой Павел! Здравствуй! Узнаешь мой почерк? Пишу, браток, левой рукой. Едва выучился. Потому и не писал тебе: не мог. А под диктовку писать не хотел.
Слушай все по порядку. Вернулся я из госпиталя в наше Чистоозерье. Куда идти? Пошел в районо: все же учитель я. И в тот же день получил приказ: «Назначить Сергея Петровича Лебедева, имеющего педагогическое образование, директором Рябиновского детского дома, эвакуированного из Ленинграда…» Образование, действительно, педагогическое, как ты знаешь. Но директор детского дома… Какой же я директор? Кто меня учил директорствовать?
Когда ампутировали руку и пальцы на ногах, врач сказал: «Вы можете работать. Конечно, без перегрузок. Берегите себя». А тут, в Чистоозерье, сразу директором назначили. Не откажешься. Секретарь райкома, седой, со шрамом во всю щеку, когда я ходил к нему на беседу, сказал: «Искалечил Гитлер ребятишек, как, впрочем, и всех нас. Но кто же будет с ними возиться?» И я обиделся: «С упреков начинаете. Будто я в тепло прошусь». — «Ты потише. Не кипятись. Поезжай в Рябиновку. Командуй. Но учти — отец ты для них, и мать, и вся родня. Понятно? Ну, счастливо тебе».
Скажу тебе, Павел, что здесь, в тылу, пожалуй, тяжелее, чем на фронте… Поехал в Рябиновку, посмотрел на своих воспитанников и воспитателей — сердце замерзло. Под спальни старая церковь отведена. До этого пшеницу в нее ссыпали. Холодно. Железные печки. Да разве церковь натопишь… Посидел я в своей детдомовской бухгалтерии, посчитал, сколько деньжонок надо, чтобы мало-мальски сносно ребятишек держать, пошел в сельсовет… Смотрю, мои детдомовцы прут в столовую… Впереди вожак, рыжий парень, бьет себя по животу: «Нам не надо барабан…» Остановил их. «А ну, возвращайтесь. Постройтесь, как положено, потом в столовую. Пример надо показывать, ленинградцы!» Вернулись они в общежитие, а я перешел на другую сторону лога, к сельсовету. Остановился. Слышу кричат: «Зараза! Тебе одну руку вывернули, мы другую вывернем!» Не помню, как и дошел обратно до общежития. Завел всех в коридор, построил в две шеренги. «Дайте стул!» — кричу. Принесли стул. Сел я перед строем и говорю: «Не только руку потерял я на фронте, а и ноги. Вот, смотрите!» Снял валенки, показал култышки. «А еще, — говорю, — друзей я там многих оставил. Полегли за нашу с вами Родину. Может, даже и отцы ваши!» Замерли мои хлопцы. Ни звука. Будто никого нет в коридоре. Ну, а потом я вскипел: «Кто хочет мне последнюю руку обломить, пусть выйдет из строя. Ну!»
Минут пять молчали, Потом выпихнули того рыжего, который был выше и здоровее всех. Подковылял я к нему и правой, протезной, влепил оплеуху.
«Вы думаете, куда я шел сейчас? — спрашиваю. — В сельсовет, денег нам с вами надо подзаработать и еще выпросить, чтобы жить нормально. А вы — руки вывернем!»
Так и началось мое знакомство с ленинградскими «трудновоспитуемыми» ребятишками. Как отнеслись ко мне мои воспитанники? Одобрительно. Тот самый рыжий, Шурка Зуборез, на другой день пришел ко мне в кабинет и просит: «Бей еще, директор. Так пацаны решили. Не знал я, кто ты такой, а надо было знать. Бей!» И плакал Шурка горько. Немцы повесили у него мать, а отец погиб под Пулковом.
Никогда и никого в жизни я и пальцем не трогал… И никому не советую… А этот случай нужен был. Потому что нужна бездомным ребятишкам сильная отцовская рука. Отец, он ведь и наказать может, и ремнем врезать. Скажешь, физическое наказание — это же безобразие. Если так скажешь — значит, не понял то, о чем я говорю.
Может быть, это мое письмо покажешь Беркуту. Скажи ему: это размышления сугубо субъективные, как сейчас стали говорить. Народная мудрость такая существует: «Люди за хлеб, да и я не ослеп». Я — педагог и должен думать, и писать, и бороться. Педагог — самая сложная, самая неблагодарная и самая счастливая профессия на земле.
Шурка Зуборез подрос и работает сейчас на заводе, в городе. Прислал воспитательнице Софье Петровне письмо: «Завидую вам и еще новому нашему директору и хочу быть похожим на вас обоих. Помните, как вы прогнали с кухни поваров, кравших нашу кашу, а валенки как мы вместе починяли и директор нас учил сучить дратву. Вы никогда не прощали наши проступки, если они непростительные, и умели не замечать мелочь». Уверяю тебя, Шурка не подхалимничает. Он пишет правду. От этих слов радость в сердце! Потому что парень многое понял. Не похвала нужна воспитателю, а понимание.
Время идет, Павел, в какой-то тревоге. Прозвенит по селу колоколец, распакует Коля-казах тюки с газетами, с письмами, и невыносимо слушать бабий крик: «Похоронка!» Так почти каждый день.
Не успел я проработать в Рябиновке даже и полгода, как на меня кто-то написал жалобу в райком. Вызвал меня к себе секретарь, потер рукой развороченную щеку и сказал: «Ты, Лебедев, запомни. Это тебе — не десантный батальон. Тут люди живут легкоранимые, и ты брось мне велосипеды изобретать».
А сейчас я уже не директор детского дома, а заведующий районо. Так решил секретарь. Он и рекомендовал меня, несмотря на жалобу. Так что Рябиновку, родину нашего комиссара, мне пришлось оставить.
И вот на днях уже пришла беда: секретарь наш умер. Все ждал конца войны. Не дождался. Перед смертью, дней за пять, еще вовсю работал, вызывал меня к себе и советовал:
— Запомни, Лебедев, — он всегда так обращался ко мне. — Эти, которых ты учишь, вместо нас останутся. Смотри, чтоб не заржавели они и… не зажрались.
Мы хоронили его всем районом. Когда подняли гроб, шоферы загудели и трактористы включили двигатели на всю катушку. Я не помню, как дальше все там было, потому что не устоял на ногах, свалился и ушиб себе голову. Не пьяный был, волна в сердце какая-то ударила.
Новый секретарь сейчас — Светильников. По всем районным ступенькам прошел. Мужик твердый, но какой-то весь закрытый. Осторожничает.
Поразила меня, дорогой Павлик, весть о Завьялове. Нет жалости у меня к нему никакой. И не может быть. Одно скажу: я с ним вместе учился в педагогическом техникуме, и он у нас считался отличным математиком и был профоргом. А душонка у него оказалась мелкая. Тут, Павел, все надо понимать по большому счету. Кто «живет» и «борется» за Родину с одной заклепкой — выжить, — опасный для нашей Родины человек. Для меня, для тебя, для всех других. Это надо хорошо осмыслить.
Кстати сказать, Светильников — родной дядя Маши Светильниковой, с которой дружил Завьялов и переписывался. Все считают ее невестой Завьялова, а поэтому не исключено, что сам Светильников ходатайствовал за него. Но штрафной Завьялову все равно не миновать.
Противно обо всем этом писать. Но ты, Павел, учти такую штуку: и ты, и я, и многие другие с Завьяловым начинали, и ведь никто не заметил всей его требухи…
И последнее, насчет Людмилы. Ты припомни все подробности ее гибели. В тот день, кроме комиссара Соснина и Людмилы, как мне известно, погибла еще одна девушка. Но хоронили-то вы не троих, а двоих. Где же третья? Может быть, все это моя придумка, но ты обрати на это внимание.
Желаю тебе доброго здоровья. Жду домой. Обнимаю.
Твой Сергей Лебедев»Глава вторая
После смерти Людмилы Крутояров будто подломился. Стал сдержанным, замкнутым, с болезненным вниманием вглядывался в лица сверстников. Шестнадцатого сентября 1944 года был подписан мир с Финляндией. После короткого отдыха десантные бригады вели боевые действия в Прибалтике. Потом — на подступах к Вене, Праге. Полоса седых нитей прошила черную шевелюру Павла, и застыл на его лице непримиримо-покойный холод. Он появляется, когда человек точно определит, как он будет жить дальше.
День Победы встретил Павел в госпитале, на маленькой подмосковной станции с мирным названием «Отдых». Ночью, за несколько часов до желанной вести, умер сосед Павла по койке, бывший комсорг Ваня Зашивин. За день до смерти Ване по самый пах отняли обе ноги, и он матерился, опьяненный эфиром, просил водки, требовал прогнать «проклятых мух», ползающих у него на ступне, которой уже не было. «Лапушка моя, милочка, приезжай в Челябинск!» — бредил он. И рвал обескровленными руками простыни, а сквозь матрац, промокший насквозь, капала под кровать густая кровь. Павел молча стискивал зубы. Слушал шепот врачей, не отходивших от Ваниной кровати. «Держись, Ванюша, не умирай, братишечка!» Крутояров слышал от кого-то: если крепко-крепко захотеть — таинственные, неисследованные токи дойдут и помогут. «Держись, Ваня, не умирай!» Но Ваня умер. И унесли все Ванино белье: матрац, подушки, простыни и одеяла. И оголившаяся кровать стала казаться Павлу жутким катафалком, приготовленным для него.
Не слышал Павел краткой речи госпитального комиссара, не пил стопочку по случаю Победы, не видел лиц своих однопалатников много дней. Лишь в конце мая сосед по палате, старый хохол Иван Рябуха, сказал ему:
— Пофартило тебе, Павло. Думали, вслед за твоим другом дуба дашь. Вот те Христос!
— Нет, отец, дуба я давать не собирался.
— А тут письмо тебе пришло, а Ванюше, покойничку, телеграмма.
— Давайте сюда.
Рябуха долго ковырялся в тумбочке, подал, наконец, измятый треугольник и синий бланк телеграммы:
«Милый Ванечка, счастье-то какое! Поздравляю тебя с Днем Победы. Обнимаем тебя и целуем. Светлана и Степа».
Павел пробежал глазами телеграмму и зажмурился. Бумажка выпала из рук. Ванюшина жинка. Она. Ей телеграфировал Павел смешные Ванины слова: «Люблю тебя и Степку».
Старый Рябуха видел, как исказилось лицо Крутоярова, как начали мелко-мелко подрагивать пальцы. Но не проронил ни слова бывалый солдат. Лишь под утро, когда Павел с жадностью выпил стоявший на тумбочке стакан воды, спросил:
— Знакомка, мабудь, какая?
— Не говори чепухи, отец!
Рябуха не обиделся на грубость.
— Ты не злобься, Павло, — заговорил он, — война, як холера, душу заволочила… От злобности нам лет тридцать после войны лечиться придется. Людей не замечать. А люди-то, гражданы наши, ждут, что мы с мягким сердцем домой воротимся, нетронутые. На нас и вся надежа!
Это расслабило Крутоярова, обезоружило. Встали в памяти слова Сергея: «Тяжелее в тылу, пожалуй, чем на фронте!» И полезли в душу колючие, как чертополох, разные темные заплоты, и, как полая вода, смывали их разухабистая песня Вани Зашивина про четырех Степанов и смешная телеграмма: «Люблю тебя и Степку». Ваня умер, но он любит, зовет свою любовь. А я, Павел Крутояров, живой, с орденами и медалями, кашу в госпитале ем.
Беркут впервые его назвал «Павел Николаевич», когда зачитал Указ о награждении орденом Ленина. В те дни, по всей вероятности, и начали уходить бесшабашное ухарство и… юность.
В конце июля его выписали из госпиталя, и Рябуха, постукивая себя по забинтованной гипсовой повязкой грудной клетке, спросил:
— До родных хат, Павло?
— Ясное дело.
— Щастья тебе, Павло.
Скрыл Крутояров и на этот раз от старого госпитального напарника свои думы. Лежало в его кармане требование на проезд в город Челябинск и вещмешок был заполнен сухим пайком на две недели.
Вечером он был на Казанском вокзале. Шел дождь. Люди ждали поезда, смеялись, курили под навесами. Павел дрожал от нетерпения. Ему казалось, что Светлана, узнав о его намерении и угадав его мысли, оскорбится и постарается избавиться от него… Гул большого городского организма, шум дождя и мокрые рельсы, и далекий желтый глаз фонаря — все это ощущал Павел всем телом, и все это после госпитальных будней было не по-обычному новым. Сердце поднималось высоко, к самому горлу, во рту пересыхало. «Что это я?» — шепотом спрашивал себя Павел. И тут же объяснял: близкий друг, его жена… Это ведь как родня.
Когда объявили посадку, нахлынуло одуряюще сильное чувство веселья. Он смеялся с девчонками-попутчицами, показывал на спичках фокусы, пел. И все пять дней пути отгонял, сам не зная почему, мысли о Светлане. Это состояние постоянного напряжения и страха, скрытого напускной веселостью, не прошло и тогда, когда остался он на челябинском перроне один. Ночь провел на вокзале, борясь с решением уехать обратно. Утром с попутной машиной укатил в Копейск. Долго в нерешительности ходил около деревянного дома, охваченного желтой акацией и тополями. Наконец решился, постучал в калитку. Дверь открыла маленькая женщина с пышной копной белых волос:
— Вам кого?
— Здравствуйте. Я — Павел Крутояров.
— И что же?
— Вы помните, Светлана, вы телеграмму от Вани Зашивина получали… Так это я давал.
Дрогнули ресницы, и лицо на миг стало озабоченным и необыкновенно красивым.
— Проходите.
Он прожил в Копейске более месяца. Гулял со Светланой по тихим улочкам шахтерского города. Она, учительница по профессии, работала секретарем комитета комсомола шахты, часто до свету уходила на работу, задерживалась на совещаниях и планерках, и он провожал ее и встречал, волнуясь и переживая.
Когда дальнейшее пребывание Павла в доме стало уже неприличным, Светлана, чувствуя какую-то недосказанность во всем происходящем, спросила без обиняков:
— Скажи, с чем ты все-таки к нам приехал?
Он глянул на нее с благодарностью.
— Ты не сердись, Света, на мою откровенность. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.
Светлана испугалась:
— Что же ты такое говоришь, сумасшедший! Я ведь вдова. И ребенок у меня есть, Степка. А ты же еще парень! — И нервно засмеялась.
— Знаю. Мы поженимся. Я все не мог сказать тебе главного, чтобы не тревожить тебя рано. Ваня, муж твой, другом моим был хорошим. Не могу я, понимаешь, допустить такого, чтобы Степка остался без отца. Ты согласна?
— Подумай, Паша! — Светлана заплакала.
— Я подумал. Я уже давно письмо написал дяде Увару и тетке Авдотье, что приеду с женой и сыном.
Вечером они сидели в маленькой комнате Светланы. Отец, старый шахтер, догадываясь о происшедшем, налил стаканы, сказал Павлу:
— Давай выпьем!
И Павел заспешил:
— Мы здесь, Дмитрий Евстахович, жить не будем. Уедем к нам в Чистоозерку.
Старик пристально глянул на Павла, усмехнулся:
— Давно известно: где муж живет, там и жена, а поврозь — какая жизнь. Но только горячишься ты, зятек, торопишься. У Ивана, как говорится, ноги не успели еще остыть, а ты с такими словами.
— Не надо, папа! — покраснела Светлана. — Не надо таких слов. Вани нет. Ваня погиб честно. Он был лучшим другом Павла. Он простит нам все.
— Глядите! — Шахтер залпом выпил свой стакан.
Заплакала мать Светланы:
— Живите. Только, чтобы людям было не смешно. Мы вот со стариком пятый десяток доживаем вместе… А перед покойным Иваном вы виноваты не будете. Он сам бы, будь на месте Павла Николаевича, так же сделал.
…Чувство Крутоярова было сильным. Светлана не могла да и не пыталась противостоять ему. Лишь однажды Павел спросил себя: «А Людмилка? Вдруг она жива? Ведь Сергей Лебедев не бредит. В его рассуждениях есть логика. Похоронены были два человека, не хватило же после того боя троих. И документов ни у кого никаких не было. А Нинка Рогова, санитарка, она же была похожа на Людмилу. Что если Людмила жива?»
Это были короткие вспышки. Призыв на помощь здравого смысла. Но он же, здравый смысл, вел к другому: «Если бы она осталась живой, она обязательно бы дала знать о себе. Нет, ее похоронили. И не надо ничего выдумывать. Мертвые все прощают!»
Больше к таким мыслям Павел не возвращался.
* * *
Чистоозерка в первые послевоенные месяцы жила небывалой жизнью. Радовались самому обычному. (Человек после тяжелой болезни новые краски находит.) И тополя в тот год не такие распускались, и березовые колки окрест наряднее были, и каждый подснежник ласковей стал, и пеньки в лесных делянках сладкими слезами исходили.
В День Победы бабы оставили на пашне взопревших быков, прибежали к райкому простоволосые, ревели и целовались, орали бог знает что и на что только не готовы были пойти. Ну а после того, как веселье отхлынуло, гуртами ездили и ходили на станцию, как в старину на богомолье, за семьдесят верст. Стояли около гладких железных ниток, вздрагивая вместе с землей от воинских составов, мчавшихся на Восток. Вглядывались в лица служилых: не мой ли?
— Ой-оченьки, да ведь это наши детушки приехали! — Авдотья Еремеевна, кормившая у крылечка кур, уронила блюдо с картофельными очистками, кинулась на грудь Павлу, обняла Светлану, поцеловала Степку. Запричитала облегченно:
— Да слава те, господи. Да, видно, дошли до тебя наши молитвы, отлились проклятым ворогам наши слезы!
Увар Васильевич здоровался по-крестьянски степенно. Поцеловал каждого по три раза, приказал Еремеевне:
— Ты, старуха, давай кончай мокреть разводить, проводи гостей в передний угол и айда топить баню. А я в кооперацию мигом слетаю.
— В какую, дедушка, кооперацию? — спросил Стенька.
Увар Васильевич подмигнул ему, как старому знакомцу:
— Кооперация, внучек, у нас одна. Что в ней делать — узнаешь позже… А сейчас проходи в избу, бабушка Авдотья Еремеевна тебя костяникой угощать станет.
Застолье было радостным и шумным. Увар Васильевич притащил из сельпо полный чайник водки (ее выдавали на заготовки картофеля, и Увар, готовясь к встрече племянника, сдал в сельпо десять пудов клубней). Еремеевна обносила гостей по кругу маленькой рюмочкой.
— Уж не обессудьте, гостеньки дорогие, — говорила она. — Водка-то у нас сильно плохая. Разводят водой, окаянные.
— Водка, старуха, никогда не бывает плохой. — Увар Васильевич улыбнулся. — Она бывает только хорошей или шибко хорошей.
— Тебе все хорошим кажется. — Еремеевна была румяна, глаза ее молодели. — Коева днись, приехал с рыбалки поздно вечером, я уж спать легла, а в печке ополоски в горшке стояли — поросенку на утро приготовила. Дак ведь достал етот горшок и выхлебал вместо супу.
Старики изо всех сил старались угодить молодым. Они были счастливы. Все черное, навеянное войной, отступало. Пришла с приездом племянника новая жизнь с добрыми надеждами и спокойствием. Оживало сердце от кровянящей тоски о погибшем сыне Левушке… Ядренеть крутояровской породе, набирать сил… Живые о живом и думали.
Под вечер в горнице прибавился еще один гость — Сергей Лебедев. Они обнялись с Павлом крепко и, оцепенев, долго стояли молча, сжав друг друга в объятиях. И Светлана, поняв это оцепенение, поняла и то, что Сергей — один из тех, кто был там, где был и Стенькин отец. Она, будто защищаясь от кого-то, закрыла лицо руками.
— Успокойся, Светланушка, — засуетился около нее Увар Васильевич.
— Не лезь к ней, старик, — строго взглянула на мужа Еремеевна.
Светлана была благодарна ей, старой женщине, — матери, все понимающей, предвидящей, цепко и мудро оценивающей. Такие не обидят, не прогневят, предупредят обиду и гнев по-родительски осторожно и с достоинством. И минутная слабость Светланы, и слезы ее были знаком благодарности всем Крутояровым, спокойным и добрым, принявшим ее в свою семью вместе со Стенькой, как равную, как молодую хозяйку.
— Света, хватит. — Павел взял на руки Стеньку, обнял его.
— И чо ты в самом деле, Света, — визжал Стенька. — Нам весело, а ты мокреть разводишь!
— Верно, внучек, — захохотал Увар Васильевич. — Который день, Светлана Дмитриевна, прошел — тот и до нас дошел, а который впереди — того берегись. Что было — прошло. Давай, старуха, рюмочку. Выпьем. Мой покойный родитель говаривал так: «Хочешь быть веселым, а не пьяным — на два пальца недоливай и на два пальца недопивай, худое не поминай. Такая выпивка — одно удовольствие, аппетит прибавляет и здоровье развивает… Давайте-ка, гости милые, за ваше здоровьице до дна.
Ярко горели лампы в старом доме Увара Васильевича почти всю ночь. Приходили повидать молодых Крутояровых соседи. Еремеевна и Увар Васильевич угощали всех. Были слезы, был смех — все вместе. Пытали Павла: насовсем ли приехал или только в гости. И Увар Васильевич отвечал за него: «Насовсем! По чистой!»
Синел над озером рассвет. Умаялся и заснул Стенька. Павел пронес его в маленькую комнатку-боковушку, положил рядом с матерью, поцеловал ее в пушистый завиток на шее.
— Ты уходишь? — спросила она.
— Сейчас приду. Вот только провожу Сергея.
Они подошли к озеру, замирающему в теплой утренней истоме. И Сергей сказал Павлу:
— Ты знаешь, Завьялов уже три месяца как дома живет. Не заходит ко мне. Прячется. В Осоавиахим устроился.
— Разве его не судили? — Павла покоробила весть.
— Судили. В штрафной был… На дот, говорят, ходил. Освободили от наказания, да еще и медаль получил.
— Что ж, пусть. Рабочих рук сейчас не хватает.
— Многого нам сейчас не хватает, Павел: хлеба, ситцу, пряников. Только чего-чего нам не хватает. А главное — людей. Стали мы наварим, хлеба — наростим, ситцу — наткем и пряников напечем!
— И людей народим, — усмехнулся Павел.
— Народить-то, Паша, полдела. Вырастить надо людьми. И тут надо мыслить и учиться каждый день.
Утро разрасталось. Шла по воде мелкая рябь. Отплывали от берегов рыбаки, притаенно всплескивали веслами.
— Будем учиться.
— Учиться, Паша, некогда. Работать надо. Тебе, кстати, как я слышал, тут уже и должность припасена. Секретарем райкома комсомола хотят рекомендовать. Вот так.
— И что же, даже согласия не спросят?
— Спросят. А ты откажешься?
— Шутишь ты все, Серега.
— Шутить-то бы и рад, да не до этого. Шутки на ум не идут. Худые у нас сейчас дела в районе.
* * *
Как и во время войны с неослабевающим напряжением текла жизнь райцентра. На заседания не хватало ночей. И аппарат райкома, и работники райисполкома, и милиции, и прокуратуры, и райпотребсоюза, и райветлечебницы, и районо, и райфо, и райсобеса, и всех других учреждений и организаций, в названии которых на первом месте стояло «рай», до полуночи, а то и дальше должны были находиться на своих местах. Будто ждали какой-то новой, неожиданной беды. Вглядывались через темные стекла: не потух ли свет в кабинете первого секретаря райкома. Там, в райкомовском окне, было все — вся вера. Поздно ночью приходили домой. Уйдешь раньше — худо. Не проявляешь рвения, скажут, как чиновник, в шесть вечера домой жалуешь, а другие работают, аж угар в висках стучит. Сила военной инерции жила в людях, и шла она оттуда, из далекой и близкой столицы, от него, от Сталина. Все, кто вернулся с фронта, не понимали этой инерции. Зачем нужно? Надо не надо — сиди в конторе. Дурацкое дело!
Как и предполагал Сергей Лебедев, Павла вскоре пригласили в райком и предложили работать комсомольским секретарем.
— Но ведь для этого надо, чтобы избрали на конференции?
— Сейчас пока конференцию проводить некогда. Утвердим вас на пленуме, кооптируем, так сказать. Дело с комсомолом у нас трудное. Секретаря уже год как нет. Заведующая учетом, два инструктора — вот и все. А с молодежью работать надо, ох как надо!
И Павел согласился.
Первое, что он сделал, приступив после пленума к работе, — это запретил работникам без дела сидеть по ночам в кабинетах. «Лучше книги читайте, чем в пешки играть да курить до тошноты». Об этом распоряжении Павла узнал уполномоченный из области. Шел сентябрь. И уполномоченный сказал первому секретарю райкома партии Андрею Ильичу Светильникову:
— Уборка у вас в районе срывается, и мер вы никаких не принимаете. Даже этому молокососу, мальчишке, комсомольскому секретарю управы не найдете. Он же всех против вас восстановит… Порядок работы ему, видите ли, не понравился!
— Руки пока не дошли. К тому же он вновь испеченный. Пообтешется. Ишь ты, ворона в павлиньих перьях! А я, признаться, и не слышал о его преобразованиях. — Светильников сделал пометку в календарике: уж на что, на что, а на критические замечания сверху он реагировал оперативно.
Поздно вечером уполномоченный лично звонил Павлу Крутоярову:
— Кто?
— Секретарь райкома комсомола Крутояров.
— Вот что, милок, собери-ка сейчас же двадцать-тридцать комсомольцев и во главе их поезжай в колхоз «Восток» на подработку зерна. Хлеб горит, понимаете, а вы спите.
— Не могу, милок.
— Вы что, против хлебозаготовок или просто ничего не понимаете?
— Сегодня утром сто двадцать комсомольцев райцентра уехали в колхозы, в том числе и в «Восток». Больше людей нет. Школу закрывать считаю нецелесообразным и даже преступным.
— Собрать всех, кто остался. К полуночи быть в колхозе. Оттуда доложить лично мне.
— Никто не остался. Только я.
— Слушайте, милок, вы с кем разговариваете?
— Не знаю, кто вы такой, но чувствуется…
— Вы за это ответите!
— Не кричите!
— Я вас арестую!
— Попробуй! — освирепел Павел и грохнул трубкой о стол так, что она развалилась на две части.
Уполномоченный и в самом деле звонил в милицию и приказывал взять Крутоярова как саботажника хлебозаготовок под стражу. Но ему сказали, что Крутояров орденоносец да и работает, как говорится, без году неделю, и он затих.
Вызывал Павла к себе Андрей Ильич.
— Ты, Павел, свинью мне в карман суешь.
— Как это понять?
Светильников будто не расслышал вопроса.
— Я на тебя надеялся. Думал, зрелый ты.
«Листом стелется, да укусить целится», — подумал Павел, и в сердце его внезапно вошло чувство дикой неприязни к Светильникову. Он еле сдержался, чтобы не наговорить обидных слов… И было за что: пригрел Светильников за пазухой своего зятя Петра Завьялова. Начальником призывного пункта устроил, председателем районного комитета Осоавиахима. Не верил Павел Завьялову по ясной, как ему казалось, и простой причине: если человек там, на фронте, мог пойти на такое, то здесь… Завьялов с первой встречи поспешил развеять крутояровскую настороженность. «Ты на меня не косись. Я за свое рассчитался. Вот… — Он показал алую рану на груди. — Искупил вину кровью. И судимость сняли, и в кандидаты вновь оформляюсь, уже документы затребовали».
А Крутояров не верил.
И не это главное. Бывший «самострельщик» был понятен Крутоярову. Непонятной и обидной казалась придирчивость Андрея Ильича Светильникова, проявлявшаяся несколько раз в разговорах о Завьялове. «Человека, — говорил Андрей Ильич, — надо рассматривать в росте. Нельзя на вечные времена пришивать на людей ярлыки и бирки и по ним судить. Каждая минута в жизни человека неповторима. С каждой минутой он меняется. И в большинстве случаев к лучшему».
…Завьялов ходил в военной форме с пневматическим пистолетом и осоавиахимовской шашкой на ремне. Крутояров спросил его:
— Этот крючок для чего с собой таскаешь?
И Завьялов совершенно серьезно отвечал:
— Народ сейчас тяжелый. Недавно война кончилась, и гнуть кое-кого приходится силком.
— Ты что?
— Не покрикивай на меня, товарищ Крутояров. Старое время помянешь — глаз можешь потерять. Для восстановления разрушенного нужна твердая рука. Либералы сейчас не в почете. Приглядись.
— Ну, ну, пригляжусь.
— И не советую тебе зубы показывать, особенно Андрею Ильичу. Живьем скушают. Не суй нос куда не просят: при твоих регалиях далеко можешь пойти. Как говорят, тише будешь — дальше едешь.
* * *
Ночью прошел дождь, а утром солнышко маковым цветом выкрасило восток. Заря окунулась в озеро и подожгла его. Громады облаков тоже упали в воду и тоже загорелись, и озеро стало казаться бездонным и бескрайним. Тревожно загоготали где-то в редниках гуси, тосковали лысухи, весело жировала на кормовых грязях кряква.
Павел вышел на тракт, подковой огибавший озеро. Ему надо было уехать в соседний Рябиновский колхоз имени Фрунзе, но ни машины, ни лошади, ни даже велосипеда в райкоме комсомола не было, приходилось ходить пешком или добираться с оказией.
Крутояров постоял на взгорье, послушал голоса птиц, всмотрелся в горизонт. Там, за камышами, сливающимися с небом, слышались выстрелы, глухие, будто охотники стреляли, окунув стволы в воду. На озерном стекле, близко к берегу, постукивал тычками рыбак. Село клубилось дымами, наполнялось мычанием скота и петушиной перекличкой.
Просыпающееся Чистоозерье! Знакомая с детских лет картина! Но, уезжая в армию, Павел видел его более новым и светлым. А сейчас и домишки покосились, и черные тесины на крышах прогнулись, и дым шел из труб бедный. Обнищало за годы войны село. В убыток все шло, а не в прибыток. Кажется, чуть-чуть теплится под крышами жизнь. «Нет, не для того я воевал, чтобы в такой дыре прозябать!» Это пришло Павлу неожиданно. И он представил себя далеко от Чистоозерья, в белом городе с яркими огнями и разноцветными рекламами. Ведь мог бы он там быть, имеет право как фронтовик. Надо уехать, плюнуть на все. У Светланы и в Свердловске, и в Хабаровске есть знакомые.
— Эй, друг, подь-ка сюда! — позвали из лога, заросшего ивняком и бояркой. Павел, вскинув на плечо планшет, спустился вниз.
— Понимаешь, — разводил грязными руками шофер. — Буксанул немножко — и хана! На всю ночь устроился.
Павел обошел скособочившуюся «полуторку» с пестрым от свежей починки кузовом, полным соломы. Шофер доброхотно рассказывал:
— Всех святых помянули за ночь. Тыркались, землю рыли. Ничего не получилось.
Шофер был в военной шапке-ушанке, в кирзовых сапогах, в заплатанной фуфайке и в синей диагонали брюках с дырками на коленях. Из-под шапки свисал свалявшийся черный чуб. Лицо заросло щетиной.
— Откуда ты? — спросил Павел.
— Из Рябиновки. На станцию ездил.
— Зря поторопился. Подсохло бы чуть…
— Чудак ты, мужик! Подсохло… Да машина-то у нас одна на весь колхоз… Остальной транспорт — быки да клячи.
— Ты один? — полюбопытствовал Павел.
— Да я ж тебе говорю, что не один. Пассажир у меня в кузове спит. Здешний, должно, чистоозерский. Всю ночь землю из-под колес вынимал, пихал эту гробину с двумя свечами, умаялся, — сплюнул в сторону шофер. — Мог бы уйти, тут недалеко, а не ушел. Чудной.
— Давай буди его. Вдвоем-то мы, может быть, вытолкаем тебя.
Шофер оскоблил о подкрылок желтую глину с сапог, привстал на колесо.
— Вставай, товарищ!
— Нехай трошки подбыгает.
Павел сразу же узнал по голосу Федора Левчука.
— Послушай, да кто это у тебя там?
— Я, Паша, не сомневайся. — Левчук вылез из соломы, спрыгнул в грязь, сжал руку Крутоярова и отвернулся.
— Что с тобой, Федор Леонтьевич? Как живешь?
— Как живу? — Левчук расправил усы, снял фуражку, захватил левой рукой щепотку волос, вынул их легко, как линьку. — На, держи. Вот как живу.
Они отошли к поваленной ручьем сухостоине, присели и закурили.
— Прибыл, понимаешь, в Винницу. Слез на станции, спрашиваю, как проехать до Корчмовки. Никто не знает. На автобусной зупинке старушка говорит: «Нема, дорогой человик, той Корчмовки. Хвашисты сожгли. Лисок там на месте Корчмовки зарос!» — «А где же Корчмовка?» — «Нигде. Нема ее». — «А жители?» — «И жителив тих нема. Хриц усих поголовно выбил. От старых до дытиночки. За партизанство». Не поверил я вначале. В горком, в военкомат пошел. Секретарь горкома, бывший майор, не скрыл. «Все знаю, товарищ Левчук. Но что я могу для вас сделать, скажите, сделаю, что могу… Погибла ваша Полина Николаевна вместе с дочкой… Вот документы… Памятник всей Корчмовке ставим!»
Лейтенант раздавил впившегося в веко комара, красный след перечертил щеку.
— Товарищи, — тихо попросил шофер. — Помогите же. Что же вы.
— Давай, Паша, — поднялся Левчук. — Будем машину из грязи выручать. Будь она неладна.
* * *
В начале уборки погода стояла добрая. Нарядными полушалками подвязались осины, в золото прибрались березы, и дни были яркие, теплые. Хваткие инеи выпадали лишь под утро, и в это время комбайнеры глушили моторы. Радовались мужики: «Так еще ден с десяток постоит — приберем хлеб!»
Все обрезало в одно утро серым дождем. Он шел не крупный и не мелкий, не быстро и не тихо, днем и ночью. Шел неделю, другую. Раскисла земля. Заглохли надолго комбайны и тракторы. Районное начальство не вылезало из колхозов. Все шло в ход: доброе слово и совет, и выговоры, и угрозы отдать под суд. А комбайны продолжали простаивать, и хлеб осыпался…
Лишь в конце октября проглянуло холодное солнце и засияло по-летнему небо. Улеглись страсти. Заработали комбайны. Продолжалась уборка.
…Павел попал в Рябиновку поздним вечером. В правлении колхоза висел густой табачный настой. На лавке, протянувшейся вдоль стены и вытертой до блеска штанами, лежал, завернувшись в чапан[1], сторож.
— Здравствуйте, дедушка. А где же у вас начальство?
— Начальство? Оно, поди, теперича спит.
— А я уполномоченный, из района.
— Упал намоченный? — хохотнул дед. — Ох, горюшко с вами. К чему только посылают? Мешаться тут да яички сырые пить?
— Вы, дедушка, не шутите. Мне бы куда-нибудь на ночлег пристроиться.
— Придется.
Старик запер дверь на замок, сердито подергал его, увел Крутоярова к себе в избенку, стоявшую рядом с правлением. Наказал хозяйке:
— Постоялец наш будет, уполномоченный. Накорми его. А спать пусть на полатях спит, там тепло и простор.
Утром чуть свет Павел сидел в конторе. Председатель колхоза по фамилии Оглуздин, взлохмаченный и небритый мужчина, распекал знакомого по встрече в дороге шофера Афоню Соснина:
— Всю ночь пил?
— Посидели немножко у тетки.
— Немножко, а сам на ногах стоять не можешь!
— Не шуми на меня, Василий Васильевич! — ощетинился Афоня. — Я кровь за вас проливал, а вы тут сидели, с бабами якшались!
— Я не шумлю, — испугался Василий Васильевич. — Я к тому, что с этими пьянками хлеб загубим. Успевать надо пока сухо. А кто от комбайна зерно отвозить будет, если ты ни тяти, ни мамы!
Павел подошел к Афоне.
— Что же ты, фронтовичок, людей-то подводишь?
— Я? Подвожу? Много тут вас всяких ездит, и все орать мастера! — Афоня пошел в лобовую.
Павел принял этот натиск, поднялся на Афоню азартно, как в игру вступил:
— Из-за пьянки хлеб губить? Ты что? Если к обеду не будешь у комбайна, я с тобой не так еще поговорю.
Павел распахнул шинель — блеснул на гимнастерке орден.
— Ладно, Крутояров. Все сделаю.
Когда Афоня ушел, Павел спросил Василия Васильевича:
— Кто секретарь комсомольский здесь?
Василий Васильевич засмеялся:
— Вот это и есть ваш секретарь. Вот они, ваши огурчики!
— Не смейтесь. Вы, наверное, член партии?
— Не был никогда. Беспартейный.
— Жалко, что таких на руководящей работе держат, — раздраженно заметил Павел.
— А я и не держусь, — помутнел Василий Васильевич. — Сядь на мое место и управляй. Скоро схлыздишь.
— Это мы еще увидим, вот завтра соберем всех коммунистов и увидим.
Василий Васильевич насмешливо глядел на Павла, кивал головой, поддакивал. Ублажал так, как ублажают капризничающего ребенка. Павел быстро понял его маневр и вышел из кабинета. Зачем надо было угрожать председателю собранием, ведь Василий Васильевич прав, уборка не терпит проволочек, и он поделом срамил шофера.
К полудню Афоня Соснин, выспавшийся, побритый, завел «полуторку». Поехали в поле все члены комбайнового агрегата: комбайнер, тракторист, штурвальный, копнильщики. Все, кроме старика-комбайнера, молодые женщины, почти девчонки. Пугливо молчали, изредка взглядывая на Павла.
— Что вы, как на похороны едете? — спросил он.
— Мало веселого.
— Но и унывать не резон.
Одна веснушчатая, с тонким красивым лицом, усмехнулась, встала в кузове рядом с Павлом, придерживаясь рукой за кабину, распахнула пальтишко.
— Видишь, в чем еду? — Мотнулись навстречу друг другу прикрытые худенькой сорочкой груди. — А дома сынишка Виталька остался, тоже почти голый, да еще и один.
— Хоть бы постыдилась! — заговорил старик-комбайнер.
— Некого мне стыдиться. Я — не воровка.
— А муж? — сорвалось у Павла.
— Муж там остался, — отвела взгляд веснушчатая. — А ты тут агитируешь. Живой!
«Полуторка» подрулила к комбайну, одиноко, как подстреленный журавль, торчавшему на поле.
— Вылезай, девоньки! — весело крикнул Афоня, открывая кабину.
Когда все повыпрыгивали из кузова, Афоня сказал:
— Вот эту кулигу, тут поди гектар с десяток будет, сегодня и рубанем.
— Многовато. Солнышко-то уже к вечеру, — возразил комбайнер.
— Как, девки, справимся? — спросил Афоня.
— Справимся, — ответила за всех веснушчатая.
Разогрели и завели двигатели быстро. «Коммунар», покачиваясь, двинулся по полю. Афоня подошел к Павлу.
— Ты, Крутояров, не подумай обо мне плохо. Тетка у меня позавчера померла. Я в логу этом проклятом сидел… Без меня и схоронили, а помянуть пришлось. Так в жизни водится. Вот и выпил… А этот, боров Оглуздин — подлый человек. Он не только не поддерживает комсомольскую организацию, но и смеется… Комсомол! Комсомол! Ты, Павел, приглядись… Тут только комсомольцы и работают как двужильные. Видишь, на комбайне? Это — все члены комсомола… Жрать нечего, полуголодные, а все равно идут… Так что не думай плохого!
Павел вспомнил слова Петра Завьялова: «Кое-кого надо гнуть силком!» Обормот! Разве таких согнешь!
— Нет, Афоня, я плохого о тебе не подумал. И не подумаю! — ответил он Соснину.
* * *
Оказалось, что в колхозе всего два коммуниста и девятнадцать комсомольцев. Комсомольцы на собрание явились все, а коммунистов не было. Ходившая по домам растрепа-техничка в грязном комбайнерском комбинезоне сказала:
— Учительница в район уехала, а Егор Кудинов без задних ног валяется.
— Болен?
— Рана открылась опять.
— Он кто?
— Кузнец. С финской у него нога не в порядке. Как простынет, так она у него и начинает нарывать.
— Надо бы с ним увидеться.
— Вот прохворается. Начинать будем?
— Нет. Давайте подождем председателя.
За Василием Васильевичем дважды посылали техничку, и она приходила ни с чем.
— «Я, — грит, — не комсомолец», — объясняла. — Мясны пельмени с Домной стряпают.
— Поди скажи еще раз, что уполномоченный вызывает.
— Да не пойдет он. Сроду никаких уполномоченных не признает, кроме Андрея Ильича Светильникова.
«Как же тут этот товарищ Кудинов работает, или не стыдно перед народом? Впрочем, здоровье у него, видать, не ахти. На леченом коне далеко не уедешь».
— Давайте начинать, — твердил Афоня.
Павел стукнул ребром ладони по некрашеному, исписанному фиолетовыми чернилами столу.
— Давайте.
Избрали президиум, председателя, секретаря, объявили повестку дня: «О задачах комсомольской организации села Рябиновки». И переглянулись. Афоня растерянно спросил:
— А кто доклад будет делать?
Девчонки засмеялись:
— Горюшко-секретарь! Супонь затянул, а оглоблей нету. Пусть Крутояров говорит. Послушаем.
— Давай начинай, Павел, — совсем засмущался Афоня. — Мне это секретарство… У рук сроду не было…
— Вот что я думаю, товарищи комсомольцы, — заговорил Крутояров. — Плохо нам сейчас, очень плохо… Но, как бы вам сказать, что кровянит, то и дороже. Правда? А? — Павел, как и Афоня, начал краснеть. Он вспомнил утро и мысли свои о бегстве из Чистоозерья. Смущения его никто не заметил, и в наступившей тишине прозвучал голос опять все той же веснушчатой:
— Ты дело говори, Крутояров. Мы ждем.
— А дело такое, — успокоился Павел. — Жить надо начинать по-новому. Молодежи в деревне немало, но огонька нет… Инициативы никакой… Давайте вот обсудим такие вопросы, как культура села, ну хотя бы развитие самодеятельности… Да и об учебе надо думать, раз война помешала.
— На голодный-то желудок?
— Бросьте вы! — обиделся Павел. — Что мы одним желудком живем, что ли? Только и радости?
— Если бы одним жили, давно бы кончились.
— Без еды тоже худо, Крутояров.
— Верно. Но святое в жизни терять — это… вас тут Василий Васильевич и еще какие-нибудь людишки без соли съедят!
Павел растревожил улей. Ткнул в него палкой. Поднялся галдеж, и Павел не останавливал: пусть выкричатся.
— Хлебом сначала надо разжиться, а потом уж и самодеятельность развивать или алгебру изучать!
— Василий Васильевич нам рога пообломает!
— Что-о-о? Василий Васильевич? Обломает рога? — Афоня бросил на пол пилотку и начал ее топтать. — Да я его…
— Тише! — Павел поднял руку. — Честное слово даю, не уеду до тех пор, пока вы раньше времени умирать не перестанете. А о председателе все неверно толкуете… Афанасий в драку готов лезть, другие — боятся, как огня… Тут дело такое… Комсомольская организация имеет право контроля работы правления. Ведь у вас в Рябиновке нет своей парторганизации?
— Организации нету, а коммунисты есть! — В дверях, будто плененный коршун, стоял в мешковатой, без хлястика шинели, опершись на костыли, кузнец Егор Кудинов. Лицо исхудалое, затянутое жесткой, как проволока, бородой. На лице — одни глаза.
Поздно ночью разошлись по домам рябиновские комсомольцы.
— Ты их не вини, — говорил Егор Павлу. — Они, братец, нахлебались тут за войну так, что никакой вины не признают. Ты им крылья залечить помоги, уж больно они житухой поизмолочены.
* * *
Уборка шла к концу. Взвизгивали на складах, вздымая фонтаны зерна, самодельные зернопульты, грохотали сортировки. Тянулись на станцию и пароконные фургоны, и арбы, запряженные быками. Редко-редко пробегали американские «студебеккеры», за ними — «полуторки». Дороги были разрисованы желтыми строчками зерна: не без потерь давалась уборка. Зобастые грачи, разбросавшись по обочинам, сыто перекликались.
Рябиновский колхоз отстрадовался в районе первым, и в старом клубе собрался народ. Комсомольцы подготовили к празднику пьесу Чехова «Юбилей» и небольшой концерт, сопровождавшийся гармошкой-«хромкой», мандолиной и балалайкой.
Роль Хирина в пьесе играл Афоня Соснин, Мерчуткину — его сестра Акулина Соснина, та веснушчатая, с красивым тонким лицом.
Павел не один раз подходил к ней во время уборки, спрашивал осторожно:
— Слушай, ты — не жена капитана Соснина?
Она затихала, как маленькая зверюшка перед ястребом.
— А тебе какое дело? Хлеба, может быть, мне выделишь?
— Нет, я серьезно?
— Ну жена. Ну и что? Помочь хочешь? Один мне то же самое говорил, а потом в постель полез.
Крутояров дрожал от злости:
— Да ты… Да как ты можешь? Ведь я женатый.
— Знаем мы вас, женатиков!
И Павел отступил. «Не хочет поговорить о муже. Ну и пусть! Черт с ней.. Наверное, игру какую-нибудь затеяла. Какое мое дело?» Но тут же, как заноза, колола мысль: «Это жена капитана, и у нее какая-то беда». «Живой, агитируешь!» — выпалила в тот раз. Нет. Мы, живые, должны помнить все. Разве я забуду капитана! И другим не дам забыть».
К Павлу подошел Афоня.
— Ты, Крутояров, сеструху мою все пытаешь, жена ли она Кирилла Соснина? Точно. Жена. И моя сестренка… Только тут во время войны приезжал какой-то интендант, на старом танке, без башни, картошку для частей заготовляли… Жил у нее на квартире… И она, сам понимаешь… Я, как вернулся, узнал, бил ее нещадно… В петлю полезла… Сейчас никто ей не напоминает об этом.
…В начале вечера полагалось сделать доклад об окончании уборки. И Павел нажимал на Василия Васильевича:
— Приготовьтесь. Передовиков похвалите. Недостатки покритикуйте.
Но Василий Васильевич отмахивался:
— Давай уж лучше ты. А то у меня язык не так подвешен. Никогда мы раньше етого дела не делали.
— Вы же председатель.
— Какая разница, кто доклад сделает. Ты не хуже меня все знаешь. Да и для авторитету полезнее. Все-таки на собрании будет выступать представитель района.
— Добро. Уговорил.
После доклада Крутоярова началась пьеса, Хирин-Соснин зверски кричал на Мерчуткину-Акулю. Трещотка Акуля отбранивалась, безбожно перевирая текст. Когда дело дошло до апогея, Афоня затопал ногами и гаркнул что было мочи:
— В-о-о-о-н отсюдова!
Акуля, видимо, не на шутку вошла в роль. Здесь, на сцене, она почувствовала, что может принародно сказать обижавшим ее все, что она о них думает. Гневно сверкнула глазищами, выпятила грудь и точно так же, как Афоня, топнув ногой, сказанула:
— Но-но! Ты потише! Видали мы таких за…цев!
Зал грохнул смехом и аплодисментами. Закачались привешенные к синему дощатому потолку керосиновые лампы. Акуля растерялась и убежала со сцены, путаясь в длинных старушечьих юбках, взятых у председательской жены Домны на время представления.
* * *
Дом Кирилла Соснина, в котором жила семья капитана — Акуля с пятилетним Виталькой и брат Акули Афоня с женой Зойкой, — был срублен из вольного леса на две половины еще до революции богатым рябиновским мужиком Ермилой. Холодные сени, кладовка, коридор; направо — кухня, налево — горница и горенка (спальня). Дом был стар и мрачен. Вернувшийся с войны Афоня перебрал мало-мальски крышу, утыкал мохом пазы, загоняя тепло, поправил ворота, пригон, починил забор. Жили так: Афоня с Зойкой в горнице и горенке, Акуля с Виталькой — на кухне. Здесь около огромной русской печки стояла кровать, покрытая старым, из цветного лоскута, одеялом.
Приглашая Павла к себе, Афоня продолжал оговариваться:
— Ты, Павел, с Акулиной, пожалуйста, не заводи особых разговоров. Переживает она за Кирилла до сих пор, клянет этого скребанного интенданта, а попутно и всех бывших военных.
— Кирилл — мой бывший комиссар, Акулина — его жена. Я должен, Афоня, протянуть ей руку. Ну хотя бы рассказать ей, как он погиб.
— Не надо. Ты этим только старую болячку расковыряешь. Беда-то, Павел, ведь в том, что она ему уже погибшему изменила…
Первым, кто встретил Павла и Афоню, был Виталька. Он сидел на кухне за столом и ревел.
— Что такое, племянник? — бодро спросил Афоня.
— И-и-и-сть хочу-у-у!
— А где мать?
— На работу убралась. Мне оладушек черных напекла, а сама убралась.
— Ну так ешь оладьи.
Виталька перестал реветь. И совсем как взрослый, сказал мужчинам:
— Они горькие. С полынью. У меня от них животик крутит. Еще раз поем и умру.
— Ну ладно, завтра схожу к председателю, попрошу немного овсянки.
— Завтра. А седни? Я сейчас хочу есть!
— Ну сегодня схожу. Вечером напечем добрых лепешек. А сейчас пока молока попей.
Когда зашли в горницу, Афоню прорвало:
— Вот оно, какое горе-то, Крутояров. Куска хлеба доброго нет, а сами хлеб растим… Мешанину из овсюга да жабрея едим. Вот оно, горе.
Павла потрясла эта встреча с Виталькой. Добрый, кристально чистый Кирилл Соснин говорил когда-то такие слова: «Хороших щей не хватает — полбеды. А вот если верности не хватит — беда». Погиб Кирилл со своими светлыми думами. И сын его, Виталька, тоже может погибнуть из-за нашей слепоты и нераспорядительности.
— Ты присаживайся, Павел, я сейчас в погребушку сбегаю.
— Не надо, Афанасий. Я пойду. Потом как-нибудь побеседуем.
— Да ты что разобиделся, что ли?
— Перестань говорить пустяки. Пойду в правление. Буду звонить в райком. Хлеб ребятишкам надо давать… Надо!
— Постой. Не так-то просто все это делается.
— Нет. До свидания.
…Крутояров появился в правлении, когда Василий Васильевич собирался уже уходить. Дородная жена его, Домна, сидела в кабинете. Домна пристально следила за супругом: много было в селе одиноких баб, уведут за милую душу. «Давай поскорее, Вася. Ужин остывает», — торопила она.
— Вы пока подождите в другой комнате, — веско попросил Крутояров Домну. — Нам с председателем поговорить надо один на один.
— Что еще за секреты? Подумаешь! — Домне было неловко от таких слов Крутоярова, и она попыталась скрыть неловкость за бойкой бабьей скороговоркой: — Сроду от меня не было никаких секретов, даже Андрей Ильич все в открытую говорит. Подумаешь!
Но из кабинета все-таки вышла.
— Слушаю, — Оглуздин, как и обычно, хитровато улыбнулся.
— Завтра с утра надо пустить мельницу, размолоть центнеров пяток пшеницы и выдать семьям фронтовиков, в которых есть дети, пуда по два пшеничной муки.
— Так-так. Пшеничной муки? А где же зерно взять?
— На складе.
— То, что на складе, все пойдет в закрома государства и на семена.
— Ничего. Пять-шесть центнеров отдадите детям. Пусть в счет выдачи хлеба на трудодни.
— Ладно. Отдам. Только это, товарищ Крутояров, нарушение. Отвечать будешь ты.
— Буду.
— Пиши письменное указание.
Павел выдернул из блокнота чистый листок и размашисто написал:
«Председателю колхоза имени Фрунзе тов. Оглуздину В. В. Предлагаю в кратчайший срок выделить для детей фронтовиков по два пуда муки. За невыполнение данного указания будете привлечены к строгой ответственности.
Секретарь райкома ВЛКСМ П. Крутояров»Оглуздин прочитал бумажку, ухмыльнулся, свернул ее вчетверо и положил в нагрудный карман.
— Учти, отвечать будешь.
— Буду, — еще раз согласился Павел.
На следующий день он разговаривал с Акулей.
— Это ты, что ли, распорядился пшеничной муки ребятишкам выделить? — спрашивала она с улыбкой.
— Не я. Правление.
— Смотри, как бы тебе не попало, Павел Николаевич. У нас так бывает. За доброе дело бьют.
Акуля была худа, стройна, красива. Веснушки, разбежавшиеся по переносью, молодили ее. Она опускала темные ресницы, щеки ее загорались тонким румянцем, и лицо светилось загадочностью. Будто звала кого-то к себе с нежностью и лаской.
— Мне худо не будет. Не бойся, — отвечал Павел. — Сама давай поактивней будь. Не забывай — ты жена комиссара.
— Не надо, Павел Николаевич! Разревусь. Раньше, еще до войны, Кирилл избачом работал… Бывало, начнет мне книжку читать о несчастье людей, о любви, а я в слезы… Такая уж я, не напоминай!
— Часто не стану. Но вычеркивать пережитое никому не позволю. Кто мало помнит — скоро стареет.
— Пусть. Поскорей бы уж старость. Меньше забот будет, — кротко вздыхала она.
— И еще тебе скажу: береги Витальку. Проморгаешь где-нибудь самую малость — потеряешь парня.
* * *
Андрей Ильич встретил Крутоярова, как всегда, настороженно. Он не понимал, что Павел, хотя и молод, но прозорлив и давно догадался о появившейся с первых же дней трещине в их отношениях.
— Проходи. Садись, рассказывай.
— Спасибо. Рассказывать пока еще нечего. У меня один вопрос к вам.
— Нет, Павел Николаевич, сначала ты на мои вопросы ответишь, а потом уж я на твои. Потому как секретарь райкома здесь пока я, а не ты. Ты пока что только комсомольский вожак. Секретарь, да не тот. Скажи мне, в какой роли мы посылали тебя в Рябиновку?
— А вы, Андрей Ильич, разве не знаете?
— Знаю, Павел Николаевич. Я-то знаю, да вот ты неправильно свою роль понял.
— Давайте поближе к делу, Андрей Ильич. — Павел говорил спокойно, но Светильников сердился еще сильнее.
— Накоротке такие вопросы не решают, товарищ Крутояров! Здесь райком. И выслушать то, что вам говорят, придется. Потому как партийная дисциплина для всех одинакова: и для героев войны, и не для героев, и для больших начальников, и для маленьких. Устав один.
— Я слушаю.
— Райком послал вас в Рябиновский колхоз в роли уполномоченного. Но это не значит, что вы должны были подменять председателя. Кто дал вам такое право?
Светильников бросил на стол написанную Павлом записку, адресованную Оглуздину.
— Хлеб нужен городам. Заводам. Шахтам. Там голоднее, чем здесь. Там карточки.
— Правильно. Но это же детям.
— Что ж, по-твоему, в городах нет детей? Там их больше и живут они пока что хуже. Мы у хлеба, честно говоря, не останемся без хлеба. Отходы и прочее… А там?
— Я думаю, что поступил верно.
— Вы, товарищ Крутояров, пробыли в Рябиновке всего три недели и уехали, дезорганизовав народ. А Василий Васильевич остался, и ваши грехи ему придется замаливать.
— Гнать его надо.
— Товарищ Крутояров! Василий Васильевич — председатель, хотя и беспартийный. Разбрасываться такими мы не можем. Его в области знают.
— Если такие будут руководить, долго хромать придется.
Светильников вновь будто не услышал слов Павла.
— Вы разложили народ, — продолжал он. — Вы допустили в клубе безобразное выступление художественной самодеятельности. А как секретарь райкома комсомола, что вы там сделали? Ничего. За двадцать дней комсомольская организация не выросла и не окрепла. Ни один человек не вступил в комсомол, хотя в колхозе безвыездно жил первый секретарь райкома комсомола. Это порядок, товарищ Крутояров? — Светильников шумно вздохнул: — Вот так, Павел Николаевич. Не обижайся. Пойми.
Павел кивнул головой.
— И с ростом рядов вам следовало бы дела поправить в масштабах всего района. Весь прием, как мне известно, идет за счет школ и за счет Осоавиахима, где работает Завьялов. Почему у него на пункте почти все парни вступают в комсомол, а у себя дома, в колхозах и совхозах, где созданы постоянные комсомольские организации, есть секретари и комитеты, не вступают. Почему? Ведь они и бывают на призывном пункте Осоавиахима всего по две недели? А?
Павел подавил в себе досаду, заставил себя трезво взглянуть на доводы Светильникова. В самом деле, почему? Прошло время. Завьялов, естественно, изменился. Нельзя не учитывать этого. Лучше других выполняет задания райкома комсомола. И по общественной линии, и по своей основной работе преуспевает: полнятся ряды членов Осоавиахима, аккуратно идет сбор членских взносов. Умеет работать с людьми! Мало ли, что был он когда-то малодушным. Все с человеком может быть. Мог же он все эти годы судить себя жестче любых судей. Он ведь такой же, как все, человек. Неплохой, в сущности. Мог перестроить себя после такой ломки, этому надо учиться.
Зашевелилось в душе Крутоярова чувство неуверенности в себе, в своих поступках. На войне он научился выбирать твердую позицию, но здесь, в «гражданке»? Может быть и ошибка. Ошибиться — это значит ранить человека. Павел захотел понять горький путь Завьялова, на котором тот не дрогнул, а устоял.
* * *
Выпал первый снег. Мороз заковал грязную кашу на улицах Чистоозерья. На бугре, возле самого озера, виднелась шеренга допризывников. Они то вскакивали, то падали в снег. Казалось, шалили, как школьники. «Учатся. Правильно. Тяжело в ученье — легко в бою». Так думал Павел, приближаясь к месту тренировки… Вспомнил, как гонял их в запасном полку службистый и злой сержант Ткач. Ведет, бывало, взвод на ужин, командует: «Запевай!» Никто не запевает. «Ах, так! Ложись! По-пластунски вперед!» И ползали до того, что в глазах появлялась сплошная серая пелена и пропадал голод. Ткача ненавидели. Об этом узнало начальство, и Ткача в пограничную часть вместе со всеми не отправили.
И вот Завьялов.
— Равняй-й-й-йсь! — Подтянутый, свежий, он попыхивает папиросой, пропитанной одеколоном. — Ы-р-р-р-о!
Разношерстный строй замирает.
— Вот что, допризывники! Запомните, вы находитесь на двухнедельном военном сборе. Дисциплина здесь железная, а суд — военный трибунал. Так что учтите. И далее. На период сборов нам надо создать свою комсомольскую организацию… Вот с этого мы и начнем. Кто желает вступить в комсомол — два шага вперед!
Несколько парней вышагнули из строя.
— Заходите в помещение, заполняйте документы. От занятий освобождаю, — приказал Завьялов. — Остальные — ложись! По-пластунски вперед!
Парни повалились в снег, поползли. Около часа Завьялов гонял их на бугре. Потом опять поставил в шеренгу.
— Кто желает вступить в комсомол — два шага вперед!
Желание изъявили все.
— Давно бы так, — удовлетворился Завьялов. — Идите все в тепло. Сегодня занятий больше не будет.
Павла трясло.
— Товарищ Завьялов, — позвал он. — Ты что же тут ерунду такую порешь?
— А рост? Ты же сам требуешь?
— Для отчета рост не нужен!
— Ну, знаете, товарищ Крутояров!
Павел вспыхнул:
— Я из тебя за такие дела заику сделаю!
— Замолчи! Это тебе не фронт! Тут тебя сомнут в два счета.
— Сомнут? Посмотрим.
— Ордена людьми даются, а люди могут обмануться. О тебе и так не очень лестные мнения сложились.
— У кого?
— В райкоме партии.
— Кто же тебя об этом информирует?
— Мало ли кто?
— Вот что, Завьялов. На испуг ты меня не бери: сам знаешь — не струшу. А слова мои такие запомни: кровью умоюсь, а бесхребетным не стану. Понял?
Павел зашагал прочь совершенно взбешенный. Метались сомнения. Он тут же подавлял их: спокойнее, спокойнее, правду красить не надо. Вставал навстречу ершистому, дерзкому командиру десантного взвода новый, рассудительный Крутояров, партийный работник, говорил категорично и смело: «Как же ты мог бы бросить Чистоозерку, уехать в какой-то город, оставив беззащитных парней, Афоню Соснина с его девчонками, Егора Кудинова с распухшей от остеомиелита ногой? Как же ты мог допустить такую думку?»
* * *
Если Сергей Лебедев и Павел Крутояров сумели увидеть в Андрее Ильче Светильникове две личины: одну — парадную, для людей, другую, спрятанную в глубоком колодце, — для себя лично, то бывший гвардии лейтенант Левчук этого не разглядел и не разгадал.
Светильников тряс его руку, улыбался:
— Очень хорошо, товарищ Левчук, очень хорошо. Вы ведь, если мне не изменяет память, в прошлом работник торговли и образование торговое имеете?
— Так точно.
— Вот это, как нельзя, кстати. Офицер! Кооператор! Да мы вас завтра же председателем сельпо сделаем.
— Спасибо за доверие!
— Да у нас же вакантная должность в этом сельпо. Принимайте дела.
Сказав это, Андрей Ильич затих, перестал видеть Левчука и слышать его. Он вспомнил своего зятя Завьялова, приходившего вечером к нему домой и слезно просившего: «Съест он нас, меня и вас тоже, этот Пашка Крутояров. Тем более, сейчас еще лейтенант Левчук приехал. У них тут целая компания… Избавиться от них надо подобру-поздорову».
На лице Андрея Ильича сияла все та же улыбка, только глаза были пустыми. И он повторил:
— Это сельпо вас не съест, завтра же мы вас утвердим подобру-поздорову.
Вернувшись из райкома, Левчук сказал Павлу:
— Секретарь у вас — дельный мужик. Комиссар.
— Ничего ты не понял, товарищ Левчук… Он в комиссара играет, а душонка у него, как мошонка у мышонка.
— Что это ты? Как в атаке.
Левчук горестно вздыхал. После приезда в Чистоозерку он не таил своего несчастья. Все ему сочувствовали. И он принимал эти сочувствия.
— Душонка не душонка, — говорил он Павлу. — Мне теперь только бы устроиться как-нибудь да и продолжать тянуть свою лямку. И тебе не советую на начальство кидаться. Мало тебя корежили? Отдыхай!
Еремеевна, накрывавшая стол, поддержала Левчука:
— И то правда, Федя, уж больно какой-то злой стал. Того и гляди, налетит!
— Нет, Федор Леонтьевич, я по этой тропинке не пойду, — не слушал Еремеевну Павел. — Ты мне не советуй.
Левчук встал из-за стола.
— Критику, Павел, только дураки любят. Умные ее терпят. А когда надо, они из нее выводы делают. Не таким, как ты, головы поотрывали.
Павел всадил вилку в огуречное колечко.
— Не сойдемся мы с тобой на гражданке-то, товарищ лейтенант. Молчать я не буду. Пусть что угодно со мной…
— Почему не сойдемся? Сойдемся. — Левчук был непреклонен. — Ты только излишне нервничаешь. Ты не кричи. Особенно на меня. Я, понимаешь, спотыкаюсь в последнее время. Сбивает меня горе мое. Но я тоже сквозь пальцы на плохое смотреть не буду. Ты же меня знаешь.
…Неприятности на новой «вакансии» у Федора Левчука начались ровно через полторы недели после вступления в должность. Заместитель его, стриженный под бокс мужичок, сказал доверительно:
— Вчерась заграничное белье с базы получил. Видно, что не наши модистки делали. Упаковка! Качество! И главное — дешевизна.
— Ну так что же?
— Немного. Всего восемь пар. Я сказал продавцу, чтобы попридержала. Может, кому из начальства надо будет, пусть берут.
— Хорошо. Правильно.
Левчук позвонил Светильникову:
— Знаем, что в очередях стоять вам некогда. Дел по горло. Вот специальное заграничное белье достали. Высококачественное и дешевое. Такого нигде не сыщешь.
— Молодец, товарищ Левчук! Заботиться о наших работниках надо, ой как надо! Вот всем членам бюро и продать эти вещи. Они же у нас и день и ночь в работе.
Но членов бюро было девять, а пакетов — восемь. Одному не хватало. Это вызвало недовольство у жен начальства, собравшихся вечером в раймаг. Каждая хотела приобрести своему заграничное белье. Продавщица растерялась, побежала к заведующему складом, оставив наступавших на нее, с каждой минутой все более ожесточающихся начальниц. Конфликт был разрешен лишь после того, как заместитель притащил из дому припрятанную для себя пару.
Прошло несколько дней. Поздно вечером Федора вызвал к себе Андрей Ильич. Разговор шел о торговле, о строительстве новых магазинов. И только в конце беседы Светильников спросил:
— Это что же за белье продал ты нам, товарищ Левчук?
— Доброе?
— Какое, к черту, доброе! Я вчера после бани надел, ночь проспал — расползлось.
— Не может быть!
— Ты, товарищ Левчук, головы нам не морочь. Ты над нами так смеешься, а над рядовыми покупателя как?
Прибежав из райкома, Левчук срочно вызвал заместителя.
— А ну, уточни, что ты за белье продавал? Откуда оно? Какое?
— Что уточнять-то? Немецкое, импортное.
Уточнение показало: белье, действительно, заграничное, действительно, в великолепной упаковке, но значилось оно по фактуре как… погребальное.
Когда об этом узнал Светильников, он сказал Федору Левчуку:
— Это не просто ошибка. Это особая ошибка, Левчук. И мы еще проверим вас, кто вы есть… Снабдить всех членов бюро покойницким бельем, вы понимаете, что это значит?
Федор пришел в тот вечер домой серый, пришибленный. Он будто и ростом стал ниже. На лице застыла смертельная тоска. Погибла семья, сломалось здоровье, и, на тебе, еще «особая» ошибка.
И когда на следующее утро в правлении сельпо раздался звонок, Левчук почувствовал, как задрожали ноги, похолодели кончики пальцев, В приемной Светильникова он говорил с секретарем словно во сне.
Андрей Ильич встретил его все с той же улыбкой:
— Ну и учудил же ты, товарищ Левчук.
— Извините. Не знал.
— Не надо извиняться. Забудем это. Есть у меня к тебе одна просьба. Проваливается соседнее Рябиновское сельпо. Третий год живут на убытках. Все тащат. Ты свежий товарищ. Мы тебе доверяем, несмотря на оплошность твою. Ты это сельпо поправишь, а здесь мы кого-нибудь подберем, менее зрелого… Тут все-таки под рукой… Поезжай.
Так Левчук оказался в Рябиновке.
* * *
За обман и очковтирательство Завьялова обсудили на бюро райкома комсомола. Андрей Ильич, присутствовавший на заседании, при всех сказал так:
— Я не позволю водить за нос меня и моих товарищей, Крутоярова и других. Ты это, Завьялов, имей в виду!
Другом, отцом казался в эти минуты Андрей Ильич окружающим. И для самого его такие порывы были лучшими. Никто не знал, что на такое Светильников был способен уже не часто, что это проявлялось у него в минуты, когда вспоминал он свою молодость, Магнитку, где плотничал с артелью односельчан, Челябстрой, где стал коммунистом.
Завьялов держал руку на сердце, просил:
— Простите, члены бюро. Думал, что доброе дело делаю, а вышло плохо. Недомыслил. Больше такого не повторится.
Завьялов искренне смотрел на ребят, бывших фронтовиков. Он восстанавливал в памяти до мельчайших подробностей последнюю встречу с Андреем Ильичом в его квартире. Андрей Ильич полулежал на мягком диване. Красная шелковая пижама расстегнулась, обнажив мощную, заволосатевшую грудь. На кухне хлопотала молоденькая жена Завьялова, Машенька: готовила любимое дядино блюдо — домашнюю лапшу с мясом. Вкусно пахло поджаренным луком и тушенкой, на столе стоял полный графин только что разведенного спирта. Зайчик от лампы сверкал в чистой, как лесная роса, жидкости. Андрей Ильич обещал: «Ладно. Ладно. Успокойся. Мы пока еще не слабачки. Что-нибудь придумаем». Так и говорил. И на следующий день спихнул в Рябиновку лейтенанта Левчука. Но с Крутояровым ничего не получилось. Или это маневр?
Завьялов растерянно моргал белесыми ресницами. Все годы он безгранично верил Андрею Ильичу. Как бы трудно ни приходилось, он всегда шел к нему, тогда еще секретарю колхозного парткома. Слушал спокойный, уверенный разговор и успокаивался. «С таким железным человеком не пропадешь, — мыслил Завьялов. — Все может. Все в его руках». Побывав в штрафном батальоне, выписавшись из госпиталя, Завьялов вернулся в Чистоозерье. Он увидел, как добросовестно и ладно работают люди. Напутствуемый Светильниковым, он пытался встать в этот общий строй, но его почему-то отгоняли: не понимал Завьялов всей этой трудной и доброй послевоенной сумятицы, а потому не работал, но лишь мешал работать.
Сейчас, на комсомольском бюро, получив товарищеский нагоняй, он не почувствовал ничего, кроме раздражения. Он видел, в который раз, враждебные лица комсомольских вожаков, Пашки Крутоярова, его обидную веселость. «Пошли вы от меня ко всем чертям, — думал он. — И чего вам от меня надо?» Еще вчера Завьялов был уверен, что Павлу несдобровать, а сегодня Павел слушает его снисходительно, как хозяин. «Ничего, я вам еще докажу. Вы еще увидите. Еще попросите меня!» — разговаривал он про себя с комсомольскими активистами.
По кривой стежке шел бывший гвардейский старшина Завьялов. Время и наказания были для него слабыми лекарями. Не помогло, а только озлобило его комсомольское обсуждение. Потому что было оно рядовым, мизерным случаем в жизни Завьялова. Устоявшиеся с годами привычки были сильнее всех добрых и недобрых выступлений, выслушанных на заседании.
Приближался конец года. Надо было завершить выполнение плана по сбору осоавиахимовских членских взносов: по этому показателю судили о работе. К тому же Осоавиахим в те дни преобразовался в ДОСААФ. Надо было доказать всем, что он, Завьялов, — лучший из всех работник. И Завьялов, побывав в одном из самых дальних колхозов района, «Красные орлы», распространил билеты, пообещав выхлопотать для населения излишний наряд на получение сахара.
Приехав в «Красные орлы», как и обычно в качестве уполномоченного, Павел Крутояров зашел в сельмаг и увидел толпу пожилых женщин и старушек. Они предъявляли досаафовские билеты, требовали от продавца выдать по пятьсот граммов сахару.
— Нет у нас сахару, женщины, — говорила продавщица. — Разве вы не понимаете, что карточки еще не отменены?
— Как это — нет, когда начальник с саблей сказал, что на ети билеты будут сахар давать. Ишо по трешнице взял с каждой!
— На какие билеты, какой начальник? — заинтересовался Крутояров.
— Из району. Вроде тебя.
Павел взял у одной из покупательниц билет члена ДОСААФ.
— И что же он вам говорил?
— Сказал: как выкупим билеты, так и сахар дадут.
…Возвращаясь в райцентр, Павел смотрел на тянувшуюся по степи белую пряжу поземки, слушал звуки пролетавших в морозном воздухе самолетов, видел беспредельную, добрую, беспокойную степь, засыпающую под снежным саваном, и фосфорические волчьи огни в лесах… Дикость и пустота… На сотни километров не тронутая, как тысячи лет назад, земля…
Сколько же надо времени и сил, чтобы привести ее в движение!?
Завьялов обманывает, чтобы полегче прожить, чтобы хвалили. Обманывает пожилых женщин, у которых подрастают дети… Они верят. Но потом расскажут своим детям и внукам и будут смеяться и плакать, вспоминая прошлое. И мошеннические поступки Завьялова припишут всем тем, кто стойко и честно нес в жизнь новое, кто боролся за восстановление хозяйств, за добрую жизнь. Боролся, не жалея себя, иногда подсекаясь и погибая в безвестности. Понимает ли Завьялов, что он чернит не только себя?
Еще какие-нибудь полгода назад Павел Крутояров за эти штучки рассчитался бы с Завьяловым «по-свойски». Он представил себе, как бы все это произошло… Приехав в райком, он обязательно вызвал бы к себе Завьялова и спросил: «Ты людям сахар обещал?» — «Сахар?» — выражение лица Завьялова стало слащавым и нахальным. «Да, сахар, на досаафовские билеты?» — «Павел, ну не все ли тебе равно, как я план по взносам выполняю. Лишь бы первое место занимать. И тебе почет, и мне уважение». — «Ох, и стервец же ты!» — «Не ори на меня! Худо будет!» — «Мне будет худо, а тебе хорошо, мразь!?» Павел с такой ясностью вообразил себе, как он срывает с Завьялова шашку и тупяком ее бьет его по загривку, что правая рука его дернулась. Нашкодившим котенком вылетел бы Завьялов из крутояровского кабинета. Так бы и было. А затем что?
Улыбнулся своим мыслям… «Ну и ну! Это же надо! Придумал же, товарищ Крутояров! Нет, Паша! Все эти повадки забудь. Завьяловых этим не возьмешь. Надо противопоставить им другое: спокойствие и твердость… Доложу Светильникову… Если будет артачиться, поеду в область. От сорняков надо избавляться. Вырывать с корнем… Не надо играть в ложную гуманность и быть добрым дядей… От этого только вред!»
На другой день в половине восьмого он пришел к Андрею Ильичу.
— Не обижайтесь. Такое терпеть дальше нельзя.
— В чем дело, Павел Николаевич? — Светильников улыбался открыто и просто.
Павел рассказал.
— Честно говоря, Завьялов по таким колдобинам ходит не впервой. Вы же знаете случай на фронте. И здесь — тоже обман!
— Ты, что же, — изменился лицом Светильников, — мораль мне читаешь?
— Не мораль, Андрей Ильич. Он ведь с довоенных лет в ваших руках, а духом каким-то чужим пропитан. Разве вы за это не отвечаете, хотя бы перед собой?
Кружился за окном снег, хлестало обледенелыми ветками по стеклу. Дышала жаром покрытая серебряной краской круглая печь с коричневыми подпалинами у заслонки.
Светильников долго молчал. Потом, будто очнувшись, поднялся.
— Ты, наверное, не знаешь, Павел, что в двадцать первом году моего отца — он был в продотряде — бандиты заморозили на снегу, потом распилили пилой… Ты думаешь, я расслаб? Ответственность потерял? Нет. Я за нашу партийную правду жизни не пожалею… А Завьялов… С ним как-то уж так получилось… Я и сам не рад ему… Все прощал. Из-за племяненки моей, сиротки Машеньки… Ее жалел.
— Верю, Андрей Ильич, — опустил глаза Павел. — Простите меня за резкость. Я ведь тоже не о своем спасении пекусь… Завьялов несет позор вам, и его надо немедленно снять с работы.
— Снимать никого не придется. И так мы уже, считай, все сняты… Пока ты в командировке был, решение принято: Чистоозерский район, как малоперспективный и незначительный по размерам производимой продукции, упразднить. Присоединить к соседнему, Лебяжьевскому району… А секретарем там Беркута изберут… Завьялов говорит, командира вашего бывшего. По направлению ЦК приехал.
— Вот дела! — Павел только сейчас понял причину размягченности Светильникова, но привычное чувство неприязни утихло, он смотрел на Андрея Ильича с сочувствием.
А Светильников продолжал:
— Для тебя есть такая наметка… Поедешь в высшую партийную школу, в Свердловск. Решение уже выслали. Завьялова думаю в Рябиновку направить, в школу учителем. Лебедев не возражает, даже поддерживает… И еще один тебе мой совет… Я пережил много, видел людей разных… Ты меня послушай. Выбрось из своего характера одну шестеренку — лепить все в глаза, начистоту… Плохо кончишь.
В этот день для Павла Крутоярова вырисовался другой Светильников, полный противоречий, до предела простой и запутанный.
Глава третья
Шли годы. Они цементировались в фундаментах многоэтажных зданий, залегали в смоленых окладниках[2] под деревенскими пятистенками. Хотя и туго, и с напряжением, но вырывалась зауральская деревня из послевоенной бедности: желтели свежие срубы в переулках, дружно загорались за тюлевыми занавесками электрические лампочки.
Много воды утекло с тех пор, как Павел Крутояров вместе с семьей уехал из родных мест. Все было, и плохое, и хорошее. В поход за «большую кукурузу» ходили, и целину подняли, и перегнойные горшочки стряпали. Одна за другой в сельском хозяйстве шли перестройки. Надуманное хотя и мешало движению вперед, но коренного влияния на деревню не имело. Зато все действительно нужное находило благодатную почву. Такова жизнь. Приживчивое дерево из тычка растет, само корнями с землей сцепляется, а худой саженец и на сдобном участке под стеклянным колпаком не согреется.
Годы выпестовали и взрастили в сознании Павла большую и яркую, как вспышка молнии, мысль: «Родина! Заботы Родины — наши заботы, радости — наши радости». И он, вечно обуреваемый разными страстями, выделил из всех эту главную страсть, носил ее в душе.
Когда территориальные производственные управления сельского хозяйства было решено разукрупнить, Крутоярова по решению обкома партии направили во вновь восстановленный Чистоозерский район, к Родиону Павловичу Беркуту.
Беркут, все тот же розовощекий крепыш, в пенсне, бодро расхаживал по кабинету и, хотя Павел не раз встречал его раньше в областном центре на совещаниях, показался сейчас незнакомым… Сухой блеск глаз, озабоченные складки у рта. Павел на секунду замер у дверей, увидев эти складки, потом негромко кашлянул и смутился. Но Беркут ничего этого не заметил. Он крепко стиснул руку Крутоярова, усадил в желтое кожаное кресло и тихо спросил, будто продолжая давно начатый разговор:
— Как думаешь, Павел Николаевич, насчет работы?
— Прибыл в ваше распоряжение. Куда пошлете.
— Рябиновка тебе знакома? Знакома. Комиссара нашего родина… Вот туда и поедешь. Не в качестве уполномоченного, нет! — Он улыбнулся. — Председателем колхоза… Тем более, что и дядька твой, Увар Васильевич, тоже в Рябиновке сейчас живет… Завхозом в школе у Завьялова.
— Но…
— Никаких «но» не принимается. Колхоз самый большой в районе. Восемь бригад. Каждая — село или деревня. Семнадцать тысяч гектаров посева… Вроде командира полка будешь.
— Не это страшит, Родион Павлович. Страшно, что за два года в третье место.
— Знаю, Павел Николаевич, — смягчился Беркут. — И буду с тобой откровенен. Переезды надоели. Много времени на них ушло. Работать некогда. Но мы же коммунисты, Павел Николаевич, и головы у нас на плечах не для того, чтобы ондатровые шапки носить.
Напряженность и беспокойство, с каким начинался разговор, передались Павлу, и он потянулся за папиросой.
Таким своего бывшего комбата Павел еще никогда не видел. Ему показалось, что Беркут говорит какие-то запретные слова. И все предметы в кабинете Беркута начали видеться Павлу с меньшей отчетливостью, будто в тумане. Павел держал в руках пачку «Казбека» и разглядывал ее, как что-то незнакомое. Беркут говорит:
— Надо ли тебе, сельскохозяйственнику до мозга костей, разъяснять, сколько у нас проблем на селе, а?
— Надо уточнить. Чтобы крепче держать в памяти.
— Ты не смейся. Я серьезно… Не знаю, как там у вас было эти годы. А здесь каждое утро в правлениях колхозов мужики курят почти до полудня. Пока разомнутся на работе — смотришь, вечер… На заводах семичасовой рабочий день, а в колхозах? По четыре, а то и по три часа на колхоз работают, а по семь — на своих огородах копаются. Есть на кого надеяться: приедут шефы из города и сена накосят, и хлеб уберут, и картошку выкопают… Конечно, такое творится не везде, но все-таки… А почему? Ты знаешь?
Крутояров сидел не двигаясь. Комбат сам себе задает вопросы, потом сам же на них и ответит. Старая привычка.
— В последние годы мы взяли на вооружение известную истину: строить новое общество на одной инициативе нельзя. Необходимы материальные стимулы. Это правильно. Но дело, видимо, не только в стимулах. Поощрений разных нынче кучу напридумывали. И шагу наш колхозник без рублевки не шагнет. Дело в другом. В расслабленности. Забыли некоторые товарищи, с каким трудом все создано и сколько стоит.
Он подошел к большому книжному шкафу, сдвинул стекло, достал из стопки блокнотов один, красный, объемистый. Раскрыл вроде бы наугад нужную страницу.
— Я, как ты знаешь, не гость в здешних краях. На конференциях, на собраниях разных иногда услышишь вроде бы и толкового оратора, а разберешься — без середки мужик. Балабонит — и все: топчемся на месте, падает дисциплина, бежит из села молодежь, длинными лекциями пугать мужиков стали… Сверху, из района, сообщают, когда надо начинать сеять, каким способом и сколько. И в животноводстве — сплошь дыры! Вот какие «умные» разговоры бывают. А ты спроси этого «деятеля», кто заставляет его раньше срока сеять, кто мешает высокопродуктивный скот разводить, клубы строить? Спроси. Не ответит ничего путного. Потому что ни за что не отвечает и одно умеет — критиковать.
Старые настенные часы дважды проиграли какую-то музыку. Ветер тяжело стукнул открытой форточкой.
— Ну, так что же ты скажешь, Павел Крутояров?
— Скажу, Родион Павлович, что и запнуться у нас пока есть за что. — Павел осмелел. — Чтобы приближалась деревня к городу и молодежь не текла из сел, надо строить очаги культуры. Но не только строить, а чем-то их начинять. Самых способных людей посылать на эту работу.
— Тоже знаю, Павел Николаевич… Недавно в соседний район ездил. Близко тут. Приехал на совхозное отделение, деревенька маленькая, серая, клуб из трех амбаров собран. Смотрю, девчонки из него выбегают со слезами. Спрашиваю: «Отчего плачете?», — а они в один голос: «Шурка, заведующий клубом, гоняется за нами и глаза луком трет!» — «Чем же вы по вечерам занимаетесь?» — «Ничем. Когда кинуха, а когда просто семечки щелкаем».
Павел слушал с вниманием. Мрачнел. Беркут рассказывал:
— С директором совхоза я потом беседовал. Он мне так поет: пока о людях по-настоящему заботиться не будем — ничего не получится. Этот директор, оказывается, на всех отделениях, кроме того, на которое я попал, клубы хорошие построил, по смете незапланированные. А на центральной усадьбе Дворец культуры отгрохал такой, что и в городе не сыщешь. Зарплату клубным работникам платит хорошую. Тренера по футболу вместо какой-то единицы держит… А школа? Школу он считает цехом номер один. Сначала ребятишки, а потом уж телятишки… Вот как… За нарушение финансовой дисциплины ему частенько выговоры преподносят. Выкручивается. А ему, по сути, надо бы благодарности объявлять. Он бой рутине объявил первым.
— Да. На выговор у нас не всякий пойдет…
— На доты ходили… Ты слушай, людей в этом совхозе в последние годы будто подменил кто. Работают весело, с настроением. Не вкалывают денно и нощно, а по семь часов. И регулярно выходные… Так бы везде.
— Это же совхоз. Там деньги.
— Товарищ Крутояров, разве в колхозе их труднее нажить? Действуй, как этот директор. Поддержим. Только смотри не сорвись. С высоты потом падать будет больно… Парашютов здесь не выдают.
— Хорошо. Я подумаю, — сказал Павел.
— Думай, но не долго. До завтра.
Павел ушел от Беркута со смутным чувством беспокойства. Конечно, Родион Беркут — человек, который сделает все, чтобы помочь ему на новом месте. Но сам он показался Павлу неуверенным и одиноким. Будто учитель на последней предэкзаменационной консультации, когда все уже говорено-переговорено. Давай, мол, не подкачай. Вот наши проблемы, вот каких результатов ждем. Я тебе, мол, обязан об этом сказать, хотя и понимаю, что это давно набило тебе оскомину.
* * *
К отчетно-выборному собранию в Рябиновке готовились как к празднику. Были для этого причины: захирело в последние годы хозяйство, заросли лебедой улочки, по цветникам и на колхозном стадионе, когда-то оживленном и бойком, безнаказанно паслись телята и гуси. Председатель колхоза Лобачев, присланный два года назад из города, был человек с образованием, а дела шли скверно: сегодня раскапывали, завтра закапывали.
Перед собранием в колхозном клубе побелили стены, покрасили полы, оборудовали несколько стендов, рассказывающих о достижениях колхоза. Проходы между деревянными креслами, стянутыми в тяжелые звенья, устлали длинными ковровыми дорожками темно-бордового цвета. Пахнули холода. Поэтому за два дня до собрания к клубу привезли воз березовых чурок и топили печки круглые сутки. Чтобы, не дай бог, от такой бешеной топки чего не случилось, послали в клуб печекладов, и они под строжайшим наблюдением пожарника проверили и подремонтировали все кирпичные боровики и жестяные трубы.
Над селом висели пересуды.
— Интересно, кого же изберут председателем?
— Говорят, кого-то из местных.
— А кто будет замом?
— Найдется. Свято место не живет пусто.
Павел приехал в Рябиновку вместе с заместителем начальника производственного управления Верхолазовым за неделю до собрания. Лобачев встретил представителей района с радостью. По его указанию в распоряжение Крутоярова и Верхолазова выделили старый, с глубокими ржавыми шрамами на лбине «газик», и они почти все время жили в бригадах и на фермах.
Все шло хорошо. Хлопотали животноводы, работали мастерские и кузницы. Тянулись по утрам в поля за сеном тракторы. Но видел Павел во взглядах и в поведении людей ухмылку.
— Без подъема работаете, — сказал он Лобачеву. — Неуютно живете.
Лобачев, выбритый досиня, круглый и подвижный, курил трубку.
— Какой уют, коли за два года две реконструкции выдержали. Хорошо бы просто названия управлений менялись, но вот беда — идеи всякий раз меняются. Вначале ввели силосный тип кормления скота и заморили начисто овечек, потом решили, что надо специализироваться на производстве говядины — и по боку свиней. Дай-ка опять какая-нибудь перестройка… Осточертело… И все делается по-быстрому… Как ваш дядюшка, Увар Васильевич: придет в баню, не успеет сапоги снять — на полок лезет париться.
— Вы сами хозяева.
— Какие хозяева, когда за нас в управлении думают.
Лобачев взъерошился и стал похож на большую черную птицу.
— Для того чтобы уютно жить, надо быть уверенным, что ни сегодня и ни завтра у тебя карман не вырежут. А мы вроде как на вокзале сидим. Разговоры ведем дружные, но с часов глаз не сводим.
Лобачев был прав. Об этом же говорил и Беркут. И здесь, в Рябиновке, Павел впервые понял, что он в бесконечных хлопотах недооценивает и преуменьшает действительные размеры материального и морального ущерба, который терпят села из-за разного рода «хозяев», обирающих колхозы и совхозы!
Накануне собрания приехал из Чистоозерья Беркут, не по-обычному веселый, бодрый. Он был в белом полушубке, в валенках. Ворсистая шапка с опущенными ушами обрамляла его румяное лицо. Широкоплечий, быстрый, он заполнил, кажется, весь маленький крутояровский кабинетик, и находившимся в нем от этого стало тесно.
— Ну, как дела, вояки, рассказывайте.
Павел докладывал:
— Дела такие: о начале собрания три раза объявили по местному радио. В каждой деревне побывали, провели бригадные собрания, избрали уполномоченных… Расчистили бульдозерами дороги… Вот вроде все.
Павел нахмурился, вспоминая беседу с председателем сельпо Федором Леонтьевичем Левчуком. Но потом повеселел, начал говорить подробно, передавая даже интонации. Федор неделю назад собирал весь свой «торговый аппарат»: продавцов, счетоводов, грузчиков. Выделил для продажи самые что ни на есть лучшие товары. «Организуем обслуживание собрания так, — говорил Федор, — что комар носа не подточит! Мы, брат, ученые и не один раз». — «А нельзя ли, Федор Леонтьевич, — попросил Крутояров, — все эти «дефициты», что к собранию припасены, просто так продать?» — «Можно, конечно, да ведь я старался для такого дела, для этого торжества, все условия создать». — «До этого дня люди без всяких условий жили?» — «Но, Павел Николаевич, собранье-то раз в году бывает. Когда у нас старый район был, указания такие давали: на отчетных собраниях продавать самое лучшее».
Левчук радовался разговору с Павлом, он понимал, что судьба сводит их опять вместе и надолго; и он волновался, краснел, круглая плешь его покрывалась испариной; и Павлу от этого стало больно. В прошлом боевой командир, Федор Левчук показался ему студенистым, бесформенным. «Не понимаю, Федор, когда ты так согнулся?» — «Что, Павел Николаевич? — подставлял ладонь к уху Левчук. — Раньше точно такие указания давали, разве ты не помнишь?» — «Вот что: никаких особых условий создавать не надо. В буфете оставь то, что есть в магазинах. Так, чтобы вдоволь было еды и питья». — «Все будет, Павел Николаевич, и насчет еды и насчет питья — все продумано. В буфет часть «Столичной» заброшу, а для президиума коньяку достал шестнадцать бутылок». — «Эх, Федя, Федя! Изломало тебя время-то, гвардеец!» От этих слов у Левчука дрогнула бровь. «Изломало, Павел. Друзья не стали узнавать. Сельская торговля — та же фронтовая полоса. Все на виду и все в опасности. Не хватает того-другого — председатель сельпо виноват: «не удовлетворяет постоянно растущие потребности трудящихся». Бездельник. Близорукий. Исключить из партии, снять с работы. Будто потому и в партии состоишь, что боишься потерять работу. Это, Павел, не шутка, слезы». Он впился короткими сильными пальцами в край стола: «Ты говоришь: убери все «дефициты». Правильно говоришь. Потому что люди смеются. Как собрание какое, говорят, так и «дефициты» продают. Вроде как по себе делят… И все-таки кое-кому эта твоя мысль не понравится. Рисуется, скажут, Крутояров. Вот тут и покрутись». — «Я, Федя, крутиться не буду. А что так нельзя — это ребенку понятно. Чистота и откровенность для нас — первое дело».
— При чем тут чистота, — вмешивался Верхолазов. — Разве плохо, если все лучшее продадим передовикам, если уж на всех недостает?
— Нет. Неплохо. Но мы увезем к ним, по деревням, продадим там, где они живут и работают. А из отчетного собрания ярмарку устраивать не следует!
Беркут слушал все, о чем говорили, навалившись грудью на стол, пристально глядел на Павла.
— Да, да! Так лучше будет! Правильнее, — согласился он.
* * *
Собрание прошло обычным порядком: доклад, прения, приветствие пионеров, вечером — концерт местной самодеятельности, как и всегда, с активным участием нимало не постаревших Афони Соснина и его сестры Акулины. Когда кончились выступления и избран был состав колхозного правления, над Рябиновкой расходилась метель. Ветер пробивался через плохо замазанные рамы, шевелил пыльные восковые занавеси на окнах. Шоферы у подъезда грели моторы легковушек и грузовиков, поджидая своих деревенских.
Беркут собрался ехать домой, в райцентр, сразу же после организационного заседания правления. Попрощался со всеми запросто.
— Давай, Крутояров, — говорил Павлу, — разворачивайся, спи — лежа, работай — бегом. Успехов тебе!
Озабоченный Павел просил Беркута:
— Остались бы до утра, Родион Павлович. Ночь. Заберетесь где-нибудь в сугробы, измучаетесь. Завтра угольники пустим, легче проедете.
— Ничего. «Газик» — сила! Ты не беспокойся. Вот товарищ Верхолазов ненадолго тебе в помощники останется. Да и Лобачев еще не сдал колхоз. Дела, Павел Николаевич, неотложные.
Крутояров знал: удерживать Беркута бесполезно, отступился. Остались в горнице Увара Васильевича вдвоем с Верхолазовым. Долго прислушивались, сидя на кроватях, к стуку ветра за окнами и курили. Потом Павел сходил на кухню, принес бутылку коньяку, вытянул штопором от универсального складня пробку.
— Часто прикладываешься? — спросил, задергивая шторку, Верхолазов.
— Раз-два в месяц.
— Учти, ты сейчас в Рябиновке вождь!
— Ну и что?
— Сам знаешь, чтобы никаких замечаний.
— Говорят, когда у Беркута спросили, можно ли коммунистам пить водку, он долго молчал, а потом сказал два слова: «Дуракам нельзя!»
— Так-то оно так, да все-таки!
— Все-таки давай выпьем по рюмке! — Крутояров разлил коньяк. — Пока я еще холостой, семья в Далматове осталась. Вот завтра или послезавтра приедут — и на столе у нас все, что надо, будет. А сейчас тетя Авдотья что-то прихворнула, а старика и дома все еще нет.
Верхолазов улыбнулся:
— Павел Николаевич, почему ты такой… ну, как шиповник, колючий… Школа Беркута?
— Да. Частично. Но не только его школа. Я, Виктор Витальевич, родился при советской власти. Был октябренком, потом пионером, потом комсомольцем… И все годы жил одинаково: по справедливости.
— Но откуда же колючки?
— Это для того, чтобы всякому бессовестному делу противостоять, а не в кустах прятаться.
Коньяк разнежил Верхолазова, потянул к разговорам:
— Так невзначай и саму совесть кольнешь.
— Если понадобится — можно и совесть, если она скособенилась. Знаешь, как на крыжовнике борются с грызунами?
— Ядом, наверное.
— Нет. Никак. Идет мышка под снегом, слышит — вкусно пахнет, подбирается к стебельку. Но крыжовник для мышки колючки имеет. Наколется она и сторонкой обходит… Я думаю, что нам, коммунистам, терять колючки рано. Мягким бывает только тесто, да и то кислое. А мы пока еще не прокисли. Давай, держи! — Они чокнулись еще раз и тотчас же опустили рюмки: в окно кто-то осторожно постучал, затем захрумкали по снегу шаги к двери.
— Откройте, Павел Николаевич!
Павел вышел на кухню, повернул ключ в прихожей. Из снежной кутерьмы шагнул, впустив клубы белого мороза, Завьялов.
— Извини, Павел, но все-таки как-то нехорошо получается: в должность входишь и не спрыснуть ее? Однополчане ведь!
У Павла изумленно взметнулись брови.
— Проходи, Завьялов, не остужай хату. Спрыскивать меня, наверное, не следует. Не урочливый.
— Боишься, осудят?
— Нет, не боюсь. Просто — не могу.
— Брось, Николаич. Если за что и виноват в прошлом — забудь. Другой я.
— Забывать вообще-то ничего нельзя. Но я забыл. Не злопамятный.
— Ну, ну, не сердись. Вместе придется трудиться. Да и Увар Васильевич у меня в школе работает…
— Ты что, меня уговариваешь или пугаешь? Я же тебе ясно сказал!
— Павел Николаевич! Ну что ж, извините!
— До свидания.
Верхолазов сидел в горнице, слушал через перегородку разговоры, затаив дыхание. Когда запотевшая дверь глухо захлопнулась, он вышел в переднюю.
— Себе рогатки создаешь, Павел Николаевич?
— Почему же?
— Как-никак, он директор школы в Рябиновке. Тебе и в самом деле придется с ним ухо в ухо работать. Да и мужик он неплохой.
— Знаю.
Новый стук в окно, торопливый и тревожный, прервал разговор.
— Кто там?
— Это я, участковый Гаврилов… Товарища Беркута в нашу больницу привезли.
* * *
Причины этой боли Родион Беркут старался скрывать не только от жены и друзей, но, кажется, даже и от самого себя. Это была особая боль. Не обыкновенная, к какой он привык после тяжелого ранения, и не страшная, какой обычно называют боль невыносимую. Это была пытка. Раскаленной подковой охватывало поясницу так, что скрипели сжатые зубы, и Родион замирал, превращаясь в комок нервов. Когда боль отступала и холодный пот падал с висков, он по часу, по два лежал у себя в кабинете, безмолвный и злой, читал те разделы медицинских книжек, в которых описывались подобного рода симптомы.
Беркут знал свою болезнь. И не боялся сказать самому себе и врачам; он только откладывал все это, потому что всякий раз, пережив боль, представлял себе поля, лица председателей колхозов, директоров совхозов, секретарей сельских партийных организаций. Видел огромные вороха пшеницы, слышал натужный гул сотен машин.
В последние годы Беркуту все чаще приходилось сталкиваться с совершенно неожиданными неприятностями. На одном из больших производственных совещаний в областном центре его назвали «ярым противником кукурузы» и поклонником овса только лишь из-за того, что под овес, дававший огромное количество концентратов, занято было в районе десять процентов посевной площади. Беркуту советовали прекратить сеять овес и подумать о своей позиции. И это звучало так: «Не лезь поперед батьки в пекло, не сдобруешь!»
Разумно ли поступал Беркут?
Он не надеялся на интуицию. С присущей ему дотошностью считал, пересчитывал, прикидывал, советовал. Действовал наверняка. Росла урожайность, в два раза больше стали производить молока и мяса. Колхозы и совхозы богатели. «Как на опаре растут», — часто вспоминал он слышанные в детстве слова матери. Пусть овес, пусть кукуруза, ярым противником которой он никогда не был, пусть другие культуры. Важен результат! Сколько задумок, планов! Как тут без него? Нет, с болезнью надо было повременить, надо хотя бы никому не говорить об этом, чтобы не накаркивало воронье беды. Пусть знают: Беркут здоров, силен, будет бороться, как и всегда.
Родион боялся уйти от любимых дел. Это для него было страшнее смерти.
Пурга разбушевалась в ту ночь с необыкновенной силой. Ветер рвал тент на машине, давил в лобовое стекло, сдерживая движение. Шофер с остервенением таранил мягкие сугробы до тех пор, пока машина не застряла. И боль пришла. Помощник, стоявший с лопатой в руках у открытой дверцы «газика», увидел, как передернуло лицо Беркута, как неестественно, безвольно откинулась назад голова.
— Родион Павлович, что с вами? — спросил он испуганно. Ответа не было. Вернуться назад, в Рябиновку, пока метель окончательно не заровняла следы — это было самое правильное решение.
Под утро, придя в сознание, Беркут увидел сидящего у кровати могучего и спокойного Павла Крутоярова.
— Потерпите немного, — говорил Крутояров. — Скоро грейдеровальная машина пройдет, и мы вас отправим. Пурга уже стихла.
Беркут слушал его уверенный бас, рассматривал фигуру, серые знакомые глаза… Помнится, в сентябре сорок третьего начали прыгать с «дугласов», с полутора тысяч метров. Было бабье лето. Тянулись на юг птицы. Грохотавшие на западе бомбежки сшевеливали дичь, живущую вопреки человеку мирной жизнью; и она уходила от бушевавшего по болотам огня туда, где было безопасно. На торфяниках, поросших черноталом, дневал и ночевал туман. Зато сосняк на взгорьях был звонок и чист, и воздух в лесу, казалось, можно было пробовать на вкус, черпать ковшичком и пить, как родниковую воду… Десантники старательно укладывали парашюты. Перкаль привычно пенился в их руках. Беркут ходил вдоль парашютных столов, строго следя за укладкой… Вот он, старший сержант Крутояров, командир первого взвода. Беркут видит его, тогдашнего, как сейчас. Павел охватывает разрывной стропкой края купола, чтобы они не расползлись, трамбует ногою мешок. «Все равно война!» — смеется. «А ну-ка, встань! — Беркут берет за стропы уже уложенный парашют, разваливает купол на столе. — Давай снова укладывай! Ишь ты! Все равно война!» — «Виноват, товарищ гвардии майор! — Павел стоит навытяжку и улыбается: — Есть укладывать наново!» Десантники посмеиваются, и Беркут наставительно говорит: «В соседней бригаде один вот такой же орел уложил парашют, а стропку разрывную убрать позабыл. И что же с ним было?» — «Пошел колбасой?» — «Именно. Колбасой. Разбился. Так что запомни и других научи: уложил парашют — убери стропку. Понял?» — «Понял, товарищ гвардии майор! Не допущу!» — расплывался в улыбке Павел. Он был весь, как умытый дождиком, румяный, сильный, самоуверенный… И сколько же досталось ему потом… Был мальчишкой, стал…
Находясь уже в одной из столичных больниц и навсегда расставшись с районом, Беркут перебирал и перебирал в памяти эпизоды армейской жизни, рисовал в воображении будни первых послевоенных лет и видел нынешнее Зауралье. Многое переоценил Беркут сызнова, многое скидывал со счета и вздыхал: «Как они там без меня?»
* * *
Нелегко переносил изменения в жизни района Завьялов.
Встречи с Сергеем Лебедевым и Павлом Крутояровым, как железные пластины, легли одна на другую и защемили сердце. Он исследовал свою жизнь по маленьким отметинам и деталям, как криминалист. Там, в лесу под Олонцом, зеленый от злости Пашка Крутояров бился, словно в падучей, хватался за финку в дикой неприязни к нему. Завьялов тоже ненавидел Пашку… Всю жизнь. От детства до седин. Каждой клеткой… Не из-за того, что был Пашка всегда впереди и что любили его бескорыстность люди, а из-за того, что вырастали на земле такие и носили в себе непонятный Завьялову заряд. Мешали жить. «Всякие неурядицы и даже войны, наверное, из-за таких бывают, из-за строптивых», — думал он. И приводило это Завьялова к одной кромке: отступиться ото всех, знать свое дело, а они пусть хоть скачки устраивают, небось запалятся.
Уходил Завьялов в свое прошлое. Искал редкие, но поистине красивые в нем места. Снилось ему доброе счастье. Зимними вечерами, когда Чистоозерка засыпала, сиживали они с Андреем Ильичом в его доме. Играли в шахматы, и говорил ему Светильников всегда ободряющие слова… А домой поздней ночью провожала Завьялова обычно Машенька, дивчина — кровь с молоком, черная, быстроглазая. Знал Завьялов, что во время войны дружила она с молоденьким военкоматовским офицером, но не сердился. К тому же звала девка молодостью, тянула к себе здоровым, сытым телом.
В один из тихих майских вечеров, когда испариной дымилась земля, а черемуховые кусты еще не сбросили белые платья, сыграли свадьбу. Серебряными переливами пели баяны. Но веселье как похмелье прошло. Только после него и опомнились как следует. Потекли дни, похожие один на другой.
Первое прикосновение Завьялова к жене, первая близость отшвырнули его далеко в сторону. Он возненавидел светильниковскую племянницу, давно приобщенную к страсти, терзал ее, притворялся любящим, боясь испортить отношения с Андреем Ильичом и с людьми. Машенька инстинктивно угадывала это завьяловское отвращение, но не ожесточалась и не черствела. Она, как и Завьялов, искусно прятала ото всех гнувшее к земле беспокойство. Людям изнанка не нужна, с фасаду же семья — хоть песню складывай.
Называли их «счастливыми», и надо было играть в эту счастливость, подновлять разъединенную изнутри семейную чашу, прикидываться всеми силами. Верят? Значит, надо продолжать обманывать. Это молчаливо исполняли Завьялов и Машенька. Никто не знал истинных отношений в их семье. Добрая слава, доброе имя, авторитет! От всего этого зажигалось в душе умиротворение.
Перед отчетно-выборным собранием вызывал Завьялова инструктор парткома производственного управления: кончались в колхозе полномочия партийного секретаря Егора Кудинова, и инструктор вел предварительную беседу с ним. Жили в голове светлые надежды. Бросить школу, надоевшую предельно, стать вожаком в колхозе, повести за собой народ, бороться за высокие урожаи, настриги шерсти, яйценоскость кур! Сможет ли он? Конечно, сможет. Не боги горшки обжигают. Он знает Рябиновку, знает, к кому какой ключ подобрать. От него не ускользнешь. Само название «секретарь парторганизации» вызывало у Завьялова горделивый трепет и казалось огромным. Никому ни слова не говорил Завьялов о предполагавшемся взлете. Только ложась спать, осмеливался полностью представить себя на новом месте и замирал от сладкого предвкушения, ожидая новой должности, как свидания с любовницей.
И вдруг — восстановление районов! И этот Пашка Крутояров, колючий змей, встал на пути со своей огромной и дикой силой. Солнышко только что начало всходить по-доброму над головой Завьялова, и надо было держаться. «Выжить за любые коврижки», — повторял Завьялов свою пословицу, мрачно наблюдая за жизнью колхоза. Он пошел даже на унижение, прибежав к Крутояровым приглашать Павла в гости. И обжегся.
* * *
Светлана Крутоярова легко угадывала настроения Павла, предупреждала размолвки. В семье все было просто. Многие подруги Светланы не то в шутку, не то всерьез поговаривали: «Попала ты под пяту своему Крутоярову. С первых дней в руки не взяла, а теперь уж этого духа, выпущенного из сосуда, обратно туда не загонишь». Некоторые хвалились: «Я своего крепко держу. Иначе нельзя. Ночная кукушка обязана всех перекуковать. Что захочу, то и будет делать!» А Светлана смеялась: «Не нравятся мне ваши мужья. Если они жен своих боятся — какие же они работники!» — «Он у тебя и за водой к озеру не сходит!» — «Верно. Сначала пробовала посылать, а он довод нашел в свою пользу: «Не москвич, — говорит, — я, Света. У нас, в Зауралье, женщины сами по воду ходят. Мужчинам не доверяют. Зачем же мы будем нарушать традицию?»
И Стеньке жилось в Зауралье намного интереснее, чем в Копейске. Каждое лето родители бывали в родных краях, у дедушки Увара Васильевича и у бабушки Авдотьи, и Стенька ловил в отногах[3] большого озера гольянов, промышлял по степям сусликов, катался на лодке, а в жаркие дни не вылезал из воды: по семнадцать раз в день купался. Однако с возрастом ему, лобастому огольцу, стало казаться, что жизнь поворачивается «боком». И защиты, несмотря на это, он ни у кого не искал: умел постоять за себя. Так учил отец.
Бабушка Авдотья Еремеевна талдычила мальчонке одно и то же: «Не бегай, кровинушка, туда, не бегай сюда. В огороде лихоманка голая с распущенными косами сидит (это, чтобы в чужие огороды не лазил), около озера водяной гостит (чтобы без спросу не убегал к озеру), на чердаке дедко-соседко зверем вызверивается (чтобы на дом не залез и, не дай бог, не упал оттуда). Дед Увар Васильевич из баек будто сети вязал. «Еще до коллективизации было, — говорил он, — ездил я в Рябиновку согру сенокосничать. Уже потемну возвращаюсь домой. Гляжу: ягненок на дороге бегает, ревет, как дитя с грызью… Поймал его, закинул на телегу. Думаю: хозяин не сыщется, так у себя на дворе всякими отходами да обратом откормлю… Еду не оглядываюсь. Смотрю, Буланко у меня внатугу пошел и весь в пене. Что за оказия? Мерин-то у меня паровой был. Неужто, думаю, захворал: в то время по нашим местам сибирка[4] ходила. Оглянулся назад, а ягненочек-то мой с доброго быка стал, и ноги его, как бастрыки, по земле волочатся. Перекрестился я: «Свят! Свят!» И не стало ягненка. Захохотал сыч в Агашкином логу. Вот те и нет чертовщины!»
Стенька дедовы небылицы слушал с недоверием, кривил в улыбке рот:
— Туман у вас в голове, дедо. Религиозный вы.
— Я? Религиозный? Да ты что, внучек, плетешь-то? Я и в старое-то время в церкву ходить ленился.
— Они все такие, нонешние! Безответственные! — ворчала бабушка. — Беда!
Слово «безответственные» бабушка не раз слышала на собраниях, но применяла не к месту, и Стеньку это смешило.
— Читайте побольше, баба, и вы «безответственной» станете, — советовал он и тут же начинал хвастаться: — Я почти всю Детскую энциклопедию одолел, а вы и по букварю слабо ходите, газетки вниз заголовком читаете.
— Вот-вот. Видишь как! Ему слово, а он тебе — три, — бабушка хитрила-мудрила. У нее были шершавые руки, и Стенька щупал запястья, прижимал ладони к щекам. Бабушка целовала Стеньку в вихрастую головенку, примирительно ворковала:
— Где уж мне, старухе, до тебя по грамоте дойти. Вон ты у нас какой ушлый.
…Стенька, хотя и смутно, но помнит Копейск. Мать приехала в круглосуточный садик вместе с высоким, крепким мужчиной.
— Это твой отец! — сказала она с улыбкой.
— Здравствуй! — подошел к незнакомцу Стенька. — А я давно тебя жду… Где ты ездишь?
Оказавшись на руках отца, малыш уткнулся носом в его теплую шею и почувствовал запах солнца. И ему с тех пор стало казаться, что он сильный, потому что к нему приехал отец, а к матери — муж.
Отец никогда не целовал Стеньку, как бабушка и мать, не гладил по головке. Но зато любил говорить, как со взрослым, по-мужски. И Стенька это очень ценил.
Летом каждое утро отец вскакивал с постели раным-рано, будил Стеньку, и они шли во двор к гирям. Отец легко вскидывал двухпудовки, ловил их на лету. Стенька вертелся на самодельном турнике, кряхтел.
— Силушку некуда девать. Ох-хо-хо! — пускал дед синие колечки. — Погодите, вот сено корове косить заставлю.
— Режим, дедо, для здорового человека дороже золота, — повторял отцовы слова Стенька. — Так что ты нам не мешай!
— Я, брат, и не мешаю, — сердился дед. — Раньше, в старину, безо всякого вашего режиму люди помогутнее вас были.
Отец прерывал перепалку деда и внука шутками:
— Не спорить, молодые люди. Пошли, Степа, к озеру принимать водные процедуры.
— Идите… Проце… дуры, — уедал дед.
— Не отдельно это слово говорят, дедо, а вместе, — как мог учил деда Стенька.
— Ладно, буду говорить вместе.
Были такие утра легки, свежи и добры, как все устоявшееся в семье Крутояровых. И насмешливое ворчание деда, и короткие наставления отца, и вся эта размеренная неторопливость в каждом шаге, и спокойствие — все это любил Стенька горячей мальчишеской любовью.
Нравилось малышу присутствовать на семейных «парламентах». Так назывались дни, когда отец, мать привозили отпускные деньги, дед получал зарплату, а бабушка — пенсию. Докладывал во время заседания «парламента» обычно дед. Он собирал в кучу все деньги и, почесав по привычке затылок, говорил:
— Всего выходит у нас тыща шестьсот рублей и шесть гривен.
— Гривенники, дедо, не считайте, — заявлял Стенька. — Крючки надо купить. Бабушка, скажите ему! А?
— Тише, — успокаивала мать.
— Ну так вот. Тебе, Светланушка, к зиме, конечно, пуховую шаль надо, а тебе, Павел Николаевич (так величал дед отца) — свитер лыжный и костюм… Всего, примерно, полтыщи уйдет…
— Правильно, — улыбался отец.
— Нам со старухой пока что ничего не надо, — продолжал дед. — Значит, рублев с тыщу можно и на книжку бросить, а остальное — на еду и на сластики?
— А мне велик? — загорался Стенька.
— Это что за штуковина?
— Велосипед, — хмурился отец. — Не говори так, Степа, не по-русски.
Дед отказывал Стеньке:
— Зачем тебе к зиме велосипед. Это неразумно. Этот вопрос на повестку дня попозже поставим.
В день «парламента» Стенька был полноправным членом семьи: он утверждал расходы. Стенька с детства знал, что деньгами могут сорить только плохие люди, что деньги — это труд, а любой труд надо ценить и уважать.
…Уже во втором классе Стеньке не повезло. Учительница поставила за две последние четверти по арифметике двойки. Он рассердился на учительницу и совсем не стал делать уроки. И вот результат — остался «на осень».
Когда летом приехали отдыхать в Рябиновку, отец сказал:
— По три дня в неделю ты на рыбалку ходить не будешь.
— За что, папа?
— Это тебе должно быть понятно. Ты же отстал по математике.
— Пап, но я же…
— Ты будешь заниматься. Иди.
— Папа…
— А ну, встань с дивана. Как разговариваешь?
Отец заложил руки за голову, и каменные бицепсы надулись, заподрагивали.
— Уйди!
Гудел над озером июнь. Рыба в логу и в отногах клевала жадно, без опаски. Забегал к Стеньке дружок, соседский мальчишка, племянник Афони Соснина, Виталька:
— Пойдем!
— Не могу. Отец запретил. Арифметику, понимаешь, учу.
— А-а-а. Понятно.
— Чего тебе понятно?
— Неродной. Вот и издевается.
— Как это неродной?
— Не отец он тебе.
Не вытерпел Стенька, вышел с Виталькой из дому.
— Значит, отец не мой?
— Точно. Все говорят.
— На-а! — Стенька коротким ударом расквасил Витальке нос. Били Стеньку, бил и он. Стенька давно усвоил, что его могут побить, но он знал, что и сам он тоже может. А потому Стенька никого не боялся.
Наутро, когда еще все спали, к бабушке, стряпавшей на кухне блины, пришел Афоня Соснин.
— Здравствуйте, Еремеевна.
— Здравствуйте.
— К милиционеру, к Гаврилову, хочу идти. На вашего внука жаловаться.
— Что он натворил-то?
— Витальке нашему нос разбил.
— За что?
— Сказал, грит, ему, что Павел Николаевич — неродной, а он в драку.
Стенька видел через приоткрытую дверь, как у бабушки потемнели глаза, задрожал подбородок.
— Сосед ты, Афонасей, хороший сосед, — сказала она. — Но уходи отсюдова. Али чужое горе хочешь руками развести. Свово мало?
И в эту минуту на кухню вышел отец.
— Не ругайтесь, тетя Авдотья. Ты что же, Афоня, ничего не понимаешь, что ли? Эх ты!
Стенька лежал на кровати, и слезы, горячие, как кипяток, плыли по щекам. Отец глухо сказал Афоне:
— Прошу тебя, уходи.
Заполыхала в маленькой Стенькиной голове прехудая думка: «Отец неродной. Что такое неродные отцы? Это значит, что я сирота!» Стенька начал перечить отцу. Не разговаривал с ним. Но Павел, как и всегда, если был дома, ходил на ограду, к гирям и водил с собой Стеньку. Он, как и всегда, купался по утрам в холодной воде и был невозмутим.
— Хочешь историю расскажу, — предложил однажды отец.
— Хочу, — оживился Стенька.
— В сорок пятом был один мой товарищ на море. Служил. Пришли они в Сан-Франциско корабли сдавать, а боцман американский говорит: «Давайте померимся силами!»
— Ну?
— Что «ну»? Почему ты на меня этаким сентябрем смотришь, разве я провинился в чем?
— Извини, пап! Ну, а дальше что?
— Боцман у них был во всех солях выварен… Шесть американцев, шесть наших на состязание выходили. Одни с одной стороны за канат берутся, другие — с другой. Кто перетянет? Американский боцман в дудку дудит и по-русски ругается, наш — тоже. Сначала американцы перетягивали, а потом наши их чуть за борт не унесли.
— Ну, а потом что?
— Потом оказалось, что американский боцман, старик, — родной отец нашему Ивану Федотовичу.
— Как же это могло быть?
— Просто. Еще до революции, в одиннадцатом году, уехали из России в Америку наши люди. В том числе и тот боцман, Федот. Женился там в штате Каролине, сын у него появился, дочь. А жена, белоруска, захворала… Болезнь такая есть — тоска по Родине.
— И что же, пустили их в Россию? — это спросила внимательно слушавшая разговор отца с сыном Светлана.
— Иван Федорович в нашем флоте служил, значит, пустили как-то.
— Папа, а ты мне неродной отец?
— Што-о-о?
— Неродной, говорят.
Павел рассердился сильно, задышал неровно:
— Кто это тебе сказал?
— Люди.
— А я? Ты мне, значит, уже не веришь? А ну, мать, дай сюда документы!
Светлана расстегнула коричневую сумку, протянула Павлу синюю бумажку.
— Вот смотри, — поднес он Стеньке документ. Тут все написано. Смотри: отец — Крутояров Павел Николаевич, мать — Крутоярова Светлана Дмитриевна. Может быть, тебе и это не закон?
Стенька не помнит, как было дальше… Счастливая бабушка, мать, улыбающийся дед… Стенька бился на груди Павла и кричал:
— Папа, прости, папа, прости!
Он твердо уверовал в те дни, что отец — его отец, Павел Николаевич Крутояров. И он рядом с ним… И горести и радости, как тыквенные семечки, лопались в сердце маленького Стеньки быстро. Плохое забывалось, доброе согревало. И он рос в этом хорошем человеческом тепле…
Зрело в душе Павла Крутоярова чувство озабоченности судьбами родного края, его Чистоозерья. Его поколения. Долгими зимними вечерами сиживал Павел у себя дома. Думы разные застревали в мозгу. Слушал, как счастливый Стенька читал стихи «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…» Задавал себе вопрос Павел Крутояров: «Много ли надо человеку?» Перебирал в уме все виденное, осмысливал по крупинкам. Человеку на земле надо много. Один человек может столько пережить и столько сделать, что удивительно людям становится.
…Переезжая в последние годы из района в район, Светлана, несмотря на то, что работала в школе, успевала вить свое гнездо. За что ни бралась — все у нее ладилось. Павел видел, как умно обставляла она квартиру, как охотно готовила праздничные обеды и с каким наслаждением усаживала их со Стенькой к румяному пирогу. Оставаясь дома, Павел любил приходить на кухню, смотрел на нее, худенькую, красивую, с упоением хозяйничающую среди кастрюль и мисок. В груди его теплело. Он целовал ее, тихо приговаривал: «Умничка ты моя».
Она умела сходиться с людьми. Куда бы ни приезжали, быстро находила знакомых и друзей, становилась своим человеком. И это качество очень понимал и ценил Павел.
В Рябиновке, куда они приехали, как выразился Павел «всерьез и надолго», знакомых было немало. Через день после приезда жена Егора Кудинова, Феша, рассказывала Светлане о разных рябиновских новостях с осведомленностью вездесущего репортера.
— Ты ведь помнишь, Светлана Дмитриевна, когда наш район-то ликвидировали, так все начальство поразъезжалось. Только Андрей Ильич Светильников никуда не поехал. Ушел на пенсию. Так вот, он сейчас живет в Рябиновке. Мой Егор говорит: «Руководить должен один человек. Остальным надо работать. Меньше подсказчиков — больше дела». Это он к тому, что Андрей Ильич, хотя и на пенсии, а все в руководящие лезет, и живут они с моим Егором как кошка с собакой.
Светлане нравилась Феша, высокая, моложавая, с доверчивыми глазами. Она слушала ее певучий голос, любопытствовала:
— Павла Николаевича здесь ведь не забыли?
— Как можно забыть? Никак… Да и бывали же вы у нас почти каждое лето. Нет, не забыли.
— Мне нравится у вас, особенно летом.
— И не говорите. Лучше, чем на юге. Мы по воскресеньям в прошлом году на острова ездили. Благодать. Песок белый. Купались. Уху варили. А ягод там, грибов! Хоть литовкой коси!
— А вы сами нигде не работаете?
— Где уж мне, голубушка, работать. Семья, хозяйство. Корову держим, гусей, уток, теленка-полуторника, поросенка. Для чего же в деревне жить, если хозяйство не иметь? Что же тогда за сельские жители будем? Лучше уж в город на пятый этаж подаваться.
— Конечно, — соглашалась Светлана.
Вскоре Светлана познакомилась с завучем местной школы Марией Никитичной Завьяловой.
А через неделю получила письмо, написанное карандашом на промокашке печатными буквами:
«Дорогая Светлана!
Пишут тебе твои друзья и доброжелатели. Мы узнали, что в соседнем районе, в селе Артюхи (это Тюменская область), живет бывшая любовь вашего Павла Николаевича — Людка Долинская. Павел Николаевич думает, что она погибла на войне, а она, оказывается, попала в плен и была фашистской овчаркой. Сейчас она появилась в наших краях неспроста. Она красивая, хотя и говорят, что у нее ниже колена нет ноги. Он любит ее. И до войны, и всю войну они с ней таскались. Письмо подписать своими именами не можем, потому что, сама понимаешь, в каком мы положении: Крутояров всегда может отомстить. А то, что в письме все правильно — проверь сама».
Прочитав бумагу, Светлана обессиленно опустилась на стул и похолодела. «Как он мог? Он же не мог столько времени меня обманывать. Нет. Нет. Мне нельзя быть доверчивой. Павел — председатель крупнейшего колхоза. Это человек, который отвечает за многое. И вполне понятно, он не может понравиться всем. Кто-то лжет. Кто-то хочет помешать ему в работе, облить грязью… А если не лгут?»
Был полдень, но ее сильно клонило ко сну. Расслабли руки, заболела голова. «Усну… усну! А там будь что будет».
Стенька, прибежавший из школы, впервые увидел мать такой растерянной и безразличной ко всему. И впервые он испугался чего-то неотвратимого и неизвестного.
* * *
Кроме Крутоярова, в состав правления вошли: секретарь партийной организации колхоза, он же и председатель сельского Совета Егор Кудинов, безвыездно живший в Рябиновке Андрей Ильич Светильников, бухгалтер колхоза Вячеслав Капитонович Кораблев, пышный, кучерявый, с бордовым румянцем мужчина, несколько рядовых колхозников и Федор Левчук.
Андрей Ильич всю жизнь подымался по служебной лестнице обстоятельно и уверенно. После «Челябстроя» он работал в трех районах председателем плановой комиссии, заместителем председателя райисполкома, секретарем колхозного парткома. Работал рьяно, с душой и с большой пользой для дела. Незадолго до окончания войны его избрали секретарем райкома, и здесь он почувствовал, что подкралась старость, что от нее никуда не уйти. Когда район упразднили, его с почестями проводили на заслуженный отдых, и он уехал в родную Рябиновку с одним настроением — отдыхать, поберечь здоровье, пожить подольше. Но через два месяца, угнетенный и совершенно поседевший, с печально сжатым, черствым ртом, приехал к новому секретарю райкома:
— Давайте какую-нибудь работу.
— Вы и так немало сделали, Андрей Ильич.
— Нет, без работы не могу… Встаю утром, одеваюсь быстро, тороплю жену… А потом вспомню: так ведь я уже на пенсии. И тоскует душа. Если работать не разрешите — умру.
По просьбе райкома и назначили Андрея Ильича заведующим гаражом в рябиновском колхозе имени Фрунзе. Работа и хлопотная, и на людях, того и просил Светильников.
Вячеслав Капитонович Кораблев — тоже коренной рябиновский житель. В свое время он окончил только четыре класса начальной школы. Но всю жизнь его подмывала страсть к образованности. И он упорно учился. Закончил вечернюю среднюю школу, а потом заочно получил два высших образования. Любил подчеркивать свою образованность, носил на пиджаке два ромбика. Пыжился до тех пор, пока кто-то из дотошных рябиновцев не поймал его на пустяке. «Вячеслав Капитонович, — спросили его по телефону. — Будьте добры, разъясните, где озеро Ачялк находится? Мы что-то заблудились!» — «Ачялк? Слушайте, да вы что в своей жизни ничего не изучали, что ли? Это же Центральная Африка!» — «Спасибо!» — сказали в трубке, и на этом разговор закончился. Утром в контору пришла открытка:
«Вячеславу Капитоновичу Кораблеву, человеку с двумя высшими образованиями! Милый! Ачялк — это, если обратно читать, будет к л я ч а. Так-то!»
Шутки шутками, а бухгалтерское дело Кораблев изучил в совершенстве и был для колхоза лицом незаменимым.
Когда в состав правления предложили Федора Левчука, Кораблев и Светильников были категорически против.
— Незаконно, — сказал Крутоярову на предварительном обсуждении Светильников. — Это незаконно.
И Крутояров тут же вышел из себя:
— Незаконно? А для чего же он здесь служит? И кто он? Бывший колхозник, даже и сейчас, наверное, в списках числится. Кол-хоз-ник! То есть член колхоза! Колхоз надо укреплять. Вот пусть и укрепляет. Мы его не обременим. Нам лишь его совет и мысль нужны. Ну, иногда, конечно, и помощь сельпо. Поняли?
— Так бывает. Но это исключение.
— Пусть будет исключение.
Первое заседание правления было тяжелым. Колхозу по плану на следующую посевную предполагалось сократить площадь, под паровым клином с восемнадцати до восьми процентов. Некоторым хозяйствам производственное управление советовало ликвидировать пары полностью, не оставлять ни одного гектара и, таким образом, резко повысить валовой сбор зерна.
— Ваше мнение, товарищи, — спрашивал Крутояров.
— Директивы выполняются, а не обсуждаются, — начал Светильников. — Думаю, что такой вопрос ставить на обсуждение правления — это значит подвергать сомнению решения вышестоящих органов. Это не в вашей компетенции, товарищ председатель!
— Все? — Павел поднял голову. Бровь врезалась в бровь. Светильников не успокоился:
— Нет! Не все! Я считаю ненормальной такую постановку вопроса именно вами, товарищ Крутояров. Поверьте мне. Вы еще, как председатель, молоды. Опрометчивы. И можете запросто погореть. Вот сейчас все.
— Кто еще?
Поднялся Егор Кудинов:
— Удивляюсь выступлению товарища Светильникова. И вот почему: если бездумно ликвидировать пары, через год-два все земли сорняками загадим. А потом как? Директивами будем питаться?
Кудинов посмотрел на Крутоярова и вытер губы большим клетчатым платком.
— Продолжайте.
— А что тут еще продолжать? У меня все.
Бригадиры и Федор Левчук поддержали Егора: пары чохом в один год ликвидировать может человек, который завтра не собирается жить и хлеб выращивать.
Кораблев не выступал. Воздержался. Павел хмурился:
— Вы, Кораблев, что же мнение свое прячете?
— Нет, почему же?
— В таком случае, прошу.
— Видите ли, товарищи члены правления, пары — это все-таки восемнадцать процентов пустующей площади, то есть бесполезно пропадающий хлеб. Если их засеять, значит, мы на восемнадцать процентов получим больше хлеба. Но есть и другая сторона: ликвидация парового клина приведет к засорению земель… Однако выпускаются уже химические средства борьбы с вредными растениями… Значит, я за гербициды, за изумительные чудодейственные порошки и жидкости. Я за новое, товарищи, прогрессивное.
— Надо оставлять пары, или вы их предлагаете засеять?
— Ну как вам сказать, если будут гербициды, то да… Если… в общем, решение высших органов — закон для низших. Так ведь?
— Ясно. — Павел сунул запотевший кулак в карман и встал. — Я тут примерно считал, как пойдет дело после ликвидации паров. Получается так: в первые два года валовой сбор будет выше, во вторые — равный прежнему, а потом — все идет на убыль. Площадь под посевами увеличится, работы с землей прибавится, а зерна не будет. Как тут быть? Вот как: без паров жить нашему хозяйству пока что рановато, следует всеми силами сохранять пары. Всеми силами. Это и будет нашим выводом. Райком партии просил нас иметь по данному вопросу четкое мнение. Оно есть. Его следует отстаивать. И второе. Давайте начнем вот с чего: поручим, ну хотя бы товарищу Левчуку, подготовить вопрос об ответственности каждого за свой участок работы. Будем говорить не вообще, а на конкретных примерах.
Павел вперил взгляд в Кораблева и непонятно чему улыбнулся. Кораблев тоже улыбнулся, но потом лицо его стало покрываться брусничными горошинами.
— Вы что имеете в виду? Вы что весь коллектив разбодать хотите?
— Успокойтесь, Вячеслав Капитонович, коллектив после этого крепче будет. И давайте, товарищи, возьмем за правило говорить друг другу правду. Не взирая на чины и ранги. Я думаю, что главное в нашей сегодняшней жизни как раз и есть это. Надо научиться самим и научить других говорить правду. Иначе двигаться вперед никак нельзя.
— Разрешите мне парочку слов сказать, — попросил Светильников. — Вот вы речь держите об ответственности каждого, о совести, а сами вы себя на эту пробу проверяли?
— Да. Проверял.
— И что же ваша проверка показала, а? — Светильников волновался. — Вы еще комсомольским секретарем были, так партизанством занимались, товарищ Крутояров. Тогда вам прощали, но вы, видимо, это прощение не так поняли и занимаетесь, оказывается, демагогией. Мне известно еще и то, что во время войны вы не раз подводили своих товарищей… Девушку бросили в бою, а ведь она…
— Замолчите! — Павел шагнул к Светильникову. — Святой. Никакую девушку в бою я никогда не бросал. Вы не лгите. Морду, правда, бил вашему зятю. И не раскаиваюсь.
В кабинете повисла мертвая тишина.
Крутояров вернулся к столу, сказал:
— На сегодня, наверное, хватит, товарищи.
Мизинец на правой руке его бился о настольное стекло.
* * *
Жизнь — и смех, и слезы. Двигались, нервничали, перемещались люди. Во время празднования Нового года только одно событие растревожило Рябиновку. Недалеко от села, в степи, ночью подняли труп замерзшего Увара Васильевича Крутоярова. Лошадь, запряженная в легонькую кошевку, стояла около старика, на ней он и был доставлен в Рябиновскую больницу и заперт до вскрытия в холодной комнате. Однако утром «погибшего» в больнице не оказалось. На препарационном столе лежала пустая чекушка «Московской» и недоеденное яичко.
Когда о случившемся стали расспрашивать самого Увара Васильевича, он матерно ругался и говорил, что ни в каких больницах он вообще никогда не был и быть там не собирается, и катитесь от него все по гладенькой дорожке.
— Что я вам — хиляк какой, что ли?
Павел смеялся и одновременно тревожился:
— Не простыл, дядя Увар?
— И ты туда же несешь! — сердился Увар Васильевич. — Не было со мной ничего худого. Пусть не врут!
Павел очень любил старика, да и вся Рябиновка была к нему, как к родному. Весел и деловит был старый Увар Васильевич. Во время войны, на Свири, Павел несколько дней дивился бесстрашию и терпению его; до войны, еще мальчишкой, — сноровке и трудолюбию. В детстве воображение Павла поражало обилие в деревне всякой скотины. Куда ни пойдешь, обязательно встретишь то корову, то свинью, то собаку. Как вести себя при встрече с ними, особенно один на один, Павел не знал. Ему всегда казалось, что поступает он как трус. Из затруднения обычно выводил Увар Васильевич. Он был легок на ногу и смел. Выпив браги, пел старинные песни. Боялись его по одной причине: не любил ходить по кривой стежке. «Самое главное, — говорил он маленькому Павлику, — это лошадь. Освоишь лошадь, и больше тебе никакая собака не будет страшна».
Дядя и помогал Павлу привыкать к главному деревенскому транспорту — лошади. Однажды, когда ребятишки играли неподалеку от конного двора, он вывел из тырла[5] старого мерина по кличке «Чан Кай-ши». Настоящей клички у мерина не было с тех пор, как его выменяли в соседнем колхозе за трех породистых баранов. Кто-то придумал полезному животному это имя, да так оно и осталось, вошло в колхозные инвентарные книги. Мерин был смирен, простодушен, с желобком на спине.
Павел взобрался на него, напутствуемый дядей Уваром:
— Опусти поводья и ткни его пятками под бока.
Павел выполнил приказ и замер от ужаса. Чан Кай-ши шагнул два шага и остановился. «Ехать, так ехать быстро», — решил мальчуган и еще раз ударил мерина под лопатку. Чан Кай-ши пустился махом. Мальчишку два раза подбросило, а потом он, будто раненый казак, сполз на землю. Увар помог ему еще раз влезть на коня, и Павел свалился на другую сторону. К вечеру Павел ездил на вспотевшем Чан Кай-ши уверенно и лихо. А Увар Васильевич только похваливал: «Хороший копновоз будешь». Никто не смеялся над ними, все понимали: Увар Васильевич делает это не для шутки, а на пользу колхозу.
…Потому-то, несмотря на «недостойное» поведение во время новогоднего праздника, деда с большим вниманием слушали рябиновские руководители на открытом и расширенном заседании сельского актива. В сельсовете стояла душная тишина, и дед пахнул на нее свежим сиверком.
— Оно, конечно, пары в Рябиновке много площади занимают, — говорил дед. — Но только без паров пока что жить нельзя. Я всю жизнь прожил в колхозе. И бригадирил, и председательствовал. Всяко приходилось… Если председатель и партийный секретарь ум не теряют и не пропивают — жить можно, если же они сами ничего не мыслят — земля не родит и на стол ставить нечего. Зачем нам такое рукомесло? Что лучше? Это, товарищи, зависит от того, какой процент паров оставите, да как за ними ухаживать будете.
Активисты о высказывании деда судили-рядили недолго. Поддержать никто не поддерживал, ругать — тоже не ругали. Лишь Андрей Ильич ограничился небольшой репликой, назвав дедову речь «незрелой и местнической». В предстоящей посевной было решено все-таки сократить площадь под парами с восемнадцати до двенадцати процентов.
…Поздним вечером шли домой Павел и. Увар Васильевич. Всю дорогу молчали. И уже у калитки Увар Васильевич придержал Павла за рукав:
— Ты, Павел, должен учесть две заковыки: одна — не лишай колхоз паров — сгубишь дело, другая… съезди к Людмиле и выясни отношения.
Павел отшатнулся:
— Что ты говоришь? К какой Людмиле?
— Ну к соседке нашей бывшей, к Долинской.
— Нету ее, дядя Увар! Двадцать лет как нету!
— В Артюхах она живет… Мать хоронить приехала, да так и осталась… Под Новый год я сам ездил туда, чтобы убедиться… У друга у своего фронтового в гостях побыл… Все разузнал… Нехорошо у тебя получается… Вместе росли, вместе воевали.
Павел почувствовал, как глухо застучало в левый сосок, потом надвинулась в сердце тупая боль. Он едва дошел до крылечка, расстегнул пальто, китель, рубашку.
— Вот, черт, — выдавил сквозь зубы.
…Всю ночь не спал Павел. Слушал, как колотится в окошко ветер и воют собаки. Вставал, хватал из пачки папиросы, прикуривал одну от другой.
Утром к нему, пожелтевшему от бессонницы и курения, зашел Егор Кудинов.
— Знаешь что, Николаич, я бы, честное слово, сделал так, как говорил дед.
— Но я же не знал. Я думал, что она погибла.
— Ты меня не понял. Я говорю о парах. С умом надо к этому делу подходить.
— Так, так, — соглашался Павел.
Он не знал, что ответить Егору, как быть. Будто горячим светом обожгло лицо. Он хмурился и не хотел ни о чем думать.
* * *
От разрывов пошатнулся лес, и кто-то пронзительно завизжал в просеке. Людмилка бросилась на выстрелы, чувствуя, как ватой окутывает голову. Она не слышала, как под ногою рванула противопехотная мина — деревянная коробочка. В памяти остались лишь глаза финского автоматчика, белокурого, тощего парнишки. Он стонал и плакал.
— Я сейчас помогу тебе, — силилась сказать Людмилка. Но парнишка, будто злая дворняга, оскалил зубы и повернул автомат. Кто-то рвал на ней одежду, кто-то приносил в бетонированный затхлый подвал, где лежали раненые русские пленные, воду и лил на голову, как из лейки, будто поливал рассаду.
Какой врач сделал ампутацию и когда, Людмилка тоже не помнит. После прекращения войны с Финляндией всех обитателей подвала, иссохших, похожих на гномов человечков, вытаскивали наверх. Поместили в настоящий госпиталь. Вымытая, наголо остриженная, Людмилка первый раз спокойно заснула в кровати, а утром, увидев набрякшую повязку на обрубленной ниже колена ноге, спросила себя: «Зачем жить?» и ответила: «Жить больше незачем. Павел? Не нужна я ему сейчас безногая да еще побывавшая в плену».
Каждое утро Людмилка просила у молодого врача цианистый калий, и он ругал ее, раздражался: «Ты что с ума спятила?»
После репатриации, когда Людмилка проходила специальную проверку, следователь говорил:
— Попыток выкрасть яд никто не подтверждает, вы напрасно вводите меня в заблуждение.
— Я не могла ходить. Если бы у меня были целы ноги… А потом я успокоилась. Все равно какую-нибудь пользу принесу людям.
— Правильно. Но плен — это позор.
— Да. Позор, — подтверждала Долинская.
Беседы со следователем еще более укрепили чувство неискупной вины перед Родиной, бесполезности. О возвращении в Чистоозерье, где прошла юность, думать было нельзя. Да и мать уехала жить к родным в соседнюю область. Писать Павлу Крутоярову? Жив ли он? Если жив, то, наверное, давно уже наплевал на нее. He пишет, не ищет — значит узнал все, отказался. Так оно и должно быть. Не иначе.
У Людмилки не было денег. В поисках работы она с утра до вечера ходила по чужому городу, до крови растирая розовую кожицу на культе. Однажды в отделе «до востребования» ей вручили пакет и письмо матери. Мать выслала из Зауралья бумаги. Вместе с похоронкой на имя Долинской Людмилы Александровны сообщалось, что она посмертно награждена орденом солдатской Славы. Мать писала о чистоозерских новостях и о том, что Павел Крутояров вернулся в Чистоозерье «вместе с женой».
Были дни и ночи, полные отчаяния и слез.
Людмилка показывала всюду высланные матерью документы, и везде ей говорили одно и то же: «Да. Можно устроиться». А потом, на другой день, отказывали: «Понимаете, у нас эту единицу неожиданно сократили».
И ни на минуту не оставляло ее ощущение временности всего происходящего: люди ошибаются.
Старуха — хозяйка маленькой избенки, у которой жила Людмилка, — ни разу не попросила платы за угол. Приглядывалась к Людмилке, смахивала слезы.
— Не убивайся, касатушка, — говорила. — Горько не вечно, да и сладко не бесконечно. Всякая птица свои песни поет, кто чем может хлеб достает. Я своих детушек, всех четверых, на войну-то отправила. Все и погинули. Ты жива. Молода. Учись. Пройдет твое горюшко, и тоска тоже пройдет. У тебя — пенсия, у меня — тоже пенсия. Проживем, даст бог.
Людмилка подала заявление в сельскохозяйственный институт (знала: в это заведение желающих идти мало). Стипендия, конечно, невелика, но все равно стала бы учиться, если бы приняли. Готовилась к вступительным экзаменам ночами: днем работала сторожем на железнодорожном хозяйстве. И вот последний экзамен. В приказе о зачислении своей фамилии не нашла, хотя сдавала не хуже других. Председатель комиссии, чахоточный брюнет, объяснил:
— Сами понимаете почему. Зачем повторять?
«Пойду к ректору, — решила Доли некая. — В обком. Но своего добьюсь».
Ректор сидел за тяжелым столом и разговаривал по телефону. Это был человек, не успевший снять военного кителя. Людмилка заплакала, увидев его, положила на стол материн пакет. Ректор угрюмо взглянул на нее:
— У вас что?
— Я по делу. Экзамены сдала, а в приказе не значусь.
— Почему?
— Я же была в плену, — слетело со сведенных судорогой губ.
— А я недавно из госпиталя… Ты успокойся… Не плачь. Зайди завтра утром в деканат… Там все будет сделано. Понятно?
Заходить в деканат на следующее утро нужды не было: на доске объявлений висел приказ о приеме ее на первый курс.
* * *
Отшумела короткая посевная. Дождь, как по заказу, поливал ночью и вечером, а днем жарило солнышко. Изумрудные квадраты полей изменялись день ото дня. Людмила ездила по совхозу на стареньком «М-72», доставшемся ей от бывшего агронома. Ее уважали в совхозе. Механизаторы боялись. Еще в первый год работы в Артюхах на большом массиве, называемом из-за плохой формы «Гусиными лапами», она столкнулась с ними вплотную.
Кто-то из трактористов заметил на самой середине поля барсучью нору. Приехал на полевой стан к товарищам, рассказал:
— Восемь отнорков сделано. Не один, наверное, живет, с женушкой!
— Давайте выкурим.
— Как?
— Очень просто. Большой шланг наденем на выхлопушку к твоему «Беларусю» и — конец барсукам.
Бросив работу, пахари ушли к середине Гусиных лап. Вскоре два убитых зверя лежали в вагончике. Сгоняли перед обедом на том же «Беларусе» к пастухам-казахам, жившим маленьким аулом километрах в пяти от поля. Променяли добычу на ящик водки.
Доли некая угадала на полевой стан как раз к началу трапезы.
— А-а-а! Товарищ агроном, Людмила Александровна! Пожалуйста с нами! Тут как раз по бутылке на гаврика!
— А пахать кто будет?
— Успеем, Людмила Александровна, куда спешить. Лето длинное.
— Дайте сюда водку.
— Бери. Да тебе не поднять. Тут целый ящик.
Людмила схватила ящик обеими руками, рванула на себя и, превозмогая боль в ноге, поставила его в открытую люльку мотоцикла. Завела мотор.
— Ну, ну! Ты не балуй! — Белобрысый парень, главный заводила всей барсучьей истории, двинулся к мотоциклу.
— Попробуй подойди! — Людмила вытащила острый, как штык, щуп для взятия проб земли. — Насквозь проколю!
Взметнулась в седло, включила скорость и рванула на полном газу прочь.
— Эта баба мужчинского покроя, — плюнул белый. — Давайте, ребята, пахать.
Вернувшись через некоторое время из конторы на поле, она увидела, что все тракторы работают… К концу смены еще раз завернула на полевой стан. Трактористы понуро потянулись к ней. Белый взмолился:
— Людмила Александровна. От имени всех прошу: не говорите никому про водку. Просим.
— Не скажу.
Никто в совхозе так и не узнал, откуда Долинская привезла ящик водки. Только директор, посмеиваясь, поговорил:
— Не свадьбу ли затеяли, Людмила Александровна?
Перед самыми Октябрьскими праздниками она отдала трофей хозяевам.
— Сейчас можно. И зябь вспахали, и чарка есть!
…Вставали зори, багряные и тихие. Озеро, много дней трамбовавшее синий около берегов песок, успокоилось. Опустились на дно караси. Заснули с открытыми глазами на волглых корневищах у воды стрекозы. Затянуло хмелем тычки на огородах и в огуречниках; скворчиные стаи носились над поскотиной, следуя за коровьими гуртами и овечьими отарами.
Ранними утрами, собираясь на работу, Людмила подолгу рассматривала себя в зеркале. «Девочка выросла, — говорила себе, — девочка стает уже старой». Брала теплыми руками щеки, раскачивалась, падала изможденно на кровать и закрывала глаза: «Он ведь здесь недалеко, Павел Крутояров. Поехать, отбить его у жены?» Хохотала и плакала вместе.
Было сейчас у Людмилы все: и образование, и партийный стаж, и любимая работа. Давно отболела душа за плен. Уважали люди. И там, в Поволжье, где начинала работу после распределения, и здесь, в Зауралье. Даже в состав партийного бюро совхоза избрали. Но острая тоска по потерянному точила Людмилу. Как всякая женщина, она завидовала тем, кто счастливо строил жизнь. Это была не черная зависть. Скорее всего это было осознание собственной безысходности и бессилия. Калека, бобылка, тронутая инеем! Она стояла перед зеркалом и сравнивала себя с августом. Все увядало, и все еще было полно очарования. Только никому не нужно было это очарование.
Нынешним летом, когда радовалась в теплых лучах зелень и пшеница выходила в трубку, пришел к Людмиле заместитель директора совхоза, красивый и сильный армянин Вагран Арутюнян.
— Не могу без тебя.
Она испугалась таких слов и задрожала. Потом отвернулась к окну, к сгущающимся сумеркам, прошептала:
— Уходи. Другой у меня в сердце. Когда он уйдет, тогда будем говорить.
Деревня есть деревня. Донеслось до совхозного парткома: агрономша, активистка семью чужую разбивает. Безобразие!
…В тот день ее слушали на заседании парткома. Вопрос был сформулирован так: «Персональное дело Долинской и Арутюняна». Много обидных слов сказали:
— Как же вы, товарищ Долинская, дожили до такой жизни?
— Вы подумали о том, что приносите несчастье семье?
— И не стыдно вам, Долинская?
У Людмилы срывался голос.
— Ничьей семьи я не разрушала, — как можно сдержаннее отвечала она.
— Не разрушали, но он же приходил к вам?
— Ну и что?
— Как вы не поймете, вы же вносите разлад в семью! Пожалейте хоть детей!
— Послушайте, — внутренне собралась Людмила. — Могу я сказать слово?
— Говорите.
— Тягостно все это и больно… Война… Она отняла у меня мою любовь. Она — главная разлучница… Я все годы ждала, что он вернется. Ждала чего-то настоящего. Все устроится, думала. А жизнь уходила. Ровесницы мои давно уже и не один раз стали матерями. А я все ждала… Сначала солдат из армии, а потом сама не знаю кого! Думала, найдется человек, которого полюблю. Так и не нашелся… Вот вы все, семеро вас тут членов парткома, семеро мужчин, закончите сейчас свое заседание и куда пойдете? По домам. К женам, к детям. А я куда пойду? Вы об этом подумали?
Члены парткома молчали. Людмила стерла платком пот с лица, выпрямилась.
— Никакого отношения к Арутюняну я не имела и не имею. Может быть, он излишне нафантазировал кому-то… Никаких кур, как выражаются некоторые, я ему не строю и строить не собираюсь. Это слово коммуниста. И оплевать вы меня, товарищи, напрасно хотите.
Определенного решения принято не было. Взволнованная, обиженная, Людмила шла домой по темным улочкам совхозного поселка. У калитки ее дома, воткнувшись тупым носом в ворота, стоял незнакомый «газик». На кухне плавал сигаретный дым. За столом, не сняв плаща и кепки, сидел Павел Крутояров.
Она почувствовала, как захватило дыхание и начали подкашиваться ноги. Павел встал.
— Людмилочка.
Повалилась ему на руки. Потом оторвалась от него, как безумная.
— Не верю.
Опустилась на кровать и разрыдалась.
Хлынуло наружу накопившееся за много лет. Сломалась воля. Павел гладил ее волосы, лицо. Молчал. Так продолжалось почти до полуночи.
Потом она заговорила:
— В нашей семье после войны оставался только один мой младший брат Игорь. Ты знаешь. Два года назад он умер, так и не залечив раны. Следом за ним умерла и мама. Ей больше нечего было делать на этом свете. А я, видишь, без ноги, калека, живу. Ты приехал узнать, какая я? Я сильная. Поверишь?
Он целовал ее, прятал лицо в льняных волосах. И опять, как и много лет назад, вспыхивал в сердце огонь. Было нестерпимо больно за ее, Людмилкино, горе и за себя. Кто посмел обломить веточки, наполненные жизнью и способные разрастаться? И кто посмеет это еще раз?
Только перед рассветом Павел уехал в Рябиновку.
Старое начиналось сначала.
Бывая в бригадах, Павел всякий раз старался попасть на границу с соседней областью, а там катил в Артюхи. Долгие ночи были они вдвоем. Иногда встречались на выпасах, в заброшенной пастухами избушке.
Они были муж и жена. И понимали, что долго все это продолжаться не может.
— Я слышала когда-то поэтические строчки: «На несчастье друга может каждый строить счастье сам». Я ненавижу такую поэзию…
— Люблю тебя.
— Об этом должна знать твоя Света. Ты должен сам сказать ей об этом.
— Но как?
— Откуда я знаю? Господи!
Людмила ловила его взгляд, горбилась по-старушечьи, кутаясь в пуховый платок, плакала. Всю жизнь он, Крутояров, оставался для нее самой больной болью. И там, в госпитале, когда перетащили их в чистую палату и принесли русские газеты, ревела она над Указом о награждении Крутоярова орденом Ленина, и там, в институте, когда читала она письмо матери. И многие-многие годы он один, Крутояров, и как жить без него?
…Шило в мешке не утаишь.
Однажды Павел, приехав домой от Долинской, застал в слезах Светлану.
— Что случилось? Заболела?
— Заболела. И очень. На, прочти. Третье уже такое получаю. — Она подала ему розовый квадратик промокашки:
«Светлана Дмитриевна!
Берегите Павла Николаевича. Он связан с Долинской, агрономшей из Артюхов. Он, это уже проверено, встречается с ней. Если не верите, прилагаем фотографии. Это он со своей любовницей в лесу. Видите, как он за ней ухаживает.
Ваши доброжелатели»Павел побелел. Ушел в соседнюю комнату. Не мог сказать Светлане даже несколько слов: «Все это правда». Не хватило сил.
* * *
Тяжелее всех было Стеньке. Он любил их обоих вместе. И в сердце его росла тревога.
Стенька учился в областном городе, в пединституте, и всю летнюю практику и каникулы проводил в Рябиновке. Он считал себя взрослым человеком, гражданином, равным отцу и матери во всех отношениях. Это так и было. Но Павел и Светлана будто не видели первые взрослые Стенькины шаги, жили далекой от его студенческих забот жизнью. Степан оценивал все происходящее в одиночку, и ему до боли, до крика хотелось, чтобы отец и мать не разрушили семью. Он призывал на помощь какой-то не ведомый ему самому случай, чтобы сохранить все, как было.
Степан любил отца, во всем доверял ему, когда уже стал взрослым. И сейчас ему показалось, что отец обворовывал его, скрытно и жестоко. Отец не любил мать, любил другую, чужую женщину и много лет притворялся. Лицедействовал. Он был счастлив, видя в отце истинного борца, коммуниста и человека справедливого, с большой совестливостью, верил матери — самому близкому человеку. И когда увидел обман, услышал усталые слова матери: «Уйдет он от нас», — растерялся.
Как удержать отца, как сказать ему, что заблудился он, что лучшего друга нет ему на свете, чем он, Степан, что более преданной спутницы, чем мать, не будет. А потом обжигала упрятанная далеко мысль: «Кто я ему? Ну кто? И почему он должен жертвовать своей любовью ради меня? Спасибо, что вырастил. Пора и честь знать!»
И Степан успокаивался. Спал, ел, гулял, тренировал рябиновских ребятишек на футбольном поле. Не хотел видеть их обоих, ни отца, ни мать, потому что боялся разоткровенничаться.
Отец пришел к нему в комнату (когда-то она была одна на двоих), как показалось Степану, с виноватым лицом. Но заговорил не боязливо, не смущаясь, а спокойно и твердо:
— Тебе скоро в новую жизнь вступать. Хочу открыть хотя бы один горький штришок нашей родительской доли. Говорят, когда дети маленькие — и горе тоже маленькое, а когда они становятся взрослыми — горе вырастает. Мне легко было с тобой многие годы. Потому что я был взрослым, а ты ребенком. Сейчас, понимаешь, мы оба взрослые, и мне трудно.
— Трудно — это потому, что ты сам себе создаешь трудности, а потом преодолеваешь их и хвалишься, что преодолел!
— Не суди о людях по прочитанным книжкам да слышанным анекдотам.
— Нет. Я буду судить. Именно по прочитанным книгам и со своей колокольни.
— Ну, и каков твой приговор?
— Приговор? — Степан начал заикаться. — Я не могу пока зачитать его тебе… Но он нелестный для тебя, папа! На поверку ты оказался слабым, малодушным человеком, если не сказать более.
— Как ты смеешь!
— Я говорю то, что думаю.
— Если думаешь криво, да думы не тверды — необязательно произносить их вслух. Ясно? — голос отца стал резким. — Сыновья умнее отцов. Это точно. Но так же точно и то, что не все, а некоторые!
Росла на горизонте туча. Хлопнул ветер распахнутой калиткой. Залаял на дворе у Егора Кудинова старый, равнодушный ко всему Джек. Было что-то во всем тревожное и пугало, как недоброе предчувствие.
— Ты напрасно обиделся, папа! Ты должен войти в мое положение… Я теряю веру. Зачем же ты так со мной? Обманул!
— Никогда, ни разу я тебя не обманывал!
— А с матерью зачем так обходишься?
Отец расстроился не на шутку.
— Ни я, ни мать не должны стать предметом твоих исследований. Нельзя положить наши судьбы в твой ученический пенал и начинать сравнивать их и перетасовывать. Не тебе это делать. Ты все равно ничего пока не поймешь. Ты только оскорбишь этим меня и мать. Ты подожди.
Пронзительно загудел около дома отцовский «газик»: шофер Геня Соснин, никогда не унывающий и не стареющий, звал отца. И когда за Крутояровым захлопнулась калитка и стих гул удаляющейся машины, в комнату вошла мать. Степан никогда не видел ее такой раздраженной и грубой.
— Я все слышала, — заговорила она. — И хочу спросить у тебя, умник, как ты смеешь издеваться над отцом? Как ты додумался до этих своих мыслей? А ты знаешь, что он ни жизни, ни крови не жалел ради тебя, сопляк!
— Не отец — отчим!
Светлана с недоумением глянула на сына. Слезы покатились по щекам.
— Значит, раньше был отец, теперь стал отчим?
— Прости, мама. Но ведь он тебе же столько боли приносит. Я не понимаю.
— Не понимаешь? А что делаешь?
Она упала на стол и разрыдалась.
Рушились, трещали Стенькины планы и замыслы.
Рушилась семья Крутояровых. Уходило в безвозвратность, становилось призрачным Стенькино детство.
* * *
Увар Васильевич врал напропалую:
— Если ты, Павел, не был на Песочной релке[6], так ты и охоты сроду не видел и не охотник ты вовсе. Там птица не только тысячью, мильенами живет. Мы с Афоней Сосниным недавно были. Нагляделись.
Егор Кудинов вышиб ладонью пробку поллитровки, налил в стакан половину, протянул деду. Увар Васильевич лукаво сощурился.
— Ты, Егорушко, поменьше наливай. Я до водки не шибко большой охотник, за канпанию разве. — И вылил содержимое под сивые усищи. — Так вот, приехали мы с Афоней на эту Песочную релку и сразу в камыш. Сидим спина к спине, чтобы кругом видно было. Караулим табунки. Стрельнешь по табунку, глядишь — штук пять-шесть выпадет. Один раз я выбил сорок две штуки: на каждую дробину по утке. Вот как!
Егор хохотал над дедовыми байками. Павел, боясь спугнуть рассказчика, слушал серьезно. Это был один из-редких дней, посвященных отдыху. На светлую песчаную косу, к озеру, где Увар Васильевич между делами промышлял рыбу, приехали четверо: Павел, Егор Кудинов, Федор Левчук и Увар Васильевич. Левчук не принимал шуток старого Увара Васильевича, но и не мешал ему. Он копался в объемистом рюкзаке, извлекая из глубин его ложки, соль, разные специи. Потом начал разламывать калачики.
— Ты давай, Увар Васильевич, ближе к делу, — пробасил наконец Левчук.
Дед, вызвавшийся сварить тройную уху, принялся за работу. Он снял штаны, зашел по пояс в озеро, зачерпнул ведерко чистой, незамутненной воды, развел костер. Когда вода вскипела, сварил сначала маленьких ершишек, затем, вынув их на разостланную неподалеку газету, засыпал в оставшийся отвар еще одну партию рыбы покрупнее. Когда сварилась и она, в дело еще раз была пущена шумовка, и в побелевшую рыбную шурпу[7] бросили распластанных по хребтине больших, как поросята-ососки, карасей.
Уха была отменная. Ее не хлебали, а пили большими алюминиевыми кружками, прикусывая калачи.
— От ухи люди добреют, — утверждал Увар Васильевич. — Мой дедушка, покойна головушка, тещу свою завсегда ухой кормил!
В полдень на дальнем увале блеснула зеркальным носом чья-то «Волга».
— Не начальство ли какое жалует, — почесал в косматом затылке дед Увар и подбросил в костер сучьев. Павел затенил ладонью глаза, прищурился, вглядываясь.
— Точно. Из управления машина.
Вскоре «Волга» выскочила на пожелтевший взлобок и подкатила к отдыхающим.
— День добрый. — Верхолазов стряхнул с коленей пыль и поздоровался со всеми за руку.
— Садитесь с нами, Виктор Васильевич, — предложил Павел.
— Нет, извини. Я проездом. В соседней области был. Вот здесь, в Артюхах. Дело у меня к тебе есть, пройдем в машину.
«Волга» качнулась под их грузными телами, присела.
— Нехорошо, Павел Николаевич. Во-первых, почему ты оставил в колхозе пятнадцать процентов чистого пара, а отчитался только за двенадцать. Эти твои махинации нам очень не понравились. Об этом знают даже у соседей, в другой области. Уже огласка. Как же вы план выполнять будете?
— Виктор Витальевич! Неужели вам из районного центра виднее, как колхоз имени Фрунзе станет выполнять план? Вы всерьез считаете, что мы здесь только и делаем, что вредим сельскому хозяйству?
— Не утрируй, Крутояров. Порядок должен быть порядком. Если каждый начнет экспериментировать… Это же хаос!
— Так вот, я вам объясняю: отчитались мы за двенадцать процентов, а потом посмотрели, наметили припахать целины, так что паровой клин у нас почти не убавился… План по хлебу надо будет выполнять не только нынче, но и на будущий год… Значит, пары пригодятся.
— Директивы сверху надо все-таки выполнять неукоснительно, товарищ Крутояров. Это наш партийный закон.
— Партия никогда не сковывала инициативы. Это тоже партийный закон.
Верхолазов тщательно вытер вспотевший лоб.
— Ты, Павел, в бутылку не лезь. Если начистоту говорить, все твои идеи могут повернуться против тебя. Не забывай, Беркута нет!
— Ты что имеешь в виду? По-твоему, Беркут прощал мне, во всем благоволил? Так, что ли?
— Да не кричи ты!
— Как же можно говорить спокойно, когда вы человека начинаете мазутом мазать.
— Никто его не мажет, и ты не ерепенься. Я тебя учу, как следует себя вести. И это только на пользу, а не во вред тебе.
Павел загорелся:
— Слушай, Виктор Витальевич, тебе не стыдно?
— Что за вопрос? Перед кем?
— За то, что билет красный в кармане носишь?
— Да ты что, умнее всех хочешь быть?
— Нет. Ты послушай. Люди-то у нас выросли, а мы с тобой все еще их опекаем, как маленьких. Ты посмотри, кто сейчас во главе хозяйств стоит? Инженеры, агрономы, другие специалисты с высшим образованием. Ведь они, дай ты им инициативу, горы свернут. А ты как? План выполняй и — никаких гвоздей. Лишь бы тебе самому легче жилось. Чтобы наверху не ругали. Разве так можно? Полугодовой план по мясу район выполнил за счет чего? Телят отогнали на мясокомбинаты. По полтора-два центнера весу. Ни мяса от них, ни молока, убыток гольный. А если бы лето на дешевом корме, прямо сказать, на дармовом, их продержать, не сдавать, каждый по центнеру, самое малое, привесу нагулял. Вот тебе и прибыль… Любой ценой план, товарищ Верхолазов, выполнять нельзя. И я это делать не буду. Если что, я в ЦК поеду!
Верхолазов щурился, выпячивая мясистые губы. В приоткрытые стекла машины набились оводы, жужжали, колотились в окно. Вырывались наружу, прочь от бензинного запаха и человеческих рук.
— В ЦК ты не поедешь. Потому что подмочился.
— Чем же?
— Ну, хотя бы с, парами. Это ведь очковтирательство. Да и личные-то дела у тебя как?
— Что ты имеешь в виду?
— Слух ходит в Артюхах, что твой «газик» там часто появляется. Это тоже может до начальства дойти.
Павел притих. «И откуда они берутся, эти «правильные»? Кто учит их такому «такту»? Никто. Сами друг у друга учатся», — думал Павел. Припомнилось последнее собрание передовиков животноводства района. Верхолазов при вручении Почетной грамоты старейшей доярке района Акулине Егоровне называл ее «известной во всем Зауралье», «уважаемой», «дорогой», но, не зная имени-отчества, заключил свою тираду так: «Грамота вручается Сосниной А. Г.» Акулина Егоровна тогда сказала Верхолазову: «Спасибо за честь. Но только когда грамоты вручаете, то хотя бы назовите человека да свеличайте его. И совсем я не «А. Г.». Акулина Егоровна я».
Вот и сейчас. Ни Людмилку не знает, ни ее несчастья, ни со мной ни разу не поговорил и уже бочки катит… Заботится о моем моральном облике… Не нужен ему этот «облик» совсем, надо чем-то припугнуть, сделать нестроптивым, послухмянным. Разве это способ?
— Тебе сейчас не уху варить надо, — прижимал Верхолазов. — А грехи искупать… Сенокос пора полным ходом разворачивать. И поездки эти в Артюховский район прекрати. Добра тебе желаю.
Павел угрюмо молчал.
* * *
Наступала середина августа. Отцвела в логу вода. По утрам росы умывали рябиновые палисадники, затягивали серебром поскотину. Дороги пропахли высохшей травой. Тянулись на юг фургоны с решетками, дымились на дальних покосах костры, и лагушки[8] с холодным квасом привозили из ледников, прикрывали от горячего солнца мокрой травой, прикапывали в холодные ямки под ракитовыми кустами, у болот.
Павел Крутояров ранними утрами приходил в правление, раскрывал настежь все окна и слушал, как колготятся покосники на колхозном дворе, за оврагом. Дробно стучали отбойные молотки, пело, выбрасывая желтый сноп искр, наждачное точило, и мальчишки восторженно визжали на берегу, поили коней, пригнанных из ночного. Перемешалось все: и новенькие сенокосные тракторные косилки, и березовые копновозки с пушистыми зелеными хвостами, и простые косы, и тракторные волокуши.
Перед началом сенокоса Павел и Егор Кудинов ездили в бригадные деревни. Павел наставлял членов правления:
— Послушайте, что говорят люди о заготовке сена. Почему все-таки мы из года в год выдаем коровам пайку? Где тут собака зарыта?
Кудинов толковал Крутоярову:
— Колхоз-то недалеко от райцентра. Тут, что ни семья, то и два полюса. Отец-мать — колхозники, а дочь-сын — на вакансии. То кладовщиком, то счетоводом в районных конторах, то в продавцы затешутся. Для них колхоз — это только для того, чтобы корму своей корове на колхозной земле заготовить. Каждый к зиме забивает свинью, баранов, бычков, гусей. Все есть: хлеб, мясо, деньги. Вот такие семейки от покрова дня до пасхи стряпают пельмени да пьют водку. И никакой великий пост не соблюдают. А колхоз? Это, как щит. Чуть что — сразу гонор: зачем колхозников обижаешь? А колхозник на работу ходит только для отвода глаз. Придет, разок-другой топориком стукнет и до хаты гребется — выход на работу засчитан.
— Ты критикуешь верно, но как же быть?
— Надо по-новому личный скот кормом обеспечивать. Во-первых, с выгодой для тех, кто добросовестно работает, а, во-вторых, чтобы интересы общественного хозяйства соблюдались.
— Ты думай об этом, Егор Иванович, — предложил Павел. — Когда у тебя все созреет, скажи, мы тебя попросим доклад сделать на совещании. Говори смело и прямо. Поддержим.
— Зачем доклад? Давай я резолюцию напишу и пусть ее обсуждают. Быстрее и лучше. Пользы больше.
— Пиши.
Бригадиры, механизаторы, животноводы на собравшемся вскоре производственном совещании слушали Кудинова в полнейшей тишине и с большим вниманием: бесконечная возня с дележкой покосов надоела, надо было искать отдушину, и Егор ее, кажется, нашел.
— Правильно, — поддакивали. — Давно пора. А то многие на чужом коне в рай катаются.
Порешили так: запретить заготовки сена для личного скота, обеспечивать его из фонда колхоза по нормам, которые приходятся на колхозных коровушек. По этому же правилу решено было выдавать солому, силос и все другие корма. Решение опубликовали в колхозной многотиражке, прочитали во всех деревнях, во всех бригадах.
Павел меньше говорил, больше слушал, о чем говорят люди, улавливал в их действиях какую-то особую возбужденность. Не было бессмысленного дерганья, неразберихи. Деловым гомоном жили бригады, росли на фуражных складах скирды.
Павел был доволен.
Недовольными оказались те, кому пришлось оставить легкую жизнь. Летели они, как мухи на липучку, к Василию Васильевичу Оглуздину, бригадиру первой бригады. После того, как Крутояров был избран председателем, Оглуздин, честно говоря, на все махнул рукой.
В середине июня, перед самым сенокосом, он ездил в областной центр на семинар бригадиров. Домна упрашивала:
— Много не пей, Вася! Вот деньги. Утюг электрический купи, туфли снохе, говорят, там какие-то иностранные выбросили. Наших, русских, не покупай… Купи куклу Валюшке какую поинтереснее, Вовке резиновые сапоги, так, чтобы голенища загибать можно было. Сейчас это в моде. Смотри, не трать куда не следует деньги.
— Что ты, Домнушка! Как можно? Ясно, что попусту тратить не буду. Если туфлей не найду, так и домой деньги привезу. На другой раз купим. — Василий Васильевич в самом деле верил, что выполнит наказ жены. Даже рисовал себе картины возвращения из города: как щелкнет замками туго набитого чемодана, как всплеснет руками Домна: «Батюшки! Какие туфельки! Игрушка! А утюжок-то!» «Дедо, дедо! — запрыгает на одной ноге внучка. — Смотри, у куклы сами глаза открываются».
Перед тем как садиться в автобус, шедший от Чистоозерки до ближайшей станции, Василий Васильевич встретил старого друга, бухгалтера «Заготскота», оказавшегося попутчиком. Выпили по рюмке «Столичной» и прихватили на дорогу пару бутылок портвейна.
«Ладно, утюг какой подешевле куплю, а конфет можно и не покупать, — думал Оглуздин. — Не обязательно. Их у нас и в Рябиновке до черта».
Поезд пришлось ждать часа два. Спутник Василия Васильевича был нетерпелив.
— Идем, — подмигивал он. — Ликерчик тут в буфете шикарный!
Оглуздин сдался без сопротивления. Внутренне он был давно готов к тому, чтобы продолжить выпивку. «И зачем ей туфли? Да еще какие-то парижские? Что в русских ходить стыдно, что ли?»
В городе они долго сидели в ресторане.
— Как не зайти в ето заведение, — разглагольствовал приятель. — Побывать в городе и не побывать в ресторации — это же грешно.
К полуночи Оглуздин окончательно захмелел и решил: «Можно внучке и без куклы. Куклу, куклу! На черта она!»
Билет на обратную дорогу Василий Васильевич купил на деньги, занятые у знакомых. Когда вернулся домой, Домна бросилась к чемодану, раскрыла его и с треском захлопнула. Ушла в куть, оттуда погрозила:
— Пойду к Крутоярову. Все расскажу.
— Попробуй.
Он был уверен: никто в Рябиновке и никогда не узнает о его личных делах. Домна только пугает. Она не выдаст. Ученая. Но в душе колотилось раздражение против Крутоярова. Это мужик страшный. Такие могут сломить, истоптать в грязи и уйти дальше, даже не оглянувшись. Он-то знает Павла Крутоярова.
Утром раным-рано Василий Васильевич был уже в своей бригадной «брехаловке» (так в Рябиновке называют бригадную контору, в которой получают наряды на работу и где можно перекинуться последними новостями). Мужики наступали на него:
— Что за новые порядки в заготовке сена, Василь Васильевич? Без живности останемся с этим порядком!
И Оглуздин махнул рукой:
— У вас свои головы на плечах, делайте как сподручнее.
Одно неосторожно брошенное слово, и на другой день в «брехаловку» за нарядами на работу никто не пришел: вся бригада разбрелась по лесам, бросили колхозные сенокосы, косили траву для своих буренок. Оглуздин сидел в «брехаловке» и от души ругался:
— Безобразие! Ослабили тут без меня массово-воспитательную работу!
«Почин» оглуздинских сенокосников подхватила соседняя бригада, в Тополином логу. Егор Кудинов, черный и сердитый, нашел Крутоярова на ферме.
— Что делать? Летят ко всем чертям наши планы!
— Знаю. Не паникуй! Поедем сначала в Тополиный. Потом проведем собрание здесь, у Оглуздина. Разъясним еще раз: мало заготовят сена для колхозных коров — мало получат и для своих. Все незаконно накошенное сено в присутствии депутатов сельского Совета надо оприходовать и увезти на склад.
— Так нельзя. Прокурор вмешается.
— Обойдется. Некоторых лодырей проучить, остальные, которые честно работают, всегда за нас будут!
В маленькой деревеньке Тополиный лог, на полянке, поросшей конотопом, собрался народ.
Крутояров снял кепку, вышел из-за стола, накрытого по случаю собрания выцветшим красным коленкором, сказал:
— Я долгую речь держать не буду. Одно спрошу: зачем машины бросили и ушли для своих хозяйств сено косить? Отвечайте, товарищи!
По рядам прокатился шепот:
— Тут что-то не то, Павел Николаевич.
— Что же не то?
— Мы слышали: в Рябиновке всем косить разрешили, думали, и нам тоже.
— А бригадир? Я же бригадиру несколько раз объяснял, что и как делать.
Повисла над поляной тишина. Робко подняла руку женщина лет сорока, с синими тревожными глазами, заведующая фермой.
— Разрешите?
— Говори.
— Бригадир у нас не просыхает. Четвертый день глотку полощет. Вот. Не бригадир это, а наказание господне. Сверх нормы с опухшей рожей ходит. Побриться ему и то некогда из-за питья.
Она поправила платок, оглядела односельчан:
— Мы не меньше вас за колхозные дела болеем. И если что неправильно сделали, давайте поправим!
Люди зашумели, поддерживая выступавшую:
— Что там говорить!
— Не враги мы себе!
— Давайте, сколько накосили, соберем и сдадим на склад. Только потом чтобы без обману фураж выдавали. Нам же легче.
Павел смотрел на взволнованные лица тополинцев, понимал: беспокойство Кудинова напрасно, тут все в порядке. Просто один пьяница вводит народ в заблуждение, мешает работать.
Когда поехали обратно в Рябиновку, он говорил:
— Нет у нас, Егор Иванович, самого главного — руководителей среднего звена, настоящих спецов. Бригадирами работают все «бывшие». Бывшие председатели маленьких колхозов, люди в основном малограмотные, хотя в свое время немало сделавшие для укрепления колхозного строя… Но сейчас они уже тормозят, печально это или не печально, но так. Потому-то все наши решения и всякие задумки разбиваются вдребезги… Принимается хорошее решение в обкоме, в облисполкоме, одобряют его в райкомах, в сельских парткомах, в правлениях колхозов, а дойдет до непосредственного исполнителя, до такого, как тополинский бригадир, и он все сделает по-своему или вообще ничего не сделает!
— Надо назначить бригадирами знающих людей.
— Опять же для этого надо позаботиться об оплате их труда. Добрый хлебороб не пойдет в бригадиры, потому что не заработает на этой работе ничего, кроме ругачки.
— Давай, Павел, попробуем пересмотреть оплату бригадирам. Поставим этот вопрос на правлении.
— Можно попробовать. И еще надо из выпускников средней школы назначить своих колхозных стипендиатов. Окончат институт и в колхоз приедут… Я уверен, что уж эти не будут такими!
…Они сходились быстро, работали дружно, понимая один другого с полуслова: верткий, похожий на черного жука Егор Кудинов и угрюмоватый Крутояров.
В новом Рябиновском клубе, украшенном пестрыми транспарантами, призывающими выполнять досрочно задания семилетки, страховать жизнь, беречься от ящура, уничтожать бродячих собак и сдавать в потребкооперацию сушеные грибы и ягоды, было людно. Собралась вся первая бригада. Павел прошел на сцену вместе с Егором Кудиновым, скинул пиджак, повесил его на спинку стула и весело поздоровался с собравшимися. Это понравилось колхозникам. Василий Васильевич, открывший собрание, сказал:
— Знаем, ругать нас хотите. Но мы признаем вину, а повинную голову меч не сечет!
— Извиняться таким способом не стоит. Давайте просто сам факт разберем. Неужели вот так, по стихии, могли бросить колхозную работу и уйти своим коровам сено косить… Ведь толчок откуда-то последовал?
Из задних рядов поднялся широкоплечий с медным лицом пасечник Ермолай:
— Вы, товарищ председатель, на нас давление не оказывайте. Начальства много, и каждый по-своему воротит. Всякую чуть ли не контрреволюцию нам начинают приписывать. Работу бросили! Сбежали! Никто никуда не бежал. Просто для своего скота сено заготовили. Это тоже надо. А новые правила заготовки сена нам не подходят. И не надо нам это!
— Кому «вам»? Точнее! — перебил Крутояров.
— Всем.
— У всех мы и спросим, а ты один за всех не говори.
— Он сроду за всех. Он такой! — крикнул кто-то, и зал захохотал.
— У него во дворе целая ферма!
— Жена от жиру днями в озере просиживает. Боится растопиться: жарко ей.
— Вы мою жену не трогайте. Она хворая, — огрызнулся Ермолай. — Справку от фершала имеет.
— А ты почто в колхоз-то сроду сена не заготовлял, а только для своего стада?
— Вы чего мне глотку затыкаете? Инициативу глушите? Никогда наша бригада таким манером сено не заготовляла, и все с кормами жили.
— Только колхозная скотинушка газеты читала! — раздался тот же голос, и на сцену вышла Акулина Егоровна.
— Я, Павел Николаевич, сейчас все обскажу. Ты спрашиваешь: кто толчок дал? Да вот такие, как Ермолай! У него работа постоянная, он пасечник. Отвезет весной ульи в колок, а потом охраняет, то есть, значит, водку пьет да рыбу ловит. А меду-то нет. Сколько уж лет не пробовали… Ему мед и не нужен… Он лошадь личную держит, инвалидностью закрылся, как единоличник живет… Вот оттого ему все новое и не нравится, потому что он к старому неплохо присосался. А Василий Васильевич — дружок его. Тоже не супротив выпить да закусить. Вот он и сказал, что, мол, имеем право инициативу проявлять и никто нам не укажет. Может быть, Василий Васильевич и не подумавши сказал, а Ермолай зацепился и попер. Конечно, инициатива — дело хорошее, только если она против народа, так ее надо тут же глушить! Вот так!
В зале кричали, ругались. Павел едва успокоил разошедшихся не на шутку спорщиков.
— Плохо, товарищи, что шкурники могут повести за собой. Очень плохо. Если в атаке трус повернет обратно, его обычно стреляют. Здесь же получилось, что за трусом побежали все. Горько это. Мы все столько перенесли — подумать страшно! И так вот, по дешевке, раскидываться своими душами не годится.
Ермолай, вспотевший, взлохмаченный, выбежал из зала. Громыхнула дверь. Горохом посыпалась штукатурка.
* * *
Федор Левчук долго свыкался со своим новым положением. Раньше он боялся даже думать о каком-то выдвижении или росте. Его обычно приглашали на заседания, совещания, активы для того, чтобы сказать обидные слова: «На безобразия, творящиеся в торговле, равнодушно смотрит председатель сельпо товарищ Левчук. Позор вам, товарищ Левчук!» И он уезжал после этого на работу никому не нужный, забытый.
А тут все вышло по-иному. На отчетно-выборном собрании, где Федор Левчук был обычным приглашенным и не имел права голоса, встал Крутояров и сказал:
— Предлагаю избрать в состав правления председателя Рябиновского сельпо Федора Левчука. Он в прошлом был членом колхоза. Пусть и сейчас помогает колхозу от души. Как ваше мнение?
Крутоярова поддержали: «Стоящий мужик!», «Знаем!» И проголосовали за Федора единогласно.
Начались в жизни бывшего гвардии лейтенанта необычные дни. Много лет существовала для него небольшая контора, и в конторе сидел он со своим горем и сомнениями. Теперь стены кабинета раздвинулись, «заселились» разными людьми. Они говорили Федору правду и неправду, говорили ласково и враждебно, но для него вырисовывались очертания одной правды, за которую он стоял головой. Заступаясь за эту правду, он становился безжалостным, будто кто-то покушался на его жизнь.
Павел внимательно следил за работой Федора и радовался. Любые указания или просьбы колхозного правления Левчук старался выполнять с живинкой. Тщательно готовил он вопрос «О чести и совести колхозника». На старом, неоднократно покрашенном «Москвиче», прозванном рябиновцами «консервной банкой», Левчук изъездил весь колхоз, побывал во всех восьми бригадах, проверил, как выполняются решения правления, подготовил доклад, в котором нелицеприятно отзывался о работе Василия Васильевича Оглуздина.
— Он большую часть времени проводит на озере! — басил Федор Левчук. — Он, оказывается, и сенокос чуть не завалил, а потом кричал: «Безобразие! Запустили тут без меня работу!»
— Ты, Федор Леонтьевич, молодец! — сказал ему Павел. — Только так широко ставить вопрос пока, видимо, не надо. Рано. А вот наказать Оглуздина за плохую работу следует!
На очередном заседании правления Левчук докладывал результаты проверки деятельности бригад. Внешне неуклюжий, он говорил интересно, дельно, и все с большим вниманием слушали его. Василий Васильевич буравил Левчука взглядом.
— Получается у него, как у того мальчишки, — ораторствовал Левчук. — Сидит на завалинке, водит одним пальцем вокруг другого и поет: «Закручивай, закручивай, закручивай!» Услышала мать: «Цыц, пострел, нельзя!» И хлопец запевает: «Раскручивай, раскручивай, раскручивай!» Товарищ Оглуздин наподобие этого парнишки: шумит много, но только для отвода глаз. В самом же деле он не помогает правлению, а палки в колеса сует!
Левчук рассказал о попойках, устраиваемых Оглуздиным.
— Я думаю, — говорил Левчук, — таких не только на руководящей работе держать, но и из колхоза надо гнать. Потому что такие только обманывают нашу власть и чернят колхоз.
Все члены правления, в том числе и Светильников, высказались одинаково: «Из колхоза исключить, с работы снять».
Последним слово попросил Василий Васильевич:
— Мне оправдываться нечего, я виноватый. Но вы все тоже не очень-то шибко чисты. Мы знаем фактики и, когда надо будет, приведем их. А пока до свиданьица. Спасибочки за воспитанье! — Василий Васильевич двинулся к выходу.
— Что за факты, товарищ Оглуздин, — крикнул ему вслед Светильников. — Давай их сюда!
Тренькнул красный телефон. Павел снял трубку.
— Слушайте, Крутояров, вам не кажется, что вы очень много, излишне много экспериментируете! — надрывалась мембрана. — Но эксперименты принимаются только допустимые. А вы? Вы обманули нас с освоением паров, сейчас срываете план полугодия по мясу… Для вас что, никакие законы не писаны?
— Нельзя же выполнять план любой ценой!
— Что значит «любой ценой»? По вашим же сведениям, на откормочных площадках стоит около пятисот голов скота.
— Но это же телята. Разве можно их в июле под нож? Скажите об этом любому простому крестьянину — он захохочет и назовет нас дураками!
— Вы, Крутояров, забываете об интересах государства. Вам придется за это ответить!
В трубке начались ровные короткие гудки.
— Все, — сказал Павел. — Заседание будем считать законченным.
Хлопнули стулья. Первым пошел к выходу пышнокудрый Кораблев, за ним Светильников, в широких брюках, в стоптанных сандалиях. В кабинете остались Егор Кудинов да Федор Левчук, торопливо увязывающий красными тесемками папку.
— Я сейчас, — как бы извиняясь перед Крутояровым, говорил он. Розовая плешь его покрывалась потом.
* * *
Людмила знала, что в этот день он обязательно приедет к ней в Артюхи, будет сидеть в ее комнате за столом, в голубой рубашке с закатанными выше локтей рукавами… Вернувшись с поля, она, по-бабьи подоткнув подол, вытерла в квартире полы, застелила стол чистой скатертью и поставила бутылку шампанского. Большой серый кот умывался на стуле. «Гостей предвещает», — подумала Людмила и начала готовить закуску. «Жду, волнуюсь, а с какой стати? Кто он мне? Любовник?»
Павел приехал в половине восьмого, усталый, пыльный. Он принес с собой в горницу пряные запахи донника и клевера: весь день пробыл в поле, у стогометателей и копновозов.
Выпили по большому фужеру шампанского. За Свирь, и Питкяранту, и Федора Левчука, и белые карельские ночи. За все. Когда окончательно стемнело, в дверь кто-то настойчиво постучал. Павел вышел на кухню, откинул крючок. Из темного провала шагнула на свет Светлана.
— Не пугайся, — сказала она Павлу. — Я окна хлестать не буду, за волосы драть свою соперницу не собираюсь. Я просто поговорю с вами начистоту. Хватит меня мучить!
— Проходи.
Светлана зашла в горницу, присела на краешек стула, вскинув плиссированную юбку. Наступило неловкое молчание. Он один и две его жены.
— Я понимаю, — глядя в упор на Долинскую, начала Светлана. — Любовь не подвластна ни суду, ни райкому, ни обкому. Я не могу и не хочу после всего этого удерживать Крутоярова. Тем более, что он любит вас, человека уважаемого и много пережившего. Я все это пойму. И пусть все это будет так. Но зачем вы меня обманываете?
— Светлана Дмитриевна! — заикнулась Людмила.
— Ни вам, ни тем более Крутоярову нельзя было и минуты позволять того, что вы позволяете. Чем дольше вы прячетесь, тем большей становится ваша вина! Скажите всем открыто. Это будет честно… Не лгите… Не притворяйтесь, не будьте трусливыми и мелкими… Несчастные любовники… А я вам мешать не буду… Ты же, Павел, понимаешь, что не такая я!
И, уже выходя из горницы, на маленькую дольку унизилась:
— Я сделала для него не меньше, чем вы, товарищ Долинская. И поверила ему… И люблю.
Пробило двенадцать ночи. Мигнули трижды лампочки: совхозная электростанция предупреждала, что через десять минут выключит свет… Вскоре наступила гнетущая темень.
— Собирайся, поедем ко мне, в Рябиновку, — решительно поднялся Павел.
— Нет. Не поеду. Прости меня… Об этом надо как следует подумать.
Вернувшись в Рябиновку утром, Павел прежде всего зашел к Егору. Там было людно: для проверки колхоза приехала комиссия из семи человек во главе с Верхолазовым.
Верхолазов, Светильников и Кораблев сидели в кабинете Кудинова, перелистывая густо исписанную синими чернилами школьную тетрадь. Это была жалоба на Крутоярова. Когда Павел вошел, Верхолазов закрыл ее и положил в большую кожаную папку. Ширкнул замком-молнией.
— Есть к вам много вопросов, товарищ Крутояров, — сказал он.
— Слушаю ваши вопросы.
— Нужны обоснования. Из каких соображений вы не выполнили полугодовой план по мясу, второе — непонятна ваша позиция по поводу паров, третье — как вы с товарищем Кудиновым могли допустить незаконное исключение из колхоза бригадира Оглуздина. И последнее… Придется объясняться по семейным делам. Все это надо изложить в письменном виде. Причем нужна только суть, без ваших теорий. Они никому не нравятся… Вам, товарищи, по этим же вопросам также необходимо изложить письменно свою точку зрения… А сейчас, товарищ Крутояров, пройдемтесь в ваш кабинет.
Когда остались с глазу на глаз, Верхолазов сказал:
— Дорого тебе придется рассчитываться, Павел, за связь с Долинской!
— По кляузе Оглуздина?
— Какая кляуза? Вот посмотри! — Верхолазов выдернул из внутреннего кармана черный пакет с фотографиями, веером раскинул их. — Ты с ней? Вот, вот и вот. А вот избушка, где сходились. Вот твой «газик» около ее дома. Это неопровержимо.
— Ничего ты не понимаешь, Верхолазов, — ощетинился Павел. — Тебе бы мелким детективом быть, а не в управлении работать. Слепой ты и к тому же дурак!
— Товарищ Крутояров! — сазаний рот Верхолазова окаменел.
— Уходи отсюда, слышишь?!
* * *
Комиссия работала десять дней. Сотни разных вопросов, нужных и ненужных, десятки документов подняли, посмотрели, изучили. Почему протоколы заседаний правления вовремя не оформлены? Почему плохо организовано в колхозе общественное питание? Почему не развернуто соревнование? Почему плохо строятся сельские клубы? Почему не привлекается к организации политической работы в селах сельский актив, не работают общественные организации, нет планов работы женсоветов? Почему? И, наконец, как мог попасть в состав правления Федор Левчук и для чего вся эта отсебятина?
— Вы за это ответите, товарищ Крутояров. Вы во всем виноваты. Рыба гниет с головы.
Многое приписали Павлу Крутоярову. Но главный грех — разрыв со Светланой, уехавшей из Рябиновки вместе со Стенькой в ту запомнившуюся ночь.
Главный? Павел этого не чувствовал.
Он курил, кашлял, не спал.
Нет. Не Светлана виновата и не Людмила. Нет.
А лето шло. Лето старилось. Воздух в деревнях густо настоялся укропом, подвялившимся вишеньем, сухими травами. Солодела около ферм забуртованная кукуруза. Бражный запах ее, в зависимости от ветра, то кидался на сельские улочки, то стоял над белым стеклом озера. Все поспевало и все готовилось к увяданию. Но все дышало еще здоровьем и было подобно человеку от юности до пяти-шести десятков лет, когда кажется он себе молодым и бессмертным, не знает о болезнях, источает радость.
В конце лета Крутоярова строго наказали по партийной линии и сняли с работы.
Не торной дорогой шел он по жизни и переживал случившееся болезненно. Не мог прогнать обиды и внезапно нахлынувшего одиночества. В памяти всплывали тысячи подробностей из прошлого. Много лет подряд, каждую весну, он угадывал начало движения березовки к зарубам на нежных чулках молодых берез и начинал посевную; замечал, как тянутся вверх медуницы, поворачиваются вслед за солнцем поля подсолнечников и темно-фиолетовые анютины глазки; был там, где надо было сеять либо жать хлеб, старался, чтобы быстрее приходило в крестьянские избы довольство. За это деревенские люди — доярки и агрономы, пастухи и механизаторы — с радостью распахивали перед ним свои калитки, садили за стол.
…Облетела с кленов листва. До резных козырьков над окнами дотянулись и засохли вьюны, а он строчил горячие страницы жалоб, разбирал жизнь по косточкам, разглядывал ее со всех сторон.
Весь район два долгих месяца обсуждал Павла Крутоярова. Судили «досконально», рассказывали подробности, сообщали «по секрету» нелепости на все лады и кому не лень. А он жил дома. Собственно, и не дома. Большой кондовый крестовик, отделанный для председателя, казался ему сейчас сырым склепом, и он ранними утрами уходил к озеру, сидел на травянистом берегу, вспоминал детство. В тридцать четвертом году они с дядей Уваром Васильевичем ездили в лес за сухостоем. Было половодье. Колченогий мышастый меринок остановился у шумного в холодных брызгах брода. «Ты слазь, — сказал дядя Увар. — Серко без нас легче телегу протащит, а мы на лодке переплывем».
Дядя примотнул вожжи к передку телеги, погладил Серкову морду, отошел в сторону и сказал: «Давай благословясь!» Конь сначала крепко сдал назад, задрав на короткие уши хомут и свернув седелко, а потом прянул в воду.
Остальное все произошло быстро. На середине лога Серку залило круп, и он поплыл. Подлетела ноздреватая льдина и, захватив острым белым зубом повод, понесла Серка по течению. Другая, черная, гладкая, с размаху ударила его в темя. Он охнул, заржал и скрылся под водой.
Конец этого несчастного дня и почти всю ночь парнишка ревел на печи. А потом ему приснился сон. Плыли в туманном мареве на белых льдинах мужики и бабы, молодые, красивые, веселые. Они брали друг друга за руки и кружились в хороводе. И лошади, и коровы, и собаки — все стояли в стороне, ошеломленные свободой: не было ни упряжи, ни привязей, ни пут, ни вожжей. Серко стоял среди них и улыбался.
Наутро он рассказал сон дяде. «Все верно, — подтвердил старик. — Дисциплину каждая животная не через кнут да узду понимает».
Дядя получил в том году за халатное отношение к артельному тяглу два года принудиловки. Послали его на лесозаготовки… Но долго стояли в памяти Павла дядины слова…
Нет, Павел в жизни не был погонялой. Он большую часть стремился быть на стремнине, знал: тугая упряжь, как тесная одежда — хотя и нова, да рвется. Он умел слушать и понимать людей.
В начале октября народился новый месяц, показался в темном осеннем небе над озерной отножиной, книзу горбом, по-зимнему. И дождик, плясавший на воде много дней, будто испугавшись этого робкого младенца, затих. Засверкали, пугая стреноженных коней, опоздавшие зарницы. Утрами крепчал морозец, и на подернутые ледяной коркой лужи и плесы, удивляясь, выходили гуси. Они скользили на красных лапах по льду, испуганно кричали.
В конце октября Павла вызвали в город.
Утром, когда он должен был идти на заседание партийной комиссии, женщины, вскапывавшие осенний цветник под окнами обкомовской гостиницы, говорили тоже о нем:
— Пасть в море, да уж не в такое горе!
— Променял кукушку на ястреба.
— Добро бы баба как баба, а то, говорят, с кожаной ногой.
— Жинка-то у него красавица!
— А эта страшилище.
Павел прикрыл форточку. Ему стало не по себе.
В половине девятого в номер позвонил Верхолазов.
— Доброе утро, Павел! — В голосе его было столько радости, что Крутояров испугался.
— Что случилось?
— Радуюсь вместе с тобой.
— Чему?
— Заседание комиссии отложено. В девять часов зайдешь в двадцать пятую комнату, на беседу с инспектором ЦК.
— Хорошо.
Павел брился, торопясь и нервничая: не хватало только еще инспектора ЦК. Все хотят покопаться в его душе, похватать за самое оголенное и больное.
К назначенному времени он стоял у приемной. Секретарша, девушка с лисьим личиком, улыбнулась, показав мелкие белые зубки.
— Заходите, товарищ Беркут вас уже давно ждет.
— Что-о-о-о?
— Ждет Беркут.
— Родион Павлович?
— Да, Родион Павлович.
Павел сел на стул.
— Спасибо вам.
— За что? Что с вами?
— Со мной ничего, все хорошо. За Беркута спасибо.
Глава четвертая
Рухнуло все, да так, будто и не было ничего на свете. Остались Увар Васильевич с Авдотьей Еремеевной одни в своем доме с палисадом, с тихим двором, поросшим конотопом, с тесовым навесом, амбарушкой и притонами. Свалился от времени Стенькин турник, затравели двухпудовки, вдавившись в землю… Какие-то новые ребятишки, не Степановы сверстники, а другие, бегали по утрам к Агашкиному логу, укрывались в ивняке, ловили на малинку свирепых и дурных на поклевку окунишек и ершей… Новые звуки, новые песни плыли над Рябиновкой. Только древнее озеро вздыхало по утрам всей громадой так же, как много лет назад.
Павел жил в собственном, председательском, особняке, хмуром и неуютном. Увар Васильевич не раз намекал племяннику: «Переходил бы к нам, домище-то людям бы отдал», — но Павел отказывался наотрез: «Каждый человек, дядя, обязан в своей жизни построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево». По утрам, чуть свет, Еремеев-на относила Павлу на квартиру кринки с молоком и свежие из серой муки оладьи, испеченные на конопляном масле.
Светлана жила в Копейске у родителей, писала Увару Васильевичу письма, полные безразличия, если речь заходила о Павле, озабоченные, если разговор начинался о Стеньке.
«Характер у него, — писала Светлана, — такой же, как у Павла Крутоярова; это потому, что с детства он впитал его привычки и поведение; и кто знает, может ли это быть полезным Стеньке…»
Тревожился Увар Васильевич. «Какого рожна людям надо? — ругался он. — Любовь? Чувства? Взять бы хорошую палку да отходить как следует. Вот была бы чувствительная любовь!»
В глубине его души застыла тупая боль. За Павла, за Светлану, за всю их неустроенную, изломанную судьбу. Увар Васильевич понимал племянника сердцем и, видя, как жизнь стальными тросиками стягивает его волю и как он сопротивляется всей молодой еще силой, приходил к заключению: «Железо, если с умом закалить, — ничем не возьмешь, а перекалишь — согнется или хрупнет».
Беспокойство жило в заброшенном подворье Увара Васильевича и Авдотьи Еремеевны Крутояровых. Одно веселило: приемный внучек Стенька посылал успокаивающие, крепкие письма. Стенька после окончания института работал на Крайнем Севере заведующим школой-интернатом и обещал Увару Васильевичу вернуться в Рябиновку.
«То, что случилось с отцом и матерью — дело сложное, — говорил он в письмах. — Судьбы человеческие складываются по-разному. Моих родителей я сейчас хорошо понял и потому на них не сержусь. Мы, дедушка, обязаны помогать им. Вы только никому не говорите. Такие люди, как мой отец, для нас, молодых, — человеческий пример и наше счастье. По меньшей мере, нам есть у кого поучиться».
Увар Васильевич дивился письмам внука, умилялся до слез, перечитывал скупые строчки. Останавливался на одном: парень стал «сурьезным мужиком», со своей меркой, со своими оценками. Не киселем растет — камушком.
И клял себя Увар Васильевич беспощадно. Зачем сказал тогда Пашке про Людмилу, зачем поджег его, растревожил? Пусть бы от людей узнал, не от него! Легче было бы. «Старый лыцарь, сводник, кикимора! — обзывал он себя. — Без твоей чертовой бороды все обошлось бы!»
Ругал себя за то, что больно было читать Стенькины письма. После того, как Павла решением бюро обкома восстановили на работе, Увар Васильевич увидел его совершенно новым. Павел работал весело, к людям шел с доброжелательностью, и они радовались этому. И вроде бы радовалась решению бюро вся Рябиновка. Веселее крутились шестеренки на комбайнах и тракторах, проворнее стали люди.
— Ты, Павел, сейчас в хорошую пору вошел, — говорил Увар Васильевич. — Только вот житье-то тебе надо бы как-то улегулировать. Иначе опять на тебя вешать будут что попало.
— Знаю, дядя Увар. Сделаю! — успокаивал Павел.
Степан приехал в район в самый разгар лета. Клокотало теплой водой озеро, день-деньской кишели берега ребятишками, и только в потемках к присмиревшей воде подходили взрослые сенокосники. Молча, с наслаждением смывали с горевшей кожи налипшую за день сенную труху. Попыхивали в темной прохладе цигарки. Приглушенно смеялись на особице бабы, они обмывались, раздеваясь донага.
Степан вернулся из Норильска с деньгами, а потому не спешил на работу, жил в районной гостинице вольготно, ни в чем себе не отказывая. Вечерами уходил к берегу, сидел на обвалившемся яре, вглядываясь в далекие огни Рябиновки, сверкавшие на другой стороне большой воды. Иногда Рябиновка, будто в мираже, приподымалась над озером и покачивалась, как сказочное царство. Степан восторгался теплом, свободой, независимостью, ждал предстоящей встречи со своими. Перед отъездом из Норильска он получил от матери несколько необычайно откровенных писем. Она просила ехать к отцу, быть с ним рядом, независимо от того, захочет он этого или не захочет. Нетвердая надежда на что-то доброе пронизывала письма матери. Мать жила отчимом. И Степан ни в одном своем ответе не разрушил эту последнюю ее радость. Пусть все будет так, как она хочет.
Заведующий районо Сергей Петрович Лебедев встретил Степана сдержанно:
— Ты что же, Степа, приехал и носа не показываешь?
— Разрешил себе немножко отдохнуть, Сергей Петрович.
— Отдыхать некогда. У нас сейчас идет комплектование. Не хватает учителей с образованием, директоров. Но если ты к этому относишься без особого интереса, то удерживать тебя не буду.
Можно было бы на этом и закончить разговор. Мог бы Стенька Крутояров хлопнуть дверью. Но не смог он сделать того: не испугался, не обиделся, а успокоился и почувствовал, что перед ним человек гораздо более сильный, озабоченный большим государственным делом.
— Я, как говорят, ничего плохого не привез, — сказал он Лебедеву. — Куда пошлете — туда и поеду. И работать стану по совести. Но лучше бы послали вы меня…
— В Рябиновку? — улыбнулся Лебедев. — Правильно, в Рябиновку и поедешь. И не рядовым учителем — директором.
Это было началом горького разочарования и обиды, которые пережил Степан.
…Автобус пришел в Рябиновку перед вечером, и в школе, кроме сторожихи тети Поли, никого не было. Она сказала Степану, что директор, хотя «оне» и не в отпуске, но никого «не принимают».
— Скажите, что я из районо, по службе, — начал упрашивать Степан. Но в дальнем конце коридора скрипнула дверь и появился Завьялов, по-военному строгий, недружелюбный.
— Что вам угодно?
— Крутояров, — протянул руку Степан. — Вот приказ. Меня назначили директором этой школы. Хотелось бы познакомиться.
— Директором? Разве теперь в школы по два директора назначают?
— Не шутите, товарищ Завьялов. Это же приказ заведующего районо. Вы же сами просили, как мне известно, об освобождении.
— Да, я просил Сергея Петровича, чтобы меня освободили. Но это было уже давненько. И заявления я не подавал. Так что знакомиться со школой вам пока нет смысла.
Завьялов посчитал аудиенцию законченной и вернулся в свой кабинет. Из приоткрытой двери донесся веселый женский голос:
— Кто там приходил?
— Крутояровский приемыш. В директора приехал!
Захлопнувшаяся дверь оборвала приглушенный смех.
С тем же автобусом вернулся Степан в райцентр, взъерошенный, обиженный до слез.
В эти дни Людмила Долинская «насовсем» переехала к Павлу Крутоярову. Она сказала: «Все равно жить без тебя не могу. Давай будем вместе». Павел обрадовался, засмеялся умиротворенно, будто ничего не произошло: «Вот правильно. Давай чай пить будем!»
* * *
Перед утром пала сильная роса. В окно потянуло сыростью, и Людмила проснулась. В синем свете стояли окутанные туманом рябиновые кусты, наперегонки будили село петухи, едва-едва уловимые шорохи доносились с озера, живущего своей таинственной, далекой от людей жизнью.
Павел лежал с закрытыми глазами, но по озабоченной складке на лбу Людмила поняла, что он не спит. Так было несколько ночей. И Долинская забеспокоилась. Беспричинное проявление отчужденности. Откуда? Думалось, что все трудное было позади: и упреки, и обсуждения, и проработки, и сплетни, и насмешки. Все принято людьми и наполовину забыто. Сложилась новая семья. Не у них одних с Павлом Крутояровым было такое в жизни. Светлана Крутоярова мужественно и с честью оборвала нити, соединявшие ее с Павлом. Не из-за жалости к Людмиле — по логике. И в райкоме партии, когда Людмила вставала на учет и беседовала с секретарем, она услышала будничные слова: «За то, что произошло в вашей жизни, не считайте себя виноватой». Ее рекомендовали главным агрономом Рябиновского колхоза, и правление, все, как один, даже Вячеслав Капитонович Кораблев, ничуть не удивилось этому. «Надо агронома, правильно райком сделал».
Она осмотрела все поля, поговорила с людьми, а потом попросила разрешения побывать у Терентия Мальцева. И эту просьбу ее удовлетворили с готовностью. Павел сам позвонил колхозному ученому, просил найти время для встречи с Людмилой; и Мальцев, старый знакомый Павла, добрейшей души человек, твердил одно: «Милости прошу, пусть приезжает!»
Людмила впервые близко увидела Терентия Семеновича, непосредственного, увлеченного, простого.
— Вы, Людмила Олександровна, — окал Мальцев, — отвлекитесь от своих полей на минуточку, помыслите помасштабнее да вдаль поглядите… Еще в двадцатых годах я, помню, купил себе велосипед, а ездить на нем не мог. Только сяду, крутну педали разок — и на бок. Сосед говорит мне: «Вниз смотришь, Терентий, под ноги, оттого и падаешь… Ты вперед смотри!» Послушался его — научился ездить… Вперед смотреть надо в любом деле… Представьте себе шахматную доску. За доской сидят двое: Природа и Человек. Белыми фигурами всегда ходит Природа, за ней право первого хода. Она определяет и начало весны, и жару, и холод, и дождики… Так вот, чтобы не проиграть, Человек должен правильно отвечать на любой ход Природы, пусть самый каверзный. Тут вот все и дело.
В Рябиновке много лет подряд урожаи были стабильные. Пятнадцать-восемнадцать центнеров с гектара. Выше этой границы перевалить не могли. И, вернувшись от Терентия Мальцева, Людмила сказала Павлу: «Надо думать о более высокой цифре». — «Не торопись. А то в чужом монастыре со своим уставом окажешься!» — «Мальцев берет двадцать пять». — «Нам хватит пока того, что есть».
Нет, это Людмилино замечание не обидело Павла. Несколько резковатый ответ был понятен: действительно, следовало взвесить все детали, учесть все стороны дела, продумать мелочи. Шаблона допускать нельзя. Земля во веки веков полна разных загадок. Поле — не цех: град и дождь, заморозки и суховеи автоматически пока не выключаются никаким прибором. В цехе, под крышей, могут быть «незапланированные» стихии, в поле, под открытым небом, — тем более. Надо думать, надо определить прихоти каждого массива, каждого гектара.
…Людмила растапливала русскую печку ловко. Метнула поперек пода звонкое березовое полешко, подожгла берестяные одирки, уложила их, извивающиеся и коптящие, на деревянную лопату, просунула в цело. Тут же скидала на поперечину почти все беремя дров, принесенных с вечера. Когда дрова разгорелись ярко и дым повалил в печной чулан сплошной стеной, она выключила электричество: любила эти мягкие желтые блики на стене, легкое потрескивание дров и запах только что затопленной печи. Необыкновенный, неповторимый запах. Ощущение домашнего очага, размеренности, прочности жизни.
Павел вышел на кухню, улыбнулся:
— Ты знаешь, что мне вчера Федор Левчук рассказал. Смотрю, говорит, около нашего сельпо «Беларусь» остановился с прицепной самосвальной тележкой. Тракторист водку покупает, в гости поехал. В кабине жена сидит с ребенком, а в тележке — теща… Тележка-то семитонная… В Макушино поехали, за девяносто километров.
— Не может быть.
— А ты знаешь откуда этот тракторист? Из твоего бывшего Артюховского совхоза. Федор его знавал еще до войны, парнем. На призывной комиссии спрашивают: «Родственники за границей имеются?» — «Имеются», — отвечает. — «А где?» — «В Челябинской области».
— Тут, Паша, смешного мало! — Людмила обиделась.
— Да уж действительно мало. Технику государство валом валит не для того, чтобы по гостям на тракторах ездить. И закреплять ее надо, Людмила Александровна, за грамотными механизаторами. И контроль нужен.
Он набросил на плечо махровое полотенце и ушел к озеру. «Притворяется веселым, поучает. — Людмила все больше и больше злилась на Павла. — И колет… Пора бы уж сдерживаться!»
А Павел и в самом деле притворялся и удерживался от откровенности, могущей прорваться не вовремя. Удерживался с того дня, как позвонил ему по телефону Сергей Лебедев и сообщил о Стеньке: «Директором школы назначаем у вас, в Рябиновке. Имей в виду». Не спросил Серега — надо это делать или не надо. Видно, знал, что Стенька — Павлова радость и его же горе и что с Павлом Степан будет сильнее, как будет сильнее и сам Павел.
А потом в маленьком кабинете Егора Кудинова он увидел сына и сразу же сообразил: Стенька не прежний, он взрослый, новый человек. Как скульптор после мучительных схваток с глиной, после работы черной и изнурительной, а иногда и совершенно бесполезной, увидит вдруг (когда еще не видят другие) блеснувшее свое диво-дивное, созданное воображением, замысленное давным-давно, увидит в яви, на вертящемся станке, и обрадуется, и задрожит от счастья, заспешит, притянутый волшебной силой вдохновения, так и Павел Крутояров увидел своего выросшего сына.
Степан протянул ему руку:
— Здравствуй, папа!
— Здравствуй. Что же ты домой-то не зайдешь? Место есть.
И Степан сразу начал заикаться:
— Домой-то… У меня, папа, ты же знаешь, квартира, и вот Егор Иванович советует в ней жить… Она же пустая…
Егор встал из-за стола, сухо покашлял в кулак:
— Вы тут поговорите, а я пока схожу на почту, тут рядом, — зачем-то объяснил Егор.
Павел быстро взял себя в руки.
— Понимаю, сын. Но ты не стесняйся. Людмила Александровна, она добрая.
— Хорошо, папа. Пусть тебя это не тревожит. Я буду заходить.
Степан хотел показать отцу письма матери, поговорить о делах школы, но было уже поздно. Павел тянул ему руку:
— Спешу, Степа, дел всяких полно. Ты давай устраивайся и заходи…
Это разрывало напрочь старые отношения. Должно было сформироваться что-то новое, коренным образом отличающееся от того, что построено раньше. Оба они, приминая в себе радость, отдалялись друг от друга все дальше.
И причиной тому волей-неволей была Людмила Долинская.
* * *
Ненастье подошло к озеру врасплох. Тихие плесы разгневанно оширшевели, и линялый птичий пух, будто пена, прибился к желтой кайме камыша, расчесываемого ветром. Вода потемнела. Но птица — касатые, чернеть, савки — шла низко, прижимаясь к камышиным стенам, не остерегаясь и не подозревая, что в заломленных сверху курнях их ждет погибель.
Степан стрелял без промаха. Утки крутились на воде и замирали. Некоторые, оглушенные выстрелами, не взлетали, продолжая недоуменно озираться, и Степан их не трогал. Он стучал веслом, громко кашлял, стараясь как-то обнаружить себя. И лишь после этого они испуганно взмывали ввысь, но, сделав круг, вновь падали на его же, Степанов, плес.
Так могло продолжаться и дальше. Но Степана будто кто-то подтолкнул. Он выплыл из скрадка, собрал дичь и, закинув ее старым, желтым (под цвет камыша) дождевиком, увидел, как с востока подкрадываются густые фиолетовые тучи.
— Дедушка-а-а! Поехали-и-и! — крикнул он.
— А-а-а-а! — донеслось из камышей: услышал, сейчас будет выбираться к проплыви.
Плыть домой, в Рябиновку, далеко. Километров семь. И все по открытому бушующему озеру. Степан заторопился. Он легко погнал свой долбленый охотничий бат, опалубленный смолеными тесинами. Сыпанул по старым камышиным ломям и по воде дождь, потом полетел снег. Дождь холодный, снег мокрый. Ветер злой, хитрый. Он то налетал, очертя голову, готовый перевернуть с кормы на нос Степанов бат, то замирал, как перед большим прыжком.
Когда белая полость занавесила горизонт и волны с седыми гребнями стали похожи на чудовищ, Степан перестал грести и лишь удерживал бат так, чтобы не перевернуло. Оглянулся на прижатые бурей камыши: «Лучше бы не выплывать с плесов до утра».
Трагедия разыгрывалась неумолимо. Километрах в полутора от берега вал пошел еще крупнее. Степана то и дело окатывало холодной водой, он не успевал вычерпывать ее из бата тяжелой деревянной плицей.
Исчезли огни Рябиновки… Наступила тьма… Степан все понимал и был спокоен. Он видел, как налетела та волна, рваная, вздыбленная. Бат захлестнуло. Степан выпрыгнул в воду, ухватился за корму, рванул ее на себя. Часть воды выплеснулась, бат взыграл на поверхности. Но лишь на секунды. Второй волной его отшвырнуло далеко вперед. Степан кинулся за ним вплавь, поняв, что деревянное суденышко — единственное его спасение. И это была ошибка. Тяжелые стеганые брюки, фуфайка, охотничьи сапоги с прорезиненными ушами, патронташ на поясе. Все это намокло и потянуло ко дну. Степан лихорадочно сбрасывал одежду. Он нырял в черную пучину с открытыми глазами, рвал сапоги, фуфайку… Силы оставляли Степана. Это состояние он ощутил в первый раз. И пришла в сердце какая-то легкая детская беззаботица: родное озеро взрастило, выкачало, выласкало, взяло себе.
Стучался в окошко старый тополь. Налетал ветер и засыпал стекла холодной кашей из дождя и снега. На кухне слышались голоса тети Поли и Увара Васильевича:
— Зорьку отстреляли. Давай, думаю, другую попробуем. А оно и разошлось. Слышу кричит: «Поехали!» Чую по пояснице, не доедем… Да что там поясница, и без нее видно: обложило небо, черным-черно. Кричу: «Нельзя-а-а!» Подплыл к скрадку, а он уж далеко на стекле. Мне покричать бы еще. На лабзах бы переспали… А я за ним. Неохота конфузиться. Подумает, что сперло!
— Ох ты батюшки! И какой же леший понес вас на эти плесы. Добрые охотники рядом с деревней добывают, а вы? — это голос тети Поли. — Готовы до самой Чистоозерки на лодках упехаться. Туда в старо время по воде восемь верст считали с гаком!
Каждое утро тетя Поля приходит к Степану на квартиру, вытирает пол, топит печки. Ворчит:
— Женился бы поскорее, что ли.
— Успею еще.
— Успеть-то, знамо, успеешь, а все ж таки нехорошо: директор школы и неженатый. Авторитет от этого не прибавляется.
— А невеста где? — шутил и не шутил Степан.
Тетя Поля лукаво взглядывала на него, продолжала ворчать:
— Да что их не стало, что ли? Любую учительницу возьми или из колхозных девок кого, а то один как головешка шаешь!
— Ладно, тетя Поля, — улыбался Степан, — женюсь, вот только дела школьные немножко поправим и женюсь.
Тетя Поля, казалось Степану, жила при нем всю жизнь. В школах, где он учился, в институте — была она, тетя Поля. Незаменимая, необходимая, та, которая в любую минуту встанет на защиту, которой можно «за всяко просто» пожаловаться или похвастаться и при которой можно поплакать не стыдясь.
Когда-то давным-давно он, маленький Стенька, ходил в первый класс. Тетя Поля мыла полы: три класса и коридор в первой смене, три класса и коридор — во второй. Проходили годы. Первоклассники становились десятиклассниками. К тете Поле привыкали, ее не замечали. Было так. Потом, уже во время институтской практики, приезжал Степан в школу. «Здравствуйте!» — говорил басом. «Здравствуй, касатик!» — отвечала тетя Поля. И все мыла полы. На каком-то профсоюзном собрании Степан подсчитал, сколько квадратных километров будет, если взять всю взрослую жизнь тети Поли. «Это, наверное, площадь Африки или Азии!» — говорил он. И тете Поле вручили Почетную грамоту и премию. Она ласково улыбалась Степану и плакала: «Спасибо тебе, сынок!»
Улыбки у таких людей особые и слезы чистые. Эта мысль приходила на ум часто, и Степан не знал, для чего он об этом думает и почему это его будоражит.
На кухне разговор шел своим чередом:
— А выбросило его из лодки уже недалеко от нашей пристани. Я не видел. Только, когда он посымал все, мелькнуло белое пятно. А потом и пятна не стало.
— Ох ты господи! Оказия-то какая! Да на кой ляд эта охота сдалась? Жизни решаться?
— Ты шибко-то не шуми, Полина… Охота — она хуже неволи. Я на охоту езжу не из-за уток… Отдых человеку нужен.
— Ну да. Отдых! С твоим-то редикулитом?
— Хорошо, что Виталька Соснин на берегу с катером дежурил. Он его и спас, а то бы…
Увар Васильевич прошел к Степану, предварительно сняв на кухне сапоги и раздевшись. Белые шерстяные носки были натянуты поверх синих диагоналевых галифе с красным кантом, черная толстовка аккуратно застегнута на все пуговицы, борода расчесана на две половины. Степан давно не видел своего деда таким домашним и радостно улыбнулся.
— Ну вот и хорошо! — заговорил Увар Васильевич. — Вот и запосмеивался… Живой, значит, будешь… Попали же мы с тобой, Степа, ну и попали. Недолго и залиться было. И все я виноват. Каюсь. Правду говорят: борода уму не замена.
— Никто не виноват, Увар Васильевич! Не наговаривайте на себя напраслину… Сами-то как себя чувствуете? Как бабушка Авдотья? Не хворает?
— Все у нас хорошо. Все честь по чести. А вот перепугался я за тебя шибко.
— Непогода все еще на дворе?
— Дует. Тут ведь прибаутка живет, поди знаешь: со стороны — горе, с другой — море, с третьей — рябина да мох, а с четвертой — ох! Надо всегда осторожнее!
— Знаю.
Увар Васильевич начал разглядывать тумбочку, таблетки, градусник и бутылочки с лекарствами, стоявшими возле кровати.
— Прости, Степа, но это не дело. Медицина тебе тут всяких пузырьков нанесла, но от них хилость одна бывает. Не годны они никуда по сравнению с бабушкиной настойкой.
Он достал из кармана поллитровку.
— Вот первое в Расее лекарство. На сорока травах настояно. Выпей стаканчик, покушай и засни. Как рукой все сымет!
— Спасибо, дедо! Может, и ты со мной?
— Нет. Не могу. Ты хворай, а я на работу. Каждая собачка в своей шерсти ходит.
Он ушел от Степана повеселевшим, и вскоре на школьном дворе послышался его ровный басок.
…Был Увар Васильевич для Рябиновской школы завхозом особой статьи. На нем лежало все: заготовка дров, закупка инвентаря, ремонт, уход за тремя школьными лошадьми — Гнедком, Карюхой и старой Воронухой. Лошадей держали в школьном хозяйстве для подвозки воды с озера, для поездок в случае бездорожья в райцентр и для других разных нужд. А всего скорее, догадывался Степан, для того, чтобы не обидеть старика, всем сердцем приросшего к своим четвероногим питомцам и приучавшего ребятишек обращению с лошадьми. «Не забывайте, — говорил он ребятишкам, — лошадь и при коммунизме сгодится».
Обихаживал Увар Васильевич лошадей хорошо, держал и в холе, и в строгости. От сытого житья спины у них лоснились. И Степану казалось, что все они с почтительностью смотрят на Увара Васильевича. Даже места у кормушек были постоянными: слева должен стоять Гнедко, потом его мать — Старая Воронуха, а потом уж Карюха.
Рано утром появлялся Увар Васильевич на школьном дворе. И хозяйство школьное было прочным и надежным. Всем и во всем виден был порядок, как у рачительного, разумного хозяина. Одно больное дупло ширилось в сердце Увара Васильевича, сжигало и старило — бесконечное состояние войны с завучем школы Марией Никитичной Завьяловой, Машенькой. Мария Никитична считала, что Увар — один из главных вредителей всего воспитательного процесса, что человечишка он злой и корыстный и что присосался к школьному хозяйству из-за какой-то тайной мзды, которую имеет от Гнедка, Карюхи и Старой Воронухи. Увар же твердо веровал в то, что у таких, как Мария, нет «загнетки» для ребячьих умов, что учительница она никудышная и все неудачи в школе идут только от нее, оттого, что она в руководящих ходит, а дело свое исполняет слабо.
— Вы только послушайте, — сказала Мария Никитична Степану после начала учебного года. — Только послушайте. Придите в интернат, где восьмиклассники из соседних деревень живут, и послушайте. Это невыносимо. Мы темы подбираем патриотические, а у нас, извините, под носом что делается?
Случилось так, Степан оказался в комнате воспитателей, отгороженной от общежития ребят дощатой переборкой. Вместе с молоденькой воспитательницей Валюшей, дочерью Завьялова и Марии Никитичны, они составляли план комсомольской работы. Потом услышали за стенкой голос Увара Васильевича. Как и говорила Мария Никитична, дед зашел к ребятам и после непродолжительных упрашиваний начал байки. Все от какого-то знакомого мужика, друга Ермака Тимофеевича, а потом подошел к Рябиновке.
— Вы думаете, где они, герои русские? За морями? Или только в Москве и Ленинграде живут? — спрашивал он ребят. — Нет. Их везде полно, по всей Расее. Возьмите, к примеру, нашего Афоню Соснина, который сейчас жеребят пасет, а раньше на бензовозе работал. Вы думаете, кто он? Ну кто? Герой… Сам рассказывал, да и сестра его, Акулина, сколько раз напоминала об этом… Что сделал? Напрямки сказать, расправился от души с классовым врагом, с каким-то бывшим русским белоэмигрантом… Зашел, говорит, я во фрицевскую столовку червяка заморить. Сами понимаете, в первые месяцы после войны ни поесть, ни попить вовремя было некогда… Ну, заказал, значит, семь стаканов канпоту, хлеба — и за стол. Смотрит, напротив его этот самый мужчина садится, горбоносый и шея у него цвета кнутовища талового… А рядом девушка. Из русских полонянок была. Заело, конечно, Афоню: беляк с девушкой прогуливается, а он всю войну один как перст… Взял Афоня косточку из канпота да и цыкнул этому соседу прямо в правый глаз: на, мол, попробуй моего бронебойного!
Ребятишки засмеялись.
— Я не к тому говорю, — навалился на них Увар Васильевич, — чтобы вы это небаское дело у себя применяли. Я вас вижу насквозь. Кое-кто таким баловством тоже любит займоваться. Или еще горохом стрелять через камышиную дудочку. Учтите: увижу кого — худо придется. Я на педсовет вызывать не стану… Я по-своему.
— Рассказывайте дальше, Увар Васильевич.
— Остервенел, значит, тот мужчина. Соскочил и давай по-русски поливать. Ты, говорит, такой-сякой, какое имеешь право над чистокровным русским князем издеваться?. Ты думаешь, раз победитель, так на тебя и законов нет? И бросил Афоне под ноги перчатку. Это у них фасон такой: если вызывает на дуэль — перчатку бросает сопернику… А девушка та смеется и к Афоне поближе. Афоня, конечно, всяким интеллигентным правилам не обучен, а лицом и ростом, и кудрями, пожалуй, получше этого дворянина был. Так вот, поднял он перчатку, обтер ею руки и другой косточкой целится князю в рожу… Молодой был еще, озорник… Тот вторую перчатку сдернул и опять же Афоне прямо на грудь. Кричит что есть мочи: «Драться! Самым древнейшим русским оружием! Не потерплю!»
Увар Васильевич затих, и в комнате не было слышно ни звука. Потом кто-то из подростков спросил:
— Что ковыряете, Увар Васильевич?
— Да вот, мундштук что-то засорился.
— Нате проволочку, вот у меня медная.
Потянуло из-за перегородки сладким запахом самосада, перемешанного с донником.
— Афоня спрашивает его: «Какое оно, древнейшее русское оружие? Может, «катюша», а может, «лука», или винтовка образца девяносто третьего дробь тридцатого?» А сам на девушку смотрит и удивляется: лицо у нее худющее, видно, мучили треклятые фашисты у себя в наймитках. «Шпагу или что хотите. Я вас проучу! — кричит дворянин. — Поросячье отродье!» Последние слова подействовали на Афоню хуже кипятка. Заязвило его, и начал он тоже ругаться: «Не знаю, — говорит, — никаких шпаг и драться с тобой могу лишь после того, как с родственниками посоветуюсь!» Во всем роду у Афони, правда, никогда никаких драчунов не было, и он, этот немецкий подданник, напраслину на парня попер. А девушке Афоня прямо сказал: «Пойдешь со мной!»
В общем, попал Афоня из-за этого скандалу в комендатуру. А как оттуда вернулся, письмо домой, к нам в Рябиновку, написал, сестре Акулине: «Выручай, Христа ради. Высылай бандеролью какое ни на есть древнейшее русское оружие».
И помаялся же в то время наш Афоня. Каждый день к воротам, где он на артскладе служил, посыльные от этого князя приходили. Извели мужика начисто. Один раз утром извещение получил — посылка. Побежал на почту, подают бумажную трубу, длиной с метр. Разорвал бумагу, глядит — цеп! Ну да! Та самая штука, древнейшее наше орудие, каким мы и наши деды пшеницу молотили! Посмеялся Афоня: сеструха на выдумки — ухо с глазом, хлебом ее не корми… Назначили они с князем поединок. У заплота, за городским садом. Уморушка. Бил его Афоня не шибко, но чувствительно. Так что сдался царский отросток, еле живой ушел… А сейчас Афоня с Зойкой душа в душу живут. Она в столовой — заведующей, он — пастух… Ребятишек ихних, поди, знаете.
— Знаем. Зотька в седьмом «Б», а Ефремушко — первоклассник.
— Вот-вот, они самые… Так что героев на Руси много. Потому что Русь — это Иваны, а Иванов у нас, как гвоздей на складе.
За перегородкой вновь установилась тишина, потянуло знакомым запахом самосада. Кто-то из ребятишек раздумчиво сказал:
— Так ему и надо, этому белоэмигранту. Пускай над Зотькиной матерью не измывается.
— Спасибо, Увар Васильевич! Завтра придете?
— Приду, как время будет… Ну, вы тут давайте порядок держите. Чтоб чистота была и простыни шибко не грязните…
Когда завхоз ушел, Степан спросил Валюшу:
— Кто его приглашает?
— Никто. Сами ребятишки.
— И часто?
— Почти каждый день. Ему, старому, делать нечего, вот он и ходит.
Валюша покраснела, на глаза навернулись слезы:
— Меня не слушают, шумят, а его… муха пролетит — слышно!
— Не волнуйтесь, Валюша, — улыбнулся Степан. — Это получается потому, что он человек старый… Дети любят стариков… Скажите мне, положа руку на сердце, как вы считаете, содержание его бесед может быть приемлемым?
Девушка недоуменно вскинула ресницы:
— А что? Вполне даже может быть. За исключением некоторых словечек, честное слово!
— Я тоже так считаю… Вот вы его и включите в план. Человек он бывалый. Две войны прошел.
На следующий день в кабинете у Степана состоялся тяжелый разговор с Марией Никитичной. Она вошла гневная. Чуть раскосые ее глаза наливались презрением.
— Товарищ директор! Я всю жизнь отдаю школе. Я хочу воспитать свою дочь настоящей учительницей, а не бурсачкой, и, прошу вас, сделайте выбор: или я, или ваш напарник по охоте и собутыльник, и родня — завхоз. Прошу вас. Школьный процесс нельзя упрощать, товарищ директор, нельзя его вульгаризировать.
И вновь пришла в голову старая-престарая мысль: «У тети Поли и улыбка яснее, и сердится она не по-обидному, и слезы чище…» В самом деле? Какой он, воспитательный процесс? Из чего состоит? Из уроков, классных часов, бесед, из пионерской и комсомольской работы? Или из чего-то еще не уловленного, не схваченного и не обобщенного педагогами? Нет! Педагоги в хорошем смысле этого слова, конечно же, знают, понимают и умеют использовать в работе все рычаги, и даже Уваров Васильевичей. Ведь они — звено в цепи, плоть народа, его нравственный фундамент.
* * *
Улетали в полуденные страны гуси-шипуны, чернеть голубая, хохлатая, чирки. Отзвенело, отшлепало в заказнике, на Рябиновском озере — пеликанье царство, самая северная колония пеликанов. «Птицы-бабицы», так называли пеликанов местные жители, прощались с родиной долго и уныло. Ранним утром Степан услышал их далекие голоса. Над селом птицы прошли бесшумно, будто боясь потревожить сладкий предутренний сон своих добрых соседей и опекунов. Но в том, что на прощание не крикнула ни одна птица, не разбудила никого, была какая-то обидная неблагодарность. Чужие все-таки в этих краях «птицы-бабицы».
Рябиновая согра горела красным гарусом. Женщины и ребятишки тащили по улице полные корзины и пестерюхи гроздьев. «Зачем несете? Поди, горькая?» — «Смолоду, точно, горькая, а поспеет — хороша!» Вырастали за подворьями и около ферм зароды свежего сена из визиля с поляком[9] и клевером. Рябиновка жила размеренной, спокойной жизнью. Вспыхивали по вечерам белые электрические огни, и баян около клуба звал на свадьбы.
Степан Крутояров, поправившись после болезни, беспокойно метался в школе, и с каждым днем все яснее вырисовывалась перед ним истина: он был бесполезным для Рябиновки, как «птицы-бабицы», чужим. Он говорил «наша школа» и вызывал улыбку у председателя сельсовета, секретаря партийной организации Егора Кудинова. Егор, занятый уборочными делами, отмахивался от Степана: «Подожди, некогда», — а Степану казалось, что говорит он холодные и злые слова: «Школа наша, а тебе ее так называть еще рановато». К отцу обращаться Степан не хотел. Жила в его доме та женщина.
Понимал Степан единственную бесспорную правду: для того, чтобы стать нужным, надо что-то делать толком. И отец, и Егор Кудинов, и вся Рябиновка — никто не против, чтобы он это делал. Но как и что — Степан не знал и не умел.
Беды валились на Степанову голову одна за другой: падала по непонятным причинам успеваемость, почти всю первую четверть не велись уроки биологии и химии: не было учителя. И еще. Одна из десятиклассниц, семнадцатилетняя Галка Кудинова, дочь Егора, при медицинском осмотре оказалась беременной. Это было ЧП.
Главный врач Рябиновской участковой больницы Максим Христофорович в «конфиденциальной» беседе со Степаном оценил факт такими словами: «Все это, Степан Павлович, принято квалифицировать сейчас с точки зрения воспитательной работы школы. Мы, медики, можем только регистрировать происходящее, вы учителя, — расхлебывать».
Зареванную Галку Степан отвез из больницы к родителям на школьном Гнедке. Долго беседовал с посеревшей от горя матерью Фешей и черным, как туча, Егором. Галка должна была родить, иного допускать было нельзя: под ударом могло оказаться здоровье и сама жизнь Галки. Объяснял упорно, но с опаской. И похоже это все было на извинение: «Виноваты, проглядели, вы уж простите». И родители, казалось, так это и понимали.
Ночью Галка, избитая, в разорванном платье, прибежала к Степану, упала на крыльцо. Поодаль, затаившись в тени старого тополя, стоял пьяный Егор Кудинов. Степан поднял девушку, увел в свою комнату и почти всю ночь отпаивал валерьянкой. Он терялся, нервничал. И Галка, увидев это, пожалела его:
— Ты не переживай, Степан Павлович. Ты ведь ни в чем не виноват.
— Кто отец-то у него будет?
— Никто. Об этом лучше не спрашивай. Повешусь, но не скажу.
— Хорошо. Ладно, — успокаивал ее Степан. — Я к тому, что сами понимаете, может быть, есть возможность семью наладить или судить того, кто вас обидел!
— Не смейте так говорить! — она переходила на «вы». — Не мешайте мне жить. Какое ваше дело!
Она кричала, плакала. Так прошла вся ночь.
* * *
Ему, Степану, было всего лишь два годика, а он уже ждал отца. Он выходил за калитку, всматривался в знойную даль и по-взрослому хмурился. На горизонте стояло солнце, а ниже его синел лес, из которого выбегала черная дорога. Он смотрел, где она терялась… Оттуда должен был, по утверждению копейского деда-шахтера, вернуться отец. Так говорили и мать и бабушка. Так возвращались отцы у других мальчишек и девчонок.
Он ждал отца. А его уже и на свете не было. Под жгучим солнцем горел шлак на терриконах, ветер играл пылью, по степи мячом скакало перекати-поле. Каждый день он ждал отца. По вечерам садился перед бабушкой, и она догадывалась, для чего он садится.
— Придет, может быть, завтра, — говорила она.
— А может он прийти ночью?
— Ночью все спят. И он тоже будет спать.
— А если утром?
— Утром да.
— Тогда разбуди меня утром, пораньше. Ладно?
Степанов отец не пришел. Но пришел другой солдат, Павел Крутояров. Павел остался живым, и у него хватило с избытком сил, чтобы заменить отца.
— Это была война. А сейчас? Какой солдат придет к молоденькой матери-одиночке?
На другой день, после уроков, он позвонил в районо и рассказал о случившемся.
— Вы приезжайте сюда, — ответили. — Поговорим.
* * *
Чистоозерка — районный центр — в двадцати километрах от Рябиновки. Увар Васильевич, вызвавшийся быть возницей, рассказывал Степану истории попадавшихся по дороге деревень.
— Откуда вы, дедушка, все это знаете?
— От земли. Земля сама свой язык имеет. Вот Рябиновка наша. Отчего так называется? Знамо, от рябиновой согры. А Утичье, Тетерье? Опять же от охотничьих мест. Каракуль — это из татарского, Черное озеро.
Катился, постукивая хорошо смазанными колесами, ходок, екал Гнедко селезенкой, пахло кошмой и сухим, вылежавшимся сеном.
— Во-о-он, смотри влево, — продолжал старик. — Видишь — озеро блестит. Это Межуменское, а деревня Межумное называется… А про здешнее озеро легенда такая живет. Давным-давно озеро кишело рыбой. Мужики ведрами добывали ее: и солили, и сушили, и свежую на базар везли. Карась хороший, в ладонь. Так вот, появился в деревне незнакомый старичок. С виду — глядеть не на кого, сушеный опенок. Не спросил у общества, сети свои начал ставить и рыбы доставать в шесть, а то и в десять раз больше, чем другие. Разобиделись межуменские мужики на пришельца и выгнали его из деревни. Наутро пошли сети сымать, а они пустые.
Годы шли, может, и десятилетия, не было с тех пор в озере ни одного карася, только лягуши. Начали искать того старика, не иначе он наколдовал, сволочуга. Долго искали, аж на озере Чаны встретили, взятку откололи: «Верни, батюшка, рыбу!» И вернул ведь. Поехал на лодке к самой середине, выдернул оттудова кол осиновый. На другое утро почти во всех сетях в каждую ячею по карасю попало. На прощание старичишка сказал: «Запомните, погонишься за топорищем — топор потеряешь!»
Вслушивались в пронзительную осеннюю тишь. Страда уже отошла, но солнышко не прощалось с Зауральем: зеленели отавы, лопушился около дорог в искрах росы подорожник, леса стояли нарядные.
— Ты, Степан, молодой ишо. Не обижайся, если скажу тебе так: топор сам, он маленький, а топорище большое. Вот ты за топорище и хватаешься, а топор-то и не видишь. Однако топор из стали делают, а не из полена вытесывают. Смекай!
— Значит, я главного не вижу, а второстепенными делами занимаюсь?
— Оно, конечно, не совсем так. Но я посоветую тебе. Сходи к Егору Кудинову. Он — партийный секретарь не по наименованию, а по крепости… Хотя и неладно у него вышло с Галькой, но и эту беду он оборет. Егор — это, брат, не гляди, что не образованный. Это — башка! Если отнекиваться будет, ты нажимай. Он таких любит.
— А к отцу?
— Отца пока что не трогай, Степа. Он мужик добрый, в породе это у нас, но пока не трогай. Сдается мне, что он после этих передряг не войдет в себя.
— Доброта — свойство русского человека, Увар Васильевич.
— Свойство. Это верно. Но добрым ко всякому тоже быть нельзя. Нужна твердость. Я с учительством давно касательность имею, и к такой мыслишке пришел: нонешний учитель не только ребятишек должен учить, но и всю взрослую населенность. Раньше учитель на селе большим авторитетом пользовался. Я свою учительницу, Настасью Илларионовну, святой считал, думал, что она даже в сортир не ходит. Но нынче их столько на вы пускали из разных техникумов и институтов, что хоть пруд пруди. А что толку? Слабость одна.
— Так, так, — поддакнул Степан и усмехнулся.
Увар Васильевич обиделся:
— Я тебе все это как внуку говорю. Ты почти у меня на руках и вырос. А подсмеиваешься. Но смех-то у тебя, как Николая Васильевича Гоголя, покойной головушки, сквозь слезы.
— Извини, деда, не нарошно я. А что смех такой — это правда. Я знаю, что педагогическое мастерство — искусство. И понимаю, что это удел влюбленных в педагогику.
— Не в том дело, Степа. Пойми, ничего у тебя, а особо у таких, как наша Мария, не получится, если вы будете по верхам глядеть. Ты знаешь, как иеговисты да и другие наши враги людей к себе заманивают? Не знаешь? Я тебе скажу: одного оторвут, и ладно. Вы действуете на охват, они — на результат. Понял? Вот ты сейчас начал у нас работать. Парень грамотный, а делишки хромают.
— Как же быть?
— Я тонкостей всех не знаю, конечно, и не понимаю. Одно скажу: школа сейчас — это и есть вся политика. Каждого ребенка в отдельности на учете держи и каждого родителя знай! Тогда получится. А если вообще — ничего не будет!
Степан с благодарностью смотрел на старика. Теплая волна нежности обмыла сердце. Сколько же у тебя ума и смекалки? Из какого же дерева ты выструган? Бескорыстен и прост, проворен в работе и кроток в жизни. Терпелив. Рассудителен. В любую минуту готов и обидчику протянуть руку, поделиться куском хлеба. А батька неродной! Не такой ли? Как же это перенять и кому рассказать, чтобы понятно было?
Чистоозерка. Кондовые двухэтажники с насохшими подшивами на карнизах, с белыми каменными кладовыми, с каленными на синем огне запорами и пудовыми замками. Сколько бы ни перековывала новая жизнь чистоозерских обывателей, они, особенно те, которые из старших, не забывают свое правило: «Торговать чем угодно». И сейчас на толкучке по воскресеньям можно купить любую вещь: масленку от швейной машины, старую запчасть от танка «Т-34», центнер мяса, двести штук яиц, немецкую медаль «За храбрость». Все можно купить на чистоозерской толкучке.
Новые светлые коттеджи выросли на кривых улочках села, да только так, будто подарили монашенке вместе с праздничным куличом пачку папирос «Север». Старое русское село с тремя церквями и гостиным рядом приобрело несерьезный вид.
Утром Степан вместе с Уваром Васильевичем сходили в чайную, на дверях которой была приклеена бумажка:
«Районному Дому культуры требуется художник-дикоратор. Оплата здельно».
Сергей Петрович Лебедев встретил Степана с радостью.
— Рассказывай, что на душе болит.
— Если бы знал точно, сразу же бы все и сказал или ничего бы не стал рассказывать.
— Понимаю. Не определился еще, значит. Потому и ясности нет. Что же, это вполне естественно. Но головы вешать не советую.
«Не определился. Ясности нет…» И этот поучать начинает. Мария Никитична, дед Увар, заведующий районо. Все с обидной снисходительностью хотят сказать не очень пристойные слова: «Зеленый. Слушаться не будешь — дело не пойдет, опрокинется телега». Не учитывают, что этот «зеленый» был уже на Севере, работал в труднейших условиях, что отслужил в армии. Думал, проверял, делал выводы. Не фразы нужны были Степану. За фразами он не находил ничего того, что нужно сейчас. Легко ставить из районовского кабинета задачи. «Добиться стопроцентной успеваемости, воспитывать молодежь в духе коммунистического отношения к труду, всесторонне развитой, готовой к любым испытаниям!» А сами-то вы готовы?! Людям, которые произносят эти лозунги, искусство педагога кажется легким. И тем оно легче представляется, чем меньше в нем смыслят.
— Вешать нос, не вешать его… Разве это имеет значение, — заговорил Степан. — Вы поймите. В школе случилась беда — директор в ответе, не привезли дров — тоже, обворовали школьный сад, пусть даже и не школьники, — все равно директор виноват. Суды-пересуды на всю деревню. И недоверие. А поддержать директора некому. Он — козел отпущения. Раз ты директор — ты и отвечай, большому кораблю — большое плавание, наше дело сторона. И старые, и молодые, и педагоги, и родители — все вроде бы прицеливаются в тебя из пистолета.
Лебедев сидел спокойно, не шевелясь. Степан увидел его глаза. Такие и у отца: полные строгости и участия. Левая рука с длинными пальцами сдавливала крышку стола, и пальцы белели.
— Правильно. И старые, и молодые проверяют тебя. На что способен? Как мыслишь? Что умеешь? Но это не страшно. Это скоро пройдет. Есть явления куда более сложные: консервативность стариков и наплевательское отношение к делу молодежи. Старики меряют все на свою мерку, а молодые, это свойственно многим поколениям, думают, что у них еще все впереди и, как правило, опаздывают.
— Вы конкретно.
— Конкретно так: надо собрать родительское собрание. Если растет неуспеваемость — очень важно поговорить с народом. Спокойно и уверенно. Боже упаси позорить кого-то из родителей! Понял? А насчет девушки… Надо найти отца… Делать все это следует деликатно, тактично. Поменьше болтовни… И еще. Поедешь домой — увезешь с собой новую учительницу, биолога. Вчера прибыла из области. Хотел тебе специально звонить.
— Откуда биолог?
— Из Ленинграда. Из герценовского. Приехала по желанию. Но предупреждаю, кажется мне, надломлено что-то в человеке. Когда беседовал с ней, два слова говорила: «да» и «нет».
— Мне надо, чтобы биологию кто-то преподавал.
— Так рассуждать не надо, Степан Павлович. Перед тобой человек… Об остальном поговорим, когда приеду к тебе в школу с инспекторской проверкой… Инспекторская проверка, заметь, хотя и из старой школы взята, но содержит в себе много полезного.
— Фамилия у новенькой учительницы как?
— Сергеева. Екатерина Сергеевна. Она в районной гостинице. Ждет. Мы сейчас к ней пойдем.
Лебедев проводил Степана в гостиницу и познакомил с Екатериной Сергеевной, смуглолицей девушкой с пышными локонами. Все: и платье, и лицо, и улыбка ее — были обычными, и Степана это успокоило. (Могло быть хуже.) Приезжали в качестве преподавательниц девицы в джинсах с апельсиновыми волосами и жирно очерченными карандашом «Живопись» подглазницами. Екатерина Сергеевна оказалась не такой уж замкнутой и неразговорчивой, как нарисовал Сергей Петрович. Она вытащила из маленькой сумочки с плоским дном карту, развернула ее и, как-то странно и нежно выдохнув, сказала:
— Рябиновка? Это же почти двадцать километров. Автобусы не ходят. На чем же мы с вами поедем?
— На лошади.
— Ну да? — Она опять так же странно и нежно выдохнула, будто собираясь с силами. — Это же здорово! А где же лошадь?
— Она пока отдыхает, заправляется овсом, а мы вот пообедаем в чайной и запряжем ее.
— Так пошли скорее обедать!
Она рассказала про хозяйку гостиницы Олимпиадушку знакомые Степану истории. Олимпиадушка, еще не старая, но сильно раздобревшая женщина, жила при гостинице и первою во всем районе знакомилась с приезжими. Потом, рассказывая о жильцах, особенно известных, величала их по-свойски, только ласковыми именами: «Сашок», «Юрочка», «Павлик». В дальнейшем оказывалось обычно, что «Павлик» — это областной хирург, «Юрочка» — заслуженный артист республики, а «Сашок», и того более, — председатель облсовпрофа. Олимпиадушка держала в погребе триста банок рыбных консервов («мало ли какой случай»). Консервы она тщательно проверяла: те, которые начинали «дуться», немедленно съедала и взамен приносила свежие. «Запас карманов не дерет», — приговаривала Олимпиадушка.
— В ней что-то от старины заложено… Эта запасливость и хитрость, — смеялась Сергеева.
— Вы же ленинградка, знаете, может быть, по рассказам бабушек, что стоила в дни блокады банка консервов, — сказал Степан.
— Война и голод на всю жизнь испугали наших стариков, они все еще худое во сне видят…
На крыльце чайной Степана остановил Виталька Соснин — механик рябиновского катера.
— Товарищ директор, Степан Павлович! — прохрипел он. — Можно тебя на минутку?
Виталька был пьян и растрепан, пепельно-серый чуб его жалко торчал из-под боцманки. «Эх, бесстрашный мой спаситель, — вздохнул Степан. — Хорош». И тут же встал в сознании другой Виталька. Виталька, спасший его в черную штормовую ночь. Его голос: «Ничего, очухается. Надо только спиртом его». Степан помнил, как вздрагивал Виталька всем телом, а с одежды стекала на пол ледяная вода. Его уложили тогда вместе со Степаном под одно одеяло.
— Что случилось, Виталий?
— Поговорить надо, Степан.
— Поговорим, когда проспишься.
— Ты прав. Дай мне трешку. Я отдам.
Степан протянул смятую бумажку и пошел за Сергеевой.
— Извиняй, — прохрипел ему вслед Виталька.
Они приехали в Рябиновку ночью. Увар Васильевич подкатил к школе, где была квартира Степана.
— Ну, вот мы и дома! — сказал.
— А мне куда? — растерялась учительница.
— И вам сюда же, — Степан устыдился своего голоса, неестественного, фальшивого. Что подумает отец, Увар Васильевич? Что скажут рябиновские учительницы? Ведь мог бы он сказать деду Увару, чтобы на эту ночь дед устроил ее у себя… Утром придет тетя Поля… А в квартире Сергеева. И Увар Васильевич молчит…
Степан нес чемоданы. Она в кромешной темени бесшумно скользила за ним. Включили свет во всех трех комнатах и на кухне. Все они были полупустые, холодные и мрачные. Незашторенные окна пугали непроницаемой чернотой.
— Вот это и есть директорская квартира. Места, как видите, много… Я могу эту квартиру для вас… Я только некоторые вещички заберу, и все, — конфузливо выдавливал Степан.
Она молчала.
— Спокойной ночи! — двинулся он к выходу.
— Нет. Не уходите. Я не могу тут одна. Я же боюсь.
— Но мне же нельзя. У нас же Рябиновка. Пойдут разговоры.
— Как вам не стыдно. Я уеду обратно, если так.
Степан окончательно растерялся.
* * *
Павлу Крутоярову с каждым годом прибавлялось забот. Трогала и тревожила судьба Витальки Соснина, вернувшегося из колонии. Виталька дважды успел отсидеть в тюрьме. Первый раз взяли за хулиганство, хотя хулиганства особого, считал Виталька, не было. Так, излишняя горячность. В то время Виталька учился в городе в ПТУ, ходил на уроки в белой нейлоновой, с твердым, как береста, воротником, рубахе, купленной матерью по знакомству в Рябиновском сельпо. Он был плечист, коренаст, и светлая «канадка» его, привезенная из деревни, вскоре разрослась до размеров, подобающих городу. Виталька стал большеголов, кудреват и, если во время дежурства на кухне надевал халат, к нему часто обращались, как к девушке: «Молодая, подайте, пожалуйста, два чистых стакана», «Девушка, золотко, не кладите мне лук, ненавижу».
Виталька не сердился. Он вообще никогда и ни на кого не сердился. Летними вечерами он пропадал в городском саду на танцплощадке, научился отменно «твистовать» и «шейковать», причем «бацал» так, что многие соученики с завистью поглядывали на его буйную, ниспадающую до плеч шевелюру.
Все у Витальки шло ладно. Мать писала ему письма, в которых советовалась, как с настоящим взрослым мужчиной, заменившим в доме отца: продать или оставить на племя телушку Маньку, нанять ли плотников, или сам он во время отпуска переберет крышу завозни[10]. Передавала поклоны от родных и знакомых: «Ждут тебя, сынок, в колхозе». Дядя Афанасий в письмах был более категоричен:
«Не самоучкой будешь, а трактористом-машинистом широкого профиля, и поговаривают, что поставят тебя механиком или завгаром, потому как ты и до училища шофером работал и большой мастак на всякое железо. А жалование там, знаешь какое, около двухсот».
Виталька отписывал матери и дяде регулярно. Советовал как и что, сулился к будущей весне получить диплом.
Все кончилось в один тихий майский вечер. И потому, что связался Виталька с Пегим — высоким парнем, стриженным так же, как и Виталька, под «Иисуса Христа», с золотыми фиксами во рту. Пегий работал в автохозяйстве и дружил с девкой, у которой было необыкновенное имя — Милица. Дружил — не дружил — непонятно, потому что ни разу не видел Виталька Пегого вместе с ней, хотя Пегий подмигивал Витальке бесстыдно и лихо, зевал:
— Спать вусмерть охота. Вчера с этой шалавой до петухов на бревнах обжимались. Не отпускает — и все, влопалась капитально.
Когда Виталька случайно услышал разговор Пегого с Милицей, он поразился: Пегий показался ему слабым, слезливым, а главное — оскорбленным.
— Милонька, солнышко, ну хотя один разочек приди, — просил Пегий девушку.
Она была непреклонна:
— Не могу.
— Почему же?
— Не могу, и все.
— Значит, не можешь? С другим спуталась?
— Не твое дело.
— Я те покажу…
— Ты? Катись-ка ты от меня, красавец, в туалет!
Такому парню и такие слова сказать!
Посадили Витальку за то, что они вместе с Пегим придумали для Милицы черную месть: подогнали ассенизационную машину к окну старого Милициного дома, вросшего в землю, и выпустили содержимое в ее комнату.
Второй раз стал «зеком» Виталька Соснин тоже из-за Пегого. Они вместе возвращались из колонии, и Пегий подбил Витальку залезть в особняк подполковника в отставке. Подполковник, бывший артиллерист, был огромного роста и атлетического сложения. Он поймал Витальку в своем доме и ударил только два раза, но с тех пор ни на правой, ни на левой стороне, ни сверху, ни снизу у Витальки нет коренных зубов. На суде подполковник, одетый в парадную форму, говорил: «Стыдно даже глаза на этого паршивца подымать. Отец его, судя по характеристике, на фронте погиб, а он по чужим квартирам шарится… В общем-то, он мне ущерба не нанес. Может быть, простить его можно. Одумается!» Но суд Витальку не простил. Пришлось ему, не побывав дома, возвращаться на старые места.
Все эти промахи, а точнее сказать, последствия промахов, загнули в душе Витальки Соснина крепкие дуги, «испортили главные пружины». В прошлом доверчивый и не хулиганистый, готовый всегда помочь другу, он стал подозрительным и хищным, а когда односельчане напрямки говорили ему об этом, сжимался, словно волчонок, и хрипел: «Жизня так кусается!»
От «звонка до звонка» отбыл свой срок Виталька в колонии, и его неудержимо потянуло в родную Рябиновку. Пегий, будто преданная гончая, выл у него под ухом: «Зачем тебе родная деревушка? Закатим-ка лучше в городок наш, поживем на свободе!» Но Виталька отрезал: «Катись ты от меня, знаешь куда?» На этом они и разошлись. Пегий не грозил и не ругался, он только зверел лицом и повторял два слова: «Попомнишь, падла». Но и тут Виталька находил ответ: «Будешь вязнуть — на мокрое дело пойду!»
Не знал Виталька, что не та беда, которая на двор пришла, а та, которую со двора не прогонишь. Хотел спрятаться от своего прошлого в сарае, где стояла ведерница Манька, стать похожим на всех своих рябиновских шоферов, трактористов, комбайнеров, раствориться как в воде. Но оно, прошлое, будто тавро на Виталькиной коже вытравило.
Председатель Павел Николаевич Крутояров колодезной водой из ушата облил:
— По тюрьмам сейчас ходить легко, — сказал. — Мы всем миром страну укрепляем, братьям младшим помощь оказываем и вот таких, как ты, обрабатываем: кроватки чистые, семичасовой день, библиотека, школа, воспитание. Только что Малого театра не хватает! Ты поди приехал и думаешь, здесь тебе курорт будет? Нет, дружок. Я тебе проверку устрою. Видишь, около кузницы старый «ЗИС» лежит? Вот его отремонтируешь, лето на нем поработаешь, а там посмотрим.
— Отремонтирую. Дайте только запчасти. Я сделаю.
— А на него сейчас и частей-то не выпускают, — хахакнул кто-то из присутствовавших при разговоре механизаторов. И все громко заржали.
— Если не выпускают, так зачем же на моей шкуре весь это хлам варить? — У Витальки краснели уши и заметно подрагивали плечи. — Вы потеху разводите, а я все эти годы только жил — во сне за рябиной бегал.
Павел Крутояров подошел к Витальке, взял толстыми пальцами за пуговицу.
— Значит, так?
— А как еще, — ответил Виталька и, не стесняясь, начал разглядывать могутную фигуру председателя.
— Если так, то приходи вечером, один с тобой поговорю.
О чем говорили Крутояров и Виталька, никому в Рябиновке не известно. Домой Виталька пришел поздно, угрюмый и расстроенный. Пригорюнилась мать у шестка. Звенели на потолке мухи, билось в затянутое марлей окошко комарье. За стеной, в палисаднике, шелестела рябина и где-то далеко за околицей ревел трактор. Утренняя малиновая заря спешила навстречу вечерней. Весело и строго смотрел на Витальку с завешанного вышитым рушником простенка молодой Виталькин отец в десантной форме.
Мать вытащила из печки горшок перепревших щей, накрошила луку, налила в тарелку.
— Садись, Витюша, поешь. Расскажи, как поговорили?
— Завтра старого «Захара», что возле кузни валяется, принимаю.
— Ой-ё-ё-ё! Да ведь он вовсе и без мотору. Что же ты на нем заработаешь?
— Найдут мотор. Номер есть — значит машиной числится. Буду починять. Не справлюсь — к дяде Афоне в помощники пойду, жеребят пасти. Мне все равно.
Акулина Егоровна обессиленно опустила руки, села на лавку.
— Это все Крутояров измигульничает?[11]
— Он.
— Вот ведь про клятой-то… Не могло ему башку-то на фронте оборвать. Добрых людей поуничтожало, а худых оставило. А еще другом был отца-то твоего. Когда ты маленький был, так все мне приказывал: «Береги парнишку!»
— Не греши, мать, на Павла Николаевича. Сам я пролетел, не на кого вину класть.
Виталька недохлебал щи, выпил залпом стакан простокваши с сахаром и ушел в горенку. Оттуда сказал:
— Может, он потому и прет на меня, что другом папкиным был.
Когда мать щелкнула выключателем и угомонилась у себя на кухне под пестрым, шитым из разноцветных треугольников одеялом, Виталька уткнулся в подушку и дал волю слезам.
Всю ночь маячил перед ним Павел Николаевич Крутояров, высокий, плечистый, не зависимый ни от кого. Посмеивался жестковато:
— То лето, Виталий, как нынешнее, споро шло. Травы буйствовали по всей Карелии. И ветер веселый дул. Относил запахи пожаров куда-то в сторону. И вечера были тихие, не хуже наших, рябиновских. До форсирования Свири по-довоенному все было. И нам показалось, что все то, что творилось долгие годы, все это — кошмарный сон. Но это только казалось. А на самом деле мы продолжали прочесывать леса… Да. Так вот, шел конец войны. Мы его угадывали. Но не верили в близкий его приход: почти каждый день выбывали наши десантники. Был — и нету. И частенько у нас настроение такое было, как на поминках. Посмотрят друг на друга: «Кто?» — «Саша Колобов из третьего» или «Иван Наметов из первого». И молчали. Это, парень, походило на крик… Батька твой, комиссар Соснин, человек был каменный. Материться он не умел. Но скажет бывало: «Жалко Сашку. За него отвечать придется Гитлеру самому».
Ты никогда в жизни не видел своего отца. Посмотрел бы ты на него. У меня он и сейчас вот тут сидит, капитан Соснин, гвардии капитан! Глаза синие, волосы, как ковыль, голос хрипловатый. Ты во всем выдался в него. Рост у тебя, правда, не тот. Кирилл был двухметровка. Мы всегда в бригаде подшучивали над ним, называли парашютной вышкой.
Виталька метался на подушках и стонал.
— Ну зачем вы все это? Я же хорошо знаю папку.
— Ни черта ты не знаешь, — говорил председатель. — Ты только думаешь, что знаешь… Вот знал бы ты, какая тягость у меня на душе… Нету твоего батьки, а он как живой сегодня… с упреком… Орденом Ленина был награжден, посмертно… Не знает он об этом.
— Извещение у матери в сундуке лежит.
Побелел кончик носа у председателя:
— Смотри, не вздумай этим документом хвастаться… Испоганишь… Он за тебя жизни не пожалел, а ты по тюрьмам навадился шататься, сволочь!
И отец смотрел с фотографии и одобрительно молчал.
* * *
Были обыкновенные уроки, и учителя старались их хорошо давать, были родительские собрания по классам, педсоветы. Проводились своевременно, как положено.
Но двоек в журналах не убавлялось. Они даже прибывали. И горше всего, на другой день после педагогического совета, посвященного работе с родителями, в школу не пришло более половины первоклассников.
— В чем дело? Почему? — раздраженно спрашивал Степан учительницу.
Она недоуменно пожимала плечами:
— Откуда я знаю!
Объяснила все пришедшая в школу вместе с племянником Ефремушкой Акулина Егоровна.
Ефремушка был одет во все новое: красные ботиночки, брючки со стрелой, белая рубашка и, как у настоящего франта, галстук с серебряными полосочками. Но пиджак на Ефремушке был явно не в порядке: весь он был укатан в пыли, правый рукав оторван, полы окрашены глиной.
— Вот забастовщика привела, Степан Павлович, — заявила Акулина Егоровна, усаживаясь в мягкое зеленое кресло. — Не пойду, говорит, больше в школу никогда и ни за какие деньги.
— Почему?
— Ну отвечай, почему?
Ефремушка швыркал носом и молчал. Уши у него пылали.
— Не скажет сроду, стервец. Така порода холерская.
— Пошто не сказать, скажу, — осмелел Ефремушка. — Полным ответом?
— Полным.
— В школу больше ходить не буду, потому что «Сибирь» лупится.
— Что, что?
— То ли ты не знаешь, Степан Павлович? — прервала Акулина Егоровна. — Рябиновка-то наша из двух народностей состоит. По Агашкиному логу — кордон. С этой стороны — «Сибирь», Кудиновы да Коротковы, а с той — «Россия». Это, значит, мы, Соснины да Скоробогатовы. Других фамилий почти нету. Дедонько наш рассказывал, что российские позже к озеру приехали, поселились, а сибирякам, местному корню, это не по нутру. Искони драки были. До смертоубийства доходило. Кольями друг дружке башки ломали. А сейчас ребятишки пластаются. Ты и сам, поди, помнишь… Школа, она в сибирском конце, вот она, «Сибирь», и не дает проходу нашим. Поглядите на него, как они его нашшивали… Гладила-гладила, стирала, мыла, а он, скажи, как из хлева выскочил…
— Значит, бьют?
— Да ты чо, Степан Павлович, как дед Увар… На покосе было. Гром верескнул, а он, не перекрестившись, спрашивает: «Акулина, знать-то меня убило?» — «Убило, — говорю, — тебя, Увар Васильевич, так почему ты разговариваешь-то?» Так и ты. Бьют. Не бьют, лупят, лупцуют! Понял?
Степан засмеялся.
— А я думал, давно уж это забыто. Все понял. И обещаю: с завтрашнего дня этому положим конец, — сказал, не зная, что он может сделать, чтобы не было вековавшей никчемной вражды между двумя Рябиновками. Акулина тоже усмехнулась, уловив на лице его неловкость.
— Больно спор.
— Я твердо вам обещаю, — повторил Степан. — Вот посмотрите.
Акулина поняла, что Степан говорит это для Ефремушки, обняла племянника, притянула широкой рукой к себе.
— Ну вот, слышал? Айда и всем своим товарищам расскажи, как Степан Павлович выразился.
Ефремушка ушел, и Степан продолжил беседу наедине с Акулиной Егоровной:
— Ребята, племянники ваши, учатся хорошо. Но одна обида есть: классные родительские собрания проводили, ни мать не пришла, ни отец. Что они на школу рассердились, что ли?
Акулина Егоровна приосанилась и посуровела.
— Невмоготу им, Степан Павлович. Сама беременная ходит. Третьего под старость лет заводить решили, а отец — на работе. Там, на выпасках, и спит. Так что ты уж извиняй. Я хотела прийти, да ходок-то из меня получается не шибко прыткий.
Степан закрыл глаза, сжал веки так, что едва не выступили слезы, стараясь вспомнить в точности, как все было дальше. Акулина Егоровна продолжала сидеть в кабинете, и Степан догадался, что она хочет еще о чем-то спросить его.
— Ты мне скажи, Степан Павлович, — не заставила она себя долго ждать. — У вас новая учительница приехала. Молоденькая. Кто она? Откуда?
— Екатерина Сергеевна?
— Так вроде бы.
— Из Ленинграда. Биолог.
— Я к тому тебя об этом пытаю, что за Витальку сердце изболелось. В возрасте он уже. Жениться бы ему надо. А она холостая.
Степан задохнулся:
— Эт-т-о не мое дело, Акулина Егоровна. — Он всегда заикался в минуты большого напряжения. — Э-т-т-о вы сами с ней поговорите.
— Я ничо. Я просто так спросила, — успокоила Акулина Егоровна. — Если хороший человек, почему бы его в Рябиновке не закрепить. Многие из наших учительниц потому и робят здесь, что замуж повыходили… Может, думаю, и эта за Витальку пошла бы: дом у нас хороший, хозяйство — чо надо! И работник непостоянно у вас бы остался. И Виталька остепенился бы. А то ведь чисто истрепался.
Степан с трудом подавил раздражение. Поблагодарил Акулину Егоровну за то, что пришла, проводил до выхода. Какое, в конце концов, его, Степаново, дело. Да и что не выдумает, сидя в кути, постаревшая женщина, пролившая немало слез из-за сына, из-за погибшего мужа, из-за неудавшейся, неспокойной жизни? Но почему она решила посоветоваться с ним, со Степаном? Разве она не увидела в нем совсем еще молодого человека, который может стать наперекор сыну, разве Степан такой, что это не замечается?
Ни дома у него, ни хозяйства, ни денег… Пустой человек. Надо ли с ним… Степан хохотал раскатисто, от души. «Ну и молодец Акулина Егоровна, ну и славная сватьюшка для Сергеевой!»
…По утрам в правлении колхоза было дымно и весело. Приходили кто зачем: которые за делом, а которые просто поболтать. Сидели по часу, по полтора, пока Павел Крутояров не выходил из кабинета и не говорил веско, как безменом по столу стучал: «Ну что разглуздались? Давайте по местам!»
Степан зашел в контору как раз в это самое время. Мужики собрались в коридоре, курили сигареты и несли разную несусветицу. Толчея непротолченная. В центре — Увар Васильевич. Задрав бороду, с совершенно серьезным видом он рассказывает: «Он ей говорит: айда за меня замуж, а она — нет и нет! Он плачет да просит, а она ревет да не соглашается. Необразованный, говорит, ты, а я все ж таки артистка. Какое, говорит, надо образование, когда я самой передовой техникой, «К-700»» овладел; была артистка — станешь трактористка. Трактористы, говорит она, грязные, а я не хочу всю жизнь с грязным животом ходить. Вот ведь понятие какое об вас, мужики, сложилось!»
Мужики гоготали. Поддерживал их и вышедший из кабинета Павел:
— Дядя Увар, сколько с колхоза будешь брать за ежедневные минуты веселья? А? Ну и прокурат же ты! С чем пожаловал в нашу контору?
— С просьбой, Павел Николаевич. — Старик принародно величал племянника. — Кряжи школьные с весны в деляне лежат, надо вывозить, а то ребятишкам зимой выморозки!
— Это сделаем. На днях трактористы освободятся и сделаем, — соглашался председатель. — Дети наши.
— Дети ваши. Это правильно. Да только следить за ними некому, — вставил Степан и вышел на середину комнаты.
Все затихли.
— В чем дело?
— Вот в чем. Вчера половина первоклассников в школу не пришла. Из-за чего вы думаете? «Сибирь» «Россию» колотит. Вся «Россия» не пришла. А где вы, родители, были?
Начался шум.
— Ты чо нас учить вздумал?!
— У себя в кабинете такие мысли родил?
— В тепле-то борода хорошо растет.
Степан не смутился.
— Я к вам с добром… Подумайте сами: с первых дней малышам души калечим.
Подошел куривший у порога Афоня Соснин. Цыганские глаза его сузились.
— Директор-то прав, мужики. Это дело надо высекать под корень. Прошло старо времечко.
— Кто говорит, что он не прав. Мы ведь пошутили. Если я узрю, что фулиганить зачнет, настегаю. Ей-бо!
Павел Крутояров хмуро сказал:
— Давайте с этим делом наведем порядок. Сегодня же. Тут школа одна бессильна.
…Все утро Степан стоял около Агашкиного лога. Ребятишки бежали в школу, здравствовались со Степаном. Никаких драк не было: быстро разлетается и дурное, и хорошее слово по Рябиновке. Не надо никакого радио.
Прошла мимо Катя Сергеева, улыбнулась:
— Уж не меня ли встречаете?
И вспыхнула как маков цвет. И Степан подумал: «И впрямь невеста. Только чья?»
* * *
Рану шапкой не закроешь, а родимое пятнышко не отмоешь. Позор, как полог, закрыл Галку Кудинову, лег на отчий дом: на мать, на отца, на старшего брата и сестру. Егор почти каждый день стал приходить домой с поллитровкой «вдвоем», пил большими глотками из стакана, не морщась и не пьянея… Были тихие дни, когда Егор, вдоволь напившись, сидел черный и небритый у телевизора. Поскрипывал зубами. Были и такие, когда, весь встряхиваясь от обиды, он протягивал к Галке мощные, страшные от фронтовых ожогов руки:
— Галюшка, родная, скажи, кто опозорил? Живьем удавлю! Скажи!
Галка упорно молчала, и грудь у отца начинала ходить как кузнечный мех.
— Стерва! Потаскуха! Догулялась, подлая! Убью!
— Постеснялся бы, отец! — вставала навстречу ему Феша, и он тут же отступал, тыкался головой в подушку, рычал, словно раненый зверь.
Не в легкости жил Егор Кудинов, да и Феша досталась ему дорого. После финской, почти в одночасье, вернулись они в Рябиновку вместе с однокашником и дружком Грихой Скоробогатовым. Пили трофейную канистру спирту, и Григорий играл на баяне вальсы. От музыки, разливающейся по озеру, сосало под ложечкой и шла горесть:
Ты постой, погоди, паренек молодой, Ведь в тебе мы не чаем души!Пахли солнышком рябинники. Ходила Феша с Григорием по селу, свежая, румяная, с чуть затаенной грустью на устах. Разрывалось сердце Егора от ревности, потому что любил он ее, как никто на свете никогда не любил. Снились ему Фешины губы и улыбка.
Рубили мужики свежие срубы, гнули плетни, смолили лодки и баты. Строилась Рябиновка, богатела.
Не удержался Егор, хотя и больно было за Григория, сказал Феше прямо в глаза:
— Не могу без тебя, лапушка.
Она растерялась:
— Бог с тобой, Егор! А Гришка-то как?
— Приходи завтра к согре.
Зашаталась, как пьяная, пошла от Егора, но завернулась:
— Приду.
И тяжелейший разговор с Григорием.
— Последнее счастье отымаешь, Егорко! — сказал он. — Поимей совесть, ведь войну вместе сломали.
— Я, Гриша, и жизни за тебя не пожалею. Да ведь не во мне дело. Пойдет за тебя Феша — зла держать не буду. Не судьба, значит. Ну а если за меня — так ты уж не мешай!
Умел Егор ценить в людях людское. Крепко любил Фешу всю жизнь. Непонятной и дикой казалась ему трагедия дочери. Попадись в то время обидчик под руку — неизвестно, чем бы все кончилось.
Когда отец начинал кричать и ругаться, Галка повторяла и повторяла про себя слова: «Не расстраивайся! Тебе нельзя!» — и старалась думать о чем-нибудь далеком: о синем небе и волнах, о чужих «птицах-бабицах», улетавших в полуденные страны, о раннем своем детстве.
Вот солнышко едва-едва выкатывается из-за отноги, заросшей камышом, заливает всю Рябиновку. И завалинки, и песок у берега, и пыль на дороге, и конотоп — все быстро нагревается, и весь день идет томление от жары. И еще ветер заносит в Рябиновку горячий степной запах. Наступают дремота и сонная одурь. Куры под амбарушку прячутся, гуси в коноплянике спят, а девчонки и парнишки около озера табунятся. Редко-редко протарахтит где-то мотоцикл и кто-нибудь из пацанов скажет: «Папка в мастерскую прикатил с поля!»
Спит во дворе друг Галкиного детства старый-престарый Джек, черный, с подпалинами у бровей и вислыми ушами. Когда она была первоклассницей, Джек был щенком. А сейчас уже состарился. Сколько же лет прошло?
Вспоминая короткое детство, Галка превращалась в совсем беззащитную, и ей становилось страшно перед неведомо всплывшим горем. Она скорей возвращала себя к горячему запаху полыни, рябиновых ягод, к тихому звону пересохших березовых веников в амбарушке, к тяжелым вздохам необъятного озера. К нежным рукам матери и знакомым жестам отца.
Из-за Джека отец часто ссорился с соседом, дедом Уваром Васильевичем Крутояровым. У деда во дворе, сколько помнит Галка, всегда была огромнейшая свинья. Она вылазила на улицу, забредала во двор Егора Кудинова и вызывала полнейшее остервенение Джека, ненавидевшего ее смертельно. Когда свинья подходила к воротам, отец отстегивал цепь, и Джек кидался на свинью, кусал ее за уши, за хвост, за что попадя. Увидев ободранные уши и искусанный зад своей животины, Увар Васильевич возмущался:
— Егор, сколько тебе говорить, привязывай кобеля! Чисто загрыз мою Синку!
— А ты не отпускай ее, дядя Увар. А то она у тебя сроду шляется, как полоумная корова!
— Ишо раз говорю, — предупреждал Увар Васильевич, — если не приберешь собаку — нажалуюсь в район. Хотя ты и советская власть, но с тебя стружку сымут!
— Да что она тебе, моя собака, сделала?
— Я ж тебе говорю — свинью дерет.
— Ну и что?
— А если она вовсе запорет, тогда как?
— Не запорет.
Предсказания деда наполовину сбылись. Джек однажды перестарался: напрочь откусил у Синки витой, как напарья[12], хвост. Увидев такое, Увар Васильевич положил откушенный хвост в карман и пришел к Егору.
— Говорил тебе, прибирай собаку?
— А что?
— А то, что напрокудила она. Хвост у Синки откусила.
— Не может быть!
Увар Васильевич спокойно залез в карман широченных галифе, вынул обкусок.
— Это, по-твоему, што?
— Ну, хвост.
— Ну, дак вот.
Ребятишки и Феша хохотали, ухмылялись Егор и сам Увар Васильевич.
«Раздружба» между соседями была предметом шуток Павла Крутоярова. «Восемь лет тяжбу ведете из-за свиного хвоста… Что у вас руки отсохли подраться-то?» — «Этот вопрос мы без вас, товарищ председатель, решим», — категорически отметал вмешательство Увар Васильевич.
…Плывут Галкины мысли по горячему, рыжему от солнышка детству. Пополневшие губы вздрагивают, а щеки заливает матовая бледность… И как сверкнет на сердце сегодняшним — слезы катятся, сколько их ни держи.
Не может Галка найти в себе ни капельки никакой вины и не приписывает беды своей никому. С той ночи, которую провела Галка у директора Степана Крутоярова, спасаясь от отца, сон редко приходил к ней вовремя. Закинув руки за голову, она лежала на своей кровати неподвижно, будто умирала. Пристально смотрела в сумерки открытыми глазами, вслушивалась в едва уловимые ночные шорохи. Темные мысли приходили к Галке. Ей казалось, что жизнь и силы ее изжиты и истрачены, и никто — ни родители, ни она сама этого не заметили. Жить дальше было уже неинтересно, лучше умереть. Но потом начинало плескаться в глазах утреннее озеро, опоясанное веселым полукольцом домов, и пар клубился над водой живыми клубами.
…Все лето Галка работала вместе с девчонками в рыболовецкой бригаде колхоза. Каждое утро, чуть свет, уходила к согре, где были накопаны большие подвалы, а под огромными курганами из опилок и соломы запрятаны намороженные с зимы глыбы льда. Хрипел транзистор. Девчонки сидели на дощатых столах для разделки рыбы и пели песню:
Мне снится этот сон, Один и тот же сон…Потом приплывали с озера рыбаки и на рогатые рахи[13] развешивали сети, выпрастывали из них крутолобых серебряных карасей и сырков, бойко изгибающихся в ячеях и хлещущих хвостами по крышкам деревянных ящиков.
Взвешивал рыбу Увар Васильевич — «полпред школы», как он сам себя именовал. «Вес да мера — божья вера, а для нас просто необходимость, — говорил он. — Мы для школы деньги зарабатываем… Раньше купчишки рыбу без весу принимали. Распрягут лошадей и дугами меряют. Накладешь гору карасей под самое колечко — рубль… Околпачивали… Нас не околпачишь!»
А потом начиналась разделка. Рыбу распластывали по хребтине остро наточенными все тем же Уваром Васильевичем ножами. Очищали нутро и бросали в бочки с водой. Хорошо прополоскав, укладывали слоями в маленькие дубовые бочата, солили и ставили под гнет.
Когда отдохнувшее солнце выползало из-за рябиновых зарослей, появлялась Мария Никитична, руководительница группы. Она осматривала ящики, выбирала самых крупных рыб и клала их в авоську. Дед косился на Марию Никитичну, попыхивал «гвоздиками».
— Отменны пироги выйдут.
— Я же не бесплатно. Вот квитанция — в конторе выписала.
— Так, так, — удовлетворялся дед. — Конечно, бесплатно это только при коммунизме будет, а пока социализма. Пол-литру и то не дадут без денег. Бывает, позарез выпить охота, а в кармане — тишь!
К полудню работы прекращались, бочки с рыбой убирали в ледяные подвалы, и девчонки бежали к озеру, на пески.
…Стояли самые длинные дни, и он каждый день стал приезжать на рыбачью пристань. Катер впивался килем в песок, двигатель замирал. Коричневый от загара, он садился на бак, свесив ноги, и смотрел на Галку.
— Затоскуешь! — кричали девчонки.
— Ну да, — отвечал он и насвистывал «Ладу»:
Хмуриться не надо, Лада, Хмуриться не надо, Лада, Для меня твой смех награда, Лада!В один из таких дней вместе с Виталькой приехал еще один парень, веселый, разбитной, с золотыми зубами. Пригласили покататься на катере, и Галка с радостью села на переднее сиденье. Расправляя белые усы, катер летел к середине озера, на безбрежный простор. И Рябиновка, и согра, и рыбачья пристань — все перевернулось в озерной глади, стало далеким и фантастичным.
Долго загорали на песчаном острове, заросшем боярышником, километрах в пяти от берега. Виталька вытащил из-под сиденья полиэтиленовый мешок. В нем было две коньячных бутылки, обложенных ледяными осколками.
— За праздник Нептуна, бога морей Посейдона! — Виталька стоял, высоко вскинув руки, улыбался чистой, притягательной улыбкой.
Варили карасей, танцевали на горячем песке. В кустах боярышника Виталька молча поцеловал ее растрескавшимися, колючими губами.
Из записок Сергея Лебедева
«Вот и еще одна зима, крепкая, оздоравливающая. Четверть века встречаю зимы в нашем районе. Все — новые. Как сказка у хорошего сказочника каждый раз нова, так и зима наша. И все-таки те, давнишние, зимы кажутся сейчас более яркими. Таков уж человек: даже в старости живет детством и юностью…
Степан Крутояров не знает, как мы в то время учебно-воспитательный процесс «организовывали». Сейчас средств в достатке (и в первую очередь у школ), и наглядные пособия, и оборудование — все есть. А мы тетрадки для первоклассников из обойной бумаги делали, полы в школе глиняной охрой из карьера красили. Сказать об этом Степану?
Он ответит просто: «Трудности у вас были потому, что мешала война. А сегодня, что же, их искусственно создавать, что ли?» В этом он прав и не прав. Трудностей сейчас в школе не меньше, только они другие, и Степан, и некоторые другие молодые директора их не видят, а может быть, не хотят видеть. Пресыщенность в общественной жизни и в семье, утрата чувства ответственности за содеянное — это явления новые и очень опасные. Все это надо изучать по мелким крупицам.
Детали… Они немаловажны в нашем деле.
Никогда не забуду скандал с Завьяловым, в то время математиком и директором Рябиновской школы. Я, конечно, не мог относиться к Завьялову так же, как Павел Крутояров, хотя внутренне понимал, что Павел прав. Я знаю о Завьялове меньше. А потому, наверное, и меньше чувствую его разрушенность и лживость. Я знал, что Завьялова судили за самострел. Но я верил, что это ошибка молодости. Она болит хуже старой раны. Поэтому я и направил его после упразднения района учителем в Рябиновку… Но, как говорится, в одной кровати спят, а сны разные видят. Я уже в те дни заметил, что это моя оплошность. С первого дня его невзлюбили ребятишки, как и он их.
Я спросил его: «Ты вроде бы не по совести занимаешься, а только видимость создаешь?» «Посмотри в журналы», — ответил он. В журналах, действительно, стояли одни пятерки и четверки. Троек не было. Я пошел к нему на уроки. Смотрю: строгий, и при мне, в основном, обходится без отметок или ставит двойки. Но вижу и ребятишек: они нисколечко не смущаются, понимают, что завтра рядом с «двойками» будут стоять пятерки.
Ничего не сказал я в тот приезд Завьялову. Но он догадался, что я переживаю за все дело и очень беспокоюсь. «Ты извини, Сергей, может быть, я что и не так делаю. Если видишь — подскажи». — «Нет. Ничего. Действуй».
Поговорили и разошлись. Но ненадолго. Приехал я в школу еще раз. Устроился в классе до звонка на задней парте. Явился на урок мой товарищ. И началось… Признаки равенства треугольников… Третий признак… Надо к одному треугольнику приложить другой и повернуть его на сто восемьдесят градусов… Завьялов близорук… Не видит меня и несет такую чепуху: «В этом положении, — показывает он на себя пальцем, — я кто? Петр Тихонович? Верно?» — «Верно!» — кричат ребятишки. И (не ждал я такого) повернулся Завьялов к классу спиной: «И в таком положении Петр Тихонович? Верно?» Школьники смеялись, и учитель был доволен. После урока я сказал ему: «Такие, как ты, Завьялов, любое дело испохабить могут! Халтурщик!»
И все-таки при Завьялове успеваемость в школе была выше. А сейчас, у Стеньки, дела неважнецкие. И Завьялов, вижу, радуется.
…Старый Увар Васильевич говорит не прямо, а все в обход. Недавно сказал так: «Когда целину подымали, техники разной понавезли на станцию. Получай, крестьянин, паши землю, рости пшеничку! А за техникой пришли еще два вагона; один с модными портфелями, а другой с лопатами-железянками. Дак чо ты думаешь? Портфели в первый же день расхватали, а лопаты все еще на складе валяются. Никому не нужны». — «Вы как это понимаете, Увар Васильевич?» — «А так и понимаю: сила у портфеля великовата. Всем охота с портфелью ходить, да так, чтобы пнул ногой дверь, портфель вперед, а ты за ним следом!»
Такие, как Завьялов, умеют «блюсти» свой портфель, конечно, только ради себя. И странно, всю жизнь поддерживает в нем это качество Андрей Ильич Светильников… Сейчас Завьялов ушел на пенсию. И, как мне кажется, наплевал на все. «Волга» у него своя, особняк в Рябиновке самый видный. Встречаясь со мной, ехидничает: «Все борешься за народное просвещение? Давай, давай!» Что-то злокачественное живет в душе Завьялова. Степан Крутояров в сыновья ему годится. И это настораживает. У Степана характер — весь от Павла Крутоярова, твердый и чуть-чуть шальной. Это тоже надо иметь в виду.
Когда он учился в институте, приходилось отцу и матери горевать. Семья у них, прямо сказать, в то время на живой нитке держалась, не до Стеньки было. Лишь дед Увар «вожжался» с внуком. Он-то и поведал мне эту тайну.
— В старое время шарманщики по деревням ходили, — рассказывал он. — Шарманка, известное дело, инструмент несложный. Пока рукоятку крутишь — поет, бросил — молчит. И песня в ней одна заделана. А сейчас механизация и техническая революция, робить неохота, а есть надо и веселиться — тоже. Вот они и напокупали себе магнитофонов с лентами. Ревет, сукин кот, хоть сутки, хоть двои. Так бы подошел к етому волосатому, вырвал бы из рук шарманку да по башке его этой штукой… Нельзя… А Стенька наш способ борьбы нашел с етими холерами… Полмесяца вагоны разгружали с дружками, деньги — на книжку, да я сорок рублей дал… Купили они, значит, «маг», как сказал Стенька, самый мощный. Напели на пленку собственные песни под гитару. Вышли на улицу. Город есть город. Народу полно. Включили машину на полную катушку. И понеслось:
Видите, видите, видите? Прыщеватый вьюноша идет, Танцы африканские танцует, Песни полурусские поет! Помните, помните, помните! Русские калачики он жрет! Танцы африканские танцует! Песни полурусские поет!Ну, сразу тут и толпа. Все остальные шарманки — ни в какое сравнение со Стенькиной, а потому заткнулись. И милиция тут как тут. «Пройдемте!» Стенька — парень уважительный, вежливо так попросил милиционера подержать магнитофон, а сам через изгородь перемахнул и убежал. Милиционер, пожилой человек, не сумел выключить эту адскую машину, ну и стоит с ней, а она поет.
В институте хотели Стеньке за это взбучку дать, а я считаю — не за что… Только обезьяны могут подражать… Презирать родное, впитанное с молоком матери — это, паря, дико.
…Увар Васильевич доволен внуком. Усы у него топорщатся, а в глазах смех. Добрый старый Увар Васильевич! У него все свое, все — нетронуто и своеобычно. И постоянно от него какая-то уверенность излучается.
…Пять дней я ходил по урокам в Рябиновской школе. Сопоставлял прошлое с настоящим и, может быть, потому что начинаю стареть, многое у меня вызывало раздражение. Завуч Мария Никитична, строгая, гладко причесанная, одетая в какую-то полумужскую форму, тяжело стучала дверями учительской и не стесняясь кричала на новую учительницу:
— Это невозможно, Екатерина Сергеевна! С вашим классом заниматься — каторга. Шумят, безобразничают. Примите меры… Как только класс передали вам, так все учителя стали жаловаться.
— В чем дело? Кто вас так раздосадовал? — краснела Екатерина Сергеевна.
И мне было неловко за нее, такую молоденькую, сделавшую в жизни совсем немного. Она приехала к нам с верой в людскую доброту. И она видит сейчас, что люди мучаются с ней и страдают из-за нее. И, честное слово, мне показалось, что она готова умереть, лишь бы не выслушивать бестактные слова завуча. Я молчал. Хотя мне следовало бы заступиться за начинающую учительницу. Почему же только она одна должна «принимать меры»? Нельзя вместе с этим и обидеть Марию. Она от души старается наладить порядок в школе. Но не могут они со Степаном Крутояровым перевернуть все. Тем более, разные они люди и идут к цели с противоположных сторон. А учителя, это явственно заметно, относятся к директору и завучу учтиво и холодно… Характеры у рябиновских учителей (как впрочем и у всех других) разные. Но должны же они жить в ладах с педагогикой. Веселый ты или мрачный, спокойный или раздражительный — не забывай о главном: дети смотрят на тебя!
Я беседовал с учительницей русского языка и литературы Клавдией Петровной, ходил к ней на уроки. Что сказать? После Светланы Крутояровой тут полный развал. Очень верно изрек один великий: «У слабого учителя ученики глупеют». Клавдия с виду печальна, но с учениками грубит и жалит каждого больно. Откуда у нее это? Ответ скрывается в чем-то личном. Чувствуется, женщина безмерно несчастна, оскорблена жизнью, исплакала все слезы… Я ее давно знаю… Знаю, что когда-то в институте ждала чего-то необычного, но ничего не получилось. Осталась одна скорбь. Нести ее детям?
Она созналась мне с прямолинейностью необыкновенной, чего раньше с ней не бывало: «Да, Сергей Петрович, я несчастна. А школа? Школа для того, чтобы как-то существовать. Могут ли мои ученики знать материал на «пять»? Конечно, нет! На «пять» я и сама не знаю и знать не хочу».
Перед отъездом я долго беседовал со Степаном. Я рассказал ему о всем виденном в школе, слышанном и созревшем в результате проверки. Советовал. Но он слушал меня плохо. Понимаю его состояние: не может забыть гадкую встречу с Завьяловым. Конечно, Завьялов в тот раз бросил мне вызов. Но я не стал горячиться. И даже не переделал формулировку в приказе. Я «обрабатывал» Степана. Много сил потратил на это. И вот результат. Степан Крутояров вернулся в Рябиновку, но обида, «подстроенная» мною, торчит у него в душе. И мои добрые слова не доходят…
Я уехал из школы после инспекторской проверки, исполнив все, что требуется. Только не осталось в сердце удовлетворения и уверенности. Не раскрылся Степан. «То, что вы рекомендуете, — честно сказал он, — попробуем сделать. Не получится — увольняйте!»
Видел я на лице его осуждающую улыбку».
* * *
Шел тихий снег. Вся Рябиновка, и озеро, и леса, и степи слушали, как он шел. Березки возле школы присмирели, а озеро засыпало, прищуривая веки-полыньи. И люди ходили по селу бесшумной походкой, будто боясь нарушить тишину. После беспокойных осенних будней, когда с первыми петухами-полуночниками взревывали за околицей тракторы и грузовики резали фарами ночную темень, а от сырых буртов пшеницы на центральном току кидался белый душный пар, Рябиновка отдыхала заслуженным отдыхом, в довольстве и сне. Выполнили план по хлебопродаже, поставили в сухие базовки скот, подвезли сено и солому. Тревоги схлынули. Даже динамик, укрепленный на высоком столбе у правления колхоза и беспощадно игравший всю осень, стал включаться только в половине восьмого, к началу областных известий.
Шел снег, нес с собой радость и веселье. На Октябрьский праздник Егор Кудинов пригласил к себе Павла Крутоярова с Людмилой, Увара Васильевича и Афоню Соснина с женами.
Егор медленно отходил от щемящей боли, нахлынувшей в тот сентябрьский день. Ловил себя на мысли: «Один кто-то виноват — на весь белый свет серчаю. У злой у Натальи — все люди канальи». И терзала душу ночь, когда избил он Галку, распластнул на ней платьишко… Грешил на школу, вернее, на обстановку в школе, на учителей, а по пути и на ни в чем не повинного нового директора школы Стеньку Крутоярова. При чем он, этот парень? Душа у Егора болела. Извивался он, как уж под вилами.
Перед праздником они вместе с известным на всю Рябиновку маркитаном[14] Уваром Васильевичем свежевали борова и быка-полуторника. На дворе под крышей работала паяльная лампа, и огромная свиная туша вкусно желтела. Толпились ребятишки, расхаживал между ними наевшийся досыта мясного Джек. В доме топилась русская печка, и Феша выносила на двор ведра и чугунки горячей воды. Пахло жареными ошурками[15] и топленым салом. Звякнула калитка. Прошел во двор единственный во всей Рябиновке казах Напай Найманов — Николай Иванович. Еще во время коллективизации назначили его мужики начальником почты, по той причине, что не мог он жить без кобылы и кумыса, а всех кобыл, кроме почтовской, обобществляли. И оставался он почтальоном на многие годы. Николай Иванович не умел читать, но газеты и письма приносил точно по адресу и с поспехом, какого у других не наблюдалось. От природы сообразительный, он все русские буквы перевел на известную крестьянскую утварь: С — дуга, О — колесо, Ш — грабли, Н — лестница. И точно понимал по этим знакам, кому письмо или газета, или деньги в переводе.
— Николай Иванович, стой-ка! — позвал почтальона Увар Васильевич.
— Стоять некогда. Робить нада… Ты — мулла, я — мулла, а кто коням сено даст?
— Да ты погоди.
— Что тебе?
— На-ко, гостинец Дарье отнеси!
— Какой-такой гостинец?
— А вот! — Увар задирал сивую бороду, хохотал, протягивая Николаю Ивановичу свиное ухо.
— Дурной, Уварко! — плевался Николай. — Не соображаешь, змей, что нынче казах другой стал. И свинину тоже может ашать[16].
— Да ну?
— Приходи завтра, старый, ко мне, я тебя кобылятиной угощу.
— А ты, поди, думаешь, струшу. С превеликим удовольствием махан[17] ем, не грозись!
Все весело смеялись. Смеялся, забывшись, Егор. Но, увидев Галку, будто сиротинка сидевшую на крылечке, смолк. Галка, этакая боевуха, и вдруг в сторонке. Захолонуло у Егора сердце. Это я, черт старый, довел девку!»
Когда закончили работу, притянув начинающие застывать туши крепкими вожжами к верхней матке навеса, пошли в дом. Егор остановился возле Галки, попросил:
— Не простудись, доча. Иди в избу!
Увидел в глазах ее отчаянный вызов. Она поднялась и сказала:
— На праздник, папа, нужно пригласить Степана Крутоярова. Не придет — его дело. Но вы его прогневили, вам и кориться надо. Не за вами правда, папа!
Егор проглотил большой клубок слюны.
— Знаю без тебя.
…Шел тихий, веселый снег.
Красные флаги и снег, и красные транспаранты обновили школу, клуб, правление колхоза, рябиновские улочки и переулки. Казалось, что рябиновая согра брызнула на село несказанной краской и запахом. Полыхало все красным огнем, пело серебряным звоном.
Феша умела готовить столы к праздникам, обильные и вкусные. И в том, как это делалось, сказывался характер сибирский, вольный. Толстые щи — перво-наперво, потом рыжики в сметане, боровички с луковой подливкой, огурцы и помидоры соленые и маринованные, ястрычная с белой пленочкой икра, шаньги и пироги, и утки жареные, и гусятина, и пельмени, и блины, и запеканка из гречневой каши с груздями, и квас медовый с изюмом, да сухарный с рябиной и на мяте. Чего там только не было!
После торжественного заседания, состоявшегося в клубе, гости собрались в горнице у Кудиновых.
Дед Увар, присаживаясь к столу, цокал языком:
— И откуда ты, Фешка, всего этого набрала, едрена копоть! Тут за неделю не съешь!
— Будто у вас на стол нечего ставить?
— Мы со старухой живем по ватерпасу: нет ни хлеба и ни квасу, душу шибко не морим — ничего мы не варим!
— Пошел собирать, Уварушко! — махнула рукой Еремеевна. — О, господи!
— Присаживайтесь, гостеньки дорогие. С праздником вас! С Октябрьской! — Феша держала поднос, на котором красовался зеленый витой графин с горлышком в виде головы богатыря.
— Эта посудина на мысли наводит! — сказал помалкивающий доселе Афоня, и Зойка ткнула его под локоть: «Знаю твои мысли».
— Давайте по круговой, по братинушке!
Егор принял из рук Феши графин-богатырь и начал обносить всех рябиновой настойкой на спирту. Когда подошел к Степану, поклонился:
— Спасибо, что пришел, Степа, не поморговал.
И этим будто заборонил все неровности, лежавшие между ними, и Степану стало легко.
Пили немного. Пропустив рюмку, Увар Васильевич благодушничал:
— Как Иисус Христос на колеснице проехал. Ей-бо! Оно, к делу сказать, колесниц нынче не признают. Телег и тех в колхозе, руководимом племянником, не хватает… Моя старуха на самолете в область летать наторела. Какие уж тут телеги? Самолет, известное дело, скорость… Первый раз она в самолет залезла и рябину из ведра рассыпала. Пока собирала ягоды, ей говорят: «Приехали, Еремеевна, вылазь!» Она в ругань: «Хватит, говорит, смеяться-то, молодые ишо!» А потом окозохалась[18], глянула в кругляшок-то — город!
— Будет тебе! — останавливала его Еремеевна. — Кто же тебя не слыхал. Вся Рябиновка знает, всем доклад сделал!
Но Увар Васильевич разогнался и остановиться ему было уже трудно.
— А за штакетником, около аэровокзала, сноха Ангелина стоит… Ждет свекровку… Не так уж ей свекровку надо, как два ведра рябины, давление лечить. А что оно такое, давление, и отчего происходит? Оттого, что кушать помногу стали. Вот оно и давит. Во все, значит, отверстия напор идет. Во время войны, когда всухомятку жили, ни у кого не давило, и болезни такой вовсе не было. А сейчас… давление! И лекарства разные придумывают: кто рябину горстями ест, кто облепиху. А один из нашего райисполкому, ястрить его, пчелами вздумал лечиться. Слыхал, Павел? — Увар Васильевич потеребил племянника за рукав.
— Нет, не слыхал!
— Приехал к Ермолаю на пасеку и говорит: «Выпускай пчел». А тот в ответ: «Чо их выпускать, они не взаперте и не привязаны». Возроптал начальник: «Заперты не заперты, а сделай, — говорит, — так, чтобы они меня покусали: давление у меня!» Ермолай да Оглуздин, известно, какие личности, все время хворые — есть охота и выпить сильно тянет. Об давлении этом они никогда не слыхивали. Зевнул, значит, Ермолай во всю пасть и опять отвечает райисполкомовскому: «В пьяном виде вы, гражданин начальник, как бы они вас совсем не кончили. Оплывет ваша личность — мамаша родная не признает!» — «Зачем же лицо? Надо, чтобы в ягодицы жалили», — просит товарищ. В общем, сделали так: закрыли у избушки все окна и щели, только одно нижнее стеклышко в раме вынули, так, чтобы ягодицы можно было поместить… Расшуровал Ермолай злодеек, ну и давай они гостя потчевать. Терпел он долго, не вытерпел, отскочил от окошка, за штаны хвать, а пчелы ему на чело. Он за чело схватился, а штаны — на пол! Визготня, шум! Потом, говорят, дён десять ни сидеть, ни лежать, ни стоять не мог. Едва отводились в райбольнице!
Покатывалось со смеху застолье, лился из репродуктора заливистый мотив. Феша, скинув батистовый платок, гордо подняла голову, взяла у Егора графин, налила рюмку, выпила и надела ее на палец:
— Сел воробушек на гвоздь, как хозяин, так и гость! Давайте еще по рюмочке, гостеньки мои милые!
— Ох, ястрить те, ловко! Придется, видно, — быстро согласился Увар Васильевич.
Потом пели песни, слаженно, на два голоса:
Ревела буря, дождь шумел, Во мраке молнии блистали!И весь хор, будто подкрадываясь, выходил навстречу запевальщику:
И беспрерывно гром гремел, И ветры в дебрях бушевали!Песня вздымалась ввысь, могучая и величественная.
Пробовали играть плясовую: «Растотуриха высока на ногах, накопила много сала на боках!», но не получилось, и Увар Васильевич сокрушался:
— Гармошки не хватает, Егор! Как ты, едрена копоть, сплоховал?!
— Давайте я за Виталькой схожу! — предложила Зойка. — У него баян.
— Айда бегом! — согласился Афоня. — Тут рядом.
Зойка, накинув пуховую шаль, хлопнула дверью. Вскоре на дворе яростно залаял Джек. Степан глянул в густые сумерки и вздрогнул: от калитки к сеням в кожаной, оставшейся от отца, куртке, подбитой белым мехом, с баяном в руке шел Виталька. Рядом с ним в заячьей эскимоске с длинными ушами шагала Катя Сергеева. Впустив в избу белый вихор, они предстали перед всеми, веселые, раскрасневшиеся от мороза и быстрой ходьбы.
И дальше все шло как в тумане. Феша Кудинова плясала легко. Будто пава ходила вокруг нее полная достоинства Зойка, и Еремеевна по-девичьи звонко припевала частушку, взглядывая на Увара Васильевича:
Я, бывало, боком-боком, Я, бывало, стороной: Бывало, в кожаной тужурочке Ухаживал за мной!Но Степан ничего этого не видел и не слышал. О чем-то толковал ему Егор, что-то рассказывал отец, дружески улыбалась Людмила Долинская, вызывала плясать Феша; и он сам улыбался, смотрел всем в глаза, поддакивал, не понимая, с кем и о чем говорит, не слушая собеседников, не испытывая малейшего желания что-то узнать или сказать… Все, кто был вокруг: и дед, и бабушка, и Феша, и Егор, и Афоня, и Катя Сергеева, и Виталька, и отец с Людмилой Долинской — все стали казаться Степану бесполезными, ненужными людьми с маленькими и смешными радостями, не настоящими, а засохшими, как цветы бессмертника. И ему стало невыносимо скучно от того, что он здесь, с ними.
В городе рядом с общежитием педагогического института жил инвалид Отечественной войны. Студенты приглашали его в красный уголок и слушали рассказы о подвигах. Так было и раз, и два, и три. Потом инвалид, пьяный, взлохмаченный, стал приходить без приглашения. Он заголял грязную штанину и давал щупать уродливо сросшуюся ногу и глубокие рваные раны.
— Я воевал, — хрипел инвалид, — кровь за Родину пролил!
И с каждым разом эти слова для младшего Крутоярова казались все менее значительными, а потом стали безразличными. Все знали, что инвалид героически сражался под Сталинградом и имеет награды, но всем стало казаться, что он лжет. И никто не хотел видеть его пьяного и нечесаного.
И Катя Сергеева, пришедшая с Виталькой, показалась Степану ничтожной лгуньей, обманувшей его.
«Соберись, Степка, тебе нельзя расслабляться. Слабых бьют!» — шептал он. И это, последнее, оборвало бечеву мыслей горьких, тоскливых. Он поднялся:
— Извините, что-то голова разболелась. Выйду на воздух.
Он улыбнулся, и люди не заметили даже маленькой тени волнения на его лице. Ночное небо, ветер и теплый реденький снег успокоили Степана. «Давай, Степа, делай очистительное дыхание по системе йогов», — сказал он себе. Внутри заклокотал беззлобный смех: «Ну и везет! Как поговаривает дедушка, шел на казару, а принес гагару».
Степан поднял лицо — снежинки кололи ему кожу. Огромное облако, похожее на айсберг, сдвинулось, и луна пролила золотисто-белый свет. Буран кончился.
Скрипнула избяная дверь.
— Степан Палыч! — это была Галка, голос ее срывался. — Что вы, потный весь, и на сквозняк? Захвораете?
— Ничего. Я ведь моржил, Галя.
— Что делал?
— Моржил. Зимой в Тоболе купался.
— А-а-а… — Она помолчала, потом рванулась к нему и затряслась в рыданиях.
— Тише, Галочка. Что случилось?
— Ничего. Вы скажите ей за ради бога, этой Сергеевой, скажите, чтобы она с ним не ходила… Зачем она пришла? Ведь дите у меня от него будет, а она притащилась. Будь они все прокляты!
Вышла на крыльцо испуганная Феша, шагнула к Степану.
— Не береди душу девке. Не навивай нам горя. У нас его и так хоть отбавляй.
— Перестань, мама, ничего ты не поняла! — всхлипнула Галка.
— Мне, дочка, и понимать не надо. Жизнь прожила, знаю. Чужим людям наша беда — чужа!
— По-по-слу-шай-те! — начал заикаться Степан.
— А что мне слушать?
— Ну тогда извините! — Степан круто повернулся и зашел в дом. — Спасибо, Егор Иванович, спасибо всем за компанию. Мне пора.
— Посидел бы еще, Степан Павлович.
— Не могу, извините.
Он попрощался со всеми за руку, И когда выскочил на улицу, облегченно вздохнул: «Дыши очистительно, Степка». Быстро зашагал вдоль начинающей хмелеть Рябиновки напрямик к школе. Уже за логом, около правления, услышал крик:
— Степан Павлович, постойте!
Вгляделся в темень и догадался: это Сергеева и Виталька. Учительница, распаленная, подошла быстро:
— Как вы смеете? Для чего вы ей напомнили? Она же в обмороке.
Виталька оттеснил ее:
— Отойди, Катерина Сергеевна, я сам поговорю с директором!
Щелкнул в руках складень, упал на снег баян.
И это «отойди, Катерина Сергеевна», и складень, и пуховая перчатка на руке, и запах водки и одеколона, резкий, как душистое мыло, подняли в Степане неудержимую злобу. Он притянул Витальку к себе, заикаясь, спросил:
— Девушку опозорил, а сам — в кусты?
— Какую девушку, извините, маэстро?
— Быстро забыл?
— А ну отчепись! — Виталька рванулся и ткнул Степана в грудь. Степан даже не почувствовал ножа. Он ударил Витальку со страшной силой. Поскользнувшись, Виталька полетел в лог. Следом за ним, хрипя басами, переваливался с боку на бок баян.
— Как вы смеете! — закричала Сергеева.
— Вот так и смею. И зашагал к школе.
…И отец, и все, с кем он дружил в институте и там, на Севере, ни в какое время не ставили на главную жизненную линейку физическую силу… И только здесь… Он тонул… Парень с баяном, сверстник, Виталька Соснин, спасал его. Этот же парень щелкнул складнем, пропорол черную Степанову доху. Зачем он?
Болело левое предплечье. Черт знает что? Неужели? Степан включил свет, сбросил одежду, снял рубашку и подошел к зеркалу. На груди, ниже ключицы, кровоточила маленькая, как оспенный надрез, поринка, бурые кровяные капли медленно сползали вниз, к соску. «Степа, давай первую помощь себе оказывай! Достукался!»
Вышел на кухню, долго шарил включатель. Взметнулся фиолетовый, как молния, свет, вырвал из темноты лицо Кати Сергеевой.
— Ты?
Она не вздрогнула, не пошевелилась. Не сказала ни слова. Степан выключил свет.
— Уходи! — это вырвалось внезапно. — Не хочу тебя видеть!
— Я стою здесь давно, Степан.
— Считаешь, что я не прав?
— Степан Павлович!
Был длинный и нервный поединок.
— Вы черствый человек. Вы знаете только одну вашу волю и силу. Вам ничего больше не нужно.
— Это же ложь.
— Если вы будете так разговаривать со мной, я уйду.
— Уходите.
— Хорошо. Я все расскажу. Тебе первому. Слушай! — В голосе ее слышались мольба и слезы, и Степан это понял мгновенно.
— Вам плохо, Екатерина Сергеевна?
— Нет. Ты слушай, Степа! — Она назвала его так неожиданно и для нее самой и для него. — Извини… Мне уже двадцать три. Я не по годам взрослая. Я помню себя трехлетней. Был май, и к нам в детский дом, в нашу комнату, приходил веселый, ярко начищенный сержант с игрушками. Он приносил конфеты и играл на гармонике: «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?» Каждую, по очереди, он брал на руки, подымал под потолок, и мы визжали от счастья… А потом был Серпухов… Детский дом для детей, потерявших во время войны родителей. Мы все в то время по-настоящему не осмысливали значения этих слов, потому что нам было весело и сытно и никто нас не обижал.
…Только в институте я поняла свое сиротство и стала думать о родителях. Кто они? Какие? А может быть, живы? Ничего узнать мне так и не удается… Я страдаю от этого, Степа. И приехала сюда, откровенно скажу, для того, чтобы забыть это мое, казалось бы, уже приглушенное страдание.
Подходило утро. Засинел под слабым светом выкатывающегося солнца снег, и в нестылое окно стало видно поскотину и березовый колок. Но Рябиновка спала, убаюканная праздничным хмелем. Лишь на школьном дворе пробормотал с лошадьми четверть часа Увар Васильевич, и все затихло. Степан слушал ее, накинув на плечи черную доху с прорезью и смотрел печальными глазами на желтые нитки настольной лампы, не нужной сейчас совсем, потому что мир заливал начинающийся день. Сергеева вздрагивала, будто от озноба, теребила пушистое ухо эскимоски и говорила:
— Если понадобится вся моя жизнь, я посвящу ее всю поиску своих родителей.
Степан увидел, что держит ее руку, а рука маленькая и холодная. И она тоже увидела это, тихо отстранила его:
— Не надо. Я хотела быть с тобой вместе, чтобы ты мне помогал. Я тебе говорю это открыто. Решай сам: быть тебе моим другом или нет… Лишь другом… А это не надо… Есть у меня в Ленинграде другой человек. И я, кажется, люблю.
— Прости, если я скажу тебе откровенно… Этот, о котором ты говоришь, который живет в Ленинграде… не существует… Ты его выдумала… Ты не могла не выдумать: все другие, невыдуманные, — хуже его… Это правда?
— А ты и рад?
— Я не злой. Вообще не люблю злых филинов. Но меня твои слова задевают, если не сказать больше…
— Это ты растревожил меня, Крутояров… Гордец, зазнайка и какой-то каменный… Боже! Это из-за тебя я пришла к Кудиновым с Виталькой… Видеть тебя хотела…
— У нас мо-мо-гла бы-бы-ть хорошая семья, — начал заикаться Степан.
Она опять как-то странно и нежно вздохнула:
— Не может у нас быть никакой семьи, Крутояров. Потому что ты, именно ты, к этому не подготовлен. Ты живешь разумом, а не сердцем. И ты ранишь меня этим. А я не хочу свежих ран. Хватит мне и одной.
Маленькая рука ее безжизненно лежала на столе, и лицо было скорбным. Она будто прочитала себе приговор и одобрила его с решимостью.
* * *
Застонали над Рябиновкой метели. Ветер облизывал синее блюдище озера, сдирал со льда снег, нес его на деревню, набивал на улицах возле домов и заборов огромные суметы, вылепляя причудливые белые карнизы. Днем из-за туч выползало холодное солнце, и буран ненадолго останавливался. Ночью потешался, как и прежде. Утром — опять «перенова» — так охотники называли новый снег, затягивающий старые звериные следы.
Охотники не боялись пурги. Они уходили к дальним камышам и рёлкам, к ондатровым домикам, ночевали в избушках на берегах озер и на островах, возвращались с тяжелыми пошевенками — салазками, нагруженными ворсистыми ондатровыми тушками. Обожженные ветром лица их худели и чернели, и мужики делались похожими на древних степняков-монголов, скуластых, коричневых.
Метели и сильные ветры раскачивали сверкавшие серебром электрические провода, швыряли их вверх-вниз. Схлестнувшись, провода смыкались, и тогда Рябиновка тонула в черноте. Директорская квартира была пристроена к школе. Получалось, что ночью во всем огромном пустом здании в полной темноте сидел одинокий человек, Степан Крутояров, слушал беснующуюся за окном бурю.
Однажды он увидел на потолке желтые отсветы. Выскочил в ночь. На пришкольном участке, среди голых тополей, горела школьная баня. Степан бросал комья снега. Но огонь не унимался… Пожарная машина пришла, когда от бани остались одни головешки.
Утром составляли акт о пожаре, и Увар Васильевич ругался с участковым милиционером Гавриловым.
— Не топили мы ее вчера, — говорил Увар Васильевич. — Не топили, значит, огня в каменке не было. С чего бы ей загореть?
— А позавчера?
— Позавчера топили. Так неужто она могла через два дня загореться? Чудной ты, паря!
Но Гаврилов составил акт по форме, заставил его скрепить подписями и печатями, и главной причиной пожара признал неисправность сложенной из красного кирпича каменки.
Степану с Уваром Васильевичем было выписано от имени пожарной инспекции предписание — оплатить штраф по тридцать рублей каждому.
…Бушевали над Рябиновкой бураны, и Степан беспокоился. Он боялся даже допускать такие мысли: «Школа деревянная. В каждом классе печь. Сгорела баня. А если загорится школа?» Директор за все в ответе. И расширялась старая, горячая задумка: «Надо уходить. Разве нет места лучше? Что мне больше всех надо?»
Непрошеными гостями поздно вечером заявились два председателя: колхозный — отец и сельсоветский — Егор Кудинов. Отец — высок, ширококост, дубленый полушубок на нем внатяжку, как резиновый; Егор — сух, жилист, фазаний нос его, впалые щеки, усики — черная бабочка под носом — все в противоречии с огромной ондатровой шапкой, как большое утиное гнездо, торчавшей на голове. Почти всю жизнь Егор кузнечил в Рябиновке. И в облике его было что-то от железа и горна, горячее и вороненое, как сталь.
Степан поставил на стол бутылку армянского коньяку, распорол острым жалом сувенирного складешка две банки жирнющей, в собственном соку, сайры и вытащил из шкафа стеклянную вазу с лимонами.
— А ты хозяйственный, директор! — Отец выпил маленькую рюмку коньяку и потянулся к лимонным кольцам. — Получается вроде прощального вечера. За отъезд пьем, что ли?
Он разглядывал затянутый зелеными тесемками чемодан, лежавший у порога. И Степану сразу стала понятной цель их прихода. И от того, что они пришли, такие доступные и немудрствующие, что, не стесняясь, пили маленькими рюмочками коньяк и беззлобно подтрунивали, заработал в голове младшего Крутоярова протестующий молот. Не краснея и не заикаясь, Степан сказал:
— Еще встречи не было доброй, папа, а ты уже прощаться. Рановато. Не на того напали. Ты же знаешь, школа — это у меня не хобби, а выбор с детства.
— Кстати, Степан Павлович, заходи-ка завтра ко мне, мы с тобой подумаем, как получше дело-то в школе организовать, — сказал Егор. — А то на днях в райкоме товарищ один прямо так меня упрекнул: «У вас, — говорит, — Кудинов, школа в Рябиновке — самый запущенный участок!»
— Верно, — спокойно кивнул Степан. — И трудно нам сейчас все сложившееся ломать.
— Ничего, мы с Павлом тебе поможем. Только ты сам-то из упряжки не выскакивай.
— Извини, сынок, — вмешался отец. — Я и раньше видел, что тяжело тебе, но, сам знаешь, наши первоочередные задачи — хлеб, молоко, яйца, шерсть… А про ребятишек забывали… Это худая традиция… Но ты давай к зимним каникулам напиши нам, что тебе надо в смысле материальном для школы, сделаем. Ну и чем помочь надо — поможем… Вы подумайте об этом с Егором… Ты терпеливым будь!
Они ушли от Степана поздно ночью, оставив в комнате запах дешевых сигарет и овчинных полушубков; и Степан впервые за неделю, прилегши на кровать, заснул одетый и проснулся только утром.
* * *
Степан показал Егору Кудинову акт обследования школы, оставленный заведующим районо. Кудинов долго и тщательно читал бумагу. Потом разгладил ее ладонью, сказал:
— Сергея Петровича давно знаю. Зря бумагу марать не станет. Когда еще директором детского дома был у нас, я ему завсегда помогал. В кузнице любую вещь ковал бесплатно и без очереди для сирот… Тут в бумаге есть добрые заготовки. Вот, читай. — Он поставил красным карандашом птичку. — Читай!
Степан прочитал:
«В состав педсоветов входят обычно все учителя школы, завуч, директор, помощник директора по хозяйственной части, старший пионервожатый, библиотекарь, председатель родительского комитета. И еще можно кое-кого из родительской общественности привлекать. Надежных».
Кудинов постукивал карандашом по столу.
— Наживулил? Это, брат, не просто строчки. Что, например, у вас за педсовет? А вот что: заседаете, время изводите, а кто знает о ваших заседаниях? Родители знают? Нет. Почему? Потому что вы одни паритесь, людей пригласить не хотите.
Напористый и спокойный, Егор нравился Степану. Степан понимал: не случайно бывший кузнец возглавляет коммунистов села. Многое видел Егор и, несмотря на «малую грамотешку», мог поговорить со знанием дела и с хорошей партийной тактичностью.
Они несколько дней подряд вместе обсуждали мероприятия по самому «запущенному участку» — школе. Вывод был один — озадачить школьными «проблемами» родителей. Решили провести педагогический совет совместно с родительским комитетом, а потом общешкольное родительское собрание.
На педсовет пришли Павел Крутояров, Федор Левчук и другие члены колхозного правления. Доклад делал Егор. Вообще, назвать длинную речь Егора докладом было нельзя, но учителя почувствовали в простых, по-крестьянски емких словах большой смысл.
Егор говорил, усердно жестикулируя и часто обращаясь к слушающим «за добавками». Степан радовался необычайной ясности и обстоятельности его доводов.
— Ребеночка воспитывать начинают, когда он поперек лавки лежит, — говорил Егор, — а когда он повдоль ляжет — поздно. Кто у нас это присловие не знает? Все знают. Да только забыли об этом в последние годы… А забудешь — дитё начинает портиться.
Егор передохнул, хмуро посмотрел на сидевших, потом отрубил:
— А мы новую жизнь строим. И вот следует нам по-серьезному договориться сегодня со всеми, с вами, дорогие товарищи учителя и члены родительского комитета. Договориться насчет того, чтобы воспитательную и учебную работу вести на «пятерку». И всем вместе.
— Хотя бы на «трояк», как мой племянничек поговаривает, — уронила замечание Акулина Егоровна.
— Не на «трояк», Акулина Егоровна, а на «пятерку»! Вот наша цель! Поняла? У нас сегодня есть-пить хватает. И родители обязаны, чтобы их дети были сыты, обуты, одеты и чтобы у них было время и место для выполнения уроков. Но этого мало, товарищи… Если ты, родитель, ждешь от своих детей толк, ты должен говорить с ними по душам, бывать с ними целыми вечерами, а не пьянствовать, как это у нас еще иногда случается. И в школу надо ходить каждый месяц.
Степан по студенческой привычке быстро записывал главные мысли Кудинова и видел, насколько четка и предельно проста его программа.
«Пьяного шофера мы снимаем с машины и отправляем домой, а он начинает лупить дома жену и гонять детей. Машину нам жалко — разобьет. А детей?»
«И вы, учителя, и мы, родители, — все вместе отвечаем за детей. Пожалуйста, советуйтесь друг с другом. Опытный учитель, он не только советует родителям, но и советуется с ними. Так же и добрый родитель должен. Если ты, учитель, не знаешь, как и что надо делать с ребенком, чтобы его поправить, то не ходи к родителям и не ругайся с ними, а допрежь этого разберись. Иначе толку не будет. На своих детях научился».
«Не перевелись у нас еще и такие папки и мамки, которые вместо того, чтобы воспитывать детей, на школу и на учителей позор несут: при ребятишках об учителях всякую чепуху болтают. О таких мы будем рассматривать вопрос на административной комиссии. Запомните это и разъясните всем».
Степан видел, какого труда стоило Егору произносить эти слова. Жег его внутренний стыд за Галку, за ее несчастье, но долг, беспокойство за других заставляли говорить. И чем дальше он говорил, тем светлей становилось его лицо, и он выпрямлялся от уверенности, что слова его нужны позарез всем, не только ему одному.
Решено было собрать родительское собрание. Намечался перелом. И вместе с радостью, будто наваждение, подступила тревога: «Школа не терпит застоя. Школа — это не только классы, залы, кабинеты, учащиеся и учителя… Это взрослое население, родители. Как правильно наладить контакт с родителями? В институтах учат работе с детьми, а где учат работе со взрослыми? Педагогика для взрослых. Она создана?»
И во сне Степан видел множество испытующих ребячьих глаз и глаз взрослых; и Увар Васильевич, потряхивая бородой, говорил хитро: «За баню нас с тобой оштрафили. Ну, бог с ним, с милиционером Гавриловым. Но ты погляди вокруг. Нет, паря, другой такой специальности, как твоя. За тобой все так шибко наблюдают и тебя копируют! Ты смотри — не подкачай. Чтобы семена на доброе ложе пали и чтобы не зачервивели, а в рост пошли обязательно».
К общешкольному родительскому собранию готовились все. Школьники под руководством учителей репетировали песни, пляски, декламацию; члены родительского комитета с классными руководителями обходили село, извещали о предстоящем собрании, как о большом празднике. И школа сама подновилась и помолодела. Павел Крутояров по докладной Степана направил в распоряжение Увара Васильевича группу женщин, выделил извести, и они за два выходных побелили коридоры и классы. Запахло свежестью и теплом.
Заглаживалась в уязвленном сердце Степана изнурительная боль, откатывалась, будто лава. Исчезли опасения: казалось, что все, даже и недоброжелатели, раз Степан решил что-то делать, готовы стать его помощниками.
…Когда в празднично украшенном школьном коридоре, превращенном в зал заседания, затих шум, Егор Кудинов предоставил слово Степану. И Степан увидел глаза всей Рябиновки.
— Дорогие родители. Мы хотим с вами посоветоваться.
И выложил все сокровенное, прочувствованное в беседах с Егором Кудиновым, учителями и многими родителями. Собранию понравилась речь Степана, и рябиновцы, обсуждая ее, поругивали себя, правление колхоза, Павла Крутоярова и Егора. И добро и мягко давали советы школе, обещая помогать всеми силами. Чувство высокой заботы о просвещении и школах извечно живет в русских селениях, оно воспитано историей, предками, много веков тянувшимися к свету. Напрасно думал Степан, что он одинок в Рябиновке, что только он — истинный борец за развитие школы.
Все село, за малым исключением, было готово помочь Степану и учительскому коллективу. Сетовали только на то, что не вовремя об этом узнали. Степан видел возбужденные лица, слышал доброжелательный шум родительской аудитории.
Но хорошее настроение вскоре было испорчено. На трибуну взошла Мария Никитична. И заговорила нервно:
— Главной причиной плохой успеваемости в нашей школе, безусловно, является слабое руководство школой. С приходом к власти, — она так и сказала, криво усмехнувшись, — «к власти» — Степана Павловича авторитет школы и учителей стал падать. Степан Павлович, не спорю, молодой и энергичный человек, но он не знает элементарных правил этики и культуры, несмотря на то, что имеет высшее образование. Вместе с товарищем Кудиновым и при поддержке своего отца, председателя здешнего колхоза Крутоярова, они ввели в состав педагогического совета людей, слабо смыслящих в педагогике. А педагогика — это не трактор, который достаточно заправить горючим, и он будет пахать. Мыслимое ли дело, на педсоветах сидит как равноправный член дед Увар, человек грубый и невоспитанный… Различные махинации по хозяйственным делам и пьянство уже приводили к тому, что наш уважаемый директор едва не погиб на озере… Стараясь замазать свою бездеятельность, товарищ Степан Крутояров играет в демократа, а начальство — и товарищ Кудинов, и отец нашего директора, — я не боюсь этого сказать, помалкивают, потому что он постарался запоить своих благодетелей. Они стали ручными, потому как частенько уходят из квартиры директора пьяными.
Степан и раньше предполагал, что она лицемерна, но не до такой же степени. Он хотел остановить ее: «Что вы говорите, Мария Никитична? Постыдитесь, ведь перед вами матери, отцы, бабушки и деды? Что они о вас подумают?» И Мария Никитична, будто догадавшись, что ее остановят, заговорила быстро, скороговоркой:
— Школа сейчас — место встреч, выпивок и свиданий. С первых дней Степан прикормил у себя Галю Кудинову, а сейчас в его квартире проводит ночи биолог Екатерина Сергеевна.
Повисла в зале тишина.
— Дай-кось мне слово, Егор. — На трибуну, никого больше не спрашивая, шел Увар Васильевич. Борода его раскудлатилась, усы повисли, но голос был бодр:
— Вот до чего можно дожить, земляки. Выпивохой стали называть и жуликом. Вот оно какое дело… Говорят, не до поросят, когда саму свинью палят… Только я вам скажу, дорогие товарищи, нельзя напраслину на нашего нового директора нести. Обидеть человека легче легкого. Ни одного слова верного в разговорах Марии Никитичны нету. А это ведь нехорошо. Степан Павлович, хотя он и внучек мне доводится и хвалить бы мне его не пристало, но по прямости скажу: парень сурьезный. И спрашивает он со всех крепко, а потому такая крепость некоторым не по душе пришлась. И Мария Никитична, конечно, бежала к своему Завьялову. А тот, нет, чтобы пожар затушить, — маслица в огонь подкинул. Ну и поехало… Не прав, бают, волк, что овечку съел, да не права и овечка, что близко к лесу ходила. Мы понимаем, что Мария Никитична много годов в нашей школе работает. Но бьют не по годам, а по ребрам. Раз такую несправедливость стала нести на безвинных — добра не жди. Ну, а если так, то, господи благослови, не надо держать такого человека в своей артели… Я лично старый. Меня осрамить толку мало. Но тех, кому еще расти, зачем же дерьмом окатывать, Мария Никитична? Они к вам с добрым, а вы к ним — с ухватом!
Увар Васильевич дорвался. Лицо его стало краснеть, а чистая лысина заотсвечивала.
— Оно, конечно, Завьялову завидно и обидно, что его с директоров выперли, но сам виноват. Чего же на нового директора людей науськивает? А Мария Никитична — баба есть баба… Хоть худой мужик, но завалюсь за него и не боюсь никого… Вот и чешет напраслину!
— Прекратить! — Жилистая ладонь Кудинова взлетела над столом. Но Увар Васильевич не дрогнул и будто совсем не расслышал Егора.
— В одна тыща девятьсот шешнадцатом году одна такая…
— Да ты кончишь или нет? — Егор стал хлестать по столу.
— Я правду говорю, — огрызнулся Увар Васильевич. — И ты не ори. Мы с тобой телят вместе не пасли. Сродственность у нас с тобой одна, правда, есть: когда детками были, под одним солнушком штаны сушили!
По залу пошел сначала легкий гул, потом он перешел в неровный и неясный рокот, а потом все грянули хохотать, будто освободившись от какого-то неимоверно опасного и тяжелого груза.
Егор охолонул:
— Я не ору, Увар Васильевич, ты это запомни. Я порядка требую. Чтобы регламент соблюдали. Ты уже двадцать минут разговариваешь.
Поднялась из-за стола президиума Мария Никитична. Набросила на плечи беличью доху, прошла к выходу.
— Все, я кончил, — сказал Увар Васильевич и пошел на место.
В зале зашумели негромко и несердито, как будто бы не было никакого инцидента, не было выступления взбешенной Марии Никитичны и хитроватого Увара.
И опять Степан ошибался, подумав, что собрание сорвано, скомкано и что вместе со своей школой и учителями он опозорился навсегда. Нет, родители выступали спокойно, не раздражаясь.
Павел Крутояров, завершая прения, посоветовал учителям «поменьше шуметь, побольше работать, потому что дерево да учитель, два предмета, узнаются по плодам».
— Чему вы ребят научите — это для нас не все равно, — налегал он на учителей. — А кто мешать будет, нам скажите, народу, всей Рябиновке… И на Марию Никитичну тоже не сердитесь. Это, Увар Васильевич, вас касается. Вылечиться она должна в вашем коллективе. Только лекарями надо быть умными. Вот так.
После родительского собрания, веселого концерта, Степан проводил всех, в том числе отца и Егора, до дверей. Ушел в свой кабинет. Рябиновка! Он знал ее с детства. Купался в озере, бегал в школу. Он многих и сейчас называл и величал по имени-отчеству. Он не знал только ее силу, ее не зависимую ни от кого гордость и ум.
Степан почувствовал смертельную усталость. «А ведь это только начало!» Но он сейчас был полон сил, он был способен помогать людям и руководить людьми. Он сознавал, что рождается для другой, более зрелой жизни.
…Шла по коридору женщина. Стук ее каблуков приближался, и Степан повернулся лицом к вошедшей. Он знал, что это идет Катя Сергеева.
— Ты напиши приказ обо мне! — сказала она. — Я уезжаю.
Он слушал ее голос. Кажется, даже не голос, а глухие посвистывания ветра за окном, метель.
— Я знал, что струсишь.
— Напишешь приказ? Или я уеду без него.
— Хорошо. Я напишу. Но не в середине же учебного года. А как же ребятишки? Они ждали почти всю первую четверть. И бросишь?
Ветер налетел с такой силой, что Степану показалось, будто вздрогнула вся школа, и серебряная печь, и Катя Сергеева, закрывшая платком глаза.
Глава пятая
Зауралье — край ковыльных степей, березовых колков да камышиных озер. Богатый край: в апреле — водой, в ноябре — пивом. Кончается страда — и запозванивают бубенчики в селах, зальются баяны на свадьбах. Так до самого Нового года, а то и дальше. На «Волгах», увитых лентами и украшенных разноцветными пузырями, в сельсовет на регистрацию уже не ездят. Не принимают новую технологию венчания ни молодые, ни старики. Обязательно подай тройки: буланых, серых, вороных да еще каурых. Насядут в кошевки, устланные коврами, и знакомые и незнакомые, и шеркунцы, начищенные до блеска, заиграют. И поехали…
Когда Виталька Соснин слышал эти сливающиеся в одно звуки, в груди его начинал расти твердый больной комок. Виталька представлял себя женатым человеком, заботливым, преданным мужем. Дядя Афоня и Зойка жили еще не отделенными, и не было на свете еще и Зотьки, и Ефремушки, а Витальку обжигала неистовая зависть к дяде. Каждый вечер Афоня уводил к себе в маленькую горенку-боковушку стройную белокурую Зойку, и Виталька видел в приоткрытую дверь, как сбрасывала она халат и ложилась с дядей на кровать. Виталька слышал затаенное дыхание и непонятные стоны и негодовал на Афоню, причиняющему какую-то боль Зойке. Утром Зойка появлялась из горенки счастливая и свежая в своем легоньком немецком халатике, и Виталька успокаивался.
Зойка ходила на сносях, и у нее вскоре родился ребенок, и была болезнь — грудница. Виталька помнит, как переживал Зойкино горе дядя, как целовал ее красную, нарывающую грудь и Зойка говорила, что ей от этого легче.
Виталька ставил себя на дядино место и готов был сделать ей, своей жене, все такое, чтобы было легко. Все прошлые Виталькины запинки отступали назад, оставляя только тепло.
В ту незабываемую ночь, когда малиновые зори сходились, будто влюбленные, и когда отец и Павел Крутояров говорили с Виталькой строго, сработал в его голове какой-то ранее зачехленный боек: «Я докажу. Я разве хуже других. Да я этот проклятый «ЗИС»… Не я буду, если не починю!»
Виталька возненавидел «ЗИС» смертельной ненавистью, одушевил каждую его деталь и во что бы то ни стало хотел заживить все болезни, чтобы отомстить потом. Но «ЗИС» был тоже не из «робких», он отвечал Витальке взаимностью: больно бил рукояткой по рукам, терял совершенно неизвестно куда искру. Нашла коса на камень. Виталька не отходил от машины дни и ночи. И через три недели завел ее, пролетел по улице, распугивая кур и собак. Он еще долго «измытаривал» своего «врага» на поскотине, а когда пригнал к гаражу и заглушил двигатель, сказал, улыбаясь: «Не машина. Чудо». И ласково погладил теплый капот. Никто не сказал Витальке: «Молодец! Здорово!» Все приняли это как должное, как само собой разумеющееся. Только председатель Крутояров подмигнул хитровато: «Вот это по-гвардейски».
Отпенились сады и рябиновая согра, а зори были все такими же приветливыми и щедрыми. Темп, взятый на ремонте, можно было бы и ослабить. Но Виталька закусил удила. Раньше всех оживал в гараже его «Захар», раньше других уходил под погрузку, и шоферы подшучивали: «Ты не ночуешь ли с ним в обнимку?» — «А что, прикажете ждать, пока у ваших баб квашни выкиснут?»
В конце посевной Виталька встретился в Чистоозерье с Пегим. И не прогнал его. И ножика никакого для него не припас. Они сидели в «хавире». Был магнитофон с записями Высоцкого: «А на кладбище все спокойненько!» Были две подвыпившие девчонки. Одна, одетая во все черное, — хозяйка дома, кондового крестовика, заросшего сиренью, другая — полногрудая толстушка в сером жакете, в коротенькой измятой в гармошку юбочке. Был местный поэт Игорь Океанов, мужчина толстый, изрядно хмельной, с заячьей губой. Он нежно поглядывал на голубоглазую хозяйку и твердил одно и то же:
Дай же, пес, я тебя поцелую За разбуженный в сердце май!Виталькину машину, чтобы не привлекать внимание районного автоинспектора, загнали во двор под навес, уткнув носом в ядреную березовую поленницу. Курили крепкие кубинские сигареты, и фикус, нависший над столом, лоснился от яркого света, зеленого сырого дыма. Хозяйка выставила на стол четыре бутылки самогона, замаскированного под коньяк, принесла из кухни и почти уронила на клеенку черную сковороду с вывалянными в муке и хорошо прожаренными в сметане карасями. Красивое, белое как мел лицо ее, оттеняемое наглухо застегнутым черным воротником, и белый ливень волос поразили не только поэта Океанова, но и Витальку. Но Виталька был сильнее поэта, и потому она безраздельно шла ему навстречу. Смеялась, не закусывая, выпивала пахнущий ванилью самогон.
— Ты красивый, — говорила она. — Особый.
Поэт улавливал резкий Виталькин прищур, улыбался и говорил стихами:
Он по-крестьянски дьявольски красив, Ему б работать Аполлоном в нише…Пегий подходил к нему в обнимку с толстушкой, просил:
— Давайте, славная вы душа, выпьем.
— Давайте, ребята, друзья мои!
Он брал руками жирных карасей, обкапывал пиджак.
— Ты из Рябиновки? Ага? — спрашивал Витальку. — Ты будешь друг мне, если из Рябиновки… Там у меня друг закадышный!
— Кто?
— Завьялов. Директор школы. Привет ему передай. И береги его. Полезный для людей человек.
Виталька верил этому доброму толстяку, потому что часто читал в районке стихи, подписанные его именем, и сейчас, увидев его «живого», с удивлением рассматривал лицо, нос, одежду, выискивая что-то необыкновенное, поэтическое. Пристальное внимание Витальки принимал Игорь Океанов как выражение ревности и потому опасался Витальки.
Пили и танцевали. А потом все исчезло в лиловом огне. Только одни слова припомнились утром: «Береги его. Полезный для людей человек!»
Проснулся Виталька в комнатке, увешенной коврами и пропахшей нафталином. Рядом, совсем голая, всхрапывала хозяйка «хавиры». Выскользнул за дверь во двор к своему «Захару», нашарил под сиденьем замасленную пачку «Прибоя», разорвал ее.
На крылечке Пегий.
— Чо, Виталя, умотал?
— Тошнит.
— Айда спросим похмелиться у поповны.
— У кого?
— У поповны. Ну, которая с тобой…
— Так она — поповна?
— Ну да. И хата эта батюшки чистоозерского… Поповна кутит, пока предки в отъезде… Ты теперь, корешок, причастен в какой-то мере к культу!
И Пегий сверкал фиксами. Витальке от этого тоже стало весело… Выплывало жаркое с утра солнышко… Прошло по улице стадо, унося в поля запахи парного молока и пряных травяных соков.
Вернувшись в Рябиновку, Виталька случайно наткнулся на Павла Крутоярова, стоявшего с женщинами-доярками около правления.
— Где был? — спросил его председатель.
— Будто не знаете. В Чистоозерке.
— Ты уезжал вечером.
— Так точно. — Глаза Витальки стали холодными. — Уезжал вчера, да всю ночь починял эту чахотку в логу. Вот.
Виталька протянул Крутоярову обитые, с кровяными заусеницами руки.
— Ну вот что, хватит плакаться. Давай загоняй машину в гараж и принимай новый катер… Сезон начинается. Будешь нашим колхозным адмиралом… Испытание ты прошел хорошо.
Виталька не понимал: шутит ли председатель или приказ его надо выполнять вправду и немедленно. Во время большого хода рыбы на работу механиками катеров посылали обычно самых опытных механизаторов. Помог стриженный под «ежа» председательский шофер Геня.
— Ты поезжай, — сказал он потихоньку. — Поезжай, пока Павел Николаевич не раздумал. А то он рассердится на тебя и вместе с твоим «Захаром» в озеро тебя зафурнет!
— Хорошо, хорошо, — закивал Виталька и сам себе удивился: легко смяк под озорным и требовательным «приказом» председательского шофера. Шмыгнул в кабину, легонько стукнул по коричневой сигнальной кнопке: «Прочь с дороги, еду выполнять задание председателя!» А председатель, казалось, и не слушал их разговоров с Теней, повернувшись к группе наседавших на него доярок.
Лето было горячее. Солнышко стояло над краснеющими рябинниками, над шиферными, железными, пластяными крышами села. До ильина дня (середина июля) под кустом сушит, после ильина — на кусте не просыхает. Вместе с июльским солнышком шагал по песчаному берегу к своему катеру Виталька Соснин. Давил на двенадцативольтовый стартер, взрывавший теплую, как щелок, воду и, довольный, проносился вдоль берега, тревожил засыпающие поздно дружные рыбацкие семьи. Он был доволен собой, Павлом Крутояровым, «строгим и железным мужиком». И не подозревал Виталька, как пристально присматривается к нему «железный мужик», какой горестной сетью заволакивается его взгляд, когда, глядя на Витальку, вспоминает он что-то далекое и всеми забытое.
…Завьялов пришел к Витальке, когда тот, позабыв все на свете, съездил на дальние острова без масла в картере, и двигатель, громко вскрикнув, замолк надолго. Завьялов сказал Витальке:
— Не расстраивайся. И не говори никому, иначе этот тип, Крутояров, засудит тебя. Шутка ли, новый мотор искалечить!?
— Ну?
— Я тебе достану головку блока, вал и подшипники. Все, что надо, достану. У тестя, или, как его назвать, у Андрея Ильича. Словом, помалкивай.
Виталька вспомнил поэта из районной газеты и заключил: «Этот, действительно, доброе дело может для людей делать».
Рыба шла буйно. Лезла в сети и мережи, в котцы и вентеря. Играла на отмелях, пошевеливая камышиные дудочки… Двигатель перебрали за одну ночь, и Завьялов попросил:
— У меня «Волга». Ты рыбешки достань, я в Ялуторовск катану на обыденку. Червонцы сделаю.
Брал Виталька из колхозных садков без всякого спросу крутолобых, снулых карасей, обшаривал капроновые колхозные сети. Завьяловская «Волга» работала регулярно. Пять раз в неделю ходила в соседнюю область, груженная дарами большого озера… Обрастала Виталькина душа денежным мохом… Два новеньких костюма, рубашки-водолазки, коньяк с конфетами в больших коробках «Ассорти». Однажды Зойка сказала Афоне, что племянник необыкновенно щедр и богатеет. Афоня стиснул крепкий кулак: «Бывает, что и богатый на золото плачет. Ты пока об этом ни гугу». Цыганские глаза Афони темнели, и загорался в них звероватый огонь. Все в такое время Афони боялись. Одна беда — не видел Виталька Соснин дядиных глаз, да и сам дядя не торопился пустить в ход свое битое гвардейское «я». Жалел себя.
Так шли дни. Медленно перекатывалось по загривку рябиновой согры солнце, туда-сюда, плескалось озеро, лупило во время больших ветров по белому каменистому крутояру так, что брызги долетали до рябиновской улицы. Волгли покрытые зеленым лишайником заборы, размокали засохшие на солнышке двери выложенных по-черному бань.
Привычное было время. Подходили большие уловы, и колхоз вызывал из города самолет. Свежих карасей и сырков ссыпали в сосновые ящики и запихивали в объемистое брюхо «Аннушки». Получайте, горожане, рыбку свежую, стряпайте по воскресеньям пироги, поминайте добрым словом Рябиновку.
Кипела возле сетей вода. А когда надо было пустить в ход невод, башлыки[19] предупреждали катеристов — Витальку и председательского шофера Геню. Зацепив крючьями мокрые поводья, катера тянули невод до большой песчаной «банки», теплой и мелкой. Потом катера отцеплялись, невод затягивали на берег вручную. За день давали по три-четыре тони. Самолет не успевал. И тогда груженные рыбой самосвалы уходили в райцентр или в областной город.
Однажды среди машин, пришедших из райцентра, оказался самосвал Пегого. И Виталька без всякой накладной сделал ему погрузку.
Галка Кудинова? Он видел ее очарованные глаза и детские губы. И что-то едва-едва зарождающееся женское было в ее разговорах и песнях, в выточенной из мрамора фигуре. Раньше Галка была ему не нужна, а после — не нужен он стал Галке. «Подлец ты, Иуда, не подходи ко мне больше!» — говорила она. И он знал, что так и будет. Смотрел на нее и обваривался ее огнем. И приходила на память пьяная поповна. И тогда Виталька заболевал какой-то страшной болезнью. Не спал ночами. Невезучий, заблудившийся, замирал в постели от страха перед будущим, вился как червь. Как и всегда, после вторых петухов спускался к берегу и, согрев мотор, несся по сонной воде к рыбным садкам и сетям. Пускал в ход сак.
…Привозил Завьялов из Ялуторовска стопки красных червонцев.
— Напополам! — говорил он. — Я, брат, только по совести. Хотя возить эту треклятую рыбу — канительное дело. Особенно одному.
— Угу. — Виталька двигал кадыком, бросал в завьяловскую кучку лишнюю десятку. Завьялов не отказывался. Он, будто внюхиваясь в Витальку, спрашивал:
— Отдаешь? Ну ладно. За мной бутыль армянского.
Кусал Виталька губы: «Берегите! Очень полезный человек для людей!» Эх, замарался ты сызнова, товарищ Виталька Соснин! И все, что было в прошлом, все решительно казалось выкрашенным ядовитой краской… Завьялов ругал нового директора школы Стеньку Крутоярова.
— Согласиться поехать на работу, зная, что место занято, сесть человеку на голову? — шипел Завьялов. — Это порядочный человек себе позволит? Никогда! Это может позволить только карьерист, завистник или пройдоха!
— Что она вам, эта работа, далась? — притворно зевал Виталька. — Что вы с голоду умираете?
— Дело не в работе, а в совести. Такие люди и брата родного продадут!
— Кретин, конечно, Стенька, — соглашался парень.
Однако при встречах со Степаном Виталька чувствовал себя стесненно. Потому что усвоил он, что быть со Степаном запанибрата нельзя, что хотя он и сверстник, но совсем не такой, с какими водился Виталька, что содержит он в себе какую-то иную страсть. Это раздражало Витальку и бесило.
Считал Виталька белое и черное в своей жизни на одних счетах и получалось, что ничего белого не было. На короткие мгновенья он переносился в детство, в голубой мираж с глобусом и мелом, со школьными партами, с гвоздиками и футболом. Перекидывался на совсем недавние дни, видел румяную физиономию Пегого, дальний остров и испарину на посоловевшем лице Галки… И вставал, как вий, страшный во злобе, сухой и черный Егор Кудинов, Галкин отец, с руками, впитавшими за десятилетия окалину наковальни. Узнает о случившемся — не попадайся… Виталька встряхивался от страха. Он слышал резкий щелчок складешка и слова заикающегося Степана: «Девушку опозорил, а сам в кусты?» И удар, высекший из глаз фиолетовые искры. Виталька даже не рассердился на Степана, до того ясно почувствовал свою виновность перед ним, перед семьей, перед матерью и Зойкой, и дядей Афоней, перед всеми односельчанами.
Но все это куда бы еще ни шло, если бы не стыд перед Павлом Крутояровым, поверившим в Виталькино исцеление, не позор перед памятью отца.
Это была беда!
И мать, Акулина Егоровна, замечала, какие бури живут в сердце сына, и, пытаясь спасти его от чего-то непоправимого, говорила с наивной верой желанные и понятные Витальке слова:
— Ты сходи к Екатерине Сергеевне. Скажи всю правду. Посватай. Какого ей еще жениха надо?
Так продолжалось много дней и недель, и Виталька стал свыкаться с материнскими думами. Стычка со Степаном Крутояровым лишь укрепила в сознании Витальки уверенность в том, что мать права: он помнил крик Екатерины Сергеевны, полный неприязни к Степану: «Как вы смеете?» — и видел ее расширенные в гневе глаза.
И он пошел к Сергеевой со сватовством.
Она не суетилась, не извинялась, не угощала чаем. Просто сидела, приложив к губам толстый красный карандаш, и размышляла:
— Ты хочешь на мне жениться? Это хорошо, что ты сам решил со мной поговорить. Мне рассказали, что могут прислать сватов.
Тон, каким говорила Сергеева, расстроил Витальку.
— Перестаньте притворяться! — выпалил он «невесте».
Но Сергеева лишь удивилась его выпаду, и он увидел, что она не притворяется, а хочет быть откровенной, но получается все скомканно и конфузно. Она подтвердила это:
— Честное слово, я не притворяюсь, Виталий. Ты сам не подумал как следует, почему я не могу выйти за тебя замуж… Ты почему-то не спросил меня о другом… О любви… Так, наверное, и бывает: образуется новая семья на сговоре, на игре, а любви настоящей нет… Я была детдомовской… Сверстницы мои, девчонки, имели родителей… Мы говорили между собой, как это мы называли, «голыми истинами». Оказывается, часть семей в наши дни несчастны, потому что построены на лжи, в лучшем случае — на сговоре… Значит, выйти замуж — не все тут счастье. И, значит, подход к браку некоторых никуда не годится! Его надо заменить другим.
Он слушал и не узнавал ее. Ранее она была весела, общительна, а тут! Шпарит без шпаргалок, как на лекции. В Витальке росло раздражение: «А щи, поди, варить не умеет. Ну, и глупы же мы с мамкой. Сами себе присуху выдумали. Сошелся бы с такой — всю жизнь бы неравным с ней был, воду на горбу возил да пеленки стирал! Красивая? Ну и что из этого? Красавица так наперчить может, что чихать станешь. Куда мне до такой! Я деревенская косточка, колхозник, а она ишь какими словами разговаривает!»
Набухало Виталькино сердце От беспомощности, а главное — от ясного сознания своей отсталости. Погулял свое время по колониям, дурак! И метался Виталька вкривь-вкось, как плененный мережею окунь.
— Можно тебе один вопрос задать? — Он встал, тень закрыла полкомнаты. Сергеева засмеялась:
— Можно. Ты, как ученик в школе?
— Ты очень любишь Стеньку Крутоярова? А он тебя? А ты уверена, что с ним придет к тебе это самое счастье?
Едва заметная досада тронула лицо Сергеевой, и она, как и обычно, вздохнула тихо и нежно. Виталька это заметил.
— Ты ведь не уверена. Конечно, он образованный. Но учти, он дикий и еще похлеще меня. Черствый, как его отец, Крутояров Павел Николаевич. И кто может на него положиться? Кто может знать, что он завтра выкинет?
— Замолчи, Виталий! Это не честно с твоей стороны. Не честно… И не надо меня спрашивать о Степане…
В дверь тихо постучали, и на пороге показался Увар Васильевич.
— Ох-хо-хо! Шел сказать «совет да любовь», а пришел — что говорить?
Виталька и Сергеева непонимающе глядели на вторгшегося неожиданно Увара, но он не терялся долго:
— Придется сказать так: «Милые бранятся — только тешатся!»
— Перестаньте, Увар Васильевич.
— Извините. — Дед понял оплошность и затих, переминаясь с ноги на ногу. Все стояли молча.
— Я, конечно, еще раз прошу извинения, но я по делу. Местком поручил мне, Екатерина Сергеевна, проверить, какая нужда у наших учителей имеется насчет дров или еще чего… Мне об этом придется докладывать на собрании… Ну, так вот я хожу по квартирам. Вы извините, если у вас до меня дел никаких нету, то я потопаю. Потому как у меня тоже Еремеевна дома сидит и тоскует…
Последняя фраза все поставила на место. Сергеева засмеялась. Виталька взялся за пальто.
— У меня, Увар Васильевич, все хорошо. И дрова есть, и тепло. Спасибо вам, милый Увар Васильевич!
— Ну, если так, то прощевайте. Не вовремя приперся. В гости к нам приходите!
— Мы вместе пойдем, дедо, — сказал Виталька. — Нам по пути.
* * *
Не было покоя в сердце Павла Крутоярова. Не потому, что встреча со Стенькой получилась холодноватой и увидел он в ней горестные ростки отчуждения, не потому, что Людмила свежими глазами разглядела в Рябиновке, в его колхозе, зачатки опасного застоя. Не потому.
Степану Павел верил не без оснований. Он знал: сын найдет правильный радиус действий здесь, в Рябиновке, и с хорошей сыновней верностью оценит его, Павла. Иначе, зачем бы Стенька приехал в Рябиновку? В любую минуту сын может стать за отца горой. Павел испытал его на прочность давно. Он сам готовил его к жизни и мог на него положиться как на самого себя. Павел часто сердился на своих односельчан, отцов и матерей, беспомощно разводящих руками: «Совсем сынишка от рук отбился, того и гляди на худую дорожку встанет». — «Значит, отбился? — спрашивал Павел. — Значит, и нахулиганить может, и человека ухлопать, и в тюрьму попасть, или еще что-нибудь набедокурить? Так вот, ты сам в этом виноват… Вот тебя, если бы мое право, надо бы в тюрьму сажать. Чтобы ты отвечал за воспитание своего сына по всей строгости… Али ты только делать детей умеешь, а взращивать их гражданами страны дядя будет… Не понимаю, как это мой сын, сказать к примеру, или моя дочь может делать то, что мне и моему народу и моему государству претит?»
Павел был доволен Стенькиными словами, сказанными в тот вечер: «Еще и встречи не было настоящей, папа, а ты уже и прощаться? Нет, так не пойдет!»
Не Стенька был причиной бессонницы и беспокойства, не Людмила Долинская, и не колхозные передряги. В колхозе все шло по порядку. Рябиновка с ее старой крестьянской закваской была прочна… Прошла трудная, с беспрестанными дождями и мокрым снегом осень… Было такое… Прорастали местами тучные хлебные валки. Но Павел старался вести дело без срывов, спокойно. В трудное время можно потерять голову, принять опрометчивое решение и непоправимо навредить делу. И эта невозмутимость Павла Крутоярова в самые трудные дни, когда непогодь губила спелый хлеб, выводила начальника районного сельхозуправления Верхолазова из равновесия… Шли дожди с мокрым снегом, лежала сваленная в валки пшеница, и Верхолазов, приезжая в Рябиновку, с откровенной злобностью налетал на Павла: «Хлеб под дождем портится, а у тебя комбайнеры пьянствуют!» — «Ну и пусть, — отвечал Павел. — Что им в такую погоду-то делать?» — «Товарищ Крутояров! — зеленел начальник. — За такие разговоры судить надо!» — «За разговоры нынче не судят, Виктор Витальевич».
Крутояров и в самом деле смотрел сквозь пальцы на своих комбайнеров, устраивавшихся по хатам с бутылками рябиновой настойки и уныло бражничавших. Да и все они знали: председатель помалкивает потому, что ждет вёдра. Настанут погожие дни (пусть два-три денька) вот уж тогда не отдохнешь, не даст никому спать, и сам не подумает об отдыхе. А за бражничество в такое время, не приведи бог, что может быть от председателя. Разнесет. Знали характер Павла Крутоярова, совершенно не допускающий никаких скидок. Попробуй попасть в такое время даже с едва уловимым запашком водочки — налетит как коршун, сжует.
Они и в самом деле пришли, эти ясные дни с солнышком и голубым небом, и рябиновцы выхватили хлеб у непогоды, измучившись без сна в корень, заросши грязными бородами до самых глаз. «Вы хотя бы умывались, черти! — посмеивался Павел, бывая на полевых станах, приглядываясь к знакомым лицам хлеборобов. — Таких во сне увидишь — испугаешься!» — «Ничего, после уборки отпаримся!» — отвечали.
За две недели, отпущенные природой, отстрадовались полностью. Чистые, сухие семена — две нормы — засыпали в хранилища, выполнили полтора плана по продаже хлеба. И солому стащили с полей, уметали на кормоскладах, и зябь вспахали.
В те осенние дни Павел, глядя на Людмилу, беспокоился: «Ноги нет. Все время в работе. Ослеп я, что ли? Трудно ведь ей». Когда оставались наедине, обнимал ее, грел руками лицо: «Все воюешь, агроном!» — «Воюю, Паша. Жить без этого не могу. Нынче семена будем менять. Семена надо хорошие. В них большой резерв. Центнеров по пять-семь прибавки с гектара может быть. Хватит нам на месте топтаться». — «Давай, давай, только все заранее надо продумать». — «Ты сомневаешься?» — «Нисколько я не сомневаюсь, Людмила Александровна. Только время сейчас подошло такое, когда ничего не следует делать кампанейски. Кампании отошли. Не такие уж мы богатые, чтобы ради лозунга деньги на ветер бросать!» — «Хорошо. Подсчитаем. На отчетно-выборном собрании решим».
И никак не могли заговорить об одном, о Стеньке. Какое же должно быть у нее, у Людмилы, отношение к Степану Крутоярову? Он ни разу не был у них, Людмила ни одним словом не обмолвилась с сыном Светланы. В этом была какая-то ненормальность. Не сумели они даже в этом возрасте выработать свое отношение к таким жизненным вопросам… Лучше о делах, о колхозе, о людях, с которыми трудишься. Это ближе. А Степан? Что можно было говорить о нем? Заговоришь — запутаешься, потом разбирайся, переживай.
Колхоз. Много лет получалось у Павла Крутоярова так: весной ругают за отсебятину с севом, за своевольство с продажей мяса, яиц, шерсти; осенью, когда выведут результаты, — хвалят.
Павел привык к этому.
И когда в районной газете появлялись обзоры сводок, где имя его склонялось во всех падежах, — посмеивался, звонил редактору: «Не забудь в следующем номере упомянуть, что план по шерсти в первом полугодии мы не выполним. У нас овечки мироносовские, а их только раз в году стригут!»
Когда секретарем райкома партии избрали молодого инженера, во всем строе Чистоозерского района наметилось осязаемое изменение. Секретарь говорил так: «Надо уходить от дежурных лозунгов. Этим заниматься некогда. Яйца заготовлять следует не перед пасхой, когда у старух куры несутся, а круглый год, и молоко, и мясо — тоже каждый день надо. И тут лозунгом «Выше надои!» дело не выправишь. Нужна система, высокая механизация, последовательность и спокойствие. Давайте без лишнего шума за дело браться!»
Павел, слушавший выступления секретаря, приободрился: его мысли будто читал партийный руководитель. А секретарь, отгадывая источник этой бодрости Крутоярова, задумывал, по предположению Павла, что-то… Этим «что-то» было приглашение поработать начальником районного управления сельского хозяйства.
Только ему, первому секретарю райкома, и сказал Павел откровенно о причинах своей бессонницы и тревоги.
— Болен я, кажется. Пуля от немецкого парабеллума в легких. Врачи говорят, что она закапсюлировалась и что все это пустяки. Раньше и я так же думал, потому что не чувствовал ее. Сейчас слышу. Как камень в груди лежит. Дыхание перехватывает.
— Подлечишься, Павел Николаевич.
— Вот когда подлечусь, тогда и разговор этот продолжим.
Она зашевелилась в груди неожиданно. В тот день шофер Геня выдавал замуж младшую свою сестренку Агнейку.
— Вы, Павел Николаевич, сегодня один поездите на «газике», — попросил он. — Вот ключ вам. Бензин я проверил, масло — тоже… А к вечеру к нам в гости… Обязательно.
— Ладно, — согласился Павел и отпустил Геню.
…Кровь пошла из горла, когда Павел был на полпути в райцентр. Она заполнила рот, плеснулась на рулевое колесо, оплетенное разноцветной вязью из тонкого гупера. «В больницу, срочно!» — приказал себе Павел. Он выжимал из «газика» все, что мог. Ревел за тентом ветер, с уханьем пролетали встречные автомобили. На ближайшем к райцентру посту ГАИ махнул жезлом автоинспектор. Павел проскочил мимо. «В больницу, срочно!» Он видел в смотровое зеркало, как развернулась и понеслась за ним автоинспекторская «Волга». И испугался одного: обгонит, встанет поперек дороги. Смерть и так и этак.
«В больницу, срочно!»
«Газик заглох у самого входа в приемный покой районной больницы. Щелкнула дверка, и грузный окровавленный человек тяжело вывалился из машины.
Качнулась, взвизгнув тормозами, милицейская машина.
— Ваши документы… Павел Николаевич? Что с вами?
* * *
Телеграмма разламывалась на две половины. Первая гласила о том, что в институте состоится традиционная встреча выпускников, и была казенной, вторая обдавала внезапной теплотой: «Приезжайте. Ждем. Обязательно». Степан нахмурился от неожиданно нахлынувшего волнения, представив себе на миг тенистый скверик у входа у институт, тихие всплески девичьего смеха и сутолоку у раздевалки. «Поеду», — решил сразу.
Утром перед отъездом была еще телеграмма:
«Из больницы выписался. Приедешь в город, ищи гостинице. П. Крутояров».
Степан с нетерпением ждал предстоящей встречи с отцом, с друзьями, смеялся, превращаясь в мальчишку, готового созорничать и сбежать, показав всем язык. И все вокруг было смешным и бедовым. И надпись на закуржавевшем стекле автобуса: «Мужайтесь, люди! Лето будет!», и пятилетний деревенский бутуз, спрашивающий при подъезде к городу: «Для чего это, маманька, уборных столько наставлено?», и молоденькая мать, вполне серьезно объяснявшая сыну: «Это дачи, Глебонько, летние домики для горожан». И усатик-шофер, громогласно объявлявший: «Внимание, гражданы! Впереди кочкя, дилижанс будет лягаться!»
Встреча с отцом, как обычно, была сдержанной, хотя Степан наскучался об отце по-человечески…
У отца была стриженая голова и огромные глаза. Он спрашивал:
— Как там Рябиновка? Поди, дрова ломаешь?
— Нет, папа! До этого дело не дойдет.
Они сидели в маленькой, как товарный контейнер, комнатке новой гостиницы до полуночи. И отец все как-то неестественно торопился, доставал из-под кровати чемодан, совершенно незнакомым голосом говорил Степану:
— Вчера письмо от матери получил и посылку. Бабушкиных копейских шанежек напекла, тебе велела передать, чудачка… Для матери и взрослое дите — все равно дите. Вот, давай поешь!
Неловкость отца была такой неприкрытой, что Степан поторопился притушить ее:
— А я и в самом деле люблю шанежки!
И это еще больше расклеило разговор. Застряла в мозгу какая-то отцовская недосказанность. Что с ним, с отцом?
Все три дня, пока был в городе, Степан не забывал неловкий отцовский жест. Степан ходил по городу своей юности вместе с однокашниками, ставшими солидными Игорями Петровичами и Олегами Ивановичами, и город, казавшийся ранее чистым, умытым и легким, повернулся какой-то другой стороной, подержанной и захватанной. Уродливая скульптурная группа, названная «Памятником основателям города», серые урны на обочинах тротуаров, дымящиеся горьким дымом, замусоренные подъезды и пропахшие жареной рыбой хек столовые, и нечисто убранные кафе с надоевшими названиями: «Огонек», «Старт», «Звездочка», «Минутка», — и злые продавщицы — все раздражало Степана. Ныло на сердце необъясняемое горе отца. Отец не сказал что-то важное… Это, наверное, отношения с Людмилой… Ничего-то из всех мучений у отца не получается… Все перепуталось.
Стараясь отвлечь отца, скрыть от него свои догадки, Степан рассказывал ему разные веселые побывальщины, замеченные в Рябиновке, смеялся и острил. Но отец раскусил и эту Степанову хитрость, был серьезен и, как всегда, непроницаемо спокоен.
— Деревня — это кладовая мудрости и языка, — соглашался отец. — Я за годы работы в селе такого наслушался, если бы записать — книга бы вышла.
— Я записываю все в блокноты. Вот послушай, папа! И горько и смешно!
— Давай спать, Степан. — Лицо отца осунулось и было чужим. — Ты извини меня… Плохо что-то со здоровьем… Сильно мешать стала проклятая.
— А врачи-то все-таки, что говорят?
— Что врачи? Пока этот месяц лежал, многие около побывали… Ты, если мать что будет спрашивать, не говори ей ничего. Она же паникерша великая, ты же знаешь. Это ее сломит.
…На следующий день они попрощались с отцом, уезжавшим в Рябиновку.
— Может, ты рановато, папа, выписался?
— Не рановато. Через пять дней отчетно-выборное собрание. Праздник. Там без меня никак нельзя.
Одна кровать в номере осталась свободной, и Степану от этого стало совсем не по себе. Весь последующий день его не покидало чувство боязни за отца.
На прощальном банкете он выпил немного коньяка, был трезв, и вновь, придя вечером в гостиницу, не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами, пугался неистового бреда нового постояльца, спавшего на кровати отца. Незнакомец задыхался и стонал. Потом вскочил, подошел к портьере и закурил.
Степан спросил его:
— Расскажите, что с вами? От этого легче бывает.
Все оказалось понятно и просто. Незнакомец не мог спать, потому что во время войны ему пришлось проехать по заминированному шоссе. Он проехал, но сейчас почти каждую ночь все еще движется по этому шоссе. Волосы его стали уже изжелта-белыми. Врачи бессильны перед его болезнью. Никаких лекарств она не боится.
…Часа в четыре ночи в соседнем номере хлопнула балконная дверь, кто-то вышел на балкон, долго и надрывно кашлял. Степан не мог улежать, скользнул к двери, хватая полной грудью морозный воздух. Он услышал в чистой утренней звени приглушенные голоса:
— Может, мне позже приехать?
— Как же можно позже и на чем?
— Автобусом.
— Но зачем автобус, когда «Волга» копытами стучит!
— Там у вас придется два дня кантоваться. Обратят внимание.
— Ну и туп же ты, Пегий.
— Да что? Что?
— Расчет в банке получат не в день собрания, а сегодня, то есть, значит, за три дня.
— Ну?
— Возьмешь. А ночью я тебя до станции доброшу. Никто и не узнает.
— Идет.
Начинался рассвет. Незнакомец лежал на кровати. Спал. Степан боялся шевельнуть пальцем, повернуться. Ему хотелось закричать. «Деньги будут в сейфе… А она спит, как праведница!» Это был знакомый голос. Тот, которым был обварен Степан как кипятком: «Крутояровский приемыш в директора приехал!»
Это говорил Завьялов.
Перед рассветом стемнело, как это обычно бывает зимними ночами с вызвездившимся небом. И Степан сам не помнит того, как заснул. «Мне все ясно, — говорил он за минуту до этого. — Прихожу в аэропорт, беру билет до Чистоозерки. А дорогой все обдумаю… Нервишки, наверное, начинают шалить. Да и трус. Надо было сразу позвонить в милицию, сказать, что Завьялов что-то задумал вместе с каким-то жуликом. А если неправда? Надумаю, насочиняю о людях чего-нибудь, а потом — срам! Самая больная боль на свете — быть оболганным!»
…Бывают какие-то совершенно непонятные жизненные обстоятельства. Все машины, все такси — к вашим услугам, будто все стараются помочь вам. Утром Степан очень быстро оказался в аэропорту и тут же купил билет на Чистоозерку. И тут же объявили посадку на самолет, и не более как через десять минут он дышал на запотевший иллюминатор, пытаясь разглядеть знакомые колки и дороги, и красивые, распланированные по линейкам Гипрогорсельстроя колхозные и совхозные фермы с маленькими дымками труб, спокойный бег косуль и лосей по белоснежным коврам, застилавшим местность.
Он хотел прилететь в свой райцентр, быстро приехать в Рябиновку и спасти колхозные деньги. Но это ему не удалось. Районный аэропорт не мог принять его из-за снеговой завесы, двигавшейся с востока, из-за того, что пропала видимость, что не было сигнальных огней на вершинах маленьких пирамидок, окаймлявших летное поле. Из-за каких-то других причин… «Аннушка» ушла обратно и точно, на все три ноги, приземлилась на областном аэродроме. Заглох, оборвал суету мотор. Степан увидел размахивающий беспомощными и всезнающими руками локатор.
У Степана немели пальцы, а на лице нельзя было прочесть ни тени возмущения. Знакомый чистоозерский мужчина тянул его в веселое кафе «Пилот»: «Айда, директор, там пиво дают». — «Нет! Что вы? Не могу!» — эти слова Степан произносил так, что мужчина пугался: «Ты чо, я ведь ничо!»
Вьюга закружила, будто одурело все вокруг и специально мешало Степану. Он стискивал зубы, яростно сжимал захолодевшей рукой рукоятку портфеля с медными застежками.
* * *
Лишь на следующий день, к вечеру, Степан Крутояров добрался до Рябиновки. Первой, кто его встретил, оказалась Катя Сергеева. Она и рассказала Степану, как Виталька Соснин задержал преступника, пытавшегося ограбить колхозную кассу, и какие кривотолки идут по селу.
Степан радостно улыбнулся:
— Какой все-таки молодец Виталька!
И тут же раздался телефонный звонок. Степан схватил трубку, будто боялся, что на другом конце провода раздумают говорить и нажмут рычажок.
Голос Егора Кудинова был усталым:
— Здорово, Степан Павлович. Как приехал?
— Спасибо. Хорошо. — Какая-то непонятная радость нахлынула на Степана. И он старался не скрывать ее от Сергеевой.
— Повидаться бы надо. Дело есть.
— Я сейчас же приду, Егор Иванович. У меня к вам тоже есть дело.
Сергеева встала, запахнула длинные уши эскимоски, лицо ее было счастливым.
…В кабинете Кудинова был Завьялов. Несло махоркой и донником. Растекался под потолок горячий запах сенокоса. Кудинов курил самосад и кашлял:
— Черт знает что творится! На тебя, Степан Павлович, а значит и на всех нас, анонимку написали. В райком. Обвиняют тебя в самоуправстве, в оскорблении учителей, в пьянстве и в драке… В чем только не обвиняют… «Подписи не ставим, потому что знаем, что житья нам после этого не будет… Так было уже не раз…» Вот я и пригласил тебя и еще вот бывшего директора, товарища Завьялова, давайте поговорим…
Завьялов сидел на диване в японской тетароновой куртке с молниями и небрежно свисающим шелковым шнуром для затягивания воротника. Тяжелая грива посеребрившихся волос скатывалась с затылка. Степан сразу заволновался:
— Мне можно взглянуть на письмо? — попросил он.
Егор неловко повернулся, задел рукавом пепельницу и рассыпал окурки на пол. Хотел подобрать, но лишь сморщился: «Проклятая поясница».
— И этот Виталька Соснин, — продолжал Егор. — Сколько мы с Павлом Николаевичем ему хорошего делали… И вот… Опять связался с ворюгой, вывел его на колхозную кассу. Опять ЧП. И все у нас, в Рябиновке.
Степан оторвал взгляд от письма, подошел к Завьялову. Завьялов изменился в лице:
— Что с тобой, Степан Павлович? — преодолевая дрожь в голосе, спросил он.
— Это письмо сочинили вы. А почерк вашей дочери Валюши. Вы приобщаете ее к подлости… И вора в Рябиновку привезли вы, на вашей «Волге». Вы ему и сообщили об отчетном собрании и о деньгах. Вы хотите все свалить на Витальку. Но вам его уже не осрамить. Ваша грязь к нему не присохнет!
Егор увидел, что младший Крутояров стал до неузнаваемости страшным, и он пристукнул ладонью по столу. Завьялов захрипел, выкрикивая ругательства. И тогда Егор жестко усмехнулся:
— Собака, бывало, и на владыку лаяла.
Потом снял телефонную трубку.
Метель-метелица — горе наше зауральское и радость. От декабрьского солнцестояния до мартовского равноденствия всему владыка. Гуляла в камышах, в рябиннике и отступила. И, будто извиняясь перед Рябиновкой, перед степью, озером, лесом, выглянуло солнышко, не белое и не желтое, а по-настоящему красное. И зажглись от красного света в оконных стеклах пучки рябиновых солнц. Убаюкивалась, укачивалась погода. Смирнела поземка, словно вода, ворвавшаяся в широкое гирло.
Письмо Марии Никитичны было покаянным. Степан читал его, и ему казалось, что он заглядывает в самые потаенные стороны жизни женщины. Хотелось отвернуться от письма, чтобы не видеть чего-то стыдного.
«Что меня с ним связало? Малодушное отношение к жизни… Наша семья всегда жила в достатке. И даже война не принесла нам никакой беды. Во время войны мы жили веселее и лучше. У нас было свое хозяйство: скот, птица, огород. Отец был заведующим зерновым складом, и хлеба у нас всегда было вдоволь. Когда в Рябиновке появились эвакуированные, отец продавал им мясо и картошку по высоким ценам. Оболванить голодного человека — проще простого. И денег у нас всегда было много, полная наволочка от подушки. Она лежала в комоде, в нижнем ящике. Сколько там было денег, никто не считал. Другие вносили свои сбережения в Фонд обороны или отдавали на строительство самолетов и танков. Мы ничего никому не давали.
Мне было четырнадцать лет, когда в школе начался сбор средств на Челябинскую танковую колонну, и я взяла из наволочки немного денег. Но отец избил меня. Я кричала на него, называла «куркулем», «буржуем». Но он сверкал единственным глазом и твердил одно: «Которая душа чесноку не ела, та и не пахнет. Не учи меня жить».
Я не понимала, что отец и мать копили для меня — для единственной дочери… Не замечала, что мои сверстницы одеты в штопаные платьица и в какие-то американские «подарки» с чужого плеча. У меня к каждому празднику были новенькое платье, костюм или шапочка. Отец уезжал в город и привозил оттуда великолепные вещи. Сколько и чем он платил за них, я никогда не спрашивала.
В этом письме я ничего не придумываю. Потому что писала его все эти годы, в себе, к какому-то большому человеку…
Когда кончилась война, я училась в девятом классе и жила в райцентре. Своей школы-десятилетки у нас тогда еще не было… Я не хотела жить у дяди Андрея Светильникова и устроилась постоялицей у молодой вдовы Олимпиадушки. Она и сейчас живет в Чистоозерье и работает хозяйкой гостиницы. Осенью у меня один за другим, будто сговорившись, ушли из жизни родители. Перешедший мне в наследство дом вместе с живностью я перепоручила дяде, забрав с собой только наволочку с деньгами.
Мы жили с Олимпиадушкой в ее просторной горнице неунывно. К Олимпиадушке каждую ночь приходил бывший фронтовик, заразительно смеявшийся и наигрывавший на баяне вальс «Неаполитанские ночи», маляр. Она покупала ему бидоны самогону, и они пили. Я учила уроки на кухне, а спать залезала на полати. Я мечтала стать врачом. Нашла и переписала в тетрадь клятву Гиппократа и читала вслух бессмертные строчки: «Не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла».
Веселый маляр был не так весел, если Олимпиадушка не ставила ему полный бидон. Однажды Олимпиадушке сказала: «Тебя, поди, завидки берут, Маша. Тогда давай денег, я попрошу его, он и тебе приведет хахаля!» Я дала Олимпиадушке деньги, целую горсть… Кончилось все тем, что экзамены за десятый класс я сдала на нетвердые «тройки» и уехала к себе в Рябиновку, оставив в Олимпиадушкиной горнице под кроватью пустую отцовскую наволочку. Дядя Андрей Ильич ругал меня и учил, наставляя по-отцовски. Сорочьи бабьи ярмарки за оградами и на завалинках обсуждали меня и приходили к выводу: «Чужой мужик мил, да не век с ним жить».
В это время я встретилась с ним. Он писал мне всю войну нежные письма. Созрела заранее подготовленная Андреем Ильичом (он был большим районным начальником) задумка: «Жизнь каждый человек должен устраивать себе сам». Мечта о медицинской профессии рассыпалась.
Завьялов был фронтовик. Он привлек меня. У него было много денег, более двухсот тысяч рублей старыми… После реорганизации района он стал учителем, а потом директором школы… Еще там, в Чистоозерье, в первую ночь, он избил меня. Бил не по лицу, а по спине и по бокам, очень больно и вроде бы наслаждался этим. Я никому не пожаловалась: считала себя виноватой. В жизни могло быть и похуже. Чужими советами не проживешь. Помочь в этом деле все равно бы никто не мог. Да и не хотела я ничьей помощи. Я все еще смотрела на всех с точки зрения своей исключительности. И рядом с гуманнейшими, вытесанными на камнях истории словами: «Не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути к подобному замыслу» стала зреть грязная формула: «Никому, ничего и никогда не давай вообще. Строить жизнь можно и на несчастье других, пусть даже друзей и родителей». Это подтвердил и Завьялов. Он говорил: «На зарплату, которую мы с тобой получаем, могут существовать только нищие или технички. Нам это не подходит».
У нас была корова, мы держали две свиньи, по тридцать-сорок гусей. Сами, конечно, за ними не ухаживали. Все хозяйство вела тетя Поля. Завьялов выплачивал ей за работу за счет какого-то «безлюдного» фонда, выделяемого школе. Когда родилась Валюша, он сказал мне, что надо завести серебристо-черных лисиц и песцов. «Рыбу зверям буду добывать я, а все остальное придется делать тебе». — «Дурной ты, — мягко отговаривала я. — Что у нас, жить совсем не на что?» — «Временами и дурной умные речи говорит. У нас дочь. Расходы будут расти. Отрубил бы я по локоть ту руку, которая к себе не тянет».
Мы развели у себя во дворе настоящую звероферму. Заходить, особенно летом, к нам было нельзя: очень тяжелый запах стоял вокруг. Зато каждую осень мы обрабатывали шкурки и, сдав их в промхоз, клали на книжку по пять-семь тысяч рублей.
Завьялов никого не признавал и никого не боялся, разве только одного Павла Крутоярова. Но Крутояров просто не замечал его.
Мы купили «Волгу», нам завидовали все. Говорили, что мы настоящая пара, что наша семья счастливая. Никто не мог знать, как мы живем… А счастья у нас никогда не было. Потому что я не любила его, не только не любила — ненавидела. Но деваться мне было некуда, и я терпела, пока в школу не приехала инспекция во главе с заведующим районо Сергеем Петровичем Лебедевым. Завьялов приготовил для Сергея Петровича хороший стол, пригласил его к себе, но Сергей Петрович отказался. В эту ночь мы по-настоящему разругались с Завьяловым. Он сказал мне, что я могу убираться на все четыре стороны.
Вы думаете, я куда-нибудь ушла? Нет. Я проревела всю ночь, а утром была в школе. И никто не узнал, что было со мной. «Не дам никому просимого у меня смертельного средства!» Это средство нужно было мне самой, и я его несколько раз хотела применить… Но школа! Она влекла меня своей ласковой, притягательной силой… Каждую осень я вхожу в классы, вдыхаю запахи свежей краски, слышу звон березок под окном (я посадила их с ребятами в первый год работы в школе), и сердце мое замирает от радости: неужто можно все это покинуть?!
В последнее перед его арестом время я хорошо видела все козни, устраиваемые новому директору. Знала, что моя дочка под диктовку писала письмо… Честное слово, я понимала низкосортность всего этого, но вела себя малодушно. Думала так: муж: он все-таки мне, семья, все как-то стерпится. В общем, нужен был взрыв. И он произошел. Сейчас я освободилась от чего-то страшного. Как вы ко мне и к моему письму отнесетесь, не знаю. Но сама я не стыжусь написанного. Я верю вам и нашему коллективу. Надеюсь, что меня поймут, потому что души наших коллег не обмелели так сильно, как моя. Обсудите меня, прочтите мое письмо всем учителям».
Впервые без надсады Степан Крутояров беседовал с Марией Никитичной:
— Обсуждать на педсовете или читать кому-то вслух эти строчки, — говорил Степан, — мы не будем. Нет в этом никакой необходимости. Надо забыть, Мария Никитична, все наше несладкое прошлое. Мы не потеряли и не потеряем к вам уважения. Работайте спокойно!
Мария Никитична благодарно смотрела на Степана, по щекам ее катились слезы.
* * *
Гудел как улей рябиновский колхоз имени Михаила Васильевича Фрунзе. В колхозной столовой, названной по предложению Павла Крутоярова «Русские блины» и оснащенной по-городскому, собрались на стряпню пельменей бабы. Так повелось издавна, когда еще столовой не было, а была просто колхозная пекарня. Стряпать пельмени к отчетно-выборному собранию баб никто не заставлял и не приглашал. Они собирались сами.
Павел Крутояров, заглядывая в чистые окна столовой, говорил своему пройдошному шоферу Гене:
— Гляди, сколько женщин собралось. Ты думаешь, бригадир их сюда посылает? Нет? А зачем они собрались?
— Сплетничать, — резонно отвечал Геня. — Они там без вас отчетный доклад сделают и в прениях напреются.
Крутояров, загнув голову, хохотал:
— Верно, Геннадий, пусть преют. Больше порядка на собрании будет!
Заведующая столовой Зойка Соснина навесила на двери написанное не очень дружелюбно объявление:
«Ввиду подготовки к отчетно-выборному собранию колхоза, столовка не работает. Кому надо поесть — идите домой!»
Тесто готовили при помощи тестомешалки, фарш — на электромясорубке, а стряпали пельмени вручную, на большие железные противни, припорашивая их мукой. Была в колхозной столовой машина для стряпанья пельменей. За одну рабочую смену она могла настряпать не менее тонны. Но пельмени у нее получались никудышные. Не стряпня, а перевод мяса, сочней и приправы. К тому же рябиновские мужики и бабы не любили машинные пельмени, а потому машина бездействовала, и ее собирались сдать в утиль.
Только Павел Крутояров ругался:
— То машину дай — руками стряпать неохота, то машину сдай — без нее настряпаем! Ну, не угодишь!
— Тут вся претензия к изобретателям. Изобрети они добрую машину — никто бы не отказался, — всерьез доказывал Егор.
Верховодили на общественных супрядках[20] обычно Акулина Егоровна и Авдотья Еремеевна. Они пробовали тесто, мясо, проверяли то и другое на вкус, прикрикивали на стряпух и на самою хозяйку столовой Зойку.
Веселая, красивая непотухающей красотой Феша Кудинова заводила песню:
Ой мороз, мороз, Не морозь меня!И пели ее проголосно, с «вытяжкой».
— Никак, отчетное собрание у нас нынче сильно хорошее должно быть: колхоз-от по всем показателям славно поработал! — говорила Зойка.
— Ну и что?
— А то, что первое место — наше, премия областная — наша. И застолье общее для всех будет!
— А чем угощать народ будете? Поди, опять водка да пельмени?
— Водки совсем не будет. Сухое вино.
— Сухое?
— Ну, «Старый замок», «Алиготе», «Цинандали». Вон, полный склад набила.
— Пробовала я это сухое. И «замок» пила и «сына дали». Старик из города привозил. Вкусно, но не крепко. Так, помутило маленько и прошло.
— Понимать надо, Еремеевна.
— Не меньше поди-ка тебя понимаю!
И шли разговоры длинные-предлинные о том, в каком году и когда веселее всего был отчетный праздник, и как накрывали на столы, и кто напивался, кто перепутывал калитки. И как все было.
А в правлении лучилась разноцветными кнопками счетная машина. Павел Крутояров, инструктируя Вячеслава Капитоновича, недовольствовал:
— Эх ты, опять разряд не тот взял.
И щелкал белыми клавишами.
Шумнее всего было в клубе. Ребятишки готовили пионерское приветствие колхозному собранию, и разгоряченная Катя Сергеева повторяла звонко:
— А ну, давайте еще раз… «Вам, знаменитым хлеборобам, вам, знающим закаты и рассвет, мы шлем горячий пионерский, пионерский наш привет!»
А в дальнем конце зрительного зала охало: «И-и-и-и-е-е-е-т!» Пели горны, сыпалась барабанная дробь. Степан разглядывал лица ребятишек, несших знамя, видел, как упрямятся мальчишечьи вихры. Степан сказал маленьким актерам:
— Хорошо подготовились. Молодцы.
— Спасибо, Степан Павлович! — отвечала Катя. — Стараемся.
Она загадочно улыбалась.
…И вот воскресенье. Белыми хлопьями валил снег. Стоял слабый морозец. В половине одиннадцатого утра в клуб собрались не только колхозники, но и учителя, и работники участковой больницы, и сельповцы во главе с Федором Левчуком, и ребятишки — участники пионерского приветствия.
Собрание открыл Егор Кудинов. Покашливая, он вышел на сцену, поправил зачем-то и без того ровно стоявшие стулья для членов президиума и сказал:
— С праздником вас, товарищи, с отчетным собранием и с днем земледельца!
Все хлопали в ладоши.
Когда-то Павел Крутояров и Егор Кудинов мучились в раздумьях. Жег их стыд за Рябиновку. Дело в том, что рябиновские мужики стойко поддерживали все праздники: и старые и новые. Отмечали Первое мая и пасху, Красную борозду — конец сева и тихонскую, годовщину Великого Октября и престольный рябиновский праздник — михайлов день. И получалось так, что некоторые из выпивох неделями ходили хмельные.
От традиционных престольных праздников, содержащих в себе не столь религиозную основу, но стоявших на принадлежности селу, трудно было избавляться. Праздники были у каждого села свои. И потому сельчане обычно из кожи лезли, стараясь не упасть в грязь лицом перед другими.
Крутояров и Кудинов решили дать бой «своему» престольному празднику. Они сделали это хитро и тактично, не докладывая о результатах в райком и ни с кем не делясь опытом… Колхоз носит имя Михаила Васильевича Фрунзе, размышляли, престольный праздник — тоже михайлов день. И в это же время подходит пора проводить итоговое собрание колхозников. Так нельзя ли проводить отчетное и отмечать день рождения любимого военачальника и полководца, и по боку святого Михаила? Однако оказалось, что ни дата рождения, ни дата смерти прославленного командира Красной Армии не совпадают с михайловым днем.
Но Крутояров и Кудинов не сдались перед этой «тысячей» неопровержимых фактов. Они упорно добивались, чтобы отчетно-выборное собрание проводилось во время, хотя бы примерно совпадающее с михайловым днем, и называли этот праздник — праздником урожая… Прошли годы, и в головах рябиновцев перепутались немаловажные понятия: готовясь к колхозному собранию, они вспоминали, что это же старый михайлов день, но называли его уже праздником урожая. Старухи сердились на неверных, а молодые отчаянно сопротивлялись: «Никакой тебе, бабушка, не михайлов день. Праздник урожая, и все. Михайловых дней сейчас не бывает. Крутояров с Егором отменили».
— Для ведения собрания, товарищи, я предлагаю избрать президиум из семнадцати человек, — продолжил Егор. — Согласны?
— Согласны.
— А кто персонально, я сейчас скажу. — И он перечислил большой список фамилий.
Степан, приглядываясь к его железной фигуре, ухмыльнулся: «Нарушает демократию, черт». Но Егор был невозмутим, он продолжал:
— Работу собрания надо закончить к шести. Кто критику будет говорить по уму — говори, а без дела и по пустякам на трибуну не лезь. Времени нету.
Никакого нарушения демократии рябиновцы, однако, в поведении Егора не увидели. Они аплодировали ему весело и азартно. В президиум был избран и Степан. Шло все так, как было в Рябиновке заведено и как считали правильным. Степан понял это после отчетного доклада отца и доклада ревизионной комиссии, когда на трибуну стали выходить механизаторы и доярки, скотники-пастухи и птичницы. Они, не стесняясь ни Егора Кудинова, ни Павла Крутоярова, ни нового агронома Людмилы Александровны Долинской, говорили обстоятельно и ершисто, без всякой игры и заранее написанных бумажек.
В конце собрания слово попросил Степан.
— Хорошо на душе, когда слышишь о хозяйственных успехах, — стараясь не заикаться, говорил он. — Славно поработали вы, товарищи… Но нам, работающим в сфере воспитания и обучения новой смены, обидно: у вас результаты хоть куда, а у нас — плохие… Значит, сами вы свою марку держите высоко, а о детях позаботиться некогда… Я верю, бывает у вас трудное время… Но ведь не всегда… Я думаю, что за воспитание детей надо спрашивать больше, чем за производство молока, за выращивание телят, за продажу хлеба, мяса, шерсти. Пришло такое время!
Степану аплодировали, как и всем остальным: «Правильно!», «Молодец!» И Егор Кудинов, успокаивая предчувствующих конец прений односельчан, кричал:
— Директор школы верные слова сказал. Насчет воспитания ребятишек у нас выходит прогалызина. А чтобы эту сторону дела не упускать из виду, на следующем отчетно-выборном собрании вместе с докладом председателя о пахоте да об отелах поставим содоклад школы об успеваемости и дисциплине. Так я говорю, товарищи?!
— Верно! — шумел зал.
Степан разглядел нарядных, разрумянившихся колхозников… Вот Афоня Соснин, по-модному постриженный, вон Акулина Егоровна, а вон Увар Васильевич. Пышная борода его вздыблена, нос красен, наверное, пропустил «махонькую» старик… В самом центре зала сидела возмужавшая и, несмотря на беременность, необыкновенно красивая Галка Кудинова, рядом с ней был Виталька. Это совсем неожиданно испортило Степану настроение.
Рано утром в понедельник Степан пришел в школу. Висела в коридорах умиротворенная тишина, пахло свежевымытыми полами, теплом. Огромные стенные часы, висевшие в учительской, ударили семь раз. Вышла из кабинета с цинковым ведром тетя Поля.
— Здравствуйте. А у нас уже гости.
В кабинете, раскуривая маленькую трубку-носогрейку, сидел Сергей Петрович Лебедев. Рядом со старым желтым портфелем лежала на столе распотрошенная пачка табаку с желтой надписью на упаковке: «Флотский».
— Раненько вы, — поздоровался с заведующим Степан.
Лицо Сергея Петровича было озабоченным:
— Батю твоего в больницу привезли ночью. Ну я на его «газике» и махнул.
— Что с отцом? — Степан испугался.
— Не знаю. А ты бы позвонил сейчас Людмиле Александровне.
Степан рванулся к телефону, но Лебедев положил руку на рычаги:
— Нет, пожалуй, не надо. Серьезного ничего нет, а она ведь ночь не спала.
— Вы надолго?
— Два дня. Хватит?
Степан успокоился, начал подробно рассказывать Лебедеву обо всем, что произошло в школе за последние два месяца, но Лебедев слушал его невнимательно и часто останавливал:
— Это не надо. Мне Павел уже говорил. Это ты все правильно. Ты общий настрой мне обрисуй.
— Честно говоря, я мучился после вашего отъезда. За что ни возьмусь, все казалось сыромятиной и прожектерством. А потом решил проще. — Степан запнулся, раздумывая, сказать или не сказать. И начал уже решительно, увлекаясь:
— Мы тут Правила для учащихся перекроили маленько. На свой лад. Мы их сделали пошире и поподробнее. Вы видели, наверное, в коридоре висят…
— И что же в этих Правилах?
— То же самое, что и у всех. Только конкретно. Например, не просто «Не опаздывать в школу», а быть в школе ровно без пятнадцати минут в восемь. Ни раньше, ни позже. Невыполнение этих требований — нарушение. Придешь раньше — попадешь в нарушители… Или такое: разговаривать в школе можно только тихо. Кричать запрещено. По коридору ходить можно только шагом, бегом — нарушение! Вы мне сами сказали в тот раз: «Что от детей потребуешь, то и получишь, надо только договориться с ними, убедить в необходимости того, что от них требуют!»
— И как получается?
— Мы эти Правила каждый день разбираем на классных летучках. Это пятиминутки, до уроков. Я сам присутствую и беседую с ребятами… Со старшеклассниками получается хорошо… Но малышня нет-нет да и забывается… Нарушения дисциплины, Сергей Петрович, идут, это не новость, от грязи, от неуютности в школе, от недостатков в оборудовании…
Мы постарались создать уют… Покрасили все сызнова, побелили, переклали две ранее дымившие печки и принесли в классы и коридоры цветы… Видели, в вестибюле у нас стоит фикус… Это Увар Васильевич где-то достал… Раньше в вестибюле можно было тараканов морозить и мусору было по колено, а сейчас фикус и стол под красным сукном, и стулья… И еще, я нарушил финансовую дисциплину.
— В чем?
— Штапель купил на шторы. По статье «наглядные пособия» деньги израсходовал. Все равно наглядных пособий в этом году не приобрести, а деньги пропадут… Сейчас в классах сами ребятишки сшили и навесили красивые занавеси…
Вошел в кабинет Увар Васильевич. Снял шапку, поздоровался. Присел у окна.
— Что купили шторы — хорошо, — сказал Лебедев. — Но за нарушение финансовой дисциплины будет выговор.
Увар Васильевич хмыкнул:
— Ох, и щедрый же ты на выговора-то, Сергей Петрович… Сколько лет тебя знаю… Да ведь выговор-то — не туберкулез. Годик — и пройдет. Шторы-то у нас в два раза дольше служить будут. Выгода?
— Понимаю вас, товарищи. Но циркуляр, если он даже создан тридцать лет назад, не изменишь… Воспитательный процесс требует ежедневного творчества, а мы иногда живем старыми руководствами… Впрочем, все в ваших руках…
Увар Васильевич расстегнул шубу, положил на подоконник рукавицы. Он знал: Лебедев начнет расспрашивать о житье-бытье и будет слушать его, Увара, с вниманием. Так уж повелось с давних пор.
— Вот ты верно говоришь насчет этого воспитательного процесса. В самом деле, тут нужно творчество. Он, процесс, быстро меняется. Вспомнишь свое детство. Как мы росли? Тележного скрипу боялись, а сейчас глядишь, мальчонка еще, а уже к машинам лезет, радиоаппаратуру изучает… Акуля Соснина вчера мне говорит: «С племянником Ефремкой согрешила». Спрашивает ее: «Теть, а теть? Откуда я взялся?» — «Ну, как откуда. В капусте нашли». А он говорит: «Ты, тетя, в происхождении человека — ни в зуб ногой!» Ну, Акуля, известно какая: «Это я-то ни в зуб ногой, ах ты, холера рыжая, баламут!» И пошла и поехала парня чесать. Что стар, что мал.
Лебедев и Степан смеялись.
Степан замечал, какой радостью зажигаются глаза Сергея Петровича. Так бывает, когда встречаешь человека из своего детства или из юности, с которым трудно было вместе, горько и радостно. И в которого веришь.
…Наливались коридоры ребячьим гудом. Восемь раз ударили часы в учительской. Вышла с валдайским колокольчиком тетя Поля, и пошел плясать малиновый звон. Чтобы не опоздали ребятишки, игравшие во дворе, тетя Поля приоткрыла дверь, высунула руку с колокольчиком и потрясла им.
— Техника у вас на грани фантастики. Не можете поставить электрический звонок? — заметил Лебедев.
— Можем, да не хотим, — возразил Степан. — Не одно поколение с этим звонком на уроки садилось. В том числе и те, список которых по решению сельского схода предполагается высечь на обелиске. В мае открытие памятника… Мы чтим наших земляков… Принесем в день открытия обелиска наш колокольчик к памятнику и там позвоним для них… еще один раз.
— Это хорошо.
Увар Васильевич застегнул полушубок.
— Я спросить пришел, — обратился к Степану. — Если ты не возражаешь, то я сегодня перевозкой займусь. Мария Никитична с Сергеевой договорились. Мария Никитична, сами понимаете, ей скучно сейчас, комнату Сергеевой отдает и очень просит ее. И Сергеева соглашается… Если вы не против, то я перевезу ее вещички из нашей школьной квартиры… Пусть она будет свободной, все равно ее надо ремонтировать… Сейчас схожу к Павлу Николаевичу, он поможет.
— Не возражаю, — глухо сказал Степан. — Но в правление пока идти незачем. Отца там нет. Опять увезли в больницу.
* * *
Два дня Лебедев пробыл в Рябиновке.
Ни на минуту не оставлял он Степана: «Вы будете со мной, Степан Павлович», «Мы вместе сходим, Степан Павлович». Степан слушал, как душевно разговаривает Лебедев с людьми, и завидовал ему. «Вот растяпа, — ругал он себя, — как это я до сих пор не знал, что Егор Кудинов был делегатом девятнадцатого съезда партии… Оказывается, в прошлом году в журнале «Педагогика в школе» была статья Сергея Петровича. А на будущий год — семидесятилетие Рябиновской школы».
Старая Рябиновка хорошо знала Лебедева. Его приглашали в гости и обижались, когда он отказывался.
Когда беседовали с учителями, Степан ощутил одну немаловажную для себя истину: он понял, что, выискивая причины слабой работы школы, выбрал верную линию. Учителя с желанием говорили о своих делах.
Уезжая, Лебедев сказал учителям:
— Когда у Станиславского спросили, что такое театр, он ответил примерно следующее: соберите самых талантливых актеров, постройте самое красивое и дорогое, из чистого золота, здание театра, но это не будет театром. Театр — коллектив единомышленников-актеров, связанных одной целью. Школа — почти то же самое… В последние годы в Рябиновке школа разваливалась, хотя успеваемость значилась более высокой, чем сейчас. Сейчас ваша школа набирает силы… Но успокаиваться вам никак нельзя… Нащупали — тяните… Верю, что не подкачаете… Почтальон Николай Иванович поговаривал раньше так: «Кто остановит ручей, если в горах начал таять снег?» Вот почему я уверен в вашем успехе.
Все были веселы, смеялись. Стоял за окном спокойный зимний вечер. На краю земли, за озером, потухал закат. Пламенели низкие облака. Пролетали реденькие снежинки.
* * *
А Галка Кудинова жила в эти дни в каком-то завороженном, ласковом сне. Она красивела лицом и добрела сердцем. Все заботы ее состояли в том, чтобы сходить на озеро за водой, убрать комнаты и погулять. По вечерам Галка бывала в клубе. Никто из подружек и из друзей не обижал Галку худым словом или ухмылкой. И это укрепляло в ней чувство уверенности и гордости. Гордость, не понятная раньше, росла с необычайной силой. «Буду матерью! Стать матерью — это ведь совершить подвиг!» Она так и считала. И если бы кто-нибудь начал подсмеиваться над ней, она не расстраивалась бы и не сердилась. Она просто не заметила бы этого ничтожного человечка: ему непонятны и неведомы чувства матери, а потому он беден.
Однажды на озере около проруби ее остановила Акулина Егоровна:
— Погляжу на тебя, Галя, станешь ты бабой и не заснуть спокойно ни одному рябиновскому мужику.
— Пусть не спят.
— Они и тебе покою не дадут!
— Ничего. Отобьюсь как-нибудь! — Галка подняла коромысло.
— Постой, постой! — Акулина Егоровна оглянулась. — А скажи ты мне, девка, от кого все-таки у тебя брюхо-то?
— От тебя, тетя!
— Не шути, Галя, слушок ползет, будто без Виталька мово тут дело не обошлось. Ты скажи честно, я с ним скоро расправлюсь!
Галка захохотала:
— Я с твоим Виталькой, тетя, на один гектар не сяду. Не то что это дело.
— Погоди, погоди, да неужто директор, Степан Павлович?
— Так неужто твой Виталька, тюремщик конопатый!
Галка легко вскинула коромысло и пошла круто, не оглядываясь.
— Гляди, девка, пробросаешься!
— Не бойся, тетя Акулина, не пробросаюсь.
Вечером в клубе, после концерта, к ней подошел Виталька.
— Ты не торопишься? Поговорить бы.
— О чем?
— Так надо, поди, нам с тобой о ребенке подумать.
— Почему это нам, да еще с тобой?
— Но, Галя, ребенок-то наш, совместный…
— Никакого касательства ты к ребенку не имеешь. И не твой он вовсе. Не мели, рыцарь.
Спесь с Витальки сошла, как шерсть-линька со старого зайца.
— Ты, значит, против!?
И опять Галка начала смеяться, как там, на озере, у холодной парной проруби.
— А ты, поди, думал, что «за». Сейчас кинусь на тебя. Жених — перестарок, блатной. Не из той я породы, товарищ!
Все эти маленькие стычки зажигали в сердце Галки большой ровный огонь. Она обдавала собеседников загадочным взглядом.
— Эта двухжелтышная, кому если в жены попадет, — приценивался Увар Васильевич, — эта выкрасит и выбелит. И печкой по голове будет бить — все в радость. Чистая Фешка, только, пожалуй, еще похлеще.
Новогодний праздник отец, мать и Галка встречали в школе.
Залитые ярким светом коридоры и классы были полны родителей и ребятишек. Ученицы старших классов, одетые в белые шелковые платья, в кокошниках, поздравляли взрослых у входа, усаживали кто куда хотел. Работала комната сказок, и концертный зал, и буфет, и кинозал, и аттракционная. Было шумно и жарко. Степан пожимал руки отцу и матери. Он был изящен в своем новеньком черном костюме, в белой рубашке с черным галстуком.
Около двенадцати Увар Васильевич пригласил их в кабинет Степана и вывернул из полушубка бутылку шампанского. Отец, мать, Степан с Уваром Васильевичем выпили по полному фужеру.
— С Новым годом, Степан Павлович! За твое здоровье! — говорил польщенный вниманием отец.
Снился в ту ночь Галке сон, от которого долгие дни она не могла уйти. Дед Увар говорил Галке и Степану смешные слова: «Если для тебя замуж выскочить так же легко, как высморкаться, значит, замуж не ходи. Если ты задумал жениться, так знай — это дело нешуточное: жениться — не лениться, хоть неохота, да вставай». Кругом были люди, и она держалась за руку Степана. И рука у него была как будто сплетена из березовых корней, колючая и твердая. Какой-то похожий на Витальку парень громко кричал, называл Галку и Степана женихом и невестой. И Галке было нисколечко не стыдно… А потом слышала она шепот матери: «Ненаглядные вы мои детушки! Сегодня я вас называю парнем и девушкой, женихом и невестушкой… Берегите себя, берегите то, что соединило вас!»
Матери не было видно, слышен был только шепот, и Степану это не нравилось, он заикался, просил: «Вы объявите по радио!» Галка держала его за крепкую руку: «Ну зачем ты так? Объявишь, что я невеста, а я уже с ребеночком скоро буду!» Но радио треснуло три раза, будто кто щепал большую лучину, и начало говорить о нем, о Степане, и о ней, о Галке, хорошие слова. И в небе над озером, как эмблема, всплыли два соединенных вместе золотых кольца. Степан целовал Галку. А Павел Николаевич Крутояров говорил басом: «В соответствии с законом о браке Российской Советской Федеративной Социалистической Республики брак записан и объявляю вас мужем и женой». — «Давно бы так. Я все время этого ждала. С первого дня, как его увидела. Я только не знала, что Степан меня любит. Он ведь старше меня на семь лет», — говорила Галка. «Это ничего, что старше, — закусывал ус дед Увар. — Ребятишки хруще будут!»
И Галку начинал жечь стыд… Уходил совершенно равнодушный ко всему Степан, и она оставалась одна. Мать-одиночка. Но ей было решительно все равно.
— Пить! — этот крик услышала Феша и испуганно вбежала в комнату дочери.
— Что с тобой, дочуронька?
— Пить, мама. Пить захотела, — как можно спокойнее сказала Галка. — Ты не бойся. Я ничего.
Заснуть Галка не могла до утра. Она делала вид, что спит, потихонечку всхрапывала, стараясь усыпить бдительность матери, а сама думала-думала об этом странном сне. «Зато я узнала. Никому не скажу об этом, но сама знаю. И это уже хорошо. Знать каждый человек должен, для чего и для кого он живет!»
…Вскоре Галка родила сына, полновесного богатыря. Родила в только что открытом колхозном роддоме, одна во всех больших светлых палатах. И врач, и фельдшер-акушер, и нянечки поздравляли ее, а безымянный малыш цапал сырыми ручонками налившуюся Галкину грудь и сосал аппетитно, наслаждаясь свободой. Галка смеялась, трогая его упругое тельце, и весь мир казался Галке сердечным и новым.
Первым узнал о прибыли в семье Кудиновых Увар Васильевич, потому что не было на селе человека, который бы вставал утром раньше него. Едва появились на небе старые крестьянские звезды Кичиги, он заявился в приемный покой роддома.
— Ну, есть кто?
— Есть. Парень.
— Вот и хорошо. Вы давайте, девушки, побольше принимайте. Можно каждый день. А то в колхозе трактористов нехватки. — И смеялся Увар Васильевич так, как могут смеяться здоровые люди.
Потом прибежали мать и отец. А потом все шли и шли. Весь день. И строгая акушерка сказала Галке, что так нельзя, что это нарушение режима. Галка глядела на нее, соглашалась:
— Да разве я зову их? Нельзя, я и сама понимаю.
Под вечер малыша унесли в соседнюю комнату, и Галка безмятежно заснула.
В этот вечер Степану позвонил Егор Кудинов:
— Я там «газик» за тобой послал. Поедем немедленно в Чистоозерку. Павел Николаевич умирает…
Звонок не был для Степана неожиданным. Он еще там, в новой городской гостинице, в номере, похожем на товарный контейнер, каким-то неведомым чутьем уловил приближавшуюся беду, хотя гнал ее от себя, надеялся на богатырское здоровье отца.
Слова же Егора говорили о неотвратимости беды. По-отцовски открыто, в полный рост, надо было идти не завтра и не на следующий год, надо было идти сейчас, через минуту. И взросло в душе младшего Крутоярова, как щит, заслоняющий от беды, чувство строгой отрешенности. Он двигался уверенно, говорил правильные слова, давал точные и толковые ответы, но глаза его были где-то там, в какой-то далекой, холодной и страшной пустоте.
«Газик» летел по заснеженному асфальту легко и бесшумно. Егор Кудинов, сидевший за рулем, повторял и повторял одну и ту же фразу:
— Это пуля! Она. Она выждала, подлюга!
Отец был совершенно неузнаваем. Пожелтевшее лицо его казалось чужим. Он встретил вошедших слабой, непонятной улыбкой. Но потом, успокоив лежавшие на груди руки, пристально взглянул на Степана и заговорил твердо, с какой-то застарелой горечью. Видать, она годами копилась в отце и вот неожиданно прорвалась:
— Мы всю жизнь хлеб растили… А были другие, не знавшие ему цены. Неблагодарные, они ели наш хлеб и считали себя выше и лучше нас… Но ты, Степа, запомни, что перед вечностью в цене только хлеб и труд…
Он умер, как заснул. Худой, длинный, помолодевший. Упала на колени сидевшая в изголовье Людмила Долинская. Степан, холодно поглядывая на врача и на Егора Кудинова, отдавал приказания, хотя, кажется, не имел на это права: рядом была жена умершего.
— Вы должны выделить машину, — говорил он главврачу, — увезти тело в Рябиновку. Егор Иванович, организуйте в Доме культуры дежурство у гроба. Я займусь школой.
Он подошел к кровати, на которой оставался умерший, встал перед ним на колени, поправил накидку, тихо провел рукой по лицу.
— Прощай, отец…
Хоронили Павла Крутоярова всем районом. Все хозяйства (колхозы, совхозы, районные предприятия, учреждения и организации) прислали в Рябиновку своих делегатов с венками. Сама Рябиновка — колхоз имени М. В. Фрунзе — была крупнейшим в области хозяйством. Сорок шесть тракторов, около восьмидесяти автомобилей разных марок — все они в день похорон, начищенные, с траурно приспущенными вымпелами, пришли к Дому культуры.
Егор Кудинов приказал заглушить моторы. И в резко наступившей тишине горе односельчан будто выросло и залило деревню. Отчаянный плач женщины, выплеснувшийся со стороны озера, вывел Егора Кудинова из забытья. Он поднял голову, оглядел площадь перед Домом культуры.
Митинг начался. Выступали районные руководители, механизаторы.
— Прощай, Павел Николаевич!..
Степан слушал речи, смотрел на отца в затянутом красным бархатом и заваленном цветами гробу и, словно подхлестнутый им, живым, увидел в традиционном ритуале, исправлявшемся десятилетиями, фальшь и притворство. «Разве можно так перед гробом? — думал он. — Почему ты, Верхолазов, бегал по «верхам» и клеветал на отца? Почему ты сейчас говоришь добрые слова о нем? Ведь ты же хотел исключить его из партии. Разве у тебя не было времени сказать такие слова ему живому?..»
Последним с прощальной речью выступил Егор Кудинов. Он долго молчал и внезапно разрыдался, вытер лицо шапкой и лишь тогда сказал:
— Прощай, Паша, друг! Не зря ты жизнь прожил, Паша. Все знают, что не зря… Мы будем укреплять начатое тобой дело. Прощай!
Степан увидел глаза людей, и боль, которая поселилась в нем вместе с ожесточением и горечью, оставила его.
Грянул оркестр, загудели машины… Свежий ветер сорвал с молодых березок, стоявших у клуба, золотистые сережки. Они усеяли снег вокруг мелкими желтыми крапинками…
Примечания
1
Чапан — зипун, род одежды.
(обратно)2
Окладники — нижний ряд деревянного сруба, деревянный фундамент.
(обратно)3
Отнога — мелководный залив на озере, реке.
(обратно)4
Сибирка — сибирская язва, болезнь животных и человека.
(обратно)5
Тырло — изгородь.
(обратно)6
Релка — часть суши на заросшем камышином озере.
(обратно)7
Шурпа — рыбный или мясной отвар.
(обратно)8
Лагушка — небольшая деревянная бочка.
(обратно)9
Поляк — пырей.
(обратно)10
Завозня — род крестьянской постройки, куда можно заезжать с возом.
(обратно)11
Измигульничать — издеваться.
(обратно)12
Напарья — ручное сверло по дереву.
(обратно)13
Рахи — стойки с раздвоенным верхом.
(обратно)14
Маркитан — забойщик скота.
(обратно)15
Ошурки — обжарки.
(обратно)16
Ашать — кушать (казах.)
(обратно)17
Махан — кушанье из конины.
(обратно)18
Окозохалась — опомнилась, очухалась (обл.).
(обратно)19
Башлык — руководящее лицо при отловах рыбы неводами.
(обратно)20
Супрядка — совместная работа.
(обратно)

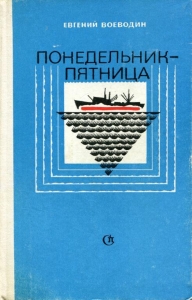

Комментарии к книге «Роза ветров», Михаил Иосифович Шушарин
Всего 0 комментариев