БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ БИБЛИОТЕКА «МУЖЕСТВО»,
ВЫПУСКАЕМАЯ ХАБАРОВСКИМ КНИЖНЫМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ПО РЕШЕНИЮ КОЛЛЕГИИ ГОСКОМИЗДАТА РСФСР,
ПОСВЯЩАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЯМ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
…И просекой казалась для меня Всей нашей жизни первая дорога. П. КомаровКНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Еще повсюду — на крышах домов, в тени заборов, по краям тротуаров — лежали потемневшие пласты напоенного талой водой снега, еще по-зимнему голыми качались ветки акаций и лип, но уже ласково синел полный теплого света воздух, вереницы лебедей-облаков как-то особенно спокойно и торжественно проплывали над городом в чистейшей голубизне неба. Шло великое обновление природы, и мир вдруг сделался безмерно просторным, манящим своими солнечными далями.
Вышел Захар из подъезда госпиталя — и захлебнулся терпким, пьянящим воздухом, морем света, звоном вешних потоков, оглушительным чириканьем ошалевших воробьев.
И может быть, оттого особенно тоскливо было на душе Захара. Случилось непоправимое. В кармане шинели лежало заключение врачебной комиссии: «Не годен к строевой службе». Рухнула мечта донского казака стать красным кавалерийским командиром, мечта страстная, лелеемая с самого детства.
Опираясь на костыль с резиновым наконечником, придерживая левой рукой полы длинной шинели, бледнолицый, с виду почти совсем юнец, с тонкой, затянутой кавалерийскими ремнями талией, медленно шагал он по тротуару, вяло позванивая шпорами, осторожно, с оглядкой переступая быстрые ручьи с белым скользким ледяным дном. В скверике против театра свернул в сторону, выбрал скамейку посуше, присел, положил рядом костыль. От мокрых деревьев и чернозема, чуть присыпанного прелой прошлогодней листвой, тянуло знакомыми с детства волнующими запахами.
Закрыв глаза и откинувшись на спинку скамейки, Захар думал о себе. Месяц назад он гарцевал на своем Егере — высоком четырехлетке собственной, Захаровой, выучки, отлично ходил на препятствия, чисто, словно бритвой, снимал лозу: срубленный конец не падал набок, а, стоя вертикально, соскальзывал на землю. Все предсказывали ему, курсанту Захару Жернакову, первое или по меньшей мере второе место на конноспортивных соревнованиях… И вот он уже не кавалерист, не курсант — никто…
«Должно быть, сейчас, — думает Захар, — второй эскадрон на езде в зимнем манеже». Захару слышится протяжная команда: «Учебной р-рысью-у ма-аррш!» Он видит своего дружка, ловкого Васю Королькова, будто влитого в седло, слышит характерный звон клинка, выхваченного из ножен, бешеный глухой топот конских копыт в перебор и тонкое, стальное: «дзинь, дзинь!»; видит белую молнию шашки над головой Королькова и сникшие позади лозы. Да, там цель, там все родное, там своя семья — хорошая, дружная. А он, Захар, как лебедь-подранок, отставший от стаи, с тоской провожает ее тревожным взглядом, зная, что уж никогда не догонит ее.
Настя-Настенька, не знаешь ты, какое горе у Захара! Что ты скажешь, когда увидишь его не кавалеристом, а калекой? Ведь ты с таким восхищением, затаив дыхание смотрела, бывало, как лихо джигитует Захар.
Отджигитовался!
В груди Захара собирается комок; он давит, подступает к горлу; становится трудно дышать… К черту! Не ты ли, Захар, секретарь станичной ячейки, ходил с комсомольцами в придонские займища на облаву, когда там скрывалась кулацкая банда? Не тебе ли бандиты грозили виселицей в своих листовках? Не ты ли самозабвенно пел с товарищами:
И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!«Борьба… А с чем и с кем теперь борьба? С собственным малодушием?.. А дальше? И вообще, что такое борьба? Борьба революционная, борьба классовая, борьба с природой, борьба спортивная, борьба, борьба…»
Сам не замечая того, Захар до боли в пальцах сжимал кулаки, упираясь ими в скамейку. В памяти всплыл вдруг случай с канатом. Вскоре после прихода в кавшколу на поверке по физической подготовке он не смог подняться на руках по канату. Его вызвал командир эскадрона, объявил перед строем:
— Курсант Жернаков, приказываю вам: в пять дней научиться подниматься по канату без помощи ног. В субботу лично проверю, как выполнили мое приказание.
Всю неделю Захар тренировался до кровяных мозолей на ладонях. Когда командир эскадрона пришел проверять, Захар дважды почти без передышки взобрался но канату до самой перекладины.
Это, должно быть, и есть борьба. Борьба за достижение поставленной цели. Но цель? Какая теперь у него своя, собственная, личная цель?.. Да, цели нет..
Полузакрыв глаза, он долго сидел в сквере, мучительно и горько осмысливая свою жизнь.
Думал Захар и о том, чтобы вернуться в станицу. Друзья пишут, что там появились тракторы, многие стали трактористами. Скоро ожидаются комбайны. Но ненадолго задержался он на этой мысли. Не того ему хотелось — боевой романтики жаждала душа Захара, впитавшая с детства дух гражданской войны. До сих пор ему снились походы, сражения, подвиги, о которых рассказывал дядя — старый буденовец, и в сравнении с этим меркло все: и тракторы, и комбайны, и станица.
Но всякий раз, как только взгляд падал на костыль, мысли Захара обрывались, душу охватывала неутешная тоска.
Тяжело вздохнув, Захар встал и неторопливо двинулся в кавшколу.
В казарме он застал одного дневального — школа была в полевой поездке. Захар прошел к оружейной пирамиде, взял свой клинок, вынул из ножен. Потом заглянул в канал ствола винтовки. Оружие было хорошо прочищено и смазано чьей-то заботливой рукой.
Вернувшись к дневальному, Захар спросил:
— Как Егерь?
— Застоялся, брат, раза два всего был на проводке.
— Не хромает?
— Недавно я выводил его на коновязь. Гарцует, рвется поскакать. Застоялся сильно…
Прихватив кусок сахару, Захар пошел на конюшню. Дневалил там Вася Корольков. Еще издали он встретил Захара веселым возгласом: «Смирно!» — и взял метлу на караул. Весело хохоча, они обнялись.
Корольков и Захар давно были закадычными друзьями, еще со станицы. Они вместе вступали в комсомол, вместе решили идти в кавшколу. Правда, дружба их подверглась серьезному испытанию. В бюро была избрана девушка из соседнего хутора — Настя Горошникова. Высокая, статная, она покорила сердца друзей. Захар и Корольков провожали девушку после заседаний бюро. Но пришел срок решить вопрос, кто из них двоих будет безраздельно дружить с Настенькой. Решено было бросить жребий. Он выпал Королькову. Но в первый же вечер, когда Корольков один пошел провожать Настю, она спросила:
— А где Захар?
— Он занят, — как бы между прочим ответил Корольков.
— Да?..
Настенька сразу стала невеселой. И если оживлялась она, то только тогда, когда разговор касался Захара.
Корольков все понял. Об этом он назавтра рассказал Захару и, горько усмехнувшись, заключил:
— Видно, жребий ничего не значит. Тебя она любит.
А осенью она приехала в город, где учился Захар, и поступила в строительный техникум. Что же касается дружбы между Захаром и Корольковым, то после всего, что-произошло, она почему-то стала еще сердечнее.
— Я, Вася, только что вспоминал тебя, — говорил Захар. — Как дела-то?
— А надо бы не сегодня — вчера вспомнить: чуть не угадал к тебе в госпиталь! Понимаешь, рубили мы вчера в зимнем манеже. Наступила моя очередь. Пошел я. А ты же знаешь моего Плутона: только выхватишь клинок, как он голову кверху, морду к небу… И тут случилось такое, что я и сам ничего не успел сообразить: со всех ног грохнулся мой Плутон. Я лицом в опилки, но почему-то крепко держусь шенкелями за бока, а левой рукой за гриву. Когда опомнился, чувствую, что Плутон мой стоит на ногах, а сам я сижу в седле. И главное — клинок в руке! Сообразил, что все в порядке, пришпорил коня и пошел рубить. Так и прошел весь круг, не оставил ни одной лозы. Ребятам со стороны было видней, так они говорят, что я вместе с Плутоном колесом перевернулся. Вот, брат, какие бывают чудеса!
— Ну и как комэск, ничего?
— Благодарность перед строем и трое суток увольнения в город.
— Ну? Вот это здорово!
— А как твое самочувствие?
— Лучше не спрашивай, табак мое дело!
— Что такое?
— Списан подчистую, Вася…
— Да ты что?.. — Серые, с веселой лукавинкой глаза Королькова округлились в недоумении. — Да ты врешь!
— Если бы…
— Значит, серьезно, Захар?
— Неужели этим шутят? На, почитай. С ногой что-то неладно.
Корольков внимательно прочитал бумагу, поданную Захаром, и сразу стал скучным.
— Ну и как теперь? Куда?
— Черт его знает! Ума не приложу.
Они умолкли.
— Слушай, а что, если тебе пойти в ветеринарный институт? Коней ты любишь. Станешь ветврачом и, смотришь, опять в кавалерию попадешь.
Захар некоторое время молчал, потом коротко сказал:
— Вообще-то это дельная мысль. Подумаю. Пойду к Егерю.
— Иди, иди, а то он затомился там без тебя.
Егерь еще издали встретил хозяина легким взволнованным ржанием. Высоко подняв маленькую сухую голову, он насторожил уши, громко всхрапнул. Темно-гнедой, почти вишневой масти, на тонких, стройных ногах, сухопарый, с вислым крупом, он весь грациозно изогнулся, поворачивая голову навстречу Захару, когда тот входил в станок.
— Здравствуй, чертушка! — Захар потрепал шелковистую гриву Егеря, похлопал по шее. — Плетей бы тебе, но с кем грех не случается?.. — Последнее слово произнес почти шепотом — комок подкатил к горлу, сдавил гортань.
А конь уже шарил бархатистыми губами у кармана шинели. Получив кусок сахару, громко хрумкнул, вкусно зашлепал губами, роняя слюну.
Примостившись на кормушке и отставив костыль, долго сидел Захар в гостях у Егеря. Последний раз он навещал своего веселого, добродушного скакуна. Поглаживая лоб Егеря, почесывая у него за ушами, Захар несколько раз смахнул с ресниц влагу.
Вечером весь второй эскадрон уже знал о том, что Захар «списан». Вокруг него собрались курсанты.
— Поступай на завод, Захар! А по вечерам будешь учиться на рабфаке, — советовали ему. — Подготовишься в вуз, и никуда не нужно уезжать — вон сколько их здесь: индустриальный, авиационный, геологоразведочный, химико-технологический, ветеринарный… Неужели не подберешь по душе?
— А жить чем будет? На одну стипендию не очень-то протянешь.
— Учатся же студенты! Не каждый ведь имеет со стороны поддержку.
— Правильно. Будет где-нибудь прирабатывать.
— А где прирабатывать? В грузчики не пойдешь с поломанной ногой.
— Что бы ни было, а надо учиться, Жернаков! — решительно сказал Агафонов, отделенный командир. — Можно будет договориться с командованием школы, чтобы ты мог обедать за счет второго эскадрона.
— Да, но пока он подготовится в институт, нас уже выпустят! А при новом составе вряд ли будет удобно ему, гражданскому, появляться в школьной столовой.
— Это, пожалуй, верно…
— Слушайте, братцы, у меня есть интересное предложение, — выступил вперед курсант Капустин. — Правильно, что, когда Жернаков поступит в институт, мы уже будем командирами взводов, разъедемся по своим частям. Так вот, с того месяца, когда Жернаков поступит в институт, и до тех пор, пока не кончит его, пусть каждый из нас посылает ему по рублю в месяц. А? Как? Для нас рубль — это пустяк, а для него — дорога в жизнь!
Захар, молчавший до сих пор, запротестовал:
— Нет, я не могу. Что я, нищий, что ли?
— Это не подаяние, а товарищеская взаимопомощь, — оборвал его Агафонов. — Правильно предлагает Капустин. Надо поговорить с ребятами. Кто сможет, тот и будет посылать. Разве ты сам не пошел бы на это, случись такое с кем-нибудь из нас? Ну вот, тогда принимай это как заботу товарищей, а не как какое-то там подаяние.
В казарме был объявлен отбой, все улеглись в постели, но Захар долго не мог уснуть. Участие товарищей волновало и трогало его до боли в сердце. Он даже всплакнул в подушку, укрывшись с головой. С тревогой думал он над тем, чем оплатить эту трогательную дружескую заботу. Да, да, он сделает все, чтобы никогда не уронить себя в глазах друзей!..
ГЛАВА ВТОРАЯ
Что бы там ни случилось, а жизнь все-таки интересна, черт побери!
Захар уже решил идти на механический завод, учеником слесаря, как вдруг обратил внимание на небольшую заметку в газете. В ней сообщалось о мобилизации комсомольцев на новостройки Дальнего Востока. Несколько раз перечитал Захар постановление ЦК, чувствуя, как все сильнее захватывает его эта новость. Потом подошел к карте, висевшей во всю стену, и долго стоял возле нее. Дальний Восток! Край земли… А дальше — синь Тихого океана.
Впервые в жизни Захар почувствовал грандиозность расстояния, и даже мурашки пробежали у него по спине. От Новочеркасска до родной станицы триста километров. До Тихого океана — он смерил карандашом — в тридцать раз больше! Фантазия все больше распалялась, душа трепетала перед новым, неведомым, неотразимо заманчивым. Вместе с Дерсу Узала он уже пробирался сквозь безлюдные, полные опасностей дебри Сихотэ-Алиня; спускался по быстрым таежным речкам; ходил в дозоре на границе, выслеживая диверсанта; взобравшись на скалу, слушал грохот океанских волн… О, вот она — цель, вот он — край, где можно стать героем! «Нога? Заживет! Настенька? Да, она вернется с практики не раньше чем через две недели… Пожалуй, уже не застанет. Нужно сейчас же написать ей! Нет, не сейчас, а когда все выяснится окончательно».
Торопливо подпрыгивая на своем костыле, Захар направился в горком комсомола. Там застал лишь одну машинистку — белобрысую худенькую девицу в юнгштурмовке с портупеей, стриженную «под польку», с мальчишескими манерами. Выслушав Захара, она бегло оглядела его и без обиняков сказала:
— Не возьмут. Ты же хромой, товарищ, туда таких не берут.
— Это временно. Немного вывихнул в коленке, — соврал Захар. — Скоро заживет.
— Да? Ну смотри, чтоб без вранья. Вот возьми пригласительный билет. Завтра вечером комсомольский актив. Да чтоб без опозданий! — строго наказала она.
С великим нетерпением ждал Захар вечера. Он не находил себе места, терзаясь сомнениями: возьмут или не возьмут? Все мысли, душа были уже на Дальнем Востоке. Что и как там будет, его не интересовало. Была одна цель — Дальний Восток!
Собрание актива только началось, когда Захар вошел в зал театра. На трибуне уже стоял докладчик — сухонький маленький человек с громовым басом. Вцепившись обеими руками в трибуну, он начал говорить спокойно, раздумчиво, с короткими паузами между словами, но чем дальше, тем сильнее накалялся страстью его мощный голос. Говорил он о завершении коллективизации и ликвидации кулачества как класса; о первых тракторных заводах-гигантах, о Днепрогэсе и Магнитогорске.
Захар вытягивал шею, с нетерпением ожидая, когда же пойдет речь о главном — о Дальнем Востоке.
— Но акулы мирового империализма не желают мириться с нашими успехами в строительстве первого в мире рабоче-крестьянского государства! Им кость в горле — Днепрострой и Магнитострой, наши тракторные заводы!.. По указанию мировой буржуазии японские самураи захватили Маньчжурию и вышли к нашей государственной границе…
Захар привстал — головы передних мешали видеть докладчика, а он вот-вот начнет говорить о мобилизации комсомольцев.
— Зачем они вышли к нашей границе, товарищи? Ясное дело зачем: подготовиться и в удобный момент отрезать и захватить советский Дальний Восток. Но этому, дорогие товарищи, не бывать! — Он рубанул воздух своей сухонькой ладонью. — Правительство принимает срочные меры защиты Дэвэка. Одновременно Центральный Комитет партии решил обратиться к своему боевому помощнику — комсомолу — выделить из своих рядов лучших и послать на укрепление Дальнего Востока…
Захар приставил ладонь к уху, наклонился вперед, чтобы не пропустить ни единого слова, хотя и без того в зале все затаили дыхание и властвовал в нем только один голос докладчика.
— Нелегкая задача ставится перед полпредами комсомола: в кратчайшие сроки построить там, в дикой тайге, новый город. Силой никого не будем посылать. Пускай едет тот, кто чувствует в себе решимость для преодоления любых трудностей работы и жизни в суровом краю, вдали от родных мест, кто сам рвется туда!
Едва докладчик умолк, как в зале загудело, как в потревоженном улье; потянулись руки, послышались выкрики:
— Вопрос можно?
— Разрешите задать вопрос?
— Вопрос имею к докладчику!
Захар, спрятав костыль, поднял руку и крикнул громко, чтобы перекричать других:
— Будут ли те, кто поедет, проходить медицинскую комиссию?
— На какой срок должны ехать мобилизованные? — крикнул кто-то из передних рядов.
— Какая зарплата в среднем будет?
— Как там с жильем?
— Тише, товарищи! — старался перекричать всех председатель. — Поднимите руки, у кого есть вопросы.
— Отвечу пока на те, которые уже задали. — Докладчик поднялся на трибуну. — Товарищу из задних рядов: медицинской комиссии не будет, просто медосмотр. Относительно срока я уже говорил в докладе: пока не будет построен город. Насчет жилья — будете сами строить город, вот вам и жилье, а пока придется пожить во времянках — возможно, в палатках. Зарплата — в зависимости от выработки, по специальности, да плюс за отдаленность пятьдесят процентов. Словом, зарплата будет приличная — если не полениться, можно хорошо заработать.
Но Захара уже ничто не интересовало. Он думал о своем: возьмут его или нет? Он горько пожалел, что пришел сюда с костылем: после собрания наверняка начнется запись желающих ехать, а возможно, сразу же и медосмотр. И тут его осенила счастливая мысль — спрятать костыль под кресла.
Дождавшись, когда все двинулись к выходу, он незаметно сунул костыль вниз, положил его между ножками кресел и больше не вернулся к этому месту. Не без тревоги ломала голову уборщица, обнаружив костыль на полу, когда начала уборку: откуда и почему здесь эта вещь?
А Захар тем временем, осторожно припадая на левую ногу, спешил в горком комсомола, где была назначена запись желающих ехать на Дальний Восток. Запись вела все та же девушка в юнгштурмовском костюме.
— Ну как нога, товарищ? Зажила? — с лукавством спросила она.
— Даже не чувствую ее! — Выставив ногу, Захар повертел носком сапога.
— А костыль где? Ты же с ним входил на актив, я видела своими глазами.
«Ну и глазищи у тебя, чертова стриженка!» — с беспокойством подумал Захар, но сказал как можно мягче:
— Это правда. Прихватил его, чтобы отнести в госпиталь, где получал под расписку.
— Ну и отнес?
— М-м, кха, — кашлянул он. — Отнес за ненадобностью.
— Ой, смотри, товарищ… — покачала головой девушка. — Что-то не верится…
— Сущая правда! — уверял Захар. — В последнее время носил его больше по привычке, так, от нечего делать.
— Ну ладно. Вот направление на медосмотр. Да скажи врачу, чтобы как следует осмотрел ногу, слышишь? И вообще, чтобы выслушал всего, больно ты худ, товарищ.
«Черта с два будет по-твоему! — думал Захар, с облегчением вытирая лоб. — Даже не заметят, что хромаю!»
Он действительно вошел в кабинет врача лихой чеканной походкой, стукнул каблуками, ловко откозырял. Глядя на Захара, нельзя было подумать, что час назад он ходил с костылем.
— Из кавалерии? — спросил старичок врач, тепло оглядев поверх очков стройную, затянутую ремнями фигуру Захара.
— Так точно, доктор!
— На что жалуетесь?
— На избыток аппетита, — пошутил Захар.
— Болели недавно?
— Да, немного. Гриппом.
— Едете с желанием? — Врач посмотрел в глаза Захару.
— С превеликим желанием, доктор! — искренне проговорил Захар, а у самого заныло под ложечкой: «Почему он так смотрит, уж не позвонила ли ему стриженая?»
— Фамилия?.. Ну что же, поезжайте, поезжайте! — Врач аккуратненько написал, потом промокнул бумажку и протянул ее Захару. Это была справка: здоров. — Желаю вам счастливого пути,, юноша! Когда-то и я там бывал, в русско-японскую…
Захар и в самом деле забыл о больной ноге. Он пулей вылетел на улицу. Чтобы не вызвать подозрения у той стриженой чертовки — почему, скажет, так быстро? — Захар битый час слонялся по улицам. И хотя терпеливо выдержал время, а все-таки с робостью входил снова в горком комсомола: «А вдруг не поверит? Вдруг снова отошлет к врачу?»
Но все обошлось благополучно. Стриженая, деловито хмуря белесые брови, выстукала на дребезжащей машинке путевку, сама же подписала ее там, где «секретарь горкома», протянула ее Захару, подала руку и по-мальчишески встряхнула.
— Поздравляю, товарищ Жернаков, с получением путевки в новую жизнь.
— Благодарю вас, — с чувством сказал Захар, смущенный взглядом в упор глубоко посаженных синих глаз девушки. — Постараюсь оправдать ваше доверие, — пробормотал он еле слышно.
Аккуратно, бережно сложив путевку, он направился к двери.
— Куда же ты, товарищ Жернаков? — остановила его девушка. — А деньги?..
Она полезла в облупленный сейф, отсчитала и подала ему пачку червонцев — триста рублей! Захар никогда не держал в руках таких денег. На прощанье велела звонить каждое утро в горком — узнавать об отправке эшелона, который формируется в Ростове, а в Новочеркасске лишь задержится, чтобы прицепить вагон.
Эшелон теплушек пришел из Ростова через два дня. Грустный ехал Захар в пулеметной тачанке — по кавалерийскому обычаю, сопровождаемый Васей Корольковым и друзьями-курсантами. Не было Настеньки, она даже не успела ответить на его письмо — одобряет или нет поступок Захара.
Вагон для новочеркасских комсомольцев уже был прицеплен в конце состава. Это была обычная теплушка, в каких на Руси искони возили солдат да переселенцев: по бокам в два этажа нары из досок, посредине — чугунная печка с жестяной трубой, выведенной в крышу.
Велико же было удивление Захара, когда он, взобравшись в вагон, увидел здесь стриженую; она укладывала свои пожитки в углу, отчитывая длинного верзилу за то, что он даже одеяло не взял в дорогу.
Захар разместился в противоположной стороне вагона, предварительно сметя полой шинели сор с досок.
— Нет, ей-богу же, Вася, у меня такое впечатление, что она решила преследовать меня до самого Дальнего Востока, — говорил он вполголоса Королькову, косясь на стриженую.
А та уже заметила его, крикнула: «Привет кавалеристу!» — и, словно коза, легко выпрыгнула из вагона прямо в объятия какого-то парня.
И вот последние минуты расставания: в голове состава длинно и многозначительно прогудел паровоз. Друзья крепко жали руку Захару. Вася Корольков обнял его, неловко прикоснулся губами к щеке.
— Настеньке скажи, Вася, — Захар почему-то задыхался, — что я напишу ей с дороги. Скажи, что… в общем, передавай ей привет от меня! А будешь в станице, расскажи там дяде и дедушке… И приветы тоже передай, я им напишу с дороги. Одним словом, Настеньке скажи, что я, в общем, скучал по ней… А ты, Вася, доведется там, в кино с ней сходи…
Вагон качнулся, громыхнули буфера. Из широких дверей теплушки посыпались провожающие, навстречу им лезли отъезжающие; множество рук подсаживало их снизу.
— Счастливого пути!
— Привет Дальнему Востоку!
— Пишите!
— Андрюшенька, не забудь теплые носки сразу надеть!
И поезд ушел в ночную тьму. Из-за голов ребят, столпившихся у дверей, Захар смотрел на огни города. На душе было тревожно, и как-то не верилось: неужто и в самом деле он едет на край света, на Дальний Восток?
А рядом с ним кто-то уже запевал вполголоса:
По долинам и по-о взго-орья-ам Шла дивизия впе-ере-од…Недружно, вразнобой его поддержали робкие, еще не спевшиеся голоса:
Чтобы с боя взять Примо-орье-е, Белой арми-и опло-от…* * *
Тайга, тайга…
Во все дали-дальние, на тысячи верст, куда ни глянь, раскинулась ее суровая темная рать. Ни зверю не обойти, ни птице не облететь ее необозримых просторов, глухих чащоб, раскинувшихся от седого Урала до синих вод Тихого океана. Частоколом елей и пихт ощетинила она конусы сопок и горбины увалов, колоннадами могучего кедрача встала по косогорам, где светлыми березняками, где черным разнолесьем выстлала долины и поймы рек, непролазными буреломами нагромоздилась в падях и распадках. Лето сменяется осенью, за зимой идет весна, за годом год, за веком век, а в тайге живет все та же извечная глухомань.
…Идут, идут эшелоны теплушек на восток — из Ленинграда, с Северного Кавказа, из Одессы, Харькова, Поволжья — прямыми путями на Урал, в Сибирь, к дальневосточным границам. А за ними — весна тревожного тысяча девятьсот тридцать второго года.
Обыватель рассуждает:
— Ведь совсем юнцов гонят.
— Куда же это их?
— Вербованные, должно быть.
— Какой там, армия…
— Сопки маньчжурские защищать…
— Э-эх, Расея-матушка, мало ты раскидала своих сынов по чужбине! Эдакий цвет русского народа! И куда? Э-эх, Расея-матушка!..
Из вагона озорной голос:
— Что вздыхаешь, дедушка?
— А то, сынок, что твоему разуму невдомек.
— Это почему же?
— А потому, что зелен твой разум, — сердито шамкает дед беззубым ртом.
— В чем зелен? Поучи, дедушка!
Лицо старика теплеет. Опираясь на посох, он приближается к вагону, задирает бороденку, вглядываясь в лица ребят.
— Опять, чай, война? В четвертом гнали, в четырнадцатом гнали, в гражданскую гнали. Наступил тридцать второй — опять гонят! Вот в чем, сынок, беда…
— Так разве ж мы на войну, дедушка? Ведь мы строить едем!
— А до́ма, чай, нечего строить?
— Дома само собой, а это на Дальний Восток строить едем. Там, сказывают, людей мало, а строить надо много, да некому.
— Наш дом, дедушка, от Ленинграда до Чукотки, — вставляет еще один говорун, — и везде нужно строить!
— Так-то оно так, да больно вы жидковаты, строители!
— Когда надо, покрутаем.
— Покрутаем! — Дед с укоризной покачал головой. — Пока покрутаешь, сынок, ой, много соли придется съесть! Так-то!..
— И соли съедим много, и покрутаем, и построим!
— Чудной народ пошел… — Дед зашагал прочь от эшелона, погруженный в свои трудные думы.
А эшелоны все шли и шли на восток…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Весна на Нижнем Амуре наступает медленно и робко. За долгие месяцы лютых морозов зима сооружает в непроходимых чащобах тайги, в распадках и долинах рек мощные снежные завалы, стужа будто сталью нальет до самых корней стволы деревьев, в полутораметровую ледяную броню закует могучие стремнины Амура. Нелегко весне взять штурмом укрепления зимы!
Но уже во второй половине марта все заметнее начинает пригревать солнце, весь апрель подтачивает оно ноздреватый снег, а по ночам в снегах стоит певучий стеклянный звон: то морозы спешно куют заплатки на бреши, пробитые весенними лучами солнца. Март — месяц пурги. Но иногда налетит пурга и в апреле, по-зимнему завьюжит все кругом, заметет метелями и на нет сведет всю работу весны.
Так и идет борьба между весной и зимой чуть ли не до середины апреля.
Да только время вспять не повернешь! Все длиннее становятся дни, все горячее лучи солнца. Подуют теплые апрельские ветры, и поползут по склонам сопок черные стада проталин. С каждым днем становится их все больше. И в одно солнечное ласковое утро вдруг и не увидишь снега на сопках, он остался в глухих распадках. Но недолго лежать ему и там: зима побеждена окончательно.
В тот год на Нижнем Амуре поздно ломало лед. Еще девятого мая, в субботу, возле села Пермского стояли во всю излучину Амура огромные ледяные поля, принесшие на себе с верховьев длинный конец изломанной зимней дороги, темной от конского навоза и остатков сена. Всю ночь на Амуре в тревожной, чреватой обновлением тишине гудели, звенели, шуршали льды, яростно, словно табуны диких коней, сходились огромные ледяные поля, сокрушая и дробя друг друга. Льдины, вытесненные на берег, глубоко, словно гигантский плуг, вспахали галечник, громоздились на суше огромными ворохами. А утром в воскресенье люди ахнули, глянув в окна: под синим, чистым, обещающим хороший день весенним небом, ослепительно сверкая в первых лучах солнца, ясен и спокоен двигался неоглядно широкий Амур. Лишь кое-где на зеркальной глади воды, гонимые течением, одинокие плыли льдины. Что-то богатырское, захватывающее, величавое было в этой картине.
Никогда еще жители села Пермского не ждали ледохода так, как в этом году.
Минувшей зимой пермский крестьянин Никандр Руднев ездил в Хабаровск, за триста шестьдесят километров, продавать битую дичь: полторы сотни рябчиков да две туши диких кабанов. Продал как никогда выгодно. Но все равно ругался, вынужденный прикупить фуража на обратную дорогу.
— Ошкурили-таки ладом они меня, язви их в душу! Своего же брата, крестьянина, грабят!
Время было тревожное, японцы захватили Маньчжурию и вышли к советской границе. Их заставы появились всего в пятидесяти двух километрах от Хабаровска. В городе ходили тревожные слухи о скорой войне.
В обратный путь Никандр привез пассажира — рослого, круглого телом человека в длинной, до пят, кавалерийской шинели, в мерлушковой папахе, с орденом боевого Красного Знамени в ободочке из пунцовой материи. Он поселился у Рудневых, а вскоре стал скупать лошадей да овес в ближайших селах.
Не сразу запомнили в селе фамилию нового человека, да и была она не совсем обычной для мужицкого слуха — Ставорский. Но уже на следующий день в каждой избе только и было разговора о том, что весной начнется большая стройка возле Силинского озера, где три года назад пермские мужики обложили и убили матерого тигра, забредшего с правобережья Амура.
В конце марта последним санным путем пришел из Хабаровска обоз, а с ним двадцать пять геодезистов и рабочих — молодых веселых парней в белых добротных полушубках, валенках и шапках-ушанках. Говорили, будто они из самой Москвы посланы, что все они комсомольцы и что весной с первыми пароходами прибудет сюда несколько тысяч строителей.
Строители… Какие они? Деревенские или городские? Молодые или пожилые? И вообще — что это за люди: порядочные или шантрапа какая-нибудь? Почти в каждой избе задавались эти вопросы. Не следует удивляться их наивности — ведь за всю свою жизнь подавляющее большинство людей Пермского знало лишь своих, деревенских, да кое-кого из редких в этих местах русских сел и нанайских стойбищ. На городских, которые, бывает, прогуливаются по берегу, когда накоротке пристанет проходящий вверх или вниз по Амуру пароход, здесь смотрели как на выходцев из другого мира. Большинство пермских, прожив жизнь, не видели железной дороги, не знали толком, что такое город.
С глухой тревогой и беспокойством ждал этого дня Никандр Руднев. Так ждет рыбак где-нибудь посреди Амура стремительно приближающуюся черную тучу со шквальным ветром и с бешено распущенной гривой ливневого дождя: выдержит или не выдержит его лодка, не грозит ли ему гибель? Большая стройка… Что ж, выходит, деревня будет стерта с берега: до Силинского озера отсюда и версты не наберешь. Правильно, видно, и не без умысла говорил тогда в дороге его пассажир Ставорский, что весной будут деревню потрошить, город строить. А где ему быть, как не на месте деревни, — дальше ведь от берега, за околицей, начинаются мокрые низины да мари.
«За Ставорского буду держаться, — зло и горько думал Никандр. — Хоть маленькая это, видать, шишка — начальник конного парка, но все ж таки начальник. Главное, чтоб не раздавили. А там укреплюсь, обгляжусь, будет видно, что делать».
С иными мыслями ждала этого дня Любаша, Никандрова дочь. С трепетом, в тайне от отца и матери думала она о больших и скорых переменах. В прошлом году Любаша окончила семилетку в районном селе Нижняя Тамбовка, со слезами упрашивала отдать ее учиться в Хабаровск, но Никандр наотрез отказал. Не признавал и видеть не хотел Никандр Руднев того нового, что меняло облик всей жизни вокруг него и все сильнее, настойчивее стучалось в дверь его избы.
В эти дни Любаша все глаза проглядела: ей казалось, что Амур еще никогда не очищался так медленно ото льда, как нынешней весной.
Первыми, кто известил деревню о появлении пароходов, были ребятишки. В десятом часу утра с колокольни невысокой, рубленной из бревен церквушки, где прятался невесть как забравшийся туда «наблюдатель», раздалось: «Идут!» И по всему селу, вытянувшемуся цепочкой изб, понеслась звонкоголосая ватага с ликующими воплями:
— Пароходы, пароходы!
— Строители едут!
— Пароходы идут!
Поднятые переполохом, залаяли собаки, закудахтали напуганные куры. Сначала молодежь, а потом и пожилые высыпали на улицу. Все смотрели на юг, где широкая пойма Амура, огражденная лишь с востока высокой грядой прибрежных сопок, уходила к самому горизонту и в голубоватой полумгле сливалась с лучезарно-золотистым безоблачным небом. Там проглядывались два клубка сизого дыма, похожих на деревья с широченными кронами.
Первые пароходы всегда были событием в жизни Пермского — шесть месяцев их не видели здесь. Но никогда они не были таким событием, как в эту весну. Лучшие наряды надели девушки и молодайки; даже древний дед Родион натянул на свои сухие длинные ноги расшитые узорами торбаса, подаренные ему лет десять назад другом-нанайцем из стойбища Бельго.
Пароходы были еще на излучине Амура, где-то против озера Мылка, когда их уже точно опознали: впереди шел «Колумб» с огромным, как у водяной мельницы, колесом в корме, за ним двигался «Профинтерн» с дебаркадером на буксире.
Вскоре над ясной, сверкающей под солнцем ширью Амура взвились и раскатились во весь простор басы гудков — один, затем другой. Любаша кинулась в избу, чтобы посмотреться в зеркало, перед тем как идти к Кланьке Кузнецовой и с нею на берег, как они условились. В дверях сеней столкнулась со Ставорским. Выбритый до синевы, надушенный, весь лоснящийся, с начищенным до блеска орденом, он сыто улыбнулся, загородил дорогу.
Любаша смущенно опустила глаза.
— Ну, уйдите!
— Пойдем вместе на берег, жениха хорошего подберу тебе. — Ставорский сузил миндалевидные глаза.
Все эти полтора месяца, что прожил он у Рудневых, Ставорский постоянно приставал к Любаше. Как-то, оставшись с ней наедине в избе, он попытался поцеловать девушку. Но Любаша, рослая, крепко сбитая, с сильными руками, с такой энергией оттолкнула его, что Ставорский, сбив стул, едва не упал через него.
— Ну, уйдите, — уныло просила девушка, — а то папаша выйдет, ругаться будет…
Но Ставорский уже обхватил ее полные покатые плечи, обдал запахом водочного перегара.
Любаша скользнула вниз, отпрянула назад.
— И как вам не стыдно, — раскрасневшись, поправляя платье, говорила она с обидой. — Вот сейчас крикну отцу, честное слово, крикну!
— Ну ладно, ладно тебе, дикая кошка, — хмуро проворчал Ставорский, одергивая гимнастерку. — Придет время — сама явишься…
С этими словами он с презрительным равнодушием прошел мимо нее, пружиня свой литой мускулистый корпус с затянутой широким ремнем талией.
Пароходы приставали против церквушки. Повсюду на берегу дыбились толстые льдины; на них теперь взобрались не только ребятишки, но и парни и девушки. В толпе пожилых гудел говорок:
— Строители-то, оказывается, сопливые. Должно, все городские.
— Комсомолия…
— Быстро, поди, отворотят нос от наших-то местов, — хихикал белобрысый сухонький мужичок. — Это им не по прутувару разгуливать под крендель с барышнями.
— Ты не гляди, Савка. Они, эти-то городские, злые на работу.
А с пароходов уже выбросили на берег причальные концы, там тарахтели лебедки — пароходы подтягивались к берегу. На верхних палубах густо толпились молодые люди в кепках, картузах, в армейских фуражках, некоторые в шляпах. И каких лиц только не было там: веселые, задумчивые, грубые, хмурые, смуглые, белобрысые, рыжие, бледные, красные!
— Ну и сброд, видать, приехал, — слышался голосок Савки. — Со всего миру, поди, их насвистели.
— Да, видать, порядочная шантрапа, — послышался глухой и мрачный голос Никандра. — Уходить надо из деревни: обчистят догола…
Любаша прислушивалась к разговорам, вглядывалась в толпу парней, запрудивших палубу «Колумба», и блеск ее больших серых глаз постепенно угасал. И окончательно он погас, а лицо стало скучным, когда с парохода уже выбросили сходни и строители повалили на берег: какой-то дюжий суетливый парень с большим длинноносым лицом безобразно выругался, когда кто-то из задних толкнул его в плечо чемоданом, хотя тотчас же с верхней палубы послышалось строгое:
— Ты, одессит! Нельзя ли полегче?
— А какого… тебе надо? — Он задрал кверху свою длинную голову с узкой макушкой, на которой блином лежала кепка с огромным козырьком.
— Да бросьте вы с ним, это тот самый, что устроил драку у водогрейки в Чите. Мало тогда дали ему…
На берег все валила толпа с парохода. Она запрудила сундучками, чемоданами, скатками весь берег вблизи сходней, и пермские отошли подальше, оттесненные быстро разрастающимся табором.
Любаша теперь стояла в сторонке с Кланькой Кузнецовой — коренастой и немного кривоногой девушкой, румяной, как спелое яблоко, в нарядной шали с махрами. Взявшись под руки, девушки склонили одна к другой головы и молча следили за всем, что происходило на берегу. Быстрые, желтоватые с прозеленью, словно у козы, глаза Кланьки дерзко прощупывали лица, одежду, пожитки парней.
— Вон, вон, симпатяга, поглянь, Любаша, — вдруг горячо зашептала Кланька, теребя рукав подруги. — Весь беленький и хорошенький, и одежда справная на нем. А сундучок, глянь, какой, вроде как с серебряной отделкой на углах.
— Это не сундучок, а чемодан называется, — поправила ее Любаша. — А он мне не нравится, Клава, приторный какой-то.
— Нет, я люблю таких. Обязательно познакомлюсь с ним! — В глазах Кланьки сверкнуло диковатое озорство.
Тот, кого выбрала Кланька, неторопливо шагал по сходням в потоке парней, держа на плече чемодан, а в руке скатку в чехле. Был он невысок, коренаст, с удивительно круглой, как шар, головой, с курчавящимися висками, пухлощек, в помятом, но добротном городском костюме, при галстуке. И хотя тесно было на сходнях, шел он важно, с достоинством.
— Мне вот тот больше нравится, что за ним следом идет, в шинели и с ружьем, — тихо проговорила Люба-ша. — Такой молодой, а видно, был военным…
— Вроде ничего, только больно тощой, шея-то как веревочка, — скривила Кланька влажные пунцовые губы.
С баулом в левой руке и с клеенчатым рюкзаком за спиной «тощой» осторожно ступал по сходням, немного прихрамывая.
— Глянь, глянь, Любаша, а вон стриженая, — снова возбужденно затеребила Кланька подругу. — Ой, смертушка моя, до чего ж она страшная! Не парень и не девка, какая-то финтифлюшка. Должно, потаскуха городская…
Молча проследив, куда направляется «хорошенький», Кланька потащила Любашу к тому месту.
— Пойдем, я сейчас с ним познакомлюсь, вот попомни мое слово! — страстно зашептала она. — А ты с тем, в шинели, познакомишься…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Новочеркасские комсомольцы сгружались с парохода последними.
После высадки из вагона в Хабаровске они держались вместе, маленькой коммуной, делили между собой каждый кусок хлеба. Вот и теперь, отойдя в сторонку, они складывали в общую кучу свой багаж.
В дороге Захар сдружился с Андреем Аникановым, тем «беленьким», что приглянулся Кланьке. Жернаков и Аниканов познакомились еще в Новочеркасске, когда Захар демобилизовался и ушел из кавшколы. Аниканов был секретарем комитета комсомола механического завода, куда хотел поступить Захар. Они тогда долго проговорили. Захар рассказал свою печальную историю, и Аниканов обещал помочь ему подготовиться в институт.
Встретившись в вагоне, они заняли рядом места на нарах и подолгу, лежа бок о бок, перед сном разговаривали о всякой всячине. Аниканов был собран, аккуратен, более начитан, чем Захар, и обладал строгой логикой в рассуждениях. Все это привлекало к нему Захара.
Еще в первый день пути по предложению «стриженой» — Лели Касимовой Аниканова избрали старостой вагона, и он исполнял эту должность ревностно и аккуратно. И теперь, как только вся группа высадилась, Аниканов назначил двух комсомольцев охранять вещи, а всех остальных предупредил, чтобы далеко не отлучались.
— Видать, начальник ихний, — шепнула Кланька на ухо Любаше, пожирая глазами Аниканова. — Строгий какой! Должно, грамотней всех.
Девушки жадно прислушивались к разговорам приезжих, молчали, каждая думала о чем-то своем.
Аниканов первый обратил внимание на них и подошел.
— Ну, здравствуйте, девушки. Ждали гостей? — весело спросил он.
Кланька прыснула и зарделась вся, как цветы на ее шали, глаза заблестели.
— Ждали не ждали, выгонять не будем, — сказала она бойко и снова прыснула в шаль.
— Как тут у вас, медведи в село не заходят?
— Всякое бывает, — словоохотливо ответила Кланька; видно, она решила не откладывать на будущее свое намерение. — Вон в третьем годе даже тигру убили наши мужики, аккурат у Силинского озера, вон там, — кивнула она головой в нижний конец села.
— Ого! — воскликнул Аниканов. — Слышишь, Захар, «тигру» убили мужики в «третьем годе». Так что в тайгу здесь не так уж безопасно ходить.
Захар подошел к ним, поздоровался с девушками.
— Тигры, значит, тут водятся? — спросил он. — Вот и хорошо. Хоть раз встретиться с живым тигром, а то у нас на Дону одни суслики да зайчишки, — улыбнулся он, встретившись глазами с Любашей. При этом он успел заметить, что глаза у девушки умные, глубокие и немного грустные. — И часто подходят к селу тигры?
Тем временем вокруг девушек стали собираться комсомольцы.
— Один только и подходил из-за Амура, с юга, — смущаясь, ответила Любаша. — А в здешней тайге тигры не водятся.
— А медведи водятся? — спросил кто-то.
— Медведей шибко много! — опередила Кланька Любашу. — Кажин год дерут коров в нашей деревне.
— И людей тоже «дерут»? — Аниканов с нескрываемой иронией подчеркнул слово «дерут».
— Бывает иной раз, что подерет. Как охотник зазевается, а то ружье не стрельнет, так тогда только держись!
— А еще какие звери есть?
— Сохатого и кабарги много, дикий кабан водится выше по Амуру, — несмело, как школьница на уроке, отвечала Любаша. — Из пушных много белки, есть колонок, лиса-огневка, выдра, барсук…
— А боровая дичь? — с интересом спросил Захар.
— Какая? — спросила Кланька и почему-то снова прыснула в шаль. Видно, у нее это считалось высшим проявлением кокетства.
— Много рябчиков и глухаря, — отвечала посмелевшая Любаша.
— И еще бурундук есть, — вмешалась Кланька.
— Бурундук — это грызун, — спокойно объяснила Любаша Кланьке, а потом продолжала, обращаясь к парням: — Такой маленький полосатый зверек, размером меньше белки.
— Вот видишь, а ты говорил, «зачем ружье?», — сказал Захар Аниканову. — Тут, брат, самый настоящий край непуганых птиц.
— Ага, это правда, — подтвердила Кланька. — Мужики сказывают, стрельнут в одного рябчика, а другой рядышком сидит и не улетает. Совсем не пужаная птица.
Среди приезжих пробежал смех.
Между тем с пароходов уже сошли последние комсомольцы, и за ледяным прибрежным барьером образовался огромный табор. Там уже кричал какой-то глашатай:
— Старостам групп собраться ко мне! Эй, старосты групп, давай ко мне!
— Что там такое? — повернул голову Аниканов. — Наверное, по вопросу расселения. Ты оставайся тут за меня, Захар, а я пойду. Да смотри, чтобы ребята не разбрелись.
— Он у вас что же, заглавный? — доверительно спросила Кланька, когда Аниканов скрылся в толпе. Она вдруг перестала смущаться и разговаривала с Захаром по-свойски, без всякого кокетства.
— Староста группы. «Заглавный» здесь начальник строительства.
— А что же, ученый он, должно?
Захар растерянно посмотрел на Кланьку.
— Ученый? Нет, комсомольским работником был на родине. Или вы спрашиваете в смысле — грамотный?
Кланька снова прыснула; вместо нее ответила Любаша:
— Ученый, по-нашему, по-деревенскому, значит грамотный.
— Понимаю, понимаю. Я тоже не очень «городской».
— Из каких же местов вы будете? — продолжала без смущения расспрашивать Кланька.
— С Дона. Слышали?
— Нет, я грамоте только два года училась. А далеко это?
— Около десяти тысяч километров.
— Батюшки! Сколь же вы ехали?
— Да вот скоро будет полтора месяца, как оттуда.
— Ой, как далеко! — скупо улыбнулась Любаша, до сих пор сохранявшая серьезное выражение лица. — Я даже вообразить себе не могу это расстояние.
— Вам не приходилось далеко ездить? — спросил Захар. Ему было приятно разговаривать с Любашей.
— Нет, даже в Хабаровск не ездила. Самое далекое — в Нижнюю Тамбовку выезжала, это сто десять километров ниже по Амуру село такое есть.
— А я была в Хабаровским, — не без хвастовства сообщила Кланька. — Вот где чудно, дома-то эвон какие, выше церкви!.. А как его зовут, старосту вашего? — вдруг заговорщически спросила Кланька.
— Андреем. А что? — спросил Захар, удивленно посмотрев на Кланьку.
— Так просто, интересно знать. А тебя?
— Захаром. А вас?
— Меня Клавдией, а по-деревенскому Кланька, а вот ее по-деревенскому зовем Любашей, а правильно — Любовь.
Откуда-то вывернулся раскрасневшийся Аниканов. Галстук у него съехал набок, пиджак нараспашку.
— Давай, Захар, пошли палатки получать! — возбужденно крикнул он. — Моя очередь уже недалеко.
Вскоре у подножия откоса, там, где тянулась вереница деревенских лабазов и бань-курнушек, забелели две шеренги палаток.
В палаточном городке словно в муравейнике: одни натягивают веревки, другие заваливают песком и галечником края полотнища, третьи тащат доски; стук топоров, говор, смех, раздаются выкрики, кое-где вспыхивает горячий короткий спор за место. Рядом вырастают горы ящиков, бочек с соленой рыбой, мешков с мукой и сахаром, выгружаемых с пароходов. Повсюду бродят ребятишки с раскрытыми от удивления и безмерного любопытства ртами, вертятся собаки, сбежавшиеся со всей деревни.
За полдень, когда вырос городок из палаток, все постепенно начало становиться на свое место. На палатках появились дощечки с надписями: «Москва», «Ленинград», «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Горький», «Одесса», «Харьков»… Однако палатки не вместили всех строителей. Толпы комсомольцев, нагруженных пожитками, двинулись на пригорок. Уполномоченные тем временем уже бегали по деревне, вели переговоры с хозяевами амбаров, чердаков, бань-курнушек о заселении их строителями.
— Вот теперь, кажись, вовзят сели на шею, — ворчал Никандр за обедом, прислушиваясь, как гудят шаги и голоса над головой, на чердаке. — И Ставорский не помог! — Он вдруг яростно посмотрел на Любашу: — Чтоб ни шагу мне из дому! Запорю, ежели что!.. Видишь, какие они шибалки, будто тараканы набились во все пазы, до ветра некуды сходить, прости господи!.. И с Кланькой поменьше водись. Она так и жрет их глазами, чертовка. Уж финти-минти разводит!
К концу обеда появился Ставорский. Лицо его было потным и красным, в раскосых глазах с синеватыми белками таилась злоба. От утреннего лоска не осталось и следа: сапоги заляпаны грязью, на гимнастерке и синих галифе пятна не то ржавчины, не то навоза. Ничего не сказав, он быстро прошел в чистую половину избы. Вскоре высунулся из дверей, спросил:
— А что, чердак заселили?
— Двадцать человек, — смиренно ответил Никандр.
— Дак что же ты мне не сказал, Никандр Родионович? Я б их по шеям от дома!
— А где вас искать-то? Говорят, «пришли по распоряжению власти» — и полезли! Сами и лестницу притащили. Не могу же я против власти…
— Ничего, я их повышибаю оттуда, — пообещал Ставорский. — Фекла Степановна, подай, пожалуйста, обед, а то я тороплюсь. Ну и денек! Голова кругом идет, — проворчал он, скрываясь за дверью.
После обеда он снова появился в дверях.
— Родионыч, зайди-ка на минутку, — пригласил Никандра. — Я к тебе имею секретный разговор, — вполголоса продолжал Ставорский, когда они уселись возле стола на табуретках. — Видишь, что за народец приехал? Я думаю о твоей дочке. Славная девка, как бы не опутал ее какой-нибудь проходимец. Так, ради забавы… Я это говорю вот почему: пора мне жениться. Лучше Любаши, пожалуй, себе пару не найду. Как ты посмотришь на это, а?
Никандр долго теребил щетинистый подбородок, задумчиво глядя в окно на привольную ширь Амура. На кирпично-красном, продубленном солнцем и ветром лице его не дрогнул ни один мускул, ничто не выдавало на нем работы мысли, разве только в оловянных глазках таилось что-то недоброе, суровое.
— Подумать надо, Харитон Иванович, — сказал он наконец. — Дочь у меня порядочная, в девках не засидится.
— А меня ты, что же, считаешь непорядочным?
— Вот вы мне скажите, Харитон Иванович, — подумав, с трудом заговорил Никандр, — вы за какую власть? Я хочу по-честному, по душам.
— За такую же, за какую и ты, Родионыч, — какая лучше кормит. — Ставорский усмехнулся, многозначительно посмотрел на Никандра.
— Вот в чем вся и загвоздка. Сейчас ты тут, а завтра тебя нет. А дочь-то у меня одна… Это если чужая овдовеет, то до нее и дела нет. А своя дочь ведь вот здесь, под сердцем! — Никандр постукал себя большим пальцем по груди. — Подумать надо, подождать маленько и посоветоваться с хозяйкой. Да и с дочкой надо поговорить…
— А может, я сам с ними поговорю?
— Это пожалуйста, ваша воля. Я-то все-таки родитель, — как-то неопределенно сказал Никандр и встал. — А вас, Харитон Иванович, что ж, я вполне уважаю, человек вы сурьезный, против такого зятя я бы не возражал, конечно…
С тем и направился к двери.
Хотя было и очень тесно, новочеркасские комсомольцы разместились в двух палатках. Одну пришлось перегородить пополам одеялом: в правой половине поселились четверо ребят, в том числе Захар и Аниканов, в левой — три девушки, и среди них «стриженая» — Леля Касимова.
Когда немудрящие пожитки были разложены, доски на козлах застланы одеялами, в мужскую половину вошла Касимова.
— Ребята, есть заманчивая идея, — сказала она, откидывая пятерней рассыпающиеся белокурые волосы. — Кому-нибудь пройтись по избам и попытаться купить кринку молока и на каждого хотя бы по паре яичек. Как считаете?
— Говорят, скоро обед, — сообщил Аниканов. — Церквушку спешно переоборудуют под кухню и столовую, сам видел! Там пристраивают еще целый павильон.
— Но там же опять будет перловая каша, — взмолилась Касимова. — Хоть бы раз вкусно поесть!
— А что, пойдем, Андрей? — предложил Захар. — Заодно взглянем, как живут тут люди.
Все сложились по три рубля, и Захар с Аникановым отправились за покупками. Неподалеку от церкви они остановились, решая, в какой дом зайти.
— Вот, видно, богато живут, — указал Аниканов на добротную избу, срубленную из толстого листвяка.
Двор закрывали огромные глухие ворота, похожие на триумфальную арку. По бокам — высокие, могучие столбы, как колонны, над ними двускатная, в прозелени древнего мха, тесовая крыша с узорчатым многоярусным кружевным карнизом.
Долго крутили друзья массивное кольцо громыхающей щеколды, пока вошли во двор. Там их встретил большой буровато-пегий пес; он лаял басисто, глухо, словно в трубу, но не злобно, а почти безразлично. По-видимому, он уже привык за этот колготной день к бесчисленным посетителям и ему надоело облаивать их.
Гостей встретила Любаша, вышедшая на крыльцо.
— О, да тут наша знакомая! — весело воскликнул Аниканов. — Тогда еще раз здравствуйте!
— Здравствуйте еще раз, — улыбнулась Любаша. — Вы поселяться на чердак?
— Нет, мы уже поселились. Молока или яичек можно у вас купить?
— Я не знаю, папашу нужно спросить. Проходите в избу, он дома.
Никандр встретил их неприветливо. На продолговатом красном лице его с жесткой рыжей щетиной злобно, как у дикого кабана, сверкнули маленькие оловянные глазки.
— Нету продажного, — коротко сказал он. — Жильца из ваших начальников содержим.
На голоса из своей комнаты вышел Ставорский. Недружелюбно окинув взглядом парней, он спросил с заметным раздражением:
— Что? Молока? Вы дискредитируете комсомол! Разве вас не кормят?
Но, присмотревшись к буденовке и шинели Захара, на которой еще оставались синие петлицы кавалериста, спросил:
— Купил обмундирование или в самом деле из кавалерии?
— Из кавшколы, демобилизован.
— Почему?
— Упал с лошадью на препятствии, сломал ногу и ключицу.
— Давно?
— В феврале.
— В какой школе был?
— В Новочеркасской.
— Вот как! Знаешь там двадцать девятый и тридцатый кавалерийские полки Блиновской дивизии?
— А как же, вместе на маневры ходили. Вы, случайно, не служили там? — спросил Захар, обративший внимание на кавалерийские галифе Ставорского.
— В Новочеркасске нет, в Блиновской дивизии служил, в двадцать восьмом году. Потом на КВЖД был переброшен. Из Блиновской дивизии кто-нибудь есть среди приехавших?
— Из Новочеркасска нет никого.
— Жаль… Степановна, — обратился он к жене Никандра, — ты, может быть, посоветуешь им, у кого купить молока?
— У Гликерии Савкиной, должно, есть, у нее две коровы доятся. — Фекла вышла из-за печи, круглая вся, миловидная и тихая, с гладко зачесанными назад, на пробор, лоснящимися черными волосами.
Несмотря на свои годы, она еще не утратила той простой, милой русской красоты, которая как-то своеобразно, может быть в более облагороженном виде, передалась и Любаше.
— Это далеко? — спросил Аниканов. — Гликерия, вы сказали?
— Спросите Савелия Бормотова, — вступился мрачно молчавший до сих пор Никандр. — Пройдите вниз по порядку, третья изба по левой руке будет.
— Ну, извините за беспокойство, — сказал Аниканов. — До свидания.
— Подожди-ка, кавалерист, зайди сюда на минутку, — сказал Ставорский Захару. — А ты пока постой там, — мельком бросил он Аниканову.
— Слушаю. — Захар встал по команде «смирно», переступив порог чистой комнаты, в которой жил Ставорский.
— Садись-ка. Мы с тобой тут не военные. — Он показал на табурет у стола. — Как фамилия? Та-ак… Меня зовут Харитон Иванович Ставорский. Я вот с чем: пойдешь ко мне на конный парк?
— А чего там делать?
— Сейчас возчики мне нужны. А там бригадиром станешь, а может, даже моим заместителем. У тебя как с грамотешкой?
— Кончил шэкаэм, да вот полтора года в кавшколе был.
— Это что такое — шэкаэм?
— Школа крестьянской молодежи, все равно что семилетка.
— Ага, ну что ж, образование приличное, так что и помощником сможешь быть у меня. Коней-то любишь?
— Да, люблю, конечно. Но как-то уже отрешился от них…
— Настоящий кавалерист никогда не отрешится от коней. Ну, решай.
— Самому мне неудобно просить. Вы поговорите, кто там будет распределять. Если пошлют — пойду.
— Хорошо, завтра к вечеру заходи ко мне. Договорились?
Едва вышел Захар с Аникановым в коридор, как Андрей сразу с вопросом:
— Чего он тебя звал?
Выслушав, решительно посоветовал:
— Соглашайся, Захар, даже не думай! Само счастье в руки плывет. Это ведь здорово — заместителем, а? — Аниканов не без зависти посмотрел на Захара.
Тот ничего не ответил.
Уже за воротами Аниканов, вспомнив Никандра, усмехнулся:
— Видел, как гостеприимно встретил нас хозяин?
— Да, видно, допекли-таки его. А богатырь какой, а? Вот уж где темная, брат, силища! Такому и на медведя не страшно, голыми руками хребет поломает.
— Конечно, разве не жаль такое подворье бросать? — вздохнул Аниканов. — Вон какой бастион соорудил — крепость, а не дом.
Подворье Савелия Бормотова не отличалось такой добротностью, как у Никандра, хотя все постройки тоже были рублеными. Выглядело оно просторнее, но с невысоким забором, обычными воротами и покосившейся стеной в конце длинного скотного двора. Двор был невероятно загажен коровами и свиньями.
На пороге Захара и Аниканова встретил невысокий сивый мужичонка с маленьким личиком и хитрыми, как у хорька, пристально нацеленными глазками.
— Зачем пожаловали, люди добрые? — не то хихикнул, не то кашлянул он. — А-а, молочка… Уж я-то думал, селиться! Чердак битком набит, эвон, слышите — бубнят там! Молочка можно. Гликерия! — крикнул он в коридор. — А ну, выдь сюда! Вот тут ребятки молочка желают купить, — сказал он дородной немолодой женщине, вышедшей на его зов. — И яичек? И яичек принеси. Хорошо, что хоть не воруете, а покупаете, — снисходительно сказал он и захихикал.
— А почему вы так говорите? — недобрым голосом спросил Захар. — Вы что, видели, чтобы кто-нибудь из комсомольцев воровал?
— Да нет, ребятки, — заюлил Савка, — это я так, к слову. Всякие люди бывают! Иной и на вид ничего, вроде антилигентный, а тяпнет что плохо лежит — и поминай как звали! А ты не сердись, товаришок! Вы же еще молодые шибко. Заходите, ребятки, в избу.
В избе было неопрятно, ветхо; все стояло будто не на своих местах. Возле печки на мокром полу лежал теленок, недавно появившийся на свет; возле него сидел пухлощекий малыш, барабаня кулачками по дну опрокинутого ведра.
Проницательно оглядев комсомольцев, Савка уселся возле стола.
— Ну, сказывайте, из каких местов будете?
Выслушав ответ, покачал головой.
— И какая же сила вас сюда занесла? Тут же вас летом гнус изведет, а зимой в лютую стужу померзнете, как курчата. Дак это что! А вот в иной год зверье стадом выходит из тайги, так это же погибель людям бывает!
— Это какое же зверье? — поинтересовался Захар.
— Как какое? Медведь, тигра…
— Медведи стадом не ходят. Это вы зря, дядя. А что касается тигров, то они вообще в этом районе не водятся. Так что вы напрасно хотите напугать нас.
— Молод ты, товаришок, вот и горяч. А спроси любого деревенского — кто убил тигру на Силинском озере? Вот то-то и оно, что не водится…
— Так это единственный случай за все время! — резко бросил Захар.
Савка хлопнул ладонями по коленям.
— И скажи, все уже знаете! А я-то хотел вас проверить: дескать, пугливые ребятки или нет? Ну, молодцы, молодцы, дай бог вам здоровья!
Вошла Гликерия с литровой бутылкой молока и яйцами в подоле. Савка заломил такую цену, что Захару и Андрею пришлось вытряхнуть все деньги, собранные в складчину, да еще червонец приплатить из своих карманов.
— Не я цены устанавливаю, ребятки, — развел руками Савка. — Такие цены в Хабаровске на базаре установлены, говорят, самим начальством, чтоб крестьянину, мол, легше жилось… Литру-то верните, не забудьте, — бросил он им вслед.
За воротами Аниканов спросил, усмехнувшись:
— Как думаешь, Захар, выйдет из него когда-нибудь строитель социализма?
— Из этого хоть плохой, но может выйти. Вот из того, из Любашкиного отца, навряд ли выйдет когда-нибудь. Он клещом впился в землю и видеть ничего не желает.
Возле церквушки, там, где к ней пристроили на скорую руку дощатую столовую, толпилось много комсомольцев; у некоторых в руках были алюминиевые миски или котелки.
— Кажется, обед начали раздавать, — сказал Аниканов. — На тебе молоко, неси в палатку, а я пойду выясню, когда наша очередь обедать.
Леля Касимова уже разлила молоко по кружкам, когда вернулся Аниканов с вестью: сейчас начнут кормить новочеркассцев.
— А что там на обед? — спросил Захар.
— Леля правильно сказала, перловая каша и по кусочку отваренной кеты.
— Жаль, посуды нет, — вздыхала Касимова, — а то бы одного кого-нибудь снарядить, получил бы на всех, и хорошо пообедали бы.
В конце концов решили выпить молоко и идти обедать, а яички сварить на ужин.
Едва вернулись с обеда, как послышался голос все того же глашатая, что сзывал старост групп получать палатки. Теперь он объявил о митинге.
Митинг собрался в верхнем конце палаточного городка, где были сложены ярусы ящиков и укрытые брезентом бурты с мешками. Отсюда открывался вид на излучину Амура, и, хотя ширина реки в этом месте была огромной — километров пять, высокая волнистая гряда крутых сопок на правом берегу выступала очень ясно и отчетливо, со всеми складками, скалами, с частоколом тайги. В зеркальной глади воды, окончательно очистившейся от льдин, проглядывали первые вечерние тона и оттенки — розоватые с просинью, оранжево-золотистые, кое-где переходящие то в фиолетовые, то в пунцовые.
Тысячная толпа расположилась на ящиках, у буртов с мешками, возле палаток. Кое-кто взобрался на льдины. Помимо приехавших строителей, около девятисот комсомольцев, тут было почти все взрослое население Пермского. На самом верху сложенных ящиков водрузили большое красное знамя. То там, то тут слышались звонкоголосые переборы гармошек. Двое одесситов отбивали «Яблочко», дружный многоголосый хор ростовчан с присвистом пел:
Во солдаты меня мать провожала…Но вот к знамени взобралось несколько человек, и среди них высокий, тощий, в длинном кожаном пальто, с продолговатым бледным лицом и козлиной бородкой начальник строительства. На берегу постепенно смолкли шум и песни, наступила торжественная тишина.
— Больше-ви-истска-ая па-артия и Сове-етское пра-а-витель-ство, — растягивая слова и делая паузы между ними, стал выкрикивать секретарь парткома Фалдеев, держа над головой кепку, — поручили на-ам с ва-ами, товарищи, почетное историческое дело: построить вот в этой тайге гигантское предприятие социалистической индустрии — крупнейший механический комбинат, который будет снабжать весь Дальний Восток механизмами, необходимыми для освоения богатств края. С ним же будет построен и социалистический город — первый на Дэвэка… Митинг разрешите считать открытым. Слово для доклада о задачах строительного сезона 1932 года предоставляется начальнику строительства, товарищу Ковалю.
Начальник строительства не отличался красноречием. Уже на десятой минуте он утомил слушателей цифрами: столько-то тысяч квадратных метров раскорчевать тайги, столько-то погонных метров прорыть осушительных канав, построить дороги, заготовить деловую древесину, построить жилье, выполнить земляные работы, возвести производственные сооружения… Цифры, цифры…
Захар сначала пытался запоминать их, но скоро все начало путаться в голове, и он лишь слушал нудный голос начальника строительства.
По толпе сначала тихо, потом громче стал ходить говорок.
— Куда-то направят нас завтра, — вздыхая, говорил Аниканов. — Ох, и достанется же, наверное, нам, ведь по специальности никому работы нет!
— Да, судя по всему, придется корчевать тайгу да копать землю, — отвечал Захар, одним ухом прислушиваясь к тому, что говорил оратор. — Все голыми руками…
— Что, пасовать начинаете? — вмешалась Касимова. — Не́чего робеть, не век будем тайгу корчевать. Построим город — инженерами станем. Слышали? В будущем году должны пустить первые заводы комбината.
Начальник строительства закончил речь, и на его месте появился кряжистый паренек с лицом кавказского типа.
— Костя Замгиев, — заметил кто-то из краснодарцев, стоявших неподалеку.
— Не Костя, а Коста, он же осетин, — поправил другой голос.
Замгиев заговорил зычно, быстро и горячо и с первых же слов овладел вниманием. Заметный кавказский акцент делал его речь забавной и пылкой.
— Ми скоро будем самый богатый страна в мире! — размахивая руками, с горячностью кричал он. — Сталинградский и Харьковский тракторозаводы построили? Построили! Днепрострой построили? Построили! Челябинский тракторный строим? Строим и скоро пустим! А Магнитострой, а Хибиногорск? А почему? А потому, что наш большевистский партия сказал народу: надо строит, чтобы жит богато и чтобы врагу по зубам дат, если он полезет войной на нас. А ми зачем приехал на Дэвэка за десять тысяч километров? Чтобы тоже строит! Тут нас некоторые местные граждане пугают, говорят: «Вот придот стадо медвед и вас сожрот». (В толпе смех.) «Летом вас комар и мошкара тоже сожрот». (В толпе хохот.) «Сожрот, сожрот», — передразнил он воображаемого противника, скорчив страшную мину и растопырив скрюченные пальцы. — А ми кто вам, ишак или казавка?
Толпа разразилась хохотом, кое-где захлопали в ладоши.
— Не пугайте нас, пожалуйста, некоторые граждане, ми обязательно не уедем, пока не построим тоже комбинат-гигант! — единым дыханием прокричал Замгиев. — Всякий трудности выдержим, но построим, раз большевистская партия наш сказала так комсомолу!.. Ура, товарищи! — неожиданно закончил он.
Некоторое время было тихо, но вот сначала не густо, а потом как нарастающий прибой грохнули могучие крики «ура».
Следующим выступал горьковчанин. Его окающая неторопливая речь была выслушана со вниманием, но никого особенно не взволновала. Когда он торопливо сошел с ящиков и Фалдеев, продолжая держать смятую кепку в правой руке, пригласил желающих выступить, Леля Касимова толкнула Аниканова:
— Выступи, Андрюша, от нас, новочеркасских комсомольцев!
Аниканов окинул взглядом ребят.
— Пойти?
— Валяй!
— Разрешите слово!
— Пожалуйста. Кто там? — спросил Фалдеев.
Захар не знал, что Аниканов был «дежурным оратором» на всех комсомольских конференциях и активах в Новочеркасске — собственно, поэтому Касимова и предложила ему выступить. Говорил Андрей звонко, с привычными ораторскими жестами и выражениями, держался свободно, независимо, чем немало удивил Захара: «Да Аниканов ли это?» Правда, Андрей ничего нового не прибавил к тому, что уже было известно до него, только по-своему повторил то же, о чем говорил Замгиев, — о запугивании комсомольцев, рассказал о том, что говорил ему (Захара он не назвал) один крестьянин, когда он зашел в его дом (о причине посещения Андрей умолчал). Но говорил Аниканов звонко, слова бросал хлестко. В заключение произнес три здравицы в честь партии, советского народа и Ленинского комсомола и горделиво спустился с ящиков под шум дружных аплодисментов.
Стало уже смеркаться, когда митинг закончился. Но люди долго не расходились с берега. Повсюду то и дело вспыхивал смех — вспоминали выступление Замгиева, его слова: «А ми кто вам, ишак или казавка?»
В этот день многие из пермских до глубокой ночи не могли уснуть, прислушиваясь к красивой украинской песне харьковчан, растекающейся в беспокойной весенней тишине над Амуром.
Особенно мучительно засыпал Никандр.«И черт потянул меня на это собрание! — ругал он себя. — Только еще больше замутилась душа…»
ГЛАВА ПЯТАЯ
Тайга, тайга…
Захар, степной житель, видел лишь небольшие островки лесных зарослей в пойме Дона. Всей душой любил он эти леса. Когда-то в детстве ему нравилось залезать в самую глухомань и там, в первозданной тишине, в зеленой сумрачной чаще ежевичника, черноклена, колючей крушины, укрытых сверху ветвистым пологом вековых дубов, испытывать непонятный страх и очарование перед лесной таинственностью. То, что он видел из дверей теплушки на протяжении почти всей дороги от Урала до Хабаровска, было сверх всяких его представлений о лесе. Это было то, что называли тайгой, — бесконечное, удивительное море леса.
Еще более могучие, совсем нетронутые леса он увидел с парохода, плывя от Хабаровска вниз по Амуру. Перед ним лежал необозримый простор, в котором властвовала лишь тайга, одна тайга. Словно исполинская зыбь застывшего океана, уходили ярус за ярусом цепи сопок к востоку и западу от Амура. Тайга густо ощетинила их конусы частоколом елей и пихт, затянула долины мягкими курчавыми куделями разнолесья, темнела во всех распадках и падях, мрачной стеной подступала к берегам Амура.
То же очарование и трепет, что испытывал Захар в детстве среди придонского леса, владели им и теперь, но только с бо́льшей силой. Пораженный, оробевший, всматривался Захар в таежную даль, пытаясь проникнуть в ее суровую тайну.
Так вместе со всем новым, что принесла в его жизнь дальняя дорога от Новочеркасска до Пермского, волнующей загадкой вошла в его мир тайга. Что бы он ни делал: бродил ли по палубе или записывал что-нибудь в свой дневник, который регулярно стал вести в дороге, хлебал ли суп из консервной банки или укладывался спать на голых нарах, над всем этим была не покидающая его, идущая рядом, словно что-то живое, тайга.
Именно с этим ощущением необыкновенной новизны он проснулся, разбуженный басистым гудком парохода, вдруг вторгнувшимся в утреннюю тишину. В глаза ударил яркий свет солнца, густым сеевом сочившийся сквозь парусину палатки. В мужской половине уже никого не было. Значит, он проспал: с вечера беспокоила нога, и он долго не мог уснуть, вертелся с боку на бок, выбирая положение поудобнее. За пологом разговаривали девушки. Не успел Захар одеться, как у входа в палатку послышался бойкий голос вчерашнего глашатая:
— Новочеркасск, можно к вам?
— Входите, — разом ответили девушки и Захар.
— Не пойму, как тут к вам входить. Ага, вот, разобрался. О, да тут у вас прямо-таки апартаменты! Здравствуйте, девушки. Только вы мне не нужны, охочусь за мужским полом, который в сапогах.
— Вон за одеялом мужской пол в сапогах, — насмешливо сказала Маруся Дробышева. — А вы просто поднимите край одеяла и входите туда.
Из-под края полога в мужскую половину вполз на карачках улыбчивый парень с румянцем на полных щеках, с быстрыми синими глазами.
— Это ты, кавалерист, имеешь сапоги? Будем знакомы. — Он без обиняков протянул руку Жернакову, окидывая его взглядом. — Лев Качаев, нижний чин управления Дальпромстроя, в настоящий момент заменяю отдел кадров. А ну, посмотрю, что за сапоги, покажь-ка ноги. Исправные? Та-ак. Фамилия? — Он раскрыл истрепанную записную книжку. — Та-ак. Тридцать восьмой, — бубнил он себе под нос, быстро записывая. — Ну вот, товарищ Жернаков, собирай свои пожитки и дуй к палатке горьковчан, первой с того края. Там сборный пункт для имеющих сапоги.
— Все с собой забрать?
— Да, все, что есть. Надолго!
— Это куда? — поинтересовался Захар.
— Пойдете вверх по течению какой-то тут речки, забыл название. Лес сплавлять будете к строительной площадке. Долго не задерживайся. Проводник там давно ждет.
Захар хотел сказать Качаеву о вчерашнем разговоре со Ставорским, но решил, что ребята подумают, что он, Захар, отлынивает от трудностей, и промолчал.
— А когда нам на работу? — спросила Леля Касимова из-за полога.
— Маленько потерпите, сегодня к вечеру разберемся, — ответил Качаев.
— Куда будете назначать девушек?
— Известное дело куда — в столовую, в прачечную. А кто пожелает, на корчевку пойдет.
— Мы на корчевку пойдем.
— Ладно, буду иметь в виду.
Как только «отдел кадров» покинул палатку, в мужскую половину к Захару вошли Леля Касимова и Маруся Дробышева — скромная, тихая девушка с кудрявыми русыми волосами, выбивающимися из-под берета.
— Ты это что же, Захар, не сказал о своей ноге? — с укоризной спросила Леля Касимова, наблюдая, как он укладывает в свой клеенчатый рюкзак полотенце, мыло, патроны. — Ведь на сплаве тяжело работать.
— А что, я за легкой работой приехал?
— Ну все-таки… Зря, наверное, я поверила тебе тогда, не надо было давать путевку. Погубишь ты себя здесь. — Помолчав, грустно добавила: — Распадается наша коммуна. Хорошо, когда вместе все, свои…
— А где ребята? — спросил Захар, затягивая рюкзак.
— Пошли пароход встречать. Говорят, новая партия комсомольцев едет. А потом пойдут работу просить.
— Привет им от меня передайте. А вернусь — медвежью шкуру принесу вам. — Он улыбнулся весело, озорно.
— Ох, Захар, ты хоть бы свою шкуру принес! — печально сказала Леля Касимова; она выглядела пасмурно: ее тяготили неопределенность и безделье.
По пути к палатке горьковчан Захару неожиданно встретился Аниканов.
— Ты это куда? — удивился Андрей.
Захар объяснил.
— А как же с конным парком?
— Наверное, на сплаве важнее, раз посылают туда. Там нужны люди в сапогах. Пойдем вместе, Андрей, — предложил он, — у тебя ведь тоже сапоги есть.
Аниканов быстро оглянулся по сторонам, вполголоса зачастил:
— Они ведь хромовые, Захар, ты не говори там… Понимаешь, жалко надевать на работу, да еще на сплав леса. Буду пока носить эти туфли, они у меня расхожие. А от хромовых какой прок? Промокнут и сразу развалятся, в два счета!
Захар удивленно посмотрел на Аниканова, не зная, что сказать. Эта новая черта характера поразила его и немного обидела.
— Как же это так? — спросил Захар, отводя глаза от воровато бегающего, скользкого взгляда Аниканова. — Это, по-моему, даже нечестно, не по-комсомольски.
— Да, ну ладно, Захар! Ты об этом молчи, я же от работы не увиливаю? — Аниканов заискивающе улыбнулся, стараясь казаться веселым. — На корчевку пойду, там тоже не легче! Ну, просто жаль новые сапоги, они же у меня хромовые, понимаешь?.. Так ты, значит, не пойдешь на конный парк? Может, мне туда попроситься, как ты думаешь, Захар? Ведь я в крестьянстве вырос, с лошадьми умею обращаться.
— Смотри, дело твое.
Захар ушел от Аниканова растерянным и подавленным. Вот, оказывается, как узнаются люди! Еще вчера Захар думал, что Аниканов тот человек, у которого нужно учиться, кому следует подражать во всем. А может, Аниканов прав? Ведь сапоги-то в самом деле хромовые, дорогие… В душе Захара еще боролись неприязнь и симпатия к этому разбитному малому. В такую минуту особенно хотелось иметь хорошего друга, с которым обо всем можно откровенно и честно говорить, услышать его умный совет…
Бригада сплавщиков, возглавляемая кряжистым горьковчанином Алексеем Самородовым, вышла из деревни только в полдень. Проводник, высокий сутулый мужик с добрым лицом, вывел их на дорогу, вклинившуюся между огородами, и вскоре ребята очутились за околицей, в густых зарослях тайги.
В первую минуту все робко притихли, вглядываясь в лесные дебри. Лиственные деревья — а тут были черная и белая береза, ольховник, осина, ветла — стояли еще голыми. То там, то тут проглядывали молодые осанистые елки и пихты в своих пышных темно-зеленых дошках. Среди густого подлеска, оплетенного высохшими нитями ломоносовки, чернели слипшиеся, ставшие прахом вороха прошлогодней листвы, нанизанные на тонкие веточки шиповника и жимолости.
Припекало солнце, стояла тишина. И душный воздух был напоен пронзительным запахом прели и зреющих почек. Повсюду виднелись впадины, низины, а в них поблескивала дегтярно-черная талая вода.
Колонна двигалась неторопливо, растянувшись на проторенной дороге, вьющейся по узкому лесному коридору.
Захар шагал вслед за проводником и бригадиром, невольно прислушиваясь к их разговору.
— Сплав будет трудный, — глуховато, словно в пустое ведро, говорил проводник. — Река не расчищена от коряжин, первый раз будет идти по ней сплав.
— А жить-то есть где? — окающим тенорком спрашивал бригадир Самородов.
— Два барака в прошлом годе срубили наши мужики, — ответил проводник, — в них лесорубы зимовали. Один барак на нижнем складе, другой на верхнем; в нижнем вы и будете размещаться.
— Трудно ужо, конечно, трудно будет, робята сплавного дела не знают. Только я да брат мой Иванка бывали на сплаве, — говорил бригадир. Он не выговаривал буквы «л», она у него получалась не то как «н», не то как «в»: «бывани», на «спваве».
— Ничего, дело не мудрящее. Все эвон какие здоровые, молодежь…
— Ребята-то хорошие. Видать, с охотой идут, — окал бригадир.
Захара догнал длинный, нескладный парень, весь плоский, как доска, в потертом коротком кожушке. Он шагал, приседая, неуклюже горбясь под тяжестью чемодана и постельной скатки. Лицо у него было угловатое, с выпяченными скулами, глаза маленькие, глубоко сидящие, рот большой, с редкими мелкими зубами. Захар помнил его еще с поезда — это был азовочерноморец.
— Хорошо бьет ружье? — спросил парень, показывая редкие зубы и шепелявя так, словно у него что-то было во рту.
— Еще не стрелял, недавно только купил в Хабаровске на базаре.
— Охотился раньше?
— Бегал на Дону за зайчишками.
— Тут, говорят, хорошая охота… Да-а, красивый лес! И весь его надо выкорчевать. Не верится, чтобы за лето управились. Тебя как зовут-то?.. А фамилия?.. А меня Иваном. Я Каргополов. — Видно, ему скучно было идти молча, и, чтобы скоротать время, он завел разговор с Захаром. — С охотой идешь на сплав?
— Да. Наверное, это интересная работа. — Захар посмотрел в лицо Каргополова; тот начинал нравиться ему своей прямотой и искренностью.
— Ты физический труд знаешь? — неожиданно спросил Каргополов.
— В поле только, деду помогал. Да в кузнице немного, хотел учиться на кузнеца.
— А я плотничал, — сообщил Каргополов. — Интересное это, брат, дело. Посмотреть со стороны — вроде бы пустяк, тяпай топором — и вся недолга! А на самом деле это знаешь какое искусство? Ого!.. Вот еще на сплаве поработаю. Должно быть, романтическая штука. Помнится, читал о нем у кого-то из писателей.
Лес неожиданно поредел, и взору открылась неоглядная панорама тайги. Слева начиналась гряда сопок, одетая белым березняком. Она уходила к северо-западу и вдали сливалась с хаосом гор. А там, далеко-далеко, поднимался к небу синий хребет со снеговым покрывалом на гребне. Привольная долина с темным пойменным лесом проходила справа. Она тянулась до самого Амура. Прямо же между цепью сопок и долиной лежала обширная марь — болотистая впадина, усеянная высокими кочками с жесткими пучками прошлогодней осоки.
Все вокруг было сурово и дико — поистине нетронутая таежная глухомань!
От этой дикой красы у Захара захватило дух. То, что он идет на сплав леса, о котором знал лишь из книг, и то, что ноги его ступают по земле, о которой он и понятия не имел еще полтора месяца назад, то, что кругом простираются дремучие леса и безлюдный край, то, что рядом с ним шагают новые, незнакомые ребята, объединенные одной целью, — все это сделало его жизнь захватывающе интересной, полной нового, еще неизведанного содержания. В его душе уже давно не осталось и следа той горечи, что испытал он в первые дни по выходе из госпиталя.
— Удивительно, какая суровая красота, — делился он с Каргополовым своими думами. — Не-ет, я, наверное, никогда отсюда не уеду.
Каргополов посмотрел на него и улыбнулся — глаза сузились, рот — до ушей.
— А ты, наверное, поэт, Захар, — сказал он. — Стихи писал когда-нибудь?
— Пробовал, когда учился в шэкаэм. Да только плохо получались, бросил это дело.
— А я и сейчас пишу. Так, для себя.
— Я где-то читал, не помню где, что в будущем, когда все люди будут иметь высшее образование, стихи будет писать каждый человек. Ты что кончал, Иван?
— Девятилетку. Хотел в вуз, да не на что учиться.
— А кто у тебя родители?
— Отец был попом. Но такой поп, знаешь, советский, не реакционный. В гражданскую войну красных прятал в церкви. Поэтому и в комсомол меня приняли. Сейчас он учителем работает. Бедно живем, семья большая.
За разговором они не заметили, как обогнули болотистую марь и вступили в дремучий пойменный лес. Вверху смыкались мощные кроны старых тополей, осин, елей, пихт, кедров, как-то странно уживающихся здесь бок о бок, — это был верхний ярус, который можно было рассмотреть, только запрокинув голову; пониже был второй ярус из более мелких, но более густых зарослей — белой и черной березы, ольхи, ильма, клена, и, наконец, внизу, оплетая завалы из старых могучих колодин, густо поднялись кустарники. Изрядно разбитая (видимо, еще с зимы) дорога уводила все дальше в глубь этих дебрей.
Но вот впереди среди мрачной колоннады стволов затемнели штабеля бревен и показался длинный рубленый барак. Послышался веселый шум речки, запахло древесной смолой с терпким привкусом подмоченного преющего корья. Дорога уперлась в невысокий глинистый обрыв, под которым искрилась и играла быстрая речушка, извивающаяся в широком лесном коридоре. Уголок этот мог очаровать даже самого равнодушного к природе человека.
Сбросив с плеч ношу, комсомольцы всей гурьбой кинулись к обрыву, гогоча от восторга.
— Вот это да! Прозрачная-то, как слеза!
— А рыба тут есть?
— Папаша, как называется эта речка?
— Речка Силинка, — сказал проводник, присаживаясь на бревна, чтобы дать ребятам оглядеться. — А касаемо рыбы — ленка и хариуса много, таймень есть, чебачок…
— Глубокая она, папаша?
— Всякое есть — и ямины и перекаты попадают. А так, обыкновенно, до груди, до пояса.
Приведя комсомольцев в барак, проводник показал на нары:
— Вот тута и будет ваша квартера.
Барак был довольно просторным — человек на пятьдесят, с замызганными нарами и полом из расколотых бревен, с чугунной печкой, возвышающейся на фундаменте из дикого камня. Помещение пропиталось сыростью, густым запахом прели и смолья. Меж бревен свисали пряди мха, которым были зашпаклеваны пазы.
Захар и Каргополов заняли места на нарах рядом. Неподалеку от них расположился франтоватый москвич в пестром кашне и хромовых сапожках «джимми» — шутник и балагур, всю дорогу смешивший ребят. Холеное продолговатое лицо его с крапинками мелких веснушек на переносье было нежным, как у девушки. Положив скатку, он привалился к ней спиной, потом живо поднялся и подошел к проводнику.
— А деревни тут близко есть, папаша?
— Деревни? — недоуменно переспросил проводник. — Откуда же им тут быть, деревням? Тут же тайга везде. Деревни, паря, по Амуру селятся…
— Тогда понятно, товарищи, это как раз и есть то место, куда Макар телят не гонял. Моя бабка говорила, когда я уезжал, что я попаду именно в это место. Накаркала-таки, старая!
Взрыв смеха колыхнул спертый воздух барака.
Скоро в печке запылали дрова, барак стал приобретать жилой вид.
Под вечер бригадир распределял людей по звеньям. Захар и Каргополов попросились на сплав, где звеньевым был Иванка Самородов — брат бригадира. Сюда же попал франтоватый москвич — Миша Гурилев. Вечером, до захода солнца, Иванка Самородов показал, как держать багор, как цеплять им бревно, что делать, если лесина зацепится за корягу. Показывал он с мужицкой степенностью, неторопливо. В заключение высморкался в два пальца, вытер их о полу рыжего домотканого армячка и преважно сказал окающим тенорком:
— Вот так, робятка! Завтра погоним лес в запань.
— Правильно, Иванка, — так же деловито подтвердил Гурилев. — А когда вернемся, я напишу письмо своей бабке, чтобы она прислала полдюжины носовых платков. Тогда три платка дам звеньевому.
— Это пошто? — хмуро спросил Иванка.
— Чтобы пальцами не сморкался, платочки существуют для этого.
— Но-но, я сам знаю. — Иванка угрожающе повел на Гурилева косящим желтым глазом.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Первый удар топора… Как будто это просто: ударил — и все. А между тем надо бы памятник поставить тому, кто это сделал первым: нелегок был труд корчевщиков тайги. Так бы и запечатлеть в мраморе или бронзе фигуру паренька в косоворотке или юнгштурмовке, в лихо сбитой на затылок кепке, а над ней стремительно занесенный вверх простой русский топор — творец бесчисленных деревень и крепостей, посадов и городов земли русской. Надо бы! Да только никогда не узнаешь, кто этот паренек, нанесший первый удар там, где легла первая просека и где суждено было вознестись городу.
Топоры застучали поутру за околицей Пермского вдоль всего села. Сошлись две рати — лесная и людская, чтобы утвердить себя или отступить.
В тайгу врубались фронтом все сорок бригад.
Андрея Аниканова не пустили в заместители к начальнику конного парка. «А кто корчевать тайгу будет? — спросил его Качаев, когда тот попросился на конный парк. — Там и старичок сможет…» В своих расхожих туфлях, в стареньких брючонках и ватной, добротного сукна куртке вышел он на корчевку.
Не в пример Захару — фантазеру и романтику, который гонялся за чем-то возвышенным, а только не знал, чего он, собственно, ищет, в чем его цель, Аниканов давно уяснил, что́ ему нужно в жизни. А кто может оспаривать, что половина успеха дела зависит от того, имеешь ли ты ясную цель и средства к ее достижению? Еще три года назад, поступив на механический завод учеником токаря, после того как семья из опасения быть раскулаченной переехала из станицы в город, Андрей Аниканов очень скоро невзлюбил черновой труд рабочего. С завистью смотрел он на тех, кто сидит в конторе, на их белые руки, на отглаженные костюмы, чистенькие воротнички и галстуки.
Но особую зависть вызывали у него большие и малые начальники. Быть на виду, держаться важно и повелевать стало верхом мечтаний Аниканова, с детства имевшего замашки барчука.
Его отец «культурный хлебороб» (так в годы нэпа называли зажиточных крестьян, а по сути дела кулаков, применявших машины и агротехнику и, как правило, державших батраков), воспитал в нем не только чувство превосходства над сверстниками, но практичный подход ко всякому делу: если ты приложил к чему-нибудь руки, то должен знать, для чего это сделал, что это тебе даст. Чтобы стать сильным, обогащайся всеми средствами, копи деньги и помни всегда про «черный день». Люди постоянно будут мешать тебе, будут стараться урвать у тебя, поэтому всегда гляди в оба: сильного ублажи, равного подомни или обойди, слабого дави, не давай ему подняться.
Но вот как пробиться вверх, стать начальством? Профессии нет никакой. По природе неглупый и хорошо начитанный, Андрей Аниканов сумел найти средство: надо всегда быть на виду у тех, кто выше тебя, почаще выступать на собраниях, говорить то, что нравится начальству. Активное участие в общественной работе, боевые речи на собраниях, умение втереться в доверие и вызвать к себе симпатию — все это вскоре дало нужный результат: не прошла и года, как Андрея избрали секретарем бюро заводской ячейки и выдвинули в члены пленума горкома ВЛКСМ.
При таком положении, казалось бы, зачем ему мытариться, ехать за тридевять земель? Но отец Аниканова побаивался, что на карьере Андрея может сказаться кулацкое прошлое семьи, и посоветовал сыну отправиться на Дальний Восток. Здесь, в таежной глуши, Андрей Аниканов делал все, что мог, для достижения желанной цели. Он не особенно унывал по поводу того, что не вышло с конным парком, но то, что его не назначили бригадиром, обидело Аниканова. Как-никак он уже имел опыт руководящей работы. И мобилизован был как комсомольский руководитель. Всю дорогу он был старостой вагона. А эта Касимова хоть бы слово молвила за него! Знает же его организаторские способности, когда-то даже глазки строила, свиристелка!.. А теперь почему-то охладела к нему. Это немного угнетало Андрея, хотя, впрочем, он не особенно унывал. Еще все впереди, и будет еще не одна возможность проявить себя на стройке.
Андрей попал в бригаду Степана Толкунова, высокого, чубатого весельчака и красавца, который работал слесарем с ним на одном заводе. Толкунов делал все с какой-то легкостью, даже лихостью, это сразу невольно привлекало к нему. Должно быть, поэтому он и был назначен бригадиром — обратила на себя внимание его натура вожака и заводилы.
Бригада состояла из пятнадцати человек; и когда на нее выдали только пять топоров и две пилы, ребята подняли шум:
— Безобразие! Голыми руками, что ли, корчевать?
— Сказали бы — свои топоры привезли бы из дому!
Каждому хотелось иметь топор, даже тому, кто никогда в руках его не держал.
Аниканов, воспользовавшись знакомством с Толкуновым, все-таки завладел топором. Он руководствовался своими соображениями: таскать в кучи срубленный кустарник тяжело — надо много ходить по болотистой земле, а она здесь почти всюду болотистая. Пилой же нужно работать с кем-нибудь вдвоем, а он вообще не любил иметь напарников — в любом деле. Топором хотя и нелегко махать весь день, но зато останешься относительно сухим.
Бригаде была отведена полоса в двадцать метров. Вырубалось все подряд — от кустарников до самых толстых берез, лиственниц, пихт, ольхи. Работа с самого начала пошла беспорядочно, каждый старался рубить дерево потолще, чтобы насладиться эффектом, когда подкошенная громадина с шумом и треском рухнет на соседние деревья. Те, кто не получил ни топора, ни пилы, вертелись без дела возле рубщиков или пильщиков, высказывали свои замечания, посмеивались над неумелыми движениями, сравнивали, кто лучше и кто хуже владеет инструментом. Скоро выяснилось, что ловчее всех орудует топором рыженький Крамсков, маленький, щупленький, почти подросток. Он выбрал самую толстую осину, и не успели еще пильщики свалить первое дерево, как заверещал:
— Берегись, падает!
Все бросились врассыпную, пороняв инструмент. Аниканов свалился в колдобину, потом вскочил и кинулся в сторону села. Сам же Крамсков стоял возле осины, небрежно держась рукой за ствол, как бы направляя его туда, куда осине следует упасть. Осина с грохотом рухнула на макушки соседних деревьев, несколько секунд задержалась на них, словно подхваченная руками друзей, потом обломала ветви и глухо грохнулась на землю.
Тотчас же на Крамскова наскочил Толкунов:
— Ты что же, рыжий, заранее не предупреждаешь?! Подумал ты? А если кого-нибудь задавит, лоб?
— Нет, товарищи, это не работа, — ругался Аниканов, снимая туфли, полные грязной жижи. — Никакой плановости и никакой организации труда. И ты тоже, Толкунов! Надо же руководить бригадой, а не пускать на самотек.
— А черт вас знает, как вами еще руководить! — отмахнулся Толкунов. — Дали тебе топор, ну и руби, чего еще нужно?
— Чего вы кричите попусту? — вступилась Леля Касимова. — Надо установить порядок. Неужели никто не знает, как валить дерево, чтобы оно упало в нужном направлении? Я где-то читала, да не запомнила…
Степные жители, они все, разумеется, и понятия не имели о том, как правильно валить дерево. После случая с осиной ребята договорились, чтобы вальщики заранее предупреждали всех. Тогда прекращали работу и шли определять, куда дерево клонится, потом становились в противоположную сторону и ждали, пока оно рухнет. Раз Аниканов не пошел в безопасное место — не хотелось мочить туфли, и уселся на пень, следя за громадной березой, готовой упасть. Вот она наклонилась, стала стремительно валиться на ветки соседних деревьев — и вдруг свист в воздухе и удар по голове. Аниканов не сразу сообразил, что его ударил отлетевший сук.
— Голову разбило, — простонал он и бегом направился к селу.
— Куда ты, Аниканов? — крикнул Толкунов.
В ответ Андрей только рукой махнул.
— Ой, ребята, что же это с ним? — спрашивала Леля Касимова.
— По-моему, симулирует, — усмехнулся Толкунов. — Я его давно знаю и вижу насквозь.
— Так сучком же ударило по голове, разве ты не видел?
— Видел, видел, — ворчал Толкунов. — Дела на копейку, а шума на рубль. Вот посмотрите, дня через два он сбежит от нас, найдет себе теплое местечко.
К вечеру все изрядно вымокли, вывозились в грязи, но с работы шли веселые, румяные. Только Аниканова не было — он так и не вернулся на лесосеку до вечера, хотя ссадина была пустяковая: удар смягчила кепка.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Сплав тоже начался с происшествия.
Как на великую невидаль, собрались комсомольцы к реке. Первое бревно столкнули с вершины штабеля. Звеня, оно тяжело ударилось о землю, подпрыгнуло на краю обрыва — берег оказался подмытым снизу, — и огромная глыба земли вместе с бревном рухнула вниз. Вместе с глыбой рухнул в реку Бонешкин — щупленький паренек, стоявший на краю обрыва. Вытаращив ошалелые глаза, он оседал в стремнину и орал что есть мочи:
— Помоги-иите!.. Тону!..
К нему сразу протянулось несколько багров. Уцепившись за багор, Бонешкин вмиг выскочил на берег — воды там было по грудь. Бледный от испуга, он стряхивал с себя воду и оправдывался, улыбаясь:
— От черт, как это я, а? Нечаянно. Думал, порушилась вся земля, от черт!..
— Так бывает со всеми, кто сует нос куда не след! — сказал назидательно Гурилев.
— У него, видать, мякина вместо мозгов! Бревном могло же подшибить!
— Иди обсушивайся, черт паршивый! — ругался бригадир. — Из-за тебя тут беды наживешь.
Но нет худа без добра: обвалившийся берег облегчил работу — бревна из штабеля скатывались в воду без задержки.
После случая с Бонешкиным Захар и Каргополов договорились работать вместе и страховать друг друга.
Дружба! Сколько возвышенных чувств и мыслей вызывает она, сколько тепла и благородства рождает в сердцах! Бескорыстная дружба, как и настоящая любовь, как и подлинный героизм, является своего рода талантом. Ибо что может быть чище того самоотвержения, которое проявляется в дружбе, в любви, в героизме?!
Не всякий может беззаветно отдаться дружбе — только душевно чистый человек способен на это.
С детства отзывчивый на добро, Захар привязался к Ивану Каргополову. Со дня разлуки с Васей Корольковым он был все время замкнут, одинок. Дружбы с Аникановым не получилось. Случай с сапогами, по правде сказать, не был уже такой неожиданностью для Захара: еще в дороге примечал он у Андрея нехороший душок стяжательства и скопидомства, а его возвышенные слова о чистой любви не вязались с цинизмом, который иногда проскальзывал у Андрея в разговоре о девушках. Теперь, на расстоянии, Захар все лучше понимал характер Аниканова и убеждался, что друзьями они никогда не стали бы.
Иван Каргополов был почти во всем полной противоположностью Аниканову: неуклюж, некрасив, но какой чистый душевный облик проглядывал за всем этим! Уже в первый вечер, когда ложились спать, Каргополов увидел, что Захар, расстегнув хлястик шинели, стал заворачиваться в нее.
— А что, одеяла у тебя нет? — спросил Иван.
— Из армии ведь я. Шинелью вот обхожусь.
— Не-ет, так дело не пойдет, Захар! Будем спать вдвоем под моим одеялом.
В ту ночь Захар спал на редкость крепко.
Иван Самородов, или, как его теперь с легкой руки Гурилева стали звать Иванка-звеньевой, повел комсомольцев вслед за головными бревнами вниз по течению речки.
— Робятка, робятка, пошли, пошли шибче, — беспокойно оглядывался Иванка и сам бежал легкой рысцой.
— Ну и шебутной же у нас Иванка-звеньевой, — посмеивался Гурилев, торопливо шагая в хвосте.
Люди едва поспевали за головными бревнами, которые легко и плавно уносились по стрежню реки. Захар бежал рядом с Каргополовым, подоткнув подол шинели под ремень, слегка припадая на левую ногу.
— Ты что это хромаешь? — спросил Каргополов. — Ногу уже натер?
— Она у меня была сломана. С конем упал зимой на препятствии…
— Этой зимой?
— Ну да, в феврале… Готовился к конноспортивным соревнованиям.
— Так она же у тебя не срослась как следует!
— Да нет, вроде срослась… Из-за этого и демобилизовали.
— Слушай, Захар, ты варвар по отношению к себе! — искренне возмутился Каргополов. — Да какой же черт понес тебя на Дальний Восток, да еще на сплав, в таком состоянии?
— Такой же, как и тебя, — улыбнулся Захар.
— Да-а, вот это дело! Тебе, брат, нужно беречься. Ты сказал звеньевому?
— А зачем? Что он, врач?
До нижнего склада, где лес принимали кадровые сплавщики леспромхоза, было пять километров.
На первом километре все шло благополучно, но дальше стремнина подворачивала вплотную к берегу, а там как раз под обрывом лежала коряга, распростершая длинные корни, как щупальца спрута. Бревна ударялись в нее, но не успевали развернуться, их прижимали к берегу и к коряге вновь подплывающие лесины, угрожая затором.
Иванка-звеньевой первым бросился выталкивать бревна из залома; ему на помощь кинулись остальные.
— Вот так, вот так! — кряхтя, приговаривал Иванка-звеньевой, с ожесточением наваливаясь на багор.
Залом быстро разобрали.
— Ну кто, робятка, тут останется? — спрашивал Иванка, поглядывая на молодых сплавщиков раскосыми глазами.
— Мы останемся с Жернаковым, — выступил вперед Каргополов.
— Управитесь? Мотрите мне! — важно хмурясь, предупредил Иванка-звеньевой. — Однако нет, не сдюжите. Вот ты, как тебе фамилия?..
— Гуверниевилевский!
Все грохнули от неожиданной выходки Гурилева.
— Ты че, ровно юродивый? — нахмурил рыжие брови Иванка-звеньевой. — Работать надо, а не юродничать.
— Слушаюсь, вашство! — гаркнул Гурилев, дико выкатив глаза.
— Мотри, вот я тя вышибу из звена! — пригрозил Иванка, потом суматошно спохватился: — Что же это мы, а? Бегом, бегом, робятка…
Оставшись втроем, Гурилев, Каргополов и Захар некоторое время молча отталкивали бревна от коряги. Работать баграми приходилось непрерывно: стоило немного зазеваться, как у коряги начинал образовываться затор. А поток бревен все увеличивался: вверху, на складе, должно быть, приноровились их сбрасывать.
Гурилев работал с большим усердием. Красивое, продолговатое лицо его, усеянное мелкими веснушками, начинало лосниться от пота. Наваливаясь рядом с Захаром на багор, он спросил:
— Тебя как зовут-то? А тебя? — посмотрел он на Каргополова. — А меня — Мишка. С одного места оба? А я из Москвы, шофером там работал. Учился, понимаете, на вечернем рабфаке. Еще бы год — и окончил. И вот черт дернул, взбаламутило меня на городском собрании актива. «Объявляю себя мобилизованным», — передразнил он. — Вот и объявил! Лето полазишь по этим дебрям, так и забудешь, где у автомобиля зад, а где перед.
— Не-ет, а нам с Захаром нравится тут, — возразил Каргополов.
— Нравится? — с насмешливым удивлением покосился Гурилев. — Да что тут хорошего? Там, в деревне, хоть Амур, пароходы, а тут как в медвежьей берлоге. Вот погляжу-погляжу, да и дам туда тягу. Пускай дают работу по специальности.
— А кто же будет сплавлять лес? — спросил Захар.
— Это дело Иванки-звеньевого да таких, как он. В самом деле, — Гурилев стал горячиться, — придумали какой-то глупый принцип: у кого сапоги, тот и на сплав должен идти. Ведь не сапоги сплавляют, а человек! А человек этот ни разу в глаза не видел, как сплавляют лес, хоть на нем и сапоги. Подобрали бы бригаду из горьковчан, они ведь в лесу там выросли…
— У них половина в лаптях, — заметил Каргополов.
— Выдать им сапоги! Что ж, сапог во всем Дальпромстрое нет?
— А видел в Хабаровске баржу, груженную лаптями? — усмехнулся Захар. — Целая скирда лаптей. Это для нас. Вот тебе и сапоги…
— Слушайте, братцы, а вы не замечаете, что мы делаем мартышкин труд? — воскликнул вдруг Каргополов. — Смотрите! А ну, Михаил, зацепи и придержи тот конец у коряги, а я подтяну этот конец к берегу.
Огромное бревно легло по диагонали между дальними корнями коряги и берегом, образовав треугольную заводь. Подплывающие лесины ударялись о бревно, соскальзывали как бы рикошетом и, попав снова в стремнину, легко уносились дальше. Теперь не нужно было тратить больших усилий, достаточно лишь крючками багров поддерживать бревно в таком положении.
— Два конца веревки бы теперь, — говорил Каргополов, — привязать бревно, и пусть работает за нас.
— А что, давайте я сбегаю на склад? — предложил Гурилев.
— Правда, валяй, — поддержал его Каргополов.
Гурилев вернулся через полчаса с веревками. Лицо его раскраснелось, он был возбужден.
— Понимаете, на целый клубок змей наскочил, — выпалил он, разглядывая правый сапог. — Одной наступил невзначай на хвост, и она, смотрите, что сделала…
На голенище сапога можно было разглядеть две крохотные царапинки и пятнышко жидкости вокруг них.
— Яд, — объяснил Гурилев. — Вот сволочь, а! Понимаете, целый клубок на валежине, на солнцепеке. Жуть, мерзость! Я как полосанул по нему, они и закишели, бросились врозь. Тут невзначай и наступил на одну. Ах, сволочь! — разглядывал он сапог. — Спасибо, кожа крепкая у голенища, а то бы…
— Здешние гадюки не опасные, я спрашивал: укус их не смертелен, — сказал Захар.
— Да? Это еще ничего. Но все равно мерзко, — с отвращением поморщился Гурилев.
Вскоре бревно было закреплено на месте; и теперь молодые сплавщики любовались тем, как ловко проносилась на стрежне мимо коряги вереница бревен сверху.
— Однако наш Иванка-звеньевой порядочный дурак, — рассуждал Гурилев, вытирая пот с красного лба. — Уж нам простительно, мы первый раз на сплаве. А он же говорит, что с детства сплавляет лес. А до такой простой вещи не мог додуматься! Ну что ж, отдохнем маленько да двинем к звену?
Они догнали свое звено неподалеку от нижнего склада. В том месте Силинка разделялась на три рукава, но только два из них могли пропускать бревна. Берега были здесь низкими, с тихими заводями и отмелью перед рукавами. Бревна кое-где цеплялись за дно, останавливались на мели, создавая угрозу затора. Много леса уже собралось в прилегающих заводях, и теперь на главном фарватере становилось все теснее.
Иванка-звеньевой сбросил свой домотканый армячок, суматошно бегал по бревнам от одной заводи к другой, выталкивая из них бревна на течение. Понукаемые его окриками, то же делали и остальные. Над рекой в солнечной тишине стояли шум, ругань, а в общем, все делалось явно бестолково, в работе не было порядка и согласованности.
Каргополов вскоре сообразил, в чем дело, и, неуклюже прыгая с бревна на бревно, подбежал к звеньевому.
— Слушай, Самородов, на кой черт выталкивать эти бревна? Пусть они себе стоят пока здесь, а всем ребятам встать на застрявшие у рукава бревна и баграми проталкивать в проток те, которые подплывают сверху, не давать им расходиться здесь по заводям. Пробка же скоро получится!
Иванка-звеньевой ко всему прочему оказался человеком своенравным.
— Вот ты шибко грамотный, а я ровно ничего не знаю, — окрысился он на Каргополова. — Делай, что я велю, я здесь старшой!
Как бы там ни было, а во второй половине дня в этом месте образовался затор. А бревна все прибывали да прибывали, они уплотнялись, затор начинал расти вверх и превращаться в залом. Только тогда сообразил Иванка-звеньевой, что дело плохо, нужно посылать за помощью на верхний склад да предупредить, чтобы там больше не сбрасывали бревна в воду.
Перед закатом солнца к затору привалила вся бригада во главе с Алексеем Самородовым. Звено Иванки сидело вокруг костра, сплавщики сушили портянки, носки. Не подходя к костру, бригадир осмотрел затор, побегал по бревнам, потом, вернувшись на берег, позвал брата.
— Ты чего ж это наделал, растебай? — закричал он на Иванку, грозно приближаясь к нему. — Ай ты не видел, что может затор получиться? Ты почему не послал сразу за мной? Вот тебе, растебай вшивый! — и отвесил Иванке одну оплеуху, потом вторую. — Я тебя научу, как работать!
Братья сцепились. Иванка ухватил Алексея за грудки, но старший брат был явно сильнее: он одной рукой защищался, другой оторвал от себя Иванку и оттолкнул.
— Иди, хватит! Наперед будешь умнее.
Иванка заревел от злости, пытаясь снова ударить Алексея, но тот уже успокоился и только отталкивал его от себя.
— Вот напишу отцу, как ты обходишься со мной, черт рыжий! — ревел Иванка, размазывая по щекам слезы.
— Во-во, напиши, как ты тут роботаешь. Может, он тебя поблагодарит. За этим посылал тебя отец, чтобы заторы тут делать?
— Ну и черт с тобой, уеду завтра. Оставайся тут один!
Сплавщики смотрели на всю эту сцену, удивленно посмеиваясь, но, когда братья подошли к костру, все умолкли.
— А драться-то негоже, — первым молвил Гурилев, косясь на бригадира. — Сегодня звеньевого отлупил, а завтра начнешь раздавать оплеухи рядовым сплавщикам.
— Это мы по-свойски, по-домашнему, — примирительно сказал Алексей. — Он у нас лентяй и бестолочь, ну, отец и велел, чтобы я за ним присматривал. У нас дома никто плохо никогда не работал. А этот вот, лопоухий, всегда отлынивает.
Немного времени спустя Захар узнал, что братьев Самородовых послал на Дальний Восток отец. В той деревне, где жили Самородовы, мужики испокон веку, гонимые великой нуждой, занимались отхожим промыслом: одни подавались на юг, в хлебные места, плотничать, столярничать или класть печи; другие шли на север — плоты гонять, корабли строить, а зимой занимались извозом: ходили с обозами за сотни километров от родной деревни. Таким же порядком отец снарядил сыновей на Дальний Восток, наказав вернуться с хорошим заработком: нужно было новую избу рубить, да и подходило время женить сыновей.
Иванка, конечно, не уехал, как грозился он брату. Утром залом разобрали. Работала вся бригада во главе с Алексеем. Скобами соединили две вереницы бревен, огораживающие фарватер от заводей и ненужных рукавов. Дело не обошлось без новых происшествий — двое с головой окунулись в воду.
А потом полетели дни, похожие один на другой, как близнецы. Все втянулись в работу, хотя многие до этого никогда не занимались физическим трудом. Правда, в бараке уже не слышалось такого возбужденного шума, как в первый день, — с непривычки все смертельно уставали. Один Гурилев был неугомонным, но и ему не всегда хотелось балагурить. По вечерам в бараке вокруг печки сушились мокрые портянки — на веревках, на поленьях, на палках, поставленных козлами. Разогретые теплом печки, ужином и горячим чаем, почти всегда без сахара, ребята уже за столом начинали клевать носом, а как только кончался ужин, все дружно заваливались на нары, и вскоре густой, переливчатый храп повисал в воздухе.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Погода стояла теплая, на деревьях зазеленели почки, и все работали раздетыми, хотя вода оставалась еще холодной как лед. Но, проснувшись утром двадцать второго мая, сплавщики ахнули: за окнами падали густые хлопья снега, вся тайга оделась в ослепительно белый наряд.
К полудню снега навалило выше щиколотки. Работа была отменена.
Захар и Каргополов, лежа на животе, читали вслух поочередно книжку стихов Есенина. Рядом, слушая их, сидел Гурилев и перочинным ножом вырезал из древесины шахматные фигуры. Захар дочитал до конца «Анну Снегину» и предложил Каргополову:
— Слушай, Иван, пойдем побродим по тайге? Я ружье возьму.
К тому времени снег перестал валить, через разводья туч брызнуло солнце.
Каргополов поглядел осоловелыми глазами на Захара, словно бы не узнавая.
— Спать хочу убийственно, — вяло проговорил он. — Валяй один. Да, смотри, осторожно там…
Пока Захар натягивал сапоги, Каргополов уже уснул.
Захар вложил три патрона в магазин «фроловки», десяток рассовал по карманам и в прекрасном настроении вышел из барака.
Редкое зрелище открылось ему. Гигантские ели и пихты, одетые в хлопья снега, напоминали величественные новогодние елки, и Захару чудилось, что в их темных ветвях вот-вот покажутся гирлянды разноцветных флажков. Стоило, однако, вглядеться в глухой сумрак лесного хаоса, чтобы моментально перенестись в реальный мир: там, в глубине, тайга была еще более угрюмой, суровей, чем вчера, и казалась даже страшной. Воображение Захара рисовало то медведя, вставшего на задние лапы и зорко выглядывающего из сумрака, то рога сохатого, застывшего в настороженной позе среди мощных стволов, готового каждую минуту сорваться с места и умчаться в дебри.
Захар не полез в заросли, он решил идти вдоль берега, вниз по течению Силинки: позавчера они с Каргополовым видели там огромного, как индейка, косача.
Долго шел он, вслушиваясь и вглядываясь в чащу леса. Возле коряги, у которой еще с первого дня сплава лежало привязанное Каргополовым бревно, Захар остановился: ему показалось, будто в воде под бревном что-то ворочается. Приглядевшись, он увидел метровую рыбину, круглую и толстую, как полено. В первую минуту у него даже мурашки побежали по спине. Но, вспомнив о ружье, Захар сорвал его с плеча. С рыбиной творилось что-то неладное. Она старалась уйти вглубь, но вода вновь и вновь поднимала ее, и тогда рыбина прислонялась боком к бревну и медленно водила прозрачно-темными широкими плавниками. Должно быть, она маскировалась и одновременно отдыхала здесь.
Захар медленно, чтобы не вспугнуть добычу, прицелился и выстрелил в голову. Рыбина всплыла кверху белым брюхом, но потом вся изогнулась и ушла под корягу. Захар видел, как она втиснулась там на небольшой глубине между корнями и перестала шевелиться.
Тот, кому довелось бывать на рыбной ловле или на охоте, легко поймет состояние Захара: его прямо-таки трясло от волнения и азарта. Бросив ружье в снег, он расторопно сполз по обрыву на корягу и стал лихорадочно карабкаться по скользким сучьям к тому месту, где меж корней втиснулась рыбина. Он уже увидел ее — вот она, рядом! — уже сунул руку в воду, когда предательский сук, на котором он стоял, сломался, и Захар с ужасом почувствовал, что погружается в ледяную воду. Течение тотчас же подхватило его и закружило, унося на середину реки. Некоторое время вздувшаяся шинель держала его на поверхности воды, но вот полы намокли, опутали ноги, и он понял, что тонет. Ему хотелось встать на дно, он вспомнил слова проводника о том, что воды в реке «по грудь, по пояс», но это место как раз оказалось глубоким. Сколько было сил он стал грести руками к берегу. Плавать он умел хорошо, но бешеное течение относило его прочь, а шинель и сапоги тянули ко дну. Уж несколько раз он глотнул воды. И тут, как в тот момент, когда падал с лошадью на препятствии, он с тошнотворной горечью подумал, что это все, конец!..
Но вот ноги заскользили по крупному галечнику, и когда, удушливо откашливаясь, он смог стать во весь рост, воды оказалось чуть выше пояса. Сбиваемый течением, он с невероятным трудом добрел до берега и совершенно обессиленный опустился на снег. Тело сразу загорелось, будто его облили кипятком, а зубы противно помимо воли выстукивали частую дробь. Захар смутно подумал, что нельзя долго оставаться на снегу, с усилием встал и поплелся к коряге, где оставил на берегу ружье. Только теперь он увидел, как далеко отнесло его течением. Силы к нему постепенно вернулись, и Захар, взяв ружье, бегом бросился к бараку.
Сплавщики всполошились, когда Захар, весь мокрый, ввалился в дверь. Он не успел опомниться, как его раздели донага. Вскоре, переодетый в чужое, весь зябко содрогаясь, хотя сидел возле огня, он стал рассказывать о том, что с ним случилось.
— А рыбина все там, под корягой? — спросил Алексей Самородов.
— Наверное, там, я уж не разглядывал, скорей побежал в барак.
— Иванка, живо-ко беги с багром, — приказал Алексей брату, — ухи наварим. Это бывает на сплаве: бревна зашибают рыбу, — пояснил он молодым сплавщикам.
Вскоре Иванка вернулся. И в самом деле, он с трудом волок огромную рыбину, килограммов на двадцать.
— Э-э, братцы, да тут на два дня всей бригаде хватит!
— Вот так рыбка!
Это был таймень — самая крупная и на редкость вкусная рыба, обитающая в таежных речках.
А ночью у Захара начался жар. Каргополов укрыл его с головой своим одеялом, а сам почти до утра не спал, тревожно прислушиваясь к прерывистому дыханию друга, не давая ему раскрываться. Перед зарей Захар проснулся, попросил пить. Иван приложил ладонь к его голове — она пылала огнем.
— Наверное, заболел я, Ваня, — слабым голосом сказал Захар, опорожнив кружку.
— Что у тебя болит?
— Всю грудь ломит. И нога ноет.
— И на черта она тебе нужна была, эта рыба? — журил его Иван.
Но было поздно говорить об этом. Забрезжил рассвет, Каргополов разбудил бригадира.
— Слушай, Алексей, у Жернакова, наверное, воспаление легких, — сказал он ему на ухо. — Нужно отправлять его в деревню. Разреши, я сам отвезу его.
Захара закутали во все, что только можно было собрать: в каргополовское одеяло, в ватник — кто-то дал ватник; Гурилев отдал свое пестрое кашне; а сверху больного накрыли куском брезента и пустыми мешками, в которых привезли продукты.
В дороге Каргополов, правивший неказистой сивой лошадкой, то и дело оборачивался и спрашивал: «Тебе не холодно?» Или: «Тебе не дует, Захар?»
В Пермское приехали около полудня. Захар был почти в беспамятстве. Закутанный с головой, он смутно слышал сиплое дыхание парохода, лай собак, людской говор. Но вот явственно: «Скажите, а где здесь больница?» Ему в ответ, кажется, знакомый голос: «Что, больного везешь? Откуда?»
Чей же это голос? Сознание точно в тумане, никак не вспомнить лицо человека, которому принадлежит голос. Да вот, вот оно, это лицо: не очень полное, с длинным, чуть загнутым носом, сытым взглядом миндалевидных, слегка навыкате глаз с большими синеватыми белками. «Что, купил обмундирование, или в самом деле из кавалерии?» Да, он, начальник конного парка. Как же его фамилия? Забыл…
— Больницы еще нет, вези на дебаркадер, там каюта для больных.
Сознание Захара уже прояснилось. С трудом высвободив руку, он сбросил с головы одеяло и еще какую-то одежину. Хотя день был пасмурный и серые тучи низко плыли над свинцовым Амуром, свет показался Захару ярким, режущим глаза. Он поправил буденовку и с удивлением огляделся.
— О, да это, кажется, знакомый кавалерист, — услышал он все тот же голос. — Что, брат, не климат?
Над Захаром склонилась высокая фигура в мерлушковой папахе, наглухо застегнутой шинели.
— На сплаве искупался, — ответил Каргополов за товарища. — Вчера, в самый холод.
— Как чувствуешь себя? Как нога?
— Нога ничего, грудь болит.
— Ну вот что, ездовой, — обратился Ставорский к Ивану после некоторого раздумья, — посмотрят врачи на дебаркадере, и, если класть некуда будет, вези его ко мне. Вон изба с крытыми воротами. Если меня не будет, хозяевам скажешь, что Ставорский прислал. Да возьми лекарства и предупреди врача, чтобы каждый день ходили к больному. Понял?
— Спасибо, понял.
Дебаркадер был километрах в двух от деревни вверх по течению Амура. Стоял он в тихой протоке, соединяющей Амур с озером Мылка. Здесь помещалось все управление строительства, в каютах жили управленческие работники, тут же была их столовая, врачебный пункт.
Привязав лошадь к березе, Каргополов помог Захару сойти с повозки, бережно повел его по сходням на дебаркадер.
— Не инфекционный? — недовольно спросил шустрый лысеющий человек в пенсне. — Сюда нельзя, вот влево, вниз.
Дебелая, грузная женщина-врач в пуховой кофте под халатом велела Захару раздеться, несмотря на холод; небрежно сунула ему под мышку градусник и долго сидела, читая толстую книгу. Потом так же долго выслушивала и выстукивала грудную клетку Захара.
— Да, температура под сорок и хрипы в легких. Но это еще не воспаление легких, молодой человек, — равнодушно сказала она. — Можете одеваться. Не знаю, как с вами быть, — вам нужно тепло, а в нашем дебаркадере его нет. Больница только строится. Вы где живете, в палатке?
— Я на сплаве, в пятнадцати километрах отсюда.
— Тогда я направлю вас к коменданту, пусть он положит вас в теплую избу. Сопровождающий с вами?
— Там, за дверьми.
— Позовите его сюда.
Она открыла шкафчик, достала пачку порошков, большой флакон с жидкостью.
— По одному порошку три раза в день, а это по столовой ложке три раза в день, перед едой. — Она подала лекарства Захару.
Потом лениво подняла взгляд на вошедшего Ивана и стала объяснять ему, каким образом устроить больного.
Каргополов хмуро слушал объяснение врача. Ему не нравилось, как холодно и безразлично относилась она к судьбе больного друга, и он недовольно сказал:
— Ладно, без вашего коменданта обойдемся. Выписывайте бюллетень и чтобы каждый день к нему ходили! Как фамилия того, в шинели? — спросил он Захара.
— Ставорский, — расслабленно ответил Захар. — А фамилию хозяина не знаю. Рыжий такой…
— У Ставорского будет лежать.
Иван снова укутал Захара в бедную одежонку и все спрашивал, пока ехали к деревне: «Ну как, не хуже, Захар?»
Возле ворот избы Никандра Каргополов остановил подводу.
— Кажется, эта?
— Она, — ответил Захар. — Я был здесь…
— Сам сможешь идти? Или во двор заехать?
— Дойду. Пойдем вместе.
Во дворе их встретил трубным лаем тот же буро-пегий пес. Каргополов помог Захару взойти на высокое крылечко, с трудом открыл дверь в сени, постучался в обитую сохатиновой шкурой дверь. Им открыла Фекла и растерянно отступила.
— Господи, что это такое!
Любаша сидела возле окна, что-то шила. Положив шитье на колени, она с тревогой уставилась на дверь.
— Здравствуйте, — разом сказали Каргополов и Захар. — Товарища Ставорского можно видеть? — спросил Иван.
— Его нет, он на работе, — выжидающе ответила Фекла.
— Больного вот велел он принять.
— Да куда же мы его? В его комнату, должно?
— Ну, раз велел, — значит, в его комнату, — вступилась Любаша. — Мама, что же вы стоите? Видите, человек еле держится на ногах.
— Вот, господи, совсем ополоумела! — спохватилась Фекла. — Садись, сынок, садись вот сюда, к печке. А мы сейчас…
Любаша бросила на стол шитье и кинулась за матерью в чистую половину избы. Минут через десять вышла оттуда разрумянившаяся, широко распахнула дверь.
— Заходите, пожалуйста, раздевайтесь и ложитесь. Вот постель.
Каргополов помог Захару раздеться и уложил его на деревянную кровать возле печки. Захар утонул в мягкой перине, застланной пестрой простыней; и когда Иван укрыл его большим ватным одеялом, почувствовал запах мыла, исходящий от подушки.
— Ну как, хорошо? — подмигнул Иван. — Там, брат, заметил, какая «медсестра»? Одним своим видом вылечит… Ну что ж, Захар, все хорошо, что хорошо кончается. Устроен ты тут неплохо: тепло, лекарства есть… За вещи не беспокойся, будут в сохранности. В случае оказии — черкни, как дела.
Он пожал под одеялом руку Захара и вышел.
За дверью еще некоторое время слышался его голос. По отрывкам слов Захар догадался, что Иван рассказывал о его сломанной ноге и ключице и о том, как он, Захар, тонул. В заключение Иван сказал: «Парень очень хороший». И голоса стихли.
Несмотря на боль в груди и высокую температуру, Захар наслаждался теплом, уютом, чистотой мягкой постели. Комната, в которой он лежал, была довольно просторной, чисто прибранной и по-деревенски уютно обставленной; в углу стояла никелированная кровать, ее, по-видимому, занимал Ставорский. Пахло хмелем и какими-то тонкими, наверное, дорогими духами.
Прислушиваясь к боли в ноге и груди, Захар перебирал в памяти события, приведшие его сюда, и вдруг встал перед вопросом: что заставило Ставорского поселить к себе в комнату чужого, да еще больного человека? Может быть, в нем проснулось чувство дружбы, присущее всем кавалеристам? Или просто он сердобольный человек и решил помочь в беде?
За дверью все время было тихо, но Захар чувствовал, что там кто-то есть. Иногда слышались чьи-то осторожные шаги. Невольно прислушиваясь к ним, Захар не заметил, как забылся тяжелым обморочным сном.
Когда он проснулся, ему показалось, будто спал всего несколько минут, а между тем на столе уже горела лампа, стекла окон аспидно вычернила ночь. Захар был весь в поту, дышал тяжко, внутри у него все горело. Наверху кто-то ходил, оттуда доносились голоса. «Живут ребята на чердаке», — смутно подумал Захар и оглядел комнату — она была пуста. За дверью слышался говор. Он угадал бас Никандра. Увидев кружку с водой на табурете, Захар залпом осушил ее. Пытаясь поставить кружку на табурет, уронил ее, испугался звона и, свесившись с кровати, стал шарить рукой по полу. Тотчас же дверь отворилась, и в комнату вошла Фекла.
— Кружку уронил, — объяснил Захар, подняв голову и с усилием произнося слова. — Под кровать укатилась…
— Ничего, сынок, я достану, лежи спокойно.
Она нагнулась, ласково сказала: «Вот куда она укатилась», достала кружку, но на табурет не поставила.
— Как, сынок, шибко ломает?
— Ничего, жжет сильно только.
— Ты, поди, не ел весь день, дружок твой говорил… Подать тебе, покушаешь? Я молочка с содой для тебя вскипятила.
— Спасибо. — Захар с благодарностью посмотрел измученными глазами в лицо Феклы. — Молока выпью… Ложку дайте и водички, если можно, лекарство принять.
Она ушла и скоро вернулась с кастрюлькой горячего коричневого молока, краюхой белого хлеба, стаканом, ложкой и кружкой воды. Все это бережно расставила на табурете.
— Большое вам спасибо, тетя…
— Кушай, сынок, на здоровье, поправляйся. Небось матерь где-то тоскует по сыну-то?
— Нет у меня матери, — ответил Захар и, высыпав порошок в рот, запил несколькими жадными глотками. — У дедушки с бабушкой воспитывался.
Он хотел налить лекарства в ложку, но руки дрожали.
— Господи, какой ты ослабший! — горестно сказала Фекла. — Давай-ка я налью. Ну, а теперь открывай рот — как маленького, буду поить… А бельишко-то на тебе эвон какое грязное, — заметила она. — Смена-то есть?
— Здесь нету, там, в бараке, осталось.
— Вошки-то не водятся?
— Вроде бы не было.
— Завтра постираю, однако. Сейчас принесу тебе чего-нибудь на смену, а свое снимешь.
Она ушла, и из соседней комнаты долго слышался приглушенный до шепота разговор между нею и Никандром. Потом она вернулась, открыла ключами сундук, который дважды прозвонил на весь дом, достала старенькое — видно, Никандрово — белье.
— Вот, наденешь, сынок, — повесила она белье на грядушку у изголовья. — А молочко-то все, все выпей, не оставляй, завтра принесу свеженького.
Покончив с молоком, Захар залез под одеяло и там торопливо переоделся. Белье было явно Никандрово — Захар весь утонул в нем. Пахло оно нафталином и не то корицей, не то ванилью. Как много значит чистое белье! Захар сразу почувствовал себя свежее, даже, кажется, температура у него упала — возможно, от лекарств и горячего молока с содой. Спать не хотелось. Приятно вытянувшись на спине и заложив руки за голову, Захар рассматривал потолок, прислушивался к гомону, доносившемуся с чердака. Он не сразу заметил, как в комнату вошел Никандр — мягкие бродни делали его шаги почти неслышными.
— Не спишь, товаришок? — вкрадчиво пробасил хозяин.
— Выспался. Полдня проспал.
Никандр взял табурет, поставил возле кровати, сел, достал бумагу и кисет с табаком — все это он делал неторопливо и говорил раздумчиво:
— Вот пришел маленько покалякать с тобой, товаришок… Сам-то откуда родом? Та-ак… — Он закурил, пустил в сторону тонкую струю дыма. — Видишь, как не повезло, сразу в беду попал, не успел шагу шагнуть. Да-а… Ну, а ежели бы, скажем, не пустили бы тебя в этот дом, тогда как?
— В другом бы устроили.
— А ежели бы и там не приняли?
— На дебаркадере бы положили. Правда, холодно там, но что ж, пришлось бы потерпеть.
— Видишь ты, «холодно», «потерпеть». Душой ты, может, и потерпишь, а организма — она знает край: сломается, и конец терпению-то.
Никандр умолк, напряженно думая о чем-то своем. Захар заметил это и тоже молчал, выжидая.
— Скажи ты мне, ради бога, товаришок. — Никандр наклонился вперед, оперся локтями в колени. — Какая лихоманка привела вас сюда, таких молодняков? Или вас силком привезли, или вам пообещали горы золота, или иным каким способом заманули сюда? Скажи правду, как отцу родному, слова никому не передам. Я это говорю к тому, что сгинете вы все тут, как курчата, потому жидкие вы, неспособные к нашим местам.
Дождавшись, когда Никандр умолк, Захар приподнялся на локоть, в упор посмотрел на него.
— А вот вы мне скажите, папаша, вы знаете, что такое комсомол? — Голос Захара, несмотря на его слабость, зазвучал взволнованно и горячо. — Или вы этого не знаете?
— Ну… комсомол… — Никандр развел загрубелые ладони, пошевелил пальцами, обнаружив явную растерянность. — Комсомол, сказать, — это такие бойкие ребята, горластые и еще, должно, шалопаи… — Он запнулся. — Так я понимаю по своему разумению.
Захару стало вдруг весело. Никандр с его могучей силищей показался беспомощней ребенка.
Тщательно подыскивая нужные слова, Захар сказал:
— Комсомол, папаша, — это очень большой отряд молодежи, на всю страну отряд, который весь стремится к одной цели: построить социализм. Что бы ни было, как бы трудно ни было, а все равно построить — и баста!
— Ну, хорошо, отряд отрядом, это мне понятно, — возразил Никандр. — А вот как его построить, этот социализм? Кто-нибудь в глаза его видал, какой он, чтобы строить по подобию?
— Папаша, вы в бога веруете? — Захар показал на иконы.
— Верую понемножку, — нехотя ответил Никандр, сбивая пепел с козьей ножки.
— А вы его в глаза когда-нибудь видели, кроме как на иконе да на картинках? Нет? Ага! — в голосе Захара торжество. — Так вот, смотрите, что получается: ваш бог — это дело темное, выдумка, ничем в действительности не подтвержденная. И даже наоборот, наука в пух и прах разбивает эту выдумку, фактами разбивает!.. Так почему же вы думаете, что нельзя верить в социализм, когда он доказан наукой? Как инженер расчет строит, чтобы изготовить новую машину? Он изучает сначала все, из чего и как можно ее сделать, а потом подбирает нужный материал, расчерчивает, рисует ее план и уж после берется за изготовление по тому, что он спланировал. Вот так же Маркс и Энгельс все изучили, как живет человеческое общество, открыли такую закономерность, что в будущем оно придет к социализму, а Ленин…
— Однако, ты, паря, запальчивый, — перебил его Никандр. — Вот ты лучше скажи мне… То я все равно не пойму, про социализм. Ты скажи лучше мне по совести, кто тебя самого-то заманул сюда? Или там уж невмоготу стало жить?
— Если говорить обо мне лично, — уже другим, спокойным голосом ответил Захар, — то я поехал затем, что меня заманил сам Дальний Восток. Я читал о нем в книгах, и он мне всегда очень нравился. А тут как раз случилось так, что из армии списали и тогда же мобилизацию на стройку объявили. Я и поехал. Хочу испытать себя в трудностях. Вот раскорчуем тайгу, построим завод, город — может, инженером стану или другую профессию приобрету.
— Э-эх, паря, паря!.. — Никандр безнадежно махнул рукой. — Ничего вы не построите, больно сопливые еще, не суди на грубом слове. Только животы себе понадорвете и загинете тут. Мыслимое ли дело — всю тайгу выкорчевать! Да мы всей деревней живем вот на этом месте без малого семьдесят лет, уж и стариков, кои первыми приехали, давно похоронили, а тайги-то много накорчевали? Тайга не морковка на огороде — пошел да надергал… Однако я тебя замаял, хворого, — спохватился Никандр. — Извиняй, паря. Может, тебе чего принести покушать или попить?
— Спасибо, папаша, вода у меня есть.
— Ну, хорошего тебе сна. Не обессудь темного мужика, душа у меня стала неспокойная…
Никандр загасил лампу и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.
Взволнованный и разгоряченный спором, Захар долго не мог уснуть. Когда же начал дремать, пришел Ставорский, зажег лампу, стал ходить по комнате, потом долго ел за круглым столом. Захар притворился спящим.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Долгое время Захар никак не мог понять Ставорского и свои отношения с ним.
Вот и сегодня: Ставорский брился, когда проснулся Захар. Окна, что выходили на восток, к Амуру, ослепили его: будто само солнце прилипло к ним и утопило в своем сиянии всю комнату. А в этом сиянии черным силуэтом — Ставорский.
Едва Захар открыл глаза, как Ставорский повернул к нему намыленное по самые глаза лицо.
— Ну, как самочувствие, парень? — поинтересовался он, занося бритву над подбородком.
— Вроде бы ничего, — с трудом ответил Захар и жадно ухватился за кружку с водой.
Больше — ни слова. Захар разглядывал спину с узкой талией, накрест перечеркнутую коричневыми подтяжками. Они напомнили Захару кавалерийские ремни, и сердце сладко и тревожно ворохнулось в груди. «Наверное, ловкий кавалерист был, — подумал Захар. — Клубок мускулов…»
Побрившись, Ставорский замурлыкал какой-то мотив, вытер насухо бритву. Потом легко встал, скорее — вскочил; направляясь в переднюю половину избы, ободряюще кивнул и подмигнул Захару. Захар почему-то улыбнулся в ответ, хотя и не понял, что означал этот кивок. Ему стало неловко: почему, собственно, нужно было улыбаться? Что они, ровня — Захар и этот, как его… Ставорский?
Вернувшись, Ставорский торопливо и молча оделся, быстро и так же молча поел, выпил два стакана молока и только тогда обратился к Захару:
— Я тут сказал хозяевам, чтобы как следует ухаживали за тобой. Температура как, высокая?
— Кажется, не очень.
— Ну, тогда давай сейчас поговорим. У меня есть немного свободного времени. — Он взглянул на огромные серебряные часы, достав их из карманчика галифе.
Потом поставил табурет у кровати, сел на него верхом, примащиваясь вплотную к изголовью постели, и посмотрел прямо в зрачки Захара своими холодноватыми глазами-миндалинами.
— Кто у тебя родители?
— Крестьяне, казаки.
— Какие казаки?
— Донские.
— Живы?
— Нет, отец погиб в германскую, мать в голод умерла. У деда воспитывался.
— У белых из родни кто-нибудь служил?
— Один дядя. А другой дядя — у Буденного.
— Как же это? — усмехнулся Ставорский.
— А у нас там, на Дону, немало таких случаев.
— В комсомоле давно?
— С двадцать седьмого года.
— Да-а, донские казаки — лихой народ, смелый. Пожалуй, это лучшие из всех двенадцати казачеств. Забыл твою фамилию… Жернаков? Так вот что, товарищ Жернаков, по глазам вижу — смышленый ты парень, чую, что и кавалерист был неплохой. Такой человек, именно кавалерист, мне нужен на конный парк до зарезу, — провел он ребром ладони поперек горла. — Пойдешь все-таки? Сначала будешь бригадиром, а там своим заместителем сделаю, как говорил тогда.
— Я ведь конник-то, товарищ Ставорский…
— Харитон Иванович, — подсказал Ставорский.
— Простите, забыл… Харитон Иванович. Конник-то я, говорю, такой, когда лошадь под седлом да овес в кобурчатах. Боюсь, что бригадир из меня выйдет плохой. Да потом же, на сплаве скажут: сбежал.
— Ну, это ерунда! Пойду в отдел кадров и переоформлю. Я не понимаю, чего брыкаешься? Ты же через год мог бы командиром взвода стать, а бригадиром идти боишься! Под седлом будешь иметь любую лошадь, какая понравится. Ну, согласен? Смотри, другого возьму, мне ждать некогда.
— Ладно, пойду, — подумав, ответил Захар. — Очень соскучился по лошади…
— Так бы и сразу! Нерешителен, братец, ты. Разве таким должен быть донской казак?
— А вы сами не казак, случайно, Харитон Иванович?
— Нет, я белорус. Но в гражданскую войну был в конной бригаде Котовского, потом в частях червонного казачества.
В полдень пришел невысокий, тщедушный старичок фельдшер. Не надевая халата, он молча подсел к кровати, быстрыми, резкими движениями ощупал живот Захара, послушал грудь, показывая на губы, приказал: «Откройте», — заглянул в рот, оттянул веки.
— М-да… — сказал он, — малокровие. Сколько лет? Та-ак… Питаться надо бы получше. Организм железный, и сердце отличное. С таким сердцем можно прожить сто лет. А эти порошки и микстуру заберу, заменю другим.
Потом позвал Феклу.
— Скажите, хозяюшка, — он склонил голову набок, щуря глаза за очками, — у вас есть енотовый жир?
Фекла удивленно посмотрела на него и тихо спросила:
— А он зачем?.
— Я спрашиваю, есть у вас енотовый жир?
— Есть, есть. Им всегда мажется отец от простуды…
— Вот, я так и знал! Сможете вы натирать ему, — кивнул он на Захара, — спину и грудь на ночь?
— Чего же не смочь? Сможем! Это наше деревенское лекарство.
— Вот, пожалуйста, и натирайте. Каждый вечер. Микстуры для приема внутрь вам принесут.
Вскоре после того как ушел фельдшер, Любаша принесла Захару обед. Свежее, пышущее здоровьем, слегка продолговатое лицо ее налилось персиковым румянцем, когда она, склонившись, ставила миски на табурет у изголовья Захара.
— Вот кушайте, мамаша велела…
— Спасибо, Любаша, — сдержанно сказал Захар. — Только я не хочу.
Девушка выпрямилась, улыбнулась.
— А вы помните мое имя?
— Конечно, оно легко запоминается. А вы помните, когда мы разговаривали на берегу?
— Помню. Вас зовут Захаром. Вам очень плохо?
— Да нет, ничего…
— А ночью вы стонали.
— Разве? Неудобно… Отец не ругался, что меня сюда положили?
— Немножко поворчал. Но папаша у нас не сильно злой, поругается и скоро отходит.
— Он работает на стройке?
— На конном парке. Жилец наш устроил его. Ну, вы ешьте, а то я отвлекаю вас, а щи остывают.
— Подождите, не уходите! У меня просьба. Помните старосту группы, с которым мы приходили к вам в первый день?
— Помню, он живет в леднике у Бормотовых. Когда снег пошел, они все переселились из палатки туда. И девушки тоже там.
— Будет у вас время — сходите, пожалуйста, к нему, передайте, чтобы принес мою книгу «Тихий Дон». Ладно?
— И девушки чтоб пришли?
— А как хотят.
Под вечер в избу ввалилась целая ватага парней и девушек — почти все новочеркасские комсомольцы. Захару было очень неловко перед хозяйкой, когда она, недовольная, ввела их в чистую половину избы. Ребята разговаривали вполголоса, осторожно жали руку Захара, а Леля Касимова не преминула упрекнуть его:
— Что я тебе говорила, а?
Захар в первую же минуту обратил внимание на то, что Аниканов, несмотря на грязь на улице, был в своих расхожих туфлях. Костюм его, как и полупальто, был мокрым и порядочно испачкан в грязи. Выглядел Аниканов скучным, даже мрачным, — от прежней бойкости и самонадеянности, с которыми он держался в роли старосты, не осталось и следа. Примерно так же выглядели и все остальные.
— Ну, как житуха? — спросил Захар, с болезненной улыбкой поглядывая на товарищей.
— Вот, понимаешь, она и житуха, — Аниканов устало присел на край кровати у ног Захара. — Видишь, на что похожи? Работаем на корчевке, в грязи, в болотах, а живем, не поверишь, в леднике! Внизу лед, хотя и прикрытый сеном, сверху холод, так что ни обсушиться, ни обогреться. И главное — чирьи начали у меня появляться…
— Ох, Андрей, и когда ты перестанешь ныть? — покачала головой Леля Касимова. — Я тебя не узнаю. Никогда бы не подумала в Новочеркасске, что ты такой нытик, честное слово! Или ты трудностей никогда не видал?
— Да хватит тебе, Касимова, мне уже осточертело все это слушать!
— Ладно, Андрей, ты не шуми, а то тут хозяева, — вмешался Захар.
Леля заговорила вполголоса:
— Не так уж и страшно у нас. Вот сегодня печку установили. А ведь многие, кто на чердаках живет, и того не имеют. Да потом же всем по два одеяла выдали, когда начался снег. Если мы все начнем ныть, Андрей, так надо все бросить и тикать домой! А это что же, по-комсомольски будет, а?
Из разговоров Захар понял, что его товарищи действительно находятся в тяжелых условиях, куда более тяжелых, чем на сплаве.
Леля Касимова рассказала, что двое новочеркасских комсомольцев сбежали, «позорно дезертировали», как подчеркнула она, что бегут и из других партий, что на пароходы, которые идут на Хабаровск, запрещено пускать без специальных пропусков.
В самый разгар их беседы в дверях появился Никандр — мрачный, недовольный.
— Хворому-то отдыхать надо! — многозначительно намекнул он.
— Мы сейчас уйдем, папаша. — Леля Касимова вызывающе посмотрела на него. — Надо же навестить больного товарища? Поправляйся, Зоря, — повернулась она к Захару, — и не скучай, мы будем навещать тебя.
Они ушли. Никандр, проводив их до крыльца, вошел в чистую половину.
— Ну вот что, паря, — сказал он грубо, — эти гости в моей избе совсем ни к чему. Ежели чего, то уж лучше тебе, того… переселиться.
Захар некоторое время молчал, оскорбленный таким тоном, потом коротко сказал:
— Ладно, завтра придет врач, попрошусь, чтобы перевели в другое место.
— Ты, по мне, хоть на крышу залезь, не у меня живешь, у Харитона Ивановича. Это я, чтобы, значит, ватагой сюда больше не ходили. Чай, тут семья живет.
И вышел, сердито шаркая мягкими подошвами бродней.
Вечером Фекла, натирая грудь и спину Захара енотовым жиром, тихонько говорила:
— Ты, сынок, не обижайся на нашего хозяина. Оно кому хошь доведись такое — не шибко понравится. Жили ладно, тихо, хозяйство как-никак собирали, а теперь вот все должно порушиться. Да и жить-то приходится в родной избе, как на постоялом дворе…
Но Захар не слушал ее. Перед глазами стояли выгнанные Никандром товарищи; их жалкий, усталый вид, раздраженный тон, хмурые лица горечью отзывались в его душе. Он продолжал думать о них и тогда, когда Фекла ушла, заботливо укрыв его одеялом. Вот он лежит в тепле, в уюте, а они там корчатся на сене в леднике. А скоро он поправится и пойдет на конный парк. Там будет слоняться почти без дела — какая может быть работа у бригадира конного парка? Подседлает лучшую лошадь и станет гарцевать, а его товарищи в это время по колено в болотной грязи будут корчевать лес, уставать до изнеможения, и Леля Касимова начнет всех подбадривать, чтобы не падали духом. У Аниканова чирьи, и он будет ругать ее. «Нытик», — вспомнилось слово Касимовой. «А я кто? Может быть, еще хуже нытика? Нет, это не по-комсомольски, это похоже на дезертирство».
Перед глазами встало лицо Никандра, красное, как у всех рыжих, его сверлящие оловянные глазки… Горькая злость закипала в груди. «Как бы он восторжествовал, если бы все комсомольцы сбежали отсюда! — думал Захар о Никандре. — Но черта с два будет по-твоему, кулачина! Не пойду в конный парк, на сплав вернусь, а не то на корчевку». Но вспомнил о Ставорском — ведь пообещал же ему! Может быть, тот велел положить его сюда потому, что уже тогда решил взять себе в помощники? Конечно, поэтому…
Захар пытался сравнить Ставорского с кем-нибудь из тех, кого хорошо знал, чтобы лучше понять этого человека. На кого он похож своим костюмом и вышколенной кавалерийской походкой? Да вот, на Тимошенко, двадцатипятитысячника, что проводил коллективизацию в станице. Тоже из армии, конник, командиром эскадрона был в гражданскую войну. Но нет, не похож на него Ставорский! Того Захар понял и даже полюбил. Говорил Тимошенко ясно, горячо, шутил, смеялся. И лицо было открытым, честным. А этот… Нет, не похож он на Тимошенко, чем-то скорее на Никандра смахивает, хотя в их внешности нет ничего схожего. Холодом веет от него, что-то непонятное таится в его вкрадчивом, нагловатом взгляде, в его манере разговаривать.
«Не пойду к нему, — с нахлынувшей вдруг злой решимостью подумал Захар. — Только на сплав, а если не пошлют — пойду на корчевку».
Объяснение состоялось вечером. Выслушав Захара, Ставорский молча прошелся по комнате.
— Так какого же черта ты морочил мне голову? Я бы теперь давно уже подобрал себе бригадира. Порядочный дурак ты, парень, и к тому же бесчестный.
— Но вы поймите, Харитон Иванович, я же не от трудностей бегу… — пытался объяснить Захар.
— Лес сплавлять любой дурак может, — перебил его Ставорский. — И трудность тут не велика: вот попробуй головой поработать — это потруднее. Ладно, даю тебе срок подумать до завтрашнего утра. Учти: я делаю это только в твоих интересах. Если ты с головой — поймешь, а не поймешь — значит ты просто дурак.
В эту ночь Захар долго не мог уснуть. Доводы Ставорского поколебали его. В самом деле, какой толк оттого, что на сплаве появится один человек, какую ощутимую пользу он принесет там со своей больной ногой? И потом же, разве на конный парк не нужны люди или там только бездельники? Как же поступить?
Утром Ставорский разбудил его вопросом:
— Ну как, надумал?
Вопрос застал Захара врасплох. В голове еще блуждали обрывки сна: будто он тонул в Силинке, а Леля Касимова и Иван Каргополов спасали его, хватали за плечи, за воротник и никак не могли вытащить из воды. Видимо, Ставорский качал его за плечо, и это вызывало такое сновидение. На Захара в упор смотрели нагловатые глаза, в них светилось что-то затаенное и непонятное. Приходя в себя, Захар подумал: «И с этим взглядом нужно встречаться каждый день. Пошел он к черту!»
— Нет, не пойду в конный парк, — еще не подумав как следует, сказал он и решительно сбросил одеяло. — Решил вернуться на сплав, Харитон Иванович, там у меня товарищи…
— Да-а… — Ставорский раздумчиво обхватил ладонью подбородок. — Ну, смотри, захочешь — приходи, конюхом или возчиком всегда возьму.
Тягостными были для Захара все эти дни до выздоровления. Почти каждый вечер и утро Ставорский спрашивал, не переменил ли он своего решения, но, услышав отрицательный ответ, умолкал.
В начале второй недели фельдшер, добросовестно навещавший Захара каждый день, облегченно сказал:
— Все. Вы здоровы, молодой человек! Завтра можете гулять. За справкой придете ко мне на дебаркадер.
Но Захар решил сегодня же перейти к своим землякам в ледник. Как только фельдшер ушел, он быстро оделся и открыл дверь в переднюю половину избы. Там была одна Любаша; она перед зеркалом переплетала косы.
— Ну, я ухожу от вас, Любаша. — Он встал перед нею, одергивая гимнастерку.
— А почему? Так бы и жили у нас, — тихо сказала она.
Волна теплых чувств поднялась в груди Захара, обдала жаром лицо: до чего же хороша была сейчас Любаша в своем пестреньком ситцевом платье, туго облегавшем округлые плечи, с толстыми косами и гордо посаженной головкой!
— До свидания, Любаша. Спасибо за все, — Захар протянул ей руку; от мгновенного порыва чувств захолонуло сердце, он слегка побледнел, было уж качнулся вперед, но удержался.
А Любаша все так же стояла, грустно улыбаясь, все крепче сжимая его ладонь своими сильными пальцами. Только сдержанное дыхание выдавало ее взволнованную настороженность.
— До свидания, Захар, — наконец сказала она, опуская глаза и покусывая губы. — Я, наверное, буду скучать по вас, Захар, — шепотом добавила она. — Заходите в гости. Я буду ждать вас…
— Спасибо, Любаша. Если будете скучать, обязательно зайду. — Захар растерянно улыбнулся и торопливо надел шинель.
— На Силинку сейчас пойдете? — спросила Любаша.
— Нет, завтра возьму справку. Может, достану денег, чтобы рассчитаться с вами. Переночую у своих товарищей, а завтра, если управлюсь, уйду на сплав.
— А вы у нас ночуйте.
— Не могу. С жильцом вашим не хочу больше быть вместе.
Любаша проводила Захара за ворота и показала ледник, где жили новочеркасские комсомольцы. Потом долго смотрела ему вслед, тоскливо прислонившись к могучему столбу ворот, подпиравшему двускатную крышу с узорчатым карнизом. Она не слышала, как кто-то подошел к ней сзади, и вздрогнула, почувствовав чью-то руку на своем плече.
Ставорский почти вплотную приблизил к ней улыбающееся лицо, пристально уставился взглядом в ее испуганные глаза.
— Что загрустила? Не пугайся, дикарочка, я ведь люблю тебя.
Любаша отшатнулась, застенчиво сияла руку Ставорского с плеча.
— Дома кто-нибудь есть? — уже серьезно спросил он. — Тогда пойдем, покормишь меня.
Уже в избе, моя руки, он спросил:
— А что, Жернаков совсем ушел?
— Совсем, — сухо ответила Любаша, наливая в миску наваристый борщ.
— Поэтому ты и загрустила?
Любаша смутилась, щеки ее вспыхнули.
— Ничего я не загрустила, Харитон Иванович! — Девушка тряхнула головой, поправляя косы на спине. — Вам туда подать или здесь будете кушать?
— Здесь буду. Посиди со мной за столом, Любаша. Мне нужно с тобой поговорить.
С минуту он молча хлебал борщ, потом положил ложку на стол, задумался.
— Ты помнишь наш разговор тогда, вечером? — Он исподлобья посмотрел на Любашу.
— Помню. — Она склонила голову, зарумянилась еще больше.
— Ну, и как решила?
— Никак не решила, Харитон Иванович. Мне же учиться надо, я ведь сказала вам. Вот придет зима, тут, говорят, будут техникумы, пойду учиться…
— Ты бы и замужем могла учиться, — холодно сказал Ставорский. — Не иначе, как это Жернаков закрутил голову. Только ошибаешься ты в нем. Пустой человек! Вот он окрутит тебя и бросит! Тогда наплачешься, да поздно будет…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
За то время, пока Захар болел, в природе произошла великая перемена: на земле окончательно водворилась поздняя, но веселая, влюбленная во все на свете хозяйка-весна. В яркие изумрудно-зеленые одежды нарядила она серую лесную рать, щедрой рукой разбросала золотинки первых подорожников, зелеными ковриками устлала каждый клочок земли, волнующим запахом молодой зелени напитала солнечный воздух.
Захар шагал, полный ощущения весны, с радостным волнением, разбуженным Любашей. По пути решил заглянуть на почту: узнать, нет ли писем.
За скрипучей перегородкой все столы завалены грудами писем, но среди них не оказалось ни одного, адресованного Захару. Огорченный, вышел он на улицу, медленно добрел до бормотовского ледника. Дверь оказалась подпертой бревном, по таежному обычаю заменяющим замок. Захар присел на кучу досок.
Еще из Хабаровска послал он письмо Настеньке с адресом села Пермского. Разве снова написать? Нет, не будет он писать, пока не получит ответа на те два письма, что послал из Новочеркасска и Хабаровска. «А что, если?.. Там ведь Вася Корольков». Но Захар отогнал эту мысль: «Не может этого быть! А если может?..»
До вечера оставалось часа три, и Захар решил разыскать своих земляков.
За околицей, где кончались огороды и поднималась стена леса, стоял стук топоров, шумели людские голоса, то и дело с треском падали деревья — шла корчевка.
Захар подошел к одной бригаде, спросил у крайнего парня, размашисто рубившего кустарник:
— Вы не знаете, где тут азовочерноморцы?
— А ты чего шляешься, когда люди работают? — спросил тот, выпрямляясь и смахивая пот с раскрасневшегося злого лица. — Что, представитель «гулькома»?
— Не болтал бы зря, — огрызнулся Захар. — Только встал с постели, болел и теперь ищу своих, понял?
— Что-то много больных появилось, когда нужно работать. — Парень поплевал на ладонь, снова берясь за топор.
Захар на расстоянии узнал Лелю Касимову и Марусю Дробышеву.
Парни толпились у огромной лиственницы. Кто-то с привязанным к поясу концом веревки карабкался по ее стволу вверх, а все остальные следили за ним. На Захара почти никто не обратил внимания.
— А где Андрей? — спросил Захар Степана Толкунова, заметив, что приятеля здесь нет.
— Эге, брат, Андрей твой нашел теплое местечко!
— Как это?
— Кладовщиком устроился, лапти принимает. Одним словом, симульнул наш староста.
— Ловко! — усмехнулся Захар. — А зачем Крамсков лезет на дерево?
— Да вот хотим перехитрить эту дуру, — Толкунов смерил взглядом высокий ствол лиственницы. — Изобретение бригады! Понимаешь, толстые деревья надо выкорчевывать с корнями, а важками разве его возьмешь? Вот и придумали: привязывать веревку за макушку и всем миром впрягаться в нее. Так и валим… Что, в нашей бригаде будешь?
Тем временем Крамсков уже привязал конец веревки за макушку лиственницы, с обезьяньей ловкостью заскользил по веревке вниз и в одну минуту очутился на земле.
— Взялись, товарищи! — подал команду Толкунов.
Все, в том числе и Захар, ухватились за веревку и с гиком, разбойничьим свистом потащили ее. Дерево стало крениться, но где-то на половине остановилось.
— Руби корень! — заорал кто-то. — Видишь — держит!
Затяпал топор, под лиственницей сильно хрустнуло, и она грохнулась на землю, выбросив вместе с остатками корневища каскад грязи.
Вечером, когда все собрались на ночлег в своем леднике, густо насыщенном запахом прелого сена, пришел и Аниканов. Захару бросилось в глаза, что Андрей снова обрел прежнюю бойкость и самоуверенность. Он принес соленую кету, завернутую в какую-то грязную мешковину.
— В общий котел, братцы, — заискивающе крикнул Андрей, развертывая рыбину. — Бочка разбилась, когда сгружали с баржи… У нас останешься? — обернулся он к Захару, разжевывая большой кусок рыбы. — Зря! Опять искупаешься и заболеешь. Хочешь, устрою тебя на склады?
— Нет, пойду на сплав, там мне нравится.
Из угла послышался голос Касимовой:
— Ну что, Андрей, опять лапти принимал?
— Ага. До обеда. А потом раковины для уборных и ванны. Сто пятьдесят комплектов.
— Ой, смотри, Аниканов, большую ответственность взял ты на себя! Разворуют лапти, не миновать тебе тюрьмы, — не без иронии заметил Толкунов.
Кругом засмеялись.
— А что, один парень в самом деле стащил сегодня пару лаптей! Говорит, старые сносились.
— Между прочим, Андрей, ты не интересовался, — снова послышался из угла голос Касимовой, — почему везут оборудование для ванных и уборных, а не инструмент? Пил и топоров не хватает, работа из-за этого задерживается, а они там… Кто это делает? Узнать бы да в газету прописать. Это же вредительство!
— Мое-то дело маленькое — принимай и сохраняй, — отмахнулся Аниканов.
— Нет, ты должен это выяснить, — настаивала Касимова. — И все коллективно напишем письмо. Как думаете, товарищи, а?
— Правильно, — послышались голоса.
— Вряд ли я что-нибудь узнаю, — усомнился Аниканов. — Там такая путаница в накладных и имуществе, что сам черт ногу сломит.
На следующее утро Захар пошел разыскивать конный парк, чтобы оттуда на подводе добраться до сплава. Парк находился на обширном дворе, наскоро обнесенном жердями. Хозяйство произвело на Захара удручающее впечатление: телеги стояли со сломанными колесами или оглоблями; изнуренные лошади бродили по колено в грязи, у многих из них были сбиты холки или спины, и над ранами роились зеленые мухи.
У ворот Захар увидел добротную бричку с сеном, запряженную парой довольно свежих коней. В передке брички полулежал в дремотной позе человек лет под тридцать, с широко посаженными маленькими глазами, глядящими исподлобья; что-то хитрое и тупое одновременно было в его на редкость отталкивающем лице с толстыми влажными губами.
— Куда подвода, не на сплав? — спросил Захар, разглядывая лошадей; левый гнедой был, по-видимому, строевым конем: с правильным экстерьером, с прямо поставленными задними ногами, сухими точеными бабками и чуть вислым крупом. Он немного напоминал Егеря.
— А ты кто? Что за спрос? — Незнакомец лениво приоткрыл сонные глаза.
— Мне нужно ехать на сплав.
— Так это вы — товарищ начальник? — Возчик привстал. Лицо его оживилось и сразу поглупело.
— Нет, я просто пассажир. А ты только начальство признаешь?
— Да нет. — Возчик раздумчиво поглядывал на Захара. — Это я так.
Пока они разговаривали, подошли Ставорский и с ним двое: один пожилой, медлительный, второй — совсем молодой, высокий, в кожаной куртке, со смуглым лицом и фигурой атлета.
— А ты чего, Жернаков, здесь? — спросил Ставорский, протягивая руку. — Наниматься пришел?
— На сплав возвращаюсь, вот записка из отдела кадров. — Захар подал бумажку.
— Это не со мной, а вот с товарищем Бутиным говори, — пробежав записку, указал он на пожилого мужчину. — В его распоряжение выделена подвода, возьмет — не возражаю.
— А чего не взять? — весело посмотрел на Захара тот, кого Ставорский назвал Бутиным. — Что, работаешь там?
— Работал, — ответил Ставорский вместо Захара. — А потом свалился в реку, простудился и заболел… У меня лежал. Это бывший кавалерист, Иван Сергеевич, в кавшколе учился, а потом покалечился, и его демобилизовали. Ему бы не на сплав, а на конный парк, коней он знает и любит; мне же до зарезу нужен комсомолец — бригадир конюхов. Но вот не хочет! Может, вы повлияете на него, Иван Сергеевич?
Бутин с интересом оглядел подтянутую фигуру Захара.
— Чего же не идешь в конный парк?
— Больше нравится на сплаве, — слегка робея, ответил Захар; он как-то растерялся под взглядом Бутана.
— Комсомолец должен быть не там, где ему больше нравится, а там, где он больше нужен. И нечего заставлять людей уговаривать себя — нужно, значит нужно. Тем более ты кавалерист… Ну, поехали, — распорядился он и грузно уселся в бричку.
Рядом с ним примостился парень в кожаной тужурке. Захар вскочил на задок, возчик гикнул, и лошади весело взяли с места.
Захар не слышал разговора, происходившего между Бутиным и его соседом, — грохот брички заглушал голоса. Только у широкой болотистой низины парень в кожаной тужурке повернулся к нему и крикнул:
— Еще далеко?
Выслушав Захара, помолчал, задумчиво посмотрел ему в лицо.
— Как фамилия? — громко спросил он. — Ну что ж, мы тут решили с Иваном Сергеевичем, что тебе нужно идти к лошадям. Давай познакомимся, — протянул он руку, неловко выгибаясь. — Сидоренко, заворг комитета комсомола. Нужно укреплять конный парк комсомольцами! — кричал он. — Видел, какой там беспорядок? Ведь лошади наш единственный вид транспорта.
— Ну, раз решили, — значит, пойду, — ответил Захар.
Солнце стояло еще высоко над лесом, когда они приехали на сплав. Захар не узнал прежних мест: кругом все зазеленело, тайга стала гуще, на левом берегу появилась бугристая галечная отмель, а там, где лежали штабеля бревен, остались на земле лишь вороха осыпавшегося древесного корья.
Ни на берегу, ни в бараке никого не было. Но по реке шли вереницей бревна; где-то неподалеку слышались голоса сплавщиков: «Раз, два — взяли! Еще взяли! Навались!»
Бутин с Сидоренко ушли туда, а Захар отправился вниз вдоль берега, где должны были работать товарищи из его звена. Он снял шинель. В гимнастерке было легко и приятно.
Странное настроение владело Захаром, когда он шагал по тропинке, ставшей очень торной за его отсутствие: будто он вернулся в родные места. Знакомые до каждого малейшего заливчика изгибы Силинки, злополучная коряга с привязанным бревном, сильно вылезшая за это время из воды, громадный дуплистый кедр, на котором видели они с Каргополовым косача, — все было для него дорогим и близким.
Сплавщики встретили Захара веселым шумом:
— Эй, Жернаков, беги за ружьем, вон там еще один таймень под корягой сидит! Тогда добре поели ухи за твое здоровье.
— Ну, все в порядке? — ласковой улыбкой встретил его Каргополов, сузив свои маленькие, глубоко сидящие глазки. — А я уж беспокоился, хотел навестить тебя.
— Давай сменю, отдохни. — Захар взялся за багор.
— Во-во, принимайся-ко за роботу, Жернаков, — одобрительно заметил Иванка-звеньевой. — Поди, жирок ужо мешат?
— По всему видно, что «мешат», — отозвался Гурилев. — Человек еле ноги волочит, а он: «За роботу!»
— Вот я тя, Гурилев, вышибу из звена, — пригрозил Иванка-звеньевой, и все грохнули смехом.
— Он каждый день грозит Гурилеву, — объяснил Иван Захару. — Ну и черт же! — сказал он вполголоса и кивнул на Гурилева. — Каждый день отмачивает что-нибудь. Вчера после работы Иванка надел армяк, сунул руку в карман да как завизжит: «Гадюка!» Вмиг сбросил армяк, ухватил багор и давай охаживать им одежину. В двух местах лопнул армяк по швам. Вытащил палкой гадюку из кармана и объявил: «Вот, робятка, как я ее, голову ажио отшиб». А Гурилев подходит и спрашивает: «А ну, где голова, посмотреть, что за гадюка?» Иванка вывернул карманы, но головы там не оказалось. Всем звеном искали ее, так и не нашли, а когда возвращались домой, Гурилев шепнул мне, что это он положил Иванке в карман обезглавленную гадюку…
Когда сверху подошли последние бревна, над лесом уже золотистым костром разгорался закат. Сплавщики кинули на плечи багры и шумной гурьбой выбрались на берег.
Уже стали одеваться, как вдруг Гурилев завизжал голосом Иванки-звеньевого:
— Робятка, годюка!
Хохоча, сплавщики двинулись домой, а Иванка, не сразу понявший, в чем дело, брел насупившись. Захар с Каргополовым пошли рядом.
— Слушай, Иван. Я решил перейти в конный парк. Назначают бригадиром. Приехал забирать пожитки, — сказал Захар.
— А на черта тебе это нужно? Смотри, какое тут интересное дело!
— Но что я поделаю, если посылают?
— Откажись!
— Да не могу — комсомольское поручение.
— Жаль… Вон как сработались мы с тобой! Да и в звене тебя уважают. Смотри, чтобы хуже не было…
После ужина Бутин и Сидоренко проводили собрание.
— Я не хочу создавать у вас, товарищи, иллюзий насчет положения на стройке, — спокойно, раздумчиво говорил Бутин. — Впереди у нас много трудностей. Техники, по сути, у нас нет, все нужно делать голыми руками. Ожидаем вот несколько тракторов, но они положения не изменят. Значит, главное — ваша физическая сила. Жилья, по сути, тоже нет; многие ютятся там, где удалось найти крышу. Летом такое жилье пусть скверное, но терпимо. А придет зима? Как тогда? Сейчас спешно строится лесозавод, чтобы дать пиломатериалы для строительства жилья. Но сроки его пуска уже сорваны — значит, он недодаст много строительного материала, значит, меньше будет построено, и в зиму будет плохо с жильем. Вы хорошо поработали, почти весь лес сплавили за короткий срок. Но леса все равно мало, и его придется заготавливать летом. А тот, кто заготовлял лес летом, знает, что это труднее, чем зимой…
Он закурил папиросу, посмотрел на мундштук и продолжал:
— Появились нехорошие настроения. Несколько десятков слабовольных хлюпиков уже сбежало. Бросили работу и образовали так называемый «гульком» — гулевой комитет. Занимаются картежной игрой, добывают себе пропитание темными махинациями, так как таким людям, естественно, мы не даем продовольственных карточек. Это дезертиры трудового фронта. В гражданскую, как вы знаете, за дезертирство расстреливали. Да иначе и нельзя поступать с трусами и предателями, бросающими своих товарищей в самый трудный момент борьбы. Я думаю, что вы поймете меня правильно. Впереди у нас прекрасное будущее. Придет время, когда каждый из вас станет жить в отличной квартире со всеми удобствами, работать там, где ему нравится, учиться той профессии, которую сам изберет. О вас, о вашем труде поэты будут слагать стихи и песни. Но сегодня от нас требуется напряжение всех сил, всей комсомольской воли, чтобы всего этого достичь.
…После речи Бутина Захару трудно было прощаться с Иваном, Гурилевым и всеми товарищами. Горьковатый осадок лежал у него в душе. Будто щепку, носили его какие-то случайные обстоятельства, отрывали от новых друзей. Ничего в его жизни не было похожего на то лучезарное, что представлялось в Новочеркасске, когда он собирался на Дальний Восток. Какую цель в жизни обрел он? И что будет вообще дальше с ним?
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Печать колготной таборной жизни лежала в те дни на всем облике села Пермского.
В прохладной свежести начинающегося утра далеко по Амуру и тайге растекался гомон. С чердаков, из сараев, из амбарчиков и ледников вылезали заспанные парни в помятой одежде, с нечесаными вихрами, весело переругивались, трясли одеяла, не просохшие за ночь шаровары и куртки, с гиканьем бежали к Амуру умываться.
Густыми вереницами устремлялись в столовую, стараясь обогнать друг друга. В очереди толкотня, хмурые лица, остроты, шутки, перебранки, смех.
Но вот бригада за бригадой, вооруженные топорами, лопатами, пилами, потянулись в тайгу, и Пермское постепенно опустело. Лишь редкие прохожие из местных жителей, еще не выселившихся в соседние села, показывались на улице.
Под откосом, на берегу Амура, где толпились баржи да иногда попыхивали трубами пароходы, было всегда людно. Вереницы грузчиков несли на горбах мешки, ящики, тюки или, впрягшись, гурьбой волокли по галечнику огромные металлические трубы, рельсы, тавровые балки. Из тайги доносился гомон труда — там день-деньской корчевали лес, строили дороги, рыли канавы, чтобы спустить воду из заболоченных низин в Амур.
Трудно входил Захар в новую для него должность бригадира. С первого же дня он взялся за дело со всей страстью. Большинство возчиков были из местных крестьян и работали добросовестно. Аккуратно, с хозяйской покладистостью делал свое дело Никандр Руднев.
Но была тут категория людей, не знавших ни роду, ни племени. Они издавна промышляли на рыбалках, как сезонные рабочие, или прирабатывали на погрузке и разгрузке барж по пристаням Амура, или бродяжничали в тайге в поисках золотишка. «Перекати-поле» — называл их Никандр Руднев. На зиму обычно они подавались к югу, в Хабаровск, во Владивосток, чтобы там скоротать холодное время, а с наступлением весны снова кочевали на север, в низовья Амура. Теперь они осели на новостройке. Были здесь и темные личности: в стране шла коллективизация, кулаки, замешанные в преступлениях, искали прибежища в глухих углах малообжитого в ту пору Дальневосточного края. Таких «перекати-поле» нетрудно было отличить от всех прочих: речь свою они пересыпали матом, дело выполняли с небрежностью и держались, как люди, для которых нет ничего святого или хотя бы достойного уважения, не существует ни законов, ни норм приличия.
В первый же день Захар едва не подрался с возчиком-цыганом. Запрягая лошадь, цыган стал взнуздывать ее. Она не брала в рот удила, задирала голову. Тогда возчик схватил палку, вцепился клещатыми пальцами в ее розоватые ноздри и стал совать ей палку сбоку в рот. Лошадь взвилась на дыбы, едва не поломав оглобли. Рассвирепевший цыган ухватил ее за уздцы и изо всех сил палкой ахнул по губам. Из ноздрей струйкой побежала кровь. Не помня себя, Захар заслонил собой лошадь.
— Ты что же делаешь, сволочь?!
Цыган испуганно отскочил, уставясь на Захара налившимися кровью, зло играющими глазами.
— Что, финика покушать захотел, мосол? — И медленно полез в карман.
Захар побледнел до синевы.
— Я тебе такого финика дам, что ты позабудешь о нем вспоминать! Не допущу больше к работе — и все!
На шум подошел Никандр. Захар передал ему лошадь, попросил распрячь, а цыгану приказал тоном, не допускающим возражения:
— Пошли к начальнику.
— А что, пойдем! Ишь ты, напугал!
Ставорский равнодушно выслушал Захара, без особого внимания смерил глазами короткую фигуру цыгана, облаченную в засаленный ватник, и сказал не очень сердито:
— Ты что же, Пригницын, так обращаешься с лошадью? Или тебе не говорили, что лошадь надо беречь? Ну, смотри мне, повторишь подобное — отдам под суд. Иди запрягай другую, негодяй.
После ухода Пригницына он сказал Захару:
— Ты особенно круто не бери, Жернаков. На меня не смотри, «под суд» я никого не отдам, они это хорошо знают. Пригницын возчик неплохой. Правда, диковат немного, из цыган, беспризорником был.
— А я думаю, Харитон Иванович, что его нужно выгнать. Он же всех лошадей покалечит!
— А кто будет ездить? Каждый день мы должны давать сто подвод, а даем всего семьдесят — восемьдесят. А ты — «выгнать»! Я еще никого не выгнал и не буду выгонять. Любое дерьмо возьму, но до ста подвод в день дотяну.
Захар хотел было поспорить, привести тот довод, что при таком обращении с лошадьми скоро некого будет запрягать. Его удивила и обидела та непонятная мягкость, с которой Ставорский отнесся к дикому поступку Пригницына, и от Ставорского он ушел в подавленном настроении.
Но это было только началом испытаний. Назавтра произошло столкновение с другим возчиком — Рогульником, тем самым, что возил Бутина и Сидоренко на сплав. Захар заметил, что Рогульник, выезжая со двора, не засупонил как следует хомут. Захар велел перетянуть супонь. Поглядывая на бригадира исподлобья, Рогульник лениво слез с телеги, развязал супонь и так же лениво стал перематывать ее. В конце рабочего дня Захар снова столкнулся с Рогульником, когда тот заводил лошадь во двор. Бросив взгляд на супонь, он увидел, что гужи обвисли и вся упряжь болтается.
— Вы когда-нибудь имели дело с лошадьми? — спросил Захар Рогульника.
— В крестьянстве вырос.
— А как думаете, что случится с лошадью, если ее вот так запрягать?
— Ну, что случится? Ничего не случится.
— Сейчас посмотрим.
Захар наблюдал, как Рогульник умело, лишь одним движением развязал супонь, ловко сбросил петли гужей с концов дуги, развязал чересседельник и лишь тогда, когда стал снимать хомут, немного помешкал.
— И взаправду холку сбил… — сказал виновато Рогульник. — Черти ее взяли бы, эту сбрую! Вроде бы завяжешь, а она опять слабнет и слабнет.
Когда возчик увел лошадь под навес, Захар еще долго стоял, рассеянно глядя на совершенно исправный хомут. «Вредитель, самый настоящий, — стучало в мозгу. — Сейчас же нужно сказать Ставорскому, ведь почти за руку пойман».
Рогульник возвращался к телеге.
— Скольким лошадям вы уже сбили холки? — спокойно спросил Захар.
— Я-то? — Рогульник тупо уставился на хомут. — Эта, кажись, четвертая, не то пятая… Только я не виноват, товарищ бригадир, сбруя такая… черт бы ее побрал!
— Ладно, завтра возьмите другой хомут.
Захар сказал это примирительным тоном, а у самого все клокотало и дрожало внутри. Жгла мысль: «Вредитель, кулак!» Захар бросился к Ставорскому, но того не оказалось в конторке. Только на следующий день, оставшись с глазу на глаз со Ставорским, он рассказал о случае с Рогульником.
— Та-ак… Это дело действительно надо расследовать. — Ставорский помолчал, барабаня пальцами по столу и тоскливо глядя через окно куда-то вдаль. — Ты хомут не осматривал?
— Нет, — растерянно ответил Захар и спохватился. — Но я велел оставить его, чтобы сегодня осмотреть.
— Ну вот видишь, а уже говоришь о вредительстве. — Ставорский злобно раздул ноздри. — Если в каждом деле мы будем искать вредительство, то тогда нас нужно всех пересажать. Вон сколько безобразий на каждом шагу! Рогульника заподозрил во вредительстве, потом меня, а я — тебя! Что же тогда получится?
Захар почувствовал, как кровь прилила к лицу, стало горячо щекам. Ему было стыдно: ведь он действительно не осмотрел хомут — может, сбруя и в самом деле неисправная?
— Я сейчас пойду посмотрю его, Харитон Иванович, — пристыженно сказал он.
— Ладно, потом. Да и вообще… Я сам займусь этим делом. А ты перепиши в двух экземплярах вот эту заявку на сбрую и материалы для ремонта. И нужно сегодня же отнести ее в отдел снабжения. Вот здесь садись и пиши. — Он подал Захару ведомость, несколько листов чистой бумаги. — И вообще, я хочу предупредить тебя, Жернаков, чтобы ты не делал преждевременных выводов, не посоветовавшись со мной. Я головой отвечаю за конный парк, в том числе и за твои действия, и ничуть не меньше твоего должен быть настороже. Как-никак я работал в Чека, понял? Так что имей это в виду и держи язык за зубами.
Переписывание не шло Захару на ум. Внимание было рассеянно, настроение подавленное, а душу жег стыд за глупый поступок. Вот почему Ставорский так непонятен — он же бывший чекист! Слово «Дончека» Захар помнил с детства. За этим словом ему рисовались люди, беспощадные к врагам Советской власти. Это они расстреливали в песках за станицей белогвардейских офицеров и бандитов.
Кое-как осилив переписку, Захар пошел осматривать хомут. Велико же было его разочарование, когда он, прощупывая потниковую подкладку в верхнем углу хомута, нашел там перелом на конце дужки. «Не замечал Рогульник или нарочно подстроил?» Этот мучительный вопрос так и остался без ответа.
А потом произошел случай, который круто повернул судьбу Захара и надолго отравил ему жизнь.
Ставорский вызвал его в контору.
— Тебе срочное задание, Жернаков, — сказал он, смачивая кончиком красного языка края конверта. — Подседлай Варяга и скачи на строительство лесозавода. Передашь прорабу вот этот пакет. Пусть прораб сейчас же ответит, сколько ему нужно завтра подвод выделить. Седло возьми мое, аллюр четыре креста! — И он загадочно улыбнулся, подавая пакет.
Варяг, рыжий горячий конек, весело, словно на крыльях, вынес со двора влитого в седло Захара. Повода конь слушался плохо, а к шенкелям и вовсе не был приучен. Захару пришлось взять его на самый короткий повод, но от этого конек стал горячиться еще больше и то приседал, то срывался с места на короткий галоп. Только через несколько минут он послушно приноровился к воле всадника и понес его легкой, ровной рысью.
Захар выехал на знакомую дорогу, уходящую в тайгу, и немного дал коню повода. Тот сразу взял галопом, прося полной свободы. Захар дал ее. Варяг прижал к голове маленькие уши и выстлался в сумасшедшем намете.
Все пело в душе Захара. До боли в сердце знакомое и дорогое ощущение полета, когда ветер резко бьет в лицо и свистит в ушах, когда весь мир кажется фейерверком, окрыляло его, уносило в какой-то волшебный мир героики. Слившись в одно с конем, приноравливаясь к бешеному ритму его тела, Захар ничего не видел, ни о чем не думал, отдавшись давно знакомому, но теперь почти забытому радостному чувству.
Но дисциплина кавалериста скоро взяла верх. Хоть и сказал Ставорский: «Аллюр четыре креста» — что означает выжать из лошади все, на что способна она, не заботясь о ее сохранности, Захар понял это как шутку. Медленно убирая повод, он с усилием перевел конька на ровный галоп, затем на рысь и так держал еще некоторое время. А когда заставил его пойти шагом, конек еще долго горячился, сбиваясь на иноходь, тяжко понося боками; от его гривы потянулись поперек шеи темные полосы пота. И вспомнилась Захару прошлогодняя поверка, когда переводили его на второй курс кавшколы: курсантам была поставлена задача совершить десятикилометровый марш за сорок пять минут и привести лошадей сухими. Только кавалеристу ясно, как нелегко это сделать, но больше половины курсантов отлично выполнили задачу. Среди них был и Захар. Честолюбивая мысль повторить этот марш (от конного парка до лесозавода было примерно десять километров) пришла ему в голову.
Чередуя аллюры, выбирая на разбитой дороге участки посуше, Захар быстро доскакал до лесозавода. Еще издали он услышал перестук локомобиля, злое завывание циркульной пилы, и вскоре сквозь поредевший лес забелели приземистые постройки и навесы из свежего теса, а над ними возвышалась тонкая металлическая труба с провисшими растяжками. «Первая заводская труба на строительстве», — подумал Захар с приятным хозяйским чувством. За постройками блестела небесно-голубая гладь озера, вся в мелкой чешуйчатой ряби, кудрявились тальники, синели просторные луга, березовые перелески, а вдали виднелись повитые дымкой тумана увалы гор, конусы сопок.
Похлопывая по шее Варяга, который пугался воя пилы, Захар привязал его к березе и отпустил подпруги.
Прораба Захар нашел на берегу озера, где монтировалась подвижная цепь для бревен, идущая в цех к пилораме. Не без волнения оглядывал Захар огромное стадо бревен, собранное в кошель. Чудилось ему, будто он видел те самые звенящие, терпко пахнущие смольем бревна, к которым прикасался и его багор.
— Наконец-то! — играя желваками на худых, землистых щеках, сказал прораб, вскрыв пакет. — Видно, дали перцу вашему Ставорскому!
Как ни хотелось Захару привести Варяга в конный парк сухим, сделать это не удалось: в лесу стояла предвечерняя парная духота, а горячий конек все время гарцевал, стараясь вырвать повод. Шея и круп его лоснились, под краями потника сбилась мыльная накипь. Тщательно растерев травяным жгутом спину конька, Захар предупредил конюха, чтобы тот не давал Варягу воды, пока конь не остынет окончательно.
— Людей коришь, а сам вон какого привел! — мрачно упрекнул его Рогульник, только что распрягший свою лошадь.
— Пот просыхает, а ссадины становятся ранами, — бросил ему Захар, направляясь к Ставорскому.
Спустя полчаса, когда Захар выписывал наряды возчикам, в контору вбежал конюх.
— Варяг сдыхает! — крикнул он. — Загнал-таки коня, «кавалерист»!
Чувствуя, как волосы зашевелились под буденовкой, Захар бросился к навесу. Там уже толпились конюхи и возчики.
Послышались голоса:
— Пропустите лихого «кавалериста», нехай полюбуется на свою работу!
— Вредитель это, товарищи, и боле никто!
Захар прошел сквозь злобную толпу. В середине круга на земле, судорожно вытягивая точеные ноги, неестественно запрокинув назад голову с остекленевшими глазами, лежал Варяг. Все его тело вздрагивало в коротких конвульсиях, из горла вырвался почти человеческий стон.
В круг вошел Ставорский.
— Ну что, загнал? — спросил он. — А я-то думал, ты настоящий кавалерист, любишь коня и умеешь с ним обращаться! Да-а, хорош был Варяг, под седлом думал держать его… Ну что ж, теперь уж не мне с тобой разговаривать, Жернаков! Пускай суд разбирается…
От этих слов у Захара все внутри окаменело, чувства и сознание притупились, стало все безразлично. Он тупо смотрел на Варяга, которого успел полюбить. А конь дышал все реже, притих, вдруг дернулся весь, оскалил зубы и замер навсегда.
— Пошли в контору, — приказал Ставорский.
В своем кабинете он спокойно сел за стол, снял защитного цвета фуражку, пригладил набок жиденькие темные волосы, как бы готовясь к чему-то торжественному, кивнул Захару:
— Садись!
Захар по привычке одернул гимнастерку и расслабленно опустился на табурет. На Ставорского он не мог смотреть, а тот, словно нарочно, долго и пристально глядел ему в лицо и молчал.
— Завтра составлю на тебя дело и передам в суд, — ледяным тоном сказал наконец он. — Буду квалифицировать как преднамеренное убийство лошади. Слыхал, что сказали возчики? Вредитель! Так мы и будем квалифицировать это дело.
— Харитон Иванович, может, найти ветврача, вскрыть Варяга? — спросил Захар сдавленным голосом.
— А что от этого изменится? — Ставорский пожал плечами. — И где я возьму врача?
Захар хотел еще что-то сказать, но тут рыдания подступили к горлу, слезы брызнули из глаз.
— Э-э, да ты, братец, оказывается, совсем жидок на расплату! — со злой иронией проговорил Ставорский. — А я-то думал, у тебя стойкости побольше.
Эти слова отрезвили Захара, лицо его посуровело.
Ставорский снова посмотрел на него долгим, внимательным взглядом и сказал, хлопнув ладонью по столу:
— Ладно, иди!
Покачиваясь, словно пьяный, Захар вышел. Два конюха свежевали труп Варяга. У Захара не хватило духа подойти к ним. Расслабленный, поникший, он шел, сам не зная куда. Возле столовой ему встретились Леля Касимова и Маруся Дробышева.
— Что с тобой, Зоря, на тебе лица нет! — спросила Касимова.
— Коня загнал!..
— До смерти?!
— Ага.
— Да как же это, Зоря?
— А черт его знает! Может, съел чего-нибудь, когда оставлял его у березы…
— Как же теперь?
— Под суд отдадут…
У девушек округлились глаза, они приумолкли. Маруся Дробышева подумала вслух:
— Наверно, посадят тебя, Зоря?..
— Конечно, посадят, — с какой-то отрешенностью подтвердил Захар. — Лет пять обеспечено.
Он пораньше лег спать, чтобы поскорее забыться и уйти от горьких мыслей. Но сна не было. О чем только не передумал Захар в ту ночь! Вспоминал родную станицу: где-то на окраине поют девчата, доносятся переливчатые голоса гармошек, слышен смех, в теплом воздухе летучие мыши бесшумно чертят ломаные линии, и над всем этим ласковый покой и медвяные запахи полей… Потом вспомнились кавшкола, ночевки в степи на потниках, с седлом в изголовье и шинелью сверху, пыльные дороги, форсированные марши, атаки лавами…
«А не сбежать ли в родные места, пока еще не поздно? — подумал Захар. — Вот сейчас встать тихонько, взять ружье да самое необходимое и уйти по берегу на Хабаровск?.. Или столкнуть какую-нибудь лодку и спуститься в ней по течению Амура, подальше от стройки, до какого-нибудь села и там сесть на пароход. А потом? Потом добраться до станицы и больше никогда не отрываться от родного гнезда. Нет, туда нельзя, там легко разыщет милиция. Нужно в Новочеркасск, и сделать так, как советовали друзья: поступить на завод, окончить вечерний рабфак и — в институт!»
Утром Захар встал с твердым решением потребовать врачебного осмотра трупа Варяга. Но Ставорский до конца дня не вызывал его к себе в кабинет, чтобы оформлять дело. Когда Захар сам пошел к нему, Ставорский отмахнулся:
— Потом, потом, не до тебя сейчас… Вызову, когда будет нужно!
Тон, которым были сказаны эти слова, заронил в душу Захара сомнение. А может, Ставорский и его, Захара, решил только припугнуть, как пугал конюха Пригницына?
ГЛАВА ДВЕНАЦАТАЯ
Обитатели бормотовского ледника собирались обычно лишь с наступлением сумерек — никому не хотелось сидеть в сырости, когда на дворе лето. Лед осел почти на целый метр, и, возвращаясь с работы, каждый приносил охапку свежей травы, чтобы «нарастить» пол. Но это почти не помогало — пол ледника понемногу уходил вниз.
В тот вечер Захар пришел с охапкой травы пораньше и застал на порожке ледника Аниканова. Андрей что-то писал, слюнявя во рту кончик карандаша.
— К выступлению, понимаешь, готовлюсь, — сообщил он Захару. — Завтра первая комсомольская конференция. Ты придешь?
— Меня никто не приглашал.
— Почему? Ведь ты единственный комсомолец в конном парке! Хочешь, я скажу о тебе Панкратову? У меня, брат, с ним наладились отношения. Я ходил к нему поговорить насчет того, что везут на стройку всякий хлам, а инструменты не завозятся. Панкратов повел меня в партком, к Бутину, Иван Сергеевич велел, понимаешь, обязательно выступить на конференции. Ну и задам я кое-кому! — самодовольно улыбнулся Аниканов, мечтательно глядя в вечернюю синь, застывшую над спокойным простором Амура. — А о тебе скажу Панкратову, чтобы пригласили. Хочешь?
На следующее утро Захара позвал к себе в кабинет Ставорский.
— Сейчас звонили из управления, — сказал он, не глядя на Жернакова, — велели нам с тобой быть на конференции. В десять утра начнется, в столовой.
— А как с Варягом, Харитон Иванович? — спросил Захар.
— Потом, потом, — пробубнил Ставорский, занятый бумагами.
Был выходной день. К столовой стали стекаться строители. Они шли бригадными колоннами, неся впереди красные знамена. Было жарко, солнечно, безветренно, и все оделись по-летнему — в майки, обулись в начищенные, хотя изрядно побитые туфли или сандалии. Причесанные, побритые, ребята выглядели посвежевшими, по-праздничному оживленными.
Захар не сразу обратил внимание, что из-за угла столовой вышла новая колонна, над которой колыхалось небольшое красное полотнище: «Бригада сплавщиков рапортует: задание выполнено, весь лес на реке Силинке сплавлен!» Впереди этой колонны шли Алексей Самородов, Каргополов, Иванка-звеньевой, Гурилев — все сияющие, возбужденные. Пока Захар протискивался к ним, колонна уже рассыпалась.
— Каргополов! — крикнул Захар, чтобы не потерять его из виду.
— О, Захар! Здорово!
Каргополов обнял Захара своими длинными ручищами.
— Ну, как ты тут, живой? А мы, брат, видишь, на полмесяца раньше ахнули план, вот! Ни одного бревна не оставили на берегу, будем рапортовать конференции. Ну, а как у тебя дела?
— Похвастаться нечем, Иван. Все у меня идет не так, как у людей. Брожу как неприкаянный. Все с бригадами, каждый что-то сделал, а я один… А тут еще несчастье: съездил верхом на лесозавод, а когда вернулся — конь издох.
— Что, загнал?
— Да нет вроде бы… Наверное, он чего-нибудь съел.
— Это плохо. Зря ты, должно быть, оторвался от нас. Такая, брат, дружная бригада сколотилась!..
Но поговорить им не дали: послышался зычный голос, приглашающий заходить в столовую, и у дверей началась давка. Кое-как пробившись в помещение, друзья уселись у окна. Было страшно тесно. Каргополов обнял Захара за плечи и неистово зашептал в ухо:
— Слушай, я тут девушку одну видел — ох, брат! Как бы с ней познакомиться?
Захар изумленно посмотрел ему в лицо: никогда еще Иван не сиял так радостно, как сейчас.
— Был у меня единственный друг, и того, кажется, скоро потеряю… — грустно улыбнулся Захар.
— Что ты! — Каргополов прижал его к себе.
— А где она? Что за краля такая покорила тебя?
Каргополов вытянул загорелую вверху и белую под воротником шею, долго вертел головой, потом шепнул:
— Вот она, вон-вон… Видишь, у прохода две девушки, так та, что правее.
— Да это же Леля Касимова! Наша, новочеркасская. Хорошая девушка, Иван…
— Да что ты? Вот я и смотрю, где я ее видел? Значит, в одном эшелоне ехали. Слушай, Захар, познакомь меня с ней, а?
— Это дело нетрудное. Только она, знаешь… — Захар умолк на полуслове.
— Что? — нетерпеливо спросил Каргополов.
— Да либо у нее парень в Новочеркасске остался, либо нет у Лели ничего такого, знаешь, чтобы ее тянуло к ребятам… Холодная она, ничего девичьего в ней нет…
— Да? Значит, я правильно ее понял. — Каргополов сказал это самым тихим шепотом, так как за столом президиума уже появились люди. — А я, откровенно говоря, не люблю вертихвосток, будь они хоть раскрасавицы…
— Товарищи!.. — Панкратов, не по годам полный молодой человек, картинно оперся на край стола, накрытого красным. — Товарищи! — повторил он, дожидаясь, пока установится тишина. — Все, кто избран на первую комсомольскую конференцию Дальпромстроя, и все лучшие бригады, а также отдельные товарищи, которые были приглашены, уже собрались. Есть предложение открыть первую в истории Дальпромстроя комсомольскую конференцию. Возражений нет? Ну, тогда считаю конференцию открытой. Слово для предложения о составе президиума имеет товарищ Шапиро.
К столу расторопно подошел смуглый парень с большим, мясистым лицом; проглатывая концы слов, он стал быстро читать длинный список фамилий.
— Реже читай! — крикнул кто-то в зале. — Чай, не на пожар!
Список шел по алфавиту, и фамилии Каргополова и Касимовой были названы рядом.
— Вот и познакомишься! — шепнул Захар.
В зале все задвигалось, загомонило — члены президиума стали вылезать из тесных рядов. Захар следил за Иваном и Лелей, в душе желая, чтобы они сели рядом.
Каргополов, видимо, так и прицеливался, но его опередил старичок с розовым, как спелое яблоко, лицом и белой бородкой клинышком — инженер Саблин. Кончиками пальцев он поправлял усики и что-то смешное говорил Касимовой. Леля улыбалась, по-мальчишески одергивая свою юнгштурмовку.
С ревнивым вниманием Захар слушал доклад и рапорты лучших бригад. Бригада Григория Андрианова, «интернациональная», как ее называли (в ней были представители двадцати национальностей), предложила переименовать село Пермское в город Комсомольск. Это предложение вызвало бурю восторга, и потом каждая рапортующая бригада поддерживала его.
Рапортов было много, докладывали бригады все одинаково, так что постепенно интерес Захара стал притупляться. Но вот перед столом президиума выстроились братья Самородовы, Каргополов, Гурилев, щупленький веснушчатый Бонешкин — тот, что упал в воду с глыбой земли в первый день сплава, и еще человек пятнадцать. Все они загорели, как цыгане, почти у всех ноги были в разбитых сапогах с привязанными проволокой или веревкой подошвами. Рапортовал Алексей Самородов. Он сильно волновался и вместо «справились с заданием» прочитал «сплавились с заданием».
Захар сидел словно на иголках, переживая за своего бывшего бригадира. Ему казалось, что эффект от рапорта, несмотря на то, что результаты работы были едва ли не лучшими, не получился, но, когда сплавщики уходили на свои места, вся конференция провожала их шумными аплодисментами. У Захара заныло сердце: как хотелось быть среди товарищей!
После перерыва, во время которого Захар все-таки познакомил Ивана с Лелей Касимовой, началось обсуждение доклада. Одним из первых выступал Аниканов. Он читал свою речь звонко, бойко, эффектно, блистая ораторскими способностями.
— Что это — бюрократизм или вредительство, товарищи? — обращался он к конференции. — Я склонен полагать второе, а именно — вредительство! Против нас, товарищи, действует классовый враг, иного объяснения я не могу дать настоящему факту. Я примерно подсчитал, Иван Сергеевич, — по-свойски обратился он к Бутину, — что из-за недостатка пил и топоров не доделана треть работы на корчевке. Я сам наблюдал, как днепропетровцы резали хворост перочинными ножами!
Выступление Аниканова прерывалось гулом, аплодисментами. Захар тоже аплодировал ему, но у него было какое-то подсознательное чувство недоверия к Андрею. Почему раньше, в кавшколе, все люди казались понятными, почему раньше он никогда не терзался сомнениями?
К трибуне поднялся Ставорский. Ярко начищенный орден боевого Красного Знамени в ободочке из пунцовой материи, собранной бантиком, безукоризненно отглаженная гимнастерка, гладко зачесанные темные волосы — все подчеркивало парадность и делало его вид внушительным. Но Захара, хорошо знавшего характер Ставорского, поразило, как он неуверенно, даже робко, держался на трибуне, поразила бледность, разлившаяся по его лицу. Ставорский явно нервничал, и это было так необычно! Но вот Ставорский овладел собой и заговорил спокойным тоном. Его речь свелась к оправданию плохой работы конного парка: не хватает возчиков, телег, плохая сбруя, из-за чего возчики часто сбивают лошадям спины и холки, большая текучесть кадров из-за плохого заработка.
— Казалось бы, что в этих условиях, — продолжал он, — работающий у нас бригадиром комсомолец товарищ Жернаков должен был бы проявить чувство ответственности, работать по-большевистски. Но как он работает? С первого же дня перессорился со всеми, обвиняет всех во вредительстве. А что делает сам? А вот что: недавно поехал верхом на лесозавод и загнал коня. Так кто же, я спрашиваю, вредитель?
— Да-а, это уже преступление, за которое нужно судить, — сказал кто-то в президиуме.
— Я так и сделаю! — кивнул Ставорский.
До сих пор Захару и в голову не приходило, что Ставорский выступит на конференции, расскажет о Варяге. Ему даже казалось, что Ставорский сам не верит, будто он, Захар, загнал лошадь. Теперь в пору было провалиться сквозь землю со стыда перед бригадой, перед новочеркассцами, особенно перед Иваном Сидоренко, настоявшим на его переходе в конный парк. Захар проклинал себя в душе за то, что не потребовал вскрытия трупа Варяга в первый же день, и дал себе слово, что завтра непременно добьется этого.
Занятый своими мыслями, он плохо слушал Ставорского и не заметил того, что заметила почти вся конференция: демагогического духа критики всего и вся, о чем бы Ставорский ни говорил. Окончание его речи было встречено молчанием. С трибуны Ставорский уходил обескураженный, с растерянно бегающими глазами.
На время обеденного перерыва зал конференции снова превратился в столовую. Захар сел за один стол с Каргополовым, Лелей Касимовой и Гурилевым. Между Иваном и Лелей Касимовой завязывалась та особая дружба, которая бывает между парнем и девушкой, понимающими с полуслова друг друга даже при первом знакомстве. Иван весь светился радостью и умом и совсем забыл про Захара, откровенно влюбленными глазами глядя на Лелю.
Рядом обедал Аниканов. Его стол обслуживала Кланька Кузнецова, она уже больше месяца работала официанткой. Принося очередные блюда, она пыталась шепнуть Андрею что-то на ухо, но он недовольно отстранялся от нее и краснел. Ребята, сидевшие с ним за столом, гоготали и, когда Кланька уходила, отпускали остроты в его адрес. Кончилось все тем, что Аниканов сбежал из столовой раньше всех.
После обеда все ринулись к Амуру, манившему своей студеной гладью, ослепительно сверкающей под знойным солнцем. Ребята горланили, бултыхались, брызгали друг на друга с резвостью и беззаботностью детей. И в самом деле, давно ли были они детьми, давно ли покинули отчий дом и материнское тепло?
После перерыва выступил Бутин. Он обращался к делегатам конференции не как оратор, а как собеседник, говорил негромко, без внешних эффектов:
— Мы все с вами порадовались первым победам. В самом деле, как же не радоваться: прошло только пятьдесят дней, как вы, посланцы Ленинского комсомола, взялись за топоры и вступили в единоборство с вековой тайгой. Не нужно никаких цифр для доказательства того, что тайга отступает: из дверей этой столовой все и так видно. Часть строительной площадки уже готова, дорога проложена, почти закончено строительство лесозавода. Героическими усилиями бригады сплавщиков доставлен в озеро весь лес, заготовленный на берегах речки Силинки. А давайте помножим пятьдесят дней на десять, получится сколько?
— Пятьсот! — вразнобой ответило из зала несколько голосов.
— Почти полтора года! — подсказал кто-то.
— Правильно, пятьсот дней будет, или немногим меньше, чем полтора года, — подтвердил Бутин. — Срок не очень большой. Ну, а теперь давайте помножим на десять весь результат нашей работы да прибавим еще столько же за счет того, что к нам прибудет еще много людей, придет на помощь техника, начнут работать лесозавод, кирпичный завод, временная электростанция. Что получится? Получится, товарищи, то, чего мы с вами все так страстно желаем: возникнет город, а стало быть, будет великолепное жилье. Поэтому правильно, что вы уже сейчас подумали о том, как назвать свой город. Именно Комсомольском назовем его. Пусть он стоит века и прославляет ваш трудовой подвиг, дорогие мои друзья! Пусть он в веках прославляет большую, замечательную семью юных ленинцев — комсомол!
Бутин помолчал немного, потом заговорил тише:
— Тут, товарищи, почти никто не сказал о трудностях, никто не жаловался на плохое питание, на отсутствие обуви, жилья, на плохое медицинское обслуживание. Ну что ж, это, пожалуй, правильно: здесь собрались самые стойкие, те, кто не любит ныть и не любит нытиков. Ну, а давайте честно скажем: разве вам легко? Разве не сосет под ложечкой, когда после жидкой похлебки покорчуешь день-деньской тайгу? Разве не смотрите вы с горечью на свои разбитые ботинки и не спрашиваете себя с тревогой: сколько они еще проносятся?
Зал загудел. Послышался смех, кто-то захлопал в ладоши.
— Правильно! Верно, товарищ Бутин!
— Так вот!.. Как вы думаете, если бы было у нас сейчас все необходимое, чтобы одеть и обуть вас, досыта накормить, вооружить техникой, которая бы облегчила труд, как вы думаете, — разве все это мы не дали бы вам?
В зале — мертвая тишина. Чей-то одинокий голос:
— Хотя бы пил и топоров вволю!..
— Дали бы, товарищи! Честное партийное слово, дали бы! — повысил голос Бутин. — Но вся беда в том, что всего этого у нас пока нет или есть очень мало, на всех не хватает. Мы же очень бедные еще, товарищи! Придет время, когда на бесконечных просторах Сибири и Дальнего Востока будут возникать вот такие же новые города. Попомните мое слово: дети ли ваши или братья будут возводить их, но как хорошо тогда они будут обеспечены в материальном отношении! Сквозь время скажем им, товарищи, пусть они потом работают лучше нас! У них будет все: и одежда, и обувь, и хорошее питание, а главное — могучая техника в руках. И пусть они попробуют хуже нас работать! — угрожающе воскликнул он. — Но сейчас мы не о них говорим, а о себе. Много у нас трудностей. Иной раз, это факт, классовый враг использует наши действительные трудности и вокруг них искусственно создает дополнительные. Где и как он это делает, не всегда удается в точности разобраться. Но то, что он делает, — это несомненный факт. Так давайте же все вместе смотреть в оба. Это называется бдительностью. Будем же бдительными, товарищи! — И Бутин ахнул своим крепко сжатым, темным, как кувалда, кулаком.
В зале послышались сначала редкие хлопки, потом длительные аплодисменты.
— И последнее, на чем я хотел остановиться, товарищи, — продолжил Бутин. — Тут собрались самые стойкие комсомольцы, самые преданные нашему революционному делу. Но у нас на строительстве не все такие. Есть люди, которые приехали в поисках приключений, за «длинным рублем» или за легкой жизнью. Но посмотрели на тайгу, столкнулись с трудностями и закрутили носами — не нравится. Одни хоть хнычут, но еще кое-как работают, а другие бросают работу и бегут. Мы запретили брать таких людей на пароходы. Это мера, конечно, крайняя, но посмотрите, что получается, если не применить ее. Вот вы работаете изо всех сил, не жалеете труда. Таких большинство. А эти приехали сюда за государственный счет и теперь, не расплатившись с государством, хотят бежать. Поэтому мы должны им категорически сказать: не выйдет, возместите сначала убыток, в который вы ввели свой народ. Трудом возместите. А потом можете убираться.
Бутин отпил глоток воды, поставил стакан и продолжал:
— Но возместить убытки — одна половина дела. Другая половина — воспитать этих людей, пробудить у них комсомольское сознание. И делать это нужно вам самим. Видите, малодушничает товарищ, поговорите с ним, воздействуйте на него всей бригадой, позаботьтесь о нем. Не оставайтесь равнодушными к такому человеку! Почему? Да потому, что он с вами в одном строю. Идете вы в наступление на врага и надеетесь, что ряд ваш прочный, а вдруг — брешь, один сбежал. Что это значит? То, что ваш строй ослаб, у вас потери. Так вот, товарищи, нужно заботиться, чтобы не было потерь.
В каком-то тревожном оцепенении слушал Захар эту речь. В душе его перемешались светлая радость с тяжелой горечью. Он чувствовал себя способным на подвиг, а предстал перед конференцией как предатель, которого следует судить за тяжелый проступок.
Подавленный душевным разладом, Захар плохо воспринимал все, что происходило на конференции. Он встрепенулся только тогда, когда в торжественной тишине Панкратов стал читать проект постановления конференции о переименовании села Пермского в город Комсомольск.
И снова Захару стало не по себе: среди леса рук, поднявшихся в поддержку этого постановления, не было его руки. Он не имел права голосовать, потому что не являлся делегатом. Осунувшийся, мрачный, сидел он, наблюдая за выборами. С завистью он слышал, как были названы среди прочих фамилии: Каргополов, Касимова, Аниканов.
…А вечером возле столовой стихийно возникло гулянье. И тут Захар был в одиночестве: Каргополов ушел с Лелей Касимовой, а больше у него не было друга, с которым бы он мог обо всем поговорить. Постоял возле гармониста, поглядел, как плясуны по очереди лихо, с присвистом отбивали «Барыню», и зашагал к леднику.
Сумерки начинали густеть, повиснув синей пеленой над черной лесной ратью, над спокойным простором Амура; на западе увядала вечерняя заря, там замигала первая яркая звездочка. Но за правобережной грядой сопок уже повис темный полог наступающей ночи, густо расшитый серебряными бусинками звезд. Спокойствие и умиротворенность, разлившиеся в природе, постепенно передались и Захару.
Сначала он не обратил внимания на торопливые шаги — его нагоняли Кланька и Любаша, обе разнаряженные, надушенные дешевым одеколоном.
— Здравствуй, Захар! — окликнула его Кланька нараспев и кокетливо протянула руку. — Ты чего же? Все пляшут да гуляют, а ты… Аль совсем стариком стал?
Но Захар не слушал ее — он весь радостно просиял, завидя Любашу.
— Скучно стало что-то, решил идти спать, — оправдывался он.
— А ты Андрея не видал? — заговорщически спросила Кланька.
— Нет, не видел.
— Тогда я побегу, мне нужно найтить его, — заторопилась Кланька.
Любаша с улыбкой посмотрела ей вслед.
— Это она нарочно, Захар. Ну и хитрющая же!..
— И очень хорошо! — улыбнулся Захар. — Я думал сходить к вам, но не хотелось встречаться с отцом и Ставорским.
— Это все из-за лошади?
— А ты тоже знаешь об этом?
— Папаша рассказывал. Он говорит, что вы не виноваты: лошадь, должно, съела ядовитую траву.
— Да? Вон ка-ак… — Захар просветлел. — Спасибо, Любаша, что сказала мне это. Какой я дурак, сразу не сделал как нужно! Ну ничего!.. Любаша, пойдем к Амуру, а?
Крепко взявшись за руки, они съехали по сыпучему глинистому откосу и так, не разнимая рук, добежали до воды.
— Хорошо как! — воскликнул Захар, подставляя лицо прохладе. — У меня будто гора с плеч свалилась.
— И я тоже рада, Захар, что мы встретились. Они долго бродили вдоль берега, держась за руки.
— Давайте сядем в эту лодку, — предложила Любаша.
Вдвоем они уместились на корме. Любаша поправила косы и, повернув лицо к Захару, сказала:
— Я хочу сказать вам кое-что… Нет, сначала спрошу… У вас осталась девушка там, откуда вы приехали?
— Да, осталась.
— Вы ее любите?
— Да, люблю.
Любаша помолчала, потом тряхнула головой. Подумав, тихо сказала:
— Вот за это вы молодец. Правду умеете говорить. А теперь по секрету вам скажу, Захар. Только никому не передадите?
— Даю честное комсомольское слово, никому!
— Вот что. Клаве рассказал Андрей об этом. Они все время встречаются. Так Кланька и говорит мне: «Давай отобьем Захара у той девушки!» Вы мне очень нравитесь, Захар. Но это нечестно — встречаться нам, правда?
— Вы мне тоже нравитесь, Любаша. — Захар помолчал. — Наверно, нравитесь потому, что немного напоминаете Настеньку. А встречаться… Что ж, встречаться, наверное, не следует… А то, чего доброго, влюблюсь так, что Настеньку забуду… Будем просто товарищами, хорошо?
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Спустя два дня, под вечер, Ставорский вызвал Захара к себе. В кабинете кроме начальника был еще один человек — широколобый, в военной форме без петлиц. На столе перед ним лежал огромный желтый портфель из свиной кожи.
— Вот это и есть бригадир Жернаков, — кивнул на Захара Ставорский.
— Садитесь. — Тяжелым, холодным взглядом широколобый уставился на Захара. — Я следователь районной прокуратуры. Должен допросить вас. Товарища Ставорского прошу оставить нас, но из здания не отлучаться. — С этими словами он громко щелкнул замком портфеля, вытащил папку с бумагами.
Побледневший Захар сидел не шевелясь. Допрос начался с уточнения биографических данных.
— А теперь объясните, по чьему указанию и при каких обстоятельствах вы совершили преступление? Заранее хочу предупредить: признавайтесь чистосердечно, это зачтется вам при определении меры наказания.
Выслушав и записав показания, он решительно стукнул карандашом по столу, спросил надтреснутым голосом:
— Таким образом, вы отрицаете, что это диверсия и что лошадь была загнана преднамеренно?
— Да, я отрицаю, — твердо сказал Захар. Рассказывая о поездке на лесозавод, он успокоился, взял себя в руки. — Я требую вскрытия трупа.
— Вы думаете, это спасет вас?
— Уверен.
— Ну так вот, Жернаков, я никакой не следователь — это просто шутка. Попугал тебя маленько, думаю: посмотрю, как будешь себя вести? Я ветврач. Сегодня вскрывал труп, и вот достоверная причина гибели лошади: загнана. Пожалуйста, познакомься с актом.
Огорошенный столь неожиданным оборотом, Захар впился глазами в лист бумаги. Да, сомнений не оставалось: перед ним был акт, подписанный ветврачом Турбаевым, Ставорским и свидетелем Рогульником.
— А почему меня не вызвали, когда вскрывали?
— Ты что, ветеринар?
— Рогульник и Ставорский тоже не ветеринары.
— Ставорский присутствовал как начальник конного парка, а Рогульник — как свидетель. Ну, так что будем делать?
Захар не отвечал, нервно теребя буденовку.
— Я говорю, что будем делать? — повторил Турбаев, уставившись в лицо Захара.
Захар молчал, только на щеках двигались желваки.
— Ну, чего же ты молчишь?
— А что я могу ответить? — Захар поднял глаза. — Не знаю, что мне теперь и делать…
— Судить придется. Но вот, я думаю, как бы это дело замять? Человек ты молодой, и жалко, если в такие годы упрячут лет на десять. Как же это ты так неосторожно, а? А еще в кавалерии служил. Даже ума не приложу, как тебя спасти. Может, откупишься как-нибудь, а?
— Как это?
— Вот я и думаю: как? Можно бы следователю сунуть взятку, чтобы он прикрыл дело, но, кто его знает, не будет ли хуже? Или мне акт подделать: написать, скажем, что лошадь, мол, съела ядовитую траву, а?
Захар молчал.
— Если говорить обо мне, — продолжал Турбаев, не дождавшись ответа, — то я дорого с тебя не возьму. Мне до зарезу нужен комплект новой сбруи — хомут, чересседельник и хорошие ременные вожжи. Держу разъездную лошадь, а сбруя — срам, истрепалась до того, что стыдно надевать, вся из веревок. Может, организуешь один комплект, а?
— Организовать?.. — Захар с недоумением глядел на ветеринара.
— Ты, Жернаков, не прикидывайся! Как стемнеет, возьмешь мешок, пойдешь в амуничник, подберешь что поновее и принесешь мне на квартиру. И мы будем с тобой квиты.
— Украсть?! — Захар в испуге привстал.
— Зачем так вульгарно — «украсть»? Просто взять. Есть такое выражение: «Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка».
— Я лучше вам деньгами заплачу, — краснея, предложил Захар, — а вы на них купите…
Кажется, никогда в жизни ему не было так противно, до омерзения, до тошноты противно, как сейчас. Захар не верил в то, что конь загнан, и подозревал ветеринара в преднамеренной подделке акта.
— Чудак ты человек! — как ни в чем не бывало воскликнул Турбаев. — Если бы продавали, думаешь, я бы не купил? В том-то все и дело, что нигде не продают. Скоро дело дойдет до того, что не только сбрую крестьянскую негде будет достать, а и чашки-ложки придется самим делать, как в старину.
— А у нас на Дону и сейчас их делают сами, а сбрую у нас продают.
— Продавали. Теперь и на Дону не продают. Кони-то дома есть?
— Было два коня, в колхоз сдали.
— Силой, наверно, загоняли в колхоз?
— Да нет, дед сам записался. Сын деда, дядя мой, организовывал колхоз.
— Голодают, поди?
— Да нет вроде бы.
— Конечно, раз сам организовал колхоз, так он голодать не будет.
Лицо Захара стало хмурым.
— У меня дядя не такой…
— Все мы не такие, пока нужда не подопрет. Я бы, думаешь, просил тебя, если б не нужда?
Захар промолчал, хотя ему очень хотелось начать спор. Но спорить было опасно.
— Ну давай, давай думай, — твердил между тем Турбаев. — Дело твое не терпит. Либо надо ему ход давать, либо прикрывать.
— Нет, на это я не могу пойти. Я же комсомолец!
— Велика важность — комсомолец! Будто комсомольцы не воруют. Вон даже карманники есть.
— Возможно, но это уже не комсомольцы. Они только по списку значатся комсомольцами, а в душе это не наши люди.
— Ну, а ты-то комсомолец?
— Да.
— А лошадь загнал. Это что же, разрешается, значит, комсомольским Уставом?
— Я все-таки не верю, что загнал.
— Ты что же, акту не веришь? — Турбаев потряс в воздухе листком бумаги.
— Я думаю, что вы ошиблись.
— А это, между прочим, никакого значения для следственных органов не имеет, что именно ты думаешь. Верят не слову, а документу, понятно? — Лицо ветеринара стало озабоченным. — Ну что ж, раз ты сам не хочешь за себя бороться, то мне и вовсе нет дела до твоей судьбы. Значит, завтра передам материал следственным органам… Подумай до завтра.
Широколобый постучал кулаком в стену и, когда в кабинет вошел Ставорский, сказал:
— Вот, не признает своей вины. Даже акту не верит.
— Так ты что же, Жернаков, считаешь нас фальсификаторами? — спросил Ставорский, злобно посмотрев в лицо Захара.
— Нет, не считаю, Харитон Иванович, — ответил Захар, не поднимая глаз от пола, — но думаю, что тут произошла ошибка. По сто километров делали переходы в кавшколе за сутки, да не в такую жару, и то ни одной лошади не загоняли…
— Дурак! — Ставорский усмехнулся. — Не понимаешь, что кавалерийские лошади втянуты, а этот только недавно стал ходить под седлом. В общем, разговаривать нам больше не о чем. Иди пиши объяснение, завтра будем передавать дело следственным органам.
Захар уже переступил порог, когда услышал голос ветеринара:
— Да продумай все как следует…
Оставшись вдвоем, Ставорский и широколобый некоторое время молчали. Потом Ставорский вышел из кабинета, постоял в коридорчике, прислушиваясь, и вернулся к себе.
— Ну что, сорвалось? — приглушенно спросил он широколобого.
— Какого черта ты с ним связался? — в свою очередь, спросил тот. — Надо же все-таки думать, когда подбираешь людей!
Ставорский опустил голову.
— Потому и выбрал, что думал: его легко будет взять. Молодой, бесхребетный, удастся обломать… А он… Ах, стервец! Мне нужен именно комсомолец, до зарезу нужен такой человек, Ираклий Григорьевич. Можно было бы постепенно проталкивать его вперед, в партийные органы. У меня же еще нет ни одного комсомольца.
— А из тех, кто у тебя есть, никого нельзя протолкнуть в комсомол?
— Есть двое. Один — цыганенок, из тюрьмы сбежал, другой — тоже беглый, из кулаков, вот тот, который свидетелем записан в акте. С цыганенком я говорил. Покажет себя в работе, напишу о нем в газету, и, думаю, можно будет проталкивать. Хороший артист, далеко пойдет! А Рогульник, пожалуй, не годится: туп и слишком зол. Но для террора и поджогов подойдет вполне.
— Где ты их добыл?
— Карнаухов с собой привел. Кстати, что это за «Приморские лесные стрелки»?
— Довольно сильная организация. Ты помнишь полковника Яурова?
— Хорошо помню, беглых уссурийских кулаков все собирал по Маньчжурии.
— Вот он и руководит ими теперь. Иногда посылает через границу небольшие группы для рейда по селам.
— Хитер же этот казачий урядник! — усмехнулся Ставорский. — Ничего не сказал о том, кто руководит «стрелками».
— Карнаухов-то? Это, брат, старая лиса. Он склады охраняет?
— Продовольственные.
— Хорошо! — Широколобый задумался, потом спросил: — Как же все-таки решим с Жернаковым?
— Надо Принудить его к воровству, — сказал Ставорский. — И чтобы поймали его именно Пригницын и Рогульник. Они начнут бить, а тут появлюсь я как спаситель. Двух таких зацепок — акт и воровство — будет достаточно, чтобы Жернаков сдался.
— Не пойдет он на это! — возразил широколобый. — Игра плохо кончится. Он будет нам мешать, тем более что, ты же сам говоришь, он подозревает Рогульника. Убежден, что мы ничего с ним не сделаем, только лишний риск. Завтра же уволь его.
Он прошелся по кабинету, постоял у окна, потом вполголоса спросил:
— Как с этим… ну, с твоим хозяином?
Ставорский безнадежно махнул рукой.
— Ничего не выходит, Ираклий Григорьевич. Уж я ему чего только не обещал — непреклонен. «Не невольте, — говорит, — все равно не буду заниматься вашими делами…»
— А он не выдаст тебя?
— Нет, этот тверд как камень. А потом, я же ему понемногу приплачиваю, он принимает.
— Так что же, выходит, что ты у него в руках? — с мрачным удивлением спросил широколобый.
— Не-ет, — самодовольно усмехнулся Ставорский, — он у меня больше в руках! Я скрыл кое-какие грешки, за которые он может пойти под суд. Он это знает, то есть то, что я их скрыл, и будет помалкивать до гробовой доски. И потом, он же всей душой на нашей стороне, только не хочет брать на себя никаких обязательств.
— А может быть, мне поговорить с ним сегодня?
— Бесполезно, Ираклий Григорьевич. Как бы хуже не было. Каждая попытка разговаривать с ним на этот счет приводит его в раздражение.
— Нет, мне необходимо проверить его, — властно сказал широколобый. — Один на один. Я должен знать этого человека. Сегодня вызовешь его ко мне и оставишь нас вдвоем. Попробую спровоцировать. Ему скажешь, что уполномоченный райкома вызывает.
— Смотрите, чтобы хуже не было, Ираклий Григорьевич…
…После окончания рабочего дня Ставорский привел Никандра. Тот ввалился в тесную комнату, сел без приглашения на табурет, снял засаленный картуз, пригладил рыжие волосинки.
Ставорский тотчас же вышел.
Широколобый с минуту изучал плотную, как коряга, фигуру Никандра, потом медленно заговорил:
— Я прибыл по поручению райкома партии для расследования дел на стройке, а заодно уточнить кое-что из вашей биографии.
— А что ее уточнять, — с кривой усмешкой сказал Никандр, по-прежнему не глядя на собеседника, — она и так давно известная у вас. Поди, десятый год все таскают меня.
— С какого по какое число вы служили у Колчака в девятнадцатом году?
— По мобилизации, с мая по конец декабря.
— Вот тут у меня имеются данные, что вы принимали участие в расстреле партизанского командира товарища Шерого в селе Вознесенском. Объясните, как это было.
— А я не принимал участия в расстреле, офицеры его расстреляли, — с независимым видом отвечал Никандр, пуская струю дыма в сторону двери. — У любого спросите в Вознесенском, я тогда лежал там больной у свояка.
— Хорошо, уточним. — Широколобый сделал пометку в большом блокноте, лежавшем перед ним. — А теперь скажите, где сейчас ваш брат — бывший колчаковский офицер, и когда вы в последний раз получали от него письма?
— Писем я никогда не получал от него и знать не знаю, где он. Как сбежал в двадцать втором году, после Волочаевки, так и досель слыхом не слыхивали про него. Должно, где-нибудь убили, а не то в Харбин убежал со своими дружками. А потом же, какой он, к лешему, офицер — неграмотный?
Независимость, с которой держался Никандр, начинала бесить широколобого. Задав еще несколько вопросов и получив такие же ответы, он перевел разговор на другую тему.
— У нас есть некоторые данные, говорящие о том, что Ставорский не наш человек и что вы кое в чем поддерживаете его. Расскажите, что вы знаете о Ставорском.
— А что я могу о нем знать? — Никандр кабаньими глазками посмотрел на широколобого. — Привез я его из Хабаровска, он поселился у меня, вот и живет. Откуда мне знать, что у него на уме? Он начальник, я конюх.
— Мы готовим арест Ставорского, как вредителя, — тихо сказал широколобый. — Вы ничего не замечали за ним? Смотрите, если окажется, что вы хоть что-нибудь скрываете, вас привлекут к ответственности как соучастника. Тогда пеняйте на себя — десять лет заключения обеспечено!
Никандр погасил самокрутку о подошву ичига.
— Вот что я вам скажу, гражданин следователь… Вы меня в эти дела не путайте. Я человек простой, из крестьян, и не желаю соваться в ваши дела. Живу я своим трудом и так буду жить, пока живется. А какой там Ставорский или кто другой, меня не касается. Дозвольте мне уйти. Уж вечер, скотину надо убирать.
С этими словами Никандр грузно поднялся, надел картуз с явным намерением уйти. Широколобый посмотрел в его кирпично-красное лицо, в беспокойно бегающие глаза, стукнул карандашом по столу.
— Ладно, идите, — сказал он наконец. — Но нам предстоит еще один разговор. О том, что мы тут говорили, никому ни слова.
— Это я знаю, — ответил Никандр, нахлобучивая поглубже картуз и направляясь к двери. — Не впервой. Прощевайте.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Захар вышел из кабинета Ставорского обескураженный, потрясенный.
Как-то незаметно он очутился на берегу Амура. Неподалеку чадил густым дымом нарядный пароход, по его зыбким сходням взад-вперед бегали люди.
«Пойти вот сейчас, сесть и уехать», — подумал Захар, и у него посветлело на душе.
«А почему бы не так? Уехать домой, в станицу, и больше никогда не отрываться от родного куреня». Ему казалось, что всё здесь против него, что всюду его подстерегают каверзы и опасности. Он устал, душа его жаждала покоя, ему хотелось вот сейчас, сию минуту очутиться под родной крышей и вволю, всласть отдохнуть, забыться.
Его внимание привлекла сцена, происходившая на сходнях. Несколько матросов выталкивали с парохода коренастого парня в несуразно длинном, с чужого плеча, пальто и клетчатой кепчонке с огромным козырьком.
— Пропуск давай, без пропуска не поедешь! — кричали ему. — Может, ты магазин обворовал, а теперь сбежать хочешь?
Парень ругался, лез назад, но на него навалились сразу несколько человек. Очутившись на земле, парень снял кепку и вытер пот с лысеющей острой макушки. Пароход, дав три гудка, стал отходить. Шлепая плицами по воде, он двинулся против течения, в сторону Хабаровска. А парень шел по берегу вслед пароходу, грозил кулаком и с ожесточением бранился. Его длинное угреватое лицо раскраснелось, подпухшие глаза налились кровью.
Захару стало жаль парня, он дружелюбно спросил:
— Уехать хотел?
— Ну да!.. Кореш уехал, все пожитки увез. А ты тоже прицеливался? — спросил парень, окидывая Захара взглядом.
— Нет, но такую думку держу.
— Слушай, давай вместе на лодке, а? Я тут разузнал, как по Амуру добраться до Хабаровска. Сам откуда? А я из Одессы — Семен Головаха… Ну что, рванули?
Захар минуту колебался — ведь такой удобный случай! На пароход бесполезно рассчитывать — нужен пропуск. А это — верное дело.
— Согласен, — сказал он, опасливо оглянувшись по сторонам. — Давай обмозгуем, как лучше сделать.
Решившись на что-либо, Захар потом весь отдавался этому делу. Вот и сейчас: он сразу стал собранным, лицо сделалось решительным, движения уверенными.
Они разработали план действий, распределили обязанности: Головаха покупает продукты, Захар — весла и ведро для варки пищи. Сбор — в полночь.
Ночь выдалась темная, беззвездная. Дул слабый низовой ветер, легонько плескались волны.
— Сталкивай, — приглушенно скомандовал Головаха, налегая на весла.
Лодка шаркнула по камням и грузно закачалась на волнах. Захар прыгнул в нее, пробрался в корму к рулевому веслу. Сердце у него замерло — в любую минуту их могли окликнуть, вернуть. Оба молчали, вслушиваясь в звуки ночи. Но один только шелест волн слышался кругом.
Они пересекли Амур, чтобы потом подняться вверх под прикрытием безлюдного лесистого берега, и пристали к каменистому мысу. Там передохнули, съели по банке рыбных консервов и по куску хлеба.
— Слушай, где ты добыл столько продуктов? — спросил Захар, ощупав большой мешок.
Головаха усмехнулся:
— Купил-нашел, насилу ушел.
— Украл?
— А ты думаешь, подарили?
— Когда же ты успел?
— А это еще раньше. Припрятано было на всякий случай.
Захару стало тоскливо от этих слов. Не ошибся ли он, связав свою судьбу с Головахой? Это же вор! Но делать нечего, назад возврата нет. И разве он сам не обманул Любашу, попросив весла и ведро на часок? А своих земляков, когда сказал, что уезжает на сплав? Чувство гадливости к себе охватывало Захара, но он старался заглушить совесть и думать о том, как скорее добраться до Хабаровска.
— Ну, двинули! — скомандовал Головаха.
Лодка медленно, с трудом шла против течения у самого берега. Но когда забрезжил рассвет, беглецы были уже километрах в десяти выше Пермского.
Впереди, за утесом, показалось какое-то село. Пришлось снова пересекать Амур, чтобы укрыться на день в тальниках левого берега.
После бессонной, полной тревог ночи, многочасовой непрерывной гребли, шума волн в кромешной тьме тихая протока с недвижной глянцевитой водой, озаренная розовыми лучами солнца, показалась райским уголком. Они облегченно вздохнули, когда лодка спокойно пошла по невозмутимой глади протоки; изумрудная зелень тальника отражалась в воде, и весь воздух кругом, казалась, был пронизан зеленым светом.
Захар спрыгнул на песок, взбежал на обрывистый берег. Захватывающее чувство приволья овладело им. Кругом лежали необъятные, залитые солнцем просторы лугов. В воздухе переливчато звенели трели жаворонков, где-то неподалеку в зелени тальника щелкал дрозд, на озере гортанно покрикивала цапля, под обрывами, где над водой шатром нависали тальники, плескалась рыба.
— Хорошо-то как! — Захар полной грудью вдохнул пахнущий травами воздух.
— Ты там не торчи, — грубо окликнул его Головаха, — могут засечь…
Захар подошел к костру, Головаха недобрым взглядом окинул его и сказал:
— Вот что, кореш, давай сразу договоримся, по-честному, — не продавать! Понял? Будешь легавить — учти: я в этих делах беспощадный! — и приоткрыл полу куртки. На поясе у него висел нож-финка в позолоченных ножнах.
— А на черта мне это нужно? — Захар исподлобья взглянул на Головаху. — И финку больше не показывай, я не трус.
— Да ты не обижайся, кореш, — заулыбался Головаха, — это я так, чтоб наперед договориться.
Захар не ответил. На душе у него стало горько. Но делать нечего — назад пути нет.
После завтрака они завалились спать.
Захар проснулся за полдень, когда солнце стало нестерпимо припекать. Головахи не оказалось рядом, он бродил возле воды с ружьем, высматривая рыбу.
— Ну что, двинем? — спросил Захар.
— Пожалуй, — отозвался Головаха.
Захар сел на гребные весла, Головаха — за руль. Через час протока вывела к Амуру.
Их никто не задержал до наступления темноты, даже не встретилось ни одного судна или лодки.
К исходу третьих суток они уже были в ста километрах от Пермского — в устье Серебряной протоки, соединяющей озеро Болонь с Амуром. За это время они о многом переговорили. Захар все больше узнавал Головаху и все больше опасался за свою судьбу. Перед ним был настоящий бандит, вор-рецидивист. С пятнадцати лет Головаха занимался воровством и грабежами — об этом он сам поведал Захару. На его совести было два убийства, четыре побега из мест заключения. В Пермское он приезжал по чужим документам, чтобы скрыться от преследования уголовного розыска.
— А за гро́ши не думай, — весело подмигивая, говорил он Захару, — меня в Хабаровске кореш ждет. Втроем мы как-нибудь справимся с магазином.
Если бы Головаха не говорил этого, может, все так и шло бы своим чередом. Захар мирился даже с тем, что Головаха почти не греб, а если греб, то лениво, неумело и уже на второй день натер кровяные мозоли. Но теперь сам побег открылся Захару совсем в ином свете. Он стал опасаться, что Головаха пристукнет его где-нибудь на подступах к Хабаровску, когда исчезнет необходимость в гребце. Захар заметил, что Головаха почти не выпускает из рук его «фроловку», а когда расстается с ней, то вынимает затвор и прячет за пазуху. Он стал следить за каждым движением Головахи. И только тогда Захар приметил, что Головаха тоже следит за ним.
Для ночлега они облюбовали старицу протоки в левобережье Амура, загнали лодку в самый угол залива, где в него впадал говорливый ручей, и под кустом на песке увидели шалаш. Внутри шалаша было постелено сено. Утиные перья и обглоданные птичьи кости указывали на то, что здесь был приют охотников.
— Красота-то какая, а! — воскликнул Захар, заглянув в шалаш. — Слушай, Головаха, давай здесь устроим дневку, поохотимся на уток, они наверняка где-нибудь тут рядом гнездятся.
Некоторое время Головаха колебался.
— Отдохнем, отоспимся вволю, — продолжал Захар. — В самом деле, куда нам торопиться?
— Ладно, — согласился наконец Головаха. — Только на охоту пойдем вдвоем.
— Ну, конечно, вдвоем! — воскликнул Захар. — Ты хорошо стреляешь?
— Слушай, ружье я тебе все равно не дам! — Головаха угрюмо поглядел на Захара.
— Ну и дурак! — усмехнулся Захар. — Ты что же, думаешь, в тебя стрелять буду?
— А кто тебя знает…
— Ты эти думки бросай, Головаха. Делить нам с тобой нечего. Раз связались одной веревочкой, так уж давай тянуть до конца. Договорились?
Головаха протянул Захару сухую ладонь.
— Дай пять, кореш. Я стал почему-то опасаться тебя — не легавый ли, думаю?..
Как и всякий вор, Головаха был столько, же трусоват, сколь и жесток; он боялся Захара, но боялся и одиночества среди этой дикой природы. После объяснения он повеселел, ободрился и уже не зыркал глазами в сторону Захара.
А кругом был великий покой. Ни единый листок не колыхался на деревьях, в высоком небе неподвижно застыли редкие облака, лиловая дымка повисла в воздухе над бескрайним привольем лугов. Казалось, сама эта дымка исторгает бекасиный перезвон.
Поужинали затемно.
— Ну что, у костра или в шалаше будем спать? — спросил Захар.
— Я у костра, — ответил Головаха. — Только постелить травы нужно.
— Я тоже тут, потеплее будет.
Укрывшись пальто и, как всегда, зажав между коленями Захарово ружье, Головаха скоро успокоился.
Захар лег так, чтобы до приклада, можно было дотянуться рукой. Время от времени он ворочался, умащиваясь, и незаметно поглядывал на Головаху.
Давно уже погас костер, а Захар все прислушивался, ловил каждый шорох. Головаха спал беспокойно: он то и дело ворочался, вздыхал. Но вот стал дышать ровнее, наконец захрапел.
Захар в мыслях давно уже разработал план. Он решил дождаться зари, когда Головаха крепче уснет.
Летняя ночь коротка, но Захару она показалась вечностью. Он весь истомился, болел бок, на котором он лежал, не шевелясь, в удобной для броска позе. О чем только не передумал он за это время! Иногда им овладевал страх, в сознание прокрадывалась предательская мысль отказаться от своей затеи. Но нет, он и так зашел слишком далеко в своих неблаговидных делах. Если сейчас не изменить всего самым решительным образом, то потом будет слишком поздно.
К утру все тело Захара расслабло, отяжелело, глаза сомкнулись, и он не заметил, как уснул.
…И снится Захару дом с лабиринтом коридоров и комнат. Где-то в этом доме Настенька. Захар это знает, но никак не может найти ее. Ему указывают в глубь коридора, но там все новые комнаты, а Настеньки нигде нет. Он в отчаянии, он хочет видеть Настеньку и идет, идет куда-то в мрачную даль лабиринта. Откуда-то появляется Каргополов. Но почему он в шинели и буденовке? «А я теперь на твоем месте, в кавшколе», — говорит он. «А я Настеньку ищу, где она?» — «Да вон, видишь?» Захар приближается к ней по воздуху. «Так это же Любаша!» — «Ты ошибаешься, я Настенька, — говорит Любаша, — это только Любашино лицо и косы, а сама я Настенька».
Раздался всплеск воды, все куда-то исчезло. Захар с облегчением открыл глаза и тут же зажмурился: солнце уже поднялось из-за сопок, лучи его били прямо в лицо.
Неподалеку бултыхался в реке Головаха. Вот он поплыл, удаляясь от берега. Мысль пришла моментально — лучшего случая не дождаться! Где ружье? Ага, вон оно, на одежде! И затвор не вынут: видно, подействовал вчерашний разговор.
Дождавшись, когда Головаха отплыл подальше, Захар встал, спокойно подошел к берегу и так же спокойно взял любимую «фроловку». Открыл затвор. В магазине и казеннике все четыре патрона.
Увидев Захара с ружьем в руках, Головаха медленно двинулся к берегу.
— Зачем взял ружье?
— Затем, что оно мое.
— Да я ничего, я просто так, — зачастил Головаха, заискивающе улыбаясь. — Я же хотел сегодня отдать его тебе.
— Раз хотел, тогда нечего спрашивать. Вылезай и одевайся.
Захар взял ружье на изготовку.
— Слушай, кореш, ты чего это?
— А того, что ты собирайся побыстрее да садись на весла.
— Ну что ж, на весла так на весла, — покорно согласился Головаха. — Может, пошамаем?
— В дороге «пошамаешь». Завтра к обеду чтоб пригнал мне лодку до стройки.
— Продаешь?
— Ты меня не купил! Побыстрее поворачивайся.
Захар еще никогда в жизни не испытывал такого прилива злости и решимости, как сейчас. Перед ним был коварный враг, за каждым его движением теперь надо зорко следить; может, придется не спать сутки, двое суток. Но это не пугало и не беспокоило его, он уже рассчитал наперед каждый свой шаг.
— Где финка? — спросил он Головаху. — Вынь и брось вот сюда, к костру.
Дрожащими руками тот вынул нож из кармана, кинул под ноги Захара. Захар отбросил его ногой подальше, отступил туда, держа ружье на изготовку, и только тогда нагнулся, поднял и спрятал финку в карман. По его команде Головаха собрал пожитки и отнес в лодку, отлил воду, потом развернул лодку кормой к берегу, а сам уселся на весла. Захар сел на корму, все так же держа ружье.
— Запомни, — спокойно сказал Захар, — при первой же попытке поднять весло или опрокинуть лодку получишь заряд без предупреждения.
— Не буду, кореш, только не стреляй, — расслабленно произнес Головаха. Воля Захара превратила его в жалкую тряпку.
— Держи не дальше десяти метров от берега, — приказал Захар.
Течение быстро несло лодку. К вечеру они прошли больше половины пути до стройки. Ночлег Захар выбрал на открытом песчаном берегу. По его приказанию Головаха натаскал кучу сушняка, разжег костер. Дождавшись, когда Головаха поужинал и улегся спать, Захар открыл банку консервов из собственных запасов, достал кружку и сахар и плотно поужинал.
И вот он сидит у костра, караулит каждое движение Головахи и думает. Жутковато, но за мыслями страх забывается. Как он скучает по друзьям, оставшимся там, на стройке, — по Каргополову, Гурилеву и… Любаше! Почему она не выходит у него из головы? Почему она вытеснила в мыслях Настеньку? Вот и сейчас ее милый образ — глаза, полные затаенного огня, нежный овал лица, гордо посаженная головка и пушистые русые косы, как все это бесконечно дорого ему, сколько во всем этом светлого, милого, так необходимого его душе! А Ваня Каргополов — был ли еще в жизни Захара друг, которого бы он так по-братски всем сердцем любил? И от них он хотел бежать…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
На вторые сутки плавания вдали показались знакомые очертания сопок и села Пермского.
Всего шесть дней прошло с той проклятой ночи, когда Захар решился бежать, ему же казалось, что прошла целая вечность — так много испытал, пережил, передумал он за эти дни. Горечь и радость перемешались в его душе, и он не чаял, когда отделается от Головахи, увидит друзей.
Лодка обогнула мыс, и Захар увидел полуголых парней, занятых рыбной ловлей. Они выбирали мелкую рыбешку из небольшого бредешка и до того увлеклись своим занятием, что не заметили лодку. Захар поздоровался, и тогда все сразу выпрямились, с удивлением поглядев на нежданных гостей.
— Ну как, попадает? — спросил Захар.
— Попадает… Кошке на обед.
Курчавый широкоскулый крепыш с облупившимся носом сплюнул и прикрикнул на остальных:
— Давай выбирай!
Захар посоветовал:
— Удочками лучше, крупная попадает. А этим бреднем все равно что штанами ловить.
— А где их возьмешь, удочки? — буркнул в ответ курчавый. — Утиль этот с ограды сняли, от курен кто-то завешивал огород.
— Для столовой ловите?
— Для себя! Жрать нечего.
— А почему нечего?
— Да ты что за спрос? — обозлился курчавый. — Езжай своей дорогой, не докучай тут!..
Захар глуховато сказал:
— Я шесть дней не разговаривал с порядочными людьми. По живому слову соскучился.
Все с интересом посмотрели на него.
— А этот — не порядочный? — спросил высокий костлявый детина, кивнув на Головаху.
— Вот именно. Из бегов возвращаемся.
— Ты это серьезно?
— Уж серьезней некуда.
— А что-то незаметно. У нас вон там двое беглых лежат, так кожа до кости и бородища до пупа.
— Не успели отрастить, вовремя повернули назад, — усмехнулся Захар.
— Нет, вы серьезно — бегали? — снова спросил курчавый.
— Да честное слово! — воскликнул Захар. И улыбнулся душевно: — Что, бить будете?
— На черта нам бить! Мы сами такие, понял?
— Какие?.. — Захар внимательно посмотрел на курчавого.
— А вот такие — из «гулькома». Слышал про такую организацию?
— Слышал. — Захар помолчал, наблюдая, как парни выбирают перепачканных в грязи мелких карасиков и сазанчиков. — Если надо, я могу дать крючки, штук пять, — предложил он, ни к кому не обращаясь.
— А у тебя есть? Слушай, дай, — подобревшим голосом сказал курчавый, выпрямляясь. — Понимаешь, сорганизовали артель по пропитанию. Карточек-то нам не дали… А вы чего же вернулись?
— Просто передумали. — Захар не хотел говорить о Головахе: кто знает, что это за люди, вдруг тут единомышленники окажутся? — А вы что, тоже собираетесь?
— Собирались вот, да притык получился. — Курчавый вымыл руки, вытер их о траву, присел на нос лодки. — Ладно, ребята, бросайте эту плотву, давайте перекурим, — распорядился он.
Парни подошли к лодке, расселись на траве.
— Да-а, собрались вот, а теперь дело развалилось, — продолжал курчавый, скручивая цигарку. Был он как дубок — с короткой сильной шеей, с мускулистым, крепко сбитым телом. Серые глаза с легким прищуром, властный голос — все говорило о его уме, воле и смелости. — Так ты нам крючки-то дай в самом деле. Говорят, карась хорошо идет на удочку в Мылкинском озере… Хотели, брат, двинуть через тайгу, тут где-то есть тропа до станции Бочкарево. Восемьсот километров, считают.
Он закурил, сделал глубокую затяжку и продолжал:
— А тут случилась такая история. Вчера к нам в конюшню — мы живем в брошенной конюшне, — пояснил он, — вечером вваливаются двое оборванцев, еле держатся на ногах — кожа да кости, обросшие, как дьяконы. Пришли и сразу легли. Немного отдышались, попросили чего-нибудь поесть. Собрали им крохи, у кого что было, так они почти живьем проглотили. Очухались немного и рассказали невеселую историю. Может, брешут, но, если судить по их виду, то вполне возможно, что все правда. С месяц назад в эту конюшню, где мы сейчас живем и где тогда жили они, — словом, в «гульком», заявился какой-то мужичок и говорит: «Смогу довести за плату напрямик через тайгу до станции Бочкарево». Ребят было одиннадцать человек. Сторговались с мужичком по две сотни с каждого, запаслись продуктами на две недели и двинули. По пути, мол, можно бить зверя — у мужичка было ружье — да ловить рыбу в дополнение к питанию.
Курчавый глубоко затянулся, выпустил длинную струю дыма.
— Идут день, другой, третий… Тропа торная, идти легко. Потом свернули на какой-то отвилок, стало труднее пробираться. А на седьмой день кончилась тропка. А тайга такая, что хоть топором прорубайся! И тут заметили, что вроде ходят они по одному и тому же месту, вокруг сопки. Они к мужичку: «Ты нарочно плутаешь?» — «Что вы, робятки, идем правильно. Где-то тут должна быть речка. Посидите, я мигом ее найду». Ушел — и пропал: будто черти с квасом съели… Ждали ребята его день, ждали ночь, а наутро сами пошли искать речку. А речки, оказывается, и в помине нет. Ходили целую неделю, думали найти тропку и закружились окончательно. Потом кончились продукты, стали есть траву, зеленую ягоду, грибы. Двое отравились грибами, померли… Началась свара: один тянет туда, другой — сюда. Обессилели от голода… Кто послабее, тех бросали, потому что другого выхода не было. Эти двое, они давно дружили, решили идти только в одном направлении, на восток, чтобы добраться до Амура. На восьмые сутки вышли к Амуру еле живые, увидели нанайцев, а те привезли их сюда. Сейчас отлеживаются.
— А почему же их в больницу не положили? — спросил Захар, потрясенный рассказом.
— Говорил я сегодня в больнице — может, заберут…
Курчавый помолчал, потом заключил:
— Видишь, вот как оно, дело-то обернулось! Вы небось и десятой доли не хлебнули такого?
— Зато я другого хватил, — ответил Захар, доставая из рюкзака коробку с рыболовными крючками. — Сами-то с одного места все? — не без умысла спросил он, чтобы решить потом, говорить или нет о Головахе.
— С бору по сосенке, — нехотя ответил курчавый. — Мы вот трое, — кивнул он на парней, сидящих по правую руку от него, — с Кубани, только из разных станиц, а это четверо — из Горького.
— Вот, нате по одному на каждого. — Захар кинул курчавому коробок с крючками.
— Вот спасибо. Теперь дело пойдет. Так ты говоришь — другого хватили? Тонули, что ли?
Захар еще раз оглядел ребят — нет ли здесь воровской физиономии? — и сказал:
— С этим вот типом связался, с бандюгой. Теперь гоню его обратно.
— Я что-то ничего не пойму, — недоуменно произнес курчавый.
Только теперь все обратили внимание, что Захар держит ружье на коленях, а Головаха прилег на мешок, накинул пальто на голову, да так ни разу и не высунулся из-под него.
Рассказ Захара о побеге все слушали затаив дыхание.
— Как, ты сказал, его фамилия, Головаха? — первым нарушил тишину парень с глазами-васильками.
— А ты что, знаешь его?
— Так это же шулер и вор! Его чуть не убили наши ребята. Он жил у нас на чердаке, всех обжуливал в карты, а потом у одного часы спер. Ох, и били же его!.. Два дня лежал, примочки делал, а потом его выгнали с чердака.
— Ну вот, он самый и есть, — усмехнулся Захар, видя, что друзей Головахи здесь не найдется.
— Да-а, каких-то только людей не понаехало сюда! — в раздумье сказал курчавый. — Ты прав, браток. Окажись с таким один на один в тайге — он из-за куска хлеба убьет, гад!.. Ну, давай, братва, скатывай бредень и до хаты!
Курчавый сменил Головаху на веслах, и все двинулись на стройку. Пристали они к берегу у Пермского уже на закате солнца.
До дрожи в коленях волновался Захар, поднимаясь на берег. Шагая с рюкзаком за спиной, он вглядывался в лица прохожих, страстно ища и опасаясь встретить знакомых, особенно Любашу. Отнести Любаше ведро и весла он попросил парня с синими глазами: «Поставь у крыльца и уйди! А если тебя увидят, скажи, что какой-то парень передал».
Потом Захар отвел Головаху в милицию. Бандита здесь уже знали, и сообщение Захара ни у кого не вызвало сомнения. Когда Головаху повели к выходу, он зло глянул на Захара и прошипел:
— Я тебя под землей найду! Ты мне еще поплатишься…
— Смотри, сам не попадись мне еще раз, — ответил Захар. — Уж тогда я не стану с тобой цацкаться!
Конюшня, куда они пришли с курчавым, оказалась знакомой Захару — это было подворье того самого мужика — Савелия Бормотова, у которого они с Аникановым покупали яйца и молоко в день приезда, в мае. «Уж не этот ли мужичок завел ребят в тайгу и бросил на голодную смерть?» — подумал Захар.
В углу конюшни неровно мигала коптилка, бросая красноватый отсвет на подгнившие бревна, а перед нею чернели силуэты парней, занятых каким-то делом. Подойдя вплотную, Захар увидел картежников. Они резались в очко и так вошли в азарт, что не заметили пришедших. Каково же было удивление Захара, когда среди игроков он разглядел Пригницына и Рогульника. Теперь, после всего пережитого, Захар был рад встретиться даже с ними.
— Вроде как Жернаков? — вглядываясь в темноту, спросил Пригницын.
— Вроде бы он, — усмехнулся Захар.
— Га, здоров, друг! — Пригницын протянул руку; Рогульник лишь угрюмо посмотрел в сторону Захара и даже не ответил на приветствие. — Ну как, турнули тебя с конного двора? — с нагловатой усмешкой спросил Пригницын.
— Откуда ты это взял?
— Га! Не притворяйся дурачком — с неделю как висит приказ на стене.
— А что там написано?
— Сам знаешь что — халатность в работе. Ретиво взял с места, друг, да не туда поскакал…
— А больше ничего не написано? — Сердце Захара замерло от радостной догадки.
— Про Варяга еще написано.
— Что про Варяга?
— А то, что недоглядел его, а он сожрал ядовитую траву.
— Про суд ничего не написано?
— Харитон Иванович пожалел твои молодые годы.
Некоторое время Захар сидел в счастливом оцепенении. Значит, никакого суда! Но тут же встал тревожный вопрос: почему Ставорский поступил так? В самом деле решил спасти или акт был фиктивный?
Рыбаки разожгли костер посреди конюшни, варили уху. Захар спросил курчавого:
— Ну что, нет этих парней, что из бегов вернулись?
— Нет. Говорят, забрали в больницу.
Уха закипала.
— Садись с нами, — пригласил курчавый. — Наверное, проголодался?
Ели кто из мисок, кто из кружек, а кто черпал прямо из ведра.
— Слушайте, братцы, я никак не пойму: почему и вы оказались в этом «гулькоме», почему не работаете? — спросил Захар, чувствуя, что перед ним неплохие ребята.
— Пускай медведь работает! — ответил синеглазый. — Видишь, в чем ходим? — Он поднял ногу и показал разбитую туфлю. — У меня ревматизм от болотной воды.
— Мы землекопами работали, — объяснил курчавый. — Надоело каждый день топтаться по колено в воде, вот и бросили. А другой работы не дают, говорят: «Возвращайтесь на канавы». Мы отказались. Тогда бригада выгнала нас с чердака. И продуктовых карточек на июль не дали.
— Ну, а как же дальше думаете жить?
— Да никак. Вот обмозговываем, как сорваться до хаты.
После ужина Захар вышел на улицу. Теплые сумерки окутывали село, Амур, тайгу. Где-то лаяла собака. Спать Захару не хотелось. Он весь был в лихорадочном возбуждении. Что делать? Может, пойти к новочеркасским комсомольцам? Они ведь вот, рядом — в бормотовском леднике. Но что он им скажет, как объяснит свое дезертирство? А может быть, они не знают ничего?.. Какая разница, знают или не знают? Он все равно расскажет им обо всем. Нет, лучше отложить до завтра. Сейчас он не в состоянии, слишком тяжело на душе.
Захар пошел на берег Амура. Его охватывало ожесточение против самого себя. К черту, довольно малодушничать! Завтра он пойдет в комитет комсомола, прямо к секретарю, и расскажет обо всем, ничего не утаивая, расскажет о рыбаках, о трагическом побеге одиннадцати. Пусть все видят, к чему приводит малодушие, дезертирство с поля боя, бегство из строя — от товарищей, от коллектива. И если комитет не соберет прогульщиков, он напишет обо всем в газету. Стыдно? Ничего. Он вынесет, выдержит. Зато разом избавится от позора.
Его размышления прервали шаги. В сумерках обозначился женский силуэт. Не Любаша ли? От этой мысли у Захара захолонуло в груди. Бежать? Поздно, она уже вот, рядом. Конечно же, Любаша. Вся кровь прихлынула к лицу Захара.
— Ой, кто это тут? — В голосе Любаши неподдельный испуг. Она остановилась, потом осторожно стала приближаться. — Захар?.. — Голос ее замер на вздохе.
— Я, Любаша… — глуховато ответил Захар.
Он шагнул ей навстречу, порывисто обнял ее, прижался лицом.
Она уронила ведра, обвила руками его шею.
— Прости, Любаша. — Захар задыхался. — Я все объясню тебе…
— Захар, милый…
— Давай сядем. Расскажу тебе все.
Они сели рядом, прижавшись друг к другу.
— Откуда ты взялся, Захар? Где ты был все это время? Если бы ты знал, как я мучилась! У тебя такая бородища отросла… — Она робко и нежно провела ладонью по его колючей щеке.
— Я убегал, Любаша, — глухо сказал Захар.
— Так я и думала… Сердце чуяло… И жаль мне было тебя не знаю как!.. Ой, какой же ты молодец, что вернулся! — Любаша обвила руками его шею. — Насовсем, Захар?
— Теперь насовсем. — В голосе Захара прозвучала горькая усмешка. — И другим закажу, чтобы не бегали. А ведро и весла вернули тебе? Ругался отец?
— Захар, милый, да выбрось ты это из головы. Папаша даже не знает, что весла пропали. Да они и не нужны были, нашу лодку кто-то украл.
— Лодку украл? — с тревогой спросил Захар. — У нее цепь кончается проволокой и замок на конце? Да?
Любаша весело расхохоталась.
— На ней убегал?
— Я же совсем обокрал вас!
— Не думай об этом. Где ты живешь: у своих земляков?
— Нет, в бормотовской конюшне.
— С этими хулиганами?
— Только до завтра. А там будет видно.
— Захар, пойдем к нам ночевать, а?
— Что ты, Любаша! Да я со стыда сгорю. А потом же со Ставорским не хочу встречаться. Видеть его не могу!
— А папаша ему сказал, что зазря тебя уволили, — засмеялась Любаша. — Говорит, хороший бригадир был. Только, говорит, горячий больно, молодняк еще. Ой, Захар, как я по тебе соскучилась!.. А надо идти, там мамаша воду ждет…
Она вскочила, быстро зачерпнула в оба ведра воды.
Захар тоже встал.
— Давай я донесу! — Он взялся за ведра.
— Не надо, я сама. Ты же устал, наверно.
— Ничего, пустяки…
Он донес ведра до самых ворот.
— Завтра вечером встретимся, Захар? — тихо спросила Любаша.
Захар помолчал, потом ответил:
— Я еще не знаю, как у меня все сложится… Наверное, исключат из комсомола.
— Бедненький Захар… — Любаша прильнула к нему. — Не горюй, ладно?.. Ну, прощай.
Видно, давно завладело ею чувство к этому грубоватому, но душевному парню, если так, без стеснения, перешагнула Любаша грань, еще час назад казавшуюся ей неодолимой.
А что Захар? Он был в каком-то угаре от любви, захватившей его.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Утром Захар лицом к лицу встретился на узком дощатом тротуаре с самим Ставорским и широколобым. Преградив ему путь, они поздоровались за руку с какой-то непонятной почтительностью.
— Ты что это, Жернаков, в староверы решил податься? — спросил Ставорский фамильярно. — Бородищу-то отрастил! Слушай, куда ты запропастился? Всю неделю тебя ищем. Надо же расчет получить, деньги тебе выписаны. А главное — покажи место, где ты привязывал Варяга, когда ездил на лесозавод. Нужно посмотреть, наверняка там аконит или чемерица растет, раз конь подох.
— А для чего? — хмуро спросил Захар.
— Все еще дело твое распутываем. Заходи сегодня ко мне, деньги получишь, а потом съездишь с Пригницыным и Рогульником к лесозаводу, они поищут траву.
— С ними я не поеду.
— Почему? — настороженно спросил широколобый.
— Потому, что они для меня не авторитет, товарищ ветврач.
— Так ты что же, хочешь, чтобы с тобой мы ехали?
— Да, поеду только с вами, — решительно ответил Захар.
— Ладно, подумаем, — кивнул широколобый.
По дороге в парикмахерскую Захар напряженно думал, стараясь разгадать смысл этой поездки на поиски ядовитой травы с Пригницыным и Рогульником. Он так и не смог понять новой затеи Ставорского.
Побритый, посвежевший, подтянутый, подходил Захар к избе, где размещался построечный комитет комсомола. Преодолевая робость, он решительно поднялся на крылечко, открыл дверь.
Разгороженное на клетушки помещение, словно улей, гудело от множества голосов, воздух был пронизан синим табачным дымом. В одной клетушке басовитый, зычный голос требовал для ребят по две пары лаптей: «Ходят босиком на корчевку, поизранили себе ноги!» Из другой клетушки слышался разговор по телефону; кто-то истошно кричал: «Локомобиль пришел, пришел, говорю, локомобиль! Завтра будут перевозить, завтра, завтра, черт тебя возьми! Оглох, что ли?..»
Захар старался угадать, в какой же комнате сидит секретарь комитета. Увидя знакомое лицо — строгое, смуглое, догадался: «Ага, это тот самый, с которым познакомился по пути на сплав, когда туда ездил Бутин. Как же его фамилия?.. Сидоренко! — вспомнил Захар. — Иван Сидоренко».
В комнатушке заворга сидело двое парней. Они что-то говорили, он быстро записывал. «Зайду, может, вспомнит меня», — решил Захар.
Сидоренко скоро отпустил парней и взглянул на Захара.
— Ко мне, товарищ?
— Разрешите?
— Заходи, заходи, чего стесняешься? Садись. Кажется, мы знакомы?
— Помните, на сплав вместе ехали?
— А-а. Ну-ну, вспомнил, в конный парк уговаривали тебя идти, так, кажется?
— Так точно.
Простота в манерах, дружеская улыбка на умном лице — все это успокоило Захара.
— Ну, как работается? — спросил Сидоренко.
— Я уже там не работаю.
Сидоренко насторожился.
— Почему?
— Вы можете меня выслушать? Это длинный разговор…
— Ну, а как же? Раз нужно, давай выкладывай!
Рассказывая о побеге, Захар не утаил ничего, кроме подозрений относительно подделки ветврачом акта и запугивания судом ради взятки. Все это было настолько же мерзко, насколько и непонятно Захару.
Сидоренко слушал со вниманием, навалившись грудью на стол, не сводя черных глаз с Захара. Сначала Захар терялся под этим пристальным, острым взглядом, потом немного привык, но все же волновался, заново переживая все свои злоключения.
Когда Захар умолк, Сидоренко некоторое время сидел в раздумье.
— Молодец, — сказал он наконец. — Молодец, что нашел в себе мужество вернуться и прийти сюда. — Он еще раз внимательно посмотрел в лицо Захара. — Ну так что, на работу послать теперь?
— На работу — это само собой, товарищ Сидоренко. Но я столкнулся тут с таким фактом…
И он подробно рассказал о встрече с рыбаками, о том, что услышал о побеге одиннадцати комсомольцев через тайгу, о странных обитателях конюшни — «гулькоме».
— Обо всем этом мы знаем, — кивнул Сидоренко. — Сейчас снарядили группу комсомольцев и проводника на поиски тех, кто не вернулся. О конюшне тоже знаем. Так что ты предлагаешь?
— Я предлагаю вызвать в комитет всех, кто живет в конюшне, и провести с ними собрание. Там есть хорошие ребята. Если хотите, я первый выступлю, расскажу о своем горьком опыте.
Сидоренко оживился.
— А это, пожалуй, неплохая мысль. Только зачем вызывать в комитет? Давай прямо там, в конюшне, устроим собрание. Как думаешь, когда это лучше сделать? Наверно, вечером?
— Конечно, вечером, перед сном.
— Правильно! Так и назовем — конференция прогульщиков! — Сидоренко грохнул кулаком по столу. — И не только тех, кто живет в конюшне, — всех соберем, со всей строительной площадки! Вот это ты здорово подсказал! Ну, а с работой как? Хочешь опять к Ставорскому? Заставим его отменить приказ.
— Куда угодно, только не к Ставорскому! — решительно ответил Захар. — Если можно, пошлите меня опять на сплав. Там мне все знакомо. А вину свою искуплю на работе! — добавил он.
— Хорошо, завтра решим. Все. Иди пока отдыхай, а ровно в восемь вечера будь в конюшне. И как следует подготовься к выступлению. А я сейчас займусь этим делом.
Был уже полдень, когда Захар вышел из комитета. Сквозь пелену перистых облаков жарко палило солнце. Амур, неоглядный, ослепительно сияющий, млел от жары.
Захар остановился в раздумье: куда идти? Есть хотелось так, что живот подтянуло. Решил пойти на конюшню. Там в рюкзаке оставалось два куска сахара, можно червяка заморить. По пути зашел на почту: нет ли писем? Нет, писем ему нет.
В конюшне — прохлада. В том углу, где вчера сидели картежники, спали трое, вытянувшись на сене.
Захар достал сахар и принялся грызть его. Вспомнил о Любаше, и на душе стало светло. Как это вчера получилось? Все будто во сне. Значит, она любит его? Милая Любаша… А как же Настенька? До сих пор ни строчки не написала. Обиделась? Разлюбила? Ну и пусть! У него и самого чувство к ней притупилось. Что значит расстояние и время! А может быть, он и не любил ее?
С этими мыслями Захар незаметно уснул. Но спал недолго. Вскочил как-то сразу, будто, его толкнули.
На конный двор Захар шел с твердой решимостью добиться, чтобы его больше не беспокоили. Но этого не потребовалось. Едва он появился в кабинете Ставорского, как широколобый заявил:
— Ладно, Жернаков, ты нам пока не нужен. Если потребуешься, вызовем.
— Ну, вот и хорошо! — улыбнулся Захар, довольный столь неожиданным исходом дела.
Получив расчет и деньги, он тут же решил пойти поискать продуктовую карточку — иногда их продавали исподтишка возле столовой. Ему повезло. У входа в столовую стоял верзила в грязной рубахе и флотских брюках клеш. Сторговались быстро — на полмесяца за четвертную. Захар взял килограмм сырого, как глина, хлеба и разом его съел.
Вечером конюшня была битком набита народом. На столе, накрытом красной скатертью, ярко горела лампа-«молния». Говор, вспышки смеха, громкие реплики как-то странно звучали в этом полутемном, глухом помещении. Прогульщики сидели, прямо на полу — на высохшем, утрамбованном навозе.
— Начинать пора!
— Начинайте, а то разбежимся! — долетали выкрики из разных углов.
И вот за столом — секретарь комитета Панкратов, Была у него манера говорить степенно, с подчеркнутой многозначительностью. Однако это не помогло Панкратову завоевать авторитет у комсомольцев. Его попросту никто не знал на участках, потому что он почти никогда там не бывал. Зато всюду успевал заворг Ваня Сидоренко. Сейчас он сидел у края стола, торопливо записывая фамилии.
— Ну, всех записал? — спросил его Панкратов…
— Больше никто не подходит.
— Тогда начнем!
За стол президиума на длинную доску, положенную на табуреты, уселись представители прогульщиков, в том числе Захар Жернаков и курчавый — Антон Харламов. Харламов только что вернулся со своей артелью с Мылкинского озера и немало удивился, застав в конюшне такое сборище людей.
— Сто сорок два карася поймали, — шепнул он на ухо Захару, — насилу донесли. И все благодаря твоим крючкам!
Доклад делал сам Панкратов. Обычно он умудрялся говорить скучно и нудно даже на самые животрепещущие темы. Своей манере он остался верен и сейчас. Но в конюшне было тихо, так тихо, как ни на каком другом собрании. Общее чувство вины и позора угнетало всех.
— Слово для выступления предоставляется бывшему бригадиру конного парка, дезертиру стройки и прогульщику Жернакову, — сказал в заключение Панкратов.
Захара будто молотом оглушили.
— Я прогульщиком не был! — с обидой вскочил он.
— Дезертир хуже, чем прогульщик! — крикнул кто-то из темноты.
Кругом дружно засмеялись:
— Не по рангу назвали!
Все мысли, что копились в голове Захара, вся страсть раскаяния, с которой он готовился выступить, — все разом улетучилось под ударом этого уничтожающего смеха. Захар стоял и молчал. Он готовился стойко вынести позор, но не мог предвидеть всей бездны унижения, в которую рухнет на глазах товарищей. Он уже готов был отказаться от слова, но тут услышал подбадривающий шепот Вани Сидоренко: «Смелее, смелее, Жернаков! Не робей!» Самообладание вернулось к Захару.
— Вот тут назвали меня прогульщиком, — заговорил он, — а я сказал, что прогульщиком не был. Вы подняли меня на смех, кто-то крикнул, что дезертир хуже прогульщика… Все правильно. Да, я не был прогульщиком…
Снова пробежал смешок, но он уже не действовал на Захара.
— Встретился с трудностями, — продолжал Захар, — и решил бежать со стройки. Но кто же хуже — прогульщик или дезертир?
— Дезертир хуже!
— Оба одинаковые! — кричали из темноты.
— И тот и другой предатели — вот кто мы! — Захар рубанул ладонью по воздуху. — Предатели и сволочи, потому что бросили своих товарищей, а сами отправились искать вольготную жизнь. Это раз! А во-вторых, мы забыли о том, что носим комсомольские билеты, а на них портрет Ленина… Я вас не агитирую, — помолчав, продолжал Захар. — Я говорю то, что у меня накипело вот тут. — Он сжал в горсть гимнастерку под самым горлом.
Он рассказывал о Головахе — во всех подробностях: от первого знакомства с ним и до возвращения на стройку.
— Вот теперь, видите, как оно получается, когда мы, комсомольцы, бросаем своих товарищей, — заключил он. — Мы оказываемся в одном ряду с самыми настоящими бандитами. А не одумайся я своевременно, чем бы могло все кончиться? А тем, что либо он меня прибил бы где-нибудь, либо я сам стал заодно с ним бандитом и вором! А разве не о том же говорит побег одиннадцати комсомольцев? Попали в лапы негодяя и поплатились за это жизнью.
Не успел он сесть, как раздались аплодисменты, сначала редкие, а потом все дружнее и дружнее. Для большинства это было неожиданностью — ведь как-никак здесь собрались прогульщики.
— Дайте мне слово, — попросил курчавый, обращаясь к Панкратову.
Харламов говорил сбивчиво, волнуясь. Он рассказал о том, как они, семь землекопов, ушли из бригады, как мытарились, голодали, как начали ловить рыбу. Рассказал обо всем честно, ничего не скрывая.
— И вот, что же получилось? — задал он вопрос. — Не нравилось копать землю, быть все время по колено в воде, но там хоть мы получали карточки, питались в столовой. А теперь тоже каждый день в воде, только не получаем карточек, живем на одной рыбе. Не знаю, как наша «рыбацкая артель», а я сам завтра выхожу на работу, товарищи. Хватит, побаловали, пора за ум браться!
— А вы бы могли возглавить рыболовецкую бригаду из комсомольцев? — спросил человек с черной повязкой на глазу. — Настоящую, по всем правилам, рыболовецкую бригаду, которая снабжала бы наши столовые?
Это был начальник отдела кадров стройки Шаповалов. Он пришел с опозданием и сидел теперь на корточках, прислонившись спиной к бревенчатой стене конюшни.
— А чего ж не смочь? — удивился Харламов. — Выросли в кубанских плавнях, с детства рыбачили.
— Вот и прошу вас: организуйте бригаду и завтра все приходите ко мне в отдел кадров.
— Хорошо, — охотно согласился Харламов.
— Кто еще хочет выступить? — спрашивал между тем Панкратов.
— Разрешите мне, — послышался слабый голос из самого дальнего угла.
— Пожалуйста, проходите сюда, к свету, — пригласил Панкратов. — Как фамилия?
— Слободяник…
В зале зашептались. Харламов наклонился к Захару, сказал возбужденно ему на ухо:
— Это один из двух, что вернулись еле живые…
Слободяник устало подошел к столу. Уже один его вид потряс, заставил всех податься вперед, затаить дыхание. Остроносое продолговатое лицо его походило на маску — бледное, с обострившимися скулами и буграми желваков, с ввалившимися глазами. Он говорил тихо, хотя, видно, напрягал все силы, стараясь говорить как можно громче. То, что он рассказывал, — как их завел в тайгу проводник, как умерли первые двое от ядовитых грибов, как кончились продукты и ребята стали слабеть, как один за другим падали в обморок, — привело всех в оцепенение. Когда он кончил, еще долго стояла гнетущая тишина. Потом загудели голоса, и Панкратову долго пришлось призывать к порядку.
После закрытия конференции Захар разыскал Слободяника.
— Слушай, обрисуй мне вашего проводника, какой он из себя?
— Да такой плюгавенький мужичок, — устало объяснил Слободяник, — сивый весь, глаза черные, меньше тебя ростом, морда остренькая, как у хорька.
— Фамилию не знаешь?
— Мы и не спрашивали. А потом, разве назвал бы он свою фамилию?
— Честное слово, похож на бывшего хозяина этой конюшни — Бормотова! — заключил Захар.
— Если бы я его встретил, убил бы, подлюку! — Слободяник скрипнул зубами.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Зной. Лесной зеленый сумрак. Липкая духота. В воздухе тонкий стенящий звон гнуса. Вверху, в гуще еловых веток запутался раскаленный шар солнца и брызжет, брызжет оттуда горячими искрами.
«Шарк-шарк, шарк-шарк!» — слышится однообразный голос пилы в дремотной тишине леса.
— Фу, черт! Больше не могу, Иван, — говорит Гурилев, бросая рукоятку пилы и с остервенением отмахиваясь от комаров, тучами липнущих к потной коже.
— Ну, давай, Миша. Осталось немного… — Голос Каргополова усталый, хриплый от жары.
И снова «шарк-шарк, шарк-шарк!». Хруст у комля, и могучий треск крушит тишину, оповещая о том, что свален еще один лесной великан.
— Теперь пойдем обедать. — Каргополов вытирает пот с лица, отмахивается от гнуса.
После обеда хорошо бы вздремнуть накоротке в прохладном бараке, но Каргополову даже на это не хватает времени: получены свежие газеты, нужно проглядеть. Вот «Амурский ударник», небольшой листок, напечатанный крупным шрифтом. Каргополов задерживает взгляд на заголовке: «Покончить с дезертирством с трудового фронта». А ниже, мелкими буквами: «С конференции прогульщиков». И вдруг среди дезертиров он видит фамилию: Жернаков. А дальше длинные выдержки из его речи. Не веря своим глазам, Каргополов снова и снова перечитывает заметку. «Не может быть! Наверное, однофамилец».
После обеденного перерыва по пути на делянку он говорит Гурилеву:
— Нет, Михаил, я не могу найти объяснения этому факту! Понимаешь, он же честный парень!
— Его осуждать нечего, — равнодушно заметил Гурилев. — Тут здоровый и то едва сдюжит, а Захар покалеченный. А что будет, когда придет зима? Я тоже вот посмотрю-посмотрю, да и дам драпака.
Каргополов с улыбкой покосился на него.
— Мне нужно зарубки ставить на каком-нибудь дереве — сколько раз ты клянешься, что сбежишь.
— А что? Я говорю-говорю, а потом возьму и сорвусь. Вот посмотришь!..
— Ну и дурак будешь! — возмутился Каргополов. — Предположим, удрал Захар, сбежишь ты, потом я и так далее. Кто же тогда завод будет строить? Да что же, черт возьми, для развлечений нас прислали сюда? — закричал Каргополов, обозлясь. — За каким же дьяволом надо было тогда ехать, если нет в душе твердости? Но вот Жернаков… — вздохнул он. — С Захаром что-то случилось, неспроста он это.
— А может, и в самом деле однофамилец? — предположил Гурилев.
— Слушай, Михаил, завтра выходной, давай сходим в село, а? — просительно заговорил Каргополов. — Может, разыщем Захара и заодно посмотрим, что там делается, искупаемся в Амуре… Как думаешь?
Гурилев хитро подмигнул.
— Ты уж скажи, Иван, честно: хочешь повидаться с Касимовой.
— Конечно. Но главное — Захара надо разыскать.
С утра было жарко, душно в лесу, а часам к десяти стала собираться гроза. Тучи шла с верховьев Силинки, от хребтов, синеющих вдали. Черная, с лохматыми подсвеченными краями, она разрасталась, лезла к вершине неба дымно-сизыми клубами. В ее недрах угрожающе погромыхивало, иногда там змейками вспыхивали злые молнии. А потом все это скрылось за гривастым пологом ливня.
Дождь настиг Каргополова и Гурилева уже возле огородов, окатил, словно из ведра, и хлестал до тех пор, пока они не заскочили на крыльцо первой попавшейся избы. Дверь была на замке, но навес крыльца кое-как защищал их.
— Каргополов! Ваня! — донеслось откуда-то сквозь грохот ливня.
Каргополов в изумлении огляделся. Сквозь сетку дождя он увидел, как от сарая длинными прыжками скачет Захар, накинув на голову шинель. Захар сбросил ее уже на крыльце и кинулся к Каргополову. Лицо у Захара худое, глаза впалые, с лихорадочным блеском.
— Что с тобой? — Каргополов нетерпеливо вглядывался в изменившееся лицо друга и не знал, радоваться ему или огорчаться.
— Читали в газете?
Иван спросил упавшим голосом:
— Значит, это о тебе?
— Да… В общем, братцы, крах у меня! Такую глупость отмочил, что вовек не прощу себе. Узнают в кавшколе… Ох, дурак! Мне и вам страшно было на глаза показываться…
— Да что все-таки случилось? — нетерпеливо спросил Гурилев. — И почему ты появился из этого сарая? Где живешь-то?
— Здесь… — Захар тоскливо кивнул на сарай. — Завтра собирался в отдел кадров, а потом к вам.
— А там, в сарае этом, сухо? — спросил Каргополов. — Может, пойдем туда, неудобно на чужом крыльце.
— Нет, давайте уж тут поговорим. Там такие типы, мне не хочется при них…
В сером сумраке на миг блеснул отсвет молнии, и удар грома потряс воздух, глухим перекатистым гулом распространился по небу.
— Свят-свят-свят, вот лупит! — прижался к двери Гурилев. — Ну попали мы, Иван! Давайте хоть тут присядем, — стал умащиваться он на порожек у двери.
Они уселись, и Захар стал рассказывать о своей работе на конном дворе, о суде, которым грозил ему Ставорский.
— И ты смирился, Захар? — удивился Гурилев. — Слушай, Иван, как ты думаешь, лапоть он, однако, а?
— В партком, в комитет комсомола ходил? — спросил Иван.
— Так вот, слушайте самое главное, — перебил Захар и поведал друзьям обо всем, что случилось с ним после злополучной ночи, когда они с Головахой бежали на краденой лодке.
Дождь пошел на убыль, на западе стало проясняться; гром теперь глухо перекатывался где-то за Амуром, в сопках.
— Да-а, брат, отмочил ты номер!.. — тяжело вздохнув, сказал наконец Каргополов. — Но хорошо, что хоть спохватился вовремя. Чем питаешься-то?
— Деньги у меня есть. Купил хлебную карточку с рук, а вчера у Рудневых — картошки да молока.
— У своих, у новочеркасских, был?
— Был, да разругался с Аникановым. Хочет поставить вопрос на комитете, чтобы написали в станицу. Авторитет себе наживает на чужой беде.
— Ну, вот что. — Каргополов решительно хлопнул себя по острым коленям. — Сейчас разыщем Панкратова или Сидоренко, поговорим, и вернешься с нами на Силинку. Согласен?
Они сошли с крыльца как раз в ту минуту, когда из-за края черной тучи брызнуло солнце. Весь мир преобразился: ярче зазеленела трава, серебряным стеклярусом вспыхнули капельки воды на крышах, заискрились лужицы и ручьи, радостно защебетали скворцы и синицы. Промытый дождем воздух был легок и звучен, полон упоительных запахов.
Под вечер три друга, разделив поровну пожитки Захара, шагали по лесной дороге, направляясь к Силинке. Каргополов журил Захара:
— Вот видишь, сколько ты наделал всяких бед. И с Лелей из-за тебя не пришлось поговорить как следует…
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Июль. На Нижнем Амуре в эту пору зной и жара сменяются грозовыми ливнями, ветреная погода — ленивой дремотной тишиной. По утрам в тайге, одетой в искристую росу, тихо и свежо. Пернатые и зверье уже вывели, но еще не воспитали свое потомство, поэтому предпочитают не шуметь, чтобы не навлечь хищника на гнездо или логово, где так же молчаливо таятся детеныши. У четвероногих обитателей тайги закончилась линька, они почти голые, и теперь их изводит гнус; по ночам сохатый, кабарга, косули держатся возле озер и речек, где продувает ветерок. Иногда во тьме слышится могучее фырканье, плеск: то таежный великан-сохатый ныряет в воду, добывая со дна свое лакомство — мучнистый корень водяной лилии. Рябчик и косач в эту пору льнут к самой земле, больше бегают, нежели летают: так удобнее собирать улиток и червей, недозрелые ягоды голубицы, морошки. Одни только дятлы, как всегда, нарушают тишину стуком молоточков по сухостойнику, да пищухи и синицы с раннего утра до заката солнца по-хозяйски хлопочут в ветвях, вполголоса переговариваясь на языке, понятном им одним.
В такую пору тайга могла бы показаться райским местом, если бы не тучи гнуса, день-деньской висящие в ее тенистом сумраке, да липкая духота, накапливающаяся в неподвижном воздухе к средине дня.
Чего только не делали лесорубы: разминали пахучие травы и натирались их соком, обмазывались мылом, грязью, некоторые даже несмываемой древесной смолой, разводили дымокуры из мха, но все это не спасало от гнуса. Пробовали завешивать лицо и шею нижними рубахами или полотенцами вместо накомарников, но в духоту в такой «парандже», как их называли ребята, нечем было дышать.
Жернаков был назначен на раскряжевку хлыстов. В первый же день вечером, возвращаясь с лесосеки, Каргополов участливо спросил Захара:
— Горит кожа?
— Ничего, терпеть можно, — устало отвечал Захар, — бывает похуже. Этот гнус вроде надсмотрщика, — усмехнулся он. — Пока работаешь, ничего, терпимо, как остановился — поедом жрет, собака! Вы-то уж, наверно, привыкли?
— Кой черт! Разве к этой пакости можно привыкнуть? — ругнулся Гурилев.
— А я привык, братцы, — скаля редкие зубы, сказал Каргополов. — Сначала, бывало, как вопьется, так даже подпрыгнешь, а вот сейчас кусает, ну и черт с ним! Только жаль, кровь пьет; на каждого по капле — это же всего могут высосать! Только из этих соображений и отгоняю их.
— Врешь ты все, Иван! — сердито сказал Гурилев. — Был бы я ученым-химиком, я бы придумал такую гадость, чтобы всех на свете гнусов потравить. А правда, неужели нельзя придумать против комара отраву?
— Да ну там, нельзя! — отозвался Каргополов. — Собрать бы всех химиков, послать их лес рубить, вот хотя бы к нам, сюда, так в первую же неделю сотни рецептов появились бы!
— Верно! — засмеялся Захар.
После всех передряг он будто выздоравливал. Как и в первые дни приезда на Амур, Захар с волнением всматривался в жизнь тайги, стараясь понять ее суровые законы, и все больше очаровывался ею. Все казалось ему интересным и волнующим: и могучая колодина, покрытая зеленым мхом, засыпанная наслоившейся за многие годы мертвой хвоей, и бледно-зеленые космы мха, свисающие со старых елей где-нибудь в глухом и тихом, как подземелье, уголке, и неясные шорохи невидимых существ.
Непередаваемое наслаждение испытывал Захар, сидя на берегу Силинки и наблюдая за хрустально-розовыми в закатных лучах струями студеной речушки. Все реже посещали Захара воспоминания о недавнем прошлом, все слабее хватала за душу тоска по кавшколе и по родной станице, и ему начинало казаться, что все самое лучшее в его жизни будет именно здесь, в тайге.
Но недолго продолжалась эта жизнь среди добрых друзей. Как-то раз в барак с истошным криком вбежал Бонешкин:
— Лесозавод! Ребята, лесозавод!
С этими словами он пулей вылетел из барака.
Бонешкин давно был известен своей заполошностью, и, возможно, никто не обратил бы внимания на его крик, если бы он не закричал так отчаянно.
— Робятка, пожар, должно! — первым загорланил Иванка-звеньевой и, вытаращив глаза, кинулся из барака.
— Гори-им!.. — завизжал Гурилев, чтобы насмешить товарищей.
— Да че вы, взбеленились, что ли? — гаркнул бригадир. — Тише вы!
Все сразу смолкли, прислушались. С низовой Силинки через тайгу плыл высокий нескончаемый гудок. Прошла минута, вторая, третья, а он все тянул свою однообразную, заунывную песню-призыв.
— Братцы, так это же лесозавод пустили! — воскликнул Каргополов.
— А я чего вам говорил! — сверкнул глазами Бонешкин.
— Первый гудок лесозавода!
— Ура, товарищи!..
Наутро прискакал нарочный и привез распоряжение: бригада в полном составе переводится на строительство жилья.
Лесорубы закинули за плечи свои котомки и двинулись в Пермское. Шли неторопливо, часто отдыхали, пели песни и около полудня вошли в село. Было жарко, безветренно, поэтому решили сразу идти к Амуру. Разложив свои пожитки на берегу, ринулись в воду. Только бригадиру было недосуг: окунувшись раза два, он оделся и побежал в отдел кадров.
Часа через два Самородов вернулся на берег. Рядом с ним семенил толстенький, интеллигентного вида старичок с румяным лицом и бородкой клинышком цвета чистого серебра — инженер Саблин.
— Ну, здравствуйте, молодые люди! — весело закричал Саблин тонким голоском. — Пришел взглянуть, уж больно хорошая слава о вас идет!
Ребята вразнобой ответили «здравствуйте», сразу как-то подтянулись, окружили Саблина.
— Я-то думал: тут богатыри, каждый — косая сажень в плечах, — проговорил он, пряча под усами умную улыбку. — А тут, оказывается, простые смертные!.. Ну-с, вот что, юноши, — сказал он уже серьезно, — научились вы лес рубить, теперь необходимо научиться строить жилье. Только жилье, я вам скажу, такое, какого даже я, старый инженер, никогда не возводил! Шалаши будем строить! — воскликнул Саблин. — Да-с, шалаши, утепленные шалаши! Только таким способом мы сможем решить жилищную проблему. Сегодня вы расселитесь в палатках, а завтра начнем все, в том числе и мы, инженеры, учиться строить новый вид жилья. Ваша бригада будет работать под моим непосредственным руководством. Товарищ, как вас?.. — обратился он к бригадиру. — Да-да, товарищ Самородов будет заместителем бригадира, то есть моим заместителем. Как только пройдем курс, овладеем этим искусством, лучшим из вас дадим бригады, будете руководить ими. Надеюсь, все ясно, друзья?
— Ясно, товарищ инженер.
— Зовут меня Викентий Иванович, — представился инженер, шаркнув ногой. — Запомните: Ви-кен-тий И-ва-но-вич.
По толпе прокатился добродушный смешок:
— Запомним!
…Участок, отведенный для строительства шалашного городка, был выбран неподалеку от лесозавода на ровной, слегка приподнятой местности.
Саблин приехал на двуколке, а вскоре подошли подводы, назначенные для подвозки досок и жердей, и с ними два десятника..
— Нуте-с, начнемте, друзья, — объявил Саблин, собрав всех.
Он расстелил по косому пологу палатки листы кальки с чертежами, сломил тонкую лозу для указки и стал объяснять конструкцию шалаша.
— Вся мудрость состоит в том, — говорил он, — чтобы его быстро построить, чтобы он не пропускал влагу, а главное — чтобы держал тепло в сорокаградусный мороз и мог вместить по меньшей мере пятнадцать — двадцать человек.
Первый шалаш строила вся бригада. Викентий Иванович, сняв пиджак, сам руководил планировкой. С лопатой в руках он, неторопливо командуя десятниками, делал ямки для колышков.
— Все, что я делаю, предстоит делать вам, будущим бригадирам, — объяснял он при этом. — Так что прошу внимательно следить за каждым моим движением.
Захар буквально ступал по его следам.
Викентий Иванович заметил это, отдал ему лопату и сказал:
— Прокопайте, молодой человек, линию вдоль этого шнура.
Захар, смущаясь, суетливо принялся за дело.
— А вы не торопитесь, юноша, не торопитесь, — поучал его Саблин. — Вы много сил тратите попусту и прежде времени устанете.
Так оно и вышло: линия оказалась кривой, а по лицу Захара струился обильный пот.
— Плохо получилось, — в смущении сказал он, взглянув на свою работу.
— Ничего, ничего, молодой человек, не огорчайтесь. Главное — выполнено с вдохновением, — подбодрил его Викентий Иванович.
Приметив Захара, Саблин то и дело поручал ему что-нибудь, с каждым разом давая все более сложные задания: инженеру понравились рвение и старательность, с которыми относился к работе этот паренек в буденовке.
На следующий день первый шалаш был готов. Поручив планировку нового шалаша десятнику, Саблин подозвал Захара и, размотав рулетку, стал с его помощью обмерять площадь пола и стен. Записывая результаты обмера, Саблин говорил философски:
— Начинаем с шалашей, дружище, а кончим дворцами! Уж если Русь взялась за топоры, то, смею вас заверить, дело будет! Вот вы, юноша, почему взялись за топор?
— Вы спрашиваете, Викентий Иванович, почему я поехал на строительство? — улыбаясь, спросил Захар.
— Хотя бы так. Зачем вы сюда приехали?
— Это длинная история.
— А вы коротко изложите ее мне.
— Моя история не характерная, Викентий Иванович.
— Ну что ж, тем интереснее.
Смущаясь и многое недоговаривая, Захар сбивчиво рассказал о том, что привело его сюда.
— Ага, значит, вы романтик? — догадался Саблин. — Так ваша история нехарактерна? А вы полагаете, что я поехал за «длинным рублем»? Мы почти все здесь романтики. То, что я здесь, — это выстрадано, дорогой юноша. Перед вами старый дворянин, да-с. А знаете, что это такое?
— Знаю. Но… как же это?.. — Захар с удивлением посмотрел на Саблина.
— А вот так-с… Я долго не принимал революцию. Переосмыслить давно сложившиеся понятия не так просто — город легче выстроить на голом месте, да-с!.. А мне именно это пришлось сделать, да еще в возрасте, когда большая половина срока, отпущенного человеку, осталась позади… Поняв свое место в новой жизни, я ничего больше не хочу, кроме одного: целиком отдаться интересам народа. Знаете, что мы сейчас делаем с вами? Мы, русские люди, первыми прорубаем просеку «в глухой, неведомой тайге». Все человечество двинется по ней вслед за нами к своему счастью — братству и свету, да-с! Эту просеку русский простолюдин начал прорубать еще в семнадцатом году. А я, русский интеллигент, который считал себя высокообразованным человеком, а простолюдина — темным и забитым, оказался на самом деле темнее его: я не понял того, что понял он тогда. Вот почему остаток своей жизни я хочу истратить на то, чтобы строить, строить и строить, насколько меня хватит. Вот почему, юноша, мне этот шалаш представляется более значительным, нежели роскошные виллы для богачей, которые я когда-то возводил!
Вскоре шесть человек, в том числе Захар, Каргополов и Иванка-звеньевой, были назначены Саблиным бригадирами.
Участок создавался как ударный. Сюда стягивались лучшие силы из бригад корчевщиков и землекопов. Каково же было удивление Захара, когда он встретил своих земляков, в том числе Лелю Касимову.
— Значит, вместе будем, Захар? — возбужденно смеялась Леля, украдкой ища глазами Каргополова. — Вот хорошо-то!
А вечером под открытым небом состоялось комсомольское собрание. Захар немало удивился, когда постройком рекомендовал Аниканова освобожденным секретарем ячейки. Аниканов избран был подавляющим большинством голосов. Никто, кроме Захара, не знал о случае с сапогами, не вспомнил, что Аниканов увильнул от трудной работы на корчевке. Но и Захару все это теперь показалось мелким, не стоящим внимания. После собрания он подошел к Аниканову, поздоровался за руку.
— Значит, и ты тут? А я, брат, не знал, — баском сказал Аниканов. Он был в самом лучшем расположении духа. — Ну что же ты, Захар, не поздравляешь меня?
— С чем?
— Ну, как-никак я теперь у вас основной комсомольский руководитель.
— А, с этим? Ну, поздравляю, — спокойно сказал Захар. — Ты тоже можешь поздравить меня — бригадиром назначен.
— Да что ты! Вот, брат, как мы с тобой полезли в гору! — с искренним восторгом воскликнул Аниканов. И, помолчав, добавил: — Это только начало. Придет время, мы еще не такими делами будем ворочать!
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Ночь. Не спится Захару в новом шалаше. Раздражает скипидарный запах еловых досок. Думает Захар, думает… Должно быть, трудное это дело — руководить людьми. В его бригаде двенадцать парней: восемь ленинградских слесарей и электромонтеров, двое деревенских ребят с Кубани, вообще не имевших профессий; и только один плотник, бывший днепростроевец Федор Брендин — высокий добродушный детина с улыбчивым лицом. Федор медлителен, молчалив, а когда идет, волочит ноги, будто они у него спутаны. Все ленинградцы и кубанские ребята до этого были на земляных работах, счетовод Прокоп Чулкин сидел в отделе снабжения, и только один Федор Брендин плотничал — рубил дом для инженеров. «Как-то они справятся?» — думал Захар.
С первого же дня дело не заладилось. Когда Захар начал толковать бригаде, что́ и в какой последовательности надлежит делать, ленинградцы стали отпускать шутки и остроты. Выглядели они франтовато, держались обособленно. Землю они копали лениво, ходили медленно, а на подноске жердей и досок не утруждали себя лишним грузом.
— Слушайте, товарищи, уж очень медленно вы работаете, — заметил Захар, сдерживая себя. — Нельзя ли немного поживее? Так мы за лето и одного шалаша не выстроим.
— А мы не просились на эту работу, — за всех ответил курносый, жиденький на вид, но задиристый Еремкин. — Вот когда нам дадут работу по специальности, тогда и посмотрим, кто как работает.
— Бригадиру об этом нечего говорить, — вступился Брендин. — Раз приставлены к делу — значит, надо делать, а симулировать нечего.
— Ну, знаете!.. — возмутился белокурый красавец с голубыми глазами — электромонтер Марунин. Чувствовалось, что он верховодит в этой группе. — Если вы называете это делом, то что тогда такое мартышкин труд?
— Так что ж, по-вашему, выходит, что все эти люди кругом тоже занимаются мартышкиным трудом? — спросил Захар, готовый кинуться в спор.
— Для кого как… — многозначительно намекнул Марунин.
— Ну, это уж вы слишком много берете на себя! — вспылил Захар. — Если бы все так рассуждали, мы много бы наработали! В общем, или дело делайте, или идите к прорабу и скажите, чтобы вас перевели в другое место. А пока вы здесь, я требую выполнять мои распоряжения.
— Э, брат, как разошелся! — хихикнул Еремкин. — Приказывай, знаешь, кому?
— А ты-то сам что умеешь делать? Мы все меньше шестого разряда не имеем, а он «требую»!..
— Да-а, много вы берете на себя, товарищи, — раздумчиво сказал Захар. — С вами, видно, наработаешь. Завтра пойду попрошу, чтобы забрали вас из бригады.
Но он этого не сделал, только грозился. Да и перепалка возымела действие: ленинградцы стали работать живее. Успех зависел от плотницких работ. Их выполняли под руководством Брендина сам Захар и оба кубанца — чернявый грузноватый Пойда и подвижный, ловкий, с тонкой фигурой джигита Терещенко. Эта четверка в отличие от группы Марунина работала дружно, старательно.
Плотницкое искусство явилось для Захара откровением: он узнавал в нем одну за другой своеобразные тайны, и это увлекало его. Оказывается, для того чтобы ровно стесать сторону жерди или доски, нужно предварительно зарубить засечки на глубину снимаемого слоя, и тогда очень легко получалась ровная линия; для того чтобы топор послушно ходил в руках, нужно было правильно его держать — как раз там, где начинался загиб топорища. Всем этим правилам его и Пойду с Терещенко учил Брендин.
Первый шалаш бригада Жернакова строила девять дней, хотя по графику нужно было сдать его на пятый. Отношения Захара с ленинградцами за это время несколько улучшились, но теперь подлинным бедствием стали перекуры. Захар горячился, а Марунин, посматривая на часы, говорил: «Вот через минуту… Осталось полминуты… Теперь четверть минуты. Пять секунд…»
Как-то во время такого длительного перекура пришел инженер Липский. В бригаде его еще не знали. Стояла невыносимая жара и духота, как бывает перед грозой, и ребята укрылись внутри недостроенного шалаша. Разомлевший от жары Липский, вытирая вымокшим платочком свое совсем юное нежно-розовое лицо, заглянул в шалаш.
— Почему не работаете? Кто бригадир? — спросил он.
— Я, — отозвался Захар и встал, одергивая расползшуюся на плече гимнастерку. — Только сейчас присели отдохнуть.
— Когда должны сдать шалаш?
— По плану еще позавчера, но…
— Что «но»? Меня не интересует ваше «но», я своими глазами вижу, что вы уже полчаса не работаете! — Липский пренебрежительным взглядом смерил фигуру Захара. — И, пожалуйста, не вправляйте мне мозги. Позавчера должны были сдать шалаш, а еще и половина работы не выполнена.
— А чего вы набросились на бригадира? — послышался вызывающий голос Еремкина. — Вы спросили, какая у него специальность? Человек, никогда топора в руках не держал, а вы хотите… Дайте нам работу по специальности, и мы покажем вам результат.
Липский посмотрел на Еремкина, прищурившись, и сказал с убийственным спокойствием:
— Во-первых, молодой человек, у меня есть должность — я инженер, и извольте соответствующим образом со мной держаться; а во-вторых, я обращаюсь не к вашей персоне, а к бригадиру, и прошу не расточать вашего красноречия.
Марунинцы возмущенно заорали:
— А что, слова нельзя сказать?
— Подумаешь, оскорбили, не назвали по имени-отчеству!
— Мы сами без пяти минут инженеры!
— Он сам еще, видать, только практику проходит.
— Да замолчите, как не стыдно! — не вытерпев, крикнул Брендин, потому что Захар растерялся и не знал, что делать.
Липский в первую минуту оробел, тень испуга промелькнула на его лице, но потом овладел собой и надменно сказал:
— Следуйте за мной, бригадир.
Захар вышел. Липский направился в сторону конторы, не оборачиваясь к Захару, и тот покорно шагал за ним. В полусотне метров от шалаша, где не было поблизости людей, инженер повернулся к Захару.
— Вы что же, специально приучаете своих подчиненных так по-хулигански относиться к инженерно-техническому персоналу?
— У вас нет никаких оснований говорить так, — грубовато ответил Захар. — Я только неделю назад принял эту бригаду.
— Какая у вас профессия?
— Никакой нет, — глухо ответил Захар и посмотрел себе под ноги; на его лице отразились горечь и затаенная обида.
— Почему же вас назначили бригадиром?
— Это нужно не у меня спрашивать, а у инженера Саблина.
— Да-а, вероятно, вы еще молоды для такой роли, — раздумчиво сказал Липский. — Идите и постарайтесь взять в руки ваших горлопанов. Я пришлю в помощь вам десятника на пару дней. Чувствую, что без этого у вас вообще ничего не выйдет. Кстати, подумайте сами, как вести себя с инженерно-техническими работниками.
Высокомерный тон, пренебрежительное отношение, наконец, это заносчивое «подумайте сами» возмутили Захара.
— Вот что я вам скажу, товарищ инженер, — бледнея от закипающей злости, сказал он, — я ожидал от вас бо́льшей помощи, а нравоучения читать… это самое легкое. Вы даже не сумели поговорить с ребятами, испугались, а хотите, чтобы я на них воздействовал. С ними в приказном порядке ничего не сделаешь. Они тогда, наоборот, еще хуже станут работать. Так что вот…
— Хорошо, я доложу об этом по инстанции. — Липский заметно умерил тон.
— Докладывайте где угодно, — бросил Захар и, не оглядываясь, направился к шалашу.
Каждый вечер Захар коротко рассказывал Каргополову о том, что происходит у него в бригаде, — они по-прежнему спали рядом на нарах. Рассказал он и о сегодняшнем случае с Липским.
— Этот чистоплюй и у меня в бригаде вел себя так, — сказал Каргополов сонным голосом. — Слушай, а Аниканов у тебя хоть раз был?
— Прибегал однажды, пошумел на меня, на бригаду, с тем и скрылся. Просил я его провести собрание — говорит, занят.
— Не-ет, ты его заставь провести, это же его… — Каргополов внезапно умолк, а через минуту уже захрапел во всю силу.
На следующее утро Аниканов появился в бригаде Жернакова. В майке и сандалиях он выглядел кругленьким, чистеньким, загорелым; пышные вихры его игриво трепал ветерок. В руках он нес скатанную рогожку.
— Привет горе-строителям! — воскликнул он, эффектно подняв руку. — Ну-ка, подберите мне хороший шест! Вот, Жернаков, по решению бюро ячейки и постройкома твоя бригада награждается знаменем. Давай шест, сейчас водрузим его! — С этими словами он развернул рогожку и потряс ею в воздухе.
Все бросили работу, с молчаливым недоумением глядя на Аниканова.
— Сам бери, тут холуев нет, — первым нарушил молчание Еремкин. — Давайте, ребята, работать!
Аниканов изменился в лице.
— Больше ничего не скажешь?
— А вот ты, Андрей, больше ничего не скажешь? — спросил Захар, шагнув к нему. — Это когда же состоялось такое решение и по чьей инициативе?
— По инициативе управления, понятно? — озлился Аниканов. — Хорошо, не хотите, я сам установлю.
Он принялся суетливо искать подходящий шест, нашел ветку.
— Дай-ка топор, Захар, — распорядился он.
— А ты умеешь с ним обращаться? — с кривой усмешкой спросил Захар, но топор подал.
Аниканов неумело обрубил сучья, привязал на тонкий конец распяленную рогожку, спросил:
— Ну, куда поставить, где оно будет видней?
— А где хочешь.
— А вон туда, на крышу, на конек.
— Там мы работаем, мешать будет.
— Тогда вот тут, на углу.
Он долго возился, но, когда отошел, палка упала.
— Да ты затеши конец… Дай-ка топор!
Захар несколькими взмахами заострил нижний конец, с силой всадил его в землю.
— Ну, а теперь давай собрание проведем с бригадой, — предложил он Аниканову.
— Какое собрание? — удивился Аниканов. — Сейчас же рабочее время.
— Ну, митинг. Короткий. А как же? Такое событие — знамя получили…
Захар с иронией посмотрел в глаза Аниканову, но тот отвел взгляд.
— Сейчас я не могу, вечером проведем, — важничая, заявил Аниканов. — Время скоро одиннадцать, а мне до обеда еще в трех бригадах надо побывать.
С тем и ушел.
Рогожку заметили сразу все, кто работал не только поблизости, но и на дальних шалашах. То там, то тут послышались гогот, свистки, кто-то кричал:
— Э-гей! Поздравляем с наградой!
— Рогожезнаменцам — гип-гип ура!
В бригаде Жернакова все подавленно молчали.
— Ну что, достукались? — спросил Захар.
Ему никто не ответил.
Первым нарушил молчание Брендин. С ожесточением всадив топор в жердь, он опустился на пенек и сказал:
— Завтра же пойду к старшему прорабу, пусть переводят в другую бригаду. Такой позор терпеть тут от вас!.. Три года Днепрогэс строил, ничего подобного не случалось…
— А я, знаете, что предлагаю, — баском проговорил Терещенко. — Работы осталось немного, давайте сегодня докончим все, чтобы завтра больше не приходить сюда. Хоть ночью, но закончим. Пускай тут болтается эта рогожка.
— Друзья, а это ведь верно! — воскликнул коротышка Прокоп Чулкин.
— Вин его принэсэ и к тому мисту, — вставил Пойда.
— Не-ет, туда мы не позволим! — запальчиво вступился красавец Марунин. — Не имеет права! Присудили же за этот шалаш, а там еще посмотрим!..
Над строительной площадкой потек мелодичный звон — били по подвешенному куску железа, сзывая на обед. Бригада будто не слышала сигнала и продолжала работать.
— Как, товарищи, дождемся, когда все пообедают? — спросил Захар.
— Да, давайте туда к концу, — ответил Марунин.
— Немного погодя, когда начнут расходиться, — поддержал Брендин.
Они подошли к кухне, когда там обедали лишь несколько человек да Аниканов, возле которого вертелась Кланька. Она кокетничала напропалую.
Столовая располагалась прямо под открытым небом, столами и сиденьями служили наскоро сколоченные доски, и лишь кухня выглядела капитальной — она была сложена из дикого камня. На кухне орудовали Леля Касимова и Маруся Дробышева. Они же вместе с Кланькой и сложили ее.
Еще издали увидев приближавшегося Захара, Леля Касимова улыбнулась, наблюдая, как понуро идет он, а за ним и вся бригада.
— А вы что же без знамени? — крикнула она.
— Язык бы тебе прищемить, сорока! — сердито проворчал Брендин.
— Да, я забыл сказать, — крикнул повернувшийся от стола Аниканов, когда бригада подошла к столовой, — знамя-то вы обязаны носить с собой! На корчевке такой порядок был.
— Нет уж, к черту! — ожесточенно бросил Захар. — А что касается корчевки, то не тебе о ней говорить, Аниканов, — с горячностью добавил он. — Ты на ней пробыл без году неделю.
— Да побольше твоего, — ответил Аниканов и принялся за еду.
— Что ж, по полмиски вам наливать? — издевалась Леля Касимова. — Не заработали ведь по полной!
— А ты можешь совсем не наливать! — не своим голосом заорал Еремкин. — Сами обжираетесь тут, а тем, кто работает, — полмиски! Ишь ты, краля какая! Пойди вон потаскай на горбу!
— Не меньше твоего таскала, губошлеп, криком не бери, — спокойно парировала Касимова. — А то, видите ли, он горбом таскает!
Весь этот день был отравлен бесконечными насмешками, ругней и озлобленностью.
После обеда в бригаде Жернакова все работали с каким-то злым ожесточением: о перекурах никто даже не заикался, и к концу дня шалаш был закончен, за исключением мелкой внутренней отделки.
Вечером, перед концом работы, в бригаду пришли сам начальник участка Саблин, с ним Липский и Аниканов.
Удивительные летом бывают вечера на Амуре! Незадолго до заката солнца, когда спадает дневная жара и в высоком небе порозовеют одинокие странники-облака, таежные дали с их зыбучими впадинами и возвышениями, повитыми легкой дымкой, вдруг начинают как-то особенно ясно вырисовываться. До чего же в эту пору безмерно просторным, необъятно громадным выглядит мир, а вечерняя прохлада такой освежающей, приятной и ласковой! Только Захар не замечал всего этого.
Саблин и его спутники осмотрели шалаш со всех сторон, заглянули внутрь.
— Где бригадир?
— Он работает, Викентий Иванович, — пояснил Аниканов. — Наверстывает упущенное…
— Позовите его ко мне.
Захар, на ходу одергивая гимнастерку, торопливо подошел.
— Здравствуйте, молодой человек! — Саблин протянул ему руку. — Вы, кажется, были у меня самым смышленым практикантом. Почему же отстали от других?
— Люди неопытные, Викентий Иванович. Да к тому же в бригаде только один плотник.
— Плотницких работ, дорогой Жернаков, тут для одного человека ровно на пять дней, — с укоризной сказал Саблин. — Ну, хорошо, об этом мы поговорим на собрании, а сейчас ведите бригаду на ужин, затем все — в контору.
Собрание открыл Аниканов. Первое слово он предоставил Захару для объяснения.
Захар до того волновался, что у него даже губы посинели, а руки совсем не слушались.
— Хочу сказать несколько слов о стиле работы товарища Аниканова как секретаря бюро комсомольской ячейки участка, — говорил он, мельком взглянув на Аниканова. — От него зависит очень многое и прежде всего комсомольская дисциплина. Но как он понимает свою роль? Вот сегодня утром он принес рогожное знамя к нам в бригаду. Ведь сраму на весь участок! А поговорил ли он с нами? Спросил ли, кто как работает? Даже со мной, с бригадиром, не перекинулся ни единым словом. Был он до этого один-единственный раз. А что сделал? Пошумел, обругал всех и убежал, хотя я тогда просил его провести собрание в бригаде. Я знаю Аниканова почти полгода, вместе ехали, оба из одного города, и прямо скажу: товарища Аниканова хлебом не корми, только дай командовать над людьми. И он командует, потому что в его положении это самое легкое: ни за что не отвечать, а со всех требовать. Но администрировать и без вас есть кому, товарищ Аниканов, вон товарищ Липский хорошо умеет это делать, а от вас мы, бригадиры, ждем иной помощи — дисциплину наводить в бригадах да соревнование организовать между бригадами.
Все это время, пока говорил Захар, Аниканов ерзал, краснел, волновался.
— В заключение хочу внести следующее предложение, Викентий Иванович, — повернулся Захар к Саблину. — Для руководства бригадой у меня пока недостаточно опыта. Но есть у нас замечательный плотник и усердный человек — товарищ Брендин. Он три года проработал на Днепрострое, хорошо знает строительное дело. Вот его и нужно назначить бригадиром, а я буду рядовым рабочим. И еще одно предложение вам, товарищ Аниканов: на сплаве в бригаде у нас была создана комсомольская группа. Вот такую группу нужно было бы создать и у нас в бригаде, чтобы она могла постоянно оказывать влияние на тех, кто отлынивает от работы.
Захар сел на свое место. Аниканов предложил выступить членам бригады, но никто не хотел брать слово.
Наконец, когда стало невмоготу молчать, поднялся Брендин.
— Почему мы плохо работаем? — заговорил он. — Потому, что вот эти товарищи, — указал он на Марунина, Еремкина и их друзей, — все время симулируют. В этом и вся причина. А бригадир что? Он старается изо всех сил, но они его не слушают. Вот и вся причина. Если все они начнут работать, как мы с Жернаковым, Пойдой, Терещенко и Чулкиным, то бригада наша никогда не будет отстающей. А почему эти плохо работают? Потому что считают для себя зазорным копать землю, жерди таскать, требуют, чтобы дали им дело по специальности. Им говорят: пока нет работы по специальности, значит, делайте то, что надо, но они и слушать не хотят. Потому и работаем плохо… А выдумывать, что бригадир плохой или вся бригада плохая, — это глупое занятие. Вот и вся моя речь…
— Правильно, очень правильно, товарищ Брендин! Яснее не скажешь! — воскликнул Саблин. — Все ясно, друзья, надо, чтобы эти товарищи, которые временно используются не по специальности, поняли бы и прониклись сознанием: надо построить шалаши. А поймут — дело пойдет. И вот еще: поскольку Жернаков просит освободить его от обязанностей бригадира, — а я понимаю, как ему трудно, — то не возьметесь ли вы, товарищ Брендин, за это дело? Вам все карты в руки — вы плотник, строили Днепрогэс, любите свое дело. Почему бы вам не стать бригадиром? Да и помощник у вас хороший — Жернаков. Согласны?
— Ладно, возьмусь, раз требуется, — глуховато ответил Брендин.
— Ну вот и отлично! Но я не знаю, дорогой Аниканов, можно ли комсомольскую ячейку создать в бригаде? Какой у вас порядок?
— Вполне можно, Викентий Иванович, — с подобострастием ответил Аниканов.
— Вот и отлично! А секретарем, или как там называется, можно назначить товарища Жернакова.
— Секретарь не назначается, Викентий Иванович, — улыбнулся Аниканов, — его избирают.
— Ну что ж, вот и пускай изберут его!
— А это уж как посмотрит бригада!
— Ага, так! Ну, хорошо, изберете его, товарищи? — обратился Саблин к бригаде.
— Изберем, — дружно ответили все, в том числе и ленинградцы.
— Вот видите, уже, считайте, избрали. У меня больше нет времени, дорогие друзья, — Саблин посмотрел на часы. — Я доволен результатом нашего разговора и надеюсь, бригада будет отличной. Мне пора ехать, до свидания…
Аниканов был явно недоволен столь поспешным отъездом Саблина. После того как Захар закончил свою речь, Аниканов, насупившись, долго записывал себе что-то в блокнот. Он готовился взять реванш: реабилитировать себя перед Саблиным и унизить Захара в его глазах. Теперь же, когда Саблин рекомендовал бригаде избрать Жернакова секретарем, Аниканов был окончательно разоружен. Но он все-таки выступил и рассказал об изгнании Захара с конного парка, о его дезертирстве, о том, как Захар опозорил своих земляков, и закончил так:
— В лице товарища Жернакова мы имеем морально неустойчивого комсомольца, у которого нет достаточной силы воли к преодолению трудностей. И вообще должен вам сказать, это бесхребетный человек. Так что вот смотрите, товарищи, — избирать его или не избирать.
— Ничего он не бесхребетный, напраслину нечего наговаривать! — отмахнулся Брендин, не глядя на Аниканова. — Это он покритиковал тебя, вот и стал плохим. Парень старательный и дельный. Избрать надо — и все тут!
— Правильно, — загудели голоса. — Давай голосуй!
Аниканов пожал плечами.
— Ладно, дело ваше. Тогда голосую. Кто за то, чтобы избрать Жернакова секретарем комсомольской группы вашей бригады, прошу поднять руки. Один, два, три… Там, сзади, повыше, а то темно, не видно отсюда.
— Да единогласно, нечего считать.
— Избирается единогласно. На этом считаю собрание закрытым.
Вместе с бригадой Захар возвращался к своим шалашам; Аниканов сразу же куда-то исчез. На западе уже остывала сгоревшая заря, над головой густела синь, испятнанная надвигающимися из-за Амура клочьями сизых туч. В тишине вечера дружно кричали лягушки.
— Завтра дождь будет, — заметил кто-то.
— Э-эх, не докончили шалаш! — вздохнул Брендин. — Будет эта рогожка болтаться, сто чертей ей!
— А хиба ж в дождь нэ можно робить? — спросил Пойда.
Дождь прошел ночью, к утру погода разъяснилась.
Бригада закончила шалаш часа за два до обеда и перешла на новое место. А после обеда Аниканов снял рогожное знамя, но в бригаду Брендина его не понес. Вскоре рогожка развевалась над другим недостроенным шалашом. И так же, как вчера в адрес бригады Жернакова, сегодня в сторону рогожного знамени летели насмешливые выкрики, свист, улюлюканье.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
После жаркого рабочего дня, когда до онемения натружено тело, до чего же сладко спится!
И снится Захару сон: кто-то старается столкнуть его с обрыва. Он отступает, а этот невидимый все теснит и теснит его. И чувствует Захар, что вот-вот сорвется и упадет вниз. В ужасе он весь сжимается, но вдруг, к великой своей радости, различает мигающий свет спички, а в бликах огонька — выписанное грубыми мазками теней худое лицо Феди Брендина.
— Вставай, Захар, ну, слышь, что ли, вставай быстрей! — настойчиво и встревоженно бубнит бригадир.
Захар широко раскрыл глаза.
— Что, что такое?
— Группа Марунина сбежала, вставай быстрей, а то не догоним.
Когда-то, в кавшколе, Захар по ночной тревоге за три минуты становился в строй. Сейчас он и половины того времени не потратил на сборы — сапоги мигом натянул на босу ногу, гимнастерку не стал застегивать, а ремень взял в руки, чтобы уже в пути подпоясаться.
— Как сбежали, куда? — приходя в себя, спросил он шепотом, так как на нарах заворочались его соседи.
— К Силинскому озеру подались, там у них лодка подготовлена.
На дворе тревожно и ветрено; угрюмо и многоголосо шумит тайга; по небу, то ныряя бронзовой уткой в кипящие черные тучи, то выныривая из них, спешит месяц. Довольно прохладно — середина августа, и по ночам чувствуется первое дыхание осени, но Брендин в одной нательной рубашке. В свете луны Захар видит его острые плечи и выступающие лопатки.
Они бегут, спотыкаясь о кочки и пни, перепрыгивая через кучи веток, оставшихся еще с корчевки. Наконец они выскакивают на горбину рёлки, протянувшейся вдоль озера. По черному простору озера гуляют волны, резкими вспышками зловеще вскипают беляки. С Амура доносится глухой гул шторма.
Брендин напряженно всматривался в купы тальников, темнеющих у воды.
— Неужто пустились в такую непогодь?
— Кажется, вон там… Видишь?
Вынырнул из-за тучи месяц, бросил скупой свет на взлохмаченное озеро, на берег; Захар и Брендин ясно увидели: под тальниковым шатром — длинная лодка, а в ней сбились в кучу чем-то занятые люди.
— Они, — выдохнул Захар. — Пойдем прямо?
Осталось пять шагов до лодки, когда сидящие в ней разом повернули головы, глядя молча и выжидающе.
— Ну, чем занимаемся? — спокойно спросил Брендин.
— Да вот мотор ремонтируем, — ответил за всех добродушный Карасев.
— Неудобное время выбрали: добрые люди давно спят, — с укоризной сказал бригадир.
— А чего же вас черти носят, когда добрые люди спят? — звонко спросил Еремкин.
— О вас беспокоимся, — ответил Брендин.
— О нас нечего беспокоиться, мы сами можем о себе побеспокоиться, — отозвался Марунин.
— Ну вот что, товарищи, — решительно сказал Брендин, став ногой на борт лодки, — побаловали — и хватит! Теперь пошли в шалаш.
— Мы там ничего не забыли, — с ехидством ответил Еремкин.
— А я думаю, что забыли, — сказал Захар, заходя с другого борта. — Комсомольскую честь забыли…
— Сам забывал — ничего, а вот мы забыли — плохо! Что-то не вяжется у тебя, Жернаков!
— Да, забывал, но вовремя спохватился. И по-товарищески советую вам тоже вернуться.
Еремкин угрожающе встал.
— Так вы что, пришли агитировать нас или арестовывать? А если мы вам морды набьем?
— Ну, ты не шебарши, Оська, — одернул его кто-то в лодке.
— Мы пришли поговорить с вами по-хорошему, — спокойно ответил Брендин.
— Слушайте, ребята, — сказал Жернаков, садясь на край лодки, — давайте поговорим, как комсомольцы. Неужели вам не стыдно, а? Неужели вам не понятно, как вы мараете честь Ленинграда?
— Ну ладно, говорить так говорить! — Марунин решительно поднялся, прошел к носу лодки и сел на переднюю банку против Брендина и Захара. — Сядь, Брендин, драться не буду.
— А ты думал, я боюсь?
— Ну, тем и лучше. Ты неплохой парень, Жернаков, и давай поговорим честно. Да, мы из Ленинграда, колыбели революции, — продолжал он. — Мой отец у Смольного дрался, понятно? Я потомственный рабочий. Но вы можете понять, что нам, людям со средним образованием, — все мы закончили рабфак, а некоторые учатся в вечерних институтах, да к тому же имеем пятый и шестой разряды, — вы можете понять, что нам тут делать нечего? Там, на заводах, не хватает специалистов, а мы тут должны копаться в земле, когда этими руками машины можно делать! А кроме того, скоро начнется учебный год. Если мы вовремя не приедем, нас исключат.
— Так за каким же чертом вы тогда ехали сюда? — раздраженно спросил Брендин.
— Вот в этом все и дело, товарищ бригадир! Нас обманули. Нам что говорили? Работать будете по специальности, зимой продолжать образование. Ничего этого нет — сами видите, и не скоро будет. А как вы считаете, должны мы думать о своем будущем? Да и потом же, вы видите, когда мы уходим? Мы подготовили вам жилье, а теперь не мешайте, нам тоже не сладко.
Марунин умолк, молчали и Брендин с Захаром. О корму лодки с хлюпаньем бились зыбучие волны, ее подбрасывало. Месяц то выглядывал из туч, и тогда лица ребят казались бледными, усталыми, то скрывался, и лица становились мрачными, суровыми.
— И что же, в этот шторм пуститесь? — спросил Захар, кивнув на озеро.
— Будем держаться берега. А нет — переедем на ту сторону, переждем шторм в тайге.
— У вас мотор? Где взяли?
— Сами сконструировали. Нашли в деревне заброшенную веялку, ну и перетаскали постепенно из нее все части. А гребной винт выстругали из березы и жестью обили.
— Как идет? Пробовали?
— Ничего ходит, если хорошо крутить рукоятку. Прошлой ночью испытали. Да вот стопорный болтик от рукоятки потерялся, из-за него и задержались, а то бы вы нас тут не накрыли.
— Слушайте, братва, — обратился Захар к ленинградцам. — Давайте вот так договоримся. До Хабаровска почти четыреста километров, и пускаться на такой душегубке в бурю дело гиблое, поймите! Бросьте вы эту затею и возвращайтесь в шалаш. О том, что вы хотели бежать, мы никому не скажем. Но зато я вот что вам обещаю: завтра пойду в партком, к Бутину, и постараюсь его убедить, чтобы вас отпустили по-хорошему в связи с тем, что строительство шалашей заканчивается. Есть у вас документы, что вы учитесь в вечерних институтах?
— Есть у меня и Карасева… Я ведь на третьем курсе, — сказал Марунин устало.
— Наверное, вас могут отпустить, — продолжал Захар. — Даже из армии в таких случаях демобилизуют досрочно. А если не отпустят, то напишут, чтобы вас считали как во временном отъезде. В крайнем случае, если Бутин не решит, напишем в крайком. Ну, а уж если вообще не отпустят, то будем всей бригадой добиваться, чтобы вам дали работу по специальности. Есть же лесозавод, кирпичный строится, автобаза создается, временная электростанция скоро начнет работать… В самом деле, подумайте, на кой черт вам рисковать жизнью и марать свою совесть? По себе знаю, как потом муторно бывает. Я и то насилу оклемался после побега… Ну хорошо, допустим, все обойдется благополучно. Но приедете вы в Ленинград, а уж там будут письма — и в горкоме комсомола, и на работе, и там, где учитесь, — что вы дезертиры… Так что смотрите, я вам по-товарищески советую — оставайтесь!
— Правильно говорит Жернаков, — угрюмо подтвердил Брендин. — Ваша затея — просто ребячество. Хотя вы и считаете себя очень грамотными, а не подумали, чем это может окончиться!
— Ну, вот что, — поднялся Еремкин. — Вы нам зубы не заговаривайте. Давайте, ребята, отчаливать, рукоятку я застопорил гвоздем.
— Да подожди ты, не верещи! — отмахнулся от него Марунин. — Слушай, Жернаков, дай честное комсомольское, что пойдешь завтра к Бутину! Откровенно говоря, мы сами думали так поступить: по-честному просить, чтобы нас либо отпустили на учебу, либо перевели по специальности, а мы бы заочно стали учиться. Но как-то увлеклись все этой идеей — бежать, так и пошли по инерции.
— Даю честное слово — все выполню! — заверил Захар.
Марунин решительно обернулся к своим.
— Я, братцы, пас. И вам не советую. Нужно действовать иначе. Они правы, — кивнул он на Брендина и Захара.
— А в самом деле, на черта рисковать? — отозвался Крамсков. — Да еще лодка течет. И фарватера не знаем. Потонем все к чертовой бабушке! Айда, ребята, а то завтра рано вставать.
В лодке закопошились.
— Тише вы, перевернете! — крикнул кто-то.
Постепенно все сошли на берег, снесли пожитки; в лодке остались только Еремкин и Скобелевский. Они о чем-то перешептывались.
— Ну, а вы? — спросил Захар.
— Двинем одни! — решительно отозвался Еремкин.
Захар обратился к остальным:
— Ребята, да повлияйте на них! Какого черта они дурака валяют, потонут же сразу! На Амуре такой бар бьет в косу, что даже на катере опасно выходить.
— А ну, Оська, и ты, Шурка, давайте на берег! — повелительно приказал Марунин. — Лодка не ваша, нужно ее вернуть.
— Отталкивайся, Оська! — крикнул Скобелевский и опустил весло в воду.
— Ах, вы вот как?! — Марунин прыгнул в воду, ухватился за нос лодки.
Еремкин и Скобелевский изо всех сил упирались веслами в дно, стараясь оттолкнуться от берега.
— Отойди, ударю! — Еремкин угрожающе поднял весло.
Но на помощь Марунину бросились все, кто был на берегу.
— Тащи, р-р-раз! — скомандовал Марунин.
Несколько рук дружно вытащили лодку. От сильного рывка Скобелевский взмахнул руками, плюхнулся с кормы в воду.
Марунин в один миг очутился в лодке, ловким ударом двинул Еремкина в скулу, и тот полетел за борт вслед за Скобелевским.
— Что вы делаете! — закричал Брендин и кинулся туда, где барахтался Еремкин. Схватив его за шиворот, как котенка, выволок на берег.
— Я тебе припомню это, гад!.. — отплевываясь и стряхивая воду, грозился Еремкин, исподлобья поглядывая на Марунина.
— Что ты сказал? А ну, повтори! — Марунин медленно подошел к нему.
Не успели Брендин и Захар опомниться, как Марунин снова сбил с ног Еремкина.
— Да вы прекратите или нет? — засучивая рукава рубашки, заорал Брендин и медведем двинулся на них.
— Ничего, товарищ бригадир, — стараясь успокоиться, сказал Марунин, потирая ушибленный кулак. — Это я ему за все отплатил. В том, что мы собирались бежать, половина его вины: это он замутил нам мозги. И лодку он украл! Примазался к нам, гад, за друга выдавал себя!
На следующее утро была ветреная, пасмурная погода, накрапывал дождь.
Захар отпросился у прораба, чтобы пойти в Пермское. Он собрался в партком к Бутину — поговорить о Марунине и его товарищах.
Захар пошел не по лесной дороге, где были непролазная грязь, а по релке, вдоль берега Силинского озера.
Гнетущую картину являли собой в ту пору и поредевшая от вырубок тайга, и посеревшая унылая ширь озера со вздыбленными гребнями волн, и темная, видимая лишь снизу до половины стена подножья правобережных сопок, и над всем этим — низкий глухой полог свинцовых туч. Повсюду только одни краски — грязно-серые, и нигде ни малейшего просвета! То ли эта унылая непогодь, предвещающая близкую зиму, то ли тревожная ночь — он так и не смог уснуть до рассвета, думая о беглецах, — но что-то угнетало Захара, нагоняло на него тоску.
Через полчаса тропинка привела его к обширной болотистой низине. Отсюда до села уже змеилась дорога-лежневка, недавно проложенная комсомольцами. В низине белели круглые зонты на высоких ножках; под ними у теодолитов работали геодезисты.
Присев на пень, Захар переобулся, отжал воду из портянок и осмотрел разбитые сапоги.
«Пожалуй, надо сегодня же перевязать веревкой, пока совсем не развалились!» — решил он.
Пока Захар переобувался, над тайгой сквозь расползшуюся, как ветошь, пелену туч начала просвечивать голубизна неба. Дождь перестал моросить, и скоро день совсем разъя́снился — нестерпимо заголубело огромное небо, настало вёдро, вся природа торжественно засияла, и Захар весело зашагал в сторону Пермского.
Партком помещался в старенькой избе с почерневшей тесовой крышей и бревенчатыми стенами. В комнатушке Бутина толпилось много народу, когда Захар заглянул туда из прихожей. Он решил подождать, пока все разойдутся, и присел на стул неподалеку от секретарши, вертя буденовку в руках.
Захар долго томился, пока из кабинета Бутина не начали выходить по очереди люди — Саблин в расстегнутой телогрейке, торчавшей из-под дождевика, Ставорский в распахнутой кавалерийской шинели, с неизменным орденом, начальники участков, прорабы. Последним вышел Бутин.
Захар вскочил, по армейской привычке вытянул руки по швам.
— Я к вам, товарищ Бутин, по неотложному делу.
— Ну, если неотложное, заходи! Да покороче — спешу. — И Бутин вернулся за свой стол.
Захар обещал ребятам не рассказывать о попытке бежать со стройки и, когда шел в партком, думал просто просить Бутина помочь им найти работу по специальности. Но, очутившись с глазу на глаз с этим человеком, Захар решил говорить всю правду. Ведь Бутин — это партия! Как же он может скрыть от него что-либо, обмануть? И он рассказал обо всем, что произошло прошлой ночью, — рассказал все без утайки. Говорил, а сам изучающе, пристально смотрел на Бутина. Захар видел, что этот озабоченный множеством дел человек был еще не стар. И ничего необычного не было в его облике: лоб с глубокими залысинами, уходящими под копну смоляных волос, моложавое лицо, только у рта две горькие линии, да от глаз, обведенных синевой, лучами пошли первые морщинки.
— Молодцы, молодцы! — воскликнул Бутин, когда Захар кончил свой рассказ. И сразу куда-то девались горькие морщинки у его рта, а улыбка разлилась по всему лицу — ясная, широкая. — Ну и ты решил идти ходатаем за них?
Захар сидел смущенный.
— А чего краснеешь? Правильно сделал!
— Видите ли, товарищ Бутин, — начал Захар, — мы с бригадиром обещали никому не говорить, что они хотели дезертировать.
— Значит, не сдержал слова перед товарищами?
— Не мог… В партком же пришел!
— Да-а, слово надо держать, но я умею хранить тайну! — Бутин улыбнулся. — Правильно, в общем, сделал. Ребятам же передай: пусть завтра с утра придут ко мне все. Конечно, о дезертирстве я и намекать не стану.
…Было уже около полудня, когда Захар отправился в обратный путь на свой участок. Солнце палило вовсю, но от влажной земли тянуло осенним холодком. Захар шел, весело насвистывая. Никогда еще, кажется, за все время жизни на стройке у него не было такого радостного настроения и удивительной легкости.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Вечером, перед окончанием работы, Аниканов пришел в бригаду. Марунина и его друзей здесь уже не было, они ушли в отдел кадров.
— Ну что, братцы, осиротели? — спросил Аниканов с напускной веселостью, здороваясь с каждым за руку. — Ничего, не унывайте, скоро вас пристроим к новому делу. Я к тебе, Захар, — переменил он тон, — по одному частному вопросу.
— Слушаю. — Захар всадил топор в пенек и вытер рукавом пот со лба.
— Мне нужно один на один с тобой. Пойдем вон туда…
Они отошли к куче досок, сели рядом. Захар снял буденовку, вытер лицо ее подкладкой, пахнущей потом, пятерней зачесал назад волосы. На разгоряченном лице его сквозь загар проступал румянец.
— Как самочувствие? — заискивающе спросил Аниканов. Он попросту стал побаиваться Захара, его прямоты. — Нога и ключица не дают знать о себе?
— Ногу иногда чувствую, а о ключице забыл.
— Девушка из Новочеркасска пишет?
— Молчит. Получил от дяди Степана письмо. Еще с мая лежало.
— Да-а, брат, почта наколбасила, — с видом осведомленного человека сказал Аниканов. — Недавно обсуждали на парткоме. Ну и всыпали же начальнику почты! Целые мешки, понимаешь, неразобранных писем!
— Слушай, Андрей, ты говори, по какому делу пришел, а то неудобно — бригада работает, а я тут прохлаждаюсь.
— Ничего, тебе, как групоргу, можно, — покровительственно заметил Аниканов. — Я вот зачем к тебе: хочу предложить одно интересное дело, Захар. Комитет решил подобрать из лучших комсомольцев нашего участка образцовую бригаду и бросить ее на строительство бараков. Бригада будет комплексная и должна стать ведущей в соревновании. Мне поручено подобрать людей и групорга. Хочу предложить твою кандидатуру. Как ты смотришь на это дело, а?
Захар, раздумывая, вертел буденовку.
— А кого бригадиром, неизвестно?
— Ваш Брендин будет, — шепотом сообщил Аниканов. — Викентий Иванович настаивает. Только ты пока не говори ему, ладно?
— Ну что ж, это правильно, бригадир что надо! А групоргом Каргополова. Лучше никого не найдешь, по-моему. Во-первых, у него уже опыт, а во-вторых, он умеет подойти к людям. На сплаве никого так не уважали, как Ивана Каргополова.
Аниканов долго молчал, потом заговорил удивленно:
— Я немного не понимаю тебя, Захар. Когда мы ехали в вагоне вместе, ты мне казался энергичным, собранным, к чему-то стремился, мечтал! А сейчас смотрю на тебя, и кажется мне, что ты вроде опустился и ничего тебя не интересует.
— Почему не интересует? — Захар усмехнулся, разглядывая след от звездочки на шлеме. — Я сейчас изучаю плотницкое дело, очень интересуюсь им, по вечерам книги штудирую — у Брендина взял. А в вагоне что? Мальчишества много было, розовые мечты. А о чем, и сам не знал. Столкнулся с жизнью, а она-то, оказывается, не такая розовая. А тут еще не попал сразу в ногу со всеми, как-то оторвало меня да еще больно ударило. Ты же помнишь на конференции — меня ведь судить хотели. Потом этот побег… От того, что было в вагоне, ничего уже не осталось, как от мыльного пузыря. Вот теперь решил одно определенное дело изучить — плотницкое. Профессия эта нужная на стройке. А там видно будет. Так что вот, Андрей, комсоргом я, может, и смог бы поработать, но раз ты хочешь подобрать лучшего человека для этого дела, то лучше Ивана вряд ли найдешь.
— Ну, а сам-то ты в эту бригаду пойдешь? — Аниканов недовольно посмотрел в лицо Захара.
— Плотником с удовольствием пойду, особенно с Брендиным, да еще с Каргополовым.
— Так, говоришь, Ивана Каргополова? Да, он вроде бы неплохой парень…
— Не то что не плохой, а очень хороший: трудяга, умница.
— Ты с ним дружишь? — холодно спросил Аниканов.
— А с ним многие дружат. Ну и я тоже.
— Да-а, зря у нас с тобой расклеилась дружба, — задумчиво сказал Аниканов. — Помнишь, как хорошо ехали-то! Последний кусок делили!
От этих слов Захару стало не по себе: Аниканов лгал в глаза.
— Когда ты критиковал меня на собрании, — продолжал Аниканов, — я полез в бутылку, сболтнул о тебе лишнее… В общем, давай забудем обо всем этом, Захар! Не вышло закадычной дружбы, давай будем просто товарищами.
Мучительно неловко было Захару слышать эту ложь, и он промолчал.
Через два дня комплектование бригады было закончено. Брендин, узнав о том, что его назначают бригадиром образцовой, сначала было наотрез отказался: «Куда мне такое!»
Отнюдь не ложная скромность руководила им, когда он говорил это. Года три назад Брендин еще батрачил у кулаков, кочуя из одной деревни в другую, и хорошо помнил нужду и унизительный кабальный труд. Темным, забитым, приниженным пришел он на строительство Днепрогэса. Там он обучился грамоте, плотницкому искусству, обрел чувство силы и гордости рабочего человека. Может быть, потому так и повзрослел он в свои двадцать четыре года и выглядел теперь степенным, по-мужицки рассудительным человеком.
Брендин не любил лишних слов и не терпел разгильдяйства и нерадивости в работе. И это сразу почувствовали все в бригаде, когда Брендин пришел на место Жернакова. Люди подтянулись, работа пошла слаженно и споро, о бригаде скоро заговорил весь участок. Поэтому не случайно выбор пал именно на Брендина, когда встал вопрос о том, кто должен возглавить образцовую, но стоило немалого труда уговорить его идти бригадиром.
Что же касается Каргополова, то он охотно согласился пойти комсоргом в образцовую, тем более что в бригаде оказалось много тех товарищей, с кем он был на сплаве и лесозаготовках.
Росным прохладным утром стали разбивать площадку для первого барака. Как и всегда, в первый день было много сумятицы, шума, сутолоки. Это, пожалуй, объяснялось избытком энтузиазма, с которым брендинцы взялись за работу, сознавая свою особую роль.
Захар работал в паре с Каргополовым. Никогда в жизни он не испытывал такого наслаждения трудом! Чувствовать себя в одном строю со всеми, ощущать рядом плечо друга — может ли быть что-либо прекраснее!
Захар работал вдохновенно. В нем в эти дни совершался перелом. Впервые после выхода из госпиталя, когда он бесповоротно расстался с мечтой детства и утратил цель жизни, Захар вдруг по-новому начинал видеть мир во всей его многокрасочности и в нем — себя, свое призвание.
Но уже на второй день настроение упало: оказалось, что возчики не подвезли столбов. Работа остановилась. Поднялся шум:
— Это же безобразие! Зачем нужно было называть бригаду образцовой, если не дают работать!
— Товарищи, надо вызвать самого начальника!
— Пойдемте в партком!
Случилось так, что как раз в это время приехал на участок Бутин. Он ходил неподалеку с прорабом, когда бригада митинговала.
— Что там такое? — спросил Бутин прораба — высокого, грузного человека с сонными глазами. — А ну, пойдем послушаем.
Услышав, о чем кричат, Бутин протиснулся в середину.
— Не все сразу, товарищи, давайте установим порядок. Я из парткома, Бутин моя фамилия. В чем дело?
— Тише! — крикнул Брендин. — Я все объясню товарищу Бутину.
Выслушав его, Бутин пригласил прораба в круг и спросил так, чтобы слышала вся бригада:
— Эдуард Михайлович, почему не подвезли вовремя столбы для фундамента?
Прораб удивленно вздернул плечами.
— Заявка Ставорскому дана еще позавчера. Транспорт не обеспечивает.
— Должен обеспечивать! У Ставорского есть график подвозки материалов ко второму участку?
— Да, но ведь они же раньше своего графика выкопали котлованы под столбы, — возразил прораб.
Бутин замотал головой.
— Не-ет, так дело не пойдет! Вот что, товарищи, — обратился он к бригаде. — Я предлагаю начать соревнование с возчиками. Пригласите их к себе и обсудите.
— Правильно, нужно их немного прижать, а то работают, как на дядю.
— Пускай потягаются с нами!
Вечером неподалеку от площадки собрался целый обоз. Для переговоров к бригадиру пришел Пригницын. Смоляной чуб его закрыл весь козырек лихо сбитой на макушку кепки. Плотники обступили Пригницына. Они галдели, ругали возчиков, а он, отставив ногу, стоял в гордой позе, играя своими шельмоватыми глазами, и улыбался так, словно бы его не касалось все, что происходило здесь. Разглядев в толпе Захара, он махнул ему:
— Га, Жернаков, друг, здорово! Чегой-то все тут шумят?
Захар протиснулся к Пригницыну.
— Здорово, друг, здорово! — весело говорил тот. — Ну как? Тут мантулишь?
— Не мантулю, а работаю, — поправил его Захар. — А ты чего здесь?
— Соревнование пришел заключать, друг. Сам прораб прислал. Я, друг, теперь начальник, каким ты был! Ну, давай, бригадир, какое тут у тебя соревнование нужно заключать? — обратился он к Брендину.
Комсомольцы захохотали.
— Вот, черт, вроде лошадь пришел торговать! — в восторге заверещал Бонешкин.
— Да он дурака валяет, прикидывается, — заметил кто-то.
— Запиши наши требования, — сказал Брендин, — передашь их своему начальнику, и обсудите на бригаде.
— С превеликим бы удовольствием, дорогой, но грамоте только обучаюсь. — Пригницын оскалился в плутовской улыбке.
— Так за каким чертом ты пришел? — возмутился Брендин.
— Соревнование заключать, — как ни в чем не бывало ответил Пригницын.
— Ну тогда запомни наши условия: мы взяли обязательство каждый день выполнять задание на сто пятьдесят процентов. Мы вызываем вас на соревнование, чтобы возчики обеспечивали нам двухдневный запас материалов.
Пригницын хитро погрозил пальцем.
— Э-э, дорогой, меня не обманешь! Тебе подвезу на два дня, а что скажут в других бригадах? Давай, скажут, и нам на два дня! И тогда выйдет, что вы будете отдыхать, а мы должны мантулить! Не согласен, дорогой.
— Ну, а ты что предлагаешь? — спросил Каргополов.
— Я ничего не предлагаю. Чего мне предлагать?
Каргополов безнадежно махнул рукой.
— Видно, мы тут не договоримся. Завтра с утра сходим в конный парк и там на месте все обсудим с комсоргом.
— Ну все, дорогой? — спросил Пригницын. — А то нам лошадей кормить пора.
— Ладно, валяйте! — Брендин махнул рукой.
Пригницын повернулся к Захару.
— Слышь-ка, Жернаков, пойдем-ка со мной, друг. У меня к тебе дело…
Когда они отошли в сторону от толпы, Пригницын спросил:
— А послушай-ка, Жернаков, ты с Любкой крутишь?
— А что?
— Да так, спросить хотел.
— Ничего я с ней не кручу. Просто знакомы — и все, жил у них немного… А ты жениться на ней хочешь?
— Ага. Кто тебе сказал?
— Да никто не говорил.
— Эй, не бреши, друг Жернаков. — Пригницын лукаво заиграл глазами. — Кто-то стукнул тебе. Так вот что, раз у тебя с нею нет ничего, тогда не мешай мне, — в голосе его послышалась угроза. — Договорились?
— А что нам договариваться? Меня это не касается.
— Ну и баста! Дело ясное. Она от меня не открутится.
Пригницын проговорил это с угрозой, и у Захара тревожно сжалось сердце.
— Это все, что ты хотел мне сказать? — спросил он.
— Все, друг. Чтоб мы не столкнулись на одной дороге… Знаешь новость? Харитона Ивановича повышают.
— Да? На какую должность?
— По снабжению будет ворочать. Я вот подучусь, и он обещал тоже повысить меня — буду всеми возчиками командовать.
С чувством необъяснимой тревоги ушел Захар от Пригницына.
Назавтра, рано утром, делегация строителей — в ней были Каргополов и Захар — пришла в парк. Возчики еще не покинули двор. Ставорский вызвал Пригницына. Протянув ему лист бумаги с проектом договора на соревнование, Ставорский коротко сказал:
— Подпиши.
Пригницын нацарапал внизу каракули и вернул лист.
— Разрешите идти, Харитон Иванович?
— Да. И чтобы с сегодняшнего дня в бригаде товарища Брендина постоянно был двухдневный запас материалов.
— Есть, Харитон Иванович.
С этими словами Пригницын ушел.
Каргополов удивленно развел руками.
— Какое же это соревнование? Это просто приказ.
— А они все равно ничего в нем не понимают, — спокойно ответил Ставорский. — Вы не беспокойтесь, товарищи, они все сделают как надо.
— Харитон Иванович, а в бригаде есть комсомольцы, кроме Пригницына? — спросил Захар.
— Один еще есть — Куделькин. Но он такой лентяй, что ему не соревнование нужно, а хорошая палка.
Делегация ушла от Ставорского обескураженной. За воротами Иван сказал:
— Честное слово, он сам не понимает, что такое соревнование! Да разве ж может так относиться к этому делу руководитель?
— Вообще-то он человек со странностями, — согласился Захар. — Я с ним работал, но не понимал его никогда. А теперь он почему-то приголубил этого Пригницына и еще одного типа, Рогульника. И поселил их к себе на квартиру. А у меня никакого доверия к ним нет.
— Да, странно, странно… — Меж белесых бровей Ивана пролегли две глубокие складки.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Наступила осень — золотая пора в Приамурье. Ярче стала синева неба, будто вымыли его от летней мглы и знойной мути зачастившие дожди. В по-восточному пестрые платья переоделась тайга, еще вчера носившая только темно- и светло-зеленое.
Первыми нарядились в солнечно-желтые сарафаны рябина и горный тальник, рано поддающиеся холодным утренникам. Потом продрогли и пожелтели осинник, береза и лиственница. В вишнево-багряный цвет, хватающий за душу своей волшебной красотой, приоделся осанистый клен. Буровато-красным стал багульник, загрустивший на оголившихся склонах сопок. Только ель, пихта да кедр не собирались менять своих одежд: все такими же темно-зелеными стояли их толпы в хвойных шубах.
Лучшее время года на Дальнем Востоке сентябрь. Выйди ясным тихим утром в тайгу и попадешь на осеннюю ярмарку природы. В глазах рябит от невообразимого смешения красок. Стрекот, свист, пронзительные вопли наполняют лес — то резвятся выводки нынешнего лета. Они не нуждаются больше в родительской опеке: природа наготовила им уйму еды — ягод, орехов, грибов; и теперь они, ошалев от восторга, празднуют свое совершеннолетие, не подозревая о том, что грядет зима, а с нею жестокие морозы и лютые вьюги, злые хищники и голод.
Менялось лицо природы и там, где рождался новый город. На обширной равнине в левобережье Амура, за селом Пермским, лежала исхлестанная дорогами, тропами и канавами нагая земля, отвоеванная у дебрей и болот. Лишь пни да рытвины, мелкий кустарник да кучи слежавшегося за лето хвороста остались там, где прошли бригады корчевщиков. Далеко отступила стена тайги, исщербленная квадратами, клиньями, полукружьями вырубок.
Изменился пейзаж возле Силинского озера и шумливой речки Силинки: лесозавод и столярная мастерская с навесами, шеренги шалашей, обмазанных глиной, большая рубленая баня — все это уже образовало настоящий поселок. Поодаль вытянулись линии приземистых бараков, а выше села Пермского, возле устья Мылкинской протоки, начинали обозначаться контуры кирпичного завода.
Единственная улица села Пермского никогда еще не видела такого многолюдья. Более трех тысяч новых строителей приехало за лето, а пополнение все прибывало и прибывало. Под осень начали появляться вербованные рабочие с семьями, с домашним скарбом. В верхнем конце села стал возникать «Копай-город» — так окрестили землянки, которые сооружали семейные рабочие в песке обрывистого берега. На избах Пермского появились надписи на жести и фанере: «Коммунально-бытовой отдел», «Редакция «Амурский ударник», «Сберкасса», «Госбанк», «Управление Дальпромстроя» и множество других, указывающих на то, что здесь прочно обосновался новый административный центр.
А к берегу, заваленному грудами ящиков, мешков, лаптей, кирпичей, труб, теса, частей каких-то механизмов, приставали все новые пароходы с людьми и караваны барж, доверху груженных оборудованием.
Один за другим следовали комсомольские авралы по выгрузке барж и пароходов. Участие в авралах было добровольным, но кто мог остаться в шалаше, палатке или на чердаке, когда вдруг в темноте появлялся человек с фонарем в руках и кричал тревожно: «Аврал, товарищи!»
Чертыхаясь, перебрасываясь шутками, все быстро одевались и, спотыкаясь в темноте, брели к пристани.
В конце сентября на очередной аврал была поднята и бригада Брендина. Ночь стояла кромешно-темная, дул холодный ветер, моросил дождь. От шалашей до пристани — километра три. Длинная вереница людей глухо гомонила в темноте, вытянувшись по дороге. Кто-то громко выбивал зубами дробь, кто-то вслух мечтал о том, как хорошо бы забраться на теплую печь да всхрапнуть, кто-то рассказывал анекдот, и вокруг него вспыхивал смех. Пока добрались до пристани, все изрядно вымокли.
Захар думал о той силе, что заставляла разнохарактерных, подчас и необузданных ребят стойко выносить все эти невзгоды. Ему вспоминались ночные тревоги в кавшколе, когда вот так же приходилось мчаться куда-то, забывая про сон, про отдых. Но там действовали устав и приказ, а здесь? Да тот же Иванка-звеньевой или щупленький, заполошный Бонешкин скажет: «Пошли вы ко всем чертям! Я весь день работал, спать хочу», — и попробуй заставить его приказом в ночь и непогоду идти разгружать баржи! Ан нет, он хоть и ругается и бывает зол, а делает именно то, к чему призывают его.
Себя Захар в счет не брал: у него была армейская закалка, он давно втянулся. А у большинства и этого не было. Значит, он еще не измерил всей глубины комсомольского сознания, что движет поступками этих ребят? Значит на них, как и на себя, можно положиться в любой, самый отчаянно-критический момент? И это еще больше привязывало Захара к товарищам.
Бригада выгружала из трюма водопроводные трубы. Обвязав трубу веревкой, человек десять впрягались в нее и вытаскивали груз сначала из трюма на палубу, а затем — «раз, два — взяли!» — волокли на берег.
Закончили разгрузку баржи около полудня. Погода к этому времени прояснилась, небо заголубело, да так ярко, будто его всю ночь чистили и драили. Успокоился и волновавшийся ночью Амур.
Комсомольцы долго отдыхали, любовались величественным простором реки. Некоторые уснули, свернувшись комочком, пригретые скупым теплом солнца. Все ждали обеда, который должны были подвезти на пристань.
Захар и Каргополов сидели рядышком. Перед ними лежала пристань, заставленная баржами и пароходами. По сходням тянулись цепочками грузчики. Стоял шум, гомон, а над всем этим — сиплое дыхание пароходов, железный лязг лебедок.
— И на черта заказали обед сюда? — ворчал Захар. — Пришли бы на участок и пообедали. Все в животе подтянуло, аж тошнит.
— Думали, что не управимся до обеда, — скучно говорил Каргополов. — Да-а, я вот сейчас смотрю, Захар, на всю эту красоту, а душа, брат, спит! Оказывается, на голодный желудок и красота не красота. К чему угодно можно привыкнуть, а вот к голоду — никак не получается!
В это время к ним подъехала подвода с бидонами. Между ними сидела Кланька, придерживая крышки. Темные шелковистые волосы ее выбились из-под красной косынки, веселыми завитками обрамляя пышущее румянцем лицо. Позади нее сидела Любаша.
— Вон твой! — прошептала Кланька, кивнув на Захара.
Долго не могла решиться Любаша повидаться с Захаром. Она еще не отдавала себе отчета в том, что происходит в ее душе. Может быть, это и есть любовь? Та самая, о которой пишут в книгах? Ах, как она была раньше слепа и глупа! Он жил у них, а потом по соседству, в бормотовском леднике, можно было видеть его каждый день… Теперь, работая на почте, Любаша ревниво просматривала каждую очередную пачку писем, доставляемую с пароходов. И вот в одной из пачек нашла письмо ему, Захару Жернакову. Почерк круглый, пакет пухлый, должно быть, много написано, а внизу, где обратный адрес, стояла фамилия: «Горошникова А.» Это от нее… Два дня носила Любаша письмо и все это время была на грани искушения — вскрыть, прочитать. Но Любаша не могла этого сделать — слишком чиста была ее душа.
Встретившись взглядом с Захаром, она радостно зарделась и показала конверт. Захара будто ветром сдуло со штабеля. Не подозревая того, как больно ранит он душу девушки, Захар схватил письмо и с нетерпением вскрыл.
Долго стояла Любаша возле телеги, растерянная и расстроенная, не зная, что делать. Потом отошла, с неловким чувством присела неподалеку от Захара. Никогда она еще не испытывала такого подавленного состояния, как в эти минуты, ей мучительно хотелось разрыдаться.
Наконец Захар прочитал письмо, взглянул на Любашу, и глаза их встретились. Захар понял, что с Любашей неладно: никогда в ее взгляде не видел он столько печали, плохо скрытой за жалкой, растерянной улыбкой.
— У вас что-нибудь случилось, Любаша?
— Нет, ничего у меня не случилось, Захар, — ответила она, стараясь казаться беспечной. — Ну, что пишет твоя девушка?
— Зовет обратно, — коротко ответил Захар.
— Ну и как ты? Поедешь? Или будешь ждать тут?
— Не знаю.
— Почему не знаешь? — Любаша вся насторожилась, впилась глазами в лицо Захара.
— В общем, не подумал еще, — уклончиво ответил он, отводя глаза.
— Захар, иди получай свою миску! — нараспев, игриво позвала Кланька. — Оставила тебе самую гущу.
Любаша не сводила глаз с Захара, пока он ел. А ел он жадно, набирал ложку до краев и нес ее ко рту осторожно, чтобы не расплескать. С такой же жадностью он съел кашу с соленой рыбой.
Любаше больно было смотреть на все это. С каким удовольствием она повела бы его домой и накормила досыта!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
За окном осенняя непогодь. По стеклам дробью секут косые струи дождя, порывистый ветер бешено стучится в раму.
Засунув руки в карманы синих кавалерийских галифе, Ставорский нервно прохаживается по комнате. Половицы из сырых досок жалобно поскрипывают под его тяжелыми шагами. Он недавно переселился в эту комнату нового рубленого дома для инженерно-технических работников, выстроенного на отшибе. Грубо обтесанные бревна с прядями пакли в пазах, наскоро сколоченный из досок стол, железная койка, полушубок, пахнущий овчиной, на гвозде, вбитом в бревно, — неуютная обстановка! Но зато здесь никто не подслушает: дверь обита толстым слоем войлока и мешковиной.
Ставорский нервничает, часто посматривает на луковицу серебряных часов. Время от времени останавливается у окна, смотрит на Амур. Там, по неоглядной излучине почерневшей реки, бегут, перекипая, гряда за грядой волны с белыми бурунами на горбинах. Далеко-далеко, под тем берегом Амура, возле Пивани, сквозь мглистую сетку темнеет кургузый катеришко. Отчаянно борясь с волнами, он тащит на буксире плоскую халку[1], груженную камнем. Кажется удивительным: почему она не тонет? Халка то и дело исчезает с поверхности воды, и каждый раз кажется, что она уже потонула; но нет, черная ее полоска вновь и вновь появляется позади катера.
А у этого берега Амура дымят пароходы — два буксира и один пассажирский. Последние. Сегодня должны уйти. За ними, подальше, — вереницы барж. По сходням бегут цепочки людей с мешками, ящиками, с «козами» на спинах, нагруженными кирпичом. Хотя время только к полудню, за окном до того пасмурно, что кажется, опускаются сумерки.
Осторожный стук в дверь.
— Войдите! — Ставорский круто повернулся от окна.
Кто-то дернул за ручку и затих.
— Да сильнее! — крикнул Ставорский, шагнул вперед и ударом ноги с треском распахнул дверь.
— Здравия желаю, Харитон Иванович, — просипел гость простуженным басом.
— Закрывай быстрей дверь, холода напустил! — вместо приветствия недовольно сказал Ставорский.
— Дозвольте раздеться?
— Раздевайся.
Гость, бывший казачий урядник Карнаухов, снял дождевик, стряхнул с него воду у порога, потом стащил старый ватник и все это повесил на гвоздь рядом с полушубком хозяина.
Ставорский покосился на ватник, спросил:
— Вшей нет?
— Что вы, что вы, Харитон Иванович, я за собой слежу.
Карнаухов разгладил на круглой, как шар, почти облысевшей голове реденькую поросль, вытер рябое, глянцевито-бурое лицо довольно грязным платочком, потом долго сморкался. Был он невысок, до уродливости широк в плечах, отчего голова казалась по-детски маленькой. Тускло-свинцовые глазки его то живо бегали, то застывали, нацеливаясь на собеседника или на какой-нибудь предмет.
— Спирт принес?
— А как же, Харитон Иванович, раз велено…
— Доставай.
Карнаухов запустил руку в карман дождевика, извлек бутылку, туго закупоренную грязной бумажкой. На столе появился кусок кетового балыка, краюха черствого хлеба.
— Ну, за что же выпьем, Харитон Иванович? — спросил Карнаухов, поднимая стаканчик — мыльницу от бритвенного прибора, — до краев наполненный разведенным спиртом.
— Сейчас придет одна женщина, — вполголоса сказал Ставорский. — Она передаст важные указания. Так вот давай за объединение сил.
— Ну, за объединение так за объединение.
Они выпили, закусили молча.
— Там у тебя, говорят, двое новых? — Ставорский исподлобья посмотрел на Карнаухова.
— А кто сказал?
— Кто же может сказать, кроме верных людей!
— Появились двое старых дружков Рогульника. Но я их еще не видел. Сказывают, вместе скрывались на прииске в прошлом годе. Обещал привести. На рыбалку вместе поедем. Там и прощупаю их.
— Если будет что-нибудь порядочное, приведешь ко мне, — сказал Ставорский, снова берясь за бутылку. — Зимой предстоят важные дела.
Ставорского и Карнаухова связывал очень маленький и непрочный узелок, но концы его уходили за рубеж, в Маньчжурию, и там переплетались в большой и запутанный клубок.
Сложное это было время на дальневосточной границе. Прошло только девять лет, как отгремели залпы гражданской войны на Дальнем Востоке. Но остатки контрреволюционных армий, выброшенных с советской территории, не ушли далеко. В большинстве своем они разбрелись рядом с границей, в Маньчжурии. Авантюристы, профессиональные убийцы, бывшие каратели, лишенные родины и крова, рыскающие в поисках поживы, готовы были служить кому угодно за один только приют и корм.
Так образовался довольно дешевый рынок наемников. Словно воронье на падаль, со всего света слетались сюда агенты империалистических разведок — заправилам капиталистических держав требовались шпионы и диверсанты для борьбы против первого в мире рабоче-крестьянского государства.
В конце концов всем этим отребьем завладела японская военщина, захватившая Маньчжурию.
Не успели еще японские заставы расположиться на линии границы, протянувшейся более чем на три тысячи километров от Южного Приморья до Забайкалья, а японская разведка уже приступила к делу. Поначалу, для видимости, японцы объявили о своем намерении объединить русскую белоэмиграцию и чуть ли не предоставить ей автономию. Этим они старались привлечь на свою сторону симпатии битого контрреволюционного «воинства». В действительности же все делалось как раз наоборот — они разъединяли белоэмиграцию и по частям подчиняли себе.
Стали возникать различные тайные общества и организации со своими программами и целями, но неизменно направленными против Советского государства. Среди них была и кулацкая религиозно-фанатическая организация «Приморские лесные стрелки», созданная преимущественно из беглых казаков-богатеев. Ее конечной целью являлось восстание крестьян против Советской власти и отделение Дальнего Востока от России. А пока она перебрасывала через границу банды, которые охотились за коммунистами и советскими работниками, поджигали и уничтожали колхозное имущество. Засылались на советскую территорию и агенты, подобные Карнаухову. В их задачу входили диверсии и подбор агентуры на месте.
Что касается Ставорского, то он принадлежал к другой, более «аристократической» организации — «Русскому офицерскому братству». Это были монархисты, лозунг которых «За царя и отечество» хотя и изрядно обветшал, но еще находил сторонников среди белой эмиграции.
Были и другие общества и организации, кормившиеся из одного котла, но провозглашавшие свои собственные иллюзорные программы. Представителя — а вернее, связного — одной из таких организаций теперь и ожидали Ставорский и Карнаухов.
Не успел он налить кружку, как дверь с треском отворилась. В комнату шумно вошла высокая молодая женщина в мужском полушубке с отвернутыми краями рукавов и пыжиковой шапке, лихо сдвинутой на затылок; из-под шапки волнами выбивались темные блестящие волосы, обрамляя смуглое лицо. Благородный, будто светящийся, овал нежного лица, большие глаза, черный бархат бровей можно было заметить и в тысячной толпе. Это была «амурская Кармен» — стенографистка управления Лариса Уланская.
— Лариса Григорьевна, дорогая, ну нельзя же заставлять людей столько ждать! — Ставорский поцеловал ей руку, помог раздеться.
— Харитоша, тебе противопоказано нервничать. — Уланская потрепала его по щеке длинной изящной ладонью. — Здравствуйте, Карнаухов, — безразлично бросила она гостю.
— Гм-м, виноват. — Карнаухов привстал, глуповато глядя на гостью. — Здравствуйте, как вас…
— Лариса Григорьевна.
— Здравствуйте, Лариса Григорьевна. А мы с вами вроде бы…
— Вроде бы незнакомы? Я давным-давно знаю вас, Карнаухов. — Уланская взбила копну волос на голове, одернула декольтированное платье, слегка обнажив смугловато-белую грудь. — Спирт пьете? Какая гадость, никак не могу привыкнуть. Но все равно налейте каплю.
Она по-хозяйски уселась на койку у стола и, открыв сумочку, извлекла сложенную вдвое тетрадь для стенографирования.
— Я не могу долго засиживаться с вами, — сказала она, приняв из рук Ставорского алюминиевую солдатскую кружку и запросто опрокинув ее содержимое в рот.
Ставорский подал воды. Уланская запила спирт, погрызла балык и как ни в чем не бывало продолжала:
— Скоро у Коваля начнется совещание, и я должна там стенографировать. Вот что содержится в директиве, прошу внимательно слушать.
Она раскрыла тетрадь и стала вполголоса читать:
— «Задачи подпольного движения сейчас меняются. Главной из них, помимо собирания боевых сил, что было и прежде, теперь является активизация подрывной деятельности по всем линиям. Обстановка в стране, как никогда, обострена: назревает революционный кризис, и все это должно быть учтено.
Уязвимых мест на строительстве три: транспорт, материально-техническое снабжение, питание рабочих. Без транспорта нельзя заготовить деловой древесины, подвезти дров, камня, гравия, песка. Некомплектность оборудования сорвет промышленное строительство. Хаос в учете и хранении материалов создаст условия для хищений и порчи. Этот хаос и дальше усугублять. Необходимо добиться такого положения, чтобы запасы проволоки, железа, гвоздей, болтов, кирпича были за зиму рассеяны по всей строительной площадке так, чтобы их невозможно было потом учесть и использовать. Начнется весенняя распутица, и все утонет в грязи».
Уланская откинула упавший на глаза локон и продолжала:
— «Что касается питания, то само руководство стройки помогает нашей подрывной деятельности. Запасы продовольствия учитываются на глазок, мука отпускается в пекарни и столовые без веса, без нарядов и расписок. Такие положения и впредь необходимо поддерживать. И мы окажемся скоро свидетелями того, как запасы продовольствия будут разворованы.
Очень хорошо, что баржи с сапогами ушли на Николаевск. До ледостава вернуть их уже не удастся. Надо бы то же самое сделать с полушубками и валенками, но теперь поздно.
Политический смысл всего, о чем сказано выше, — продолжала читать Уланская, — состоит в том, чтобы кризис на стройке зрел постепенно и согласовывался с нарастанием общего кризиса по всей стране. Кульминационный пункт — организованный саботаж и всеобщий голод, по нашим подсчетам, предвидится где-то в апреле. Тогда и должны начаться беспорядки, которые создадут необходимый хаос и благоприятные условия для нашего организованного выступления. Мы начнем его сразу с восстания и подвозки американского хлеба».
Все то время, пока Уланская читала, за столом никто не произнес ни слова. Карнаухов жевал балык, Ставорский с аппетитом обсасывал кетовую шкурку. Уланская, подперев нежный подбородок ладонью, вся сосредоточилась на расшифровке стенограммы.
— «О кадрах. Задача состоит в том, чтобы к весне у вас была создана сильная боевая организация. Необходимо сколотить ударную группу. Надо выявить и точно учесть все наличие оружия и в нужный момент мгновенно захватить его. Должны быть арестованы руководители строительства под тем предлогом, что они виновники голода и бесхозяйственности. Карнаухову возглавить ударную группу. Его задача — осуществить военную операцию. Политическая часть будет осуществлена другими.
И последнее: среди руководителей строительства наблюдается серьезный разброд. Секретарь парткома и начальник строительства настолько далеко зашли в своих разногласиях и борьбе, что это перерастает в факт политический. Необходимо всячески поощрять антагонизм, содействовать сколачиванию противодействующих группировок вокруг них. Это усугубит трудности в руководстве строительством».
Уланская положила руки на листки, испещренные стенографическими знаками, и сказала, устало глядя в лицо Ставорского:
— Вот и все. Шеф просил все хорошо продумать.
— Лариса Григорьевна, — заговорил первым Карнаухов, — скажите, ради бога, почему он сам не захотел показаться нам?
— Не прикидывайтесь, Карнаухов. Вы же отлично знаете, что такое конспирация.
— А он как будет — московский аль хабаровский?
— Из Москвы.
— Постоянный тут аль на время посетил? Это я к тому, что там сказано про политическую власть: дескать, ею руководствовать будут другие. А которые эти другие? Кого они из себя представляют, какую власть? Мне это очень даже нужно знать.
— Я политических вопросов не касаюсь. — Уланская решительно сложила свои записи в сумочку, встала. — Разговор этот ведите с Харитоном Ивановичем. Проводи меня, Харитоша.
Уже в коридоре Уланская повернула к нему голову и шепнула в раскрасневшееся от спирта лицо:
— Я приду к тебе вечером, Харитоша, не возражаешь?
— Буду рад, Ларочка.
Оставшись вдвоем, Ставорский и Карнаухов распили остаток спирта.
— А все-таки вы мне скажите, Харитон Иванович, — спросил Карнаухов, — какую политическую власть они думают посадить? Я к тому это говорю, что сходится она с нашей, крестьянской, аль нет? У нас же, у «Приморских лесных стрелков», думка — прогнать коммунию с Дальнего Востока, а потом отделиться от России.
— Отделиться вам все равно не позволят. — Ставорский встал, сыто выпятив грудь. — А если и отделитесь, то Россия быстро вас раздавит.
— Так у нас же союзник — Япония.
— Ну, так союзник проглотит вас!
— Не должно быть.
— Сила России была и есть в ее единстве. А то, что вы задумали отделиться, — ерунда… Ну ладно! Рано делить шкуру медведя. Тебе пора. Не вздумай заходить ко мне. Когда потребуешься, сам разыщу!
* * *
Незадолго до наступления сумерек пасмурные просторы огласил басовитый, тревожный своей нескончаемостью хор пароходных гудков. Эхо волнами катилось через болотистую топкую низину, через зябко торчащие среди пней шалаши к Силинскому и Мылкинскому озерам, в таежную даль, завешенную сеткой дождя.
— Что это они так гудят? На пожар, что ли? — спросил Брендин.
— А знаете, что это? — сказал Каргополов. — Это же последние гудки. Последние пароходы уходят!
Ребята прислушались. Мокрые, посиневшие, не обращая внимания на моросящий дождь, они стояли, думая каждый о своем. У всех в эту минуту сжалось сердце. На целые полгода обрывается связь с внешним миром. Что-то готовит зима?..
Но вот гудки смолкли.
— Всё! — произнес кто-то. — Теперь дезертиров не будет — некуда бежать.
Все засмеялись и неторопливо зашагали своей дорогой.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Весь конец октября и начало ноября стояла промозглая погода. Над Амуром и сопками ползли свинцовые тучи, из них то и дело сыпалась холодная изморось. Строительная площадка превратилась в сплошную торфянистую топь, вымешанную тысячами ног и колес. Сотни людей в эту пору не выходили на работу; они сидели без обуви — обещанные сапоги так и не попали на стройку.
Но вот, проснувшись утром седьмого ноября, все увидели: кругом белым-бело! За ночь навалило снега почти до колен. Свежий, пушистый, он напитал воздух сладким бодрящим запахом, сделал все вокруг празднично-нарядным и торжественным.
Не успели собраться колонны демонстрантов, чтобы идти на митинг, как снова повалил снег. Стало удивительно тихо, снежинки падали медленно, будто с неба спускались тучи легких мотыльков; было слышно, как они шуршат. Когда же колонны пришли на Песчаную сопку к наскоро сколоченной простенькой трибуне, снег падал стеной. Звуки духового оркестра и голоса ораторов глохли в снежной кутерьме.
А за полдень подул ветер — все сильнее да сильнее, и началась пурга: казалось, весь снег поднялся в воздух и закружился в шальном хороводе.
Так пришла и окончательно водворилась на Амуре зима.
Вскоре после Октябрьских праздников собралось расширенное заседание парткома Дальпромстроя. Кроме членов бюро, на заседание были приглашены руководители отделов, секретари партячеек, начальники участков, партийные и беспартийные, в том числе Саблин, Ставорский, Липский. Заседание проводилось в просторном кабинете Коваля, в недавно перестроенном кулацком доме.
Фалдеев появился в сопровождении Кривоногова и Панкратова — все они были одеты в белые солдатские полушубки, — когда в приемной начальника строительства уже толпилось довольно много людей. Едва заметными кивками отвечая на приветствия, тройка с решительным видом прошла сквозь клубы табачного дыма в кабинет, не постучавшись в дверь. Вскоре туда же прошел Бутин, на ходу пожимая руки.
— Ну и будет же сегодня драка, братцы! — послышался насмешливый голос из угла, когда дверь в кабинет захлопнулась.
— С чего это ты взял, Савенков?
— А не видишь, Фалдеев-то темнее тучи!
— Он всегда такой, — неодобрительно промолвил низкорослый толстяк с бритой шишкастой головой и черной повязкой на глазу — начальник отдела кадров Шаповалов. — Власть не могут поделить…
Все, кто знал подоплеку отношений секретаря парткома и начальника строительства, не могли не чувствовать, что действительно гроза надвигается.
Войдя в кабинет начальника строительства, Фалдеев не подошел к столу Коваля, а лишь коротко бросил «здрасьте» и стал снимать полушубок. Только повесив его на крючок поодаль от кожаного пальто Коваля и зачесав назад жиденькие черные волосы, отчего они заблестели, сказал:
— Народ собрался. Начнем?
Коваль вышел из-за стола.
— Что ж, я готов.
На его место бесцеремонно водворился Фалдеев, и тотчас же Кривоногов услужливо положил перед ним папку с бумагами. Был он гладко выбрит, за добрую сажень распространял тонкий запах духов.
— Я попрошу, Андрей Кондратьевич, чтобы здесь не курили, — проговорил Коваль, усаживаясь в углу возле столика, на котором стоял графин с водой.
— Да, курение нужно воспретить, — согласился Фалдеев и, не отрываясь от бумаг, бросил Кривоногову: — Зови людей, Никитич.
Кабинет наполнился шарканьем ног, гулом, синими клубами табачного дыма, привалившими из приемной.
— Товарищи, категорическое требование: здесь не курить, — строго сказал Фалдеев, постучав карандашом по столу.
Все расселись, но человек десять осталось без мест.
— Лариса Григорьевна, прошу вас, распорядитесь, чтобы доставили десяток стульев, — подчеркнуто мягко сказал Коваль Уланской, теребя бородку.
Фалдеев поднялся и выжидающе молчал, пока вносили с грохотом и расставляли стулья. Но вот все стихло. Фалдеев выдержал паузу и медленно заговорил жиденьким баском:
— Товарищи, мы сегодня собрались, чтобы подвести итоги большой полосы нашей деятельности, начавшейся со дня высадки на этом пустынном амурском берегу и до того, как ушли последние пароходы. Полоса эта ознаменовалась крупными событиями как в мировом масштабе, так и на фронте соцстроительства в нашей стране, знаменательном тем, что мы досрочно — за четыре года — завершаем первую пятилетку и скоро вступим во вторую пятилетку, пятилетку завершения построения бесклассового социалистического общества, прокладывая путь к светлому будущему для всего человечества земного шара…
Любил Фалдеев говорить речи. Забываясь, утрачивая чувство меры, говорил и говорил… Все, кто сидел в кабинете, знали эту слабость секретаря парткома и подмигивали друг другу: «Ну, теперь держись! Развезет часа на полтора».
Все знали, что, пока он не охарактеризует давно известное международное и внутреннее положение на «данном этапе», он не остановится, и терпеливо ждали этой минуты, думая каждый о чем-нибудь своем.
Ну вот Фалдеев произнес здравицу в честь мировой революции, и все оживились: сейчас начнется главное.
— Я думаю, мы примем следующий порядок нашей работы, — уже по-иному, просто сказал он. — Первое слово предоставим товарищу Ковалю для доклада об итогах проделанной за лето работы, затем выступят с короткими содокладами начальники отделов, после чего мы обменяемся мнениями. Я думаю, возражений не будет?
Коваль заговорил из своего угла, разложив бумаги на столе и отодвинув графин в сторону. Он старался казаться спокойным, но руки выдавали его: они то суетливо двигали с места на место графин и бумаги, то зажимали бороду в кулак. В отличие от Фалдеева Коваль был лаконичен и последователен в мыслях, сыпал цифрами.
— Вот основные итоги работы за лето, — картавя, докладывал он. — Выкорчевана тайга на площади в триста гектаров, прорыто более двадцати километров осушительных канав, в том числе трехкилометровый генеральный канал, по которому спущена в Амур основная масса болотной воды. Проложено свыше двадцати километров дорог-лежневок. Все это позволило нам успешно развернуть работы по строительству жилья, соцбыта и подсобных предприятий. По последним уточненным данным, нами построено тридцать восемь жилых бараков каркасно-засыпного типа с жилищной площадью на три тысячи восемьсот человек, двести шалашей, возведено два десятка рубленых домов для инженерно-технических работников. По линии соцбыта, как вы знаете, мы испытываем острый недостаток в больницах и амбулаториях, в столовых и различных мастерских, потому что построили для этих учреждений чрезвычайно мало домов.
Наконец, в канун праздника, как вы знаете, закончено строительство помещения для звукового кино «Ударник».
За этот же период построен лесозавод на две пилорамы, ремонтно-механические мастерские, временная электростанция, ведется строительство двух кирпичных заводов, второго лесозавода на четыре пилорамы, печь для обжига извести. На правом берегу, на утесе, создан каменный карьер, в котором ведется добыча бутового камня для будущего промстроительства.
— Таков в общих чертах итог работы Дальпромстроя, — говорил Коваль. — Готовясь к докладу, — продолжал он, доставая из папки большой лист бумаги и разворачивая его перед собой, — я поручил своим подчиненным дать мне исчерпывающий материал по транспорту. И вот передо мной следующая картина. — Он поднес лист к глазам. — Требуются ежедневно триста семьдесят две санные подводы. Имеется сто шестьдесят девять. С конским поголовьем, как вы знаете, положение катастрофическое. Из-за плохого ухода мы лишились половины лошадей. Конюшни не утеплены, фуража, особенно сена, заготовлено недостаточно. Здесь я должен открыто сказать, что, несмотря на мои усилия в течение лета построить теплые конюшни и заготовить сено, партком в погоне за цифровыми показателями на корчевке тайги отменял мои приказы. В результате этот участок был оголен и транспорт оказался в катастрофическом положении.
— Так, так, товарищ Коваль, вали с больной головы на здоровую, — заметил Фалдеев, не поднимая глаз. — Это как раз твой стиль работы: если где прохлопал, виноват партком.
Коваль повернулся всем корпусом к секретарю парткома.
— А я скажу, что ваш стиль работы, товарищ Фалдеев, именно ваш личный стиль, и состоит в том, чтобы вмешиваться в функции хозяйственного руководства, доводить дело до срыва, а потом обвинять хозяйственников. Вы забываете, товарищ секретарь, о принципе единоначалия…
— Я попрошу вас поосторожнее быть в выражениях. — Фалдеев грозно посмотрел на докладчика. — «Доводить дело до срыва» — значит, умышленно? Я попрошу членов парткома обратить внимание на эти слова. — Фалдеев обвел глазами зал, ища сочувствия. — А насчет принципа единоначалия следует вам помнить: помимо единоначальника, есть партия — руководящая и направляющая сила нашего государства, она вправе и в силах заставить любого «единоначальника» делать то, что в интересах государства и народа.
— Хорошо! — уже не сдерживая себя, крикнул Коваль. — Я вам сейчас прочитаю, что говорил Владимир Ильич Ленин о единоначалии. — Он быстро сунул руку во внутренний карман, достал листок бумаги и нервно развернул его. Видимо, цитата была заготовлена специально для этого заседания. — Вот послушайте, товарищи, что сказал наш дорогой Ильич: «Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм трудящихся масс с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением воле одного лица, советского руководителя, во время труда». — Коваль победным взглядом обвел лица сидящих в кабинете.
— Имею замечание о порядке ведения заседания, — спокойно проговорил Бутин, вставая. — У нас не хватает дисциплины и выдержки, товарищи. Я думаю, что мы должны потребовать от товарищей Фалдеева и Коваля соблюдать должный порядок.
— Правильно!
— Верно!
— Конечно, ни к чему! — загудел кабинет.
Фалдеев покраснел, но, взяв себя в руки, сказал коротко, оглядываясь на докладчика:
— Продолжайте.
— Я в затруднительном положении, товарищи, — устало говорил Коваль. — Судя по всему, я не должен делать ни одного критического замечания в адрес парткома без риска вызвать инцидент, подобный только что происшедшему. Ну что ж, буду критиковать только своих подчиненных.
— Надо соблюдать меру и такт, — заметил Фалдеев, — будь то речь о парткоме или о подчиненных.
Но Коваль словно не слышал этой реплики.
— Перехожу к вопросам материально-технического обеспечения строительства и рабочего снабжения.
Теперь все слушали его с особым вниманием. Члены парткома уже знали, что с первого ноября решением правительства нормы снабжения продовольствием и промышленными товарами для Дальпромстроя были повышены. Учитывалось особое положение стройки, необжитость района, суровый климат, оторванность от центров. Однако так называемый «северный завоз» продовольствия и промышленных товаров на зимний период закончился до первого ноября, а, стало быть, это решение правительства о дополнительных фондах не было фактически реализовано. Решением парткома нормы должны быть увеличены немедленно, а недостающие продукты предполагалось доставить из Хабаровска на автомашинах по Амуру, как только будет пробита ледяная дорога. Коваль с этим не согласился, апеллировал в крайком партии и пока не вводил повышенных норм.
— Дело в том, — доказывал он, — что продовольствия завезено ровно на семь месяцев в пределах ранее существовавших норм. Если же пересчитать его на новые, повышенные нормы, то окажется, что наших запасов хватит только на пять месяцев, то есть по конец марта. Завезти же двухмесячный запас продовольствия автомашинами за четыреста километров дело нелегкое. Мы можем оказаться в чрезвычайно затруднительном положении. Я считаю, что расходовать фонды в соответствии с повышенными нормами следует только в том случае, если мы уже будем иметь на складах гарантированный запас хотя бы основных продуктов — муки, сахара, круп и жиров на всю зиму, иначе мы поставим под угрозу голода весь контингент строительства. Поэтому я вновь поднимаю вопрос об отмене решения парткома относительно немедленного увеличения норм, пока мы не получим дополнительных фондов.
Вопрос о дисциплине вызвал новую, еще более резкую перепалку между Ковалем и Фалдеевым. Прогулы на некоторых участках составляли пятнадцать — двадцать процентов. Еще не было случая, когда бы Дальпромстрой выполнил месячный план работ.
— Я говорил раньше и подчеркиваю снова, — продолжал Коваль, — что в этом повинно только партийное руководство. У нас не было бы дезертиров, прогульщиков, проходимцев, если бы партийные ячейки взяли бы на учет каждого человека и знали его настроение, вели с ним воспитательную работу. Если комсомольские ячейки умеют создавать в своей среде нетерпимую обстановку для прогульщиков и симулянтов, то беспартийные рабочие вообще предоставлены самим себе, и создаются все условия для разлагательной работы со стороны классового врага. Иначе говоря, партком, как видно из всего, не выполняет своей главной роли — политико-воспитательной работы среди строителей.
— У парткома свои задачи — партийное руководство строительством и контроль за хозяйственной деятельностью, — заметил Фалдеев солидно. — А секретарь парткома пока не является вашим заместителем по политической части.
— Для руководства стройкой послан сюда я, — с убийственным спокойствием ответил Коваль, — а ваша функция — помогать мне, но не мешать в работе и не подменять меня.
— Имейте в виду, Коваль, я поставлю вас на место! — Фалдеев в бешенстве стукнул кулаком по столу. — Я старый подпольщик, боец партийной гвардии, я не позволю вам так относиться к партии. Видите ли, партия для него всего только помощник, посыльный на побегушках. Кто же тогда вы, черт возьми? Повелитель над партией?!
— Я такой же представитель партии здесь, как и вы, — угрожающе повысил голос Коваль. — А отличает меня от вас то, что я наделен большими полномочиями в хозяйственных делах, чем вы. А стучать кулаком по столу вы можете сколько угодно, это же только вас компрометирует, — злорадно усмехнулся он.
Тень пробежала по лицам присутствовавших, люди зашумели, и чем дальше, тем пуще:
— Это безобразие!
— Нам неинтересны эти словесные дуэли!
— Надо прекратить заседание и собрать партийную конференцию.
— Прошу к порядку! Прекратить шум! — кричал раскрасневшийся Фалдеев, но голос его тонул в шуме.
И только когда встал Бутин и поднял руку, в кабинете постепенно утихло.
— Товарищ Фалдеев и товарищ Коваль, — начал он. — Где ваша партийная дисциплина?! Вы хоть бы посчитались с тем, что половина сидящих здесь — беспартийные. Разве же можно так компрометировать партию, которую вы оба здесь представляете и которая…
— Ну, хватит нравоучений, товарищ Бутин! — оборвал его Фалдеев, зло сверкнув глазами. — Тут не ученики пятого класса, и каждый отлично должен отдавать себе отчет в том, что говорит… Коваль, продолжайте!
Но Коваль уже сел спиной к Фалдееву и молча собирал в папку бумаги, разбросанные по столику.
— Я не имею ничего больше добавить, — пробормотал он, не поворачивая головы.
Члены парткома ожидали, что Коваль демонстративно покинет кабинет, но он не ушел. Налив полный стакан воды, Коваль с жадностью выпил ее и, откинув голову на спинку стула, теребя бородку, стал смотреть в потолок.
— Объявляю перерыв, — хрипло сказал Фалдеев.
Все хлынули к выходу и долго толпились у дверей, пока не протиснулись в приемную, наполнив ее гулом и клубами табачного дыма.
— Иосиф Давидович все-таки прав: партком не должен вмешиваться в его функции, особенно отменять распоряжения, — с видом знатока говорил Липский флегматичному инженеру-механику Майганакову. — Ведь он назначен сюда правительством.
— Оба они правы и не правы, — махнул рукой Майганаков, занятый огромной самокруткой, которая никак не разгоралась. — Поменьше бы щепетильности да больше настоящей заботы о деле. Вот она и будет — правильная линия.
— Но престиж! С этим не считаться нельзя, Филипп Романович. А Фалдеев, ей-богу же, тупица и невежда, — прошептал Липский на ухо Майганакову.
К Саблину, одиноко стоявшему возле окна, подошел Бутин.
— Что-то у вас грустный вид, Викентий Иванович, — широко улыбаясь, сказал он и пожал руку старого инженера.
— Нет-нет, это я залюбовался Амуром. Посмотрите, какой он стал черный от холода.
— Да-а. Шуга, наверное, еще не скоро остановится, видите, как мало ее!
День был пасмурный, хотя снег не шел. По широкому простору реки двигалась полоса ломаного и выбеленного снегом льда.
Там, где фарватер приближался к берегу, льдины дыбились, налезали одна на другую, вздымая целые горы и валы торосов.
— Не люблю я таких заседаний, — заметил Саблин. — Как все чисто, привольно и ясно в природе и как… — Он умолк, подбирая подходящее слово.
— …и как грязно, тесно и мутно среди людей! — с хитрой улыбкой подсказал Бутин.
— Да, именно так! — усмехнулся инженер.
— И все-таки я с вами не согласен, Викентий Иванович, хотя подсказал вам эти слова, — возразил Бутин. — Борьба во всем и везде. Вон видите, как ломают и сокрушают друг друга льдины? А ну-ка, окажись между ними — в порошок сотрут, будь то человек, животное или благоухающая роза. А повстречайся с медведем вон в той, по суровому красивой тайге, что он вам скажет?
— В философии я почти вполне материалист и диалектик, Иван Сергеевич, — с вежливой улыбкой заметил Саблин. — И тем не менее я не могу одобрительно относиться к таким абсурдным перепалкам. Это у вас всегда так?
— К сожалению, часто! — вздохнул Бутин. — Вы следите по газетам, сколько дебатов ведется вокруг принципа единоначалия? Страна сейчас находится на очень крутом повороте. Началось огромное строительство, оно требует хозяйственного и партийного руководства. Как правильно сочетать то и другое? Многие наши руководители еще не понимают этого. А тут правые и «левые» уклонисты в меру сил своих затуманивают этот вопрос. Правые требуют ввести полное единоначалие в хозяйственных делах в лице одного только руководителя и совсем устранить партию, предоставив ей заниматься политическим образованием трудящихся и пропагандой. «Левые», наоборот, настаивают: надо полностью отказаться от единоначалия, а дело руководства хозяйством советуют передать в руки самих масс. То и другое неправильно, потому что без твердого хозяйственного руководства с его строгим планированием и производственно-техническим аппаратом нельзя обойтись, как вы сами хорошо это знаете. Но, поскольку мы, в сущности, продолжаем социалистическую революцию на хозяйственном, идеологическом и культурном фронтах, и революцию масс с самого начала возглавила и продолжает направлять партия, то, стало быть, отстранять ее от руководства на любом участке революционного фронта нельзя — у нас еще слишком много классовых врагов, готовых в любую минуту примазаться к руководству с целью сорвать наше строительство. В этой объективной обстановке, сами видите, Викентий Иванович, нельзя обойтись и без хозяйственного и без партийного руководства. Другой вопрос — как это претворить в жизнь.
— Товарищи, заходите, — объявила Уланская.
Заседание парткома закончилось в сумерках — зимний день короток. Многие вопросы так и остались нерешенными: неясно было, где и как будут добыты гравий и песок, где взять лошадей, вводить или не вводить повышенные нормы. То и дело вспыхивали споры между секретарем парткома и начальником строительства, и это оставило тяжелое впечатление.
Но не все уходили с заседания мрачно настроенными. Одними из последних ушли Ставорский и Лариса Уланская. Дорога была пустынна, в морозном воздухе далеко слышался скрип снега. Тем не менее Ставорский говорил вполголоса.
— Конный парк — вот куда нужно направить все усилия, это самое слабое место, — говорил он, прижимая к себе руку Уланской. — А ты старайся пустить слух, что по вине парткома и управления не вводятся повышенные нормы… Мне нравится драка между Фалдеевым и Ковалем, — усмехнулся он, — как будто ее специально кто-то из наших направляет.
— А теперь слушай меня, Харитон, — прошептала Уланская. — Есть подозрение, что у нас в конторе допущена растрата огромной суммы денег.
— Ты в ней не замешана? — насторожился Ставорский.
— Немножечко. — В голосе Уланской послышалась тревога.
— Ну и что теперь?
— Бухгалтеры стараются спрятать все концы в воду и предлагают мне пять тысяч, чтобы я молчала.
— Не бери. Но дай им слово, что ты не выдашь. Мы поможем им выкрутиться, а потом заставим работать на себя.
— Ты, как всегда, чертовски умен, Харитоша. — Уланская потрепала его по щеке. — А я было совсем растерялась.
— Вместе поужинаем.
— У тебя спирт?
— Конечно же, не шампанское…
Они умолкли: из дверей избы, где помещалась школа, с шумом высыпала гурьба молодежи — кончились занятия в техникуме.
— Здравствуйте, Харитон Иванович! — услышал Ставорский рядом с собой.
— Здравствуйте. Кто это? — Ставорский пригнул голову, вглядываясь в лицо парня. — О, да это ты, Жернаков? Здравствуй. Тебя, братец, не узнать! Что, учишься в техникуме?
— Да, вот уж две недели занимаюсь. — Голос Жернакова бодрый, веселый. — Строителем хочу стать.
— Что ж, похвально!
И они разошлись.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Зима наложила какой-то особый отпечаток на жизнь строительной площадки, хорошо знакомый обитателям отдаленных северных мест: непривычно тихо стало повсюду, словно все кругом задремало. Это настроение зимней таежной глухоты овладевало и людьми. Прекратились штурмы и авралы, люди большую часть времени сидели под крышей. На страницах построечной газеты все чаще стали появляться заметки рабкоров о картежных играх. Газета требовала книг, шахмат, музыкальных инструментов, лыж, коньков. Но все это имелось на стройке в мизерных количествах. Уйма народу толпилась по вечерам у клуба «Ударник», где демонстрировались звуковые кинокартины — новинка в то время, но зрительный зал не мог вместить больше пятисот человек.
Бригада Брендина жила коммуной, занимая в бараке на втором участке целую секцию, оборудовала свою кухню и столовую, потому что в столовых кормили скверно и люди подолгу толкались в очереди. Устроили и свой красный уголок с шахматами, самодельными шашками. В постройкоме Брендин выпросил гармошку — он был виртуозный гармонист, и по вечерам то грустная, то залихватская музыка доносилась из секции «коммунаров», как называли бригаду Брендина. Была у них и своя библиотека. Все до единого учились по вечерам — в кружках ликбеза, политграмоты, на курсах плотников, статистиков; несколько человек готовились стать электромонтерами.
Вечерний строительный техникум помещался в семистенной крестьянской избе. Вместо парт в классах стояли длинные, грубо сколоченные столы и скамейки. Так как дров не хватало, комсомольцы сидели в полушубках.
Для Захара учеба в техникуме была наслаждением. Может быть, потому, что рядом с ним сидела Любаша.
Первый урок была геометрия. В геометрии Захар был сильнее Любаши, и девушка то и дело украдкой от преподавателя спрашивала его. В разгар урока сидевший у окна Каргополов вдруг сказал на весь класс:
— Зарево какое! Должно, пожар?
Все разом поглядели на окна. Замерзшие стекла действительно порозовели и с каждой секундой становились все светлее.
— Наверняка горит что-то…
— Нужно выйти посмотреть!
— Всем продолжать занятия, — строго сказала чопорная Ия Александровна. — Аниканов, сходите на улицу и посмотрите, что там такое.
Но тотчас же все услышали, как за окнами промчались сани и кто-то закричал:
— Лопаты, лопаты прихватите!
— Что же мы сидим?! — воскликнул Каргополов. — Пожар!
Не успела Ия Александровна опомниться, как ее класс опустел.
Горело под Песчаной сопкой, в нижнем конце Пермского. Огромное пламя взметнулось там раз, другой, потом заплясало, раздвигая все шире и выше купол зарева над сопкой и амурским берегом.
— Контора горит!
Не сговариваясь, студенты гурьбой бросились к месту пожара, обгоняя друг друга.
Пламя уже охватило крышу, его языки пробивались наружу через выбитые окна второго этажа. Огонь ревел, словно ураган, стоял оглушительный треск, вокруг в снегу валялись и шипели обуглившиеся бревна, оконные рамы, сломанные стулья. Со всех сторон в разбитые окна на крышу летели комья снега, кто-то багром старался вырвать оконный переплет. Пожарник, сидя на коньке крылечка, поливал из брандспойта еще не тронутую огнем стену, тянулся к крыше, стараясь через ее край попасть струей в горящий чердак.
— Сейф, сейф спасайте! — в отчаянии кричал коротыш бухгалтер. — Там крупная сумма, только что получили… Зарплата!..
Захар и Каргополов кинулись выламывать рамы.
— Давай вдвоем! — кричал Захар, прыгнув на завалинку и ударом локтя выбивая нижние стекла. — Тащи на себя!
Они дернули несколько раз, но рама не поддавалась.
— Отойди-ка! — крикнул Каргополов.
Он схватил чурбан и с силой саданул по центру рамы. Переплет с треском провалился внутрь. Захар поотломал остатки рамы и уже встал на подоконник, чтобы прыгнуть в помещение, как вдруг внутри дома с грохотом рухнул потолок. Взвихрилось и забушевало пламя, клуб горячего дыма ударил Захару в лицо. Он прыгнул с подоконника на снег и, охнув, запрыгал на одной ноге.
— Скорее, скорее оторвите доску! — простонал он.
Только тогда Каргополов заметил, что вместе с левой ногой Захар поднял конец доски.
— Что случилось?
— Гвоздь, наверное.
Каргополов нагнулся, попробовал было оторвать доску от подошвы валенка, но она так крепко прилипла, что он ничего не мог поделать.
— Ребята, скорее сюда! — крикнул он. — Садись, Захар, на снег, — приказал он Жернакову.
К ним подбежала Любаша.
— Что такое?
— Держите ему ногу, — скомандовал Каргополов.
Когда, поняв, в чем дело, Любаша ухватилась за ногу Захара, Каргополов с силой дернул доску и оторвал ее от подошвы.
— Гвоздище!.. — выдохнул он.
— Нужно скорее в поликлинику!
— До нее далеко, к нам ведите! — закричала Любаша. — Я тут рядом живу.
Каргополов и Любаша подхватили Захара под руки и почти бегом направились к дому Рудневых. В избе никого не было. Каргополов приказал Захару сесть на пол и одним махом снял с него валенок. Вся портянка на стопе подплыла кровью, прилипла к ноге.
— Давай же скорее йод! — Каргополов выхватил из рук девушки пузырек, открыл пробку, сказал: — Потерпи! — И стал лить йод поверх стопы, где темнела ранка, оставленная гвоздем. Потом приказал Захару лечь животом на пол и поднять левую ногу кверху, согнув в коленке.
Мыча от боли, Захар беспрекословно подчинялся Каргополову. На подошве ранка оказалась больше, из нее густо сочилась кровь.
— Ватки или чистую тряпочку! — командовал Каргополов, словно заправский хирург. — Потерпи еще немного, тут рана побольше.
Смочив тряпочку йодом, он прижал ее к ранке и так держал несколько минут, тяжело дыша, не обращая внимания на стоны Захара.
— Теперь нужно чем-нибудь перевязать, — сказал наконец он. — Дайте, Любаша, что-нибудь чистое.
Но Любаша уже открыла сундук и оторвала кусок бязи, недавно купленной для простынь; Каргополов туго обмотал им стопу Захара.
— Теперь садись вот сюда, — показал он на скамейку, — а ногу положи на стул. Так и сиди, пока я не приведу врача.
С этими словами Каргополов нахлобучил шапку поглубже и выскочил из избы.
— Очень больно, Захар? — Любаша ласково заглянула ему в лицо.
— Сейчас не очень. — Он посмотрел снизу вверх в ее глаза, болезненно улыбнулся. — Потому, что ты возле меня… — И сам смутился своих слов, уши его покраснели.
— Ты все шутишь…
— Шучу? Мне сейчас совсем не до шуток.
— И зачем тебе нужно было лезть в окно?
— Кто-то же должен был полезть. А потом бы и другие полезли за мной.
— Вот теперь занятия в техникуме пропустишь.
— Ну нет, все равно буду ходить!
— Каждый вечер туда и обратно три километра? Да тебе никто не разрешит. Я первая не разрешу тебе, — с шутливой строгостью сказала Любаша, притопнув ногой. — Вон кровь-то уже просочилась.
— Тогда поселюсь у вас, — шутливым тоном сказал Захар.
— А ведь верно, поселяйся у нас! — ухватилась Любаша за эту мысль. — Правда, у нас все еще живут Пригницын и Рогульник. Но папаша давно уже прогоняет их, а они такие настырные: не уходят — и все! Папаша силком бы вытурил их, но наш старый жилец, Ставорский, просил повременить, говорит, что скоро переселит их. А тебя папаша уважает. Говорит, что из тебя толк выйдет…
— И останется бестолочь, — усмехнулся Захар.
Любаша робко поворошила его спутанные волосы, но, смутясь, покраснела и сказала тихо:
— А волосы у тебя жесткие. Наверное, сердитый ты…
— Пригницын больше не сватается к тебе?
— Пристает, но уже не так настырно, — потупив взор, ответила Любаша. — Осенью, когда он совсем не давал мне проходу, я пожаловалась отцу. Колька даже грозился, что убьет меня. «Но все равно, — говорит, — выучусь, стану начальником и женюсь на тебе».
— Он, что же, учится?
— Ходит в кружок ликбеза. А правда, Захар, поживи у нас, пока нога пройдет, я уговорю папашу. Вон же Аниканов живет у Кузнецовых! А захочешь, и на всю зиму останешься.
— Ты думаешь, мне не хочется пожить у вас? — Захар серьезно посмотрел на девушку. — Но я стесняюсь твоих родителей, да и вообще неудобно — все ребята там, в бараке, а я тут буду отщепенцем. А потом еще неизвестно, что скажет отец… Аниканов мне не пример. Он всю жизнь ищет, где потеплее да полегче. Я его раскусил. Это, знаешь, такой человек: когда все наступают и побеждают, он выскакивает вперед и кричит: «Давай, давай, ребята!»; но если какая заминка, опасность, он прячется за спины других: «Вперед, вперед, ребята!» — а сам глядит, не пора ли бежать назад. Летом он заделался таким активистом, что куда тебе! А пришла осень, начались дожди, холода, слякоть, он сразу в кусты — устроился на склад.
Во дворе послышался лай, и на пороге появились Каргополов и стройная девушка с санитарной сумкой через плечо.
— Насилу нашел медицину! — возбужденно говорил Каргополов. — Оказывается, на пожаре была. И как это мы не поймали ее там!
Девушка решительно сбросила полушубок, открыла сумку, достала бинты, йод, пинцет. Любаша не спускала с нее завистливо-ревнивого взгляда.
— Ну, что у вас тут? — спросила сестра. — Дайте-ка, стул, — приказала она Любаше.
Бесцеремонно и не очень осторожно она развязала бязевую тряпицу, уже напитавшуюся кровью.
— Сквозной прокол стопы. Гвоздь ржавый был? Не видели?
Она сделала два тампона, густо смочила их йодом, приложила к ранам у подошвы и поверх стопы.
— Придержите, — приказала она Захару. — Та-ак. — И начала ловко и туго обматывать стопу бинтом.
Закончив эту операцию, достала из сумки пакетик с порошками.
— Если начнется жар, принимайте порошки через каждые два часа и вызовите врача на дом. Понятно? Вы здесь живете?
— Нет, на втором участке, в четвертом бараке.
— Ходить вам пока нельзя, — строго сказала сестра. — Переночуйте пока здесь. — Она изучающе посмотрела на Любашу, спросила: — Это ваш знакомый! Вы с родителями живете?
Любаша ответила с независимым, даже несколько вызывающим видом.
— Так вот, передайте родителям, что я просила оставить товарища у вас до завтра. Возможно, мы заберем его в больницу.
— Хорошо, я передам, — ответила Любаша.
— Ну, так что, останешься здесь, Захар? — первым нарушил молчание Каргополов, когда ушла медсестра.
— Да вот не знаю, может, еще выпрет хозяин… Ты подожди, Иван, а то трудно будет мне одному идти.
— Ой, ну что ты такое говоришь — «выпрет!», — вступилась Любаша. — На моей кровати ляжешь, а я на печку полезу. Вот!
Друзья рассмеялись.
Вошла разгоряченная Фекла, а за нею появился и Никандр.
— Никак у нас гости? — спросила Фекла, сбрасывая шубейку и вглядываясь в парней. — Вроде бы знакомые… Да это, кажись, Захарушка?
— Здравствуйте, — улыбнулся Захар. — Вот опять несчастье привело к вам.
— Вот я и гляжу, что ты, товаришок, появляешься в моей избе, когда хворь забирает тебя, — загудел Никандр басом. — А в другое время аль пути нет? — Он взглянул на забинтованную ногу Захара. — Повредил?
— Гвоздем проколол, — поспешно вступилась Любаша. — Ох, страшно, прямо насквозь ступню, вот здесь! Папаша, — обратилась она к отцу, — была тут сестра из поликлиники, велела оставить Захара у нас. Ему совсем нельзя двигаться.
— А что мне приказ твоей сестры? — Никандр достал кисет, закурил. — Я и без ее приказу могу решить это дело. Чай, знакомец наш… Оставайся, паря, хоть и тесновато у меня. Никак не отделаюсь от двух шибалков. Вот бог послал на нашу голову! И когда они только уберутся? — Никандр сердито сплюнул. — Может, ты бы, что ли, поговорил с ними, паря? Ну совсем не резон мне их держать в своей избе. Звероватые и вроде бы опасные люди.
Никандр вздохнул, присел рядом с Захаром.
— Как же это ты ее? — кивнул он на ногу.
Выслушав, он пожурил Захара за неосторожность и сказал:
— Была контора — и нет конторы. До нижнего венца выгорела. Добра-то, поди, сколько сгинуло!
— Так ничего и не вытащили? — спросил Захар.
— Бумажек вязанку насобирали, — спокойно ответил Никандр. — И все говорят, денег пропасть погорело! Вроде получили севодни зарплату, дескать, завтра платить.
— О причине пожара ничего не известно? — спросил Каргополов.
— Сторож сказывает, что внутре загорелось, а там, дескать, бак с керосином был. Ну, взорвался он и все позабрызгал.
— Без керосина нешто так запылало бы все разом? — вступилась Фекла.
В сенях гулко загремело, и на пороге появились Пригницын с Рогульником.
— Га, а у нас гости! — по-хозяйски воскликнул Пригницын, ввалившись в комнату. — Да это Жернаков? Здоров, друг! — Он запанибрата протянул руку, сняв с нее огромную рукавицу. — Что такое, поранился? Давненько мы не видались с тобой, друг Жернаков.
Он тараторил, никого не слушал, потом, сказав: «Я сейчас!», — ушел в чистую половину избы, где уже скрылся молчаливый и угрюмый Рогульник.
— Тьфу, будь ты неладен! — с ожесточением выругался Никандр. — Вот нечистая сила, не то шалопай, не то бандит. Будто завоеватель какой!.. Ну что ж, мать, собирай-ка нам ужин. А ты, товаришок, — обратился он к Каргополову, — может, тоже поужинаешь с нами за компанию? Вас-то не шибко сытно кормют.
— Ну что ж, раз уж за компанию, так за компанию, — ответил Каргополов, не заставляя себя уговаривать.
После ужина он поблагодарил Никандра и Феклу и, одевшись, сказал:
— Я завтра заберу Захара. Санки найду и увезу в барак.
— Ничего, места не пролежит, — гудел Никандр. — А когда захочет, я и сам могу оттартать его.
Когда в избе все улеглись, Никандр зашептал на ухо Фекле:
— Слышь, мать, а они-то вроде того… Любка-то наша и этот Захар.
— И-их, Никандрушка, — радостно отвечала Фекла. — Я приметила их переглядки еще с того разу, когда он у нас лежал. Парень-то шибко славный.
— Да-а, видать, головастый и дельный. Молод только.
— Ничего, повзрослеет. Ты его не гони от нас, Никандрушка. Видать, он Любаше больно по сердцу пришелся.
— А на кой мне его гнать? Энтих вот бандюг выкурить бы как. А Захар, что ж, пущай живет себе на здоровье…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Пожар конторы был настоящей катастрофой для управленческого механизма Дальпромстроя. Сгорели дотла все проекты, сметы, материальные и денежные документы. Кроме того, по словам кассира, в сейфе, сваренном из пятимиллиметрового листового железа, хранилось четыреста восемьдесят тысяч рублей, подготовленных для выдачи зарплаты. Когда извлекли сейф, он был покороблен огнем, а внутри его оказался ворох пепла.
Утром на экстренном заседании парткома Фалдеев обвинил начальника строительства.
— Вы все, товарищи, помните, — говорил он, — как ми обсуждали вопрос о том, что товарищ Коваль прикрывает расхитителей соцсобственности в отделе снабжения. К сожалению, мы больше не возвращались к этому вопросу. Однако до меня доходили слухи, что хищения и бесхозяйствование в отделе снабжения продолжаются.
Напрасно Коваль пытался протестовать, опровергать, называть вздорными утверждения секретаря парткома — Фалдеев и не думал менять свою позицию. Напротив, он требовал снять Коваля с поста начальника стройки. И хотя причину пожара еще не выяснили, а конкретным виновником считался сторож, чувствовалось, что весь состав парткома, кроме Бутина, на стороне Фалдеева. Тщетно доказывал Бутин, что партком не правомочен решить вопрос о снятии с работы начальника строительства. Чувство перестраховки оказалось сильнее логики — и партком принял решение: освободить Коваля от занимаемой должности.
Поздним вечером по пути домой Коваль зашел на квартиру начальника почты. Тот уже лег в постель и был порядком удивлен столь поздним визитом самого Коваля.
— Мне срочно нужно в Хабаровск, — сказал тот, нервно расстегивая воротник кожаного пальто, подбитого мехом. — Когда будет почта?
— Должна быть с часу на час, — скрипучим голосом ответил старичок. — Успеете собраться, товарищ начальник?
— А вы задержите, — приказал Коваль.
Час спустя двое саней, запряженных цугом, под переливчатый звон ботал лихо слетели со взгорка на лед Амура и помчались по узкой колее, пробитой среди торосов. На задних санях, утонув по самую макушку в огромном тулупе, сидел начальник строительства.
…Глуха и безмолвна декабрьская ночь на Амуре. Кругом — сумеречный простор торосов. Вверху — алмазная россыпь холодных звезд. Справа и слева чернеют полосы тайги, и нигде ни единого огонька — белое безмолвие. Мороз давит все сильнее и сильнее; ухает, стонет лед на Амуре.
Под мерный топот копыт, скрип полозьев и однообразный перезвон ботал Коваль перебирает в мыслях свое прошлое.
Кому случалось ехать зимней дорогой, когда надолго остаешься наедине со своими сокровенными мыслями, тот хорошо знает, как ясно и сосредоточенно думается в такую пору. Тогда вдруг начинаешь понимать все, что осталось позади, и видеть каждую деталь, казалось, давно забытую и малозначащую; тогда по-новому оцениваешь все, что делал и говорил, чем восторгался и что огорчало.
В дороге Коваль по-новому перетасовал в уме все, что произошло в его жизни с тех пор, как он был вызван в наркомат и получил назначение на Дальний Восток. Теперь он понял, что его все-таки пугало это задание: в невиданно короткие сроки вдали от промышленных центров, на краю земли, в таежной глуши построить завод, по масштабам и уровню техники не уступающий первоклассным зарубежным заводам. Почему же он не отказался? Сейчас ему ясно: помешало честолюбие. Честолюбивая мысль, что доверяют эту небывалую стройку не кому-нибудь, а именно ему, что Центральный Комитет уделяет первостепенное значение его стройке, подхлестывало Коваля и поддерживало в нем организаторское вдохновение. Был ли он честен перед собой, перед ЦК? Да, он был честен и перед собой, и перед партией, если не считать, что все время скрывал обуревавшую его не только в первую минуту, но и впоследствии трусость, иногда даже панику. Но ведь это бывало в нем и тогда, в семнадцатом году, когда он ушел из партии эсеров и вступил в партию большевиков, а потом был комиссаром на фронте гражданской войны; тем не менее Коваль меньше всего искал оправдания себе. Напротив, он выискивал ошибки, которые допустил на протяжении этого небывало трудного периода своей жизни.
В сущности, что произошло за минувшее лето? На пустое место, очень неудобное для жилья, переселился большой отряд разношерстных людей, чтобы построить завод и город. Огромное переселение людей. Переселение… Вот она, его первая ошибка: он не дал себе труда изучить материалы, касающиеся истории переселений, особенно переселений русских крестьян в Сибирь и на Дальний Восток. А ведь переселение, которое он возглавил, куда более сложное, чем те, что были прежде. Это переселение не во имя поисков личной выгоды и обогащения, как бывало раньше, а во имя насущных интересов социализма; и потому он, Коваль, был занят больше будущим, чем настоящим. Вот почему он растерялся в первые дни, когда вдруг недостало ложек, мисок, чанов для закваски хлеба, постелей, палаток для жилья, когда обнаружилось, что не хватает топоров, пил, точил, подпильников, лопат, кайл, совсем нет багров… Ответственные люди? Да, в первое время он слишком положился на них, а потом ударился в другую крайность — вовсе перестал полагаться на других и сам встревал во все мелочи, упуская главное.
Но люди! Люди-то были — комсомольцы, молодежь! Их невиданная стойкость не удивляла его — в гражданскую войну он сам водил в атаку комсомольский батальон и видел, как эти люди могут умирать и побеждать. Но одно дело атака — вспышка, мгновенный взрыв всей энергии, всей стойкости, заложенной в человеке. Здесь же бесконечная атака, длительный штурм (недаром и слова родились — «штурм тайги»), который должен продолжаться до тех пор, пока не будет построен завод. Ковалю все время казалось, что он, начальник стройки, слишком мало делает для этих людей — все лето они недоедали, нередко ходили босыми, оборванными, работали от зари до зари. Они молоды, им девятнадцать-двадцать лет, а хоть какое-нибудь развлечение он предложил им? И это была вторая его ошибка, которую Коваль теперь ясно понял: он мало делал для этих юношей, жертвующих своей молодостью во имя Родины.
О своих отношениях с Фалдеевым Коваль почти не думал — ему не хотелось касаться даже мысленно того кошмара, которым был для него пожар конторы и последнее заседание парткома. Фалдеева он считал карьеристом, грубияном и тупицей и был уверен, что вмешательство крайкома партии исправит ошибки, допущенные парткомом, и все станет на свое место…
Почтовые станки, где обычно менялись лошади, отстояли один от другого на двадцать — тридцать километров. Не успевал Коваль сбросить тулуп в грязном, пропахшем конской сбруей помещении и присесть к раскаленной докрасна железной печке, как являлся новый ямщик.
— Которые тут пассажиры? — кричал он. — Айда в сани, кони запряжены!
Лишь где-то за Троицким из-за поломки саней удалось побыть в тепле. Завернувшись в тулуп, Коваль лег на общие нары, занимающие половину избы. Сквозь дрему невольно прислушивался к голосам ямщиков, доносившимся из-за стены. Но вот он насторожился, услышав слова «Пермская стройка» — в приамурских селах так называли Дальпромстрой.
— Вот тебе крест святой, не брешу, Иван! — гудел простуженный бас. — От верного человека слыхал. Так и сказал: «Сжег, — говорит, — контору, а сам убег в Москву».
— Должно, вредитель какой, — вступился женский голос. — Такие-то они теперь, начальники…
— Так он, что ж, пешком али ерапланом?
— Говорят, будто гольду нанял, он его на собаках и оттартал до Хабаровска. А там дело понятное: на железную дорогу — и был таковский!
— И-и, господи, господи, что делается! — вздыхала женщина. — Завез уйму людей на край света, бросил, а сам убег. И один молодняк, говорят… Так с неделю назад приходят на станок двое. «Пусти, — говорят, — хозяюшка, переночевать». Санки тянут, а на них пожитки. Правда, одежда на них справная — на обоих добрые полушубки, почти новые катанки. Разделись, сердешные, а лица-то у обоих черные, глаза впали — видать, наголодались. Один помоложе, годов так восемнадцать, другой постарше, как наш Гошка. Тот, что помоложе, гляжу, отвернул воротничок рубашки и вшей бьет… «Откуда же, — спрашиваю, — идете, ребятушки?» — «Из Пермского, — сказывают. — Срок договора, мол, окончился, вот теперь пробираемся до дому».
— Брешут! — отозвался простуженный бас. — Просто тикают. Я уж их сколько встречал! Увидют, что навстречу едешь, сейчас — раз, в сторону, и обходят тебя — боятся.
— Хорошо хоть не грабют, не убивают, — натуженно просипел старческий голос. — А то вон, бывало, с беглым каторжником не моги повстречаться — убьет, а нет — одежду последнюю сымет.
С тяжелым чувством слушал Коваль этот разговор.
На третий день пути, под вечер, с увала показался Хабаровск. Накаленный морозом, плавал низко над городом бурый туман, а выше его разметалась костром огромная заря.
В крайкоме уже знали обо всем, что произошло в Дальпромстрое. Секретарь крайкома встретил Коваля так, словно тот приехал докладывать о крупных успехах.
— Садись, садись, дорогой. — Он подвел Коваля к глубокому креслу. — Все знаю, знаю, знаю! — как бы отгораживаясь от нехороших вестей, поднял обе ладони.
Потом неторопливо прошелся по кабинету, шагнул за стол, но не сел, а уперся в него кулаками, как бы готовясь произнести речь.
— Вот что, — заговорил секретарь, — ты не дал указания Лапину, когда сдавал полномочия, чтобы он немедленно организовал инвентаризацию?
— Я сам отдал приказ об инвентаризации еще до заседания парткома, — держа бородку в кулаке, ответил Коваль.
— А не отменят его?
— Надо быть глупцом или вредителем, чтобы отменить.
— Да-а… Что-то я не понял по телефону у Фалдеева, — рассеянно проговорил секретарь, опускаясь в кресло. — Если сразу не произвести учета всех ценностей, могут быть крупные хищения…
— Я это отлично понимал с самого начала, Аркадий Петрович, поэтому и отдал приказ.
— Ну вот что, — секретарь крайкома выразительно посмотрел на часы, — у меня с тобой будет долгий разговор, а сейчас пока пойди в орготдел и познакомься с товарищем Платовым, скажи, что от меня пришел. Он готовит вопрос на бюро о ваших делах. Ко мне, — он снова посмотрел на часы, — ровно в шесть вечера, будем долго разговаривать. Вот так. — Он хлопнул обеими ладонями по стеклу.
— Откуда этот Платов?
— ЦК прислал, на укрепление аппарата крайкома. Человек очень хороший, работящий… Так до вечера!
Коваль прошел к Платову.
— От Аркадия Петровича, — сухо сказал он.
— Вот как! — Платов медленно поднялся со стула. Черные глаза его под сурово сдвинутыми бровями потеплели, а потом заулыбались — скупо, стеснительно. Был он высок, немного сутул, но красив той мужественной красотой, которая присуща волевым людям. Он подал широкую сухую ладонь. — Платов, Федор Андреевич. — В его голосе Ковалю послышалась душевная теплота.
— Вы, может быть, заняты?
— Нет-нет, я как раз занимаюсь вашим делом. — Платов неторопливо сел. — Вам Аркадий Петрович говорил о намерении крайкома относительно… — Он запнулся.
— Да, я знаю, будете слушать на бюро. Я очень рад!
— Ну, положим, радоваться станем, когда построим завод, а пока рано. Не так ли?
— Видите ли, Федор Андреевич, у меня достаточно оснований радоваться уже одному тому, что крайком поставит на обсуждение вопрос о строительстве. Какое бы решение ни было вынесено, оно оздоровит обстановку.
— К этому мы и стремимся, — задумчиво сказал Платов. — Во всяком случае, ошибки не должны повторяться. Скажите, сейчас очень трудное положение на строительстве? Вопросов у меня миллион, но я их оставлю до приезда Фалдеева.
— Обманывать вас мне нет нужды, Федор Андреевич. Положение чрезвычайно тяжелое. — Коваль по привычке зажал в кулак свою бородку, печально глядя в окно мимо собеседника. — Мы еще не знаем всех последствий пожара, а они, по всей вероятности, еще не раз скажутся. Что касается вопросов общего положения на стройке, то коротко оно таково: стройка только наполовину обеспечена рабочей силой. Еще не было ни одного месяца, когда бы мы справлялись с программой.
Ни перед кем, ни в одном докладе не сгущал так черных красок Коваль, как сейчас. И это было сделано не с каким-то злым умыслом, нет! Просто за время, истекшее после пожара, Коваль по-новому оценил положение на строительстве и увидел, что недостатков гораздо больше, чем прежде он находил. Сказывалась неуравновешенность в характере Коваля. Сейчас он был в состоянии «отлива», выглядел скучным и вялым.
Коваль рассказал обо всем: и о заболоченности строительной площадки, и о плохом питании, и о том, что всю осень строители просидели без обуви, так как сапоги оказались в Николаевске — не на ту баржу их погрузили; и о непрекращающихся случаях дезертирства; и о казенном, чиновничьем отношении многих инженерно-технических работников к своим обязанностям; и об отчаянно трудном положении с транспортом. В завершение рассказал о пожаре.
— Ну, а хоть что-нибудь положительное есть там или нет? — спросил Платов.
— Положительное? — Коваль задумался, теребя бородку, потом улыбнулся. — Да-а, оказывается, я вам только и говорил, что о плохом. Положительное — комсомольский костяк стройки. Будь бы у меня поэтический дар, я бы слагал поэмы об этих людях. Мы с вами делали революцию и спасали ее завоевания в гражданскую войну. Сейчас они делают то же самое, с такой же отвагой.
…Через двое суток в крайкоме появился Фалдеев.
В тот же вечер состоялось внеочередное заседание бюро Далькрайкома. Партком Дальстроя был распущен. Фалдеев, Кривоногов и Панкратов сняты с работы. Ковалю и Бутину, оставленным на своих постах, бюро объявило выговор. Секретарем парткома Дальпромстроя был рекомендован Платов Федор Андреевич.
Перед концом заседания секретарь крайкома объявил:
— Минуточку, товарищи. Только что получено постановление Президиума ВЦИК СССР: ходатайство комсомольцев — строителей Дальпромстроя — о переименовании поселка Пермского в город Комсомольск удовлетворено. Отныне бывший поселок Пермский будет именоваться: город Комсомольск-на-Амуре.
В просторном кабинете, взметнувшись под высокий потолок, грохнули аплодисменты.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
— Откровенно скажу тебе, Федор Андреевич, я еще никого не отпускал с таким сожалением из аппарата, как тебя. — Секретарь ласково посмотрел в худощавое, с обострившимися скулами лицо Платова. — Год будет очень трудным, положение у нас сейчас везде тяжелое — и с хлебозаготовками, и с мясом, и с углем, но особенно трудно на стройках — бегут рабочие, потому что с жильем туго, кормим и одеваем скверно. Ты отлично понимаешь, почему так получается, — шагаем так, что штаны трещат, берем самый крутой подъем на пути к вершине. Ее надо взять во что бы то ни стало! Покатимся вниз — нас растерзает империалистическая свора.
— Не покатимся. — У Платова на щеках выступили бугры желваков. — Бывали кручи потруднее…
— Вот именно. Поэтому мы и пошли на штурм — сил у нас достаточно в конце концов… Под ногами фундамент, созданный за первую пятилетку, несмотря на оглушительный вой кликуш из лагеря правых и «левых» загибщиков.
Платов слушал рассеянно — у него уйма дел, связанных с подготовкой к отъезду, но прервать секретаря не решался.
— Но спешим не только мы, спешит и наш классовый враг, — мерно тек его задумчивый голос. — Он делает все, чтобы воспользоваться моментом, когда все наши силы напряжены до предела, и оторвать от нас народ, противопоставить партию народу. Вот послушай, что сказано в листовке «Группы народной самозащиты», или «Приморских лесных стрелков». Листовку мне принесли перед твоим приходом, ее нашли в Комсомольске. Вот что в ней пишут:
«Без провокаторов! Научиться молчать!
Мы, «Приморские лесные стрелки», везде и нигде. Наша задача — всячески расстраивать и разрушать всякую работу коммунистов. Вредить везде в чем и как только можно. Все делать как можно незаметней, без доказательств, чтобы самим быть до поры до времени в стороне.
Потом связи пошире наладить да с красноармейцами надежными сговориться. Так-то постепенно и подготовиться для общего выступления.
А выступать нужно сразу, по крайней мере всей Сибирью или от Забайкалья до океана.
А на это и в России откликнутся.
Пока же требуйте везде всякого довольствия, как было до революции, и выплаты заработка золотом, а не червонцами, прекращения вывоза за границу нашего сырья и снабжения нашими деньгами международных проходимцев.
А пока, до общего выступления, будем наказывать угнетателей русского народа, не щадя себя и не трогая никого, даже попавшего по дурости в коммунисты, если он ничем не вредит народу.
Мы не сложим оружия, пока не добьемся независимости Дальневосточного края, на что имеем право по Конституции СССР.
Мы хотим сами управлять своим краем, без коммунистов».
И так далее… Видишь, куда они замахиваются!
— Шпаргалка японских самураев.
— Вот именно. Но выдается за русское национальное движение. Повторяю — трудная предстоит зима. Но еще труднее будет строителям Комсомольска. Девять десятых тамошних бед — результат недоработки парткома, — слишком поздно увидели мы все это. Партийная организация оказалась не во главе, а в хвосте. Нужно вывести в авангард партийную организацию. В этом, и только в этом ключ к успеху.
— Аркадий Петрович, простите, — Платов посмотрел на часы, — я не успею собраться. У меня вопрос: когда выедет в Комсомольск комиссия крайкома?
— Дня через три. Ты сразу с семьей?
— Конечно.
— Это правильно, спокойнее будет работаться. Как жена — не возражала?
— Она давно привыкла к кочевью. Еще с гражданской войны.
— И последний вопрос — о ваших взаимоотношениях с начальником строительства. Необходимо строго соблюдать принцип единоначалия, как он изложен в сентябрьском постановлении Пленума ЦК от двадцать девятого года. Я специально велел перепечатать его для тебя. На, проштудируй на досуге. — Секретарь крайкома подал Платову папку с бумагами. — Коваль, конечно, не идеальный начальник, он несколько трусоват, слабохарактерен, но человек он большого ума и хорошо знает дело. Постарайся наладить с ним отношения. Не бойся и подружиться, если выйдет у вас дружба. — Секретарь крайкома вышел из-за стола и потряс широкую сухую ладонь Платова. — Ну что ж, кланяйся жене — молодец она у тебя!
Домой Платов вернулся, когда Коваль уже сидел в его кабинете. На пороге Платова встретила дочка Аленушка.
— Ой, папочка, а у нас дедушка вот с такой бородой, — доверительно сообщила она отцу, приложив ладошки к подбородку. — Он сказал, что повезет меня на санках далеко-далеко! — И она запрыгала в восторге.
— Подожди, вот намерзнешься в дороге, по-другому запрыгаешь! — пригрозил сестренке двенадцатилетний Сергей, человек достаточно опытный.
— Как на твоем фронте, Аннушка? — снимая пальто, спрашивал Платов жену.
— Голова кругом идет, набирается всего столько, что вагон нужен!
— Только три чемодана и постель. Сани почтовые ведь…
— Ну хоть четыре, Федюша?
Анна Архиповна прошла вместе с Платовым — старым подпольщиком, затем дивизионным комиссаром и, наконец, партийным работником — нелегкий путь. С мужественной самоотверженностью она переносила все тяготы жизни и, может быть, именно поэтому презирала мещанский дух и не утратила своей привлекательности.
За обедом в центре внимания был новый гость. Боясь быть навязчивой, Анна Архиповна все же потихоньку выведывала у Коваля самое для нее важное: можно ли достать в Комсомольске кровати для ребят и хоть самый простой обеденный стол, держат ли там коров, чтобы покупать молоко, как с топливом, и прочее. Сергей оказался менее тактичным. Захватив инициативу, он атаковал гостя своими вопросами: есть ли каток, ловится ли там рыба, заходят ли на стройку медведи, можно ли в реке купаться? Только вмешательство матери прервало эту бесконечную цепь вопросов.
Коваль соскучился по семейному теплу, и лицо его делалось блаженным, когда он разговаривал с ребятами, особенно с Аленушкой. Щадя Анну Архиповну, он не делал попыток вести за столом деловые разговоры и только отвечал, если Платов задавал вопросы. Но в течение всего вечера Коваль очень внимательно — и это не ускользнуло от наблюдательной Анны Архиповны — изучал Платова. Когда же, закончив обед, мужчины ушли в кабинет хозяина, Коваль сказал откровенно:
— Я очень рад, Федор Андреевич, что именно вы замените Фалдеева. Думаю, что мы с вами сработаемся.
Ночью погода испортилась: подул северо-восточный ветер, нагнал тучи, а к утру запуржило. Тем не менее Платов с семьей и Ковалем еще до рассвета выехали на двух почтовых санях. Прав был Сережа, осаживая Аленушку, — катание оказалось совсем не таким, каким представлялось ей дома. Закутанная в одеяло и тулуп, Аленушка ничего не видела и не слышала. Скоро ей надоело все это и на первом же станке, где происходила смена лошадей, Аленушка потребовала, чтобы ее везли обратно домой. Сережа, важно усевшись возле раскаленной печки и с видимым удовольствием грея красные ручонки, поддразнивал ее:
— Ну что, кисейная барышня, набила оскомину санками?
Все, кто окружал печку, и Коваль, и Платов, и ямщики, рассмеялись.
Только уборщица, которая подкладывала в печь дрова, горестно вздохнула:
— Господи, за что же это детей мучают, за какие родительские грехи?
Никто из взрослых не ответил ей. Тогда Сережа решил, что пришла его пора серьезно высказаться.
— Социализм в белых перчатках не строят, — солидно проговорил он, подражая отцу.
— Боже мой, — всплеснула руками уборщица, — какой маленький, а какой ученый! Видно, городской, наши-то и слова такого не слыхали.
Погода стала проясняться, ветер стих. Снег нестерпимо заблестел под косыми лучами декабрьского солнца. Платов и Коваль сели в одни сани, отослав Сережу к матери с Аленушкой. Новый секретарь парткома с жадностью слушал Коваля. В одном месте, где дорога подошла вплотную к подножию сопки, Коваль пристально посмотрел на голую каменную осыпь, попросил ямщика остановить лошадей. Сбросив тулуп, он пробрался по глубокому снегу к подножию осыпи и вскоре вернулся с красным камнем в руке.
— Туф! Федор Андреевич, ведь это же известковый туф! — Коваль с удивлением царапал ногтем камень. — Это же великолепный строительный материал…
Платов рассматривал легкий, пористый камень. А когда Коваль спрятал его в свой портфель, разговор перешел на местные строительные материалы.
— Это ошибка, — говорил Коваль, — что мы своевременно не начали поиски в окрестностях Пермского. Летом было как-то недосуг, да и знатоков не хватало… И вот теперь получилось, что карьер бутового камня — за Амуром, а песок нужно возить за сорок километров, а гравий вообще не знаем, где брать.
Платов слушал Коваля, посматривая на ломаный контур прибрежных сопок.
— А скажите, — спросил он, когда Коваль умолк, — ваши комсомольцы любят ходить в тайгу? Ну, например, на охоту, по ягоды, по грибы?
— Я чувствую, как важен ваш вопрос, Федор Андреевич, но только теперь об этом подумал и должен сознаться — ничего не знаю.
— А об этом, мне кажется, стоит думать, — продолжал Платов. — Пусть изучают на досуге все, что окружает стройку. В литературе нет ничего о природе этого района. Тем интереснее заглянуть в этот мир. Пока ученые смогут начать глубокие исследования, комсомольцы должны разыскать все, что лежит на поверхности.
Лошади легко несли сани, от их заиндевелых мохнатых крупов валил густой пар, полозья жалобно поскрипывали, скользя под раскат то вправо, то влево.
Только на третьи сутки впереди показалась стройка. Сани взбирались на пригорок, и вот она, набережная Пермского, — шеренга изб, толпы прохожих.
— Вот мы и дома, Аленка, — весело сказал Платов, заглядывая в сани.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Кому не встречались люди, которые любят опасность, а риск для них чуть ли не потребность? У Аниканова был другой склад характера — в меру сил и возможностей он старался избегать малейшей опасности и тем более не любил рисковать. Но случилось так, что жизнь сама поставила ему задачу, которую нельзя было решать без риска.
Однажды, входя в избу, где помещался построечный комитет комсомола, он столкнулся на пороге с заворгом Брухатским.
— Не могу, товарищ Аниканов, опаздываю на заседание, — выпалил тот, на ходу натягивая полушубок.
Уже на крыльце в спешке Брухатский выхватил из кармана рукавицы и выронил какое-то письмо. Аниканов на письмо не обратил внимания, а может быть, только сделал вид, что не обратил, — во всяком случае, когда потом разбиралось конфликтное дело, он объяснил так:
— Я увидел письмо, когда Брухатский уже скрылся. Поднял конверт, вижу — на нем нет никаких надписей. Чтобы узнать, нужно это кому или кто выбросил, я достал из конверта листки и стал читать. И вот там обнаружил все это…
В конверте оказалось два письма Брухатского — родителям в Москву и другу в Одессу.
Прочитав письма, Аниканов долго стоял на крылечке в раздумье — вернуть их Брухатскому или отнести секретарю комитета? Дело в том, что в письме к родителям Брухатский писал:
«Мама, прошу вас как-нибудь позаботиться о моем освобождении. Замучили военные занятия и работа скверная — в болоте, в горах, везде воды полно, кругом заливы, реки и море, около которого приходится ходить в строю, с винтовкой и возиться с пулеметом. У меня голова кружится, не могу даже писать. Можно ожидать несчастного случая каждую минуту: зверей полно, змеи на каждом шагу и другие неприятности…» и т. д.
В письме же к другу Брухатский писал совсем иное:
«Устроился я тут очень выгодно, работа легкая, канцелярская, получаю не меньше любого инженера, так что на шамовку вполне хватает, да еще откладываю каждый месяц по три сотне, а то и больше. С нетерпением жду весны, когда придут пароходы. Думаю отпроситься в отпуск, а там они меня только и видали! Дело в том, что тут мало девочек, нет кино и других культурных развлечений. Сам подумай, на кой черт пропадать мне в молодые годы в этом медвежьем углу?»
Аниканов был уверен, что, если передать письмо секретарю, Брухатский завтра же вылетит из комитета. Потаенный голос шептал: «А что, если вернуть письма Брухатскому и взять с него выкуп?» Пусть, например, добьется, чтобы его, Аниканова, зачислили в аппарат комитета и поручили какой-нибудь, хотя бы не очень ответственный участок? Но тут же вмешивался другой голос — голос благоразумия: долго ли он сможет держать в своих руках судьбу заворга? В конце концов Брухатскому надоест опасность, и в одно прекрасное время он может жестоко расправиться с ним, Аникановым! Нет, пожалуй, выгоднее передать письмо секретарю комитета. Правда, у Андрея пока что не было особых причин сетовать на свое житье-бытье. Еще в октябре, когда пошли холодные дожди и началась слякоть, он сумел с помощью того же Брухатского устроиться в отделе снабжения: его назначили заведующим складом спецодежды. А вскоре по настоянию Кланьки он переселился в Пермское, сняв койку в просторной избе Кузнецовых.
Аниканов получал итээровский паек, который сдавал в котел кузнецовской семьи, спал в чистой, теплой комнате на пуховой Кланькиной подушке, а сама Кланька не знала, как ему угодить. Наконец, он учился в вечернем техникуме, а не очень обременительная работа не мешала ему заниматься днем.
И все же, если говорить о сокровенных мечтах Аниканова, он не удовлетворялся всеми этими благами, он жаждал быть там, где жизнь бьет ключом, где можно блеснуть своим ораторским искусством, быть на глазах у влиятельных людей. Поэтому он использовал каждый удобный повод, чтобы заглянуть в комитет комсомола.
И вдруг такой случай! Андрей постоял на крыльце, обдумывая рискованный шаг, и в конце концов решил действовать. Он вернулся к себе в конторку, подбросил дров в железную печку и принялся строчить статью. Она называлась так: «Двурушникам брухатским не место в комсомоле! Выше пролетарскую бдительность!»
Аниканову еще не доводилось выступать в газете. Все же, испортив много бумаги, он написал статью. Письма Брухатского он не привел целиком, а взял из них самые яркие выдержки, сопроводив их соответствующими комментариями. После долгих раздумий Андрей поставил свою подпись.
В редакции, прочитав статью Аниканова, литсотрудник газеты, курчавый широконосый паренек, пришел в восторг:
— Здорово! Давно газета не поднимала такого громкого дела! Пойдем к редактору. Нужно убедить его поставить в номер…
Редактор сидел в тесной комнатушке, заваленной грудами бумаг, прокуренной до желтизны. Он как огня боялся смелых критических выступлений.
— Да-а… — вороша волосы пятерней, неопределенно произнес редактор, прочитав статью. — А нуте-ка, товарищ Аниканов, дайте его письма. А нуте-ка, Миша, сличим почерк. Принеси что-нибудь из заметок или ответов на письма Брухатского.
Курчавый принес несколько листков, исписанных Брухатским.
— Да-а… — протянул редактор. — Похоже, что почерк его. Ну что ж, будем советоваться с парткомом…
— А чего советоваться, Осип Корнеевич?
— Ну как «чего»? Все-таки руководящий товарищ…
— Он же двурушник и проходимец! — горячился курчавый.
Целую неделю ждал Аниканов, опубликуют ли его статью. И все это время его не покидало сомнение: а не дал ли он маху? Пожурят Брухатского, влепят выговор, а на работе оставят. И не будет тогда от него житья!
Каждый вечер забегал Андрей в редакцию, но в четверг не успел зайти, поэтому побежал утром в пятницу. По пути встретил знакомого парня.
— Читал?! — Парень достал из кармана полушубка свежую газету. — Ловко ты его!
Аниканов нетерпеливо развернул лист, и лицо его осветилось счастливой улыбкой: статья была на первой странице. Заголовок, набранный крупным шрифтом, бросался в глаза: «Выше пролетарскую бдительность! Двурушникам брухатским не место в комсомоле!»
Андрея вызвали на экстренное заседание комитета. В кабинете секретаря было уже полно народу. В углу сидел Брухатский, облокотившись руками на колени и понуря голову. Заседание открыл Иван Сидоренко, только что избранный секретарем комитета. Он вслух прочитал аникановскую статью в газете, а затем попросил Андрея рассказать, при каких обстоятельствах письма попали к нему.
Кажется, еще никогда Аниканов не блистал так красноречием, как в тот раз. Волновался ли он? Нет, он был ровен и спокоен. Ему не были знакомы робость и растерянность, которые овладевают иными ораторами. Да и то сказать: все эти дни он работал над своим выступлением и выучил его наизусть. Ему дали меньше времени, чем он предполагал, и тем не менее, когда Аниканов, как казалось ему, скомкав конец, сел на свой стул, до его слуха донесся шепот:
— Толковый парень…
Брухатского сняли с работы и исключили из комсомола. Но это была лишь первая часть победы Андрея. Главное ожидало его впереди. Во время перерыва в заседании его подозвал к себе Иван Сидоренко.
— Слушай, Андрей, мы тут посоветовались и кое-что надумали. Как ты смотришь, если я предложу твою кандидатуру на должность заворга? — Сидоренко весело посмотрел в лицо Аниканова. — Ведь ты же член пленума?
Аниканов опустил глаза.
— Я рядовой Ленинского комсомола, и его воля для меня приказ.
— Да это понятно. Сам-то ты, в душе как?
— Буду работать с удовольствием.
Предложение Сидоренко встретило почти единодушную поддержку членов бюро: Аниканов был утвержден заворгом. Сбылось то, о чем он так страстно мечтал. Лишь одно беспокоило Андрея: он стал бояться ходить в потемках, ожидая мести Брухатского. Страх преследовал Аниканова по пятам. Но вскоре миновала и эта неприятность: Брухатский сбежал со стройки.
Но радость Аниканова оказалась недолговременной. Вскоре к нему зашел Ставорский. У Андрея екнуло сердце, когда на пороге его комнатушки появился ответственный исполнитель отдела снабжения.
— Я к тебе, товарищ Аниканов, — сказал Ставорский, окидывая глазами помещение.
За время работы на складе Аниканов довольно близко познакомился с ответственным исполнителем, лебезил перед ним, но почему-то побаивался этого человека. Сейчас можно было бы и посуше отнестись к нему, но чутье подсказало Андрею, что Ставорский зашел не зря.
— Что такое, Харитон Иванович? Садитесь, пожалуйста.
Ставорский неторопливо расстегнул воротник полушубка, сбил на затылок мерлушковую папаху.
— Дела, дружище, неважные там у тебя, по складу, — медленно заговорил он, вперя нагловатый взгляд в побледневшее лицо Аниканова. — Только что закончили выверку документов. — Он достал из кармана ватных брюк скатанную в трубку пачку бумаг. — Двадцать восемь комплектов брезентовой спецодежды не хватает, шестнадцать дождевиков и одиннадцать пар резиновых сапог. Ну, я не говорю уже о брезентовых рукавицах, это мелочь, но и тех не хватает около полутора десятков пар. Одним словом, тебе хотят повесить на шею ни много ни мало пять тысяч рублей.
— Не может быть, это ошибка! — Глаза Аниканова округлились, вокруг посиневшего носа проступила мертвенная бледность. — Я ничего не брал, кроме двух пар резиновых сапог и одного плаща. Но вы ведь сами тогда утвердили акт на их списание, Харитон Иванович. — Аниканов с мольбой смотрел на Ставорского. Дрожащими руками он принял протянутые ему бумаги, долго копался в них, лихорадочно бегая глазами по длинным колонкам густых цифр. — Как же это получилось? — приглушенно бормотал он. — Ведь я же ничего себе лишнего не брал и выдавал все только под расписку! А может, украли ночью?
— Очень возможно, — ответил Ставорский безразлично, — но тут вина не отдела снабжения. Тебе были выданы номерные замки, ключами распоряжался ты один…
— Харитон Иванович, так как же быть? — В голосе Аниканова послышалось отчаяние. — Что же сделать, чтобы точно выверить? Может, ошибка где вкралась?
— Все выверено раз пять…
Взявшись руками за голову, Аниканов долго сидел в оцепенении, с остановившимся взглядом. Потом прошептал так тихо, что сам едва услышал свои слова:
— Харитон Иванович, а нельзя ли это дело?..
Ставорский в ответ молча, но многозначительно кивнул головой в сторону двери, аккуратно скрутил бумаги в трубку и сунул в карман. Аниканов понял намек, быстро надел полушубок и вышел вслед за Ставорским.
— Ты думаешь, мне не жаль тебя гробить? — сказал вполголоса Ставорский, когда они очутились на крылечке. — Я же понимаю, что тебе неоткуда взять такую сумму. Придется помочь тебе, без меня ты не выкрутишься. Короче говоря, вот что: где хочешь достань сегодня литр спирту и, как только стемнеет, приходи ко мне на квартиру.
— А я же учусь по вечерам, Харитон Иванович…
— Придется пропустить разок.
— Неудобно, я же работник комитета…
— Так тебе что удобнее — сидеть пять лет или один раз наплевать на свой авторитет?
— Конечно, конечно! Хорошо, Харитон Иванович. Как найти вашу квартиру?
Ставорский объяснил. Помолчав, добавил:
— Я буду не один, понятно?
— Понятно, понятно, Харитон Иванович.
…Проснувшись на следующее утро, Аниканов не сразу сообразил, где находится. Голова будто обручами стянута, во рту до того пересохло, что невозможно шевельнуть языком. Он огляделся.
Окна небольшой комнатушки высинил рассвет, мороз разрисовал стекло узорами. Рядом, раскидав по подушке спутанные волосы, спит полуголая женщина. У противоположной стены — еще одна койка, на ней другая женщина. Аниканов сразу узнал по волнистым черным волосам красавицу Уланскую. Кто же рядом с ним? Да это Клавдия Сергеевна, бухгалтер отдела снабжения!
До боли в висках напрягая память, Андрей старался размотать нить событий, приведших его сюда. Все помнил: и разговор со Ставорским об этих проклятых плащах и сапогах, и Кланькино напутствие не напиться, — она добыла ему какими-то путями бутылку спирта, — и компанию, в которой были Ставорский, Липский, Уланская, Клавдия Сергеевна; но как он очутился в этой комнате в одной кровати с Клавдией Сергеевной, Андрей так и не мог вспомнить. Почему он не ушел сразу? Мучительное чувство позора жгло ему душу, весь белый свет казался немилым. А что, если в комитете узнают обо всем?
Аниканов решил уйти незамеченным. Но стоило ему пошевелиться, как Клавдия Сергеевна открыла глаза.
— Андрюшенька, ты уходишь?
— Надо идти…
— Полежи еще.
— Некогда, на работу опоздаю.
— Ну какой ты нехороший, — капризно заныла Клавдия Сергеевна. — Я тебе приказываю, Андрюшенька…
— Некогда, некогда, Клавдия Сергеевна.
— А ты забыл вчерашнюю клятву?
— Какую? — Аниканов насторожился.
— Что вечно будешь моим рабом, — кокетливо прошептала Клавдия Сергеевна.
— Не помню, — пробормотал Аниканов, хмуря брови.
— При всех поклялся, при свидетелях, и даже расписку выдал!
Проснулась Уланская, спустила голые ноги на пол, застланный медвежьей шкурой.
— Не ушел еще, Аниканов? — Она устало зевнула. — Можешь не торопиться, в коридоре все равно все знают, что ты у нас ночевал, — сказала она деловито и добавила: — Никогда бы не подумала, Аниканов, что ты такой шкодливый. Первый раз встретил женщину и сразу… Что, у вас все такие там, в комсомольском вашем комитете?
Круглое лицо Аниканова вспыхнуло кумачом. Низко опустив голову, он резкими движениями обматывал ноги портянками, долго всовывал их в валенки.
— Почему же ты не отвечаешь? — допытывалась Уланская. — Умеешь шкодить, так и умей ответ держать!
— Ну не терзайте его, Ларочка, — с иронией в голосе умоляла Клавдия Сергеевна. — Мальчик же обещал, что будет выполнять нашу волю.
— Да, ты не забыл, Аниканов, свое обещание? — снова спросила Уланская.
— Какое? — У Аниканова округлились глаза.
— Интересный молодой человек! — холодно усмехнулась Уланская. — Его, можно сказать, из кутузки вытащили, а он, видите ли, не помнит.
— Честное слово не помню, Лариса Григорьевна.
— Ну, так я напомню. По первому моему требованию вы сделаете все, что будет нужно для меня и Клавдии Сергеевны, — переходя на официальный тон, сказала Уланская.
— Не помню, не помню, — твердил Аниканов, мучительно потирая лоб.
— Зато я хорошо все помню и в любой день могу подробно расписать в парткоме ваши проделки!
Аниканов умоляюще посмотрел на нее.
— Не говорите, Лариса Григорьевна. Раз обещал, значит сделаю, когда потребуете…
— Вы очаровательный молодой человек! — Уланская торжествующе рассмеялась. — Первое требование за Клавдией Сергеевной, чьим рабом вы являетесь. Говори, Клавдия.
— Мой раб Андрюшенька сегодня вечером придет ко мне и будет меня развлекать.
— Не могу, Клавдия Сергеевна, я по вечерам учусь в техникуме.
— Следующее слово за Ларочкой, — кокетливо сказала Клавдия Сергеевна.
— Если твой раб не придет к тебе сегодня, я завтра иду в партком, — загробным голосом произнесла Уланская.
— Хорошо, я приду, но только после занятий.
— Сие я позволяю рабу, — дурачилась Клавдия Сергеевна.
Аниканов шагал к дому Кузнецовых весь разбитый, подавленный, не замечая тихого морозного утра, певучего скрипа снега, солнечных лучей, брызнувших из-за правобережных сопок. С ужасом он думал о том, что ждет его впереди: объяснение с Кланькой, обязательные посещения Клавдии Сергеевны, постоянная угроза разоблачения, которая будет теперь преследовать его неотступно. Бессильная злоба, горечь, страх — все смешалось в душе, отравленной похмельем.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Еще по осени, когда из-за бездорожья было особенно плохо с подвозкой теса и плотники простаивали, Захар зашел в соседний барак и застал ребят за странным занятием: рассевшись вокруг чурбака, они смотрели на Степана Ладыгина, который занес топор над щепкой, лежащей на, чурбаке. Удар! — и хохот гулко раскатился по длинному бараку.
— Наперекосяк! Обе линии!
— Снимай картуз, Степан, — приказал щупленький Иванка.
Ладыгин покорно снял картуз, зажмурился. Три звонких щелчка по лбу нарушили воцарившуюся на миг тишину.
— Теперь давайте-ко мне, охота попробовать ишшо. — Иванка придвинулся на коленках к чурбаку, взял свой легкий, красивый топор.
— Сколь сантиметров? — спросил Алексей Самородов с видом распорядителя.
— Охота один попробовать.
Алексей взял щепу, провел карандашом черту по линейке — складному метру, а рядом, через сантиметр, — вторую, параллельную первой. Иванка удобно стал на колени, долго примерял в руке топор, то приподнимая, то снижая его. Наконец с силой тяпнул.
Все ахнули:
— Точно посредине!
— От черт, даже ни одной линии не задел!
Захара увлекла эта игра, и он попросил начертить ему полоску шириной в два сантиметра. Кто-то подсунул ему тяжелый топор с неудобной рукояткой. Захар сильно волновался. Удар! Все загоготали: щепа разлетелась в куски, перерубленная наискосок.
— Давай, друг, свой чугунок, — скомандовал Иванка.
От трех крепких щелчков на лбу Захара расползлось красное пятно. Минут пять он сидел, потирая лоб и наблюдая за игрой со стороны, но потом опять взыграло ретивое.
— Не бери этот, — остановил его Алексей Самородов, когда Захар хотел взять протянутый ему топор. — Они над тобой смеются. Выбери полегче, вот возьми Иванкин.
Алексей подал Захару легкий, как игрушка, топор с тонким лезвием, с удобным, как раз по ладони, хорошо отшлифованным топорищем. Захар прицеливался недолго и нанес почти точный удар, лишь слегка задев одну линию.
— Только по другому месту бейте, — попросил он, снимая буденовку, — а то шишка будет.
Получив три крепких щелчка от Иванки-звеньевого, он попросил дать ему еще одну щепку. Захар входил в азарт. И добился своего: на этот раз удар был точным.
Когда Захар вернулся к себе, Каргополов озабоченно спросил:
— Слушай, Захар, у тебя какая-то подозрительная краснота на лбу. Стукнулся обо что?
Выслушав рассказ Захара, он долго хохотал, потом заметил:
— Недурно придумано, ей-богу, недурно! Надо устроить состязание бригад — кто больше заработает не щелчков, а очков.
Замысел Каргополова тогда не осуществился, о нем как-то забыли, но с той поры Захар не переставал думать о топоре Иванки-звеньевого. Топор, которым работал Захар, по сравнению с Иванкиным был и неуклюж и тяжел.
У каждого человека есть предметы, к которым он питает особую любовь. В кавшколе у Захара таким предметом был клинок — легкий, певучий, стремительный. В часы досуга Захар любил ходить с ним в зимний манеж и тренироваться у станка с лозой, разрабатывая кисть руки, точность и силу удара.
Теперь место клинка в душе Захара занял топор Иванки-звеньевого. Он часто подолгу наблюдал, как ловко Иванка тешет плинтус.
— Че, Жерноков, не видывал, как роботаю? — спросил его Иванка.
— Слушай, давай меняться топорами? — предложил Захар. — Сколько хочешь, столько и дам в придачу.
— А для че?
— Нравится мне твой топор!
Иванка перестал тесать, непонимающе уставился на Жернакова.
— Это пошто? Дай-ко посмотрю твой. — Он повертел в руках тяжелый, неуклюжий топор Захара. — Нет, не буду меняться, не годится он мне.
— Ну, тогда продай! — не отставал Захар. — Сколько спросишь, столько и заплачу. А то все равно украду, — улыбнулся он открыто.
— Я те украду! — погрозил Иванка. — Пустое не говори, иди роботай.
— Нет, я серьезно, Иван, продай, а?
— Да че ты, ровно робенок? Он, чай, стальной, из дому привез. Говорю — не продам, и иди с богом.
— Ну, тогда сделай мне такой, как у тебя.
— А заплатишь?
— Сколько спросишь, столько и заплачу.
— Топорище могу сделать, а топор достовай сам.
С той поры Захар не мог спокойно пройти мимо любого топора. Ему хотелось найти именно такой, как у Иванки, — тонкий, с широким лезвием. Сначала Каргополов посмеивался над этой страстью Захара, но потом понял, что друг его серьезно «заболел». Кончилось тем, что они однажды отправились на берег Амура, где находились склады отдела снабжения, и там выбрали топор по душе Захара. Но как его взять? Решили прибегнуть к помощи Аниканова — он тогда еще работал заведующим складом. Выслушав их, Андрей искренне удивился:
— Да на черта он тебе нужен, Захар! Ты что, век будешь плотником?
И хоть осталась непонятной Аниканову страсть Захара, он все-таки помог земляку получить этот топор. А вскоре Иванка сделал ему крепкое березовое топорище — точно по образцу своего (болванки для топорищ всегда висели над печкой в секции, где жили братья Самородовы). Не постеснялся Иванка и насчет платы — четвертную содрал за работу. Но, по совести сказать, работа стоила того: топорище вышло красивым, с хорошим изгибом, отшлифованное до блеска и легкое.
Захар прямо-таки наслаждался, работая новым топором. Он ухаживал за ним, как когда-то за клинком, по вечерам тщательно вытирал, сушил, каждое утро подтачивал, правил.
В дни вынужденного безделья Захар наведывался в бригаду Самородова. И нередко возвращался с красным лбом, но довольный: непобежденными остались только братья Самородовы — Алексей и Иванка.
С тех пор, что бы Захар ни тесал, всякий раз старался делать так, словно эта доска или плаха должна была оцениваться комиссией. Он не переставал тесать и тогда, когда все отдыхали, — что-нибудь выстругивал своим острым, как бритва, топором. Даже разработал себе систему утренней зарядки: проснувшись, брал в правую руку топор, вертел им и так и этак, делал короткие взмахи, останавливал топор в воздухе. Постепенно он стал замечать, как все свободнее владеет топором, как послушнее становится он в руках. Однажды Захар показал Каргополову сделанную им ножку стула и попросил определить, чем обработана она — топором или рубанком?
— Топором? — Каргополов вопросительно посмотрел на Захара, щуря в улыбке мелкие зубы.
— А как ты думаешь?
— Обработана, как рубанком, но знаю, что делал топором. Я же вижу по твоей физиономии. Молодец, Захар! Завидую твоему упорству. С таким трудолюбием многое можно сделать.
Он еще долго вертел в руках ножку, разглядывая ее острые грани и удивляясь тщательности работы.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Давят, до хруста жмут жестокие январские морозы с неподвижными облачками тумана у самой земли, по впадинам, по торосам Амура, с матово посеребренной тайгой на сопках, с мглистым лютым сиянием вокруг солнца, со злым скрипом снега под ногами. Ударь топором по доске — звенит доска, будто сталь; гвоздь не лезет в дерево, гнется; начни сверлить буравом плаху — бурав не идет, а древесина с треском раскалывается. Индевеет все: ресницы, воротник, шапка, доски, топор. В воздухе летает, сверкая, иней.
Возле строящихся бараков — костры. Дым от них не подымается выше цоколя, пласты его образуют навес над строительной площадкой. У костров, приплясывая и хлопая рукавицами, греются по очереди молодые плотники.
— Ну, здравствуйте, хлопцы! — Из подъехавшей кошевы вылезает Платов, с ним Ваня Сидоренко.
— Здравствуйте, — вразнобой отвечают притихшие было плотники.
— Видать, новое начальство, — шепчутся они.
— Замерзли? — Платов широко, приветливо улыбается, внимательно разглядывает лица.
— У костров-то ничего!
— Замерзнешь, когда по кубометру в день привозят пиломатериала…
— Это правда, — соглашается Платов. С лица его исчезла улыбка, оно стало жестким. — Плохо работает лесозавод.
Утром Платову позвонили, что завод простоял ночную смену. Прихватив с собой Сидоренко, секретарь парткома поехал туда. Завод уже работал. С ожесточением жахали пилы, разваливая мерзлые бревна на доски. Директор завода, инженер Майганаков, встретил приехавших у входа в цех.
— В чем дело, почему простояли ночь? — Глаза Платова потемнели, стали недобрыми.
— Пойдемте в контору, расскажу подробно. — Майганаков хмуро поглядел на секретаря парткома.
— А вы без конторки объясните.
— Ну что ж, пожалуйста. Кстати, хорошо, что тут товарищ Сидоренко. Это его комсомольцы сорвали ночную смену.
— Как?
— А так: отказались работать — и все!
— Да вы можете, черт возьми, по порядку объяснить? — не выдержав, закричал Платов.
— Вы не кричите, товарищ секретарь, мне самому все время приходится выезжать на крике, осточертело… Одним словом, есть у меня тут один «незаменимый» бригадир Махинин. Вчера вечером перед заступлением на смену он заявил, что, если я не дам по два талона каждому на ужин, бригада работать не будет. А какое я имею право это делать? Я начал его отчитывать, а он привел ко мне всю бригаду, да еще стал грозить. Начали митинговать. Кричали, пока я не выгнал их из конторки, а они — мимо цеха и до дому! Я за ними вслед. Прихожу, а они уж в карты режутся… Либо подкулачник, либо самый настоящий кулак этот Махинин. Прошу забрать всю бригаду отсюда и прислать хороших ребят.
— Сегодня же вызови бригаду на комитет, — сказал Платов Сидоренко. — Впрочем, ты не знаешь, где они живут?
— Я знаю где, — сказал Майганаков. — Недалеко тут, в шалаше.
— Тогда поедемте к ним сейчас же.
Кошева остановилась возле шалаша, по конек занесенного снегом. Лишь дым над железной трубой да тропинка к двери, пробитая в глубоком снегу, указывали на то, что шалаш обитаем.
Внутри смрад: дым от табака и от железной прогорелой печки, гирлянды портянок на веревке, десяток топчанов со скомканными одеялами, грязными подушками. За столом, заваленным окурками, человек шесть нечесаных, вихрастых парней. На столе карты, деньги.
— Вот, пожалуйста, чем топят! — с негодованием указал Майганаков на изрубленные оконные переплеты, отесанные высохшие жерди. — Разбирают шалаши и жгут, товарищ Платов!
— А если дров не подвозят, тогда как? — Невысокий рыхлый парень враждебно посмотрел на Майганакова. — Или прикажете замерзать?
— Чем сидеть вот так за картами, Махинин, — заметил Сидоренко, — так лучше бы сходили в лес, до него двести метров, и принесли бы вшестером на целую неделю дров.
— Вы Махинин? — Платов пристально вгляделся в лицо толстого парня.
— Да, я, — ответил тот вызывающе, но с беспокойством, сгребая карты в кучу.
— Та-ак… — Платов отвернул угол матраса на крайнем топчане, присел. — Я секретарь парткома, — сообщил он. — Объясните нам с товарищем Сидоренко, почему вы не вышли в ночную смену, почему сорвали работу лесозавода на целую ночь? — У Платова задергалось веко, он прикрыл его ладонью, потер щеку.
— Ночную смену не мы сорвали, а вот товарищ директор. — Осмелев, Махинин нагло посмотрел на Майганакова. — А что, скажите, неправильно требовала бригада дополнительных талонов? По закону полагается добавка к питанию тем, кто работает ночью. Вот, прочтите, пожалуйста. — С победоносным видом он вытащил из кармана растрепанную книжку, протянул через стол Платову. Но Платов продолжал задумчиво смотреть на Махинина. Тот бросил книжку на угол стола. — Тут дураков нет, мы тоже грамотные!
— Вы давно в комсомоле, Махинин?
— А какая вам разница? Ну, к примеру, три года. Исключить хотите? Можете исключать, не очень-то много я получил от вашего комсомола. Завезли на край света, а теперь хотите еще голодом заморить…
— Какая организация вас посылала сюда? — спросил Платов с подчеркнутым спокойствием, хотя оно стоило ему больших усилий.
— Как какая организация?
— Ну, откуда вы приехали?
— Из-под Истры, Московской области.
— Все ясно. — Платов встал, посмотрел на часы. — Сегодня после обеда, часа в три, ведите всю бригаду в партком, — приказал он. — Решим вопрос о вашей дальнейшей работе.
Садясь в кошеву, Платов расстегнул ворот, как будто его душило. Помолчав, спросил Сидоренко:
— А есть тут поблизости хорошая бригада?
— Есть, бригада Брендина, на строительстве бараков. — Сидоренко подозрительно покосился на Платова. — Но я бы не советовал набирать из нее людей, она возглавляет соревнование на всем втором участке.
— Да я не для этого. Хочется просто поговорить с хорошими ребятами, душу отвести…
— Вы застегните ворот, Федор Андреевич, — посоветовал Сидоренко. — Простудитесь…
Они подъехали к недостроенным баракам. Сидоренко искоса поглядел на секретаря парткома, но Платов уже успокоился, на лице его появилась улыбка.
— Ну, кто тут у вас бригадир?
— Сейчас позовем! Он пол настилает.
Вскоре через оконный проем выпрыгнул на снег Брендин, с достоинством представился Платову, дружески пожал руку Ване Сидоренко.
— Зовите всю бригаду, поговорим у костра, — распорядился Сидоренко.
Кто-то заботливо подставил чурбак. Платов поблагодарил и уселся, широко расставив ноги в огромных валенках.
Разговор поначалу не клеился — ребята держались настороженно, отвечали кратко, каждый старался угадать, зачем к ним приехал новый секретарь парткома. По вопросам гостя трудно было понять его намерения: он интересовался прошлыми специальностями ребят, их образованием, заработком, питанием, спрашивал, что пишут из дому, скучают ли ребята по родным местам, как проводят вечера, как организуют отдых, что читают, ходят ли на охоту? Слушая ответы, задумчиво смотрел на огонь, иногда улыбался про себя, по-отцовски тепло, мудро. Это располагало к нему, настраивало на откровенный разговор.
Вскоре Платову стали наперебой рассказывать о том, как создалась бригадная коммуна, как организовали собственную «кухню», отказавшись от столовой, как общими силами навели чистоту в бараке, создали свою библиотеку. Потом пошли претензии: почему не подвозят воду и дрова к бараку? Почему второй месяц не выдается зарплата? Почему техники плохо организуют труд — бригада не знает сегодня, что будет делать завтра. Почему не ведется учет работы, почему постоянно не хватает строительных материалов? Из-за этого приходится простаивать по полдня, а то и по целому дню! Что касается охоты, то какая может быть охота, когда нет ружей и лыж и достать их неоткуда. А зверя много. Недавно два сохатых вышли прямо к крайним шалашам, одного все-таки убили. По Силинке, говорят, водится много рябчиков, белки, выдры…
Больше часа провел Платов с молодежью. Прощаясь, сказал:
— Ну, спасибо, хлопцы, хороший разговор был. Я слышал о вашей бригаде как об одной из лучших на стройке. Вот мне и хотелось посмотреть на вас, узнать, чем же вы лучше других. Теперь вижу чем: комсомольцы вы настоящие и дружные. Отсюда и успехи у вас. Желаю вам и впредь не сгибаться, какие бы трудности ни встретились.
— Не согнемся, товарищ Платов!
— Спасибо, что побывали у нас.
— Тесу бы нам побольше!..
Платов и Сидоренко уселись в кошеву, и лошадка лениво затрусила.
— Заедем-ка в больницу. Появились больные цингой, — вздохнул Платов. Помолчав, сказал: — После партийной конференции нужно собрать комсомольскую.
— У нас так и запланировано, Федор Андреевич.
— Надо, чтобы Коваль выступил и рассказал комсомольцам всю правду о трудностях, которые мы испытываем и которые нас ждут впереди… Где бы достать ружей? — подумал он вслух. — Необходимо приучить молодежь к тайге, чтобы они полюбили и не боялись ее. Ведь это же такая прелесть — дремучий лес! Нам нужны свои следопыты. Пусть добывают себе дичь, кедровые орехи — скоро, по-видимому, станет очень голодно. Мне один из местных жителей сказал, что здесь, в тайге, клюква зимует под снегом и бывает самой вкусной после того, как ее побьет морозом. Пусть собирают ее, а попутно примечают, где есть бутовый камень, гравий, песок.
Речь Платова текла мерно, будто он думал вслух, успокоенный, глубоко сосредоточенный на своих сокровенных мыслях.
Больница, куда они потом отправились, помещалась в крайнем бараке. Гостей встретил главврач Панов. С подчеркнутым вниманием выслушав секретаря парткома, он коротко сказал:
— Хорошо, пойдемте в палаты.
Облаченный в белый халат, Платов осторожно ступал по скрипучим половицам.
— Цинготники лежат вот здесь, — пояснил главврач, останавливаясь у рассохшейся двери с широкими щелями. — Двое в очень тяжелом состоянии.
В длинном помещении двумя рядами тесно стояли кровати вперемежку с топчанами. Все они были заняты. Больные притихли. В углу кто-то слабо простонал. Платов шагнул туда и испуганно остановился, разглядывая лицо молодого паренька: глазницы его были окружены черными с прозеленью огромными кругами, белки глаз пунцово краснели.
— Как самочувствие, Свиридов? — спросил врач, подходя к изголовью.
— Плохо… Иван Осипович… дышать нечем… — слабо ответил тот.
Врач нагнулся, осторожно прикоснулся к подбородку.
— Покажи десны.
У Платова дрогнуло сердце, когда больной с усилием обнажил десны — они напоминали комочки спекшейся крови, волдырями наплывали на мелкие пожелтевшие зубы. Потом врач откинул одеяло с ног больного. Припухшие в щиколотках и коленных суставах ноги были покрыты мельчайшей красной сыпью.
— Сколько раз пил сегодня пихтовый отвар? — спросил врач.
— Два раза — сколько давали…
— Будешь пить четыре раза. И увеличу норму брусники. Не робей, Свиридов, все равно выходим, кризис миновал.
— Спасите меня, доктор, — простонал паренек, — у меня там одна мать, в Харькове…
— Спасем, только не падай духом. Это вредно при цинге.
Примерно в таком же состоянии был и еще один больной — горбоносый паренек, тот самый, что был в бригаде «рыбаков-любителей», встреченных Захаром у Кривой протоки, когда возвращался он из побега. Остальные обитатели палаты не вызывали особых опасений — у большинства только слегка потемнели и кровоточили десны и едва заметно посинели впадины глазниц.
Платов целый час провел в больнице и был удручен ее состоянием: больные жаловались на однообразное питание, которого еще и не хватало, на жесткие топчаны, застеленные матрасами со стружками вместо сена. Но особую тревогу вызывала цинга. Восемь человек умерло за зиму, а количество заболеваний, по словам врача, стало увеличиваться, и ничем нельзя было остановить ее дальнейшего распространения.
Платов попросил главврача составить список продуктов, необходимых больным.
— А скажите, доктор, — спросил он, — существуют какие-нибудь меры, чтобы уберечься от цинги?
— Нужно больше двигаться, находиться на свежем воздухе, — врач пожал плечами, — ну и ввести обязательное употребление перед едой отвара пихтовой хвои. Между прочим, по моим наблюдениям, — добавил он, — имеет значение и бодрое состояние. У всех заболевших я наблюдаю хандру, и чем она больше овладевает человеком, тем сильнее проявляется у него болезнь…
— Я прошу вас, доктор, дайте указание всем столовым, в порядке саннадзора, чтобы пихтовый отвар везде имелся в изобилии. И еще: нужно, чтобы персонал больницы провел в каждом бараке беседы о мерах предохранения от цинги, а вы сами выступите со статьей в газете. Сделайте это безотлагательно! Надо спасать молодежь от гибели. Вы коммунист, доктор?
— Да.
— Считайте это поручением партии.
— Хорошо, товарищ секретарь, все будет сделано.
…Платов появился в парткоме лишь во второй половине дня. В приемной он увидел знакомые лица — это были парни из бригады Махинина.
— Прошу заходить! — Платов распахнул дверь в свой кабинет.
Он пригласил всех раздеться и, только когда уселся за свой стол, заметил, что среди вошедших нет самого бригадира.
— А почему нет Махинина? Он что, побоялся прийти?
Сероглазый паренек с открытым лицом ответил за всех:
— Сбежал он, товарищ секретарь!
— Как сбежал, куда?
— А кто ж его знает! Когда уходили на обед, оставался в шалаше, говорил: «Идите, догоню!» А потом не догнал и в столовую не пришел. А когда мы вернулись в шалаш, то видим, дверь открыта настежь, в шалаше, как на улице, — холод. Думаем: что такое? Посмотрели, а на его топчане один голый матрас — ни подушки, ни одеяла нет. И чемодана тоже нет — словом, ничего из его вещей и нет. Ну тогда поняли: сбежал наш бригадир!
— Из ваших пожитков ничего не унес?
— Украл. Вот у него, — курносый показал на смуглолицего парня с монгольским разрезом глаз, — в матрасе были спрятаны деньги. Махинин украл все триста рублей, а у меня — куртку из байки, теплую.
С минуту Платов изучал разнохарактерные лица ребят; некоторые не выдерживали его внимательного взгляда, отворачивались, но сероглазый парень открыто и добродушно смотрел ему в лицо.
— Ну и как же теперь думаете жить без бригадира? — спросил наконец Платов. — Побежите вслед за ним?
— Можно сказать, товарищ секретарь? — заговорил снова сероглазый. — Махинин не наш человек, мы теперь убедились в этом. После того как вы ушли, мы его разжаловали из бригадиров и немного… — Он смутился.
— Что, побили? — спросил Платов с улыбкой.
— Не то чтобы побили, а так, несколько оплеух поднесли.
— Чего же вы раньше смотрели? Вчера вечером?
— Да сбил он нас с толку, заслугами все похвалялся, говорит, сам был секретарем ячейки и все порядки хорошо знает. А сегодня мы пойдем в ночную смену, товарищ секретарь. Бригадиром ребята выбрали меня.
— Как твоя фамилия?
— Чижов.
— Тогда у меня, хлопцы, к вам нет больше вопросов! Буду надеяться, товарищ Чижов, что в вашей бригаде ничего подобного больше не случится.
— Не будет этого! — ответили комсомольцы.
Улыбка осветила лицо Платова.
Их разговор прервал Ставорский. Подтянутый, собранный, Ставорский щелкнул каблуками и только не взял под козырек. Пригласив его сесть, Платов внимательно окинул его взглядом, нахмурил лоб.
— Мы с вами нигде не встречались? — спросил он.
— По-моему, нет. — Ставорский учтиво улыбнулся, скулы его зарумянились.
— В тридцать третьей кубанской кавалерийской дивизии не служили?
— Нет, служил у Котовского.
— У Котовского я не бывал… Я пригласил вас, товарищ Ставорский, чтобы выяснить, чем располагает отдел снабжения. Меня интересуют ватные матрасы, теплые одеяла, простыни, койки с сетками.
— Почти ничего нет. Но для вас, Федор Андреевич, я могу подобрать. Все это было своевременно завезено, но передано в коммунально-бытовой отдел и роздано в пользование управленческим работникам.
— Вы меня не так поняли. Нужно не мне, а в больницу, — холодно сказал Платов.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Комиссия крайкома закончила работу. Председатель комиссии — щупленький, интеллигентного вида человек с чрезвычайно строгим, землистого цвета лицом, с седеющим хохолком, зачесанным набок, — два часа без передышки докладывал о результатах обследования. Доклад его произвел удручающее впечатление. Запасов продовольствия оказалось меньше, чем предполагалось, их едва ли хватит на три месяца, тогда как до открытия навигации оставалось четыре месяца; на складах не было зимней одежды и обуви; недоставало железа, проволоки, болтов, гвоздей, кирпича, а также инструмента, и никто толком не мог сказать, куда все это девалось; наполовину сократилось конское поголовье; в пожаре погибли денежные документы на пять миллионов рублей, и теперь из-за отсутствия отчетности об израсходовании этой суммы банк прекратил финансирование стройки, рабочие вот уже второй месяц не получают зарплаты. Срывалась и заготовка леса. Летом стройке потребуется не меньше ста тысяч кубометров древесины, но зимний план заготовок сорван.
Слушая докладчика, Платов не сводил с него взгляда, словно ожидая чего-нибудь утешительного. Но председатель комиссии так и не сказал ничего успокаивающего. Наоборот, подчеркивая каждое слово, он заявил в заключение:
— Стройка находится в чрезвычайно тяжелом положении. Если в самом срочном порядке не будут приняты экстраординарные меры, то дело может кончиться тем, что вы останетесь без людей — они попросту разбегутся, ища спасения от голода и цинги.
Он сел, вытер платком выпуклый лоб, энергичным движением поправил седеющий хохолок.
— А как вы думаете, Исидор Евграфович, — Платов задумчиво повертел в пальцах карандаш, — сможет край помочь нам автотранспортом? Я имею в виду заброску продовольствия.
— Я думаю, что этой помощи не потребуется. В Хабаровск со дня на день должны прибыть тридцать грузовых автомашин в адрес Дальпромстроя. Вот и нужно их использовать как следует.
— Все равно этого недостаточно! — возразил Коваль, нервно теребя бородку. — Давайте будем реально смотреть на вещи. Если считать, что машины придут к концу января, в условиях бездорожья мы сможем проделать в лучшем случае два рейса. Каждая машина возьмет, предположим, полторы тонны груза, всего за зиму будет перевезено девяносто тонн. Этого слишком мало!
Платов быстро подсчитал что-то на листке бумаги.
— Это одной только муки на двадцать суток. Мало, мало, товарищи! Мы ведь не учли еще одно важное обстоятельство: в связи с появлением цинги необходимо увеличить норму хлеба для тех, у кого начнут появляться симптомы этой болезни. А значит, расход будет выше, чем мы считаем. Минимум сто пятьдесят тонн муки — вот наши самые скромные потребности до открытия навигации!
— Мы, конечно, доложим об этом в крайкоме, Федор Андреевич, — учтиво сказал председатель комиссии. — Но вам нужно больше полагаться на собственные силы. Почему бы, например, не организовать здесь колхозный базар? Обратитесь с призывом к колхозникам, чтобы везли продукты своего хозяйства — овощи, мясо, молоко, рыбу. А чтобы заинтересовать их, выбросьте в порядке встречной торговли то, что есть у вас из промышленных товаров, особенно ситец.
— Мы уже обращались с таким призывом, — Платов потер лоб, — но приезжает очень мало. Да и кому ехать? Вниз по Амуру на сто километров всего шесть деревенек, половина из них нанайские. А нанайцы, как вы знаете, еще не научились разводить скот и выращивать овощи. Такая же картина и вверх по Амуру. Там десять деревень, но семь из них тоже нанайские, дворов по десять — пятнадцать. Все население округи в пять раз меньше населения Комсомольска. Остается один резерв — рыба. Запасов соленой кеты вполне достаточно до открытия навигации. Что же касается свежей рыбы, то в озере Болонь подо льдом видимо-невидимо толстолоба. С осени рыбаки перегородили Серебряную протоку, закрыли рыбе выход в Амур. Теперь толстолобы прыгают из прорубей, как из садка, весь лед озера, говорят, усеян ворохами этой великолепной, самой жирной на Амуре рыбы. Но для ее вывозки опять-таки требуется транспорт — сто километров не маленькое расстояние. У колхозов тоже нет лишних лошадей. Они мобилизованы в порядке гужевой повинности на лесозаготовки. Остается единственная надежда на Хабаровск.
В конце концов было решено в срочном порядке выявить всех шоферов и послать их в Хабаровск. Как только там будут получены машины, срочно грузить на них муку и пробиваться в Комсомольск. Ответственным за перевозку назначили Ставорского.
Большие разногласия вызвал вопрос о лесозаготовках. Члены комиссии предлагали укрепить Пиваньский участок, послав туда большой отряд отборных комсомольцев. Против этого категорически выступил Платов.
— Нужно создать свой, параллельный лесоучасток! — Он встал, как-то весь преобразившись: глаза его потемнели, на скулах выступил скупой румянец. — С самого начала необходимо придать ему характер, если хотите, штурмового батальона, идущего с единой волей — победить или умереть! Да, да, так именно и поставить задачу: если комсомольцы поймут всю глубину опасности — а о ней нужно честно и открыто сказать им! — они пойдут в огонь и в воду. Без их боевого энтузиазма мы ничего не сделаем. И пускай поведут их на штурм леса лучшие представители нашей партии, как водили в гражданскую войну в бой. А подчинять их руководству существующего лесоучастка, по-моему, заранее обречь дело на провал. Я знаю начальника лесоучастка — это негодяй и, по-видимому, саботажник. У него там, в Пиваньском озере, стоит баржа с овсом, зерна в избытке, оно разбазаривается, потому что никто не контролирует начальника, а когда мы попросили у него взаймы пятьдесят тонн — он даже разговаривать с нами не пожелал. Он окружил себя кулаками, а вы хотите, чтобы мы подчинили нашу прекрасную боевую молодежь этому прохвосту! Ни в коем случае! Свой отряд создадим — от рядового лесоруба и возчика до главного командира.
Решение было единодушным: завтра же объявить мобилизацию на штурм леса и назвать ее «поход за бревном обороны».
В комитете комсомола — настоящее столпотворение. В воздухе синим-сине от табачного дыма. Напрасно ругается, просит, требует Аниканов, чтобы не курили, — входят все новые и новые группы парней, и каждый с папиросой. Не перестают звонить телефоны. Помимо тех, кого намечено послать, в лес просятся добровольцы.
Аниканов занят комплектованием бригад. Перед ним список бригады Брендина, которая в полном составе мобилизуется в лес. В комнату набилась вся бригада, тесно окружив стол заворга. Лицо Аниканова раскраснелось, глаза блестят, на лбу пот. Андрей быстро пробегает глазами фамилии, окидывает беглым взглядом ребят, безапелляционно говорит:
— Создадим две бригады. Одной останется руководить товарищ Брендин, другую возглавит… — Он взъерошил волосы, на минуту задумывается, глядя то на Каргополова, то на Захара, — возглавит товарищ… Каргополов. Не возражаешь, Иван?
— Нет, не возражаю, — решительно отведает Каргополов. — Только ко мне запиши Жернакова.
— А я как раз так и думал, вы же дружки… — Аниканов быстро ставит птички и черточки возле фамилий. — А к тебе, товарищ Брендин, кого будем рекомендовать комсгрупоргом?
— Пускай решает сама бригада!
— Хорошо. Идите получайте путевки. Маша, — крикнул он Дробышевой, — выпиши вот еще двум бригадам! Птичками отмечены члены бригады Каргополова, черточками — Брендина.
— А когда на Пивань? — спросил Каргополов.
— Сейчас посмотрю, — Аниканов быстро перелистал ворох бумаг. — Сегодня первой очередью тракторных саней. В три часа дня пойдут. Сбор со всеми пожитками возле комитета.
На столе у Маруси Дробышевой стопа бланков — социалистические путевки. Она торопится. Пушистые завитки русых волос рассыпались по лбу. Увидела Захара и Каргополова, мельком улыбнулась, сообщила доверительно:
— Леля тоже получила путевку. Заведующей столовой будет.
— Слышь, Иван? — Захар заговорщически толкнул Каргополова в бок. — Теперь мы живем, своя заведующая столовой…
— У нее, брат, не разживешься, — с деланным равнодушием отвечает Каргополов, но счастливая улыбка упорно растягивает его скуластое лицо.
На крыльце комитета Захар и Каргополов нос к носу столкнулись с Гурилевым.
— Бра-атцы! — заорал тот, бросаясь к друзьям. Они не виделись месяца три, с тех пор как Гурилева перевели в механические мастерские слесарем. Сейчас на нем была огромная заячья шапка-ушанка, делающая его смешным и каким-то незнакомым. — В лес? Не завидую! — Каждое слово он выкрикивал. — А я в Хабаровск! Машины получать! Тридцать машин! Каково, а?
Выкрикивая, блестя глазами, он так и скрылся в темноте коридора, прокладывая себе путь локтями. Уже на улице Захар шепнул Каргополову:
— Схожу, Любашу проведаю, а то теперь, считай, до весны…
— Только не опоздай, Захар, надо же еще пообедать, собраться, а потом коммуну делить.
— Коммуну давайте делить там, на месте.
Он не застал Любаши на почте — она унесла телеграммы начальнику строительства. Решил дождаться ее на крыльце. Чтобы скоротать время, развернул «Амурский ударник» — каждому мобилизованному вручался сегодняшний номер газеты. На всю первую страницу крупным шрифтом «шапка»: «В лес! Все лучшие силы бросим в поход за «бревном обороны»! В лесу решается успех наших планов, успех нашей борьбы за индустриализацию и обороноспособность Дальнего Востока!»
Торопливые шаги по скрипучему снегу отвлекли Захара: к нему спешила разрумяненная морозцем Любаша в распахнутой шубейке, в сбитом на макушку сером пуховом платке. Она радостно улыбалась.
— Ты ко мне, Захар?
— Проститься пришел, на Пивань уезжаю с бригадой…
— Я так и подумала, как в газете увидала, что на штурм леса мобилизуют. Давай немного пройдемся. — Она взяла его под руку. — И надолго?
— Наверное, до весны. Словом, не знаю. Придешь проводить?
— Приду, Захар, обязательно приду. А как же теперь с техникумом?
— Придется год пропустить.
— Как плохо-то!.. А знаешь, что мне сказал сегодня Колька Пригницын? Говорит, что, если я весной не выйду за него замуж и буду гулять с тобой, он убьет меня и тебя. Он тоже едет на Пивань, говорит, десятником по транспорту будет. И Рогульник тоже едет. Бригадиром, говорит, будет у возчиков.
— А ты, что же, дала ему повод? — Захар нахмурил брови.
— Какой там повод! Сколько раз ему твердила, чтобы не приставал ко мне. А вот сегодня опять приходил и грозил. Папаша рад, что они уезжают, сказал, что больше на порог не пустит! Ты там будь осторожен, если встретишь его, а то же он ровно бандюга какой!
Под вечер гусеничный трактор с огромными санями, на которых могла бы уместиться целая изба, груженными ворохом постельных скаток, чемоданов, скамеек, столов, двинулись к Амуру. Надсадно рыча, бросая в морозный воздух клубки дыма, трактор с трудом сполз на торосистую ледяную дорогу. За санями — длинная вереница людей. Шум, смех скоро заглушила песня и поплыла над простором реки:
…Чтобы с боя взять Приморье, Белой армии оплот…Андрей Аниканов оставался в Пермском, ему нужно было рассчитаться с Клавдией Сергеевной. Он все-таки нашел выход из того отчаянного положения, в котором очутился после попойки у Ставорского. Опасаясь, что отношения с бухгалтером могут завести его слишком далеко, он решил внести пять тысяч, которые насчитал ему Ставорский за недостачу спецодежды. Чтобы не попасть еще раз впросак, он предварительно посоветовался со Ставорским, и тот согласился принять их в погашение задолженности. Андрей немедленно написал слезное письмо отцу, попросив три тысячи. И вот позавчера он получил перевод. Две тысячи он вынул из подкладки чемодана, куда складывал свои накопления.
Как только стемнело, Аниканов отправился к Клавдии Сергеевне, отдал деньги.
— Все. Теперь мы квиты! — В голосе его была угроза.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Удивительное чувство владело Захаром весь день, начиная с той минуты, когда было объявлено, что бригаду мобилизуют на штурм леса, и кончая вечером, когда все они отправились на Пивань. Это было чувство общей приподнятости, боевого азарта, вдохновения, знакомое ему по кавшколе, когда эскадроны развертывались в лаву для атаки. Это настроение владело всем его существом.
Он даже не заметил, шагая в толпе за санями, как они пересекли Амур и в сумерках очутились на Пивани.
Сплошная гряда крутых правобережных сопок вдруг оборвалась, а на месте разрыва треугольной заплаткой легло Пиваньское озеро. По его берегам — грозная сумеречь могучей тайги; только в самом дальнем углу озера берег низменный, там — кочкастая марь. Отсюда уходит в глухомань тайги долина, замысловато извиваясь меж сопок. В долине — постройки Пиваньского лесоучастка: цепочки рубленых бараков. Навесы темного пихтача и ельника, склоняясь с сопок, создали таинственную затишь, куда не проникает ветер даже в самую бешеную пургу. Тут постоянно стоит тишина, звенящая, как стекло. И вот эту тишину взорвала песня, гул трактора.
Для местных лесорубов — а это были крестьяне окрестных сел — трактор был чудом. Они поголовно высыпали поглазеть на него. Одни с суеверным страхом, другие с восхищением наблюдали за тем, как диковинная машина, круто развернувшись, вздымает горы снега, разминает хорошо утоптанную тропинку и санную дорогу, как холодный бледный свет фар дрожит на снегу, пляшет по бревенчатым стенам построек, бежит в таинственную кутерьму аспидно-темной в сумерках тайги.
Едва ли не последним вышел встречать прибывших начальник лесоучастка Смирнов — дебелый важный человечек, утонувший в непомерно широкой собачьей дохе. Он сухо поздоровался с Бутиным и начальником нового лесоучастка Крутовских, недобро сказал:
— А трактор надо бы остановить вон там, на краю поселка, — тут же люди ходят! Все тропинки исковеркал…
После долгих препирательств он согласился разместить комсомольцев по общежитиям лесорубов и вскоре ушел, даже не пригласив к себе Бутина и Крутовских; они провели ночь на нарах у лесорубов.
Мирно и вольготно жилось Смирнову в этом затишье. По вечерам здесь рано гасли огни; слова «собрание», «соревнование» отсутствовали в обиходе даже самого начальника лесоучастка; крестьяне-лесорубы перенесли сюда размеренный, неторопливый ритм своей деревенской жизни. Разве только в особняке начальника бились мелкие страстишки — здесь ночи напролет «гоняли пульку», потягивали спирт.
В тот вечер все пошло на слом — и тишина, и размеренный ритм устоявшейся жизни.
Назавтра чуть свет комсомольцы начали рубить себе бараки.
Бригаде Каргополова была отведена лесосека в трех километрах от поселка, и, посоветовавшись, комсомольцы решили там и срубить себе дом.
В предутренних сумерках бригада шагала по гладко укатанной дороге в тайгу. Высокие стройные пихты и лиственницы темными глухими стенами стояли справа и слева, сжимая дорогу, стрелой пролегшую в лесном коридоре. Стыла первозданная тишина тайги, лишь иногда нарушаемая треском лопнувшего от мороза сучка.
— Вот уж поистине царство Берендея! — с восхищением говорил Каргополов Захару, вглядываясь в непроходимый частокол прямых, как свечи, пихт.
— Да, на той стороне Амура такого леса, пожалуй, нет, там он смешанный, — соглашался Захар. — А тут, смотри, почти один пихтач. И до чего же густой! Наверно, тут и сохатый не пройдет — не протиснется между стволами!
Когда солнечные лучи коснулись заиндевелых макушек, проводник остановился возле штабеля бревен и указал на открытую площадку:
— Вот тут и рубите.
Работа закипела споро. Широко шагая по глубокому снегу, Каргополов размерял площадку. Следом за ним шел Захар, вбивая в снег колья. Скоро в долине запылали костры. Котлованов не рыли, клали бревна прямо на землю, связав из них раму, которая и служила фундаментом. Пазы между бревнами шпаклевали зеленым мхом, добытым тут же из-под снега.
В полдень в тайгу пришли Бутин, Крутовских и Аниканов.
— Задача, товарищи, состоит в том, чтобы за три дня срубить барак, — говорил Бутин, грея над костром ладони. — Такое обязательство взяли все бригады. Через три дня надо выйти на лесосеки. Завтра с утра пришлем вам еще бригаду Харламова. Учтите, люди там разношерстные, так что вам придется воспитывать их.
— А как с топчанами, столами?
— Как с досками? Пол уже можно настилать.
— Завезут вам топчаны и две железные печи, а досок на пол и потолок не будет, нужно настилать из расколотых бревен.
— Так что же это будет за пол?
— Пол как пол, а как же? — вступился Крутовских. — Охотник-то как рубит себе избушку в тайге? У него даже стол и топчан из таких «досок». Вон, в бригаде Самородова уже накололи бревен на весь пол. А вы тоже сейчас начинайте, поставьте человека четыре. Да выбирайте бревна потоньше.
— Товарищ Каргополов, вы еще не решили вопрос о том, с кем будете соревноваться? — солидно вступил в разговор Аниканов.
— Нет еще, но сподручнее всего с бригадой Брендина, — ответил Каргополов, — она тут недалеко от нас, удобнее проверять.
— Обязательно решите этот вопрос сегодня же, — распорядился Аниканов. — Вот примерные условия, на которых будете заключать договор. — Он подал Каргополову листок. — И не затягивайте решение этого вопроса. Комсорга избрали?
— Нет еще. Куда торопиться?
Когда начальники ушли, Каргополов проворчал:
— Аниканову надо было не секретарем ячейки комсомола быть, а начальником лесоучастка. До чего же любит командовать! Если он станет таким тоном разговаривать с бригадой, потурю его к черту! Я раскусил его — типичный карьерист!
— А я давно это заметил.
— И ловко же умеет устраивать свои дела, чертов барчук, — негодовал Каргополов. — Когда-нибудь доберусь до него, испорчу ему карьеру!
— Дурак я был, — говорил Захар, сидя верхом на стене и зарубая замок угла. — Летом, когда его избирали секретарем ячейки на строительстве шалашей, мог бы рассказать комсомольцам о случае с сапогами.
— С какими сапогами?
— А вот слушай…
Выслушав Захара, Каргополов усмехнулся:
— Действительно, дурак! Я бы не преминул вывести его на чистую воду. Но не поздно и теперь. Не возражаешь, если я расскажу как-нибудь на собрании об этом?
— Уж лучше я сам, — возразил ему Захар. — А то неудобно, будто я сплетни распускаю…
На следующее утро прибыло пополнение — двадцать два человека во главе с Харламовым — старым знакомым Захара по «гулькому».
К исходу третьего дня основные работы были закончены. Стропил не возводили — крышу сделали плоской, засыпав потолок землей и мхом. Привезли топчаны, печи, один длинный стол и две скамейки. Дотемна новоселы палили чугунные печи, накаляя их докрасна.
К этому времени в поселке закончилось строительство общежитий, столовой и конторы. Все делалось наспех, грубо, но добротно. Когда бригады Брендина и Каргополова вернулись с пикетов в поселок, чтобы забрать свои пожитки, Леля Касимова уже командовала в столовой. У входа висело объявление о том, что после ужина состоится собрание, а после него будет проведен конкурс плясунов.
Рано ложатся зимние сумерки. Отпылал закат, и вот уже рассыпались по небу ледяные искры синеватых звезд. Словно тонкая звучная сталь, скрипел под ногами Рогульника накаленный морозом снег. А кругом простирался белый хаос ледяных торосов, и Амур казался стылой пустыней. Жгучий ветер иглами колол лицо и монотонно звенел среди торосистых льдов.
Рогульник шел против ветра, втянув голову в плечи. Дубленый, до колен полушубок, толстые валенки, шапка-ушанка, поднятый воротник — все это делало и без того короткую фигуру Рогульника похожей на колоду.
Жестко скрипел снег под валенками, жестким был морозный воздух, и такими же жесткими были мысли Рогульника. Длинной была дорога между левым — комсомольским и правым — пиваньским берегами, и так же длинными были раздумья Рогульника. Карнаухов приказал ему поджечь бараки лесорубов, устроив пожар в глухую полночь, когда лесорубы крепко уснут.
— Ты должен понять: сжечь бараки, — значит, сорвать лесозаготовки, значит, на лето оставить всех без дела, без зарплаты. Тогда они сами разбегутся.
«Легко сказать — сжечь! Разве будет гореть сырой, промерзлый листвяк? А пока просохнет, зима пройдет. И не такие они, чтоб разбегаться!» — со злой завистью думал Рогульник.
Когда-то, всего три года назад, он чувствовал свою силу. Бывало, все в деревне ходили на поклон к его отцу. У кого мельница и маслобойка, у кого лучшие кони, у кого полные закрома хлеба и полон двор породистого скота и свиней? У Архипа Рогульника-старшего. Все парни сторонились Архипа-младшего, а от девок отбоя не было. Но прошло три года, всего три года, а будто никогда этого не было, будто сон какой видел он. Хоздесятник лесоучастка! Да на черта нужна была бы ему эта собачья должность, будь все по-иному? Хуже Антипки-дурачка, что жил в их селе: кто куда пошлет, туда он и должен бежать сломя голову. И никуда теперь не денешься!
А еще думал Рогульник о том, почему эта «камса», как он про себя называл комсомольцев, почему они так работают? Ни один батрак у Рогульников, сколько помнит себя Архип-младший, никогда не работал с таким жаром. Взять хотя бы эти постройки. Приехало три сотни сопляков, которые и топор в руках не умеют держать, а через три дня вон они, бараки!
«Это все Бутин, — думал Рогульник, сжимая до хруста кулаки в собачьих рукавицах. — Без него все они, как курчата, — разом можно подавить всю кучу! Такой, как Бутин, по миру пустил весь наш род».
Предлагал Карнаухову убить Бутина, но тот сказал: «Не те времена, не запугаешь! Их нужно бить не по одному, а сразу всех».
Но он подумает еще — не все же ходить на поводке у Карнаухова! Посмотрит, посмотрит, да и начнет действовать люто, по-своему, как сердце подскажет.
Так с этими потаенными думами и добрел Рогульник до Пиваньского озера. В столовой лесоучастка ярко светились окна. Рогульник решил зайти туда.
Собрание только началось, говорил Бутин:
— …И вот, товарищи, первые трудности позади. Все необходимое есть для того, чтобы ринуться на заготовку леса. Мы должны вывезти до весны не меньше ста тысяч кубометров. Не сделаем — придется останавливать стройку. Но мы не должны допустить этого, дорогие товарищи! Нам выделено два трактора. Правда, плохо с горючим…
«Тонка же у вас нитка!» — подумал Рогульник, зло усмехаясь в своем углу у дверей.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Бутину кажется, что этой ночи не будет конца. Он мало спал. Накануне вечером, придя с собрания, долго проговорил с Крутовских и Аникановым; лег поздно и не мог уснуть, просыпался несколько раз, зажигал спичку, смотрел время. А уж в половине шестого встал, разбудил начальника участка Аниканова и велел ему будить комсомольцев, чтобы затемно направили и наточили пилу и топоры.
А мороз жмет, захватывает дыхание. Будто стальными обручами сковал он все кругом — и снег, и деревья, и воздух. В тайге — густая сумеречь и чуткая тишина. Кажется, во всем мире нет ни единой живой души — все мертво и недвижно. Далеко по лесу отзывается злой скрип снега под ногами. Над головой — густая россыпь по-ночному ярких колючих звезд-льдинок. Где-то выше их белой зимней дорогой пролег Млечный Путь.
Бутин, занятый своими мыслями, не замечал ничего этого. День обещал быть трудным. Большинство комсомольцев никогда не бывало на заготовках леса, не все умеют держать топор в руках; потребуется немало времени, пока они освоят новую профессию.
Занятый своими мыслями, он не заметил, как дошел до сорокового пикета, на котором жили бригады Алексея Самородова и Степана Толкунова. Окна барака уже светились, из железной трубы густо валил белый на морозе дым, вылетали снопы искр.
Бутин с трудом отворил примерзшую дверь, из помещения пахнуло густым парным теплом, запахом смолья. В бараке звенели пилы, шаркали подпилки, работали точила. Первым, кого увидел Бутин, был Алексей Самородов. Рыжебровый, с соломенной россыпью волос, он правил пилу, зажав ее между коленями. На переносье Алексея искрились росинки пота. Голова его упрямо подалась вперед, загрубелые руки крепко и умело держали правило. Он похож был на настройщика музыкального инструмента: движения его пальцев были осторожны, легки, точны. Он то и дело вскидывал в воздухе полотно пилы и, прищурив левый глаз, будто готовясь выстрелить, правым глазом прицеливался по широкому, ровному разводу зубьев.
— Ну, как дела? — Бутин распахнул полушубок, снял ушанку.
— Последняя, — не отрываясь от работы, бросил Алексей. — Сейчас позавтракаем и будем выходить. Рассветает? — Он мельком взглянул на окно, уверенно сказал: — Пока позавтракаем, рассветет.
Бутин вошел в барак бригады Каргополова. Здесь уже завтракали, разместившись где попало, так как за одним столом все не умещались. Здесь тоже было жарко и парно от сырых, отпотевших бревен. На стене между топчанами висел большой лист бумаги. Бутин обратил на него внимание сразу же, как только вошел. Это была стенгазета «Молодой лесоруб», написанная разноцветными карандашами: «Весь светлый день — на лесосеке!»
— Чья это работа? Молодцы!
— Нашего комсгрупорга, — кивнул Каргополов на Захара, торопливо кончавшего завтрак.
Бутин стал читать стенгазету.
— Может, покушаете с нами, товарищ Бутин? — прервал его чтение Каргополов. — Каша гречневая с маслом, сами варили. Вкусная! И чай есть.
— Не мешало бы! — Бутин сбросил полушубок, закинул назад смоляные волосы. — Старую традицию продолжаете, коммунарскую? Это хорошо.
— А тут все, кто на пикетах, решили сами готовить себе пищу. В столовую-то далеко ходить.
С минуту Бутин ел молча, с завидным аппетитом. Потом спросил:
— Инструмент наточили?
— Наши все наточили, а вот у Харламова не хотят, говорят — он и так острый.
— Чего же это ты, Харламов? — Бутин оторвался от миски, пристально посмотрел на курчавого крепыша-бригадира. — Нужно сразу начинать учиться у Каргополова, затем и поселили вас вместе.
— Товарищ Бутин, у нас нет ни одного лесоруба, — заговорил Харламов, садясь против Бутина. — Так нельзя ли всех нас влить в бригаду Каргополова? Ну, что я смогу сделать с людьми, которые топора в руках не держали? Да и сам я понятия не имею, как его валить, лес этот.
— Как ты смотришь на такое дело, бригадир? — спросил Бутин Каргополова.
— Мы уже думали, Иван Сергеевич, вчера был такой разговор. Громоздкая бригада получается — сорок пять человек!
— А если сделать комплексную? — Бутин посмотрел в лица бригадиров. — Будете совместно проделывать весь цикл работ — от валки и до трелевки к штабелям. А?
— Это идея, Иван Сергеевич, над этим я не подумал! — Каргополов шлепнул себя ладонью по лбу. — Ей-богу, идея! Как ты, Жернаков?
— По-моему, действительно может хорошо получиться, — согласился Захар. — Они же без нас не скоро станут лесорубами, а так даже интереснее: свалил лесину — доставь ее в штабель. У нас же так и было на Силинке, помнишь?
Бутин отодвинул порожнюю миску, взял кружку с дымящимся чаем.
— Проведите сейчас собрание, пусть сами решают, — сказал он, отхлебывая чай.
Собрание оказалось коротким: все единодушно проголосовали за слияние бригад. Сложным оказалось дело с новым распределением вальщиков — никто не хотел брать себе в напарники комсомольцев из бригады Харламова. В конце концов решено было оставить все, как было прежде, только выделить двух инструкторов — Жернакова и Бонешкина.
Уже совсем развиднелось, когда вышли из барака. Лесорубы облюбовали себе склон сопки, начинающейся прямо от дороги. Бутин сам наметил им примерные границы лесосеки и, не задерживаясь, отправился дальше, в бригаду Брендина.
Из-за сопок выглянуло холодное солнце с двумя радужными столбами по бокам, и лес наполнился сказочным сиянием. Высокие мрачные ели, пирамидами встающие на фоне тайги, белые нагие березки, сухопарые, словно полинялая выдра, лиственницы — все будто насторожилось, прислушиваясь к голосам людей, появившихся в такую рань. Но вот где-то лязгнул топор по мерзлому стволу, ему отозвался другой, а потом будто разбили огромный стеклянный купол — сухой звонкий треск пошел по всему лесу.
Захар и Бонешкин собрали вокруг себя ребят из бригады Харламова. Они подобрали место на середине распадка, широким лотком врезающегося в склон сопки от подножия до самой вершины. Здесь легко было трелевать бревна вниз.
Облюбовав прямую, как свеча, пихту, Захар стал показывать, как нужно зарубать козырек, откуда и с каким наклоном подпиливать, чтобы дерево упало в нужном направлении. Потом они с Бонешкиным взялись за пилу. Работая изо всех сил, Захар тут же объяснял, как держать пилу, но вскоре запыхался, вспотел.
— Ну-ка, Харламов, возьмись ты с кем-нибудь, мы передохнем. — Он передал пилу, стал наблюдать, вытирая пот со лба. — Только не рвите, пускайте свободно. Вот так, вот так. Вас и учить, оказывается, нечего!
Пихта задрожала мелко-мелко, словно в агонии, посыпался иней, она покачнулась, секунду еще постояла и начала падать. Сначала она клонилась медленно, но вот хрустнуло у комля, с захватывающей стремительностью пихта рухнула на ветви соседних деревьев, с треском обломала их и глухо упала в снег вдоль ложа распадка.
— Слушай, Жернаков, возьми меня к себе в напарники, — сказал Харламов, вытирая пот, — ей-богу, не пожалеешь. Мы с тобой быстро всех пообщелкаем. Ты на работу горячий, и я тоже не люблю прохлаждаться.
— Мы уже с Каргополовым привыкли.
— Так это даже неправильно, что бригадир и комсорг — напарники. А потом же вы оба хорошо знаете дело, а в бригаде столько людей, которые в глаза не видели этой работы. Кто же их будет учить? Давай, а? А Каргополов пускай работает на пару с кем-нибудь из наших.
— Ладно, вечером решим, а сейчас давай вот эту свалим. — Захар смерил глазами стройную лиственницу, ствол которой лишен был веток, только на макушке просвечивала крона. — Лиственница самое крепкое дерево, — говорил Захар, кряхтя. — Будешь в Пермском, обрати внимание: все избы из нее рублены. Полсотни лет простояли, а время не тронуло их.
Древесина лиственницы действительно оказалась крепкой как сталь. Когда дерево, наконец, упало, оба долго стояли, часто дыша.
— Не-ет, — первым сказал Харламов, — если пилить только лиственницы, то норму в пять с половиной кубометров, факт, не вытянешь! Лучше валить пихту.
Захар подозрительно посмотрел на него, недобро прищурив глаз, проговорил раздумчиво:
— Та-ак… Ну, а лиственницу кто будет заготовлять? Каргополов со своим напарником? Ну и гусь же ты, Харламов! А еще в напарники просишься!
— Да ты чего, Жернаков? Что я такого сказал?
— Не прикидывайся дурачком. Если ты собираешься так «общелкивать», то я тебе не товарищ.
— Да я просто в шутку сказал, честное слово, в шутку! — На лице Харламова отразилось смущение.
Время от времени Захар обходил лесорубов, присматривался, поправлял, если кто неумело действовал пилой.
Вдруг сверху донесся какой-то непонятный звук: вслед за треском упавшего дерева распадок огласился глухим, стонущим рыком, тотчас же перешедшим в грозный протяжный рев. Все умолкли, повернув настороженные лица в ту сторону.
— Медведь! Медведь! — послышались панические голоса.
Новый грозный рык подтвердил это, а потом треск сучьев, скатывающийся вниз по распадку.
— Спа-аса-айся-а!.. — кричали вверху. — Медведь!..
Внизу вмиг сообразили, что зверь катится в их сторону, и, не говоря ни слова, дружно кинулись врассыпную.
В ту же секунду все увидели лохматого зверя с белым треугольником на груди. Высоко вскидывая зад, мотая головой, медведь скакал по ложбине распадка; перекувыркнувшись на бегу, с треском вломился в гущу обрубленных веток пихты и скрылся из виду.
— От чертяка! — заверещал Бонешкин, приходя в себя. — Чуток не налетел! Я уже топором замахнулся, думаю, вдарю его сейчас прямо по башке! Да большой-то какой!
Лесорубы грохнули дружным смехом.
Новые крики донеслись сверху.
— Опять, должно, медведь!.. — с придыханием сказал Бонешкин, готовый снова пуститься в бегство.
Но голоса сливались в общий шум, разобрать отдельные слова было невозможно. Шум нарастал, кто-то гоготал на весь распадок.
— Захар, скорее сюда! — послышался, наконец, отчетливый голос Каргополова.
Не сговариваясь, лесорубы побежали вверх и увидели Каргополова и Пойду, Они держали на руках, как младенцев, по медвежонку. Звереныши были размером чуть больше крупной кошки, большеголовые, ушастые, со свирепо сверкающими синеватыми глазами. Они зло рычали, вырывались из рук, норовили размахнуться и ударить лапой.
Захар с любопытством рассматривал медвежат — обитателей таинственных дебрей.
— Понимаешь, лесина упала на берлогу, — говорил разгоряченный Каргополов, — и видать, оглушила медведицу, вот она и бежала в панике! Кинулись мы смотреть берлогу, а из нее вот эти, полусонные, вылазят… Куда их теперь? Оставить в берлоге — пропадут без матери.
— В барак понесем, пускай живут.
— Правильно, может, станут ручными.
— А потом можно нанайцам отдать. Они, сказывают, откармливают их на убой.
— В зверинец лучше отвезти.
В конце концов решено было забрать медвежат в барак. Но охотников нести не оказалось: а вдруг мамаша повстречается? Тогда Пойда засунул их в полуразрушенную берлогу, и для надежности, чтобы не вылезли, стал привязывать ремнями к коряжинам.
— Медведица! — крикнул кто-то в шутку.
Все замерли, испуганно озираясь по сторонам:
— Где?
— Пойда, медведица! — крикнули в берлогу уже всерьез.
Из берлоги донесся дикий, утробный вопль:
— Рятуйтэ!
С выпученными глазами Пойда рвался из берлоги. Зацепившись за сук, он располосовал рукав полушубка. И, только убедившись, что никакой опасности нет, не своим голосом Пойда заорал:
— Хто лякав?
В ответ раздался хохот. Пойда сердито сплюнул и, обиженный, отошел в сторону. Теперь уж его никакими силами нельзя было заставить снова полезть в эту проклятую берлогу, хотя там остался его ремень.
В обеденный перерыв Каргополов приказал всем сделать колья. Под охраной этого грозного оружия медвежат достали из берлоги и препроводили в барак. По пути видели след медведицы, он спускался к самому подножию сопки, миновал дорогу, обогнул барак и скрылся в дремучем пихтаче.
Весь этот день в бригаде только и было разговоров, что о медведице.
— Теперь и до ветра опасно ходить, — жаловался Бонешкин.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
За окнами барака — аспидная темень ночи, чуткая морозная тишина. В бараке висит густой храп. Уставшие за день парни спят богатырским сном. Только двое — Захар и Каргополов не спят. Время от времени кто-нибудь из них подходит к печке, подбрасывает в огонь несколько поленьев, а потом снова оба склоняются над большим листом бумаги и что-то чертят, споря вполголоса.
— Расколется, я тебе говорю, — уверяет Каргополов, — не годится деревянный, нужно металлический.
— Ну как ты не поймешь, — убеждает Захар, — это же пустяковая нагрузка — поднять на сопку порожние сани. Да и потом груженые сани не будут лететь под горку свободно, их надо тормозить…
Уже пятые сутки бригада Каргополова валила лес, а еще ни одного бревна не было стрелевано к дороге. Лошадей пригнали только вчера, и теперь они были заняты на разгрузке лесосек у ближних к поселку бригад. А между тем дневная выработка у бригады Каргополова каждый день возрастала. Весь распадок до самой вершины сопки был усеян бревнами. Комсомольцы ругали всех и вся за бесхозяйственность, не подозревая того, что эта неразбериха специально организована. Тогда-то и стали Захар с Каргополовым ломать голову, как перетащить бревна к дороге.
— Кстати, где ты возьмешь металлический блок? В Пермское ехать? И там вряд ли найдешь подходящий, а деревянный мы сами сколотим в два счета.
— Ну хорошо, а как ты думаешь крепить его?
— Очень даже просто. Смотри! — Захар стал чертить. — Вот дерево, так? Спилим его на метр от земли. Этот пень обтешем и на него наденем этот блок. Я даже шкивы деревянные видел у машины, а там разве такие обороты?
— Не знаю, как ты думаешь делать деревянный блок.
— Очень просто: обтесать несколько вот таких штук, — Захар нарисовал брусок, — а потом свяжем друг с другом в замок шипами во всю длину бруска — и вся недолга. В крайнем случае для большей прочности стянем их обручами из толстой проволоки, она в поселке кучами валяется.
— Если так, я согласен. Только вот канат трудно будет достать. — Каргополов мучительно трет лоб. — Его же метров сто пятьдесят, не меньше, потребуется.
— Если не больше, — замечает Захар. — Кстати, знаешь, Иван, сюда ведь и трос надо не очень толстый. Смотри, какой расчет. Больше четырех бревен мы не будем грузить на сани. Так? Предположим, одно бревно будем весить полтонны. Значит, две тонны будут катиться вниз. Если умело тормозить, то сила натяжения будет ровно такая, какая нужна, чтобы поднять порожние сани наверх. Понимаешь меня? То есть тормозить нужно не блоком, а непосредственно с саней.
— А как ты думаешь тормозить?
— Ну как?.. — Захар минуту помолчал. — Я думаю, что можно сидеть на санях и держать кол, чтобы он пахал.
— Не-ет, так не пойдет, — опасно. А вдруг что-нибудь случится — упустишь кол или он сломается? Две тонны под гору — это силища! Нужно что-то другое придумать.
— А если по два бревна грузить?
— Все равно не годится. Тормозить нужно не колом, а приспособить какой-то рычаг, и управлять им не с саней, а сзади, чтобы человек шел за возом. Вот примерно такой штукой. — Каргополов быстро набросал карандашом на бумаге.
— Так еще лучше. Ей-богу, Иван, хорошая штука получается, настоящий бремсберг! Если он у нас пойдет, то и в других бригадах можно будет применить.
Разговор прервало беспокойное урчанье медвежат; они царапали стену в углу под топчаном, приглушенно рычали, поскуливали. В ту же минуту Захар и Каргополов услышали, как кто-то стал снаружи царапаться по стене барака, потом тяжелые шаги затопали по крыше.
— Медведица! — первым сообразил Захар.
— Так она же провалит нам потолок, — всполошился Каргополов. — Скорее ружье, Захар!
Стало слышно, как медведица разгребает на крыше мох. С потолка посыпалась земля.
Из-под одеял стали высовываться головы лесорубов.
— Что там, на крыше?
— Это кто ходит по потолку?
— Спокойствие, товарищи, — сказал Каргополов, — это медведица. Сейчас Жернаков полохнет в нее из ружья.
— Рятуйтэ! — кричал кто-то в шутку, подражая Пойде.
Поднялся шум, все вскочили с топчанов.
— Ребята, сейчас она провалится, честное слово, провалится! — вопил Бонешкин.
— Да скорее ты! — кричали на Захара.
Взоры устремились к потолку, откуда снова посыпалась земля. Воображение уже рисовало грузного, мохнатого зверя, с ревом падающего сквозь пролом в потолке.
Захар лихорадочно перебирал патроны и, как назло, не мог найти заряд с жаканом. Наконец патрон вложен.
— Вот, вот она где! Видишь, земля сыплется.
Добежав по топчанам к тому месту, Захар приставил дуло к пазу между бревнами. Выстрел оглушил всех. Потом стало слышно, как медведица сделала два скачка по крыше и свалилась в снег.
— Убил! Честное слово, убил! — заполошно орал Бонешкин.
— Да тише ты, баламут! — цыкнул на него Захар.
Все прислушались. Но за стеной не было ни единого шороха. Захар кинулся было к двери, но Каргополов остановил его:
— Стой, куда? Задерет!
— Нужно сделать факел.
— Полено, полено — из печки…
— Нет, из березовой коры! — кричали лесорубы.
— Бери полено, Иван, а я буду стрелять, — разгоряченно говорил Захар.
Двое схватили по горящему полену и выскочили из барака.
— Светите лучше! — просил Захар, вглядываясь в темноту.
След медведицы они увидели у самого порога. Обогнув угол, заметили глубокую яму в снегу под стеной — видно, медведица делала подкоп. А потом обнаружили и то место, где зверь свалился с крыши. На снегу что-то темнело.
— Кажется, кровь! А ну, поближе посветите, — Захар осторожно приблизился.
Да, это была кровь — широкое пятно, от которого в сторону тайги тянулась сплошная темная полоса. Разглядеть след дальше они не успели: погасли поленья.
Весть о том, что медведица ранена, всполошила весь барак.
— Надо догнать и добить, — предлагал кто-то. — Заберем топоры, сделаем факел и найдем.
— А вдруг она легко ранена?
— А ружья зачем?
— Нет, это риск, товарищи, — сказал Каргополов. — Черт с ней, завтра утром посмотрим, когда будет светло, а то и на самом деле как бы она не покалечила кого.
Долго еще не могли угомониться лесорубы.
— Нужно выкинуть этих медвежат к чертям, — ругался Харламов, — а то еще ввалится ночью в окно.
— Лучше пойти группой, выследить и убить, — предлагал Захар. — У меня еще четыре жакана есть.
— Вот бы хорошо! — мечтал Бонешкин. — Медвежье мясо вкусное.
— Можно подумать, что Бонешкин всю жизнь питался медвежьим мясом, — сказал кто-то в темноте, и все рассмеялись.
А наутро медведицу нашли мертвой шагах в пятидесяти от барака, в пихтовой чаще. Еле дотащили ее по глубокому снегу — пудов девять, не меньше весила. Две недели в бригаде на столе были превосходные мясные блюда. Шкуру медведицы решили подарить нечаянному охотнику — Жернакову. Когда она высохла, Захар сказал Каргополову:
— Подарю ее Леле Касимовой.
— Это почему же?
— Я ей, брат, многим обязан. Она мне вручила путевку на Дальний Восток.
— Ну и что же?
— А то, Иван, что она оказалась путевкой в жизнь. Я отсюда никуда не уеду! Сказочные места…
— С Пивани не уедешь?
— Да нет, с Дальнего Востока. Еще весной, когда мы уходили сплавлять лес на Силинку, я обещал ей медвежью шкуру. Тогда она сказала, чтобы я хоть свою шкуру принес. И как в воду глядела!
В выходной день Захар вместе с Каргополовым пришли в поселок к Леле Касимовой. С подобающей для этого случая торжественностью извлекли из мешка медвежью шкуру. Леля до того была поражена, что долго не могла опомниться.
Придя в себя, Леля сказала Каргополову, заливаясь румянцем: «Ванюша, отвернись!» — и поцеловала смущенного Захара в губы.
С некоторых пор Захар стал замечать за собой то, что прежде было совершенно неведомо и незнакомо ему. Еще по осени, в один из выходных, он возвращался с устья Силинки, куда ходил ловить хариусов. Он шел через «Коваль-град» — так назвали комсомольцы поселок из шалашей (в то время Захар жил уже в бараке). Шагая по переулку, он случайно заметил тот, самый первый шалаш, который когда-то строил. Какая-то теплая, прямо-таки физическая ощутимая волна прихлынула к сердцу. Захар долго стоял возле шалаша, словно встретил давнего друга. Вот наличники окна, которые он сам подгонял и прибивал. Он хорошо это помнил — тогда ему казалось, что работа была сделана добротно, красиво, он любовался плодами своего труда! Теперь обнаружил: плохо сделано — углы неточно соединены, немного перекошены, пазы широкие. А вон конек, который они заделывали вместе с Федей Брендиным.
Из шалаша, видно, заметили подозрительного человека, и оттуда вышел нечесаный паренек с совиной физиономией.
— Чего высматриваешь? — спросил он грубовато.
— Строил я этот шалаш…
— Ну и что ж? Пришел проверить, не развалился ли?
— Вот именно. — Захар смерил глазами сутуловатую фигуру сонного парня. — Не беспокойся, не развалится! — И, улыбнувшись, пошел своей дорогой.
Потом он стал замечать, то же тепло в груди всякий раз, когда проходил мимо какого-нибудь из бараков, в постройке которого была и его доля труда. Захар не мог объяснить себе, что это за чувство, но оно всегда согревало душу, глубоко волновало его.
А теперь он заметил и большее: это чувство гордости за свой труд питает его душу все время, рождает в ней что-то такое, что захватывает его всего. Теперь они с Бонешкиным с упоением принялись мастерить блок-ролик — самую ответственную деталь в сконструированном ими бремсберге. Работа была сложная, почти ювелирная. Может быть, при других обстоятельствах, в другое время Захар и не мог бы это сделать, но сейчас он решительно принялся за дело. С каким наслаждением он, сидя на чурбане возле печки, расчерчивал, а потом обрабатывал бруски! Он не суетился, как бывало когда-то, в первое время его плотницкой учебы. Каждое движение Захара стало точным и верным. Вот все готово: рассчитаны до миллиметра, расчерчены по линейке и заготовки составлены в таком порядке, в каком будут они сращены. Он долго стоит у своего сооружения, думает, думает…
— Ну чего ты колдуешь, Захар? — с досадой бубнит Бонешкин, удивленно поглядывая на Жернакова. — Так мы и за неделю не сделаем!
— Знаешь, где нужна торопливость? — Захар насмешливо щурится. — При ловле блох, понял? Бери вот эту болванку и начинай обрабатывать. Испортишь — по шее получишь!
К исходу второго дня блок-ролик был готов. Посредине у него аккуратно вырублено углубление. Для большей прочности по концам он стянут проволокой.
С огромным трудом всей бригадой его затащили по распадку на самую вершину сопки. Там насадили на специально обтесанный пень и долго вертели, пока ролик не притерся.
Утром началось испытание бремсберга. Длинный трос, проходя через блок-ролик, соединял двое саней: одни находились внизу у дороги, другие стояли на вершине сопки; их нагрузили бревнами и стали спускать под гору. Груженые сани весело пошли вниз, порожние поползли вверх — вся система заработала! И когда первые два бревна, спущенные к дороге, легли в штабель, по сопке загремело дружное «ура», — ликующие голоса долго перекликались в морозной тайге.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Гурилев впился глазами в дорогу, грудью лежит на руле, стараясь заглянуть под самые колеса машины — дальше ничего не видно. Снежная пыль все плотнее забивает стекло, «дворник» едва успевает счищать ее, нагребая по бокам целые вороха снега. Мотор надсадно ревет, машину, как по волнам, кидает на выступах ледяных торосов.
Восьмые сутки, с самого раннего утра до глубокой ночи, вертит Гурилев штурвал, а пройдена всего лишь половина пути. Поломки следуют одна за другой. Дважды — в селе Елабуга и в Троицком — обнаруживалось, что у машин проколоты баллоны. Кто это сделал? Или просто случайность?
Продолговатое, в мелких веснушках лицо Гурилева заострилось, выступили скулы, выражение впалых глаз стало мрачным, в них исчезла веселая лукавинка, кожа лица и рук до того пропиталась маслом и гарью, что, кажется, никогда уж ее не отмыть.
Рядом в кабине — Ставорский. Он хмур и молчалив. Усталость залегла темными кругами у глаз. Он прячет лицо в поднятый воротник, пытается дремать, но резкие толчки то и дело кидают его в стороны.
Два часа назад автоколонна вышла из Троицкого, позади на голом обрывистом берегу осталась обдутая ветрами Славянка. Теперь впереди Иннокентьевка, до нее самый большой перегон — сорок километров. Непогода будто подкарауливала автоколонну именно здесь. С утра незапятнанная голубизна неба простиралась над торосистыми далями Амура, над безбрежным океаном тайги и не предвещала ничего плохого. Незаметно мгла повила вершины сопок, затянула белую пустыню Амура, и вот уже в торосах закурилась поземка, налетела пурга. Машины двигались по восемь-десять километров в час, а теперь и вовсе еле ползли: дорогу замело так, что ее с трудом можно было различить среди торосов. Вешки, которыми обставлена трасса, исчезли в снежной кутерьме. Головная машина все чаще пробуксовывала, наконец, зарылась в снег, накренилась и больше ни с места.
Гурилев заглушил мотор, сердито плюнул.
— Все. Приехали…
Открыв дверь кабины, Гурилев выпрыгнул в сатанинский хоровод снега и ветра. С трудом вытаскивая ноги из глубоких сугробов, он обошел машину, убедился, что самому теперь не вылезти, и поплелся проверять автоколонну. Но ее позади не оказалось. Долго стоял Гурилев, стараясь уловить среди воя ветра звук моторов. Потом зашагал по проследку своей машины и в упор столкнулся с ожесточенно ревущей темной массой. Гурилев шарахнулся, едва не угодив под колеса. За стеклом кабины показалось лицо шофера с расширенными в испуге глазами. Гурилев махнул рукой вперед, закричал сколько было сил:
— Пошел! Пошел!
Навстречу — свет фар. Он описывает в сумерках пурги головокружительные зигзаги. Это третья машина — ленинградца Марунина. Гурилев машет ему: «Вперед, вперед!» Потом все новые и новые чудища с ревом вылезают из пурги, ползут, будто пьяные, переваливаясь с боку на бок. До восемнадцатой машины дошел Гурилев. Дальше — гибельная, мятущаяся в дикой пляске снежная сумеречь. Нет двенадцати машин. Где они?
Гурилев старается шагать по колее, глубоко прорезанной в сугробах. Но колея видна плохо — ее на глазах заметает снегом. Гурилев уже подумывает, не вернуться ли назад, но мысль о двенадцати машинах гонит его дальше, ветер с силой подталкивает в спину, почти валит с ног. А машин все нет и нет… Что же делать?
Гурилев долго стоит и слушает. Потом снова идет и снова останавливается, прислушиваясь. Вот уже и колея исчезла под ногами. С тяжелым сердцем он поворачивает назад против ветра. Нахлобучив поглубже на лоб заячью ушанку, закрыв рукавицами лицо, Гурилев напряженно смотрит под ноги, чутьем угадывая дорогу. Но что это? Все чаще он натыкается на облизанные ветром острия вздыбленных льдин и никак не может угадать, где дорога. Пытается оглядеться, но снег с ожесточением хлещет по лицу, больно сечет глаза. Пробует идти вправо, влево… Теперь не дорогу ищет, а вешки. Наконец показалась одна, с пучком сена на макушке, но в какую сторону от нее дорога? Мысль работает лихорадочно. С отчаянием Гурилев бросается то в одну сторону, то в другую. Напрасно! Никаких признаков дороги не видно. Потеряна и вешка. Он пробует кричать, но скоро убеждается, что бесполезно: крик, едва вырвавшись из горла, глохнет в вое пурги.
Неужели это все? Гурилев не хочет мириться с мыслью о гибели, но паника овладевает им. Он мечется, утопая в снегу по колена. Как же опрометчиво он поступил, уйдя от колонны! Он садится на вздыбленную льдину, чувствуя, как тело его тяжелеет, наливается свинцом. «Долго нельзя сидеть, — вяло шевелится мысль, — надо искать, искать…» Но сил нет, ноги стали пудовыми. «Идти, только идти!» — смутно соображает он в полусне, но подняться не может.
В третьем часу ночи на квартиру Платова позвонили с почты.
— Срочная телеграмма, — прохрипел в трубке старческий голос.
В телеграмме говорилось, что между селами Славянка и Иннокентьевна автоколонну занесло снегом. Бригадир шоферов Гурилев обморожен и находится в тяжелом состоянии. Кончалась телеграмма подписью «Ставорский» и фразой «Прошу принять меры спасению грузов».
До самого утра Платов не мог уснуть. Не спала и Анна Архиповна, пытаясь найти какие-то слова утешения; но таких слов не было.
— Трагедия в том, — вслух думал Платов, — что затруднения с хлебом падают на самый напряженный период борьбы за лес. Снизить сейчас норму хлеба, значит ударить по главному — по лесозаготовкам. А сорвать лесозаготовки, значит сорвать план промышленного строительства предстоящим летом. Отчаянно тяжело…
Чуть свет он созвонился с Ковалем и Сидоренко, сказал, что надо сейчас же собраться в парткоме. По пути зашел на почту за телеграммой, несколько раз перечитал ее. Встретив Сидоренко, протянул ему листок:
— Читай, товарищ комсомольский руководитель. Читай и думай, как нам выкрутиться из беды.
Коваль уже ожидал их.
— Только Далькрайком в состоянии сделать что-либо, — не здороваясь, сказал он. — Мы бессильны…
— Крайком сделал для нас все, что было в его силах, — возразил Платов. — Добился выделения фондов, помог в подборе шоферов, помог горючим…
— Во всяком случае, нужно Далькрайком немедленно поставить в известность о случившемся.
— Мы должны поставить его в известность не только о случившемся, но и о тех мерах, которые мы принимаем.
— Федор Андреевич, дорогой, — взмолился Коваль, — я всю ночь не спал, перебрал все возможные варианты и теперь убежден, что мы бессильны.
— Думаю, что не все, Иосиф Давидович, — улыбнулся Платов. — Во всяком случае, уже ясно, что один вариант вы не учли, а товарищ Сидоренко учел. Он предлагает обратиться за помощью к комсомольцам Нанайского района, на территории которого засела автоколонна, чтобы они взяли шефство над ней и расчистили дорогу.
— Гм-м, — Коваль зажал в кулак бороденку, — об этом я действительно не подумал.
— И еще один вариант, — продолжал Платов. — Необходимо срочно снарядить отряд лыжников, среди которых должно быть несколько шоферов, и послать на выручку автоколонны.
— И это в условиях, когда строительные объекты без людей! — простонал Коваль. — У нас же срывается строительство барж, лесозавода… Без барж мы не завезем летом ни одного кубометра инертных материалов! Без пиловника не построим барж!
— Дорогой Иосиф Давидович! Хлеб — вот главное сегодня! Без хлеба мы не только останемся без барж, без инертных материалов и без пиловника, но и без леса, без жилья, да, попросту говоря, — без людей! Да, без людей! Одних покосит цинга, другие разбегутся.
В кабинете установилось гнетущее молчание. Первым нарушил его Платов.
— Сегодня же начать новую инвентаризацию продовольственных складов! Все, до последней крошки, учесть и прикинуть, по скольку граммов хлеба придется в день на человека до открытия навигации.
— Да, но нам все равно не разрешат снизить хлебную норму, — возразил Коваль, — для этого нужно специальное указание Совнаркома. А пока этот вопрос решится, так и навигация откроется.
— Я так думаю, Иосиф Давидович. Мы объясним всю сложность обстановки, и комсомольцы сами решат, какую норму установить. А как вы думаете, товарищ Сидоренко?
— Думало, что это самое правильное! — ответил Ваня Сидоренко. — Поговорить с лучшими бригадами, чтобы они обсудили и вынесли свои предложения, а потом опубликовать их в газете. Думаю, что мало найдется таких, которые не откликнутся.
Платов решительно встал, посмотрел на часы.
— Так и решим, другого выхода у нас нет.
— У меня есть еще такое предложение, Федор Андреевич, — сказал Сидоренко, посматривая то на Платова, то на Коваля. — Хорошо бы создать группы «легкой кавалерии», которые следили бы за выдачей муки в пекарне и выпечкой хлеба. Говорят, пекари муку воруют.
— Мысль дельная, — заметил Платов. — Недурно бы создать комсомольскую охрану продовольственных складов в помощь ночным сторожам.
— Да, это было бы недурно, — согласился Коваль.
— Ну вот, Иосиф Давидович, оказывается, не все варианты вы перебрали, — весело сказал Платов.
Так разгоралась борьба с надвигающимся голодом. В тот же день комиссия приступила к детальному учету запасов продовольствия. К вечеру были созданы группы «легкой кавалерии». В ночь у продовольственных складов, помимо сторожей, появились комсомольские патрули. А назавтра чуть свет с пригорка на Амур один за другим съехали хорошо экипированные лыжники и, вытягиваясь длинной цепочкой по торосистому простору, двинулись на выручку автоколонны.
Вскоре случилось знаменательное происшествие: прохаживаясь ночью возле склада с крупой, два комсомольца-патруля почуяли подозрительный запах. Идя на запах, патрули очутились возле склада, из которого тянуло дымом. Пошарив под досками, патрули вытащили оторванный рукав тлеющего ватника. Концы его были смочены керосином, а середина набита спичками. Это была своего рода «адская машина». Стоило доползти огню до спичек, как они вспыхнули бы и начался пожар.
Нашли и виновника поджога. Им оказался Карнаухов, бывший казачий урядник, а теперь сторож при складах. Уликой послужил ватник с оторванным рукавом — Карнаухов запрятал его в своей землянке.
Следствие и суд длились всего три дня. Приговор, который был зачитан при полном зале, заканчивался так: за попытку поджечь склад с продовольствием и этим создать голод на стройке обвиняемый Карнаухов Игнат Савельевич, как опаснейший классовый враг, приговаривается к расстрелу — высшей мере социальной защиты. Нераскрытой осталась главная тайна — организация «Приморских лесных стрелков», которую представлял Карнаухов.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Слава… Едва ли кто-нибудь в бригаде молодых лесорубов всерьез думал о ней.
О боевой славе мечтал когда-то Захар, но те мечты давно выветрились. На место них пришла и окончательно овладела им любовь к плотницкому мастерству. Но слава пришла ко всей бригаде, пришла сразу и неожиданно. Ее принес бремсберг. При катастрофической нехватке лошадей бремсберг помог стрелевать к дороге свыше трех тысяч кубометров леса. Эта победа имела характер вдохновляющего трудового подвига. Газета опубликовала хвалебную статью об успехах бригады. Раз пять перечитав ее, в бригаде единодушно постановили увеличить норму выработки.
Однажды утром на лесосеке появился Платов в сопровождении Бутина, Крутовских и Аниканова. Перед тем как взбираться на сопку, они долго стояли у ее подножия, наблюдая за тем, как легко бегут вниз до отказа груженные сани, катятся вверх пустые.
— Лихо работают, окаянные дети! — с отцовской улыбкой заметил Платов. — И как ловко придумали, а? Это же сколько лошадей потребовалось бы, чтоб вывезти все это, а? — Он с гордостью посмотрел на своих спутников.
Пока они разговаривали, с сопки спустились новые сани, груженные бревнами.
— Иван Сергеевич, вам наверх? — крикнул паренек, руководивший разгрузкой. — Можете доехать с ними, четырех человек вполне поднимет!
Певуче скрипя по укатанному снегу, сани легко поднимались на сопку. Платов ликовал, как ребенок.
— Ах, какие сани-самокатки! — повторял он. — Учитесь, учитесь у молодежи, товарищ Крутовских, учитесь выдумке!
По всему склону кипела работа: то там, то тут с шумом падали деревья. Морозный воздух был пропитан терпким запахом смолья, пронизан сизой дымкой осыпающегося инея.
Спрыгнув с саней, Платов почти бегом бросился к блок-ролику — главному механизму бремсберга.
— И ведь сделано как — в шип! — Он обводил восхищенным взглядом неуклюжую деревянную тумбу. — Мастера, ей-богу, мастера!
Подошли Каргополов и Захар. Пока Платов говорил с бригадиром, Аниканов отвел Захара в сторону.
— Там твоя зазноба пришла…
— Ты про Любашу? — Захар нахмурился — ему претил тон Аниканова. — Она здесь, на пикете?
— Нет, там, у Клавдии. Хотела идти с нами, но я отговорил. Сам понимаешь, неудобно при секретаре парткома… Почту принесла.
— Не знаешь, мне нет письма?
— Наверное, нет, иначе бы она сказала. Ты обиделся, что я отговорил ее идти сюда?
— Да нет… А вообще-то, конечно, зря. Хотелось бы повидаться.
— Вечером созовем комсомольское собрание, еще повидаешься.
— А она не уйдет до вечера?
— Не уйдет, — я объяснил ей, что вечером ты сам будешь в поселке. А вообще-то я тебя позвал вот зачем, Захар. — Аниканов принял деловой вид. — Понимаешь, на стройке плохо с хлебом, — заговорил он вполголоса. — Муки не хватит до навигации — разворовали, сволочи, после пожара конторы! На Амуре заносы, колонна автомашин с мукой вот уже девятый день пробивается от Хабаровска, а прошла всего полторы сотни километров. А ей еще надо сделать за зиму самое малое десять рейсов, чтобы обеспечить стройку. Вот Федор Андреевич и просил меня поговорить с ребятами насчет вот какого дела: нужно усилить питание детей и цинготников — цинга, брат, быстро распространяется. Поэтому сегодня проведи собрание, разъясни ребятам, какое у нас положение, и уговори их снизить норму хлеба. Хотя бы граммов на сто. На собрании участка этот вопрос будет специально поставлен. Так вот, нужно, чтобы ваша бригада, как самая лучшая, выступила инициатором. Как ты смотришь на это?
Захар долго молчал, глядя в сторону, мимо Аниканова.
— Много ребят болеет цингой, не знаешь? — спросил он наконец.
— Федор Андреевич сказал, что в больнице человек сто. Но больных становится все больше и больше, вот в чем опасность.
— И что, умер кто?
— Шесть человек.
— Ну что ж, я выступлю. И Каргополов тоже. А с бригадой поговорим.
В это время Захара подозвал Бутин, который стоял с Платовым.
— Вот он самый, — Бутин улыбнулся, кивнув на Захара.
Платов протянул руку Захару.
— Ну что ж, давай познакомимся, земляк. Донской казак, говорят? Ну что ж, все правильно! Когда-то, начиная с походов Ермака Тимофеевича, казаки-землепроходцы были не только воинами, но и строителями — до самого Тихого океана шли и строили. Думаю, не посрамим и мы славы предков, а? — И Платов дружески похлопал Захара по плечу, смерив взглядом его статную, крепко скроенную, невысокую фигуру.
— Федор Андреевич, так вы с Дона? — воскликнул Аниканов развязно.
— Из Ростова. Но казак я, знаешь, какой? Родился в рабочей казарме в Нахичевани, отец всю жизнь проработал на Парамоновской мельнице.
— Я ведь тоже донской казак, Федор Андреевич! — навязчиво говорил Аниканов.
Но Платов обратился к Захару:
— Очень хорошую штуку смастерил, товарищ Жернаков! — Платов кивнул на блок-ролик. — Нужно помочь другим бригадам сделать такие же бремсберги. В чьей это бригаде не ладится? — Он вопросительно посмотрел на Бутина.
— У Брендина.
— Товарищ Платов, мы уже ходили к ним, так они не слушают.
— Ну, а ты сам можешь сделать вторую такую штуку? — Платов ткнул тумбу носком валенка. — В порядке шефства, а? Вы не с ними соревнуетесь?
— С ними.
— Ну, вот и помогите им.
— Да я-то, пожалуйста, как бригадир… Это же два дня работы вдвоем.
Каргополов весело улыбнулся, обрадованный успехом Захара.
— Ладно, сделай, а я за двоих эти дни поработаю.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Пригницын возвращался с Пиваньского озера и нагнал Любашу.
— Га, раскрасавица моя ненаглядная! — закричал он, останавливая лошадь. — Садись, Любаша, присуха моя, подвезу!
В другое время Любаша, может, и отказалась бы, но сейчас, пройдя восемь километров с полной почтовой сумкой, она сильно устала и была рада возможности хоть остаток пути проехать на санях. Разрумянившаяся на морозе, с посеребренными инеем ресницами и бровями, с веселыми завитками, выбившимися из-под пухового платка, в ладной короткой шубейке, в эту минуту она была особенно хороша. Но не успела она сесть рядом с Пригницыным, как он полез целоваться.
— Уйди, Колька, с ума сошел! — Она подставила локоть, но Пригницын зажал ее голову обеими руками и чмокнул в щеку. — Дурак! — Любаша с размаху ударила кулаком по спине Пригницына. — Останови лошадь, не поеду с тобой!
— Концы, Любочка, больше не буду, только не слезай, будь ласкова! — Пригницын стеганул лошаденку кнутом, и та затрусила, кидая сани под раскат.
Любаше ничего не оставалось делать, как покрепче ухватиться за перекладину канадских саней.
Некоторое время они ехали молча.
Пригницын косился на Любашу цыганским глазом, наконец спросил:
— К Жернакову на свидание держишь путь?
— Почту несу на лесоучасток.
— Знаем мы эту почту!.. К Жернакову идешь. Он выслуживается перед начальством, в газете о нем прописывают…
— Ты-то откуда знаешь, что в газете пишут, ты же читать не умеешь… — Любаша усмехнулась.
— Га, не умею! Я уже научился, даже наряды сам выписываю. Ой, смотри, Любка, не закручивай с Жернаковым, плохо будет и тебе и ему!
— Отчего же это плохо будет?
— А помнишь, что я тебе говорил?
— Побьешь, что ли?
— А то, думаешь, испугаюсь?
Любаша гордо тряхнула головой.
— Не твое дело, куда я иду. А Захара я люблю и нет тебе до этого дела, вот!
— А почему не любишь меня? — не то всерьез, не то в шутку спросил Пригницын. — Чем я плохой?
— Баламутный ты, вот чем.
— А все равно я красивее твоего Жернакова. Думаешь, как он рвется в начальство, так и лучше меня? А я скорее его стану начальником!
— Будь хоть сто раз начальником, а я все равно не люблю тебя!
— Тогда слезай! — Пригницын зло посмотрел на Любашу. — Слезай с саней!
— Ну и слезу! Останови коня.
Пригницын с яростью хлестнул лошаденку; она взбрыкнула и боком поскакала внамет.
— Сейчас слезай! — орал Пригницын, с ожесточением охаживая лошадь.
Так промчались они с полкилометра. Но едва Пригницын опустил кнут, как лошаденка перешла на рысь, а потом и вовсе остановилась.
— Ладно, это я пошутил, — миролюбиво сказал Пригницын. — Люблю тебя, присуха моя. Все равно ты будешь моя, Любка.
— Дурак, вот кто ты! — Любаша отвернулась от него. — Пустомеля!
— А вот посмотришь, посмотришь! — упрямо твердил Пригницын.
Въехали в поселок.
— К конторе тебя?
— Сама дойду! Не знаешь, где живет Кланька Кузнецова?
— Аникановская присуха? Вон там, в бараке. Только она, должно, теперь в столовой, обед скоро.
Сдав почту, Любаша поспешила в столовую — ей не терпелось повидаться с Захаром. Велико же было ее огорчение, когда она узнала, что Захар живет не в поселке, а где-то на пикете. Усталая, одинокая, сидела Любаша у окна, глядя на обедающих лесорубов. С черными от мороза скулами, с вихрастыми головами, небритыми щеками — каких только не было здесь лиц! А лучше Захара никого нет.
Подбежала Кланька с ярусом пустых алюминиевых мисок, скороговоркой сказала, что на пикет, где работает Жернаков, пойдет Андрей, показала Любаше, где он сидит. Любаша подошла, смущенно отозвала Аниканова в сторону — он обедал вместе с Бутиным и Платовым — и, запинаясь, попросила:
— Возьмите меня с собой, а?
— Неудобно, — нахмурился Андрей. — С секретарем парткома пойду. А ты дождись вечера, Захар будет на собрании.
…Любаша истомилась, ожидая вечера, слоняясь без дела то на улице, то в столовой.
— Извелась я, Кланя, совсем, — тихо жаловалась она. — Так и стоит у меня в глазах, по ночам снится. Ох, если бы ты знала, как я соскучилась! Дура я была, что не послушала тебя и не отбила его у той девушки.
— А он-то тебя хоть любит?
— Вроде бы любит, но, наверное, больше любит ту…
— Раз любит — значит, добивайся своего и ни на кого не гляди.
— Я так и решила.
— Письма она ему пишет?
— Да вот принесла, сразу два, — Любаша достала из-за пазухи пухлые конверты.
— Давай их сюда. — Кланька решительно выхватила письма из рук Любаши, воровски оглянулась и, ни слова не говоря, стала рвать их в клочки.
— Кланька, дура, что же ты делаешь?! — в отчаянии закричала Любаша, пытаясь отнять письма.
Но было поздно: обрывки бумаги полетели в огонь.
— Вот и все! Нечего мямлить, а то ты так никогда не добьешься своего.
— Что же ты наделала, Кланя! — Любаша чуть не плакала. — Как же я теперь буду смотреть ему в глаза?
— А вот так и будешь смотреть!
— Стыдно мне будет…
— Заверни стыд в платочек и никому не показывай, — бойко советовала Кланька. — И знаешь, что сделай? В Блюхерове есть бабка, присушает парней к девкам. Укради у Захара какую-нибудь вещичку, ну, хотя бы носовой платок, и понеси ей. Честное слово, присушит она к тебе Захара! Я по секрету тебе скажу, Любаша, — шепотом говорила Кланька, — она мне присушила Андрея. Только ты ни одного слова, смотри, никому!.. Летом ездила я к ней, возила Андреев галстук, сто рублей заплатила. Я тогда не сказала тебе, боялась — просмеешь меня. А теперь я и горюшка не знаю — Андрей дня не может прожить без меня. Обещает жениться на мне после того, как съездит в отпуск домой! — хвасталась Кланька.
Может быть, в другое время Любаша посмеялась бы над этим советом, но сейчас смущенно согласилась:
— Схожу к бабке, обязательно схожу! Может, и правда подействует?
Пришли в барак — длинное, рубленное из свежих бревен помещение. В углу барака, отгорожена небольшая комната, в которой жили Кланька, Леля Касимова и другие девушки.
— Вот, полюбуйся, Захар подарил стриженой! — Кланька с усмешкой указала на медвежью шкуру возле кровати Лели Касимовой.
— А где он взял ее? — удивленно спросила Любаша.
— Сам убил. В барак, сказывают, лезла медведица, а Захар ее подстрелил.
— Какой бесстрашный он, Кланя! — с тихим восхищением проговорила Любаша. — И тогда, летом, бандита заарестовал, не побоялся!
Кланька ничего не ответила, она не разделяла восторженного отношения Любаши к Захару. Помолчав, спросила:
— А ты с ним целовалась?
— Нет, — покачала головой Любаша, — как-то боязно…
— Ну и глупая ты! — смеялась Кланька. — Знаешь, как ребята любят целоваться! Вон Андрей мой…
— А кто первый поцеловал? Ты его или он тебя?
— Андрей меня. Я сказала, что люблю его, он и поцеловал. Захар не говорил, что любит тебя?
— Нет, не говорил.
— А ты ему?
— И я тоже…
— Ну тогда спроси, а потом, если он скажет, что любит, ты тоже скажи, что любишь, и сама поцелуй! А то ты будешь валандаться, пока какая-нибудь девка не отобьет.
Любаша встретила Захара возле столовой. Долго стояла она в темноте на морозе, ожидая, когда вернутся в поселок каргополовцы. Завидев толпу, она пошла навстречу, вглядываясь в фигуры парней. А вот, кажется, и он!
— Любаша?
— Здравствуй, Захар! — Девушка порывисто шагнула к нему, прижалась щекой к его колючей щеке. — Насилу дождалась…
— Что ж ты на улице? Холодно ведь!
— Боялась проглядеть тебя. Давай пройдемся, Захар, собрание не скоро.
— Писем не было мне?
— Не было… — тихо сказала Любаша и почувствовала, как вспыхнуло все лицо; на душе стало противно и тягостно.
Настроение испортилось, исчезла прелесть звездного вечера. Любаша показалась себе такой гадкой, недостойной не только любви, но и доброго слова. Она уже колебалась: а не сказать ли правду, но тут Захар, увидев, как она сникла, мягко спросил:
— Ты обиделась, Любаша? — Он крепче прижал к себе ее локоть. — Я спрашивал про письма из дому… А от девушки уже не жду. Наверное, она разлюбила меня.
— А ты меня любишь, Захар? — прошептала Любаша, подняв свое лицо к его лицу.
— Люблю, давно люблю! Еще с тех пор, как жил у вас летом.
Не говоря ни слова, Любаша обвила его шею руками и скорее деловито, чем страстно, прильнула губами к его губам. Захар на миг растерялся, но потом по-медвежьи обнял ее и долго не выпускал из своих тисков…
Возле столовой к ним подошли Пригницын и Рогульник. Не вынимая рук из карманов полушубка, Пригницын угрожающе сказал:
— Ты что, друг Жернаков, забыл наш уговор? Любка, марш в столовую, — приказал он. — Мы тут с Жернаковым поговорим по душам.
— Никуда я не пойду! — крикнула Любаша. — Захар, пойдем, они драться хотят. Отойди, Колька, я сейчас закричу!
— Ладно, Любаша, иди, — сдерживая волнение, сказал Захар, следя за каждым движением парней. — О каком уговоре ты мелешь? — грубо спросил он Пригницына.
— А вот о каком!..
Но Пригницын не успел размахнуться, как Захар коротким ударом в подбородок свалил его в снег. Крепкий кулак Рогульника обрушился на голову Захара, выбил из глаз искры, но Захар все-таки устоял на ногах. В бешенстве он налетел на Рогульника, и они, сцепившись, упали в снег. Пригницын ударил Захара в спину, Захар попытался вскочить, но Рогульник ударом обеих ног в живот свалил его. Падая, Захар увидел занесенный над головой сапог Пригницына, успел поймать его, и тотчас же несколько человек подбежали к ним. Захара подняли, поставили на ноги.
Пока он приходил в себя, вокруг собиралась толпа.
— За что они его?
— Двое на одного, вот гады!
Вспыхнула спичка. Захар увидел Ваню Каргополова.
— Жив? — спросил Ваня. — У тебя кровь на лице.
Захар только теперь почувствовал соленое во рту, вытер платком под носом — на платке кровь.
— Что же ты сразу не позвал нас? — спрашивал Каргополов.
— А почем я знал, что они будут драться?
Любаша встретила его в дверях столовой и без стеснения при всех стала вытирать его лицо своим платочком.
— И зачем только я приехала сюда! — со слезами в голосе шептала она. — Это все из-за меня… Что ж теперь делать? Он ведь грозился и меня избить.
— Ничего не бойся, Любаша.
…Собрание открыл Аниканов. Захара выбрали в президиум.
— Подожди меня здесь, — сказал он Любаше. — После собрания провожу тебя.
Любаша не сводила взгляда с Захара. Она смутно понимала, о чем говорит докладчик, занятая мыслями о Захаре. И только тогда настораживалась, когда слышала фамилию «Жернаков».
За последнее время Любаша все чаще размышляла о своей судьбе. Она училась в вечернем строительном техникуме, но ни разу не задумывалась как следует над своим призванием. Сейчас, слушая спокойную глуховатую речь секретаря парткома, посматривая на Захара и его товарищей, она с тревогой думала, что стоит как-то особняком, в сторонке от всего того большого, что делается на стройке, тогда как они, с почерневшими от мороза лицами, в драных полушубках, с загрубелыми в труде руками, делают самое главное, грандиозное дело. Они представлялись ей сейчас настоящими людьми, и Любаше очень хотелось во всем походить на них.
У нее тревожно ворохнулось в груди, когда слово предоставили Жернакову. Она сильно волновалась, наблюдая, как Захар поднимается, оглядывает зал и, запинаясь, говорит:
— Товарищи, мы только что заслушали доклад секретаря парткома. Всем теперь ясно, какие трудности предстоит нам преодолеть до вскрытия Амура. После работы мы обсудили, как быть дальше. И решили: каждому поднять выработку до десяти кубометров в день. Это наш ответ тем классовым врагам, которые хотят задушить стройку в самом зародыше. А еще наш ответ такой: за исключением Бонешкина, у которого цинга, каждый из нас добровольно отдает хлеба по сто, а кто и по двести граммов в пользу больных, а также детей… Я лично отдаю двести граммов в день от своей карточки. Товарищ Каргополов, наш бригадир, тоже двести. Наша бригада вызывает на социалистическое соревнование бригады товарищей Брендина и Самородова.
Захар не успел сесть, как Аниканов крикнул:
— Товарищ Брендин и Самородов, принимаете вызов?
— Я сейчас скажу, — спокойно ответил Брендин, поднимаясь. — Мы в бригаде решили валить не по десять, а по двенадцать кубометров на человека в день!
Громом аплодисментов отозвался зал на слова Брендина.
— Поддерживаем! — крикнул Каргополов.
— И мы тоже! — откликнулся Самородов. — А хлеба все срезаем по двести граммов!
И снова загремели аплодисменты.
Платов встал и громко, взволнованно сказал:
— Товарищи, я предлагаю спеть наш пролетарский гимн «Интернационал»! — И сам первый запел.
Все подхватили. Звукам песни стало тесно в помещении.
У Любаши тревожно и радостно замирало сердце. Она чувствовала себя слитой со всеми воедино; это чувство поднимало ее, будто уносило на могучих крыльях, а перед глазами все время было лицо Захара — немного смешное в своей торжественной строгости.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Собираясь утром в лес, на работу, Захар обратил внимание, что Бонешкин не просыпается.
— Коля, уходим! — сказал он. — Тебе ничего не нужно? Ну, проснись!
Захар тронул Бонешкина за ногу и тотчас же отшатнулся.
— Ребята! — Захар осторожно потянул одеяло. Открылось посиневшее лицо с застекленевшими в смертном покое глазами. — Ребята, умер Николай!..
Все столпились у нар, долго стояли, держа шапки в руках.
— Да-а, жил, бедняга, заполошно, а умер тихо, — первым нарушил молчание Каргополов.
Похоронили Бонешкина на самой вершине сопки и решили, когда закончатся заготовки леса, поставить вместо памятника блок-ролик с надписью:
«Здесь похоронен Николай Петрович Бонешкин, отдавший жизнь за великое пролетарское дело, член славного Ленинского комсомола».
Вроде и незаметным был Бонешкин в жизни бригады, а смерть его все восприняли как утрату самого близкого, родного человека.
Вскоре слег и Каргополов, как ни крепился. Сначала вокруг глаз у него проступили синие цинготные обводы, покраснели белки. Потом и совсем не смог подняться с постели.
— Не могу идти, Захар, — ощупывая колени, сказал Иван. — Отнялись ноги. Бери на себя руководство бригадой.
Вечером, вернувшись с лесосеки, Захар наскоро поужинал и, ничего не сказав Каргополову, направился в поселок.
Лелю Касимову он застал в столовой. Уборщицы мыли пол, а она сидела в своей конторке, подсчитывая талончики продовольственных карточек. Скулы ее пылали — видимо, Леля с кем-то поссорилась.
— Это же черт знает что такое! — рассказывала она Жернакову. — Второй раз уличила Кланьку в воровстве. Тащит и хлеб и сахар. И прячет, пакостная, стыдно даже сказать куда!
— Куда?
— В штаны! — выпалила Леля без стеснения.
— Аниканову не сказала?
— Выгнала ее к черту! А Аниканов что? Рассказала ему после первого случая, так он еще меня обругал. По-моему, он сам пользуется краденым. Знаешь, Зоря, я присмотрелась к нему и прямо ужаснулась — это же страшный человек! Вся его комсомольская активность — ширма, которой он прикрывается, чтобы сделать карьеру. Он такой хитрый, так умеет тонко обделывать дела, что к нему не придерешься. И подумать только, в Новочеркасске я считала его идеальным комсомольцем!
— Я давно это знаю, Леля.
— Знаешь, а мне ничего не говоришь.
— Потому и не сказал, что к нему не придерешься. Ну, вот что, Леля, я к тебе по важному делу. Иван заболел.
— Цингой?..
— Да, слег совсем. Ноги отнялись.
— Ой, Зоря, так что же теперь делать?
— У меня к тебе вопрос. Ты говорила как-то, что ездила к нанайцам покупать рыбу и клюкву. Далеко это стойбище?
— Нет, километров двенадцать отсюда, за сопкой. А ты что хочешь отправиться туда?
— Да, купить клюквы и вообще что можно из витаминных продуктов. Расскажи мне, как туда пройти. Завтра схожу.
В конторку с шумом ввалился Аниканов. Он сухо поздоровался с Захаром, остановился против Лели и, едва сдерживая гнев, спросил:
— Слушай, Касимова, что у вас произошло с Клавдией?
— А то, что заворовалась твоя Клавдия! — резко ответила Леля.
— Не смеешь так говорить! — закричал Аниканов. — Она свои продукты брала домой, те, что получила по карточке. Ты же отлично знаешь, что она не обедала и не ужинала сегодня в столовой. Если не отменишь решения, я поставлю вопрос о тебе на бюро ячейки.
— Вот ты меня на испуг берешь, а я без угроз говорю: завтра утром пойду к Ивану Сергеевичу и попрошу, чтобы собрали бюро ячейки. — Голос Касимовой звенел от сдерживаемого гнева. — Только обсуждать придется не меня, а тебя — за то, что ты взял под защиту воровку. И пригласим свидетелей — повара и обеих уборщиц; они видели, как я поймала твою Клавдию с поличным.
— А это правда? — В лице Аниканова промелькнул испуг.
— Первый случай я, дура, скрыла, пожалела ее, А теперь я так это дело не оставлю, еще и в суд передам, — пригрозила Леля.
Аниканов оторопело глядел то на нее, то на Захара, потом сказал примирительно:
— Слушай, Леля, не передавай в суд, а? Понимаешь, неудобно получится, по моему авторитету ударят… Честное комсомольское, я и не подумал, что она соврала мне. Ну, ты выгнала ее, и пускай отправляется домой с богом. А я с сегодняшнего дня порву с ней, раз она такая, честное комсомольское! Захар, ну скажи ты Леле, чтобы не затевала дела!
Жалок был Аниканов в эту минуту.
Захар отвел от него хмурый взгляд.
— А что я могу посоветовать? Вон Бонешкин умер, слег Каргополов, а тут продукты воруют…
— Каргополов заболел?! — Аниканов прикинулся крайне озабоченным. — Жаль Ивана, на редкость хороший парень. Вот что, завтра же с утра сам отвезу его в больницу.
— В больницу бесполезно, — грустно сказал Захар. — Возили же Бонешкина! Врач сказал, что специального лечения нет, а больные цингой лучше себя чувствуют, когда они находятся среди здоровых.
— Так что же тогда?
— Завтра пойду в Верхнюю Эконь, к нанайцам, попытаюсь купить клюквы или свежей рыбы.
— Я обязательно навещу Ивана, — не унимался Аниканов. — Ну, так как же решим, Леля?
Леля Касимова, добрая душа, растрогалась, видя, как Аниканов заботится об Иване, и, не задумываясь, сказала:
— Ладно. Но обратно на работу я ее не приму.
— О работе и речи нет, тут ты сама хозяйка и лучше меня знаешь, как поступить.
Он уже направился к двери, но, вспомнив что-то, обернулся.
— Да, Захар, чуть не забыл! Ты знаешь, что в штабелях у дороги лежит восемьдесят процентов заготовленного леса?
— Не знаю, но по своим штабелям вижу, что лес почти не вывозится. А что?
— Вчера в бригаде Брендина предложили такую мысль: начать аврал по вывозке леса, а для этого создать штурмовой санный батальон.
— Что это за штурмовой батальон?
— А вот, понимаешь, что: на себе лес возить. Лошадей мало, и их становится все меньше — почти каждый день падеж. Скоро весна. А как только начнется оттепель, то нашему лесу конец, весь останется в штабелях. Предлагаю сделать такую вещь: лесовозная дорога до самого озера идет под уклон, так? Если залить водой колею, она замерзнет, и тогда потребуется немного усилий, чтобы сдвинуть сани. Потом только подталкивать их до самого озера. А обратно порожние сани можно будет поднимать лошадьми. Как ты думаешь — поддержит твоя бригада такое начинание?
— А какая поддержка требуется?
— Каждый день выделять примерно треть состава бригады в штурмовой батальон, но с условием, чтобы ежедневная норма выполнялась.
— По-моему, это нереально, — возразил Захар.
— Да подожди ты, нереально, — нетерпеливо перебил Аниканов, — я же говорю не о той норме, что взяли по обязательствам. На сколько ваша бригада выполняет основное задание?
— В среднем около двухсот процентов, каждый дает по десять-одиннадцать кубометров, а мы с Харламовым — по двенадцать.
— Ну, так вам тогда легче, вы и так будете давать процентов сто тридцать. Мы тут подсчитали, что это не страшно, леса уже заготовлено шестьдесят семь тысяч кубометров. Если до конца сезона каждая бригада будет давать сто процентов основной нормы, то план заготовки ста тысяч кубометров будет выполнен, понимаешь?
— Теперь понимаю. Только, по-моему, этот вопрос нужно обсудить на комсомольском собрании лесоучастка.
— Само собой! Я просто хотел с тобой посоветоваться. Значит, поддерживаешь?
— Руками и ногами, — улыбнулся Захар. «Молодец все-таки, — подумал он при этом, — умеет работать!»
— Кто теперь бригадиром — ты, Захар?
— Да. С сегодняшнего дня.
После того как ушел Аниканов, Леля Касимова и Захар некоторое время сидели молча.
— Сложный человек, — первой заговорила Леля, словно угадав мысли Захара. — Ведь в душе гадкий, а вот работать умеет, умеет на лету подхватить инициативу!
— Да-а, этого у него не отнимешь, — согласился Захар, — работать он умеет. Ну что ж, Леля, я, однако, пойду. — Он встал, наглухо застегнул полушубок.
— Подожди, Зоря, я пошлю Ванюше свой паек сахару, да тут у меня есть в запасе стакана два клюквы, берегла, будто знала…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Чуть свет Захар собрался в путь. Отправив бригаду на лесосеку, он кинул рюкзак за спину, прихватил свою любимую «фроловку» и сказал на прощание Каргополову:
— Ты, Иван, не экономь клюквы, съешь всю. Перекопаю все стойбище, а добуду!
Когда взошло солнце, он уже вышел на почтовую дорогу и весело зашагал вверх по Амуру. За крутобоким выступом сопки увидел вдали — в котловине, окруженной сопками, — цепочку изб, повитую морозной дымкой. Это и была Верхняя Эконь. А через час он взбирался на пригорок, с волнением вглядываясь в неказистые избенки стойбища.
Он давно хотел посмотреть, как живут нанайцы — народность, о существовании которой он и не подозревал, отправляясь на Дальний Восток. Но Захар не имел досуга, чтобы утолить эту далекую от каждодневной работы жажду знаний. Теперь, взобравшись на пригорок, он с интересом всматривался в фигуры людей.
Вот навстречу ему идет старая женщина в длинном и широком халате, расшитом замысловатыми узорами. У нее сплюснутое узкоглазое лицо с маленьким курносым носом, с паутиной морщин вокруг глубоко сидящих глаз, голова с седыми тонкими косами.
— Здравствуйте, — Захар поклонился.
Женщина мельком глянула на него и как шла, так и продолжала идти своей дорогой. Захар в недоумении посмотрел ей вслед, не зная: сердиться ему или смеяться.
Из хижины вышел колченогий невысокий мужчина с длинной самодельной трубкой в зубах, в коротком халатике, перепоясанном матерчатым кушаком, в узких, почти в обтяжку брюках, в мягких обутках из рыбьей кожи, туго подвязанных у щиколоток. Широко улыбаясь, он подошел к Захару, протянул смуглую маленькую руку, сказал:
— Здравствуй. Тебе, однако, стойбище ходи? Замерз шибко? Кого смотри нужно?
— Товарищ у меня больной. — Захар начал с дела. — Вот пришел купить ягод и свежей рыбы.
— Ходи моя изба, — пригласил нанаец. — Тебе, однако, пермская стройка работай?
— Да, плотник я.
Они вошли в полутемное, низкое помещение, без крыльца и сеней. Спертый воздух был пропитан какими-то острыми запахами. Обстановку составляли низкие нары, застланные медвежьей шкурой, со скатками одеял вдоль стены, стол, несколько табуреток, жестяная печка в углу. На нарах сидела моложавая женщина в широком халате. Она что-то вышивала, вполголоса ворча на полуголого карапуза, старающегося залезть к ней на колени. Она даже не взглянула на гостя.
— Маленько грейся, — сказал нанаец. — Ходи русский фершал, ему хорошо могу лечи. Рыба моя могу тебе продавай. Сколько?
— Вот, полный. — Захар протянул рюкзак.
Нанаец вышел и вскоре вернулся, волоча рюкзак по полу. Из рюкзака торчали белые от мороза хвосты щук, плотно, как поленья, натыканные вниз головами.
— Сколько платить? — спросил Захар.
— Маленько плати, однако, десять рубль.
— Десять мало, — возразил Захар, — вот возьми двадцать.
Нанаец засмеялся, повертел деньги в руках, сказал:
— Еще надо будет рыба — ходи моя. Тебе хороший товарищ. Денег бери — нету, так давай буду. Моя горюй, ягода нет. Фершал, однако, есть.
— Покажи, где он живет, пойду к нему. — Захар встал, застегнул полушубок.
Вскоре он поднимался на крылечко большой новой избы, рубленной из толстых бревен. Оставив в сенях свой рюкзак, он постучал раз, потом другой в обитую сохатиной шкурой дверь. Ему открыл высокий крепкий старик с серебряным клинышком бороды и щетками черных с проседью бровей, под которыми спокойно светились умные молодые глаза. Безукоризненной белизны халат как-то странно гармонировал с сохатиными торбасами, ярко расшитыми нанайским орнаментом. Старик оценивающим взглядом окинул Захара, его черное от мороза лицо; спросил глуховато:
— Чем могу быть полезен?
— Я к вам за помощью, товарищ доктор. — Захар снял шапку.
— Раздевайтесь, проходите.
Скрипя смерзшимися валенками, Захар робко прошел в просторную, блестевшую чистотой комнату, заставленную шкафами со склянками.
— На что жалуетесь? Обморожение? Прошу садиться.
Старик слушал Захара с явным недоверием, строго посматривая из-под жестких щеток бровей, но постепенно взгляд его теплел.
— Милый мой юноша, — сказал он, расспросив Захара обо всем, — каждому из вас будущие поколения должны поставить памятник в городе, который вы, безусловно, построите. Я двадцать семь лет живу на Амуре: остался после русско-японской войны с единственной целью — помочь вымиравшему тогда племени в его борьбе с болезнями, с темнотой и диким невежеством. Нас было немного тогда. Сейчас вас целая армия — первая в истории армия, которая не разрушает, а созидает. В этом великий смысл революции, ее благороднейшая функция. Не случайно именно молодежь взялась за возрождение этого благодатного края, именно она способна омолодить край своей энергией!
Захар удивленно и растроганно слушал глуховатый голос старика.
— Ну что ж, ты, однако, голоден, казачок, — сказал хозяин, снимая халат, — пойдем пообедаем. А зовут меня Иваном Сергеевичем, Мартыненко моя фамилия. Тебя как величать?
— Захар Илларионович Жернаков.
— Ну, вот и познакомились, Захар Илларионович. Казаков я знавал, храбрый и любопытный народ.
Они прошли по узкому коридорчику и очутились в уютно обставленной небольшой комнате.
— Живу один, Захар, в прошлом году похоронил супругу. Анюта! — крикнул он в соседнюю комнату. — Приготовь-ка нам на стол.
В дверях показалась статная молодая женщина с жгучими глазами и большим узлом смоляных волос на затылке.
— Вот, привел гостя. — Старик легонько обнял Захара за плечи. — Строитель, комсомолец! По этому случаю достань-ка мой графинчик.
За столом Захар отказался было от предложенной ему стопки коричневато-розовой жидкости, но Мартыненко, похвалив, что не пьет, все-таки заставил его пригубить.
— Лучшее лекарство от цинги — настойка лимонника.
Захару не терпелось узнать, где можно достать ягод и клюквенного экстракта, но радушие хозяина смущало его; ему казалось нескромным просить старика о чем-либо. Но Мартыненко сам обо всем догадался и сказал:
— Товарища своего привези ко мне, я его быстро выхожу. А тебе, Захар, дам сушеных ягод лимонника, будете настаивать стакан ягод на три литра кипяченой воды и давать по полстакана в день тем, у кого появятся признаки цинги.
Бесконечно счастливый возвращался Захар из Верхней Экони. Он не замечал ни тяжелого груза за спиной, ни леденящего встречного ветра. Выпитая настойка лимонника бодрила его, горячила щеки, а мысли о чудесном старике, его доброте и человечности радовали и согревали душу.
Вскоре Захар и Леля отвезли Каргополова в Верхнюю Эконь, не зная, как и благодарить старого фельдшера. Обратно они привезли, полные сани свежемороженой рыбы.
Цинга отступила.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
В последних числах февраля был создан штурмовой санный батальон. Командиром назначили Аниканова. В батальон входили только добровольцы. Это они в идеальном состоянии содержали дорогу-ледянку: поливали водой, сметали снег, счищали неровности на льду, это они весь путь от самого дальнего пикета до Пиваньского озера разбили на восемь участков, по пятьсот — шестьсот метров; это они встречали сани с бревнами у верхней границы участка и толкали их до нижней.
Начали разгрузку с самого дальнего участка — в бригаде Брендина.
На первые сани нагрузили столько же бревен, сколько увозит лошадь, подсунули ваги под комли бревен, и по команде десять человек налегли на рычаги. Тяжело скрипя полозьями по льду, сани с трудом сдвинулись с места.
— Пошел, поше-ол!..
— Дружне-ей!
И вот, набирая скорость, сани по инерции стали подаваться все легче, и скоро ребята весело зашагали, слегка подталкивая воз на ходу. Вместе со всеми толкал и Аниканов. Напрягаясь, кряхтя, он говорил Брендину:
— Я погоню до самого озера, а ты тут командуй. Попробуйте грузить больше.
Брендин широко шагал за возом, подталкивая его одной рукой.
— Передай там, чтобы побыстрее гнали новую партию саней. Мы эти быстро спровадим. А грузить, я думаю, не больше, а меньше, чтобы могли толкать человек пять. Так мы больше успеем вывезти леса — чаще будем отправлять возы.
У нижней границы участка стоял наготове Жернаков со своими комсомольцами.
— Ну как, легко идут? — крикнул Захар.
— А вот сейчас попробуете! — весело отозвался Брендин. — Давай, Захар, припрягайся!
Возле шеста, обозначающего границу, «штурмовики» второго участка на ходу сменили брендинцев и сразу так налегли, что воз пошел втрое быстрее.
— Хорошо придумано с участками, — говорил Захару разрумянившийся Аниканов, — сразу сказались свежие силы!
— А ну, давайте, приналяжем, братцы! Бегом, бегом! — крикнул Захар.
Воз набирал скорость и вот уже заскользил сам, оторвавшись от людей. Ребята с гиком и озорным присвистом скакали следом, толкая друг друга, подшучивая над Аникановым:
— Секретарь наш пока добежит до озера, весь будет в мыле.
— Ничего, это ему полезно, а то на руководящей-то работе ожирение сердца получит.
Всего минуты две-три шли сани через второй участок и, подхваченные на границе Самородовым и его комсомольцами, помчались дальше.
— Ни одна лошадка не смогла бы так! — смеялся Харламов.
Следующие сани, которые встретило отделение Жернакова у верхней границы участка, были нагружены легче, их толкали всего пять человек.
— Берите впятером! — крикнул Брендин Захару, впритруску следуя за санями. — Сейчас подойдут вторые сани.
Через поселок к озеру сани толкали работники столовой, конторы, конного парка, в том числе Леля Касимова, Бутин, Крутовский, Пригницын.
— Ну как, хорошо пошли? — спрашивал Бутин Аниканова, привычно упираясь в бревно; он немало покатал за свою жизнь вагонеток на торфоразработках.
— Хорошо идет, Иван Сергеевич, очень хорошо! — кричал Аниканов, смахивая пот со лба.
Возчики-крестьяне с удивлением смотрели, как люди толкали сани.
— И скажи на милость, до чего додумалась комсомолия! — говорил краснолицый возчик в коротком полушубке, подпоясанном кушаком. — Ведь вон чего делают!..
— Да-а… Какое только лихо заставляет их так работать? — отозвался второй.
— Социализму строят, — вмешался в разговор куршивенький мужичонка с желчным бабьим лицом. — Награды хочут заработать…
— У тебя, Кешка, все наизнанку, — с укоризной сказал первый. — О наградах они и думать забыли. Летом, стало быть, чтобы было с чем работать на стройке, вот и стараются. Лошадей поморили бескормицей такие ездоки, как этот цыганенок. Цыгане — они сроду не жалели коней, всю жизнь на перекладных ездиют. Я их повидал в гражданскую на западе. Ну, трогай, чего там ртами зевать…
К концу дня на Пиваньское озеро было доставлено сто тридцать два воза, свыше тысячи кубометров древесины.
А в конце пятидневки в столовой было собрание бригадиров и комсгрупоргов.
С докладом о штурмовом батальоне выступал Аниканов.
— Идея создания штурмового санного батальона, — говорил он, позируя, — полностью себя оправдала. Однако для того, чтобы до середины апреля вывезти весь заготовленный лес, нам все-таки недостаточно этих темпов. Я вношу предложение, Иван Сергеевич, — он повернулся к Бутину, — ввести ночную смену. Что касается резерва повышения производительности труда на рубке, то он имеется. Вот в бригадах Брендина и Жернакова каждый лесоруб дает две нормы, а в бригаде Толкунова и некоторых других редко кто выполняет больше полутора. Надо, чтобы все равнялись по передовым, тогда мы получим дополнительно сотни кубометров древесины.
— Правильно, очень правильно, — поддержал Бутан. — Товарищ Толкунов, а вы как думаете?
Степан Толкунов сидел в заднем ряду, облокотившись на колени и тихонько покуривая в кулак. Услышав свою фамилию, он вскочил, растерянно уставился на Бутина.
— Не понял вопроса, Иван Сергеевич, — смущенно пробормотал Степан.
Взрыв смеха окончательно сконфузил его, он покраснел, сердито сказал:
— Ну чего регочете? Забаву нашли! Ну, задумался маленько, так о деле ж задумался!
Выслушав разъяснение Бутина, Степан недовольно сказал:
— Уж я и так каждый день гоняю лентяев. В бригаде народ с бору по сосенке, все больше из служащих. Сколько раз я говорил Аниканову, чтобы он почаще захаживал к нам, так его не дозовешься!
— У меня пятнадцать бригад, товарищ Толкунов! — запальчиво крикнул Аниканов.
— А ты посчитай, — не унимался Степан, — если за день побывать в двух бригадах, и то можно заходить ко мне в неделю раз. А ты за все время только два раза был у меня, да и то по пять минут.
— Я тебе не нянька в конце концов, — сердито возразил Аниканов, — и ты тоже не ребенок! Сам уж должен уметь работать с людьми!
Лицо его стало красным, глазки зло разгорелись — до чего не терпел критики секретарь комсомольской ячейки Аниканов! А тут еще Бутин добавил жару.
— А в этом Толкунов прав, товарищ Аниканов. Уж один-то раз за неделю можно зайти в каждую бригаду.
Предложение Аниканова о ночной смене совещание одобрило. Касимова обещала наладить дополнительное питание ночной смены свежей рыбой и картошкой, купленной в Верхней Экони.
— Судя по всему, товарищи, — сказал в заключение Бутин, — битву за лес мы выигрываем. Выигрываем, несмотря ни на происки классовых врагов, ни на природные трудности. Я вот приведу любопытный факт, друзья мои. Несмотря на отчаянно тяжелые условия, несмотря на нехватку хлеба, выработка в феврале была самой высокой за все время существования стройки. Мы, советские люди, подобны стали — чем больше ее гнут, тем более упругой она становится. А теперь я хочу порадовать вас, товарищи. Звонили из парткома: автоколонна с мукой прибыла на стройку. Завтра она снова уходит в Хабаровск, за новой партией муки и жиров. В ознаменование этой победы, — он улыбнулся Леле, — товарищ Касимова напоит нас чаем.
Касимова беспомощно развела руками.
— Только кипяток и заварка, Иван Сергеевич! Хлеба нет. Правда, есть немного голубичного варенья, выпросила в орсе леспромхоза из нелимитного фонда на всякий пожарный случай.
— Ну, так чудесно! — воскликнул Бутин. — Вот он как раз и есть, пожарный случай, — ведь собрались герои труда!
Вскоре на столах задымился в алюминиевых кружках горячий, слегка подслащенный голубичным вареньем чай.
— Придет время, братцы, — задумчиво говорил Бутин, обжигаясь чаем, — когда мы устроим такой пир, которого не знали сами цари. Всего-то у нас будет в достатке, уж не говоря о хлебе насущном. И будем мы удивляться самим себе и даже не верить: как же это смогли мы зимой тридцать второго — тридцать третьего годов совершить такое — совершить полуголодными, в лютые морозы, в суровой таежной глуши Дальнего Востока!
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
В тайгу прокрадывалась весна. Все заметнее сдавали морозы. Снег понемногу оседал и по ночам покрывался серебристой тонкой глазурью. Почернел и как-то мягче, глуше стал шуметь лес, в полдень на солнечной стороне пихтовых и лиственничных стволов проступали янтарные слезинки смолы. Только ночью мороз ненадолго восстанавливал зимний порядок, и тогда в тайге раздавался тонкий звон, будто невидимые кузнецы стучали серебряными молоточками по стальным наковальням.
Штурмовому батальону пришлось работать только по ночам — днем дорога-ледянка подтаивала, сани разрушали колею, и толкать их стало уже не под силу. Но это не тревожило лесорубов: почти весь заготовленный за зиму лес уже громоздился по берегам Пиваньского озера.
В последних числах марта вернулся Каргополов — похудевший, но здоровый. Он шагал по обочине, слегка сгорбившись и стараясь ступать туда, где еще не подтаял снег, но все равно валенки его по самые щиколотки напитались водой.
Прежде чем отправиться на пикет, он зашел в столовую к Леле Касимовой. Завидя его в дверях, Леля кинулась навстречу.
— Ванюша, милый мой, пришел!.. — Привстав на носки, она бережно поцеловала его сначала в щеку, потом в губы. — Совсем поправился?
— Смотри, — Каргополов обнажил десны, — даже следа не осталось. Век буду благодарен этому чудесному старику!
— Ванюша, дорогой ты мой, как я рада за тебя! — говорила Леля, не снимая своих рук с плеч Ивана, жадно разглядывая его широкоскулое лицо. — Устал? Небось голодный? Сейчас покормлю. Ой, да у тебя совсем мокрые валенки, ты же простудишься, милый! Переобуйся скорее.
— Это бесполезно, все равно вымочу, пока дойду. Сапог не давали ребятам?
— Откуда!.. — Леля безнадежно махнула рукой. — В Николаевске же они, привезут не раньше, чем откроется навигация.
Вскоре перед Иваном появилась полная миска горячего супа. Наблюдая за тем, как он усердно ест, Леля рассказывала о новостях:
— А вчера мне Аниканов говорил — скоро отзовут лучших плотников на постройку барж. Будет отозвана и твоя бригада. Захару тоже дадут бригаду.
— Как он там, не болеет?
— Зорька-то? Он как дубок, ничего его не гнет. Поймал проволочными петлями несколько кабарожек и зайцев.
— Никто из наших не болеет цингой?
— Да все как будто здоровы.
— Работают хорошо?
— Все время либо на первом, либо на втором месте. С Брендиным соревнуются. На вывозке всегда первые. У них, правда, уклон дороги удобный. Но главное — дружные все ребята.
Уже собравшись в дорогу, кинув котомку за спину, Иван обнял за плечи прильнувшую к нему Лелю и сказал запинаясь:
— Я хочу спросить тебя вот о чем, Леля… Пойдешь за меня замуж?
Леля долго не отвечала, потом подняла глаза и тихо спросила:
— А ты меня сильно любишь, Ванюша?
— Не знаю, как еще можно сильнее любить…
— Пойду, — все так же тихо, с несвойственной ей робостью, сказала Леля. — Ты для меня, Ванюша, единственный, самый родной человек на свете. А ты… — Леля запнулась, помолчала, — ты хорошо продумал все это? Мне-то что, я одинокая, как в поле былинка, а у тебя родители…
Каргополов светло улыбнулся, осторожно погладил своей большой ладонью ее соломенные волосы.
— Что ж родители. Мне двадцать третий пошел! Только свадьбу, знаешь, когда сыграем? Когда пароходы придут.
— И, может, к тому времени какую-нибудь комнатенку добудем, — мечтательно говорила Леля, прислонившись головой к его широкой груди. — И продуктов побольше будет, привезут, наверное! А то сейчас голодновато свадьбу-то играть… — Она подняла голову, счастливыми глазами взглянула ему в лицо, с нежностью проговорила: — Муж, милый ты мой муж! — и порывисто поцеловала в губы.
До самого пикета Каргополов шел, будто пьяный, ничего не замечая. С его лица не сходила счастливая улыбка. Так, улыбаясь, он вошел в свой барак.
Бригада только пообедала, лесорубы отдыхали — одни толпились у печи, просушивая портянки, другие лежали или сидели на топчанах, дымя махоркой.
Едва Каргополов переступил порог, как в бараке поднялся невообразимый шум:
— Бригадир пришел!
— Жив, курилка!
Иван пожал протянутые руки, а Захара обнял за плечи.
— Ну, как ты?
— Как штык!
— Привет тебе от старика Мартыненко. Вот старик! Прямо чародей. Со всего Нижнего Амура к нему нанайцы едут. Приглашал нас в гости летом, на рыбалку или по грибы.
— Твое-то самочувствие как? — пытал его Захар. — Покажи-ка десны!
— Чисто!
— Ты что, тонну черемши съел, Иван?
— Тонну не тонну, а с центнер, так думаю, убрал, — пошутил Каргополов. — Задержись-ка, Захар, на минутку, пока я валенки высушу. Сказать тебе что-то хочу.
— А ты вообще повремени ходить на работу. Дела у нас идут хорошо, заготавливаем леса больше, чем вывозим. А ты пока окрепни, по тайге поброди. У нас там двадцать петель стоит на кабаргу и зайца. Вон, видишь, шкурки висят? Это мы с Харламовым и Пойдой орудуем.
— Ну, о деле потом, — сказал Каргополов, снимая у печки мокрые валенки. — Я хочу сообщить тебе одну тайну.
Захар насторожился.
— Какую?
— Мы с Лелей скоро поженимся…
— Да? — Захар задумчиво посмотрел на Ивана. — Ну что ж, Леля очень хорошая девушка. Да и ты парень ничего. — Он улыбнулся. — Значит, наша с тобой коммуна — все, распадается! Жаль… Ну что ж, Иван, поздравляю! — И он крепко пожал руку Ивана.
— Только пока не говори ребятам, Захар! — попросил Каргополов.
— Это правильно. А комнатку мы вам отгородим в бараке. Соберемся все и за пару часов соорудим вам такие хоромы! — улыбаясь, мечтательно говорил Захар. — Так сказать, свадебный подарок!.. Да, — спохватился он, — знаешь, нас, плотников, скоро перебросят баржи строить. Там прорыв.
— Мне говорила Леля. Тебе бригаду дают?
— Да. Аниканов сказал, что по предложению самого Платова!
Апрельским утром лесорубы покидали Пиваньское озеро. Перед уходом они поднялись к вершине сопки, на могилку Бонешкина. Бугорок земли еще не успел осесть, а густая крона пихты надежно укрыла его от снежной пороши.
— Почтим память Коли минутным молчанием, — сказал Каргополов, снимая шапку.
На минуту все замерло. Тайга насторожилась, обступив полчищами своих мощных стволов маленькую кучку людей в ободранных полушубках, в стоптанных валенках, вихрастых, с продубленными морозом и ветром лицами. Тайга прислушивалась к скорбному молчанию.
Первым нарушил тишину Захар.
— Смотри не забудь о блок-ролике, — напомнил он Харламову, когда все вновь надели шапки (Харламов теперь оставался бригадиром вместо Ивана). — Надо выжечь надпись на столбе. Стешите одну сторону и выжгите. Хороший парнишка был, — закончил Захар со вздохом, — безотказный в любом, самом трудном, деле…
Плотники распрощались с товарищами и двинулись в путь.
— Знаешь, Иван, не хочется отсюда уходить, — говорил Захар, шагая рядом с Каргополовым. — Сроднился я с этими местами.
— То же самое ты говорил и на Силинке, — улыбнулся Каргополов.
— А что, там тоже ведь очень красиво! Я те места до сих пор люблю.
— Так-то оно так, — вздохнул Каргополов, — а вот как мы добредем? — Он показал на дорогу, всю в глубоких лужах. — Не позаботились мы с тобой отдать сапоги в починку.
— Придем в Пермское — попрошу Любашиного отца, отремонтирует, — успокоил его Захар.
Сбор плотников был назначен в помещении столовой; оно наполнилось людьми и пожитками, как зал ожидания железнодорожного вокзала. А в полдень к столовой подошел трактор с двумя огромными санями на прицепе. Бутин, пожав руку Ивану, сказал:
— Вот, товарищ Каргополов, будешь начальником колонны. Явишься прямо в партком, к товарищу Платову. А сейчас проведем короткий митинг.
Полтораста человек окружили трактор. На помост саней поднялся Бутин, окинул взглядом толпу. Как непохожи были эти ребята на тех, которые появились здесь два с половиной месяца назад, в памятный январский вечер! Полушубки, валенки были на них тогда добротные, лица румяные, многих еще не коснулся морозный загар. Сейчас они возмужали, но заметно похудели, лица у них стали черными, полушубки на всех замызганы, изорваны, в заплатах, сделанных на живую нитку, — видна неопытная рука. Сбитыми и растоптанными до уродства были и валенки.
— Дорогие друзья, — негромко заговорил Бутин, сняв шапку. — Перед тем как вернуться вам на стройку, я хотел бы сказать несколько слов. Первое и самое главное слово, которое мне хочется сказать вам на прощанье — спасибо! От всего сердца спасибо за ваш героический труд, за стойкость, за самоотверженность! «Бревно обороны» завоевано, дорогие товарищи, вон целые горы этих бревен, — указал он в сторону Пиваньского озера. — Теперь нам ничто не страшно — летом мы сможем развернуть промышленное строительство. Вы взяли главный рубеж Дальнего Востока. Слава вам, герои второй пятилетки!
Он спрыгнул с помоста, и толпа дружно ринулась на сани, густо облепила их. Заглушая гул трактора, полетела песня «По долинам и по взгорьям», звеня в весеннем воздухе, перекатываясь по распадкам и сопкам.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Никогда еще стройка не жила так напряженно, как в эти весенние дни. Запасов продовольствия оставалось всего на месяц, а навигация откроется только дней через сорок. Начинались дожди, слякоть, а у большинства строителей не было сапог. Острее, чем зимой, не хватало топлива для пекарен и столовых, не говоря уже о жилых бараках, — не на чем было возить дрова. Отсутствие водопровода грозило эпидемией, как только наступит лето. До навигации оставалось сравнительно немного времени, а еще не построили ни одной баржи. Вдобавок ко всему в конце марта на лесозаводе произошла крупная авария, а через день сгорел склад лигроина, запасенного для трехколесных тракторов «Коммунар», недавно доставленных на стройку из Хабаровска.
И все же ударники Дальпромстроя собрались на свой слет. Захар и Каргополов пришли подстриженные, побритые, при галстуке, в новых суконных костюмах, только что купленных по талонам ударников. Никандр отремонтировал им сапоги, и друзья выглядели франтами.
У входа в клуб они неожиданно столкнулись с Гурилевым, облаченным в кожаную тужурку, такие же брюки и хромовые сапоги. Лицо и руки Гурилева были в бурых пятнах, как после ожогов.
— Посмотри-ка на него, чистый комиссар! — воскликнул Захар.
— А вы думали! — закричал Гурилев и бросился к друзьям.
Они долго трясли руки.
— Ты что такой пятнистый, родить собираешься? — смеясь, спросил Каргополов.
— Чуть не отправился на тот свет, — отвечал Гурилев, — да только не приняли ни в рай, ни в ад, говорят: «Поживи еще, посмотрим, что из тебя выйдет!» Вернулся на этот свет, а меня — бах! — премировали кожей. — Он потряс полой тужурки. — Ну как? Хороша кожа? — поворачиваясь кругом, спрашивал он.
В дверях их остановила контролерша.
— Ударники? Покажите книжки. Занимайте места от первого до восьмого ряда.
Они уселись плотной кучкой, продолжая шутить и подтрунивать друг над другом.
Первым выступил Коваль.
— Прежде чем сделать свой доклад, друзья, — говорил он, картавя, — я зачитаю вам два важных сообщения ОГПУ.
Первое сообщение:
«Произведенным ОГПУ расследованием ряда неожиданных и последовательно повторяющихся аварий, происшедших за последнее время на крупных электростанциях (Московская, Челябинская, Зуевская, Златоустовская), установлено, что аварии эти являются результатом вредительской деятельности группы преступных элементов из числа государственных служащих в системе Наркомата тяжелой промышленности, поставившей себе целью разрушение электростанций СССР (диверсионная деятельность) и вывод из строя обслуживаемых этими станциями государственных заводов.
Расследование показало, что в деятельности этой вредительской группы принимали активное участие также некоторые служащие английской фирмы «Метрополитен Виккерс», работающие в СССР на основании договора с этой фирмой о технической помощи предприятиям электропромышленности СССР. По делу арестован тридцать один человек, в том числе шесть служащих фирмы «Метрополитен Виккерс», английских подданных».
А вот второе сообщение, — продолжал Коваль, — только что полученное сегодня:
«От коллегии ОГПУ. На основании постановления ЦИК Союза ССР от пятнадцатого ноября 1932 года коллегия ОГПУ, рассмотрев на судебном заседании своем от одиннадцатого марта 1933 года дело арестованных выходцев из буржуазных и помещичьих слоев государственных служащих в системе Наркомзема и Наркомсовхозов по обвинению их в контрреволюционной, вредительской работе в области сельского хозяйства в районах Украины, Северного Кавказа, Белоруссии,
П о с т а н о в и л а:
За организацию контрреволюционного вредительства на машинно-тракторных станциях и совхозах ряда районов Украины, Северного Кавказа и Белоруссии, нанесшего ущерб крестьянству и государству и выразившегося в порче и уничтожении тракторов и сельскохозяйственных машин, в умышленном засорении полей, поджоге машинно-тракторных станций, машинно-тракторных мастерских и льнозаводов, дезорганизации сева, уборки и обмолота с целью подорвать материальное положение крестьянства и создать в стране состояние голода, приговорить к высшей мере социальной защиты — расстрелу — нижеследующих, наиболее активных участников указанной контрреволюционной организации…»
Всего приговорено к расстрелу, — отложив лист бумаги, продолжал Коваль, — тридцать пять человек, к десяти годам тюремного заключения двадцать два человека и к восьми годам — восемнадцать человек. Подписал председатель ОГПУ В. Менжинский.
По залу прошел гул, отовсюду полетели негодующие выкрики:
— Ловить и уничтожать гадов!
— Вредители и у нас есть!
— Сапоги отправили в Николаевск, разве это не вредители?
— Лошадей поморили!
Председателю собрания Ване Сидоренко потребовалось немало времени, чтобы утихомирить страсти.
Все это время Коваль молчал. Прислушиваясь к голосам и выкрикам, он бледнел и волновался. Выходило, что вредительством на стройке было все, начиная от распределения продовольственных карточек и кончая срывом строительства барж.
— Продолжайте, Иосиф Давидович, — сказал Сидоренко, когда в зале утихло.
Коваль заговорил с трудом, чувствуя, с каким напряженным вниманием и подозрительностью собрание ловит каждое его слово. Опасение, что ему не доверяют, сковывало мысли, мешало, Коваль запинался и терялся. Пока он говорил о трудовом напряжении, с которым работали молодые строители зимой, зал молчал. Но вот Коваль перешел к трудностям, которые испытывает стройка, и обвинил в них прежний состав парткома.
В ответ раздались выкрики:
— А контору тоже партком сжег?
— А пилораму на лесозаводе кто вывел из строя? В самый трудный момент!
— А сапоги кто заслал в Николаевск?
И снова Ване Сидоренко пришлось долго утихомиривать зал. Коваль начинал злиться — скулы его зарумянились, голос стал резким.
— Все эти факты расследуются, товарищи, — говорил он. — Но мы допустим грубую ошибку, если все отнесем за счет вредительских действий и будем закрывать глаза на нашу расхлябанность и недисциплинированность, а если хотите, то и на объективные трудности, которых у нас немало, очень много. Начало таять, и вы сами видели возле клуба вылезающие из-под снега кучи досок. Как они здесь очутились? Бросили прошлой осенью, когда строили клуб. Что это? Типичная халатность, товарищи!
Он суетливо отпил глоток воды, нервно потеребил бороденку.
— Вы все читали в газете подборку рабкоровских писем: в связи с таянием снега по всей строительной площадке обнаруживаются кучи проволоки, таврового железа, оконных рам, пустых бочек, болты, ломы, даже лопаты! Кто их раскидал? Та же бесхозяйственность.
Вношу предложение: пусть отряды «легкой кавалерии» соберут все имущество, пока оно не потонуло в грязи.
Никогда еще Коваль не выступал с такой страстью, как на этом собрании. Он отбросил свои записи, вышел из-за трибуны.
— Сегодня мы начинаем предмайскую промышленную эстафету, — говорил он, жестикулируя. — Бригада победителей получит право заложить первый камень завода-гиганта. Победа близка, товарищи! Через месяц начнут расти корпуса завода. Пусть трепещет классовый враг — наше движение к социализму не остановить!
Коваль уже сел на свое место за столом президиума, вытер лицо платком, а в зале продолжались аплодисменты.
Затем ударникам вручались социалистические путевки первомайской промышленной эстафеты.
Захар тоже получил путевку. Это был скромный листок, отпечатанный типографским способом, довольно грязным шрифтом на серой, дешевой бумаге. Но какая удивительная сила таилась в нем! Усевшись на свое место, Захар долго разглядывал путевку. На листке было написано:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
СОЦ. ПУТЕВКА
на право закладки первого камня фундамента первых пром. корпусов.
Выдана тов. ЖЕРНАКОВУ,
бригадиру плотников участка баржестроения.
Выполняемая работа — плотницкая.
Участвовал ли в соц. соревновании — да.
Нач. строительства — К о в а л ь Секр. парткома — П л а т о в Пред. постройкома — Щ е г о ц к и й.ДВК, г. Комсомольск-на-Амуре, 1933 г., апр. месяц.
— Ну, держись, Иван, — сказал Захар Каргополову, когда они вышли из клуба — Жди завтра моих послов с договором на соревнование. Не я буду, если не обставим твою бригаду!
— «Не хвались, на рать идучи»! — смеялся Иван.
И хотя разговор происходил в шутливой форме, Захару не терпелось скорее взяться за работу.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Наверное, потому, что молодые строители с нетерпением ждали весну, она в тот год заметно торопилась. Уже в середине апреля началась необычно ранняя оттепель, быстро согнала снег с прибрежного галечника, с косогоров и релок, а потом весна торопливо принялась искать его по всем закоулкам огромной строительной площадки.
В эти теплые солнечные дни с восхода солнца до позднего вечера дремотную тишину тайги нарушал дробный перестук топоров, доносившийся с берега Амура; около двухсот лучших плотников, собранных со всей стройки, спешно рубили пять барж.
На берегу всегда было людно: сюда выходили погреться на солнце и полюбоваться весной все, кому было нечего делать, — больные цингой, служащие конторы, работники почты, которые не знали, куда деть свободное время, так как почтовая связь с Хабаровском прекратилась. Приходила сюда и Любаша. Она могла часами просиживать на бревне возле кормы баржи, где работал Захар.
Незадолго до его возвращения с лесозаготовок Любаша побывала у бабки-гадалки. Встретившись с Захаром в кино, она вернула ему платочек, который взяла постирать, он был в крови после драки Захара с Пригницыным и Рогульником.
Теперь Любаша как тень преследовала Захара по пятам, не совсем доверяя магической силе бабки-гадалки. А Захару было не до Любаши. Объявив участок сверхударным, комсомольцы Захара работали весь световой день, и каркасы барж на глазах обрастали новыми рядами белых отфугованных брусьев. Захар уставал до упаду, так что Любаша однажды сказала ему:
— Зачем ты надрываешься, Захар? И так еле ноги волочишь, ветром тебя качает. Я вот смотрю на иных ребят, они как-то по-другому работают, отдыхают часто, а ты…
Захар ничего не ответил. Да и как он мог объяснить ей, что́ руководило им, когда он даже себе самому не мог дать ответа; ему просто хотелось хорошо работать, это стало потребностью его души. На лесозаготовках Захар впервые почувствовал удовлетворение собой, хорошее чувство, которое принесла трудовая слава. Ведь его никогда в жизни так не хвалили, как на слете. В лесу он редко пользовался своим легким и удобным плотницким топором. Теперь он с наслаждением достал его из баула, направил и пустил в дело. Но разве об этом расскажешь Любаше?
Думая о ней, о своих отношениях с Любашей, Захар был неприятно поражен одной мыслью: Любаша изменилась! Раньше она была стеснительной, робкой, милой, всегда искренней. Теперь в ее характере и наружности появилось что-то, наверное, заимствованное у Кланьки: она стала развязной, начала мазать лицо белилами и румянами, вместо простенького платья, которое так шло ей, стала носить слишком короткую модную юбку, навертела глупых кудряшек, закрывающих лоб до самых бровей. Все это претило Захару, отталкивало его. Если прибавить навязчивость, с которой Любаша преследовала его, ее скрытность и какие-то недомолвки, непонятные Захару, то станет ясно, почему он уже не мог питать к Любаше того трепетного чувства, которое так волновало его прежде.
Захару, конечно, трудно было понять — и он не понимал этого, — что любовь к нему, которая теперь окончательно завладела девушкой, была ее первой любовью. И можно ли было обвинить ее в том, что она так неумело с ней обращалась? Она хотела взаимности, она ждала того счастья, которое сулит это волнующее чувство, это могучее просветление человека, становящегося взрослым, и она боролась за счастье, как умела в свои восемнадцать лет.
В любви, может быть, как ни в чем ином, с наибольшей полнотой раскрывается характер человека. Говорят, что любовь облагораживает. А не правильнее ли сказать, что она раскрывает ту глубину благородства, что до поры до времени таится в каждом человеке? О Кланьке никак нельзя было сказать, что любовь облагородила ее; напротив, она сделала ее еще более предприимчивой и расчетливой. У Любаши, по-видимому, характер формировался медленнее, она шла в жизни не напролом, а скорее ощупью. Может быть, именно робость и чистота привлекали Захара к Любаше, но теперь он заметил в ней то, что чуждо было его душе, и это стало причиной его охлаждения.
Оттепель держалась недолго. Уже в конце апреля резко похолодало, снова выпал снег, по ночам так подмораживало, что от весенней ростепели не осталось и следа. Полагали, что ледоход начнется раньше обычного, а стало быть, скоро придет караван судов с продовольствием. Но эти предположения не оправдались. Только в мае, в ночь с одиннадцатого на двенадцатое, сломало лед на Амуре, а тринадцатого мая тишину солнечного утра огласил басистый гудок долгожданного парохода.
Перед этим десять дней строители не видели ни крохи хлеба.
Первый пароход… Захару казалось, что с тех пор, как осенью ушел последний пароход, прошла целая вечность. Столько событий, столько перемен и вокруг него, и в нем самом! Да и только ли один Захар испытал это? Каждый из трех тысяч комсомольцев мог сказать о себе то же самое. Но пройдет много времени, пока они сами осознают, какое испытание выдержали они в ту зиму; ведь в ту пору труд их представлялся им самым обыкновенным, ничего особенного не представляющим.
Но пароход! Как его басистый гудок взволновал всех, сколько надежд, радостной новизны принес он в их будничную жизнь! Пароход — это хлеб, обувь, это письма от родных, это живые вести из большого мира, от которого они были оторваны в течение долгой зимы.
Пароход пришел на восходе солнца — белый, нарядный, сверкающий чистыми стеклами. На длинном буксире он тащил три огромные баржи. По сверкающей глади Амура спокойно плыли льдины. Несмотря на ранний час, берег скоро усеяли сотни людей. А когда бросили чалки, на пароход поднялись Платов и Коваль.
— Что привезли? — Это был первый вопрос Коваля капитану.
— Сейчас вызову второго помощника с документами.
В каюте появился франтоватый молодой человек в кителе ослепительной белизны и лихо сбитой на затылок фуражке. Он торопливо разложил бумаги.
— Это фактура на колеса и брички — двести комплектов, — докладывал он, — это на кирпич, вот на тес и тавровое железо.
— И все?.. — Платов тяжело посмотрел на помощника капитана.
— Да-а, все…
— А мука, жиры, продовольствие? — закричал Коваль.
— Насчет этого нам ничего не известно. Наше дело маленькое — чем нагрузили, то и доставляем.
— Какой у вас дальнейший план — на Хабаровск или Николаевск пойдете? — спросил Платов.
— Дождемся разгрузки барж и — на Хабаровск.
— Сколько мест в каютах?.. Тогда все в порядке, сегодня же пойдете на Хабаровск, — решительно сказал Платов. — Необходимо срочно вывезти больных цингой. Двести пятьдесят два человека. Распоряжение из пароходства получите. Прошу готовиться к приему больных.
Весть о том, что первый пароход привез колеса и брички и ни мешка муки, в один миг облетела стройку. Платов хорошо понимал последствия этого события; в разгаре было соревнование бригад за право закладки первого камня завода; несмотря на голод, график работы почти повсюду выполнялся. Особенно хорошо работали на участке баржестроения — там уже готовили к спуску три баржи. Платов хорошо понимал, какого напряжения всех сил стоили эти успехи молодым строителям.
Вернувшись с парохода, он собрал партком.
— Органы выявят конкретных виновников, — угрюмо говорил Платов. — Вольно или невольно, а это удар по стройке, нанесенный прямо в сердце. Я только что разговаривал с Далькрайкомом, обещали немедленно отгрузить продовольствие. Наша задача: разойтись по строительным участкам, провести митинги, разъяснить обстановку, убедить молодежь не опускать руки и не падать духом.
На участок баржестроения он пошел сам. Каково же было его удивление, когда Иван Каргополов доложил, что он только что провел митинг, и подал секретарю парткома резолюцию. В ней говорилось:
«В ответ на вылазку классового врага мы заявляем:
1. Не снизим темпов промышленной эстафеты, пока не добьемся победы — закладки первого камня будущего завода-гиганта.
2. В связи с открытием навигации не допустим ни одного случая «сундучкового» настроения или дезертирства.
3. Вызываем на соревнование участок строительства лесозавода № 2».
— Как же это вы догадались? — спросил Платов с улыбкой.
— Да сами начали митинговать по бригадам. Пришли на работу и начали… Тут оказались горлопаны, — вполголоса добавил Каргополов. — Ну и решили их осадить, созвали общий митинг. Так взяли их в оборот, что быстро прикусили язык.
— Чего же они хотели?
— Да на самом митинге побоялись выступать, а в бригадах раздавались голоса, чтоб бросить работу и не приступать, пока не привезут муку и продукты.
— Ну что ж, я заберу эту резолюцию, отнесу в газету, пусть опубликуют. Благодарю, товарищ Каргополов! — Платов крепко пожал ему руку.
К вечеру следующего дня пришли пароходы с продовольствием.
Дважды назначался и отменялся срок закладки первого камня, и только двенадцатого июня заложили будущий завод.
Еще ночью к Пермскому подошли и стали на якоря боевые корабли Краснознаменной Амурской флотилии. Под утро пал туман, но первые солнечные лучи быстро рассеивали его, а легкий верховой ветерок начал свертывать туман в белые барашки, и на излучине могучей реки проступили грозные очертания башен боевых рубок и мачт.
Разгорелся чудесный день — незабываемое двенадцатое июня.
Первые колонны с красными флагами показались на дорогах, ведущих к Силинскому озеру. Зазвенели песни. Туман окончательно рассеялся, воздух засверкал.
Захар шел во главе колонны, рядом с Иваном, Алексеем Самородовым и Брендиным.
Несмотря на теплынь, все четверо были одеты в кожаные тужурки, брюки и хромовые сапоги — они вчера получили премию. Захар и Брендин несли транспарант, на котором было написано разведенным зубным порошком: «Все баржи спущены на воду!»
Право закладки первого камня завоевала бригада Алексея Самородова. По этому случаю он подстригся, побрился и выглядел в своем костюме внушительно. Теперь он совсем не походил на того Алексея Самородова, который год назад отправился на Силинку сплавлять лес, — возмужал, лицо посветлело, облагородилось, только прежней осталась привычка хмурить брови. Да и все комсомольцы — как они изменились за этот трудный год! — год немыслимого напряжения, борьбы, штурмов, авралов, беспокойных дней!..
Алексей то и дело морщился — жали сапоги. Большую часть жизни он проходил в лаптях, и теперь ему нелегко было привыкать к изящной хромовой обуви.
— Давай, Алексей, я сбегаю за лаптями, — смеялся Каргополов, — там, на берегу, их скирда непочатая!
Захар хмурился по другой причине. Разносчик писем Алешка сказал, что ему пришло письмо, но его взяла Любаша. Захар поспешил на почту. На крыльце он встретился с Любашей. Она вдруг покраснела, смутилась.
— Ты за письмом? — спросила Любаша, избегая его взгляда. — Тебе нет писем.
— Алешка сказал…
— Это не тебе!
Захар понял, что она что-то скрывает.
— Пойду проверю, — сказал он и решительно поднялся на крыльцо.
Любаша пропустила его, постояла с минуту и кинулась бежать.
Захар вошел на почту, спросил Алешку:
— Ты не наврал насчет письма?
— Своими глазами видал, Любка взяла.
— А почерк на конверте не заметил? Какой?
— Да такой, знаешь, как девки пишут…
Захар понял все. Может, это не первое письмо, утаенное Любашей? Никогда не простит он ей этого!
Захар отправил телеграмму Настеньке:
«Сообщи телеграфом, сколько писем послала после ноября».
Это было вчера. А сегодня утром он получил ответ:
«Беспокоюсь. Послала три письма. Целую. Твоя Настенька».
Мысль о Любашином поступке не покидала Захара ни на минуту. Как же он не разглядел раньше ее характера!
На месте закладки первого камня вокруг четырехугольной площадки уже стояли колонны комсомольцев, когда к ним подошли строители барж. В центре площадки возвышалась трибуна. Рядом зиял длинный котлован, выкопанный углом, — это был юго-западный край будущего первого цеха.
Скоро подошел духовой оркестр. Медные трубы ослепительно засверкали под солнцем. Грянула музыка, все та же неизменная песня, ставшая гимном строителей, — «По долинам и по взгорьям». Ее подхватили сотни голосов, почти заглушив звуки труб. Едва умолкла песня, как по колонне пробежало:
— Едут! Едут!..
Со стороны Пермского примчались три кургузых «газика».
— Блюхер! — пробежало единым вздохом по рядам.
Невысокий коренастый командарм шел неторопливо, с улыбкой окидывая взглядом молодых строителей.
Захар не спускал широко открытых глаз с Блюхера. Так вот он какой, легендарный командарм Особой Краснознаменной Дальневосточной!.. Сам того не замечая, Захар вытянулся по стойке «смирно», опустив руки по швам.
А вскоре прибежали за Самородовым — его ждали на трибуне. Мужественно превозмогая боль, Алексей старался не хромать.
Митинг затянулся. Но вот в руках начальника строительства блеснул бронзовый цилиндр. Коваль отвинтил крышку, достал из него свиток бумаги, стал читать акт о закладке завода. Потом он снова скрутил его, засунул в цилиндр, и слесарь натуго завинтил крышку. Цилиндр подали Блюхеру. Он молодцевато сбежал с трибуны, спустился в котлован. За ним спрыгнули туда Алексей Самородов, Коваль, Платов. Сверху им подавали кирпичи и цементный раствор. Оркестр грянул «Интернационал». Качнув воздух громовым раскатом, с Амура ахнул залп корабельной артиллерии. Потом еще и еще — двенадцать залпов.
Тысячеголосое «ура» возвестило миру, что рождается первый в мире город юности коммунизма.
КНИГА ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Размашистым, напряженным шагом идет Захар. Бесконечной лентой вьется меж сугробов и ледяных торосов хорошо прибитая лыжня. Морозное дыхание ветра обжигает лицо, но Захар почти не чувствует его — кровь горячит щеки.
«Раз-раз! Раз-раз!» — легко бегут вперед лыжи. В голове только одна мысль: скорее нагнать отряд! Декабрьский день короток. На часах три, а солнце уже потускнело и неудержимо клонится к горизонту. Надо непременно до ночи нагнать лыжников, иначе он потеряет их. Но в отряде подобрались крепкие ребята — расстояние между Захаром и цепочкой лыжников, темнеющей на белом просторе, нисколько не сокращается. А вот она и вовсе скрылась за крутым выступом Эконьской сопки.
…В начале зимы прошел слух, что скоро на стройку прибудет специальная военно-строительная бригада.
Тогда же Захар получил телеграмму от Настеньки: техникум окончила, добивается назначения в Комсомольск.
Неделю спустя пришла вторая телеграмма из Москвы: назначение получила, выезжает в Хабаровск, просит встретить.
Захар решил идти в Хабаровск на лыжах. Дорога еще не установилась, и о каком-либо транспорте не могло быть и речи. Попытка Ивана, Лели и Феди Брендина отговорить Захара от этой рискованной затеи не дала результата. Но тут был объявлен штурм на строительстве казарм для красноармейцев. И Захара попросту не отпустили с работы.
В середине декабря на его имя пришла третья телеграмма, уже из Хабаровска: Настенька благополучно прибыла и ждет оказии на Комсомольск.
Декабрь 1933 года выдался на редкость лютым. Те, кто работал внизу или в затишке, кое-как спасались от ветра, зато на крыше ветер огнем обжигал лицо. Бригада Захара работала на стропилах, и лица ребят почернели от мороза, только на щеках и скулах не сходили красные плешины — следы обморожения. Да и не мудрено: работали от темна до темна.
«Встретим спецкадры (так называлась военно-строительная бригада красноармейцев) теплым и уютным жильем!», «Никаких перекуров!», «Весь световой день — ударному труду!» — эти лозунги, написанные углем на досках, пестрели на каждой строящейся казарме.
Но странное дело: Захар как будто не замечал тягот нелегкой жизни. Он настолько втянулся за эти полтора года, что трудности стали для него нормой. Сказывался и подъем, вызванный ожиданием того большого, праздничного события, которым он жил, считая дни и часы, оставшиеся до встречи с Настенькой.
Незадолго до Нового года над Комсомольском разразилась жестокая пурга. Трое суток бушевал ураганный ветер со снегом. Все работы на строительстве остановились. Невозможно было добраться со второго участка до Пермского. Сугробами замело дороги, занесло бараки по самую крышу.
С тревогой прислушивался Захар к злобному вою ветра, сотрясающего стены: «А вдруг пурга застала Настеньку на Амуре? Это же верная гибель!» Захару мерещились тысячи занесенных снегом, замерзших людей. И среди них — Настенька. Ведь, по расчетам, передовые батальоны находятся где-то в полусотне километров от Комсомольска. Значит, пурга не минула их?
Но об этом тревожился не один Захар. Поздно вечером, когда в окна барака с сухим треском ожесточенно бились снежные вихри, к койке Захара подошел Каргополов. Они с Лелей жили рядом в отгороженной комнатушке.
— Не спишь, Захар? — спросил Каргополов.
— Да нет. — Захар оторвался от книги. — Наверстываю, скоро уже зимние зачеты…
— Леля приглашает на чай. Голубичного варенья где-то добыла, копченый муксун есть. А заодно хочет что-то сказать тебе…
В клетушке, отгороженной досками, едва помещались топчан, грубо сколоченные обеденный стол, книжная полка да два табурета. Но здесь чувствовалась женская рука: всюду белые занавески, каждый предмет на своем месте, пол отмыт добела.
— Ой, ребята, что делается на дворе — прямо светопреставление! — говорила Леля, зачесывая перед зеркалом пшеничную россыпь стриженых волос. — Страшно подумать, что теперь делается на Амуре! Зоря, от Настеньки ничего нет? — неожиданно спросила она.
— Да нет. — Захар настороженно посмотрел на Лелю. — А ты чего-нибудь узнала о бригаде?
— Ты только панику не пори, — с обычной своей резковатостью ответила она. — Я слышала разговор Бутина с Ваней Сидоренко, они ужинали в столовой. Иван Сергеевич говорит, будто одну колонну пурга захватила на Амуре и до сих пор нет никакой связи.
— И далеко? — Голос Захара дрогнул.
— Где-то между Вознесеновкой и Малмыжем… Ваня предложил, как только кончится пурга, послать лыжников с продуктами и медикаментами.
Пока Леля накрывала стол и разливала чай, никто не обмолвился ни словом. Захар был мрачен и задумчив. Лицо его было странно пегим: морозная смуглота доходила до лба, ушных раковин и подбородка; дальше везде — белая кожа. На темном обмороженном лице особенно ярко поблескивали глаза.
— Иван, замолви за меня словечко, когда будут набирать лыжников.
— Не выйдет, Захар. Нельзя рисковать покалеченной ногой.
— Тогда я сам пойду.
— Получишь выговор.
— Ну и черт с ним, с выговором! Как ты не поймешь? Леля, объясни хоть ты ему — не могу же я сидеть в тепле, когда там, может быть, люди погибают.
— Да чего ты к Леле апеллируешь, буйная головушка? — усмехнулся Каргополов. — Думаешь, я сам не понимаю? Да только смотри, чтоб тебя самого не пришлось спасать.
— Так уж и спасать! Ну, где ты меня спасал?
— А на Силинке искупался, помнишь?
— Ну, так то…
— Вот то-то и оно! — перебил его Каргополов. — Я тебя, Захар, конечно, понимаю: там Настенька. На твоем месте я бы тоже, может быть, так поступил. Но пойми, твое присутствие ничуть не облегчит им положения.
— Зоря, ты бы лучше подумал о том, как скорее закончить комнату, — вмешалась Леля.
— А как ее закончишь, когда досок нет. Везти не на чем.
— Бригаду попросил бы. По паре досок принесет каждый, вот тебе и вся недолга, — подсказал Каргополов.
— С комнатой успеется, — пробубнил Захар и решительно добавил: — Все равно, как только кончится пурга, пойду на лыжах.
Пурга стихла в ту же ночь.
Утром по пути на работу Захар, утопая по колена в снегу, допытывался у Каргополова: замолвит тот за него слово или нет в комитете комсомола, когда речь пойдет о добровольцах-лыжниках?
— Видно, Захар, мне от тебя не отбояриться, — смеялся Каргополов. — Черт с тобой, замолвлю!
Захар работал на стропилах, когда снизу его окликнул Пригницын, привезший доски.
— Га, здоров, Жернаков! Записочка тебе от товарища Каргополова.
Захар спрыгнул в сугроб. Не обращая внимания на болтовню Пригницына, он пробежал глазами записку:
«Кажется, опоздали мы с тобой, Захар, — говорилось в записке. — Отряд лыжников уже укомплектован и скоро выйдет. Сидоренко не возражает против твоего похода, учитывая, что там Настенька. Решай сам: успеешь собраться — можешь идти».
Оставив за себя Толкунова, Захар кинулся домой. Там прихватил рюкзак, лыжи и охотничий нож, а вскоре уже мчался в продовольственный магазин. Выкупил месячную норму масла, которую берег до приезда Настеньки, взял трехкилограммовую буханку хлеба, пять банок рыбных консервов и, спрямляя по снежной целине путь, понесся в Пермское. Велико же было его огорчение, когда еще с бугра он увидел на Амуре темную цепочку лыжников. Они были под Эконьской сопкой — километрах в восьми.
Да они ли это?
Забежал в комитет к Ване Сидоренко.
— Ушли лыжники? — Он сбил на затылок ушанку, вытер пот со лба.
— Ушли. А ты где был?
— Да где! Каргополов промариновал: обещал сразу, а сказал только что!
— Страшного ничего нет, — успокоил Сидоренко, — и без тебя там управятся.
— Нет, все-таки… Я догоню! Там же Настенька!
— Смотри сам.
Захар поглубже натянул ушанку, кивнул Сидоренко и бегом выскочил из кабинета.
Не скоро дошел он до Эконьской сопки, а когда обогнул ее, невесело стало на душе: лыжники исчезли.
Пока Захар поравнялся с Верхней Эконью, солнце погрузилось в лиловую мглу, выстлавшуюся по вершинам левобережных сопок. Теперь там лишь слабо просвечивал его пунцово-красный диск. Захар и минуты не задумывался: он пойдет вслед за отрядом — ведь лыжню можно видеть и ночью!
Эконь осталась далеко позади, когда Захара нагнали сани. В розвальнях лежал закутанный в тулуп дядя лет пятидесяти с безбородым одутловатым лицом скопца и колючими глазками.
— Далече, паря? — спросил он сипловатым бабьим голосом.
Захар сошел с лыжни.
— А вы далеко?
— До Орловки.
— Сколько до нее?
— Верст двадцать, считай.
— Может, подвезете?
— А деньги есть?
— Найдутся.
— Кидай лыжи, садись.
Блаженный покой растекся по телу, когда Захар с облегчением опустился в сани и лошадь взяла с места рысцой.
— Чтой-то у тебя за чудные рукавицы? — спросил возница, разглядывая шоферские краги на руках Захара.
Потом он начал с нудным любопытством допрашивать Захара, кто он, да откуда, да сколько зарабатывает. Скоро он изрядно надоел Захару. Да и дорога сворачивала в сторону. Привстав с саней, Захар разглядел лыжню.
— Сколько платить? — спросил он.
— А я, как почта, — полтинник с версты. Словом, червонец давай.
Захар подозрительно долго копался во внутренних карманах пиджака. Наконец выдохнул:
— Бумажник потерял…
— Ишь ты, как не повезло, — хихикнул возница. — А был ли он у тебя?
— А то не был! — заорал Жернаков, обшаривая карманы. — Конечно, потерял или забыл в комитете у Сидоренко, будь ты неладен!
— Не виляй, паря! Пока не рассчитаешься, лыжи не дам! — И возница расторопно подсунул под себя лыжи.
— У меня есть масло и хлеб, больше нет ничего, — глухо сказал Захар.
— Такое добро и у меня есть. Давай сюда рукавицы, а взамен бери мои варежки, вот и будет полный расчет.
— Так это же грабеж! — возмутился Захар.
— А обманывать человека честно? Ну, решай! А не хочешь — увезу лыжи, вот тогда ты попляшешь!
И вот на руках Захара уже не меховые перчатки с кожаными крагами, а дырявые варежки. Сбросив лыжи, возница пустил в ход кнут, по-разбойничьи гикнул, и лошадь с места взяла галопом.
«Черт меня дернул связываться с этим кулачиной!» — ругал себя Захар, ходко двигаясь по лыжне. Он испытывал мерзкое ощущение — варежки казались липкими, мокрыми и холодными.
А кругом — глухая ночь. Снежная сумеречь держалась только понизу, у самого Амура. Где-то справа должен быть лесистый берег. Черная стена берега только угадывалась во тьме. Захару чудились очертания изб и старых елей, увешанных прядями мха. Хотелось свернуть туда, устроиться под развесистыми лапами-ветками, развести костер, отдохнуть…
Мучили голод и жажда, стали тяжелыми лыжи. Но у Захара и в мыслях не было останавливаться — вперед, только вперед! До Орловки еще километров двадцать. Где-то на полпути, слева, должно быть село Свободное, за ним нанайское стойбище Дипы. Нужно дойти хотя бы до Свободного, а там будет видно.
И он идет — размеренно, в одном ритме, не спуская глаз с лыжни под ногами. Давно потерян счет времени, давно он не чувствует холода, давно он свыкся с темнотой и безмолвием ночи, а в душе какое-то тупое, полусонное безразличие ко всему — так бывает при сильной усталости.
В голове лениво бродят мысли-видения, сменяя одна другую, а над ними, словно маятник часов: «Раз-раз, раз-раз, раз-раз…» Это лыжи отсчитывают время-шаги.
Самое страшное одинокому путнику вот в такую зимнюю ночь потерять уверенность в себе. Захар не терял ее до тех пор, пока видел две довольно четкие полоски лыжни: рано или поздно они куда-нибудь приведут. Но вот ветер стал заметно усиливаться, в торосах засвистела поземка.
Вскоре Захар стал замечать, что лыжня как бы растворяется под ногами — ее словно что-то размывает. Вот стали видны лишь отдельные обрывки лыжни, а вскоре и они исчезли. Снег завихривался все выше, пока не скрыл все вокруг. Только вверху изумрудной густой россыпью холодно сверкали звезды.
Захар остановился. В висках напряженно бьется кровь. Внутри закаменело от сознания беспомощности. «Только без паники, только без паники…» — твердил он. «Но что же делать? Нужно хорошо все обдумать. Идти по звездам? Вон Большая Медведица, повыше Полярная звезда, вон Волопас». Но в каком направлении находится Свободное, Захар не знал. Руки его начали коченеть. Надо идти, тогда кровь разогреется. Но куда идти?
Решено! Он пойдет к правому берегу. Село где-то там. Вдоль береговой кромки он станет пробираться до тех пор, пока не дойдет.
Стараясь не потерять направление в вихрях поземки, Захар свернул влево. Концы его лыж то и дело попадали под вздыбленные льдины торосов. Чтобы вытащить их, нужны усилия. А силы на исходе. Захар старается идти тихо, повыше поднимать ноги.
Кажется, целую вечность он шел, пока уперся в берег — крутой обрыв в два человеческих роста. Между торосами и берегом оказалась полоса гладкого снега. По ней и пошел Захар. Здесь был затишок и не так курился снег.
И снова шаги отсчитывают расстояние: «Раз-раз, раз-раз!..»
Захар прошел не меньше трех километров, как вдруг на обрыве показался темный силуэт, похожий на дом. Село! Захар из последних сил прибавил ходу. А вот вверху, на обрыве, стог сена… Оставив лыжи, Захар с трудом взобрался на обрыв. С подветренной стороны разгреб ногами снег под стогом, выбил в сене нору, посидел в ней, потом развел костер подальше от стога, за барьером снега. И вот пламя заплясало над охапкой сена.
Видно, на заре своей истории человек не напрасно поклонялся огню, как некой божественной силе. Захар подумал об этом, когда свет отпугнул ночной мрак, и тепло ласково пахнуло ему в лицо. Великий покой разлился по всему телу. Некоторое время он только отдыхал, наслаждаясь огнем, протянув руки навстречу теплу. Потом достал из рюкзака замерзший хлеб, банку консервов и стал отогревать все это над костром.
Под треск огня и свист ветра, налетающего порывами из-за стога, легко и свободно текли мысли, все больше о Настеньке: где-то она сейчас? Может быть, совсем рядом, в селе? Какая она теперь?..
Почти два года прошло с той поры, как он проводил ее на вокзал в Новочеркасске, когда она уезжала на практику. Кажется, прошла целая вечность. Совсем другим стал Захар за это время. Давно перегорело в душе все, что было связано с кавшколой. Иной раз ему вдруг казалось, что он и не жил никакой иной жизнью, кроме той, которая вот уже полтора года кипит на диком берегу Амура.
Удивительная жизнь! Было время, когда она казалась Захару слишком суровой и тяжелой. В иные дни Захар приходил в восторг от всего, что окружало его. Иногда его тянуло на Дон, в тишину родной станицы. Но шло время, забывалось все трудное и суровое, оставалось одно — радость открытия.
Все теперь роднит Захара с Комсомольском! Стоит барак, над его трубой вьется дым. И ему приятно смотреть на барак — это он, Захар, построил его. Летом всякий раз, бывая на берегу Амура, Захар невольно искал глазами баржу «Нельма». Это его бригада построила «Нельму». «Моя баржа! — говорил он. — Работает!»
Но самое главное, Захар хорошо это понял, — он сам совсем-совсем не тот, что был полтора года назад.
Суровые испытания, труд до сухих мозолей на ладонях, сознание огромной важности того, что он делал, чувство локтя, чувство большой семьи собратьев — огромный новый мир открылся теперь Захару, и ему хотелось скорее рассказать обо всем этом Настеньке, порадовать ее.
Захар не заметил, как его стало клонить в сон. Тело расслабло, налилось свинцом. Неотразимо хотелось забраться поглубже в стог, закутаться в полушубок и уснуть. Но нет, сон не входил в его планы. Нужно идти!
Плотно подкрепившись обугленным на огне хлебом и консервами, он тщательно увязал рюкзак, забросал снегом костер. Кромешная темень обступила его. Кинув за спину рюкзак, Захар ощупью спустился с обрыва, отыскал лыжи, закрепил их, и снова — «раз-раз, раз-раз!» — отсчитывают расстояние размеренные шаги.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Они познакомились еще в поезде — Настенька Горошникова и совсем еще юный розовощекий здоровяк — военный инженер Прозоров.
— Поистине закон всемирного озорства, как говорят моряки! — воскликнул Прозоров. — Оба строители, и оба — в Комсомольск!
Приятная компания — незаменимый спутник в дальней дороге. Они не заметили, как пролетели двенадцать дней, пока поезд мчал их от Москвы до Хабаровска. О чем только не переговорили они! Игорь Платонович был неиссякаем в остроумии, а такт, с которым он относился к Настеньке, делал Прозорова в ее глазах истинно благородным человеком. В Хабаровске только благодаря его стараниям она оказалась в штабном обозе военно-строительной бригады. Не оставлял он Настеньку без внимания и в пути, особенно когда разыгралась пурга.
Непогода настигла обоз километрах в сорока отсела. Долго боролись люди со стихией, пробиваясь к ближайшему жилью. Прозоров обморозил себе лицо, стер ноги в грубых, необношенных валенках. Но он делал все, чтобы облегчить участь Настеньки.
И вот они уже третий день в Вознесеновке. Семистенная изба, в которой разместились штабные работники, в том числе и Прозоров с Настенькой, завалена военной амуницией, оружием, чемоданами, полушубками.
День выдался солнечный, тихий, с безоблачно голубым небом. Все разбрелись по селу, прогуливаясь в ожидании приказа о выступлении. Он поступит, когда головной батальон дойдет до Орловки и промнет дорогу в снегу.
В избе остались лишь Настенька и Прозоров — у него воспалилась натертая во время пурги нога. Настенька ухаживала за ним. В узком кашемировом платьице, туго облегавшем ее складную, пышущую степным здоровьем фигуру, в неизменном красном берете, так идущем к ее смуглому лицу, с живыми глазами-угольками и чуть вздернутым носом, она выглядела сейчас особенно привлекательной. Прозоров не сводил с нее мечтательных глаз.
— Присядьте, Анастасия Дмитриевна, у меня к вам есть серьезный разговор, — сказал он, когда Настенька навела порядок в комнате, занимаемой штабистами.
Она присела рядом, настороженно посмотрела ему в глаза.
— Я слушаю вас, Игорь Платонович.
— Дайте мне вашу руку. — Бережно сжимая мягкую ладонь девушки, Прозоров раздумчиво продолжал: — Настенька, не знаю, доведется ли нам с вами еще остаться наедине. Вы едете к жениху, наверное, выйдете замуж, и я буду лишен возможности вот так, запросто, общаться с вами.
Настенька слушала его, потупя взор. Она знала, что скажет ей Прозоров, и с замиранием сердца ожидала этих слов.
— Я вас люблю, Настенька. — Прозоров сказал это тихо и раздумчиво, с грустью глядя в ее лицо. — И я хочу, чтобы вы это знали. Мне очень тяжело. Я еще никогда не знал такого светлого и мучительного чувства. И я буду всегда вас любить. — Он помолчал, бережно поглаживая ее руку. Настенька не в силах была пошевелить пальцами — они будто оцепенели. — И еще хотел сказать вам одно, — снова заговорил Прозоров, — если с вами случится беда, если почему-либо у вас не сложится жизнь, вы всегда можете рассчитывать на меня.
В соседней комнате послышался скрип входной двери, раздались гулкие шаги и стук в дверь комнаты штабников. Настенька, словно ужаленная, вырвала свою руку у Прозорова и вскочила на ноги.
— Да, да, войдите, — сказал Прозоров.
Дверь отворилась, и на пороге стала невысокая фигура парня в изрядно затасканном полушубке, перепоясанном ремнем, в заячьей ушанке, сбитой на затылок. На черном обмороженном лице с красными пятнами разгоряченно поблескивали глаза.
Он несмело шагнул, улыбаясь во весь рот.
— Настенька!..
Прозоров понял все. Он опустил голову и не смотрел, как Настенька кинулась к Захару. Из глухого оцепенения Прозорова вывел голос Настеньки:
— Знакомьтесь, Игорь Платонович, это Зоря…
— Я очень рад. — От волнения Прозоров заговорил хриплым баском. Лицо его полыхало румянцем.
— Как же ты очутился здесь, Зоря? Раздевайся, здесь жарко! — Настенька сама стала расстегивать его полушубок, сняла с головы заячью ушанку.
— Спасать шел, да чуть сам не попал в беду. — Широкая улыбка не сходила с лица Захара. — Ночевал у нанайцев в Дипах. А вот сегодня пришел сюда искать тебя.
Сняв полушубок, Захар в своих стоптанных валенках, лоснящихся ватных брюках и изрядно помятом пиджаке выглядел невзрачным мужичком. Причесавшись, он одернул пиджак и с удивлением рассмеялся:
— Вот ведь чудеса! Бумажник считал утерянным, а он вот где!
Прозоров и Настенька в недоумении переглянулись. Захар уловил этот взгляд и рассказал о случае с возницей, о своих кожаных крагах, которые пришлось отдать.
— Да черт с ними, в конце концов, с этими крагами. Главное — бумажник цел!
Чрезмерная простоватость и непосредственность Захара на какое-то время омрачили настроение Настеньки. Может быть, все это не бросалось бы так в глаза, не будь рядом Прозорова: Захар проигрывал рядом с ним.
Обоз вышел из Вознесеновки в первом часу дня. Настенька, закутанная в тулуп и пуховый платок, и Прозоров со своей больной ногой ехали в кошевке. Захар бежал на лыжах либо рядом, либо вслед за санями. Его рюкзак лежал в ногах у Настеньки. День был хотя морозный, но тихий, солнечный. Амур, с его ледяными застругами, с бескрайними заснеженными просторами, сиял миллионами искр-снежинок. Искрился и сиял даже сам воздух, и так же сияюще светло было на душе Захара.
В первую секунду встречи с Настенькой, застигнутой наедине с Прозоровым, в сердце Захара ворохнулась ревность. Но это чувство так же быстро исчезло, как и появилось, — светлая радость встречи заслонила его. Да и поведение Прозорова, не говоря уже о Настеньке, не вызывало никаких подозрений. И какое дело Захару теперь до того, что, сидя рядом в санях, Настенька и Прозоров иногда разговаривают между собой, смеются чему-то? Настенька то и дело просит Захара идти ближе к саням, что-нибудь спрашивает, сама начинает рассказывать о новостях станицы, Новочеркасска. Она привезла ему в подарок донские перчатки из кроличьего пуха, какие издавна вяжут там невесты, своим женихам; и теперь Захар, забросив рваные варежки, с наслаждением ощущал на руках мягкий и теплый пух.
— Настя, а ты Васю Королькова встречала? — спрашивал Захар, шагая на лыжах рядом с санями.
— Ой, Зоренька, я совсем забыла сказать! — воскликнула Настенька, высовывая голову из тулупа и поворачивая к Захару разрумяненное морозом лицо. — Он здесь, на Дальнем Востоке, служит. Почти половина вашего выпуска здесь! Ведь я была у них на выпускном, когда они закончили школу. Ой, Зоря, посмотрел бы ты, чего они только не делали на конях! Вспоминали о тебе, расспрашивали, как живешь…
Захару до боли ярко и живо вспомнились прежние выпуски командиров взводов. Вчерашние курсанты в один день становились командирами. К этому дню им шили новенькое, хорошо подогнанное обмундирование, выдавали сверкающие глянцем, приятно скрипевшие ремни, на петлицы гимнастерок привинчивали «кубари» — знаки отличия командира взвода. Утром, после праздничного завтрака, всех выстраивали в физкультурном зале и читали приказ наркома обороны о присвоении каждому командирского звания. Потом начинался большой конноспортивный праздник. Скачки сменялись прыжками через препятствия, манежная езда — рубкой, джигитовка — вольтижировкой. И все оставляло неизгладимое впечатление. Праздник заканчивался парадом всей школы, возглавляемым лихими наездниками-выпускниками. После парада они выходили в большую боевую жизнь.
Грустно стало Захару: он по-прежнему любил армию. В ней он видел воплощение самых лучших человеческих качеств — мужества, готовности к подвигу, крепости духа, внутренней самодисциплины. Может быть, он потому и проникся сразу уважением к Прозорову, что увидел в нем именно такого человека, каким сам еще недавно хотел стать.
Но грусть была минутной, навеянной ожившими воспоминаниями. Рядом ехала Настенька, и в душе от этого — праздник встречи. А впереди — светлая дорога в будущее, в его мечту — большой солнечный город, который уже видится ему во всех своих чертах, впереди цель — стать инженером-строителем, таким же вот, как Прозоров.
Солнце уже клонилось к западу, когда впереди показалась Орловка — два ряда рубленых изб, протянувшихся по обдутому ветрами пригорку. Здесь предстоит ночлег.
Когда сани взобрались на пригорок и въехали в село, Прозоров сказал:
— А знаете, Захар Лариоиович, вам следует забрать свои перчатки у того возницы. Ведь вы его узнаете? Если не будет отдавать, пригласите его ко мне. С волком нужно поступать по-волчьи.
Вечером, когда обоз расквартировался, Захар так и сделал; разыскал возницу и выкупил у него свои шоферские краги. Только пришлось отдать не червонец, а два — один за проезд, а второй — за рукавицы, выброшенные Захаром еще в Вознесеновке.
Под вечер следующего дня обоз подъезжал к Комсомольску. Вглядываясь издали в темную полосу берега, Настенька спросила с наивным простодушием:
— Зоря, а где же город? Он за теми сопками?
— А это и есть город — видишь, вон домики.
— Так какой же это город? Просто деревня!
Да, не это ожидала увидеть Настенька. Удручающее впечатление произвел на нее и занесенный снегом барак, возле которого остановились сани. Но тут же она очутилась среди такого шума и гама, что уж больше ничего не могла толком разглядеть: с работы вернулась бригада Жернакова. Перед Настенькой замелькали черные от мороза лица, смеющиеся глаза, рослые и щуплые парни — все они, приосаниваясь, знакомились с Настенькой, жали ей руку. Она и не заметила, как все ее пожитки исчезли — их унесли в барак.
— Мы тут подготовили тебе сюрприз, — говорил на ухо Захару вихрастый удалец Толкунов.
— Какой?
— А вот сейчас увидишь…
Войдя в барак, Захар сразу увидел «сюрприз». Рядом с комнатой-клетушкой, в которой жили Каргополов и Леля Касимова, белела свежеоструганными досками вторая такая же комнатка.
Захар крепко обнял Толкунова.
— Спасибо, Степа!
— Так это еще не все! — продолжал Толкунов. — В коммунально-бытовом отделе выписали и получили всю обстановку!
«Обстановка» состояла из двух топчанов, грубого стола, двух табуреток и ведра с тазом и умывальником, но и это в те времена было счастьем.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
— Вот мы и дома! — сказал Захар, когда они остались вдвоем в своей комнатушке.
Терпко пахли смолой еловые доски, под закопченным потолком нервно мигала лампочка, на огромном, во весь простенок, окне мороз нарисовал волшебные пальмы.
Настенька, с вишневыми от мороза щеками, весело рассмеялась:
— Правду говорят, Зоря, — с милым и в шалаше рай.
Захар помог ей снять платок и шубу и, когда она осталась в одном платье, обнял ее.
С той минуты, как они встретились в Вознесеновке, им не пришлось быть наедине.
— Знаешь, Зоря, — говорила Настенька, поглаживая его колючую щеку, — все эти полтора года я ловила каждое слово о Комсомольске и все пыталась представить себе, какой он. И совсем не думала, что он такой. Думала, ну, самое малое, как Новочеркасск. Ведь столько о нем пишут и говорят! А он же меньше, чем наша станица…
— Значит, разочаровалась.
— Как тебе сказать? Мне все равно, какой бы он ни был. Раз ты здесь — значит, и город хороший. — Она прижалась губами к его губам. Потом отстранилась и, глядя ему в глаза, страстно зашептала: — Родненький мой, как же я соскучилась по тебе! Мне даже не верится, что мы вместе. Только и думала об этой минуте! Иной раз так размечтаюсь, так все живо представлю себе, что даже страшно становится: а вдруг не увижу тебя никогда, вдруг случится что-нибудь со мной или с тобой, пока я в дороге? Ведь на край света ехала, вообразить даже трудно, как далеко…
Захар в эту минуту не чувствовал, как гудят ноги после трехдневной ходьбы на лыжах, не слышал голосов за дощатой стеной. Всем его сознанием, всеми чувствами владело одно: Настенька, милая, ненаглядная Настенька здесь! Они глядели друг другу в глаза и не могли наглядеться. Захар осторожно зачесывал ей назад шелковистые, коротко остриженные волосы, потом принимался целовать ее щеки, лоб, курносый носик, мягкий подбородок.
Да, это была их минута, долгожданная и бесконечно дорогая награда за долгую и трудную разлуку! Они не замечали времени и, должно быть, просидели бы так вечность, если бы не послышался осторожный стук в дверь. Вошел Степан Толкунов, светловолосый красавец в поварском колпаке и фартуке не первой свежести.
— Прошу извинения, я насчет ужина пришел уточнить: вам как — сюда принести или за общим столом покушаете?
— Для начала, Степа, познакомься: Настенька! — сказал Захар. — А это наш с тобой земляк, новочеркасский франт и в прошлом девичий сердцеед, — представил он Толкунова.
— Уж ты скажешь, Захар! — смущенно возразил Толкунов. — Со счастливой вас дорогой, Настенька. — И он бережно пожал ей руку. — Как там наш Новочеркасск, на месте? Ох и соскучился же я!..
— Все так же, по-старому…
— Да, город, конечно, веселый, — заметил Захар. — Но ничего! Скоро и у нас будет не хуже, чем в Новочеркасске. Ну так что, гостюшка, тут поужинаем или пойдем за общий стол?
— Неудобно мне, Зоря, с дороги помятая я вся.
— Принесу сюда, — выручил ее Толкунов, — а то и вправду, какой ужин, когда человек стесняется?
Он вышел, но вскоре появился опять — с двумя алюминиевыми мисками, полными картошки, сваренной вместе с соленой кетой, и двумя ломтями хлеба.
— Немножечко переварил, язви его, — заметил Толкунов смущенно, — но ничего, есть можно… За чаем сам придешь, Захар! — и вышел.
— Ну и достанется сегодня Степе! — усмехнулся Захар, принимаясь за еду.
— За что? — удивилась Настенька.
— Вот за это варево. Испортил продукты.
Бригада Жернакова и здесь жила коммуной, занимая отдельную секцию барака. Двадцать два топчана с тумбочками, длинный обеденный стол из грубых досок со скамейками по бокам, возле торцового окна — книжный стеллаж, и еще один стол — там ленинский уголок; справа, в сторонке, рундук для продуктов и посуды да посредине огромная, как кибитка, чугунная печь на фундаменте из дикого камня и гравия — вот и вся обстановка.
На каждый день назначался дежурный по коммуне. Он должен был топить печь, запасать на день кадку воды и совмещать все дела с обязанностями повара. Но так как не всякому дан талант кулинара, то почти каждый вечер на коммунарском совете под председательством старосты Феди Брендина чинился суд за подгорелую кашу или пересоленные щи, за грязный фартук или за плохо вымытую посуду. Проштрафившегося наказывали по степени виновности. Высшей мерой «социальной защиты» считалось либо наколоть кубометр дров в нерабочее время, либо вне очереди помыть пол, либо постирать всем полотенца с обязательным кипячением в баке. Существовали и другие, более легкие меры наказания, как, например, пропеть песню «Разлука, ты разлука», получить три щелчка по лбу или еще что-нибудь в этом роде. У коммунаров по вечерам стоял хохот, полы были всегда чистыми, а в запасе на каждый день имелся лишний кубометр дров.
Вот и сегодня, едва Захар и Настенька управились с ужином, как за стеной послышался дружный смех. Он не прекращался и тогда, когда раздалось петушиное пение: кто-то во всю глотку прокукарекал на весь барак.
— Что там делается, Зоря? — недоумевала Настенька.
— Наказывают Степана за переваренный ужин.
Он рассказал о порядках в коммуне, и Настенька от души посмеялась.
— Ну, а вечером чем ребята занимаются? — спросила она.
— Так мы же учимся. Я и Каргополов в вечернем строительном техникуме, остальные — в вечерней семилетке или начальной школе. Минут через двадцать тут ни души не останется.
Пришел за посудой Толкунов.
— Черти! — ворчал он. — Слыхали, что они мне присудили? Так это еще не все. Предложили: или на сытый желудок в пять минут съесть дополнительную миску этого варева, или наколоть кубометр дров. Я и решил: чем мордоваться с дровами, так лучше управлюсь с миской, а картошка в глотку не лезет!
Вслед за Толкуновым пришли Каргополов с Лелей. Не раздеваясь, они ввалились в новую комнатушку с криком:
— Ну, где тут наша долгожданная землячка?
Леля шагнула навстречу Настеньке, без обиняков сказала:
— Ну, здравствуй, Настя, с приездом тебя! — И, обняв, поцеловала. — Я — Леля, из Новочеркасска, а это мой муженек, Иван. Наверное, Зоря рассказывал тебе про нас?
— Ив письмах писал, и рассказывал, — говорила немного оробевшая Настенька. — Да я и сама вас знаю — по горкому комсомола. Я же была членом пленума…
— Постой, постой… — Леля внимательно поглядела на Настеньку. — Ведь это ты носила красный берет?
— А вот он. — Настенька кивнула на стену, где висела одежда.
— Скажи на милость! — воскликнула Леля. — Я же хорошо тебя помню. Вот чудеса! Сколько слышала о тебе от Зори и никогда бы не подумала, что та Красная шапочка и есть его невеста!
— Ну, а когда свадьба? — спросил Иван.
— Я пока тут гостья. — Настенька зарделась.
— До Нового года осталось три дня, — смущенно сказал Захар. — Может, в новогодний вечер?
— «Может, может»! — озорно передразнила его Леля. — Говори точно.
— Ты, Леля, как сварливая теща, — усмехнулся Захар. — Вот подай ей свадьбу — и все! Надо же подготовиться — ведь вся коммуна будет на свадьбе.
— Так о чем же я говорю? — набросилась на него Леля. — Мне же придется готовить, доставать продукты. Договорились — под Новый год?
— Так и решим. А? — Захар обнял Настеньку за плечи, заглянул ей в глаза.
— Меньшинство подчиняется большинству, — отвечала она, смеясь.
Появление Настеньки сразу же сказалось на поведении коммунаров. Уже в первый вечер то один, то другой с тайным любопытством поглядывал на дверь только что отгороженной комнатушки — не появится ли там она? Умывались, причесывались с особым усердием, говорили и смеялись приподнято, громче обычного. После ужина то у одного, то у другого вдруг оказывались неотложные дела к Жернакову. Все шли в комнатушку, пока Федя Брендин не зашипел:
— Ну что вы, ей-богу, белены объелись? Вынь да положь им бригадира!
— Очень симпатичная, чертовка, — не слушая Федю, шепотом отвечал Харламов, только что заглянувший к бригадиру. — И чувствуется — простецкая, наша. А ведь техник! Гарную дивчину отхватил Захар!
За полтора года, что прошло на стройке, ребята были лишены очень многого, необходимого в жизни: домашнего уюта, развлечений, вовсе не бывали в обществе девушек — среди мобилизованных комсомолок насчитывалось совсем немного. Поэтому, когда в коммуне поселилась Настенька, каждый старался чем-нибудь услужить невесте друга, перекинуться с ней словом, обратить на себя ее внимание.
Ко всеобщей радости, Настенька оказалась веселой и общительной. Уже на следующее утро отскоблила добела и вымыла стол, отчистила от застарелой копоти кастрюли, чайники, жестяный противень, заменяющий сковородку, откипятила и выстирала поварской фартук и колпак. Дежуривший в этот день Тимофей Харламов впервые за свою кулинарную практику не поджег перловую кашу и избежал наказания.
А в новогодний вечер сыграли свадьбу. Накануне Захар с Толкуновым сходили в нанайское стойбище и привезли на санках мешок мороженой рыбы и медвежью лодыжку. Леля Касимова, которая заведывала столовой ИТР, добыла бачок спирта, пять килограммов конфет-липучек и печенья. До самого утра кипело веселье, и Федя Брендин почти доконал постройкомовскую гармошку.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
О женитьбе Захара Любаша узнала от Пригницына, завернувшего к ней на почту.
Эту весть Любаша встретила с видимым безразличием: «А мне какое дело!» Но, придя домой, уткнулась в подушку и горько разрыдалась.
В тот же вечер, встретившись с Захаром в техникуме, она отвернулась от него и даже не ответила на поклон.
Пригницын теперь не отходил от Любаши, хотя она говорила сердито: «Ой, Колька, ну что ты болтаешься, как овечий хвост!»
Техникум и вечерняя школа, где учился Пригницын, помещались в одной избе, и каждую перемену он бежал к Любаше. Даже по воскресеньям стал без всякого приглашения захаживать к Рудневым: придет, посидит, а потом то дров наколет или воды натаскает, а то поможет Никандру по хозяйству — чистить стайку у коровы или еще что-нибудь. И почти всегда он являлся с подарком Любаше или с махоркой для Никандра.
— Га, а мне на кой копить гроши! — похвалялся он. — Зарабатываю хорошо, живу один, зачем мне гроши?
Ни с того ни с сего он стал звать Никандра папашей, а Феклу — мамашей.
Постепенно у Рудневых к нему привыкли и перестали тяготиться им. Даже в иное воскресенье, когда Пригницын запаздывал, Фекла говорила Любаше:
— Чтой-то твой цыганенок не идет…
— Да ну, мама! — Любаша капризно морщила пунцовые губы, а сама нет-нет да и глянет украдкой в окно.
Как-то за ужином Никандр сказал:
— Опять о нашем цыганенке прописали в газете, ударником величают.
— А это правда, что он ударник? — спросила Любаша.
— А чего ж не правда? Парень выхаживается. В самом деле, видать, сурьезным вырастет.
В канун Дня Красной Армии Никандр, придя обедать, сказал Фекле:
— Ведь вот чертяка, Колька-то наш! Принесли утром пригласительные билеты на вечер, так он выклянчил и для себя и Любки. Говорит: «Не имеете права не давать моей невесте…» Придет Люба, скажи, чтобы собиралась на вечер, — Колька наказал.
К тому времени на стройку пришли последние батальоны военных строителей. Закончился труднейший ледовый переход. Пройдут годы, и его назовут легендарным. И это будет справедливо: шесть тысяч комсомольцев-красноармейцев с полной боевой выкладкой прошли пешком около четырехсот километров в лютые морозы, в пургу, утопая в снегах. И за время перехода ни один боец не выбыл из строя.
Теперь Комсомольск не испытывал недостатка в рабочей силе. Возникали новые участки промышленного и жилищного строительства. Готовились проекты застройки жилых кварталов рублеными и многоэтажными каменными домами.
День Красной Армии было решено провести с большой торжественностью.
Пригласительные билеты на вечер получили и Захар с Настенькой. Захар ждал с нетерпением этого вечера. У него было такое чувство, будто он готовится к встрече с тем милым сердцу боевым братством, с которым расстался так давно и так недавно.
Нет, два года не были прожиты впустую! За это время Захар открыл для себя новый мир чувств и мыслей. Он стал рабочим.
Когда-то, изучая политграмоту, он, казачонок с Дона, за этим словом смутно угадывал нечто суровое, исполненное решимости и самопожертвования, и, если говорить правду, холодное и, может быть, жестокое в самом своем существе. Теперь он сам стал рабочим. И постепенно слово «рабочий» становилось все более близким и осязаемым, и как-то незаметно Захар привык к нему. Именно привык, а не почувствовал значения этого слова. Но шло время. Захар стал ударником, и его имя все чаще появлялось в газете, произносилось на торжественных собраниях, и он вдруг понял истинный смысл этого, некогда далекого, а теперь родного слова — «рабочий». Так это же все: и он, и Иван Каргополов, и покойный Коля Бонешкин, и Мишка Гурилев — все они, такие обычные и вместе с тем такие разные, — это они и есть рабочие!
Может быть, именно поэтому и было у него такое чувство — тревожное и светлое, и уже больше не казалось столь роковым его падение с конем в кавшколе.
Захар вернулся с работы раньше Настеньки и по холостяцкому обычаю сам принялся разглаживать костюм. Богу одному известно, где и как добыла Настенька утюг, но сейчас он оказался очень кстати. Когда Настенька пришла домой, румяная и с инеем на воротнике, Захар уже доглаживал брюки, превращая складки в настоящие лезвия.
— Как ты хорошо умеешь гладить, Зоря! — говорила Настенька, раздеваясь.
— Это еще из кавшколы. — Захар старательно нажимал на утюг.
— Сколько времени в нашем распоряжении?
— Еще час. Давай, что тебе гладить?
Пока Настенька причесывалась, на столе уже лежало ее самое любимое клетчатое платье.
— Ты готовь ужин, а я поглажу, — говорил Захар, усердно налегая на утюг.
И вот они торопливо шагают по скрипучему снегу.
— Я так волнуюсь, Зоря — говорит Настенька. — Там, наверное, все будут хорошо одеты, а я…
— Лучше тебя все равно никого не будет. Во всяком случае, для меня. Или ты хочешь понравиться еще кому-нибудь? Прозорову, например?
— Не говори глупостей, — хмурится Настенька. — Что мне Прозоров?
— Молчу, молчу, — поспешно отступает Захар.
В фойе гремел духовой оркестр, когда они подошли к кинотеатру «Ударник». У входной двери стоял шум, кто-то скандалил. Голос показался Захару знакомым. Так и есть, Пригницын!
— Га, ну и что же, что мужская фамилия? — кричал тот. — Чудак человек, да это моя невеста, а билет мне отдал товарищ. Понимаешь или нет? Я же ударник! — убеждал он билетера. — Пригницын моя фамилия, небось читал в газете?
Захар так и замер на месте, увидев Любашу позади Пригницына.
— Ну, чего ты, Зоря! — подталкивала его Настенька. — Проходи же!
У Захара будто язык отнялся. Ему было и жаль Любашу, и боязно было, что Настенька что-нибудь поймет. Но вот билетер пропустила Пригницына и Любашу. Захар заметил, как она мельком бросила взгляд в его сторону. О, сколько огня было в этом взгляде! Что было в нем — ненависть, упрек, презрение? Долго ощущал Захар на себе этот непонятный взгляд и тяготился им.
В фойе, где гремел духовой оркестр, Настенька спросила:
— Что с тобой, Зоря?
Но тут подошел Прозоров, внимание Настеньки перешло на него.
Захар рассеянно слушал их разговор, но не улавливал смысла слов. В душе бродили тревожные чувства, вызванные воспоминаниями.
В это время кто-то хлопнул его по плечу. Обернувшись, Захар увидел Мишу Гурилева. Безупречный черный костюм, ослепительно белая рубашка, черный галстук, гладко зачесанные назад иссиня-черные волосы. Гурилев весь сиял.
— Захарка, черт! — шумел он. — Так я ж тебя не видел сто лет! А это вот знакомься — моя женка, Катерина!
С этими словами Миша подтолкнул к нему совсем юную женщину — миниатюрную, стройную, как лозинка, красавицу с беленьким круглым личиком, на котором вызывающе алели припухшие губки, горячо светились большие глаза.
— А это моя жена, — беззаботно смеясь, сказал ему в тон Захар, показывая на Настеньку, беседовавшую с Прозоровым.
Прозоров молодцевато вытянулся. Его синие глаза, гладко бритые щеки, начищенные пуговицы гимнастерки, новые комсоставские ремни, шпалы на черных петлицах — все так и сияло.
Гурилев оробел, пожимая руку Прозорова.
Пока они знакомились, оркестр заиграл вальс. Гурилев с подчеркнутой галантностью извинился, подхватил свою Катерину и бешено закружился с нею.
Захар, Настенька и Прозоров, оставшись втроем, смолкли. Их словно сковало. Настенька ожидала, когда кто-нибудь из двоих пригласит ее на танец. Но она знала, что Захар не умеет танцевать, и понимала, что Прозоров, который наверняка танцует, стесняется пригласить ее.
— Ты еще не научился танцевать, Зоря? — спросила она мужа.
— Да нет, — уныло ответил он. — Игорь Платонович, наверно, танцует? — Он добродушно посмотрел на Прозорова.
Прозоров встрепенулся, посветлел.
— Если позволите…
— Да, пожалуйста.
— Разрешите, Анастасия Дмитриевна?
Щеки Настеньки вспыхнули. Она бросила смущенный взгляд на Захара и подала руку Прозорову. О, сколько самозабвенной легкости было в их фигурах, на их лицах, когда они плавно поплыли по кругу! С завистью смотрел Захар на Прозорова. Как он танцевал! Поистине в этом человеке все было гармонично: и внешность, и ум, и деловые качества, и непостижимый такт в поведении.
А в фойе становилось все многолюднее. Захар увидел в толпе одинокого Ставорского. За его спиной стояли Лариса Уланская и начальник штаба бригады — черноусый украинец средних лет с тремя шпалами в петлицах.
Уланская пленяла скромностью своего наряда: на ней было прямое, вишневого цвета платье, подчеркивающее гибкий стан, и никаких лишних украшений. Захар долго не мог оторвать от нее случайно брошенного взгляда — столько было в ее цыганских глазах страсти, задора, веселья.
Уланская и начштаба пошли танцевать. Захар поглядел в другую сторону и увидел Платова с женой. Против них стоял интеллигентного вида человек, на петлицах которого вишнево алел «ромб». Так это же сам командир бригады Малинников! Больше ни у кого не было «ромба». Они очень горячо о чем-то спорили.
До слуха Захара долетели обрывки фраз:
— Ну так это же наша, одиннадцатая!
Это говорил Малинников.
— …об этом и речь, — гудел Платов. — Ну, а эту особу ты не помнишь?
Командир бригады обернулся к его жене, Анне Архиповне.
— Не помню, Федор Андреевич! Прямо скажу, не помню!
— Ну, а бой у Котельникова помнишь?
— Так я же там был ранен!
— Ну вот. И я тоже там был ранен, а потом в плен попал к белоказакам. Думал — уже все. Лежал в каком-то сарае, слышал разговоры, что нас скоро расстреляют. И тут вдруг тридцать третья кубанская, помнишь?
— Еще бы! Красные дьяволята!
— Не дьяволята, а дьяволы. Ворвались в хутор, вырубили всех казаков и вызволили нас. Ну так вот, а Анна Архиповна нас, раненых, принимала уже от тридцать третьей кубанской…
Захара так и тянуло дослушать, о чем они говорят, но тут его оттеснили, и он потерял нить разговора и снова стал следить за тем, как танцуют Прозоров и Настенька. Они продолжали кружиться. Захару даже почудилось, что Прозоров прижимает к себе Настеньку. А может, нет, может, ему просто показалось?
Потом оркестр смолк, и кто-то объявил, чтобы заходили в зал.
Захар, Настенька и Прозоров сели рядом. С самого начала заседания Настенька взяла в свои ладони руку Захара и не выпускала — поглаживала, перебирала его загрубевшие пальцы. Захар заметил, что Прозоров косит глаза на руки Настеньки.
После докладчика на трибуне появился горячий, скорый на слово молодой командир.
— Командование и политотдел бригады награждают лучших ударников стройки за своевременную подготовку казарм!
И он начал называть имена:
— Алексей Самородов! Федор Брендин!
Они поднялись, прошли к сцене, приняли какие-то свертки.
И вдруг Захар услышал:
— Товарищ Жернаков, Захар!
— Ну идите же, Захар, — подсказал Прозоров оцепеневшему соседу.
Захар вышел из ряда, приблизился к трибуне, принял подарок. И только тогда опомнился, когда сел рядом с Настенькой.
Настенька развернула сверток — и ахнула: там были новенькие хромовые сапоги.
— Только шпор не хватает, — улыбнулся Захар.
Прозоров пощупал кожу голенищ.
— Комсоставские!
ГЛАВА ПЯТАЯ
С Амура дул ледяной ветер, гнал поземку. Санную дорогу перемело. Идти было трудно — сухой, как песок, снег предательски расползался под ногами и не давал шагу ступить. Двигались гуськом. Каргополов, за ним Захар проминали след. По пятам плелись Настенька и Леля, закутанные в платки. Настенька не выдержала, взмолилась:
— Ой, дайте дух перевести! Сердце зашлось!
Постояли, отдышались.
— Это у тебя, Настя, от танцев с чужими молодыми людьми, — с мрачной назидательностью сказала Леля и накинулась на Захара: — Слушай, Зоря, почему ты разрешаешь ей весь вечер танцевать с этим красавчиком? Ей-богу, он ей голову вскружил! Меня не проведешь — я все вижу.
— Ерунду говоришь, Леля, — вступился Захар за жену. — Я знаю его, это хороший парень, военный инженер. Настенька у него работает.
— А чего ты мне объясняешь? — набросилась на него Леля. — Будто я сама не знаю! Они же ехали вместе целый месяц — от Москвы до Комсомольска. Ой, Зоря, хлопаешь ушами. Смотри, не прохлопай молодую жену.
На Лелю никто не обиделся: и Захар и Настенька хорошо знали ее грубоватое прямодушие. У барака Леля остановилась.
— Знаете что, ребята, ведь завтра выходной. Давайте зайдем к нам, поужинаем вместе. По секрету скажу — я зажилила у начальства бутылку портвейна!
— Молодец, Леля! — воскликнул Захар. — Не было бы Ивана и Настеньки, поцеловал бы я тебя!
— Кто? Ты, Зоря? Ой, удивил! Ты же трус, только храбришься! А вот я, когда целовала тебя — помнишь за медвежью шкуру? — не поглядела на Ивана.
В бараке стоял собачий холод, — дежурный спал, в железных печах едва теплился огонь. Каргополов и Захар быстро растопили печи, отругали дежурного, а через минуту Захар уже натягивал сапоги.
— Ты скажи, Иван, точно по ноге! — скрипя подошвами, кричал он Каргополову через дощатую перегородку. — Будто по заказу! Даже с запасцем на тонкую портянку.
— Оно так и есть, — отозвался из-за перегородки Каргополов. Он тоже надел сапоги. — Я сам сообщил размер твоей ноги.
Скоро они щеголяли перед молодыми женами в отличных комсоставских сапогах.
— Захару идут, — заметила Леля, — а тебе, Ванюша, нет, больно длинноногий ты, да и выправки у тебя никакой.
— Ничего, я и длинноногий сведу с ума всех девок, — говорил Каргополов, вышагивая по комнате и любуясь сапогами.
Леля и Настенька собрали все съестное и расставили на столе миски и тарелки.
В центре появилась бутылка портвейна, игравшая при свете лампочки рубиновым отливом. Но в самую последнюю минуту вдруг оказалось, что открывать ее нечем, — ни у кого не было штопора. Выручил охотничий нож Захара.
— Ребята, первый тост мне! — объявила Леля, когда Иван разлил вино по граненым стаканам. — Ребята, честное слово, я очень люблю Красную Армию, — продолжала она, подняв полный стакан. — Я же помню беляков, помню зверства деникинцев… И вот теперь, когда гляжу на красноармейцев, они мне как братья! Давайте выпьем за них, за этих славных ребят. Я уверена, что если надо будет воевать, они станут храбро сражаться.
Она потянулась к Захару, вся румяная, возбужденная.
— И за тебя, Зоря, ведь ты тоже славный парень, хотя и не вышло из тебя воина.
— И за премию, — поддержал Захар. — Она тоже военная!
Выпили залпом, как воду. Откуда им было знать, этим людям сурового времени, как надо пить дорогое вино! О таких деликатесах ребята еще и мечтать не смели.
Захмелели быстро.
— Я тебе сознаюсь, Настенька, — говорила Леля, взмахом головы откидывая назад пшеничную россыпь стриженых волос, — когда-то я была влюблена в Зорю… А ты, Ванюша, не гляди на меня зверем!
— Зарэжу! — Каргополов сделал страшное лицо и ухватился за нож.
— Да только он, окаянный, — продолжала Леля, — на меня внимания не обращал.
— А мне-то писал, — Настенька лукаво покосилась на Захара, — что на стройке совсем нет девушек.
— Послушайте, ребята, — перебила Леля, — ведь скоро вторая годовщина нашего приезда сюда. Такое ведь событие! Давайте что-нибудь придумаем насчет того, чем встретить этот день, а?
— Заварить браги бочку! — предложил Каргополов.
— Не говори, Ваня, глупостей.
— А какие же тут глупости? Вон Кузнецовы, аникановская родня, к каждому празднику заваривают сорокаведерную бочку браги. Андрей-то с чего, думаешь, хмельной каждый праздник?
— А где же они берут сахар?
— А черт их знает! Кланька, наверное, ворует, да и сам старик трется постоянно у кухни в рабочей столовой. Он же возчиком там.
— Все это глупости, — отмахнулась Леля. — Я говорю серьезно. Во-первых, давайте общими силами оштукатурим и побелим наши комнаты, чтобы чисто и уютно было. Во-вторых, вы плохо учитесь, Ванюша и Зоря. Давайте напишем договор на соревнование — закончить вам на «хорошо» и «отлично» первый курс техникума. Ведь два года сидите все на первом курсе.
— Ты же знаешь почему, — заметил Захар.
— Знаю, прошлую зиму на Пивани лес штурмовали. А эту зиму?
— В эту зиму закончим. Как, Иван? — Захар посмотрел на Каргополова.
— Леля говорит дело, — согласился тот. — У меня, например, шибко много «хвостов».
— Принимаю предложение, Леля, — объявил Захар. — Еще что, домашний комиссар?
— Еще вот что. — Леля улыбчиво сощурила свои синие, с прозеленью глаза. — Мы очень мало занимаемся спортом, особенно летом, на воде. У меня такое предложение. Вы оба хорошие плотники. Сделайте хорошую лодку на четыре весла. Вот уж покатаемся летом по Амуру! Ведь такое раздолье, а мы не пользуемся. Будем ездить с ночевкой на рыбалку — благодать!
— А что, ей-богу, недурное предложение! — загорелся Захар.
Они еще долго обсуждали программу на лето, хвалили Лелю.
— Ребята, — спохватилась она, — какую я вам новость сообщу! — Леля перешла на шепот: — Есть официальное письмо в рабкоопе, что в конце этого года отменят карточки на продовольствие. А сейчас уже открыты во всех городах коммерческие магазины, где продукты продают без карточек, но по повышенным ценам. Вот жизнь-то пойдет!
— Добрая весть! — Захар посмотрел на Настеньку. — А ты говорила…
— Что такое? — Леля вопросительно взглянула на Настеньку.
— Да это наше, семейное дело, — смущенно сказала та и покраснела.
— Да уж чего там скрывать! — воскликнул Захар. — Пацан у нас будет… Ну, а Настенька загоревала, — трудно, мол, жить. Я ей доказываю, что жизнь скоро улучшится. А она не верит. Теперь веришь? — Он обхватил Настеньку за плечи.
— Поживем — увидим. — Настенька сняла Захарову руку со своих плеч. — Наверное, пятно оставил на платье.
— Новое купим! — дурачился Захар. — Ну так что ж — за наши успехи! — Он поднял стакан. — Ведь недаром пятилетку выполнили, считай, за три с половиной года. Это же прямой результат, что карточки отменяют. Ох и заживем же, братцы!
Они выпили.
— И учиться надо, — говорил Каргополов, грызя голову толстолоба. — Ох как надо учиться! Ведь чем дальше, тем все больше нужны будут знания. Вот построим город, станет он таким, какой на архитектурном плане, — ведь картина! — а сами будем вахлаками, куда это годится? Квартиры — шик, асфальт, везде легковые автомобили, парки, дворцы культуры, институты. Словом, самый, можно сказать, натуральный социалистический город. Все будут учиться, будет во всем высокая культура, а мы останемся пошехонцами. Совсем негоже!
— Я после техникума в заочный институт поступлю, — сказал Захар.
— Хотя бы техникум сначала окончил! — усмехнулась Настенька.
— Ты, женушка, совсем меня не знаешь, — возразил ей Захар. — Если захочу, меня ничто не удержит. Вот увидишь! Это я пока перестраивался после потери кавшколы. Теперь я уже совсем оправился. Вот немного еще обстроимся, получим хорошую квартиру, так тогда только держи меня, я тебя в два счета обскачу!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Весна 1934 года была на редкость ранней и дружной. Уже в начале мая Амур очистился ото льда, а вскоре весь берег возле Комсомольска был заставлен пароходами и караванами барж. Днем и ночью шла разгрузка, на добрый километр берег оказался заваленным ящиками, мешками, балками таврового железа, кирпичом, цементом, а число барж не убывало — подходили новые караваны.
В июне прибыло пополнение — пять тысяч комсомольцев. Много народу приезжало и без всякой мобилизации: по вербовке ехали целыми семьями.
Строительная площадка расширялась на глазах. Все пустыри покрывались горами земли, вынутой из котлованов, строительными лесами. В восьми километрах от центра, за Силинской поймой, разрастался новый городок. Там началось строительство крупного завода, одного из двадцати промышленных предприятий, запроектированных для будущего Комсомольска.
Три участка были объявлены ударными: завод, поселок для инженерно-технических работников — «Аварийный» и «Брусчатка» — кварталы рубленых домов с квартирной системой и паровым отоплением. На эти три участка были стянуты все лучшие силы строителей, главным образом комсомольцы и военные.
Среди прорабов, посланных на «Брусчатку», был и Прозоров. Вскоре в том же прорабстве оказалась и Настенька. Еще раньше на этот участок перевели со строительства поселка четыре плотницкие бригады, в том числе бригаду Жернакова.
Как это часто бывает, когда создается новый строительный участок, дело вначале не клеилось: землекопы запаздывали с подготовкой котлованов, не хватало битума для обмазки стоек, и стойки приходилось обжигать на кострах, но не хватало и дров для обжига. Плотницким бригадам приходилось копать землю и таскать брусья.
А лето стояло сухое и жаркое. Комсомольцы работали в майках, кожа почернела от загара и дыма костров, майки не просыхали от пота и белели от выступившей на них соли.
В один из таких жарких дней, незадолго до конца работы, на «Брусчатке» появилась легковая машина «газик», или «козел», как назывались тогда эти машины.
— Платов с Саблиным приехали!
Но ни Платов, ни Саблин не подошли к бригаде Жернакова. Когда же прозвенел рельс — сигнал к окончанию рабочего дня, к Захару прибежал посыльный из конторки.
— Жернаков, на производственное совещание! Собирают всех десятников и бригадиров.
— Слушай, Захар, ты обязательно выступи, — напутствовал его Харламов. — Скажи, что если так дело и дальше пойдет, особенно если нам и наперед таскать брусья за версту, то мы скоро потеряем свои книжки ударников.
Возле конторки прорабства собралось уже довольно много народу, когда туда подошел Захар.
Совещание проходило под открытым небом, его участники сидели на бревнах, на пнях.
Первым выступал Саблин.
— Это будет всего-навсего окраинный ансамбль, — говорил он, — который в будущем мы заменим каменными зданиями. Но для вас, друзья мои, привыкших строить шалаши да бараки, «Брусчатка» должна стать школой строительной культуры. Тут уже нельзя допускать такой работы, которая называется «тяп-ляп». Вы строите себе новое, настоящее жилье, со всеми бытовыми удобствами, и надлежит позаботиться о том, чтобы вам же было во всех отношениях удобно.
Потом докладывал Прозоров. Он говорил о состоянии дел на участке. Захару показалось, что он либо плохо знает обстановку, либо скрывает от начальства собственные недостатки, объяснял все «организационным периодом».
«Ну, нет! — думал Захар, слушая слишком складную речь прораба. — Из этого у тебя ничего не выйдет!»
Как всегда, горячую речь закатил Аниканов и, как всегда, закончил ее лозунгами: «Ни одного строителя не должно быть не охваченным соцсоревнованием! Да здравствует славный отряд строителей «Брусчатки»!» Аплодисментов, на которые — это было видно по всему — рассчитывал оратор, не последовало. Неискренний, дежурный пафос речей Аниканова никого не волновал.
— Неужели у вас здесь все так хорошо, что никто не говорит о недостатках? — спокойно спросил Платов, ни к кому не обращаясь.
— Не совсем, Федор Андреевич, — ответил Каргополов. — Разрешите мне?
Его речь была неторопливой, раздумчивой.
— У меня сложилось такое впечатление, — говорил он, — что на участке еще нет настоящего хозяина. Товарищ Прозоров отсиживается в конторке, товарища Липского вообще трудно найти, он появляется здесь как молодой месяц, техник Жернакова ходит как неприкаянная, ей попросту делать нечего, так как планировку ребята и сами хорошо знают… И дело тут вовсе не в «организационном периоде», Игорь Платонович. По-моему, руководство почти не занимается снабжением участка необходимыми строительными материалами и плохо распределяет их по строительным объектам.
Потом выступал Захар.
— Я вижу тут, на столе, карту. Разрешите, Викентий Иванович, показать по карте, как ведут пути к нашему участку.
— Пожалуйста! — воскликнул инженер и сам помог Захару держать карту.
— По схеме подъездные пути, — продолжал Захар, — вот видите, перерезают «Брусчатку» в трех местах между будущими домами, а одна дорога окольцовывает весь поселок. А что есть на самом деле? Только кольцевая дорога и одна средняя, внутри участка. И получается, что половина домов находится в стороне от путей. И нам приходится на своем горбу таскать бревна!
— Так ведь это же вредительство! — возмутился Платов.
— Об этом не раз говорили технику Жернаковой и прорабу Прозорову, — продолжал Захар. — Все об этом говорят, а дело не делается.
Поднялся шум.
— Правильно!
— Не обращают внимания!
— Я еще не закончил, товарищи, — продолжал Захар. — Если говорить по правде, то я считаю неверной и ту схему дорог, которая предложена проектировщиками. Мне кажется, что не нужна была ни кольцевая дорога, ни поперечные. Вместо них лучше провести две продольные дороги, которые бы соответствовали проезжим улицам и проходили бы вблизи всех домов.
— А ведь верно! — Платов уткнулся в карту. — Как вы думаете, Викентий Иванович?
— Да, идея верная, — подтвердил старый инженер, — абсолютно верная!
Совещание закончилось в сумерки, но люди не расходились, продолжая спорить. На фоне догорающего заката пластами висела пелена дыма над строительной площадкой.
Из тайги тянуло вечерним холодком. Покой и тишина спустились на стройку из-под темно-синего купола неба.
Захар, усталый, поджидал в стороне Настеньку. Ее, Прозорова и Липского распекал Саблин. Потом инженер подозвал к себе Захара.
— А скажите, мой старый приятель, — шутя обратился он, — товарищ Жернакова — ваша однофамилица, родственница или…
Он многозначительно умолк.
— Жена, — смущенно, баском, ответил Захар.
— Вот как! Ну что ж, хорошо! Кстати, вы по-прежнему бригадир? Учитесь? Жену догоняете? Обязательно догоните, иначе она вас будет под каблучком держать. — Саблин весело взглянул на Настеньку, лицо которой заливал румянец. И уже серьезно добавил, обращаясь к Прозорову: — Игорь Платонович, я знаю этого молодого человека с первых дней строительства, еще с шалашей. Это хороший строитель. Так вот, я назначаю его техником-десятником участка. Выделите ему целиком один дом, и пусть он будет на нем хозяином. Как вы смотрите на это, товарищ Жернаков?
— Трудно мне придется, Викентий Иванович, — сказал Захар, — но постараюсь справиться.
— Трудно было и с первого шалаша начинать, мой друг. Я ведь хорошо помню, как вас распекали на собрании. — Саблин хитруще улыбнулся. — Помните рогожное знамя?
По пути домой, держа Настеньку под руку, Захар говорил с горечью:
— Мало учусь, за лето все запустил.
— Ну, так это же каникулы, — возражала Настенька. — Начнется учебный год, и тогда наверстаешь. Мне ведь тоже надо учиться.
— А давай, знаешь, что сделаем? — Захар так и загорелся. — Давай составим расписание и будем заниматься хотя бы по часу, но каждый день, а?
— А кто нам будет обеды готовить да белье стирать, когда я буду учиться?
— Оба вместе! А что, разве я не делал все это, пока не было тебя?
Они уже подходили к бараку, как вдруг Настенька остановилась, ойкнула.
— Что с тобой, Настенька? — Захар встревоженно уставился на нее.
— Ворохнулся…
— Ворохнулся? — Захар ничего не понимал.
— Ребеночек…
— Больно тебе, Настенька? — Захар, потрясенный, осторожно обнял ее за плечи, сочувственно заглянул в глаза. Он решительно не знал, чем может помочь.
— Не беспокойся, дурачок… — Настенька прижала его голову к груди, поцеловала. — Вот тебе и «расписание»!..
— А скоро он появится?
— Скоро, Зоренька, теперь скоро.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В конце октября в семье Жернакова произошло сразу два больших события: Настенька родила дочку, и они получили комнату в новом рубленом доме.
— Мне тоже дают комнату, — сказал Каргополов. — Поскольку квартиры двухкомнатные, с общей кухней, давай на пару займем одну квартиру, а?
— Так это замечательно! — воскликнул Захар. — В каком доме?
— А вон, в двадцать шестом, который ты строил.
В тот же вечер они начали переселение. Большие окна, батареи парового отопления, крашеные полы, просторная кухня — квартира показалась им настоящим раем!
— Ну что, ребята, — говорила Леля, когда немудрящая мебель была расставлена, — начинаем жить по-людски. Новоселье справлять нужно?
— Дождемся Настеньку с Наташкой, — предложил Захар. — Заодно и рождение отметим.
— Ишь ты, какой жмот! — набросилась на него Леля. — Хочешь «одним махом всех побивахом»? Не выйдет! Новоселье само по себе, а рождение само собой.
Наконец Захар привез Настеньку и Наташку из родильного дома. Бережно неся крохотное существо, затерявшееся где-то внутри свертка из множества простыней, он не чаял минуты, когда можно будет развернуть и разглядеть эту диковинку. Нет, не отцовское чувство руководило им — этого чувства он попросту еще не испытывал. Было просто интересно. Правда, его волновала трепетная жалость к Настеньке и к этому невесомому существу, которое называлось совсем непривычным словом «дочка», и еще тревожило чувство ответственности. Именно это чувство заставило его провести три вечера в столярной мастерской, сколотить и покрасить детскую кроватку-качалку. Теперь она — сюрприз для Настеньки — стояла возле стены у изголовья кровати.
— Как тут хорошо, Зоря! — с тихим восторгом говорила Настенька, оглядывая квартиру. — И тепло, печку не надо топить. А это ты сам сделал? — удивилась она, остановившись возле кроватки.
Захар принялся было раскутывать Наташку, но Настенька прогнала его. Опьянев от свежего воздуха улицы, Наташка продолжала беспробудно спать. Захар вглядывался в ее круглое личико — еще красное, с пухлыми щечками, малюсеньким носиком и крепко смеженными безбровыми глазенками. Никогда еще не видел он человека в таком возрасте и теперь не мог оторвать глаз. Теплая волна прихлынула к сердцу, и оттого еще роднее, еще ближе ему стала Настенька — Настенька-мать…
— Нравится она тебе, Зоря? — спросила Настенька, когда Захар оторвал глаза от Наташки.
— Никак не пойму… Нравится? Нет, это не то слово. Вот тут что-то… — Он коснулся рукой груди.
Под вечер пришли друзья. И кто им сообщил? Первым ввалился Федя Брендин. Долго не хотел заходить в комнату, топтался в коридоре, повторяя:
— Холодный, холодный я, понимаешь? Да и грязный, с работы прямо, — оправдывался он. — Я насчет того, как тут у вас с бельем, кроваткой, или еще что нужно?
Отворилась дверь, и сразу затопало множество ног: вошли Харламов, Толкунов, секретарь бригадной ячейки комсомола Терещенко, Иванка-звеньевой…
Пока гости робко толпились у кроватки и, вытягивая шеи, старались разглядеть существо, лежащее там, в коридоре снова послышались шаги. Дверь открылась, и показалась спина Пригницына в ватной стеганке. Он шел задом, держа за дужку большой таз из черной жести, полный каких-то свертков. Другая дужка была в руке Каргополова.
— Принимай, друг Жернаков, подарочек!
— Поздравляю, станишники! — послышался из коридора голос Аниканова. — А ну, показывайте казачку! — Он долго тряс руку Настеньке, потом Захару.
Леля Касимова обняла Настеньку, поцеловала в щеку и упала головой ей на плечо.
Иван Каргополов извлекал из таза свертки, выкладывал на стол.
— А это самое главное! — объявил он, потрясая над головой литровой бутылкой спирта. — В рабкоопе выписал, по распоряжению самого Ивана Сергеевича!
Настенька не знала, что делать. Ей было боязно и за Наташку, над ней нет-нет да и склонялся кто-нибудь холодный, пыльный после работы, и хотелось выглядеть радушной хозяйкой.
Леля уже орудовала у стола. На клочках газет и в шести тарелках появились куски хлеба, крупно нарезанная соленая кета — самый дешевый и популярный продукт, немного кетовой икры, соленые огурцы и капуста, липкие конфеты-подушечки, разномастные кружки и стаканы, какие только нашлись в квартире. А Иван уже тащил две доски и клал их на табуретки. Наконец все кое-как уместились за столом. Стаканами, вилками и ложками решили пользоваться поочередно.
Едва разлили спирт, как в кроватке послышался писк Наташки.
— Захарка, это она спиртишко требоват! — под общий хохот заявил Иванка-звеньевой.
— Кормить пора, — извиняющимся голосом сказала Настенька.
— Неси ее в нашу комнату!
Леля вскочила из-за стола, стараясь хоть чем-нибудь помочь Настеньке. Они вместе ушли в каргополовскую половину, и, когда приникшая к соску Наташка сладко зачмокала, глотая взахлеб, Леля оцепенела: она долго не сводила глаз с Наташкиного личика. Потом перевела взгляд на лицо Настеньки — бледное, посветлевшее, с запавшими, ставшими еще больше, еще темнее, полными тревожного счастья глазами. Леля села рядом на кровать, обняла Настеньку и горько расплакалась.
— Ты знаешь, врачи говорят, у меня не будет… Говорят, дистрофия какая-то. На почве голода в детстве. — Потом спохватилась, глотая слезы, сказала: — Извини, Настенька, тебе волноваться нельзя. Хорошо, хоть вот они будут иметь настоящее детство. — Одной рукой она вытирала глаза, другой нежно поглаживала одеяльце, в которое была завернута Наташка.
А в это время в соседней комнате неловко замолчали, не зная, удобно ли пить без тех, ради кого они собрались за этим столом.
— Ну, че, Захарка, командуй! — сказал, наконец, Иванка-звеньевой.
— Да, правда! — Захар поднял стакан. — Давайте выпьем.
— Дайте мне сказать, — потребовал Аниканов. — Без тостов неудобно. Откройте двери, чтобы станишница слышала. Настасья! — крикнул он. — И ты, Захар! По моим данным, это двадцать второй ребенок, который родился у нас, у комсомольцев призыва тридцать второго года. Так вот: пусть родится здесь столько же детишек, сколько приехало нас сюда. За будущих людей, которым жить в большом центре Дальнего Востока — в Комсомольске!
— А почему сам отстаешь? — с хитроватой мужицкой усмешкой спросил Брендин.
— Братцы, это не моя вина. Клавдия бастует, — под общий хохот оправдывался Аниканов.
— Ну ладно, давайте выпьем за здоровье Наташки, — вмешался Харламов, — а то этим перепалкам конца-края не будет.
Только выпили, как в наружную дверь кто-то постучал.
— Сиди, Захар, я открою, — сказал Каргополов.
За столом прислушались: кто пришел? О, знакомые голоса: мужественный баритон Прозорова и ломающийся, сдавленный голос Липского. Они долго раздевались и причесывались в коридоре, и все за столом сидели в молчаливом ожидании. Наконец инженеры вошли.
— А что, Захар, не привезли еще Анастасию Дмитриевну? — спросил Прозоров, оглядев разочарованно комнату. В руках он держал небольшой бумажный сверток.
— Привез, привез, Игорь Платонович. Она кормит Наташку, сейчас появится. Да вы садитесь, пожалуйста. Правда, обстановка у нас не совсем… — Захар смущенно усмехнулся, показывая на доски.
Прозоров и Липский с растерянным видом стояли посреди комнаты.
— А вы садитесь, — без обиняков пригласил Федя Брендин. — Чай, в своем отечестве…
Все сдержанно засмеялись. В это время вошла Настенька. Прозоров вспыхнул, но тотчас же взял себя в руки. Раскрасневшись от смущения, Настенька сказала:
— Извините, беспорядок у нас тут…
— Ничего, все хорошо, Анастасия Дмитриевна, — смягчая голос, проговорил Прозоров. — Мы к вам на минутку. Вот, пожалуйста. — Он протянул сверток Настеньке. — От нас с Леонидом Петровичем.
— Господи, зачем это! — Она робко приняла сверток.
— Это как раз то, чего не хватает у вас на столе, — сказал Липский и помог развернуть сверток. Бутылка кагора, коробка дорогих конфет, еще какая-то коробка, бархатная, с серебряной застежкой. Открыла ее Настенька, и вздох удивления вырвался у нее — набор серебряных вилок и ножей… шесть пар! Да, поистине только этого не хватало за скромным столом!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Под Новый год Андрей Аниканов получил письмо от отца. Оно было написано иносказательно, и не сразу сын разобрался в нем. Говорилось в письме о плохой погоде в Новочеркасске, о ломоте в пояснице, о том, что он, отец, теперь уже не строевой конь, а в конце спрашивал совета, не переселиться ли ему в Комсомольск?
Мучительно раздумывал Андрей над отцовским посланием. В конце концов, Андрей пришел к такому решению: если отца арестуют, в Новочеркасске или в Комсомольске — все равно, путь ему, Андрею, будет закрыт. Но только в Новочеркасске — сравнительно недалеко от родной станицы — положение отца более рискованно, чем здесь, на Дальнем Востоке. А тут отец может устроиться ничуть не хуже, чем жил на родине: по берегу Силинской речки недавно была отведена большая территория для желающих строить себе дома.
Аниканов посвятил в свои планы Кланьку и получил полное одобрение.
В субботний вечер молодая чета (они теперь жили в двухкомнатной квартире со всеми удобствами в поселке инженерно-технических работников) отправилась к старикам.
— Надо бы спирта взясти папаше. Поди, он уже в баньке попарился, — сказала Андрею жена, когда они проходили мимо «закрытого ларька». Так назывался магазин, снабжавший только «прикрепленных» к нему ответственных работников, в том числе, разумеется, и Аниканова.
— Взясти? Ну что ж, давай возьмем, — пробурчал Андрей. — Только, Клавдия, когда ты отвыкнешь говорить по-деревенски? Ты же меня компрометируешь.
— Не ругайся, Андрюша. — Кланька с собачьей покорностью заглянула ему в глаза. — Выпиши их мне, эти слова, на листке, чтобы я знала, какие они, деревенские, а я их выучу, как стишок.
Кланька угадала: отец только что вернулся из баньки-курнушки и теперь сидел под образами, красный, потный, и пил крепко настоянный чай, закусывая соленой кетой. Увидя заиндевелую бутылку, довольно крякнул, поставил блюдце на стол.
— И, скажи на милость, до чего же смышленые дети! — Погладил бороду-лопату, посмотрел бутылку на свет. — Христова слеза! А ну, мать, поворачивайся-ка поживей! Дочка, и ты тоже помоги матери!
И вот все сидят за столом, уставленным тарелками с солеными огурцами, кетовой икрой, нарезанным салом. Безбедно жилось Кузнецову — возчику столовой ИТР: на отходах столовой у него постоянно откармливалось три-четыре добрых кабана да две дойные коровы.
Аниканов начал с того, что прочитал вслух отцовское письмо.
— И вот, папаша и мамаша, я так решил…
Он в самых красочных выражениях изложил свой замысел: получить участок в Силинском поселке, срубить хорошие дома, настоящие курени, какие были у них на Дону, обзавестись животиной, развести огороды, даже фруктовые деревья посадить, и можно, ой, как славно зажить!
— А ведь дело говорит! — воскликнул захмелевший Терентий Кузьмич. — Я и сам об этом подумываю. Шибко хорошая голова у тебя, паря!
В тот же вечер произошло знакомство Ставорского с новым заместителем начальника Дальпромстроя Гайдуком.
Еще до его приезда на стройку Ставорский прослышал, что Гордей Нилыч — страстный любитель преферанса, а его жена — заядлая модница. И вот Уланская зачастила в дом, где в самой большой квартире поселилась семья Гайдука. И каждый раз в новом платье, одно другого моднее. Цель была достигнута: жена Гайдука обратила на нее внимание и пригласила к себе. Знакомство перешло в дружбу. Вскоре невзначай выяснилось, что друг Ларочки Ставорский — страстный преферансист, и в субботний вечер они собрались за «пулькой».
Перед тем как разойтись, распили последнюю бутылку коньяка. Гайдук, коротышка с круглым, как тарелка, лицом, был неиссякаем в остроумии. Чувствовалась в нем компанейская душа, способность быстро привязываться к людям.
— Дуже давно я не играл с такими гарными хлопцами. Особливо ты, Харитон Иванович, гарно маракуешь. И рыск маешь.
— Простите, Гордей Нилыч, — скромно спросил Ставорский, — вы, конечно, украинец?
— Ни, кубаньский казак, ажник из Темрюка. А шо?
— Да я как будто видел вас… В гражданскую вы где воевали?
— В Таманьской армии, у Ковтюха. Мабудь, и ты там був?
— Нет, я у Котовского в бригаде командиром эскадрона служил.
— Орденок виттыль? — Гайдук кивнул на орден в пунцовом ободке, с которым Ставорский никогда не расставался.
— Да, за взятие Одессы.
— А послухай, Харитон Иванович, — горячо заговорил Гайдук. — А шо, если бы тебя передвинуть опять на военное дело? Якое? А ось якое: по указанию звыше мы должны создать сильную охрану усих промышленных объектов. Треба сорганизовать сильный отряд военизированный. Отряду тому нужен хороший боевой командир. Чем просиживать тебе штанци у сему отдили снабжения, мабуть, пошел бы ты командиром?
— Надо подумать, Гордей Нилыч, — скромно сказал Ставорский, стараясь ничем не выдать своего радостного волнения. Ведь из-за того и заводил он знакомство с Гайдуком, чтобы произвести на него впечатление.
— А шо думать? С боевым опытом командира эскадрона в отдили снабжения тебе робить нечего. Кстати, ты коммунист, Харитон Иванович?
— Вступал в партию на фронте, да не успел получить партийный билет — был ранен и потерял связь с частью, — с горечью ответил Ставорский. — Потом как-то затянул с этим делом, а теперь вот и вовсе прием прекращен.
— Ну, это не беда! — старался утешить его Гайдук. — Як тильки откроется прием, первый дам тоби свое поручительство. Ну так шо, решим?
— Хорошо, Гордей Нилыч, согласен. — Ставорский легонько хлопнул себя ладонями по коленям.
Вскоре был отдан приказ о назначении Ставорского Харитона Ивановича командиром отряда военизированной охраны. Вторым пунктом приказа командиру ВОХРа предлагалось в месячный срок произвести комплектование отряда и список представить на утверждение.
Одной из первых в списке оказалась фамилия Рогульника Архипа.
Штаб ВОХРа обосновался в одинокой избушке, стоявшей на отшибе, в нижнем конце Пермского, старенькой, покосившейся, с подслеповатыми маленькими окнами. Ставорский сам подбирал помещение, сам же руководил его ремонтом и оборудованием. Все делалось так, как требовали его интересы.
Но не все пошло гладко у Ставорского. Вскоре после того, как он окончательно переселился в избушку со своей немудреной канцелярией, произошло событие, чуть не закончившееся крахом для самого Ставорского.
Случилось это утром. Ставорский и Рогульник вдвоем находились в штабе. Они уже получили обмундирование и оружие, и теперь Рогульник, только что привезший ящики с винтовками, носил их в избушку. Сам Ставорский, поскрипывая новенькими ремнями, ладно облегавшими его литую фигуру, ставил винтовки в пирамиду, сверяя по акту номера оружия.
Когда винтовки были расставлены и Рогульник отпустил подводу, Ставорский сказал ему:
— Ну, теперь выбирай себе, какая нравится.
Пока Рогульник перебирал винтовки, в дверь вошел плюгавенький, но шустрый мужичонка в рваном ватнике, клочкастой шапке-ушанке, в стоптанных сапогах. Увидев командира, мужичонка ловко откозырял.
— Разрешите обратиться? Я слышал, что вам требуются бойцы военизированной охраны.
Ставорский уселся за огромный письменный стол, важно кивнул на табурет:
— Садись. Давай документы.
— Документов при мне нет, товарищ командир. Я только что приехал с запада по вербовке. Если нужно, можно взять их в отделе кадров. Вот справка. — Он протянул бумажку.
— Семейный?
— Здесь — одинокий. Семья пока там осталась.
Прочитав справку, Ставорский поднял голову. Его словно что-то толкнуло: мужичонка во все глаза смотрел на него.
— Постой, постой… Да ты… ты же белый офицер, сволочь, палач! — истошным голосом заорал мужичонка. — Слушай, братишка, — бросился он к Рогульнику, — это душегуб, он матросов вешал!
И кинулся к пирамиде с винтовками.
— Рогульник! — крикнул Ставорский.
Но тот уже понял все. Ударом приклада в затылок он сбил человека с ног.
— Бей по голове! Бей насмерть! — приглушенно кричал Ставорский.
Мужичонка оказался на редкость живучим, он вновь и вновь пытался подняться, и только после четвертого или пятого удара вытянулся, судорожно распростер руки, да так и остался лежать.
Ставорский кинулся к наружной двери, запер ее, открыл подполье.
— Скорее сюда! Я сам спущу, сам! Быстро воды! Тряпку. Смой кровь… Дверь никому не открывай!
Когда управились, Ставорский опять сел за стол и, вытирая со лба пот, долго не мог прийти в себя.
— Вот сволочь! — бормотал он. — И откуда черт принес? Завтра получишь тысячу рублей, — сказал он Рогульнику, отупело сидевшему на подоконнике. — А сегодня ночью оставлю тебя охранять штаб, так ты до утра поруби его и потаскай в мешке в прорубь. Туда, ближе к рассвету…
— Так кровь же на нем, Харитон Иванович…
— К ночи застынет. Ох, подлец, и как это он опознал меня?
— А вы отпустите усы и бороду, Харитон Иванович.
— В том-то и дело, что я тогда носил усы. Вот что, Архип, без моего ведома ничего такого делать не смей! Есть директива — прекратить на время всякую деятельность. То же передай Пригницыну. И пускай не уходит никуда с конного парка.
Это случилось в тот год, когда был убит Киров.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В июне у Рудневых играли свадьбу — Любаша выходила за Пригницына.
Гостей — полная изба. Тут и вся семья Кузнецовых, и Кланька с Андреем, и Андреев отец с матерью, недавно переехавшие в Комсомольск. Тут же и Рогульник с какой-то девицей, басовитый хохот которой заглушал мужские голоса. Тут и Савка Бормотов со своей забитой, бессловесной Гликерией.
А вот и сам жених. Как он изменился за эти три года! На Пригницыне черный костюм грубоватого, но вполне приличного сукна, белая рубашка с галстуком, на лацкане пиджака — красная герань. Стройный, ловкий парень, и не узнать в нем прежнего цыганенка!
Воскресный день, окна распахнуты настежь.
Пока женщины заканчивали последние приготовления, во дворе, у крыльца, уже наяривала гармошка. Молодежь и жених с невестой кружились в танце. На крыльце, в холодке, чинно расселись принаряженные мужики: Никандр, Терентий Кузьмич Кузнецов, Савка Бормотов и Герасим Миронович Аниканов — отец Андрея. Пермские расспрашивали приезжего о житье-бытье на Дону.
— Чума его знает, что оно такое делается на белом свете, — рассудительно, степенно говорил Герасим Миронович. Он уже знал, что находится среди «своих», и не стеснялся в выражениях. — Разорили Дон вовзят, язви их в души! Тут колхозы, тут кулачить зачали, апосля недород, и вот тебе — саботаж! Совсем замордовали народ. А что померло людей — не приведи господи! Какие были справные хозяйства — пустили в распыл, самих хозяев поуслали в Мурман да на Соловки. Радости мало…
— Ну, а сейчас как? — допытывался Савка. И шепотом: — Насчет бунтования не поговаривают казачки?
— Куда там… Их-то, настоящих казаков, уж почти и нету. Какие брат брата порубили в гражданскую да в восстанию, какие сгинули на чужбине, а энти, какие в станицах да на хуторах остались, трясутся, помалкивают. Молодняк вот подрастает, да и он казачью честь по ветру пустил. Комсомолия!
— Ну, ничего, сват Мироныч, — утешал казака Терентий Кузьмич. — Вот поставишь избу, обзаведешься хозяйством, заживешь за милую душу! Тут насчет этого свободно — власти заняты стройкой. Им дела нет до нас, мужиков. Обратно же на базаре крестьянский продукт в доброй цене. Не поленись, подналяжь насчет молока, сала, разной овощи — озолотишься, в коврах будешь жить.
— Мне, сват, по совести скажу, не надо ковров, — с голоду бы не помереть.
— Об этом из ума выбрось, сват Мироныч. Поверь моему слову, заживешь хорошо. Да и сам зятек-то мой вон какой орел! А ты — «с голоду»!
В сенях появилась Фекла. Глаза ее сияли, гладкие черные волосы, расчесанные на прямой пробор, блестели, круглые щеки полыхали румянцем, и от ярко-малиновой кофты в обтяжку с белыми тонкими кружевами по глухому стоячему вороту и рукавам вся она светилась, рдела. Разве можно было дать этой тихой русской красавице сорок лет!
— Никандрушка, — робко позвала она, — ну зови, че ли, гостей, говори Кольке — все уже готово на столах.
Никандр подал знак гармонисту, объявил:
— Ну что ж, дорогие гости, просим!
По одну сторону стола рассаживалась молодежь, по другую — старики. В центре на старомодных стульях-креслах — жених с невестой. Перед тем как сесть Любаше за стол, Фекла увела ее в кладовушку и надела на нее фату, еще ту, в которой сама венчалась. Пунцовая от смущения и потому особенно прелестная, появилась Любаша в необычном наряде. А Пригницыну хоть бы что! Он вертел головой, бойко тараторил, улыбался во весь рот, сверкая синеватой белизной зубов.
А на столах чего только нет! В недавно открывшемся «Гастрономе» Пригницын набрал всякой снеди: копченой колбасы, ивасей, сыра, ликера, шоколада. Пермские и в глаза не видывали таких продуктов. Зато Рудневы потрясли свои кладовки — горы вареной картошки с соленой кетой, два поросенка, яичница с салом, соленые помидоры — целехонькие, словно яблоки. В бутылках разведенный спирт, брага, сваренная на лимоннике.
— Давненько не выпивал я за таким столом, — говорил Герасим Миронович. — И скажи, как в старину!
Когда все разместились, поднялся Никандр. Лицо его стало благообразным, на лбу и переносье выступили росинки пота.
— Дорогие гости, — торжественно начал он. В медвежьей лапище-ладони мелко вздрагивал стакан со спиртом. — Поначалу всем благодарствую, что навестили мой дом в такой период жизни — дочку выдаем замуж. А потом хочу обратиться к молодым. Оно конечно, слова мои, может быть, мало означают для них, но скажу. Живите в мире, в согласии и в справедливости. Оно конечно, люди вы обое трудящие, сурьезные, ну, а насчет мира и согласия — это самое главное. Маленько горяч Колька, но это у него от цыганских кровей. С богом вас, детки! За ваше здоровье!
Зазвенели стаканы, начались здравицы. На колени молодоженов полетели свертки, куски материи, потянулись руки с какими-то предметами, завернутыми в бумагу.
Все это принимала из рук Любаши Фекла и складывала на кровать. По щекам ее текли обильные слезы счастья; всхлипнула от умиления и Андреева мать — Ксения Афанасьевна.
— Ой, люди добрые, — по-скоморошьи завизжал Савка, — пить не можно — шибко горько!
— Горько! Горько! — полетело со всех концов.
Молодожены нерешительно поднялись. Пригницын повернул Любашу лицом к себе и смачно чмокнул в губы.
За столом стихло: все ели чинно, стараясь не чавкать, не нарушить благопристойности.
— Когда мы с Гликерией оженились, — нарушил молчание Савка, — папаня, царство ему небесное, подозвал меня перед тем, как в церкву идтить, и грит: «Сынок, стань под образа и помолись богу, что он послал тебе такую добрую невесту. Без нее, грит, тебе путя бы не было — шибко ты непутевый». Хи-хи-хи! — залился смехом Савка. — А я думаю себе: «Подожди, папаня, дай стать на свои ноги, я тебя шибко обскакаю». И обскакал-таки! У меня стайка полна скотины, а папаня так и не нажил больше двух коров да старого мерина. Хи-хи-хи…
Его смех никто не поддержал.
— Теперь молодым не об том надо думать, — рассудительно вставил Герасим Миронович, чинно вытирая рушником усы. — Служить им надо исправно. Вот если бы Андрей мой, чудок не туды бы загнул, не знаю, где бы мы с матерью и голову приклонили…
— Истинные слова, сват! — загудел Терентий Кузьмич. — За таким сыном не пропадешь. Да и моя дочка под стать ему — службу несет исправно.
— Вот и мой зятек, — вступил в разговор Никандр, — уж который год из ударников не выходит, больше моего зарабатывает, во как!
— А че, нешто Любаша не ударница? — ревниво вступилась Фекла. — Пара хорошая, дай бог им здоровья да деток!
Кругом загоготали. Хмель заметно овладевал гостями — лица раскраснелись, шум нарастал. Снова налили, снова кричали «горько!». Уж кто-то опрокинул стакан с брагой. Рогульникова подруга приставала к Аниканову до тех пор, пока на его щеке не отпечатался красный бантик ее губной помады. Вздохнула гармошка, исторгнув лихой перебор ритуальной песни сибирских свадеб — «Подгорной». Первой пустилась в перепляс Рогульникова подруга — от ее каблуков зазвенела посуда на столах. С ней кинулась состязаться Кланька. Когда в чистой половине избы стало тесно, танцующие подались на кухню.
— Мама, а нам с Колькой можно? — спросила Любаша. — Я сниму фату, а?
— Ладно уж, сними, доченька, бог с ней. Идите в общий круг. — Фекла прильнула к дочери, три раза поцеловала ее в щеки и лоб и залилась слезами.
А возле печки, сидя рядышком на кованом сундуке, умильно лобызались сватьи.
— И не скажи, чадушка, — по-донски мягко, нараспев говорила Ксения Афанасьевна, поправляя цветастую шаль тонкой шерсти. — Уж так мы с Миронычем обрадовались, как приехали к вам, — вот где жисть! Кто ж его знал-то? Ехали ить на чужбину, а чур, гадаем, хуже будет. Теперича душа на месте.
— Слава богу, сватьюшка, слава богу, что приехали! — отвечала ей баском Степанида Ефремовна. — И у молодых наших душа будет на месте. А то Андрюша, бывает, нет-нет да и вздохнет, пригорюнится. Жалостливый он у вас, чисто ангелочек. А уж как Клашу любит! И к нам, старикам, душевно относится…
В переднем углу, под образами, шел другой разговор.
— Строиться надо всем, артелью, рядом, чтоб за руки держаться, — говорил Терентий Кузьмич. — И участок на Силинке подберем лучший, Андрей поможет — он голова в постройкоме. Сплавленный лес рядом, у реки валяется сколь хошь, по ночам можно на целую церкву собрать. Опять же лесозавод — рукой подать, а возле него горы отходов — тесу да горбыля. Топливо — тайга под боком, и коров туда на выпас можно, рыбы сколь угодно в речке и в самом озере. А что касаемо тягла, то Никандр да Колька в любой раз могут пару подвод подкинуть в вечернее время. Да и я тоже на своей столовской при нужде могу разок-другой подвернуть. И тебе, сват, надо во что бы то ни стало возчиком в какую-нибудь столовую пристроиться, — святое дело! Сейчас с харчем полегше стало, так его на столах остается пропасть сколь. Дюжину кабанчиков можно продержать.
Герасим Миронович все более откровенно, до обожания восхищался своим сватом.
— Возчиком в столовой, конечное дело, самый вакат мне пристроиться, — говорил он, загораясь. — Уж коня я люблю!..
— Пристроим, сват, пристроим, — обещал Кузнецов. — У Кланьки нашей во всех столовых знакомцы. Да и Андрей имеет немалый вес. Это мы тебе сделаем, сват.
— Век буду благодарен, — подобострастно уверял Герасим Миронович. — Эх, кабы то оно все так уладилось! Пожить бы ишо хоть трошки по-людски!
— Поживем, сват, истинное слово, поживем! Как у Христа за пазухой будем жить. Главное — и не в колхозе и не на производстве, в самой лучшей серединке.
— Это верно, — согласился Герасим Миронович, — зараз лучшего места не найдешь.
— Мудрая у тебя голова, Кузьмич! — восхищался Савка, хлопая себя по коленям.
Из кухни раздался взвинченный голос Пригницына:
— А ну-ка, гармонист, оторви-ка мне «Цыганочку»! Покажу я, как когда-то в таборе давал!
Гармошка рявкнула всеми голосами сразу, потом плавно повела мелодию танца. И удивительно слаженно с ее тактами, разве только чуть-чуть отставая (в этом была особенная красота согласованности!), пошли выбивать дробный перестук подошвы по половицам.
— Жених, жених пляшет! — возбужденно зашептала Степанида Ефремовна, вставая с сундука.
Мужики и те не вытерпели, вылезли из-за стола.
Пригницын еще только набирал темп перепляса, легко, словно в воздухе, плыл по кругу. Но вот все чаще перебор гармошки, все быстрее плывет Пригницын.
— Браточки, дайте, ради Христа, побольше круга, — умоляет он жалобным тоном, словно уже не в силах остановиться, на ходу снимает пиджак, кидает кому-то на руки, через голову стаскивает галстук и кидает его Любаше.
— Хомут возьми! — скалится он в незнакомой полусумасшедшей улыбке. — Эх-ха!.. Давай-давай, браток, давай, миленький! — умоляет он гармониста.
Набирает гармонист темп, переливчато стонет в его руках гармошка, ветром носится по кругу Пригницын. Вдруг остановился, бесовским взглядом окинул всех, пережидая такт, и вот уже с непостижимой быстротой защелкали ладони: по лодыжкам, по груди, по подошвам ботинок, по раскрытому рту, потом — вприсядку, ладони по полу, по затылку — и все в слитном темпе музыки. Упал на живот, подпрыгнул несколько раз, встал на голову вверх ногами. И каждое движение в такт. Снова вскочил, понесся по кругу, и теперь выбивали чечетку не только подошвы, но и ладони. Пот градом катил с его лица, волосы растрепались, в налившихся кровью глазах — пламень, а ног почти не видно в переплясе. Хлопки ладоней, кажется, подгоняли его.
— Боже ж мой, да что же это такое? — с тихим удивлением говорила Фекла.
— С-сукин сын! — восхищался Герасим Миронович. — Ты погляди, чего делает человек! Вот уж истовый цыган!
Добрых четверть часа, должно быть, плясал Пригницын, потом с ходу остановился.
— Все!
— Качать его, братцы! — крикнул Андрей Аниканов.
И полетел весь мокрый Пригницын под потолок — раз, другой, третий…
Растроганный Никандр подошел к Пригницыну, обнял его.
— Ну, паря, видать, ты на все руки мастак!
— Подожди еще, папаша, вот подучусь — начальником стану, — сверкая глазами, говорил Пригницын. — Вы еще меня узнаете…
— Гости дорогие, попрошу вас, как отец, выпить за моего зятька! — объявил Никандр, когда все уселись за стол.
— Горько!.. — закричала Рогульникова подруга. — Горько, не могу пить!
На этот раз Любаша без стеснения поцеловалась с Пригницыным, но тут же скривила губы, вытерлась платочком.
— Тьфу! Колька, ты весь соленый.
За столом засмеялись.
— Он еще и сладкий и горький будет, — захихикал Савка. — Жисть протянется — всего достанется…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
День выдался голубой, тихий, весь облитый щедрым золотом июньского солнца. Лишь по краям небосвода, там, где почти призрачные увалы сопок касаются своими вершинами небесного полога, в мглисто-синей пелене неподвижно висят белые кудельки облаков.
А чудо-Амур! С самого утра он ласков, как котенок. И как не подивиться этой задремавшей в блаженном покое силище — такой ручной сегодня, такой смиренной… Не хватает только песен над широким простором.
Но будут и песни! Вон у пароходной пристани уже сверкает медь и серебро оркестровых труб. Там толпы народа, шум, смех, перебор гитары. Идет посадка на огромную железную баржу. С утра печет, и от палубы баржи веет жаром.
— Дорогу буфету! Товарищи, освободите трап, дайте же погрузить буфет!
И вереница парней с грузом на горбу бежит по трапу, девушки в белых халатах бойко принимают ящики и укладывают их на корме. И над всеми командир — Кланька. Как она умеет держать власть в своих руках!
— Этот ящик туда, бидоны — к будке, столы — вот в это место, тазы — под столы, скатерти — туда же! — то и дело слышится ее властный голос.
Наконец сирена буксирного катера огласила даль своим металлическим воем. Неожиданно спокойно возникли и поплыли на просторе мягкие, немного грустные и мечтательные звуки вальса «Амурские волны». И хоть не шумели волны — Амур весь тихо сиял, — звуки эти хватали за душу с особой силой именно сейчас, когда воды богатырской реки ласково плескались за бортом — бери и черпай.
Посреди баржи закружились пары.
— А не тряхнуть ли нам стариной? — предложил Платов жене. — Ведь это любимый вальс нашей молодости.
Сегодня Федор Андреевич выглядел моложе своих пятидесяти лет. Светлый чесучовый костюм и соломенная шляпа приглушали седину висков, на лице разгладились морщинки, оно порозовело и светилось свежестью.
— Я, кажется, первый раз за эти три года отдыхаю, — говорила Анна Архиповна. — Какая хорошая жизнь налаживается, Федя.
Платов молча кивнул. Да, все идет хорошо. И хорошо, что именно этот июньский день, вторую годовщину закладки завода, стали считать днем рождения Комсомольска — первого города юности. Еще ни один город не имеет такой точной даты дня своего рождения. Пройдут четверть века, полвека, век со дня рождения Комсомольска, родятся новые поколения, а в этот день они будут с благодарностью вспоминать тех, кто в стужу, в слякоть, полуголодные, плохо одетые, с кровоточащими цинготными деснами, почти голыми руками раскорчевали тайгу, осушили болота и построили новый — от самого корня новый — индустриальный город. Да, теперь уже можно сказать — построили: дымят трубы заводов, работают станки мехкомбината, монтируются сложные машины. В городе уже родятся дети, город становится родиной будущего поколения.
Вскоре караван пристал к песчаной косе Пиваньского острова. Песок там гладенький, чистый и нетронутый, только у самой воды расшитый кружевами куличковых следов; он так и манит к себе. А тальники, а луга — они совсем задремали в знойной тишине, от них так и тянет парными медвяными запахами. Хор кузнечиков кажется голосом самого этого дремучего зеленого царства.
Еще не выбросили трапа, а уж в воду щуками полетели полуголые парни, чтобы скорее коснуться босыми ногами песчаной целины.
Сережка дергает за рукав Федора Андреевича.
— Папа, ну ты пойдешь со мной рыбачить?
Банку с червями он отдал Аленке, строго наказал не рассыпать, а сам уже готовился разматывать удочки.
— Сейчас пойдем, Сережа, все пойдем, — отвечал отец, наблюдая за тем, как заводят трап. — Только ненадолго. Да и тебе, наверное, интересно посмотреть, как будут прыгать парашютисты.
— А правда будут?
— Обязательно! В двенадцать прилетят самолеты, и из них спрыгнут шесть парашютистов.
— Прямо в воду? — затаив дыхание допытывался Сергей.
— Прямо в воду.
— Тогда я буду рыбачить тут, рядом.
Массовка ударников, посвященная трехлетию города, была первой в истории Комсомольска. Трудности первых лет остались позади, после отмены продовольственных карточек полки магазинов ломились от продовольствия, стало легче работать, легче жить. И не потому ли так ликует медь труб и сотни задорных голосов поют:
Легко на сердце от песни веселой, Она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, И любят песню большие города.Не до песен только Феде Брендину. Он теперь инструктор оборонно-массовой работы и отвечает за стрелковые соревнования, массовый заплыв с гранатами, состязание в метании гранат, и, наконец, за соревнование в беге на стометровку и прыжки в высоту. Потому-то и мечется он по острову, выбирая места, потому-то и льет ручьями пот по его лицу.
Немало дел и у Аниканова — на его ответственности массовые танцы, аттракционы, буфет. Но Аниканов не тяготится поручением, а уж командовать он умеет. Дана команда Кланьке, дана команда культмассовику-балалаечнику — и тот уже зазывает любителей отбить трепака.
А кругом море веселья, по-детски безудержного ликования. Плеск воды, гогот парней, визг девчат, и над всем этим — звонкая медь оркестра.
Жернаковы, а с ними и Леля, облюбовали место на берегу протоки, под развесистым кустом тальника, сделали для Наташки полог из простыни — и теперь у них целый бивак. Но, пройдя через десятки рук желающих понянчить ее, Наташка никак не хотела спать, даже после того как Настенька покормила ее.
— Вот я тебя отлуплю, — грозил ей Захар, но она лишь выдувала пузыри, заливисто хохотала и колотила себя кулачонками по животу.
Подошел Каргополов.
— Насилу разыскал вас, — смахивая пот со лба, сказал он. — Слушай, Захар, ты чего тут расселся? Там тебя Брендин ищет, ты же записан для участия в стрелковых соревнованиях.
— Да вот пасу скотинку. — Захар кивнул на голенькую Наташку, ползающую по байковому одеялу.
— Хоть бы искупался, муженек! — крикнула Каргополову с середины протоки Леля. — Вода — прелесть!
— За тем и пришел. — Каргополов с усилием стащил прилипшую к телу майку. — Анастасия Дмитриевна, смените Захара, ему нужно пойти отстреляться!
— Ничего, успеет, — отмахнулась Настенька, добравшаяся до воды. — Я целыми днями с ней вожусь, пусть хоть сегодня подежурит.
— Вот видишь, какие жены пошли, — сетовал Захар. — По старому казацкому обычаю ее следовало бы отлупить, а ноне… — Он беспомощно развел руками. — А отлупить бы надо, вот только не хочется лезть в воду.
Они рассмеялись.
— Ладно, я попасу Наташку, — выручил Каргополов. — Иди отстреляйся.
— Увидит Настенька, скандал будет!
— А ты незаметно юркни в кусты, чтоб она не видела.
Захар так и сделал. Не без труда разыскал он стрельбище: за шумом и музыкой невозможно было расслышать хлопки выстрелов мелкокалиберных винтовок. Да и нелегко было найти его: Брендин организовал стрельбище в километре от места гулянья, расставив мишени у стены прибрежного обрыва — для безопасности.
Здесь толпилось человек пятьдесят болельщиков. Среди них виднелась и поджарая фигура Платова, кажущаяся особенно высокой в летнем костюме и шляпе.
Захар получил из рук Брендина винтовку и десять патронов.
— Ну что ж, давайте и мне, — сказал Платов, увидя, что из пяти винтовок одна оказалась свободной. — Попробую потягаться с молодыми.
Когда все вышли на линию огня, Федя Брендин, как заправский командир, заученно объяснил:
— Условия стрельбы: мишень номер три, расстояние — двадцать пять метров, положение лежа, с локтя, патронов — десять. Упражнение считается выполненным, если из ста возможных будет выбито шестьдесят очков. Огонь открывать по моей команде, а сейчас всем приготовиться, разобраться в мишенях. Разобрались? Ложись! Заряжай!
Захар лег рядом с Платовым. Он видел, как Федор Андреевич неумело засовывал патрон в казенник, вместо того чтобы положить его в гнездо возле торца затвора.
— Чертяка! Перекос получается, — ворчал Платов.
Захар объяснил, как сделать. Платов смущенно улыбнулся, сказал шепотом:
— Первый раз держу эту игрушку в руках. Раньше-то, в гражданскую, приходилось орудовать трехлинейкой да наганом…
— Огонь! — скомандовал Брендин.
Послышались хлопки. Захар не любил долго целиться. Еще в кавшколе он заметил, что чем раньше — при первом же совмещении линии прицеливания — он выстрелит, тем вернее попадание. Так поступил и сейчас. Отстрелявшись раньше всех, он доложил:
— Жернаков стрельбу закончил.
Теперь он наблюдал за Платовым. Тот сопел, иногда делал глубокий вдох, целился подолгу и только после выстрела выдыхал.
Но вот отстрелялись все, по команде встали и по команде же зашагали к мишеням.
Как знакомо Захару это чувство волнения, когда подходишь к своей мишени! В первую минуту глаза разбегаются, ищешь пробоины в десятке. Ага, три, нет — четыре! — вон одна задела край центрального кружка. Та-ак, хорошо! Остальные рядом. Большая площадь рассеивания, но все пули в одном направлении. Две в девятке, три в восьмерке, одна в пятерке и одна в тройке. Дальше круга «три» не вышло ни одной пули. Девяносто очков. Совсем недурно! А у Платова?
— Ну как, Федор Андреевич? — Захар нагнулся к его мишени.
— Неважное дело, шестьдесят восемь очков, — вздохнул Платов. — А когда-то из боевой снимал всадника на скаку за полверсты. Годы, рука не та, да и глаз…
— Отвыкли, — старался оправдать его Захар.
— Конечно же, пятнадцать лет не держал винтовку в руках. Но отвыкать нам, товарищ Жернаков, никак нельзя. Никак нельзя, — повторил Платов. — А как у тебя? — Он склонился к мишени Захара.
— Девяносто очков, — доложил Захар.
— О-о!.. — Платов удивленно посмотрел на Захара. — Да ты что, неужели же в армии служил?
— В Новочеркасской кавшколе.
— Тогда понятно. — Платов по-отечески обнял его за плечи, заглянул в лицо. — Вот, оказывается, вы какие — ударники, вы и врага в открытом бою можете встретить по-ударному. В этом наша неодолимая сила, дорогой мой землячок!
Со стрельбища возвращались вместе.
— Как дела-то на работе? — спросил Платов, когда они шли по бережку у самой воды. — Тебя ведь, кажется, назначили десятником?
— Сейчас опять бригадир, — отвечал Захар. — Строим каменные дома. Десятником не понравилось — никакого конкретного дела, пустая беготня. А тут я при своем деле. Да и люблю его… Федор Андреевич, а у меня дочка родилась, Наташка, — сказал Захар, ласково улыбаясь.
— Да ну? И давно?
— Восьмой месяц. Такая Дарья-бахчевница!
— Ну что ж, хоть с запозданием, поздравляю. — Платов пожал Захару руку. — Теперь сына нужно.
— Рано пока, учусь, тут и с этой никак не управимся. Жене пришлось оставить работу.
Разговор прервал гул самолетов. Три машины шли клином над самой водой. Повернув к острову, они пронеслись над гуляющими и стали забирать вверх, наполнив все пространство оглушительным стрекотанием моторов.
— Ах, стервецы, они же Наташку перепугают! — спохватился Захар и со всех ног кинулся бежать к своим.
Наташка действительно плакала навзрыд, когда прибежал Захар.
— Надо же было ей ушки закрыть, — журил он Настеньку.
— Да она спала, и я не догадалась, — объясняла молодая мать. — Теперь не уснет и будет капризничать.
Тем временем самолеты уже добрались до вершины Эконьской сопки и там разошлись в разные стороны.
— Сейчас будут парашютистов сбрасывать! — понеслось по острову. — Вон первый уже заходит!
Парашютный спорт… Он только еще зарождался, но уже становился таким же массовым и популярным, как и стрелковый, как и спортивный комплекс на значок ГТО («Готов к труду и обороне»). Зарождался и еще один новый вид спорта — авиационный. «Подготовить 150 тысяч летчиков-спортсменов!» — этот лозунг гремел по всей стране, в том числе и в Комсомольске. На земном шаре то тут, то там погромыхивали громы войны, грозовые тучи все заметнее сгущались и вокруг нашей страны, и молодежь готовилась, была начеку.
Сотни голов запрокинуты к синему небу. Сотни глаз неотрывно следят за четырехкрылой машиной, приближающейся на полукилометровой высоте к острову. Ровно стрекочет мотор. Вот он притих, почти заглох, и в ту же секунду над кабиной появилась темная фигура. И вдруг полетела вниз. Она падает, падает, кувыркаясь в воздухе.
— Что же он не раскрывает парашют?! — раздался испуганный вопль.
Но вот над человеком взвилась ленточка вытяжного парашюта, за нею вверх рванулся белый столб и мгновенно превратился в огромный купол. Вздох облегчения прокатился по толпе на берегу.
Парашютист опустился на воду, заработал руками, убирая край купола, и пошел к берегу. Ближе, ближе, ближе… Уж видно его лицо. Мишка Гурилев! Но он не достиг берега, а плюхнулся в воду метрах в двадцати, на отмели. Десятки купальщиков ринулись к нему, барахтающемуся в воде, на руках вынесли на берег. Не успел Гурилев отстегнуть парашют, как снова полетел, но теперь уже вверх — раз, другой, третий!..
— Ой, братцы, отпустите душу на покаяние! — кричал Мишка, кувыркаясь в воздухе.
— Второй самолет! — заверещал мальчишеский голос.
С самого начала Захар с замиранием сердца наблюдал за парашютистом. Каково же было его изумление, когда он узнал Мишку Гурилева в этом отчаянно смелом человеке. Захар был в числе тех, кто вынес Гурилева на руках из воды, а потом качал, подкидывая в воздух. Но вот все угомонились, красавица Катерина уже перестала плакать и целовать Мишку, и очередь дошла до Захара.
— Когда же это ты успел, отчаянная твоя голова? — спрашивал он Мишку, помогая ему отвязывать спасательный пояс, стаскивать с плеч мокрый комбинезон.
— А ты думаешь, я как ты? — скалился Гурилев. — Я, паря, еще и на летчика буду учиться! Во как, Захарка!
— Ну, а как, скажи честно, страшно было прыгать?
— А я об этом и не думал. Прыгнул — и все!
— Ну, а все-таки? — не отступался Захар.
— Все-таки, паря, я же знал, что у меня за спиной парашют. Иди к нам, в аэроклуб, Захарка! — пригласил он. — Геройское дело!
— Я уж и то подумываю. Увидел тебя под куполом парашюта — и потянуло! Честное слово, пойду! — горячился Захар. — Кстати, взгляните на мою Наташку! — И он потянул Гурилева с Катериной на берег протоки.
— Ну где ты пропадаешь, Зоря? — набросилась Настенька. — Я тут совсем замучилась с нею, не спит — и все! А тут эти самолеты гудят и гудят…
— Ничего, Анастасия, — шумел Гурилев, — скоро вместе с Захаркой будем прыгать, а потом, глядишь, еще и самолетами управлять станем. Видишь, что они делают, — указал он в небо на машины, проделывающие фигуры высшего пилотажа. — А ну, дай-ка посмотреть Наташку. Вот это я понимаю!
— Ты что, Зоря, в самом деле хочешь прыгать? — спросила Настенька, но Гурилев подкидывал в воздух хохочущую Наташку.
— А что, думаешь, испугаюсь? — смеялся Захар. — На джигитовке посложнее приходилось номера выкидывать, особенно на толчках.
— Один уж номер выкинул. — Настенька кивнула головой на его ногу. — Смотри, чтобы второй такой номер не выкинул.
— Так не о себе же я думаю! — возразил Захар. — А если война? Вот и пригожусь как парашютист.
Их отвлек от спора вопль Мишки:
— Рятуйте, братцы! Смотрите, что наделала, бесстыжая. Опрудила!
Он держал голенькую Наташку под мышки на вытянутых руках, а на его майке тянулся вниз свежий мокрый след.
— Так тебе и надо, — вмешалась Катерина. — Это она, чтобы ты не кидал ее так.
— Я повыше летал, да ничего со мной не стряслось.
— А это никто не проверял, сразу же в воду упал, — заметил Захар, беря дочку на руки.
Прибежал Каргополов.
— На заплыв, товарищи! — объявил он. — Кто на заплыв?
— Фу ты, а я только хотел принести бутылку вина, обмыть свой десятый прыжок, — сетовал Гурилев.
— Потом, потом. Пошли!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Так вот она какая, эта Шура, в один день ставшая «знаменитой» на весь город! Полная, ниже среднего росточка, одетая в простенькое ситцевое платье в белый горошек. На голове туго повязанная цветастая косынка, забравшая в плен буйные, коротко стриженные каштановые волосы. Лицо продолговатое, нос прямой, с тонкими чуткими ноздрями, карие умные глаза, а над ними черные крылья бровей. И во всем облике — наивная простота.
Каргополов даже растерялся — не такой он себе представлял Шуру. Его совсем недавно избрали секретарем горкома комсомола, и он еще не научился по одному взгляду определять людей.
Перед Каргополовым на столе — вчерашний номер городской газеты; очерченная красным карандашом небольшая заметка в два столбца с заголовком: «Положить конец распутству». Автор, скрывшийся под популярным псевдонимом «Рабочий», сообщает, что в бараке номер три в Комсомольском поселке проживает некая комсомолка Шура. С прошлого года она нигде не работает, а занимается только тем, что меняет мужей, и уже успела выйти замуж девять раз.
Каргополов в затруднительном положении. Как вызвать Шуру на откровенность, чтобы она раскрыла перед ним душу?
— Комсомольский билет с собой? — спрашивает Каргополов.
— Вот он, — кивает она и доверчиво протягивает книжицу, бережно обернутую листком из ученической тетради в косую линейку.
— Так… Лешкова Александра Спиридоновна, пятнадцатого года рождения, — читал Каргополов.
— Молодая, да ранняя. — Шура грустно усмехнулась.
— Что верно, то верно, — согласился Каргополов. — Сама-то из деревни или из города?
— Из деревни. В колхозе работала, все хорошо было, семилетку закончила. А тут, черти дернули, засобирались наши девчата, мобилизацию когда объявили, ну и я с ними. «Поедем, повидаем свет!» — передразнила она беззлобно кого-то. — Вот и повидала свет!..
— Ты о чем это?
— Да все о том же: прославилась на весь Комсомольск… Теперь хоть из барака не выходи.
— Так что — неправильно написали?
— Почему неправильно? — Шура горестно склонила голову набок, задумалась.
— Так в чем же дело? Давай уж договоримся: все начистоту!
— А я и так ничего не скрываю. — Помолчав, Шура добавила: — Скрывать-то больше нечего, все уже открыто.
— Как же все это у тебя получилось, Шура? — Каргополов с грустью и сочувствием посмотрел на собеседницу.
— Ну, как получилось? Чай, сами не маленькие, знаете, как это получается…
— Так-то оно так, — согласился Каргополов. — Я спрашиваю, как это у тебя получается, что без конца выходишь замуж и расходишься? Шутка ли сказать — девять мужей сменила!
— Да уж там девять! — отмахнулась Шура. — Девяти-то и не было. Всего шесть раз выходила замуж. А то так… любовь крутила.
— Уж какая там любовь! — возмутился Каргополов.
— Ну, любовь не любовь, а так, крутила — и все…
И вдруг она оживилась, посмотрела в лицо Каргополова ясными глазами и сказала:
— А я ведь знаю, кто написал это и почему.
— Ну, скажи!
— А че не сказать? Липский! Инженера Липского знаете? Ну, так это он. Противный такой, слизняк. Тоже мне, «Рабочим» подписался!
— А почему ты думаешь, что это Липский? Взаимностью не ответила?
— А то чего ж? Увивался все за мной, не знал, с какого боку подойти, конфетки таскал. А потом стал охальничать. Вот я его и поперла. Теперь он мутит.
— Он тоже входит в эту девятку? — спросил Каргополов.
— И он, и инженер Прозоров, хотя я с ним тоже не жила. Но тот же был сильно по душе, я его полюбила… А как он узнал, что я несколько раз выходила замуж, то сразу порвал со мной. А человек-то он хороший, благородный, внимательный…
— Слушай, Шура, ты меня не стесняйся. — Каргополов тепло и сочувственно смотрел ей прямо в глаза. — Расскажи, пожалуйста, почему это у тебя такое легкомысленное отношение к браку?
— Ну что ж, расскажу все по порядку. В первое время, когда мы, куйбышевские девчата, приехали, все шло хорошо. Потом к нам зачастили ребята из других бараков. Один, такой симпатичный, прилип ко мне — проходу не дает. «Давай да давай поженимся!» Поженились… Пожили в общей комнате недели с две, а ребята его подзуживают — наговаривают на меня: дескать, я ему изменяю, когда его нет. Ну и поссорились…
Сначала Шура говорила раздумчиво, спокойно, но потом стала все больше волноваться, и вот уже на ресницах блеснули слезы, голос стал глуховатым.
— Ну прогнал он меня, — продолжала Шура, вытирая глаза платком. — А тут вскорости прилип ко мне парень из той же комнаты — самый симпатичный из всех. По совести сказать, я действительно поглядывала на него, больно нравился он мне. И так вообще, образованный. «Ну, думаю, этот будет настоящим мужем». Только я ему поставила условие: пойду замуж за него, когда он получит комнату. А пока встречалась с ним, жила то у нас, в девчачьей комнате, то у них. Потом он раз говорит мне: комнату, мол, получить не могу, давай расставаться. С тем и расстались. Потом он с другой девушкой жил из нашего барака, а ко мне ходил третий парень из их барака. Тоже предлагал жениться, но я присмотрелась к нему, а он какой-то ненормальный: так щиплет за тело, вся в синяках ходишь. Насилу отбоярилась от него.
Шура помолчала, смущенно перебирая взмокший от слез платочек.
— Не хочется обо всем рассказывать, противно… Так жила еще с тремя… Потом познакомилась в кино с Прозоровым. Он не знал о моих связях до этого. Походили с месяц, и он предложил выйти за него замуж. Ну что, я должна была скрыть все от него? Совесть мне не позволила. И, конечно, рассказала. Он долго мучился. Видно, боролся с собой. А потом сказал, что не может на мне жениться. А тут вскоре прилип этот Липский. Но я его сразу невзлюбила, такой противный. Два месяца все ходил вокруг, пока я не обругала его последними словами и не выгнала. Вот и все мои мужья… — Шура смущенно улыбнулась.
— А кто же девятый? — спросил Каргополов, все время напряженно слушавший ее рассказ.
— Да его и не было, это Липский придумал, я больше ни с кем и не гуляла.
— Да-а, сложная штука. — Каргополов тяжело вздохнул, откинулся на спинку стула. — Значит, всего было шесть?
— Ну да. Да и эти шесть… Какие они мужья? Такая беда не только со мной. Поди, сами знаете, — запросто сказала Шура. — Есть девушки, которые тоже так живут — то с одним, то с другим. Из нашей группы, что вместе приехали, только одна удачно вышла замуж, славный парень попался.
— Ну почему все это получается, Шура?
— По себе сужу так: жили в деревне, ничего не видели. А тут сразу столько ухажеров! Да еще один лучше другого. Глаза и разбежались. Каждой захотелось поскорее выскочить замуж. Доглядывать-то за нами некому, как дома, бывало, в деревне… Вот и начали куролесить, одурели девчата. Все, конечно, наша деревенская глупость и простота. Был бы рядом отец, ремнем выдрал — сразу взялась бы за ум. Да и парни тоже — так и охотятся за нашей сестрой, как кошка за мышкой. Вон сам Липский — четыре раза менял жен. У него отдельная комната в итээровском бараке. Так он заводит к себе каждый раз новую девушку, соблазнит, поживет, а потом выгоняет.
— Ну, а почему ты не работаешь?
— Это как же я не работаю? — изумилась Шура. — На бетономешалке, с самого начала! И заработок хороший. Сейчас вот в ночной смене все время.
— А днем чем занимаешься?
— Ну, сплю, а потом учусь кройке и шитью в мастерской. Договорилась, как ученица.
— Значит, Липский, если это действительно он писал, и тут наврал?
— Ну, конечно! Он так и пригрозил мне: «Я тебя, — говорит, — пропесочу в газете!»
Нет, совсем не такой представлял себе Каргополов эту Шуру Лешкову! Душевно искалеченную, морального уродца ожидал он встретить. А тут обыкновенная деревенская дивчина, наивной простотой которой воспользовались ловеласы. Как же ее перетряхнула жизнь! Надо что-то серьезное предпринять, чтобы оградить других девушек, подобных Шуре, от современных донжуанов.
Каргополову вспомнилась «конференция прогульщиков». А почему бы не собрать парней и девушек, известных своим легким поведением, и заставить их поговорить о комсомольском быте, о комсомольской семье?
— Послушай, Шура, а ты бы смогла выступить на городском комсомольском собрании и рассказать о своих ошибках, как сейчас мне рассказывала?
— Нет, нет, что вы! — замахала руками Шура. — Это же еще раз опозориться перед людьми. И не уговаривайте, все равно не выступлю.
— Так какой же это позор — рассказать собранию всю правду? Ты же реабилитируешь себя в общественном мнении.
— Вот вам рассказала, а больше нигде не буду говорить, — решительно произнесла Шура.
Она ушла, а мысль о городском собрании молодежи не оставляла Каргополова. «Культурно-бытовая конференция» — вот как назовем это собрание! — обрадованный находкой, подумал он. — А до этого создадим комиссию, пусть обследуют бараки».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Комсомольский поселок вырос рядом со вторым участком прошлым летом, когда готовили встречу пяти тысячам комсомольцев мобилизации 1934 года. По сравнению с бараками второго участка — приземистыми, сколоченными наспех и разгороженными внутри лишь на две-три секции, бараки Комсомольского поселка выглядели для своего времени прямо-таки дворцами: они были выше, оштукатурены изнутри и снаружи, имели комнатную систему, общие умывальники и несколько общих кухонь. В каждой комнате жили по три-четыре человека.
Когда обследование бараков Комсомольского поселка закончилось, Каргополов собрал членов комиссии. В комиссию вошли «старички» — комсомольцы мобилизации 1932 года. Им-то хорошо были знакомы и шалаши, и палатки, и чердаки, и земляной «Копай-город», где приходилось спать вповалку на сплошных нарах, подчас на голых досках. Теперь имелись все условия, чтобы жить в тепле и уюте и вообще упорядочить быт; и в большинстве комнат так оно и было: люди старались держать в порядке жилье, девушки навели чистоту и уют.
Но вот выступает Федя Брендин.
— Мне еще в четвертом бараке сказали, — говорит он, — что в шестом есть комната картежников, назвали номер. И в ней отлеживается уже почти неделю один парень — проиграл, говорят, с себя все! Прихожу, стучусь. Голос отвечает: «Входите!» Открыл я, товарищи, комнату и ужаснулся: грязная, задымленная, сору по колено. Но это еще полбеды. В углу на койке, без всякой постели, ну прямо на голых досках, лежит с поджатыми ногами молодой паренек — нечесаный, небритый, какой-то весь закоптелый, покрытый грязным макинтошем. Из-под бока выглядывает кусок брезента, в головах — замасленная фуфайка. Лежит и читает книжку. «Что, — спрашиваю, — болеешь?» — «Ага», — отвечает. «Ну вот, я врач, вставай, — говорю, — посмотрю тебя». Он подозрительно поглядел на меня, говорит: «Что-то не похоже». Разговор был длинный. Короче говоря, он во всем признался мне. Оказывается, в этой комнате каждый вечер играют в очко. Втянули и его и обыграли начисто. Остался парень в трусах да майке. «А чем, — спрашиваю, — питаешься?» — «Да тем, что принесут ребята, — отвечает, — по большей части вода и хлеб». Ну что это такое, а? А ведь парень хороший, землекопом работал.
— Фамилии картежников записал? — спросил Каргополов.
— Не всех. Кого записал, почти со всеми разговаривал. Некоторых вообще не знают — кто они и откуда.
— С комендантом говорил?
— Он сам картежник и пьяница.
— Давай сюда список. Отправлю его в милицию. Докладывай ты, Леля.
Леля Касимова обследовала девичьи комнаты.
— Положение, товарищи, угрожающее, — сказала она. — Выявила шесть беременных, а у трех уже дети. И самое страшное — четверо даже не знают, кто отец ребенка. Думаю, понимаете, почему это получается? Одна не знает фамилии парня, с которым ночевала, и не знает, где он работает. Остальные ночевали со многими и не знают, от кого прижили. Двое забеременели от Липского. Этого негодяя нужно судить!
— Ну, а хоть что-нибудь светлое есть или нет? — сердито спросил Каргополов, словно во всем этом была виновата Леля.
— Я скажу, — вызвалась Маша Дробышева. — Пятый девичий барак предлагаю объявить образцовым. Там есть свой избранный домком, выпускают свою стенную газету, почти все девчата учатся в кружках техминимума и в вечерних школах, пять девушек ходят в аэроклуб, учатся на парашютисток.
— Ну, а как насчет поведения? — спросил Брендин.
— Поведение считаю хорошим, — уверенно отвечала Дробышева. — Недавно всем бараком выдавали замуж одну девушку. Говорят, была грандиозная комсомольская свадьба: на весь коридор установили столы в ряд — всё в складчину купили.
— Ваня, а Липский не комсомолец? — спросила Леля.
— Его не поймешь, — хмуро буркнул Каргополов. — Когда я работал на «Брусчатке», он говорил, что комсомолец, а на учет так и не встал.
— Ну, а личное его дело? — спросил Брендин.
— Этим не поинтересовался. Сейчас проверим.
Проверили. Личного дела Липского не оказалось.
— Значит, врал, — резюмировал Каргополов. — Но все равно его надо как-то заманить на конференцию.
— Попросим Прозорова, чтобы он привел его, — посоветовал Захар, — они ведь друзья. Разрешите мне, я уговорю Прозорова.
Конференцию собирали в клубе. Здесь было благоустроеннее и просторнее, чем в «Ударнике», — зал вмещал около тысячи человек.
Каргополов чуть ли не первым появился в клубе. Ему хотелось упросить Шуру выступить. Он нашел ее в фойе среди девушек, рассматривающих витрину. Шура выделялась не только самобытной красотой, но и умением одеваться при всей видимой бедности. Простенький серый костюм сидел на ней ладно, буйность волос сдерживали заколки; разве только вот яркий цветок саранки в них выглядел слишком вызывающе.
Каргополов отозвал Шуру в сторону.
— Может, все-таки выступишь? — спросил он запросто, пожав ей руку. — Ни о чем больше не говори. Только о Липском. Расскажи о нем все, что знаешь.
— Так чего мне говорить? — вполголоса возразила Шура. — Вот Тоня хочет выступить, специально о нем рассказать. — Она указала глазами на высокую тонкую блондинку в цветастом платье, с длинными, до пояса, пшеничными косами. — Но она стесняется. Поговорили бы с нею, а?
— Ну, а как вообще дела?
— Да ничего, учусь, работаю, получила третий разряд в швейной мастерской. Наверное, перейду туда.
Каргополов попросил:
— Позови, пожалуйста, Тоню, а то она, кажется, хочет уйти.
И вот перед ним Тоня. С равнодушием, за которым нетрудно заметить скрытый вызов, она спокойно смотрит в лицо Каргополова.
— Чем могу быть полезна?
Вопрос смутил Каргополова.
— Я секретарь горкома комсомола. Вы, кажется, хотели что-то рассказать о Липском?
— А это дело мое — хотела или не хотела, — с вызовом отвечала Тоня. — Будет настроение — выступлю, не будет — не выступлю.
«Ну и характерец!» — подумал Каргополов, изучая лицо Тони.
— Вы комсомолка?
— Да, комсомолка…
Выручила Леля, которая явилась словно из-под земли.
— А-а, Тонечка, — запанибрата сказала она. — А это мой муж. Вы уже знакомы, Иван?
— Да нет…
— Тогда познакомьтесь.
Тоня сразу помягчела, подобрела. И Каргополов в который раз подумал, что он не умеет разговаривать с девушками. Тоня без обиняков согласилась «пропесочить» Липского. Еще бы! Как выяснилось, она месяц была его женой, а когда пробовала настаивать, чтобы зарегистрироваться, он вынес ее вещи в коридор, запер комнату и двое суток не появлялся в доме. Так и пришлось ей вернуться к себе в барак.
Уже со сцены Каргополов увидел в дверях зала неразлучных друзей — Прозорова и Липского. «Очень хорошо, — подумал он. — Они, конечно, не знают, что значит культурно-бытовая конференция, и пришли, чтобы провести вечер и посмотреть звуковое кино».
Забитый до отказа молодежью, зал гудел, как улей. Из фойе протискивались все новые группы молодежи. Скоро не осталось свободных мест, и люди стояли вдоль стен, в дверях.
— У нас сегодня необычное собрание, — сказал Каргополов, открывая конференцию. — Нам надо серьезно потолковать о нашем быте. Так что прошу товарищей внимательно отнестись к этому вопросу. А кому неинтересно, могут уйти.
Мельком он поглядел на Липского и Тоню. Они сидели в разных местах, но никто из них не пошевелился.
— Значит, никто не уходит? Тогда разрешите открыть конференцию.
Доклад по итогам обследования бараков делал сам Каргополов.
— Мы научились строить город, но не умеем еще строить свой комсомольский быт, — говорил он. — Почему это получается? Потому что мы отвергаем старый патриархальный быт, где безраздельным хозяином является мужчина. Но вот какой должна быть новая, комсомольская семья, в этом не все разбираются. Думают так: раз со старым патриархальным бытом покончено, значит, можно куролесить кому как вздумается. А на самом деле все как раз наоборот — новый, комсомольский быт должен стать выше, чем патриархальный, потому что он должен строиться на высокой, сознательной морали. Вот этой-то коммунистической морали нам подчас и не хватает. Посмотрите, например, на поведение молодого инженера Липского. За один год он сменил четырех жен.
— Не имеете права вторгаться в мою личную жизнь! — истерически крикнул Липский.
Весь зал негодующе загудел.
— А калечить девушек ты имеешь право? — врезался в шум зала женский голос.
— Ишь ты, не имеют права!
— Позор!..
— Нужно судить таких!
— Общественный бугай!
Каргополову стоило больших усилий утихомирить зал.
— А поведение девушек? — продолжал Каргополов. — На что это похоже? Одна выходила замуж шесть раз!
— Не шесть, а девять! — выкрикнул кто-то.
— Это вы о газетной заметке? — спросил Каргополов. — Так вот, разъясняю: автор заметки допустил, мягко выражаясь, неточность.
— Это Липский писал! — резко прозвенел в тишине зала девичий голос.
Зал снова негодующе загудел.
— Выгнать его из Комсомольска с позором!
— Пусть даст объяснение!
Преобладали девичьи голоса.
Липский сидел недалеко от сцены, и Каргополову с трибуны хорошо было видно его лицо: облитое горячим румянцем, оно стало напряженным и злым.
В президиум полетели записки желающих выступить. Аниканов, который занимал председательское место, раскладывал их на две кучки: в одной те, авторы которых просили слова, чтобы дать объяснение; в другой — желающие выступить по иным мотивам. Аниканов ожидал записки от Липского, но ее все не было.
Но вот доклад окончен. Каргополов прошел за стол президиума, сел рядом с Аникановым.
— Ну что, перерыв объявим или будем продолжать работать? — обратился Аниканов к залу.
— Есть предложение! — послышался девичий голос из зала. Это была Тоня. — Я думаю, что вначале надо потребовать от товарищей, кого критиковал докладчик, чтобы они сейчас дали объяснение конференции, почему они себя так ведут. Прежде всего это касается Липского и картежников. Иначе, если объявите перерыв, они поразбегутся.
По залу прокатился гул смеха.
— Правильно!
— Не имеете права!
— Проголосовать!
Проголосовали. Подавляющее большинство подняли руки за предложение Тони.
— Товарищ Липский, прошу на трибуну, — объявил Аниканов.
— Я не готовился к выступлению…
Глухой, негромкий голос Липского был слышен в каждом уголке — до того напряженная тишина воцарилась в зале.
И новый взрыв шума:
— Заставить!
— Мы требуем!
— Товарищ Липский, — Аниканов повысил голос, — конференция требует, чтобы вы дали объяснение.
И снова тишина в зале.
Липский решительно встал, вылез из ряда, но направился не к трибуне, а к двери. Там он протиснулся сквозь толпу и скрылся в фойе.
— Вот так фрукт, — раздался на весь зал удивленный мужской голос.
— Можно слово? — Это был Миша Гурилев. — Я предлагаю записать в решении конференции: ходатайствовать перед управлением строительства об увольнении Липского с работы и о позорном изгнании его из нашего города.
В ответ — сначала разрозненные, а потом громкие и дружные аплодисменты всего зала.
— Есть такое дело, — объявил Аниканов, — предложение записано.
Потом давали объяснение картежники. Под общий смех они каялись в грехах и давали честное слово, что больше не возьмут в руки карт.
После перерыва участники конференции потребовали, чтобы выступила Шура Лешкова и объяснила, почему она так вела себя. В первую минуту она упорствовала, но потом все-таки вынуждена была подняться на трибуну.
— Ну почему я так вела себя? — бойко спросила она у зала. — Потому что много ухажеров, а я оказалась больно доверчивой. А кому из нас не хочется создать свою семью? Каждая девушка об этом думает. А вы этим пользуетесь, — с негодованием бросила она в зал, — специально ищете таких вот, простоволосых.
Весь зал грохнул от смеха.
— А чего смеетесь? Неправду, что ли, я говорю? Теперь — дудки! Закаялась: ни с одним парнем не буду встречаться, пока не узнаю, какой он.
— Правильно!
— Так бы сразу!
От выступающих нет отбоя. Девушки защищают Шуру и ей подобных, парни с горячностью осуждают легковесное отношение девушек к домоганиям ловеласов. Пришлось делать еще один перерыв.
В зале появился Липский, попросил слова. Как выяснилось потом, это Прозоров привел его и заставил выступить.
Речь Липского оказалась немногословной.
— Я хорошо осознал, товарищи, что допустил большую ошибку в своей жизни, — запинаясь, глуховато говорил он. — С этой трибуны я приношу конференции глубокие извинения и прошу не выносить столь строгого решения относительно меня.
— Крокодиловы слезы! — голос Тони.
— Вот все, что я хотел сказать, — не обращая внимания на реплику, закончил Липский. — Думаю, что смогу искупить свою вину.
И он был «помилован»: раскаянию поверили, и Гурилев снял свое предложение.
Много дней после конференции весь город еще говорил о ней. В Комсомольском поселке все преобразилось: началось соревнование за лучший барак, за лучшую комнату. Но особенно счастливой оказалась Шура Лешкова: после конференции она вышла замуж за Прозорова. Никто не сомневался, что появилась новая хорошая семья.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
С тех пор как на строительстве стали появляться первые механизмы — паровые экскаваторы «шкода», дизельные канавокопатели американского производства, бетономешалки, Захар, словно загипнотизированный, мог часами простаивать возле машин, смотреть, как они вгрызаются в землю, и сравнивать их с кайлом и лопатой — основным орудием землекопов. Захар подсчитывал, сколько людей заменяет машина. Да что заменяет — освобождает от непомерно тяжелого и малопроизводительного ручного труда! Будь их десятки — нет, сотни! — этих машин, разве таким был бы теперь город?
Захар жадно вглядывался в каждое колесико, в каждый рычаг, с любопытством прослеживая и разгадывая секреты их взаимодействия.
Тогда-то и зародилась у него неотразимая тяга к машинам. На этажерке появлялись новые книги со сложными техническими названиями, и хотя вначале они были для Захара в полном смысле китайской грамотой, он все равно покупал все новые и новые, с увлечением листал, пытаясь разгадать их смысл. Когда же механизмы, пусть простейшие, стали изучать в техникуме, Захар с жадностью осваивал не только программный материал, но и начинал разбираться в содержании своих книг. А на досуге он сам постоянно что-нибудь чертил, изобретал.
Каменный дом, на строительстве которого работала бригада Жернакова, был выведен до третьего этажа. Таскать доски наверх стало делом трудным и малопроизводительным, впереди был еще четвертый этаж, и Захар предложил Прозорову использовать электромотор с приводом-барабаном. В сущности, это была обычная лебедка, только не ручная, а электрическая. Но на стройке, собственно, и ручных лебедок почти не было — их не хватало даже на ударных объектах строительства. Выслушав Захара, Прозоров сказал:
— Ну что ж, давай расчет.
— Вот чертеж.
Прозоров посмотрел чертежи и рассмеялся:
— Это же детский рисунок! Таких картинок, дружище Захар, я могу нарисовать сколько угодно. Нужен технически грамотный расчет, понимаешь? Точный расчет грузоподъемности, прочности деталей, мощности требуемой энергии.
— А вот сделаем и испытаем; сколько потянет, столько и будет наше, — с наивным простодушием возразил Захар. — Там же указаны основные данные.
— Основные данные! В технике так не бывает, как и в природе… Все должно быть строго взаимосвязано и детально рассчитано. То, что может увезти тройка лошадей, жеребенок не сдвинет с места.
— Вы, Игорь Платонович, по-моему, чересчур усложняете, — с горячностью сказал Захар. — Если вас послушать, то и топор — сложный механизм.
— Если хотите, да! В нем инженерная мысль.
— Но он же появился раньше, чем инженерные расчеты!
И Захар рассказал о бремсберге на лесозаготовках.
— Вы, совсем не о том говорите, Захар. Мы живем в век электричества и самолетов, в век сложнейшей техники. Без теоретических расчетов и обоснований мы шага не можем ступить.
Во время этого разговора в конторе появилась Настенька.
— Вот, товарищ техник, — обратился к ней Прозоров, показывая рисунок Захара, — видели таких инженеров-проектировщиков? Доказывает мне, что по этому чертежу можно механизировать труд.
— Мы уже спорили дома. — Настенька с улыбкой взглянула на Захара. — Так ведь разве его разубедишь? Фантазер он…
После этого разговора Захар, обложившись книгами, целую неделю рассчитывал свою конструкцию. В конце концов механический подъемник был установлен, хотя и не без мытарств и споров с Прозоровым. Как впоследствии оказалось, это была схема простейшего подъемного крана «Пионер», но Захар и не подозревал тогда об этом.
Вскоре он стал испытывать разочарование. Началось с того, что в газете стали называть его комплексную бригаду стахановской. Захара удивило это. Почему стахановская? Перевыполняет нормы выработки? Но ведь так было и раньше и достигалось за счет дополнительных физических усилий, уплотнения рабочего дня и, разумеется, более разумной расстановки людей.
Во время установки стропил на здании детского сада он обратил внимание на то, что у верхнего венца обвязки, которую делала бригада Торгуника, брусья оказались соединенными простым конусом и сбиты гвоздями. Было грубо нарушено элементарное техническое правило. Захар остановил работу, разыскал нормировщика.
— На сколько процентов бригада Торгуника выполнила норму в тот день, когда клала обвязку?
Оказалось, на двести восемьдесят процентов. Эти же проценты дневной выработки были помещены в газете под сенсационным заголовком «Рекорд стахановцев Торгуника».
— И вот, понимаешь, — с горечью говорил Захар вечером Настеньке, — это называется стахановский труд! Человек сделал брак, а ему кричат «ура»!
— А что Прозоров?
— Не нашел его. Завтра с утра пойду и устрою скандал. И вообще что-то надо делать. Или в газету написать, как думаешь? Взять и прямо заявить: так, мол, и так, мы искажаем саму идею стахановского движения, когда называем стахановцами тех, кто не заслужил этого высокого звания. Вот я, например. Какой я стахановец? Что я внес нового в строительную технику? Подъемник? Так это пустяк, штука давно придуманная. Вот когда я сделаю настоящее открытие или умело применю какой-то новый прием труда, что ли, тогда называйте стахановцем!
— Умница ты у меня, Зоря! — Настенька подошла к нему, как обычно сидящему за грубо сколоченным письменным столом, заваленным книгами, и обняла сзади за шею. — Молодец ты!
— Почему молодец? — изумился Захар.
— Потому что ты много думаешь, — просто сказала Настенька.
— Мало и плохо еще думаю. — Захар сжал пальцами виски. — Понимаешь, все так сложно, надо так много знать, уметь осмысливать, что, мне кажется, я никогда не одолею этого…
— Ну, что именно? — спрашивала Настенька, усевшись против него. Во взгляде ее милых, добрых глаз были и заинтересованность и тревога.
— Ну, как тебе сказать… Я не стахановец, понимаешь? Я еще не стахановец, а меня уже называют стахановцем. Ну, как это доказать!
— Да пусть их называют! — воскликнула Настенька. — А ты делай свое дело.
— Легко сказать! — Захар откинулся на спинку стула. — Это же нечестно, понимаешь? Это ложь!
— А может быть, ты неправильно понимаешь саму идею стахановского движения?
— Может быть… — вяло согласился Захар.
Назавтра, выйдя на работу, он созвал свою бригаду и спросил: кто как понимает стахановское движение? Спорили долго — до хрипоты. Каждый понимал по-своему. Один — как повышение производительности труда, другой — как применение механизмов в труде, третий — как поиск новых способов, приемов работы, более производительных, чем прежде, и так далее.
Захар достал газету «Правда», прочитал несколько выдержек из передовой и сказал:
— Так вот, давайте договоримся; стахановское движение — это творческий подход к труду. Надо искать новые, самые производительные приемы труда. Давайте искать их сообща. Кто чего придумает — сразу на общий суд… А пока вяжите стропила. Устанавливать будем после того, как бригада Торгуника заменит обвязку верхнего венца. А я пойду к прорабу.
Вскоре он был в конторке у Прозорова.
— Игорь Платонович, как вы понимаете смысл стахановского движения? — спросил он, положив кепку на стол и зачесывая пятерней волосы.
— Ну, как тебе сказать…
В это время в конторку мячом вкатился Аниканов. В последнее время он заметно располнел, а голова на короткой шее, опушенная мягкими волосами, стала как будто еще круглей.
— Здравствуйте, товарищи, — суховато сказал он и подал руку сперва Прозорову, потом и Захару. — Ну, как идут делишки? Как насчет стахановского движения?
— Вот как раз об этом и говорим. — Прозоров насмешливо посмотрел Аниканову в лицо. С первого дня знакомства он испытывал отвращение к инструктору постройкома: «Пустой болтун, демагог». — Вот товарищ Жернаков спрашивает, что такое стахановское движение.
— Нет уж, извините, Игорь Платонович, — возразил Захар, — вы не передергивайте, я не об этом спрашивал вас.
И он рассказал о случае брака Торгуника на строительстве детского сада, а заодно высказал и свою точку зрения:
— Во-первых, крыша могла упасть детишкам на головы, а во-вторых, похабим мы это движение, вот что получается!
— Ты полегче на поворотах, Захар, — повысил голос Аниканов. — Что значит «похабим»? Ты думаешь, о чем ты говоришь?
— А если это правда, тогда как это назвать? — горячился Захар. — Стахановское движение — высшая форма социалистического соревнования, так? Оно означает, что люди знают технику и отлично применяют ее. А какая у нас техника? Что мы применяем нового по сравнению с прошлым годом, когда стахановского движения еще не существовало? Все то же! Так почему же меня или Торгуника называют стахановцами? Мы этого не заслуживаем! Ударники — это дело другое.
Но Аниканов уже не слушал Захара — он получил пищу для своих «разносов». Теперь на каждом собрании он будет повторять рассказ о том, как в его присутствии Жернаков охаивал и поносил стахановцев и стахановское движение. Неважно, что еще говорил Захар, неважно, какую мысль он отстаивал. Важно то, что он сказал: «На стройке похабят стахановское движение».
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Кажется, еще никогда жизнь Андрея Аниканова не складывалась так счастливо, как в последний год. Еще прошлой осенью он получил великолепную квартиру с паровым отоплением и обставил ее отчасти казенной, отчасти кузнецовской старомодной мебелью. Нынешней весной приехали его родители. Они поселились в добротном доме, построенном общими усилиями Кузнецовых и Рудневых. Теперь Аниканов-старший, работая возчиком в столовой лесозавода, «набирал силу»: огораживал двор высоким дощатым забором, истово корчевал свой участок под огород и сад, уже выкармливал трех розовых поросят; его двор с утра до вечера оглашался приятным сердцу куриным кудахтанием, петушиным пением. Все шло как нельзя лучше.
Иногда к родителям наведывались Андрей с Кланькой. Их принимали как дорогих гостей: на сковороде шкворчала яичница с салом, появлялись литровые бутылки с брагой.
Каждый день, раскрывая свежий номер городской газеты, Герасим Миронович искал свою фамилию — она довольно часто появлялась на страницах газеты: «А. Аниканов». И когда находил, сладостно было на душе Аниканова-старшего. «Молодец, Андрюшка, язви его!» — думал Герасим Миронович.
С тех пор как Андрей перешел в постройком на должность инструктора по организации соревнования, он стал заметной фигурой в городе. Соревнование и раньше было первостепенной заботой руководителей стройки, теперь же, когда появилось стахановское движение, вся работа горкомов партии и комсомола была подчинена этому. На волне нового движения и всплыл Аниканов. А плавать в подобных случаях он умел великолепно: не проходило недели, чтобы в городской газете не появлялось статьи или заметки Андрея Аниканова, прославляющей стахановцев или критикующей руководителей.
На очередной конференции, когда избирали делегатов на краевую комсомольскую конференцию, одним из первых было названо имя Андрея Аниканова.
Это была первая поездка Аниканова в Хабаровск — столицу Дальнего Востока.
Собирая мужа в дорогу, чего только не припасла ему Кланька: от шоколада и сухарей до копченой колбасы и домашнего сала — все было положено в емкий чемодан. «Чего не случается в пути?» — думала Кланька и совала в чемодан Андрея все, что может пригодиться, вплоть до зимней шапки. Но в дороге ничего не случилось, и через три дня Аниканов в числе других делегатов благополучно высадился на хабаровской пристани.
Речь его на конференции была подготовлена еще дома, в минуту наибольшей сосредоточенности. В ней была отработана каждая фраза, каждый поворот мысли. Аниканов выступил с этой речью в первый же день конференции. Он не щадил никого: ни горком партии, ни горком комсомола, ни постройком, где работал; разносил в пух и прах «консерватизм» — знал, где выступает!
— Но, как показал опыт, товарищи, — говорил Аниканов, эффектно выбрасывая руку вперед, — у стахановского движения есть прямые противники и среди комсомольского актива. Недавно мне пришлось столкнуться с таким фактом. Есть у нас в Комсомольске бригадир Жернаков. Как будто и сознательный товарищ, а ставит спицы в колеса стахановского движения. Недавно он мне лично заявил так: «Мы опошляем стахановское движение, когда делаем его массовым». По его словам выходит, что стахановцами могут быть лишь единицы, так сказать, избранные. Нетрудно догадаться, куда это ведет. Это ведет к сужению фронта стахановского движения, а в конечном итоге — к его подрыву.
— А вы поставили в известность комсомольскую организацию, где работает этот товарищ, о его настроениях? — спросил секретарь крайкома.
— К сожалению, нет, просто не успел, — сказал Аниканов, хотя прошло полтора месяца со дня его разговора с Захаром. — Но, я думаю, что по возвращении с конференции мы разберемся и примем соответствующие меры.
— Товарищ Каргополов, возьмите себе на карандаш этот факт, — сказал секретарь крайкома.
— Тут не совсем все так, товарищ Листовский, — отозвался Каргополов из задних рядов президиума. — Я разговаривал с Жернаковым, товарищ Аниканов искажает факты.
— Извините, товарищ Каргополов, — запальчиво отозвался Аниканов с трибуны. — Я говорил с Жернаковым в присутствии инженера Прозорова, так что у меня есть живой свидетель. И не к лицу секретарю горкома прикрывать зажимщика стахановского движения, хотя бы он и был близким другом…
По залу прошел шумок.
— Молодец!
— Вот это чистит!
Перепалка угрожала превратиться в скандал, и председательствующий прекратил ее:
— Продолжайте, товарищ Аниканов, потом разберемся.
Но Андрей уже все сказал, осталось только произнести здравицы в честь партии и ее руководителей, в честь стахановского движения — без подобных здравиц он не обходился ни в одной речи. Откуда было знать делегатам конференции, что кроется в тайниках души звонкого оратора? Конечно же, они ответили дружными аплодисментами.
Выступил Каргополов.
— Я хочу дать справку, товарищи, по поводу заявления члена нашей делегации товарища Аниканова, поскольку он ввел в заблуждение делегатов конференции. Речь идет о так называемом «консерватизме» Жернакова. На самом деле Жернаков хороший комсомолец, ударник и бригадир одной из лучших стахановских бригад. Что касается разговора, на который ссылается Аниканов, то содержание его было прямо противоположным: на самом деле Жернаков высказывался против опошления стахановского движения, против огульного зачисления в разряд стахановцев всех рабочих, в том числе и бракоделов. Не для кого не секрет, что есть люди, которые в погоне за процентными показателями, выполняют работу на скорую руку, абы как, прямо-таки во вред качеству. Таких людей мы должны сурово критиковать. И должны также критиковать тех, кто стоит у руководства стахановским движением и печется не о существе дела, а о цифровых показателях. Такой грешок, кстати, водится и за выступавшим здесь товарищем Аникановым. Он работает у нас в постройкоме инструктором по организации социалистического соревнования…
— А вы приведите факты! — крикнул кто-то из зала.
— Пожалуйста, — спокойно отозвался Каргополов. — Я сошлюсь хотя бы на тот факт, который послужил поводом для упоминавшегося здесь разговора с Жернаковым. Есть у нас плотницкая бригада Торгуника. В погоне за показателями — а она в этот день выполнила задание на двести восемьдесят процентов — бригада грубо нарушила технические требования, срубила верхний венец дома, предназначенного под детский сад, не в замок, а на конус, и скрепила его гвоздями. А между тем на этот венец ставятся стропила, поэтому с точки зрения несущей опоры венец не отвечал требованиям прочности. И все это сделано по распоряжению Торгуника. А товарищ Аниканов зачислил эту бригаду в число стахановских, да еще расхвалил ее в газете. Кстати, эта бригада, особенно сам Торгуник, отличается рваческими настроениями. Вот против чего выступал Жернаков.
— Нехорошо, нехорошо, — бросил реплику секретарь крайкома комсомола.
— Но это еще не все, товарищи, — продолжал Каргополов. — Меня немного удивляет тот факт, что товарищ Аниканов в своем выступлении у нас на городской конференции ни словом не обмолвился обо всем том, что он здесь говорил.
— А это его дело!
— Каждый волен говорить то, что он думает! — летели реплики из зала.
— Неправильно, обязан был сказать! — возражал кто-то.
— Товарищ Листовский! — крикнул Аниканов, когда реплики приутихли. — Прошу справку!
— В конце заседания, — отозвался секретарь крайкома. — Продолжайте, товарищ Каргополов.
И вот в конце заседания Аниканов вновь на трибуне. Зал с напряженным вниманием следит за ним — что-то он скажет, кто же прав: он или секретарь горкома комсомола? «Видать, за правду борется, коль так смело и настойчиво воюет с самим секретарем», — думают делегаты.
— Товарищ Каргополов кое-что напутал здесь, — с места в карьер начал Андрей. — Да, с бригадой Торгуника я действительно допустил ошибку. Конь, говорят, о четырех ногах, и тот спотыкается. А я о двух ногах, — сострил он, вызвав смешок в зале, — как тут не споткнуться! У меня на учете полтыщи бригад, товарищи! Скажите, смогу ли я за каждой уследить? Конечно, нет. Этого как раз не хочет понять товарищ Каргополов. Но дело не в том, и не из-за этого разгорелся сыр-бор. Я утверждаю, что мой разговор с Жернаковым содержал именно то, что я говорил в своем первом выступлении, а Жернаков говорил именно то, что я вам сообщил. Вот его слова.
Аниканов многозначительно, неторопливо достал из кармана записную книжку, молча полистал ее, поднял над головой раскрытые страницы, чтобы видели все, и объявил:
— Вот здесь дословно записаны фразы Жернакова, можно потом проверить. Слушайте, что он сказал: «Мы опошляем стахановское движение, когда объявляем стахановцем каждого рабочего, который перевыполняет норму». Это раз. Дальше: «Стахановцем может быть только тот, кто изобрел что-нибудь новое», — это два. Дальше: «Звание стахановца нужно присваивать только за выдающиеся успехи рабочего». Это три. А вот что сказал товарищ Сталин на этот счет: «Стахановцем является каждый рабочий, в совершенстве овладевший техникой и методами труда». Ясно теперь, кто прав и кто не прав. Прав я был или нет, когда заявил, что Жернаков стремится к сужению фронта стахановского движения, а стало быть, к подрыву его, так как мы боремся за его массовость? Товарищи, правильную оценку я дал заявлениям Жернакова или нет, скажите мне? — с видом победителя обратился он к залу.
— Правильно!
— Молодец!
— Вот это дает!
Поверили Аниканову, а не Каргополову. Недаром же Андрей ночей недосыпал, готовясь к своему решающему шагу — столь ответственному выступлению с трибуны краевой комсомольской конференции. И то вознаграждение, на которое втайне рассчитывал, он получил: его избрали членом пленума крайкома комсомола. Теперь он сможет через каждые два-три месяца ездить в Хабаровск для участия в заседаниях пленумов и уж постарается показать там себя в надлежащем свете. Записная его книжка будет пополняться фактами и высказываниями, подобными тем, которые с таким триумфом он продемонстрировал на конференции, — на этот счет усердия и таланта ему не занимать. Да и то сказать: от Комсомольска не так уж много представителей в составе пленума крайкома ВЛКСМ — он, Каргополов, Ваня Сидоренко да еще человек шесть.
А ну, попробуем прикинуть, какой вес у Аниканова будет теперь в Комсомольске? Скажем, идет там городской комсомольский актив. «Слово предоставляется члену пленума Дальневосточного крайкома ВЛКСМ товарищу Аниканову!» Аплодисменты.
Полномочный представитель крайкома в Комсомольске — разве это не веско? Уж теперь-то он посчитается кое с кем, в первую очередь, с Жернаковым, припомнит то его выступление на Пивани. Да и с Каргополовым попробует потягаться. На этот счет у Аниканова про запас есть такая пилюлька, как выписка из учетной карточки Каргополова, сделанная еще тогда, когда Андрей был заворгом комитета комсомола: «Социальное происхождение — сын священнослужителя (отец до революции был попом)». При удобном случае и при известных обстоятельствах это будет последним, уничтожающим ударом.
Правда, Аниканова немного насторожило замечание секретаря крайкома.
— Товарищ Каргополов, — сказал тогда секретарь крайкома так, чтобы слышал весь зал, — по возвращении в Комсомольск разберитесь как следует во всем этом и обсудите на бюро горкома.
Но эти слова недолго тревожили Аниканова — только до тех пор, пока его не избрали в состав пленума.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Конференция закончилась в последних числах октября, когда по Амуру уже пошла шуга. Делегатам пришлось выехать поездом в Волочаевку, а оттуда предстояло добираться автомашинами по трассе будущей железной дороги Волочаевка — Комсомольск.
Но в Волочаевке пришлось задержаться почти на целую неделю — не было прямой автомашины до Комсомольска, а на «перекладных» большинство делегатов ехать побоялись.
— Смотрите, — говорили им, — тут работают самые отъявленные воры-рецидивисты. Некоторые имеют в общей сложности по нескольку десятков лет, один уже набрал восемьдесят два года. Так что украсть, а то даже и вырвать из рук какую-нибудь вещь у «вольного» такому вору ничего не стоит. От того, что за это ему набросят еще тройку лет, у него ничего не изменится.
Наслушавшись таких советов, делегаты единодушно решили дождаться «сквозной» автомашины.
Волочаевка — небольшая железнодорожная станция с поселком в сотню дворов, нанизанных, как мониста, на одну улочку, — лежит среди приамурской равнины, уходящей необозримо на сотни километров. Только в каких-нибудь полутора километрах от нее к северо-востоку одиноко возвышается небольшая сопочка с нанайским названием Июнь-Корань. Именно отсюда и пошла слава о легендарных «волочаевских днях»: на ее склонах, превращенных белогвардейцами в сплошной бастион и державших на замке железнодорожную магистраль, в феврале 1922 года разыгрались кровопролитные бои. Они закончились беспримерным штурмом солдат революции последней крепости старого мира в Приамурье. В память о тех днях на самой макушке Июнь-Корани высится зданьице из белого камня, похожее на скалистую крепость. На вершине, далеко видимой окрест, навеки встала фигура красноармейца в буденовке, с высоко поднятой над головой винтовкой — знак торжества победы. В памяти народной живет песня «По долинам и по взгорьям».
В первый же день своего вынужденного пребывания в Волочаевке делегаты отправились на сопку Июнь-Корань. Укатанная дорога привела их к подножию сопки, а дальше, по ложбинке — на самую вершину, ее проложили сюда к школе, которая помещалась в самом здании памятника. Березки, ильмы, клены уже сбросили листву, устлав землю, некогда пропитанную кровью, и только низкорослые дубы стояли в наряде пожухлых бурых листьев, звенящих жестью под ударами ветра. Морозец убил траву, поэтому в чаще подлеска далеко просматривались покатые бока легендарной сопки. Они почти сплошь были в шрамах траншей и брустверов.
С вершины сопки видна станция Волочаевка — до нее, кажется, рукой подать. Четко выделялась на равнине и вся железнодорожная колея к западу до станции Ин и к востоку до самого Хабаровска.
— А вы представляете, товарищи, — задумчиво говорил Каргополов, — как эта местность выглядела зимой, когда кругом лежали снега? Все равно что на белой скатерти… Предлагаю, товарищи, почтить молчанием память тех, кто пал на этих подступах.
Все сняли шапки и замерли в скорбном молчании.
Вы жертво-ою пали-и в борьбе роково-ой… —запел Каргополов, все подхватили, и потекла печальная мелодия над сопкой.
Песня подходила к концу, когда послышался звон ребячьих голосов. Это школьники выбежали на переменку.
Наконец за делегатами пришел автобус. Подмораживало не только ночью, но уже и днем, и дорогу покрыла довольно крепкая корка, тем не менее решено было ехать в ночь, чтобы без риска проскочить болотистую низину в левобережье реки Тунгуски.
Автобус был битком набит: вместе с делегатами ехали строители. Аниканов со своим огромным чемоданом забился в задние ряды, в самый угол — в случае чего так легче сохранить чемодан.
— Укачает там тебя с твоим вагоном, — шутили ребята, — не рад будешь и своему добру.
— Ничего, сдюжим, — бодрился Андрей.
До Тунгуски дорога была сносной — к переправе тянулся старый проселок. Но вот минули хлипкий мост с дощатым настилом, и автобус стало кидать на ухабах.
За окном темень ноябрьской ночи, темно и в автобусе. Свет фар выхватывает из тьмы то настил лежневой дороги, то ухабы, когда дорога выходит на релку.
Андрей пробовал уснуть, чтобы скоротать эту кошмарную ночь. Но стоило ему задремать, как очередной толчок кидал его кверху вместе с чемоданом.
Тошнота подступала к горлу, приступы ее повторялись все чаще, наконец Аниканов не выдержал.
— Его бы надо посадить наперед, — предложил кто-то. — Да он за чемодан боится.
— А-а, ну, тогда пусть хоть наизнанку выворачивается…
К счастью, скоро дорога вошла в сопки, где был хороший, щебенистый грунт, и автобус пошел спокойно. Стали синеть стекла окон — проступал рассвет. Пассажиры дремали, некоторые похрапывали, скорчившись в три погибели на тесном сиденье. Только Андрею было не до сна — больно бил по коленям чемодан. Можно было бы засунуть его под сиденье, но откуда знать, кто едет в автобусе? Чего стоит опытному вору незаметно вырезать бок чемодана — и тогда поминай как звали все добро, которое там хранится, — от сбереженной копченой колбасы до подарков, что он накупил родным и Кланьке.
Утро не принесло облегчения. Хорошие участки дороги по склонам сопок сменялись пойменными марями и лабиринтами проточек с жиденькими мостками через них. Каждый из таких мостков готов был рухнуть, когда его с грохотом проходил автобус.
Это случилось уже под вечер. Автобус спустился по косогору на очередную марь. Вдали, километрах в двух, виднелась насыпь, у ее подножия курились дымы, бегали машины. Дорога была до того разбита, что приходилось удивляться искусству шофера и выносливости старенького кургузого автобуса.
До насыпи оставалось уже с полкилометра, когда автобус въехал на дощатый настил, проложенный через неглубокий, но быстрый ручей. Вдруг — удар, автобус резко накренился вправо, перекосился и замер.
— Что случилось? — зашумели пассажиры, опомнившись от толчка.
— Кажется, доска подломилась, — спокойно ответил утомленный шофер и выскочил на дорогу.
Все умолкли, ожидая вестей. Шофер долго не подавал голоса, потом длинно выругался и заявил, появляясь в дверцах:
— Приехали, товарищи, вылезайте.
— Поломка?
— Что случилось?
— Кардан полетел.
— Сломался?
— Да, у самого дифера.
— Вот тебе и праздники!
— Придется куковать до белых мух, а еще и половины не проехали…
— Хорошо, что хоть рядом с поселком, — отозвался другой голос.
— Как бы это «хорошо» не обернулось плохой изнанкой, — пробурчал Аниканов. Он представил себе, как вышел из автобуса со своим чемоданом, как его окружили воры-рецидивисты, как один грозит ножом, а другой выхватывает чемодан…
Все получилось иначе.
— Значит, сели накрепко? — допытывался Каргополов у шофера.
— Ну так вы же понимаете, что такое кардан? Это вал, понимаете, вал, передающий вращательное движение от мотора на дифер, а потом на ведущие колеса. Вот он-то и сломался у самого подшипника. Машина требует капитального ремонта.
— Как решим, товарищи? — обратился Каргополов к пассажирам.
— А чего же тут решать? — ответил кто-то. — Надо идти к начальству и просить машину до Комсомольска.
— Да, пожалуй, иного выхода нет, — согласился Каргополов. — Пойду я.
Вернулся он незадолго до заката солнца. К вечеру мороз стал крепчать, задул пронизывающий ветер, и все в автобусе изрядно продрогли.
— Утешительного мало, товарищи, — залезая в автобус, объявил Каргополов. — Свободной машины нет. Но ночлег дают.
Навьюченные поклажей, уныло тянулись неудачливые пассажиры по разбитой дороге вслед за Каргополовым.
И вспоминалась Ивану весна 1932 года, когда они вот так же вереницей, с пожитками на плечах шагали на Силинку сплавлять лес. Прошло всего три с половиной года, а как преобразилось все кругом! Нет больше таежной глухомани, медвежьего царства, к жизни вызван огромный район. В конце концов, правильно, что и труд преступников облагораживает землю, включен в общий труд страны. Тяжелые условия, дикость тайги и болота? Но ведь и он, комсомолец Иван Каргополов, начинал свой путь на Дальнем Востоке ничуть не в лучших условиях.
Встретил их немолодой боец с винтовкой и малиновыми петлицами.
— Мне приказано сопроводить вас до помещения, — доложил он Каргополову.
Обогнув угол насыпи, на краю которой в длинный ряд стояли ручные тачки, все увидели три приземистых подслеповатых, но ярко побеленных барака. Их ограждал дощатый, тоже выбеленный забор с нитками колючей проволоки поверху и сторожевыми вышками по четырем углам. Вне ограды одиноко возвышался довольно просторный дом с большими окнами, за ним виднелась конюшня, вереница телег. Было безлюдно. Сопровождающий боец привел их в дом, сказал:
— Будете ночевать все вот в этой комнате. Без разрешения дежурного не выходить.
В комнате хорошо натоплено, но нет никакой обстановки, если не считать двух замызганных топчанов. Один из них предложили Каргополову, другой занял Аниканов по собственной инициативе.
Натрясшись за день в автобусе, все изрядно проголодались и потянулись к котомкам, к чемоданам.
Когда Аниканов вышел, кто-то из строителей сказал:
— Ну и жмот, видать, этот ваш «делегат»! Обратили внимание, как он ел? Ничего даже не выложил из чемодана, все по кусочку доставал. Боялся обнаружить запасы, гад. Взять бы сейчас да спрятать его чемодан.
— А что, братцы, ей-богу, идея! — воскликнул Каргополов. — Я сейчас устрою. Под моим топчаном какой-то брезент лежит, так я его туда.
Под общий смех он крякнул, поднимая аникановский чемодан, доволок его до своего топчана и засунул в темный угол, а сверху набросил брезент.
— А теперь давайте выйдем в коридор, — смеясь, предложил он. — Когда придет Аниканов, скажем, что, мол, убирали заключенные.
Так и сделали.
Увидев в окно Андрея, все разом закурили, загалдели, искоса наблюдая за ним.
Аниканов настороженно спросил:
— А почему это все вышли?
— Да там уборку делали заключенные, — отвечал Каргополов, отворачиваясь, чтобы не рассмеяться.
— Уже сделали?
— Ага.
Андрей торопливо пошел к двери, открыл ее.
— Товарищи, а чемодан мой?.. — Голос его сорвался.
— Что — твой чемодан?
— Где мой чемодан?! — Он повернул бледное лицо к гурьбе попутчиков.
— Мы же не сторожили его… Да и свои вещи оставляли, когда выходили.
— Украли! — крикнул Андрей. — Так и есть, украли! Пойду сейчас заявлю начальнику.
— И не вздумай, — мрачно, вполголоса посоветовали ему, — не заметишь, как тебе сунут нож в бок. Они на этот счет спецы, эти урки…
Не сказав ни слова, Аниканов захлопнул за собой дверь.
Когда все вернулись в комнату, были уже сумерки. Аниканов лежал на топчане в позе покойника и потерянно смотрел в потолок. Время от времени он тяжело вздыхал, морщился, словно от зубной боли.
…Утром всех разбудил радостный возглас Аниканова:
— Братцы, чудеса! Ну, прямо чудеса! Вернули мой чемодан!
— Ну и черт с ним, с твоим чемоданом! — полусонно проворчал Каргополов. — Не мешай людям спать…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Отряд военизированной охраны под командованием Ставорского бдительно нес службу. Гайдук не пропускал ни одного праздника, чтобы не отметить в приказе высокой дисциплины и образцовой службы отряда и чтобы его командиру не объявить благодарность «с вручением денежной премии». Любил Гайдук свое детище — военизированный отряд, в чести и почете держал его боевого командира!
Жаловал своих подчиненных и сам командир отряда, особенно Архипа Рогульника.
Послужной список Рогульника был испещрен благодарностями. Иные бойцы с такими же списками давно были повышены в должности — стали командирами отделений или помкомвзвода. Только Рогульник оставался до поры до времени без повышения. Почему бы?
— Грамотешки не хватает товарищу Рогульнику, — объяснял Ставорский, — а то бы я давно двинул его в отделкомы.
У Ставорского имелись свои соображения на этот счет. Рогульник был важнее для него в должности рядового бойца. Кто лучше постового может изучить охраняемый объект? За шесть часов дежурства можно пролезть и высмотреть все закоулки, все хорошо защищенные и наиболее уязвимые места. На всякий случай…
Ставорский назначил Рогульника на охрану важнейшего объекта — склада импортного оборудования. В этом складе хранились дорогостоящие приборы и аппаратура — ими были завалены широкие стеллажи.
Понятно, что Гайдук дал Ставорскому строжайшее указание охранять склад с особой тщательностью, установить там круглосуточный пост из наиболее проверенных людей.
Поэтому, составляя список бойцов на пост к складу, Ставорский одной из первых включил в него фамилию Рогульника. В приказе этот факт отмечался как мера поощрения «бойца-ударника».
Июль 1936 года был в Комсомольске сухим и жарким. Обычно месяц гроз и коротких шумных ливней, июль в тот год был знойным, безветренным, почти без дождей. Трескались бревна домов от жары, все заборы стали пепельными от пыли.
Рогульник, как всегда, заступил на пост в вечернюю смену, перед самым закрытием склада. Вот уж полгода несет он охрану на этом посту. По существующему порядку, прежде чем принять дежурство, он обходил все помещение, тщательно осматривал внутренние запоры и зарешеченные окна, проверял огнетушители и бочки с водой, и только после этого заведующий складом пломбировал дверь главного входа.
Вот и сегодня Рогульник с винтовкой на ремне и противогазной сумкой через плечо неторопливо шагал по многочисленным проходам между стеллажами, пока не очутился в дальнем конце пятидесятиметрового помещения, где по углам стояли бочки с водой и ящики с песком. При этом он время от времени незаметно поглядывал назад: не идет ли завскладом? Но тот, видимо, подбивал итоги дня и не казал носа из своей конторки.
В полутемном углу Рогульник торопливо расстегнул противогазную сумку, вынул из нее ребристую зеленую банку. Воровски озираясь, он сгреб песок с ящика, сунул туда банку и вновь сровнял песок. Из карманов и из-под пояса стал вытаскивать тряпье и набивать им опавшую противогазную сумку.
Обратно он возвратился той же неторопливой походкой, заглянул в конторку завсклада, коротко бросил:
— Все в порядке, можешь закрывать…
Прошло двое суток.
Два часа ночи. Город спит. Спит и Рогульник, повернувшись спиной к супруге.
Безмятежная тишина — мать покоя бродит по не застроенным еще пустырям, в чуткой, еще нежилой пустоте одетых в строительные леса новых домов, у подсвеченных ночными фонарями детских садов и школ. Отдыхают натруженные за день рабочие руки Захара Жернакова, Алексея Самородова, Степана Толкунова и сотен, тысяч их соратников. Наступит новый день, и они, эти руки, с новой силой сожмут топоры и мастерки, кайла и пилы, поручни тачек и рукоятки лопат: кирпич за кирпичом неотступно будут они растить стены большого, светлого дома для всех людей земли.
Не спит лишь бдительная охрана мехкомбината.
Да еще не спит сам командир бдительной охраны — Харитон Иванович Ставорский. Нет, он не занят важным делом, он просто лежит в кровати и при свете ночника листает книгу, то и дело отвлекаясь от нее, чтобы посмотреть на часы, которые громко тикают рядом, на тумбочке.
— Что за чертовщина, — бормочет он, — уже четверть третьего, а никаких сигналов!..
Вдруг тревожный, торопливо-прерывистый рев ТЭЦ: «У-у-у!.. У-у-у-у!.. У-у-у!» Тревога! Кажется, никогда еще этот могучий басовитый рев не был таким грозным в своем неистовстве, как сейчас, в этой покойной тишине летней ночи.
Словно подброшенный пружиной, вскакивает Ставорский с кровати, включает свет, и вот он — телефонный звонок:
— Ставорский слушает.
— Товарищ командир! Докладывает карнач мехкомбината! Пожар! Склад импортного оборудования горит…
— Поднять по тревоге отряд, — ледяным голосом приказывает Ставорский. — В пожарную позвонили?
— Так точно.
— Я сейчас буду!
Наскоро натянув галифе и сапоги на босу ногу, кинув на плечи френч, без фуражки (и это было предусмотрено), Ставорский выбегает в коридор. Не разбирая дороги, он мчится напрямую к мехкомбинату. Зарево над мехкомбинатом еще маленькое, но оно разрастается на виду. Вон уж взметнулся вверх длинный язык пламени, озарив окрестности кроваво-красным отсветом.
Опередив его на полминуты, в ворота с диким воем сирен, с яркими фарами одна за другой проскочили четыре пожарные машины. Здесь уже толпились люди, громыхая пустыми ведрами и лопатами.
— Никого не пропускать, — приказывает на ходу Ставорский, — впредь до моего особого распоряжения.
Он кидается к телефонному аппарату.
— Товарища Гайдука! — кричит Ставорский что есть мочи в трубку. — Товарищ заместитель начальника строительства, докладывает командир военизированной… Слушаюсь! Докладываю: на мекхомбинате пожар — загорелся склад импортного оборудования. Пока что только один угол. Да, сейчас проехала. Четыре машины: две цистерны и две с лестницами. Думаю, что быстро справятся. Слушаюсь! Разрешите спросить: здесь, у проходной, скапливается толпа. Как прикажете — впускать или нет? Брандспойты уже работают. Прибежала ночная смена из цехов. Слушаюсь! — И к охраннику: — Без пропусков никого не пускайте.
У проходной снова свет фар, машина нетерпеливо гудит, протискиваясь сквозь огромную толпу. Это Гайдук на своем «газике». Высунувшись из дверцы машины, он кричит:
— Товарищи, не волнувайтесь, зараз пожарныки з ним управятся!
— Так огонь-то, посмотрите, уж половину склада охватил! — кричат ему из толпы.
— Это вредительство!
— Ребята, давайте сами откроем ворота!
И вот кто-то уж кинулся туда, стал раскачивать ворота. Выстрел! Это предупредительный, вверх.
— Прекратить безобразие! — орет Гайдук. — Я зараз!
Он грузно бежит к проходной будке.
— Ну, шо там роблиться?
Сквозь толпу пробивается новая машина — ее непрерывный гудок тонет в шуме людей.
— Товарищ Платов, что же это делается?
— Что такое? Почему ворота закрыты? — спрашивает Платов, выходя из машины.
— Да вот, не пускают, пропуска требуют.
— Открыть ворота! — приказывает он охраннику.
— Не могу, товарищ секретарь горкома, не велено!
— Вызовите Гайдука.
— Слушаюсь!
Пока бегали за Гайдуком, уже половина склада была охвачена пламенем. Прокаленные летним зноем доски стен, засыпанных опилками, просмоленная толевая крыша горели как порох. Люди льнули к забору, заглядывали в щели, кричали:
— Сгорит, ей-богу, сгорит!
— Там же полторы калеки тушат!
— Вода, вода кончилась в брандспойтах.
— Аж земля горит, вон, у стены…
В ярком просвете проходной будки появилась фигура Гайдука.
— Послушайте, что вы делаете?! — накинулся на него секретарь горкома. — Это преступление! Почему не пускаете людей?
— Секретный же объект, товарищ Платов. — И к охраннику: — Открыть ворота!
Створки ворот — настежь, сотни людей, словно водопад, ринулись к огню. Видны лишь лица — тревожные, озаренные красным отсветом пожарища. Гремят ведра, в воздухе, как копья, — багры, лопаты. Совершенно непонятно, кто и когда организовал этих людей, вооружил их и бросил сюда, как и кто руководил ими сейчас, когда, растекаясь, они сплошным фронтом стали обкладывать горящее здание, все туже сжимая кольцо вокруг огня.
А огонь яростно бушевал. Уж рухнула задняя половина склада, и теперь жаркое пламя с треском, гулом плясало над кострищем. Из двух брандспойтов работал один, у другой пожарной машины кончилась в цистерне вода; оказалось, что шланги от машины не достают до озера Силинки. Тем временем у всех на виду красная змейка огня пробежала по самому коньку здания к входному торцу склада, и вот уже вся крыша окуталась черным дымом, а потом враз вспыхнула, как факел.
Но уже выстроилось между огнем и Силинским озером несколько живых конвейеров, по ним побежали ведра с водой. У огненного края остались одни смельчаки. Обрызгивая себя водой, опаляемые невыносимым жаром, они кидались с ведрами к огню и плескали воду в самое пекло.
Однако все усилия были напрасны — огонь стал полным властелином. Рухнул склад, и заливать, по сути, стало уже нечего — тонкая аппаратура давно погибла.
Июльская ночь коротка. Пока люди боролись с огнем, они не заметили, как посветлело небо и за Амуром занялось зарево. А когда стало совсем светло, на месте склада импортного оборудования курились едким синим дымком одни головешки…
Наступило чудесное росное утро. Солнце не знало, как лучше обласкать и согреть землю и начинающий гомонить город. Оно попросту залило все золотом. Удивительно легко и сладко дышалось в этом утреннем прохладном воздухе.
Только не радовало это утро Платова. После пожара он не вернулся домой, а велел шоферу ехать к горкому. Вскоре здесь появились председатель горисполкома и начальник горотдела НКВД.
— Я приказал временно арестовать всех работников склада и бойца военизированной охраны, находившегося на посту, — доложил начальник горотдела. — Так сказать, в порядке профилактики.
— Этого мало, — возразил Платов. — Нужно сейчас же вызвать Гайдука и Ставорского.
— Что вы имеете в виду, Федор Андреевич? — с подобострастием спросил председатель горисполкома.
— А то, Алексей Спиридонович, — недовольно сказал Платов, исподлобья глядя на председателя, — что они фактически виновны в исходе пожара: задержали народ возле проходной, когда люди могли побороть огонь.
Но Гайдук и сам явился. Весь растрепанный, в потеках копоти на одутловатом лице, он по-свойски, без приглашения, уселся в мягкое кресло, кинул на подоконник светлую кепку, прожженную искрами.
— Був склад — и нэма склада, — со стоном сказал он. — Ах ты, бисово дило!..
— Не о складе надо печалиться, а об оборудовании, — угрюмо молвил Платов.
— Так то ж и я кажу.
— Сейчас придет Ставорский, — продолжал Платов, — я звонил, велел разыскать его. А пока, товарищ Гайдук, дайте нам официальное объяснение по следующим вопросам. Первый: чья это была инициатива — не пускать людей к пожару?
— Цэ моя промашка, Федор Андреевич, как на духу докладую вам. Моя. — Гайдук ясными глазами посмотрел на Платова, кладя руку на сердце.
— А чем это было вызвано? — спросил начальник горотдела НКВД.
— В этом весь сэкрет. — Гайдук всем корпусом повернулся в его сторону. — Я так уразумлял: пожарная на месте, рабочие цехов ночной смены тоже там да плюс бойцы отряда ВОХРа — хиба ж того мало? А тут же спросив Ставорского: «Дуже горить?» Тот отвечае: «Маленько». Тоди я и приняв це решение: территория комбината — закрыта зона, склад — секретный объект, потому не пускать, без них справимось. А ще думаю: пустить — вы ж тоди за это мени пришпилите…
— Но вы ведь видели, что те люди, что оказались на территории комбината, не справятся с огнем, — сказал Платов. — Почему мне пришлось вмешиваться в это дело?
— А я как раз и прийшов к проходной, шоб дать указание пускать народ, — с простодушием, граничащим с наивностью, объяснял Гайдук.
Все с усмешкой переглянулись.
— А не наоборот ли получилось, — возразил Платов, — что вы пришли потому, что я вас вызвал?
— Так оно же совпало так, — отвечал Гайдук.
— Взрослый человек вы, товарищ Гайдук, а послушать вас — ребячий разговор, — сказал Платов. — Теперь второй вопрос: почему сразу не сорвали пломбу с двери склада, когда начался пожар? Ведь успели бы вытащить бо́льшую часть оборудования… Ах, без завсклада не имели права? А если бы он умер, так бы и горел склад — до пломбы?
— Тут вжэ не моя вина, — замотал своей круглой, как арбуз, головой Гайдук. — Ставорский там командовал. Но я так кажу: его тоже нэ можно винить — он действовал по инструкции. А в тиэй инструкции сказано, шо пломбу никто не имеет права срывать, кроме материально-ответственного лица, стало быть, заведующего, складом.
— Ну, чудеса! — со злой усмешкой воскликнул Платов. — Пломбу не срывали — по инструкции, народ не пускали тушить пожар — по инструкции; значит, склад сгорел тоже по инструкции?
— Хиба ж в том моя вина? — Гайдук беспомощно развел руками. — Инструкции ведь не я сочиняв, они звыше приходють…
В кабинете установилось гнетущее молчание. Его нарушил начальник горотдела НКВД.
— Я предлагаю в порядке временной меры, до выяснения обстоятельств, взять под стражу Ставорского, — предложил он.
— Нет! — возразил Гайдук. — Тоди и мене з ним до кучи заарештуйте. Нашей вины поровну.
В это время в дверь постучали и вошел Ставорский. Откозыряв, он доложил, что прибыл «по вашему распоряжению».
Разговор со Ставорским ничего нового не прибавил к тому, что уже было выяснено у Гайдука — тот давал те же объяснения, ссылался на те же, что и Гайдук, инструкции «звыше».
— Хорошо, идите работайте, — сказал Платов. — А вы, Петр Сергеевич, останьтесь, — обратился он к начальнику горотдела НКВД.
Посетители ушли. Секретарша внесла газету.
— Что такое? — Платов впился в первую полосу: с нее в черной рамке смотрел Максим Горький. — Петр Сергеевич, Горький умер!.. Какая невосполнимая и тяжелая потеря!..
Он углубился в чтение.
— Слушай: предсмертные слова Алексея Максимовича: «Будут войны…», «Надо готовиться». Чувствуешь, о чем он думал в последнюю минуту? «Надо готовиться» — это завещание нам, коммунистам…
— Так она, война-то, уже идет, Федор Андреевич. Разве это не война — сегодняшний пожар?
— Конечно, война, но война малая, — возразил Платов. — Горький имел в виду большую — возможно, всемирную войну.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
В конце ноября тридцать шестого года в Комсомольск из Хабаровска пришел первый пассажирский поезд. Захар и Настенька были на митинге, посвященном этому событию, и уже торопились на грузовик, как вдруг их окликнул Каргополов. С ним шел дядька с черной бородищей, одетый в стеганку, валенки и старую казачью папаху.
— Он? — Каргополов указал на Захара.
Синие молодые глаза на широком продубленном лице засияли, как озера.
— Он, чертяка!.. Ну, здорово, Захар! — прогудел молодой бас.
— Гриша! Агафонов?! — Захар кинулся к нему, они обнялись. — Гром бей, не узнал бы, встреть на улице! Да ты откуда? Почему в гражданском? Зачем отрастил бородищу?
— Для тепла холил. Скоро сбрею. — Агафонов привычным движением разгладил бороду и усы, продолжая по-ребячьи улыбаться. — А я, знаешь, как нашел тебя? Вот товарищ секретарь горкома комсомола назвал в речи твою фамилию как лучшего стахановца. Думаю, дай спрошу после митинга: кто это такой Жернаков? Уж не наш ли? Не из кавшколы, не из моего ли отделения?
— Где работаешь? Куда держишь путь? И почему у тебя такой полуказачий вид? — засыпал его вопросами Захар.
— Там, где работал, уже не работаю, — отвечал Агафонов. — Путь держал до Комсомольска как почетный пассажир первого поезда, а на полуказачью форму перешел ровно два года назад.
— Сидел? — сообразил Захар.
— Как есть два года, — отвечал Агафонов. — Строил вот эту дорогу… Год — как все, год «бэка» — бесконвойным. А получил три года. Уразумел?
— Значит, досрочно? А за что получил?
— История длинная. Короче — служил в конно-механизированном полку, сфотографировался как-то у бронемашины, как, бывало, с конем, послал карточку домой… Вот и все! Пришили разглашение военной тайны — кто-то из хуторян стукнул в органы.
— Остановился-то где?
— Пока в вагоне вещички. Думаю устраиваться в Комсомольске.
— Так тогда вся статья ко мне! — воскликнул Захар. — Настенька, ты помнишь этого бородача? Ты ведь его должница…
Настенька улыбнулась.
— Глаза знакомые, а так не могу представить себе, каким вы были в кавшколе. А почему должница?
— Потому что он отпускал меня к тебе на свидания в урочное время, можно сказать, брал грех на душу.
— А я-то вас знаю, — тепло сказал Агафонов. — Корольков знакомил меня с вами, помните? На выпускных конноспортивных соревнованиях.
— Постойте, постойте, это не вы упали тогда во время прыжка через бугор?
— Не бугор, а «банкет»! — Агафонов широко улыбнулся — видно, воспоминание согрело ему душу. — Да, это я полетел. Понимаешь, — обратился он с живостью к Захару, словно их и не разделяло четыре с половиной года разных путей-дорог, — понимаешь, раньше времени поднял своего Партера, можно сказать, подвел его. Ну он, понятно, не сумел взять «банкета», скользнул передними копытами по обратному откосу и загремел через голову. Я, наверное, метров на пять дальше него улетел. Но даже синяка не было!
— Теперь я вас вспомнила, — говорила Настенька. — С вами тогда блондиночка тоненькая была. Кажется, студентка из зернового.
— Так точно, Зиночка, моя жена.
— А где она сейчас?
— Агрономом работает в Волочаевке. Вот, думаю устроиться здесь, получить комнатушку, тогда и переведу ее сюда, в совхоз Наркомзема.
— С Васей Корольковым не переписываешься? — спросил Захар. — Понимаешь, Настя везла адрес и где-то потеряла его.
— Адрес есть, но не переписываемся. — Лицо Агафонова посуровело. — Не хочу навлекать на него беду, еще пришьют ему связь с заключенным… Он служит в Никольск-Уссурийске, в восемьдесят шестом кавполку.
Вещей у Агафонова оказалось негрузко — новенький чемодан и какая-то небольшая скатка, обмотанная потертым байковым одеялом.
Когда уже въезжали в город, Агафонов спросил Захара:
— Ты чего пьешь?
— В смысле этого? — Захар щелкнул себя пальцем по кадыку. — В основном — ничего. Винишко иногда, по великим праздникам.
— А я, брат, на трассе спирт научился глушить. На морозе шибко помогает. Жбанчик везу с собой. Или вина возьмем?
— Конечно, вина, — вступилась Настенька, — как раз новочеркасский долг отдам вам… за свидания с Захаром.
— Слово хозяйки — закон, — улыбнулся Агафонов. — Только возьму я. Грошей у меня много, два года финчасть откладывала заработок на мой счет, на руки не давала. Да еще премии были.
Жернаковы теперь одни занимали целую квартиру.
— И это все твои хоромы? — спрашивал Агафонов, оглядывая комнаты и довольно просторную кухню. — Добре живете, по-барски прямо!
Потом он долго умывался, фыркал, минут десять с усилием расчесывал свои роскошные кудри и дремучую бородищу.
Уселись за стол.
— Ей-богу, богато живете, братцы, — не переставал гудеть Агафонов, — даже серебряные приборы!
— Это дочке подарили ко дню рождения, — объяснила Настенька, сияя, — а столовый сервиз купили только нынешним летом.
— Так у вас дочка?
— Целая Дарья-бахчевница! — отвечал Захар. — Наташка, уже два года. В детском садике сейчас.
— Ну вот, а у меня сыну два года, Иваном назвали, — просиял Агафонов. — Так что ваша дочка в старых девах не останется. Ну, начнем? Кстати, я вино не буду, спиртишко здоровее. Может, попробуешь, Захар?
— Первую, пожалуй, спирта выпью.
Выпили за встречу.
Отдышавшись и закусив, Захар сказал:
— Встретился, понимаешь, с тобой — и вроде как в кавшколу вернулся. Вот ведь здорово!
По второй выпили за кавшколу, за друзей, чьи пути неведомо куда пошли. Вспомнили Васю Королькова — отличного курсанта и наездника.
— Сегодня же напишем ему письмо, — возбужденно говорил Захар, — вместе опишем, как встретились. Слушай, а давай его пригласим сюда в гости! — Спирт уже горячил ему голову. — Вот бы здорово — втроем собраться за этим столом!
— Если его не перевели на новое место службы, — трезво заметил Агафонов.
— Все равно разыщем, через командование! — настаивал на своем Захар.
После третьей Захар совсем захмелел — лицо раскраснелось, глаза блестели, язык слегка заплетался. Но Агафонова пока хмель не брал.
— Зоря, ты больше не пей, — беспокойно говорила Настенька, поглядывая на мужа, — уже пьяный!
— Ладно, я и сам это чувствую. А ты, Гриша, выпей, я чокнусь с тобой вином. Налей, Настенька, мне немного.
На этот раз Агафонов опрокинул в себя почти полный стакан разведенного спирта, крякнул, разгладил усы и бороду и сказал:
— Не сложилось у меня жизни, язви его!.. То-то обидно, Захар! — Он тяжко вздохнул. — Разглашение военной тайны! Идиоты! У старой бронемашины сфотографировался, эта машина в газетах печаталась тысячу раз. Как вспомню то время, когда исключили из партии, посадили, лишили воинского звания!.. — Он скрипнул зубами. — Ивану от роду две недели. Зиночка еще не оправилась после родов, а нас выселили из квартиры…
А в лагерях в одну кучу собирают всех: и политических, и воров-рецидивистов, и убийц, и нашего брата — ни в чем не повинный люд. Десять рецидивистов в колонне на сто политических и таких, как я, грешников, и вот уж терроризируют эти выродки всю колонну — отбирают одежду, посылки, пайки. Они, подлюки, организованы между собой, чего хотят, то и делают.
Он устало вытер вспотевший лоб, примирительно сказал:
— Ну, я, кажется, расшумелся дюже. Только ты, Захар, не подумай, что я так сильно пасовал. По секрету скажу тебе: мы в своей колонне троих рецидивистов сами укокали. Сволочи, придумали такую штуку. Раз в месяц нам, отличникам труда, в порядке поощрения выдавали по полста рублей на руки. А финчасть находилась в самом конце барака, туда нужно идти по темному коридору. Так они собирались в такие дни в том коридоре и караулили. Выходит какой-нибудь вахлак, они встречают его с ножами и отбирают гроши. Один раз и у меня отобрали. Приставили к животу четыре финки — куда денешься? Да еще пригрозили: хоть слово кому скажу — не проживу и дня. Взяло меня зло — подушил бы гадов! Конечное дело, заприметил я их. Поговорил с верными ребятами — оказалось, что у некоторых уж по два раза отбирали. Таких нас собралось почти тридцать человек. Стали готовиться к следующей получке. Загодя каждый принес к бараку и спрятал в завалинке по доброй железяке. Договорились так: будем по одному выходить и собираться у того склада «оружия». Как последний выйдет, так вооружаемся и атакуем. На этот раз их оказалось пять человек, все с ножами. Как водится, они обчистили всех. И вот мы нагрянули. Поглядели бы на шакалов, какими они стали, когда увидели нас! «Братики, — кричат, — не бейте, мы же пошутили!» Двое кинулись в финчасть, их там и постреляли, потому что думали — налет. Троих мы сами побили железяками.
Настенька в страхе широко открыла глаза. Захар, не глядя на Агафонова, вертел в руках стакан и хмурил брови, стараясь представить себе мягкого душой, добросердечного парня в роли убийцы, — и никак не мог. Для этого нужен не тот Агафонов, которого он знал, а какой-то другой, озверевший человек. Захар думал о покрутевшем его характере, о какой-то своеобразной цельности его, о справедливой суровости. Да, не расслабили, а закалили эти годы душу его бывшего отделкома. Изжито все юношеское, добряческое, под этим оказалась железная сердцевина.
— Ну и как, наказали вас за эту расправу? — спросил Захар.
— А за что наказывать? — Агафонов усмехнулся в бороду. — Для вида по неделе карцера дали и на том ограничились. А тайком командование колонны поблагодарило нас — от заразы ведь очистили колонну!
Он с аппетитом здоровяка принялся за еду, поблескивая синевой крупных зубов, потом по привычке разгладил усы и сказал весело:
— Что-то у меня и хмель вылетел из головы. Воспоминания, видать, покрепче спирта. Нальем по полстаканчика?
Захар замотал головой.
— Мне вина!
— Тебе бы не надо больше, Зоря, — умоляюще прошептала Настенька.
— Женушка ты моя, — нежно сказал ей Захар, — такие встречи бывают раз в пятилетку. Да и какой я пьяница, что ты меня останавливаешь? Ну, клюну маленько, просплюсь — вот и вся недолга. А потом до Нового года заговеюсь. Кстати, ты чуешь, что за Наташкой пора идти? Или мне сходить?
— Ладно уж, сидите, я схожу.
Она надела цигейковую полудошку, повязалась пуховым платком и вышла.
— Она у тебя стала еще красивее, — доверительно сообщил Агафонов Захару, когда захлопнулась за Настенькой дверь. — Как вообще-то живете?
— Да хорошо! Попиливает иногда по пустячкам, но где, в какой части света нашего брата не пилят жены? Зато справедлива как бог.
— А я со своей Зиной и года не пожил. — Агафонов тяжело вздохнул. — Ну, ничего, приедет в Комсомольск, поживем.
— Специальность-то у тебя какая?
— Шофером, брат, стал. Я же говорил, что после кавшколы служил в конно-механизированном полку. Два дивизиона сабельных и один дивизион автобронемашин — вместо пулеметных тачанок. Ну, а там каждый командир обязан был изучить бронемашину, уметь не только командовать подразделением, но и водить броневик. Это мне помогло в лагере. Правда, по первости трудно было. Но потом насобачился так, что старых шоферов обставлял.
— Да это же здорово, Гриша! — воскликнул Захар. — У меня друг заведует гаражом, Мишка Гурилев. Завтра ты будешь на работе.
— А я об этом особенно и не пекусь. Работы сейчас везде хватает. Меня даже оставляли вольнонаемным в лагере. Да только надоело смотреть на морды зэков. Откровенно говоря, я думаю в совхозе Наркомзема устроиться. Зиночка там же будет агрономом, а я на трактор сяду — тянет меня эта штука! Да и вместе, у земли.
— Ну, смотри, делай как тебе лучше, — добродушно согласился Захар. — Так что же это мы? Ведь прокисает. — Он взялся за стакан.
— Я хочу выпить за тебя, Захар, — сердечно сказал Агафонов. — Молодец ты, что выбрал этот путь в жизни! Армия, она, знаешь…
— Нет, а я и сейчас время от времени скучаю по армии, — раздумчиво проговорил Захар. — А что творилось в первый год — и передать трудно: прямо-таки душа болела! Теперь ничего, забылось как-то. Да и дела идут неплохо — нынешней зимой заканчиваю вечерний строительный техникум… Ну, за меня так за меня! — по-пьяному бахвалился Захар.
Они звонко чокнулись стаканами.
Пришла Настенька с закутанной по глаза Наташкой, облаченной в длинную дошку и крохотные валеночки. Мать поставила, ее у входа в комнату, сняла с нее платок. Румяные щечки, темно-синие быстрые глазенки — Наташка смотрела на гостя во все глаза.
— Ну иди, иди к папе. — Настенька легонько подтолкнула ее в спину.
— А у меня есть мишка, — четко сказала Наташа, робея перед незнакомым дядькой со страшной бородищей, и вдруг расплакалась.
ГЛАВА ВТОРАЯ
К Каргополову в горком пришел невысокий коренастый паренек с широкими скулами и узкими веселыми глазами. Его плотную фигуру ладно облегал старенький халат, расшитый по краям замысловатым орнаментом и туго перепоясанный матерчатым кушаком, на ногах были легкие короткие торбаса-скороходы из рыбьей кожи, расшитые по голенищам.
— Ты главный руководитель комсомола? — без обиняков спросил он Каргополова, подавая ему руку. — Здравствуй. Я комсомола нанайский, Киле Лук. Гости тебе ходи. Моя стойбище Тусэр живи.
— Здравствуй, дорогой товарищ Киле Лук. — Каргополов встал, пожал протянутую руку. — Спасибо, что зашел. Ну, садись, будь гостем.
Киле Лук смело опустился в кресло, покачался на пружинах.
— Сыбко хороши табаретка, луце медвезый скура.
— Как доехал, на чем добирался? — спросил Каргополов, стараясь не подать виду, как любопытен ему гость. Он хотел верить и еще сомневался, что перед ним первый посланец маленькой народности, живущей окрест по берегам Амура.
До сих пор еще не было случая, чтобы нанаец пришел работать на стройку. Пока что они с внешним равнодушием относились к диковине — городу. Торговали на базаре свежей рыбой или вяленой юколой, черемшой, дикими ягодами, иногда битой дичью, а то и картошкой, потом ходили по магазинам, покупали по большей части крупу, табак, соль, чай, сахар, водку. Выпив на базаре, утрачивали всякий интерес к торговле, предлагали рыбу за полцены, а в конце и даром отдавали первому подвернувшемуся покупателю. Стоило немалых усилий навязать плату таким торговцам. Трезвые же были подозрительными и жадными.
Наблюдая за нанайцами на базаре, Каргополов не раз раздумывал над судьбой этой народности. До чего их быт выглядел примитивным! Фактически у нанайцев еще сохранялся общинно-родовой строй. Их сознание находилось во власти шаманов и знахарей. За равнодушием к новостройке в первые ее годы скрывался страх, нагнетаемый шаманами: город ничего хорошего не принесет нанайскому народу, распугает зверя и рыбу, потом придет голод.
Но пройдет, может быть, не больше четверти века, и от этой полупервобытности не останется следа. Появятся у нанайцев свои учителя и врачи, свои ученые и художники, свои писатели и артисты.
А пока… Пока в каждом стойбище имеются начальные школы, в большинстве стойбищ есть медпункты, клубы, где в неделю раз показывают звуковое кино.
Каргополов смотрит на Киле Лука и гадает: с чем явился к нему этот паренек?
На вопрос, как доехал, Киле Лук отвечал бойко:
— Лодкой, однако, до Вознесеновки, а тут, понимаес, катером рибзавода. Не захотель обратно в Тусэр, хотель Комсомольск.
— А почему не захотел в Тусэр, а захотел в Комсомольск? — не понял Каргополов. «Наверное, сбежал из дому», — подумал он.
— А це там, понимаес? Знай только охота и рибалка, — отвечал Киле Лук. — Четыре класса оконцил, а более классов нет. Моя хоцет, понимаес, лампоцька электрицеский делать. Кино смотри, книзка цитай, думал — буду лампоцька делать.
И он рассказал, что в один из приездов в Комсомольск он как-то вечером на строительстве ТЭЦ видел синие огоньки: вспыхнут ярко-ярко, а потом погаснут. Через минуту опять вспыхивают, подолгу светятся синим-синим, трепетно дрожащим светом, потом опять гаснут. И он понял: это делают электрические лампочки. Раз на ТЭЦ, значит — электрические лампочки.
Каргополову стоило немало труда разъяснить гостю разницу между изготовлением электрических лампочек и электросваркой. Поняв свое заблуждение, Киле Лук пришел в отчаяние. Как же это так он мог ошибиться — ведь смотрел кино, читал в книгах, видел своими глазами — и ошибся! А может, главный руководитель комсомола сам чего-то не понимает? Или нарочно сбивает с толку, думает, что перед ним просто мальчик и делать ему лампочки еще рано? Вот, пожалуйста, посмотри паспорт — восемнадцатый год весной пошел. Вот учетная книжка колхозника, посмотри, убедись, сколько выработал трудодней за полгода. Ну что, мальчик? А трех медведей, девятнадцать диких кабанов, с полдюжины сохатых, несчетно белок — кто это добыл в тайге, не Киле Лук?
Хорошо, он сам пойдет на ТЭЦ и своими глазами убедится, кто правду говорит, — Киле Лук или руководитель комсомола.
Он пришел в горком комсомола лишь на следующее утро. Уборщица рассказала, что он сидит здесь, на порожке, с рассвета и ругается, почему Каргополов так долго не является на работу. Рыбаки в колхозе в этот час уже бросают невода.
— Однако, ты правда говори! — Этими словами Киле Лук встретил Каргополова на пороге горкома. — А почему ты не говорил, что синие огоньки сибко интересно работают? Моя хочу там работа делать. Давай бумага! — выпалил он единым духом.
— Подожди, давай поговорим как следует, — отвечал Каргополов, вводя Киле Лука под руку в свой кабинет. — Ты где устроился-то, где ночевал?
— Моя на берегу ночуй, лодка сыбко много. Маленько холод, озябкал.
— Так прямо на камнях и спал?
— Зацем на камнях? Кабанья скура стели.
— А завтракал-то?
— Маленько юкола кусай.
— Да-а… Ну, ты прямо молодец, Киле Лук! — похвалил его Каргополов. — Быть, видно, тебе большим человеком.
— Хочу быть больсым целовеком, — подтвердил Киле Лук. — А то це, понимаес, знай охота да рибалка. Синие огоньки хоцу делай.
— А вещи где оставил?
— Знакомый стороз сказал — дербакадер неси склад. Вот бумазка дали. — Он вытащил документы из-за пазухи, достал из паспорта квитанцию камеры хранения багажа, торопливо протянул ее Каргополову.
Тот с подчеркнутым вниманием прочитал ее вслух, вернул юноше.
— Тогда все хорошо, — сказал Каргополов. — А деньги у тебя есть?
— Тебе плати надо? — с готовностью вскинулся Киле Лук и вновь торопливо полез за пазуху.
— Да нет же. — Каргополов едва сдержался, чтобы не рассмеяться. — Я спрашиваю: есть на что жить, пока зарплату получишь?
— Есть, сто двадцать рублей и пятьдесят две копейки. Однако, ты быстрее давай бамажка на ТЭЦ. Идти работай хочу, — нетерпеливо добавил он.
— Сейчас, сейчас организуем. — Каргополов взялся за телефонную трубку.
Оказывается, на ТЭЦ уже знали о Киле Луке и поняли, что он хочет научиться управлять электричеством, иначе говоря — машинами. Каргополову сказали, что для начала его обучат специальности электромонтера и направят в вечернюю школу. Поселят же нанайца в бараке Энергостроя, в комнате, где живут молодые электромонтеры.
— Ну что ж, все устроено, товарищ Киле Лук. — Каргополов поднялся, подал ему руку. — Желаю тебе успеха. Заходи.
— Молодец! — горячо воскликнул Киле Лук. — Тебе хоросый комсомола. Однако, зима таскай тебе сохатина торбаза. А бамага?
— Никакой бумаги не нужно, все так обговорили.
— Прощай. — Киле Лук дважды тряхнул руку Каргополова и валкой походкой вышел из кабинета.
Спустя неделю Каргополов позвонил на ТЭЦ.
— Ну, как там мой подопечный, будет толк? — спросил он главного инженера.
— Исключительно сообразительный паренек! — воскликнул тот. — И главное — послушный, дисциплинированный. Сначала его не оставляли без надзора — сами знаете, всюду токи высокого напряжения. Теперь понял сам и ни к одному предмету не прикасается, прежде чем не спросит, можно или нет. Прикрепили к нему инженера Марунина, чтобы обучал, ходит в кружок техминимума. Электромонтер получится из него хороший. Да, кстати, заметьте себе, если интересно, это тридцать восьмая национальность в нашем коллективе.
А еще месяца через три Каргополов увидел в местной газете портрет Киле Лука и большой очерк «Синие огоньки». В нем рассказывалось о том, как нанайский паренек стал электромонтером.
В тот же день Киле Лук прибежал в горком комсомола. В руках у него была газета.
Как он изменился! Его крепкую, мускулистую фигурку облегала свежая голубая футболка с белым воротничком, черные брюки были отглажены, стрижка под бокс очень шла ему.
— Здравствуй, товарис Каргополов! — еще в дверях приветствовал он секретаря горкома. — Вот принес газета. Читай! — Он услужливо развернул перед Каргополовым страницы газеты. — Киле Лук знает весь город!
Он долго не уходил от Каргополова — во всех подробностях описывал, как устроена ТЭЦ, какое там высокое напряжение тока, как нужно обращаться с проводами и инструментом на прокладке линий электропередачи.
— Сейчас тянем новую линию, — докладывал он. — Норма выполняем не меньше полторы. Премия получил, купил хоросый костюм, вот брюки от него. — Он встал и повернулся кругом, словно на примерке. — Теперь к зиме куплю пальто с церным воротником, сапку меховую и портфель.
— Зачем портфель? — спросил Каргополов, пряча улыбку. Он знал о пристрастии нанайцев к портфелям, галифе, к военным фуражкам. Но в данном случае речь шла не о праздном увлечении.
— Как зацем? А в сколу с цем ходить? — удивился Киле Лук. — Пятый класс, понимаес, поступил, вецерняя скола.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Захар кончал строительный техникум. Ему потребовалось пять лет вместо обычных трех. Последний год учебы был особенно напряженным. Читались дополнительные лекции. Сам Викентий Иванович Саблин вел курс по сопромату, Прозоров — технологию строительных материалов, Липский — конструкции гражданских сооружений. Среди лекторов оказался и Марунин.
Захар ахнул, увидев его в аудитории. Директор техникума, знакомя с новым преподавателем, объявил, что Сергей Николаевич Марунин, по специальности инженер-электрик, будет читать предмет «электрические строительные машины». А Захар как раз заканчивал отделение механизации строительных работ.
Когда директор вышел из аудитории, Марунин, элегантно одетый, строгий, синеглазый красавец, улыбнулся и сказал:
— Ну что ж, друзья, давайте знакомиться. С теми, с кем не знаком. Кое-кого я уже знаю. Здравствуй, Жернаков! Очень рад видеть тебя здесь!
— Здравствуйте, Сергей Николаевич. — Захар почтительно, по привычке, встал со своего места. — Мне тоже приятно видеть вас нашим преподавателем.
После лекции, очень понравившейся всем своей простотой и доходчивостью, Захар подошел к Марунину.
— Еще раз здравствуйте. — Он пожал руку старому знакомому. — С приездом вас!
— Спасибо. Но как ты возмужал, дружище! И тот и не тот, строгости, собранности, я бы сказал, больше стало. Давай присядем где-нибудь. Кури! — Марунин протянул раскрытую пачку «Казбека».
— Спасибо, не научился.
Они подвинули скамейку к дверям, чтобы дым уходил в коридор, и уселись рядом.
— А я часто, брат, вспоминал в Ленинграде и друзьям рассказывал о нашей эпопее строительства шалашей. Помнишь рогожное знамя? — Он от души расхохотался, запрокинув голову. — А попытку к бегству на ручном моторе! Вот ведь авантюристы были! Я потом не раз в душе благодарил тебя и Брендина. Помнишь ту ночь?
— Еще бы! — Захар скупо улыбнулся. — Очень вы тогда правильно сделали, что отлупили Еремкина. Кстати, не знаете, где он сейчас? Я его что-то давно потерял из виду.
— Да он же сбежал в то же лето, в тридцать втором. Ну и прохвост был! И весь какой-то мутный и криводушный. — Марунин помолчал, сделал глубокую затяжку, подумал вслух: — Да-а, трудное и героическое было время. Настоящая школа мужества!
— А вы, Сергей Николаевич, давно вернулись в Комсомольск? — спросил Захар.
— Слушай, Захар, не обращайся ко мне, пожалуйста, на «вы», — мягко и весело запротестовал Марунин, — ведь я, можно сказать, в подчинении у тебя был!
— Да как-то не могу привыкнуть. То было одно время, а теперь совсем другое.
— Все равно. Ты говоришь, давно ли я вернулся? В середине августа. Потянуло, брат, да так, что невмоготу стало. Я ведь еще в прошлом году закончил институт, стал работать на реконструкции Балтийского завода. Не пропускал ни одной заметки в газетах о Комсомольске. Особенно взволновало описание встречи участников велопробега Орехово-Зуево — Комсомольск. На фотографии митинга увидел много знакомых лиц, в том числе узрел будто даже твое. Был там?
— Был, действительно.
— Видишь, как вглядывался! Как будто это мой родной город. И вот в конце концов не вытерпел, попросился в Комсомольск. Со скрипом, но откомандировали.
— Ну, как наш город? Сильно изменился? — спросил Захар с улыбкой.
— Ничего похожего на старое! Вот только Пермское — как стояли ветхие избушки, так и стоят. Но какие заводы, ТЭЦ какую отгрохали! А каменные дома? Как в сказке! И прошло-то всего три года после моего отъезда, а что сделали! Ты все еще плотничаешь?
— Бригадир комплексной бригады на строительстве каменных домов, — отвечал Захар. Улыбнувшись, скромно добавил: — Стахановской.
— Хорошо! А теперь получишь диплом техника и начнешь руководить участком побольше.
— А мне, между прочим, и в бригаде хорошо. Люблю ее, люблю слаженную работу! Теперь придется потруднее. Да, пожалуй, и поинтереснее. Страшно хочется работать с механизмами, изгонять ручной труд всюду, где только можно.
Звонок на лекцию прервал их разговор. Вставая, Марунин хлопнул Захара по плечу, сказал:
— Нужна будет помощь — не стесняйся, обращайся.
— Хорошо, спасибо.
В конце мая состоялась защита дипломных проектов. Захар взял себе тему «Подъемные механизмы». Старая мысль о лебедке не оставляла его в покое. Потом возникла идея создать совершенный подъемный механизм, который бы начисто освободил людей от необходимости таскать на горбу строительные материалы на верхние этажи.
Где-то в подсознании жила и честолюбивая мыслишка — утереть нос Прозорову.
И потянулись дни напряженной работы, ночи без сна. Не раз приходилось Настеньке глубокой ночью вытаскивать мужа из-за стола, заваленного чертежами и расчетами. Бывало и так, что проснется она, заглянет в комнату Захара, а «проектировщик», положив голову на стол, крепко-крепко спит.
Среди защищающих дипломные проекты была и Любаша. Они с Захаром давно помирились.
Настал день защиты диплома. Захар оделся с иголочки, выбрился и сделался просто неузнаваем. Он как-то весь светился вдохновением. Да Захар ли это? Даже Настенька, кажется, никогда не видела его таким. Она тоже пришла на защиту.
Настенька давно перестала быть ему помощницей; теперь частенько Захар консультировал жену, если речь заходила о каких-нибудь механизмах.
И вот Захар поднимается на кафедру. За столом комиссия во главе с главным инженером Саблиным. В комиссии и Прозоров.
— Нуте-с, послушаем вас, дорогой товарищ Жернаков, — проговорил Саблин, когда секретарь комиссии объявил фамилию выпускника и тему дипломного проекта.
Удивительное дело — Захар почти не волновался. Он с нетерпением ожидал минуты, когда поднимется на кафедру.
Он разработал схему непрерывного приготовления в бетономешалке раствора и непрерывной механической подачи его на этажи посредством стрелы Т-образной формы, от электрического или моторного привода. На обслуживание всей системы, по его расчетам, требовалось всего четыре человека, тогда как сейчас на этих работах обычно используется бригада разнорабочих в пятнадцать — двадцать человек.
Несколько вопросов Прозорова, уточнявших расчеты в мелочах, не застали Захара врасплох.
— Я предлагаю, — сказал Саблин, когда Захар с рулоном чертежей пошел на свое место, — поставить товарищу Жернакову отметку «отлично». Будет ли другое мнение у членов комиссии?
После некоторого молчания бросил реплику Липский:
— Не много ли, Викентий Иванович? Ведь идея эта не нова, в строительной практике она уже применяется в различных вариациях.
— Если бы уважаемый товарищ Жернаков принес нам совершенно новую идею, я бы предложил присвоить ему звание не техника, а инженера, — резковато заметил Викентий Иванович. — Разработать же с такой тщательностью один из вариантов комплекса существующих механизмов — это, батенька мой, для техника, да еще недавнего землекопа, блестящая победа! Есть ли возражения против предложенной мною оценки? Нет? Голосую. Кто «за» — прошу поднять руки. «Против»? Никого. Воздержавшиеся?
Поднялась одна рука — Липского.
— Вот я и смотрю, — весело усмехнулся Саблин, — почему один Липский не голосует ни «за», ни «против». Итак, друзья мои, объявляю решение комиссии: «Заслушав и обсудив дипломный проект товарища Жернакова Захара Илларионовича на тему — тема длинная, не буду зачитывать, — заметил Викентий Иванович, — комиссия постановила признать диплом защищенным с оценкой «отлично», присвоить товарищу Жернакову З. И. звание техника механизации строительных работ и выдать диплом с отличием…» Поздравляю вас, любезный мой дружище, Захар Илларионович, со званием техника! Думаю, что в этом звании вы долго не задержитесь и в недалеком будущем мы пожмем вам руку и поздравим с получением инженерного диплома.
Под гром аплодисментов покидал Захар аудиторию. Не чувствуя под собой ног, он вышел за дверь. Там Настенька обхватила его шею, прошептала:
— А теперь я тебя поздравляю, Зоря! — и крепко поцеловала в губы. — Я, кажется, не чувствовала себя такой счастливой даже тогда, когда сама получала диплом.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
12 июня 1937 года Комсомольск праздновал свое пятилетие. Уже стало традицией в этот (всегда погожий!) день проводить массовки на Амуре — в распадках, на островах.
Как обычно, в этот день прилетали самолеты аэроклуба, сбрасывали парашютистов и показывали фигуры высшего пилотажа.
Как и два года назад, первым шел затяжным прыжком Гурилев.
— Все! — сказал Захар. — Иду в аэроклуб!
— Не трепись! — Гурилев безнадежно махнул рукой. — Два года все собираешься.
— Да ты знаешь, башка-барабан, почему я не пошел тогда? Техникум боялся запустить. Теперь бояться нечего: диплом в кармане.
— Разрешите, сэр, полюбопытствовать, — Мишка скорчил почтительную мину, — в асы подадитесь аль куда?
— Прыгать с парашютом буду! Думаешь, ты один герой на весь Комсомольск?
— Сейчас-сейчас мы это запишем в книжечку быстренько-быстренько, — дурачился Мишка. Он и впрямь достал записную книжку и карандаш, стал записывать, повторяя вслух: — Жер-на-ков За-хар-ка, пер-вый прыжок се-го ме-ся-ца, числа два-дца-то-го. Точеч-ка. Ясненько? Так? — Он хитро заглянул в глаза Захара.
— А раньше нельзя?
— Никак. Вы же, сэр, пока еще профан, — скоморошничал Гурилев.
— Зоря, ты в самом деле?.. — Настенька испуганно посмотрела на мужа.
— Милая женушка, мы, кажется, закончили разговор в позапрошлом году и на этом самом месте.
— Но это же неразумно! Какая у тебя теперь будет нагрузка? Да и опасно ведь, Зоря!
— А война будет — не опасно? — Захар стал серьезным. — Особенно когда ты ничего не умеешь делать в бою. Посмотри, что творится в Испании, в Китае… Ты думаешь, война долго будет ходить стороной? А на нашей дальневосточной границе ведь месяца не проходит без самурайских провокаций.
— Слышу голос бойца, — торжественно произнес Гурилев.
На следующий день после работы Захар действительно отправился в аэроклуб. Как и условились, там его ожидал Гурилев.
— Маленько-маленько, паря, моя сомневалась, что придешь, — говорил он, дурачась и пожимая руку Захару. — Ну, а теперь всерьез. Сейчас пойдем к комиссару аэроклуба, исповедоваться будешь. Учти: он у нас строгий, особенно не перечь ему, отвечай: «Грешен, батюшка», — и все!
— Что-то я тебя не пойму, Михаил…
— Ну какой ты, право, Захарка, несообразительный! Я же насквозь вижу тебя: ты собираешься скрыть, что когда-то плюхнулся с коня и маленько покалечился.
— Не с коня, а с конем, — поправил Захар. — Ну и что?
— А то, что я уже рассказал ему об этом.
— Миша, ну кто тебя просил! — возмутился Захар.
— Вот кто! — Гурилев постукал себя пальцем по левой стороне груди. — Ясно?
— Ясно, — скучным голосом ответил Захар и вздохнул. — Значит, отставка?
— Там побачимо…
Разговор с комиссаром, не таким уж строгим, наоборот, добродушным, в сущности, только и свелся к этому. Захар объяснил, что уже давным-давно переломы не напоминают о себе.
— Ну что ж, тогда давай на комиссию, — сказал комиссар. — Наши проверяются в военном госпитале. Но потребуется полдня. Сможешь завтра отпроситься с работы?
— Постараюсь.
Госпиталь. Знакомая обстановка! Как будто только вчера он вышел из таких же стен, опираясь на костыли.
Проверка оказалась куда сложнее, чем предполагал Захар, и все это время опасение не покидало его: «Неужели забракуют?»
В этот день ему ничего не сказали, велели прийти завтра.
На следующий день его принимал хирург.
— Ну что ж, молодой человек, — сказал он, рассматривая на свет рентгеновский снимок, — у вас все нормально. Переломы срослись великолепно и ничем вам не угрожают.
Захара бросило в жар.
— Благодарю вас, — заулыбался он. — А скажите, доктор, в армию я годен?
— В технические войска вполне!
— А вы можете дать мне такую справку?
— На какой предмет?
— Хочу, чтобы поставили на военный учет, а то я числюсь в военкомате как ограниченно годный.
— Моей справки для этого не требуется. Просто подайте заявление, и вас переосвидетельствуют. А справку для аэроклуба вы сейчас получите.
Счастливым было это лето для Захара. Диплом техника-механизатора строительных работ, перспектива годности по состоянию здоровья в технические войска — о чем еще он мог мечтать!
Сразу же, не заходя домой, он отправился в аэроклуб и положил на стол комиссара врачебную справку.
— Вот, годен! — сказал он, сияя.
Комиссар пробежал глазами бумажку.
— Очень хорошо. Сегодня в восемь вечера на занятия парашютного кружка. Будете заниматься в группе инструктора Гурилева.
Домой Захар явился запыхавшись. Настенька уже вернулась с работы и привела Наташку.
— Женушка, дочка! — кричал он еще с порога. — Ваш отец — парашютист!
— Чему радуешься, дурачок! — с укором сказала Настенька. — Тому, что теперь мне прибавится тревог?
За эти дни она уже как-то смирилась с идеей Захара стать парашютистом. Но кто осудит женщину, подругу и мать, если она тревожится о своих близких? Настенька не принадлежала к той категории людей, которые ищут подвига, славы. Ей просто хотелось хорошо и спокойно жить, растить дочку, любить мужа, трудиться, как трудятся все.
— Но это еще не самое главное, — возбужденно говорил Захар. — От переломов следа не осталось, так и сказал врач!
— Вот это настоящая радость! — просияла Настенька. — Правда, Зоря?
— Еще бы не правда! Иначе разве допустили бы меня в аэроклуб? Знаешь, мне сказали, чтобы я прошел в военкомате перекомиссию, — соврал Захар. — Должен стать на военный учет как вполне годный к службе в армии.
Захар щадил Настеньку и решил, что не грех и приврать.
Поиграв с Наташкой и пообедав, он заторопился в аэроклуб.
Настенька поцеловала его.
— Ну, счастливо тебе, Зоря!
Десять дней длилась теоретическая учеба парашютистов. Вел занятия в основном Гурилев. Захар немало подивился его командирским качествам: ведь Миша — Захар хорошо это знал — и дня не прослужил в армии. Строг он был и с Захаром, называл его не иначе, как «товарищ Жернаков», и всякие шуточки-прибауточки будто отроду не были свойственны Гурилеву.
Наконец настал этот долгожданный день поездки на аэродром. Накануне весь вечер парашютисты занимались тренировкой. Раз десять каждый из них сложил и разобрал только те парашюты — основной и запасной, — с которыми он будет прыгать. Гурилев в этот вечер был бледен от волнения. Он отстранил от прыжков трех человек, которые допустили ошибку на укладке. Захаром он остался доволен — внимательность и добросовестность Жернакова сказались и здесь.
Аэродром находился в шести километрах от города, на ровном зеленом поле неподалеку от Амура. Пока грузовик мчался по пыльной дороге, ребята, одетые в синие комбинезоны и шлемы, горланили песни. И пение, и мысль о предстоящем прыжке с парашютом, и специфический запах комбинезонов — все это наполняло душу Захара давно забытым радостным чувством.
Но вот и аэродром. В конце поля толпа людей в комбинезонах, самолеты ПО-2. В воздухе стрекочут моторы, кружится несколько машин.
Гурилев высунулся из дверцы кабины, крикнул ребятам в кузове:
— Сейчас подъедем, быстро спрыгивайте! Скомандую построение и доложу начлету. Понятно?
— Есть! — гаркнули в один голос парашютисты.
Грузовик развернулся, мягко затормозил. И тотчас же раздалась зычная команда Гурилева:
— Становись! Направо равняйсь! Смирно!
Миша четко печатает шаг и, подойдя к плотному пареньку в летной форме, рапортует:
— Товарищ начальник летной части, очередная группа парашютистов в составе девяти человек прибыла для прохождения практических занятий. Теоретический курс все закончили на «отлично».
Начлет мягким, пружинящим шагом приближается к строю, проницательно прощупывает всех глазами, спокойно говорит:
— Здравствуйте, товарищи!
— Здрасьть!
— Та-ак. Ну, не боитесь прыгать?
Строй загудел приглушенно, кто-то засмеялся.
— Конечно, нет!
— Значит, теорию закончили на «отлично»? Это хорошо. Даю вводную. Вы покинули самолет, раскрыли парашют. Ветер начинает сносить вас на Амур. К прыжку в воду вы не подготовлены. Ваше решение? Отвечайте вы, товарищ правофланговый.
— Есть отвечать, — четко сказал Захар. — Убираю слегка стропы со стороны Амура, внимательно слежу за скоростью и направлением скольжения. Если скорость скольжения мала и угол спуска велик, начинаю убирать соседние стропы — справа и слева — до допустимого предела. Отпускаю стропы, когда скорость и угол спуска показывают, что опущусь на землю, но не ниже пятидесяти метров.
— Решение правильное!
Потом начлет поставил еще несколько вводных задач и сказал Гурилеву флегматично:
— Готовьте товарищей к прыжкам. Сейчас закончится тренировка учлетов, и начнем вывозить ваших.
Начальника летной части Комсомольского аэроклуба Петю Кныша долго будут вспоминать добрым словом все те, кто учился у него парашютному делу.
В свои двадцать пять лет он уже многое испытал. В детстве беспризорничал, воспитывался в детдоме. В восемнадцать лет поступил в летную школу, окончил ее, служил в истребительной авиации. В одном из ночных учебных боев истребителей он своей машиной случайно протаранил «противника», и оба самолета развалились по частям. Петя Кныш успел выпрыгнуть с парашютом, его же «противник», закадычный друг, так и упал на землю вместе с обломками. Возможно, что он сразу погиб или был тяжело ранен еще во время столкновения истребителей и не мог выпрыгнуть.
Кныш был осужден на три года. Но вскоре его освободили без права служить в военной авиации. Пригодился он в аэроклубе.
Петя Кныш отошел к группе инструкторов и учлетов и, запрокинув голову, стал наблюдать за самолетами, кружащими в небе.
— Где машина Маресьева? Ага, вон он, на виражах. Та-ак, та-ак. Хорошо, хорошо, — комментировал он. — Эх, черт, поглубже бы! А это, кажется, Ткачев там делает перевороты через крыло? Ах, как он торопится, нельзя же так насиловать машину!
Он водил глазами по небу, где одновременно кружились в разных зонах четыре машины, и делал замечания. Это была своеобразная лекция для учлетов и инструкторов, которые окружали его.
— Товарищ начлет, Маресьев заходит на посадку, — доложил инструктор. — У него скольжение на крыло почти до самой посадки.
— Ясно, — сказал Кныш и повернулся к западу, откуда должен начинать скольжение Маресьев.
Там почти на километровой высоте подходил к аэродрому самолет. Вот он ближе-ближе. Даже Кныш не вытерпел, ругнулся:
— Ведь промажет, стервец, не успеет сбросить высоту!
Но тут шум мотора приутих, машина круто склонилась на левое крыло и стала быстро скользить вниз, вбок. Потом спокойно перевалилась на правое крыло и продолжала скользить. Так, перевалившись три-четыре раза, самолет оказался почти у самой земли, неподалеку от взлетного поля. Тут он мгновенно лег в горизонтальное положение, мотор взревел, и машина почти ровно, лишь чуть склоняясь к земле, пошла к полю.
— Молодец! — вырвалось у Кныша. — Классически сбросил высоту, у самой точки!
Он первый кинулся навстречу самолету, когда тот, подняв клубы пыли, подруливал к командному пункту.
В последний раз качнулся вправо-влево пропеллер, мотор чихнул, и машина замерла. Из кабины неторопливо вылез на крыло невысокий плотненький паренек со смуглым лицом, соскочил на землю и расторопно подошел к Кнышу. Приложив ладонь к шлему, он звонко доложил:
— Товарищ начальник летной части, учлет Маресьев закончил выполнение очередного упражнения — виражи и скольжение на крыло.
— Ставлю вам оценку «отлично», товарищ учлет! Молодец, Алеша, — добавил он запросто, пожимая руку своему любимцу.
Кто же знал, что пройдет время и этот паренек, рабочий мехкомбината, станет человеком-легендой! Даже Петя Кныш, который неизменно ставил Алеше Маресьеву оценку «отлично», даже он не мог бы предвидеть этого.
Легендарный город родил легендарных героев — в этом, наверное, была какая-то своя закономерность.
…Наконец очередь дошла и до парашютистов. Все это время они сидели на травке возле своих парашютных ранцев, жадно наблюдая за тем, что происходит на аэродроме.
— Построить парашютистов, — приказал Кныш Гурилеву.
Десять секунд — и все в строю.
— Ну так вот, — заговорил Кныш перед строем. — Сейчас мы вас обкатаем. Знаете, что это такое? Просто повозим по воздуху. А потом посмотрим на ваше самочувствие, и уж тогда повезем на прыжки. Инструкторам — по машинам! — скомандовал он. — Новикову — отставить, я сам полечу на вашей машине. Та-ак. — Он бегло окинул взглядом строй, остановился на правофланговом. — Вот вы, товарищ, полетите со мной. Залезайте в кабину «семьдесят пятой» и пристегивайтесь ремнями.
Захар никогда в жизни не только не летал, но и вообще не бывал на аэродроме. Теперь он, словно во сне, робко подошел к «семьдесят пятой».
— Товарищ инструктор! — окликнул он Гурилева. — Прошу объяснить, как тут надо действовать.
Миша бегом к нему.
— Не робь, Захарка, не робь! — подбадривал он Жернакова. — Вот сюда нога, потом сюда нога, — все это он проделывал сам. — Вот сюда зад, а вот ремни через плечо и через пупок, — комментировал он уже из кабины. — Усвоено?
— Вполне. Спасибо, Миша.
— Признайся, трусковато? — вполголоса спросил Гурилев, когда Захар умостился на сиденье и пристегнул ремни.
— Черт его знает! Никак не пойму. Голова какая-то шальная.
— Будет, будет обязательно трусковато, — по секрету сообщал Гурилев. — Но ты, того, нервишки в кулак, успокойся и оглядись. А когда пойдешь уже на прыжок, ни о чем не думай, смело вылезай на крыло и сигай вниз.
Подошел Кныш, встал на крыло, заглянул к Жернакову в кабину.
— Ну, как вы там? Хорошо устроились?
Потом залез в переднюю кабину.
— Гурилев, крутни-ка!
Миша расторопно бросился к пропеллеру, покачал его туда-сюда, крикнул:
— Конта-акт!
— Есть контакт! — ответил Кныш.
Винт бешено крутанулся, затарахтел мотор, набирая напряженный ритм.
— Ну, Захарка, держись!..
Самолет легко побежал, развернулся на поле раз, другой и вот уже понесся — Захар даже не заметил, как он оторвался от земли. Чудеса — земля качается! То так прогнется, то этак, то валится куда-то набок или становится на дыбы, а сама все дальше и дальше. Уж вроде и не земля, а огромный макет, точно такой, на каком когда-то в кавшколе обучали тактике.
Самолет набирал высоту. Захару казалось, что машина висит неподвижно, а земля удаляется, но и это было заметно только потому, что все предметы на ней мельчают. Кругом пусто, будто самолет сам по себе, просто нигде, вне всякого мира. Страшно? Ничуть! Даже очень интересно. Вот только иногда вдруг подкатит, не то в груди, не то в животе станет щекотно, и тогда немного страшновато, похоже, что падаешь.
Кныш повернул голову, пристально посмотрел в лицо Захара, как бы спрашивая: «Ну как?» Захар показал большой палец, весело, даже слишком весело, улыбнулся. Так бывает с человеком, когда он во взвинченном состоянии. Кныш повертел ладонью в воздухе, выписывая какие-то сложные фигуры, потом сжал кулак, потряс им. Ясно: держись!
В ту же минуту Захар почувствовал, что самолет клюнул носом. Захара оторвало от сиденья, придавило к ремням. Потом взревел мотор. На плечи Захара навалилась тяжесть, втиснула его в кабину так, что спине стало больно. И уж нет над ним неба, оно внизу, а вверху — чудеса! — земля. И кажется, он падает в небо. Опять оторвало от сиденья, да так, что вот-вот он вывалится из кабины. Пришлось накрепко ухватиться за какую-то там поперечную планку, и снова все стало на место. Земля и небо на своих местах, а голова вертится, словно на шарнирах, то вправо, то влево, то вверх, то вниз, и все до отказа.
Но что это? Как-то качнуло до головокружения. Впереди земля. Вот она пошла каруселью, стала распухать, увеличиваться в размерах, и все кругом, кругом, будто кто-то ее продолжал вертеть перед глазами Захара. Опять придавило, впереди показалось небо. «Штопор», — сообразил Захар, — а то, наверное, была «мертвая петля».
Всего минут десять катал его Кныш, а Захару показалось — бесконечность.
Когда он стал на землю, она еще долго покачивалась под ногами. Но это лишь чисто физическое ощущение, а на душе легко, даже празднично.
После «обкатки» парашютистов снова построили.
— Кто не может вылетать на прыжок, два шага вперед! — без предисловий скомандовал Кныш.
Все остались в шеренге.
— Ну что, Захарка, пойдешь первым? — вполголоса спросил Гурилев, когда все подошли с парашютами.
— Первым? — переспросил Захар и внимательно поглядел на Гурилева. — Первым так первым! Давай.
Миша помог ему надеть парашют, еще раз тщательно проверил подгонку, напомнил, где вытяжные кольца основного и запасного, заставил потрогать рукой.
— Ну, успеха тебе, Захарка! Все будет хорошо! — Он подтолкнул Захара в спину.
Нет, это все-таки не просто — прыгнуть с парашютом. Даже совсем не просто!
Захар старался ни о чем не думать, пока самолет набирал высоту, унося его в небо. Сидел себе и наблюдал за пилотом-инструктором, весь поглощенный ожиданием, когда тот поднимет руку. Только нет-нет да и защекочет в груди, почти до тошноты. Это страх. К черту! Рука, рука… Когда же она поднимется? Ага, вот поднялась! Очень высоко. По спине — дрожь, даже зябко. К черту!
С трудом отрывается Захар от сиденья, чувствуя дрожь в ногах. К черту! Почти в отчаянии шагает через борт, суматошно ищет ногой ребристый край — опору на крыле. Руки намертво впились в борт, когда вторая нога становится рядом с первой. Не то он глохнет, не то мотор так тихо работает, не гудит, а как-то хохочет: «Хо-хо-хо-хо…» И кажется, самолет висит совершенно неподвижно, а в лицо бьет ветер, самый обыкновенный ветер. А глаза только на руке пилота. Взмах! «Пошел!» — скомандовал себе Захар и «солдатиком» ухнул вниз. Рот, ноздри забиты ветром. Сознание, кажется, выключилось совсем, только смутная мысль: «Кольцо!» Хлопок, как выстрел, рывок вверх. И все прояснилось. Чудно! Он висит на качелях далеко-далеко от земли. Один. И никакого чувства страха. Напротив, на душе так весело, такое ликование, что песня сама вырывается из груди:
Высоко в небе ясном вьется алый стяг, Мы мчимся на конях туда, где виден враг…И как же еще далеко до земли, как же медленно он приближается к ней! Делать решительно нечего. Он щупает, подергивает стропы, иногда пробует посильнее потянуть, посмотреть, как слушается купол стропа, но только так, чтобы, избави бог, не заметили снизу. Потом разглядывает окрестности, кварталы города, усадьбу совхоза, думает, что надо обязательно как-нибудь зайти к Грише Агафонову — давно не виделись, а ведь он здесь работает трактористом. Интересно, наблюдает он сейчас за ним, или ему уже надоели подобные картины? Вот удивится, когда узнает, что и Захар парашютист!
Внимание: земля близко! О, да она очень быстро приближается. Поджать слегка ноги, крепче держаться за стропы. Вот она, вот она… Без волнения. Хоп — и сразу на бок. И почему пугали приземлением? Это же так просто!
Первым подбежал Гурилев, помог освободиться от ремней, стиснул в объятиях.
— Молодец, Захарка, молодец!
Обступили ребята. Поздравления, вопросы… А он как будто и не прыгал. Все опять обычное, земное. А то осталось там, позади, как смутное видение.
Домой Захар вернулся уже в сумерки, усталый, словно весь день мешки таскал.
— Видела?!
Это был первый его вопрос Настеньке.
— Прыгнул?
— А то как же!
— Господи, ну что ты за отчаянная голова! — Настенька со стоном прильнула к его груди.
— Да разве я один?! — воскликнул Захар. — А как, по-твоему, иначе? Это очень нужно, Настенька. Очень! И прежде всего для тебя и Наташки.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Как-то под вечер, после прыжков, Захар решил заглянуть в совхоз — разыскать Агафонова. Нашел его квартиру без труда: Агафонова знал каждый — по жене, старшему агроному.
— А-а, Захар Илларионович, здравствуйте! — обрадовалась жена. — Заходите, Гриша сейчас придет. С ночевкой к нам?
— Ну что вы, Зина, на минутку, просто повидать.
Отворилась дверь, ввалился чумазый Агафонов.
— Хо! Захар у нас! — воскликнул он. — Какими ветрами?
— Да просто навестить.
— И то хорошо! — Он снял майку, подошел к умывальнику, долго и густо мылил руки, спрашивая: — Как дома, все нормально? А я на поле пропадаю. Интересное тут место! Водишь трактор, а перед тобой вроде кино: тут Амур, пароходы идут, справа корпуса завода гудят, а слева самолеты кружатся в небе, выделывают всякие кренделя, а то парашютисты прыгают.
Он начал окатываться водой, кряхтя от удовольствия. Захар спросил, хитро улыбаясь:
— А знакомых никого не заприметил среди парашютистов?
— Как «знакомых»? — Агафонов вопросительно посмотрел на Захара.
— Да ну «как» — спускается парашютист, ты пригляделся, а это твой знакомый.
Агафонов еще внимательнее посмотрел на Захара, спросил с удивлением:
— Прыгал?
— Сегодня третий прыжок.
— Ты погляди. Вот чертяка! Чего тебя туда понесло?
— Понравилось. Да и себя проверить — как она-то, жила казацкая, сдюжит ли?
— Не-ет, я бы не прыгнул. — Агафонов решительно замотал вихрастой головой. — Это же с ума сойти — с такой вышины прыгать!
— Анастасия Дмитриевна, наверное, ругается? — спросила Зина.
— Сначала пробовала, а сейчас привыкла.
— Все-таки это большое геройство, — заметила Зина. — Но я бы и то прыгнула.
Сели ужинать.
— Зинушка, у меня там, кажется, что-то было? — Агафонов заглянул в кухонный шкаф. — Ведь гость такой!
Он разлил по стопке себе и Захару.
— Зинушка моя не признает этой штуки. Ну, за гостя!
Они выпили.
— Могу похвастаться, Гриша и Зина, — нарушил молчание Захар. — Защитил диплом. Теперь я «турок, не казак», — усмехнулся он. — И работаю техником.
— Молодец, Захар! — сказал Агафонов. — А я и прошлой зимой не сомневался в этом.
— Тебе бы тоже, Гриша, надо подумать об учебе, — заметила Зина.
— Это верно, — согласился Агафонов. — Надо чего-то придумывать. Наверное, в какой-нибудь заочный сельскохозяйственный техникум. Слушай, Захар, ну а как у тебя с ногой? Прыгаешь ведь с такой высоты!
— Зажило как на собаке, — усмехнулся Захар. — Больше тебе скажу: наверное, опять поставят на военный учет. На прошлой неделе прошел перекомиссию.
— Да, — спохватился Агафонов, — ты мне напомнил: меня тоже в понедельник вызвали в военкомат. Заполнил несколько анкет. Говорят, что будут ходатайствовать о восстановлении моего воинского звания. А для начала хотят послать на переквалификацию в танковую часть.
— Так, может, и меня туда пошлют, если поставят на военный учет? — спросил Захар, будто это зависело от Агафонова. — Мне врач в госпитале сказал, что я вполне годен в технические войска. Вот было бы здорово — вместе!
Захар как в воду глядел: через две недели они вместе получили предписание явиться в танковую часть. Таких, как они, набралось в Комсомольске до ста человек — бывших кавалеристов, шоферов, инженеров-механиков, бронеавтомобилистов.
Ранним утром Жернаков и Агафонов шагали по дощатому тротуару села, за которым где-то в перелеске, у реки, стояла летним лагерем танковая часть. Навстречу из-за туманных хребтов Сихотэ-Алиня только что выполз огромный вишнево-красный диск солнца, и бескрайние равнинные дали с лугами и перелесками, с пологими горбинами увалов, слегка повитые туманом, вдруг обрели малиновую окраску.
— Как-то пойдет она, наша служба? — вслух гадал Захар. — Все-таки танки…
— А в танковых частях легче служить, чем в кавалерии, — отвечал Агафонов.
— Думаешь?
— Не думаю, а знаю. В одних же казармах стояли с бронеавтомобилистами, когда служил в конно-механизированном полку. Кавалеристы с утра чистят лошадей, а бронеавтомобилисты идут на завтрак, а потом — в классы или по машинам и в поле. Ни тебе седлать, ни расседлывать, ни чистить коня и сбрую. Помыли машины, смазали — и опять в классы. А потом же это техника, очень интересное дело!
— Да, техника — это не животина о четырех ногах, — соглашался Захар, — ни усталости не знает, ни овса не просит.
Гулко протопали по высокому горбатому мосту через неширокую прозрачную речку, а дальше мягкий супесный проселок повел их сквозь кудрявые заросли орешника. Проселок вывел их на край танкодрома — огромного поля, опоясанного следами танковых гусениц. У Захара даже сердце дрогнуло при виде грозных зеленых машин с хоботами зачехленных пулеметов.
— Вот они… — со скрытым восторгом произнес он. — Вот это да!
— Т-26, старого образца, двухбашенные, — равнодушно отозвался Агафонов. — Нам еще в полку показывали. Хотя нет, вон дальше новые, однобашенные. — Он указал в сторону, где из-за кустов показались еще более компактные танки с длиннющими хоботами пушек.
На повороте тропинки, ведущей к танкам, они нос к носу столкнулись с часовым.
— Стой! — скомандовал тот, снимая с плеча винтовку. — Прохода нет.
Вскоре они стояли перед дежурным по части. Прочитав предписание, он приказал «новобранцам» следовать за ним, вывел их к длинному ряду плетеных и обмазанных глиной сарайчиков, за которыми лежал просторный плац со спортивным городком в центре. Справа и слева — квадраты палаток, впереди — берег речки.
Была ранняя утренняя пора, когда особенно сладок солдатский сон. Потому дежурный говорил вполголоса.
— Посидите пока в классе. — Он отворил дверь крайнего сарайчика.
Там виднелся длинный стол, заваленный деталями машин.
Не успели они осмотреться, как серебристый звук трубы врезался в блаженную тишину июльского утра — горнист заиграл «зорьку». Тотчас же там и тут раздались голоса:
— Подъе-ом!..
У Захара дрогнуло сердце — до того живо представилась ему кавшкола. Ощущение было такое, будто ничто не отделяло его от тех времен, когда каждый день для него начинался этой, ставшей родной, серебристой мелодией «зорьки».
А по лагерю уже потек гомон: «Взвод, становись на зарядку!», «Поживее!», «Становись!», «Бегом!» — и ритмичный, в такт, топот множества ног.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Незадолго до окончания сборов Захар получил из Комсомольска странное письмо: адрес отпечатан на машинке, текст — тоже, всего одна страничка-четвертушка.
«Уважаемый Захар Илларионович, вы, наверно, удивитесь, получив это письмо, потому что не знаете меня. Но зато я хорошо знаю вас и вашу жену через своих друзей, заочно уважаю вас лично, но только не вашу жену. Я не раз слышал от своих друзей, что вы РОГОНОСЕЦ, что ваша жена крутит с инженером Прозоровым, но почему-то не придавала этому значения, разве мало о ком говорят всяких гадостей? Но теперь сама в этом убедилась. И вот узнала ваш адрес и решила, что дальше молчать нельзя. На днях я была в гостях у знакомых, которые живут в вашем подъезде, и засиделась почти до часа ночи. Когда я вышла из двери, то увидела Прозорова, вышедшего из чьей-то квартиры. Лицо его было красным, а сам он был слегка пьян. Я спросила вашу соседку — свою подругу, кто здесь живет, к кому это ходит Прозоров. Она мне ответила, что здесь живут Жернаковы, что сам Жернаков на сборах и что все это время Прозоров частенько по ночам наведывается к его жене. Мне стало очень обидно за вас, и я решила написать вам это письмо. Уважающая вас Н. Юркова».
Раз пять прочитал Захар письмо, стараясь еще и еще раз удостовериться в его содержании. Нет, это невероятно! Как же так — Настенька и Прозоров! Значит, эта история действительно началась еще в дороге и продолжалась на протяжении почти четырех лет?
Тяжелый гнет лег на душу Захара. Столько обманывать, так тонко лгать! Все разом исчезло: и прелесть знойного дня, и смысл его стараний и успехов, и смысл всей жизни. Ведь он не представлял себя без Настеньки, без Наташки, без семьи. Все разом рухнуло. О проклятье! Как же и когда он проглядел все это? Как же он был слеп и глуп, доверившись Настеньке! Ведь ему и в голову не приходило даже тогда, когда Прозоров и Липский принесли подарки по случаю рождения Наташки, что за корректностью отношений скрывается бездна подлости и лицемерия.
Вечером, когда танкисты собрались в палатке, Агафонов внимательно посмотрел на Захара.
— Ты что, захворал, что ли? Чтой-то у тебя болезненный вид.
— Да, плохо себя чувствую, голова трещит, — солгал Захар.
Но потом все-таки не вытерпел, перед отбоем отозвал Агафонова на берег речки.
Они уселись у самой воды. Захар тяжело, со стоном вздохнул.
— Я, кажется, потерял семью, Гриша…
— Ты что, с ума спятил? — Агафонов даже отшатнулся от него.
— Если бы так, то было, наверное, легче.
— Да в чем дело?
— Письмо из Комсомольска получил. Настя сошлась с одним там инженером, — скучно пояснил Захар. — Собственно, не сейчас даже, а еще четыре года назад, когда ехала ко мне. Оказывается, все это время… Ну, а теперь вот осталась одна и, что называется, плюнула на все условности. Пишут, что почти каждый вечер он бывает у нее…
— Не верю! — запротестовал Агафонов. Придирчиво спросил: — От кого письмо?
— Какая-то женщина пишет, дружит с нашими соседями.
— Все равно не верю, Захар, как хочешь! — стоял на своем Агафонов. — Знаю по Новочеркасску, как она тебя любила. Даже Корольков говорил: «И в мыслях у нее только один Захар!» Это когда ты уехал.
— Было время — любила, конечно, а теперь нашла, видать, по себе.
— Слушай, а это не подделка чья-нибудь? — спохватился Агафонов. — У тебя там нет врагов?
— Какие могут быть у меня враги? — отмахнулся Захар. — Девушка одна, собственно, она теперь уже не девушка, замужем, когда-то была на меня в обиде. Дружил с ней, когда приехал на Дальний Восток… Но она не способна на такую подлость. Да и обиды в ней, наверное, не осталось — вместе кончали техникум, защищали дипломы и вообще в хороших отношениях. А потом же у нее муж, и, кажется, они неплохо живут. Есть, правда, один, — вспомнил Захар. — Наш, с Дона, когда-то я его критиковал, так он теперь ищет случая отомстить мне. Но я не думаю, чтобы он был способен на это. Работает в постройкоме, член пленума крайкома комсомола. Нет, он этого не сделает! — решительно произнес Захар.
— А почерк знаком тебе? — допытывался Агафонов.
— Письмо-то на машинке напечатано.
— И адрес.
— И адрес?
— Ну, тогда это липа! — Агафонов решительно мотнул головой. — Честное слово, Захар, липа! И ты на веру ее не бери. Проверь, убедись, а уж потом делай выводы.
На протяжении двух недель, что оставались до конца сборов, Захар не написал ни одного письма домой, хотя за это время получил два от Настеньки; в обоих она с тревогой спрашивала, почему он молчит. Даже командир заметил, что Жернаков стал намного пассивнее, чем прежде, относиться к боевой учебе.
Захар не сообщил Настеньке о своем приезде. Все пережитое невыносимым грузом давило на плечи. Но вот удивительное дело: где-то в самых дальних закоулках души, в подсознании таилось чистое, светлое, ничем не запятнанное чувство любви к Настеньке, тоска по ней. А Наташка! Какая-то она теперь? До боли, до спазм содрогалось сердце при мысли о дочке. И чем ближе к дому, к дверям квартиры, тем сильнее волнение.
Но на стук в дверь никто не откликнулся. Пришлось доставать из чемодана свой ключ. В квартире никого. Значит, Настенька увела Наташку в детский садик, а оттуда пойдет на работу. И сразу ревнивое любопытство: что изменилось в его отсутствие? Кажется, все по-старому. Ага, на его письменном столе новый дерматиновый верх. О, да и стул новый, а вон и второй, у кушетки, на кухне. Нет ли пустых бутылок из-под вина? Ведь он любит выпить. Пустых нет, но в шкафу оказалась нераспечатанная бутылка портвейна. Откуда она? Может быть, для него брала, а он не пришел?
Никогда еще не бывало с Захаром, чтобы он пил один. А тут вдруг захотелось — не то назло кому-то, не то просто от горечи на душе. В духовке нашел жаренную с ветчиной картошку, манную кашу на молоке — Наташкину еду, горячий чай. С трудом откупорил бутылку, налил полный стакан и прямо стоя вытянул все до дна. Есть не хотелось, сжевал несколько хрустящих кружков картошки, поставил сковородку в духовку. Вспомнил про конфеты — подарок Настеньке и Наташке (что бы там ни было, а гостинец нужен, когда возвращаешься домой), достал из кулька леденец и долго сосал его. Вино ударило в голову. Легко, как-то даже весело стало на душе. Забылась боль обиды, и так захотелось сейчас обнять и приласкать Настеньку! В легком винном угаре бродил Захар по квартире, не находя себе никакого занятия и не зная, на что решиться: лечь ли отдыхать или позвонить на работу Настеньке и позвать ее домой? До чего же сиротливо на душе, когда ты один!.. Захар прилег на кушетку, чтобы поразмыслить, да и не заметил, как уснул.
Сколько он спал, неизвестно, только когда открыл глаза, перед ним стояла Настенька — радостная, сияющая.
— Приехал муженек и помалкивает? — Она присела на край кушетки и, не дав Захару опомниться, прильнула к его губам.
Спросонья, да еще после стакана вина, Захар и не вспомнил сразу о своей обиде. Только придя окончательно в себя, нахмурил брови, грубовато отстранил от себя Настеньку. Нет, нелегко дался ему этот жест, он был на грани того, чтобы обо всем забыть и простить Настеньку — ведь вон как она соскучилась по нему! Но нет, хватит, он больше не намерен прощать ей лицемерия и лжи.
— Зоря, ты почему отталкиваешь меня? — удивилась Настенька.
— Хочу объясниться с тобой…
Он сел за письменный стол.
— Либо ты мне сейчас начистоту расскажешь о своих отношениях с Прозоровым, — продолжал он, сурово глядя на жену, — либо я собираю свои вещи и ухожу от тебя. Одно из двух, иного выбора нет.
— Я тебя не понимаю, Зоря… — Настенька широко открытыми глазами смотрела на Захара. — От тебя, кстати, попахивает. Ты сильно выпил, что ли?
Захара взорвало. Не владея собой, он грохнул кулаком по столу и заорал:
— Когда ты перестанешь обманывать меня! Я повторяю: либо ты…
— Да не надо повторять этого глупого вопроса. — Настенька ласково улыбнулась. — О каких ты отношениях моих с Прозоровым говоришь?
— Ты что, маленькая?
— Да, честное слово, Зоря, милый, нигде, кроме как на работе, я не вижу Прозорова. И откуда, ты взял эту гадость? Сказать, что я его терпеть не могу, я не скажу, потому что уважаю его как инженера и как порядочного человека. Говорить же о каких-то особых «отношениях» с ним, ну, просто глупо! Да, он мне объяснился раз в любви, это было уже в конце нашего пути, как раз перед твоим приходом в Вознесеновку, но что из того? Он уважает нашу семью, очень уважает и высоко ценит тебя, никогда даже намека не сделал, чтобы вторгнуться в нашу с тобой жизнь.
Не говоря ни слова, Захар достал бумажник, извлек из него письмо, рывком протянул Настеньке.
— На, читай.
Настенька впилась глазами в строки, приложила ладонь к щеке.
— Боже мой, да кто же мог написать такую гадость? Тут же нет ни одного слова правды, Юркова? А кто эта такая? — Настенька с интересом взглянула на Захара.
— А откуда мне знать? — Он сумрачно посмотрел на жену.
— Я сейчас схожу к соседям, спрошу, к кому она ходит.
С этими словами Настенька, поправив прическу, вышла в коридор.
Ну что за диво! Ведь так убедительно говорит обо всем Настенька, что у Захара даже от одного этого короткого объяснения пошатнулись все подозрения. А может, и впрямь это злой навет, клевета?
Захар нервно зашагал по комнате, посмотрел на чары. Второй час — значит, у Настеньки обеденный перерыв. Вдруг она ни в чем не повинна, а он испортил ей все: и встречу и отдых? И жалко, ой как жалко стало ему Настеньку, милую Настеньку…
Но вот и она. На лице недоумение и озабоченность.
— Никто из соседей никакой Юрковой не знает, — сообщила Настенька. — Это подделка, Зоря, чья-то подлая подделка.
— Ну, знаешь ли, — запротестовал Захар, — дыма без огня не бывает!
— Зоренька, ну пойди сам убедись.
— А что мне убеждаться? — Захар заметно сдавал.
— Тогда вот что, — решительно сказала Настенька, — вместе пойдем к Прозорову, покажем ему письмо и объяснимся.
Захар не отвечал. В голове неразбериха, мысли спутались. Кажется, он уже окончательно поверил Настеньке. Письмо — грязная анонимка. Юркова — чей-то псевдоним. Но вдруг анонимка содержит действительные факты? Вдруг то, что он принимает за искренность Настеньки, — тончайшее, чудовищно умело скрытое лицемерие? Нет, во всем этом нужно детально разобраться, как это ни гадко и ни противно его душе!
— Не пойду к Прозорову, — сказал он мрачно.
— Тогда я сама пойду к нему с этим письмом и попрошу, чтобы он объяснил тебе все.
— Хорошо, но лучше вместе.
Он согласился пойти. Но до чего же противна была Захару вся эта низкая процедура!
Забрав Наташку из детсада, Захар перед концом рабочего дня поднимался на второй этаж дома, где помещалась контора управления. Ожидая Настеньку — она ушла куда-то на строительный участок, — Захар забавлял Наташку, сидя с ней на широком подоконнике в конце коридора. Из кабинета, на дверях которого дощечка с надписью: «Главный инженер», вышел Прозоров.
— А-а, Захар Илларионович, с возвращением вас! — Прозоров подошел, пожал руку. — Ну, как служилось? Что, уже танкист?
Захар смущенно пробормотал, что служилось хорошо, что он теперь действительно танкист, чем очень доволен. И мгновенно решил: надо начать разговор сейчас, без Настеньки. Так будет легче.
— Игорь Платонович, я к вам, — сказал он, смущаясь, почувствовав, как учащенно заколотилось сердце.
— Да, я знаю, Анастасия Дмитриевна говорила мне, что вы придете. Заходите пока в кабинет, я сейчас вернусь.
Через минуту Прозоров вернулся.
— Дочка-то какая большая стала! — сказал он, ласково глядя на Наташку. — Давно уж я не видел ее.
Он потрепал Наташку за челку и, должно быть, не заметил, как лицо Захара залил румянец, — тот понял, что дал маху со своими дурацкими подозрениями. «Давно не видел!» Значит, не бывал у Настеньки.
— Игорь Платонович… — Захар с трудом выговаривал слова, что-то сдавливало горло. — А еще Жернакова… ничего не говорила вам?
— Да нет, попросила задержаться немного на работе — подождать ее и вас.
— Ясно, — кивнул Захар и полез за бумажником. — Вот, прочитайте. — Он подал Прозорову конверт.
Прозоров в недоумении взял конверт, прочитал адрес, спокойно вытащил листок. Захар исподлобья наблюдал за его пальцами с чистыми, блестящими ногтями. Вот они стали нервно перебирать листок, как бы прощупывая его.
— Что за гадость! — пробормотал Прозоров. — Это же низкая подлость! — Он поднял ясные синие глаза на Захара. На его скулах загорелся румянец. — Кто такая Юркова? — спросил он.
— Проверяли, фамилия, кажется, вымышленная, — с хрипотцой в голосе произнес Захар.
— Выходит, анонимка?
— По-моему, да.
— Стоп-стоп-стоп! — Прозоров торопливо стал перебирать бумаги на столе, взял какой-то лист с напечатанным текстом и положил рядом с письмом. — Видите?
— Что такое? — Захар перегнулся через стол, прочитал на верху бланка: «Начальнику строительства объединенного управления». — Не понимаю…
— Шрифт одинаковый, видите? — Прозоров постукал пальцем по письму.
— Что вы этим хотите сказать? — спросил Захар.
— На нашей машинке отпечатана эта анонимка, — пояснил Прозоров. — И я, кажется, знаю, кто это писал, — растягивая слова, добавил он. — Посидите минутку, Захар Илларионович! Я сейчас.
Он торопливо вышел, но скоро вернулся.
— Все ясно, автор анонимки здесь, в стенах этого здания.
— Вы уверены? — спросил Захар с недоверием.
— Почти. Понимаете, в чем дело, — стал пояснять Прозоров, усевшись на свое место. — С месяц назад Елена Андреевна, наша машинистка, пришла ко мне и сказала, что Липский просит не закрывать машинку после работы, будет печатать статью в «Ударник Комсомольска». Начальника управления как раз не было в конторе, и мне пришлось вместо него дать это разрешение. Теперь смотрите, дата на конверте, — он показал почтовую печать Комсомольска, — пятого сентября, дата отправления. А печатал он четвертого сентября, я запомнил этот день потому, что выдавали зарплату. Статьи в газете до сих пор не появилось. Сейчас мы уточним. — Он взялся за телефонную трубку, попросил редакцию.
Ответ был скорый: «Нет, в сентябре он ничего не присылал», — Липского, как автора, хорошо знали в редакции.
— Вот видите, — пояснил Прозоров, — никакой статьи не было. Сейчас мы вызовем его самого.
Он снова взялся за телефонную трубку, попросил зайти старшего инженера Липского. Положив трубку, продолжал:
— А все дело вот в чем. В конце августа по докладной Анастасии Дмитриевны и по моему ходатайству ему был объявлен строгий выговор за умышленное нарушение технических правил. А натуру Липского вы, кажется, хорошо знаете.
В это время в дверь постучали. Вошел Липский, как всегда, щегольски одетый, в скрипучих новеньких туфлях.
— Я вас слушаю, Игорь Платонович, — мягко сказал он и мельком в сторону Захара: — Здравствуйте, Жернаков.
Прозоров мрачно указал ему на стул, спросил подчеркнуто спокойно:
— Вы, кажется, писали статью для нашей газеты в первых числах сентября, так?
Захар исподлобья наблюдал за холеным лицом Липского, ловил каждую тень.
— Да, писал, то есть не для местной, а для «Строительной индустрии», — с запинкой сказал тот. А вокруг глаз и носа — синева.
Захар видел, как почти мгновенно проступила она у Липского на лице.
— Познакомьтесь, она? — Прозоров подал Липскому листок письма.
Тень страха скользнула по лицу инженера, рука заметно дрогнула. А потом стали пунцовыми уши. Долго держал он перед глазами лист, видимо не читая его, а что-то обдумывая. Наконец коротко сказал:
— Ничего не понимаю!
— Зато мне все понятно. — Прозоров встал, нервно прошелся по кабинету, засунув руки в карманы. — Вы — мерзавец! — Он переставал владеть собой. — В сотый раз я убеждаюсь: вы — мерзавец! — И вдруг рванулся к Липскому.
Звонкий звук пощечины раздался в кабинете.
— За что?! — Липский вскочил, румянец залил ему щеку. — Я буду жаловаться, какое вы имеете право…
Заплакала Наташка.
— Прежде чем вы пожалуетесь, я поставлю о вас вопрос на собрании коллектива, — с дрожью в голосе ответил Прозоров. — Сколько подлостей наделали вы? Оклеветали Клавдию, говорили мне сотни гадостей о хороших людях…
Без стука вошла Настенька — услышала плач Наташки.
— И вот теперь докатились до такой неслыханной подлости, — продолжал Прозоров, кивнув Настеньке.
— Игорь Платонович, послушайте меня…
Удивительный тип этот Липский. В голосе нет даже тени оскорбленного самолюбия.
— Вон отсюда! — крикнул Прозоров. — Не желаю больше видеть подлеца!
— Хорошо! — вдруг взъярился и Липский. — Я вам отомщу!
С этими словами он выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью.
С минуту стояла гнетущая тишина, только всхлипывала Наташка.
— Игорь Платонович, — нерешительно спросил Захар, — может, это действительно не он?
— Вы его не знаете, Захар Илларионович, — успокаиваясь и садясь на свое место, ответил Прозоров. — Моя интуиция никогда меня не обманывала. К тому же налицо все данные.
— Но нет доказательств, — мягко возразил Захар.
— Будут и доказательства. Сегодня дам телеграмму в «Социалистическую индустрию» с запросом о статье. Попомните мое слово — никакой статьи и там не было.
— Что здесь произошло? — спросила Настенька, улучив удобную минуту.
— Найден автор анонимки, — уже совсем спокойным голосом ответил Прозоров.
— Неужели Липский?
И снова в кабинете воцарилась тишина. Тишина после грозы — облегчающая, успокаивающая.
— Извините меня, Игорь Платонович, — сказал Захар, вставая. — Вот сколько неприятностей я вам доставил!
— Вам нечего передо мной извиняться, дружище Захар. Вы правильно поступили, что не затаили все это в себе, не мучались подозрениями. Не скрою, я был влюблен в Анастасию Дмитриевну, даже однажды сказал ей о своей любви, но все это давно прошло. Теперь у меня, как вы знаете, своя семья, которой я дорожу так же, как и вы своей. Больше вам скажу — я всегда с чувством благоговения и доброй зависти смотрел на вас и, если хотите, учился той искренности и непосредственности, которой отличаются ваши семейные отношения.
Они расстались добрыми друзьями.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Ставорский уже разобрал постель и снял гимнастерку, когда в комнату постучали. Вошла Уланская в халате до пят, перетянутом в талии.
— Я к тебе на минуту, Харитон! — Она приложила палец к губам и заговорила шепотом: — Ниша под фундаментом готова — в люке теплотрассы у южного угла… Но больше двух дней не может оставаться. Либо в эти два дня, либо отложить операцию. Риск недопустим.
— Та-ак… — Ставорский сунул ладони под лямки подтяжек, побарабанил пальцами по груди. — Еще что?
— Все. Только это. И дай утюг, чтобы не с пустыми руками возвращаться.
Уланская ушла, а Ставорский зашагал по комнате. Сонливость сразу исчезла. Мысль работала ясно и четко. Кому поручить? Надежнее, разумеется, Рогульник, у него за плечами приличный опыт. Но без подводы не обойтись, а боец военизированной охраны на подводе, безусловно, вызовет неизбежный вопрос: зачем приезжал? Остается только Пригницын!
Пригницын… С некоторых пор Ставорский стал опасаться разбитного цыганенка, самого безупречного исполнителя его воли. Полудикое существо, звереныш, выросший в бродяжьем таборе, Колька уже в семнадцать лет попался на воровстве и был судим. Через год они с Рогульником бежали из заключения и перекочевали на Дальний Восток. Кулацкий сынок и цыганенок — они находили общий язык в любом «деле»: воровали, переторговывали, попрошайничали. Пронюхали, что можно сбежать за границу, и скоро очутились в Маньчжурии. Полгода проболтались в Харбине — до прихода туда японцев. Однажды на улице их остановил господин в штатском, но с явной офицерской выправкой и спросил по-русски, кто они и чем занимаются. Внимательно выслушав, сказал:
— У меня есть для вас, господа, хороший заработок. А для начала я приглашаю вас в бар.
Так они оказались на службе в торговой фирме. Спустя два месяца, на провесни, в одну ненастную ночь их перебросили через границу с заданием разыскать Ставорского и поступить в его распоряжение.
Пригницыну очень нравилась такая жизнь. Существо без роду и племени, он делал все бездумно, бесшабашно, с цыганской лихостью. Влекомый бурным потоком жизни, он жил одним днем и руководствовался скорее инстинктом, нежели сознанием.
Но Ставорский обнаружил в нем и такие качества, как цепкую память, способность на лету схватывать мысль, напористость и вместе с тем рабскую покорность воле сильного, идущую, должно быть, еще от обычаев цыганского табора. И еще: Пригницын умел все делать артистически. В этом отношении он выгодно отличался от Рогульника — тугодума, по-звериному замкнутого и угрюмого.
Вот почему не Архипа Рогульника, а именно Пригницына решил Ставорский двигать вперед — в комсомол, а потом, может статься, и в партию. Так Колька очутился сначала в ликбезе, а потом и в вечерней школе-семилетке. Недюжинные способности очень скоро выдвинули Пригницына в число лучших учеников. За пять лет работы на стройке Комсомольска он закончил семь классов и стал лучшим бригадиром возчиков — его имя как ударника часто можно было видеть на страницах газеты.
Все эти годы Ставорский не подвергал его преждевременному риску.
Но за последнее время он все чаще замечал в поведении Пригницына нечто новое: цыганенок становился слишком самостоятельным в своих суждениях; даже признаки высокомерия нет-нет да и проявлялись в его поступках. А недавно Ставорский и вовсе насторожился: Пригницын не явился к нему по вызову в штаб военизированной охраны. Пришлось прибегнуть к опасной инсценировке — послать за ним вооруженного винтовкой Рогульника. Когда тот привел его в штаб ВОХРа, Ставорский долго молчал, смерил его взглядом.
— Почему не явился вчера по вызову? — наконец спросил холодно.
— Ездил на завод, Харитон Иванович, а когда вернулся, было темно, решил, что вас уже нет в штабе.
— А почему сегодня с утра не явился?
— Харитон Иванович, так вы же вызывали не на сегодня, а на вчера, — с наигранным изумлением ответил Пригницын.
В этот же день Ставорский проверил, действительно ли ездил Пригницын на завод. Оказалось, что никуда он не ездил. Это открытие взбесило и насторожило Ставорского.
О своем открытии он не сказал Пригницыну. Выгоднее было оставить его в неведении. Но с этого дня каждый шаг цыганенка был под наблюдением доверенных людей.
Вскоре Ставорского вновь насторожила речь Пригницына на городском комсомольском активе, посвященном разоблачению врагов народа. В ней было столько неподдельного гнева, что Ставорскому стало страшновато — он боялся услышать свое имя!
Потому так трудно было теперь решить: доверить или не доверить Пригницыну эту диверсию — самую крупную и самую рискованную из всех организованных за пять лет на стройке.
Долго в ту ночь светилось окно в итээровском поселке на Аварийной сопке. С ладонями, засунутыми под лямки подтяжек, Ставорский бесшумно ходил по комнате — пять шагов туда, пять обратно. И только тогда погасил свет и лег в постель, когда план «операции» был продуман до мельчайших подробностей.
В осенний ведренный день прислушайся к шуму стройки. Ты уловишь какое-то своеобразное, ритмичное чередование и постоянство одинаковых звуков. В первую минуту они покажутся хаотическими, но вслушайся в них — и ты уловишь в гудках паровозов, в грохоте бетономешалок, в завывании циркульной пилы, в шуме автомашин, в стуке топоров, в мощном дыхании ТЭЦ слаженную мелодию, напоминающую мощный оркестр. Это звуковой ритм стройки, симфония труда.
Пригницын давно полюбил ее. Едет человек в телеге, мирно клацают колеса, цокают по насыпной гравийной дороге подковы лошади, а он слушает звуки стройки и угадывает по ним, что и где происходит. И думает, думает… О, сколько же передумал, узнал и испытал Пригницын за эти пять лет! Ликбез, семилетка, комсомол… На свою голову Ставорский «проталкивал» вверх диковатого цыганенка. Пригницын прозрел. А прозрев, увидел огромный светлый мир, лежащий вокруг. И еще он понял, что Ставорский становится все более враждебным, опасным ему.
Под передним сиденьем телеги Пригницын поставил рундучок, и там всегда у него хранились книги, учебники, тетради. Они не залеживались без дела. Когда в вечерней школе начали изучать алгебру, он увлекся решением алгебраических задач. Едет и решает. Весь задачник почеркал. Потом его страстью стало заучивание стихов. Найдет газету со стихотворением или сборник стихов и вот уже бормочет весь день.
— Ой, Колька, как ты мне надоел со своими стихами! — жаловалась поначалу Любаша. Но потом привыкла и уже сама просила почитать новые стихи.
Недавно Пригницыну попались «Цыганы» Пушкина. Несколько дней он ходил словно в угаре — до того потрясла его эта поэма. Прозрение души — так можно было бы коротко выразить словами то новое, что вторглось в некогда убогий, по-звериному жестокий мир забитого цыганенка. Свет этот отражался на его лице. Пригницын стал мечтать! Он жил теперь захватывающими думами о своем будущем. Больше всего ему хотелось стать поэтом. Но стихи никак не давались ему, и он с досадой и горечью рвал бумаги.
Потом им овладела мечта стать следователем. Он хотел бы вылавливать вот таких зверенышей, каким был сам еще недавно, и делать из них таких, каким он стал теперь. Но всякий раз, когда мечты уносили его в будущее, мысль о Ставорском гасила их жар.
После убийства Кирова Ставорский притаился. Он дал указание своим подшефным не предпринимать никаких действий. Так тянулось года полтора. Потом поджог склада с импортным оборудованием. Пригницын подозревал, что это дело рук Рогульника. С содроганием сердца ожидал Пригницын задания, поэтому избегал встреч со Ставорским. Но в минуту мучительных раздумий его внезапно осенила мысль, которой он ужаснулся и обрадовался.
Пригницын вспомнил свою короткую, нескладную жизнь. Сколько способов перебрал он для того, чтобы покончить со своим прошлым! И нашел. Это был его приговор себе, Ставорскому, Рогульнику, всему страшному прошлому. Но как это сделать? Малейший просчет, и он получит либо нож в спину, либо пулю в затылок.
И вот встреча с Рогульником. Она насторожила, вызвала какой-то неприятный озноб во всем теле. Рогульник вскочил к нему в телегу, когда Пригницын ехал по набережной.
— Придется нынче задержаться тебе, Колька, на работе… Харитон Иванович велел.
— Что такое?
— Да вот тут цемент краденый надо отвезти на комбинат, а потом съездим по сено для лошади Харитона Ивановича.
— А наряд выписал?
— Завтра выпишем.
— Без наряда не поеду.
Рогульник не сразу нашелся, что ответить на вызывающий тон Пригницына. Он молча похлопал хворостинкой по голенищу сапога, расстегнул ворот гимнастерки, наконец глуховато сказал:
— Шибко брыкаешься, Колька. Как бы худо тебе не было…
Снова помолчал. И докончил:
— Не забыл, что говорили там, в Харбине?
— Ладно, — скучно сказал Пригницын. — Но завтра обязательно чтоб наряд был.
— Это сделаем.
У землянки их встретил Савка Бормотов.
— А я уж думал, не приедете, робятки, — лебезил он. — Вот как я его, воришку-то, выследил. Ишь чего надумал — цемент красть, социалистическую собственность хитить! Ну, не мешкайте, не мешкайте, погружайте. Да аккуратней, не рассыпьте, кули-то бумажные.
Пригницын сердито подхватил за углы мешок, рванул его вверх.
— Тише ты, чтоб тебе! — в исступлении зашипел на него Рогульник. — Уйди! Без тебя погрузим. Давай, Савелий!
Наблюдая за тем, с какой трусливой осторожностью носили мешки Рогульник и Савка, Пригницын вдруг почувствовал холодок на спине. «Неужели взрывчатка?» — мелькнула мысль. Вдруг все стало понятным: и то, что «ворованный цемент» вывозит именно он вместе с Рогульником, да еще по поручению Ставорского, а не милиции; и то, что Савка так лебезит; наконец и то, что после рейса на комбинат они должны ехать за сеном в тайгу — замести следы.
Впервые в жизни ему стало страшно. Страшно за себя, за Любашу, за стройку — за все то светлое, что было приобретено с такими муками и что теперь составляло главный смысл его жизни.
Где-то на полпути к комбинату Пригницына осенила мысль — сделать маленькую дырку в боку бумажного мешка и проверить свои подозрения. Кнутовищем он незаметно царапал мешок под собой до тех пор, пока там не появилась пыльца. Желто-белая… Ясно — это не цемент! «Почему же скрывают от меня? Не доверяют?»
Мысль работала лихорадочно. «Надо, чтобы с поличным… — размышлял он. — Подожду удобного момента, лучше сразу же после разгрузки».
Рабочий день на строительстве уже закончился, у проходной будки стоял один вахтер, когда туда подъехала подвода с мешками. Рогульник спрыгнул с телеги, что-то сказал охраннику, и тот махнул Пригницыну: «Проезжай!» Сам Рогульник остался у ворот. Во дворе комбината на телегу к Пригницыну вскочили двое в брезентовых куртках.
— Цемент?
Пригницын покосился на них, но ничего не ответил. Они даже не обратили на это внимания.
— Правь к главному корпусу. Вон, к углу.
Пока сгружали мешки, Пригницын заметил Ставорского. И больше нигде никого.
— Поехали, — скомандовал грузчик, когда мешки исчезли в люке теплотрассы, и прыгнул в задок телеги. Он сошел лишь тогда, когда на его место сел Рогульник.
Холодок пробежал по спине Пригницына — как бы студеное дыхание Рогульника. «Поеду по Пионерской, там людно, что-нибудь придумаю». Но Рогульник, словно подслушав его мысли, коротко сказал:
— Мимо лесозавода езжай.
— А какая разница?
— Такая, чтоб нас меньше видели.
— Можно и туда, — покорно согласился Пригницын: он теперь делал все, чтобы усыпить подозрительность Рогульника.
«Но почему он держит руку в кармане? — гадал Пригницын, мельком бросая косой взгляд назад. — Оружие там? А для чего?»
Дорога разделилась на две: одна пошла к хлебокомбинату, другая круто свернула на пустырь, за которым темнела стена тайги. Солнце уже коснулось краем левобережных сопок и вот-вот скроется за их ярусами. Из тайги тянуло осенним холодком.
Пригницын достал папиросу, обернулся к Рогульнику.
— Дай спичку! — И мельком взглянул на правую руку Рогульника.
Тот поймал этот взгляд, помедлил, вытащил спички. Прикуривая, Николай искоса присмотрелся к карману Рогульника. Там ясно проступали очертания браунинга.
И снова мучительный вопрос: «Зачем браунинг? Не доверяет? Боится, сбегу? Нужно проверить…»
— Трр-рр! — остановил он лошадь и объяснил: — Супонь расслабла. Подержи вожжи, я подтяну.
Рогульник взял вожжи, но тоже спрыгнул с телеги и теперь стоял за спиной. Чтобы окончательно проверить свои подозрения, Пригницын зашел с правого бока, пробуя гужи. Тотчас же там оказался и Рогульник — вожжи он бросил на спину лошади. Пригницын сделал вид, что не придает этому значения, а в мыслях смятение: «Почему? Убить решили? Убрать лишнего свидетеля?»
Он не торопился сесть в телегу. Подтянул чересседельник, покачал дугу. А мысль об одном: как обмануть Рогульника?
— Ты не мешкай, — сказал ему Рогульник, — а то дотемна не доедем к селу.
— Я и то смотрю, — согласился Пригницын.
С этими словами он забрался на передок, взмахнул кнутом, гикнул по-разбойничьи, и лошадь с места взяла галопом. Нахлестывая ее кнутом, Пригницын искоса наблюдал за Рогульником, придвинулся к нему поближе, почти вплотную. Будто кинутый на ухабе, рывком повернул лошадь на обочину дороги и изо всех сил толкнул плечом Рогульника в спину. Падая с телеги, тот, однако, успел ухватиться руками за борт, попытался бежать, но удар кнута — давно знакомый цыганский прием! — опоясал ему лицо и шею, захлестнулся на кадыке и со страшной силой рванул в сторону. Пригницын запомнил искаженное злобой лицо Рогульника и его растопыренные в воздухе руки, пытающиеся что-то поймать. Но телега была уже снова на дороге и, оставляя клубы пыли, с грохотом мчалась в сторону тайги. Лежа животом на дне телеги, Пригницын стегал кнутом запотевший круп лошади.
Он не слышал ни пистолетных хлопков, ни визга пуль в воздухе. На первом же повороте дороги, уже в тайге, Николай последний раз хлестнул лошадь, кошкой прыгнул на землю и кинулся в заросли. Спрямляя путь к городу, он бежал через колдобины и валежник. Ветки хлестали его по лицу, царапали руки, рвали одежду, но он не чувствовал ни боли, ни усталости.
Вот и окраинные дома Пионерской улицы. Пригницын бежал по проезжей части, но на перекрестке Комсомольской увидел грузовик. С разбегу он вскочил на подножку, постучал в дверцу кабины.
— Скорее в милицию!
— Что случилось?
— Воров в квартире закрыл.
— А чего кровь на лице?
— Упал, — бойко врал Пригницын.
…Еще не успели лечь сумерки, а Пригницын уже стоял в кабинете начальника городского отдела НКВД. Пот и кровь текли по его смуглому лицу, и это красноречивее слов говорило о том, что случилось нечто серьезное.
Ставорского и Рогульника арестовали почти одновременно: первого в штабе ВОХРа, второго спустя минут десять на пороге избушки штаба — он спешил предупредить шефа о грозящей опасности. А тем временем другая оперативная группа с помощью Пригницына извлекала из люка теплотрассы мешки с «цементом». Взрыв должен был произойти в два часа ночи…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Рогульника привели под охраной двух конвоиров со связанными позади руками.
— Развяжите руки, — приказал Сергей Петрович, начальник городского отдела НКВД, и посмотрел долгим взглядом в приплюснутое, дегенеративное лицо с широко посаженными глазами. — Та-ак… Рогульник Архип Архипович… Ну, расскажите нам о себе, откуда вы, как попали в Комсомольск, кто вас послал сюда?
Рогульник хмуро, исподлобья, посмотрел на Сергея Петровича.
— А что мне рассказывать? Откуда приехал — там меня нет, кто посылал — того тут нет.
И замолк.
— Между прочим, гражданин Рогульник, вы, кажется, неправильно меня поняли, — сказал Сергей Петрович, постукивая карандашом по столу. — Я вас вызвал к себе для серьезного разговора и о серьезном деле. От того, как правильно вы меня поймете и насколько честно расскажете обо всем, зависит ваша судьба. Да что судьба, прямо скажу — ваша жизнь! Статья, по которой вы привлечены, предусматривает только одно: расстрел. Поможете следствию выяснить картину вредительской деятельности Ставорского и Уланской, останетесь в живых, нет — расстрел. Выбирайте!
Рогульник молчал, повернув голову к окну.
— Кстати, — вновь заговорил Сергей Петрович, — кто вы и откуда, нам и так известно. Я даже могу сказать, где сейчас ваш отец, дать его точный адрес.
— Ну! А откуда я? — спросил Рогульник с глупой ухмылкой.
Выслушав начальника и узнав, что отец живет на свободе, в родном селе, Рогульник смягчился.
— Это Колька Пригницын, должно, рассказал вам обо всем… — Потом спросил с наивным простодушием: — Значит, не расстреляете, если расскажу все направдок?
— Не расстреляем.
— Так чего, писать будете, ай как? Черт с ними, всех выдам! Один конец. Путя все одно больше нет.
Сергей Петрович одобрительно кивнул головой.
— Разумное решение. Сейчас вас поведут к следователю, и там вы запишете свои показания. Но помните: если что утаите, будет хуже.
И Рогульник рассказал все, что знал о Ставорском, Савке Бормотове, об истории поджога склада импортного оборудования. Умолчал об одном — о своем участии в убийстве мужичонки, чуть было не разоблачившего Ставорского. Ведь никаких свидетелей!
Сергей Петрович сличал показания Пригницына и Рогульника. Они ни в чем не расходились. Теперь он решил допросить Уланскую. Его интересовал уже не сам Ставорский, а его соучастники.
Прошло всего пять дней после ареста, но как изменилась Лариса Уланская! Глаза провалились, лицо позеленело, сама она, без губной помады, без пудры, с растрепанными волосами, выглядела старухой.
Очутившись в кабинете Сергея Петровича, она обессиленно опустилась на стул и разрыдалась. Потом, вытерев покрасневшие глаза, с надрывом воскликнула:
— Сергей Петрович, милый, что хотите делайте со мной, только не расстреливайте! Боже мой, как хочется жить! Я вам все расскажу, что знаю, ничего не утаю, поверьте мне! Я открою вам свою душу! Если бы вы меня не арестовали, я сама бы пришла к вам.
Слезы снова хлынули из ее глаз.
— Что ж, это очень хорошо, гражданка Уланская. Чистосердечным признанием вы в значительной мере искупите свою вину.
Уланская действительно рассказала все, что знала о Ставорском, ничего не утаивая.
— Теперь я раскрою вам, дорогой Сергей Петрович, свою душевную тайну, — говорила она в конце допроса, — тайну, которая так или иначе привела бы меня к вам. — Глаза ее высохли, лицо немного посвежело, даже осветилось подобием улыбки. — Нынешней весной, — продолжала она, — Ставорский поручил мне познакомиться с капитаном Гордеевым. Вы его, наверное, знаете. Это очень милый, симпатичный человек, со спокойным характером и железной выдержкой. У него семья в Хабаровске — жена и двое детей. Задача состояла в том, чтобы скомпрометировать его и завербовать.
Познакомилась я с ним на банкете, потом встретились в однодневном доме отдыха, наконец, я пригласила его к себе. Нашу встречу Ставорский должен был предать гласности, разыграв роль обманутого любовника-ревнивца. Угрозой обвинения в бытовом разложении он хотел подчинить себе Гордеева. Но к этому времени мне стало ясно, что я впервые в жизни по-настоящему полюбила человека. Во мне проснулась воля. Я хотела постоять за себя, за свое женское право любить. Ведь до сих пор — восемь лет! — я была всего-навсего предметом, которым мог распоряжаться некий бог по собственному усмотрению, мое женское самолюбие было принижено, стерто начисто…
Мы сидели рядом с Леонидом Ивановичем, когда раздался стук в дверь. Светилась только ночная лампочка.
Гордеев хотел встать, чтобы открыть дверь, но я его удержала. Стук повторился, но уже с большей настойчивостью. Мой гость снова пытался встать, но я удержала его силой, обняв за шею. Потом шепнула ему на ухо, чтобы он ни в коем случае не выдавал нашего присутствия в комнате, что придет время, и я сумею рассказать ему всю правду об этом вечере. Вы можете спросить у капитана Гордеева, что я говорила ему тогда… Стук в дверь повторялся с небольшими перерывами примерно с час. И все это время мы с Леонидом Ивановичем сидели не шевелясь, затаив дыхание.
Уланская помолчала, собираясь с мыслями.
— Так впервые я обманула Ставорского. Утром, чуть свет, в мою дверь снова постучали. Разумеется, это был Ставорский. Он набросился на меня с бранью и потребовал объяснения. Мне пришлось притворяться и лгать. Под «честное слово» я обещала Ставорскому, что намеченное свидание состоится в самый ближайший вечер и все будет сделано так, как было решено. Мне не хотелось раньше времени вызывать подозрения. Я уже решилась идти к вам. Сначала была мысль рассказать обо всем самому Леониду Ивановичу, но потом я подумала, что он может не понять меня или не поверить мне. Оставалось одно — идти к вам. И я уже готовила себя к этому, как тут случилось то, что привело меня сюда несколько раньше… Сергей Петрович, дорогой, если вы хоть капельку сомневаетесь в правдивости моего рассказа, вызовите на очную ставку капитана Гордеева!
В тот же день вызвали на допрос и Савку Бормотова. Но сколько ни бился с ним Сергей Петрович, так и не сумел ничего узнать толком.
Прошло две недели после ареста. Все это время Ставорский либо лежал на койке и глядел немигающими глазами в потолок, либо тяжело, грузно шагал по камере. Лоск с него быстро сошел, лицо пожухло, сделалось отечным и желтым, глаза смотрели угрюмо, а в них ни проблеска мысли или настроения: все спрятано в непроницаемой глубине темной души.
Когда его привели к Сергею Петровичу — бывшему чоновцу, комсомольцу с девятнадцатого года, бывалому чекисту с железными нервами, — их взгляды скрестились. Но Ставорский не отвел каменного взгляда. «Да-а, — подумал Сергей Петрович, — трудненько мне придется с тобой, белогвардейская сволочуга…»
— Будете правдиво отвечать на вопросы следствия или нет? — спросил он.
— В основном нет, — прохрипел Ставорский.
— Тогда познакомьтесь вот с этими показаниями, — Сергей Петрович перегнулся через стол и положил протоколы допроса Пригницына, Рогульника и Уланской.
— Попрошу стакан воды и папиросу. — После длительного молчания голос Ставорского был хриплым.
Он с жадностью осушил стакан и сделал глубокую затяжку. Потом стал читать. Читал долго, внимательно, снова перечитывал.
Все это время Сергей Петрович следил за выражением его лица. Ни тени волнения, ни малейших признаков страха или растерянности!
Закончив чтение, Ставорский аккуратно сложил листы, постукал пачкой по столу, выравнивая края, спокойно подал их Сергею Петровичу.
— Что ж, каждый волен говорить то, что ему хочется, — заметил он равнодушно. — Лично я не намерен что-либо рассказывать. Готов хоть сейчас под расстрел.
— С этим успеете, ваше благородие, — Сергей Петрович зло улыбнулся. — Вас мы обложили покрепче, чем любого зверя. Спешить некуда, подождем… Уведите арестованного, — коротко приказал он конвоиру.
Ставорскому тут же связали руки и вывели под локти.
В течение целого месяца изо дня в день приводили Ставорского на допрос, и каждый раз разговор кончался одним и тем же — тот отказывался давать какие-либо показания. Потом его перестали вызывать. И тут-то случилось неожиданное. Как-то утром после завтрака он постучал в заслонку «волчка». Охранник осторожно отодвинул заслонку, заглянул сбоку.
— В чем дело?
— Прошу доложить начальству, хочу говорить со следователем.
Тотчас же его привели к Сергею Петровичу.
— Что это с вами случилось, гражданин Ставорский? — не без иронии спросил он.
— Сами будете вести протокол допроса или поручите следователю? — спросил Ставорский, оставив без внимания слова Сергея Петровича.
— Показания дадите следователю. Еще есть вопросы?
— Вопросов нет, но хочу заранее сказать можете арестовывать Гайдука, инженера Майганакова и начальника отдела снабжения Вольского. Все они мои прямые сообщники и должны разделить ответственность вместе со мной.
— Это мы сами решим. Кстати, гражданин Ставорский, где вы сумели добыть орден Красного Знамени?
— Снял с красноармейца, зарубленного вот этой рукой. — Ставорский сжал правую ладонь в крепкий, увесистый кулак и потряс в воздухе.
— Ясно… Уведите! — приказал Сергей Петрович.
На следующий день он читал показания Ставорского.
«Я, русский офицер, потомственный дворянин Шеклецов Дмитрий Гаврилович, имею честь сообщить о себе следующее».
Затем шел перечень его «заслуг»в борьбе с революцией, история бегства за границу и участия в деятельности эмигрантского офицерского союза (место и конкретная организация не указывались).
«Решение перейти советскую границу, — говорилось далее, — принято мной по собственной воле, так как я дал себе слово, насколько это возможно, отомстить Советской власти за надругательства над священными русскими обычаями и исконно русским правопорядком».
Ничего нового, кроме уже известного со слов ранее допрошенных, Ставорский-Шеклецов не сообщил в своих показаниях, а сами показания скорее смахивали на бахвальство. Не очень убедительно звучала и та часть протокола допроса, где арестованный говорил о своих «соучастниках» — Гайдуке, Майганакове и Вольском. Тем не менее Сергей Петрович тут же запросил управление — что предпринять? Оттуда тотчас же поступил ответ: арестовать без промедления.
Сергей Петрович позвонил Платову.
— Федор Андреевич, есть важное дело. Прошу разрешения приехать.
Платов долго читал и перечитывал протокол допроса Ставорского-Шеклецова.
— Какую гадину пригрели! — сказал, наконец, он. — Матерый белогвардеец! Что ж, раз так складывается дело и тем более есть указание управления, я ничего не имею против ареста. Только, пожалуйста, разберитесь повнимательней.
В тот же день были арестованы Гайдук, Майганаков и Вольский.
Велико было негодование Гордея Нилыча, когда его привели в горотдел.
— Що вы робите, що вы робите, сукины дети! — орал он на весь коридор. — Та я ж вас усих пересадю!
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Против обыкновения Платов решил не задерживаться в горкоме. Уж целую неделю они с Сережкой собирались на «карасиную зорьку». Каждое утро во время завтрака Сережка сообщал все новые данные о том, кто, где, когда и сколько натаскал на закидушку касаток и чебачков или на удочку карасей.
Но уйти из горкома не удавалось. Звонок из отдела главного механика: в карьере упал ковш на помощника машиниста экскаватора, смяло поясницу и тазовую кость. Звонит женщина: арестовали ее мужа, обвинили в троцкизме, а он неграмотный человек, понятия не имеет о том, что такое троцкизм. Звонок с железнодорожной станции: дежурный докладывает, что пришли три вагона оборудования, простаивают уже вторые сутки, а мехкомбинат и «в ус не дует».
В половине шестого Федор Андреевич предупредил секретаря приемной, чтобы больше никого с ним не соединяли, а сам занялся бумагами, которых накопилась за день целая гора.
Но не прошло и минуты, как дверь открылась. На пороге стояла секретарша.
— Федор Андреевич, звонят из крайкома партии, — доложила она.
Платов быстро поднял трубку.
— Слушаю.
— Товарищ Платов? Говорят из орготдела. За вами выслан самолет. Завтра в семь утра вы должны вылететь в Хабаровск. Понятно? Почему такая спешка? А завтра в двенадцать дня открывается пленум крайкома. Да, внеочередной… В общем ждем вас. Повестку дня узнаете здесь. Материалы? Никаких особенных материалов не нужно, захватите общие данные о стройке. Да, да, ничего больше не нужно. К двенадцати часам чтобы были здесь. Какой самолет? Обычный, аэроклубовский У-2 Да, да…
Долго сидел в раздумье Платов после этого разговора. Потом позвонил сыну, который ждал его с удочками:
— Сережка, сегодня мы опять не сможем поехать с тобой на рыбалку. Валяй, паря, один.
Платов пришел домой уже в сумерки. Сережи еще не было. Вернулся он затемно, когда Федор Андреевич уже укладывался спать.
— Папа, смотри сколько! — Сережа вбежал в спальню со связкой серебристых карасей.
— О-о, так ведь это же великолепная уха! — воскликнул отец.
— Ну вот, видишь. А ты не поехал! — укорял сын. — Все говоришь…
«Какой он большой стал за эти пять лет, настоящий парень!» И у отца почему-то защемило сердце.
— Ладно, сынок, вернусь — обязательно порыбачим.
Он долго не мог заснуть. А когда уже стал дремать, в спальню вошла Анна Архиповна. Уж как она ни старалась все делать бесшумно, укладываясь в свою кровать, Федор Андреевич, услышав ее шаги, спросил:
— Аннушка, ты подготовила мой чемодан?
— Все готово, Федя. Ты до сих пор не спишь?
— Что-то не идет ко мне сон.
— Почему в такой спешке собирается пленум?
— Я сам думаю над этим…
Анна Архиповна улеглась, помолчала, потом, вздохнув, заговорила вполголоса:
— Я ничего не понимаю, Федя, в том, что происходит.
— Да разве только ты одна ломаешь над этим голову? Я думаю, что это, вероятно, перегиб. Когда мы научимся руководить так, чтобы находить точную меру вещей? Я уверен: Сталин, ЦК не знают, что делается в низах, иначе бы не допустили этого…
Федор Андреевич приподнялся на локте и продолжал возбужденным полушепотом:
— Камеры, говорят, забиты людьми. Я абсолютно уверен, что больше половины из них невинны. Арестовывают без разбора, по клеветническому доносу. Позавчера я отказался подписать визу на арест парторга из транспортной конторы — Самылкина. Боевой, страстный пропагандист, очень принципиальный, честный, бескомпромиссный коммунист. Заглянул в его личное дело: беспризорник, в двадцатых годах воспитывался в детдоме, окончил ФЗУ, работал слесарем на заводе, три года прослужил на границе, в 1932 году в числе первых мобилизованных приехал сюда. Был комиссаром батальона охраны — посылали специально на укрепление. Спрашиваю товарищей: «За что арестовываете?» — «За троцкизм», — отвечают. «В чем он выражается у него?» — «Самылкин хвалил Троцкого», — отвечают. «Откуда такие данные?» — спрашиваю. Оказывается, донос-известного вора-рецидивиста Левандовского. А я его как раз знаю — в бытность Самылкина комиссаром батальона лагерный суд приговорил Левандовского к расстрелу за восьмой побег, но его помиловали. И вот этому мерзавцу верят! Он же мстит Самылкину, разве не ясно?
— Ну и что же, не арестовали Самылкина?
— Арестовали, — со вздохом ответил Федор Андреевич. Помолчав, добавил: — Я абсолютно уверен, что многие арестованы по ложным показаниям Ставорского и Уланской — они специально клеветали на людей.
— Кстати, их еще не судили? — спросила Анна Архиповна!.
— Неделю назад судили в Хабаровске и расстреляли.
— Право же, Федя, в гражданскую войну все было как-то проще, яснее…
— Еще бы! Тогда враг был виден. Сейчас он маскируется под советского человека. Сбываются вещие слова Владимира Ильича: революцию совершить легче, чем удержать власть в своих руках и построить социализм… Ну ладно, Аннушка, пора спать.
— Папа, а тебя там не арестуют, в Хабаровске? — неожиданно раздался голос Сережки из соседней комнаты.
— Ты что же, Сергей, подслушивал наш разговор? — спросил Платов.
— Да нет, просто слышно…
— Меня арестовывать не за что, Сережа. Моя жизнь вся на виду у партии.
От зеленого поля аэродрома оторвался У-2 и стал набирать высоту. Еще стояла росная прохлада, солнце только что поднялось над темно-зеленой зубчатой грядой правобережных сопок, их тень прикрывала вороненой сталью воды Амура. Другая половина реки, освещенная солнцем, напоминала сталь, отшлифованную добела.
Перед Платовым все шире развертывалась даль с хаосом окрестных сопок. А в их кольце, как на макете, — панорама города. Свежесть красок, золото солнца, бескрайнее зеленое море тайги, строгие линии улиц, кварталов, заводских корпусов, паутина дорог, белые дымы над трубами ТЭЦ — все это наполняло сердце Платова восторгом.
«Что бы там ни было, — думал Федор Андреевич под ровный рокот мотора, — а город уже есть, заводы действуют, выпускают машины, страна идет вперед, социализм строится. В конце концов преодолеем и эту трудность».
Сразу исчезли треволнения, спал груз усталости, и на душе стало легко и привольно.
На аэродроме в Хабаровске Платова дожидалась крайкомовская машина, в которой, помимо шофера, находился инструктор орготдела.
— Товарищ Платов, поедем прямо в крайком, — скороговоркой сказал он, ощупывая своими быстрыми глазами лицо Федора Андреевича. — Вас ждут…
— Что за спешка такая?
— Там скажут.
В крайкоме Платов заметил необычно напряженную атмосферу. Все куда-то спешили, на приветствия либо вовсе не отвечали, либо безразлично кивали головой. На лицах всех встречных растерянность и что-то похожее на страх и подавленность.
— Что случилось? — спросил Платов заворга, входя в кабинет.
Заворг исподлобья посмотрел на Федора Андреевича.
— За вредительскую деятельность и шпионаж арестованы первый секретарь Далькрайкома, председатель крайисполкома, начальник управления НКВД по Дальнему Востоку и еще большая группа из состава бывшего руководства края.
— Вот так новость! — ахнул Платов. — Так что же это получается, Дмитрий Иванович?
— А то, что мы все просмотрели у себя под носом матерых врагов народа! — резко ответил тот. Помолчав, добавил: — Теперь должны дать отчет пленуму.
Он поднял телефонную трубку, назвал номер и доложил:
— Михаил Михайлович, товарищ Платов прибыл из Комсомольска… Слушаюсь.
Положив трубку, он коротко сказал:
— В приемную первого, быстро, к уполномоченному!
В бывшем кабинете первого секретаря Платова ждали двое.
— Садитесь, — сказал ему молодой, но уже огрузневший человек с залысинами.
«Даже не ответил на мое «здравствуйте», — подумал Платов, и ему стало тоскливо. Взглянув на стол, он увидел свое личное дело и почувствовал, как в глубине души ворохнулась тревога.
— Платов, Федор Андреевич, восемьдесят пятого года рождения, в партии с тысяча девятьсот второго. Ростовская организация Рэ-Эс-Дэ-Рэ-Пэ. Та-ак, давненько. К троцкистам и правым не примыкал? Та-ак. В гражданскую войну — комиссар дивизии, был в плену у белогвардейцев…
Все это звучало как допрос.
— Раненым попал, — заметил Платов, — случайно не был расстрелян.
— Случайностей на свете не бывает, так, кажется, учат нас Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин? — перебили его.
— В частностях и в судьбах отдельных людей они бывают нередко… В данном факте случайность состояла в том, что нас, раненых, захваченных в плен, не успели добить, потому что налетела тридцать третья Кубанская дивизия и спасла нас, — терпеливо пояснил Платов.
— Дело не в этом, дорогой товарищ Платов, — резко перебили его. — Дело в том, что в Комсомольске-на-Амуре вы проглядели крупную вражескую организацию, в которой сомкнулись все империалистические силы — от прямых японских агентов до троцкистов и правых… Вам понятно, о чем идет речь?
— Да, — глядя на свои ладони, согласился Платов. — Но ведь это прежде всего проглядели органы НКВД.
— А где были вы, секретарь горкома партии? — спросил уполномоченный, подавшись вперед. — Давайте ближе к делу, — успокоившись, продолжал он. — На вас лежит большая ответственность: либо вы расскажете на пленуме, как получилось, что вы проглядели вражеское гнездо в Комсомольске, либо признаете свою вину и скажете прямо, что вы все знали и молчали. Одно из двух!
— Ну, знаете ли!.. — возмутился Федор Андреевич. — Что угодно, только не этакий ультиматум. И вы меня не шантажируйте. Я расскажу пленуму то, что я знаю, а не то, что вы мне диктуете. Думаю, что пленум меня поймет.
Пленум открылся с запозданием. В президиуме было всего пять человек, не считая приехавших уполномоченных, — это все, что осталось от бюро крайкома партии. Вел пленум и делал сообщение тот же уполномоченный, который говорил с Платовым.
Он нарисовал мрачную картину. По его словам, вражеские лазутчики проникли во все поры Советского государства. Троцкисты и правые, сомкнувшись с иностранными разведками, сумели через свою агентуру подкупить и завербовать многих видных руководителей в центре и на местах, создать разветвленную шпионскую сеть. В случае нападения извне они готовили удар в спину Советскому государству. Они уже давно распродали западные и восточные территории Союза иностранным державам. Разведка сумела вовремя обезглавить заговор, и теперь задача состоит в том, чтобы выловить всех до единого предателей и шпионов.
— Товарищ Сталин, — чеканя слова, говорил уполномоченный, — требует во что бы то ни стало решительно положить конец либерализму и благодушию в наших рядах и с корнем вырывать вражеские осиные гнезда, где бы они ни были и как бы ни маскировались… А о том, что такие гнезда есть и на Дальнем Востоке, говорит факт разоблачения вредительской деятельности бывших руководителей края.
Слово взял Платов. Побледнев больше, чем обычно, он говорил глуховатым и спокойным голосом; свой рассказ о фактах вредительской деятельности Ставорского и его подручных, о пожаре на складе импортного оборудования он начал с того, что признал прежде всего свою вину.
— Но, товарищи, — продолжал он, — в этих чрезвычайно сложных условиях мы не должны забывать о перегибах. А они уже имеют место и могут подорвать авторитет партии в глазах масс.
Он рассказал о случаях ареста невинных людей, о забвении норм социалистической законности.
— Вы не с той ноты поете! — оборвал его председательствующий. — В вашем голосе слышится нечто большее, чем либерализм и благодушие, — вы прямой оппортунист!
Платов шагнул с трибуны, но вдруг покачнулся, раскрыл рот и беспомощно прислонился к стенке. Голова его вяло склонилась, лицо стало мертвенно-бледным.
— Да что же вы там сидите! — крикнул кто-то из зала. — Человек умирает!
И сразу все пришло в движение.
— Врача, быстро!
— Товарищи, расступитесь, прошу… — Заведующий крайздравотделом, расталкивая локтями столпившихся, пробирался к Платову. — Прошу, прошу…
— «Скорую помощь»! — послышался глухой отрывистый голос.
Но было уже поздно…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Через год Захара и Агафонова снова призвали в армию и направили в Приморье, в танковую часть. Предстояло изучение нового танка серии «БТ». Это был самый совершенный для того времени танк, младший брат будущей легендарной «тридцатьчетверки».
Часть находилась на учениях неподалеку от Амурского залива, когда привезли почту. Стояла изнуряющая жара. От духоты не было спасения даже в тени. Что говорить о танке? Он превращался в стальную жаровню.
Обеденный перерыв был устроен возле небольшого озера, в тени старого ивняка. В одну минуту озерко закипело от множества человеческих тел.
Агафонов задержался у танка, когда к нему подошел почтальон.
— Здесь первая рота? — спросил он, потрясая в воздухе пачкой писем.
— Так точно, — отозвался Агафонов. — Давай отнесу писарю, — предложил он свои услуги с намерением убедиться, нет ли ему письма.
Письмо пришло Захару. Прежде чем разыскать ротного писаря, Агафонов подошел к озеру и во все горло объявил:
— Жернаков! Получай письмо!
Захар выскочил из воды. Он расторопно вытер руки о траву, взмахом головы откинул мокрую прядь со лба, потому что с нее текло, и неторопливо схватил письмо.
— От Настеньки. Больно тонкое! — сетовал он, вскрывая конверт. Впился глазами в строчки, сказал взволнованно: — Из родильного дома пишет. — Потом воскликнул: — Гриша, сын, четыре кило! — И пустился в пляс, высоко вскидывая ноги. Потом снова за письмо. — Та-ак. «Самочувствие хорошее, на днях обещают выписать, — читал он. — Извини, тороплюсь, сейчас принесут сынишку кормить… Вчера вечером приходила Леля, приводила Наташку: она живет пока у них. Наташка страшно обрадовалась, когда узнала, что у нее есть братик, потребовала немедленно показать его. Я попросила няню, чтобы принесла. Наташка увидела его и горько разочаровалась: маленький, не может разговаривать. Сообщи телеграфом, какое дать имя. Предлагаю назвать Владиком. Да, чуть не забыла: позавчера в Хабаровске умер Платов. Говорят, прямо на трибуне, во время выступления». — Голос Захара стал глуховатым. — Слышишь, Гриша, умер Платов. Страшно жаль Федора Андреевича… Что за человечище был! Назову сына в его честь Федором, — твердо сказал он. — Пусть растет похожим на него, а вырастет — расскажу ему о человеке, которого он заменил на земле, — сурово добавил Захар.
Неожиданно учения части были прерваны. Прямо в поле танки построились в походные колонны и на большой скорости двинулись в расположение зимних квартир.
В сумерки часть прибыла на место. Только успели экипажи поставить танки, приказ: на митинг.
— Видать, что-то серьезное! — говорил Агафонов, когда они с Захаром спешили на учебный плац, где собирался митинг. — Неспроста все это — и с учений снялись, и теперь вот митинг.
— А вдруг война? — Захар с тревогой посмотрел на Агафонова.
— Ну, о войне бы сразу сказали.
Пока часть собралась на плаце, стало совсем темно. Митинг открыл заместитель командира по политической части. Он же сделал сообщение.
— Товарищи танкисты! — гремел его возбужденный голос в чуткой вечерней тишине. — Вчера японские самураи вероломно нарушили советскую границу в районе озера Хасан. Они создали на участке сопок Заозерная и Безымянная многократное превосходство сил, сбили небольшой заслон, состоящий из пограничников, и на четыре километра вторглись в глубь нашей территории. Самураи ввели в бой войска численностью до дивизии, применяют артиллерию, авиацию и танки. Провокация, как видите, задумана в большом масштабе.
Ропот, переходящий в нарастающий гул, прокатился по плацу. Пограничные инциденты на Дальнем Востоке не были в диковинку, провокации следовали одна за другой, но подобного еще не случалось.
— Сейчас в районе озера Хасан, — продолжал заместитель командира, — бои идут с неослабевающей силой. Враг старается закрепиться на захваченной территории, для этого подбрасывает все новые части и вводит их в бой. Нашим войскам приказано разгромить и вышвырнуть вон японских самураев со священной советской земли. В группу этих войск входит и наша часть. Нам приказано выйти в район сосредоточения не позднее десяти ноль-ноль завтра, тридцать первого июля. Командование и политчасть уверены, что вы не посрамите пролетарского оружия и с честью и достоинством выполните свой священный долг перед Родиной. Да здравствуют советские танкисты — стальная гвардия социалистического государства! Смерть самураям! Вон японских захватчиков с советской земли! Вперед, на врага! Ура, товарищи!
Словно прибойная волна перекатилась через плац, и вот ее как бы взорвало: «Ура-а-а!.. Ур-ра-а-а!..»
Потом выступали танкисты. Речи их были коротки и страстны. Каждая кончалась клятвой: враг будет выброшен.
— Становись! — раздалась команда.
Не прошло и минуты, как все были в строю. При свете карманных фонариков командиры читали приказ о выступлении. Огней не разрешалось зажигать, включать фары машин категорически воспрещалось.
К двенадцати часам ночи экипажи получили и уложили боезапас, до отказа залили баки горючим. На личные дела времени у танкистов почти не оставалось, но каждый успел написать записки и положить их в свои вещи. Захар написал две. Первая:
«Командованию и в политчасть. Если придется погибнуть в бою, прошу считать меня коммунистом. Мл. лейт. Жернаков. 30.7.38».
Вторая:
«Милые мои, уходим в район боевых действий. Если не вернусь, помните: я вас любил больше всего на свете. Настенька, женушка моя, сына назови Федором. Прощайте. Целую всех. Захар».
В четверть первого загрохотали танки. Машины одна за другой стали неторопливо выползать из темноты на дорогу и выстраиваться в походную колонну. Грозное это было зрелище: черные силуэты стальных чудищ ползли в ночном мраке, прорезая тьму снопами искр из выхлопных труб.
Экипаж танка остался в том же составе, в каком был на учениях: Агафонов — механик-водитель, Захар — башенный стрелок. Командиром был «кадровик» — старшина Алексей Криволап, щупленький, но подвижной, как вьюн, белобрысый паренек.
Ночь стояла безветренная, душная. Танки шли с открытыми люками. Захар и Криволап, высунувшись по пояс, молча смотрели вперед. Гул моторов и лязг гусениц наполняли все пространство ночи и заглушали мысли. Лишь иногда где-то в тайниках души Захара на минуту поднималась тревога, но тут же ощущение могучей брони, боевой азарт, сознание своей мощи, сознание того, что они идут на выручку товарищам по оружию, — все это настраивало на боевой лад, держало нервы в каком-то спокойном и ровном напряжении. Сколько раз, бывало, Захар думал о войне, пытался представить ее и не мог! Теперь этот момент настал. Решающий момент, итог всей прожитой жизни.
Перед рассветом стало прохладно. Захар опустился на сиденье, пытаясь задремать, но машину то и дело кидало — шли на повышенной скорости.
Проснулся он, когда совсем рассвело. Было мглистое, прохладное утро. Впереди, за повитой дымкой равниной с кудрявыми перелесками синели цепи сопок. Какие же из них Заозерная и Безымянная? И где граница?
Колонна перешла на самую большую скорость. Ее голова и хвост терялись впереди и позади в серой завесе пыли.
В семь утра последовала команда: «Стой! Смениться механикам-водителям!»
За рычаги сел Захар. Когда они менялись, Захар не узнал Агафонова — его лицо и шлем сделались седыми от пыли, глаза покраснели от усталости.
И снова напряженно заколотилось могучее сердце танка — мотор в сотни лошадиных сил. Но как легко управлять ими, как послушны они движению рук человека! Когда-то Егерь был менее послушен в поводу, чем эти четыреста пятьдесят Егерей.
И все же танковая часть пришла в район сосредоточения сил на полчаса позже срока. Когда танки скрылись в зарослях тальника и один за другим стали глохнуть моторы, Захар ясно услышал тягучую орудийную канонаду. Она текла со стороны сопок, что зеленой ломаной линией поднялись впереди, километрах в восьми. Взводные рации приняли закодированный приказ: механикам-водителям оставаться на местах, остальным членам экипажей находиться возле танков. Через час новый приказ: всем отдыхать, за исключением дежурных экипажей.
Захар уже собирался вылезти из танка, как возле люка появилась голова Агафонова.
— Слышь, Захар, кавалерия прошла — вон слева от нас!
— Да ну! Много?
— Полка два, если не больше. Прошли на широкой рыси…
— Может, там и восемьдесят шестой полк, Вася Корольков?
— Не исключено. Разберемся немного в обстановке — узнаем.
Пока Захар вылезал из люка, у перелеска, где пролетели конники, в воздухе осталось лишь облако пыли.
В четыре часа взвод, в котором служили Захар и Агафонов, заступил на дежурство. Все это время протяжный гул артиллерийской канонады, напоминающий близкие раскаты грома, не прекращался ни на минуту, и танкисты уже привыкли к нему.
Страшно пекло, воздух был словно в парной, на деревьях не шелохнется ни единый листок. Кажется, не было ни одной детали машины, которая бы не излучала жар, хотя танки стояли в тени. В воздухе висел стенящий звон гнуса. Комары набились даже в люки.
— Эта гадость хуже самураев, — ругался Агафонов.
Пришлось выкуривать их дымом и задраивать люки. Но тогда в танках нечем было дышать. Танкисты обливались потом, изнывая от жары и духоты.
— Я предлагаю все-таки открыть люки, — сказал Агафонов, — и всем закурить.
— Да я же не курю, — сказал Захар.
— А ты попробуй! Оно, паря, и на душе легче станет.
Он скрутил толстую цигарку и подал ее Захару. Они неистово зачадили. И в самом деле помогло: гнус больше не допекал.
Четверо суток простояла танковая часть в бездействии. Утром и вечером политруки докладывали обстановку в районе боев. Там больших перемен не происходило — продолжалась артиллерийская дуэль, предпринимались атаки местного значения, действовали разведчики. Советское командование продолжало накапливание сил. Одновременно в Москве велись переговоры с японским послом о мирном урегулировании конфликта и отводе японских войск с захваченной советской территории.
— Наверное, нам так и не удастся повоевать! — сетовали танкисты.
Только на пятые сутки, ночью, был получен приказ: выйти на исходный рубеж. Загромыхала артиллерия. То была звуковая маскировка для движения танков. Тяжелые машины колоннами двинулись к подножию сопок. По заранее разведанным трассам шли на малых скоростях, соблюдая короткую дистанцию, продираясь сквозь мелколесье и болота.
На рассвете все небо огласилось мощным гулом — волна за волной пошли на бомбежку наши самолеты. Скоро со стороны сопок прикатился ужасающий грохот, потрясший землю, и в лучах утреннего солнца заклубились черные тучи бомбовых разрывов.
У Захара жутко и радостно замерло сердце. Настал час возмездия! Страх? Нет, Захар не испытывал страха. Единственное, что владело сейчас всем его существом, — это нетерпение: скорее вперед, в бой с лютым и коварным врагом, который хочет отнять у него все, — счастье, жизнь, Наташку, сына, только увидевшего свет!
Волны бомбовозов еще продолжали катиться по синему небу, когда над башнями танков замелькали флажки — «вперед!».
Захар лихорадочно прильнул к окуляру телескопического прицела, нащупал ногами пулеметный и пушечный спусковые рычаги, ладони легли на рукоятки управления башней. Перед прицелом то земля, то небо — так кидало танк. В короткие промежутки, пока в сетке прицела была земля, Захар с волнением искал хоть малейшие признаки присутствия врага — траншеи, дзоты. Но всюду зелень — кусты, трава, а в траве — каменные глыбы.
В шлемофоне раздался голос командира машины: «Прямо по курсу, двести метров, пулемет!» Захар бешено крутит рукоятки, ловит серую точку бруствера на перекрестье прицела. Короткая остановка. Захар жмет на рычаг пушки. Выстрел слышен, как чужой, отдаленный. Первый выстрел по врагу. Перелет… Снова короткая остановка, снова выстрел. Снова перелет…
Агафонов повел танк на бешеной скорости прямо на бруствер — тоже заметил пулеметную точку.
И вдруг в прицеле зеленые фигуры в круглых касках. Словно жаром обдало Захара: самураи! Но как они быстро мелькают, словно зайцы! «Огонь из пулемета!» — слышится в шлемофоне. Приглушенный броней башни, застрекотал пулемет. Страх, ненависть, азарт, жажда мщения — все смешалось в душе Захара. Пот заливал глаза, мокрая резина окуляра скользила над бровью, по скуле, а Захар с ожесточением ловил скачущие фигурки, коротко раз за разом жал на пулеметный рычаг.
«Пулемет раздавили», — слышит он в шлемофоне возбужденный голос. Но Захару не до того. Он ловит и ловит в прицеле мелькающие фигурки, с яростью жмет на пулеметный рычаг.
Впереди, неподалеку, фонтаном взлетает земля. Ясно — вражеский снаряд, недолет. «Идти зигзагами!» — послышалась команда Алексея Криволапа. Реже стали остановки, и Захару труднее ловить в прицел убегающие фигурки самураев.
Фонтаны взрывов все гуще встают впереди и по бокам танка. Один фонтан земли вырвался из-под гусеницы соседней машины; танк чуть не опрокинулся, закрутился волчком на одном месте. «Перебило гусеницу», — подумал Захар.
Крик Алексея:
— Собака!
— Вижу! — ответил Агафонов.
Захар крутнул прицел вниз. В груди у него захолонуло: он знал, что в японской армии есть собаки, натренированные для броска под танки. Их обвязывают пакетами со взрывчаткой, а на спину ставят штырек-взрыватель.
Захар заметил собаку, когда до нее было метров сто. Она мчалась навстречу танку — толстая, неуклюжая. На очередной остановке танка Захар с трудом поймал ее в прицел, выпустил длинную пулеметную очередь, но собака продолжала скачками идти вперед.
— Из пушки ее, гадину! — приказал Криволап.
Остановка. Захар ловит в перекрестье собаку, выдерживает секунду-две. Вслед за глухим стуком выстрела метрах в пятидесяти впереди брызнула земля.
Три пары глаз уставились в то место, где взорвался снаряд. Едва осела пыль, как они увидели бешено вертящуюся на месте, словно на привязи, собаку.
— Пулеметной очередью! — командует Криволап.
Получив возможность хорошо прицелиться в замершем танке, Захар точно взял пса на перекрестье сетки и с ожесточением надавил рычаг. Раздался взрыв. На месте собаки — красно-черный клубок.
— Лопнула самурайская затея! — загремел в шлемофоне голос Агафонова.
И в ту же минуту адский грохот, рвущий барабанные перепонки, оглушил танкистов. В глазах Захара — огонь, потом чернота, в ушах — воющий звон. Это все, что запечатлелось в сознании…
…Словно в каком-то черном провале побывал Захар. Когда же он пришел в себя, танк продолжал двигаться, но совершенно бесшумно. В ушах по-прежнему стоял звон. Голова разламывалась от боли. Откуда-то издалека-далека донесся чей-то голос-писк: «Захар! Захар! Криволап! Криволап!»
Захара кто-то тормошил, дергал за ногу…
«Агафонов, — сообразил Захар. — Но почему он пищит?»
— Что случилось? — Громко спрашивает Захар в шлемофон.
В ответ — тот же писк. «Оглох», — подумал Захар, чувствуя, как холодный пот выступает на лбу.
— Что произошло? — крикнул он, превозмогая боль в горле.
В ответ снова писк в наушниках:
— Снаряд ударил в башню.
Захар пробовал покрутить секторы управления. Горизонтальный не работал, действовал лишь вертикальный, орудийно-пулеметный. Заглянул в прицел — башня повернута вправо. Заглянул за щит пушки — там, неподвижно скорчившись, будто уснул, под окуляром перископа Криволап.
— Выгляну через люк! — кричит Захар.
В ответ тот же противный, не то шелест, не то писк:
— Не смей! Снимет снайпер! Ясно и так — заклинило башню.
— Что будем делать?
— Стану в ложбинку, в укрытие, а ты проверь, что с Криволапом.
Танк резко накренился, сползая куда-то по крутому откосу.
— Открывай люк, посмотри Криволапа и обследуй башню снаружи, — пропищало в наушниках.
Криволап был без сознания. Захар попробовал пульс — он едва прощупывался. Крови нигде не видно. «Контузия», — решил Захар. Потом высунулся из люка. Сразу все стало понятным: с правой стороны у основания башни огромная вмятина с рваными краями.
— Срикошетил снаряд, — сообщил Захар Агафонову. — Криволап без сознания. Что будем делать?
Ответ пришел не сразу. Наконец в наушниках прошелестело:
— Надо одному унести Криволапа, а другому вывести машину на укрытую позицию и вести оттуда огонь.
— Решение верное, — согласился Захар. — Как твое самочувствие? Ты хорошо слышишь?
— Все нормально, — отозвался Агафонов.
— Ты покрепче меня, — сказал Захар, — да и слышишь хорошо. Так что тебе больше с руки нести Криволапа. А я поведу танк на сопку.
— Не на сопку, — поправил его Агафонов, — а в хорошо укрытую огневую позицию.
— Ладно, понял.
Танк маскировался в ложбине. Вдвоем они вытащили Алексея Криволапа через башенный люк, осторожно опустили на землю. Алексей лежал бездыханно, пульс по-прежнему был слаб.
— Вон там есть горбинка, — прокричал Агафонов прямо в ухо Захару, — с нее весь склон сопки как на ладони! Японцы отходят туда. Поставь машину так, чтобы только башня высовывалась, и веди прицельный огонь. Хотя бы по одной линии. Авось какой-нибудь самурай окажется на ней. Ну, прощай, Захар, будь осторожен.
Захар помог Агафонову взвалить на спину Криволапа, а сам полез в люк механика-водителя.
Танк завелся с одного нажима на стартер. Захар повел его на полной скорости. Вот и склон. Он весь испятнан клубами дыма от взрывов. По склону, как гигантские зеленые жуки, ползут десятки танков, кое-где видны горящие машины.
«А на кой черт мне этот гребень? — подумал Захар. — Отсюда толком и не разглядишь самураев». И он дал полный газ. Расстояние между ним и атакующими танками стало быстро сокращаться…
Много потом было смеха по поводу того, как какой-то шальной танк шел в атаку с башней, повернутой вбок. От него шарахались, и только тогда поняли, в чем дело, когда этот «дикий» танк, поравнявшись с головными машинами, укрылся за каменной глыбой и развернулся правым бортом к противнику, открыв прицельный огонь из пушки. Снаряды Захара точно ложились в гущу отступающей самурайской пехоты, сопровождая ее на всем видимом оттуда пути. Вражеские снаряды стали рваться неподалеку от танка, но каменная глыба, за которой он укрылся, защищала его надежным естественным бруствером.
Захар отошел со своей позиции только тогда, когда в боезапасе не осталось ни одного снаряда.
В старом ивняке у излучины речушки было не менее жарко, чем на поле боя. Тягачи волокли к стоянке подбитые и совершенно обгорелые машины. Одному танку своротило набок башню и покорежило все его внутренности, другому снаряд пробил бортовую броню.
Возле танков копошились санитары, и Захар понял: они вытаскивают останки погибших. Он хотел было подойти поближе, но увидел обугленную голову с верхней половиной грудной клетки и торопливо пошел прочь.
Осмотрев машину, помпотех махнул рукой:
— Безнадежное дело, менять надо башню. А вы идите в санчасть! — прокричал он на ухо Захару. — Агафонов, проводите!
— Восемнадцать человек уже убито, — сообщил Агафонов по пути. — Около сорока раненых и контуженных.
— Как Криволап?
— Эвакуировали в госпиталь.
Возле большой палатки, где помещалась санчасть, Агафонов и Захар увидели несколько санитарных машин. В них спешно грузили раненых танкистов. Неподалеку от палатки на траве было расстелено полотнище брезента. Из-под его края виднелись спокойно раскинутые ноги в запыленных ботинках и крагах. Над брезентом роились тучи мух.
— Убитые, — сказал Агафонов, кивнув на брезент.
Никогда еще не было Захару так жутко, как сейчас, при виде этой шеренги недвижно лежащих ног. Еще сегодня утром эти люди стояли в строю. Еще час назад они яростно нажимали на рычаги пушек и пулеметов, на педали машин — и вот уже ничего больше не делают и никогда не сделают. Скоро они навеки лягут глубоко в землю, чтобы превратиться в тлен.
Долго еще эта скорбная картина бередила душу Захара, отзываясь болью в сердце. Говорил ли он с кем-нибудь, делал ли что-либо, а перед глазами вдруг четко-четко возникала шеренга запыленных краг и ботинок с торчащими кверху носками…
Врачебный осмотр продолжался не более минуты.
— Легкое продувание, — сказал врач медсестре.
Когда кончилась процедура, врач снова подошел к Захару.
— Как слышите? — громко спросил он.
— Левым почти нормально, правым ничего не слышу.
— Не отчаивайтесь, скоро пройдет. По утрам будете приходить на процедуры.
Бой закончился глубокой ночью. Утром стало известно: враг разбит наголову. Вершины Заозерной и Безымянной были как будто срезаны. На поле осталось более шестисот трупов японских солдат и офицеров, множество разбитых пулеметов и орудий. Но в части недосчитывалось немало танков. Два экипажа сгорели вместе с машинами. Двадцать три человека были убиты, сорок три ранены и контужены.
Захар был в палатке санчасти, когда в просвете полога показалась голова Агафонова:
— Что? — спросил Захар.
— Кавалеристы стоят по соседству! Сейчас слышал ржание коней — вон там, вверх по речке.
— А может, это не кавалеристы, а кто-нибудь ехал на подводе? — усомнился Захар.
Они пустились бежать длинными прыжками по галечному берегу речушки, делающей поворот в зеленом коридоре ивняка.
Но вот речка выпрямилась, и они увидели лошадей, а вокруг них голых людей.
— Ясно, купают! — крикнул Захар.
Захар и Агафонов дождались, когда красноармейцы стали выводить коней из воды, и спросили крайнего, какой это полк.
— Его величества первый гренадерский, — весело щуря узкие глаза, ответил тот.
— Нет, серьезно. — Захар подошел ближе, ласково похлопал коня по мокрой шее. — Мы ищем своего товарища, конника.
— А как его фамилия?
— Корольков. Старший лейтенант Корольков.
— Такого что-то не знаю. Ребята, — крикнул конник, — кто знает старшего лейтенанта Королькова?
— Во втором дивизионе есть Корольков, только он не старший лейтенант, а капитан, командир первого эскадрона, — отозвался голос с речки.
— Вон отсекр дивизиона по комсомолу знает, — сказал красноармеец с узкими глазами.
Захар заприметил в воде смуглого сухопарого красноармейца и подошел к речке.
— Слушай, товарищ, подойди сюда на минутку, — позвал он.
Тот легко вскочил на мокрую спину коня, подъехал к берегу.
— Что такое?
— Будь другом, объясни нам, как найти Королькова? Мы из танковой части, по соседству стоим. Пять лет не видели дружка…
— Тут с километр будет, проплутаете долго, — задумчиво сказал отсекр. — Ну уж так и быть, браткам-танкистам надо помочь. Хорошо вчера вы давили самураев. Побитых много у вас?
— Двадцать три. Шестеро сгорели вместе с танками.
— У нас поболее будет. Что сказать-то Королькову, если он живой?
— Скажите, Агафонов и Жернаков ждут…
— Пожалуй, надо все-таки подседлать, по лесу ехать.
Он быстро оделся, отвел коня к коновязи. С завистью наблюдал Захар за тем, как он расторопно седлал коня, ловко вскочил в седло, с места взял крупной рысью.
Томительно тянулось время, пока Захар и Агафонов ожидали вестей из второго дивизиона.
— А вдруг убит или ранен? — думал вслух Захар.
— И то возможно, — соглашался Агафонов. — Бой был нешутейным.
Они не сводили глаз с того перелеска, в котором скрылся конник. Там долго никто не появлялся, а друзьям казалось, что они ждут уже целый час. Наконец из зарослей выскочил знакомый всадник. Не сбавляя рыси, он подскакал к ним, радостно сообщил:
— Нашел! Что же сразу не сказали, что вместе курсантами служили? Он аж подпрыгнул, когда услышал! Сейчас прискачет.
Не прошло и пяти минут, как из перелеска вылетел всадник на высоком рыжем коне. У палаток он осадил коня, спросил о чем-то и пустил скакуна рысью к берегу, где сидели Захар и Агафонов. Они встали, одернули гимнастерки, не спуская глаз с приближающегося всадника. Знакомая посадка! Да, это Вася Корольков! И как же он весь слился с конем, как ловко сидит! Еще издали разглядели его лицо, загорелое до черноты, а когда-то было, как у девушки, нежным, белым. Плотная фигура затянута в кавалерийские ремни, слева — клинок и полевая сумка, справа — пистолет. До боли знакомая старым конникам командирская экипировка.
— Братцы, вы ли это?! — закричал Вася, на ходу соскакивая с коня. На глазах вдруг блеснули слезы.
Трудно видеть мужские слезы, даже если это слезы радости…
Корольков долго тискал друзей в своих объятиях. Конь терся мокрым храпом о его спину, лязгая передним копытом по гальке.
Потом отошли к голой колодине-выворотню, принесенной разливом реки, и уселись рядком.
— Ну, кто бы мог подумать, кто бы мог подумать!.. — время от времени восторженно восклицал Корольков. — Встретиться — и где!.. — Он отпустил подпруги коню, достал из переметной сумы офицерского седла флягу, круг колбасы, полбуханки хлеба, три солдатские кружки.
— Принимай, Захар, у дивизионного каптенармуса выпросил ради такого случая.
— Это добре! — крякнул Агафонов, потряхивая флягу. — Спирт?
— Спирт. Давай, Гриша, орудуй.
Выпив, ударились в воспоминания. Кого и чего только не вспомнили! И смешное, и горькое, и радостное, и печальное. За эти два часа перед каждым прошла вся его жизнь.
Когда настало время расставаться, Захар попросил:
— Вася, дай я хоть посижу в седле.
— А чего же! — Корольков охотно подал повод. — И добрый же конь, братцы! Никогда еще такого не было у меня, от комдива перешел ко мне. Второй год езжу.
У Захара радостно напряглись, запели все мускулы, когда он взялся за луку и гриву коня. Даже малейшей тяжести не почувствовал он в теле, вскакивая в седло.
— Гляди-ко, да ты будто и не слезал с коня! — изумился Корольков.
— Тоскую, Вася, всегда тоскую… Так бы и не сходил с седла.
Захар тронул каблуками рыжие бока, конь заплясал на месте, прошелся иноходью по кругу. Захар попросил у Королькова клинок, легко снял пару лозин, вздохнул: «Не хочу бередить душу!» — и спрыгнул на землю.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Лежа на верхней полке и прислушиваясь к перестуку колес, Захар долго не смог уснуть. В беспорядке проплывали картины воспоминаний, а он все думал, думал, мысленно вглядываясь в шеренги запыленных краг и ботинок, торчащих носками кверху из-под брезента, в серебристую сталь клинка Васи Королькова. Захар понимал, чувствовал: какая-то незримая грань пролегла в его жизни между всем тем, что осталось позади, и тем, что смутно виделось теперь в будущем. Захар как бы прозрел и понял, что жизнь куда сложнее, ярче, драматичнее, чем до сих пор он считал. Боевая «романтика» начисто испарилась при виде сгоревших танков и обугленного человеческого тела.
И впервые в жизни Захар лицом к лицу столкнулся с жестоким, беспощадным, бесчеловечным миром — миром врагов. И оттого еще светлее стало для него все, чем он жил, что окружало его на этих милых сердцу просторах, под голубым сводом небес. Как все дорого ему теперь! С обостренным чувством жажды мечтал он отдаться любимому делу — строить, строить, строить! И познавать! О, как мало узнал он в свои двадцать семь лет! Жажда новых знаний клокотала у него в душе.
Чувство радостного обновления не покидало его всю дорогу до Комсомольска. Даже люди казались ему другими — добрыми, родными, и каждому хотелось улыбнуться.
На хабаровском вокзале он услышал по радио «Славянский танец» Бородина и сказал Агафонову:
— Подожди, Гриша, посидим.
— Что такое? — не понял тот.
— Слышишь, «Славянский танец». Не могу равнодушно слушать.
— А слышишь хорошо?
— Немного мешает звон в правом ухе. Но я уже привык к нему, делаю «поправку на шумы»…
В городском парке Захар любовался красками поздних цветов, с трепетным чувством впитывая прелесть их нежнейших тонов и оттенков.
А потом в оставшееся до посадки на пароход время он ходил по книжным магазинам. В течение суток, пока пароход шел до Комсомольска, Агафонов устал от молчания, потому что Захар как зарылся в учебники, так и не отрывался от них.
— Не поеду с тобой никогда! — ворчал Агафонов за обедом, поглядывая на друга, уткнувшегося в книгу.
…Пароход пришел в Комсомольск уже в сумерки. Какова же была радость Захара, когда он увидел в толпе встречающих родные лица — Настеньку с сыном на руках и Лелю Касимову с Наташкой. Захар почувствовал, как слезы застилают глаза, и украдкой смахнул их, делая вид, будто поправляет кепку.
Первой кинулась к нему Наташка, завизжав на весь дебаркадер.
— Папочка!.. Тебя не убили, папочка, нет? — спрашивала она, поворачивая мягкими ладошками его черное от загара лицо то в одну, то в другую сторону. — А у меня есть братик, такой красивенький!..
Этот братик беспробудно спал и не изволил проснуться даже тогда, когда впервые в жизни оказался на руках отца.
— Ну как твое ухо, Зоренька? — было первым вопросом Настеньки. — Слышишь?
— Немного позванивает.
— Болит?
— Почти нет, — приврал Захар. На самом деле время от времени от боли начинало разламывать голову. — Врачи говорят, что через полгода все пройдет, только слух будет ограниченным.
— А как тот ваш командир танка?
— Перед отъездом ходил к нему в госпиталь. Ничего не слышит и даже вроде умом тронулся. Но врачи надеются, что это пройдет.
На набережной их ждала новенькая «эмка» — легковая машина, только что полученная горкомом комсомола.
— А где Иван? — спросил Захар.
— У него там сейчас такое!.. — Леля безнадежно махнула рукой. — Городская комсомольская конференция идет. Ванюша прибежит, как только закончится вечернее заседание. Тогда и расскажет все.
Вошел Захар в свой дом — и будто тяжкий-тяжкий груз свалился с его плеч. Все-то было здесь дорого и мило ему, от всего веяло родным уютом и покоем, снимающими с души тревоги и усталость.
Пока Захар брился, умывался и переодевался с дороги, пришел Каргополов.
— Где тут служивый?! — загремел его голос. — Да по тебе и не видно, что ты дрался с самураями, — какой был, такой и есть. Разве вот подзагорел.
Захар действительно выглядел празднично. Выбритый, в чистой белой сорочке с закатанными рукавами, так подчеркивающей смуглоту лица и рук, он весь сиял.
Сели за стол, Каргополов поднял стакан с вином.
— Что ж, давайте за благополучное возвращение Захара. Ведь, говорят, оттуда не вернулись четыреста человек.
У Настеньки на глаза навернулись слезы, и она проговорила сдавленным голосом:
— Ох, до чего же мне страшно стало, когда пришло письмо из района боев! Федюшку родила, еще не оправилась как следует, а тут сообщение о потерях…
В суровом молчании, затаив дыхание слушали длинный рассказ Захара о боях у озера Хасан, с жадностью расспрашивали о войне. Ведь звон оружия все яснее и отчетливее доносился с востока и запада страны.
— Ну, хватит, — сказал наконец Захар. — Расскажи ты, Иван, что нового в городе.
— Веселого мало…
Хотя Каргополов и бодрился и старался улыбаться, но Захар видел, какие горькие складки легли вокруг его рта, замечал в глазах скрытую печаль и усталость.
— О смерти Платова ты знаешь… А что посадили Саблина как врага народа, тоже знаешь?
— Первый раз слышу!
— Ну вот, по Комсомольску в общей сложности уже посадили человек двести врагов народа. Предполагают, что все это кадры Ставорского.
— Его судили?
— Судили еще в июне. А сейчас идет городская комсомольская конференция. Сегодня утром началась. Специально приехали два представителя. По их данным, у нас в городе существует вражеское гнездо и именно среди комсомольского актива.
— Не может быть!
— И я тоже так думаю, но нельзя и не верить. Черт знает, разве можно было предположить, что Ставорский, Уланская, Саблин, Гайдук были замаскированными врагами? А ведь что они натворили? Такие ценности сожгли в складе импортного оборудования! Пытались взорвать цех…
— Что Ставорский не наш человек, я давно подозревал, — заметил Захар. — Но Саблин! Трудно поверить… А как городская конференция, активно идет?
— Да пока не очень. Завтра утром Аниканов будет выступать. Наверное, опять с каким-нибудь демагогическим трюком, как тот раз, на краевой конференции. А что он готовит какую-то пакость, я в этом абсолютно убежден. Сегодня утром, еще до конференции, пришел к представителям и час целый пробыл с ними наедине. После их разговора один из представителей, Смирнов, зашел ко мне и спрашивает, правда ли, что я сын попа. «Так это же и в моем личном деле записано», — говорю ему. «Та-ак, — говорит он, а сам подозрительно щурится, — этого как раз мы и не знали».
— Наверное, Аниканов сообщил, — высказал догадку Захар.
— А то кто же? — усмехнулся Каргополов. — У этого все на учете.
— Господи, до чего же паскудный человек! — воскликнула Леля. — Ребята, ну что вы не возьметесь, не разоблачите его?
— К нему, дорогая, не очень-то просто подкопаться, — возразил Каргополов. — Единственным человеком, который чутьем угадывал его нутро, был Федор Андреевич. Теперь его нет… Все дело в том, что формально Аниканов все делает правильно. И организатор неплохой, хотя иногда выступает демагогически. Но душа у него подлая. Так разве это основание для критики, когда нас учат судить о людях по их деловым качествам? А деловые качества Аниканова безупречные.
Прошел день. Поздно вечером, когда Захар уже собирался лечь спать, кто-то нетерпеливо постучал в дверь.
— Ну все, Захар, — с нервной дрожью в голосе сказал Иван еще с порога. — Я тоже враг народа…
— Что?!
Включив свет, Захар не узнал своего друга: лицо бледное, вокруг глаз — синева, почти такая же, какая была у него во время цинги, губы дрожат.
— Расскажи толком, что случилось? — Захар подвинул ему стул. — Садись.
— Только что закончилась конференция, завтра будут выборы.
Каргополов старался выглядеть спокойным.
— У тебя вода есть? Принеси, пожалуйста. — Жадно выпив, продолжал: — Сейчас выступал Смирнов с заключительным словом… Я не пошел домой, побаиваюсь… Да и Леля пусть уснет спокойно. Решил заглянуть к тебе. Ну так вот. Все недостатки — слабую внутрисоюзную работу, случаи прогулов комсомольцев, недоделки в политической учебе — Смирнов объявил преднамеренными, мол, руководство горкома комсомола все это подстроило с целью вредительства и диверсии. Ну и завершил речь тем, что, мол, организация проглядела сына попа в руководстве, на поверку оказавшегося врагом народа. Понял?..
Каргополов едва переводил дух.
— Видна тут и аникановская подтасовка. Ты посмотри, как он вывернул дело? Тебя обвинил, Захар, в зажиме стахановского движения, подвел под это политическую базу в том смысле, что твой дядя у Деникина служил. А меня обвинил в том, что я покрывал тебя потому, что мы, дескать, дружки. А дружки потому, что у меня отец был попом, а у тебя дядя белогвардеец. Ну не сволочь ли, а? Вот увидишь, он станет секретарем горкома комсомола! Видно по тому, как с ним запанибрата Смирнов. Я попытался дать объяснение. Куда там! И слушать не стали. Смирнов так и сказал: «Врагам народа комсомольскую трибуну мы не предоставим».
Каргополов ушел от Захара около двух ночи. А назавтра Ивана арестовали.
Леля не плакала. Вялая, безразличная ко всему, подписала акт о сдаче столовой, встала и медленно пошла к двери. Переступив порог, обернулась, сказала усталым голосом:
— Все это неправда, Каргополов никогда не был врагом народа…
Словно пьяная, шла она по дощатому тротуару, не замечая полуденного зноя, машин, поднимавших клубы пыли, не различая лиц прохожих. «Враг народа…» — эти два страшных слова только и владели ее сознанием. «Что же мне делать? Пусть арестовывают и меня. Ванюша… Милый мой Ванюша!» И она заплакала прямо на улице лютыми, горючими слезами.
А на другой день Захара уволили с работы как зажимщика стахановского движения и пособника Каргополова — врага народа…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Захар чувствовал себя как бы подвешенным в пустоте.
Он пробовал ходить в управление строительства, в горком партии. Там его выслушивали, даже выказывали сочувствие, но посоветовать ничего не могли — решение городской конференции! Он пробовал искать любую работу, хоть грузчика. От него отмахивались, как от чумного.
Не было Платова, не было Каргополова, не было в горкоме Бутина, нет больше Саблина — людей, которые знали его и доверяли ему. В горком комсомола он даже не пошел — там вторым секретарем теперь Аниканов.
Что же делать? Уезжать из Комсомольска? Нет, Захар и думать об этом не хотел. «Не может быть, — в конце концов решил он, — чтобы правда не восторжествовала. Напишу письмо в Президиум ВЦИК».
Целыми днями Захар не выходил из дому, занимался с детьми, но большую часть времени просиживал за столом, листая книги, набрасывая чертежи машин.
Как-то к нему подсела Настенька, посмотрела на его бумаги, спросила устало:
— Зоря, ну что же мы будем делать? Денег у нас самое большее на месяц. Я еще в декретном, и мне не разрешат раньше времени выйти на работу. Чем будем жить?
Захар ждал этого вопроса, страшился его, давно искал на него ответа. И сейчас он долго молчал, наконец проговорил:
— Думаю, Настенька, все время думаю…
— И что же ты надумал?
— Ехать в Николаевск на кетовую путину. Она скоро начнется. Говорят, там в разгар путины люди хорошо зарабатывают. Скажу, что нахожусь в отпуске, решил подработать. Авось поверят.
— А если не поверят, потребуют справку? — Настенька усталыми глазами посмотрела на мужа.
— Все равно уговорю! И привезу на зиму соленой кеты и икры.
В дверь постучали. Пришла Леля — исхудавшая, вся какая-то высохшая, изможденная.
— Как дела, Леля?
— Да никак. Я, наверно, Зоря, с ума сойду. Думаю, думаю — и не пойму. Неужели такое может быть при Советской власти? А не вредительство ли это — арестовывать ни в чем не повинных людей? И кому теперь верить?
— А я это так понимаю, Леля, — заговорил Захар, — это просто паника. А в панике люди теряют рассудок и начинают избивать своих же. Второго августа, когда мы стояли в районе Хасана и ждали приказа о выступлении, у нас произошла паника. Вроде бы все хорошо охранялось: пулеметы наготове, дежурила одна рота в танках — и вдруг ночью поднялась стрельба, крики, топот ног… Меня из палатки будто ветром выбросило, не помню, как и выскочил. Впечатление такое, что на нас напали японцы. С полчаса продолжался переполох. А назавтра выяснилось — всему виной корова. Зашла, понимаешь, в охраняемую зону, а наши со страха пальнули в нее. Она затопотала. По ней из пулемета другой секрет — принял, наверно, за японскую кавалерийскую разведку. И пошли палить!.. — Захар невесело улыбнулся. — Нечто подобное, мне кажется, происходит и у нас сейчас в масштабе города.
— Но неужели же неизвестно товарищу Сталину, что арестовывают невинных людей? — воскликнула Леля.
— Я думаю, что неизвестно, — отвечал Захар, — иначе бы этого не произошло.
— Ну так вот, — доверительно сказала Леля, — я написала ему письмо. Все расписала, как есть, чистую правду. А зашла к вам вот зачем. — Леля потупилась. — Меня выселяют из квартиры. Подумайте и скажите, пустите или нет к себе жить?
— Тут и думать нечего! — в один голос отвечали Захар и Настенька.
— Спасибо, дорогие. — У Лели заблестели слезы, она вытерла их ладонью. — А как у вас с деньгами?
— На месяц растянем, — отвечала Настенька, — а дальше сами еще не знаем, что будет…
— У меня есть тысяча сто рублей, — деловито сообщила Леля, — отпускные получила. Возьми, Настя, в общий котел.
Она решительно протянула Настеньке пачку розовых тридцаток.
— Думаю кое-что продать из барахла. Так что на первое время нам всем хватит. А дальше, пока будет все решаться, у меня такие планы: на базаре уже торгуют брусникой. Значит, созрела. Я там прилаталась к одной тетке, она знает хорошие ягодные места, и мы договорились вместе ездить с нею по ягоды. И буду тоже продавать на базаре… Стыдно? Ну, а что же делать? Не помирать же с голоду. Ты-то, Зоря, как думаешь?
Вместо него ответила Настенька — рассказала о планах Захара ехать на Нижний Амур.
— Зачем тебе рисковать? — возразила Леля. — Проездишь, истратишься и вернешься с пустой сумой. Я предлагаю, Зоря, такой план. Ведь в тайге тьма-тьмущая кедров. На базаре орешки по рублю стакан. А что, как отправиться тебе в тайгу? Ты только подумай: два мешка орехов — пятьсот рублей!
— Видно, не зря ты, Леля, столько лет в столовой проработала, — усмехнулся Захар, — торгашеский дух накрепко засел в тебе.
— Да при чем тут торгашеский дух? — возразила она. — Ты сам-то подумай: на работу не принимают, помощи никакой ниоткуда, так что же делать? А тут рядом верный заработок. Это же временно. Кто нас осудит за это? Вон аникановские мать и теща пропадают на базаре день-деньской. То мясом, то яичками, то огурцами торгуют. Ох, ребята, какие же бешеные деньги они загребают! А случись какая беда, война, голод — они же с нас шкуру снимут! И вот из такого гнезда отпрыск секретарем горкома комсомола!
— Он тут ни при чем, — с усмешкой заметил Захар. — Он же с ними не живет.
— Вот в том-то и дело, — согласилась Леля, — а то бы я завтра написала в газету.
— Боязно отпускать его в тайгу, — вздохнула Настенька. — А вдруг медведь наскочит?
— Господи! — возмутилась Леля. — Женщины ходят, а мужчину пускать боязно. У него небось и ружье еще цело? Да, Зоря?
— Да, лежит в кладовке.
— Ну вот. Ты же знаешь, Настя, что он убил однажды медведя?
— Знаю… Ну что ж, я не возражаю, пусть идет, — согласилась Настенька. — Ты-то сам как, Зоря?
— Пожалуй, надо попробовать. Это проще, чем ехать на Нижний Амур. Но надо у кого-то разузнать места, чтобы поближе. Да и о технике этого дела порасспросить.
— Да сходи к тому же Рудневу, Любашиному отцу, — посоветовала Леля. — Он же хорошо тебя знает, небось не скроет.
В тот же день Захар разыскал Любашу — она работала техником на строительстве. Он дождался ее у проходной в обеденный перерыв. Любаша мало изменилась: такая же стройная, с тем же персиковым румянцем на щеках, только резче стали черты лица, да взгляд сделался бойче и решительнее. Она с радостью встретила Захара.
— Давно я не видела тебя! Говорят, у тебя несчастье, Захар?
Он коротко рассказал о своей беде, спросил, где найти Никандра, стыдливо утаив причину своих розысков.
— Мы теперь отдельно живем, — сказала Любаша. — Но я знаю, что папаша в отпуске. Так что иди прямо в поселок.
Вскоре Захар входил в калитку двора, огороженного высоким дощатым забором. Он давно не бывал здесь, и за это время поселок разросся и занимал уже всю припойменную часть устья Силинки. В пестрой массе домиков выделялись три одинаковых дома, стоящих в ряд и срубленных по типу донских куреней. Один из них был Никандров. Захар понял, что два других — кузнецовский и аникановский.
Никандра он нашел в огороде — тот собирал созревшие помидоры.
— А-а, давненько не видались, паря. Ну, здравствуй, — приветствовал он Захара, и непонятно было, обрадовался он встрече или нет.
Никандр за эти годы погрузнел, отяжелел, на рыжей бороде заметно проступил пепел седины.
— Я к вам по небольшому делу, — сказал Захар. — Можно вас оторвать на минуту?
— А чего ж нельзя? Работа моя не к спеху.
Они уселись на крылечке, и Захар без обиняков рассказал Никандру о своей беде.
Тот внимательно слушал, сочувственно вздыхал.
— Что ж, как старому знакомцу, придется помочь, — сказал он. — Ты Бельго знаешь? Нанайское стойбище. Примерно двадцать километров отсюда. Ну вот, пониже того стойбища есть протока, она тебя приведет в озеро, одно оно там промеж сопок. Потом пойдешь на восток, на сопки. Там в двух примерно верстах и начинается кедрач. Темный кедрач! — воскликнул он. — Там и будешь собирать.
— А лодки у вас не найдется?
— Так у тебя и лодки нет? Худо, паря. Лодка-то у меня есть, но скоро подойдет кета, поплавать с сеткой маленько планую.
— До кеты еще две недели, а мне хотя бы на одну.
— За одну неделю ты не управишься, — возразил Никандр. — Уж ехать, так чтоб набить шишек вдоволь. Однако давай уговоримся: через десять дней пригонишь?
— Пригоню.
— Тебе верю. Бери лодку. В случае чего — поквитаемся.
— Я в долгу не останусь.
Никандр посоветовал Захару прихватить лист жести, пробитый дырками — решето, чтобы просеивать орехи после того, как шишки будут обожжены на костре и обмолочены палкой.
На другое утро Настенька и Никандр проводили Захара до лодки, помогли донести запас харчей и снаряжение: скатанный в трубку лист жести, одеяло, топор, ружье, чайник, котелок и всякий иной скарб.
— Ночевать-то как будешь? — спросил Никандр.
— Обычно, у костра.
— А полог у тебя есть?
— Нету.
— Вот видишь, как ты… А дождь пойдет? Давай-ка манатки, а сам беги ко мне в дом, пускай мать тебе даст мой полог. Старенький он, но от дождя прикроет.
На озере погода казалась вроде тихой, но когда Захар выбрался на Амур, там гуляла довольно высокая волна. Ветер дул с верховий и помогал Захару.
От Комсомольска до Бельго вниз по течению Амура — двадцать километров. Захар изрядно отмахал руки, пока очутился против стойбища. Цепочкой убогих избенок вытянулось оно по голой песчаной бровке правобережья. За ним — широкая котловина, а дальше крутые склоны сопок, одетые в мрачную зелень хвойных лесов.
Миновав стойбище, Захар скоро увидел неширокую проточку, уходящую по тальниковому коридору. Вскоре протока сделала крутой изгиб — и вот оно, озеро, широкое, во всю котловину, спокойное, гладкое; в его зеркале отражались все мрачные тона тайги.
Радостно и немного страшно стало Захару при виде суровой красоты озера. И хотя было тепло, даже жарко, Захару чудилось, будто от глади озера веет холодом.
Он пристал к берегу там, где в озеро впадал прозрачный студеный ручей, бегущий из темного распадка, зияющего, как пропасть. Вокруг — ни души, только потревоженная цапля кружит над озером, оглашая окрестности своими воплями.
Стоял полдень, и Захар решил не задерживаться у озера. До вечера нужно было разыскать кедрач и подготовиться к ночлегу. Нагрузившись своим скарбом, он двинулся в тайгу и сразу попал в старый ельник, хранящий мрак и первозданную тишину. Необъяснимый страх сжал сердце, ноги отказывались идти, но Захар упорно пробирался вперед. И до чего же горько было у него на душе! Не любовь к природе, не страсть к приключениям загнали его сюда — деньги, желудок…
Но что же делать? Не отступать же назад?!
Начался подъем на сопку. Мрачный ельник неожиданно сменился светлым веселым березнячком. А тут еще попалась старая тропа — и сразу посветлело. Повеселело и на душе у Захара.
Раз пять отдыхал он, пока тропа привела его на перевал — широкую седловину между округлыми вершинами сопок. Вышел он на перевал, и сердце замерло от восторга. Необозримые просторы открылись перед ним — зыбучие увалы, низины, отдельные сопки-курганы и тайга, тайга, тайга до самого горизонта. В мглистой дали едва угадывались контуры громадных хребтов.
Грандиозность картины подавляла своим величием, и от этого чувство одиночества еще острее охватило Захара.
Кедрач оказался совсем неподалеку. Его нетрудно было угадать по характерному синеватому отливу.
Путь к кедрачу оказался нетрудным, так что уже минут через сорок Захар очутился среди могучей колоннады кедровых стволов. Запрокинув голову так, что свалилась кепка, вглядывался он в гигантские кроны с тяжелыми шишками.
Захар выбрал место на полянке возле завалившейся охотничьей избушки. Кедры вокруг стояли не густо, подлеска под ними вовсе не было, а землю, устланную мягкой подстилкой из хвои, прикрывал прозрачный папоротник. Дышалось здесь удивительно легко — настоянный на хвое терпкий воздух сам, казалось, тек в легкие.
До вечера оставалось много времени, и Захар решил не тратить его впустую — двинулся на поиски урожайных мест. Шел — и сердце замирало: до чего же величественное зрелище этот кедровый бор! Ветер не проникает под его глухую зеленую крышу, а пробегает где-то очень высоко, слегка шелестя в вершинах. Кругом тишина, воздух звучный, и, когда с размаху грузно шлепается кедровая шишка, звук этот, пугающий своей внезапностью, разносится очень далеко. Захар кинулся было собирать опавшие шишки, но быстро разочаровался: почти все шишки были пусты — поработали белки и бурундуки.
С небогатой ношей вернулся Захар на свой бивак — в мешке лежало всего с десяток шишек. Если так пойдет и дальше, с пустой сумой вернется он к семье. Надо что-то придумать.
Ночь прошла беспокойно. Захар то и дело хватался за ружье, с тревогой прислушивался к тишине. Стук упавшей шишки, истошный крик кедровки нагоняли страх. Он закуривал, чтобы хоть как-то заглушить это чувство, а потом долго лежал с открытыми глазами и думал, думал… Сердце терзали горечь, обида за все, что привело его сюда. Захар почти разуверился в успехе своего предприятия. Шишки-то, вот они, на кедрах, но как достать? Залезть невозможно, стволы толстые, гладкие. Попробовать стрелять из ружья в шишки? Но у него всего тридцать зарядов.
А не срубить ли кедр, как советовал Никандр? Зря он, наверное, отверг тогда, даже со скрытым негодованием, этот способ добычи орехов.
Уснул Захар только перед рассветом, но его разбудил невообразимый щебет и свист птичьих голосов. Вылез он из-под полога, и несказанная радость наполнила все его существо: вокруг плавилось в ослепительном золоте утро, золотые пятна дрожали на стволах деревьев, папоротник сиял от изумруда росы. Кругом все радостно гомонило, звуки были четкими, прозрачными, эхо от них далеко растекалось под могучим сводом, лежащим на монолитных подпорах бесчисленной колоннады стволов. Вот метнулась белка и со злым урчанием стремительно помчалась вверх, щелкая коготками по коре. Захару уже доводилось есть беличье мясо — на Пивани. Теперь он, не отходя от бивака, подстрелил двух белок и сварил их на завтрак.
Все же он не решился рубить кедр, а отправился искать деревья, на которые можно было бы взобраться.
После долгих поисков ему удалось найти такой кедр: сучья начинались всего метрах в трех от земли. Захар притащил валежину, прислонил ее к стволу и, разувшись, по ней легко добрался до сучьев. Труднее было карабкаться от одного сука к другому. Окажись под ногой подгнивший сук, он мог бы сорваться. Один таки сломался, но Захар успел ухватиться за верхний и, повиснув на нем всей тяжестью своего тела, из последних сил подтянулся и полез выше. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Усевшись в развилке ветвей, Захар долго отдыхал, со страхом поглядывая вниз.
Теперь ему ничего не стоило лазить в гуще кроны и сбивать шишки. Приятное это было занятие — подбираться к живой шишке, покрытой янтарными слезинками смолы, и брать ее, тяжелую, терпко пахнущую кедровым духом, в руки. Тридцать две шишки снял он с одного кедра!
Ветви этого дерева близко соприкасались с толстыми ветвями соседнего кедра. Захар наметил себе маршрут и стал осторожно пробираться по ветвям. До земли метров двадцать. Малейший просчет — и так можно сорваться! Захар старался не смотреть в эту пропасть, с замиранием сердца перебираясь с ветки на ветку.
Вздох облегчения вырвался у него, когда под ногой оказался толстый, надежный сук второго кедра. Он был выше, шире кроной и буквально увешан шишками. Сбив их, Захар стал искать надежный путь на соседние кедры, но его не оказалось. Надо было возвращаться на первый кедр, потому что о спуске на землю по стволу этого богатыря и речи быть не могло.
И тут произошло самое страшное: ветка соседнего кедра, с которой он спустился на это дерево, вдруг выпрямилась, и теперь никаким способом невозможно было дотянуться до нее.
Когда Захар понял весь трагизм своего положения, его охватила паника. Чтобы как-то успокоиться, он умостился возле ствола в развилке толстых ветвей и постарался собраться с мыслями. Только теперь он почувствовал, что чертовски устал, а во рту все пересохло от жажды.
Что же делать? Как спуститься? Кто придет ему на помощь? Чем больше думал Захар, тем яснее представлял всю безвыходность своего положения. Вот он, логический конец одиночки, отторгнутого от людей! Сломай он ногу при спуске — пропал! Бездушная природа не знает пощады; выживает только тот, у кого сила, ловкость, умение выстоять. Захар проклинал себя за этот опрометчивый поступок — идти одному в тайгу.
Но от размышлений не становилось легче.
Захару показалось, что прошла вечность.
Спасительная мысль явилась неожиданно. Он подумал, что хорошо бы иметь веревку, сделать петлю и как-то накинуть ее на злополучную ветку соседнего кедра и подтянуть к себе. Припомнилось, как когда-то в детстве они, ребятишки, вили веревки из вязового лыка. И тут-то вспомнил он про собственную одежду. А что, если порвать ее на ленты и свить из них веревку?
Не раздумывая ни минуты, он принялся за дело. В ход пошло нижнее белье. Вот и готова «веревка». На один ее конец Захар привязал обломок ветки с крючком-отростком на конце. Не веря еще, что выход найден, полез на знакомый сук. Со второго же броска крючок зацепился за ветку. И вот ее верхние побеги уже у него в руках. Подтянуть всю ветку не составляло труда. «Спокойствие, спокойствие: внизу пропасть!» Дотянувшись до самой толстой части ветки, он крепко ухватился за нее, повис на секунду в воздухе. Задыхаясь от напряжения и радости, перелез на соседний кедр и стал спускаться вниз. Коснувшись ногами земли, повалился на хвойную постель и долго сидел, приходя в себя.
Наутро он уже имел в руках крепкую веревку метров двадцати длиной. Захар сделал ее из концов полога и свил из мешковины. Теперь он кидал один конец самодельной веревки с привязанным камнем через ближнюю от земли ветку. Камень тащил конец вниз, и в руках Захара оказывался сдвоенный надежный канат. Вот где пригодилась ему военная тренировка, лазанье по канату!
К исходу пятого дня возле бивака Захара громоздилась куча кедровых шишек. В два дня он управился с их обработкой и наполнил три мешка отборными орехами.
К вечеру восьмых суток Захар перетаскал их к лодке, заночевал на берегу озера, а утром тронулся в путь.
Никандр с трудом узнал в оборванном и обросшем щетиной, пропахшем гарью мужичке своего «знакомца».
— Ну, видать, уходился ты, паря… — говорил он, посмеиваясь. — Родная жинка, поди, не признает.
Перетаскав мешки во двор Рудневых, Захар налегке отправился домой.
— Боже ж мой! — воскликнула Настенька, увидев мужа. — Зоренька, милый, да на кого ты похож! Скорее раздевайся и умывайся, детей перепугаешь.
Но тон у нее был совсем не горестный, даже веселый. Захар это сразу почувствовал. И не ошибся. Не успел спросить, как они тут без него, а уж Настенька метнулась в соседнюю комнату и прибежала с газетой в руке.
— Сначала разреши тебя поздравить, мой Зоренька. — Она поцеловала его. — Ой, даже губы пахнут дымом!.. А теперь вот прочитай здесь!
Это были «Известия». Страницы газеты сплошь заняты списками. Захар понял: списки награжденных. Сразу бросились в глаза две фамилии, подчеркнутые карандашом. Под подзаголовком «Медалью «За отвагу» прочел: «Агафонов Григорий Леонтьевич», а несколько ниже: «Жернаков Захар Илларионович».
— Вот это да! — только и сказал просветлевший Захар.
— Но это не все! Приходили из управления: ты восстановлен на работе.
— И давно?
— Газету принесла Леля на следующий день, как ты уехал, а из управления приходил какой-то молодой инженер, забыла фамилию, только позавчера.
Захар устало сел к столу, жадно отыскивая в газете знакомые фамилии.
— Ага, Криволап, командир нашего танка, тоже награжден медалью «За боевые заслуги»! — А через минуту снова: — Смотри, Настенька! Вася Корольков награжден орденом боевого Красного Знамени!
Более счастливого дня в жизни Захара еще не было.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Из контрольной комиссии ЦК пришло письмо в горком: Ольгу Ивановну Касимову восстановить в правах, возвратить ей квартиру и принять снова на работу.
Леля навеселе, с бутылкой портвейна в сумке поспешила к Жернаковым.
— Что с тобой делается, Леля? — шепотом спросила ее Настенька, когда они вышли на кухню. — Ты же пьяная по улице шла…
— А мне плевать! — отмахнулась Леля. — Я уж на базаре рядом с торговками насиделась, а это в тыщу раз позорнее. Ну, ты не возись долго, Настя, я пришла поговорить с вами. Есть интересные новости.
Не дожидаясь, пока все рассядутся, Леля разлила вино и объявила тост:
— За Ванюшино здоровье!
Выпила как воду — не покривилась, не закусила.
— Ну вот, ребята, я вам скажу сейчас кое-что по секрету.
Захар с недоверием посмотрел на нее.
— А ты не смотри на меня так снисходительно, Захар Илларионович, — напустилась на него Леля. — Думаешь, пьяная, да? Пьяная? Да меня никакой черт не берет! На радости и выпила. Скоро моего Ванюшу выпустят, вот!
— Откуда у тебя такие данные? — насторожился Захар.
— Знающие люди сказали. Съезд партии скоро будет, Восемнадцатый, и ЦК изучает положение в стране, в частности вопросы о незаконных арестах и увольнении людей с работы. Вот! Понятно тебе?
— Это интересно. Я не знал.
— Не знал, так надо было спросить!
— Ну, а что все-таки конкретно-то?
— А то и есть конкретного, — продолжала Леля, — что до сих пор судили тройки, составленные из работников самих же органов НКВД. Сейчас дело передают в настоящие суды. А ты заметил, что прекратились аресты?
— Ну, заметил.
— А знаешь почему?
— Нет, не знаю.
— Так я тебе скажу: все это делал Ежов — невинных арестовывал! А сейчас заметил, что его не слышно? Вот то-то и оно!..
— Но кто тебе рассказал все это? — удивлялся Захар.
Леля заговорщически посмотрела на Захара, на Настеньку.
— Только ша, никому об этом ни слова. Ладно?
— Да зачем такой вопрос, Леля? — удивилась Настенька.
— А на всякий случай… Сегодня у меня была жена Гайдука, она только что приехала из Москвы, ездила хлопотать за Гордея Нилыча. Там-то она и разузнала обо всем через своих друзей. Но про самого Гайдука так ничего и не удалось ей узнать. Плачет, говорит, что его, наверное, расстреляли в разгар ежовщины.
Леля засобиралась было домой, но Настенька не отпустила ее, уложила спать на кушетке.
Вскоре на улицах Комсомольска увидели Саблина. Шел он по тротуару, опираясь на тросточку и медленно передвигая ноги. Узнать его было трудно — лицо землистое, глаза слезящиеся, веки дергаются в нервном тике, одежда висит как на колу. Совсем он был непохож на того Викентия Ивановича, которого хорошо знали в городе. Леля, встретившись с ним, тут же прибежала к Жернаковым.
— Ой, родные мои, — на всю квартиру закричала она с порога, — скоро моего Ванюшу выпустят! Сейчас только была у Викентия Ивановича, целый час разговаривали!
— Да подожди, расскажи толком, — остановил ее Захар.
— Шла к нему и боялась: вдруг плохое что-нибудь скажет мне! Оказывается, они с Ванюшей в последнее время в одной камере сидели. Это же надо подумать! Ванюшу возили в Таганрог, вызывали отца на очную ставку. А отец-то заслуженный человек! Работает на заводе, награжден орденом Трудового Красного Знамени, член партии! Вот тебе и сын попа!..
— Ну, а еще что Викентий Иванович говорит? — с нетерпением спросил Захар. — Об Иване что говорит?
— Сейчас расскажу, все расскажу, — спеша, захлебываясь, говорила Леля. — Дело его в основном закончено. Никаких преступлений за ним, конечно, не оказалось. Сейчас, говорит, послали дело на утверждение в край. Как вернется дело, так и выпустят Ивана!
И действительно, Каргополова освободили в канун первомайских праздников.
Дверь Захару и Настеньке открыл сам Иван. Они обнялись, расцеловались. Как же изменился Каргополов! Скулы заострились так, что кожа на них натянулась до блеска, рот стал еще больше, а глаза совсем утонули где-то на дне глазниц. Но Иван бодрился, улыбка — во все лицо, хотя голос был как после долгой, тяжелой болезни.
Леля не знала, чего и положить на тарелку Ивана.
— Что попало и помногу ему есть нельзя, — объяснила она. — Постепенно надо приучать желудок…
— Самочувствие-то как, Иван? — ласково глядя на друга, спрашивал Захар.
— Какое может быть самочувствие после такого «курорта»! — грустно усмехнулся Каргополов. — Как чумной хожу! Шесть часов всего как на свободе. Голова все время кружится от избытка кислорода. А так вообще ничего, болезней вроде нет никаких.
Казалось, ему было очень трудно произносить слова. Эта усталость, почти отрешенность от всего земного, сквозила и в глубине его взгляда, и в каждой складке совершенно серого, бескровного лица.
Стараясь не быть назойливым, Захар спросил коротко:
— Трудно было, Иван?
— Конечно, трудно… Главное — тесно страшно, — медленно говорил Каргополов. — Представляешь, вот на такую комнату пятьдесят человек. В три яруса нары, и, извините, параша тут же, в углу. И без того дышать нечем, а тут еще вонь…
Помолчал, потом так же медленно:
— Наделали дел, сволочи! Это все Ежов — выслуживался, карьерист проклятый!
— Ну, что думаешь делать теперь? — спросил Захар.
— Завтра пойду в горком, — у меня же полная реабилитация, так что и в кандидатах партии я восстановлен. Наверное, поедем с Лелей отдыхать в Таганрог к отцу.
Они вернулись в августе — оба поправившиеся, в хороших костюмах. Ивана Каргополова вскоре утвердили зампредом горисполкома по коммунальным вопросам.
Как-то за ужином Захар сказал другу:
— Слушай, Иван, мне не совсем понятно, почему это так получилось, что у нас в Комсомольске возрождаются самые настоящие кулацкие хозяйства. Ты не бывал в Силинском поселке?
— Нет еще.
— Побывай обязательно. Тебе, как заместителю председателя горисполкома, особенно интересно. Обрати внимание на три дома, похожих на донские курени. Они там приметные, стоят в один ряд. Высокие заборы, огромные огороды, коровники, свинарники, курятники — чего только нет! Специально работают на рынок.
— И гребут лопатами деньги, — добавила Леля.
— Видишь ли, Захар, — возразил Каргополов, — ты прекрасно знаешь: мы поощряем индивидуальное строительство и огородничество рабочих, отводим специальные участки, даже помогаем строительными материалами. Иначе нельзя, пока мы не в состоянии обеспечить овощами население города.
— Но есть люди, которые спекулируют на этом деле! — запальчиво возразил ему Захар.
— Таких мы прижимаем налогами.
— Ой ли! Не похоже, чтобы по Никандру Рудневу, Аникановым родителям и Кузнецовым было это заметно!
— Вообще-то придется проверить, — вынужден был сдаться Каргополов.
На следующий день он объехал все поселки, выросшие в различных районах города, — Парашютный, Мылкинский, Силинский и поселок Победа. В Силинском поселке попросил шофера остановиться неподалеку от трех куреней, окруженных забором, как бастионы.
Вернувшись в горисполком, Иван потребовал из финотдела данные о налогообложении. Оказалось, что Рудневы, Кузнецовы и Аникановы налогов не платят.
— Главы семей работают на производстве, — пояснил инспектор, — хозяйства находятся в точном соответствии с допустимыми размерами.
— Вы лично проверяли? — спросил Каргополов.
— К сожалению, нет, записано со слов владельцев.
— Сегодня же произведите учет и завтра доложите мне. И идите вместе с участковым, потому что они могут вам не показать всего.
Назавтра у Каргополова на столе лежали любопытные данные. Аниканов: две коровы, годовалая телка и бычок, свинья, два борова на откорме, шесть полугодовалых поросят, пятьдесят кур и двадцать две утки. Больше допустимой нормы в три раза. Налогом не облагается. Во дворе обнаружено три бочки с помоями — хозяин работает возчиком в рабочей столовой лесозавода. В доме дорогой радиоприемник (тогда редкость!), патефон с большим количеством пластинок, швейная машина, на стенах дорогие ковры — шесть штук, пол во всех комнатах покрыт линолеумом.
Нечто подобное представляло собой и хозяйство Кузнецова. Скромнее жил Никандр Руднев.
Так началась проверка индивидуальных хозяйств в пригородах.
Когда картина стала ясной, Каргополов потребовал обсудить этот вопрос на очередном заседании исполкома. Герасиму Мироновичу Аниканову и Терентию Кузьмичу Кузнецову были посланы повестки.
В кабинете Каргополова раздался телефонный звонок:
— Здравствуй, Иван, говорит секретарь горкома комсомола Аниканов… С благополучным тебя возвращением, мы ведь еще не виделись с тобой! Как здоровье? Как самочувствие? Как Леля? Давно я не видел ее, старую нашу гвардию. Смотрел кинофильм «Три товарища»? Я смотрел и думал, до чего же там героиня похожа на Лелю! И песня-то:
Ты помнишь, товарищ, Как вместе сражались, Как нас обнимала гроза? Тогда нам обоим Сквозь дым улыбались Ее голубые глаза, —нараспев продекламировал Аниканов. Он держался запанибрата, как ни в чем не бывало.
— Ты короче, товарищ Аниканов, — равнодушно сказал Каргополов, — у меня люди ждут.
— А-а, у тебя заседание? Тогда прости, я вот по какому делу. Там моему отцу прислали какое-то извещение… Это с чем связано?
— С нарушением налоговой дисциплины и с содержанием недопустимого количества скота в городских условиях, — холодно объяснил Каргополов.
— А это точно установлено? — с вызовом спросил Аниканов.
— Да, точно.
— Слушай, Иван, а какие это нормы?
— С ними можно познакомиться в горисполкоме.
— Может, отец просто не знал?
— Отец, может, и не знал, а сын, секретарь горкома комсомола, должен был знать и подсказать отцу.
— Ну, знаешь, ты меня в эти дела не путай. Я с отцом не живу восемь лет, так что я за него не отвечаю. И товарищ Сталин сказал: «Сын за отца не ответчик».
— У вас еще есть вопросы ко мне?
— Ладно, разберусь сам, — обиженным тоном ответил Аниканов. — Только смотрите, чтоб вам хуже не было…
Каргополов положил трубку.
И вот заседание горисполкома.
— Герасим Миронович Аниканов?.
— Я самый и есть. — Лицо благообразное, спокойное, но с бегающими глазками.
— Садитесь. Вы нарушили налоговую дисциплину, допустили нарушение правил о количестве содержащегося в личном пользовании скота. Объясните исполкому, как это у вас получилось.
— Да как получилось, — горестно сказал Герасим Миронович, — от темноты своей! Люди разводят, ну и я тоже следом!
— А Аниканов, секретарь горкома комсомола, случайно не родня вам? — вопрос от окна.
— Сынок мой! — Аниканов-старший блаженно улыбнулся. — Но я с ним, сказать вернее, он со мной не живет восемь годов.
— А бывает-то хоть в гостях?
— Наведывается в иную пору.
— Чего же он вам не подсказал?
— А чума его знает! Да он и не заглядывал в мое хозяйство.
— Там и другой у него родственник, — заметил Иван. — Кузнецов, которого только что оштрафовали на пятьсот рублей. Это тесть Андрея Аниканова.
— Семейка! — воскликнул кто-то, и в кабинете прокатился смешок.
— Есть предложение, товарищи, — сказал председатель горисполкома, — поскольку случай особо злостный, оштрафовать гражданина Аниканова Герасима Мироновича на тысячу рублей. Есть возражения?
— Гражданы дорогие, товарищи, — взмолился старик, — не я в том повинен — темнота моя! Да и примите во внимание распродажу всей живности. Нету ее у меня, окромя одной коровенки.
— Вот и хорошо, — значит, решение уже выполнили, — сказал председатель. — Да и штраф есть чем платить. Вы свободны, гражданин Аниканов.
После того, как он вышел, председатель сказал:
— Слушайте, товарищи, так как же это получается? В горкоме комсомола на ответственной работе секретаря — кулацкий сынок! Как же это мы проглядели?
Не помогли Андрею его таланты. Как ни клялся и ни божился он, что непричастен к кулацким хозяйствам отца и тестя, ему никто не поверил. В решении бюро горкома комсомола было записано:
«Направить на Амурстальстрой с использованием в качестве хоздесятника».
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Захар приехал в управление треста весь заснеженный, с инеем на шапке и воротнике пальто — добирался на попутном грузовике.
Трест помещался в длинном дощатом бараке. Захара принял главный инженер треста Саблин.
— Дорогой мой друг, очень, очень рад вас видеть! — прочувствованно говорил Викентий Иванович, пожимая нахолодавшую руку Захара. — Все происходит так, как и должно быть: на рубежи нового наступления стягивается старая, испытанная гвардия.
Викентий Иванович выглядел так же хорошо, как и до ареста: то же чистейшее серебро бородки-клинышка, тот же розовый цвет лысины, покрытой реденьким пушком, то же изящество манер.
— Нуте-с, прошу вас сюда, — сказал он, выходя из-за стола. — Вот перед вами сводный инженерно-архитектурный проект будущего сталелитейного завода. Заметьте — первого на Дальнем Востоке металлургического предприятия. — Он широким жестом руки обвел вокруг огромного листа ватмана, занимавшего почти всю свободную стену кабинета. — Это мартеновский цех — сердце завода, — он ткнул пальцем в самый крупный чертеж многотрубного корпуса, — четыре сталеплавильные печи с цехом разлива и с бытовкой. Вот листопрокатный — как видите, сооружение не менее грандиозное! Вот, в перспективе, еще такой же цех. А это жестекатальный, это ремонтно-механический, здесь вот — электроцех. Ну и, разумеется, мощная котельная. А вот тут вы видите городок металлургов. Со школами, дошкольными учреждениями и, само собой разумеется, Дворцом культуры. Видите, какой размах работ? Все это должно быть введено в строй до конца третьей пятилетки, дорогой Захар Илларионович.
Он вернулся за свой стол, достал из ящика папку с бумагами.
— А теперь о вашей работе, — продолжал Викентий Иванович, растягивая, как гармошку, какую-то длинную ведомость. — Вакантных должностей инженерно-технических работников так много, что я даже не знаю, что вам предложить. Но я хочу, чтобы были учтены и ваши интересы как заочника строительного института. — Он уткнулся в ведомость. — Поскольку вы хотите стать инженером-механизатором строительных работ… Кстати, вы замечательно сделали, что пошли именно на этот факультет, — будущее за ним!.. Так вот, друг мой, поскольку вы хотите специализироваться именно в этой области, то я предложил бы вам должность прораба по механизации земляных работ. Молчите, молчите! — Саблин предупредительно выставил вперед свою пухленькую белую ладонь. — Да, вам будет трудно вначале. Но, дорогой мой, кто из великих выбирал путь проторенней и легче, как сказал поэт. Вы справитесь, безусловно! — Саблин строго и решительно посмотрел на Захара. — Не знай вас столько лет, я бы, возможно, воздержался от подобного предложения. Но весь ваш путь у меня на виду. Поэтому я верю в вас больше, чем вы в себя, — да, позволю себе такую нескромность!
— Хорошо, Викентий Иванович, согласен, — решительно кивнул Захар, и на щеках у него ворохнулись желваки. — Честно скажу: побаиваюсь, хотел просить работу полегче — ведь учусь. Но раз так — сделаю все, чтобы не потерять вашего доверия.
— Тем лучше! Что ж, а теперь отправляйтесь оформляться. В курс дела введет вас товарищ Сидоренко. Знаете его?
— Очень хорошо знаю! — воскликнул Захар.
— Он у нас начальник участка земляных и бетонных работ. Прекрасный организатор!
Говоря это, Саблин быстро написал что-то на бумажке, протянул ее Захару.
— Вот, пожалуйста. И желаю вам успеха! — Он вышел из-за стола и, подавая Захару руку, сказал улыбаясь: — Не могу не поделиться с вами радостью — с пятнадцатого января ваш покорный слуга кандидат в члены ВКП(б)! Да-с, любезный Захар Илларионович!
— О-о! От всей души поздравляю, Викентий Иванович! Значит, мы с вами теперь почти ровесники: мой стаж всего на два месяца больше вашего.
Сдав документы в отдел кадров, Захар отправился на поиски Ивана Сидоренко.
Мороз был градусов под сорок, небо холодное, белесовато-синее, без единого облачка; в воздухе — ослепительные блестки плавающего инея. Ветерок чуть-чуть трогает поземку, гонит ее тончайшими жиденькими ручейками, нестерпимо обжигает лицо ледяным дыханием. В низине, километра на три протянувшейся у подножия крутой гряды сопок, курятся сизые дымы костров, тарахтят экскаваторы, гудят машины. В сущности, здесь еще ничего нет, кроме длинной шеренги приземистых бараков, занесенных сугробами.
«Даже не верится, что через два года здесь будет завод», — думает Захар.
Конторку начальника участка он нашел под самыми сопками.
Помещение битком набито людьми. Жарко как в бане. Докрасна накаленная печь-чугунка чадит едким дымом, накурено — хоть топор вешай! Стоит сплошной гул голосов.
Сквозь толщу дыма Захар едва разглядел Ивана Сидоренко. Он сидел за столом в распахнутом черном полушубке, в ушанке, сдвинутой на затылок, из-под которой выбился на лоб смоляной чуб.
— Какой, к черту, это наряд, это же филькина грамота! — кричал Иван. Увидя Захара, он обрадовался: — Здорово, Жернаков. Ты ко мне?
— К вам, но тут, видно, не дадут нам поговорить. Вы очень заняты?
— Если нужен, не очень. Это тут собрались к теплу, на перекур. — И во все горло: — А ну, товарищи, хватит перекура!
Конторка опустела.
Захар подвинул табурет к столу.
— Работать к вам, — коротко сказал он, снимая шапку.
Они не виделись, наверное, года два, а Сидоренко ничуть не изменился: такой же молодой, мужественный и красивый, с теми же энергичными жестами.
Выслушав объяснение Захара, он воскликнул:
— Смотри-ка! Ты здорово потянул! Я-то слышал, что ты окончил техникум. Кажется, сам и говорил мне? Молодцом, Жернаков, молодцом! Ну что ж, будем работать вместе. Эта половина стола моя, а та — твоя. До тебя тут никого не было, все я сам тянул.
Удивительный это был человек — Ваня Сидоренко! По самому своему образу мыслей, действий, по характеру и даже внешности он, кажется, родился именно для социализма. Всю свою жизнь он был зачинателем. В тридцатом году в Харькове Ваня установил мировой рекорд на бетонных работах. В Комсомольске он был одним из первых корчевщиков. Теперь вот, на Амурстальстрое, он опять начинает с нулевого цикла. Хорошо было на душе у Захара от сознания, что ему предстоит работать вместе с Ваней. Хотя прошло восемь лет со времени побега со стройки, Захар помнил свою тогдашнюю встречу с секретарем комитета Сидоренко, помнил, как Ваня поддержал его в трудную минуту.
Захар уже поднялся, чтобы уйти, как отворилась дверь и на пороге показалась короткая, толстенькая фигура Аниканова.
— Ты погля! — воскликнул он на донской манер. — Захар, кажись? Ну, здорово! — Он снял рукавицы, хлопнул одной о другую, как это делают рабочие, протянул руку Захару. — Вот уж кого не ожидал встретить на нашем участке фронта!
— Почему же? — без улыбки спросил Захар.
— Так ты же в управлении Дальпромстроя, так сказать, конторским работником заделался.
— Теперь уже тут.
— К нам работать? И на какую должность?
— Прорабом у тебя будет, — вместо Захара ответил Сидоренко.
Аниканов на минуту растерялся, но быстро справился с собой.
— Ну что ж, добре! — с показной радостью воскликнул он. — Опять повоюем вместе, как бывало в старину. Я к тебе, Иван. — Он повернулся к Сидоренко. — Опять позатупились кайла, землекопы прохода не дают мне. Что будем делать?
— Теперь с этими вопросами обращайся к Жернакову.
На котловане работа подвигалась довольно быстро, экскаваторы и землекопы не давали там промерзнуть земле. На траншеях же из-за бездействия канавокопателей все дело стояло на месте. Захар с горечью наблюдал, как зубья канавокопателей скользят поверху и не цепляют промерзший грунт. Стоило, однако, мотористу плотнее посадить на землю раму с ковшами скребков, как всю машину начинало трясти, и дело кончалось поломкой.
Захар вызвал в конторку Аниканова.
— Вот что, Андрей, — сказал он. — Нужно добыть кубометров двадцать дров и столько же примерно торфа. Это пока, а потом потребуется больше.
— Зачем тебе?
— Не мне, а для дела. Будем оттаивать грунт.
— Так это же мартышкин труд! — воскликнул Андрей. — Как же ты его отогреешь, если земля промёрзла на целый метр!
— Вот что, Андрей, это дело не твое, и в технические вопросы ты не лезь, — спокойно, но твердо сказал Захар. — Ты здесь хоздесятник, сможешь достать дров?
— Попробую, — обиженно ответил Аниканов.
Дрова и торф были подвезены. Захар уже имел перед собой весь расчет операции. Он пригласил геодезистов и попросил проложить план будущих траншей непосредственно на местности. Вскоре здесь, на снегу, протянулись ломаные линии, обозначенные пунктиром колышков. Пятидесятиметровый отрезок линии был очищен от снега до самой земли. По ней выложили поленницей дрова, а сверху накрыли торфом. Облили мазутом и подожгли. Вскоре все окуталось дымом. Накрытые торфом дрова тлели, не воспламеняясь.
Прошло двое суток, пока сгорели все поленья. К этому времени Захар подогнал исправный канавокопатель. Собрались механизаторы, пришел и Сидоренко. И вот мотор загудел во всю мощь, рама со скребками-ковшами легла на грунт, заскрипела. И грунт подался. Все ниже садилась рама, уверенно сдирали скребки положенные порции гальки и глины. Минут через десять рама опустилась до проектной глубины. Со скоростью улитки, едва-едва заметно, канавокопатель двинулся вперед. А позади оставалась аккуратно вырезанная глубокая щель-траншея. Но и эта скорость привела всех в ликование.
В полдень пришел Саблин. К этому времени агрегат уже оставил позади себя траншею метров в двадцать длиной. Викентий Иванович весело кивнул на машину, спросил:
— Работает?
— Да вот пробуем.
— Что ж, проба удачная. Хорошо, Захар Илларионович, хорошо! — Он взял Захара под руку, дружески потряс за локоть. — Главное — творческое решение. Могут быть и удачи и неудачи, но поскольку человек ищет, он непременно найдет. Вы бы там, на главном котловане, присмотрелись тоже. Не устраивает меня производительность экскаваторов. Ведь почти в половину меньше проектной!
— Викентий Иванович, там чепуха какая-то получается, — подхватил Захар. — Экскаватор землю вынимает и подает наверх, на бровку котлована. А тут стоят рабочие и лопатами кидают ее в кузов автомашины. Бригада в двадцать человек не успевает за экскаватором, а прибавить людей нельзя — узок фронт работы. Вот и простаивают экскаваторы.
— Что вы предлагаете? Придумали? — придирчиво спросил Саблин.
— Сквозной автомобильный поезд через всю длину котлована, — быстро сказал Захар и вопросительно посмотрел на главного инженера. — Чтобы экскаваторы грузили землю из ковша прямо в кузов автомобиля.
— Но это же ограничит фронт работы землекопов, — возразил Саблин, — а они пока что вынимают земли больше, чем все три экскаватора.
— А я бы предложил вообще потеснить землекопов к левому борту котлована. Так и разграничить котлован: левую половину — землекопам, а правую — экскаваторам. И тогда пусть соревнуются, кто быстрее прогонит свою часть. А то ведь сейчас землекопы берут грунт чуть ли не из-под ковшей экскаваторов, как муравьи рассыпались по всему котловану. Поэтому там много сумятицы, толкотни, а подчас и неразберихи — кто и какой участок выбрал. А перестроить это нетрудно. Один въезд есть, другой сделать в противоположном конце.
— Послушайте, Захар Илларионович, а зачем сквозной маршрут, зачем второй въезд? — спросил Саблин. — А не лучше ли подавать автомашины задним ходом или, наоборот, задним ходом выезжать из котлована?
— Это еще лучше, Викентий Иванович! — воскликнул Захар. — И как же это я не додумался!
Не следует удивляться наивности мысли старого инженера и молодого техника. В ту пору механизация строительных работ находилась еще в младенческом возрасте и инженерам подчас приходилось ломать голову над такими вопросами, которые в наше время запросто решил бы рядовой механизатор.
В марте в главном котловане начались бетонные работы, и Захару прибавилось хлопот. Но они уже не страшили, помогала учеба в заочном институте. То, что для опытных инженеров осталось уже в прошлом, а подчас и забылось, для Захара было открытием, и он сразу же находил ему применение.
На стройку завода прибывали все новые люди. На опалубке работали Степан Толкунов и Тимофей Харламов со своими стахановскими бригадами.
А однажды Захар встретился с Любашей на дне котлована среди леса воздушных арматурных колонн. В черной ладной полудошке, кокетливо подчеркивавшей ее стройную фигуру, в пестренькой косынке, с выбившимися на лоб знакомыми прядками волос, она так торопилась, что, наверное, и не заметила бы Захара, если б он не окликнул ее.
— Смотри не поломай ноги, Любаша, — сказал он, улыбаясь.
— Боже мой, Захар! — воскликнула она и, просветлевшая, бросилась, как когда-то давно, к нему с протянутыми руками. — А мне так хотелось увидеть тебя, ведь я знала, что ты здесь прорабом! Какой ты стал солидный! — Она с лукавой улыбкой поджала губы, потом весело рассмеялась. — Нет, не солидный, это я шучу! Просто повзрослел.
— А ты все хорошеешь, прямо цветешь.
— Да уж куда там! Старуха, поди?
— Такая старуха даст сто очков вперед любой молодухе. Слушай, Любаша, уж не к нам ли тебя прислали?
— А то куда же, чего бы мне здесь мотаться? Вот вся опалубка, арматура — это теперь будет под моим контролем. И не меня одну прислали — мы вместе с Колькой. — Как и прежде, она звала Пригницына этим уменьшительным именем. — Он начальником конного парка сюда назначен.
— А вообще-то как, ты довольна жизнью? — Захар сам почувствовал пустоту вопроса, но задал его потому, что, собственно, сказать-то было нечего.
Любаша смущенно склонила голову, перебирая концы косынки.
— Все бы ничего, да детей у нас нет, Захар… — Помолчав, подняла на него глаза. — А у тебя двое или еще кто народился?
— Что ты! С двумя насилу управляемся.
— Ну, тогда отдайте мне одного. — На лице Любаши полыхнул персиковый румянец. Она рассмеялась без причины и заторопилась: — Ну, побегу, а то люди ждут…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Алексей Самородов провел ночь без сна. Прошло два года, как они вместе с Федей Брендиным уехали на учебу в совпартшколу, и с тех пор Алексей не бывал в Комсомольске. Кажется, что прошла целая вечность. Каков он теперь, этот город, первый камень которого Алексей заложил своими руками?
Сколько перемен произошло с той поры в его жизни! Был Алексей Самородов простым деревенским парнем, умел читать да мало-мальски грамотно писать. И вот уже в кармане диплом об отличном окончании советско-партийной школы.
Девять лет назад ехал Алексей вот по этой же реке на стареньком пароходе с огромным, словно у водяной мельницы, колесом, спал в трюме на голых нарах вповалку с такими же, как сам, парнями, под голову клал домашний латаный мешок, накрывался стареньким домотканым армячишком. Теперь он один занимает целую каюту пассажирского экспресса, только в прошлом году спущенного на воду. Как это несоизмеримо — прошлое и настоящее! Смешными, наивными кажутся теперь слова отца: «Роботайте, сынки, ладом, берегите копейку, а наберется деньжонок, возвертайтесь, новую избу будем колотить». И хотя заработали братья Самородовы на избу, сколотили ее в один из своих отпусков, но не стала она родным домом ни для Алексея, ни для Иванки. Мир, который открыли они в этом далеком краю, оказался куда просторней и светлей новой собственной избы.
Наступило утро. Алексей побрился, обтерся по пояс холодной водой и почувствовал себя так, словно заново народился на свет. Свежая белая рубашка приятно шуршала, облегая тело, когда он перед зеркалом повязывал галстук, застегивал запонки на накрахмаленных манжетах. Теперь на палубу — скоро должен показаться Комсомольск!
Июньское солнце только что взошло из-за крутой зеленой гряды правобережных сопок, и Амур весь серебрился в его лучах. В эту пору краски в природе особенно свежи и ярки. Острова, прибрежные луга, кущи тальника, увалы сопок — все зеленым-зелено. Лишь далеко-далеко, где ярусы сопок сливаются с небом, зелень постепенно переходит в синий цвет, пока совсем не сливается с голубизной, образуя сложную гамму светлых, радостных красок.
До Комсомольска, судя по знакомым местам, километров сорок, а в утренней дымке уже видны столбы пара над трубами ТЭЦ. Даже родное село, где прошло детство, не вызывало у Алексея такого чувства, когда он подъезжал, бывало, к нему, как сейчас вид Комсомольска, смутные контуры которого уже угадывались на прибрежной равнине.
Облокотившись на перила, Алексей настолько углубился в мысли, что не заметил, как рядом кто-то остановился.
— Алешка, черт!
От неожиданности Алексей вздрогнул. Ну, конечно же, Мишка Гурилев, кто же еще может так орать?
— Здравствуй, сколько лет, сколько зим!.. — продолжал горланить Мишка, обнимая прежнего своего бригадира.
Оба за это время сильно изменились. Исчезла почти девичья нежность с лица Гурилева, он немного похудел, вытянулся, только черные глаза сохранили тот же озорной блеск и лукавинку. Алексей, напротив, сделался статным, подтянутым, улыбался больше, чем прежде, но говор остался почти таким же — неторопливым, раздумчивым.
— А я, брат, из отпуска, из Москвы, — сообщил Гурилев, выслушав Алексея. — Два месяца отдыхал под родимой крышей. Со всей семьей. А ты один?
— Семью оставил пока у отца, неизвестно еще, как будет с квартирой.
— Тебе-то еще ломать голову над этой задачей! — захохотал Гурилев. — Половину города, поди, выстроил. Слушай, а где Иванка? Я что-то давно о нем не слышу.
— Он подался в военные, старший лейтенант. Во, брат, как!
— Скажи ты на милость! — изумлялся Гурилев. — Вот уж не подумал бы, что Иванка станет офицером! Такой мирный парнишка был…
— Как там, в Комсомольске, что нового за эти два года? — спрашивал Самородов.
— Растет наш город, на виду растет. Ты его теперь и не узнаешь! Целые кварталы пятиэтажных домов. А Дворец культуры такой, что и в Москве не сыщешь. Ничуть не хуже, чем Большой театр.
— Ребята наши как?
— Каргополов еще при тебе, кажется, стал заместителем председателя горисполкома? Ну, так он и сейчас там. Жернаков на Амурстальстрое прорабом у Вани Сидоренко. Наш Захарка закончил строительный институт, сейчас работает над дипломным проектом. Ну, а аз, грешный, заведую гаражом комбината. Паря, двести машин в моем хозяйстве, авторемонтный цех. Приходится шибко вертеться!
Теплоход между тем уже миновал Верхнюю Эконь. Показались гигантские корпуса мехкомбината, громада ТЭЦ, высокая, словно отшнурованная, линия крыш жилых кварталов города, над всем этим, несколько левее, в небо уперлась парашютная вышка. А на переднем плане, там, где по прибрежному взгорку протянулась серая цепочка изб старого Пермского, на воде образовался как бы плавучий городок — десятки барж, пароходов, катеров, дебаркадеры, огромная погрузочная эстакада.
— Как все изменилось, как изменилось! — с тихим восторгом повторял Алексей.
На палубе становилось людно. Рядом с Самородовым и Гурилевым, облокотившись на перила, пристроился высокий, уже немолодой человек в широкополой серой шляпе и шелковой белой сорочке с отложным воротником. Он, видимо, прислушивался к разговору Самородова с Гурилевым.
— Прошу прощения! Если я не ошибаюсь, передо мной едва ли не первооснователи Комсомольска? — спросил он, улыбаясь одними глазами — умными, проницательными, завешанными тучами бровей.
— По-моему, нет, не ошибаетесь! — в обычной своей шутливой манере ответил Гурилев. — Как, Алексей, можем мы считаться таковыми?
Самородов засмеялся, потом серьезно сказал незнакомцу:
— Да, мы его с самого начала строили.
— Очень приятно, счастлив познакомиться: Валериан Александрович, главный архитектор генерального проекта Комсомольска. Не ругаете меня за планировку города?
— Что же, планировка хорошая, — ответил Самородов.
— Набережную вот только не застраиваем, — заметил Гурилев. — Издали город как город, а пристает пароход к дебаркадеру — и перед тобой деревенские лачуги на первом плане. Все впечатление портят.
— Понимаю, понимаю вас, дорогой, — согласился архитектор, — так сказать, фасада нет. Но это уже не от меня зависит. В проекте он разработан.
Теплоход басовито прогудел и стал разворачиваться против течения, направляясь к дебаркадеру. В толпе встречающих знакомые лица: Каргополов, Лева Качаев, тот самый, что девять лет назад в первые дни высадки был «отделом кадров» и посылал бригаду Самородова на Силинку сплавлять лес. Качаев все такой же улыбчивый, румяный здоровяк, только чуть раздался вширь, да русая шевелюра поредела, оголив глубокие пролысины на лбу.
— Братцы! Здорово были! — кричал Мишка, махая им руками. — Не вижу оркестра!
— Маленько запаздывает, — смеялся в ответ Лева Качаев. — А там, кажется, Алешка? С приездом, Алексей! — Он махал рукой.
Каргополов в ответ сжимал над головой ладони.
— Ну что, с окончанием, Алеша? — спрашивал Каргополов, крепко пожимая руку Самородову.
— Спасибо. Диплом в кармане. Вы тут не с машиной?
— С машиной, — отвечал Качаев. — Встречаем главного архитектора проекта — из Москвы товарищ едет, только не знаем, какой он из себя. Я ведь теперь знаешь кто? — многозначительно спросил он. — Архи-тек-тор! Городской архитектор, паря!
— Поздравляю, Лева! А гостя я сейчас покажу. За это вы отвезете меня в гостиницу.
— Зачем тебе в гостиницу, Алексей? — возразил Каргополов. — Поживешь с недельку у меня, квартира просторная. А там дадим тебе жилье. Кстати, строители сдают сейчас два новых дома в центре города, так что выберешь квартиру по вкусу.
Самородов разглядел в толпе Валериана Александровича, нагруженного чемоданом и длинными рулонами бумаг. Каргополов и Качаев представились ему, освободили от ноши. С трудом протискавшись в толпе, они двинулись на набережную.
— Н-да, — произнес Валериан Александрович, когда они вышли на взгорок. — Вид действительно не впечатляющий…
— Не это главное для нас на сегодня, Валериан Александрович, — заметил Каргополов. — Застраиваем кварталы, близко расположенные к заводам и к центру.
— А кроме того, — добавил Качаев, — эта территория еще не определена в перспективе. Дело в том, что сейчас от Пивани на восток строится железная дорога, которая свяжет Хабаровск с Советской Гаванью через Комсомольск. И для нас пока не ясно, будет ли через Амур построен железнодорожный мост или переправу будем осуществлять с помощью паромов.
— В моем проекте задан мост, — сказал архитектор.
— Сейчас правительство, кажется, запретило строить мост. Трудные грунты.
К ним бесшумно подкатил длинный черный лимузин.
— В гостиницу пока? — спросил Каргополов, открывая дверцу перед гостем.
— А знаете, друзья, не могли бы вы мне сделать такое одолжение, — перед тем как сесть в машину, обратился архитектор, — ну, скажем, сделать небольшой крюк, провезти по городу? Я так давно и с таким волнением ждал встречи с Комсомольском, что не найду себе покоя, пока не увижу.
— С удовольствием, Валериан Александрович! — воскликнул Каргополов. — Сегодня все равно воскресенье. Тебя, Алексей, отвезти домой или прокатишься с нами? — спросил он Самородова.
— Что за вопрос! — воскликнул тот. — Два года не видел родных мест, конечно, поеду с вами.
— Ну что, начнем с главной нашей магистрали — Кировской? — спросил Каргополов, когда Валериан Александрович уселся рядом с шофером.
— Да, конечно, — согласился архитектор, — ведь это пока главная линия в плане.
Лимузин проскочил между избами Пермского и помчался по пустырю, как и прежде, еще занятому огородами. И вот он, Комсомольск: громады домов — прямо, громады заводских корпусов — справа, пестрота рубленых поселков на равнине — слева.
— И это все было занято сплошной тайгой? — спрашивал архитектор, напряженно вглядываясь в панораму города.
— Конечно, такой же, как везде — лиственница и березняк, — отвечал Качаев, — а на полянах — болота. Некоторые низины и сейчас еще заболачиваются в дождливую погоду. Еще не везде действуют ливневые трубопроводы.
— Да-а, — думал вслух Валериан Александрович. — Города-богатыри, как и люди-богатыри, рождаются и растут трудно. Говорит же народное предание, будто Илья Муромец до тридцати лет не мог ходить, пролежал на печи. А вашему богатырю только девять лет.
— Но он уже «ходит»!
Московский гость промолчал. Он вертел головой вправо, влево, иногда пристально вглядывался в какой-нибудь дом, весь подавшись вперед. Каргополов наблюдал за его лицом и замечал, что архитектор чем-то недоволен. Словно почувствовав его немой вопрос, Валериан Александрович обернулся и сказал:
— Как проигрывает дом, улица, квартал, когда в деталях не завершена мысль архитектора! Взять вот эту улицу пятиэтажных каменных зданий…
— Эта улица называется Пионерской, — сообщил Качаев.
— Спасибо, — не без иронии ответил Валериан Александрович. — Так вот, я сам делал планировку этого ансамбля. Он скромен, строг, как видите, но высота зданий в небольшой низинке сообщает ему красоту. В проекте это подчеркивается расположением линий и плоскостей, цветами красок и окружающей планировки. Всего этого нет пока, стены не оштукатурены, даже нет асфальта. Поэтому ансамбль выглядит как грубый черновой набросок.
Некоторое время ему никто не отвечал. Нелегко и не просто им, практикам-строителям, осмыслить все тонкости архитектурного искусства. Наконец Качаев робко возразил:
— Видите ли, Валериан Александрович, на штукатурку, на покраску домов и на планировку местности нужны дополнительные средства и строительные материалы. А нам дорога каждая копеечка, каждый килограмм цемента, каждая пара рабочих рук! Крыша над головой — вот что прежде всего необходимо!
— Я вас понимаю, конечно, — согласился гость. — Но эстетика, мой дорогой!
— Будет и эстетика, — вмешался Самородов. — Дойдут и до нее руки. Люди вон еще в бараках живут. — Он показал вправо, где начинался памятный второй участок.
Все бараки теперь были оштукатурены, выбелены, но с теми же, почти плоскими, крышами из толя. Какими же убогими, неказистыми выглядели они в сравнении с каменными домами!
Машина миновала последний квартал, и впереди открылась равнина с изреженной тайгой. Вдали слева зеленела гряда сопок, прямо уходила пойма Силинки, вправо, в синей дымке, громоздились под небом контуры гор. Во всех трех направлениях уходили насыпные дороги.
— Вот пока все, что мы построили, — объяснил Каргополов. — Там вон, под сопками, — указал он вдаль, — строится «Амурсталь». Вон там, — он показал вдоль дороги, уходящей вправо, — там городок со своим промышленным районом.
Валериан Александрович всю обратную дорогу был задумчив и молчалив. Прощаясь в гостинице, он сказал:
— Много, очень много построили вы, дорогие товарищи! И все-таки я ожидал увидеть больше, когда узнал, что в городе живет семьдесят тысяч человек. Ведь проект разработан на сто тысяч населения. Я так и полагал: есть две трети населения — значит, соответственно застроен и город. На самом деле нет еще и трети города. Печальное несоответствие!
— Ничего, Валериан Александрович, — утешал его Каргополов. — Только сейчас набираем настоящие темпы строительства. Приезжайте через три-четыре года, и вы увидите настоящий город Комсомольск!
* * *
Хороши летние вечера в этом городе! Спадет дневная жара, из тайги потечет прохлада с чуть внятными ароматами хвои и березового сока, перемешается с волнами речных запахов, приплывшими с Амура, — и до чего же хорошо станет в такой час на душе!
Пройдись вечером по Комсомольску, и ты уловишь многое из того, что составляет как бы душу города, почувствуешь упругое биение его живого пульса.
Помнишь, вот здесь, где лежала болотистая низинка, девять лет назад ребята сколотили первый клуб и назвали его «Ударник»? Казалось тогда странным, почему именно здесь построили клуб? До села Пермского — километр, до бараков второго участка — столько же, до шалашей «Коваль-града» и того больше. А кругом березняк, болотца и ни единой постройки! Аспидно-черными осенними ночами, шлепая по мокрым торфянистым низинкам, спотыкаясь на пнях и кочках, сколько раз проклинали мы это болото, расходясь из кинотеатра!
Загляни сейчас сюда. Будто и вовсе другое место. Рядом — парк. Он полон огней и музыки, шума и веселья. Кружатся пары на танцевальной площадке. По асфальтированной улице, сияя яркими фарами, бегут автомашины; сотнями окон смотрят на парк многоэтажные каменные дома.
На втором этаже за одним из этих окон — вон тем, распахнутым, можно увидеть широкий чертежный стол, а над ним — склоненную фигуру Захара.
Время от времени он выпрямляется, смотрит на чертеж, думает.
Уже проглядывают с белого листа ватмана контуры дипломного проекта. Захар забыл обо всем — о том, что сегодня воскресенье, что в парке гулянье, что в клубе идет «Свадьба в Малиновке» и там Настенька, Каргополов, Леля Касимова, о том, что за окном великолепный вечер, даже о том, что нужно прислушиваться, не проснулись ли дети в соседней комнате. Ничего не существует сейчас для него, кроме листа ватмана.
Но время от времени Захар подходит к распахнутому окну, смотрит на огни города и слушает его мерное дыхание. Хорошо! Воздух неподвижен и мягок, лицо приятно овевает вечерняя прохлада, иногда щек коснется теплая волна, идущая снизу, от нагретого за день асфальтированного тротуара.
Кажется, уже давно пора бы привыкнуть к этому виду на город, ведь каждую линию ближних и дальних домов, улиц, громады ТЭЦ, парка знает Захар, знает, где и какая лампочка горит по вечерам, в каком окне какого оттенка свет. И все-таки каждый раз Захар видит все это по-новому. А не то же самое чувство испытывает он, когда вглядывается в черты Наташки или Федюшки? Родные лица никогда не надоедают, в них, знакомых до мельчайших подробностей, всякий раз находишь неизменно новое, дорогое сердцу, близкое, вечно милое. «Мой город» — не пустые слова для Захара. Он воздвиг его, и нет уже больше болот и тайги, промозглой слякоти и гнуса.
«И ведь, в сущности, это только начало, — думает Захар. — А пройдет еще десять, пятнадцать лет — что же будет здесь тогда!»
Он снова возвращается к чертежному столу, берется за рейсфедер. Осенью защита диплома.
От неожиданного стука Захар вздрогнул. Стук повторился, частый и нетерпеливый. В дверях — Настенька, лицо бледное, глаза широко раскрыты.
— Зоря, ты слышал?
— Что такое?
— Да что — война! Германия напала!
— Подожди, не поднимай панику, — пробовал успокоить ее Захар, — конфликт, наверное, какой-нибудь на границе?
— Да говорят тебе, война! Сто семьдесят дивизий бросил Гитлер… Бомбили Киев, Минск, Севастополь…
— Откуда ты узнала?
— В театре. Прямо во время действия из-за кулис вышел секретарь горкома, прервал спектакль и сказал об этом… С сегодняшнего утра, говорит, с четырех часов по всей западной границе идут кровопролитные сражения, много убитых и раненых. Что же будет, Зоря? — шепотом, как при покойнике, спросила она. — Наверное, и японцы нападут, у них же «ось»…
— Да-а, наверняка… Завтра иду в военкомат.
— А дети?
— А что дети? Не у нас же одних с тобой дети. Они и у тех, кто сейчас бьется против фашистов. — Желваки заходили на щеках Захара. — Да-а, сколько погибнет людей, страшно подумать!..
Захар не мог разобраться, что сейчас творилось в его душе, — невозможно еще было охватить всю меру беды, что вломилась в его дом. Ясно ощущал лишь одно: священную обязанность быть там, где началась война. Всю свою сознательную жизнь Захар готовился к ней, хорошо понимая неизбежность решающего часа битвы двух миров. Когда впервые он надел красный галстук и услышал: «Пионер, к борьбе за рабочее дело будь готов!», отвечал всем сердцем: «Всегда готов!» В кавшколе, получая благодарность командира, он самозабвенно восклицал: «Служу трудовому народу!» Строя город, он не жалел себя, хотел как можно больше сделать, потому что знал: это нужно ему, его детям! Теперь под всем этим подведена та самая черта, за которой наступает грозное, но неизбежное — час решающей кровавой битвы.
Он неторопливо разобрал чертежный стол, аккуратно скатал и спрятал в кладовую чертежи, потом долго укладывал на полки разбросанные по комнате книги. В половине двенадцатого во всем городе погас свет — началось затемнение.
Наступала пора неизведанных еще испытаний.
Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск
1934—1964 гг.
ГЛАВНАЯ ПРОСЕКА АЛЕКСАНДРА ГРАЧЕВА
У Александра Матвеевича Грачева основной книгой является роман «Первая просека», хотя среди его произведений есть такие, которые выдержали гораздо больше прижизненных изданий. Причина состоит в том, что ряд его книг был подступом к роману «Первая просека». В конце этого романа стоят данные о времени, когда создавался этот роман: «Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. 1934—1964 гг.». Тридцать лет!
Роман «Первая просека» написан Александром Грачевым, когда он был уже сложившимся писателем, чье имя стало довольно известно его землякам, автором книг, получивших широкое признание.
Первые литературные опыты писателя начались, когда он жил и работал в Комсомольске-на-Амуре, когда город еще только складывался. Тогда при городской газете собралась сильная группа литераторов, которые потом стали известными писателями. Первой его отдельной книгой стала повесть «Тайна Красного озера», изданная в Хабаровске в 1948 году. Повесть получилась по-настоящему интересной, с острозанимательным сюжетом, полная познавательного материала о крае. Ее главными героями являются геологи. Уже в первой своей книге писатель показал нам, что его, в первую очередь, привлекают мужественные, сильной воли и цельных характеров люди, преданные своей Родине, готовые ради нее на подвиг. Он написал эту повесть без «скидок» на приключенческий ее жанр. Характеры героев повести написаны так выразительно, знание жизни, условий труда их настолько полны, что читатель нисколько не сомневается в достоверности стремительно развивающихся событий повести. Об этом свидетельствует масса читательских писем.
О том, что писателя привлекают люди сильной воли и цельных характеров, свидетельствует и следующая книга — повесть «Падение Тисима-ретто».
Замысел этой повести, как рассказывал сам Александр Грачев, возник еще в 1945 году, когда он вместе с воинами-десантниками высаживался на принадлежащих ранее России островах Курильской гряды. Запечатлеть подвиг советских воинов — был его долг писателя и гражданина, который он успешно выполнил.
Очень точно название повести. «Тисима-ретто» — по-японски «Архипелаг тысячи островов». Так были названы Курильские острова, превращенные японскими милитаристами в плацдарм, направленный против Советской страны. Азиатские союзники Гитлера старались изо всех сил оказать помощь гитлеровцам, ослабить наши силы. В этих целях, пользуясь тем, что проливы были под их контролем, они задерживали, а порой топили наши корабли.
Одна из таких трагических историй легла в основу повести. В июле 1945 года наш небольшой пароход «Путятин» шел из Владивостока в Петропавловск-на-Камчатке и был потоплен японской подводной лодкой. Спаслась только группа наших моряков, сумевших добраться до далеких берегов Родины. Другая часть оставшихся в живых попала в плен, хотя Япония не воевала с Советским Союзом.
Нет нужды пересказывать содержание этой остросюжетной повести, которую можно с полным основанием отнести к военным приключениям. Она хорошо известна нашим землякам — повесть издавалась шесть раз. Мне хотелось бы обратить внимание на другое. Повесть «Падение Тисима-ретто» явилась свидетельством быстрого творческого роста ее автора.
Особое место в творчестве Александра Грачева занимает повесть «Сторожка у Буруканских перекатов», вышедшая в Хабаровске в 1962 году.
Тема любви к природе, забота о ее сохранности, хозяйском подходе к ней звучала у Александра Грачева буквально везде: в устных выступлениях перед земляками, в статьях, очерках. Да и жить он предпочитал не в городской квартире, а на заимке на берегу Амурской протоки. Будучи человеком не молодым, он всегда охотно соглашался на любое трудное путешествие по нехоженым местам Дальнего Востока.
Эта любовь к природе ярко прослеживается в повести «Лесные шорохи», и в последнем произведении писателя — повести «Сквозь мартовские снега». На этот раз события происходят на фоне суровой и прекрасной природы Камчатки. Ее герои тоже характерны для всех его книг. Это люди сильные, отважные, способные выдержать любое испытание, выпавшее на их долю. Много отваги, выдержки, находчивости проявили они, чтобы одолеть все препятствия, спасти жизнь себе и другим.
Немецкий поэт и мыслитель Гёте справедливо писал: «Каждый писатель, до известной степени, изображает в своих сочинениях самого себя, часто даже вопреки своей воле». Мы, хорошо знавшие Александра Грачева, во многих героях его книг видели черты, присущие ему самому, писателю-коммунисту.
Еще нагляднее это прослеживается в романе «Первая просека». Главного героя этого романа Захара Жернакова писатель наградил своей биографией, своим жизненным путем.
Читатели романа могут сравнить. Детство и юность писатель прожил на Дону. Будучи уже известным писателем, он посетил во время поездки на родину крытую соломой, пригнувшуюся к земле хату, в которой он родился в 1912 году. Отец Грачева, бравый вахмистр, перед началом мировой войны привез на хутор жену — латышку из Прибалтики. Но мало отец прожил дома на хуторе Меркуловском, неподалеку от станицы Вешенской. В 1919 году красный конник, вернувшись домой, умер от тифа. А в хате осталась жена и четверо детей.
Трудно пришлось матери-латышке. Кругом разруха, нужда, недружелюбное отношение хуторян — ревнителей казачьих «традиций», которое переносилось и на ее детей. Отсутствие поэтому друзей-сверстников вынуждало к одиночеству, поискам утешения в природе: рыбалка с удочкой на берегу Дона, широкие привольные степи, куда он часто уходил — дома бедность и слезы матери. Надо полагать, что здесь истоки той неистребимой любви к природе, которую писатель пронес через всю жизнь.
И жажда знаний, которую не могли удовлетворить четыре класса сельской школы. Тринадцатилетним он отправился в станицу Мешковскую продолжать образование в школе крестьянской молодежи. После двух лет учебы комсомол направил его учиться в станицу Каргинскую. В этой станице жила мать Михаила Шолохова. Учащиеся взяли над ней своеобразное «шефство» и среди таких активных шефов был Саша Грачев. В этот дом его влекло множество книг.
Как и многие в юности, будущий писатель стал сочинять стихи, которыми заполнял тетрадь за тетрадью. Набравшись смелости, он даже обратился за «консультацией» к самому Михаилу Шолохову. Советы писателя он запомнил на всю жизнь, но поэтом не стал.
В 1930 году Саша Грачев стал курсантом Новочеркасской кавалерийской школы. В какой же другой род войск мог пойти сын казака? А в этот год тысячи комсомольцев пошли в Красную Армию и во Флот, над которыми комсомол взял шефство.
Казалось, жизненный путь юноши определился. Чего еще большего желать станичному комсомольцу? Но судьба распорядилась иначе. Рухнула мечта стать командиром. По состоянию здоровья он был уволен из училища. Случилось это в 1932 году.
Стал вопрос, что делать? Раздумывать долго не пришлось. В этот год комсомол призвал молодежь построить своими руками новый город на глухих берегах далекого Амура. Мог ли не откликнуться он на призыв родного комсомола? И вот осенью 1932 года со ставшего исторически известным старого парохода «Колумб» с очередной партией комсомольцев-добровольцев на берег Амура у таежного села Пермского сошел донской комсомолец Александр Грачев.
Комсомолец Александр Грачев, как он потом сам вспоминал, тайно мечтал о литературном творчестве. Ему повезло в том отношении, что в 1934 году он стал сотрудником газеты строителей «Молодой ударник». Повезло потому, что расширились масштабы его видения, горизонты всего свершаемого вокруг. Постоянные поездки к лесорубам, сплавщикам, на строительные объекты дали ему очень многое. И главное — знание жизни строителей во всем ее многообразии. Тем более, что во времена таких поездок он брал в руки топор, кирку, лом, лопату, носилки, багор сплавщика. По своему характеру, убеждениям он не мог быть сторонним наблюдателем.
Где ему только не удалось побывать уже в эти годы! И в стойбищах коренных жителей этих мест — нанайцев, которые учили его познавать мир тайги. У рыбаков Амура, открывших ему богатства могучей реки. У пограничников, воинов Красной Армии. И отовсюду он привозил для газеты статьи, очерки, путевые зарисовки. Все это потом очень пригодилось ему, когда он стал собирать материал для «Первой просеки».
Жажду познания окружающего, острый интерес к людям Александр Грачев сохранил до конца. Приходилось только по-хорошему завидовать, как легко он сходился с людьми, проявлял живейший интерес к ним, их делам, думам. А сколько у него друзей осталось буквально во всех уголках Дальнего Востока! Пожалуй, трудно сказать, где он не побывал на земле дальневосточной. Особенно много он ездил в качестве корреспондента газеты «Тихоокеанская звезда» и «Известий». Да и став писателем-профессионалом, не сидел на месте.
Когда началась Великая Отечественная война, он рвался на фронт, но осуществить это желание ему не довелось. И во время войны кто-то должен был обеспечивать фронт: оружием и боеприпасами, одеждой и амуницией, сталью и хлебом… Чем только не пришлось заниматься в эти годы молодому коммунисту. Одно время он был даже директором моторно-рыболовецкой станции. Но в 1945 году, году войны против милитаристской Японии, он вырвался на фронт. Он был корреспондентом, но шел среди наступающих бойцов.
Вот, повторяю, и сравните с биографией Захара Жернакова — много в ней автобиографичного и самого писателя.
Мне нет нужды разбирать этот роман «по косточкам». Уверен — читатель оценит его по достоинству. И все же хочется напомнить читателям, что первая часть романа была создана им в 1960 году и впервые увидела свет на страницах журнала «Дальний Восток», а в том же году была издана отдельной книгой Хабаровским книжным издательством. Вторая книга романа тоже была вначале опубликована в этом же журнале и весь роман вышел книгой в 1965 году в издательстве «Молодая гвардия».
Сорок пять лет прошло с того дня, когда за околицей таежного села Пермского «сошлись две рати — лесная и людская, чтобы утвердить себя или отступить. В тайгу врубалось сразу, фронтом, около сорока бригад; еще несколько бригад было брошено к Песчаной сопке».
Так началась стройка. Ее картины даются в романе иногда с документально-кинематографической точностью. Да, именно так они, посланцы комсомола, врубались в тайгу, пробивались к стройке по амурскому льду, страдали от гнуса, болели цингой, мерзли в бараках, страдали от недоедания.
Да, так. Но, как заметили читатели, не борьба с суровой природой главное в романе. Главное — люди. Люди разные, разные по возрасту, характерам, профессиям. Разные даже по причинам, которые привели их на стройку.
Надо помнить, что первостроителям, как их теперь называют, в среднем было по двадцать лет. Многие не представляли, какие трудности им встретятся. Они еще не имели достаточного жизненного опыта, не устоялись характеры. Многие не имели никаких профессий. Для многих стало открытием, что кроме романтики здесь необходимо изнуряющее напряжение физических сил, моральная стойкость.
Писателю удалось нарисовать правдивую картину взаимоотношений таких разных людей, очертить запоминающиеся характеры, показать их развитие в довольно сложных жизненных ситуациях.
Перед нами проходит целая галерея замечательных комсомольцев-энтузиастов, партийных работников. Не погрешил писатель против правды, когда показал нам и слабых духом, случайных среди строителей. И врагов строительства нового общества. Почему-то иногда забывают о том, что в те годы были у нас и враги, враги тайные, злобные. Были и диверсанты, засылаемые окопавшимися в Маньчжурии белогвардейцами и их хозяевами — японскими империалистами.
Но законен и вопрос: «А все ли в равной мере удалось его автору?» На этот вопрос односложно ответить трудно. Нельзя отрицать, что некоторые страницы романа страдают фотографичностью, когда писатель не исследует явление, а говорит: «Так было». Пожалуй, слабее других выглядят лирические линии сюжета. Может показаться, что роман перенаселен действующими лицами, некоторые из них проходят в книге, ничего не добавляя для развития главных линий сюжета.
Как ни парадоксально, но произошло это от обилия собранного материала и от того, что автор сам пережил многое из того, о чем пишет в романе. По собственному опыту знаю, как трудно бывает в таких случаях. Все кажется важным, необходимым. Ведь это часть твоей жизни, прошедшей через сердце.
Главное то, что Александр Грачев нарисовал в романе достоверную картину трудового подвига комсомольцев тридцатых годов. Те, кто вместе с ним воздвигал город, и те, кто узнает о них из этой книги, останутся благодарными автору, ибо роман этот можно назвать памятником тому безвестному комсомольцу, который нанес первый удар топором, пролагая первую просеку для строительства города.
Эрнест Хемингуэй справедливо писал: «Все хорошие книги сходны в одном, — когда вы дочитаете до конца, вам кажется, что все это случилось с вами, и так оно навсегда при вас и останется: хорошее или плохое, восторги, печали и сожаления, люди и места, и какая была погода».
Эти слова можно без колебаний отнести к роману Александра Грачева «Первая просека». Для того, кто прочитал этот роман, его герои, их жизнь, чувства, потери и победы навсегда останутся с ним.
Мне кажется, что роман «Первая просека» особенно дорог для тех, кто сейчас сам является участником великих строек. Побывав на строительстве Зейской ГЭС, я, видавший, как строился Днепрогэс, особенно наглядно увидел, прочувствовал тот гигантский скачок, который проделала в своем развитии наша Родина. Точно так же строители БАМа, прочитав роман «Первая просека», почувствуют колоссальную разницу с первостроителями Комсомольска-на-Амуре не только во времени, но и в условиях труда, технике, которой вооружила их Родина, масштабности строительства.
Но нынешние строители того же БАМа, Зейской ГЭС, электростанции на Бурее почувствуют и другое — неразрывную связь с первостроителями города юности, преемственность их комсомольского энтузиазма, готовности к трудовому подвигу, стремление приложить свои силы на решающих участках коммунистического строительства.
Александр Матвеевич Грачев, писатель-коммунист ушел из жизни, не осуществив всех своих творческих замыслов. Их у него было много. Ушел, может быть, так и не успев написать свою главную книгу. Однако и то, что он успел, долго будет жить и волновать признательных читателей.
Выход этой книги совпадает с двумя датами — сорокапятилетием города юности и шестидесятипятилетием со дня рождения Александра Матвеевича Грачева.
Василий ЕФИМЕНКО.
Примечания
1
Халка — небольшая баржа-плоскодонка.
(обратно)

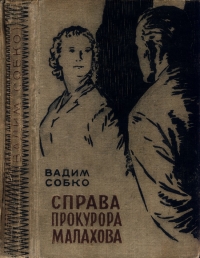
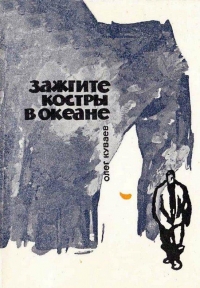
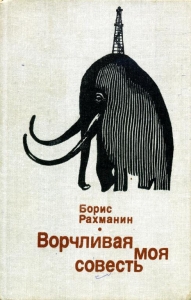
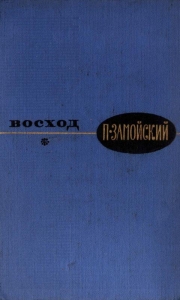
Комментарии к книге «Первая просека», Александр Матвеевич Грачёв
Всего 0 комментариев