Вступительная статья
Одно из самых высоких предназначений литературы состоит в том, чтобы возбуждать в людях неугасимое стремление сделать жизнь прекраснее и счастливее. Мечтой о счастье, сочувствием к людским страданиям, утверждением добра, восстающего против злобы и несправедливости, одухотворены лучшие произведения мировой классической литературы. Некоторые из них вошли в наше сегодня через толщу веков и даже тысячелетий. Казалось бы, герои этих произведений, рожденных в столь далекие времена, их мысли и чувства, могут представлять интерес разве что для историков. А между тем они предстают перед нами как живые, возбуждая умы и сердца миллионов читателей.
Конечно, духовный мир нашего современника резко отличается от духовного мира современников Гомера, Данте, Шекспира, Пушкина и даже Толстого. Учение Маркса и Ленина, ставшее знаменем нашей эпохи, подняло массы людей к сознательному творчеству нового мира, а это значит, что мечта о всечеловеческом счастье еще более приблизилась к нам, стала еще реальнее. И побудительное, воспитательное значение искусства слова поднялось еще выше.
Советская литература, унаследовавшая от литературы минувших веков ее самые лучшие, гуманистические традиции, развивала их с новой силой вдохновения. Она, по выражению А. М. Горького, «утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет обработать всю, как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью».
Труд художников слова нелегок. Писатель отдает литературе все свои силы и способности. Творчество не терпит лености ума и холодного равнодушия, не терпит и эпигонства, ибо творчество — это постоянный, непрерывный поиск нового, оно требует от писателя глубокого знания жизни и вторжения в жизнь.
«Литература имеет примечательное свойство, — говорил на I съезде писателей РСФСР Л. Соболев, — она, как зеркало, отражает жизнь, и она же, словно прожектор, освещает ее пути. Литература органически связана с жизнью общества, она питается ею и, в свою очередь, питает ее…»
Среди современных писателей, творчество которых нерасторжимо связано с жизнью, «питается ею и, в свою очередь, питает ее», безусловно, следует назвать Антонину Коптяеву. Книги, написанные ею, вызывают горячий отклик в сердцах читателей. Они рождают глубокие раздумья, споры, пылкие, восторженные признания, а порой возражения, но не оставляют читателя равнодушным. Объясняется это, очевидно, не только литературным талантом писательницы, но и глубиною познания народной жизни, которая открывалась ей не как стороннему наблюдателю, а как человеку, поднявшемуся из народа, полной мерой испытавшему его печали и радости и связанному с народом крепчайшими связями.
Антонина Дмитриевна Коптяева родилась в 1909 году на прииске Южном в амурской тайге, в семье золотоискателя. Отец ее, Дмитрий Степанович, пришел в эти края из Тобольска, увлеченный надеждой найти счастливую золотоносную жилу и разбогатеть. Но жажда такого богатства почти всегда соседствует с кровью.
Однажды на стан, где жила семья Дмитрия Коптяева, забрели китайцы-хунхузы якобы за тем, чтобы запастись продуктами, но, когда Дмитрий Степанович пошел с ними в амбар, они зверски убили его. Антонине тогда было всего два года. Кроме нее, на руках у матери осталось еще двое детей. После гибели мужа вдова Анастасия Коптяева с детьми переехала к родне в город Зею. Там и прошло детство будущей писательницы. Мать всю себя отдавала детям, чтобы прокормить семью, она вынуждена была ходить на поденку, где зарабатывала гроши. То были трудные, суровые годы.
Антонина Коптяева, вспоминая о матери, в очерке «Края родные» пишет: «…рослая, сильная, красивая. Язвительно-умная, она была, богатая памятью и пониманием прекрасного, но по-таежному недоверчиво-колючая к людям, а к нам, своим детям, часто жестоко несправедливая. Я все-таки привлекала к себе редкостным трудолюбием, неподкупной честностью, горением природного, неразвитого образованием, но острого ума. Мы, никогда необласканные, безотчетно гордились ею».
От матери Антонина Коптяева унаследовала остроту ума, редкостное трудолюбие, неподкупную честность, а советская действительность, новый уклад жизни воспитали в душе ее не «недоверчиво-колючее», как у матери, а сердечно открытое отношение к людям. И эти черты характера нашли свое выражение в ее книгах.
В детстве была она диковатой, застенчивой, вероятно, от бедности, оттого, что слишком рано узнала нужду и неравенство с теми, кто был обеспечен хотя бы скромным благополучием. В тринадцать лет она сама стала поденщицей на маковых полях у китайцев, занимавшихся добычей опиума. Тяжелый, мучительный труд. И — «тридцать копеек оплаты — уже счастье, а барышни зейские косились: считали зазорным для девчонки такую работу», — вспоминает она. Потом, много лет спустя, все это откликнется, отзовется в сочинениях советской писательницы Антонины Коптяевой. Тогда же, летней порой, босоногая сероглазая девочка с копной рыжеватых волос бегала на работу, а зимой в старом пальтишке и подшитых валенках — в школу, где удивляла способностью к учению, и писала стихи.
В шестнадцать лет после седьмого класса на свой страх и риск она ушла в тайгу к искателям золота. Прииски в то время были иными, нежели теперь. Хотя была уже введена государственная монополия на драгоценный металл, там, в тайге, еще копались старатели-хищники, жадно выискивая золотые крупицы и дрожа над блеснувшим зерном самородка. «Фартовые», празднуя удачу, гуляли и пили спирт, а обезумев, хватались за нож, и желтое золотишко мешалось с красной горячей кровью. Но советская новь все более властно утверждалась в далекой тайге. Изменялся уклад жизни. Изменялись человеческие характеры.
Работая в приисковой конторе, Антонина Коптяева продолжала писать стихи и в 1930 году с небольшой тетрадкой, в которую были переписаны эти первые опыты словесного творчества, явилась в Москву. Столица холодно приняла ее сочинения. В литературной консультации Коптяевой объяснили, что стихи ее очень слабы, а чтобы как-то утешить юную сочинительницу, посоветовали испытать свои силы в прозе. И снова она поехала на Дальний Восток работать на Колыму.
В середине тридцатых годов Антонина Коптяева написала свою первую повесть «Колымское золото» и сборник рассказов золотоискателей «Были Алдана». Обе книжки появились в печати, но началом своей писательской работы Коптяева считает все же свой первый роман «Фарт», также посвященный жизни золотоискателей. Писала она его уже на Южном Урале, в небольшом городке Миассе. Работала с упоением. Впоследствии, вспоминая то время, в автобиографическом очерке «О самом дорогом» она рассказывает:
«День строго распределен: с утра до часу дня пишу. В час — постная похлебка или каша без масла. С двух часов до пяти — чтение книг и журналов. В пять — в библиотеку… В восемь часов вечера ужин: дежурное блюдо — холодная или горячая картошка, кусочек соленой кеты и чеснок… В девять часов снова сажусь писать. До трех-четырех часов ночи. И так каждый день».
Ей тогда было всего двадцать шесть лет. Счастливая пора молодости. Но жажда творчества звала к упорному, подвижническому труду. И вот наконец роман закончен. Коптяева отправила рукопись в Москву, в редакцию журнала «Новый мир». Ответ пришел через несколько месяцев: «Прочитали рукопись. Заинтересованы. Приезжайте для переговоров».
Как на крыльях полетела она в Москву. Но переговоры с редактором журнала закончились тем, что рукопись ей вернули, сказали, что надо еще очень много работать. И снова возвращается она на Урал. И опять упорная работа изо дня в день.
Только в 1939 году, перепечатав новый вариант романа на машинке, Коптяева посылает его на этот раз в редакцию журнала «Октябрь». Через полгода пришла телеграмма: «Приезжайте. Будем редактировать и печатать».
Редактором «Октября» был Ф. И. Панферов. Встреча с ним была решающей в судьбе писательницы. Чуткий, внимательный к людям, Панферов помог стать на ноги многим молодым литераторам. И в несовершенной еще рукописи первого романа Антонины Коптяевой он увидел золотое зерно таланта, ободрил начинающую писательницу, помог этому зерну прорасти и утвердиться. В 1940 году «Фарт» появился на страницах журнала. Публикация его не прошла незамеченной. Литературная критика отмечала, что автору удалось убедительно показать влияние коллектива на формирование новых черт характера рабочих-золотоискателей, что роман Антонины Коптяевой открыл для читателя правдивые картины жизни далекого таежного края.
История создания романа «Фарт» поучительна в том смысле, что она подтверждает, сколь многотрудна работа писателя и не счастливый случай, не волшебное озарение, а только упорный, настойчивый труд возвышает истинного художника слова. Даже самый яркий талант может потускнеть и пропасть без постоянного совершенствования.
Панферов советовал Антонине Коптяевой поступить в Литературный институт. «Вы талантливы, но вам надо учиться», — говорил он. Начинать учиться в тридцать лет после долгого перерыва, имея за душой незаконченное среднее образование, не легкое дело, но, взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Не прерывая литературной работы, Коптяева начала готовиться к экзаменам и в 1940 году поступила в Литературный институт имени Горького. Учась там, она начала работу над новым романом.
В основу его опять легли наблюдения, почерпнутые писательницей в золотоносном таежном крае, но идея романа — психологическое, глубокое раскрытие образа человека с сильным и цельным характером, с душой, отданной делу, подлинного строителя новой жизни. Этот роман, названный по имени главной героини его — «Товарищ Анна», — явился дипломной работой молодой писательницы и был опубликован в 1946 году.
В своем отзыве о нем взыскательный мастер литературы А. А. Фадеев писал, что в новом романе Коптяевой гармонически переплетена личная, семейная жизнь людей с жизнью общественной, с работой на производстве. «Заслуга автора в том, — отмечал Фадеев, — что у него эта вторая жизнь — на производстве, в обществе — не является только фоном для первой, а, фактически сливаясь с первой, является главным содержанием жизни людей. Особенно удался автору образ главной героини — Анны, руководительницы крупного золотодобывающего предприятия, образ цельный, гармоничный и сильный». Фадеев отметил также, что «Коптяева хорошо видит и чувствует природу и умеет ее изображать».
Романы «Фарт» и «Товарищ Анна» утвердили Антонину Коптяеву как писательницу. Но подлинный успех и широкую популярность принес ей следующий роман — «Иван Иванович», появившийся в 1949 году и отмеченный Государственной премией.
Главный герой этого произведения доктор-хирург Иван Иванович Аржанов работает в глубинке, на северо-востоке страны, в крае, который еще в недавнем прошлом был глухой и дикой окраиной царской России. Начало пробуждению этого далекого края положила Октябрьская революция, Советская власть, и доктор Аржанов — один из тех энтузиастов, чья деятельность всецело направлена на благо народа. Он не только талантливый хирург, несущий исцеление от недугов, но и революционер-организатор, вдохновенный труд которого помогает людям подняться из вековой темноты к сознательному творчеству новой жизни.
Подлинное искусство обладает волшебной силой создавать образы, которые входят в наше сознание как живые, реально существующие и навсегда остаются с нами, служа примером благородства, трудолюбия, гуманности. Созданный Антониной Коптяевой образ доктора Аржанова в их ряду.
Одно из главных достоинств романа «Иван Иванович» состоит в том, что жизнь и работа доктора Аржанова показаны писательницей в естественных взаимосвязях с действиями, надеждами и устремлениями людей, среди которых живет и действует он. Перед читателем рядом с образом главного героя возникают живые, правдивые и нравственно светлые образы председателя районного Совета Марфы Антоновой, молодого якута Никиты Бурцева, юной якутки Вари Громовой, одной из учениц Ивана Ивановича. Наконец, в этом произведении Коптяевой реально и ощутимо передана атмосфера народной жизни, что придает ему особую социальную значимость.
Роман «Иван Иванович» вызвал многочисленные отклики читателей и литературной критики. Суждения были противоречивы. Единодушно сходясь на том, что образ главного героя полон обаяния, некоторые читатели упрекали писательницу за то, что она показывает разлад в личной, семейной жизни Аржанова: его жена Ольга уходит от Ивана Ивановича к другому — менее значительному человеку, инженеру Таврову. Что же получается: герой, вдохновенно отдающийся борьбе за благополучие и счастье народа, не сумел уберечь свое личное семейное счастье? Читателям было обидно за Ивана Ивановича.
Но Антонина Коптяева писала не житие святого. Перспектива изображения семейной идиллии не увлекала ее. Своим остроконфликтным романом она привлекла внимание читателей к жизненно важной проблеме, не перестающей волновать ум и чувства людей, — гармонии творческого труда и личного счастья.
Вслед за романом «Иван Иванович» писательница создает романы «Дружба» и «Дерзание». Вместе они составляют трилогию, в которой развертывается история доктора Аржанова. Перипетии жизни своего героя Коптяева изображает в исторически-конкретных и важных обстоятельствах жизни советского народа. Действие романа «Дружба» вводит читателя в драматическую обстановку Сталинградской битвы, участником которой является и доктор Аржанов, а в «Дерзании» Иван Иванович предстает перед нами уже в послевоенное время. Теперь он в Москве, одним из первых дерзает проводить операции на сердце. Тут следует отметить очень важную черту писательского таланта и характера Антонины Коптяевой — обстоятельность и точность изображения действий ее героев. Страницы трилогии, показывающие доктора Аржанова у операционного стола, захватывают правдивостью и точностью изображения настолько, что, читая их, ощущаешь себя как бы присутствующим в операционной.
Работа Ивана Ивановича, его одержимость делом, которому он служит, убедительно показанные в романах «Дружба» и «Дерзание», привлекают к нему симпатии читателей. Дело Аржанова как раз и определяет главную линию его жизни. Но писательница не уходит от изображения и того, как непрочно складывается семейная жизнь героя, каким иллюзорным оказывается порой счастье любви. Она не поучает — делайте так и не делайте этак, а показывает то, что — увы! — еще нередко случается в действительности. И именно жизненность изображения побуждает читателей задумываться о том, кто виноват и что виновато…
Работе над трилогией о докторе Аржанове Антонина Коптяева отдала пятнадцать лет. Следующим произведением писательницы явился роман «Дар земли», опубликованный в 1963 году. Можно сказать, что этот роман посвящен трудовому подвигу нефтяников, так как в нем рассказывается об освоении нефтяных пластов Поволжья, о преображении некогда бедных, экономически отсталых районов Татарии и Башкирии, о возникновении здесь новых индустриальных городов. Но в неразрывной связи с творческим трудом, обновляющим землю, происходит и духовное обновление человека.
Образы людей, открывающих и осваивающих богатства, таившиеся в недрах земли, прежде всего привлекают внимание писательницы. Такие персонажи ее романа, как добытчик нефти Ярулла Низамов, его сын Ахмадша, директора смежных нефтеперерабатывающих заводов Алексей Груздев и Дмитрий Дронов, Надя Дронова и многие другие исполнены живой страсти и не могут оставить читателя равнодушным. Нам интересны не только новаторские начинания энергичного Алексея Груздева, но и противоборство старых и новых черт в характере Яруллы Низамова, и то, как сложится судьба Нади Дроновой.
Сфера духовной жизни людей, проблемы любви и личного счастья привлекали внимание философов и художников слова во все времена истории человечества, и потому принято говорить, что тема личного счастья относится к категории вечных. Но она немыслима без конкретного воплощения, ее невозможно представить вне определенных социальных условий. Для нас она имеет особый интерес и приобретает особое значение как неразрывная часть важнейшей проблемы духовного, нравственного возвышения человека коммунистического общества. С этих позиций и подходит к ее решению Антонина Коптяева.
С глубокой убежденностью и остротой писательница ставит в своих романах вопросы любви и личного счастья, и именно остротою и жизненностью этой «вечной» проблемы книги Коптяевой вызывают горячий отклик в сердцах и умах читателей.
Человек создан для счастья, как птица для полета, и он не перестанет стремиться к своему счастью, пока сердце бьется в его груди и кровь течет в его жилах. Однако счастье не волшебное яблоко, которое вдруг возьмет и упадет с неба в руки счастливцу. Есть крылатое выражение: каждый человек сам кузнец своего счастья. Но мир — такая огромная кузница, что один человек сам по себе пропадет, потеряется в ней, ничего не достигнув. Только в живой причастности к общему делу найдет он дорогу и к своему личному счастью. В одной из своих статей, появившейся как ответ на многочисленные письма читателей, Антонина Коптяева говорит, что человек не может быть по настоящему счастлив, если у него нет ощущения нужности людям, ощущения дружеского локтя рядом. Эта мысль в образном воплощении ее звучит во всех романах писательницы.
Глубокое, пристальное внимание Коптяевой к коллизиям личной жизни своих героев дает повод некоторым критикам заявить об излишнем пристрастии автора к бытописательству. Но подобные заявления безосновательны. Бытописательство почти всегда выражает пассивность художника. Оно сводится к показу жизни как бы со стороны, без стремления изменить ее. К творчеству Антонины Коптяевой это никак не относится. Все ее романы исполнены пылкой страстью сделать жизнь прекраснее и счастливей.
После завершения работы над романом «Дар земли» Коптяева обратилась к новой для нее, историко-революционной тематике, нашедшей воплощение в дилогии «На Урале-реке». Эта дилогия посвящена одной из самых героических, но еще малоизвестных страниц гражданской войны — обороне Оренбурга рабочими города и разгрому белоказачьей армии атамана Дутова.
Работа над историческим материалом представляет для художника особые трудности. Тут автор обязан верно и точно передать в своем произведении не только дух изображаемых им событий, но и самые факты, ставшие историческими, и характеры действующих лиц, существовавших в реальности. В дилогии «На Урале-реке» это чрезвычайный комиссар по борьбе с дутовщиной Петр Алексеевич Кобозев, комиссар Тургайской области, герой казахского народа Алибий Джангильдин, председатель Оренбургского ревкома Самуил Цвиллинг, председатель первого Совета рабочий-большевик Александр Коростелев и другие. Наряду с ними действуют персонажи, рожденные художническим воображением автора или, вернее сказать, подсказанные его воображению самой жизнью. Тут и оренбургские рабочие-железнодорожники, и красногвардейцы, и жители казачьих станиц Приуралья. Надо обладать чувством историзма и так вжиться в обстановку событий, чтобы образы, созданные писательским воображением, естественно вошли в круг реально существовавших героев. Только тогда читатель поверит в правду произведения. Антонине Коптяевой это удалось.
Жизненная правдивость действия, пластичность воссоздания образов, раскрытие внутреннего мира героев, острота социальных и личных конфликтов — основное достоинство дилогии «На Урале-реке». Идея защиты революционных завоеваний, одухотворявшая героев обороны Оренбурга, нашла здесь яркое художественное выражение, а талант Антонины Коптяевой раскрылся в этом произведении своими новыми гранями.
Наиболее полно и широко дарование Антонины Коптяевой проявилось в созданных ею романах. Однако было бы упущением не сказать о ее работе и в ином, очерково-публицистическом жанре. Книга очерков «Чистые реки», изданная в 1969 году, и страницы из дневника писательницы — «Сибирские сокровища», опубликованные в журнале «Москва» в 1971 году, свидетельствуют о широте ее интересов, об остроте чувства современности, о связи писательницы с жизнью народа. Очеркам Коптяевой свойственна та естественность интонации повествования, которая всегда вызывает у читателя доверие. Рассказывая об увиденном или рассуждая по поводу пережитого, писательница как бы беседует с близким ей человеком, делится с ним своими раздумьями, наблюдениями, страстно утверждая то, в чем прочно убеждена сама. Но особенно привлекательны ее очерки светлым лиризмом. Какая чистая, звенящая струна слышится в небольших по объему, зато богатых по чувству и содержанию очерках «Края родные», «О самом дорогом», «Память сердца»…
За тридцать пять лет творческой деятельности Антонина Коптяева не вызывала особенно шумных похвал и восторгов литературной критики, какие иной раз поднимаются вокруг «модных» писателей. Но все эти годы она ощущала ревнивое и пристальное внимание миллионов читателей, признавших в ней своего, необходимого им человека. Это большое счастье художника. Пусть же всегда оно будет с ней.
Виктор Полторацкий
Фарт Роман
Часть первая
1
Рыжков выбрался из канавы штрека, отряхнул с ватника землю и облегченно расправил натруженные плечи. Небо, светлеющее над зубчатыми вершинами гор, показалось ему после подземных сумерек особенно просторным. Он оглянул знакомую до мелочей картину прииска и грузно зашагал к избушкам, разбросанным по увалу.
Огромная лежала перед ним долина Пролетарки, упираясь темным от леса верховьем в гольцовые водоразделы, и вся она была изрыта и перевернута руками старателей. Везде по руслу ключа, до самого устья его на речке Ортосале, голубели запорошенные снегом провалы шурфов, около которых высились — то белыми курганами, то словно тысячи могил — много раз перелопаченные, перебуторенные отвалы.
«Этакая масса труда сюда вложена! — подумал Рыжков. — Миллионы кубометров подняты горбом и лопатой. Да если бы нагрузить поезда той породой, что мы, старатели, переворочали, чай, шар земной хватило бы опоясать, и не однажды! — Но горделивая мысль таежника была сразу омрачена: — Кровавых мозолей на своем веку набил предостаточно, но вот дело пошло на шестой десяток, здоровье поистратилось, а с чем стал на делянку лет тридцать назад, с тем и живу, и никто из дружков не озолотел. Хитрый он, фарт, скользкий, не удержишь его… — Рыжков шевельнул растопыренными пальцами, словно хотел ухватить что-то, но рука, похожая на грабли от вечной работы, сжалась не вдруг. — Не удержишь… Вот здесь же, на Пролетарке…»
Рыжков, уколотый воспоминанием, опять осмотрелся. Вон за тем увальчиком в самый разгар золотой лихорадки намыл он одиннадцать фунтов золота, да пожадничал: начал искать дальше, бить новые шурфы за свой риск и страх, так и закопал в землю весь фартовый заработок. С той поры и не прекращаются его поиски. Погоня за фартом — та же картежная игра. И другие ищут: бурыми пятнами выделялись среди мертвого хаоса недавно нарезанные делянки, яркие на снежной белизне желтые следы тянулись от них к приисковой дорожке.
Проходя мимо, Рыжков принюхивался к терпкому дымку пожогов, косил глазом на бахрому инея, наросшего над зияющим черным зевом бортовой штоленки — орты. Из недр подземелья слабо сочилась вода, собиралась у входа в озерко, отдающее паром; на краях водоема, схваченных морозом, вырастали хрупкие белые цветы.
«Не унывает народишко, роют и роют! Бывают ведь удачи. Как-то мы нынче отличимся?! С каждым годом риск становится тяжелее: жену на этом деле прежде времени состарил, дочка ничего хорошего еще не видела. В который уж раз начинаю все сызнова! — Глубокая тревога охватила Рыжкова. — Что-то скажет нам наша деляна?»
На участке одной богатой артели Рыжков невольно замедлил шаг: над промывальными ямами стояла еще дымящаяся железная печка. Вода в ямах была мутной от недавней промывки.
— Моют, — завистливо проворчал старатель. — Верно говорится: кто моет, а кто воет. У нас-то еще не меньше года уйдет на подготовку, а там бог знает. В долг по уши влезем — вот это наверняка.
Он почесал заросший затылок и двинулся дальше.
— Афанасий Лаврентьич! Погоди минутку! — окликнул, догоняя его, молодой старатель Егор Нестеров. — Прикурить есть у тебя?
— Как не быть? — Рыжков похлопал по карману шаровар, потом по другому. — Как не быть? — повторил он, доставая спички.
Егор закурил и пошел рядом, поглядывая на Рыжкова из-под густых ресниц.
— Плохо двигаемся! — сказал Рыжков. — Вчера в забое погону было сорок сантиметров, сегодня совсем ничего. Протянуть штрек в полторы тысячи метров, да при неустойчивом грунте — неслыханная для старателей подготовка! Канаву-то мы скорее провели, а теперь подземная проходка куда трудней будет, придется просить в управлении, чтобы добавили кредиту.
Егор недовольно пыхнул дымом.
— Мы за год и так много забрали.
— Без этого не проживешь: пить-есть надо. Вчера смотритель сказывал: больно, мол, интересуются нашей работой в тресте, вторая артель, дескать, по масштабу во всем районе. — Рыжков кивнул на другой берег ключа, где бугрились отвалы крупнейшей соседней артели имени Свердлова, тоже уходившие к речке Ортосале. — Вот кабы нам попасть на устье Орочена, мы бы там наворочали делов! — добавил он мечтательно.
— Там без нас найдется кому ворочать делами, — сказал Егор. — Старателей туда не пустят.
— То есть как же это?
— Да очень просто. Хозяйские [1] открывают — механизированные глубокие шахты. Но на подготовку всех будут принимать. Богатое, говорят, золото открылось.
— Слыхал про золото… — негромко, раздумчиво отозвался Рыжков. — Как это мы его раньше проморгали?.. Весь Орочен изрыли, а до устья не добрались. Или там ортосалинская струя вышла? В таком разе свердловцы как раз на нее сели.
Рыжков, взволнованный, вгляделся в берега Ортосалы, поросшие редким, уже повырубленным лесом: канава артели «Труд» впадала в нее возле самого устья Пролетарки. Егор, взбудораженный словами старого опытного старателя, тоже смотрел в ту сторону.
Золото, возможно, притаилось там. Мелкая крупа… Гнезда самородков, матово-желтых, неровно отлитых, желанных… Плотно набитые тяжелые тулуны… Пьянящий хмель удачи…
Ключ Орочен, о котором шла речь, впадал в Ортосалу немного выше по течению, протекая рядом с Пролетаркой за невысоким перевалом.
— Великая сила — вода! — восхищенно заговорил Рыжков. — Малую трещинку в камне найдет и пошла год от году камень этот размывать. В мороз она скалу, как динамитом, рвет. Гляди, на гольцах словно после боя наворочено: глыба на глыбе. И все это вниз ползет. По пути встретится рудная жилка с золотом — и ту за собой. Пока груда до русла дотащится, сколько время пройдет! А речка сама породу рушит и все дальше ее толкает, окатывает, мельчит. Был гранит — станет глина, вместо кварца — песок, только золото так и остается золотом. Зато и спрячет его вода поглубже, на дно, на каменную постель, — поди-ка ищи! Ты замечай: после долгого пути самородок гладко отерт, а близ выхода — угловатый. — Рыжков взглянул на Егора и добавил тихо, серьезно: — Говорили, слабое золото на устье Орочена, ничего, мол, не выйдет, кроме дражных работ. А теперь — видишь, нашли…
— Но ежели оно, Афанасий Лаврентьич, на самой Ортосале, тогда у нас может и не оказаться: мы ведь выше свердловцев — по руслу ключа — будем мыть.
Рыжков даже испугался:
— Разведка ведь была! Мыслимое ли дело, чтобы мы понапрасну маялись? Нет, не должно того быть! Зря бы такую прорву работы не допустили. На Пролетарке золота раньше тоже много было, фунтили в двадцать четвертом году, — вспоминал он, уже успокаиваясь. — По нескольку фунтов в день намывали… Наверно, и нам кое-что осталось, без порядку ведь работали. Я к тому сказал про ортосалинское золото, что пока только в двух местах оно найдено по речке: на устьях Орочена и Пролетарки. Откуда эти россыпи? С ключей тянутся или самая главная россыпь Ортосалой идет? И так и этак думать можно.
2
На небе уже прорезался тонкий месяц, когда старатели подошли к жилью. Лес в вершине ключа стал совсем черным. Зажелтели среди увалов слабо освещенные окошки, над крышами бойко повалил искристый дым. Многие бараки до прихода хозяев оставались пустыми, с подпертыми дрючком дверями: воров на прииске не водилось, да и воровать было нечего. Только у семейных имелись кое-какие вещи, а одинокие при переходах весь свой багаж укладывали в котомку.
Барак, в котором жил Рыжков, — бревенчатая хижина со снеговым сугробом вместо крыши, — был выстроен около зимника — дороги, идущей с железнодорожной станции Большой Невер через тайгу и горные перевалы Станового хребта на прииск Незаметный и дальше через пристань Томмот на реке Алдане в Якутск. Алданские прииски Усмун, Орочен, Пролетарский, Незаметный были как драгоценные золотины, нанизанные посредине этой таежной нитки, — тропы жизни, как именовали ее местные романтики.
Лес вокруг рыжковского барака был вырублен начисто, торчали только два изломанных деревца, и между ними на веревке висело мерзлое, неподвижное даже на ветру белье.
Под навесом у дверей старатели оставляли инструмент и входили в жилье, внося запах мороза и сырой глины. Вместе с целой дюжиной мужчин здесь ютились жена и дочь Рыжкова, и жена Василия Забродина Надежда — миловидная, тихая женщина лет тридцати пяти.
Сам Забродин был ленив, злобен, вздорен, и артель приняла его в пай только ради расторопной стряпухи-жены. Что-то хищное сквозило в его белозубой ухмылке, в широко поставленных карих глазах. Пьяный, он сдирал с себя рубаху, обнажая мускулистое тело, буйствовал и хулиганил, куражливую злобу срывал на Надежде. С нею он ссорился главным образом из-за денег: все, что она зарабатывала как «мамка», он отбирал и прогуливал.
В этом бараке «сынков» у нее было семеро, за остальными ходила Анна Акимовна — жена Рыжкова. Женщины стирали старателям белье, пекли хлеб, варили обед, получая в месяц по десять рублей с человека. Шитье шло за особую плату.
Теперь, когда артель вела подготовительные работы, жалованья мамкам не платили, и в ожидании денег они дорожили каждым гривенником. При такой прижималовке Забродин совсем извелся.
Сейчас, придя с работы раньше всех, он сидел на скамейке в своем углу и, стаскивая промокшую обувь, яростно бормотал ругательства.
— Давай, Вася, я пособлю, — сказала Надежда.
Светлокудрая голова жены с тяжелым узлом на затылке и ее чистое, ловко сшитое платье тоже раздражали Забродина. Чем она занимается без него, все прихорашивается? Он покосился на старателей, с трудом удерживаясь от желания пнуть ее ногой.
— Вот кабы ты вместо меня на канаву-то ходила!
— Можно поменяться, — ответила Надежда, пряча улыбку. — Стирай мужикам портки, а я пойду на деляну.
— Я тебе постираю! — прикрикнул Василий, угадав по ее голосу, что она улыбается. — Ишь, на деляну она пойдет… Знаю, чего там будешь делать! Хотя мне не жалко было бы, кабы ты меня деньжонками ссужала за мое попустительство, — прибавил он и посмотрел на свою ногу, закутанную портянками. — Чего стала? Сымай портянки!
— Досталась дураку добрая жена, так он издевается над ней! — донесся из дальнего угла вызывающий голос Егора.
Забродин оглянулся и тихо проговорил:
— После ужина пойдем со мной на ключ.
— Зачем? — спросила Надежда удивленно.
— Затем… Отлуплю тебя там — и чтобы никто не помешал. Да-авно у меня руки чешутся! — деловито пояснил Забродин.
Привыкшая ко всяким его выходкам, Надежда на этот раз опешила.
— Разве я тебя огорчила? — спросила она покорно, но голубые глаза ее потемнели от сдерживаемого гнева.
— На каждом шагу злишь. Ни прибыли от тебя, ни душевного расположения. Живешь со мной только из одного страха. Думаешь, не вижу? Вот и должен я тебя бить, чтобы ты пуще боялась.
— Тогда отпусти меня лучше, чем зря тревожиться.
— А это видала? — Забродин показал ей кукиш. — Я тебе за такие слова еще добавлю, — пригрозил он, поднимаясь, но она увернулась от толчка и, вымыв руки, начала проворно собирать на стол. Слова Василия не выходили у нее из головы. Сказал он правду: неудачное сожительство с ним давно тяготило Надежду.
«Ах ты, сатана бесстыжая! — думала она скорбно. — Можно ли так издеваться над человеком!»
Ставя на стол эмалированные миски с супом, Надежда нечаянно коснулась плеча Егора, вспыхнула, как девушка, но сразу посуровела лицом и отошла в сторонку.
Забродин, занятый едой, сидел, широко расставив локти, и громко чавкал, прижмуривая выпуклые, бессмысленно блестевшие глаза.
— Подбери грабли! — сказал ему сосед, старик Зуев, темнолицый в белизне седины, сухощавый и сильный. — Не один за столом сидишь!
Забродин покосился на него недружелюбно, но локти со стола убрал: Зуев был известен среди старателей как старый хищник и каторжник. Каторгу он отбывал в Охотске за убийство в ссоре богатого купца.
3
Анна Акимовна, пожилая женщина в темном платье, застегнутом на пуговки, как мужская косоворотка, мыла после ужина посуду, позвякивая в тазу мисками и кружками.
Поставив все на полку, она смела в ладонь хлебные крошки с добела выскобленного стола и задумалась.
Росла когда-то остроглазая девчонка в строгой староверской семье. Отменные от других стояли высокие стены не по-сибирски крытого двора. Бородатые мужики жгли и корчевали тайгу. Женщины, одетые по старинке в широкие сбористые сарафаны, с тугими кичками на головах, отбивали по лестовкам молитвенные поклоны, вспоминали на досуге о далеких дорогах, о кандальном перезвоне этапов.
Выморочная даурская сторона! Когда сопки покрывались пестрыми осенними красками, ревели сохатые в медно-рыжих, перестоявшихся, в рост человека луговых травах. В черные ночи громко раздавался яростный и пугливый собачий лай, глохнул, срываясь на визг, под крыльцом жилья — зверь шатался по улицам: медведи и рыси запросто забредали в поселочек, приютившийся под гигантскими лиственницами.
Золото открылось в верховьях зейских притоков, и на глазах Анны заселялась Зея-пристань. Склады и побеленные бараки Верхне-амурской золотопромышленной компании вытянулись на лесистом берегу. Партиями прибывали вербованные рабочие, нагрянули сибиряки, и старые поселенцы бросали сохи на таежных заимках. Погоня за самородками вихрем завивала, кружила людей.
Трудно было в этой беспокойной жизни сохранять прежние обычаи. Строже и фанатичнее делались старухи, а молодежь менялась, разбаловались мужики, ходившие на прииски, непривычно бойкими становились их жены и дочери. Так и Анна слюбилась с молодым бобылем Афанасием, выбегала к нему на стук, на призывный свист, мела широким подолом некрашеные, вымытые с дресвой [2] ступеньки крыльца.
Старухи только головами качали:
— Ах, ах! Оглашенная! Ишь как воротами-то торкнула. Ну и девушка, бесстыдница!
Так и ушла, околдованная любовью, с родного двора: увез ее Афанасий Рыжков на глухой прииск, где работал старателем у мелкого хозяйчика.
Страшным оказалось таежное житье: драки, пьянство, поножовщина, всюду озоровали хунхузы. И у себя в бараке не было покоя: одинокие мужики засматривались на красивую молодушку, приставал и сам хозяин. После неудачного ухаживания выгнал он Рыжковых с прииска, и начали они скитаться по тайге. У железных печей, над корытом со старательским бельем рано поблекла красота Анны.
Плохая была жизнь, но Рыжков и слышать не хотел о другой, и от большой любви к мужу незаметно привыкла Анна к тайге. Из девяти детей выжила у них только одна дочка, Маруся. Берегли ее и жалели. Имя она получила от бродячего попа старой веры.
«Игривая, чисто котенок, господь с ней, — думала Акимовна о дочери. — Совсем еще дитя, а, скажи на милость, сколько у нее всяких забот! То работа, то заседают… Хоть бы ей жизнь выпала поласковее».
Акимовна вздохнула, ссыпала крошки в банку — птицам лесным бросить — и просияла лицом: за стеной барака послышались звонкие на снегу, быстрые шаги.
Заскрипела дверь, вместе с облаком белого холодного пара будто не вошла, а влетела девушка, закутанная серым полушалком, обмела метелкой валенки и скрылась за занавеской, отделявшей угол ее семьи от остального барака.
Егор сидел у стола, близко к подвешенной на проволоке керосиновой лампе, шевелил губами над потрепанной книгой. Темные волосы, отливая от света маслянистым блеском, непокорно вихрились над широким лбом. Исподлобья, омраченно посмотрел он вслед Марусе — не поздоровалась, а утром он не видел ее, потому что ушел на работу, когда она еще спала. Поймав сторожкий взгляд Акимовны, Егор покраснел, нахмурился, ниже опустил голову, чтобы не видеть пестрой занавески. По ночам, когда все затихало, а привернутая лампа едва мигала желтым коротеньким язычком, он смотрел со своих нар на эти пестрые цветы и узоры, думал о девушке, безмятежно спавшей за ними, и тоска неотступно грызла его.
Маруся прошла к рукомойнику, пошепталась у печки с Надеждой. Стояла она, слегка подбоченясь, блестя черными глазами и светлозубой улыбкой; русые косы отягощали круглую головку, и оттого несколько приподнятое лицо ее казалось гордым. Сатиновое платье в мелкую клеточку было ей узковато и коротко.
Когда женщины сели ужинать, Егор отодвинулся с книгой подальше. Теперь глаза его блуждали по страницам рассеянно.
— Ты бы поговорил с нами, Егор! — с затаенной лаской обратилась к нему Надежда, довольная тем, что Забродин сразу после ужина ушел с каким-то чужим старателем.
— Об чем мне с вами толковать? — сказал Егор с невольной досадой.
— Это ты матери так отвечаешь? — шутя укорила Надежда. — За такие слова я тебя могу и за вихры натрепать.
Егор вздохнул.
— Мамка еще не мать! А за волосы треплите, ежели охота. От женской руки могу стерпеть.
— Видали, какой! — сказала Надежда и со смехом потеребила Егора за жесткий вихор. Она обращалась с ним, как старшая подруга, будучи поверенной его неудачной любви. — Где ты научился такие слова говорить?
Развеселясь, она даже шлепнула его по крепкой шее, но вспомнила угрозы мужа и сразу притихла.
— Его, наверное, Фетистов научил, — заметила Маруся, чуть усмехаясь уголками губ, — у них дружба.
— А чего ты, Егор, со стариком связался? — спросил Рыжков. — Парень ты красивый, тебе надо за девчатами ухаживать.
Егор опустил глаза, в груди у него стеснило.
— Нужен я девчатам! Их здесь наперечет, а ухажеров много найдется. Такие мы малограмотные да ненарядные, с нами хорошей барышне и пройтись совестно.
— Зачем тебе обязательно барышню? — сказала Маруся, явно придираясь. — Ухаживай за рабочей девушкой.
— Не все одно! Раз не девчонка — значит барышня.
Маруся торопливо закончила ужин, снова оделась и ушла. Без нее сразу стало пусто в бараке.
Егор закрыл книгу, после небольшого раздумья достал бритву и побрился перед зеркальцем Надежды, потом почерпнул воды в обмерзлой кадке, стоявшей у самой двери, и стал умываться, обжигаясь колкими ледяными иголочками.
Отдавая зеркало Надежде, он задержался взглядом на ее точеной белой шее, на пышно вьющихся волосах.
— Красивая ты! — сказал он ей просто.
Надежда так и просияла, зарумянилась всем лицом, ответила певуче:
— Не на радость только.
— А ты сделай так, чтобы радостно было…
Она смотрела на него выжидающе, ресницы ее вздрагивали.
— Как сделать-то?
— Полюби кого-нибудь.
— Кого бы это?..
— Ну, мало ли хороших мужиков! Не один твой Забродин дикошарый!
Глаза Надежды посветлели, и вся она как-то побледнела, подобралась.
— Ты вот полюбил… Много радости нашел?
— У меня другое дело. Мной никто не интересуется.
— Откуда ты знаешь?
— Да уж знаю. Не смотрит она на меня совсем.
Надежда отошла от Егора, мельком взглянув в зеркальце и, вздохнув, подумала: «Полюбить!.. Куда уж теперь, когда морщины под глазами?»
Егор надел чистую рубаху, починенную Надеждой, причесал волосы.
«Куда это наряжается?» — думала она, с ласковой насмешливостью наблюдая за парнем.
А тот походил, походил из угла в угол и лег на нары.
«Идти или не идти? — в который уже раз загадывал он. — Почему я должен на отшибе жить? Или у меня голова хуже варит, чем у любого комсомольца? Пойду скажу Черепанову: дайте мне общественную нагрузку. Скучно одному! Все-таки пользу принесу и сам стану поразвитее».
Егор сел было на нарах, но посмотрел на свои ичиги и снова лег.
«Подумаешь, какой ты гордый, Егор Григорьевич! — с раздражением сказал он себе чуть погодя. — Чего стесняться? Хоть они и некрасивые (тут он еще раз внимательно посмотрел на широкие носки ичиг), зато сразу видно — рабочая обувь. Прямо с забоя. Не какие-нибудь городские востроносики, в которых лодыри шмыгают».
Придя к этому выводу, Егор поднялся, однако, пошарив под нарами, достал пыльные сапоги, но они были так изношены, что он швырнул их обратно, оделся и вышел из барака.
В синем небе искристо светились звезды, полосой белого тумана стелился Млечный Путь, низко над горами лежал молодой, налитый золотом месяц. В долине Пролетарки густо дымили затерянные в голубоватом сумраке избушки старателей. К ночи подморозило крепко.
Издалека сквозь редкий лес тускло мерцали огоньки — это был новый стан прииска Орочен. Туда бегала Маруся по два раза в день во всякую погоду: утром на работу, вечером на репетиции и собрания. Там начиналось большое строительство.
Егор прислонился плечом к столбу навеса, долго смотрел в сторону стана, потом взял топор и подошел к груде наваленного сушняка. «Надо помочь мамкам», — решил он.
Он сначала усердно, а потом ожесточенно бухал топором по лиственничным жердям, набросав огромную кучу, хотел было идти в барак, но раздумал и, положив топор в сенях, двинулся по тропе к Орочену.
4
Секретарь партийной организации Ороченской приисковой группы Черепанов, совсем еще молодой, очень подвижный человек, пришел на Алдан вместе с первыми его открывателями.
— Тогда здесь стоял сплошной хвойный лес — дикая тайга, — говорил он, легкими шагами расхаживая по комнате. — Ты помнишь, Сергей? Ты ведь тоже пришел сюда осенью двадцать третьего года? — обратился он к председателю приискома Сергею Ли.
— Нет, я пришел зимой в двадцать четвертом, — с мягким акцентом возразил тот. — Тогда здесь, на Орочене, рубили лес. Стояли немножко бараки. Стояли палатки. Нам нечего было кушать… Мы шли с Невера сорок дней. Последние дни все шатались, как пьяные…
Сергей Ли помолчал, скуластое лицо его, оживленное воспоминаниями, стало красивым: блестели раскосые в разрезе монгольские глаза, юношески полные губы, раздвинутые улыбкой, обнажали ослепительную белизну зубов. Среднего роста, крепкий, как свежий лиственничный пенек, он в каждом движении обнаруживал силу и жизнерадостность. Трудности, о которых он вспоминал, казались ему теперь совершенно необходимыми и даже приятными.
— Мы добрались тогда до Незаметного, нашли земляков, и они нас накормили… Я ел, и мне было обидно прямо до слез, что мало дают кушать. Потом я еще целый месяц хотел есть, пока мои кости не обросли мясом. А как мы работали! Воды на промывку песка не хватало. Мы возили ее в деревянных ящиках километра за два… Но после тяжелой жизни на родине мне здесь очень понравилось. Я готов был работать с утра до ночи… Однако сразу поссорился со старшинкой. Помнишь, Мирон, как мы с тобой встретились? Ты здорово помог мне тогда…
— Помню, — с улыбкой сказал Черепанов, представляя свою работу старателем на деляне и первый разговор с Ли. Помнишь, как я агитировал тебя вступить в комсомол? — в свою очередь, спросил Черепанов.
— Конечно! Ты меня за уши тащил, пока я барахтался, старался встать на ноги. И вытащил! Я часто думаю: встреча с тобой — самое большое событие в моей жизни. Но самое главное — что я попал сюда. Правда? Ты не обижаешься, Мирон?
— Нет! Если бы не я, нашелся бы другой товарищ, который помог тебе. Если ты не зазнаешься, из тебя выйдет толк.
— Я стараюсь не зазнаваться. Когда у меня становится слишком гладко на душе, я вспоминаю прошлое. Когда я переходил границу, то радовался, будто птица, выпущенная на волю. Не знал, как буду жить в России, но ушел от такой кабалы, — хуже нету.
— А если бы у тебя дома была семья? — спросил Черепанов.
Ли задумался, миловидное лицо его, с наморщенными над низким переносьем темными бровями, выразило сдержанную грусть.
— Мне жалко свою маму и папу. Бабушку тоже. Они работают у помещика… Руки у них, как земля в засуху, темные, жесткие, в трещинах. Сколько вытерпит человек, когда его каждый день погоняет голод! Они так и умрут на чужой полосе. Неграмотные, темные… Я удивляюсь: пришел сюда такой смешной чудак. И вот научился грамоте. Окончил курсы профработников. Стал председателем приискома! Сам себе не верю. Одно только хорошо, что я был дома нищий: мне не купили жену. Я все равно бы ушел… Но я не мог бы так радостно жениться на Луше.
Лицо Сергея снова расцвело в улыбке, и он с такой признательностью посмотрел на своего товарища, точно Мирон Черепанов и устроил его счастье.
Обоих взволновало письмо райкома о развертывании массовой работы на новом производстве. Поэтому и вспомнили они о прошлом, о том, с чего начинали в районе сами.
— Пойдем туда, на устье, посмотрим! — предложил Черепанов.
— Пойдем! — весело согласился Ли. — Сейчас я скажу Луше, что ужинать будем позже. Пусть пока позанимается.
Сергей вышел в другую комнату. Весь барак состоял из двух комнат и кухоньки с железной печью, где хозяйничала сейчас Луша, маленькая, очень смуглая женщина, похожая на цыганку. Мирон, мальчик лет трех — живой портрет Ли, раскладывал кубики на топчане, покрытом лоскутным одеялом, который занимала конторская уборщица Татьяна. Все обитатели барака жили коммуной, вкладывая по шестьдесят рублей в месяц на человека в общую кассу. Готовили по очереди Луша и Татьяна, им часто помогал Ли, особенно когда стряпали пельмени или делали лапшу. Черепанов участвовал в заготовке дров и покупке продуктов, хаживал за водой, когда приисковый водовоз не успевал с доставкой. Жили дружно, весело. Обе женщины учились в вечерней школе для взрослых.
— Уходите? — сразу догадалась Луша, отставляя посуду, которую она вытирала суровым полотенцем. — А мы с Татьяной пирог затеяли.
Она подошла к мужу мягкой походкой беременной; белый передник не скрывал округлости ее живота, особенно оттеняя приятную смуглоту лица, окруженного венком черных кос.
— Значит, шахты будут? — спросила она, подавая Ли шапку-ушанку. — Как хорошо, правда? Большое строительство начнется?
— Очень большое!
Он потрепал жену по плечу, погладил сынишку и поспешил вслед за Черепановым.
Приятели шли по дороге-улице, гладко укатанной вдоль подножья горы, отделявшей Орочен от Пролетарки. То справа, то слева попадались бараки, разделенные снежными пустырями. Ни палисадничка, ни сарайчика; вдоль долины сплошные бугры да ямы — приисковый вид, вызывающий тоскливое чувство у непривычного горожанина, но дорогой сердцу закоренелого таежника.
— А что будет здесь года через два! — мечтательно сказал Черепанов. — Посмотри-ка, Ли!
Несколько минут оба наблюдали, как возились старатели на участке деляны, расположенной у дороги. Один стоял у черного колодца шурфа — накручивая желтую от глины веревку на вал воротка, поднимал бадью с породой, другие работали у промывальных ям, прикрытых шалашом из корья, где топилась железная печка.
— Так и восемь лет назад! — сказал Сергей Ли.
— Так и пятьдесят лет назад! — отозвался Черепанов, глядя на убогое оборудование делянки. — Какого ты мнения насчет наших артелей «Труд» и имени Свердлова?
— Очень крупные, показательные…
— Да, людей больше, но работают так же, — сказал Черепанов, отходя от старательской делянки. — Показывать и там нечего: горбатая ручная работа, ведь на одной лопате далеко не уедешь. Правда, свердловцы уже ведут промывку и золото у них на деляне богатое, поэтому народ там глядит весело, а в «Труде» тяжело живется. Можно приветствовать такие крупные артели только потому, что они приучают старателей к плановой отработке, к организованности.
Ли задумался.
— Это верно, — согласился он. — Я не учел: народу больше, а методы работы те же. И там очень плохо женщинам. Только Маруся Рыжкова не унывает: она на производстве. Я заметил: где плохо женщинам, там советский закон еще не вошел в силу. Мы с Лушей подружились, сидя за букварем: «Бабы не рабы». Я помогаю ей во всем, чтобы ей было легче, радостней. Надо, чтобы каждый, у кого есть жена, не обижал ее.
— А кто обижает?
— Васька Забродин. Я просил его жену пожаловаться тебе, или мне, или в поссовет. Не соглашается. «Нас, говорит, бог рассудит». А что может рассудить бог?
5
Долина Орочена сходила к Ортосале широкими, очень отлогими склонами, среди которых почти незаметно было русло ключа.
— Площадка для строительства замечательная! — весело сказал Черепанов, осматривая местность, которую он знал как свои пять пальцев, но которая представлялась ему теперь совсем в другом свете. — Гляди, Сергей, вон там, по нагорью, намечена руслоотводная канава. На днях придут сюда экскаваторы… Мать честная! Экскаваторы! Ты-то хорошо понимаешь, что это значит! Народ уже раскладывает пожоги… Айда к ним, посмотрим…
Черепанов с волнением вспомнил, как совсем юнцом проходил по этой местности осенью двадцать третьего года. Сын учителя, он окончил семь классов гимназии в Благовещенске-на-Амуре, с детства изучил китайский язык, работал переводчиком в таможне, но мечтал о больших делах, о путешествиях, хотел поступить в китобои. Когда его родственник засобирался в Томмот, как тогда называли Алданский приисковый район, Мирон отправился с ним. Месяца полтора шли они, сгибаясь под грузом котомок, с полузнакомой ватагой по бездорожью безлюдной тайги. Переходили вброд через ледяную воду быстро текущих рек, плутали в горах, увязали в талых еще болотах, обильные северные снегопады заносили их путь.
И вот Незаметный. Лихорадка разыгравшихся страстей… Прииск, похожий на боевой лагерь… Свежие ямы по долине ключа, как раны. И золото. Золото. Золото. Артели фунтили почти сплошь. Здесь было поистине золотое дно. Люди заработали за летний сезон не меньше пяти фунтов на душу, а которым особенно пофартило, намыли до двадцати. Замшевые мешочки — тулуны, — набитые чистым самородным металлом, оттягивали карманы старательских шаровар. Открывались прииски рядом, по соседним ключам: Верхне-Незаметный, Золотой, Орочен, Пролетарка, Джеконда, Куронах, Турук… Было от чего закружиться голове!.. В сырых, наспех поставленных бараках, крытых корьем, с ситцевыми вместо стекла окнами и земляными полами, копились груды золота. Старательские мамки, заменявшие кассиров, хранили под своими матрацами пуды артельной казны.
Сказочное богатство это поразило Мирона, но не увлекло. Он подружился с бывшим партизаном-большевиком, с маленькой горсткой людей, которые с огромным трудом старались овладеть человеческой стихией. Только четыре месяца пробыл Черепанов на старании и перешел на профсоюзную работу. Жизнь на прииске обернулась ему другой стороной; он увидел хищников, привлеченных возможностью легкой наживы: спиртоносов, картежников-шулеров, контрабандистов — скупщиков металла, уголовников, идущих по стопам старателей. Он увидел и тех, кого обманула золотая лихорадка, случайно попавших на прииски, никогда не державших в руках ни кайла, ни лопаты; узнал и полюбил настоящих приискателей с душой нараспашку в дни фарта, двужильных, угрюмых, свирепо работающих в полосе неудач.
Черепанов пожалел тогда о расхищении природных и человеческих богатств, которое совершалось на его глазах.
«Ведь эти богатства принадлежат Советскому государству, которому всего-то шесть лет от роду. Оно еще не окрепло по-настоящему, и вот его грабят. Грабят не копачи, а разные подонки, которые крутятся около них. Тащат по кубышкам, за границу тащат…» К Черепанов всей душой отдался работе в молодом советском аппарате, только что созданном в районе. Он и Сергея потянул за собой. Ведь среди старателей было много китайских и корейских рабочих, обираемых пауками-старшинками, которые верховодили в артелях. В трудолюбивом Ли тоже билась жилка общественника.
«Какие перемены произошли здесь за эти годы!» — подумал Черепанов, посмотрев на старый стан Орочена, приткнувшийся к подножью водораздела с Пролетаркой. Район стал обжитым местом в тайге, но богатое золото взято хищнически. Хорошо, что на приисках работает сейчас несколько драг, — заберут все, что осталось на испорченных площадях… Но еще лучше то, что старатели не успели добраться до богатейших россыпей по самой Ортосале и по реке Куронаху, где тоже создается новое приисковое управление с мощными механизированными шахтами.
— Сергей! — сказал Черепанов, видя, как задумался его приятель, тоже беспокоившийся о завтрашнем дне прииска. — Нам с тобой предстоит теперь очень большая работа. Приедут вербованные с Невера… Ведь это не кадровые горняки, а самая разнородная сырая масса… Хозяйственники строят бараки, бани, столовые. И нам надо позаботиться о встрече, значит, о тех же столовых в первую очередь… С постройкой нового клуба надо поторапливаться.
6
— Нет, что же это получается? — рассуждал в клубе старый столяр Фетисов. — Выходит, пьющий человек — пропащий? А? Я вот тоже пью… Да разве я… Ах ты боже мой! Сорок лет рабочего стажу и столяр первой руки. Бывало, в Москве, в Малом театре, как начнем сцену передвигать… Полное земли и неба вращение!
Старик делал рамы для декораций. Стружки взвихривались из-под его торопливого рубанка, прилипали к рубахе, шурша, путались под ногами.
Он топтал их, отбрасывал в сторону и говорил, говорил, не выпуская рубанка из проворных рук.
— Разве это порядок? А ты, Мишка, не расстраивайся. Дай срок, они тебя обратно примут.
— Я не расстраиваюсь, — отозвался сипловатым тенорком молодой старатель Мишка Никитин, который сидел у железной печки и сосредоточенно, но бездумно следил за тем, как огненные язычки плясали в прорези постукивающей дверки. — Можно жить и беспартийному. Только знаешь, Фетистов, жалко мне от ребят уходить. Привык уж я. Теперь совсем сопьюсь.
— Этак, милок, не годится. Ты бери меня для примеру: выпить люблю, а не спиваюсь. Мысли даже нет, что вот, мол, негодный я человек. А ты молодой, но цены себе не знаешь. Характер у тебя, Мишка, неопределенный, вот беда!
Исключение из комсомола Никитина, за которым, кроме выпивки, никаких грехов не водилось, Фетистов принял очень близко к сердцу, видя в этом прямой укор и своей собственной слабости к винишку.
Некоторое время он работал молча, и Мишке даже завидно стало смотреть на его ладную работу. Дело у старика спорилось: он размеривал, опиливал, постукивал молотком с таким увлечением, словно не было на свете ничего важнее вот этих брусков и дощечек. Крохотное морщинистое лицо столяра выражало полное довольство собой.
— Ты, Фетистов, сам чудной человек, — заговорил наконец Мишка. — Живешь бобылем, одет плохо, а похваляешься. Про другого сказал бы — хвастун, а ты, видно, и взаправду всем доволен.
Фетистов удивленно приподнял реденькие брови.
— Похвальба моя не зряшная! Первое дело — я столяр, и столяр хоро-оший. Значит, настоящий рабочий человек. Значит, человек стоящий. И вот эта стоимость завсегда меня держит на ногах твердо. — Старик заметил усмешку на лице Никитина и, сам усмехнувшись, добавил: — Когда трезвое состояние имею, понятно! А ты и трезвый шатаешься хуже пьяного. Какое есть твое положение? Ты себя никуда еще не определил. — Он обернулся на скрип дверей, увидел входящего Егора и крикнул, просияв морщинистым лицом: — Егор, здравствуй! Проходи, садись на лавку.
Егор угрюмо посмотрел на составленные у стены скамьи, на пол, покрытый стружкой и сухими еловыми иглами.
— Работаете? — спросил он, с явным беспокойством прислушиваясь к тому, что происходило за закрытым занавесом на сцене.
Там было шумно. Громче всех голосов звучали нетерпеливый тенорок и поучающий густой бас, иногда прерывавшийся глухим утробным кашлем. Потом спор прекратился и начали дружно передвигать что-то тяжелое — не то пианино, не то шкаф. Синий сатиновый занавес, который просвечивал желтизной там, где горели лампы, колыхнулся от суетни. Неожиданно в наступившей тишине прозвучал звонкий голос Маруси. Егор вздрогнул.
— Нору играет, — одобрительно сказал Мишке Фетистов.
И уже все трое прислушались. Она говорила слова, полные горькой и гневной укоризны, потом сбилась и неожиданно рассмеялась. Кто-то зашикал, захлопал в ладоши:
— Отставить!
Отпахнув край занавеса, прямо со сцены спрыгнул в зал черноволосый человек. Проходя к столярному верстаку, осмотрел по пути Егора пытливыми глазами.
— Здорово, Фетистов!
— Здравствуй, Мирон Устиныч! Я уж думал, не придешь нынче. Два раза к завхозу бегал насчет тесу-то. Ничего, добреньких плашек дали.
Черепанов посмотрел на плашки, на веселый беспорядок вокруг столяра, по-видимому, остался доволен, и сам начал хлопотать, выдвигая из угла рамы, обтянутые холстом.
— Ну, Фетистов, начнем теперь разворачиваться, только держись! На одну руслоотводную канаву триста человек поставили.
— Старателей поставили на канаву-то? — озабоченно и ревниво спросил Фетистов.
— Пока на подготовке обойдемся старателями, а для шахтовых работ примем вербованных с Невера.
— Или своих не хватит?
— Не хватит, Фетистов. Старатели в приискоме у Ли порог обили, целый день идут, а разговор все об одном — отдали бы участок под старание. — Черепанов помолчал, посмотрел на Егора. — Пошел бы ты на хозяйские?
— А чего я там не видал?
Черепанов подошел поближе.
Простой, видать, — решил Егор, разглядывая его открытое смуглое лицо с крупным носом и резко очерченными бровями. — Но и характерный, с ним, пожалуй, не поспоришь!
Егор видел Черепанова и раньше, но в разговор вступать не приходилось.
— Большое производство будет, механизированное. Вся жизнь на прииске по-другому повернется.
— Посмотрим, — угрюмо ответил Егор.
— Экий ты… — Черепанов отступил, удивляясь. — Молодой, а диковатый.
— Какой есть, весь тут.
Черепанов рассмеялся, и так весело заблестели его черные глаза и неровные белые зубы, что Егор тоже, сам не зная чему, застенчиво улыбнулся. Черепанов достал из ящика в углу банки с краской, принес кисти, воду в котелке. Егор наблюдал за ним с недоверчивым любопытством.
А Мишка начал возиться у печки, с таким рассеянно независимым видом подбрасывая в нее мелкую щепу, точно он и вовсе не заметил появления Черепанова.
«Какой интерес секретарю партийного комитета заниматься малеваньем декораций? Не парнишка-комсомолец… Человек в годах, серьезный», — думал Егор. А тот, переговариваясь с Фетистовым, мазал да мазал по натянутому холсту то черным, то коричневым. И получалась-то всего-навсего стена избы да окошко; но, глядя на Черепанова, Егор невольно позавидовал ему, как завидовал только что Мишка, глядя на ладную, спорую работу Фетистова.
— Почему не участвуешь в общественной жизни? — спросил Черепанов, дружелюбно обращаясь к Егору.
— Некогда… Сами знаете, какая подготовка у нас тяжелая: круглые сутки пластаемся.
— Это верно. — Черепанов вспомнил разговор с Сергеем Ли и подумал: «Да, без механизации мало что меняется и в крупной артели!» Потом сказал: — Время все-таки можно выбрать. Я, когда на старании работал, от общественности не отставал, а позже меня в совпартшколу отправили. Это с Перебуторного прииска, слыхал о таком?
— Конечно. — Егор опять улыбнулся и сразу притих: рядом с ним неожиданно появилась Маруся.
— Уж ты выдумаешь! — говорила она кому-то и, сердито сверкая глазами, подошла к Черепанову. — Устиныч, нам тебя нужно. Рассуди нас, пожалуйста! Мы там поспорили… До того дело дошло, скоро раздеремся.
— Спорить ты мастерица! Остынь немножко. — Черепанов потрепал ее по плечу и так ласково посмотрел на нее, что у Егора сердце перевернулось.
«Ишь ты какой прыткий! — неприязненно подумал он. Возникшее было расположение к Черепанову исчезло. — Видный парень да еще образованный, куда мне против него!»
7
Лыжи эвенка, подбитые шкурой с оленьих ног, с трудом прокладывали путь по рыхлому снегу. Эвенк вел в поводу пару оленей, за которыми тяжело волоклась почти пустая нарта. Привязанная к ней вторая упряжка с грузом устало тянулась следом. На третьей в связке нарте сидел китаец в рысьей шапке и туго опоясанном полушубке. Сверху внапашку была надета собачья доха. Из-под мехового козырька, запорошенного снегом, поблескивали такие же узкие, как у проводника, глаза; губы, выпяченные над оскалом желтых зубов, и плоский нос с вывернутыми ноздрями придавали лицу выражение хитрой жестокости.
— Гаврюшка! — негромко крикнул китаец, приподнимаясь на нарте и надевая доху в рукав. — Тебе хорошо посмотри. Надо вершинка ходи, низа попадай — плохо буди.
Эвенк полуобернулся, на ходу выслушал или сделал вид, что выслушал (он сам был человеком опытным), кивнул головой и уверенно двинулся дальше, зорко вглядываясь в кипевшую мглу. Поднялись на крутой перевал. На обнаженном ветрами склоне кусты высохшего стланика перегородили путь. Эвенк свернул левее, ближе к дороге, которая шла в распадке. Можжевельник и ерник поднимались из-под разбитого оленями снега, цеплялись за нарты. Как башни, вставали среди подлеска темные ели. Ветер кружился над ними, и они раскачивались в белесом сумраке с мощным гулом.
Внизу было тише. Контрабандисты долго путались среди высоких деревьев, потом поехали берегом речки. Лес постепенно мельчал, и метель как будто слабела, даже мутное пятно месяца зажелтело на мглистом небе.
Низкое длинное зимовье в два сруба стояло на берегу речушки. Черная банька прилепилась рядом. Гаврюшка завел оленей в густой ельничек и привязал передовых. Китаец сидел неподвижно, засунув руки по локоть в рукава дохи, спрятав лицо в поднятый, обросший инеем воротник.
Над плоской крышей курился дым, но в зимовье было темно, только в подслеповатом окошке прируба брезжил огонек. Эвенк обошел вокруг. Санная дорога, проходившая мимо с Незаметного на Невер, переметенная метелью, исчезла под волнистыми сугробами. Десятка два груженых саней с поднятыми оглоблями виднелись на поляне у зимовья с подветренной стороны; там же, возле заслона из еловых ветвей, стояли выбеленные снегом лошади. Между баней и стеной жилья лежал верблюд. Он медленно повернул выгнутую шею на шорох шагов, клочковатая шерсть его совсем заиндевела.
Гаврюшка все примечал, готовый каждую минуту прижаться к завалине, укрыться за сугробом, исчезнуть за стволами ближних деревьев. Но было тихо, ничто не внушало опасений.
Ветер шевелил лохмотья дверной обивки; на стене под навесом крыши похрустывали связки веников. Заглянув в освещенное окошко, эвенк постучал, потом отошел и посмотрел назад, в метельную ночь. Неприютно шелестели вихри по сыпучим сугробам, но Гаврюшка был привычный таежный человек — он мог ночевать в тайге в любую погоду.
Дверь открыл пожилой длиннорукий мужик, всмотрелся и пропустил в тепло.
— Народ-то есть?
— Спят.
Эвенк шагнул смелее, все еще настороженный, как зверь, входящий в клетку.
Из темной половины слышалось густое храпение возчиков, пережидавших в зимовье непогоду.
— Обоз с товарами Якутторга, — пояснил зимовщик, почесывая шею под редкой рыжеватой бороденкой, потом прибавил огня в лампешке. — Один, что ли?
— Двое, Санька ждет. Погреться надо бы, однако.
Зимовщик прикрыл дверь в другую половину. Сказал негромко:
— Иди зови. Гепеушники вчера проезжали. Сегодня по такой дороге черти не понесут. — Не надевая шапки и полушубка, он вышел следом за эвенком, набил снегом чайный котел. От ветра рубаха на его спине вздулась горбом, и суеверный Гаврюшка невольно забоялся, глянув на нескладную, черную на снегу фигуру зимовщика.
Присев на пол у порога, Санька снял унты, потом закурил крохотную трубочку на длинном чубуке, сказал хозяину:
— Тебе, Быков, мало-мало бери. Четыре банчок можно оставить.
Зимовщик, возившийся у пылавшей печки, угрюмо посмотрел на Саньку зеленоватыми косыми глазами.
— Я бы и шесть взял, да у меня сейчас денег нету.
— Хо, — хитро ухмыльнулся Санька. «Деньга нету, значит золото покупай». Но вслух этого не высказал: каждый устраивает свои дела для себя и не обязан рассказывать о них другим. — Люди знакомый. Моя скоро обратно ходи, тогда могу получай.
— Почем?
— Тридцати рубли бутылка.
— Тю, леший! Спятил! В «Союззолото» знаешь почем?
— Это наша не касайся, меньше не могу. — Китаец захватил мешок с продуктами, полез за стол. Над левой бровью его, наискось по смугло-желтому лбу, блеснул сизый рубец. — Магазина шибко дешево, моя дороже, тебе совсем шкурка долой! Деньги можно ожидай — знакомый люди. Наша посчитай — всегда как раза Степаноза.
Санька в молодости работал у одного мелкого хозяйчика Степановского. Тогда он был еще новичком на приисках и вместе с другими восточными рабочими страдал от хитрости золотопромышленника, который при расчетах обычно заявлял: «Ваша бери моя товара столько (называлась сумма), золото сдавала столько, положение плати столько… Золото дорого покупать не могу. Теперь ваша посмотри». Костяшки счетов быстро бегали под ловкими пальцами хозяина, пока на левой стороне почти ничего не оставалось. «Ваша платить не надо, моя платить не надо — как раза вышло».
Тогда старшинка артели доставал из-за пазухи свои завернутые в тряпицу крошечные счеты и долго гонял их колесики, но результат получался тот же — «как раза».
Китайцы прозвали Степановского «как раза Степаноза», и, видно, крепко запомнилось Саньке его мошенничество, если он до сих пор уже беззлобно, но часто вспоминал это прозвище.
Быков положил перед ним кусок холодной вареной солонины, хлеб, поставил кружки. Санька вынул из своего мешка бутылку спирта, соленую кету, сахар и остаток свиного окорока.
Гаврюшка торопливо отхлебывал из блюдца горячий кирпичный чай, напревший в ведре до черноты, обжигался и блаженно жмурился. Зимовщик сидел на краю нар на плоской подстилке с засаленной подушкой в изголовье и, зевая, разглядывал скуластые лица ночных гостей. Нужно было еще договориться о спирте.
— Так ты оставь мне шесть банчков, только по двадцать пять, — попросил он и заискивающе улыбнулся Саньке. — Знакомый люди.
— Тридцати. Меньше не могу. Меньше убытка!
Ладно уж, возьму. — Быков пересел к столу, выпил стопку разведенного спирта, морщась, понюхал хлебную корку. — Скоро прикрываю лавочку: все зимовья собираются отдавать Промсоюзу. Зимовщицкую артель организовывают… Я от этих артелей из своей деревни сбежал. А теперь и в тайге то же самое, того и гляди, фукнут из насиженного гнезда.
Санька не слушал зимовщика, размышляя о чем-то, морщил над бровями желтую кожу.
— Тебе, Быков, посылай знакомый люди на Пролетарка. Надо сказати Васька Забродина, пускай его встречает моя верху Орочена! Место его знает.
Быков прищурился.
— Зачем сюда лишнего человека путать? Грейтесь покуда, а я лошадку у возчиков возьму… Мигом сгоняю.
8
В одном из бараков в вершине Пролетарки шумели пьяные голоса. В густом махорочном дыму тускло горела семилинейная лампа, подвешенная к потолку на проволоке. За столом сидели старатели, тащили из мисок куски вареного мяса, чокались кружками с разведенным спиртом.
— Наш брат по маленькой пить не любит.
— Душа меру знает.
На появление Саньки и Забродина никто не обратил внимания, кроме Катерины, еще молодой бабы, с бойкими глазами, нагло блестевшими на румяном, толстощеком лице. Санька пошептался с нею у печки, подмигнул Забродину, что-то принесли с улицы, сунули в темный угол за занавеску и все трое как ни в чем не бывало втерлись в веселую компанию.
— Санька? — удивленно вскричал, увидев китайца, муж Катерины, кривой чернобородый Григорий. — Тебе как сюда попал, как раза Степаноза?
Китаец, оскалив желтые лошадиные зубы, улыбчиво оглядел старателей, подсел ближе к Григорию.
— Гости ходи. Водочка таскай мало-мало. Ваша тут весело живи.
— Тебя только недоставало!
— Санька, ты бы мне подыскал бабушку лет двадцати, — обратился к китайцу крепко подвыпивший Мишка Никитин. Глаза его пьяно блуждали, светлые волосы неровными прядями спадали на высокий лоб. — Подыщи, Санька, а то скучно одному жить.
Толстые губы Саньки растянулись в широкой улыбке.
— Это я знаю. Бога его шибко хитрый был: Адамушка и Еушка компания садика посади, когда земля делай. Бабушка тебе моя могу находити. Водка шибко пьет, а работать не хочу. Адреса: Незаметный, барак верху базара. Манька-маньчжурка. Его русский, только наша китайский люди много полюби. Денежка побольше припасай. Ваша партийный люди… Ничего не стесняйся, пожалуйста, наша тоже давно в партия приглашай, — приврал он неизвестно для чего. — Моя не хочу. Вольный люди. — С этими словами Санька налил немножко водки, аккуратно выпил и закусил рыбой. — Шибко хорошо водочка!
— При таких морозах без сотки не выдержишь, а нынче мы и вовсе не работали, — сказал Григорий. — Ветрина! Все заслоны в разрезе опрокинуло. Прямо нутро стынет.
— Работа не медведь, в лес не уйдет, — угрюмо добавил Забродин. — Нас проклятая канава вовсе замордовала. Надели на себя петлю…
— Зато, уж ежели пофартит, сразу разбогатеете, — насмешливо сказал Григорий. — В шахте что зимой, что летом — все едино, на глубинке тепло.
Забродин подергал себя за ус, покосился:
— Как бы не припекло! Сами-то полегче норовите!
— Нас из приискома тоже агитировали осенью на крупную артель, но мы промеж себя рассудили, что это дело рисковое. В мелких лучше: уплатил положение и рой. Главное, подготовки особой не требуется.
— Сережка был? — спросил Забродин.
— Он самый. Не гляди, что портфельщик, а славный парень. И Черепанов приходил. Этот говорить мастак, только мы себе на уме: послушать — с удовольствием, а насчет капитальной работы — катись подальше. У нас в артели Еланчиков тоже дока по части разговору. Хвалился, что он по-немецкому и по-французскому маракует.
Никитин, наливая из бутылки, плеснул через край, согнал водку со стола ребром ладони в пустую кружку и сказал Григорию:
— Брешет твой Еланчиков!
— Да нет, не брешет.
— Чего же он с такими языками на деляну пошел?
— Желает испытать своего фарту.
— Может, из бывших?
— Может, и из них. Вышла человеку ломаная линия в жизни, вот он и мечется.
— А Ли на собрании что сказал? — Мишка наклонился, жарко дохнул в ухо Григорию: — Выявлять, мол, таких надо.
Забродин приподнял опухшие веки, зло дернул плечом. Григорий задумался, но тут же махнул рукой:
— Не наше это дело. В тайге всем места хватит, не раздеремся, чай.
— Вот набьются сюда вербованные, тогда тесно покажется! — крикнул пышноусый, бритоголовый Точильщиков, рабочий с Бодайбинских приисков, сидевший в обнимку с гармошкой. — Проморгали счастье, прямо из-под носу уплыло.
— Дали маху, слов нет! — угрюмо отозвался Григорий. — Ходили по золоту. А оно лежало и не сказывалось. Баню на том месте поставили да зимовье, лучше-то ничего не придумали!
Мишка Никитин пьяно усмехнулся:
— Теперь все заберут подчистую. Бараков целую улицу заложили на левом увале. Шахтовые работы со всякими фокусами организуют. Людно будет.
— Я бы так ни в жизнь не пошел на хозяйские, — заявил Григорий. — Там хоть завсегда заработок, а интересу нету. Норма эта — как гиря на ноге, пусто или густо, знай свое — кубаж выгонять. У нас риск большой, зато вольно.
Мишка, наскучив разговором, облапил подошедшую Катерину, ущипнул за круглый бок.
Григорий нехотя пристращал:
— Мишка, ты с моей бабой не заигрывай!
Катерина только смешливо поморщилась:
— Жалко тебе, черту кривому?
Григорий покачал головой.
— Кривой… Ишь чем попрекает! Не от баловства какого окривел. В шахте меня убило, вот глаз-то и кончился.
— У меня бы не попрекнула. — Забродин выразительно тряхнул угловатым кулаком.
Шум у стола все усиливался. Катерина то и дело исчезала в своем углу и появлялась с новыми бутылками.
— Ничего, Мишка! — сказал Григорий, обнимая Никитина. — Исключили, говоришь? Плюнь и не обращай внимания. Комсомолы и клубы эти самые нам совсем ни к чему. Старателю без них еще легче.
— Эх-эх ты-ы, чубук от старой трубки, — неожиданно послышался слабенький тенорок Фетистова. — Клуб ты оставь. Это тебе не нужно. А я, ах ты, господи… Я душу отдам. Бывало, в Москве… в Малом театре, как начнем декорации передвигать… Полное земли и неба вращение. Здорово, копачи!
— Здорово, деревянный бог! И ты приплелся? — дружно откликнулись старатели.
— Вот старик, выпивку за десять верст чует! — крикнул Мишка Никитин.
— Да ты никак уже клюкнул?
Фетистов действительно был уже веселенький. Заношенный до лоска полушубок еле держался на его тощих плечах. Маленький, серый, сморщенный плотник стоял, пошатываясь, грозил пальцем Григорию и бормотал:
— Клуб — это же культур-ра.
За столом засмеялись.
— У нас своя культура… старательская! — нехорошо осклабясь, сказал Забродин.
— Мишка! Никитин, выходи! — зашумели в несколько голосов старатели.
— Просим Никитина! Про-осим!
Точильщиков перекинул ремень на плечо, пробежал по ладам привычными пальцами.
Никитин хлопнул в ладоши и пошел отстукивать каблуками тяжелых коротеньких сапог. Крупная фигура его двигалась легко и плавно, вызывая у зрителей одобрительные улыбки. Он округло разводил и помахивал согнутыми в локтях руками, негромко выговаривал:
Не хотел я выходить, Выходку показывать… Вот и я, вот и я, Вот и выходка моя!Фетистов глядел на Никитина и, тщетно пытаясь восстановить в памяти что-то связанное с этим пляшущим парнем, бормотал:
То-то я и говорю… беспорядок!
Тут же на краю нар резались в карты. Выйдя из-за стола, Санька подошел к картежникам, тоненьким голосом замурлыкал песню:
Нынче ходя сытал моде, Сытал деушка полюби.9
До Незаметного около пятнадцати километров, но завтра воскресенье, нерабочий день. Можно походить по лавкам, побывать в кино, посмотреть какую-нибудь заезжую труппу. Бывают такие счастливые случаи! Маруся еще ни разу в жизни не видела живого клоуна.
Пока она не работала, в семье на нее смотрели как на девчонку и никуда не отпускали. Теперь она стремилась наверстать упущенное и упрямо отстаивала свое право на самостоятельность.
— Что ж, коли охота маяться, иди. Известно: дурная голова не дает ногам покою. Только ночуй непременно у Степановны, — наказывала мать, тревожно поглядывая то на дочь, то на Егора, который собирался идти вместе с Марусей.
Она надеялась на благоразумие дочки, но вздохнула свободнее, узнав, что с нею пойдет еще Фетистов.
«Все-таки со стариком спокойнее отпустить, а то долго ли до греха! Уж больно страдает Егорка возле девки. Известно, дело молодое, не дай бог, начнут баловаться! Разве уследишь за ними — живем в лесу да в бараках, не на отдельном подворье».
Акимовна вспомнила свою молодость и совсем отмякла душой, повеселела:
«За высокими жила стенами, под крепким надзором, а пришло время — не побоялась даже материнского проклятия. И Маруся вострая девка! Небось такая в подоле не принесет. Бойкие себя больше берегут, чем тихони, те податливей».
А Маруся, уже совсем одетая, в нескладном зимнем пальтишке, укутанная полушалком, нетерпеливо крутилась по бараку: то выглядывала в окошко, то выбегала на улицу.
— Где это запропастился старик? Прямо как маленький, будто не понимает, что опоздаем. — Отчаявшись в ожидании, она присела на нары и сказала с досадой: — Может, он вовсе не пойдет, а тут жди его!
— Если будут, купи мне, Марусенька, гребенку да шпилек. Только роговых, а то от железных волоса больно секутся, — попросила Надежда; дала молоденькой подружке три рубля, кивнула в сторону Егора. — Кавалер-то у тебя славный, только безденежный.
— Вот еще! — вскричала девушка и покраснела до слез. — Какой он мне кавалер! Просто знакомый, Егор Нестеров.
У Надежды в уголках губ шевельнулась сдержанная улыбка.
— Ну, неладно сказала, зачем сердиться? Пускай будет не кавалер, а знакомый… Егорка.
— Я вовсе не нуждаюсь в его деньгах, да и в нем тоже! Идем вместе… Так нельзя ведь без попутчиков, а для компании Фетистов даже интереснее — с ним обо всем поговорить можно.
Егор не слыхал жестоких Марусиных слов; в своем углу доставал из деревянного сундучка сбереженные пятнадцать рублей. Маловато! Билеты в кино купить, пообедать надо будет… С сожалением посмотрел он на новую шапку: зря потратился, но неудобно идти с такой хорошей девушкой в рваной шапке.
Фетистов, истощив окончательно Марусино терпение, пришел немного навеселе — успел перехватить стопочку, но сразу оправдался, сообщив, что на Незаметном выступают артисты.
— Гастролью они приехали через Якутск, — объяснил он уже дорогой. — Специально ходил к разведчикам расспросить. Будет драматическое представление и эксцентрики.
— А что это такое?
— Эксцентрики-то? — переспросил Фетистов, явно важничая, гордясь своей осведомленностью. — Тут тебе вся сложность циркаческого искусства: летающие обручи, шары на палочках, хождение по канату и многое подобное.
У Маруси от любопытства глаза разгорелись жаркими угольками.
— Вот бы посмотреть! А по канату — это высоко? На нашей сцене, поди, и не выйдет. А что еще бывает в настоящем цирке?
Егор молча шел позади. Когда Маруся поворачивалась к идущему рядом старику, он видел ее профиль с приподнятым носиком и пухлыми яркими губами. На чистый лоб из-под платка выбивалась прядь светлых волос, и девушка то и дело прятала ее обратно, не снимая рукавички. И это нетерпеливое движение, и смешная маленькая рукавичка были особенно милы Егору. Ему хотелось тоже пойти рядом с Марусей, но он робел, когда она начинала задирать нос или спрашивать о таких вещах, в которых он сам не разбирался, поэтому он шел позади, счастливый тем, что может смотреть на нее и слушать, как она болтает со стариком. Так будет целый вечер, а завтра они опять вместе пойдут домой.
На Незаметный пришли уже в сумерки. Знаменитый прииск, расположенный, как и все остальные прииски, по берегам золотоносного ключа, тянулся тремя большими улицами у подножья огромной сопки. Группы построенных наспех бараков беспорядочно лепились к этим центральным улицам и вверху долины с обеих сторон, и на устье ключа, впадавшего в Ортосалу, которая здесь была гораздо шире, чем на Орочене. Местность была значительно ниже Ороченского нагорья, поэтому на Незаметном оказалось теплее: ледок первых крохотных лужиц похрустывал под ногами.
Маруся только на минутку забежала к подруге матери — Степановне — оставить узелок, и вся компания торопливо направилась к клубу, где выступали эксцентрики.
В жарко натопленном, душном помещении зрители сидели в пальто и полушубках; кто не жалел одежды, подкладывая ее под себя. Маруся сняла платок и села на лавку между Егором и Фетистовым. Она была так довольна предстоящим развлечением, что все засматривались на ее сияющее личико. Оба — и старик и молодой — невольно приосанились, гордясь своей хорошенькой соседкой и радостью, которую они ей доставили.
Но вот занавес шевельнулся, распахиваясь, поплыл в стороны, и шум в зале стих. Маруся с полуоткрытым ртом уставилась на сцену: ей так хотелось увидеть игру настоящих артистов! На сцене находилась высокая стройная женщина, перед ней мелким бесом семенил франт с ярко-белой грудью в черном фраке. На женщине было розовое платье с множеством воланов от затянутой «в рюмочку» талии до самого пола: ни воротника, ни рукавов — все держалось на узких блестящих лямочках.
«Вот бы мне в этаком платье выйти!» — застенчиво и восхищенно подумала Маруся, глядя на обнаженные в браслетах руки артистки.
Но героиня говорила таким крикливым голосом и так ворочала глазами, что Марусе стало неловко. Она взглянула на Фетистова. Выражение сердитого недовольства на его лице подтвердило ее догадку: артисты оказались ненастоящие.
Егор не видел, что там творилось на сцене, с тревогой наблюдая за Марусей. Только что она сидела радостная, и вдруг ее словно подменили: присмирела, стала грустная.
«На меня опять рассердилась, — подумал Егор. — Или пьеска не нравится? Какой я незадачливый!»
Пьеска наконец закончилась.
Маруся вяло похлопала, повернулась к Егору:
— Понравилась артистка?
— Эта голая-то? Н-ничего…
Снова погас свет и плавно раскрылся занавес.
— Скажи пожалуйста! — раздумчиво прошептал Фетистов и, запрокинув голову, посмотрел вверх. — Словно по маслу идет. Отчего ж это у нас иногда заедает? — И поморщился от грубых шуток двух балбесов-клоунов в пестро-полосатых костюмах.
— Выбросили денежки зря! — сокрушался старик, выходя из клуба. — Халтурщики проклятые, они думают, что здесь тайга, так и люди без понятия!
— А наши спектакли еще хуже бывают, — напомнила Маруся с каким-то раздражением.
— Сравнила! Мы ведь любители, от чистого сердца стараемся. А эти в артисты лезут! Артист — звание высокое. Я с самим Федором Иванычем Шаляпиным встречался. «Как, спрашивает, здорово я пел сегодня?» — «Очень даже, говорю, здорово!» Вы, мол, завсегда при голосе находитесь. Только и разговору было, а память для меня — на всю жизнь! Можно сказать, великая персона, и такое внимание.
— Давай еще в кино сходим? — не слушая Фетистова, предложил Егор, которому хотелось развлечь девушку.
То, что он купил билеты на плохой спектакль, расстроило его, потому что он презирал недобросовестную работу, и был бы рад загладить неприятное впечатление.
Теперь уже Егор шел с девушкой, а Фетистов, деликатно покашливая, брел сзади.
— Вы погуляйте или в кино зайдите, — посоветовал он, — а я — к дружку. Завтра часа в два пойдем обратно. Ты, Егор, где ночевать-то будешь?
— Пойду на зимовье. Знакомые тут есть, а где живут, не знаю.
— Ночуй у Степановны, у нее большой барак, — запросто предложила Маруся.
Егор и признательно и смущенно взглянул на девушку: одно дело провожать ее на другой прииск, а заночевать вместе — пойдут сплетни, пересуды… Фетистов, однако, не дал ему времени для размышлений.
— Не пойдет такой номер, — заявил он Марусе. — Что мне тогда твоя мамаша скажет? Я ведь теперь ответственный за всю компанию. На зимовье тебе, Егор, тоже нечего делать. Приходи к моему дружку: видал, где я даве показывал? Ну, где еще лесина стоит возле окошка. Мы спать долго не ляжем — выпить надо будет. Ох, елки с палкой, давно я его не встречал!
— Чудной старик, а до чего славный! — сказала Маруся, глядя ему вслед.
Егор не ответил, неумело взял девушку под руку.
В клубе шел последний сеанс. Постояв в опустелом фойе перед ярко намалеванной афишей, Маруся со вздохом досады направилась к выходу, где еще толпились ребята и девчонки. Но Егору не хотелось так быстро отпускать девушку.
— Давай погуляем. Ночь-то какая хорошая!
Маруся посмотрела вокруг: ночь действительно была хороша. Светила луна, и неровные улицы прииска лежали в изломах черных теней. Укатанная дорога на взгорье стеклянно отсвечивала, блестел и подтаявший наст на увалах. На улицах звонко скрипели певучие полозья саней, то и дело прорывались песни, играли гармошки.
— Я есть хочу, товарищ Нестеров, — созналась Маруся. Голос ее звучал устало. — Шли, шли, и оказалось зря.
— Пойдем в ресторан.
— Зачем деньги тратить? У меня с собой есть к чаю… Я тебе еще за билет отдать должна.
— Нет, это не полагается, — запротестовал он обиженно.
Маруся засмеялась:
— Я ведь не знаю, как полагается по части вежливостей, всяких там приличностей. Живу пока будто временно, а потом должно быть что-нибудь очень хорошее. Мне секретарь комсомольской ячейки велел больше читать, чтобы развиваться, чтобы понимать людей. Книг ведь написано такая уйма. Ты вот, Егор, тоже… — Она помолчала, посмотрела, как он шел невеселый, глядя только себе под ноги. — Ты тоже многого не понимаешь. Ты большой индивидуалист, Егор!
Это недавно усвоенное слово она сказала так, словно подняла какую-то тяжесть и поставила перед ним, а он и не заметил, думая о том, что она не любит его и относится к нему, как к старику Фетистову, который старше ее на целых сорок лет.
Возле барака Степановны — приземистой хижины — они остановились. Полосы желтого света падали из окон на грязный, истоптанный снег. Маруся уже хотела постучаться, но Егор вдруг схватил ее за руку и, волнуясь, заглянул ей в лицо.
— Ты вот мне говоришь… а я все об одном думаю, — прошептал он, задыхаясь.
Марусе даже страшновато стало от его волнения.
— Имя у тебя некрасивое! — неожиданно для себя сказала она, оттолкнула парня и быстро, сильно постучала в окошко.
10
— Расскажи да расскажи! Нашла рассказчика! — Рыжков, сбочив голову, полюбовался на починенный сапог, еще раз исследовал все залатанные места и вполне удовлетворился своей работой. С подсученными рукавами, бородатый и огромный, он был похож немножко на сказочного разбойника. Маруся сидела рядом и ожидающе смотрела на него. — Что ты меня пытаешь, словно поп на исповеди? — спросил Рыжков и начал готовить дратву для другого сапога.
— И вовсе не исповедь. Меня в комсомол принимают, мне надо автобиографию писать. Ведь ты отец!
— Ну так что ж! Пиши — рабочий, мол.
— Рабочие разные бывают.
— Знамо дело, на одной работе век не просидишь. — Рыжков смерил полоской бумаги широкий стоптанный каблук, подметку и еще раз прикинул, как лучше использовать остаток кожи. — Об чем мне рассказывать? Об моей жизни не шибко интересно слушать. Работал, да и все.
— Вот и расскажи, как работал.
— Экая ты, право! В кого ты такая настырная уродилась? — Рыжков задумчиво почесал согнутым пальцем высокую переносицу. — Про Донбасс разве?..
— Ну хоть про Донбасс.
— До золота я, значит, на угле работал. — Рыжков помолчал, суровея лицом. — Четырнадцать лет мне исполнилось, когда я впервой спустился в шахту. Артельщик, дядя Зиновей, завербовал нас девятнадцать человек — все голытьба была, вроде меня. Собрались мы на жительство в Зиновеевом бараке. Рабочий день — двенадцать часов. Утром рано встанем — на столе корытца с едой. Бутылка молока — с собой взять. Вечером придешь — опять те же корытца со щами, с мясным борщом. Кормили сытно. Дядя Зиновей заботился обо всех наших нуждах. В воскресенье перед завтраком скажет, бывало: «Санька, Митька, Васька к девкам!» Этим водки не давали. После завтрака доставали им костюмы, даже часы с цепками и кусок мыла лицевого. Все напрокат из сундука тети Химы — Зиновеевой мадамы. Ребята наряжались и шли в поселок Васильевский. Там спрашивали: «Какой артели?» — «Зиновеевской». — «Ну дать им по бабе и по бутылке пива».
— И зачем ты, Афоня, говоришь девчонке невесть что? — вмешалась, не вытерпев, Акимовна. — Ах ты бесстыдница! Девичье ли дело расспрашивать про этакое?
— Не мешай, мама, пожалуйста! Говори, тятя, не слушай ее.
— А на чем я остановился-то? Ну, ладно… Перед получкой приносит Зиновей расчетные книжки, показывает. «Вот столько-то тебе полагается, а с тебя причитается: тете Химе — рупь — это раз, мне рупь — это два да за выпивку…» То да се, обязательно трешницу засчитает. Сколько ни работай, все равно в долгу останешься. За неделю перед рождеством начинают подъезжать к казармам возы. Привезут, к примеру, лаковые сапоги — это тогда модно было. Свалят, «Ну, — скажет дядя Зиновей, — примеряй, ребята!» Надел на ноги — значит твое. Бесплатно. Потом пиджаки бобриковые и прочее. Оденут с ног до головы. На празднике начинается гулянье, спасу нет! Три дня гуляем, а к рабочему дню остаемся опять в одних шахтерках. Пропивали — денег-то у нас не водилось! Перед пасхой снова идут возы с одеждой: ботинки с резинками, рубахи суриковые. После праздника опять в шахтерках остаемся.
— Стирал кто — тетя Хима? — заинтересовалась Акимовна.
— Стирать нечего было. О белье мы понятия не имели. Рубаха парусиновая толстая да штаны — вот и вся одежда.
— А еще лаковые сапоги носили! — почти с укором серьезно сказала Маруся.
— Ну уж и носили! Они совсем новые обратно к артельщику переходили. Теперь мы тоже артельщиками зовем тех, кого сами для порядку выбираем, так это только звание и есть, а раньше они в артелях-то хозяевами были, а мы батраками. Без выгоды Зиновей за нас не стал бы держаться. А то небось целый месяц нас кормил, когда на шахте случилась авария и мы возле нее без работы лежали. В это время я и подался в Новороссийск, поступил кочегаром на морской пароход. Добрался до Владивостока, не успел еще на берег сойти, завербовался на Зейские прииски. С той поры и стараюсь вот уже боле тридцати лет.
— А хищником как ты сделался?
Рыжков нахмурился, недовольно засопел.
— Очень даже просто, нужда заставит. Вольничал, да и все…
Маруся поняла, что разговор надоел отцу, однако, помолчав, спросила:
— Когда вы шли на Алдан в двадцать четвертом году, правда, что тогда здесь людей ели?
— Еще новое дело! — раздраженно сказал Рыжков, взглянув на присевшую возле Маруси Надежду. — То расскажи про работу, то как людей ели! Не приходилось мне видеть такое, да и не придется, думаю. Может, был какой один случай, так ведь людей-то по тайге тысячи пробиралось! И тонули и замерзали… Про это небось никому неинтересно? — Рыжков забрал в кулак почти квадратную бороду, сердито потеребил ее. — Ты думаешь, я голода не видал? Если человек человека ест — это полоумство. Я больше года с партизанами по Зее ходил… Без хлеба по неделе сиживали, корье ели и мох варили. Когда с дружком Перфильичем в Тинтоне хищничали, нас тунгусы бесчувственных подобрали. Чуть не сдохли от бескормицы, а Перфильич супротив меня дите был! Мне бы его двинуть, да и только, и никто не узнал бы — тайга! А у меня мысли даже не доходили до этого… — Рыжков так задохнулся от гнева, что слезы выступили у него на глазах. Он потряс перед самым носом дочери огромным кулачищем с узловатыми козанками[3] и крикнул: — Чтоб я не слыхал от тебя таких глупостей! И не спрашивай ни о чем больше! — Распалившись, пнул ногой чурбан, служивший ему вместо табурета, и ушел за занавеску, унося на рубахе прилипший вар.
Маруся посмотрела ему вслед широко открытыми глазами и с плачем припала к плечу Надежды.
— Договорились, — сказала та с улыбкой, проводя рукой по гладко причесанным волосам девушки.
— В другой раз не будешь привязываться! — шипела Акимовна. Ей и Марусю было жалко, и за мужа обидно, что его девчонка так разволновала. — Бесстыдница, до чего довела отца!
— Кто его доводи-ил? Уж и спросить нельзя! — едва выговорила Маруся сквозь слезы и заплакала еще горше.
Слезы дочери разжалобили Рыжкова, она плакала редко, да он никогда и не обижал ее. Хотел было выйти, сказать что-нибудь шутливое, но упрямое чувство оскорбленного человека пересилило, он лег на кровать и закрыл голову подушкой.
11
Костер высоко дымил возле борта канавы, буйно играл языками пламени — как будто рыжие петухи метались в схватке, развевая перьями. Не пожалел Забродин хворосту, благо не сам припас: сухие сучья так и лопались от жары, обрызгивали старателей дождем светящихся и гаснущих искр.
— Заставь дурака богу молиться, он лоб разобьет! — проворчал Зуев, сминая затлевшую полу ватника, и добавил, невольно любуясь летящими искрами: — Вот кабы золото так посыпалось, я бы и рот открыл.
— На горячее не открыл бы…
— Небось не посыплется.
— Каждый день пробы берем, а, кроме знаков, нет ничего.
— Не подвела бы буровая разведка, — враз заговорили старатели, встревоженные заветным словцом.
Они сидели у костра на бревнах, припасенных для крепления, жевали черный хлеб, прихлебывая из кружек чай, отдающий дымом. Немного ниже, по канаве, горел второй костер; там группа китайцев из этой же артели, сидя на корточках, окружила котелок с лапшой — китайцы предпочитали хлебу вареное тесто.
— Лопату не успели взять, а сразу озолотеть хотите, — сказал Рыжков, подвигая на угли ведро с кипятком. — Потатуев ведь ставил на работу-то. Знающий человек: на приисках у Титова даже за управляющего одно время ходил. Хозяин, он тебе зряшного человека держать не стал бы.
— Что ж с того? — возразил Зуев. — У Потатуева папаша в Чите рыбную торговлю имел — значит, не на медную денежку его обучали, да не об нем речь — мы насчет буровой разведки сомневаемся. Кабы шурфовка разведочная — тогда другое дело. В шурфе как на ладони и грунты и проба, а скважина — дело темное.
— Слепому все темно, — не унимался Рыжков.
— Ты больно зрячий! — обиделся Зуев. — У Титова, прежде чем работу начать, сколько шурфов ударяли?
— Сравни-ил! Титов один себе хозяин был, он всякое дело производил с расчетом. Рабочих до двух тысяч держивал. Бывало, как пудовую съемку сделают, так из пушки палили. Это в день-то пуд! — Рыжков с наивным торжеством оглядел усталых старателей. — Во-от жили!
— Жили, да не все, — сказал Егор и нерешительно добавил. — Дивлюсь я на тебя, Афанасий Лаврентьич. Говорят, ты в партизанах ходил, а хозяев выхваляешь.
Рыжков покосился на него синим глазом и, поперхнувшись чаем, закашлялся.
— Я никого не выхваляю, — заговорил он, все еще багровый не то от кашля, не то от упрека. — Но слова из песни не выкинешь — умный мужик, про то и толкую. Что ж, раз время было такое: всяк про себя разумел, а других в сторону отпихивал. В политике я не понимаю до сих пор. Для политики у меня мозга неповоротливая. А в партизанах ходил, там понятное дело. Пока свои со своими схватились, я в стороне стоял. Кто их разберет, кому чего нужно. Ну, а япошки ввязались, оно вроде и прояснело. — Рыжков улыбнулся, вспоминая: — Я раз пошел насчет продуктов в поселок да на четырех напоролся. Стал меня старшой допрашивать. Я не понимаю, а он сердится. Такой сморчок, а с кулаками налетает. Стою, смотрю, что с него будет. Он приказывает солдатам, те меня схватили и тянут за руки, чтобы я сел — начальнику ударить сподручнее. Ударил он меня в одно ухо, в другое… Озлился и я, ка-ак схвачу у крайнего винтовку и пошел молотить прикладом, спасу нет! У старшого наган был — ему первому. Разбодал всех, да на улицу, да в ихние же сани — и тягу!
— Значит, ты только против японцев воевал? — спросил с хмурой усмешкой Зуев.
— Знамо дело, против них и против белых тоже, раз они заодно держались. Только я уж к самому концу поспел. Попятили их с Амура — я и пошел обратно на делянку.
— Чудной ты! — сказал бодайбинец Точильщиков. — Партизанил, а злости против хозяев в тебе не слыхать. Жи-или, говоришь! На Лене тоже жили, а нас гнильем кормили, да еще свинцовыми бомбами угостили в двенадцатом году. Вспомнить их, гадов, не могу…
— Закрой курятник! — крикнул Забродин. — Ели люди хлеб и другим давали.
— А сейчас ты оголодал?! — презрительно спросил Егор. — Ежели так пить, как ты пьешь, да еще в карты играть — никаких заработков не хватит. «Хлеб давали»! Пробовал ты ихний хлеб? Тебя раньше опояска кормила, спиртонос ты, варнак зейский! А теперь за бабьей спиной сидишь…
— А тебе какая печаль о моей бабе? — Забродин проворно сбросил рукав рваного пиджака, сжав синеватый литой кулак, подступил к Егору. Драться всерьез он не намеревался: у Егора обязательно нашлись бы сторонники, да и заводить драку в трезвом виде казалось ему неудобно. Но пусть не думает, что он струсил, и Василий продолжал наступать, приговаривая: — Чего тебе далась моя опояска?
— Бросьте, ребята! — строго прикрикнул Рыжков. — Зачем зря шуметь!
Забродин сразу отошел от Егора, но несорванная досада кипела в нем, и, опуская на валке в темное «окно» штрека короткие бревна, он изливал ее в ругани:
— Что за жизнь распроклятая — день-деньской ройся в потемках, как крыса! Дернул меня нечистый связаться с крупной артелью. Да провались она совсем! Давно надо было уйти…
— Куда уйдешь? — сказал со вздохом старик Зуев, ухватывая деревянную бадью, показавшуюся над отверстием окна. Он вывалил из нее породу, и снова заскрипел валок, разматывая толстую веревку. — Хоть на край света сбеги, пить-есть и там надо. Эх, кабы не вода… Остер у ней нос — везде пробьется! На шахтах моторы поставят, чтобы откачивать ее… воду-то. Большое дело затевают на Орочене. Шахты с моторами… Ишь ты!
Забродин, слушая старика, поглядывал по сторонам и морщился, словно один вид этих примелькавшихся мест вызывал у него боль и тоску.
— Уйду я! — повторял он упрямо. — Каторжные, что ли? Завтра опять в забой лезть. Спецовки доброй нет. Сгниешь в мокроте!
Подождали с минуту. В колодце тихо. Лесотаски отвязали и унесли бревна для крепления, но откатчики что-то замешкались. Забродин, облокотясь на валок, сплевывал вниз и, наклоняя голову, слушал, когда долетит плевок.
— Балуй, черт! Лодырь!! — донесся снизу голос Егора.
Тачка, стукнув о бадью, затарахтела обратно.
На стенах штрека, похожего на длинный коридор, дрожали под железками пугливые огоньки свечей. Бессильные разогнать подземный мрак, они только разреживали его мутными пятнами неверного колеблющегося света, в котором возникали вдруг то взметнувшаяся лопата, то бревно на плече идущего горняка. Голоса людей звучали глухо: с потолка лился местами настоящий дождь, и в холодном сумраке стоял непрерывный унылый шорох частой капели. Егор, ежась под нею, торопливо трусил с тачкой к забою.
Огромная фигура Рыжкова в тесноте подземелья казалась еще крупнее — потолок был у него над самой головой.
— Следующий! Следующий! Бей, не зевай! — покрикивал он крепильщику. — Еще ударь! Еще! Пробивай под камень!
— Расколотилась! — отвечал крепильщик, шмякая балдушкой о размочаленный конец толстой жерди.
Набирали очередной ряд палей между земляной кровлей и поперечно завешанными огнивами[4].
— Пошла! Давай еще раз! Следующий, следующий!
Из-под пробитых концов палей шлепала вниз тяжелая грязь, брызгая на людей. Падали мелкие камни.
Егор взял широкую вогнутую лопату и начал бросать эту грязь в тачку.
— Совсем слабый грунт пошел! — сказал ему Рыжков. — Смотритель был, велел подхватов добавить. Не закумполило[5] бы, ишь как хлещет!
— Теперь только успевай держать, вода сама кайлит, — ответил Егор, помогая Рыжкову закрыть тяжелой доской углубившийся лоб забоя.
Крепили сплошь «в ящик». Разжиженная водой порода выпирала из каждой щели. Чтобы удержать ее, за боковые стойки подсовывали пучки связанных веток кедрового стланика.
Рубаха под мокрым ватником противно холодила тело. Ноги в разбухших ичигах хлюпали по воде, заливавшей земляной пол штрека, скользили по грязным доскам выкатов. Егор, стиснув зубы, толкал перед собой тачку, сердито смотрел, как колышется в ней земляная масса.
Дразня воспоминанием, мелькала перед ним ярко освещенная рампа, женщина в розовом платье и совсем рядом, чуть повернуть голову, она… Марусенька! Но только темные бревна стоек и подхватов движутся по сторонам навстречу Егору, тускнеет, расплывается в сырой полутьме милый образ.
Натруженные мускулы ноют, кажется — сделай резкое движение, и лопнут они, стянутые усталостью, а голова словно распухла, отупела.
«От сырости это», — думает Егор и сразу ощущает, что пропитан он ею до самых костей.
Как в погребе, как в могиле… А наверху уже весна, солнышко, птицы звенят.
12
Егор помог своему напарнику подтолкнуть спиленное дерево. Оно хрустнуло и, качнув обнаженными ветвями, повалилось на сырой мох, на остатки снежных сугробов. Выше и ниже по горе пилили лес еще две пары вальщиков артели «Труд». Лесотаски обрубали сучья и волокли серые стволы лиственниц к спускам под гору.
Старатели не имели лошадей и таскали крепежник на себе — где на санках, где волоком, избороздив вдоль и поперек канавками-дорожками все склоны ближайших к прииску гор. Сейчас, когда снег уже сходил, мутные потоки устремились вниз по этим глубоко выбитым дорожкам, расплескиваясь от катившихся с горы бревен.
— Так и погоняет, — сказал напарник Егора.
— Что погоняет? — Егор взглянул с недоумением.
— Весна, говорю, снег торопит, сгоняет. А кабы нам зимой на лесоспусках сделать ледяные дорожки, али настилы из досок по крутогорью, бревна так бы и летели скользом.
— Зимой и надо было толковать об этом…
Снова молчком оба взялись за дело. Пила плевалась опилками, хищно вгрызаясь острыми поблескивающими на солнце зубьями в ствол лиственницы, на которой уже побурели прошлогодние молодые побеги.
Красноголовый дятел застучал на соседней сосне: задолбил крепким клювом, осыпая коринки, выгоняя из щелей толстокрылых жучков, рыжих короедов и долгоносиков.
Косая тень скользнула по дереву. Это родственница дятла — черная большая желна пролетела, направляясь в дальний распадок. Весна! Радуясь первому теплу, начинает звенеть вся лесная мелкота: цинкают синицы, стаи чечеток серебристыми брызгами рассыпаются по кустам, даже угрюмые горные воробьи охорашиваются перед своими воробьихами. Огромная полярная сова, выпятив белоснежную грудь, греет на солнышке пестро-серую спину, вертит круглой кошачьей головой, поводит янтарными глазами. Вот уже ночью она проверит, кто чем занимается, а сейчас хорошо и на суку посидеть, щурясь на ослепительно яркий свет дня.
Кедровка насмешливо крикнула над совиным ухом свое хриплое «крэк-кэрр!», села на метелку стланика, согнув ее так, что задрожали зеленые иглы, для равновесия растопырила крылья, уселась поудобнее, почистила длинный клюв: только что поймала и съела землеройку, и тонкий рыжеватый пушок прилип к роговице.
Шумно в тайге весной, не то что летом, когда прячется по гнездам пернатое население. Скоро, через каких-нибудь пять-шесть дней, оденется земля травой; зацветут кусты белоголовника и жимолости; лесные поляны и луга покроются незабудками, синими и фиолетовыми колокольчиками, бледно-желтыми пышными букетами рододендронов.
Все свои цветы разбросает по таежным просторам северная весна, и нигде не бывает она так желанна и радостна. Зовет в эти солнечные дни голубая даль! Тяжело переступая натруженными ногами, поднимется на водораздел старый таежник, снимет шапку и долго-долго будет глядеть на зеленые долины и горы. Еще раз встречает он весну в тайге, и такой же ветер, как тридцать — сорок лет назад, перебирает его уже поседевшие волосы.
Егор распрямил усталую спину и посмотрел в ту сторону, где на устье Орочена развертывалось строительство нового прииска.
«Маруся еще там, а потом прямо с работы побежит на какое-нибудь заседание. Совсем отбилась от дома».
Старатели подобрали спиленные деревья, поскидали в кучи вершинник и толстые ветки, присели покурить.
— Хватит на сегодня.
— На делянках тоже кончают.
Из лесу подтягивались остальные и тоже усаживались на бревнах, отдыхали, овеянные свежестью угасавшего дня. Ветерок задевал мягким крылом их загорелые, обросшие щетиной лица; приносил запах отсыревшей хвои кедрового стланца, затоптанных смолистых сучьев: для крепления подземных выработок приискатели рубили выборочно лиственницу, железнопрочную и упорную против любой гнили.
— Хорошо! — вздохнул кто-то. — Весной везде жить можно.
— Верно. Живешь, и умирать не хочется, — сказал большеглазый и темнолицый старик Зуев. — При старом режиме пришлось мне, ребята, в тюрьме сидеть. Весь год ничего, терпишь, а только пойдут по кебу дождевые облака да обдует землю весенним ветром… али увидишь, как птицы стаями полетят, тоска возьмет! Так бы и улетел следом.
— Это когда за купца сидел? — спросил Егор.
— За собаку, — строго поправил Зуев и неожиданно стал рассказывать: — Жил я тогда, братцы мои, на охотском побережье, денежку, заработанную на рыбалке, прогуливал. И на исходе своего гулянья, в лютую зиму, подобрал там брошенного каюрами больного кобеля. Был он из молодых, а такой худой да паршивый — смотреть нехорошо. Попался он мне под пьяную руку, я и посочувствовал: «Вот, говорю, моя предстоящая участь, этак же буду валяться на дороге». Взял его и потащил к себе в барак. Не знаю, откуда нашла на меня печаль-забота, только выхаживал я этого пса, невзирая ни на какие трудности. Одних попреков от хозяйки перенес, как за отца родного: кому тоже интересно больную собаку в избе держать! И он понимал: бывало, увидит меня — аж визжит: радуюсь, мол, только подняться, извините, не в силах. Однако мало-помалу начал ходить. Шерсть на нем новая объявилась, так и блестит, а старая слезла клочьями. И что вы думаете: как снегу сходить, поправился он совсем. Из себя стал рослый, белогрудый, уши торчком, словно у волка, — я его и назвал Серым. Стали мы жить вдвоем, и до чего ж дружно: то есть он от меня ни на шаг. Я в лодку, и он в лодку. Я в кабак, и он туда же, не нахальничает, но от дверей отогнать невозможно. Бывало дело — уснешь на припеке, так он сидит рядом, хоть целый день не евши, и муху не подпустит, не то что человека. И в упряжке вожаком во время пробы ходил отменно. Много желающих находилось отбить его, деньги большие давали: все равно, мол, он тебе ни к чему. Не понимали того, что я при своем одиноком положении вроде бы привык к нему… жалел. Один раз украли, и только через пять ден (которые за год показались) он вывернулся, тощий и злой. Сразу видно, не на свадьбу бегал. Не успели каюры его выложить, как других ездовых собак, и кобель был в полной форме. После и привяжись ко мне купец из Петропавловска. Был он прирожденный камчадал и до собак большой охотник. Начал охаживать: продай да продай кобеля. Потом вздумал подпоить. Зазвал в горницу, а я уж боюсь, как бы пса опять не увели, взял его с собой. Он этак вытянулся в сторонке, морду — на лапы. Лежит, посматривает. Ну, выпили. Купец опять свое. Сперва миром ладил, кошельком потряхивал, а не вышло — озлился. «Вот, говорит, надо было Серого твоего прикончить сразу. Он у нас двух работников испортил». — «Ах ты сволочь! — отвечаю. — Собачий ты вор!» Купец не долго думая раз меня по зубам. Я вскочил, а Серый уж лапами у него на груди: за горло норовит. Тот его и полосни финским ножом под брюхо… Где ж тут было стерпеть… Не пришлось купцу выйти из горницы…
Старик замолчал. Старатели сидели тоже молча в раздумье, глядя на убогие избушки, разбросанные в долине, потом нехотя поднялись и гуськом зашлепали вниз по мокрой мшистой земле.
Егор брел последним. Рассказ Зуева нагнал на него тоску. Вот весна… Все вокруг оживает, радуется, а над ним, молодым здоровым парнем, тяготеет одиночество. Не о ком ему заботиться, и он сам никому не нужен.
Жалобно тенькала пила, задевая о ветки деревьев, вздрагивала на плече, точно упругая большая рыбина. Впереди кто-то упомянул имя Маруси. Егор прислушался.
— Бойкая девка… Говорит: «Поеду в город». В кино хочет сниматься.
«И уедет, очень даже просто», — с тревогой подумал Егор.
— Отец ей во всем потакает! — продолжал тот же голос. — Когда начала она вечерами по собраниям пропадать, я думал: ну, даст он ей трепку! А ничего: будто сердится Лаврентьич, но это одна видимость.
В бараке после ужина Егор сразу завалился на нары, закрылся с головой байковым одеялишком. Обидно ему стало не только на Рыжкова и его дочь, но и на весь белый свет. Почему обделили его удачей и, уйдя постылым пасынком из родного угла, не встречает он на пути ни любви, ни участия? Сторонится его Маруся, но не может он выбросить из головы думы о ней. Пока она сидела возле матери, он даже радовался этому «страданию»: так ярко осветило оно его жизнь с первой встречи, когда вошел он в барак со своим деревянным сундучком, такой прекрасной показалась ему русая кареглазая девушка. Но с тех пор, как она стала пропадать на Орочене, любовь превратилась в пытку. Сколько там хороших ребят, — конечно, ей после них даже смотреть на него, Егора, неинтересно.
«Что я могу предложить ей сейчас? Разделить пополам кусок черного хлеба? Ни надеть, ни обуть нечего, только то, что на себе, да пара залатанного белья в сундучке. Нельзя без денег жениться, а пока до золота доберемся, она или замуж за другого выйдет, или в самом деле артисткой станет — не подступишься. Раньше хоть разговаривала, смеялась, а теперь смотрит как на пустое место.
Имя, видишь ты, не понравилось? Что бы такое сделать?.. Как стать видным человеком? Пусть бы спохватилась, раскаялась, сама стала меня преследовать, а я и внимания не обращал бы на ее приставания. Потом, конечно, пожалел бы ее. Но пусть бы, пусть пострадала».
Так думалось… Однако когда увидел Марусю во сне всю в слезах, то и сам заплакал от жалости. А наяву стоит ей подойти, он сразу робеет, теряется и из сильного, ловкого парня превращается в неуклюжего молчуна.
13
Маруся зажмурилась и несколько раз глубоко вдохнула воздух, пахший свежестью ночного дождя и травами, нагретыми солнцем. Пьяно кружило голову это густо настоянное душистое тепло. Приоткрыв глаза, девушка сорвала веточку тмина, прикусила белыми некрупными зубами. Летом день длинный, светло почти круглые сутки, поэтому, возвращаясь с работы, Маруся не спешила, радуясь безотчетно, как птица, зелени и ясной погоде.
Она поднялась с камня, отряхнула черную юбочку и пошла по узкой тропинке среди цветущих высоких трав.
В давно изрытом старателями русле булькал, болтал непонятное приисковый ключ, вода в нем была мутная от промывки: на делянах еще работали. Артели перешли теперь в открытые летние разрезы[6]. Неподвижно торчали над зимними ямами жерди журавлей.
Везде, куда перекочевывала семья Маруси, было одинаково: прииск среди гор, покрытых тайгой, неуютные, холодные бараки, разговоры о золоте, о делянах, усталый отец, удачи и разгулы, а чаще лишения, — все это не изменилось с тех пор, как она себя помнит. И выпивают старатели по-прежнему, и в карты играют, хотя состоят в профсоюзе и давно бы могли приобщиться к культурной жизни, о которой столько говорят и газеты и лекторы. Шагая по тропинке, Маруся вспомнила о своем знакомстве с Забродиным.
Она возвращалась домой с репетиции. Ночь была морозная, снег так и повизгивал под валенками. И вдруг на повороте дорожки торопливо шагавшая девушка наскочила на пьяного. Он лежал на снегу без шапки и рукавиц. Кругом тишина, реденький лесок, опушенный белым инеем, и совсем далеко тусклые огоньки бараков. Марусе стало боязно, и она, проскочив мимо неподвижно распростертого приискателя, побежала во весь дух. Но неожиданно подумала, что дома ждет его жена, да еще и с детишками, а он сдуру обморозится и будет калекой или совсем замерзнет, что это, может быть, хороший человек… Она еще не преодолела страха, а ноги уже несли ее обратно. Человек лежал по-прежнему — не шевелясь. Маруся боязливо потрогала его: «Что, если зарезанный?..» Но он был теплый, и она начала трясти его. Наконец он замычал невнятно.
— Вставайте, дяденька! — сказала девушка, приподнимая его под мышки.
— Не хочу! — закуражился «дяденька».
— А вон милиционер идет, — постращала Маруся. — Во-от он тебе задаст!
— Ну и пущай идет!
— Пущай!.. Эх, ты! Да вставай же — нельзя лежать на снегу, — совсем осмелев, потребовала она.
Кое-как поставив на ноги и крепко поддерживая, она вела его с километр, то уговаривая, то ругая, словно законная жена. Возле жилья он, уже намотав ей плечи своей тяжестью, резко качнулся в сторону и опять свалился. Маруся разбудила отца, и тот затащил пьяного в барак. Все это было не удивительно, но, лежа в постели, девушка неожиданно всплакнула, сожалея о некрасивой жизни старателей.
Утром ее новый знакомец осипшим голосом попросил «чайку» и выпил кружек пять, устало жмуря выпуклые диковатые глаза.
— Настоящий бирюк! — определила Акимовна и долго журила дочь за позднее хождение по приисковым пустырям.
Во второй раз «бирюк» пришел сам с чистенько одетой, расторопной женщиной, и тогда старатели заинтересовались им и помогли ему определиться в артель.
В летнее время барак, где жили Рыжковы, казался еще непригляднее: на плоской крыше горбилось корье, придавленное жердями, между коринами зеленели кусты полыни и лебеды; бревна сруба, не опиленные на углах, торчали неровно, и на них висело сырое тряпье.
Маруся посмотрела на свое жилище, пораженная его убогостью, обошла кругом, недоуменно размышляя, как это раньше не замечала, что жила в таком вороньем гнезде. Сени, заслоненные с боков высохшими сосновыми лапами, придавали бараку особенно беспорядочный вид.
«Ну прямо разбойничий притон! — сказала девушка с веселой усмешкой. — Как раз для кино! В жилом месте[7] посмотрят и не поверят, что здесь жила актриса Рыжкова! — С шутливой надменностью она вскинула голову, прищурясь осмотрелась. — Вот вам, пожалуйста, кухня нашего дома!»
Неподалеку в кустах чернела закопченным челом печь, сделанная из дикого камня на бревенчатом срубе, к ней вела чисто разметенная тропинка; по приисковому обычаю хлеб пекли на улице в любое время года. В сенях было тоже выметено и лежала плетенка из прутьев.
Все еще забавляясь сделанными «открытиями», Маруся потянула захватанный, пробитый сквозь дверь колышек, служивший ручкой. Дверь громко заскрипела на деревянной пятке, и девушка шагнула через порог. Надежда сидела на чурбаке у окошка, положив голову на колени Акимовны. По сибирскому обычаю они «искались» удовольствия ради. Сквознячок шевелил завитки Надеждиных волос, спадавших на пол. И снова бросилась Марусе в глаза нищенски убогая обстановка барака. Мох торчит из пазов, на железной печке ржавчина, бока у нее дырявые, и стоит она на земляном возвышении, как живое свидетельство таежной неустроенности. Единственно красивое во всем бараке — распущенные волосы Надежды.
— Вот еще бабья привычка! Что вы чистым ножиком ищетесь? — сказала девушка, забыв затеянную игру, и по-отцовски сурово пошевелила русыми бровями.
— А голова-то поганая разве? — спросила Надежда и, повернув лицо, затененное спутанными прядями, улыбнулась Марусе. — Я страсть люблю, когда мне ищут, так славно дремлется. — И она снова сонно ткнулась в колени Акимовны.
— Чего ты опять за книжку? — сказала Акимовна, любовно поглядывая на дочь. — На службе измучаешься и дома не отдохнешь. Солнышко, теплынь, погуляла бы.
— Только у меня и дела, что гулять! — с напускной важностью возразила Маруся и склонилась над учебником, беззвучно шевеля пухлыми губами.
— Возьми книжку да пойди на улке почитай, нельзя же целый день в помещении сидеть, — посоветовала Надежда, причесываясь у порога. — Лучше вечером позанималась бы.
— Вечером кино будет. Передвижку привезли с Незаметного, — сообщила Маруся и задумалась. — Трудно мне дается эта политучеба.
Мать сочувственно покивала головой, вздохнула, скрестив руки под тощей грудью.
— Молода еще. Успеешь, научишься.
— Молода! — повторила Маруся с досадой. — Это не от молодости, а потому, что вы родили меня бестолковой. Сейчас только и учиться, пока мозги свежие. Я все равно в город поеду…
— Почто в город-то начала собираться?
— По то, что не век же мне с вами на отвале сидеть. Я говорила тебе… Мохом обрастешь от такой жизни!
Ответ был настолько дерзкий, что Акимовна обиделась, поджала тонкие губы, но смолчать не могла:
— Мы-то не обросли. Служишь, и слава богу, чего тебе еще?
— Я тоже думала — слава богу, а теперь что ни день, у меня покою меньше. — Девушка подобрала на скамейку ноги в туго натянутых чулках, перебросила на спину пепельно-русые косы и заговорила, мечтательно улыбаясь набежавшим мыслям: — Поговоришь с человеком, который везде бывал, — сколько замечательных городов! А в кино посмотришь: пароходы плывут, поезда по линии идут, на автомобилях люди катаются… Дома какие! Ничего-то я такого не видала в своей жизни. Хоть бы взглянуть. Поеду в кино… В Москву. Меня возьмут — я ведь красивая. Буду летать на аэроплане в самых опасных ролях. — Глаза и щеки у Маруси разгорелись, похоже было, что она бредила.
— Глупости одни у тебя в голове, — сердито сказала мать. — Ходила я на Незаметный с отцом. Он меня затащил на эти картины. И сам-то никогда не бывал, да ведь надо передо мной погордиться.
— Что вы там смотрели?
— Ничего хорошего! Сперва в потемках сидели, потом затрещало… Бабенки какие-то беспутные запрыгали. Юбки до того кургузые, то есть никаких юбок — одни белые перья топорщатся, — видно, откуда ноги растут. В глазах у меня так и замельтешило. Зажмурюсь, потом погляжу, а они все еще подскакивают — смотреть срамно.
— А отцу понравилось?
— Да ему что? Известно, мужик, — сидит, уставил бороду.
Надежда вышла из своего угла с ворохом починки, присела к столу, звякая ножницами, отрезала заплату.
Маруся заглянула в ее наклоненное лицо.
— Ли опять про тебя спрашивал. Нам в контору уборщицу надо. Пойдешь? С Васенькой своим развязалась бы…
Надежда тяжело вздохнула, ответила не сразу:
— Ушла бы, да боюсь. И жаловаться боюсь. Одно у него слово — убью. Здесь мне от него уйти никак невозможно. Вот, даст бог, начнут мужики промывку, тогда мы с твоей матерью разом с них деньги получим. Тогда уеду.
— Получишь деньги, он и заберет опять! Что же это такое? — вскричала Маруся, негодующе всплеснув руками. — Протестовать надо, защищать свое право жить по-людски.
— Пробовала я протестовать-то. — Голос Надежды прозвучал необычно звонко и сразу перешел на глухой шепот: слезы брызнули из-под прижмуренных век на выцветший сатин мужской рубахи. Провела по лицу огрубелой ладонью, усмехнулась, блеснув мокрыми синими глазами: — Обломал он меня… Руки-то у него железные!
— Глядя на вас, противно даже думать о семейной жизни, — тихо сказала Маруся, расстроенная слезами Надежды, а особенно жалкой ее усмешкой. — Нет, я замуж не пойду.
— Все девки так говорят, а потом — скорей под венец, — печально возразила Надежда, вдевая нитку в ушко иголки. — На том мир стоит — каждый находит свою судьбу. Многие ведь хорошо живут замужем. Мой-то сроду бешеный, такие, слава богу, редко встречаются. Нельзя всех под одно равнять. Ты бы пожалела Егора: хоть бы немножко поласковей с ним обходилась. Извелся парень! На днях секретничал он со мной… «Мне, говорит, от Маруси ничего не надо, сватать сейчас не собираюсь, а у меня, говорит, сердце переворачивается глядеть, как за ней в клубе служащие стреляют».
Маруся слушала внимательно, но при последних словах Надежды у нее не только лицо, но и шея до выреза ситцевой кофточки стремительно покрылись ярким румянцем.
— Не его забота! Мне бы такое сказать попробовал! — И она сердито стукнула по столу крепким кулачком.
14
Словно ураганом, смело лес на левом берегу Ортосалы. Бойкий перестук плотничьих топоров непрерывно раздавался над площадкой растущего поселка. Рабочие, набранные на строительство из местных старателей, помещались пока в бараках старого Орочена и в палатках «ситцевого города». Приисковое управление готовилось к приему целой армии вербованных с Дальнего Востока и из Сибири.
Сергей Ли воспринимал создание нового механизированного производства не только как огромное событие для всей Якутии, но и как серьезнейший экзамен для него — рядового профсоюзного работника.
— Ты понимаешь, Луша, — говорил он жене, сверкая чернущими, косо прорезанными глазами. — Боюсь я отстать от событий… Сначала мне казалось — хорошо: весь народ работает, все сытые, одетые. Снабжение налажено: в магазинах и продукты и мануфактура. Правда, вроде весело?.. На первый взгляд очень хорошо живется на Алдане. Мне нравится здесь жить. С самого начала понравилось. Сытно. Заработать можно. Белая мука для пампушек, кожаные сапоги, жирная соленая рыба… Когда сюда попал, даже не верилось — счастье какое! А вот пожил несколько лет и вижу: не все хорошо.
— Заелся! — пошутила Луша, любовно взглядывая на мужа; она шила приданое для будущего ребенка.
— Разговаривал с Черепановым, — продолжал Ли, не обращая внимания на реплику Луши. — Предприятие боевое — золото. Прииски богатые. Как не быть снабжению! Но работаем по-кустарному. Народ приходит, уходит. Старатели бегают с прииска на прииск, точно олени, — ищут, где побогаче делянки… Я люблю Алдан, мне обидно, когда сюда приезжают только заработать. Хочется, чтобы была настоящая жизнь, чтобы люди оставались надолго, учились, семьи привозили. — Ли прошелся по комнате, подхватил на руки трехлетнего сына. — Вот Мирошка вырастет патриотом Алдана. Тогда здесь жизнь будет совсем замечательная. Построим большие шахты с машинами… Ты понимаешь?.. Стану разве я работать, как кустарь-одиночка, в яме с ручной помпой да с лопатой, когда могу сделаться кадровым рабочим? Разница огромная? Правда?
Мне Мирон Черепанов подсказал: другое производство будет, и люди вырастут, руководить ими надо будет иначе. Сложнее, труднее, интереснее. В прошлом году в Москве было совещание хозяйственников. Там Сталин выдвинул шесть условий в своей речи. Она называется: «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства». Мирон посоветовал мне обратить внимание на эти условия, еще раз продумать. Спасибо Мирону! Вот он научил меня ходить, и до сих пор я, как ребенок за няньку, хватаюсь за него в трудных случаях. — Ли остановился, покачивая прильнувшего к нему сынишку, но глядя куда-то через его головку, забыв и о жене, не сводившей с него взгляда. — Шесть условий… Первое — это механизировать труд, организованно набирать рабочую силу. Тут у нас в приисковой среде еще много самотека. Второе — ликвидировать текучесть кадров, уничтожить уравниловку, правильно распределять зарплату, улучшить бытовые условия.
Сказано: «Нельзя терпеть, чтобы машинист на железнодорожном транспорте получал столько же, сколько переписчик». А у нас сплошная уравниловка! Даже в крупных артелях на Пролетарке опытный забойщик получает столько же, сколько новичок на лесотаске. Необходимо так же улучшение снабжения и жилищных условий.
Ли, вдруг разволновавшись, опустил сынишку, пошел в комнату Черепанова и вынес небольшую брошюру.
— Здорово тут все предусмотрено! — говорил он, перелистывая ее на ходу. — «Не забывайте, что мы сами выступаем теперь с известными требованиями к рабочему, — требуем от него трудовой дисциплины, напряженной работы, соревнования, ударничества. Не забывайте, что громадное большинство рабочих приняло эти требования Советской власти с большим подъемом и выполняет их геройски. Не удивляйтесь поэтому, что, осуществляя требования Советской власти, рабочие будут, в свою очередь, требовать от нее выполнения ее обязательств по дальнейшему улучшению материального и культурного положения рабочих». Вот как! — торжествующе воскликнул Ли. — Пока с мелкими старательскими артелями нам до всего этого очень далеко. Лучше, конечно, чем лет пять назад. Но Сталин сказал — не надо оглядываться назад: «Только гнилые и насквозь протухшие люди могут утешаться ссылками на прошлое».
— Ты говорил: шесть условий, — напомнила Луша.
— Третье — ликвидировать обезличку, улучшить организацию труда, правильно расставить силы на предприятии. У нас на горных работах обезличка сейчас просто свирепствует: за все отвечает артель целиком. А часто и артель не отвечает! Потом четвертое условие: «Добиться того, чтобы у рабочего класса СССР была своя собственная производственно-техническая интеллигенция». Пятое условие — изменить отношение к старым спецам, проявлять к ним побольше внимания и заботы, и шестое: «Внедрить и укрепить хозрасчет, поднять внутрипромышленное накопление».
Это настоящая боевая программа для нас, женушка! Вот слушай: «Думать, что можно обойтись без механизации при наших темпах работы и масштабах производства — значит надеяться на то, что можно вычерпать море ложкой». На Алдане у нас было настоящее золотое море, и сначала его вычерпывали ложками все, кому не лень… Мы били ловкачей по рукам, дрались за каждый золотник. Но это все было тоже кустарничество. Как дальше быть? Вот ответ: «Реальность нашей Программы — это живые люди, это мы с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, наша решимость выполнить план». Понимаешь, дорогая? Обязательно прочитай эту книжечку. Очень пригодится! Закончишь вечернюю школу, поступишь на курсы, потом на производство.
Ли тоже занимался вечерами: готовился к дальнейшей учебе.
— Сейчас мы с Мироном пойдем на Пролетарку. Надо проверить, как дела в Трудовой артели. Пока невесело там!
15
Ли зашел в партком, помещавшийся в клубной пристройке. Давно надо бы дать парткому отдельное помещение. Завклубом уже несколько раз жаловался Ли на тесноту — и намекал, и прямо говорил, что площадь клуба не должны занимать посторонние организации.
Сергей Ли и сам это знал. Но… Как можно было называть партком посторонней организацией, да еще посягать на его выселение? Именно поэтому, а не ради личной симпатии и дружбы и не проявлял здесь Ли свойственной ему напористости. Теперь, когда началось строительство нового прииска, строился и дом для парткома на левом берегу речки, откуда будет вид на всю просторную долину…
— Ну что, Мирон, пошли? — спросил Ли, подсаживаясь к письменному столу приятеля.
Смуглый и черноволосый Черепанов с затылка мало отличался от восточного человека, и это тоже нравилось Сергею.
— Сейчас придет заведующий старательским сектором Потатуев, тогда и пойдем.
— Старый спец! — промолвил Ли, припоминая пятое условие, о котором говорилось на московском совещании. Как ты относишься к Потатуеву, Мирон?
— Положительно. Он того стоит: работяга и горное дело любит.
— Значит, лояльный, по-твоему?
— Да. А ты разве иначе думаешь? — спросил Черепанов, отрываясь от бумаг.
— Во всяком случае, не больше, чем нейтральный, — сказал Ли, опять сильно выделяя необычное слово. — Когда подходишь к нему, сразу чувствуешь — стенка. Не могу с ним, как с другими. Грубый, но не простой. В брошюре, которую ты мне дал, написано: год-два назад вредительство составляло своего рода моду. А ведь говорят, на далекие окраины мода доходит с опозданием и меняется тоже позже.
— Слушай, дружище, у тебя что, подозрения какие есть?
— Нет, но я его не люблю.
— Хм! — Черепанов с сердитой усмешкой покосился на Сергея Ли. — Хорошенький довод для обвинения человека: не люблю! Я в Потатуева тоже не очень влюблен. Это не критерий для оценки — личные симпатии и антипатии. Конечно, спокойнее на душе, когда имеешь дело с человеком, которому симпатизируешь. Но ведь нас с тобой поставили на работу не ради нашего спокойствия. В брошюре говорится о старых спецах, повернувших в сторону Советской власти.
Чтобы полностью использовать их опыт, надо проявить к ним побольше внимания, заботу оказать — это верно. Однако вредители есть и будут, пока имеется капиталистическое окружение. Поэтому зоркости терять нельзя. Я бы тоже не прочь иметь вместо Потатуева специалиста из рабочих, но нам не хватает своих, советских кадров. А ведь программу-то по золоту мы должны выполнить! Это прямая наша задача. Значит, надо и Потатуевых привлекать к работе.
* * *
Через несколько минут Черепанов, Сергей Ли и Потатуев шли по улице прииска.
Потатуев, пожилой и грузный, шагал вразвалку, зорко поглядывая вокруг карими глазами. Обветренное лицо его с сивыми вислыми усами было кирпично-красным от постоянного загара.
— Не беги, Мирон Устинович, успеем, — попросил он Черепанова, едва справляясь с одышкой. — Хорошо вам, молодым да легким на ногу, а во мне без малого шесть пудов.
Черепанов пошел тише. Ли тоже сбавил ходу, искоса взглянув на плотного Потатуева, сказал:
— Нам до собрания надо посмотреть, как подвинулась проходка штрека в Трудовой артели.
— Медленно идет! Я там вчера был. За сутки дают погона не больше полметра. Интересный народ эти старатели! На черном хлебе сейчас сидят, а упорство какое!.. Попробуй-ка их на хозяйских так содержать, сбегут сразу, а тут держатся. Затягивает золотишко… — Потатуев запнулся о что-то, покряхтывая, поднял новенькую подкову, с коротким смешком опустил в карман. — К счастью, говорят. — Потом добавил серьезно: — Здесь подкову поднимешь, там ручку от валка, все экономия.
«Нашел чем похвалиться!» — подумал Черепанов, но кивнул одобрительно.
Он ценил Потатуева за любовь к горному делу: не считаясь со своим возрастом, старый штейгер[8] мотался по приискам с утра до ночи.
— Вчера утром вызвали меня срочно на конный двор, — говорил Потатуев. — Характер у меня беспокойный: если вижу неладно, обязательно вмешаюсь, хотя бы и в чужое дело. А тут моего Вороного опоили, придется теперь на водовозку ставить. Накричал я на конюхов, поволновался, потом зашел в шорную, то да се, — проваландался часов до десяти, забыл и про завтрак. Пошел в контору, да вдруг озяб, пряма в дрожь кинуло, тогда только сообразил, что пальто надел прямо на нижнее белье. Как ты думаешь, Мирон Устинович, понравился бы я нашим барышням в конторе?
Потатуев рассмеялся так весело, что Черепанов тоже улыбнулся. Усмехнулся и Сергей Ли.
— Испугали бы.
— Да пожалуй: секретарша у нас особа слабонервная. Сегодня пакет с почтой затащила в архив, искали, с ног сбились.
У конторы управления толпились старатели, пришедшие сдавать золото, сидели и на низкой щебенистой завалине, покуривали. Водовоз проехал с Ортосалы, расплескивая из бочки студеную воду.
— Эх, попил бы! — сказал кривой Григорий, глядя, как взлетают над бочкой сверкающие хрустальные брызги. — Попил бы, да подыматься неохота.
— Ишь, лень-то как его одолела! — откликнулся проходивший мимо старик Зуев, и засмеялся, показывая голые десны.
— Небось день навозишься, так одолеет. Ты зубы уж начисто съел, даже корешков не оставил, а над людьми насмехаешься, ровно несмышленый.
Беззубая улыбка на коричнево-смуглом лице Зуева стала еще шире:
— Не я съел, цинга съела.
— Я этого старика давно знаю, — сказал Потатуев. — У-у, бродяга! Из старых хищников. Такими раньше и гремела тайга. Теперь он не тот… Обломался, а все за фартом гонится. Прикипел душой к шурфам да бутаре. Я тоже тайгу ни на какой юг не сменяю. Уж если умирать, так под елкой. А ты, Мирон Устинович?
— Умирать не собираюсь, а елки люблю. Вы говорите: гремела тайга хищниками. Пусть она лучше молчит, чем так греметь! Землю грабили и людей грабили. Взять вот этого старика. Вы полагаете, что обломался он, что старость его одолела. А он пришел на днях в партком и потребовал: «Товарищ Черепанов, пошлите меня по линии общественности на ликбез. Охота, мол, обучиться грамоте, но самому стыдно пойти — засмеют».
— Грамоте? — Потатуев громко захохотал. — Ему умирать пора.
— Опять вы о смерти? Это успеется, а тут такой отрадный факт. Пробудился у человека интерес ко всему, и даже деньги понемножку копит. Сберкнижка у него.
— Пропьет, — равнодушно сказал Потатуев. — Старые таежники продувные бестии. Наверно, хочет подсыпаться к вам с просьбой, вот и выдумывает разную ерунду.
— Он ничего не просил, — сухо возразил Черепанов.
Там, где кончались постройки прииска, они догнали Марусю, которая возвращалась домой с работы. С красной косынкой на плечах, в ситцевом платьишке она показалась им совсем девчонкой.
— Чем ты, кроме политики и клубных дел, занимаешься в свободное время? — спросил ее Потатуев. — Беллетристику почитываешь?
Маруся вспыхнула — она не знала, что такое беллетристика.
— Романы, повести… — подсказал Черепанов, догадываясь о причине ее молчания.
— Романы… Я читала про Пугачева и, кажется, Дубровцева. Но это давно уже.
— А какого автора? — откровенно посмеиваясь, допытывался Потатуев, бывший не очень высокого мнения о культуре современной молодежи.
— Автора я не помню, — чистосердечно призналась Маруся, стыдясь своего невежества. «Вот какой противный», — подумала она о Потатуеве и до самой Пролетарки шла молча, а увидев издали отца, отстала от попутчиков: она все еще дулась на него.
Рыжков колол дрова возле барака. Черепанов, Ли и Потатуев пошли прямо к нему.
— Как дела? — спросил Ли, присев на чурбан возле груды смолистых поленьев.
— Помалу проходим. Плывун долит, спасу нет. Опробованье делаем каждый день, но плохо. Ой, как плохо! Другой раз и знаков нет.
— Москва не сразу строилась, — сказал Потатуев и оглянулся через плечо, заслышав звонкий смех Маруси.
Она стояла на дороге с женщиной в белом платье и в мужских сапогах. Что-то рассмешило их, и они от души хохотали, глядя друг на друга.
— Дочь-то у тебя, Афанасий Лаврентьевич, как смеется! Легкие, должно быть, здоровые.
— Ну, легкие! — теплые усмешливые лучики легли на висках Рыжкова. — Дури много, вот и хохочет.
— Зря бранишь. Девица хорошая.
— Ничего. От недохвала порчи не бывает. — И Рыжков снова заговорил о наболевшем: — Не знаю, как дальше пробиваться будем. Обессилел народишко.
— Может, выделите несколько человек на добавочное старание? — предложил Ли. — Все-таки поддержка будет. Как вы думаете, товарищ Потатуев?
— Если артель найдет возможным — пожалуйста, пусть выделят. Делянку отведем здесь же, по ключу. Только чтобы не получилось срыва подготовительных.
— Зачем срывать? Нам это вовсе неинтересно.
Из барака выскочила Надежда с полным тазом настиранного белья, прошла мимо, не здороваясь. Синие глаза ее заметно припухли, лицо было в пятнах, в прорехе продранной кофтенки сквозило розоватое круглое плечо.
— Симпатичная, шельма! — заметил Потатуев, глядя ей вслед. — Прямо как у Некрасова: «с красивою силой в движеньях…» Ты посмотри, Мирон Устинович, какие у нее ноги!
Черепанов покраснел:
— Сердитая она…
— Она не сердитая, а несчастная, — сказал Сергей Ли. — Мне Луша говорила о ней…
— С мужиком не ладят. — Рыжков, бросив топор на дрова, тоже обернулся в сторону женщины, уходившей к речке. — Баба — золото, а жизнь у нее, правда, никуда не годится.
— Что ж так? — спросил Черепанов.
— Да кто их разберет! Сегодня ссорятся, завтра мирятся. Он ее поколачивает, она терпит, голубушка. Мужичонка пустой, вздорный, прямо сказать — плачет по нем тюрьма, но покуда не пойман… Однако, супруг Надежды вроде законный, а у нашего брата мненье такое: если не бьет — стало быть, не любит.
— Ты свою тоже бьешь?
Рыжков сконфузился.
— Не приходилось. Я как-то осерчал раз и одного сукина сына взял за руку. И что ты думаешь? Сломалась рука-то. Прямо на удивленье. С той поры и с дружками и с недругами обхожусь аккуратно, с осторожностью. Ну, пойдем к артельщику… Он вас проведет по нашей Палестине и все обскажет по порядку.
Часа через полтора, когда уже наступил светлый вечер, незаметно переходящий в белую северную ночь, они подходили к бараку, где было назначено собрание. Старатели, по-домашнему распоясанные, толпились у открытых дверей, курили, лениво переговаривались. Китайцы и корейцы сидели на корточках отдельной группой и тоже курили. Старик в выпущенной поверх мятых шаровар розовой рубахе, легко ступая по траве босыми жилистыми ногами, нес с ключа ведерко воды. Следом за ним шла женщина, прижимая к бедру таз с бельем. Это была Надежда. Черепанов пристально посмотрел на нее. Она показалась ему особенно милой и грустной, на щеке ее он заметил ссадину, и чувство горячего гнева и жалости охватило его.
Сидя на собрании, он никак не мог сосредоточиться, смотрел на озабоченные лица старателей, а в душе остро сверлило: «Он ее поколачивает, а она терпит, голубушка!» Да, голубушка, такая сильная, цветущая, с добрым лицом. Но почему она терпит? Неужели жалеет этого негодяя? Сердясь на себя за отвлечение от важного для стольких людей вопроса, Черепанов поискал взглядом Потатуева. Тот сидел на бревнах, упираясь руками в колени, и глядел на говорившего старателя. Видно было, что слушал он внимательно.
«Экий несуразный! — мысленно упрекнул его Черепанов, снова отвлекаясь от дела, теряясь перед необычностью чувств, неожиданно нахлынувших на него. — Подковки собирает, экономию наводит, а у женщины только и заметил что ноги красивые! Терпит — значит, любит», — решил он наконец и сам удивился, как больно кольнула его эта простая мысль.
16
Забродин с трудом приоткрыл опухшие веки и шумно зевнул. В углу полутемно; ситцевая занавеска скупо пропускала утренний свет. По привычке Забродин чувствовал — пора вставать, но подниматься не хотелось. Жены рядом уже не было, подушка и набитый сеном матрац, хранившие вмятину от ее тела, давно остыли: ей некогда разлеживаться на койке.
Василий раздраженно прислушался к говору проснувшихся старателей и закутался с головой в стеганое одеяло: «Поспать бы еще часок!»
Вчера он «случайно» нашел в сундуке Надеждины золотые серьги с дешевыми камушками. Сняла она их из-за сломанной застежки. Вещичка простенькая, да и та куплена женой за свои деньги — подарками ее Василий не баловал, чтобы не зазнавалась. Только в первый год сожительства подарил он ей голубого китайского шелку на платье да две пары чулок, принесенных «с той стороны».
Сережки Забродин отнес Катерине и, прогуляв там до трех часов ночи, вернулся после проигрыша без копейки. Сначала у него в банке накопилось около сорока рублей, а потом проиграл все.
«Сейчас самый сон, а тут эта канава! Вот клад баба у Григория. Досталось добро кривому черту! С такой бабой я бы лежал да в потолок поплевывал».
Надежда подошла к постели, тронула мужа за плечо.
— Вася! Ребята уже все встали.
— Поди ты! — прошипел он. — Слышишь, я спать хочу…
— Так ведь на работу надо идти! — звучал над ним грудной, теплый голос Надежды.
Забродин догадывался, что она не знает, как подступиться к нему, и это возбудило в нем желание ударить, чтобы сорвать зло и лишний раз испытать свою власть и силу. Надежда помедлила, снова нерешительно протянула руку, но, не коснувшись широкой спины мужа, отошла от койки.
Забродин прислушался к ее шагам, вспомнил, как отвернулась она от него, когда он лег к ней под нагретое одеяло. «Винищем от нас стало разить… Погоди, ведьма косматая, я тебя проучу!»
— Ночь пропялится, а утром вставать мочи нет, — расслышал он голос Егора.
«Опять надо мной насмешки строит!» — Забродин сбросил с головы одеяло, сжал кулаки.
— Гулять не устать, кормил бы кто да поил!
— С его профессией на делянке скучновато.
Смех перекатился от нар к столу: старатели уже садились пить чай.
— Черт с вами и с вашей канавой! — пробормотал Забродин. Ему хотелось доказать старателям свое презрение к ним, полное равнодушие к их пересудам, и он продолжал лежать, вздрагивая от бессильной ярости.
— Вася! — снова окликнула Надежда.
Он подождал, пока она зашла за занавеску, наклонилась над ним, и тогда сразу бешено сверкнули перед ней его глаза. Встреченная ошеломляющим ударом в лицо, она откачнулась назад и свалилась на пол…
Маруся, розовая после сна, наливала из бочонка воду в рукомойник, когда услышала глухой стон Надежды, взглянула на странное трепыхание забродинской занавески и, упустив ковш, метнулась к отцу:
— Тятенька! Василий опять дерется! Бьет он ее!
Забродин, словно подстегнутый этим криком, выбежал, схватил у печки полено и снова рванулся к жене. Все за столом вскочили.
Егор, сразу догнав дебошира, преградил ему путь:
— Брось полено!
— Ага, защитники нашлись! Вот оно что! С молокососами связалась! Бросить, говоришь, н-на, получай!
Егор едва успел отскочить. Полено, громыхнув по нарам, ударило Зуева в согнутую спину. Старик охнул и выронил сапог, который собирался надеть. Егор широко размахнулся… От свинцового его кулака у Василия искры замелькали перед глазами и разом вылетели остатки похмелья.
Сплюнув вместе с кровью два сломанных зуба, он, как бешеный волк, накинулся на парня.
Егор был бледен… С прищуренными глазами, с твердо стиснутым ртом он казался странно спокойным и, принимая удары противника, отвечал ему такими увесистыми, частыми плюхами, что круглая голова Забродина моталась во все стороны. Егор бил человека, которого давно ненавидел за лень, за обиды, нанесенные Надежде. Раздраженный болью и азартом драки, он готов был убить Забродина.
Растаскивали их всей артелью. Окровавленные, в изодранных рубахах, они стояли, разъединенные толпой галдящих старателей, не в силах унять озлобление, дрожащими руками цеплялись за плечи товарищей, порываясь друг к другу.
— Ты вот что, Василий, — хмуро помаргивая, сказал Рыжков, — калечить женщину мы тебе не дадим. Драться так — это форменное смертоубийство. И швыряться поленьями в жилье, где народу набито, тоже уголовщина. Не в городки играть!
— Чего с ним разговаривать? Пускай выметается из барака! — крикнул Зуев, стоявший сзади с размотанной портянкой на одной ноге. — Он мне чуть хребтину не перешиб. Может, я из-за него теперь инвалидство получу. Ночь где-то колобродит, а потом с опухшими шарами на людей кидается!
— Ясный факт! Он вон какой гладкий, а в забое еле двигается. И на верховых работах только для виду суетится: у него бадья целый час ползет.
— Детинка с запинкой два века живет!
— Зато не надорвется!
— А Егорка-то наклал ему подходяво.
Забродин затравленно осмотрелся.
— Все против меня? Ну и шут с вами! С легкостью от вас уйду, бабу свою здесь брошу. На кой мне она такая, ежели каждый на нее права имеет!
Он встретился с взглядом Егора, повел плечом, отвернулся и пошел одеваться. Надежду увела в свой угол Акимовна. Слушая всхлипыванья жены, неясно доносившиеся сквозь говор старателей, Забродин не испытывал удовлетворения. Он был несколько растерян: первый раз в жизни его так жестоко избили без особой причины. Ну, добро бы по пьяной лавочке или за мошенничество в картежной игре, а то за собственную бабу!
«Теперь уж непременно надо уходить, — думал он. — Кому какое дело, как я с ней обращаюсь? Не артельное добро! Жила она с Егоркой, не иначе. За это следовало бы ей еще добавить». Надевая ичиг, он сплюнул кровью и выругался. «Зубов вот лишился. Останься с ними, и вовсе захлестнут».
Забродин хотел умыться, но над лоханью плескался Егор. Грустная Маруся поливала ему из ковшика на покрытые синяками и ссадинами плечи. На свободной руке ее висела купленная по случаю верхняя рубашка Рыжкова, которая оказалась для него маловатой. Акимовна достала ее Егорке. — парню не во что было переодеться.
— Как ты работать-то будешь сегодня? — спрашивала Маруся, с состраданием глядя на распухшие пальцы Егора. Она любила его сейчас, благодарная за Надежду, и ей хотелось погладить его по мокрым темным вихрам.
— Ничего, обойдусь… — бормотал Егор, поеживаясь обнаженной спиной. Ему неудобно было стоять перед девушкой в таком истерзанном виде, но, застегивая воротник, он поймал ее сочувственный взгляд и, сразу повеселев, подумал: «Знать, жалеет она меня».
Когда старатели ушли на работу, Забродин смыл над лоханью кровь с лица и рук, сдернул лоскутья рубахи, вытерся ими и бросил их под порог. Гологрудый, мягко ступая высоко подтянутыми ичигами, он прошел к своей койке, сорвал занавеску и начал искать другую рубаху.
Выдвинув на свет ящик Надежды, плакавшей в углу Рыжковых, он сбил с него замок и вытряхнул пожитки на пол. Поискав в куче тряпья, он положил в карман золотое колечко и около тридцати рублей — все Надеждины сбережения, разорвал ее почти новое шерстяное платье, ситцевые рубашонки, принес с улицы топор и начал разбивать обухом швейную машинку. Потом Василий поставил на ребро деревянную подножку и расщепил ее вдрызг. Акимовна и Надежда только пугливо вздыхали за занавеской.
Забродин сделал из мешка котомку, уложил туда свое барахло и, перекинув ее на лямках за спину, подошел к углу Рыжковых.
— Слышь, Надежда, я ухожу. Счастье твое — Егор мою злобу на себя перехватил. Неохота мне сейчас больше тревожиться. — Он знал, Надежда радуется его уходу, и, чтобы лишить ее этой радости и просто так, на всякий случай, добавил. — Ты без меня не больно прыгай. Тошно мне тут у вас стало — вот и пойду проветрюсь, а как вздумаю, вернусь обратно. Ежели хахаля заведешь — берегись! Обоим гроб и могила.
Надежда вздрогнула, но заплаканное лицо ее, обезображенное багрово-синим подтеком, осталось неподвижным. Отрешенно и скорбно смотрела она перед собой, уронив на колени руки.
Выйдя из барака, Забродин угрюмо оглядел зеленую долину. Над кустами звенели птицы. Стадо мелких курчавых барашков нежно белело в синеве глубокого неба. Утро вставало в росе, теплое и сияющее.
Василий взял у поленницы палку и пошел, сбивая ею головки синих колокольчиков, над которыми деловито кружились осы. На увале выбранная им тропа свернула на незаметнинскую дорогу. Он не знал, как ему придется жить на Незаметном, но сегодня он будет сыт и свободен. Работа в артели осталась позади, как сброшенная ненавистная ноша.
17
— Афоня! Вставай, Афоня! — испуганно будила мужа полуодетая Акимовна. — Прибегал китаец из соседнего барака — в забое, слышь, не все ладно.
Рыжков вскочил с постели и начал торопливо одеваться. Впопыхах он не сумел навернуть портянку, плюнул с досады, и один сапог надел на босу ногу. В бараке полным светом горела лампа, и темные тени старателей шевелились на занавеске. Поминутно скрипела дверь.
Акимовна догадалась наконец зажечь свечу около Марусиной койки. Девушка спокойно спала, подложив под голову руки; длинные косы свалились с подушки.
Женщина подала мужу пиджак, спецовку, растерянно спросила:
— Чего же теперь будет?
— Да хорошего не жди, — сказал Рыжков и, на ходу натягивая брезентовую куртку, протопал к двери.
Акимовна поправила на дочери одеяло, подобрала ее свесившуюся прохладную косу и долго, горестно задумавшись, смотрела на сонно-румяное лицо с густыми тенями ресниц.
— Бедная ты моя! Девка на возрасте, а ни платьишка хорошенького, ни постели доброй. И чего это, матушки мои, поделалось там? Ишь ведь переполох какой! Надежда, ты не спишь? — спросила она, услыхав шорох в дальнем углу. — Иди сюда, посидим. Чегой-то мне боязно! Мужики побежали, а у меня в груди так и захолонуло.
Надежда вошла, отмахнув рукой занавеску, босиком, в нижней полосатой юбчонке из пеньковой бязи, в накинутом на плечи байковом платке, села на кровать Акимовны, свесив ноги, зябко закуталась. На лице у нее все еще темнел синяк, и один глаз казался меньше другого.
— Плохо наше дело! — сказала Акимовна.
Надежда тихо заплакала:
— Невмоготу мне, Акимовна! Чем я хуже остальных баб?! У кого дети, у кого мужья ласковые, а я ведь точно проклятая: никакого просвета в жизни. Девчонкой по людям мыкалась. Потом с этим паразитом связалась. У меня уж все, поди-ка, отбито внутри. Через это и родить не смогла! Первенького-то от побоев скинула… Я артельной промывки, как праздника, ждала. Только и надеялась заработать да уехать к сестре. Одна у меня думка была, да и та рухнула!
При виде чужого горя Акимовна приободрилась: вот как плохо человеку живется, а ей стыдно обижаться на свою судьбу.
— Может, еще обойдется по-хорошему в забое-то. Зачем заранее убиваться! Брось ты, право! — сказала она Надежде, поглаживая ее по спине горячей сухой ладонью.
— Нет, вправду, — говорила Надежда, вытирая концом шали заплаканные глаза. — Ты подумай, Акимовна, если бы я была вертушка вроде Катерины… Да тут от мужиков отбою не было бы. А мне хочется по-хорошему, по самостоятельному. Будь у меня рублей восемьсот денег, я сейчас бы собралась, и на Невер. Сестра у меня под Томском в колхозе… Писала, что вступить можно. Я бы купила корову, внесла пай деньгами и работала себе спокойно. Погоди, сколько выходит?.. Десять рублей да на семь, да на одиннадцать месяцев, да за шитье… Хватило бы! Мне эти деньги прямо как пропуск из тюрьмы.
18
Старатели тяжело топали по тропе к штреку. Холодная и светлая ночь копила в долинах туманы, четко вырисовывались на желтевшем с востока небе черные хребты гор. Приближалось утро.
Около двух последних окон штрека толпились горняки. Несколько человек с лопатами бежали к хвосту канавы.
— Ну, что там? — спросил Рыжков, положив на землю захваченный на всякий случай инструмент.
— Забой упустили, Афанасий Лаврентьич, — грустно сказал Егор и кивнул на Точильщикова. — Вот спроси его, он в смене работал.
— Чего уж теперь толковать? — неохотно отозвался забойщик, но его снова окружили плотным кольцом, и он начал рассказывать: — Грунт сегодня был — ну просто отступиться в пору, так и плывет, и вода дурниной хлещет. Мы часа три уж, однако, отработали. Видим — у нас вода снизу прибывает, а тут сбоку под кровлей валун оказался… Как раз на две пали вышел. Я его легонько ковырнул, оттуда и посыпало! Мы было придержать хотели — куда там! И из простенка еще закумполило! Как на грех, мы одну подушку успели выбить, вторая сама осела. Завалило забой верхней породой, а убирать вода не дает. Теперь ее там по колено и все прибывает.
— Наверно, черная вода пошла? — сказал неуверенно Егор.
— Может быть. Грунты кругом уже пооттаяли…
— Ну, как там? — спрашивал Рыжков поднимавшихся из окна старателей. Он еще не терял надежды на благополучный исход дела. «Ну, затопило, ну, закумполило, это поправимо, должна же канава выносить излишек воды, иначе зачем мы ее проводили?»
Старатели поднимались злые, и голоса их звучали грубее обычного:
— Выходит, отработались.
— Либо бросать придется, либо заново переделывать.
Переждав последнего, Рыжков зажег свечу и начал спускаться сам по сырым и скользким ступенькам узкой лесенки. На первой площадке он прислушался: внизу словно живой кто-то вздыхал и ворочался. И чем ниже горняк опускался, тем яснее доносился этот шорох, сильнее звенели струйки, льющиеся со стен колодца. И вот вода у него под ногами…
Ее набралось уже сантиметров на восемьдесят, и она заметно прибывала. Булькал дождь с кровли. Свеча в руке Рыжкова то и дело трещала, угрожая погаснуть, а он все стоял на лестнице, держась за ступеньку, и все глядел, как текла одолевшая старателей вода, как, насмешливо журча, тащила она из черноты невидимого забоя доски, пучки стланика, обрушенные бревна огнив.
Рыжков был совершенно подавлен. Огорчение свое он выразил наконец тем, что, медленно подбирая слова, крепко выругался и швырнул в воду горящую свечу.
Когда он поднялся наверх, старатели угрюмо сидели на отвалах, пригретые лучами восходящего солнца.
— В передовых забоях аккуратность нужна, — говорил Зуев, обрезая на досуге складным ножом грязные твердые ногти.
— Теперь расшевелили верха, так при нарезке кумпола замучают. Хотя неизвестно еще, как дело обернется: может, начальство порешит остановить совсем нашу работу, а пока обсудят, придется ждать — валандаться без толку.
— Ввалился я в эту большую артель, как сом в вершу! У меня от одного черного хлеба вон что делается. — Лежавший на пригреве Точильщиков заголил на груди рубаху, показывая мощные ребра, обтянутые кожей. — Все кости на счету, скоро шкура прорвется. В двадцать четвертом здесь, на Пролетарке, мы куда лучше работали мелкими артелями: где взглянется, тут и яму бьешь.
— Вот вы все и взрыли, как свиньи, — сказал Егор. — Работали бы по порядку, так надолго хватило бы.
— Какой порядок может быть для старателей?! — удивленно промолвил старик Зуев, вытянув тонкую жилистую шею и уставив на парня клин белой бороденки. — Глупость одна! Самая мы выгода есть для государства, и не должно оно нас стеснять ни в чем. Ты как скажешь, Афоня?
Рыжков насупился.
— Порядок и для старателей не вредный, — сказал он и скупо усмехнулся. — Чтобы на дольше хватило — это верно. Много ведь нашего брата…
Егор лег в траву, положил подбородок на сплетенные пальцы. Черный слоник взбирался у самого его лица на тонкую былинку. Былинка гнулась, и жучок то и дело разводил сизые крылья, словно собирался взлететь. Егор бережно снял его с травины, зажал в кулаке, прислушался к щекотному барахтанью.
— Чего нашел? — поинтересовался Рыжков.
— Да вот, — Егор, смущенно улыбаясь, разжал ладонь, — жук. Цепкий такой.
— Слон это, — сказал Рыжков и придвинулся ближе.
— Сергей Ли идет! — крикнул кто-то, и все старатели обернулись в сторону Орочена.
Два человека шли к ним по тропинке между кустов. В одном действительно признали председателя приискома, в другом смотрителя Колабина. Сзади поспевал посыльный из артели.
Ли казался сердитым и взъерошенным. Колабин, голубоглазый красавчик, нерешительно переминался с ноги на ногу. Оживленные их приходом старатели теснились со всех сторон и наперебой рассказывали о происшедшем.
— Посмотреть надо, — сказал Сергей Ли и направился к окну. Он спустился первым, потом Колабин, следом артельный староста, и всем тоже захотелось спуститься, чтобы увидеть, какое впечатление произведет на пришедших затопление штрека. Один, другой уже полезли в окно, но третьему загородил дорогу Рыжков.
— Без тебя ахальщиков хватит! Друг дружке на шею сядете, что ли! Не ровен час и лестница обломится.
Ли, поднявшись наверх, не скрывал своего огорчения.
— Плохо! — сказал он, посмотрев снизу вверх на Рыжкова. — Надо было мне в прошлый раз решительно настоять на присылке маркшейдера[9]. Похоже, что уклон вам дали неверный.
— Хороша показательная артель! — ввернул с горькой усмешкой Точильщиков.
— Может, оно и богатое золото на делянке, только, пока его возьмешь, помереть можно.
— Видит кот молоко, да рыло коротко…
— Земляная работа, она тяже-олая! Без мяса в забое не наробишь.
— Чего теперь делать будем? — спросил Зуев, выставляя свою бороду из-за плеча соседа.
Сергей Ли огляделся, покусывая губы. Лица старателей, освещенные ярким солнцем, показались ему особенно измученными: острые скулы, запавшие глаза. Тяжелый труд и скудная пища подсушили горняков порядочно, но народ сплошь был здоровый, жилистый, ширококостный. Таким только бы дорваться до настоящего дела — горы перевернут.
Ли сам пришел на профсоюзную работу со старания и хорошо помнил вкус черного хлеба после тяжелого горняцкого труда. Неудача артели взволновала его.
«Уходить им отсюда на хозяйские нельзя, — размышлял он, хмуря брови. — Развалится крупный коллектив — показательное для старателей дело». Поэтому он сказал:
— Тут уже поговаривают, что разбегаться пора. Хорошенько подумайте. Уйти недолго, только обидно будет, если целый год работы даром пропадет. По-моему, надо обождать. Пусть управление назначит комиссию, обследуют и скажут, как поправить дело. Плохо получилось. Очень плохо! Но не надо впадать в панику.
Вскоре приехали два инженера и маркшейдер из треста с Незаметного; пришли трое из Ороченского управления. Снова все спускались в окно. Вода уже затопила штрек по самые огнива. Потом комиссия вместе с Ли и Черепановым отправилась, сопровождаемая толпой старателей, к хвосту канавы. Вода в канаве шла медленно, насыщенная илом и глиной, неохотно вливалась в светлые струи Ортосалы и еще долго желтой отдельной полосой текла у правого берега.
Пока приезжие ходили и смотрели, с Орочена явился топограф с инструментом, и снова начали что-то измерять и записывать.
— Один раз уже намеряли!
— Понасажали вас там, чертей, на нашу шею! — ругались старатели, прислушиваясь к спорам начальства.
— Тебе, товарища, посуди, как наша люди работай будет. Еньга нету, мяса покупай не могу, сила совсем кончал, — пристал к смотрителю прииска оборванный кореец в фетровой шляпе. Вид у него был истощенный и жалкий. — Ваша теперь надо хлопочи, пускай русики начальник дает артели хороший делянка. — Кореец просительно засматривал в лицо Колабина и заискивающе улыбался.
Старатели обступили их оживленным кружком. Мысль корейца всем понравилась, но в это время подошел Потатуев.
— Вам эту работу надо закончить, — сказал он, узнав, в чем дело. — Сколько вы задолжали управлению?
— Да тысяч около сорока… с гаком, — неохотно ответил Рыжков.
— Ну вот! — Потатуев достал платок, встряхнул его и старательно высморкался. — Вам придется сначала долг отработать. Очистите штрек и мойте, а кто не хочет, может уйти, но управление составит списки ушедших должников и разошлет для вычета по всем приисковым группам. Платить так или иначе придется. А насчет новой деляны, да еще хорошей, вряд ли что выйдет.
— А мы в союз обратимся…
— При чем же здесь союз? — поддержал Потатуева Колабин. — Вы знаете условия вашего договора с предприятием и нарушать его не имеете права. Все подготовительные работы вы проводите за свой счет. Предприятие отпустило вам для этого кредит — ясно, что никто другой не станет его за вас погашать.
Он озабоченно взглянул на Потатуева, и оба пошли к топографу, около которого собрались остальные члены комиссии. Горняки проводили их угрюмым молчанием. Старались, не жалея сил, и вот нажили по тысяче рублей долгу и работу надо переделывать.
— Накачаем еще тысяч по пять, по крайности, будет чем вспомнить, — невесело пошутил Егор.
19
Через несколько дней после затопления штрека Черепанов и Сергей Ли сидели со старателями возле барака Рыжкова. Старатели перекорялись между собой. Черепанов молчал, слушая, как в тени под крышей тоненько позванивали комары. Старатели все еще не начинали работать, а у Черепанова пропало желание их уговаривать, потому что он начал сомневаться в причинах затопления. Только ли артель была повинна в нем, как указывала в своем акте комиссия?
Сомнение возникло у Черепанова от нечаянно услышанных им слов Потатуева. «Теперь отобьет охоту!..» — сказал Потатуев возле канавы трестовскому инженеру. И вот. уже четыре дня Черепанов ломал себе голову, стараясь разгадать: что хотел сказать Потатуев, к кому относились его явно злорадные слова.
Ли — тот, конечно, сразу ввязался бы в разговор спецов, он спросил бы, кому и в чем отобьет охоту. Черепанов взглянул на приятеля, пылкого и чистосердечного, неожиданно усмехнулся.
— Ты что? — спросил Ли.
— Ничего. Просто подумал, как ты далек от того, что называется церемонностью.
— Сколько ни откладывай, а к работе приступать все равно надо, — сказал Рыжков, рассматривая подписи членов комиссии. Прочитать постановление он не мог по неграмотности. — Забрали кредит, теперь никуда не денешься. Да и жалко бросать, после покаемся, ежели там другие мыть начнут.
— Переделка большая, — сказал Зуев. — Надо очистку произвести, углубку на метр делать. По скале, значит, с динамитом. На восемьдесят метров протяжением. Да кабы только это, а то еще саму канаву удлинять на шестьдесят метров. Что там еще?
— Русло подчистить при выносе, — мрачно подсказал Егор.
— Ну, вот еще и русло!
Топот лошадиных копыт заставил всех обернуться. Со стороны Незаметного на соловой гладкой кобыле подъезжал Потатуев. Он грузно сполз с седла, привязал лошадь к суковатому обрубку дерева, шурша полами плаща по кустарнику, подошел к старателям и, не здороваясь, молчком присел в холодке у стены.
— Какая муха вас кусает? — спросил Сергей Ли, заметив, что старик не в духе.
— Укусила уже: поругался в тресте, чуть меня не выгнали из маркшейдерского отдела. «Куда, говорят, вы раньше смотрели на своей канаве?» Я же и виноват остался! — Потатуев фыркнул, пожевал кончик сивого уса и продолжал сердито: — Нивелировку делал их топограф, и проект дан из технического отдела. Я могу отвечать только за производство работ, а за неправильный уклон штрека пусть отвечает маркбюро. — Потатуев посмотрел на Черепанова и добавил с нарастающим раздражением: — Они согласны признать, что уклон действительно дан неверный. Но ответственность сваливают на работников, которых давно уже нет в тресте. Выходит, ищи ветра в поле.
— Поздно теперь толковать об этом, — сказал Рыжков. — А ты вот что скажи нам, Петр Петрович: не промахнемся мы насчет содержания? Кабы знать наверняка, тогда не обидно и переделать.
Потатуев развел руками.
— Как же, голубчик мой, наверняка сказать? Ты сам старый горняк, знаешь, сколько риску в горном деле. Наша разведка частенько-таки ошибается, да и не мудрено: пласт здесь неровный, золото кочковое — где пусто, где густо. Рассчитываем, что на вашем участке должно быть хорошее, это ведь отвод на богатом прииске, а не на новом ключе. Как вы думаете, Мирон Устинович?
Черепанов помедлил с ответом, и пытливый взор его показался Потатуеву странным. Так иногда смотрят таежники на рельеф какой-нибудь заманчивой лощинки, пытаясь разгадать ее золотоносность.
Сергей Ли тоже смотрел на Потатуева, потом перевел взгляд на Рыжкова и сказал, показывая в улыбке светлые зубы:
— Рискнем еще раз, что ли?
— И то стоит! — в тон ему усмешливо ответил Рыжков.
Старатели оживились, заулыбались, зашумели. Риском их не удивишь! Разведка? Да они сроду ей не доверяли. Если она скажет «пусто», значит «может быть», а уж если показала наличие золота, должно быть обязательно.
— До сих пор Алдан держался на старателе! — с гордостью сказал старик Зуев. — Все прииски скрозь нами разведаны. Теперь разведка по нашим следам идет.
— Я все-таки уйду! — сказал Точильщиков. — Лучше пойду на хозяйское производство. Там на бодайбинцев большой спрос. Пусть невеликий заработок, да верный. Надоело мне за фунтами гоняться.
— И я уйду.
— И я.
— Ну и уходите. А мы останемся. Охотников на ваше место много найдется.
— Ройте, коли охота. Земли много — всю не поднимешь.
— Артель поставлена не на пустое место, зачем же такие разговоры? — вмешался Черепанов. — Разведка иногда ошибается, это верно, но у вас показано хорошее содержание. Оно может оказаться беднее или богаче, но в среднем оправдает работу.
— Я тоже так думаю, — горячо поддержал Рыжков. — Время идет, а мы сидим. За эти пять дней сколько бы успели сделать!
— Когда выйдете? — спросил Потатуев уже как о решенном вопросе.
— Сегодня же соберемся всей артелью и обсудим, кому начинать.
Рабочие начали расходиться.
— Красавица, принеси мне водички — горло пересохло! — попросил Потатуев, увидев вышедшую из барака Надежду.
Она ушла и скоро возвратилась с большой кружкой.
— Квасу налила! — сказала она и улыбнулась, подавая кружку Потатуеву.
Черепанов тревожно смотрел на ее опущенные полные руки с ямочками на локтях. Его тянуло к этой женщине; одинокая холостяцкая жизнь становилась в тягость. Он знал, что Сергей Ли советовал Надежде перейти работать на производство. Черепанову тоже хотелось помочь ей устроить жизнь по-иному.
— Вам принести? — спросила Надежда, улыбаясь ему, как и Потатуеву, хорошей, ясной улыбкой.
— Если не трудно, принесите.
— Какой же труд!
Потатуев провел по усам платком, подмигнул вслед Надежде:
— Стоящий объект! И глаза хороши: голубые-разголубые, как эмаль.
— Она очень серьезная женщина, — сказал Черепанов, не сумев скрыть возмущения от слов и особенно от взгляда Потатуева.
— Все они серьезные, пока спят. — Потатуев посмотрел в хмурое смуглое лицо Черепанова и, желая испытать его, добавил: — Она очень предана своему мужу, а он лодырь и пьяница.
У Черепанова нервно дернулась бровь, дрогнули губы: соперничество с Забродиным унижало его в собственном сознании.
— Сильное чувство изживается не сразу.
«Втюрился, — решил Потатуев. — То-то он и вскинулся на меня. А Забродин ее из рук не выпустит, безнадежное твое дело, Мирон Устинович».
Когда Надежда вернулась, Сергей Ли сказал, не называя ее по фамилии мужа, которого он считал негодяем:
— Луша очень просила вас заглянуть к нам.
— Хорошо. Я приду, — пообещала таежница.
20
Старательно причесав сильно вьющиеся волосы, Надежда уложила их большим узлом на затылке, надела чистое платье, взяла косынку и пошла на Орочен. Ей все еще не верилось, что Забродин исчез хотя бы на время из ее жизни. Сразу так легко стало на сердце, словно вырвалось оно из давивших его тисков.
В одном уголке косынки завязано двадцать рублей, и никто не остановит, не отнимет эти деньги, доставшиеся за тяжкий труд. Никто не обругает, не ударит. Счастье-то какое!
Сначала Надежда пойдет к маленькой, симпатичной ей смуглянке Луше, а потом зайдет в магазин — купит себе сатину на платье и ситца на рубашки. Забродин перед уходом так растерзал ее одежонку, что все надо приобретать заново. Ей ничего не жаль, только бы исчез навсегда из ее жизни этот изверг.
— Хорошо-то как, господи! — вырывается у нее из глубины души, обласканной теплом и светом июльского дня.
Даже земля под ногами кажется ей совсем другой. Так вот шагать бы да шагать по ней навстречу легкому ветерку, играющему свежей листвой кустарников и высокой травой, пестро разубранной цветами. Солнышко стоит вполнеба — золотое сияние, льющееся из голубой бездны, где вспыхивают и мгновенно тают белоснежные клубки облаков.
— Хорошо-то как! Радостно-то как!
Надежда вспоминает хмурое лицо Егора, но не ответную хмурь вызывает у нее мысль о нем, а искристую улыбку.
«Милый, молодой ты мой! Все успеешь — и с канавой дело наладится, и с Марусей устроится. Да разве не добьется взаимности этакий парень! Просто еще не перебродил в девчонке вешний хмель. Свобода-то ей дана, воля-то! Как тут не вскружиться голове! Сама не разберет, чего хочется, кем стать охота, вот и взбрыкивает, словно телок, выпущенный на траву. И я сейчас так же!..» — мелькает у Надежды.
Переступая через мелкие канавки, отведенные старателями от русла ключа, она думает:
«Работают люди. Стараются в самом деле. Не такие лодыри, как Забродин. Каждому бы из них кусок золота в конскую голову. Пусть бы сполна окупился их горбатый труд. И Егорушке удачу бы!»
Возле бараков людно — всех выманила теплая сухая погода: играют, шумят детишки, женщины стирают и стряпают возле железных печек, вынесенных из жилья и дымящих среди вытоптанного кустарничка. Двое устроились на припеке: ищутся в голове. Малыш с погремушкой в руке высматривает из ящика, поставленного возле самой тропинки. Надежда глядит на него с нежностью, с вдруг вспыхнувшей женской завистью.
Ей бы ребенка! Уж она его выходила бы! Вынянчила бы…
Первое, что привлекло ее внимание на квартире Сергея Ли, — это веселый маленький Мирошка и цветущий вид самой Луши. Кругом раскиданы игрушки, книги…
— У нас все читают и все в игрушки играют, — с добродушной усмешкой сказала конторская уборщица Татьяна, наводя порядок в комнате. — Я на старости лет во второй класс перебралась. Из приготовишек вышла.
Она подставила Надежде табурет, обмахнув его фартуком, и остановилась, уперев руки в бока, большая, костистая, в мужских сапогах и вышитой крестом рубашке из сурового полотна.
— Лихой у тебя вид! — улыбаясь, сказала Надежда, оглянув ее. — Настоящая партизанка.
— А оно так и есть! Партизанка! — Крупное лицо Татьяны со вздернутым носом и чернущими под красным платочком бровями осветились задором. — Бывало, паду на коня: в ватнике, в шароварах, шапка набекрень, — и-их, зальюсь! Никакое бездорожье не удерживало. Любили меня ребята за лихость, а в люди не вышла — образованием не взяла. Вот теперь хоть для собственной отрады и прошибаю ее, грамоту-то! Все-таки неудобно: делегатка в женотделе — и малограмотная. В конторе тоже: пошлют с рассыльной книгой, кому какой пакет отдать? Другой начальник так напишет, что его сам черт не разберет. Выбирайте, пожалуйста.
— Почему же ты раньше не училась? — спросила Надежда, посматривая на Лушу, которая накрывала на стол и хлопотала с ножом возле огромного пирога из свежей рыбы, осыпанного сухарями, поджаристого и отдающего паром…
— Гонор! — сказала Татьяна. — Гордость помешала. А гляди тово, и жизнь проскочила.
За стол сели все сразу. Вышел из соседней комнаты веселый Ли, явился Черепанов. С Надеждой оба поздоровались, как с хорошей знакомой: величали ее Надеждой Прохоровной. Она немножко смущалась, и в то же время ей приятно было это непривычное обращение: старатели называли ее «мамашей», хотя такие, как старик Зуев, сами годились ей в отцы.
— Хотим мы, Надежда Прохоровна, посоветовать вам пойти помощником повара в столовую на Новом Орочене, — серьезно сказал Сергей Ли.
— Правда, там вам будет хорошо! — подхватила Луша. — Кроме того, у нас в драмкружке сил не хватает, а вы смогли бы играть на сцене.
— Отчего же вы думаете, что я смогу играть на сцене? — спросила Надежда, заливаясь горячим румянцем. — Да мне сроду не выступить, когда людей много.
— Еще как выступите! Это только с непривычки страшно кажется, — возразил Черепанов.
— Нет, — все так же краснея, сказала Надежда. — Не получится у меня ничего: поздно жизнь переиначивать. Привыкла я к своей артели… Жалко ребят. Да и должны они мне. Тоже вроде привязана этим.
Говоря о денежном долге и привычке, Надежда представила свой барак, угол за ситцевой занавеской, где было пролито ею столько слез, и вдруг впервые поняла, что скрашивала там ее жизнь любовь к Егору.
Любила ли она его, как сына, или брата, или как милую, хотя и немыслимо далекую мечту о счастье? Но встречи и разговоры с ним были ее единственной отрадой. Она и Марусю любила оттого, что сердечная неудача Егора являлась источником его тяги к ней, Надежде. Что даст он ей, замужней, не первой молодости, женщине красавец парень? Зажжет страстью и бросит на такую расправу жестокого сожителя, что смерть может показаться лишь избавлением от муки? Надежда не загадывала ни о чем, ни разу не задумывалась о том, как сложились бы ее отношения с Егором, если бы не Маруся. Похоже, и он, безотчетно одаривший ее симпатией и сочувствием, тоже не думал об этом; общее между ними было в их душевной чистоте, которая охраняла их от сближения.
И сейчас Надежда подумала не о том, а просто жаль ей стало уходить из своего жилья, жаль оставить Егора… Кто же тогда будет заботиться о нем? Разве согласится другая женщина пойти мамкой в такую бедную, незадачливую артель?
— Нет! — сказала Надежда, открыто посмотрев на Черепанова. — Никуда я с Пролетарки не уйду, Мирон Устинович. У вас здесь очень хорошо! — Она взглянула на круглое личико маленького Мироши, самозабвенно занятого содержимым своей тарелки, и невольные слезы затуманили ее глаза. — Нравится мне у вас. Вот Луша одолеет седьмой класс, родит еще сына или дочку, потом курсы какие-нибудь окончит, и получена путевка в жизнь. А таким, как я, видно, суждено век над корытом стоять. Но на трудную работу не жалуюсь… Каждому свое.
21
Еще накануне Рыжков предупредил жену:
— Приготовь мне в субботу чистую рубаху и шаровары. На Незаметный к ребятам схожу. Звали землячки.
Придя с работы, он долго плескался под рукомойником, расчесывал перед зеркальцем русую бороду и огорчался, глядя на давно не стриженную голову:
— Экая шершавина!
— Ладно, не под венец! — сказала Акимовна, вытаскивая из корзины узелок, в котором хранились ее сбережения. — Купишь пуговиц черных, вот этаких, дюжины две, да белых костяных, да ниток черных сорокового номера катушек десять. Я взялась пошить рубахи мужикам, ан прикладу-то и не оказалось.
— Забуду я. Неужто в нашем магазине нету?
— Было — так купила бы. Тебе больше пяти рублей не дам. Не на что сейчас гулять.
— Дай две пятерки. Водка у ребят будет, а может, куплю чего-нибудь…
Рыжков подоткнул ремешки ичиг, прошелся перед женой, оправляя синюю сатиновую рубаху (в сбористых триковых шароварах, спадавших вроде юбки на поношенные ичиги, был он особенно широк), разгладил усы, поправил бороду, боком встал подле Акимовны:
— Хорош орелик?
— Не видали такого! — Акимовна вздохнула: редко бывал весел Афанасий Лаврентьевич. Суров муженек. Спасибо и на том, что не драчун, не картежник. — Иди уж, а то поздно будет.
Она положила ему в карман пиджака две ржаные шаньги с голубицей, завернутые в тряпочку, хотела погладить по плечу, но застеснялась и сделала вид, что счищает соринки. Однако Рыжков отлично понял ее движение.
«Любовь ведь была когда-то, спасу нет!» — растроганно подумал он, обнял жену и осторожно провел по ее темноволосой голове тяжелой ручищей.
— Завтра ввечеру буду, — пообещал он уже от дверей и ходко, словно сохатый, зашагал по дороге.
Несмотря на последние жаркие дни, у бродов Ортосалы и впадавших в нее ключей еще не просохла густо замешенная грязь, усыпанная на солнце мелкими желтенькими и голубоватыми бабочками. Они, нежась, сидели стаями на влажной теплой земле, неохотно взлетали перед проходившим горняком, кружились и снова падали, как горсти брошенных лепестков. Темные леса из ели и лиственницы стояли в долине, солнечные лучи с трудом пробивались в них к кустам подлеска и только кое-где играли на глянцевитых листьях брусничника.
Почти на половине пути, в стороне от дороги, послышались гулкие удары, словно бил кто-то тяжелым молотком по дну железной пустой бочки. «Драгу ставят на Ортосале», — вспомнил Рыжков. Видел он прошлым летом на Верхне-Незаметном в широком котловане с мутной водой удивительную махину вроде парохода, только без колес. Беспрерывно, со скрежетом и плеском, движется вверх ряд огромных ковшей-черпаков с породой, а сзади сделан длинный хвост, и с него без конца сыплется уже отмытая галька.
«Сколько тысяч кубометров она, эта драга, за лето переворочает? И золото, поди, начисто заберет, — думал Рыжков. — Выгрызет один борт, ее на канатах к другому переведут. Этакая прорва — железное брюхо».
Он свернул с дороги на тропу и пошел вдоль сплоток, подававших воду с Ортосалы на Верхне-Незаметный. В глубоких распадках ящичные желоба были подняты на столбах, и с них сыпался сверкающий радужный дождь. Рыжков прошел еще немного и присел на горе возле шлюзов. Прохладой тянуло от сырых досок, дальше вода текла широкой канавой.
Кругом стояла теплая ленивая тишина. Ветер куда-то пропал, и редкие облака, как барки на мели, томились в небесной синеве.
Солнце стояло еще высоко.
«Верст двенадцать отмахал шутя. Крепок Афанасий, еще не изъездился! — с гордостью подумал Рыжков о себе. — А сколь исхожено! Сколь сработано! А чего зароблено? — Он посмотрел на свои изломанные работой набрякшие руки и горестно качнул седеющей головой. — Нет у тебя со старухой угла на старости лет. Выходит, обделила старателя Советская власть; раньше он чертомелил и теперь чертомелит. Все имущество казенное стало, на собраниях кричат: „Наше, общее“, а я чего-то не пойму. Драга вот, к примеру, как я скажу, „наша“? Которым боком это ко мне относится? Крестьянам землю отдали — там понятно, рабочие при заводах льготы получили — живут с прохладцей. А мы что-то прохлопали. Все потому, что нет промежду нас, старателей, настоящей организованности. Мы по старой привычке и теперь глядим каждый абы себе. Дай нам прииск в полное пользование, каждая артель захочет главней других быть. Зато и остались при новых правах со старыми ветошками».
По улицам Незаметного Рыжков шел медленно, присматриваясь к незнакомым людям.
Около лавочки китайца-спекулянта он остановился: пестрели в окнах разные заманчивые вещи.
— Ваша что угодна? — с улыбочкой спросил Рыжкова хозяин, одетый в черную кофту с матерчатыми пуговками, суетливо вставая со стула, на котором он сидел возле прилавка.
Продавец тонкой кисточкой осторожно рисовал непонятные знаки-буквы в конторской книге. С покупателем занялся сам хозяин.
— Проходите! Посмотрите! Пожалуйста, все, что надо! Даже гвозди могу предложить.
— Гвозди? Этим товаром мы очень даже нуждаемся. В «Союззолото» сейчас не достанешь.
Китаец закивал бритолобой головой, тонкая коса висела сзади из-под черной атласной шапочки. Узкие щелки его глаз совсем исчезли в припухлостях щек.
— О, там зато разный дамский штучка! Есть помада, духи, ботинка! Я тоже могу предложить лента, но я позаботится насчет нужда рабочего в первая очередь.
— Так ты оставь нам ящик гвоздей… дюймовых, — соображал Рыжков, не слушая китайца. — Только мы за ними придем дня через три. Задаток?.. Ну, я завтра утром занесу.
— Пожалуйста, приходите поскорее. Наша скоро будет ликвидация. — Китаец рыгнул и помахал себе в лицо круглым картонным веером. — Я не могу делати такой цена, как государственный кооперация. Это убытка. Иха торговля имеет своя транспорта, а я надо платить и платить. И налога частный лавочка большой. — Спекулянт завистливо вздохнул и закончил уныло: — Кругом убытка!
Рыжков между тем облюбовал кусок пунцовой ленты.
— Отрежь вот этой два аршина. Да пуговицы покажи. Тесьмы не надо и резинки не надо, чего не спрашиваю, не навязывай. Хотя погоди… Отрежь на две пары подвязок.
— Какой его нога, ваша мадама?
— То есть как это?
— Ну, толстый… тонкий?
— Ага… Ноги как полагается. У обеих средние.
Китаец по-куриному заклокотал от смеха.
— Ваша два мадама имеете? Очень даже вы роскошно живете!
Глядя на него, и Рыжков рассмеялся.
— Эх, как тебя разобрало! Одна-то дочь моя, Марья… Афанасьевна. Ленту и подвязки отдельно посчитай. Сколько? Шесть тридцать? Здорово дерешь! А еще об убытках толкуешь! Знал бы, так лучше в магазине купил.
— Ну, ладна, — как будто и взаправду устыдился китаец, — давай ровно шесть рубли.
Рыжков положил покупку в карман, вышел на улицу и крупно зашагал к Верхне-Незаметному, удивляясь тому, как далеко продвинулась за лето драга.
Возле базара он неожиданно столкнулся с китайцем Санькой.
Саньку Рыжков знал еще по зейской тайге, знал, что он и сейчас занимается контрабандой. Когда же бывало, чтобы прииски существовали без спиртоносов?
— Тебе куда ходи? — крикнул Санька и весело оскалился, хватая Рыжкова за рукав. — Пойдем моя хитрушка посмотри! Денежка есть, можно погуляй, всякий разный евушка близко живи. Шикарный мадама: черный, белый… Какой хочу, какой надо, могу позови! Деньга есть — Иван Петрович, деньга нет — парышивый сволочь.
— А ты что, хитрушку содержишь? — спросил Рыжков, поглядывая на лавчонки базарных рядов. Многие были закрыты совсем и заколочены накрест длинными досками — видно, купец говорил правду. Другие еще торговали, и лавочники убирали развешанные под навесом товары.
— Нет, наша компания. Моя туда только водочка таскает. Пойдем! Твоя хочу, моя могу деньга взаймы давати. Мадама жирный — шибко шанго.
— Нет, я, брат, не охотник до такого бабья. Смолоду брезговал, а теперь вовсе.
Санька хитро засмеялся, толкнул Рыжкова в бок локтем.
— Тебе, Афанаси, плохо живи. Ваша русски люди хорошо есть сказати: сединой ходи в борода, беса ходи под ребрушко.
Рыжков улыбчиво сощурил синие глаза:
— Ох, и штукарь же ты! Все на свете знаешь!
— Правда, — убежденно подтвердил Санька. Он и не подумал отстать от Рыжкова и продолжал болтать на ломаном языке, идя за ним следом: — Тебе люди знакомый, я тебя не боиса. Нынче моя опий приноси — десять фунта! Только милиция попадай. Кругом забери, как раза Степаноза! Три месяца посиди. Там много знакома люди есть. Ваша артели Васька тоже сиди.
— Забродин? — спросил Рыжков с живостью.
— Угу, Забродина! — Санька совсем забыл попечение о «евушках», шагая рядом со старателем, рассказывал о новостях и, увлекаясь, все время хватался за его рукав.
22
Дальние горы от лесных пожаров подернулись тусклой дымкой. Лето шло на убыль. Каждый день, возвращаясь с работы, Маруся забиралась в голубичник и ела ягоды, пока не защиплет язык. Приисковые бабы, звякая ведрами и котелками, с восходом солнца уходили в горы. Собирали голубику и чернику, а потом заливали ее сладкой водой или варили варенье, а то просто сушили на зиму.
Акимовна тоже ходила по ягоды, но в ельнике сухой веткой повредила глаз, и теперь поневоле домовничает. А Марусе ягодничать некогда: сегодня она, не заглянув домой после работы, отправилась в вершину Пролетарки и пошла с узелком под мышкой от барака к бараку, заходя в каждый, где жили женщины.
На ней легкое платье, жакетка и туфли на низком каблуке. Голова повязана белым платком, надвинутым на самые брови, что придавало ей деловой и озабоченный вид.
У порога одного из бараков ее встретила толстая, опрятно одетая женщина.
— Проходи, милушка, садись на лавку. Чьих ты будешь-то?
— Да Рыжкова я…
— Чего же я тебя не признала? Эка краля выровнялась! Невеста уж, поди-ка? А я вот с бельем вожусь. Прохворала на неделе, а сегодня мужики поразбрелись: кто по ягоды, кто в гости, я без помехи и управилась. Как это ты к нам забрела?
— Ликвидатором неграмотности буду у вас. Вот записываю, кто хочет занятия посещать.
— Кто это там, Ивановна? — спросил осиплый голос.
Ситцевый полог в углу колыхнулся. Выглянула взлохмаченная голова женщины, затем крупная фигура в помятом сером платье вылезла из-за занавески.
— Ликвидатор? — с усмешкой повторила женщина и потянулась, шумно позевывая. Волосы у нее были черные, не очень длинные и страшно всклокоченные. С завистливым любопытством осмотрела она девушку плутоватыми карими глазами. — Это зачем еще?
— Видите ли… — заговорила Маруся, свертывая тетрадку трубкой и снова бережно разглаживая ее ладонью. — Ленин сказал, чтобы у нас в Союзе не было неграмотных. Нужно, чтобы все женщины учились управлять государством. Если вы научитесь читать и писать, вам интереснее будет жить. Сколько есть на свете умных, хороших книг (она сама прочитала за последнее время стихи Лермонтова и рассказы Короленко), а для неграмотных они ничего не представляют. Женщинам нужно включаться в общественную работу, развиваться, изучать политграмоту.
— Я не знаю, — замялась Ивановна, — вот Катерина разве. — Она подумала и добавила с виноватой улыбкой: — Темная я, это верно. Мое дело что, известно — мамка: то у плиты, то у корыта.
— А раз мамка, с тебя и спросу нет, — сказала Катерина. — Мужик узнает, он тебе задаст: всю политграмоту вышибет. Меня не пиши, я без вас развитая. Мне много не надо. Ежели вам больше нашего требуется, ну и читайте, пишите на здоровье.
Катерина еще раз зевнула, почесала в голове и снова полезла на койку. Вид красивых девчонок привлекал и огорчал ее: она завидовала юности, еще нетронутой свежести. Ей хотелось снова и снова быть молодой и переживать все сначала.
— Ишь чего удумали! — ворчала она, ожесточенно взбивая подушку и укладываясь. — Государством управлять! Тут в пору с собой управиться. Без развития вздремнуть некогда.
— Вот халда, так уж халда! — сказала Ивановна огорченной Марусе, выходя за нею из барака. — Ты в какую сторону пойдешь? Вниз? Ну-к я тебя провожу маленько, сито надо взять у соседки. Меня ты не зови, я и вправду не могу.
Маруся досадливо покусывала яркие губы.
— Дело твое, только потом жалеть будешь. Другие тоже мамки, а записываются.
— Да ну? Али уж записаться?.. Совестно чегой-то! Работы у меня невпроворот, но ежели… Вечером разве?.. Народ у нас больно неспокойный. Одна Катерина чего стоит. Не люблю я ее, истинный Христос. Вот кабы ей мужа-то такого, как у Забродихи! Мой Кононов, когда тверезый, тихий, а попадет эта дурничка в голову, ну и зашумит. На днях занял денег у ребят… Гляжу, приходит, весь бутылками обтыкался. Прогуляли полдня, а вчера сдали золото — только на хлеб осталось.
Закончив свой обход, Маруся по дороге домой неожиданно встретила Егора. После того как он заступился за Надежду, девушка стала относиться к нему более внимательно.
— Гулять пошел?
— Погода хорошая, вот и хожу… А тебе все некогда?
— Почему некогда? Я тоже хожу.
— Поговорили! — сказал Егор с горечью и остановился возле кучи бревен, сложенных у тропинки. — Давай посидим.
— А чего мы сидеть-то будем? Надо ужинать да на репетицию бежать.
— Опять на Орочен?
— Опять. — Маруся взглянула на Егора. Он стоял хмурый, ломая сухую былинку, руки у него слегка дрожали. — Была бы твоя воля, ты бы меня не пустил? — спросила она насмешливо.
— Сама ты не знаешь, что говоришь! Была бы моя воля… я бы взял тебя сейчас на руки и унес на горку.
— Похоронить, что ли?
— Смейся! — Егор сел, опираясь упрямым подбородком на жесткие ладони, посмотрел снизу на Марусю. — Капризная ты… Видишь, что страдает об тебе человек, ну и куражишься, а еще комсомолка! Фыркать-то каждая барышня умеет.
— Да разве я фыркаю? — возразила Маруся. Она уселась на бревнах повыше, достала из кармана жакетки пачку «Пушки» и закурила, неумело держа папироску.
— Маруся, да что же это такое?! — сказал Егор оторопев.
— Ничего особенного. Если я хочу курить, так это мое личное дело. Я еще остриглась и… — тут смелость на минутку покинула ее, — и покрасилась. Я отсюда поеду в город, буду играть в кино. Мне в тайге надоело жить.
— Для чего покрасилась-то? — уже сердито спросил Егор.
Вместо ответа Маруся сняла платок, тряхнула короткими волосами и они рассыпались черными, как смоль прядями, странно изменив ее немножко смущенное лицо.
Егор махнул рукой и отвернулся: стриженая, с накрашенными бровями, она показалась ему некрасивой.
— Выходит, что ты… мещанин, — сказала девушка уже совсем неуверенно. — Длинные волосы для гигиены неудобно, и голове тяжело. Вот пожалуйста! — И она, не то заигрывая, не то с досадой бросила узелок в спину Егора.
Тот, не оборачиваясь, нащупал его и развязал у себя на коленях.
Тяжелая коса, свернутая мягким, блестящим жгутом, соскользнула на примятую у его ног траву. Он поднял ее и, держа в ладонях, грустно посмотрел, как ярко золотились на солнце отдельные волоски. Горечь обиды и нежность боролись в его душе. Потом он опустил голову, прижался губами, всем лицом к милой ему косаньке. Она еще хранила еле уловимую теплоту.
— Глупая ты! — сказал он, с трудом обретая дар речи. — Артисткам длинные волосы нужны, вся красота в них. И курить — неподходящее баловство для женщины. Краситься тоже срамота одна. — Он опять умолк, но, испугавшись наступившего молчания, придвинулся к девушке и заговорил умоляюще: — Марусенька, голубушка моя, зачем ты это на себя напускаешь? Ведь ты хорошая, вот ты и на себя непохожая, а я все равно жалею тебя.
— Отстань! — Маруся, сердито поведя плечом, сбросила Егорову руку, положила лицо на сжатые кулачки и пригорюнилась, глядя, как тлела на западе заря. — Об чем бы разговор ни шел, всегда ты его на свою любовь переведешь! Нужна она очень!
— Как же без любви жить? — спросил Егор, теребя воротник рубашки. — Я теперь и жизни не рад стал! Хорошо, когда оба любят, а в одиночку… Это ведь маета одна!..
23
— Забрали твоего Василия, — сказал Рыжков Надежде. — Связался он там с жульем… Известно, беспутная жизнь деньгу требует, вот они и смекнули одну старуху ограбить. А старуха водкой приторговывала и от кого-то вызнала, что к ней гости собираются. Сообщила, значит, в милицию, их и накрыли, и старуху тоже посадили за компанию. — С этими словами Рыжков вынул из кармана свернутую бумажку, передал ее растерявшейся Надежде. — Василий тебе из домзака пишет, денег просит, чтобы переслала. Он теперь надолго сел, до старухи-то они еще склад какой-то подламывали.
— Сам, что ли, видел его? — спросил Зуев.
— Не, Санька Степаноза сказывал, у него и записка была.
— Дошерамыжничал! — сказал Точильщиков, перестав пиликать на гармошке. — Выселить бы его из района.
Заинтересовались и другие старатели, бывшие в бараке, заговорили оживленно:
— Денег ему посылай, баба! Во-от здорово удумал!
— Этакий стервец, уж провороваться успел.
— Ему, поди, не впервой, у него взглядка-то воровская.
— Маруся где? — спросил Рыжков жену, разыскивая в обширных карманах шаровар пакетики покупок. — Вот тебе заказ, подвязки обеим и ленту дочке купил. Надежда-то рада, поди-ка, что мужика запрятали?
— Может, и рада. Чего она с ним хорошего видела? Экий цепучий шелк-то на корявые руки! — Акимовна пересчитала пуговки, попробовала даже зубом, определяя качество.
Надежда, прочитав записку Забродина, ужасно расстроилась. Раз он еще пишет ей и требует денег — значит не хочет отступиться от нее. И ее тянет за собой! Жаркая злоба охватила женщину.
— Сдох бы ты там, ворюга проклятый!
Выйдя из барака за дровами, она встретила Марусю.
— Вернулся отец с Незаметного?
— Давно уж.
— А что ты такая невеселая?
Надежда неожиданно заплакала.
— С чего мне быть веселой? Василия-то арестовали!
— Так почему же ты плачешь? Освободилась, по крайней мере.
— Кабы освободилась!.. Вот-вот опять явится. Навязали его черти на мою головушку!
Маруся прошла в свой угол. После разговора с Егором Нестеровым она уже раскаивалась в совершенном поступке и была бы счастлива, если бы коса каким-нибудь чудом приросла обратно. Широкая спина отца еще более смутила девушку. Он лежал, прикрыв голову и плечи пиджаком, слегка подогнув ноги, и густо всхрапывал. Что-то еще он скажет? Маруся скинула платок, жакетку и остановилась возле своей постели: на подушке лежала яркая лента. Маруся схватила ее с детской радостью. «Отец, наверно, принес! Опоздал, тятенька», — подумала она со вздохом и, положив ленту на столик, посмотрела на свои руки. Пальцы были синие от голубики, но выйти к умывальнику сейчас, когда в бараке полно рабочих, Маруся не решилась: взялась за прядь волос, покосилась на нее и зажмурилась: «Черная-пречерная, аж страшно!»
— Отец-то тебе, доченька… — заговорила радостно Акимовна, откидывая занавеску, но, глянув на Марусю, охнула и села на скамью. — Косы… косы-то где, бесстыдница? — Слезы так и закапали, сразу смочив бледные щеки Акимовны. Она ловила их краем фартука, тоненько приговаривала: — Чем ты начернилась-то, го-осподи! Была головка, как маковка, а теперь чистый китаец!
— Ну и пускай китаец! Жалко тебе?
— Что у вас случилось? — сонным голосом спросил Рыжков.
Акимовна вскочила, хлопнула себя по бедрам, ссыпая с фартука мучную пыль.
— Ты погляди-ка, отец, погляди, чего она наделала! Косу обрезала, а что уцелело на голове, сажей напачкала али чернилками.
— Вот не знаешь, а судишь, — оборвала ее, вся вспыхнув, Маруся. — Выкрасила у парикмахера специальной краской, хна-басмоль называется. Я спрашивала секретаря ячейки. Он говорит: «Остричься очень даже советую, а насчет краски, говорит, я не разбираюсь, это, говорит, твое личное дело».
Рыжков тоже не понимал, почему дочери захотелось стать черноволосой, но раз жена плакала — значит ему следовало сделать какое-нибудь внушение.
— Ну-ка подойди, — приказал он и, притянув Марусю за дрогнувшую руку, потрогал ее остриженный колючий затылок. — А я тебе ленту принес, — сообщил он, не сообразив, что сказать по данному поводу, и досадливо хмыкнул. — Крашеные-то волосы еще повылезут. Куда тебя тогда, плешивую?
— Батюшки, да у ней папироски! Коробка початая… и со всем припасом!
Девушка оглянулась через плечо и увидела в руках матери свою жакетку. Акимовна уже не плакала: негодование, охватившее ее, сразу высушило слезы. Она давно привыкла к «табашникам», но вид курящей женщины возбуждал в ней отвращение. А тут родная дочь… «Статочное ли дело девчонке палить проклятое зелье!» Фанатичная душа раскольницы пробудилась в Акимовне. Чужое лицо с неистово горящими глазами и скорбно поджатым ртом приблизилось к Марусе, которая, невольно опешив, прижалась к отцу.
Рыжкова тронуло доверчивое движение дочери: она как бы признавала вину и искала защиты.
Но раздумывать было некогда: он сел на постели, заслонил дочь и легонько оттолкнул разъяренную жену.
— Чего шумишь, не разобравшись. Мои это папироски! Мне она купила… за ленту, — неумело соврал он и для пущей верности пошутил: — Правду говорят, бабий ум что коромысло — и косо, и криво, и на два конца, хоть к чему прицепится.
— Так початая ведь…
Маруся, обрадованная неожиданным исходом дела, сказала тихонько:
— Я Егора угощала, и спички его.
Однако мать еще не успокоилась.
— А ну-ка, дыхни!
Озорница дыхнула. Табаком почти не пахло, и Акимовна ушла, покачивая головой, терзаемая печалью и сомнением.
— Ты вправду думал, что я тебе купила? — спросила Маруся, присев на край постели.
— Ничего я не думал. Драть бы тебя надо, да большая уж — совестно!
— Не сердись. — Маруся погладила тонкими пальцами его выпуклую бровь. — Не дали мы тебе подремать.
— Я и не дремал, только всхрапнул да присвистнул.
Девушка счастливо рассмеялась, взяла тяжелую руку отца и, как в детстве, прижалась к ней щекой.
24
Акимовна шила старателям рубахи. Швейная машинка была старая и, несмотря на частую смазку, стучала вовсю. Даже внутри у нее что-то звякало. То и дело ослабевал винт, скреплявший переднюю часть изношенного станка, и колесо начинало вихлять в стороны. Тогда Акимовна хмурила красивые темные брови и почерневшими, тоже расхлябанными ножницами начинала завертывать проклятый винт.
— Оскудело хозяйство, подь ты совсем!
По другую сторону стола, у окошка, Надежда прометывала петли у готовых рубах. После того как Забродин поломал ее машинку, она лишилась приработка и прокармливалась только около сынков. Из старых, ничего не уплатив, ушло четверо, взамен ушедших прибавилось пятеро новых, но и они пользовались ее услугами в долг. Жилось трудно и невесело. Правда, в барак частенько захаживали старатели из богатых артелей: многих привлекала миловидная женщина, но она «не чаяла, как с одним развязаться».
Вспоминая годы, прожитые с Забродиным, Надежда еще сильнее ненавидела его. До встречи с ним она работала в Благовещенске прислугой. Прельстясь цветущим видом дальневосточницы, Василий долго, словно ястреб, кружил возле нее. Но Надежду смущало то, что он не сватался, а явно норовил обойти ее, как простушку. Раздосадованный неудачей, пригрозил вымазать дегтем ворота. Она не поверила, но у него слово с делом не расходилось… Надежде пришлось перейти к другим хозяевам. Забродин выжил ее и оттуда, прибегнув к испытанному средству. Переменив несколько мест, она, вволю наплакавшись, согласилась стать его сожительницей.
На шестой день совместной жизни он напился пьяный, поколотил ее, и они поехали к его матери на Зею.
— Она там в своем дому живет, — хвастался Василий.
Приехав домой, он сначала лодырничал, шлялся по городку, а потом неожиданно исчез, оставив свою молодуху с выжившей из ума матерью в пустой избенке, одиноко торчавшей в бурьяне среди глухого огорода.
Надежда оторвалась от дум, когда проколола иглой палец, с минуту смотрела на растущую алую ягодку, стряхнула ее, пососала уколотое место и снова начала вспоминать, растравляя старую тоску.
После исчезновения Забродина она нанялась поденщицей на дальний покос… Однажды, сметав последнюю копну, она взяла кузовок и пошла по лугу к лесу, где во множестве росли белоногие подосиновики с очень твердыми желтыми шляпками; изредка наклонялась, срывая красневшие на кочках ягоды княженики, сладкие и душистые. На поляне, за частым перелеском, ходили спутанные лошади хозяина покоса. Тонконогий жеребенок со звездочкой на лбу бегал по лесному окрайку. Кобыла то и дело беспокойно оглядывалась, роняла с губ клочья объеденной травы и зеленую пену, подзывая его тихим ржанием: день уже клонился к вечеру, звери поднимались на кормежку, и хищный их шорох слышался матери из тенистых чащоб.
Буланый жеребец с темным ремнем по хребту и пышным черным хвостом вдруг перестал есть, тревожно всхрапнув, повернул к лесу гривастую голову. Женщина отвела рукой ветки ольхи и тоже взглянула в ту сторону. Какой-то человек, крадучись за кустами и на ходу целясь из ружья, подбирался к лошадям. Надежда от страха застыла на месте, даже зажмурилась, и в это время громыхнул выстрел…
Раненый жеребенок, обливаясь кровью, завертелся волчком по поляне, за ним с испуганным ржанием тяжело скакали взрослые лошади. Бандит помедлил минуту, потом вышел из кустов, и Надежда узнала в нем Василия… Забродин воровато огляделся, выломил дубинку, начал отгонять лошадей.
Жеребенок кружился все медленнее… Один глаз у него был выбит, и кровавые слезы катились по коротенькой шерстке. Мотая раненой головой, он рухнул на колени, ткнулся боком в траву, дрогнул раз, другой и замер. Отогнав лошадей, Забродин вернулся, но в лесу захрустели шаги, и он припал к земле возле жеребенка.
Из чащи раздался тихий свист. Василий приподнялся и тоже свистнул, потом перебросил ружье через плечо, ухватил добычу и поволок ее в ту сторону. Навстречу ему выскочил другой варнак в широкой опояске, с котомкой за спиной, и они быстро исчезли за деревьями.
Утром хозяин долго ходил по тайге, разыскивая напуганных лошадей; видел кровь и помятую траву на поляне, но следы затерялись на кочковатой земле у ключа. Жесткая осока за ночь выпрямилась, и мужик решил, что жеребенка зарезали волки или медведь.
Когда Надежда приехала с покоса, Забродина дома не было. Он явился только через два месяца, злой и оборванный: попался со спиртоносами в станице Черняевой и сидел в тюрьме. Надежда сказала ему, что жить с ним не будет, и, осмелев от возмущения, назвала его разбойником. Василий выслушал молча, а потом набросил ей на голову одеяло и так избил, что она с неделю не могла подняться…
— Рано сегодня смеркается: все небо обложило, — сказала Акимовна, подбирая обрезки материи. — Устаю смотреть ушибленным глазом, так вот заломит в висках. Как это я на сук-то напоролась, батюшки! Могла ведь и вовсе окриветь. Давай уж бросай. Чай пить охота, а Маруся где-то запропала.
Акимовна помешала в печке короткой клюшкой. Крыша возле трубы протекала, и грязные ручейки, шипя, сползали по нагретому железу, испаряясь и оставляя ржавые потеки. Дождь шел с самого утра и к вечеру усиливался.
Маруся на этот раз не заставила ожидать себя слишком долго и явилась еще засветло в чужом мужском дождевике. Из-под наброшенного на голову капюшона влажно блестело ее гладкое личико.
Повесив дождевик поближе к печке, она, морщась, стащила разбухшие сапоги и пробежала к столу с книгой, захватив по пути материну шаленку.
— Опять принесла. — Надежда с любопытством взяла книгу и посмотрела картинку на обложке.
— Ты погоди с чтением, — сказала Акимовна дочери, — поешь сперва. Будет уж голову-то забивать!
— Я не хочу есть: пила чай у ребят.
— Беда с тобой, право! Нашла у кого чаи распивать. Они ведь, поди-ка, все холостежь?
— Ну и что из этого? Бросьте вы со своими предрассудками! Для меня они не холостежь, а товарищи.
Акимовна презрительно хмыкнула:
— Гусь свинье не товарищ.
Маруся обиделась:
— Рассуждение у тебя… совершенно отсталое. Лицемерность одна. Вроде старых девок: ах, ох, а сами в щелочку на парней заглядывают. — Маруся помедлила, отыскивая заложенную страницу, потом сказала вслух, но как будто рассуждая сама с собой: — Надо, однако, перейти на горные работы. Чего я в конторе с моей грамотой добьюсь? Лучше учиться на десятника, все-таки можно до смотрителя дослужиться.
— Куда тебе на горные работы, — испуганно всплеснув руками, сказала мать. — Девушке да по ямам лазить! Еще оборвешься, искалечишься. Да и народ на старании разный… то пьяные, то с похмела…
— А в актрисы-то раздумала уже? — спросила Надежда.
— Ну, какая из меня актриса!
Крашеные волосы Маруси приняли зеленоватый оттенок, от корней уже посветлели, и, глядясь по утрам в зеркало, девушка каждый раз испытывала чувство стыда и досады. Недавний разговор с Черепановым особенно поколебал ее намерение пойти в кино. Черепанов сказал ей:
— Чтобы быть артисткой, нужно иметь талант.
Есть ли у нее талант, Маруся не знала и очень приуныла, когда узнала, какое трудное дело стать кинозвездой. Черепанов — человек серьезный, не станет обманывать.
Надежда как бы угадала ее последнюю мысль.
— Говорят, секретарь партийного комитета ухаживает за тобой?
— Сплетни, — строго отрезала Маруся.
Черепанов ей нравился, но он был намного старше и вел себя по-товарищески просто, да и сама она еще не задумывалась по-настоящему о семейной жизни.
«Путное образование дать не смогли, специальности нет. Остаться ученицей в конторе… До восемнадцати лет еще далеко, но на какую должность зачислят потом? Ведь научилась только подшивать бумаги да принимать телефонограммы. Проситься на рабфак — не на что ехать».
На улице шумно и тоскливо свистел ветер, трепал клок моха, повисший над окошком. Крупные капли дождя стекали по стеклу, как слезы.
— Вот в такую-то слякоть небольшая радость на горных-то работах грязь месить… А зимой вовсе беда, — доносился от печки голос матери, заглушаемый потрескиванием дров. Акимовна старалась протолкнуть в дверку суковатое, измочаленное топором полено и, когда искры брызгали ей на фартук, сердито отряхивалась и что-то еще ворчала себе под нос.
— Знаю, что нелегко, да ведь надо чем-нибудь толковым заняться, — сказала Маруся.
— А я так вовсе без толку живу, — промолвила Надежда и, облокотясь на стол, положила на руки пышноволосую голову. — Мне бы сейчас в самый раз уехать отсюдова, пока Василий сидит. В деревню он не поедет. Сестра-то меня ждет, поди. Мы с ней дру-ужно жили!
Марусю никто нигде не ждал, о деревне она и представления не имела. Ее душа жаждала увлекательных путешествий, приключений, романтики, поэтому девушка с особым интересом открыла принесенную книгу.
Фамилия автора не совсем хорошая, вроде даже ругательная — Скотт, но, читая его книги, Маруся уносилась из своего барака бог знает куда Нарядные красавицы важно шествовали перед нею по комнатам замков; в мрачных подземельях томились пленники; звенело оружие на рыцарских турнирах, скакали лошади, сверкая дорогой сбруей. Рыцари, завоевывая сердца прекрасных дам, безжалостно пронзали друг друга копьями и мечами. Мрачная история Англии, походы крестоносцев, битвы и завоевания ошеломляли Марусю. Огромный, полный движения мир распахивался перед нею, приковывая к себе ее неискушенный ум. Она неуверенно пробиралась в этом мире, следя за судьбами милых сердцу героев и коварных злодеев, сердилась на свою неразвитость.
Вот норманны!.. Почему она никогда не слыхала о таком народе? Что это за страна, где сражались за господний гроб, и каким образом гроб там очутился?
Мать собрала на стол, с трудом оторвала Марусю от занимательной книги.
К чаю ржаные шанежки с пшенной кашей… А сколько кушаний подавалось на рыцарских пирах! Маруся, похрустывая корочкой и сверкая глазами на сидевшую напротив Надежду, пила с блюдца чай, обжигалась и рассказывала о прочитанном. Надежда ела не торопясь: она любила слушать, когда рассказывали.
— Выдумки, наверно? — заметила она осторожно. — Неужели взаправду такое было?
— Почему выдумки? Раз исторический роман — значит, все взаправду. Вот у нас история рабочего движения — записано то, что происходило в жизни.
Акимовна рассудила по-своему.
— И распустить нашу сестру — хорошего мало. Эко добро какое: мужики кололи друг дружку, а они любовались! У нас тоже бои бывали, стенкой на стенку выходили на кулачки… Сначала шутя, а после в колья. Чего уж тут бабе глядеть? Со страха душа мрет!
25
Черепанов любил бывать среди людей, но, переступив порог рыжковского барака, вдруг ощутил чувство странной неловкости и только тогда подумал, что заходить не следовало: старатели еще на работе. Его выручила Маруся. Она в этот день пришла домой раньше обычного и сидела на своей постели, накрыв пальтишком босые ноги. Голова ее была повязана мокрым жгутом платка, глаза лихорадочно блестели.
— Ты меня пришел проведать? — простодушно спросила она, протягивая ему горячую руку. Я вправду расхворалась. Голова болит, тряхнуть ею не могу, будто она гвоздями набита.
Черепанов сел на скамейку, беспокойно огляделся.
— Купалась, наверно?
— Купалась на Орочене, за дамбой. Там теперь глубоко стало, но вода страшно студеная. Смотри, как сразу ощетинилась! — говорила Маруся, поеживаясь и удивленно разглядывая на свет обнаженную до локтя руку.
— Ты ляжь да укройся! — сказала Акимовна.
— Разлеживаться хуже… Однако, в конторе я и сидеть не смогла, смотрю на бумаги, а у меня слезы, слезы…
— А вообще в конторе тебе нравится?
— Нет, не нравится. Скучно! Входящие, исходящие, полдня на телефоне висишь, и ничего интересного.
— Что же тебя интересует? — спросил Черепанов и быстро обернулся: в барак вошла Надежда, нагруженная свертками.
Одним взглядом он охватил ее всю, от белокурой непокрытой головы до стройных ног, обутых в черные на низком каблуке башмаки.
— Конфет купила? — спросила Маруся.
— Купила дешевеньких.
— Ну, будем пить чай с дешевенькими, а в другой раз Черепанов принесет нам хороших. Принесешь?
— Принесу, — пообещал он и снова пристально взглянул на Надежду. Она смотрела на него доброжелательно и спокойно. — Значит, в конторе тебе не нравится? — переспросил он Марусю, невольно вздохнув.
— Нет. Пожалуй, из меня совсем ничего не получится. Поживу, поживу, выйду замуж и стану самой простой бабой. Мне раньше казалось — чем так жить, лучше умереть, а теперь нет-нет да и подумаю! Можно ведь стать не простой бабой, а хорошей. Мужа жалеть, беречь, и чтобы обязательно дети. Всякие… черненькие, беленькие, вот как у жены фельдшера. Я бы их штук шесть родила, тогда был бы смысл…
Черепанов слушал болтовню девушки с любопытством, Надежда одобрительно, мать смущенно.
— А что, если тебе сразу подбросить человек пятьдесят? — спросил Черепанов после небольшого раздумья.
Маруся удивленно посмотрела на него:
— Почему пятьдесят?
— Любишь ты их?
— Я маленьких всегда любила. Но мне некогда было с ними. А теперь… Вот у жены фельдшера… Я после работы к ним забегаю и хоть минуточку подержу на руках Вальку — это самый младший, еще грудной. Однако, он меня хорошо знает и всегда мне улыбается.
— Тебе надо идти работать в детский сад.
Маруся ответила не сразу: в замешательстве стащила с головы повязку и, старательно свернув, положила ее на столик.
— В детский сад?.. Шутишь, Черепанов?
— Без всяких шуток.
— Но я не умею… Ведь не уборщицей же ты мне предлагаешь? — Маруся прижала ладони к горящим щекам. — Нужно ведь быть педагогом.
— Научишься. И не педагогом. Мы тебя поставим заведующей.
— Ой!
— Что ой? Ты подумай, зря-то не волнуйся. В сентябре на Незаметном будут открыты при райкоме союза горняков курсы работников по дошкольному воспитанию. Подучишься и начнешь действовать. Луша Ли собирается в детских яслях работать. И своего будущего младенца туда же определит.
Забыв о болезни, Маруся начала торопить Акимовну с чаем. Сама принесла варенье из черники, шаньги. И так много говорила и смеялась, что щеки у нее стали совсем пунцовые.
— Не суетись! Без тебя обойдется, — сказала Акимовна. — Набегаешься и вовсе свалишься.
Когда Егор пришел с работы, он испугался, увидев за столом Черепанова. «Сватается к Марусе», — подумал он, вешая спецовку на деревянный гвоздь у дверей, хотел было уйти из барака, но, пересилив диковатую робость, достал кружку и начал наливать воду для бритья из чайника, стоявшего на печке. Руки его дрожали, нечаянно он толкнул железный лист и опрокинул ведро с супом, отставленное Надеждой. Почти с отчаянием смотрел Егор на лапшу, поплывшую по неровному полу. Суетня женщин вывела его из оцепенения. Он быстро прошел мимо них и смеявшихся старателей и выбежал из барака.
— Вот чудной Егор, господь с ним! — сказала Надежда. — Подумаешь, какая беда случилась! Сейчас только консервы открыть, и новая похлебка готова.
* * *
Черепанов засиделся у Рыжковых допоздна. Явились старатели из соседнего барака, и время в разговорах прошло незаметно. Когда Черепанов собрался идти домой, Зуев пошел с ним вместе. Старик проводил его по прииску и стал подниматься в гору.
— Легкий ты человек, Мирон Устинович, нет на тебе накипи никакой: ни злобности, ни зависти, — говорил он. — Потолкуешь с тобой — жизнь ровно на ладошке. Этак все ладно получается. А нутро твое для меня непонятно. Какая в тебе пружина действует? Заработок у тебя небольшой, хлопот много… А ведь мог бы ты по своему положению на богатую делянку попасть. Да с твоим-то здоровьем, да с молодостью! Сказывают, будто сам царь не побрезговал на Урале в забое покайлить. И выкопнул он там самородку с конскую голову. Только это механика была у тамошнего начальства, чтобы отличиться перед царем. А самородку ту раньше нашел шахтер один, а вместе с ней смерть себе нашел. Почему фарту не ищешь? — Старик Зуев остановился, и Черепанов, шедший сзади по узкой тропинке, наскочил на него.
— Я тоже фарт ищу, — сказал Черепанов.
Зуев укоризненно покачал головой. Клиноватая бородка его смутно белела в ночном сумраке.
— Шутишь! Кто его так ищет? В землю надо смотреть. Земля счастье хранит! — С этими словами старик уверенно топнул ногой. Под сапогом звонко откликнулась сланцевая щебенка.
Было свежо; ветер тихо покачивал редкие на горе кусты стланика, в лощинах дымились туманы.
— Счастье наше, отец, не в земле, а в нас самих, и каждый его открывает по-своему, — возразил Черепанов. — Твой фарт, как ты его понимаешь, — просто удача. Его люди всегда искали: продал купец товар с прибылью — фарт, оттягал кулак землю у соседа — тоже фарт. А есть еще и воровской… — Черепанов заметил резкое движение Зуева, твердо сказал: — Ты Саньку Степанозу знаешь? Он ведь тоже ищет, где бы сжулить, спиртишку достать, перепродать. Забродина вашего возьми… Страшный человек! Этот работников на себя ищет. Хочешь ты на него работать? Нет? Так он тебя воровством своим заставит.
— Он заставит. Верно. А по-другому как?
— По-другому? Вот о Рыжкове Акимовна сказала: «Заразился приисками. Вечный старатель». Но старатели разные. Одни фарт только в самородке ищут, другие к большему стремятся. Ведь Рыжкову только шаг сделать к счастью, которое поднимает душу человека. Вот возьмем Сергея Ли, к примеру. Пришел он сюда неграмотным парнем. Темный, забитый был, но сердцем чистый. Пригрел его советский строй, и потянулся паренек не за самородком золотым, а к учебе и в том фарт для себя открыл. Но не успокоился: дальше ищет и все новые богатства открывает в своей душе и в людях. Жизнь его будет с каждым годом богаче, красивее, интересней. Можно ведь сытно жить в теплом углу, деньги иметь, вещи приобретать. Мы не против зажиточности. Но если нет при этом общественного интереса, то человек злой становится, точно цепная собака. Ведь собака на цепи не конуру охраняет, не хозяйское добро, а от скуки бесится. Разве мы можем о таком счастье мечтать? Нет! По-нашему, счастье только в коллективе, где каждому подходящее место найдется. Чтобы он не бился из-за куска хлеба, а мог развернуться в самом лучшем. Чтобы после оглянулся на себя и сказал: «Да неужели это я такой пришибленный был?»
Зуев рассмеялся.
— Чтобы всем, говоришь, место нашлось? А ведь многих ты обижаешь, Мирон Устинович. И враги у тебя есть. Е-есть! Помнишь, шла перепалка из-за разведок на устье Орочена? Круто вы тогда дело повернули, дорогие товарищи! Оно и верно, если бы послабее напирать, золото до сих пор лежало бы нераскрытое. А только я так смекаю, может, и не имелось вины у тех, которых вы поснимали. Может, золото им просто не давалось либо уменья не хватило.
— Были и такие. Если нам деликатности с ними разводить, мы на месте топтаться будем. Свой человек не обидится, когда его толкнут нечаянно.
— Чудной ты, — ласково сказал Зуев. — Ну, ладно, иди домой отдыхай. И мне давно на боковую пора. Состарился, кость стала сухая, легкая — ко сну не тяготит. Помирать скоро, а все чего-то ждешь в жизни, и все нету. А увидать страсть охота. Вот чего ради я за тобой увязался? Спал бы себе, старый дурак, а то теперь обратно переться надо.
— До свидания, отец!
— Прощай, Устиныч.
Старик отстал, но еще долго глядел вслед Черепанову, пока тот не скрылся за кустами.
Черепанов шел медленно. Глухо шумел слева, в вершинах ключей, дремучий хвойный лес. Мощное дыхание его Черепанов чувствовал на своем лице. Глухарь тяжело сорвался с одиноко стоявшей сосны. Шумный мах его крыльев утонул в тумане.
«Здоровый какой! — подумал Черепанов, невольно вздрогнув. — На охоту бы сходить, рябчиков попугать, да еще не время».
И на общительного Черепанова находила иногда жажда тишины. Он любил суровую и прекрасную северную природу, был легок на ногу и, как на праздник, отправлялся в тайгу к геологам, ведущим разведку, к лесорубам или рабочим-покосчикам. С ружьем за плечами, в мягких ичигах, зимой на лыжах он без устали преодолевал огромные пространства… Но на зелено-бело-голубых просторах ему не хватало вида человеческого жилья… Дымок лесного зимовья сразу ущемлял его сердце тоской и радостью.
«Хотя бы один поселок на пятьдесят, на сто километров, — говаривал он дружку Сергею Ли. — Представь-ка, если бы среди этих гор бежала лента шоссе. Асфальт бы! Перекинь мосты через наши реки — куда тут Швейцария! В небе серые оскалы гольцов, по нагорьям альпийские розы. Ельники, сосновые боры. Олени пасутся на моховищах. Зимой, правда, холодновато. Но зато летом жара! Выращивай лук, редиску, и картошка вовсю растет».
Любое начинание по сельскому хозяйству на приисках Черепанов приветствовал с воодушевлением, радуясь каждому клочку обработанной земли. Он внимательно присматривался к бывшим огородникам-китайцам. Интересовали его и горняки-корейцы. Он уважал их за трудолюбие, скромность и честность — самые дорогие для него качества в человеке. Но среди восточников еще действовали старшинки, которые вели себя в артелях как хозяйчики-арендаторы…
«Сколько разной нечисти! Так и прет она из каждой щели! — говорил Черепанов, делясь с Сергеем Ли своими мыслями после жаркой схватки на последнем артельном собрании. — Уже решен в стране вопрос — кто кого. Побили собственников в торговле и промышленности, в сельском хозяйстве начинаем побивать… А у нас на приисках, при мелком старании, какой еще простор стремлению к наживе! Кустарничество! Хищничество! Теперь дано указание о механизации приисковых работ!.. Вот когда наша таежная окраина почувствует результаты решений четырнадцатого и пятнадцатого съездов партии об индустриализации страны! Но какое бешеное было сопротивление! Тянули и назад, в прошлое, и на явный провал. А кто? Да те же выкормыши буржуазии, которым наплевать на таких, как Афанасий Рыжков, старик Зуев или Егор Нестеров — хороший парень! Весь этот народ тоже до сих пор не понимает, какой переворот в его жизни сделали решения партии. Но большой переворот будет и замечательный!»
Вспомнив этот свой разговор с Ли, Черепанов остановился, вдруг взволнованный до глубины души. Порыв гордой, любовной радости за свою страну охватил его.
— Правильно идем! — сказал он вслух, представляя могучие экскаваторы, поставленные на горные работы, и выражение изумления и восторга, с каким созерцала их толпа собравшихся землекопов с натруженными, жилистыми руками.
…Из-за косогора показались огни в долине Ортосалы на устье Орочена. Они проступали в тумане мутными пятнами, сливаясь в широкое бледно-желтое зарево, на фоне которого чернели одинокие кусты стланика, словно сторожившие прохожего у нагорной тропы. Черепанов свернул левее, направляясь к спуску, в вершину Орочена, но позади неожиданно послышался шорох шагов. Хрустнула ветка. Черепанов оглянулся и сразу был оглушен жестоким ударом в голову. Он покачнулся, но не упал, а медленно сел на влажную от росы землю. Все закружилось перед ним, теплое потекло по лицу, на шею, на грудь… Но пальцы уже открыли кобуру нагана. Наган оказался страшно тяжелым. Сжав зубы, Черепанов с усилием поднял его, успел найти приближавшуюся цель и выстрелил.
26
Утром, идя на работу, Маруся увидела около больницы кучку женщин. В середине стояла толстая, как ступа, Ивановна, Марусина ученица, и слегка покачивала маленькой головкой, слушая бабьи разговоры.
— Вы что собрались, кумушки? — весело спросила Маруся, проходя мимо.
— А ты ничего не слыхала?
— Нет, — сказала Маруся и остановилась.
— Партийному секретарю голову проломили!.. Камнем до крови.
— Сиделка вот сказывает — бинтов смотали на него без конца.
— Может, и помрет, если в мозгах кровь запечется…
— Очень просто, помереть недолго, — наперебой заговорили бабы.
Маруся побледнела и совсем по-детски громко заплакала. И так искренне выразилось ее огорчение, что прослезилась и Ивановна, притихли остальные приисковые подружки: всем вспомнилась дружелюбная простота секретаря партийной организации.
Девушка провела ладонью по лицу, подняла намокшие ресницы, в глазах загорелись злые огоньки.
— Где он сейчас?
— У себя дома.
— В больнице не захотел лежать.
Маруся до боли сжала кулаки и быстро пошла по дороге к бараку Сергея Ли. Женщины долго смотрели ей вслед.
— Словно своего родного жалеет!
— Да как не пожалеть, бабы!
— Не из-за нее ли тюкнули-то его? — высказала предположение юркая, точно ящерица, старушонка-зимовщица. — Уж не Егорово ли это дело? На днях вечером выбежала за кладовку и слышу, будто разговаривает кто потихонечку. Я по кустикам, по кустикам, насколько могла, подобралась. Стоят они на дороге: этак Егор, этак Маруська. Чего говорили, брехать не стану — не слыхала, а только, видать, она сюда шла, а Егорка-то ее отговаривал. Долго стояли. Не иначе, это его работа!
— Парень-то степенный! Вряд ли пошел бы он на такое, — возразила Ивановна. — Хотя с ревностью не шути. Ох, и лютое чувство!
Разговоры перешли на мужей, измены и ссоры. И долго еще трещали бабы, пока не одернул их проходивший мимо старик Фетистов.
— Загалдели, вороны… — сказал он дребезжащим тенорком. — Кому беда, а вам все развлечение.
Вечером неожиданно арестовали Егора, так как стало известно, что он в ту ночь пришел в барак только под утро. Где он был, Егор отказался сообщить, и два милиционера увели его на Незаметный.
27
Ветер вздувал пузырем распоясанную рубаху Никитина, трепал пряди его мягких волос. Мишка стоял на краю неглубокой ямы, ожидая, пока другой старатель нагружал тачку. Откатку производили двое, три человека работали в яме, маленькая артель была вся налицо. Деляну эту они получили недавно и торопились использовать последние хорошие дни уходящего лета.
С весны Никитин уже успел переменить несколько делянок, но нигде не заработал. Неудачи не особенно огорчали его. Он не привык серьезно задумываться, не умел рассуждать, а жил беспечно и просто.
Пить водку Мишка научился еще совсем желторотым юнцом. Вступая в комсомол, обещал прекратить выпивку, однако старательская среда, в которой он находился, не допустила подобного отступничества. Везде, где он появлялся, старатели настойчиво угощали его, и он не мог отказаться; после гульбы жестоко сокрушался, получая нагоняй в ячейке, раскаивался… и снова не выдерживал.
Когда его исключили, он сначала загрустил, а потом махнул рукой и увлекся поисками фарта.
Сейчас Мишка стоял и думал о предстоящих промывках, вспоминал, как фунтили на Верхне-Незаметном в двадцать четвертом году. Он заработал тогда в одно лето около десяти фунтов золота, а ему не было и семнадцати лет. Не зная, что делать с таким сказочным богатством, он очертя голову проиграл добрую половину в карты, а остальное прокутил в компании прихлебателей, восхищенных его щедростью и безрассудным молодечеством. С тех пор и закрепилась за ним горькая слава компанейского парня.
Закончив углубку ямы, старатели отдохнули и начали вскрывать «торфа» вверх по деляне. Мишка Никитин работал теперь в забое. Из-под кайла его так и брызгали белые искры, обрушивались плотные комья породы.
Подравнивая низ забоя, он ударил кайлом раз, другой, и вдруг что-то блеснуло перед его взглядом. Он застыл, подавшись вперед напряженным телом, и все мысли мгновенно исчезли, осталось только вот это: кайло в руках, буро-желтая разрушенная земля и яркая царапина в углублении забоя. Старатель упал на колени, ковырнул блестящее, и из-под железного носа кайла вывернулся на его ладонь небольшой грязный камень.
По одному весу, не глядя, он узнал бы, что это золото, поднялся, ошалелый от радости, и долго протирал находку подолом рубахи. Остальные старатели нетерпеливо переминались вокруг, ревниво и жадно следя за каждым его движением.
Матово-желтый, поцарапанный сбоку самородок, похожий по форме на уродливую картофелину, глянул на них с Мишкиной ладони. Он переходил из рук в руки, им любовались, нежно оглаживали его неровности.
— Фунта полтора потянет! — сказал бывший зимовщик Быков, прикидывая находку на вес.
— Да, пожалуй, не меньше.
— В конторе определят.
— Сдавать понесем — узнаем.
«Сдавать в контору…» Эти слова сразу охладили пыл золотоискателей, и они присмирели, призадумались: всем стало жалко отдать самородок. Не то что они мало получили бы за него — оплачивали неплохо, но так заманчиво иметь свое золото! Хоть пропить, хоть перепродать, но распорядиться им по собственному усмотрению. У косого Быкова даже руки затряслись.
Все без слов понимали настроение друг друга и чувствовали себя неловко. Некоторые раньше занимались хищением, но вместе собрались впервые, еще не снюхались, да и как утаить самородок на пятерых?!
— Может, там еще есть? — выразил общую мысль артельщик Григорий, и все принялись искать, разгребали породу, осторожно кайлили, растирали комки в ладонях. Несколько маленьких самородков успокоили их, и Быков пошел за лотком.
Народу в вершине ключа было мало, и до вечера артель незаметно промыла лотков двадцать. Прежде чем идти в барак, копачи договорились, что никому не скажут о своем фарте, и два дня будут мыть тайком: они числились на подготовке, и горный надзор к ним заглядывал редко.
Мишка тоже согласился на хищение. Он хотел оставить себе найденный им самородок, хотя и не представлял, куда приспособит эту огромную золотину.
На другой день утром, выйдя из барака, он увидел Григория, разговаривавшего с китайцем в круглой шляпе и дабовых штанах с отвислой мотней. Мишка не сразу узнал в этом старателе, худом и длиннозубом, веселого Саньку Степанозу.
Артельщик отошел в сторону, подмигнул Мишке.
— Просится в артель, — сказал он, кивая на китайца, — учуял, где жареным пахнет. Пай вносит шестьсот рублей… Примем, что ли?
Мишка недовольно насупился.
— Откуда он узнал? Натрепался кто-нибудь?
— Да ты не бойсь, с ним удобней… Перепродать али еще чего, рисковать на стороне не придется. Теплого время осталось мало, впятером все равно не успеем отработать.
— Как хотите, — сказал Мишка уклончиво.
Он все-таки надеялся, что остальные члены артели запротестуют. Однако из дальнейшего стало ясно, что вопрос о принятии новичка уже решен заранее: никто не удивился появлению китайца на деляне, и Григорий ни с кем больше не советовался.
За три дня они набили золотом увесистый мешочек и начали промывку на бутаре: срок подготовительных работ кончился, скрываться дольше было невозможно.
Вечером после первой промывки, давшей артели семьсот сорок граммов, в бараке началась пьянка.
Перед гулянкой Мишка, еще не успев заложить как следует, взлохмаченный и счастливый возвращался из ороченского магазина с котомкой, набитой продуктами, бутылками спирта и двумя буханками хлеба в руках. Сокращая путь, он пробирался в стороне от тропы, отводил растопыренными локтями ветки кустарников, и мшистая земля беззвучно колебалась под его легкими шагами.
— Жалко, мы вместе не пошли, — сказал впереди приглушенный голос. — Вдвоем мы бы во…
Мишка словно налетел на глухую стену, разом подался назад и замер.
— Его стреляй! — ответил китаец и злобно сплюнул. — Кругом мешает компанья с Сережка Ли. Тебя союза не пусти, хочет справка получи из ваша деревня. Меня грози высылка, как чужого элемента. Какой вредный люди! Я двадцать пять года живи на русски сторона, такой плохой не видал.
— Жалко, м-мы бы его… вдвоем-то… — промычал первый, и Мишка узнал голос Быкова.
Потом они пошептались неслышно и пошли к бараку. Никитин, прижимая к груди еще теплый хлеб, двинулся следом. Ночная птица ширкнула его крылом по лицу, и от неожиданности он чуть не выронил одну буханку.
«Вот напоролся на приключение!» — думал он, поглядывая то на быстро темневшее небо, то вперед, чтобы не упустить Быкова и его спутника. Когда свет из окошка упал на них, он узнал круглую шляпу Саньки и вырванный углом лоскут на рукаве его китайской кофты.
В бараке было пьяным-пьяно, но Мишка в этот вечер пил мало, подолгу задумывался, щуря выпуклые светлые глаза, тихонько насвистывал.
Утром он отозвал в сторону желтого с похмелья артельщика и, глядя ему в упор в широкую, стянутую рубцом переносицу, сказал приглушенным голосом…
— Этот, ходенька-то твой… он Черепанова высторожил.
— Да ну? — искренне удивился Григорий. — Ах он, холера! Он ведь ладил в старшинки попасть в восточной артели, а Черепанов да Сергей Ли всех китайцев против него восстановили. На Сергея старшинки тоже грозятся. Мстительные они до ужаса. — Григорий переступил с ноги на ногу, спросил с неловкой усмешкой. — Что же ты теперь будешь делать?
— Заявлю, — жестко сказал Мишка.
Глаз артельщика воровато забегал, широкое лицо его покрылось от волнения бурыми пятнами.
— Покорно благодарим! Он же нас засыплет насчет утайки-то! Вместе ведь хитили… Тогда нас с делянки сразу выметут.
Об этом Мишка не подумал. Углы его толстых губ опустились. Григорий, заметив растерянность парня, хлопнул его по плечу, сказал ласково:
— Брось, Мишуха! Чего нам ввязываться в чужие дела! Один раз пофартило в кои годы, и то пойдет псу под хвост. Не по-товарищески будет с твоей стороны. Они с тобой не больно цацкались: как не поглянулся, так и вытурили в беспартийные. От всей души советую — не связывайся!
Слова эти крепко поколебали Мишкину убежденность. В самом деле: Черепанов остался живой, в драках люди еще сильнее увечат друг друга, и никто бузы не поднимает. Не стоит из-за пустяков лишаться хорошей делянки.
Артельщик сразу повеселел и обращался с Мишкой заискивающе-дружелюбно.
Однако общество Быкова и Саньки после подслушанного разговора стало тяготить Мишку.
«Собралось жулье на легкую поживу!» — злился он. Особенно раздражал его вид угрюмого Быкова. Потом он вспомнил Егорку Нестерова. «Сидит парень ни за что!» Конечно, знакомство у них малое, но разве это по-товарищески — не выручить его из беды?
28
Когда милиционеры вывели Егора из барака, одна только Надежда проводила его. Она молча шла рядом с ним, теребя край фартука, пока милиционер не отстранил ее. Егор несколько раз оглядывался и видел, как неподвижно, опустив руки, стояла она на тропинке.
«Несчастные мы с ней оба!» — подумал он тоскливо.
Взяли его сразу после работы — от волнения он не смог пообедать, но не испытывал ни усталости, ни голода. Случай с Черепановым возмутил всех приискателей, и теперь Егор сгорал от стыда под их насмешливыми и осуждающими взглядами. Узелок с бельем стеснял так, что хотелось зашвырнуть его в кусты. Может быть, не всякому встречному было бы понятно, что ведут арестованного, но проклятый узелок выдавал все!
— Рабочий человек, а не лучше кулака, который из-за угла с обрезом нападает, — сказал кто-то басом.
Егор взглянул исподлобья, увидел у тропы двух знакомых старателей и отвернулся.
— За что он его? — спросил другой.
— За девку.
У Егора бешено заколотилось сердце: откуда стало известно, что он ревновал Марусю к Черепанову? Да, ревновал, но разве можно заподозрить его в покушении на убийство? На миг он закрыл глаза, и ему отчетливо представилось, как заливает кровь запомнившееся, кажется, навсегда смуглое лицо с такой светлой улыбкой, что даже его, Егорова, угрюмая душа открывается ей навстречу. Невыразимая обида охватила его.
— Я не виноватый! — крикнул он, останавливаясь, но в ответ услышал смех.
— Иди, иди!.. Там разберут, виноватый или невиноватый, — сурово сказал милиционер.
И старатель, споткнувшись, пошел дальше.
На полдороге, когда отдыхали у ключа, он вспомнил о лепешках, которые успела всучить ему Надежда, потянулся было к лежавшему на траве узелку, но опустил руку. «Хуже кулака!..» Егор тоже слышал о том, что творилось в последние годы в деревне: о растущих артелях-колхозах, о бешеном сопротивлении мироедов. «Повеситься в пору, — мелькнула у него мысль. — До чего розно душа с телом живут — душа с тоски рвется, а брюхо жрать просит». Мгновенно вспыхнувшее отвращение к себе вылилось в решении: «Ежели сразу не выпустят, уморюсь с голоду».
На допросе он упрямо молчал, и молчание его даже озадачило седоватого, видавшего виды следователя. Вернувшись в камеру, Егор залег в углу и притворился спящим. С ним вместе сидели жулики самого низкого пошиба. Разглядывая их из-под прижмуренных век, он слушал малопонятные разговоры, и ему хотелось раскидать эту нечисть, выломать дверь и убежать в тайгу, где все так просто, где можно лечь прямо на землю, прижаться к ней, словно к груди матери, и, не стыдясь, заплакать навзрыд…
Неизвестный, бросивший камнем в Черепанова, нечаянно отомстил и за ревнивые Егоровы терзания, и поскольку соперник остался жив, Егор сначала был почти доволен. Но по общему негодованию он понял, что таежникам Черепанов дорог. «А что он сделал для нас хорошего? — размышлял Егор. — Часто бывал на делянах?.. Ему за это деньги платят. Собрания проводит? Так на то он секретарь организации. Это его обязанность прямая». Вспомнились слова Зуева. «Душевный человек!» — сказал однажды старик о Черепанове.
«Может быть, это: за работу деньги платят, а душевность — особая статья, ее не укупишь. Выходит, я хуже всех, если порадовался его несчастью? Значит, я с бандитом заодно?»
От этой мысли Егор так скрипнул зубами, что застонал вслух.
— Заболел, что ли?
Егор открыл глаза и увидел красновекое лицо картежника-шулера, изрытое глубокими морщинами.
— Тяжело!
— А меня выселяют из приискового района, — сообщил, словно похвастался, шулер. — Власть оберегает карманы трудящихся от моего искусства, а мое здоровье от здешнего климата. В административном порядке. — Он присвистнул и сделал странное движение тонкой, бледной, словно бескостной, рукой. — А ты?
— Что я? — спросил Егор неохотно.
— Тебя тоже к высылке?
Молодой старатель вспыхнул от возмущения:
— Я по ошибке.
— Ты был уже на допросе?
— Был.
Шулер склонил голову, оттопыренное ухо его будто пошевелилось.
— И что же?
— Ничего.
— То есть как ничего? Если ошибка, то она должна выясниться.
— Ее нельзя выяснить.
— Почему?
Егору не хотелось говорить с этим жуликом, приставшим к нему то ли от скуки, то ли в поисках единомышленников.
— Ты террорист, — подсказал шулер. — Тот, кто убивает все мешающее нормальной жизни, — пояснил он, заметив недоумение старателя. — Я тебя приветствую.
— Приветствуешь? — Егор поднял вихрастую голову, посмотрел на собеседника с неприязнью. — Не больно-то я нуждаюсь в твоем приветствии. Понял? Не на того напал. В ту ночь был я в чужой шахте. Золота хотел намыть в богатом забое… А молчу потому, что есть одна… которая за это не простит.
— Предпочитаешь прослыть убийцей? — съязвил шулер.
Егор нахмурился.
— Тут я не виноватый. Меня все равно выпустят.
— Ты оказываешь мне больше доверия, чем следователю, — заметил шулер, усмехаясь.
— Стыдное про себя не всякому расскажешь. Перед хорошим человеком будешь вроде оплеванный, а ты кто? Человек, что ли?.. Так, видимость одна.
Шулер отодвинулся и озадаченно притих. А Егор повернулся на спину и, не слушая шушуканья блатных, задумался.
29
— Можно приступать, Петр Петрович? — почтительно спросил смотритель работ Колабин.
Потатуев взглянул на часы:
— Пора.
Колабин рысцой обежал вокруг промывальной ямы зумпфа и снял пломбы с бутары.
Быков и Мишка Никитин приступили к съемке. Рабочий день на делянах уже кончался, и любопытные подходили со всех сторон. Они стояли в некотором отдалении, переговаривались между собой, но не спускали глаз с шлихов, смываемых с бутары в деревянный лоток. Мишка, присев на корточки, держал лоток. Руки его покраснели от холодной воды, но он сидел неподвижно, сжав толстые губы, и, казалось, ничего не замечал, кроме ярких желтых крупинок, мелькавших в черной массе шлихов.
— Сколько вчера сняли? — спросил Потатуев Саньку.
— Два фунта двенадцать золотника. — Китаец подумал и добавил весело: — Восемьсот пятьдесят грама. Шибко хорошо заработай. Каждый день.
— Я тоже думаю, что неплохо. Все сдаете? Не таите?
— Как можно? Ваша нас обижает такой подозрения! Смотритель пломба делает.
— Разве что пломба! Да вы и с пломбированного сумеете похитить. — Потатуев посмотрел на китайца, подмигнул, и оба рассмеялись. Оглянувшись на подошедших старателей, Потатуев громче и строже добавил: — Смотри, попадетесь, сразу с делянки долой!
— Зачем попадетесь! Наша хорошо живи, смирно. Ваша моя знает. Давно знакомый люди.
— Потому и предупреждаю, что знакомый.
Потатуев усмехнулся и тоже подошел ближе к зумпфу. Артельщик и Мишка «доводили» золото, отмывая шлихи в двух лотках. Остальные члены артели стояли тут же, с неослабевающим интересом следили за движениями промывальщиков.
Потатуев через плечо Мишки заглянул в лоток. Золото медленно передвигалось в нем, вращаемое движением воды: самородок, много мелкой крупы, пластинка, похожая на елочку; поблескивая, легко смывались остатки шлихов. Крякнув, Потатуев выпрямился, огладил ладонью усы и подбородок, маленькие глаза его хищно, светло горели.
Санька подошел сзади, посмотрел на золото, весело прищелкнул языком. Старатели с других делян завистливо вздыхали или громко хвастались прошлыми удачами.
— Кто такой? — спросил Потатуев Саньку, кивая на Быкова. Зеленоватые глаза Быкова смотрели на золото, смытое теперь уже на один лоток, и на Потатуева; всем видом и выражением он странно отличался от остальных старателей. — Давно в артели?
— Моя приходи, его здесь работай. Наша люди… — Лицо Саньки было неподвижно, но глаза настороженно ловили взгляд Потатуева.
— Раньше знал?
— Раньше года знакомый нету.
Потатуев еще раз пристально оглянул Быкова и обернулся к подошедшему Колабину.
— Ну, как?
— Сейчас взвешаем. Пойдем в контору или здесь можно?
— Съемка крупная, лучше в конторе. Сколько приблизительно?
— Около двух фунтов.
— Вот счастье людям! — Потатуев прикинул на ладони мокрый тяжелый узелок и снова усмехнулся в усы. — Что бы вы сделали, если бы вам достался такой сверточек?
— Право, не знаю… — замялся Колабин, словно и вправду вообразил себя обладателем золота. — Купил бы домик в Благовещенске с фруктовым садом…
— А ты куда свой заработок потратишь? — спросил Потатуев, передавая узелок Григорию.
— Куда-нибудь употребим. Жена у меня денежку любит, съездим в жилуху. Погуляем. Потом опять на делянку. Чего же еще? — Старатель подошел ближе к Потатуеву, обдавая его винным перегаром, сказал просительно: — Вы бы, Петр Петрович, зашли к нам в барак на угощенье.
— Не могу, дорогой. Я человек старой выучки. У нас не полагалось, чтобы служащие с рабочими компанию водили.
— Мы понимаем, конечно… Просим от души.
— Не могу. Люблю таежников, но в семейственности меня никто не попрекнет. Черепанова ты небось не пригласил бы.
— Так он человек партейный. Он на гулянку, конечно, не пойдет, а за всяко просто заходить никогда не стесняется.
— А у меня времени нет, чтобы запросто ходить по баракам, — раздраженно сказал Потатуев и, кивнув смотрителю, пошел по узкой тропинке между ямами и отвалами разреза.
30
Когда бабьи разговоры дошли до Акимовны, она чуть не захворала от огорчения, заохала, разбранила дочь, но Маруся очень резко оборвала ее причитания. Она тоже нервничала, потому что жалела Егора, но сомневалась в его непричастности. Где, в самом деле, он шлялся в ту ночь?
— Если у вас любови не было, так чего ради он вызверился на Черепанова? — приставала мать.
Маруся нетерпеливо встряхивала стрижеными волосами.
— Оставь ты меня в покое! Я-то при чем, если у него не все дома? А может, он и не виноват. С Черепановым у меня отношения товарищеские, и нет, понимаешь, нет повода приплетать меня к нему!
— Говорила я тебе: какая может быть дружба у девушки с холостыми ребятами!..
Но девушка, не дослушав попреков, уходила из барака. Сам Рыжков ничего не говорил, не спрашивал и сердито подмигивал жене, когда она начинала вздыхать да охать.
— Ты ровно гвоздь в сапоге: беспрестанно тревожишь, — укорил он ее. — Отобьешь девку от дома, ей и без твоей докуки тошно.
Акимовна удивилась до онемения. Она ожидала от мужа попреков за недогляд, сетований на избалованность дочери, даже ругани, но не попустительства, которое оскорбляло ее, ставя под сомнение родительское право распекать и советовать. Она суетливо оправила платок, сказала скорбно:
— Рада бы помолчать, да на сердце кипит. Глазыньки у меня от слез притупели — нитку в иголку не вдену. Срамоты сколько: кого ни встреть, всяк намолвку делает.
— У вас, у баб, обычай таков: соберетесь и ну языками молоть. Нечего убиваться прежде времени. Пока еще плохого не видать.
— Чего же хуже надо, потатчик ты этакий? Чтобы в подоле принесла?
— Выдумаешь! Но ежели что, и с ребенком не пропадет, на улицу не выкинешь. Ладно, хватит об этом толковать. — Он сел на чурбан и попросил ласковее: — Обстриги меня под гребенку, а то я вовсе облохмател.
Женщина накинула ему на плечи свой чистый фартук, взяла ножницы, железную гребенку и принялась за стрижку. Скоро половина головы стала похожа на неровно выкошенный лужок. Акимовна зашла было с Другой стороны, но Рыжков отстранил ее рукой и, глядя исподлобья, смешной и печальный, сказал с горестным вздохом:
— Неужто взаправду Егоркино дело? Куда это годится? Без всякого хулиганства можно было обойтись. Пришел бы и сказал: так и так, мол, Афанасий Лаврентьич, ну и фактически поставили бы перед ней вопрос ребром. А то сунулся в брод по самый рот. Эка дурость какую спорол! — Рыжков шаркнул по полу ичигом, будто лягнул беду-кручину, и снова наклонил к жене большую голову.
Надежда догнала Марусю в сенцах, возбужденно и быстро зашептала:
— Марусенька, ты бы похлопотала о нем… о Егорушке-то. Золотой ведь он человек! Не поднимется у него рука на такое!
— Что ж я могу? — грустно сказала Маруся, удивленная волнением Надежды.
— Посоветуйся с кем-нибудь. У тебя знакомства много. Может, нанять этого… как их… при суде-то?
— Да ведь ничего еще неизвестно, — нерешительно возразила Маруся, — и денег у нас нет.
— Эх ты-ы! — Надежда сдвинула брови, маленькие уши ее горели. — Была бы я девкой… Я бы за такого парня душу заложила! Деньги!.. Господи, да сегодня же хоть тысячу рублей добуду…
— Что ты выдумала! — прикрикнула Маруся, но, пугаясь необычного вида женщины, погладила ее вздрагивающую руку. — Взятки с нас брать не будут. Чего ты раскипятилась? Я его тоже жалею, только надоел он мне со своей любовью.
Надежда неожиданно побледнела.
— Я ведь как мать ему… Один он… Посмотрю на вас! Оба вы молодые… Пара!
— Я поговорю, — пообещала Маруся. — Вчера еще хотела попросить одного человека… чтобы выяснили это дело. Не очень-то приятно мне выслушивать разные разности!
31
В парткоме, все еще помещавшемся в клубе, только что закончилось заседание, было накурено, скамейки стояли в беспорядке. За перегородкой, где находилась гримировочная, ребята-комсомольцы играли в шахматы.
Маруся улыбнулась им и, тихо ступая по замусоренному полу, подошла к Черепанову, который, стоя у стола, перечитывал протокол заседания.
— Здравствуй, — сказала Маруся и умолкла в невольном замешательстве: свой человек, так просто чувствовала она себя, встречаясь с ним, а вот пришла как просительница, и сразу все переменилось. Хорошо, что он не смотрел на нее! Не зная, куда девать руки, которые тоже задрожали, как у Надежды, она сунула их в карманы жакетки, оттягивая ее вниз и в стороны, с трудом вымолвила: — Мне нужно поговорить с тобой.
Черепанов беззвучно шевельнул губами и кивнул, продолжая хмуро глядеть в протокол.
Маруся осторожно подвинула скамейку, присела к столу. Возле пресс-папье лежала новенькая ручка, похожая на зеленую луковую стрелку, а чуть поодаль пачка «Явы». Девушка покосилась на нее, вздохнула: она больше не курила — пропало всякое желание после того, как отдала отцу свои первые папиросы.
— Ну, давай говорить, — Черепанов тоже сел, отложил бумаги в сторону. — Что скажешь, дорогой товарищ?
Разглядывая вблизи его лицо с опущенными углами крупного рта и глубокой морщинкой между крылатыми бровями под белой повязкой, Маруся собиралась с мыслями, чтобы высказать напрямки то, что мучило ее в эти дни. Оказывается, не так это легко — разговор о самом сокровенном… Завладев обрывком газеты, забытым кем-то из курильщиков, девушка складывала его вдвое, вчетверо, отрывала полоски.
— Почему ты молчишь, говори, не стесняйся, — подбодрил Черепанов, видя ее нерешительность.
— Да я хочу насчет Нестерова… — прошептала Маруся и слегка кашлянула: судорожная спазма перехватила ей горло. — Видишь ли, мне кажется, он зря сидит. Он не мог это сделать. Ты не подумай… Все бабьи разговорчики… на них наплевать — я сплетен не боюсь. Только получается, раз его взяли… будто у нас с тобой что-то было. Нет, опять я не так говорю! Получается так, будто все это получилось из ревности. Ты понимаешь? — Она умолкла, скомкала истерзанную бумажку и, сжимая ее в кулаке, взглянула на собеседника ясными карими глазами. — Как будто личное. И раз ты не возражаешь против ареста, значит, согласен с тем, что у вас, что у нас… троих какие-то счеты. — Маруся приблизила губы к уху Черепанова, прижатому сверху марлевым бинтом, пахнущим больницей, и сказала совсем тихо: — Я на твоем месте заявила бы, что Нестеров не виноват. Пусть не разводят вокруг нашей организации всякую грязь. Понимаешь? — И, радуясь тому, что высказалась, и боясь, что Черепанов поймет не так, как ей хотелось, Маруся улыбалась, а брови ее тревожно вздрагивали, отливая рыжеватыми искорками.
Он глядел на нее пытливо, заметно взволнованный.
— Я не слыхал, что идут разговоры насчет ревности. В самом деле нехорошо получается. Ты правильно ставишь вопрос с общественной точки зрения. Но беда в том, что тут уже вмешалась прокуратура, а Нестеров ведет себя как-то странно: он сам запутывает следствие. — Черепанов заметил печаль, омрачившую лицо девушки, и спросил с необидной прямотой: — Ты и за него переживаешь? Ты его жалеешь, правда? Ну, что ж… краснеть нечего. Он неплохой парень, очень даже располагающий. Пожалуй, верно ты говоришь: не похоже, чтобы он на меня накинулся.
Черепанов не успел договорить: дверь резко распахнулась и, пригибаясь, чтобы не стукнуться о притолоку, через порог перешагнул Мишка Никитин. У него был такой истерзанный вид, что Черепанов застыл на полуслове с полуоткрытым ртом, вопросительно глядя на подходившего старателя.
Бывший комсомолец казался трезвым, но рубаха на нем висела клочьями, один рукав был располосован совсем, и оголенная рука вздулась ниже плеча багрово-синим кровоподтеком.
Привлеченные неожиданным появлением Мишки, шахматисты бросили игру и столпились вокруг, но их любопытство вызвало у него раздражение. Он шумно потянул воздух припухшим носом, оглянулся направо, налево и сказал с недовольством:
— Чего вы на меня наскочили? Я, может, по секрету пришел и при вас разговаривать не пожелаю?
— Идите, ребята, — попросил Черепанов.
Парень шагнул поближе к столу, но с минуту молчал. Присутствие Маруси его смущало: стыдно было стоять перед хорошенькой девушкой таким оборванцем, да еще в синяках. Шевельнув рукой, он сразу представил себе ссору в бараке.
Искаженное злобой лицо Быкова мелькнуло перед ним. «Надо было его этим же поленом огреть, — подумал Мишка. — И зря сказал, что заявлю, теперь Санька сбежит куда-нибудь».
Мишка взглянул на спокойно ожидавшего Черепанова, тихонько вытянул из кармана узкий тулун, сшитый из светлой замши, и бросил его на стол. Мешочек, брякнув, встал на попа, встопорщил кверху концы завязок. Черепанов молча взял тулун, прикинул на вес, глаза его понимающе заблестели: если Никитин пришел избитый, значит, артель была против. Понятно! И Черепанов открыто улыбнулся, радуясь поступку парня, — все-таки не пропала комсомольская закваска.
А Мишка страдал: улыбку секретаря парторганизации он принял за насмешку. У него горели уши и мелко дрожала нижняя губа. Он не жалел самородка, не жалел и потерянной теперь деляны и хотел только одного: быть где-нибудь подальше от парткома. Он уже переступил с ноги на ногу, собираясь уйти, но вспомнил про Егора и невольно покосился на Марусю. Девушка сидела, приподняв кругленький подбородок, и, не мигая, серьезно и строго смотрела на него.
Старатель смущенно отвернулся, но, озлившись на свою слабохарактерность, сказал с деланной небрежностью.
— Большой самородок этот я нашел. С него все началось — и промывка и хищение. Первый-то улов уже поделили, каждому досталось. Свое принес, а за других не ответчик. Еще скажу: на вас нападал вовсе не Егор Нестеров.
Маруся тихо айкнула, и Мишка снова взглянул на нее.
— Нападал Санька Степаноза, который теперь принят в нашу артель и работает на делянке, чтобы хитить золото… Могу это подтвердить в любое время на суде, да он и сам не отопрется: когда вы стреляли из нагана, то прострелили ему ватник, и на боку у него царапина — пуля жигнула. — Откровенная радость на лице Черепанова опять раздражила Мишку, и он добавил с горечью: — Вы не подумайте, что я ради вас хорошей делянки лишаюсь, мне Нестерова жалко.
Черепанов покачал головой:
— Я о тебе лучше думаю. Не из-за меня ты пришел и не из-за Нестерова, золото привело: нельзя у себя украсть. Те, другие, еще не поняли этого, потому что сами отчуждаются от Советской власти. Хорошо, что ты не поддался им. Артель мы теперь, конечно, снимем. А ты… Знаешь что, я переговорю с управлением, пусть тебя оставят. Наберешь новую артель и…
Тихий смешок Мишки остановил Черепанова. Старатель смеялся, но светлые глаза его блестели холодно.
— Удумали тоже! Товарищей выжил с богатого места, а сам сяду? Чудное дело!.. Чтобы мне каждый в морду этим тыкал! Нет уж, не хлопочите, уйду я отсюда на другой прииск. На хозяйские? Не хочу. — Он отбросил пятерней со лба мягкие волосы и, не прощаясь, пошел к дверям, но Маруся перехватила его и, придержав за руку, неожиданно порывисто поцеловала.
— Какой ты хороший! — Она вся сияла, и ее радость точно омыла Никитина: он сам широко улыбнулся, поверив в свою хорошесть.
32
— До чего паршивый этот Санька! — сказал Сергей Ли с возмущением. — Его в прошлом году хотели выселить из района — увернулся. Недавно в тюрьме сидел. Видит конец хитрому его житью, кинулся на старание. И тоже сразу захотел старшинкой быть в артели, чтобы поменьше работать и обдирать других.
— Еще бы! Он ведь грамотный, — сказала Луша, тоже растревоженная рассказом Черепанова. — Плохой человек и грамотность использует во вред людям.
Она побаивалась, когда Сергей задерживался на профсоюзных собраниях, особенно на соседних приисках. В прошлом году за ним бежали ночью по лесу какие-то злодеи… Не ограбить же они хотели его! Председатель приискового комитета одевался очень скромно, да и воровства на приисках не водилось.
— Не скрылся бы! — тревожно говорил Ли, глядя на приближавшихся к бараку милиционеров. — Ну, я пошел, Мирон. До свиданья, женка!
— Гляди там… — полушутя предупредила Луша. — Не забывай, что ты отец семейства!
Темные пятна все заметнее выступали на ее смуглой и тонкой коже на лбу и вокруг полуоткрытого, тяжело дышавшего рта. Трогательно неуклюжая, она была для Сергея Ли милее всех на свете.
Отходя с милиционерами, он оглянулся на нее и еще раз взглянул, уже сверху, с горы. Черепанов ушел, а Луша все стояла у дверей, прижимая маленького Мирошку к цветастой юбке, подолом которой играл ветер. Ли помахал им и двинулся дальше, унося в сердце, как кусочек солнца, оранжевое среди зелени пятно Лушиной кофты. Он чувствовал себя счастливым и безмерно богатым.
Будет еще сын или дочь. Девочка с лицом, похожим на него, Сергея Ли, а может быть, такая, как Луша. Девочка пусть лучше походит на нее. Уже решено: осенью Луша заканчивает седьмой класс вечерней школы и пойдет работать в детские ясли… Как будто совсем недавно они, двое комсомольцев, Луша и Ли, встретились в школе, куда пришли ликвидировать свою неграмотность… Ли еще работал на старании, Луша Ершова — поломойкой. За эти годы они прошли немалый путь. Как прекрасно жить, трудиться, иметь семью! Почему некоторые не хотят честно работать? Почему им хочется жить за счет других людей?
Два милиционера и председатель приискома идут горной тропой среди кустов стланика, усыпанных созревающими ореховыми шишками, среди россыпей дикого камня и порослей каменной березы. День клонится к ночи. Солнце садится, а в лесистых долинах уже густеют, тяжелеют сумерки. Рабочий день на делянах окончен. Усталые горняки медленным шагом разбредаются по домам.
Артель, в которой работал Мишка Никитин, давно пошабашила, но всем было не до отдыха.
У маленького барака, как пес на привязи, крутился Санька Степаноза, то кружил возле стола, то выбегал из жилья и посматривал по сторонам, или, раскуривая трубочку, присаживался на корточки у порога.
— Да брось ты метаться! — сердито говорил ему кривой Григорий. — Не пойдет он доносить. Враг он себе, что ли? Так, погорячился, пофорсил — дело молодое, не перебродил еще. А чтобы стуком стал заниматься — не поверю. Шутка сказать: золото отдай, с делянки вытурят… С двадцать четвертого года на таком богатстве не работали… Не дурак Мишка Никитин. К тому же компанейский парень!
Но несмотря на эти слова, Григорий медлил идти к своему бараку, а тоже, как привязанный, вертелся в жилье приятелей.
— Надо было с поленом бросаться, дура нескладная! — злобно корил он Быкова. — Э-эх, деревня! По-хорошему можно бы обойтись, с дипломатией. Как я его прошлый раз уговорил. Тоже встопорщился, куда тебе, а я его огладил. Ну, чего там? — крикнул Григорий, оглядываясь на открытую дверь, где маячила фигура Саньки. — Не идет?
— Идет! — неясно буркнул Санька, почему-то застывший на месте.
— Я же говорил! — обрадованно вскричал Григорий, бросился к двери и почти носом к носу столкнулся с бравым милиционером.
— Вот они где, голубчики! — весело говорил второй милиционер, шагая по кустам из-за другого угла барака.
Ли шел прямо по тропинке и в упор разглядывал желто-смуглое лицо Саньки, на котором вместе с испариной медленно проступала серая бледность. Щеки спиртоноса сразу приобрели землистый оттенок, на скулах выставились тугие желваки…
— Спокойно! — сказал ему Ли, видя, как мускулистое, сухое тело Саньки напряглось, словно перед прыжком. — Если не хочешь иметь еще больших неприятностей, не оказывай сопротивления.
— Он? — спросил у Ли старший милиционер.
— Он, — ответил Ли, подходя к Саньке вплотную.
Второй милиционер сразу побежал в соседний барак — пригласить понятых для обыска.
— Ну, вот видишь… — заговорил Сергей Ли, зорко следя за каждым движением Саньки, с лица которого так и не сходила серая бледность. — Маленькая подлость всегда ведет за собой большую. Какая нужда потянула тебя на плохие дела? Я говорил с тобой прошлый раз… Помнишь прошлогоднее собрание в восточной артели? Помнишь слова рабочих, которым ты собирался сесть на шею, как старшинка, только потому, что ты бойчее их и грамотный? Они тогда правильно сказали: мы довольно побатрачили на арендаторов у себя в Китае и в Корее — целыми днями за горсть риса… Мне тогда показалось, что мы пристыдили тебя. Я ошибся: нельзя пристыдить того, кто потерял совесть! Ты ее потерял потому, что разлюбил труд… А мы за свою доверчивость чуть не расплатились жизнью хорошего человека.
— Идут! — сказал старший милиционер, оглянувшись на шум голосов: по тропинке шли понятые…
Вдруг Санька Степаноза сделал пружинистый скачок в сторону, изгибаясь, как тигр, выхватил нож из-за мягкого голенища. Хотел ли он заколоться сам, собирался ли защищаться, но Ли, страшно ожесточенный, рванулся к нему и сильным ударом сбил его с ног. Подоспевший милиционер отнял у спиртоноса нож.
Остальные рабочие артели во главе с кривым Григорием угрюмо толпились возле двери в барак, наблюдая за происходящим.
— Вот тебе и компанейский парень! — задыхаясь от бессильной злости, сказал Быков Григорию.
— Ладно, балда! Заткнись! Кулацкая натруска! — огрызнулся Григорий.
В эти минуты хищники ненавидели друг друга.
Мишка Никитин, совсем трезвый, заявился в барак только под утро. Через порог он шагнул не без опаски, но вчерашние дружки его уже перебесились и встретили парня почти спокойно. Место Саньки на нарах опустело.
Мишка собрал свои вещички в котомку, привьючил сверху кайло и лопату, обменялся прощальными матюками с Быковым и остальными и направился узкой тропинкой через перевал Лебединого в сторону Джеконды. Он шел, слегка покачиваясь под тяжелой котомкой, валкой походочкой таежника, которому знакомы и рыхлые зимние заносы, и тянигужи[10], убегающие на голубые горные хребты. Радость освобождения переполняла его, и красногрудые клесты, перепархивающие в сосняке, то и дело взлетали от его озорного свиста.
33
В бане было жарко. Несколько человек, скорчившись в облаках пара на просторном полке, хлестали себя ерниковыми вениками. Дышалось трудно, но то один, то другой кубарем скатывался с полка и добавлял пару, плеща воду на булыжины каменки. Каменка стреляла горячим белым облаком, и тогда вверху слышалось одобрительное кряхтенье и еще усиливалось трепыхание веников.
Старик Фетистов еле слез с полка. Морщинистое лицо его раскраснелось, пот градом катился по впалой волосатой груди. Усталый, но довольный, он зашлепал к своей шайке, поскользнулся и наскочил на Егора.
— Ох ты, елки с палкой! — выругался он испуганно, взглянул в лицо парня голубыми глазками и просиял — Егора, здравствуй! Вот упал бы я, кабы за тебя не ухватился!
— Откуда ты вывернулся?
Фетистов кивнул в сторону полка.
— Оттуда.
— Я тоже там был.
— А я в уголке лежал. Парно, не видать, — старик смешно притопнул желтыми пятками. — Блошка банюшку топила, вошка парилася, с полка вдарилася.
Егор засмеялся.
— Угоришь — и взаправду вдаришься.
— Чуть-чуть не получилось этак. Зато всю ломоту сбыл. Простуда у меня в костях, и в крыльцах [11] прострел, а выпотеешь — и как рукою сымет, — говорил Фетистов, присаживаясь на лавку. — Ох, как я рад, что тебя отпустили! Хороший парень Мишка Никитин, я до сих пор ребят за него ругаю. Ну пил, эка важность! Главное, чтоб душа в человеке была настоящая. Какую делянку упустил ради правого дела!
— Меня бы все равно выпустили, — выслушав рассказ Фетистова, сказал Егор, неприятно задетый тем, что он обязан кому-то своим освобождением; сполоснулся из шайки холодной водой и начал одеваться в предбаннике. Заплатанное белье, потертые шаровары, сапоги с оскаленными гвоздями — все требовало обновки. Натягивая изношенные голенища сапог на стройные, литые в икрах ноги, Егор с грустью подумал: «Обносился до нитки, а где взять?»
Из бани он зашел в зимовье, служившее постоялым двором для проезжих. Зимовщица нацедила ему кружку студеного квасу, оглянула его юношески свежее лицо и сильные плечи, обтянутые выцветшей рубахой.
— Намылся, свет, нарумянился… А полюбоваться-то на тебя некому. Вот оно, одинокое житье! Тебе, Егорушка, в самый раз бы теперь семейной жизнью жить. Девушку бы какую хорошую, чтобы было с кем пошутить да поиграть.
Егор еще сильнее разрумянился, не зная, как понять лукавые старухины слова.
— Не сватать ли хочешь? Невесту, что ли, нашла?
— Какие тут невесты, светик мой! Тут тебе не жилое место, где девок на дюжины считают!
— Тогда и трепаться нечего, — сердито сказал Егор, намереваясь уйти, но зимовщица цепко ухватилась за его рукав.
— Погоди ты, уросливый! Я тебя по доброте предупредить хотела. Слышно про секретаря-то нашего партийного, будто из-за девки поранили его. С этими вертихвостками долго ли до беды.
— Про кого ты болтаешь?
— Ай, какой грозный! Я тогда и говорить не стану. Ступай себе с богом. — И зимовщица сделала вид, что хочет отойти, но Егор загородил ей дорогу. Глаза у него так и горели.
— Раз начала — договаривай.
— Да я… — Старушонка замялась: она уже струсила, но желание посплетничать преодолело страх. — Про Черепанова я… Маруська об нем очень уж убивалась, плакала. Голосила на всю улицу, ровно об муже законном. Конечно, каждой лестно с таким погулять, — ввернула старуха и покосила мышиным глазком на Егоровы сапоги: — Завсегда он в аккурате: что обувь, что одежка на нем… Вот она, глупая, и угождает ему до поздней ночи у него просиживает. Счетовод конторский в окошко подсмотрел… Утром рассказывал в общежитии: сидит, мол, Маруська возле койки и ручку Черепанову поглаживает. — Зимовщица взглянула в гневное лицо Егора, поняла, что зарапортовалась, и снова оробела: «Зашибет еще, бешеный!» — поэтому добавила сдержаннее: — Может, и не поглаживала, а так, что-нибудь подержалась просто…
Егор больше не слушал: спутанным, как во сне шагом, тяжело побрел прочь; задела за сердце проклятая баба, и все вокруг словно помертвело и посерело.
«Брехня, может? Но почему она ревела, почему торчит возле него? От простой жалости так не бывает». Зимовщица с сознанием исполненного долга смотрела вслед, пока сразу поникшая фигура парня не скрылась за кустами.
Старатели уже вернулись с работы, и из открытых дверей барака слышалось гудение голосов, как из огромного осиного гнезда. Сосенки, поставленные заслоном вокруг сеней, давно высохли, осыпались и печально топорщились голыми сучьями. И полынь, выросшая за лето на крыше, тоже начинала увядать.
Было все это дорого Егору, потому что рядом с ним жила тут девушка, которую он любил и на взаимность которой не переставал надеяться, а теперь ему даже заходить в барак не хотелось.
И все-таки, когда он зашел, то сразу поискал глазами, нет ли Маруси, но ее не было. Не видно и Надежды. Егор поздоровался со старателями. Спросили, как и что, но во взглядах чудилось ему осуждение. Тоска охватила Егора. Год сурового воздержания, любовь, работа — все вдруг показалось ненужным. Он достал из сундучка новую шапку, купленную зимой, шарфишко, крепкую еще наволочку, свернул узелок и пошел вон из барака. Горняки, занятые своими делами, не обратили внимания на его уход.
Егор просто не знал, что ему делать, куда деваться, как заглушить вдруг возникшее чувство страшного одиночества. Возможность напиться допьяна, до полного забытья показалась единственным, пусть хотя бы временным выходом из душевного разлада. Он сбыл барахло перекупщикам и после небольшого колебания направился к бараку Катерины.
— Мне бы водки пол-литра, — сказал он Ивановне, когда вошел в барак.
— Я водкой не торгую, — сухо ответила Ивановна. «Один был непьющий, и тот свихнулся», — подумала она.
— А Катерина где?
Из-за занавески выглянуло улыбчивое бабье лицо.
— Здесь я.
— Мне бы пол-литра…
— Проходи, проходи! Гостем будешь, — оживленно затараторила Катерина. — Сейчас я, только вот юбку надену. Нагулялась, разомлела… Головка — воровка: денежки пропила, а сама болит да болит. Проходи, не бойся. Уж больно ты гордый, никак тебя и не заманишь. Ивановна, достань нам капусты да селедки пожирнее. — Она пригладила гребенкой волосы, свернула их в круглую шишку, даже напудрилась и нарумянилась, но вышла к гостю босиком.
Егор сидел у стола, опираясь щекой на ладонь. Лицо его было угрюмо.
Катерина присела возле него на скамейке, наливая вино, прижалась к нему горячим плечом. Егор подавленно вздохнул.
— Что, ай боишься? — спросила она, подтолкнув парня, и, желая подбодрить, подмигнула ему лукавым глазом. — Ай боженьки, каки вы гоженьки! Обними меня, миленочек, я не кусаюсь.
Егор пил, смеялся невеселым, принужденным смехом. Ему было стыдно за себя, неловко и перед Катерининой квартиранткой. Когда Катерина, довольная приходом красивого парня, сама обхватила его шею рукой и крепко и грубо поцеловала прямо в рот, Егору стало совсем нехорошо, тошно, душно. Он отстранился и сказал сердито:
— Давай еще водки!
Катерина юркнула в угол за занавеской, где находился у нее тайничок-подполье, и полезла в яму. Егор подождал с минуту. Злая тоска снова вспыхнула в его душе. Видела бы Маруся, как он обнимается с этой распутной бабой! Не хватало еще того, чтобы заночевать здесь. Катерина, конечно, рада будет: мужика дома нет, да и не боится она его — за все озорства собирается отвечать только самому господу богу.
«С меня тоже некому спрашивать, да не хочу я такого!» С этой мыслью Егор выбрался из-за стола и, оставив на тарелке большую половину своего наличного капитала, выбежал из барака.
Веселые песни и крики фартовых старателей привлекли его слух на улице, и он, точно в омут головой, бросился в их разухабистое гульбище.
Часть вторая
1
Черепанов шел на лыжах, осыпая с кустов, с еловых лап хрупкие иголочки изморози. День был тусклый, слегка порошило, и солнце сквозь эту снежную пыль проглядывало мутно-золотистым пятном. На дне лощины, где выступала меж сугробов ржавая вода наледей, где, как пучки белых перьев, торчали обросшие пышным инеем кусты тальника, Черепанов увидел глубокий олений след, проломивший снежную целину. Олень оказался поблизости. Он объедал седые космы мха с нижних ветвей елки, привставая на дыбки, звякал боталом. Рядом, в снегу, темнела выбитая им до земли яма. «Должно быть, отбился от табора, — подумал Черепанов, глядя на оленя. — Ишь, накопытил сколько!»
Из лощины Черепанов поднялся на перевал. Просторы открытого нагорья опахнули его смуглое лицо ледяным ветром. Он прошел еще немного, остановился, крепко упираясь палками в твердый выветренный снег, и посмотрел вниз. Левее, по долине, раскинулись постройки нового Орочена. Острые глаза Черепанова разглядели даже крохотные флажки, бившиеся над аркой у въезда в поселок. Осенью ороченцы принимали там грузовые машины, шедшие с Невера на Незаметный по едва достроенному шоссе, уже широко известному под названием АЯМ[12]. Дрожа, словно от усталости, пятитонные «бюсинги» останавливались у нарядной арки. Их встречали музыкой. С волнением припоминали старожилы и первооткрыватели Алдана трудности пеших переходов по бездорожной тайге.
Позднее, взрывая гусеницами глубокий снег, заваливший и тайгу и шоссе, пришли тракторы.
Преодолев горные перевалы, они приволокли чудовищные глыбы локомобилей и оборудование для шахт. Лица трактористов были багровы от морозов. Трактористы рассказывали о снежных заносах на Яблоновом хребте, на вьюжных высотах Эваты, о том, как удалось им дотащить до приисков эти громадины в ящиках из неотесанных досок. Позднее приискатели следили за распаковкой. Все было блестящее, тяжеленное, мощное даже в своей неподвижности.
«Ну вот, дожили до серьезных событий!» — думал Черепанов, глядя на ряд столбов, убегавших по просеке: через весь район протянулись поющие на ветру провода, стянутые в узел в долине реки Селигдара, где недавно задымили высокие трубы электрической станции. «Здорово это получается — электричество, машины… Какой-нибудь дрянной барачишко, а его прямо распирает от света. Шоссе на семьсот километров… А ведь главное-то еще впереди!»
Черепанов окинул взглядом голый склон, редкий лесок на изгибе. Черные глаза его весело заблестели. Он глубже надвинул шапку, слегка пригнулся…
Ударила в лицо остро режущая стремительная струя ветра, засвистела в ушах. Долина как будто выгнулась навстречу. Встряхнуло на сугробе. Вниз! Лесистый изгиб, поворот в сторону, ветка хлестнула по локтю. Мимо… И вот гора вырвалась из-под лыж, и Черепанов летит стремглав в пустоту, в снежную пыль, задыхается на миг от быстроты, от озорной радости и снова после упругого толчка находит скользящую опору. Вниз! Вниз! На пологий увал! В мягкие сугробы, в кусты, опушенные блестящей изморозью…
За кустами, ближе к дороге, желтеют отвалы старательских делянок. Старатели моют золото по-прежнему, но и у них не без перемен.
2
…Артель «Труд» на Пролетарке закончила подготовительные работы, давно приступила к промывке, но золото на делянке оказалось слабое.
— Ровно заколодило наше счастье, — огорченно говорил Зуев, сбрасывая гребком обмытые на бутаре камни. — В артели Свердлова какое богатство было, а у нас ничего похожего.
— У них ортосалинская россыпь вышла, а не с Пролетарки, — сказал Рыжков и, опрокинув нагруженную тачку на грохот, пристукнул ею, вытряхивая прилипшую глину. — Обмануло нас золото! Спасибо, хоть долги скостили.
Для зимней промывки бутара поставлена внизу, возле одной из боковых просечек. Работало сразу несколько забоев, и старатели то и дело сновали по штреку с тачками и крепежником.
Егор в этот день кайлил в забое. Он возмужал. Старый ватник готов был треснуть по швам на его широко развернутых плечах, черты лица стали резче, суше, а в выражении сквозило несвойственное ему дерзкое ухарство.
После выпивки у Катерины Егор пропьянствовал еще целую неделю, не смея показаться в своем бараке. За прогул его могли исключить из артели, но, когда он явился, охрипший и опухший с тяжелого похмелья, и сразу полез в забой, старатели пожалели его, и никто не попрекнул за пропущенные дни. Что-то словно надломилось в нем, и, постепенно, махнув рукой на прежнее стремление к хорошей жизни, он превратился в обыкновенного забулдыгу: при первой возможности старался напиться, проигрывался до нитки в очко…
Но душная скука томила его. Он часто думал о потерянной навсегда Марусе, и на душе его делалось пусто и печально.
Встречаясь с девушкой, он отворачивался, и ему казалось, что он ненавидит ее. Она, осведомленная приисковой молвой о его гулянке с Катериной, тоже сердилась и, насколько возможно, избегала общения с диковатым парнем. Далекие и как будто равнодушные друг к другу, жили они под одной крышей.
Недавно Егор подружился с Никитиным, который поступил все-таки на хозяйские и работал откатчиком в первой шахте. Егор заинтересовался молодым старателем с того дня, когда услышал от Фетистова о Мишкином великодушии, но, впервые сойдясь за полбутылкой, они крепко поспорили и чуть не подрались. Это, однако, не помешало им сдружиться. Теперь в свободное время Егор первым долгом отправлялся к Никитину. Тот жил в новом, еще сыром бараке. На сплошных нарах помещалось несколько десятков недавних старателей и вербованных из Иркутска, из Канска. У огромных чадящих плит, тесно уставленных множеством котелков и кастрюль, ругались женщины, кричали ребятишки. Люди спали на нарах, на полу между нарами, подкладывая в изголовья котомки, бесконечно курили, материли начальство и вербовщиков, насуливших золотые горы. В бараках было шумно, тесно, и в этой тесноте, бродившей, как дрожжи, чувствовалось ожидание чего-то очень важного.
Необычными казались и высокие копры шахт, выросшие среди долины, и гул моторов на подъемных лебедках.
Приятели подолгу толковали о житейских делах. Однажды Егор рассказал Никитину о Зуеве, убившем купца в ссоре из-за собаки, но Мишке рассказ не понравился, и он резко осудил старика.
— Разве можно ради животного убить человека? — сказал он и сердито потер лоб. — Я вообще ненавижу убийц. Ну, дай ты кому следует в морду, ну, наподдавай ему как следует, а чтобы убить… Я этого не понимаю. Какое право я имею лишить человека жизни?
— А на войне?
— На войне? Там совсем другое дело. Там если я убью кого, так ведь не из-за своего интереса. Если, скажем, за Советскую власть… посылай меня, куда хочешь! Я вперед всех полезу, тут уж ничего не жалко. За каждого убитого врага тысячи народу в тылу останутся в сохранности. А то за собаку — и порезать человека! — Светлые глаза Никитина горели, но, уже остывая, он добавил тихо: — Личная ссора для общества — пустяки. Но через такие пустяки, к примеру через пьянку, я от комсомола отстал. Вот и нехорошо получается, когда мы с собой совладать не умеем.
Мишка помолчал, потом сказал веселее:
— Нынче Черепанова опять встретил… Это он ведь надоумил меня пойти на шахты. Расспрашивал, чем живу да какие у меня намерения. А какие у меня намерения?! Так, глупость одна! Просил заходить в партком… А с чем я туда пойду?
Часто они бродили вдвоем по прииску. Никитин, более общительный, подмигивал бабенкам, заговаривал с девчатами, тащил Егора в недавно отстроенный клуб. Он со всеми зубоскалил, острое словцо всегда висело на его языке. Егор охотно подчинялся причудам товарища, таскаясь за ним, как медведь за вожаком. Эта неожиданная дружба явилась для него настоящей отрадой, но он упорно не поддавался Мишкиным уговорам и не переходил из своей артели на хозяйские работы и в хозяйский барак.
— Покурим, ударнички! — сказал шутливо Егор и, отложив кайло, присел на бревно. — Говорят, нынче норму для старателей прибавили. Теперь будет семьдесят пять сотых кубометра.
— Не выполним, — возразил Зуев, — где это видано, чтобы старатели работали по норме? Не всяк прут по закону гнут!
— Выполнить можно, — в раздумье заговорил Егор и умолк, прикуривая.
Махорка отсырела, и цигарка потухла, обгорев по краям. Он зажег вторую спичку, но бумажка разлепилась, а табак высыпался на его крепкий небритый подбородок.
— Шлеп хороший, а куру нет! — со смехом сказал Зуев, глядя на остаток бумажки, прилипшей к Егоровой губе.
Егор молча вытерся рукавом и начал свертывать новую цигарку. Руки у него слегка вздрагивали.
— Надоело! — неожиданно со злостью сказал он. — Кажется, горы бы своротил, а не знаешь, которой стороной себя к жизни приспособить. Вот спросили бы: какие у тебя намерения? И не сообразишь, как ответить, потому что ничего нет — глупость одна! А все что-то делают и довольны.
— Кто это — все? — насторожился Рыжков, удивленный и даже уязвленный словами Егора.
— Да вообще… народ.
Рыжков перевернул пустую тачку, сел на нее, широко расставив ноги в огромных ичигах.
— А мы-то разве не делом занимаемся? Вон сколько трудов вложили!
— Это верно, — подтвердил Зуев. — Проку только мало от наших трудов: кубажу-то мы дивно вынули, а содержание не больно веселит. Не доводилось еще мне на такой бедности работать. Конечно, льготы теперь. Помогла старателю власть, но только насчет нормы… я, например, не согласный. — Он посмотрел, ища сочувствия, на горняков, подошедших из соседнего забоя, и продолжал оживленно: — Мы же работаем без подразделений. Сегодня забойщик опытный, а завтра новичок. И опять же с промывкой… Нет, нам такая петрушка не подойдет!
— А может, подойдет? — неожиданно возразил Рыжков. — Насчет золота у нас слабовато. Стало быть, придется на кубаж нажимать. Золотоскупные магазины не зря ведь открыли: при дешевом товаре очень даже можно слабые пески работать. Похищничали, пора и совесть знать.
— Хищничали, да не все, — заметил с хитрой усмешкой Точильщиков, частенько-таки наведывавшийся на деляну. — Небось у твоего Титова старатели без нормы работали!
Рыжков поднялся, похлопал рукавицами одна об другую, не спеша надел их.
— С чего он моим-то стал?
— С того, что ты с этим Титовым уши нам прожужжал, как вы с ним из пушки палили. Теперь на любой ороченской шахте не меньше снимают, а без всякой пальбы обходятся.
Синие глаза Афанасия Лаврентьевича сердито блеснули, но он только крякнул и отвернулся.
— Будет рассиживать-то, не на именины пришли! — крикнул он от забоя, подхватывая лопатой комья сырой породы.
— Заело! Правда, она глаза колет! — сказал, посмеиваясь, Точильщиков.
Рыжков взялся было за нагруженную тачку, но, услышав ехидные слова, гневно выпрямился, стукнулся головой о низкие под палями огнива и совсем осердился.
— Мне глаза колоть нечего! — в голосе его прозвучала сдержанная ярость. — Разве я считал Титова своим? Просто признавал его как бывший факт! Ежели у нас теперь Советская власть, то, значит, хозяев раньше не было? Так, что ли? Дурость какая, спасу нет! Много их было, и все они большое отношение имели к нашему брату. А теперь я в новые порядки вникаю и вижу: конец приходит хищничеству. Льготам-то мы небось рады, а нормы опасаемся! — Рыжков толкнул тачку на выкат и, тяжело ступая, гордо покатил ее мимо старателей, в темноту штрека.
3
Надежда в пальто, в сером пуховом платке, на который выбивались мягкие кольца светлых волос, стояла на ступеньке крыльца и смотрела на Егора.
— Стареть начинаешь, Надюша! — шутливо сказал он, оглядывая ее крепкую фигуру. — Толстеешь!
Надежда заметно огорчилась, но, как девушка, легко сбежала вниз.
— Старею, сыночек! Старею, милый! Тридцать восьмой годок пошел.
Егор невольно залюбовался ею: располнела, кожа на висках и под глазами тронута морщинками, но и постаревшая — хороша.
Она оправила шаль на груди, тяжело вздохнула.
— Что так? — спросил Егор.
— Ничего, все о том же.
— О чем?
Надежда рассеянно глянула по сторонам и снова подняла на Егора синие задумчивые глаза.
— Старушью роль разучиваю. Матерей мне дают да бабушек. Хорошо у меня матери получаются? — спросила она горделиво, заранее уверенная в ответе.
— Хорошо!..
— Я ведь стараюсь… О тебе думаю, когда на сцену выхожу. — Щеки Надежды ярко зарделись, и она торопливо и застенчиво договорила: — Других детей у меня ведь не было, одного сыночка жалела…
Егор тепло улыбнулся.
— Я к тебе тоже привык, будто о родной вспоминаю. Сколько раз хотел в гости зайти, да все стесняюсь.
— Чего же?
— Ну, знаешь, одна ты, мало ли какие разговоры пойдут…
Надежда опять покраснела.
— Меня оберегаешь или сам боишься? Я ведь старуха против тебя.
— Это значения не имеет. Такое сплетут досужие кумушки, что и не возрадуешься!
— Небось к Катерине не боялся заходить! — не сумев скрыть раздражения, сказала Надежда.
Егор смущенно отвел глаза.
— К той уж по пути!
— Убил бобра! Лучше-то не нашел?
Егор помедлил, не зная, как отнестись к упреку.
— Чего ты-то злишься? Мне эта Катерина совсем ни к чему. У меня душа о ней не болит.
— Зато у кого другого болит… Маруся до сих пор забыть не может. Вечор ходили мы в баню… И Катерина там была. Маруся так и вспыхнула, а Катька нарочно поближе подсела, дрянь этакая!
— А Марусе не все равно? — На мужественном лице Егора отразилось смешанное чувство радости и стыда.
— Стало быть, не все равно, если сердится! — уже примиренно сказала Надежда. — Эх вы, несмышленыши!
Мягкий снежок падал с серенького неба, ложился на дорожку, на высокие сугробы, таял в волосах Надежды. Она запрокидывала румяное лицо, ловила губами летящие пушинки. Два ворона кружились над товарным складом, сталкивали друг друга с фонарного столба, негромко покаркивали, тяжело махая угольно-черными в снегопаде крыльями.
Надежда помолчала, следя за игрой неуклюжих птиц, потом взглянула на Егора, просияла и почти со слезами на глазах воскликнула:
— До чего легкая жизнь у меня становится! Раньше бывало — увижу ворона, такой он угрюмый, и сразу сердце заноет! А теперь вот гляжу: какие смешные птицы… Сами черные, носы огромные, каждой, может, лет по сто, а играют, словно воробушки. Нет у меня на душе тревоги. Подумаю: господи, что же я сделала хорошего? Ничего-то еще не успела! Только на ноги встала, а все ко мне с уважением: «Надежда Прохоровна», «Товарищ Жигалова», будто это и не я восемнадцать лет из стервы не выходила. Недавно Луша книжку мне дала. Потихоньку одолела я эту книжку. Большевик один написал о каторге своей… Люди жизней не щадили, а мы на готовенькое явились и то не сразу оценить его можем. Ну, вот я… чего ради загубила свою молодость?! — В голосе Надежды прозвучала горечь, и Егор снова удивился перемене в ее лице, уже серьезном. — Не гляжусь в зеркало по целым дням, не хочу вспоминать, что старею. Мне теперь во всех общественных делах помогать охота, только грамоты не хватает.
— Ты и так активная стала. А насчет молодости зря жалеешь, я ведь нарочно сказал… о старости-то. Вовсе ты и не старая! Замуж хоть сегодня выдавай. — Егор виновато, немножко даже заискивающе заглянул в глаза Надежде. Он не понимал, что с ней творилось: или ей действительно было весело, или мучилась она… То смеется, то чуть не плачет. — На свадьбу-то позовешь? — спросил он с грубоватой лаской.
Надежда не ответила, вдруг, играя, толкнула Егора плечом, дала ему подножку и, не оглядываясь, как барахтался он в сугробе, побежала в сторону. Он догнал ее у шоссе, отряхнул с полушубка снег и с удивлением сказал:
— Сильна!
— А ты жидковат! Чуток толкнула — и на ногах не устоял.
— Против трактора разве устоишь!
— Эх, Егорка, милый! Силы у меня сейчас и вправду много, прямо поднимает она меня от земли! Неужто еще расту?
4
Маруся стояла у полки с игрушками, наблюдая, как старательно маршировала по комнате младшая группа с пожилой воспитательницей во главе.
— Марья Афанасьевна, — тихонько позвала повариха.
Маруся пошла к ней, с порога обернулась, оглянула чистую нарядную комнату и притворила за собой дверь.
— Материалы принесли, — добродушно улыбаясь, сказала толстуха Ивановна.
В прихожей толпились ребята из пионеротряда — краснощекие, пахнувшие морозом, с инеем на воротниках и ресницах.
— Замерзли? — спросила Маруся, пропуская их в просторный чулан. — Давайте сюда, поближе к печке, тут тепло-о!
Из карманов и узелков ребята высыпали на стол еловые шишки, мелкие камешки, собранные на новых отвалах.
— За шишками к лесозаготовщикам ходили. Аж к Лебединой горе, — сообщила рыжая Ленка, шмыгая вздернутым носом. — Заходили погреться в столярку к Фетистову. Он приготовил много кубиков, гладких, хорошеньких. Только он сам хочет их принести.
— Ленка — юла, а из-за нее Фетистов нам не доверяет. — И ребята с веселым шумом двинулись к выходу.
Проводив их, Маруся прошла в комнату средней группы.
Здесь дети сидели за низенькими столами. Перед каждым на фанерной дощечке размятые куски белой глины.
— Поглядите, какие у меня калачики!
— А у меня лошадь! — кричал Мироша Ли.
— Вот ох-анник, — сообщил басом его сосед Павлик. — Вот ужье, а это шлем и звездочка. — Все было выполнено в отдельности, и звездочка, превосходящая размерами шлем охранника, лежала на пухлой ладошке Павлика.
Застенчивая Танюшка показывает свою лепку молча, приподняв худенькое плечико, смотрит из-под черных ресниц пытливо и тревожно.
Маруся хочет быть одинаковой со всеми, но Танюшка невольно вызывает у нее особенную нежность: девочка в детском саду недавно и еще дичится, пугливая, как мышка.
Надо зайти и на кухню. Щеголиха Ивановна, в батистовой косынке и белом халате, расторопно хлопотала у плиты, мелькая розовыми от жара локтями.
— Ты прямо как доктор! — одобрительно сказала Маруся и одним глазом, чтобы повариха не заметила, заглянула за шкаф. Продукты, привезенные утром, были уже размещены в выскобленных добела ларях и в холодной кладовке. Посуда на полках сверкала, занавески так и топорщились. Кухонное хозяйство находилось в образцовом порядке.
Уборщица Татьяна, она по совместительству и сторожиха, принесла охапку дров, положив их на пол, посмотрела, улыбаясь, на молоденькую заведующую.
— Сегодня я двух клопов поймала на койках. Такие тощие да проворные, насилу изловила проклятущих, — сообщила она и, заметив испуг Маруси, добавила: — Вы не беспокойтесь! Я все пересмотрела, больше не видать, должно быть, из дому занесли.
В чуланчике, где стояли шкафы с бельем, пахло оттаявшими еловыми шишками. В углу на брезентовой подстилке составлены раскладные кроватки. Рядом, в комнатке с одним окном, жила Татьяна, «изменившая» Луше ради возможности спокойно пожить отдельно.
— Не сердится Луша, что ты ушла? — спросила Маруся.
— Чего сердиться: она умненькая — понимает. Нынче сами перебрались на другую квартиру, тесно стало на старой, когда второй ребенок родился.
— Девочка тоже вылитая в Сергея, — весело сказала Маруся.
— Выходит, кровь у восточных людей сильнее, — важно заметила Татьяна. — Сколько я знаю, всегда в ихнюю природу детишки угадывают.
Маруся недоверчиво улыбнулась, оглядела кроватки, заглянула и в уютную комнату Татьяны.
— Нет, и не думайте! — приговаривала та, идя следом. — Видно сразу, что пришлые. Я теперь одежонку ребячью тоже буду смотреть.
— Пожалуйста, Марья Афанасьевна, пробуйте обед, — сказала повариха, появляясь в дверях. Она величала Марусю главным образом для того, чтобы придать солидность своему учреждению.
— Чище нашего-то поискать! — похвасталась Татьяна и прислонилась к косяку, сложив под грудью жилистые рабочие руки. — А вот в садике на Еловом вчера была комиссия, так грязное белье на кухне за ларем нашли. А уж паутины да сору — ужас сколько! Говорят, заведующую сменят.
— И следует! — строго сказала повариха. — У каждой матери за своего ребенка сердце болит. Теперь кругом механизация начинается, бабы так и прут на производство, наше дело — успевай разворачивайся!
Выйдя на улицу после работы, Маруся удивилась тому, как изменился ясный с утра день. Солнце утонуло в снежных тучах, и по долине мчался обжигающий морозом ветер. Маруся шагала по дороге, прятала руки, как маленькая девочка, в меховые манжеты пальто: перчатки после спора со снабженцами забыла в конторе золотопродснаба. Она все еще жила с родителями на Пролетарке. Ей не раз предлагали комнату в общежитии, но мать расстраивалась даже при напоминании об этом, и Маруся решила пока не переселяться. Конечно, отец мог бы перейти на одну из ороченских шахт, но он продолжал упрямо цепляться за старание в погоне за ускользающим фартом.
Ветер дул навстречу с такой силой, что у девушки слезились глаза. Однако она, прижмурясь и опустив голову, с таежным упорством шла ему навстречу.
— Великая нужда идти в такой буран! Обморозишься, — услышала она знакомый голос и остановилась.
Егор… Лицо его под драной шапчонкой показалось ей похудевшим, и стоял он такой печальный, точно побитый.
— Ветер может бушевать долго, а мне домой надо, — сказала Маруся, вытирая платком глаза и красные от холода щеки.
— А мне подумалось, — ты уже застываешь на ходу, — съежилась, как воробушек. Только вышел из больницы, гляжу, идешь…
— Пойдем вместе, — ласково позвала Маруся, и они пошли рядом. — Кого ты там навещал?
— Нет, на перевязку ходил. — Он вынул из-за пазухи руку и показал ей обмотанную марлей ладонь. — Пьяный на днях о печку обжег, — тихо пояснил он, радуясь выражению испуга на ее лице.
— Эх ты-ы, прогульщик! — упрекнула она и опять стала отчужденно-гордой. — Болезнь? Какая же это болезнь — по пьянству? И как только не стыдно?
— Сама виновата, — глухо ответил Егор, пряча больную руку.
— Еще лучше! Я-то при чем? Я тебя на печку не толкала.
— На печку — это бы ничего. Ты меня в петлю чуть не затолкала! — Поглядывая исподлобья на растерянное лицо Маруси, запинаясь от волнения, Егор говорил торопливо и горестно: — Ты от меня, как от волка, бегала, а что я тебе плохого сделал? Ведь не нахальничал, силой не набивался, а с тобой Черепанов… Да не обидно было бы, кабы он оценил такое счастье, а то поиграл да бросил, и опять ты с ним помирилась.
— Ты уже совсем одурел от пьянки, — грустно сказала Маруся. Приисковая среда приучила ее к подобным разговорам, и она даже не подумала обидеться на Егора. — Интересное дело!.. Стыдно, товарищ Нестеров, собирать бабьи сплетни!
— А то нет? — как-то глупо возразил он, но сразу поверил, убежденный не словами, а голосом и всем видом Маруси. — Тоска меня заела, — прошептал он взволнованно и попытался взять девушку под руку.
Она вспомнила Катерину, отвернулась. «Говорил, говорил про любовь да полез к первой встречной бабе. Что она ему? Целовала, наверно, его своими губищами!» Чувство смутной вражды шевельнулось в душе Маруси.
— Не знаю, какая такая тоска!.. У меня для нее Бремени не хватает. Сколько работать нужно, чтобы настоящим человеком сделаться!
— А ты разве не настоящая?
— Ну, нам с тобой еще много тянуться надо!
То, что она сказала «нам», приближая этим его к себе, обрадовало Егора. Будто и не было долгого периода отчуждения и даже враждебности. И Марусе вдруг стало весело. Они шли теперь рядом, и девушка, жмурясь от бившей в лицо пурги и уже не чувствуя холода, слушала сбивчивые рассказы Егора о его дружке Никитине.
5
— Зина! Зина! — напевал Сергей Ли, любуясь круглой головкой дочери, черневшей среди кружев пододеяльника. Крохотный капор Ли держал в руке, играя им перед личиком плачущего ребенка. Куда же запропала Луша? Прибежала с работы, сунула мужу плотненький живой сверток и скрылась. — Зина! Зи-ина! — напевал Ли, тщетно стараясь сосредоточиться на страницах исписанной им бумаги, разложенной на столе: он готовился к докладу.
Это был очень серьезный доклад, и Сергей затормошил Черепанова при составлении тезисов. Они вместе подбирали нужную литературу, обсуждали узловые вопросы. И вот теперь, когда все уже готово, когда докладчик еще раз перевернул страницы своих тезисов, еще раз перечитал доклад на пленуме ЦК об итогах первой пятилетки, еще раз продумал то, что нужно было высказать, возникло неожиданное затруднение: нельзя было выйти из дому.
«Что подумает Мирон Черепанов? Что скажут товарищи, собравшиеся в клубе?»
Ли точно матери родной обрадовался Татьяне, которая, как обычно, привела из садика озябшего Мирошку. Но Татьяна тоже спешила: у нее делегатское собрание на Пролетарке. Татьяна — первый помощник приискового женорганизатора.
Ли, не выпуская из рук Зину, стащил с сынишки шубку, снял шарф и шапочку. Мирон старался всячески облегчить отцу эту задачу, сердясь, сопя, ревнуя к сестренке.
— Да положи ты ее, — серьезно посоветовал он. — Пусть поплачет. Подумаешь!
Такой выпад рассмешил Сергея, но дочь развоевалась не на шутку, гневные вопли ее встревожили даже братишку.
— Может, она мокрая, — сообразил Мирошка, с которым совсем недавно случались такие оказии.
Вдвоем они распеленали маленькое сокровище, которое начало брыкаться и кричать еще пуще. Пеленки в самом деле требовалось переменить. За это время хлопотливый Мирошка успел с полного хода растянуться на полу и набил себе преизрядный рог на выпуклом смуглом лобике. Теперь дети плакали взапуски, а Ли в крайнем расстройстве сидел у стола, держа по детенышу на каждом колене и с безнадежным выражением покачивая их, посматривал на часы. От досады и нетерпения у него самого навертывались на глазах слезы. Если бы его помыслы не были прикованы к предстоящему собранию, он, наверно, проявил бы больше инициативы и внимания по отношению к своему потомству. Но сейчас он чувствовал себя на острие ножа. Разве можно опоздать на собрание! Но как быть с этими крикунами?
Он так обрадовался приходу жены, что даже забыл упрекнуть ее за свои душевные терзания: собрал бумаги и умчался.
В здании клуба народу уже битком. Вдыхая запах свежих еловых гирлянд, Ли прошел за сцену, то и дело здороваясь со знакомыми рабочими, сияя светлозубой улыбкой. Сердце его сильно билось от быстрой ходьбы, от волнения, и, даже вдохнув знакомый пыльновато-сухой воздух кулис и увидев Черепанова, Марусю Рыжкову и других приисковых активистов, он не мог успокоиться.
— Где ты пропадал? Уже хотели посылать за тобой, — сказал Черепанов.
Сергей Ли только рукой махнул.
«Вот он перед каждым собранием тоже волнуется, — подумал Сергей о Черепанове. — Не может привыкнуть выступать перед народом. Хотя, кажется, говорит спокойно, убежденно. Я тоже убежден, но почему-то бьет лихорадка, даже в животе дрожит».
— Начинаем? — спросил Черепанов.
Ли кивнул и все с той же внутренней дрожью, но внешне взбодренный и собранный вышел на сцену. Предстоял большой разговор об овладении техникой, о сокращении прогулов и простоев, о соцсоревновании и ударничестве…
Доклад Ли слушали с большим вниманием: председатель приискома пользовался среди горняков симпатией, его уважали за чистосердечность, за твердость слова. Чуткий к нуждам рабочих, он никогда не давал пустых обещаний, яростно восставая против бюрократов и волокитчиков.
Сейчас он говорил о могучем росте советского хозяйства, о выполнении первой пятилетки в четыре года, о таких ее детищах, как Днепрострой и Сталинградский тракторный. Лучившаяся из него гордая радость передавалась слушателям.
— В самом деле, что натворили, а? — весело сказал Афанасий Рыжков, сидевший в группе старателей неподалеку от сцены. — Конечно, буржуям не по душе, что мы без них управляемся!
«Лишнего забирает», — тревожно думал Черепанов, сидевший в президиуме, вслушиваясь в данные по сельскому хозяйству. В тезисах этого не было. Но захваченная горячей искренностью докладчика аудитория с интересом слушала и о колхозах.
Маруся Рыжкова написала крохотную записочку и осторожным движением руки подкинула ее Черепанову.
«Что это у него столько слов непонятных сегодня?» — прочитал Черепанов и насторожил ухо к трибуне.
Сергей уже перешел к делам приискового масштаба, лицо его сразу стало серьезнее, озабоченнее: в голосе то и дело проскальзывала горечь, даже обида…
— Сломали подъемник на третьей шахте… Простой вышел безобразный… Техническое руководство безусловно повинно, но если бы все по-настоящему, сознательно относились к делу, то разве требовались бы нянюшки на каждом шагу? — Тут Ли почему-то вспомнил Зину, но усилием воли погасил эту мысль. — Мы, рабочие, должны стать совестью производства. Беречь каждую гайку, каждый винтик, ведь только машины помогут нам выполнить новую пятилетку по металлу…
Черепанов искоса взглянул на Марусю, недоуменно пожал плечом, но тут его так и стегнуло словечко «субординация», потом «субъективно», затем «де-юре» и «де-факто» и, наконец, «трансформация» и даже «трансцендентный». Некоторое время Черепанов сидел не шевелясь, затем исподлобья, но зорко посмотрел в зал. Там была все та же настороженная, чуткая тишина. «Да ведь это я ему говорил: работай над языком, обогащай его, — вспомнил Черепанов, — а он за словарь иностранных слов уцепился!»
— Поступать по трафарету, — с особенной четкостью выговорил Ли.
— Ах, чтоб тебя намочило! — отозвался кто-то одобрительно из дальнего угла.
Черепанов вспыхнул, будто он сам допустил оплошность, но зал зашикал на реплику, и секретарь парткома вдруг успокоился: понял, что на слушателей неотразимо действует личное обаяние докладчика, и, как бы он ни выразил свои мысли, их постараются усвоить.
«Валяй, валяй, чертушка! — подумал Черепанов, светло усмехаясь. — Добрался до образованности!»
— Ли, ну что такое дилемма? — со смехом спросила Маруся во время перерыва. — Или вот я еще записала: «идефикс»?
Сергей крепко вытирал платком вспотевшее лицо; он еще не мог понять, хорошо ли у него получилось, и радовался только оживлению в зале, вызванному докладом.
— Идефикс? То же, что идея фикс, как говорят еще — любимый конек, — пояснил он, собирая в папку листки тезисов.
— А «катаклизм»?
— Ну, пойди возьми словарь иностранных слов, если интересуешься, — уже нетерпеливо возразил Ли.
— Не-ет, брат! — решительно, хотя и мягким тоном вступился Черепанов. — А рабочие тоже должны бежать сейчас за словарями? Доклад ты сделал хороший, но чего ради насовал в него всяких дилемм и идефиксов? Ведь это для наших слушателей точно осколки кирпича в хлебе. Ленин очень восставал против употребления непонятных иностранных слов. Он высмеивал тех, кто щеголял ими.
Лицо Ли багрово покраснело.
— А я-то старался! — сказал он смущенно. — Ведь я хотел как лучше. Кирпичи в хлебе!.. Ты меня убил, Мирон!
И все трое рассмеялись, превратив неловкость в шутку, которой не суждено повториться.
В это время Егор и Мишка в сутолоке прокуренного фойе тоже обсуждали доклад председателя приискома и тоже начали с «мелочей» — с иностранных слов, которыми он изобиловал.
На Егора они произвели иное впечатление.
— Ишь, наловчился! — хмурясь, говорил он о Сергее Ли. — Будто заправский ученый лектор. А ведь свой брат — рабочая косточка. Пришел на Алдан неграмотным, ходил в рваных штанах с мотней. А теперь куда махнул! Гляди, еще высшую школу одолеет.
— Этот одолеет, — подтвердил Мишка. — А ты не хочешь на производство идти… Смотри, что делает с человеком настоящая-то работа!
6
Постепенно старатели уходили из артели «Труд» и нанимались в шахты. Надежда давно уже поступила помощницей повара в столовую, ушел и Егор. Только Рыжков упрямился, не желая покидать обжитого места.
— Сегодня я перейду, а завтра в какой-нибудь просечке хорошее золото объявится! — говорил он. — Не всем на шахты идти. Этак и стараться будет некому. Пускай Егор в шахте ударничает, а я по-стариковски на делянке. Нам, старателям, теперь по новому закону большая легкость объявлена.
— Да ты хоть о дочери порадел бы, — пилила его потихоньку Акимовна. — Бегает девчонка, мается, каждый день в такую даль. Перешел бы на шахту, вместе квартиру получили бы. Надо и мне отдохнуть — слава богу, не молоденькая!
— А кто тебя заставляет? Теперь нужды в твоей работе не видно.
— Просят ребята, как же я буду сидеть сложа руки, когда обед сварить некому? Да и заработок у тебя, Афоня, невелик. У Маруси брать не хочу, пускай приоденется девка. Пора ей к месту пристроиться, женихи возле нее так и похаживают. — Акимовна озабоченно пригорюнилась. «Вырастила дитя, а теперь отдай неизвестно кому. Какой еще попадется!»
Рыжков смотрел на дело иначе:
«Теперь ее пристраивать нечего, она у места».
Он гордился дочерью, и ему было приятно, что она самостоятельно устраивает свою жизнь.
Однажды в выходной день он привез с Орочена на грузовике широкие тесины и длинные брусья. Народу в бараке осталось мало, и семья Рыжкова занимала теперь целую его половину.
Когда отогрелись привезенные доски, Рыжков засучил рукава, достал из-под койки сундучок с плотницким инструментом и, не обращая внимания на грустные вздохи жены, принялся за работу. Он прибил новую полку для посуды, установил посредине жилья два вертикальных бруса и начал обстругивать тес, использовав вместо верстака нары; намусорил опилками и стружками, надымил махоркой и своим деловым азартом одолел наконец деланное равнодушие Акимовны.
— Чего же это будет? — спросила она, кивая на брусья. — Качели, что ли?
— Выдумывай! — Рыжков раздумчиво пригладил кудлатую бороду, прикинул, как лучше разрезать доску, и взялся за пилу. — Подержи-ка тот край маленько. Заборку хочу сделать. Чтобы как в настоящем доме комната была. Лишние нары теперь можно выбросить, пол подтешу… Пускай ребята в той половине сами красоту наведут, а ты в этой стены побели. Насчет известки я уже договорился с завхозом. Такое помещение получится — любо-дорого!
— Тесу-то где взял?
— В хозотделе выпросил.
Он работал целый день. Когда начали собираться остальные старатели, заборка была уже готова, а на брусьях вместо двери висела занавеска.
— Кажись, не туда попал! — сказал, вваливаясь через порог, пьяный Зуев, хотел повернуть обратно, но, увидев Акимовну, остановился. — Устроились, как в жилухе, мамаша, то-то я и гляжу, будто барак изменился. — Он сел на нары и промолвил уныло: — Было бы у меня семейство, я бы тоже своим домом жил. Деточки, внучаточки… цыпляточки… Ну, что я такое есть? Кругом один… Накопил на сберкнижку четыреста рубликов и в два дня все спустил. Будь жена, разве бы она допустила?
— Кто же тебе не велел жениться? — сказал Рыжков с чувством невольного превосходства.
— Легкое дело! Как это стал бы я по тайгам таскаться, имея семейное положение?
— Другие люди таскались?..
— То люди… Не всякая пошла бы за бродяжку. Да еще каторжником был. Тоже надо, значит, понятие иметь… — Старик с трудом стащил пимы, сунул их к печке и полез на нары, где долго еще вздыхал, бормотал и ворочался.
Удивилась и Маруся, придя домой поздно вечером (выходные дни она проводила на Орочене: то в клубе, то в комсомольской ячейке), осмотрела ремонт, сделанный в бараке, но, заметив довольное лицо отца и хмурость матери, взгрустнула. Значит, он и не думает переходить на хозяйские, а она только что разговаривала с инженером Локтевым, заведующим шахтой, где работал Егор и где открывали учебные забои для новых рабочих. Локтев по совету Черепанова справлялся о Рыжкове, и Маруся обещала поговорить с отцом, но теперь не знала, как к нему подступиться. Вот он сидит у окна, кудлатый, широкогрудый, посверкивая густо-синими глазами, подшивает валенок Акимовны. Тяжелые руки его выпачканы варом. Видно, что он спокоен и всем доволен. Золото, правда, плохое, но есть надежда на лучшее. Не зря же пришлось проделать такую огромную подготовительную работу.
«Сколько тянулись, чуть не замерли на одном черном хлебе. Как же теперь отступиться? Немыслимое дело!» Упорства и терпения у Рыжкова хватило бы на десятерых, и силы, что бродит в литых мускулах, не изжить еще долго.
— Надо тебе, Анюта, курей нынче завести, — сказал он Акимовне. — Кругом люди живностью обзаводятся. При огородах это прямой расчет. Ежели без огорода свинью держать, на нее корму не напасешься. А при своей картошке вырастет незаметно. На Среднем прииске, говорят, целая деревня появилась на правом увале, да и на Орочене возле каждого барака нагорожено — не то сады, не то огороды.
— На Среднем забойщики нужны для углубки новых шахт, — осторожно вставила Маруся, — и на ороченские шахты в учебные забои…
— Теперь прииска со всякими заборами да тынами — прямо как жилое место стали, — невозмутимо продолжал Рыжков. — И народ дольше заживаться начал, вот ведь что удивительно!
Маруся по детской еще привычке забралась на скамейку с ногами и, положив лицо на ладони, в упор разглядывала своего огромного тятеньку. «До чего хитрый, будто и не слыхал про забойщиков!» — думала она.
— Теперь любой старатель может при желании семью выписать: школы есть и все такое прочее. Пять-шесть лет назад здесь бабы наперечет были, а ребятишек и не замечалось, а сейчас от этой мелочи по улице не пройти, — продолжал рассуждать Рыжков о том, что дочери и жене было известно не хуже, чем ему. В праздных этих и необычных для него разговорах чувствовалось желание показать, что в положении старателя не требуется никаких перемен. Ясно, что он хотел предупредить любые попытки уговорить его уйти со старания.
— А мы скоро будем переезжать на Средний прииск, — сказала Маруся, выждав время, когда отец исчерпал свое красноречие и поневоле замолчал.
— Кто это «мы»? — удивленно спросил Рыжков, наклонив голову так, словно прицелился боднуть широким лбом, окаймленным русыми колечками спутанных волос.
— Управление ороченской группы переезжает. Теперь не на Орочене будет центр, а на Среднем: там работы еще крупнее открываются.
Маруся чуть заметно улыбнулась, довольная произведенным на отца впечатлением, подумала: «Ишь ведь, расходился со своим старанием!»
— А ты?.. — нерешительно спросила мать.
— Пока здесь останемся, ведь Орочен-то остается, и шахты, и все, а там видно будет. Отцу просили передать: может, он пойдет на первую шахту руководить учебным забоем? С Лены якутов прислали на горные работы, нужно их обучить, чтобы создать национальные кадры. Заведующий шахтой хочет с тобой лично переговорить.
Рыжков ответил неохотно:
— Какой из меня руководитель? — но по голосу чувствовалось, что он усмехнулся. Значит, понравилось ему, что шахтерам известно о его забойном мастерстве. Однако он спрятал усмешку и сказал сурово: — Вряд ли выйдет толк из якутов: они ведь вроде цыганов — народ легкий, бродячий, а земляная работа тяжелая, тут и сноровка нужна и сила.
— А ты попробуй, отец, — попросила Акимовна.
— Попробуй?! Как же это я свою работу брошу?
— Да ведь золото у вас неважное!
— Сегодня неважное, а завтра вдруг пофартит. Вон Точильщиков перешел на шахты, а все к нам бегает… беспокоится.
На другой половине барака уже спали. Акимовна сходила туда, подложила в печку дров, погасила там электрическую лампочку и вернулась к себе, почти с неприязнью глядя на ярко освещенную прорезь в заборке над печью и на полосу света, падавшую между занавеской и косяком двери.
«Ровно в клетку попали», — мелькнула у нее невеселая мысль.
— А на улице темным-темно. Ни звездочки, — сказала Маруся. — И снег опять пролетает.
— Теперь начнет снежку подваливать, — отозвалась Акимовна с задумчивым видом. — Вот когда тебе родиться, этакая же снежная зима была, помнишь, Афоня? Еще тогда хунхузы промышленника Хилкова убили…
— Как, чай, не помнить!
— Его ведь дорогой убили, — продолжала Акимовна с тем же отчужденно-грустным выражением, — а лошадь завернули с кошевой в лес, она и издохла в снегу. Дерево, у которого привязана была, почти до половины перегрызла, да тут и издохла, бедная. И он, убитый, в кошевке лежал… Помнишь, урядник со стражниками его искали, Хилкова-то?
— Как, чай, не помнить!
— В ту пору я разрешилась Марусей.
— А что, — заинтересовалась Маруся, — какая я была маленькая?
— Обнаковенно, как всякий ребенок. Отец сам вместо повитухи принимал.
— Неужели сам? — переспросила Маруся и удивленно посмотрела на его грубые руки. «Можно ли с такими ручищами? Ведь у новорожденного ребеночка все кости мягкие и головка болтается». Жалкий вид был у нее в этих мозолистых ладонях! Дрыгалась, наверное, словно лягушонок. Ей стало неудобно и за себя и за отца. — Как он не побоялся?
— Чего бояться? Жили мы с ним другой раз в такой глухоте — одни мужики, вот он и приобык. Всех-то вас я девятерых принесла. Четырех бабы принимали, а остальных ему привелось. Честь по чести. И ребенка обмоет и меня. Конечно, были женщины, которые в одиночку рожали, так ведь не у каждой такое здоровье, да и раз на раз не приходится. Одна у нас на Камрае утром, бывало, родит, сама все за собой уберет и сразу ходить начинает. К вечеру-то, глядишь, и воду носит, и дрова рубит… Да эдак вот надорвалась и стала в тридцать лет не человек. — Акимовна помолчала и, просветлев лицом, добавила с тихой гордостью: — Нет, мы с твоим отцом хорошо прожили, жалел он меня и берег. Только сама-то жизнь больно неспокойная была.
— Тятя, а это правда, что ты маму насильно увез?
— Придумала! Разве я татарин! Сама она за меня убегом ушла.
Однако мысли Рыжкова, потревоженные вопросом дочери, невольно обратились к прошлому. Верно сказал пьяненький Зуев: не всякая пошла бы за бездомного бродягу. Если разобраться: бродягой ведь был и Афанасий Рыжков. Не полюбила бы его Анна Акимовна, прожил бы в одиночестве. А раз полюбила — значит он стоит того, не на деньги польстилась — весь тут был. Рыжков весело взглянул на дочь. «Хорошая девка! Жалко, остальные померли, доброе вышло бы племя! Целая артель парней и девок. И каждому теперь нашлось бы место и дело…»
* * *
Фарт опять ускользал от Рыжкова: золото тянулось все слабее, и старатели продолжали разбегаться из артели.
— Не одним хлебом сыт человек, — сказал в свое оправдание старик Зуев, прежде чем покинуть барак, — надо и на соточку заработать и на похмелку. Пускай китайцы, коли хотят, работают на слабинке, они народ непьющий, умеют сводить концы с концами! Пойду я на вольную разведку. Дело скоро к теплу, возьму еще двух стариков и потопаем в тайгу, может, амбарчик с золотом найдем — премию получим. А пока поживу в Незаметном. — С этими словами старик подтянул повыше котомочку, напялил на седую голову шапчонку и шагнул за порог.
Рыжков загрустил.
— Что же получается, Аннушка? — сказал он однажды жене. — Выходит, зря нас маяли два года на подготовке. Может, пойти мне теперь в учебный забой?
— Иди, отец! — горячо поддержала Акимовна.
Рыжков протянул еще с неделю, откладывая со дня на день, но золото не появлялось, и он пошел на шахту договариваться о работе.
Заведующий шахтой партиец Локтев сразу приглянулся ему своим круглым добрым лицом и тем, как внимательно посматривал он на всех ясными, тоже круглыми глазами.
— Давай, отец, определяйся, — весело сказал он Рыжкову. — Нам опытных горняков не хватает. Будешь якутов обучать, национальные кадры готовить.
— Неграмотный ведь я…
— Ничего, забойному делу можно без грамоты обучать. А вообще неграмотность надо ликвидировать. Дадим вам квартиру здесь, на Орочене, и сразу записывайся в ликбез. Дочка поможет заниматься… Хорошая у тебя дочка, товарищ Рыжков! Как это она до сих пор не обработала тебя насчет ликбеза?
— Отец ведь я… С какой стати она меня учить будет?
— Значит, крест ставишь на старании? — перевел Локтев разговор на другое.
Рыжков насупился, ответил уклончиво:
— Покуда перейду, а там видно будет. Боюся я, не выйдет из якутов толку в шахтах, они на воле привыкли: рыбачить да охотиться, или оленьи транспорты по тайге гонять.
— Привыкнут и на подземных работах. На Куронахе в молодежной шахте половина шахтеров — якуты. А шахта передовой числится.
Рыжков улыбнулся недоверчиво.
— Там комсомольцы, поди-ка… Эти напористые…
— Значит, опыт им передать легко, — сказал Локтев. — Ты на каких еще приисках бывал, кроме Алдана?
— На Джалинде, на Золотой горе, в Рифмановском руднике работал.
— На рудном, — одобрительно сказал Локтев, — хорошо, я очень рад. Дадим тебе четыре забоя, в каждом по три человека. Срок обучения звена — месяц. Потом вместо них новых поставим. Соседние забои тоже учебными будут. Понятно?
— Куда понятнее! — Рыжков помолчал, потом нерешительно спросил: — Не знаете ли вы, товарищ Локтев, как дела в артели, которая была организована из демобилизованных на Орочене? Так они и не нашли золота?
— Не нашли.
— Вот совпадение! Значит, не повезло и ребятам!
— Теперь они хорошую деляну получили.
— Потатуев становил в первый раз? — спросил Рыжков, помолчав.
Локтев утвердительно кивнул.
— Совсем закручинился старик, похудел. Неприятно ему, что опять ошибся в расчете.
Рыжков сказал жестко:
— Ничего, похудеть ему не мешает. Нам он тоже не потрафил, старый черт.
7
Маруся играла Липочку в пьесе Островского. Набеленная и нарумяненная, дородная от множества надетых одна на другую юбок, она действительно походила на купеческую дочку. Даже из первых рядов клубного зала трудно было узнать в Олимпиаде Самсоновне комсомолку с Пролетарки.
Хороша была мать ее Аграфена Кондратьевна — кассирша из старательского магазина, и в жизни толстуха. Неплохо играли сваха и Подхалюзин, и только черноволосый актер — Самсон Силыч — чуть не испортил все дело, выйдя на сцену в криво надетом седом парике.
Фетистов, увидев такой беспорядок, чуть не задернул занавес, но одумался и громко шепнул:
— Парик-то поправь, полбашки видно!
Пьеса, в общем, прошла живо. Островский пользовался у приискателей большим успехом.
Фетистов прислушался к аплодисментам, закурил и пошел к артистам. Маруся, уже переодетая в свое платье, снимала перед зеркалом остатки грима. Она покосилась на Фетистова смеющимися глазами, щеки ее блестели от вазелина.
— Ну, как? — спросила она.
— Здорово! Только Большов подгадил с париком.
— Что говорят?
— Публика-то? Очень даже довольны. Чего еще надо! Помнишь, на Незаметном эксцентриков-то смотрели… Никакого сравнения. У нас куда лучше, прямо настоящие артисты.
— Это уж ты преувеличиваешь! — весело возразила Маруся, приближая к зеркалу яркое лицо.
— Щеки не полагается пудрить, разве самую малость, — заметил Фетистов, заботливо, точно старая нянька, следивший за ее движениями.
— Откуда ты знаешь?
— Я все знаю. — Старик помолчал, моргая серенькими глазками, и добавил тихонько — Егора здесь. Я его в дырочку заприметил… В первых рядах сидел.
— Какое мне дело?.. — сухо бросила Маруся.
— Зря ты так…
— Почему зря? — Она отряхнула с платья пудру, взяла пальто, шаль, фетровые ботики и пошла через сцену в зрительный зал. Фетистов побрел следом за нею.
В центре зала, освобожденном от скамеек, танцевало несколько пар. Марусю встретили улыбками. Она передала Фетистову свою одежду, положила руку на плечо подбежавшего к ней стройного Колабина и закружилась с ним под звуки «Березки».
Возле входных дверей в группе нетанцующей молодежи она действительно увидела Егора. Он стоял, прислонясь плечом к нагроможденным скамейкам, и пристально глядел на нее. Маруся кивнула ему и, ласково улыбаясь, оживленно заговорила с Колабиным о каких-то пустяках. Она совсем не сознавала, что кокетничает с ним потому, что в мыслях у нее был Егор. Когда они опять проносились мимо дверей, Маруся отыскала взглядом лицо Егора и поразилась его суровому выражению. Теперь он не смотрел на нее!
«Надулся почему-то! Ну и пусть!» — подумала Маруся, однако не выдержала и снова взглянула в ту сторону. Егора в зале уже не было. Все оживление девушки сразу исчезло, хотя она не поняла, отчего так больно защемило у нее сердце.
— Довольно, у меня голова закружилась, — сказала она, поднимая на кавалера опечаленные глаза.
Колабин довел ее до Фетистова и сел рядом на скамейку, но Маруся уже не обращала на него никакого внимания. Она надела боты, пальто, повязала голову шалью и, вынув из кармана перчатки, посмотрела на старика.
— Домой? — удивленно спросил Фетистов.
— Да, ухожу.
— Проводить, что ли?
— Разрешите мне! — сказал Колабин и приподнялся, умоляюще глядя на нее. Лицо у него было румяное, с тонкими правильными чертами, голубые глаза по-девичьи красивы, но Маруся ответила холодно:
— Не надо, я привыкла без провожатых.
Девушка проскользнула мимо зрителей, толпившихся у входа в зал и вышла в просторное фойе. Там стояли группы курящих шахтеров, сквозь голубоватый дым белели на красном слова лозунгов.
Дверь в читальню была полуоткрыта. Маруся мимоходом заглянула в нее и попятилась: у стола в распахнутом полушубке сидел Егор. Перед ним лежал открытый журнал, но, облокотясь на стол и вцепившись всей пятерней в темные волосы, он смотрел куда-то в сторону. Девушка отступила быстро, но Егор повернулся еще быстрее, и взгляды их встретились. Сердце у нее так и заколотилось. Однако она постаралась принять равнодушный вид и произнесла почти спокойно:
— Журналы читаешь? Это хорошо. Тут есть совсем свежие.
Егор продолжал молча смотреть на нее, и Маруся решила, что уйти сейчас невозможно — он может подумать, что она уходит из-за него. Да мало ли что может взбрести ему в голову?
— Надо бы мне книги обменять сегодня… — сказала она, подходя к столу. Голос ее дрогнул, и она, рассердись на свое волнение, резко повернулась к дверям.
— Чего же ты танцевать бросила? — спросил Егор так робко, что Маруся сразу ободрилась, обретая обычную самоуверенность.
— Хорошего понемножку. Домой тороплюсь.
— Я провожу тебя?
— Как хочешь.
Егор помедлил — будто и правда раздумывая: идти с Марусей или остаться, — и легкими крупными шагами догнал ее у выхода из фойе. Некоторое время они шли молча. Было тихо. В долине над прииском высоко поднималось розовое зарево огней. Ночь стояла холодная, туманная, едва светили белесые звезды. Когда Маруся зябко повела плечами, Егор не увидел, а скорее почувствовал это движение.
— Замерзла?
— Нет, — ответила она, хотя с трудом удержалась, чтобы не застучать зубами.
— «Нет», а дрожишь! — Егор обнял ее, но она вывернулась, сказав сурово:
— Рукам воли не давай!
Ей сразу сделалось жарко, и она пошла тише.
— Как же в клубе обнималась с Колабиным?
— Это в танцах. Совсем другое дело.
— Другое дело, потому что со служащим. Конечно, с ним интереснее. Навылет его глазами простреляла, а он и так за тобой таскается, словно репей.
Слова Егора рассмешили Марусю. Меньше всего думала она о профессиях своих знакомых и ко всем относилась одинаково, только с Егором не могла держаться свободно: всегда он заставлял ее быть настороже. Этой зимой отношение к нему еще более осложнилось: теперь при встречах у нее начинали холодеть руки, билось сердце, и она нервничала, стараясь вернуть прежний насмешливо-спокойный тон.
Маруся замедлила шаги, искоса посмотрела на Егора. Он шел, опустив голову, полушубок на нем был распахнут, как там, в читальне.
— Что ты идешь такой растрепанный, еще простудишься! — сказала она, останавливаясь.
Егор стоял перед ней ссутулясь и угрюмо глядел в землю. Тогда Маруся сама поправила ему шарф и, сняв перчатку, застегнула пуговицы полушубка. Обоим стало хорошо, и они засмеялись.
— Какой ты чудной! Точно маленький, нельзя так, — сказала Маруся.
Егор взял ее озябшую руку своей горячей ладонью и, бережно держа, спрятал к себе в карман. Теперь девушка поневоле шагала, прижимаясь плечом к его плечу.
— Если бы я хоть немножко надеялся… что ты другого не выберешь… я бы набрался терпения и ждал. Не век тебе в девках сидеть, — говорил он, с трудом удерживаясь от желания схватить и расцеловать ее.
Маруся на ходу высвободила руку, слегка отстранилась.
— Обещать я ничего не могу. И выбирать никого не собираюсь. Мне сейчас для себя одной времени не хватает. То учеба, то в садике… Как у тебя работа в шахте? Соревнуешься?
— Недавно нас вызвали ребята-комсомольцы: давайте, мол, звено со звеном. Согласились мы с Мишкой. Он у меня откатчиком, — и еще один есть, но тот не очень поворотливый. Дали обязательство, чтобы без прогулов и норму выполнять не меньше ста процентов… — Егор помолчал, потом добавил с гордостью: — Знаешь, по скольку мы заработали в прошлом месяце? По триста сорок рублей на брата.
— Видишь, как хорошо теперь: все по-новому — и работа и товарищи, — сказала Маруся.
8
Договор о соревновании Егор подписал неохотно:
— Как можно загодя хвалиться? Дашь слово, а вдруг да не выполнишь?
Никитин сказал с легкой издевкой:
— Вдруг пришел к бабе друг, а она его весь вечер ждала. Постараемся выполнить. Прогулы-то от себя ведь зависят.
— А если будут простои не по нашей вине? — колебался Егор, глядя на свою корявую подпись.
— Хватит раздумывать! — Мишка взял бумагу из рук товарища. — Что, если бы тебе досталось дело государственной важности? Ты бы целый день, поди, сидел да замахивался!
Мишка взял карандаш, разгонисто подписался: «М. Ник.», дальше следовала петля, замысловатый росчерк и длиннейшая спираль.
— Вот! — удовлетворенно промолвил он. — От хорошей, брат, подписи многое зависит: сразу впечатление создается… А дело хорошее. Ударникам почет, премии разные. Зачем отказываться от этого? Мы ведь не монахи, постом и лодырью царства небесного не добиваемся.
Ночью Егор долго не мог заснуть. «Ударником заделался, — размышлял он, беспокойно перекатываясь с боку на бок. — Держись теперь, Егор Григорьевич, чтобы не осрамиться. Надо бы сократить в договоре по части общественных нагрузок. Уж очень много мы насулили! А все Мишка… Не дал обмозговать путем. Погоди, я тебя завтра погоняю с тачкой!»
В бараке было темно. Храпели вповалку на сплошных нарах усталые люди. Кто-то позвякал печной дверкой. Сильнее затрещало пламя, озарило красноватым светом дальние углы. Егор повернулся к Мишке. Тот дышал тихо, ровно. Егору стало досадно.
«Дрыхнет, как колода!» — подумал он, завидуя беззаботности Никитина, и потеребил приятеля за нос.
— Мишка!
Никитин заворочался, сладко почмокал спросонья губами.
— Чего ты, Егор?
— Думаю я.
— Конь пускай думает, у него голова большая…
— Мишка, договор-то мы подписали…
Никитин проснулся совсем, протяжно зевнул, тепло дохнув в лицо Егора.
— Заладила сорока про Якова!.. Ну подписали, в чем дело? Надо порядок навести в шахтах. Смотри, сколько прогулов да простоев. Лодырей расплодилось, как грибов поганых. Вот теперь их начнут трясти, только держись! Комсомольцы пошли на производство, партийцы… Раньше на службе находились, а теперь в забои рвутся.
Егор заговорил шепотом:
— С которыми мы соревноваться будем — ребята-силачи, и забойщик у них опытный, бодайбинец. Обставят они нас! Может, нам породу из забоя вынимать по-новому?
— Как еще по-новому? Чем ты ее возьмешь, кроме кайла?
— Думаю я, — повторил Егор нерешительно, — надо все-таки попробовать…
Он закурил, сел на постели. За окном текла темная, в мелких звездах, весенняя ночь; в темноте одиноко брехала собака.
— Знаешь, Миша, — заговорил Егор снова после долгого молчания, — я за последнее время подметил: сильнее ударяешь кайлом — только устаешь, а ударишь слабо, но с расчетом — и толку куда больше.
— Угу, — сонным голосом отозвался Мишка.
На другой день в шахте Егор был сосредоточен и угрюм. Всю смену он работал молча, почти с ожесточением. Звено, глядя на него, тоже подтянулось, но после замера Мишка сказал:
— Как хочешь, но без отдыхов я работать несогласный. С такой горячкой можно не больше недели протянуть. Запаришься и сдохнешь. Не понимаю, чего ты бесишься! Норму и так перевыполним, а если те больше дадут — ихнее счастье. Я человек независтливый.
Егор ответил не сразу.
— Зависть — это когда человек чего-то хочет для себя одного, — возразил он. — А тут артельно уговорились взяться за работу вперегонки. На весь район ославимся, как трепачи, ежели обещания не выполним.
Мишка покачал головой, смешливо поморщился.
— Угробишь ты нас! Не могу же я с тачкой рысью бегать.
Второй откатчик ничего не сказал, но вид у него был тоже усталый и недовольный.
Этот разговор заставил Егора крепко задуматься о том, как работать ровно, без натуги и срывов. Он начал приходить на шахту раньше своей смены, присматривался к работе других звеньев, изучал причины простоев, приставал к смотрителям с расспросами.
— В мастера ладит попасть, — говорили шахтеры, посмеиваясь над ним, когда он, широколобый, бровастый, сдвинув на затылок шапку, сновал по просечкам в неурочное время.
Иногда он заходил в читальню, брал журналы по горному делу, подолгу просиживал над ними, с трудом вчитывался, огорчаясь из-за своей малограмотности. Читальня толкнула его в вечернюю школу для взрослых. Он похудел. Серые глаза его беспокойно блестели.
— Когда ты женишься? — озабоченно спрашивал Мишка.
— А что? — смущаясь, отвечал Егор.
— Видимость у тебя такая — вот-вот психовать начнешь.
Однажды Мишка поинтересовался:
— Как у тебя с Марусей-то выходит дело?
Егор нахмурился, сердито отвернулся.
— Брось мучиться, — посоветовал Никитин. — Пойдем к другим девчатам. Парень ты видный, за тебя любая с радостью пойдет. Не хочешь? Ну, пес с тобой!
«Попробую подкайлить снизу, — решил после долгого раздумья Егор. — Возьму мелко, сантиметров на двадцать пять, а там видно будет. Только бы мастера не принесла нелегкая! Сунется с указкой под руку — все испортит».
Он послал откатчиков за лесом и начал подкайливать низ забоя. Когда они вскоре вернулись, большая груда накайленой породы уже ожидала их. Рабочие в недоумении переглянулись.
— Что ты тут вытворяешь? — крикнул Мишка, широко открытыми светлыми глазами уставясь на выклеванный Егором забой, и невольно выругался.
— Подкайливаю, — сказал Егор, упрямо продолжая работу. — Начинайте откатку, пока на подъемнике свободно.
— А придет мастер, что он скажет? Сделается кумпол — задавит и тебя и нас.
Егор нетерпеливо тряхнул головой, выпрямился и… неожиданно просительно улыбнулся:
— Небось обвала не будет. Я ведь рассчитываю: где грунт рыхлый, подкайливаю мелко. Доберусь доверху, тогда сразу закрепим. Вот какой валунище вынул, и совсем легко. Кабы можно было, я бы сам и кайлил и катал… Охота мне проверить, можно ли работать так…
— Умней инженеров хочешь быть! Подумаешь, проверщик нашелся! На то наука существует… Хотя почему бы и не попробовать? — сказал Мишка, сдаваясь, когда увидел, как омрачилось лицо Егора. — Подкайливай! Но ежели насыплешь, будешь помогать нам на откатке.
Никитин первый нагрузил тачку и увез ее на подъемник. Обратно по пустынным еще просечкам он мчался с нею рысью: ему показалось, что в забое зашумел обвал.
Егор удивленно обернулся на необычно тарахтящий бег тачки и громкий частый топот шагов…
— Живой еще? — Мишка с трудом перевел дыхание. — Бадейщица дремала у подъемника — не привыкла, чтобы сразу после смены начинали откатку. Я ее испугал. Заругалась. Только я сам сегодня тоже буду все время пугаться, покуда огнива не завесим. Как бы не загремело сверху.
9
На ступеньках крылечка скользко от весенней капели. Придерживаясь за столбик навеса, Маруся подтянулась повыше, отломила сверкающую сосульку, надкусив ее, ощутила во рту приятный пресноватый холодок.
«Ребятишек ругаем за это, а сама пример им подаю… А еще директор детского сада!» — укорила она себя весело и распахнула дверь в коридор общежития, где жила Надежда.
Небольшая, но очень светлая комната. На окне длинная марлевая штора, за ней вышитые занавески, посередине стол, накрытый полотняной скатертью. Жарко натоплено, пахнет свежевыпеченным хлебом — рядом кухня.
Маруся сняла пальто, боты и в одних чулках, неслышно ступая по вязаным половикам, подошла к деревянной кровати Надежды. Женщина спала. Казалось, она измучилась, упала и вот спит тяжелым сном. Шелковистые волосы рассыпались по подушке, губы полуоткрылись, словно от удушья. Такая сильная и в то же время беспомощная лежала она перед Марусей.
Девушка наклонилась над спящей, с любопытством вгляделась в ее странно измененное и все-таки красивое лицо. Какие-то тени бродят по ее белому лбу, брови беспокойно морщатся. Что видит она?.. Вот пошевелила губами, улыбнулась. Теперь она довольна, ей хорошо. Жалко, но придется разбудить.
— Эй, засоня! — тихонько позвала Маруся, садясь на край постели. — Что за мода спать днем? Цингу наспишь.
Надежда потянулась всем телом, приоткрыла синие, бессмысленные спросонья глаза.
— Какие у тебя большие зрачки! — сказала Маруся. — Да че-ерные!
— У кого же они белые-то бывают? — сонным, чуть охрипшим голосом спросила Надежда, обхватила юную подружку обеими руками, шутя опрокинула ее к стенке. — Ляжь, отдохни. Хватит тебе бегать. Я вот пришла с работы да так славно уснула. Сейчас встану, чай пить будем.
Надежда хотела встать, но Маруся удержала ее.
— Погоди, давай посплетничаем. — Села поудобнее, прикрыла подолом платья ноги, плотно натянув материю на коленях. — Что, о Забродине ничего не слыхать?
У Надежды скорбная складка привычно легла между бровями. Мысли о Забродине, очевидно, беспокоили ее. Она сразу потемнела и постарела.
— Нет, пока, слава богу, ничего не слышно. Выслали его, верно, чего ему здесь делать! Уверюсь, что так — живу, радуюсь, а подумаю: вернется, ровно камень на душу ляжет. Во сне вижу, будто я опять с ним, и плачу, аж сердце разрывается. Вот до чего он мне опостылел!
— А к сестре ехать не собираешься? — спросила Маруся, сочувственно глядя, как, разглаживаясь, мельчали на лбу женщины старящие ее морщинки.
— Да прижилась уже. И работа в больнице мне нравится. Я теперь вроде завхоза. — Надежда поймала взгляд Маруси, устремленный на окно, и, краснея, сказала: — Ты не подумай, марлю я не там взяла. В магазине продавался кусок.
— В голову не приходило! Вот какая ты чудачка! Просто посмотрела потому, что дешево и нарядно получилось.
— Чужой нитки сроду не присваивала. — И Надежда стала рассказывать: — Машину я купила у одной отъезжающей в жилое место. На днях начну на ней шторку для двери вышивать по суровому полотну. Знаешь, этак с переплетом… Ришелье называется. Меня в Благовещенске хозяйка обучила — она мастерица была. Ты матери скажи, пусть приносит полотенца. Я ей обещала промережить. А отец как?
— Работает вовсю. Раньше говорил, что якуты для горных работ не годятся, а сейчас доволен ими… хвалит. Я заметила: любит он, чтобы его самого похваливали да поглаживали. Мама говорит, что он меня принимал, когда я родилась… Стыдно должно быть, а она гордится.
— Правильно делает, что гордится. Раньше в тайге не редко бывало так, что мужики у своих баб детей принимали. Животное и то в эту пору жалко, а если родной человек мается, как тут не помочь?
— Все равно неудобно! — Маруся легла возле Надежды, обняла ее. — Хорошая ты у нас!..
— Отпускаешь волосы? — Надежда потрогала прическу Маруси. — Тебе идет с шишкой, а с косами еще лучше было. Помнишь, как остриглась-то? Я тогда промолчала, а не понравилось мне.
— Надо всегда прямо говорить!
— Косы не выросли бы от этого, а тебя и так все ругали. Как с Егором-то? Встречаетесь?
Маруся смутилась. Егор стал снова настойчиво-ласковым, но его внимание уже не раздражало девушку: теперь ее тоже тянуло к нему.
Надежда смотрела пытливо, понимающе, доброе лицо ее вызывало на откровенность.
— В шахте он, третий месяц… Иногда к нам заходит.
— А-а-а! — протянула Надежда и умолкла, прикрыв глаза ресницами.
Маруся вспыхнула, верно поняв значение этого восклицания.
— Вовсе нет! Ты не подумай чего-нибудь… Он к отцу приходит, мне с ним некогда. — Вспомнив свой упрек Надежде насчет прямоты, Маруся совсем стушевалась. — Мне его жалко, он неплохой парень.
— Я тебе давно говорила. Его только в руки взять, а уж любит тебя!
Девушка нахмурилась, словно отгоняя что-то неприятное, качнула головой.
— К Катерине-то он ходил.
— Да ведь от обиды. Ему тогда наговорили, что ты с Черепановым живешь.
— А ты знала?! Почему ты не сказала ему, что это неправда? И мне не сказала!
— Ты слышать о нем не хотела, и я думала, может, ты вправду собираешься выйти за Черепанова. Я тогда пошла вечером на речку, а Егор-то лежит в кустах и ажно дрожит весь… Плакал ведь навзрыд! И не пьяный был. Это уж после Катерины. Я сама над ним заплакала. Жалею я его! Я с ним говорила недавно, похоже, он просто так ходил к этой халде, за водкой. Выходи-ка замуж за него. Пора уже. Мужиков много, да милых мало, а Егорка — он золотой человек.
— Чего ты нахваливаешь? — подозрительно спросила Маруся и внезапно задумалась. — Нет, не манит еще меня семейная жизнь.
— Дело твое, — сказала Надежда, но глаза ее повеселели. Она поднялась с кровати, помотав головой, распустила волосы, расчесала их и снова собрала большим узлом.
Маруся облокотилась на подушку и вспомнила сегодняшний сон. Она стояла в какой-то ограде, напряженно смотрела вверх. Дикие гуси кружились над нею в облачном небе, отчетливо были видны их светлые снизу крылья и крупные головы на длинных шеях.
«Упади! Упади!» — страстно шептала она. И вот один из гусей перевернулся, стал падать вниз, прямо к ее ногам. Благоговейное волнение охватило ее при виде такого чуда. Истово перекрестясь, она сказала: «Слава тебе, творец небесный!» — и наклонилась восхищенная. Но на земле перед ней лежала утка. Глядя на ее серенькое брюшко и ржаво-бурые крылья, Маруся почувствовала острое разочарование и обиду: она совершенно ясно видела, что падал гусь. Потом исчезла и утка, и Марусе было очень неудобно перед неведомо откуда появившимися ребятами-комсомольцами, и она, стесненно посмеиваясь, говорила, что перекрестилась нарочно.
Словно издалека донесся до нее голос Надежды, а она стояла совсем рядом:
— Кожа на голове болит от волос да шпилек, тяжесть такая. Придется заплетать в две косы и венцом укладывать.
— А я сон видела нынче!.. — перебила Маруся.
— Замуж тебе пора, — снова сказала Надежда, выслушав.
— Какое же это имеет отношение к моему сну? — спросила Маруся со смехом, но глаза ее заблестели еще ярче.
10
На подъемнике опять что-то случилось. Откатчики стояли и сидели возле тачек на рудничном дворе, курили, посмеивались над бадейщицей, румяной девушкой в брезентовой мужской спецовке.
— От баб нигде отбою нет! Сидели бы лучше дома, а то из-за вас один беспорядок.
Бадейщица, выведенная из терпения, сердилась.
— Почему из-за нас?
— Ребята на вас заглядываются, интересуются, работа на ум не идет.
— У лодырей на все отговорки. На второй шахте женщин нет, а поломки и простои без конца. Вчера на лебедке опять мотор испортился. Вызвали моториста в управление, а он говорит: «Должны же быть производственные неполадки. Машина, говорит, тоже имеет свои болезни». Женщина бы сроду не сказала, что неполадки должны быть. Да еще на таком молодом производстве: машины-то новешенькие!
— Ну, это он перехватил через край! — согласился забойщик Точильщиков, пришедший поторопить верховых с доставкой леса.
Очередь увеличивалась. Становилось шумно.
— Теперь, кажись, все собрались!
— Что-то Мишку Никитина не видать.
— У них забой дальний, метров за триста.
— Ему триста метров нипочем — бегает словно иноходец.
— Они с утра катали, — сказала бадейщица, — покуда подъемник исправный был. Третью смену раньше всех катают.
— Как это они умудряются?
— Ударнички! Охота лучше людей быть!
— Э-э-эй, бороноволоки, сторонись, задавлю! — крикнул, шумно подкатывая, Мишка.
— Становись в очередь, не лезь вперед.
— Я не лезу, мне вот на папашу посмотреть интересно.
«Папаша!» — усатый Точильщиков сумрачно усмехнулся:
— Девка я, что ли? Давай не дури! Тебя в санки бы впрячь, черта гладкого.
— Ты думаешь, тачка легче? В ней дерева пуда полтора, да грязи налипнет столько же. Вот скоро дадут железную, тогда любого вызову на соревнование.
— Уж ты вызовешь! — сердито сказал Точильщиков. — Что, огнива-то уже завешали?
— Егор верха подбирает, сейчас одно завешают.
— Которое?
— Первое.
— Чего же вы с утра катали?
— Шишки еловые! — ответил Никитин. — Чудак человек, что же можно катать из забоя? Ясно — породу! Снизу начинали.
— Как это снизу? Почему? — наперебой заговорили откатчики.
— Очень просто. Мы и вчера так… за смену пять огнив завешали.
— Ну и здоров ты брехать! Прямо уши вянут! — с возмущением крикнул Точильщиков. — Лучшие забойщики больше трех не завешивают…
Мишка сказал с достоинством:
— Приходи в забой, увидишь!
— Вот сменный мастер узнает, он вас проберет! — сказал один из сидевших у подъемника. — С землей шутить нечего, недолго и до беды.
Звонки на подъемнике прекратили разговор. Бадья плавно опустилась вниз, и на рудничном дворе началась беспрерывная суетня.
— Полчаса простоял из-за поломки в очереди, — сообщил Мишка, вернувшись в забой. — Давеча совсем свободно было, а сейчас все враз прут.
В конце смены, когда Егор завешал шестое огниво, пришли шахтеры из соседних и дальних просечек, осмотрели забой, посчитали огнива: нет ли старых? Один даже попробовал зачем-то пошарить за стойками.
— Рукавицы потерял, что ли? — насмешливо спросил Мишка.
— Гляжу, может, вам грунт пустой попался.
Егор, довольный интересом шахтеров, с кайлом в руках показывал, как он работал в последние дни. Общее внимание оживило его. Сдержанный и неловкий на людях, он сделался даже красноречивым. Ему казалось, что все с радостью ухватятся за его уже проверенное на практике предложение.
«Как сразу увеличилась бы выработка!» — думал он. Приход сменного мастера Колабина охладил его.
— Подкайливаешь? — спросил мастер хмуро, подсчитав сегодняшнюю завеску. — Действительно, шесть огнив! А дальше как будешь?
— Так же, конечно.
— А ежели я доложу заведующему техникой безопасности и он штрафнет тебя рублей на сто, тогда как?
— За повышение производительности не имеет права… — Сердце Егора отчаянно забилось. — Я напишу в газету, — пригрозил он.
— Жалея тебя, предупреждаю, — нерешительно возразил Колабин, внимательно разглядывая Егора. Он знал, что начальство подкайливать не разрешит, но неудобно было одергивать ударника, уплотнившего свой рабочий день, и он сказал холодно: — Если сошло благополучно, так только потому, что грунт устойчивый. В слабом сразу бы закумполило.
Новая смена уже приступила к работе. Забойщики, приходившие полюбопытствовать, расходились; кто посмеивался, кто задумался. Но после слов мастера всем стало ясно, что высокая производительность Егорова звена связана с большим риском.
Егор и Мишка, как обычно, вышли из шахты вместе, сдали спецовки, но долго еще сидели на длинной скамейке в коридорчике раскомандировочной. Мишка нехотя огрызался, когда их задирали, Егор молчал. Только однажды, когда он ходил к Катерине, у него было такое паршивое настроение. Ему вдруг захотелось напиться, но он вспомнил о Марусе и, устыдясь своего малодушия, повернулся к товарищу…
— Вот нахлебники Советской власти! Им только бы беспокойства не было, — сказал Мишка, лично оскорбленный отношением сменного мастера к трудовому почину звена. — Штрафнем, говорит, рублей на сто. Ну, не паразит ли?!
В глазах Егора разгорелись задорно злые искорки.
— Схожу я в партком к этому… Черепанову.
Мишка неожиданно развеселился:
— Ты его зря не любишь. Он хороший…
11
Река вышла из берегов… Мутные желтые воды ее, завиваясь бурунами, грозно хлынули с гор на крохотные, любовно возделанные поля и огороды, на ровные канавки орошения, заплескались у стен убогих фанз поселка… Все живое бросилось к пустынным склонам ближнего нагорья. Спешили женщины с грудными детишками, с наспех связанными узлами. Малыши постарше цеплялись за одежду взрослых, бежали, падали, кричали и исчезали под катившимися со стороны реки водяными валами. Река вздувалась все, выше, лезла из берегов неудержимо.
Жесткая рука бабушки, как железные клещи, сжимала ручонку Ли. Мальчик семенил за старухой, но все норовил оглянуться назад. Братья и сестры летели рядом, точно выводок напуганных цыплят, а мать и отец замешкались: выводили из хлевушка годовалую свинью — гордость семейства. Теперь они бежали, держась за веревку, захлестнутую лямкой под грудью животного. Отец отставал: он тащил еще какую-то ношу в мешке. Ли видел сверток и на плече матери. Потом она мелькнула уже без свертка: с трудом удерживала бестолково метавшуюся свинью. Когда водяной вал стал настигать бегущих, сбивая их с ног, животное кинулось вперед, и женщина выпустила из рук веревку. Люди бросали вещи, теряли детей, а жадная вода гналась за ними, глотая их, словно сказочный дракон. Потом те, кто уцелел, сидели на каменистом голом склоне под палящим солнцем и тупо смотрели на долину, покрытую пенящимся бурным разливом, по которому плыли обломки строений, деревья, вырванные с корнями, кучи соломы, бочки, плетни и тела утопленников.
Почти каждый год река губила посевы и уносила массу человеческих жизней, и хотя жители долины знали о ее склонности к жестоким причудам, они всегда оказывались не подготовленными к ним.
«Тяжело покинуть родной угол, зная, что не найдешь его, когда вернешься обратно, — говорила бабушка, покачивая на коленях маленького Ли. — Обидно попусту бросать в пасть вечно голодного зверя нужды свое здоровье, силу и молодость, но горше всего утрата любимых… Больно ранит живых падающий меч смерти. Каждый удар отдается в сердце близких, как стук топора по корням дерева встряхивает раскидистую вершину. Гибнут корни дерева, и сохнет зеленая крона. Гибнут живые привязанности, питающие заботой и радостью душу человека, и сохнет, черствеет душа…»
Бабушка говорит тихо, медленно, важно, гладя плечи внука и роняя слезы на его черную головку. По всему склону горы воют, рыдают женщины… Какое горе и разорение упало на жителей долины! Плачет и мать Ли. А отец смотрит сощуренными глазами на реку, которая недавно хватала его за пятки, и молчит. Трубочка его пуста, странно, точно мертвые, лежат на коленях узловатые, раздавленные работой руки. Эти руки не привыкли к праздности.
«Бабушка, когда я вырасту, возьму большую мотыгу и отведу реку», — обещает маленький Ли.
«Куда же ты ее отведешь, дружок?» — говорит бабушка, улыбаясь сквозь слезы.
«Вон туда!» — Ли неопределенно машет в сторону.
«Там такие же бедные люди, как мы, — говорит бабушка. — У них своего горя достаточно».
Вспугивая воспоминания, рядом раздается детский плач, тревожа и радуя слух:
— Зи-ина! Зи-ина!
Луша уже на ногах, в комнате полусвет от настольной лампы, окруженной книгами и бумагами, на которых смуглеют бессонные руки Сергея Ли. Откинувшись на стуле, он видит, что за кружевом оконных штор синеет ночь. Черные косы жены свешиваются над постелью, где барахтается, размахивая крошечными кулачками, бесконечно дорогое существо. Похоже, Зина ловит тяжелые косы матери, и Ли смеется про себя, глядя на эту милую картину.
Мирошка спит спокойно. Вот корни, которыми Сергей Ли крепко врос в жизнь… Но другие дорогие сердцу образы встают перед ним. Он снова задумывается. Ему хорошо, а они? Вот бабушка, хлопотливая, добрая, веселая говорунья… Вечно озабоченная работяга мать… Отец… Сестры… Ведь это тоже корни, которыми душа Ли привязана к жизни! И они не отсохли, не оборваны. А небо родной страны, ее горы и реки — все такое жестокое к бедным жителям и такое любимое!..
Неужели там никогда не будет радости и покоя? Неужели бабка умрет, так и не пожив без боязни за завтрашний день? Зи-на, Зи-на, какая ты счастливая, что родилась не на тех горячих и голодных берегах. Там рождение девочки — несчастье. Если она третья в семье, ее могут бросить в рисовое болото. Таков звериный закон борьбы за существование. Но должно ведь и туда прийти счастье?
Ли вспоминает, как он покидал свою деревню, родную свою страну… Ничего тогда не понимал!..
Прав ли он был, позволив жестокой нужде вытолкнуть его за порог родного крова, родной страны, где все подчинено японцам и американцам? Чем только живы там дети и старики? А в годы неурожаев все превращаются в стариков. Тяжелой поступью проходит голод. Страшные болезни идут за ним… Пустеют фанзы… Но так мало земли у бедняков, что вслед за мором опять, как пена, как горькая накипь, вскипает излишек ненужных рук, голодных ртов. Живой шлак, в который превращается часть народа, бьет через край котла, именуемого государством, уходит в сторону. Так ушел и Сергей Ли. Ушел и вдруг впервые ощутил себя человеком. Мог ли он сожалеть о прошлом? Нет, он с чистым сердцем перешагнул в новую жизнь и с радостью утвердился в ней, принимая ее, как принимает свет и тепло измученный, озябший путник. Он осматривается с признательностью, он тянется к этому теплу. За его спиной тьма, холод и голод. Со страхом вспоминая о них, он всем существом ощущает благодатную перемену. Так и Сергей Ли… Теперь его сердце болело только о тех, кто остался там, во тьме. И чем лучше он жил, чем свободнее и глубже дышал, тем больше думал о них и тем сильнее любил все, что окружало его сейчас.
— Луша! — тихонько, чтобы не разбудить чуткого Мирошку, окликнул он жену.
Она устроила удобнее головку ребенка на своей согнутой руке, поправила пеленку и только тогда посмотрела на мужа; влажно блестевшие черные глаза ее выражали ласковое внимание.
— Что? — спросила она, подходя и присаживаясь рядом с ним.
Он крепко обхватил ее плечи. До сих пор он не преодолел привитой обычаями его народа сдержанности в обращении с женщинами, но упрямо боролся с нею, хотя, целуя при посторонних жену, всякий раз испытывал невольное смущение: на Востоке поцелуй воспринимается как нарушение приличия. Ли с удовольствием нарушил сейчас это приличие и спросил:
— Скажи, ты могла бы поехать со мной на мою родину?
На лице женщины расплеснулась внезапная бледность и испуг.
— Зачем? — воскликнула она.
— Нет, не сейчас, — с живостью ответил Сергей Ли, увидев ее тревожное волнение, — а когда там будет Советская власть.
— Тогда я поеду с тобой… Мы поедем с тобой, — сказала она, вздыхая с таким облегчением, что Ли сразу представил невозможность оторвать ее от родной почвы, которой для нее была не местность, а весь общественный строй, вырастивший ее.
— Вот и у меня это же! — сказал он, зная, что она поймет его. — Ведь правда: родина там, где больше чувствуешь себя человеком. Но и моя страна станет той родиной, где будет хорошо людям.
12
В партком Егор не пошел: снова всколыхнулось чувство старой обиды, которую, сам того не зная, нанес ему Черепанов, снова вспомнилось отчуждение любимой девушки и свое падение…
«Ведь это из-за Черепанова я чуть не отсидел в тюрьме», — думал Егор.
Ему казалось, что тот настроен к нему тоже неприязненно, а интерес дела требовал посоветоваться с кем-то отзывчивым, кто дал бы совет и помог воздействовать на зловредного мастера. Тут Егор вспомнил последний доклад Сергея Ли, его горячий призыв повысить производительность труда…
— Вот я и хочу повысить, — с горечью сказал Егор вслух, как будто уже обращаясь к председателю приискома, и круто свернул с намеченного было пути.
У Сергея Ли шло заседание конфликтной комиссии: рассматривали выполнение договора старательской артели с управлением. Сидя в смежной комнате, Егор томился, сгорая от нетерпения, рассеянно прислушивался к голосам споривших. Прииском помещался теперь в новом помещении, из окон которого открывался вид на шахтовые копры вдоль бывшего русла Ортосалы, на людный поселок вдоль левого ее увала. Сначала Егор, занятый своими мыслями, ничего не замечал, и смысл спора на заседании не доходил до него потому, что подогретая ожиданием досада так и кипела в нем. Потом слова Сергея Ли задели и заинтересовали его.
— Нет, ребята, вы неправильно требуете, — говорил тот, обращаясь к старателям. — Льгот вам теперь предоставлено много, но нельзя превращать предприятие в дойную корову. Вы не с частным хозяином имеете дело, имейте государственное соображение! Нельзя рубить сук, на котором сидишь.
Ли говорил с сильным акцентом, но слова выговаривал правильно, лишь изредка скрадывая окончания их. Голос его звучал искренней, серьезной убежденностью…
«Вот у Колабина как раз и нет государственного соображения! — подумал Егор… Из глубины его души то и дело всплывало воспоминание о том, как Колабин ухаживал за Марусей, но Егор, не желая придать делу личный характер, сердито отмахивался от этих представлений. — Не хочет понять, что нам нужно работать как можно скорее, ловчее… Мало ли правил навыдумывали старые техники!»
— Здравствуйте, товарищ Ли! — сказал Егор, входя в комнату, когда представилась возможность.
— Здравствуй, товарищ… Нестеров, — ответил Ли, не сразу вспомнив фамилию молодого шахтера.
«Знает меня», — подумал Егор, разглядывая в упор симпатичное ему весело-умное лицо председателя. Но вопрос, который так волновал его с полчаса назад, представился ему вдруг совсем неважным. В самом деле, что можно рассказать сейчас? Ну, начал подкайливать забой снизу… Ну, удалось в течение нескольких дней вдвое повысить выработку звена… Даже свой брат шахтеры не придали этому значения. Стоило ли волноваться и устраивать конфликт с техническим руководством?
— Как жизнь идет? — спросил Ли. — Ты на какой шахте работаешь?
— У Локтева. На первой, — коротко ответил Егор, собираясь с мыслями.
— В соревновании участвуешь?
— Втянулись нынче, — неохотно начал Егор, но сразу оживился и торопливо выложил все, что наболело у него на душе в последнее время.
Ли слушал с жадным вниманием, придвинувшись вплотную к шахтеру, так что угольно-черные, слегка раскосые глаза его блестели перед самым лицом Егора.
— Ведь это замечательно! — вскричал он, обеими руками стиснув плечи Егора, — додумался раньше инженеров. Вот что значит, когда человек болеет общим интересом! Сильно меня рассердили сегодня рвачи. А ты молодец! Просто очень молодец. Важное нашел в своей работе. Пошли сейчас к Черепанову, он рад будет. Пойдем, пойдем! — говорил Ли, одеваясь и замечая нерешительность Егора. — Тут вопрос государственного значения, и мы все обязаны помочь тебе.
Егор пошел, подчиненный и захваченный жизнерадостной уверенностью председателя приискома, однако ощущал неловкую связанность.
Но встреча с Черепановым произошла неожиданно просто. Он выслушал Егора с большим интересом, угостил папиросой, закурил сам и, оставляя за собой дымный хвост, взволнованно прошелся по комнате.
Его тоже сразу воодушевила мысль о возможности улучшить работу в шахтах.
— Помнишь, я тебе еще в старом клубе говорил о переходе на хозяйские… — весело напомнил он Егору. — Ты мне тогда сказал: чего, мол, там делать? А вот и нашел чего!
— Нашел, — подтвердил Егор. Он все-таки избегал взгляда Черепанова и смотрел больше в окно, за которым влажно блестел на солнце рыхлый тающий снег. Не отрывая глаз от этого чудесно тающего снега, Егор добавил: — Обидно, что вместо поддержки одна просмешка. Пришел сменный мастер Колабин со своей указкой — и все сразу ему поверили, что дело, мол, рисковое.
— Сколько процентов вы дали сегодня? — спросил Черепанов.
— Двести четырнадцать, — ответил за Егора Ли.
— Здорово! Грунт у вас, говоришь, средний… А если в слабом?
— В слабом можно мельче подкайливать.
После небольшого раздумья Черепанов сказал оживленно:
— Надо вам хорошо освоить это подкайливание. Ведь потом придется других обучать. А насчет штрафов уладим. Штрафовать не будут, но мешать постараются наверняка. На помощь Колабина рассчитывать нечего: он хотя молодой, однако старыми традициями пропитан крепко. Ты что думаешь — мастер или инженер обрадуются твоему открытию? Ничего подобного! Они скажут: «Позвольте, ведь нас учили, что так работать нельзя». И по-своему будут правы. Но горное дело называется искусством! Значит, возможности для творчества в нем большие. Вот и твори, товарищ Нестеров, не бойся, что тебя одергивают, а мы создадим тебе условия.
13
В комнате было жарко натоплено. Потатуев любил тепло. Простая деревянная кровать его стояла у самой голландки. Сверх плюшевого одеяла он накрывался дохой, в ноги бросал овчинный полушубок.
— Небось сало не вытопится, а кости теплу рады, — говорил он сослуживцам, заходившим иногда в его маленький домик. — На улице любого мороза не боюсь, но дома — чтобы душа таяла.
Потатуев сидел у стола в меховой безрукавке, в низеньких валеных ботиках, оседлав очками мясистый нос, и, облокотясь, задумчиво смотрел на исписанный лист бумаги.
Письмо написано жене в Киренск. Потатуев давно жил отдельно от семьи. Единственный сын Кешка выродился ни в отца, ни в мать — дебелую, глуповатую иркутянку. Он был хил, хитер и в тридцать лет все оставался Кешкой, бездельником и пропойцей.
Глаза Потатуева рассеянно пробегали твердо выписанные строчки; оттого, что он подпирал кулаками большие уши, жирные складки косо набегали от щек к вискам.
«София Николаевна, здравствуй, мать моя!
Сыну не кланяюсь. Сердит за мотовство его и распутство. Деньги мне не даром достаются. Старею, а надежды на покойную старость нет. При нынешних порядках не наживешь палат каменных, а если и наживешь, так с железной решеткой. Недавно засыпало старателя в яме, и столько было комиссий да разговоров, что я заболел. Сердце стало пошаливать. Не обижайся, мать, на стариковское брюзжанье. Сама понимаешь, не от радости это. Хоть бы оженила ты нашего дурака, что ли. Только путная за него навряд ли пойдет, а халду взять — лишняя тяжесть на шею. В общем смотри, тебе виднее. В отпуск я ныне не приеду, не ждите. У нас здесь большие работы начинаются — недосужно будет».
Потатуев макнул ручку в чернильницу и дописал:
«К осени пошли мне валенки кухнарские, папашины. Деньги переведу двадцатого числа сего месяца. С приветом, муж твой Петр Потатуев».
Он встал и, шаркая ботиками, заходил по комнате. В сенцах стукнула дверь. Потатуев выглянул в переднюю, недовольно нахмурился: через порог переступал косой Быков. В старом ватном пиджаке и в сбористых шароварах он выглядел теперь настоящим старателем-неудачником.
— Ну, чего ты? — окрысился на него Потатуев. — Знают ведь: не люблю, когда на дом ходят, а все равно идут!
Быков виновато переступил с ноги на ногу. Взгляд его был заискивающим и злобноватым.
— Насчет работы я, Петр Петрович.
— Знаю, что не в гости пришел. Можно бы и в конторе поговорить. — Потатуев пристально оглянул старателя, припоминая, поднял одну бровь. — Ты в прошлом году работал в артели на Пролетарке… в той, которую разогнали за хищение золота?..
— Был такой грех, — хрипло ответил Быков и выжидательно кашлянул.
— Хм! — Потатуев погладил усы, чуть усмехнулся. — Где сейчас Санька, китаец этот?
Быков оживился, повеселел:
— Сидит он. Говорят, вышлют их из района, арестованных-то…
— Ну вот, — сурово оборвал Потатуев, — каждому по заслугам воздается. А ты чем занимаешься теперь?
— Все старался, да толку мало.
— Не везет?
— Еще как! Может, дали бы мне другую работу?
— Какую же другую? У меня, батенька мой, старательский сектор, а не завод, выбирать не из чего.
— Я все могу, — упрямо сказал Быков.
— Как это все? Кузнечное дело знаешь?
— И кузнецом могу соответствовать. Тятя наш свою кузницу держивали. Приходилось.
Потатуев ответил не сразу.
— Работа ответственная — наварка инструмента для шахт.
— Петр Петрович! — взмолился Быков. — Допустите ради Христа! Уж я бы постарался. Не верите мне, рукам моим поверьте. Вот они. — С этими словами Быков вытянул длинные руки ладонями к штейгеру, словно задушить его собрался.
— Руки у тебя действительно… Ладно уж. Дам записку к заведующему механической мастерской. Но смотри, чтобы не пришлось отвечать за тебя!
На другой день рано утром к дому Потатуева, как обычно, подали лошадь, запряженную в санки. Петр Петрович вышел в полушубке, в ушастой беличьей шапке, широко расселся и принял от конюха вожжи.
Хрустел под полозьями заледеневший снег, звенели застывшие лужи, по сторонам дороги темнели на припеках проталины. Морозец пощипывал щеки, но солнце вставало по-весеннему яркое.
«Не успею по холодку вернуться, — думал Потатуев, — придется санки оставить на руднике».
Он ехал на прииск Лебединый посмотреть работы богатой старательской артели. Старатели работали там на россыпи, а с правой стороны ключа на Лебединой горе были заложены первые рудные штольни.
Пока лошадь спускалась в долину, Потатуев с высоты зорко осматривал прииск: все изменялось теперь в районе не по дням, а по часам, а он не был здесь уже с неделю. В вершине — нечесаная грива ельника, редкие избушки старателей, в центре — новые постройки рудничного управления, бегунная фабрика, склады, дальше опять старатели. Работами рудника руководили молодые якутские специалисты.
Для Потатуева якуты и эвенки были просто инородцами. Раньше он покупал у них меха, ездил с ними на оленях в дальнюю тайгу и знал, что они обречены на вымирание. Значит, и церемониться с ними особенно не приходилось.
Он прошел по старательским делянам, спускался в глубокие зимние шурфы, пригрозил снять одну артель за неправильное ведение забоя, нашумел в другой из-за крепления и только к обеду, усталый и злой, вернулся на рудник.
В столовой было людно. Потатуев взял тарелку щей, выпил стаканчик водки и нехотя, без аппетита, сжевал пару жестких котлет.
Знакомый якут-инженер остановился у стола, протянул Потатуеву узкую руку.
— Здравствуй, голубчик! — пробормотал старик.
— Как поживаете, товарищ Потатуев?
— Ничего, живу помаленьку. Житье мое теперь под гору идет.
— Почему вы так думаете?
— Не думаю, а годы свое берут. Что у вас нового?
— Заканчиваем на фабрике установку второй чаши Бильдона. Хотите взглянуть?
— Можно, — согласился Потатуев.
В здании фабрики он долго наблюдал, как в чаше с глухим гулом кружились тяжелые жернова-бегуны. Мутная вода так и вскипала под ними, струилась внизу по решеткам промывальных шлюзов. Две завальщицы в красных платках, запорошенных седой пылью, подбирали лопатами руду и сбрасывали ее в чашу.
В смежном отделении постукивал мотор, гудели в топке дрова, и мерно шлепала о шкив сшивка приводного ремня.
Выйдя из помещения, Потатуев посмотрел наверх, где бегали вагонетки бремсберга от штольни к фабрике и обратно.
— Быстро вы все это оборудовали, — обратился он к инженеру, и в голосе его прозвучало невольное уважение.
— Поднимемся туда! — предложил инженер.
Потатуев взглянул на крутой склон горы, но кивнул утвердительно: работы Лебединого рудника его очень интересовали.
Два штрека, северный и южный, были пробиты от восстающего шурфа метров на сто. Новичок в горном деле, увидев, что они пройдены без крепления, ощутил бы робость. Конечно, порфиры — крепкая порода, но кто знает, может быть, где-нибудь вверху уже подтаяла трещина, заполненная льдом, и вдруг тяжелая глыба обрушится со сводчатого потолка после сотрясения от очередного взрыва. Потатуев не был таким новичком, к порфирам относился далее с уважением и поэтому озирался со спокойным любопытством.
Забойщики подчищали отпаленную породу, подтаскивали тяжелую тушку перфоратора; длинные кишки шлангов, наполненные сжатым воздухом, волочились следом.
Перфоратор неистово затрещал в напряженных руках бурильщика, выбрасывая из скважины мучнистую пыль. Потатуев посмотрел на бурение, на широкую жилу золотоносной руды, темневшую в порфирах, побывал в другом, противоположном забое и направился обратно, оставив инженера в руднике.
— Сухо тут у вас, хорошо, — сказал он коротконогому большеголовому запальщику, стоявшему в дверях компрессорной камеры.
— В сплошной скале работаем, а сверху вечная мерзлота. — Запальщик поправил сумку с динамитными патронами, висевшую у него на поясе, широко улыбнулся. — Подумать страшно — вечная мерзлота. Навсегда, стало быть.
Потатуев достал новую пачку папирос, ногтем отодрал наклейку, угостил запальщика. Закурили.
— Зачем динамит на себе носишь, не боишься?
— Чего бояться?
— А как взорвешься?
Запальщик беспечно ухмыльнулся.
— Чтобы взорваться, надо стукнуть по нему либо уронить. Я с ним привык: запросто обращаюсь. На Сосновом прииске динамитный склад был далеко, так я патроны под подушкой держивал, чтобы не замерзали.
Потатуев покачал головой.
— Не у меня работаешь, я бы тебя взгрел. Все до поры до времени.
— Именно, — охотно подтвердил запальщик. — Я уже пуганый. Помните, в позапрошлом году взрыв на Куронахе? Ведь это я тогда был.
— Когда избушку разбросало? — оживленно спросил Потатуев.
— Вот-вот. Я тогда принес динамит, положил с краю на плиту: «Пускай, думаю, отогреется», — и пошел. Только приоткрыл дверь на улицу, а доска-то с динамитом возьми да перевернись. Как взгудело, всшумело, и ничего я больше не помнил. Очнулся метров за семь в стороне, в сугробе. Глянул — от избушки два-три венца осталось, кругом бревна раскиданы, дрова обгорелые дымятся…
— Дивились мы, как ты уцелел.
— Я и сам дивился. Только на лбу кожа была сорвана, видать, об дверь треснулся.
— Крепкий у тебя лоб, — пошутил Потатуев. — В другой раз так не повезет. Закажи заранее, чтобы похоронили в вечной мерзлоте, тогда до второго пришествия сохранишься, вроде березовского мамонта.
Он стал подниматься по лестнице, но запальщик задержал его:
— Вот давеча вы сказали: сухо у нас… И то — сухо, аж в горле пересохло! Одолжили бы десяточку на похмелку. За мной не пропадет, ей-бо. Два дня кряду пил, голова гудит.
Потатуев отвернул полу теплого полушубка, вытащил бумажник, поплевав на пальцы, отделил от пачки две пятирублевые бумажки.
— Пьешь?
— Наскрозь проспиртованный. Зато меня никакая болезнь не берет. И в воде не тону, но уж ежели в огонь — сразу вспыхну.
14
На всех проталинах прямо из-под снега поднимались завернутые в тончайший пух синие цветы. Сморщенные кулачки листьев показывались следом и разом развертывались, бледно-зеленые, также покрытые густым пушком.
Поляны синели цветами, а рядом лежали остатки зимних сугробов. Может быть, в расчете на холодное это соседство запасались цветы пуховой одеждой.
Утром Надежда хотела подняться на ближайшую гору, но всюду было столько воды, что она вернулась с полдороги. Принесенные ею подснежники стояли на столе в граненом стакане; серебристые пузырьки воздуха блестели под водой на их мохнатых стебельках — казалось, цветы еще дышали. Ветки лиственницы и вербы с сережками в золотой пыльце зелено распустились на окне в бутылке с отрезанным горлышком. От этих веток в комнате пахло весной.
В открытую форточку доносились крики и смех играющих детей и еще глухой, но неумолчный ропот бегущей воды.
Надежда поглядывала в окно, на цветущую вербу и думала о том, что весна нынче дружная, и паводок обещает много хлопот, о том, что в больнице обновили все белье, но прачки работают недобросовестно и застирывают недавно белоснежные простыни и рубашки. Нужно серьезно поговорить с прачками и заказать для белья еще один шкаф. Надежда думала также, что хорошо бы обучиться на фельдшера или на акушерку, но уж очень мало у нее грамотности…
Она вязала кружево для простыни. Волосы у нее были не уложены и двумя светлыми косами падали за спиной ниже пояса. Простенькое платье из бумажного крепа красиво обрисовывало плечи и весь ее крепкий стан, на босу ногу надеты самодельные суконные тапочки.
Быстро нанизывались крючком тонкие петельки, образуя узоры листьев и сложные переплеты. Надежда вязала их машинально, почти не считая, а мысли ее унеслись далеко-далеко: женщина-таежница думала о Москве. Хоть бы разок взглянуть, какая она есть!
Воображению представал сказочно яркий, радостный город, где двигались по улицам толпы пестро одетых людей, приехавших изо всех стран жаловаться московским большевикам на свои обиды. Они стремились в Москву потому, что это единственный в мире город, где творятся справедливые законы.
Порыв ветра вспарусил занавески, захлопнул форточку. Надежда открыла форточку снова, постояла у окна, вдыхая свежий воздух, потом подобрала с полу уроненный клубок, обвила вокруг головы толстые косы и пошла на общую кухню.
В кухне из жильцов никого еще не было. Возле двери лежали заранее приготовленные дрова. Чтобы их шло меньше, Надежда наложила на дно очага ряд кирпичей, и огонь горел теперь под самой плитой, быстро нагревая все Кастрюли и сковородки. Она растопила плиту, налила в большой чайник свежей воды из деревянного крашеного бочонка, затем взяла тряпку и стала наводить порядок на своей полке, переставила посуду, сняла ящичек, куда складывала всякую мелочь, и решила выбросить лишнее. Присев к столу, она начала перебирать пузырьки, свертки с синькой и содой. Какие-то коробочки, обмылки, крышка от разбитого чайника, гвозди…
«Зачем мне такое барахло? Гвозди… Ну, это в хозяйстве всегда нужно». Гипсовая копилка-кошка с отбитым ухом… Поколебавшись, Надежда тоже положила ее обратно. «Пусть лежит, отдам ребятишкам».
Среди склянок попался флакон с настойкой бодяги на донышке, красивый, зеленоватый, с граненой пробкой — подарок знакомой вдовы-горюхи. Память о семейном «счастье»! Много лет берегла его и Надежда, залечивала примочкой синяки и ссадины.
Опустив руки, долго сидела она, глядя на флакон ничего не видящими, затуманенными глазами.
«Господи боже мой! Как может человек обижать самого себя!» — Надежда вспомнила последнюю драку на Пролетарке, гневное лицо избитого Егора, поднялась и швырнула флакончик в открытое окно. Звякнула о камень вылетевшая граненая пробка…
В это время стукнула входная дверь. Надежда сунула ящик на полку и выглянула в полутемный коридор.
Вид мужской фигуры испугал ее.
— Кто тут? — спросила она.
— Я роль вам принес, — сказал, подходя, Черепанов. — Шел, знаете, мимо… Встретил Марусю и вот… занес. — И он протянул старательно исписанную тетрадку, сшитую из серой бумаги.
— Да вы пройдите в комнату, я сейчас, только руки вымою. Нет, не в ту дверь, сюда, напротив.
К Черепанову Надежда относилась дружелюбно, как и ко всем своим знакомым, запросто предложила ему остаться пить чай. Он согласился очень охотно, но сидел точно на иголках, громко звенел ложечкой в стакане, крошил на скатерть печенье.
— Богатая нынче весна, — говорил он, обращаясь к Надежде. Неровный румянец так и пробивался на его смуглом лице, и весь он был беспокойный, порывистый. — Ходил я вчера к разведчикам… Что в тайге делается, рассказать нельзя! Звенит она, поет… В небе голубизна, глубина такая, смотреть — голова кружится! А земля дышит хвоей, смолкой, прелью весенней. Шел я и думал: хороша жизнь! Ах, хороша! Жаль, что не всегда мы умеем ею пользоваться. Каждым днем, каждым часом дорожить надо!
Надежда вспомнила о флаконе с бодягой, о годах, многих годах своей жизни, затоптанных, загубленных забулдыгой-сожителем, и только тяжело вздохнула.
— Жить и радоваться… Иметь рядом милого человека, любить его, вместе с ним делить горе и счастье… Вместе с ним работать, учиться, все перестраивать на новый лад, — продолжал Черепанов, но Надежда, захваченная его словами, сказала с печалью:
— Если бы можно было родиться сызнова.
— Неужели вы себя в старухи уже записали? Рановато, Надежда Прохоровна! Еще как полюбить сможете. И вас полюбить могут. Вот я, к примеру, целый год о вас думаю… — Голос Черепанова сорвался, и снова зазвучал с прежней силой: — Увидел тогда на Пролетарке — шли вы, синеглазая, в слезах… Залюбовался, пожалел и полюбил… Столько времени живу с думкой о вас, Надежда Прохоровна! Работаю, делами занят по горло, а в душе, в сердце одна вы, единственная! Если я хоть немножко нравлюсь вам, махните вы рукой на то, что было у вас. Давайте начнем вместе все заново!
Надежда онемела от изумления.
— Чего вы испугались? — спросил он с мягкой, но страстной настойчивостью. — Ведь я люблю вас и не хочу вас ничем обидеть или оскорбить. Выходите за меня замуж.
Надежда не знала, что сказать… С тех пор как она осталась одна, ей делали много предложений, но от Черепанова она этого не ожидала.
Когда у нее от кухонного жара в столовой начала болеть голова, он помог ей устроиться сестрой-хозяйкой при больнице. Иногда она обращалась к нему по общественной работе. Ей и неловко было занимать его внимание, и приятно, что он по-товарищески, как к равной, относится к ней. Надежде не приходила мысль о возможности иных отношений между ними.
«Разве ему такую жену надо? Видный человек, образованный. Да за него любая девушка с радостью пойдет», — подумала она смущенно и замялась, не зная, как повежливее отказаться.
— Мы с вами хорошо заживем, — добавил он бодрым тоном и даже улыбнулся, хотя по глазам его было заметно, что ему совсем не до смеха.
Черепанов успел порасспросить Марусю о дальнейших намерениях Надежды и знал, что она ненавидит Забродина. Молчание ее пугало и волновало его, и он то и дело ерошил свои густые волосы.
— Вы хорошенько подумайте, — попросил он.
— Я думаю, Мирон Устинович! — сказала Надежда. Ей было жаль его, и она старалась не смотреть на его сильные руки, которым он никак не находил места. — Вы меня простите, дорогой, но я не ровня вам. — Она подняла синие глубокие глаза на его лицо и сказала грустно: — Мне с мужем здорово не повезло, и сейчас я словно из тюрьмы вышла. От всего отстала. Мне одуматься надо, поглядеть, как добрые люди живут. Да и постарше я вас. — Тут Надежда покраснела, вспомнив о своей привязанности к молодому Егору. — И вообще далеко не ровня… Вы не обижайтесь, пожалуйста.
— Нет, отчего же? — промолвил он, горько усмехнулся и на минуту задумался, понурив голову.
Костюм на нем был новый, но зоркий взгляд Надежды сразу обнаружил отсутствие одной пуговицы на пиджаке. Теперь, когда Черепанов сидел несколько ссутулясь, пиджак оттопыривался бортом на груди, показывая бумаги, торчавшие из внутреннего кармана.
— Так и чуяло мое сердце — не согласитесь, ведь столько раз собирался поговорить! — печально сказал Черепанов.
Надежда виновато опустила ресницы, сочувствуя ему и в то же время испытывая облегчение от того, что трудный для обоих разговор кончился. Извиняющимся тоном произнесла:
— Давайте я вам лучше пуговку пришью.
Он удивился, даже обиделся, но в ее взгляде светилось такое добродушие, что обижаться было невозможно.
— Шутите?! — Черепанов грустно рассмеялся. — Пуговку я и сам пришью.
— Тогда чаю налью, — предложила Надежда, довольная тем, что рассмешила его.
Он посидел с полчаса и ушел, еще раз попросив подумать, а Надежда осталась у стола, да так и просидела весь вечер, сумерничая в одиночестве.
15
Рыжков отбросил одеяло, сел на кровати и прислушался. Смутная тревога охватила его, разгоняя остатки сна; за окном слышался глухой шум воды. Шумела ли она на канаве или в речке? Рыжкову представилось, как в сумраке весенней ночи разливается она по долине, плещет, разбиваясь по лестницам шахт, затопляет просечки. Он легко сбросил с кровати большое тело, на цыпочках подойдя к окну, выставил бороду в форточку. Холодный ночной ветер овеял его лицо, и он ясно расслышал нестройные голоса многих людей со стороны Ортосалы.
Рыжков собрал свою одежду, прошел на кухню и, включив свет, начал одеваться, еще не зная, что будет делать, поднявшись среди ночи. Усталость после вечерней смены наливала тяжестью тело, он не выспался, зевал… и торопился.
Притворив за собою дверь на крыльцо, он взял в чулане лопату (на всякий случай) и крупно зашагал по улице поселка.
По долине горели костры. Сквозь багровый дым неясно маячили фигуры людей. Это сторожевые бригады караулили паводок. Накрапывал дождь, темные разорванные тучи быстро двигались над прииском; в канавах тяжко вздыхала, беспокойно ворочалась покрытая пеной темная вода. Она заметно прибывала, и Рыжков, соображая, куда ему податься, понаблюдал за нею минуту-другую. Громко звучали голоса людей на дамбе, и он направился в ту сторону.
— Ты чего поднялся? — окликнул его у канавы Потатуев. Лицо старого штейгера казалось багровым от света костра. Спрятав руки в карманы просторного дождевика, он стоял, плотный, тяжелый, будто вытесанный из каменной глыбы. — Что, спрашиваю, поднялся в такую рань?
— Надо же поглядеть…
— Глядеть наше дело… А когда до вас черед дойдет, позовем.
— Черед дойдет, — подтвердил Рыжков, опираясь на лопату, — жарко, пожалуй, будет.
Потатуев подошел поближе и сказал, посмеиваясь:
— Нам по-стариковски погреться бы в ином месте… Ан нет, служба спрашивает: днем ли, ночью ли бежишь в любую погоду! На твоем месте я бы спал сейчас, тепленько, уютненько и ответственности никакой.
— На нашем месте тоже неспокойно… Ну как шахты затопит, моргай потом глазами…
— Чего вам моргать, с вас не спросят. А впрочем, не сидится дома, так иди становись на дамбу. Там скоро сменяться будут… — Потатуев посерьезнел, добавил скороговоркой: — И то, работать сегодня в шахтах не придется, всех на канавы погоним. — Он взглянул в сторону, неожиданно легко сорвался с места, затопал по сырой земле, замахал руками, громко шурша намокшим дождевиком, и уже издалека, из-за дымной завесы, наползшей от костра, донесся до Рыжкова его резкий, хрипловатый голос.
«Командир! — отметил с усмешкой Рыжков. — Старается человек. Ишь ты, неуемный! — И еще подумал с легкой тенью враждебности: — А чего орет, когда без крику обойтись можно».
День наступил погожий, теплый ветер быстро согнал остатки снега, раскисшего после ночного дождя. Вода валом валила в долину. Многие костры уже догорали, оставляя на земле пятна серой золы, похожие на огромные лишаи. Возле них, на кучах порожних мешков, на брезенте спали люди из ночной смены. Сон их был крепок, но неспокоен. Часто то один, то другой вскидывался со сна и, сидя, таращил бессмысленные глаза. Потом зажмуривался и разом падал словно мертвый — досыпать положенное время.
— Прямо как на войне! — крикнул Мишка, перешагивая через спящего шахтера. — Гляди, Егора, сколько народа на канавах. Буфеты наладят, тогда совсем походное житье.
Егор отделился от группы шагавших шахтеров, догнав Мишку, сказал:
— Когда нас вызывали наверх, чтобы послать сюда, я подумал: прорвалась вода. Испугался, и шахту мне жалко стало… так жалко, будто дом родной.
Возле моста водоотводной канавы шахтеров перехватил конный Локтев в синем пиджаке, заляпанном глиной.
— Срочно восемьдесят человек на устье Пролетарки к штреку артели «Труд». Захватите с этого склада сотню мешков для земли! Остальные на дамбу к Потатуеву!
Он ударил лошадь и поскакал, разбрызгивая грязь, к нагорной канаве, откуда перехлестнул через борт мутный широкий поток. Разлив был мелкий, и по нему уже бежали рабочие. Они волокли за собой мешки, набитые землей, тащили охапки мха, доски, камни.
Рыжков работал вторую смену: уходить ему не хотелось. «Уйдешь, а дома все равно неспокойно», — думал он. Лопата у него была особенная: черенок для нее он сделал сам соответственно силе и росту. Сейчас он действовал ею так, что какой-то старатель, поглядев на его жилистые руки и широкие, плавные броски, только покачал головой, не найдя подходящих слов для выражения восхищения и зависти.
Увлеченные азартом работы, шахтеры забывали даже о куреве, и все ярче сверкали на солнце их лопаты высветленными о землю краями.
«Года четыре назад мы такой паводок без внимания пропустили бы, — думал Рыжков, утаптывая, как медведь, накиданную им на борт канавы сырую землю. — Ну, затопило бы старательские ямы… эка невидаль, старателей этим не удивишь, день-два — и новая яма готова, или на буторку перейдут на летние работы. А тут шахты… ходы-переходы на сотни метров. Машин сколько! Целое царство-государство подземное!»
Вода все прибывала. Люди топтались у канав, точно стаи огромных птиц, а дым, как прозрачная сеть, окутывал их, стелясь по долине.
Толпа женщин с кайлами и лопатами шла в распадок на мшице добывать мох. Зоркие глаза Рыжкова разглядели среди них статную фигуру Надежды. На душе у него, несмотря на тревогу и усталость, появилось хорошее, теплое чувство: у всех одна забота.
— Кого ты там высматриваешь, Афанасий Лаврентьевич? — спросил подошедший Егор. — Давай-ка покурим!
— И то следует! — сказал Рыжков и, пошарив по карманам, достал кисет — от папироски, предложенной Егором, отказался.
— Как думаешь, справимся? — спросил Егор, кивая на воду.
Рыжков пошевелил плечами, разминая кости и густо дымя махоркой.
— Ничего… Одолеем. — Он хотел еще что-то сказать, но с шоссе послышался разноголосый шум идущей толпы. — Подмогу послали с Незаметного! — Рыжков, выпрямившись во весь рост, закинув бородатое лицо, посмотрел в ту сторону. — Служащих взяли за бока, пускай, дескать, и они поразомнутся. Ничего! Видать, не больно приустали с дороги, ишь гогочут!
Егор улыбнулся, блеснув белыми зубами. Ему тоже было приятно то, что народ так дружно вышел на борьбу с половодьем. И, все еще улыбаясь, радуясь своему родству с этим согласным коллективом, он взглянул на Рыжкова:
— Сегодня ночью на Куронахе изловили двоих… Хотели они воду выпустить из канавы около шахты.
— Зачем выпустить?
— Затем, чтобы затопить шахты. Вредители. Ребята не утерпели, натолкали им по загривку, а после в ГПУ сдали. Одного признали беглым кулаком, а другой работал на товарной базе. Ей-богу, правда! — побожился Егор, заметив недоверие Рыжкова.
Рыжков взглянул на подходящего Потатуева, бросил окурок в канаву, сказал сердито:
— Все равно мне это непонятно. Дурость какая, право!
Лицо у Потатуева усталое, помятое. Услышав последние слова Рыжкова, он насторожился.
— Что ворчишь, старик?
— Да вот на Куронахе, говорят, поймали злоумышленных… Шахту, мол, хотели затопить.
Потатуев, не мигая, взглянул в синие, детски чистые глаза Рыжкова.
— К стенке таких надо… Сколько силы тратишь, ночей не спишь. — Вздернул небритый подбородок и пошел вверх по канаве.
Рыжков и Егор посмотрели ему вслед.
— Не жалеет себя, — сказал Рыжков. — Цельную ночь на виду толчется.
— А может, оттого и толчется, что на виду, — неожиданно возразил Егор. — Ты на него не гляди — он хитрый. Я к нему зашел на дом с артельщиком красноармейской артели… он нас так погнал!
Рыжков снова взялся за лопату, промолвил задумчиво:
— Без хитрости не проживешь, а погнал — так не надо ходить, когда отдых. Чай, он немолодой — намотается, покой нужен.
16
В тени возле крылечка Надежда стирала белье. Она торопилась пораньше управиться с домашними делами. Завтра с утра назначено гулянье со спортивными выступлениями на футбольной площадке, и ей впервые хотелось просто так, развлечения ради, побыть на народе. После паводка прошла только одна пятидневка, а короткая северная весна уже миновала, и по летнему теплый ветер обдувал лицо и шею женщины.
Она выстирала белье в первый раз и, взяв ведро, пошла на канаву.
По высоко наваленным бортам поднялась торчавшая, как щетинка, молодая ярко-зеленая трава. Внизу, между кустами, она была гуще, перемешанная с листьями княженики, лютика и слабыми стебельками незабудок. Прохладно и щекотно цеплялись они за босые ноги.
Надежда зачерпнула воды, поставила ведро на утоптанной площадке и села рядом на сухо выветренную землю. Беззаботное легкое чувство охватило ее. Упираясь пальцами ног в шероховатую глину, она придвинулась к самому борту канавы, в которой отражалось безоблачное небо. «Голубизна, глубина такая», — вспомнила Надежда слова Черепанова и улыбнулась.
Чтобы усилить впечатление, она прикрылась шитком ладони и, придерживаясь за бревно, торчавшее из земли, наклонилась над светлой бездной. Но тень ее упала на воду, и Надежда увидела близкое иловатое дно. Это походило на пробуждение. С неожиданным интересом разглядывала она отражение своих полузакрытых длинными ресницами глаз, круглого подбородка и полных щек. Волосы, не повязанные платком, окружали ее голову сияющей короной. Ветерок тихо шевелил светлые пушистые завитки, и они блестели на солнце, словно осыпанные золотой пудрой.
«Хорошая я, — подумала Надежда радостно. — Вот бы посмотрел Мирон Устиныч… Какие слова он мне говорил! А я сижу как дурочка и сама на себя любуюсь. Белье-то, поди-ка, унес кто-нибудь», — вспомнила она, но не встревожилась. Это безразличие к своему имуществу и внезапная лень удивили ее, и она громко рассмеялась.
Женщина, стоявшая у воды ниже по течению канавы, бросила полоскать белье, с любопытством посмотрела на Надежду:
— Ай нашла чего?
— Нашла… Как же, кусок золота с конскую голову! — ответила Надежда и, взяв ведро, пошла к дому, легко ступая по траве маленькими не по росту ногами.
Она принесла из кухни горячей воды, наливая ее в корыто, покосилась на кайло, торчавшее из-под крыльца.
«Надо сдать на склад. Поработали бабы да бросили». — И, чтобы не забыть, положила кайло на верхней ступеньке.
— Здравствуй, Жигалова! — весело окликнул подошедший Фетистов.
На нем была серая, пирогом, фетровая шляпа, рубаха с заплатанными локтями и совсем новые широченные шаровары, подхваченные снизу кожаными гетрами.
— Вот так вырядился! — посмеиваясь, сказала Надежда.
— Разве плохо? — спросил старик, снял шляпу, любуясь, повертел ее перед носом и, примяв еще глубже, снова осторожно надел на маленькую седую головку.
Он теперь работал только при клубе на штатной должности столяра-декоратора, во время постановок «стоял на занавесе» и присутствовал почти на всех репетициях.
— Я к тебе с поручением, — сказал он, присев на крылечке. — Хотим мы завтра представить что-нибудь на гулянье. Нужно вечером собраться в клубе…
— Что же так вдруг? Можно ли успеть до завтра?
Фетистов сморщил бесцветные брови, бритое лицо его приняло значительное выражение.
— Все можно. Режиссер говорит — повторим, мол, старую одноактную пьеску да прибавим новые частушки. Ребята готовят всякие физкультурные номера, а мы в драмкружке малость прохлопали.
— Надо было еще до завтра дотянуть! — сказала Надежда, встряхивая отжатую простыню. — Поменьше бы вы пили со своим режиссером, а то с похмелья голова не варит. Ишь, спохватились! Скажи, что приду, вот только с бельем управлюсь.
— Ну и прекрасно! — одобрил Фетистов, сделав вид, будто не расслышал насчет выпивки. — Ты у нас герой. А Катерина тебя честит… ух как! — простодушно посплетничал он на прощанье.
— Какая Катерина?..
— Григория кривого баба. Захватила, мол, ты спокойное местечко при больнице, ну и того… елки с палкой, приманиваешь мужиков.
— Ее кривого приманила, что ли? — презрительно промолвила Надежда. — Ей на долю останется, не о чем тужить.
— Я так и сказал, — ответил Фетистов, при своей любви к спорам отличавшийся кротким и миролюбивым характером. — Чего, говорю, разоряешься? Хватит на твою долю нашего брата!..
Он ушел, а хорошее настроение Надежды испортилось: каких мужиков имела в виду Катерина? Уж не разболтала ли соседка о Черепанове? Зачем он приходил, Надежда ей не сказала, но это могло только подстрекнуть дотошное женское любопытство. Сплетен Надежда не боялась, однако ей не хотелось, чтобы кто-нибудь судил да рядил о ее отношениях с Мироном: разговор с ним все-таки растревожил ее не на шутку, впервые пробудив еще неясные надежды на семейное счастье и возможность стать матерью.
Надежда сняла белоснежные хлопья пены с круглых, крепких рук и вздрогнула — сзади, мягко ступая, словно подкрадываясь, неожиданно подошел человек. Она обернулась, вздрогнула, и мертвенная бледность расплеснулась по ее лицу. Перед ней стоял Василий Забродин…
Его выпустили до суда под расписку о невыезде из района. Сначала, ошалев от свободы, он рыскал по Незаметному, принюхивался, присматривался, пока не наткнулся на старых собутыльников, среди которых был и Санька Степаноза, освобожденный из тюрьмы немного раньше. Василия угощали водкой, с кем-то он целовался, кого-то бил. Потом все исчезло, а очнулся он с тяжелой головой и ноющим от побоев телом на улице; снова пошел к приятелям, но с трудом выклянчил только на похмелку. Тогда он решил вернуться к жене. Собранные сведения сразу развеселили его: работает в больнице — значит, накопила деньжонок.
— Только ты к ней не больно разлетайся, — предупредила знакомая мамка. — Она, говорят, с инженером путается.
Вчера вечером неизвестный старикашка угощал Забродина водкой на грязном зимовье по Ортосалинской улице, рассказывал об ороченском золоте и между прочим сообщил, что Надежда живет с секретарем парткома. Василий слушал и мрачно пил, закусывая одним хлебом.
— Теперь твои дела по части семейной жизни табак! — нашептывал старик, очень напоминавший Забродину жидкой бородкой и приспущенными веками вороватых глаз покойного отца — содержателя почтовой станции на Черняевском тракте. — Она в этого Черепанова как кошка вцепилась.
— Ну и наплевать! Мне бы только деньги… — пьяно бормотал Забродин и, глядя на торчавшую перед ним седую бороду, как сквозь сон припоминал звонкие тройки и веселых ямщиков, которые обучали его разным пакостям. Сгорела давным-давно станция, расстрелян партизанами отец за выдачу красных солдат отряду японцев. Все миновало.
— Мне бы только деньги! — твердил Забродин, дрожащими руками хватаясь за бутылку.
— Чудак-рыбак! Ежели она со служащим гуляет, так ей ведь наряжаться нужно. Значит, жалованье копейка в копейку. Черепанов человек партейный, а у партейных насчет женского полу мнение особое: жить, мол, со мной живи, а насчет жратвы или одежи сама зарабатывай. Самостоятельное равноправие!
Забродин слушал, наливаясь злобой. Он страдал в домзаке, а она, вместо того чтобы поинтересоваться его участью и послать ему передачу, содержала образованных любовников.
…Сейчас он стоял перед ней несколько смущенный: его поразил ее цветущий вид. Бросилась бы она к нему на шею, и он размяк бы и простил на первое время: все-таки приятно иметь такую здоровую, красивую жену. И видно, она крепко помнила о нем, если до сих пор не обзавелась новой семьей.
«Зря, пожалуй, я отлупил ее тогда», — подумал он, и нечто похожее на сожаление ворохнулось в его душонке. Но подойти первым он не хотел: раз она знает за собой провинку, так пусть и заслуживает прощенье. Он ждал, но она не бросалась к нему, не проявляла ни малейшей радости, а стояла, опустив розовые от стирки руки, и на прекрасном лице ее было суровое, гордое отчуждение.
Такой прием не понравился Забродину, но он вспомнил, как она побледнела, увидев его, — значит, испугалась. Это сознание доставило ему злобноватую радость.
Надежду не интересовали душевные переживания ее бывшего сожителя. Она видела его обострившиеся под рваной рубахой плечи, опухшее с похмелья диковатое лицо, слышала запах водочного перегара, грязи и пота. Перед нею стоял не только чужой, но и чуждый ей по духу человек, с которым она не хотела и не могла теперь иметь ничего общего. Почему же он стоит здесь и смотрит на нее так, будто она обязана принять за должное его внезапное появление?
— Ну-с, любезнейшая моя супруга, как вы изволили поживать без меня? — спросил он наконец, прерывая молчание, становившееся враждебным.
— Зачем ты пришел?
— Вот так вопрос! Домой потянуло, извольте любить да жаловать.
— Дома тут у тебя нет, и жаловать не стану. Хватит, попил моей кровушки, ступай туда, откуда явился. — Она сделала вид, что принялась снова за стирку. На минуту ей пришла было мысль откупиться от него деньгами, но она решила не уступать ни в чем этому ненавистному человеку. Все равно ее маленьких сбережений не хватит для него, и, промотав их, он опять придет к ней скандалить.
— Смотри, Надежда! — мрачно пригрозил Забродин и сел на ступеньку крыльца, где незадолго перед тем сидел Фетистов. — Никуда я не пойду! Бросай корыто! Хватит свои юбочки полоскать, отгуляла с инженерами. Слышишь? Муж пришел голодный, а она и ухом не ведет.
Глаза Надежды блеснули ожесточенной усмешкой. Муж пришел! Беги, жена, за бутылкой. Клади его, вонючего, в свою постель!
— Ступай туда, откуда явился! — упрямо повторила она, и в голосе ее Забродин услыхал новые, жесткие нотки.
«Избаловалась!» — подумал он и, повернувшись на месте, машинально отодвинул в сторону ручку кайла.
— Ишь, нагуляла жиру, забрыкалась! — попробовал он шутить, чувствуя, как жаркая злоба охватывает его. «С ней по-доброму разговаривают, точно с путной, а она куражится!» — А ну! — Он встал с крыльца и попробовал силой оттолкнуть ее от корыта.
— Не трогай! — смело сказала Надежда и, стряхнув с плеча его широкую грязную руку, близко взглянула в искаженное злобой лицо. — Уходи, глядеть на тебя не могу! Ты мне сколько лет солнце застил!.. Отмаялась… — Надежда не успела договорить, отброшенная жестоким ударом. Из разбитого рта ее брызнули струйки крови, тяжелые косы свалились на плечи.
Медленно поднялась она с земли и тоскливо огляделась кругом. Только бабы из соседнего барака с любопытством глазели на ссору. Где ты, Москва, радостная, справедливая? Будь она там, никто не посмел бы ее ударить.
Небывалое возмущение поднялось в душе женщины. Стремительно, в порыве гнева, она повернулась к Забродину.
— Зверь ты! Гадкая ты гадина! Такая жизнь… — Надежда протянула руку розовой ладонью кверху, точно хотела показать ему эту новую жизнь. — Такая жизнь красивая, а ты ломаешь ее! Жить с тобой? Это все равно что в помойную яму влезть! Нет уж, душу свою топтать я тебе больше не дам!
— Я из тебя ее вовсе выну… — крикнул Забродин, потянулся за ножом в голенище, но увидел на крылечке кайло и с размаху рубанул им отвернувшуюся Надежду.
Мучительный испуг глянул из сухих, огромных потемневших глаз женщины, и она побежала, но не к людям, а к себе в дом, пятная кровью ступеньки крыльца.
Он вбежал следом, догнал раненую и, придержав за локоть, ударил еще накоротке ножом. Надежда вскрикнула, но не от боли, которой не ощущала, а от дикого отчаяния, оттого, что этот негодяй схватил ее. Рванувшись из последних сил, она оттолкнула его, бросилась в свою комнату и закружилась вокруг стола, как тот жеребенок, который когда-то умирал перед нею на зейском покосе. То было последнее видение, острое и яркое, а потом Забродин опять схватил ее, полоснул в спину ножом и изо всей силы повернул лезвие в оседавшем теле.
Еще охваченный яростью, он посмотрел на женщину, рухнувшую ничком на пол. Сквозь прорубленное кайлом платье и из ножевых рваных ран били роднички крови, и намокшая ткань шевелилась на спине, то пузырясь, то снова прилипая. Густо-красные лужи подплывали под половики. Ветки лиственницы распушились на окне, верба уже отцвела и покрылась узкими листиками. В комнате пахло весной и свежепролитой теплой кровью.
Маленькие босые ступни Надежды еще вздрагивали. Забродин взглянул на них и, ничего не тронув, пошел вон.
К крыльцу со всех сторон сбегался народ. Молодые шахтеры поднимались группкой навстречу Забродину по ступенькам. Когда он показался в двери в окровавленной одежде, с ножом в руке и остановился, блуждая взглядом, они слегка подались назад — безоружные жидковатые мальчишки. Им был знаком азарт драк, но здесь произошло убийство… Убийца, как матерый волк, прижатый в угол сворой собак, готовый рвануть первого смельчака, стоял перед ними. Он в самом деле был страшен, и потому, едва он шевельнулся, они разом бросились на него. Однако он, защищаясь с решимостью смертника, оказался сильнее: успел поранить почти всех нападавших, прыгнул с крылечка и мгновенно скрылся за бараками.
17
Рыжков сидел с Черепановым на скамейке возле спортивной площадки. Кругом толпился народ, смотревший на игру спортсменов, которые готовились к праздничному соревнованию.
Китайцы и корейцы следили за игрой с особенным участием, толкали друг друга локтями, громко переговаривались и отчаянно хохотали, когда футболисты, сшибаясь, падали на траву. Спокойнее держались моложавые безусые якуты и эвенки. В толпе вообще преобладала молодежь. Огромная фигура и рыжеватая борода Рыжкова вызывали немало веселых шуток, но сам он, увлеченный футболом, не замечал никого.
За последнее время он даже запомнил несколько мудреных названий: голкипер, корнер, форвард.
— Корнер — это, стало быть, в угол, потом аут еще есть. Аут — значит мяч, вышебленный за линию, — объяснял он Акимовне, возвращаясь домой поздно вечером.
Резвые прыжки футболистов вызывали в нем чувство неудержимого азарта. Он, задирая бороду, следил за полетом мяча, притопывал, нетерпеливо ерзал на скамейке и смеялся, как ребенок, когда забивали гол. С одинаковым участием следил он за напряженными моментами игры у ворот обеих команд: восхищала его сама игра, требующая выносливости и сноровки.
— Удумали ведь так хитро, чтобы только ногой пинать… — обратился он к Черепанову. — Человек, он сроду рукой норовит схватить, а тут, при таком азарте, попробуй удержишь. Раньше об этих играх и понятия не имели, в бабки только игрывали да в городки, а чтобы спортом заниматься — моды не было.
— Надо тебе записаться в футбольную команду, — пошутил Черепанов.
— Я бы не прочь, да корпус мне мешает, — неожиданно серьезно сказал Рыжков. — Корпусный я, — пояснил он, заметив недоумение Черепанова. — Росту уж очень большого, неловко мне с ребятами бегать. А в волейбол пробовал… Как поддам-поддам, аж и мяча не видать. Он, как слепой, сигает черт-те куда.
Черепанов засмеялся, потом встал, поправил ремень, надвинул на смуглый лоб козырек кепки, хотел было идти, но движение в толпе привлекло его внимание. Заплаканная женщина пробивалась сквозь обступавший ее народ, громко причитала.
Черепанов тревожно всмотрелся и вдруг побледнел — по толпе прошел смутный говор:
— Зарезал… Муж зарезал…
— Что случилось? — спросил Рыжков и поднялся. — Эй, чего там?
— Забродин жену убил! — крикнул пожилой шахтер. Остальных слов его Рыжков не разобрал — сразу обернулся к Черепанову: тот охнул так, словно его ударил кто.
— Что ты, Мирон Устиныч?
Странная гримаса искривила лицо Черепанова. Он резко отвернулся и пошел зачем-то в сторону Ортосалы, но так же внезапно остановился, повернул назад и заспешил к поселку, все убыстряя шаги.
«Жалел он ее, голубушку! — догадался Рыжков и в тяжком раздумье присел на скамейку. — Эко горе какое! И откуда этот изверг вывернулся?»
Егор и Маруся пробежали мимо. Рыжков проводил их взглядом и остался сидеть в оцепенении: известие об убийстве Надежды словно оглушило его. Он вдруг понял, что и для него Надежда была больше, чем просто знакомая. Тоска завладела им. Он совсем не волновался о том, взят ли Забродин. Дело было непоправимо. Значит, незачем бегать и суетиться: помочь уже нельзя. Рыжков вспомнил Надежду такой, какой она была на Пролетарке, вспомнил, как приходила она к ним в гости на днях, попробовал представить ее мертвой и не мог. «Мерзавец этакий», — подумал он о Забродине и пожалел, что столько времени покрывал его старую провинность.
Это было давно, когда Рыжков хищничал по притокам Гилюя и однажды осенью заблудился в тайге. Несколько дней он пробирался то сквозь пахучую молодь лиственницы, то брел темными ельниками по гниющему замшелому валежнику, по кочкам переходил через лесные болотца с водой, усыпанной желтыми и красными листьями. Однажды в светло-сером осиннике он увидел двух сохатых: буланую безрогую лосиху и лосенка. Они сдирали с деревьев кору, и, глядя на них из-за кустов, Рыжков только крякнул с досады, потом выпрямился, громко гаркнул и долго стоял, слушая, как разносится по лесу удалявшийся треск ветвей.
Он ослабел, но все шел, пробавляясь ягодами и сырыми грибами, на юго-запад, пока не дошел до хребта Тукурингра, на высотах которого копытами кабарги и горных баранов были выбиты торные тропы.
Ночью недалеко от места, где Афанасий расположился на отдых, бродил медведь. Заслышав тяжелую походку косолапого костоправа, Рыжков подтянул поближе суковатую дубину и привстал в ожидании. Однако медведь был настроен миролюбиво. Он пошарил в кустах, уркая, ушел ниже в распадок и там, скрытый ночным туманом, долго забавлялся — отгибал дранину от расщепленного бурей дерева: отдерет, потом отпустит и слушает, как застонет она, с жалобным гудением ударяясь о ствол.
Когда солнце разогнало туман, Рыжков увидел с утеса серебряные излучины реки Гилюй, спустился вниз и побрел берегом по едва приметной дорожке. Тут он и встретился впервые с молодым Забродиным.
Забродин шел тоже один, ведя в поводу навьюченную лошадь. Он дал Рыжкову хлеба и отправился дальше, очень неясно объяснив цель своего путешествия. Рыжков и не старался особенно расспрашивать, а верстах в двадцати от места встречи наткнулся на мертвого китайца. Китаец был убит ударом кинжала в спину…
Позднее на прииске заговорили об исчезновении известного спиртоноса, который ушел с Васькой Забродиным и пропал. Посланные для розыска стражники изловили Забродина и доставили к уряднику. Урядник продержал его месяца полтора в кутузке и за недостатком улик выпустил.
Тут бы и вступиться Рыжкову, но он собирался с семьей в район Джалинды и побоялся, что его затаскают по судам. Скорый на руку урядник всыпал бы одинаково и правому и виноватому. Могло и так случиться, что Забродин, имея деньги, откупился бы, а Рыжкову самому приписали бы убийство китайца. Он решил смолчать, а потом считал, что времени прошло много и никому не интересно разбирать старое дело. Привычка хищника держаться подальше от всякого начальства вынудила его оставить убийцу ненаказанным.
Теперь Рыжков сидел, упираясь локтями в колени, и думал: «Надо было в прошлый раз на Незаметном пойти в домзак и сказать: „Припаяйте ему, товарищи, покрепче, он еще в старое время человека убил“. Но кто же знал, что его так скоро выпустят? Говорили ведь, что он выслан из района».
— Футболом интересуешься? — раздался позади Рыжкова хрипловатый голос.
По ту сторону скамейки стоял Потатуев в сером пиджаке. Обрюзглое лицо его багрово блестело из-под белой фуражки. Воротник рубашки потемнел от пота.
— Развлекается молодежь, — продолжал Потатуев с грубоватым смешком и сел рядом с Афанасием, — играет ветреная младость, а нам, старикам, в могилку пора.
Рыжков промолчал: все еще сердился на Потатуева за напрасную работу в артели «Труд».
— Что молчишь, богатый стал?
— С вами разбогатеешь!
— Кто же тебе велит в забое торчать? Просись в сменные мастера.
— Грамота моя того не дозволяет.
— В горном деле на одной грамоте далеко не уедешь. Практики нам нужны, а практика у тебя изрядная. Могу написать тебе записку на третью шахту к смотрителю, нужен мне верный человек.
— Да я уже приобык на своем месте.
— Приобыкнуть везде можно. Стал бы мастером, завоевал бы авторитет среди рабочих…
— Как бы это я завоевал его?
— Ну, мало ли как… Замером, например… Тому прибавишь, другому. Надо ведь поддерживать своего брата рабочего.
Рыжков не понял, испытывал ли его Потатуев или говорил всерьез, но сразу отрезал напрямик:
— Зачем лодырей плодить? Это уж вроде мошенства. Другое дело, кабы у хозяина… Там все на том стояло, кто кого обжулит.
Потатуев в замешательстве потрогал тесный воротник рубашки, сказал с заминкой:
— Экий ты несуразный — шутки не понимаешь.
— Знаем мы ваши шутки, — угрюмо ответил Рыжков, — боком они нам выходят.
Потатуев посмотрел с изумлением:
— Где с тобой так шутили?
— На Пролетарке. Поставили людей на пустоту, и горя мало.
— Голубчик ты мой, к чему ты это вспомянул? Обстоятельство, никакого отношения к разговору не имеющее. — Потатуев напряженно захохотал, но встретился со взглядом Рыжкова и сразу оборвал смех: синие глаза старателя горели бешенством. Теперь он сидел выпрямившись, упирался ладонями о края скамейки и сверху вниз смотрел на Потатуева.
— Смешно вам? А по-моему, это самое прямое отношение к разговору имеет. Беззаботно вы к людям относитесь. Подумаешь, благодетель нашелся за чужой счет!
— Что ты взбеленился, Афанасий Лаврентьевич? Мы с тобой раньше дружно жили.
— Еще бы! Золото у меня скупал, было из-за чего дружить!
Потатуев испуганно оглянулся и сердито сказал:
— Перестань чушь пороть. Я не мальчик, чтобы меня разыгрывать!
Рыжков наклонился к нему, касаясь бородой его уха, жарко зашептал:
— Забыли, как с Санькой Степанозой переправляли краденое хозяйское золото? Когда у Титова-то служили… Эх вы, гусь лапчатый! Верой-правдой служили и себя не забывали! А золото, что скупали у старателей в двадцать четвертом году, куда девали? С этим-то навряд ли расстались! — Рыжков посмотрел на трясущиеся губы Потатуева и отвернулся с отвращением: — Все под себя гребете, а над чужой бедой похохатываете! Стыдиться надо бы… — Встал и крупными шагами пошел прочь, забыв даже о Забродине и убитой Надежде.
Дверь в квартире не заперта, но Акимовны дома не было. В кухне на полу валялось опрокинутое сито, тонкий мучной след тянулся к нему от стола. На лавке в незакрытой квашне кисло тесто. Увидев этот беспорядок, Рыжков снова больно ощутил, что Надежды уже нет. Вот и жена побежала туда, бросив все свои дела, даже дверь забыла прикрыть.
Медленно, точно связанный, Рыжков вышел на крылечко и посмотрел в сторону дома, где жила Надежда. Там толпился народ. Конные милиционеры проскакали по каменистой дороге.
«Видно, ушел Васька-то, — подумал Рыжков, и ему стало невыносимо жаль, что Забродин мог уйти. Запоздалый тяжелый гнев овладел горняком. Он сжал кулак, с силой опустил его на теплые от солнца перила. „Дать бы ему раза, рылом бы его об стенку. Убил человека и смылся“.
С трудом преодолев волнение и томительную жалость, он через несколько минут вошел в дом Надежды.
В комнате плакала Акимовна, тихо разговаривали женщины, слышался плеск воды.
В коридоре на ящике сидел Черепанов, закрыв лицо руками.
— Ну как, Устиныч? — участливо спросил Рыжков и, почувствовав, что сказал пустое, смущенно переступил с ноги на ногу.
Черепанов поднял голову.
— Ушел, — сказал он незнакомым, глухим голосом.
— А она? — опять смущаясь своей бестолковостью, спросил Рыжков.
Черепанов пошевелил губами и вдруг зарыдал, по-мальчишески вытирая кепкой бегущие слезы.
18
Заведующий шахтой Локтев, нагнувшись, трусил рысцой по просечке, покачивая жестяным фонариком. Из мрака выступали в неверном, скользящем свете мокрые бревна-огнива — поперечное крепление низко нависшего потолка, — размочаленные концы палей, жердей сплошного продольного настила над огнивами, светлые раны изломов на лопнувших от давления подхватах.
Черепанов не отставал от Локтева. Мрак заброшенной просечки навевал на него невыразимую тоску. В такой же темноте лежала теперь Надежда. Совсем близко… в каком-нибудь километре — только проложить ход под землей. Черепанов бежал легко, но чуть не задохся от горестной судорожной спазмы в горле. Такая светлая была Надежда и добрая, и вдруг это дикое зверство, эта кровь, безжалостно пролитая, эти красные следы босых маленьких ног на белом полу. Холодные капли воды срывались с потолка, падали на шею Черепанова, не покрытую шахтеркой, и он все больше горбился, торопливо шагая за Локтевым. Толстый пухлолицый Локтев в шахте был куда проворнее, чем наверху. Он цепко спускался по крутым лесенкам, легко проскальзывал в узкие отверстия на лестничных переходах.
„Вот он вполне определил себя в жизни и доволен“, — с грустной завистью думал Черепанов, припоминая чистенькую квартирку Локтева, наполненную детским смехом и щебетом. Он вспомнил также Лушу и Сергея и то возмущение, которое вызвала у них смерть Надежды.
— Я убил бы его там, как бешеную собаку, — заявил Ли. — Таких негодяев нельзя держать на земле!
— Да, дорогой товарищ, таким не место на нашей земле, и, однако, они существуют, — сказал Черепанов вслух.
— О чем ты? — спросил Локтев, оглядываясь.
Они свернули в новую просечку, довольно людную, затем в светлый высокий коридор-штрек. В нем было очень оживленно.
— Сейчас перерыв, — сообщил Локтев, слегка задыхаясь, и потушил свечку. — Пройдем в красный уголок, там у нас и столовая. Поговорим с ребятами, а потом в забой.
— Удивительно, — Черепанов тоже потушил свечу и вытер платком мокрую шею, — как ты рысью по шахте бегаешь и не худеешь!
В красном уголке у стоек буфета теснились шахтеры, что-то жевали, стучали мисками, кружками.
Среди них Черепанов сразу увидел Егора, который громко переговаривался с Точильщиковым. В одной руке Егор держал кружку с чаем, в другой — надкушенный пирог, рядом притиснулся к стойке Мишка Никитин.
— Технические нормы установлены не для того, чтобы их ломать, — рассудительно говорил Точильщиков. — Из-за тебя их другим увеличат. Заработок в звене делится поровну — значит и работать нужно ровно, не прыгать выше других.
Егор, сердито глядя на бодайбинца, сказал:
— Надо добиваться, чтобы платили каждому по работе, а не держаться за старую норму.
— Больше всех хочешь загребать.
— Да, на лодырей работать не хочу.
— Ты что, меня тоже за лодыря считаешь? — В голосе Мишки прозвучала обида.
— Брось ты! — отмахнулся Егор и сразу стушевался, увидев подходившего Черепанова.
После смерти Надежды Черепанов почернел с горя, и Егор чувствовал себя виноватым перед ним за свою прежнюю злую ревность.
— О чем спор? — спросил Черепанов.
— Насчет уравниловки. Милое прикрытие для лодырей! И насчет нормы тоже агитируют, морду посулили набить. „Все равно, говорят, получишь наравне с остальными“.
— С первого числа уравниловку ликвидируем, — сказал Локтев, положив пухлую ладонь на широкое плечо Мишки. — Вводится дифференциация.
— Как это понимать?
— Забойщик будет получать при стопроцентной норме девятый разряд, а откатчик — шестой.
Лицо Мишки омрачилось.
— Выходит, я стану меньше получать, чем до сих пор?
— Переходи в забойщики, — посоветовал Локтев. — Что ты за Нестерова держишься, когда сам можешь работать самостоятельно?
Звонок прекратил разговоры. Шахтеры поспешили к забоям.
— Я еще не успел тебе сказать, — обратился Локтев к Черепанову. — Был сегодня у меня заведующий техникой безопасности, походил по шахте и написал в книге распоряжений, что будет штрафовать сменных мастеров, широко применяющих подкайливание. Я с ним разругался. Прямо с верхней полки покрыл…
— Это зря, — укоризненно сказал Черепанов. — Ты член партии, инженер! Матом тут не поможешь.
— На днях в тресте опять написали инструкцию о том, где можно работать с подкалкой, где нельзя, — раздраженно продолжал Локтев. — В слабых грунтах подкалка по инструкции не применима, а у нас на Орочене грунта в большинстве слабые. Вот и потолкуй с бюрократами.
Черепанов посмотрел на огорченного Локтева и сразу представил всю серьезность положения, если уж такой добродушный человек вынужден был ругаться.
Егор подкайливал, а откатчики едва успевали подбирать породу, когда они пришли в его забой. Некоторое время оба молчали, наблюдая за слаженной работой звена.
— Как же ты расстанешься с Егором? — полушутя спросил Мишку Черепанов.
— В одной смене работать будем, — весело сказал Мишка, уже решивший свою дальнейшую судьбу и горевший нетерпением приступить к делу. — Завтра попробую сам подкайливать, а потом перейду в самостоятельный забой.
— А остальной народ интересуется? — обратился Черепанов к Егору.
— Очень даже! Ходят, смотрят.
— Надо собрание устроить по этому поводу, — сказал Локтев. — Скоро в шахтах установим ленточные транспортеры; но только при работе с подкалкой они будут загружены полностью.
— Сначала мобилизуем общественное мнение через печать, — возразил Черепанов. — Я хочу посмотреть, как работают, и тоже напишу в газету.
— Работали бы мы хорошо, да инструмент никуда не годится, — сказал Егор, не скрыв раздражения. — Третье кайло откидываю сегодня. Утром мягкое попалось, остальные ломаются.
— Никитин, найди срочно сменного мастера и позови сюда, — приказал Локтев Мишке. — Я его сейчас раскатаю!
Черепанов поднял кайло, потрогал сломанный носок.
— Перекал при оттяжке в кузнице. С кузницы надо начинать, а не с мастера.
Глядя на допотопное орудие труда, простое, ловкое, для всех доступное, Черепанов подумал о великом значении рабочей смекалки и вдруг с острой болью, обжигающей душу, представил это орудие в руках убийцы. Он даже прослушал, как Локтев озабоченно сказал:
— В кузнице я вчера был. Ведь в других забоях тоже жаловались. Кузнецы хорошо работают. Я половину инструмента там проверил, ни одного кайла забраковать нельзя. Откуда же мастер плохие берет? Выброшу я его отсюда. Пусть летит на все четыре стороны…
— Слушай, Нестеров, напиши сам письмо в „Алданский рабочий“, — встрепенувшись, предложил Черепанов, перебивая Локтева.
— Какое письмо? О чем?
— О своей работе. Напиши, как сделался ударником. Подробно объясни метод подкалки, чтобы заинтересовать других.
Егор сконфузился: такое сообщение в газете о самом себе представилось ему несусветным хвастовством, но, чтобы не обидеть отказом партийного секретаря, он сказал уклончиво:
— Заинтересовать письмом мне трудно будет. Я никогда ничего подобного не писал.
— Напиши, напиши! — обрадованно заговорил Локтев. — Изложи факты и приходи ко мне, вдвоем еще обдумаем, и я помогу тебе сделать статью для газеты. — Но вдруг добродушно сиявшее лицо Локтева приняло суровое выражение и даже как будто похудело: он увидел подходившего к забою Колабина.
— Скажи на милость, откуда вы берете такой инструмент? — Заведующий шахтой поднял с полу брошенное Егором кайло, сунул его к самому носу мастера. — В кузнице инструмент что надо, а попадает сюда… — Локтев не выдержал до конца спокойно-вежливого тона, сорвался на крик: — Показательные работы в забое — и такой подрыв! Завтра получите расчет!
— Товарищ Черепанов, ведь несправедливость получается! — взмолился Колабин. — Я не могу проверять каждое кайло!
— Каждое проверять не можете, а за порядком следить обязаны. Локтев правильно говорит: забой у Нестерова показательный, а вы ему условия не создаете. Пора решительно отказаться от старой практики.
19
— Здорово выходит! — восхищенно говорил Мишка, поглаживая ладонью лист бумаги, крупно исписанный карандашом. — Мы с тобой, Егора, помнишь, весной работали… По шахте наше звено хорошим считалось. Одним из лучших! Но больше двух кубов на человека мы не давали при всем нашем старании. А теперь у нас за смену по четыре и четыре с половиной кубометра. Как же раньше никто не сообразил, что нужно не только силой брать, но и сноровкой?
Егор не ответил, взял письмо, начал перечитывать его, беззвучно шевеля губами.
— Так, значит… — сказал он вслух, — при слабом грунте сантиметров тридцать… В крепком — до восьмидесяти.
Мишка изучающе пытливо поглядел на него:
— Чудно мне, Егора, как это ты молчал, молчал и надумал! Я работать хорошо могу, а обдумывать не в моей натуре. — Мишка закурил и присел рядом с Егором на его койке. Оба жили теперь в одной комнате в Доме ударника. Некоторое время сидели молча. Нетерпеливый Никитин первый нарушил молчание.
— Пойдешь к Локтеву, спроси, продвинул ли он вопрос насчет железных тачек. Пускай в самом деле создают условия. Ты как предполагаешь, будет народ переходить на подкалку?
— Должны бы!.. Чего ради отказываться? Затрата энергии та же, а выработка в двойном размере. Глупость будет, если кто не захочет.
— Очень даже просто, что некоторые не захотят. Научились начинать с завески огнива, вот и будут его завешивать… Непременно найдутся крикуны: почему, мол, Егор умнее нас оказался?
— Пусть покричат. — Егор застегнул воротник косоворотки и, надев кепку, положил в карман пиджака свернутое письмо.
— Я от Локтева еще к Марусе зайду, — сказал он задумчиво. — Ты ступай в клуб один, не жди меня.
Егор всегда долго засиживался у Рыжковых, получивших теперь отдельную двухкомнатную квартиру на Орочене. Если Маруся отсутствовала, поджидал ее, разговаривая с отцом; а когда заставал дома — не было сил опять идти в свою холостяцкую комнату.
Конечно, Мишка Никитин хороший товарищ, и жизнь у них с каждым днем полнее становилась, но семья Рыжковых по-прежнему неодолимо притягивала Егора. Однажды он попробовал набраться твердости и не ходил к ним почти полмесяца, но до того измучился и похудел, что, когда явился в выходной день, Акимовна ахнула:
— Совсем замордовался парень! Вот она, ударная-то работа! А мой Афоня ничего, господь с ним… да еще ровно помолодел.
На этот раз Маруся оказалась дома, что бывало довольно редко. Она сидела у окна в столовой и шила, легко постукивая машинкой. Кровать стариков в углу, покрытая новым одеялом, стояла нетронутой, видимо, Рыжков еще не отдыхал (он работал с Егором в одной шахте, но в разных сменах).
— Отец где? — спросил Егор, снимая кепку в дверях комнаты.
— В баню отправился. Что же ты стоишь, проходи!
Егор вошел в комнату, сел напротив Маруси у стола, положив на клеенку большие, чисто вымытые руки.
— Давно я тебя не видел! — Он потрогал за край тонкое, легкое шитье, ползущее с машины. — Шьешь… Что это будет?
— Что-нибудь да будет. Не тяни, а то шлепну!..
— Ну, шлепни, — попросил он, влюбленно разглядывая ее длинные полуопущенные ресницы. Светлый пушок золотился на смугловато-румяном лице и крепких руках девушки. Кашлянув, Егор сказал хрипловатым от волнения голосом: — Интересное дело: сама ты смуглая, а волосы у тебя русые.
— Какая есть! — Она взглянула почему-то вдруг сердитыми карими глазами и покраснела.
— Вот и рассердилась… Я потому говорю, что мне каждая малость в тебе нравится. Только ты меня совсем с толку сбила, я даже не знаю, как подойти.
Егор замолчал. Тихо в квартире, только машинка постукивала слегка да бойко тикал на посудном шкафчике круглый будильник. От этого молчания, которое билось в ушах Егора нараставшим звоном, лицо девушки еще посуровело, но щеки так и горели.
— Маруся! — решительно сказал Егор.
Она вздрогнула и подняла на него блестящие глаза.
— Ну? — Во взгляде были нежность и ожидание, а голос звучал сухо. Он слышал только голос, потому что в этот момент не глядел на нее.
— Слушай, брось ты волынить, выходи за меня замуж, — твердо предложил Егор и заторопился, не давая ей времени возразить: — Люблю я тебя уж не первый год! Сама знаешь, человек я не вздорный. Если и было чего (она нахмурилась, неприятно задетая), так я сам о том сто раз пожалел.
Он наклонился через стол, умоляюще и зовуще посмотрел близко в ее лицо.
Маруся покачала головой.
— Нет, Егор, подожди говорить об этом… — Увидела, как задрожали у него губы, стало жаль его, так жаль, что в пору заплакать. „Какая нервная барышня стала!“ — подумала Маруся о себе с издевкой, не понимая, что ее неожиданное смятение оттого, что она уже любила Егора. — Ты еще совсем молодой!
— А старому жениться незачем, — сказал он упавшим голосом.
Снова она отталкивала его. Это становилось просто невыносимым.
— Я бы тебя ни в чем не стеснял, все-таки научился уже отличать плохое от хорошего.
— Погоди, нам сейчас учиться нужно…
— Не хочу я годить! Я тебе вот что скажу: кабы любила ты меня, не стала бы так рассуждать. Года у меня самые хорошие, а тебе, выходит, старика ученого надо? Эх, Маруся! Как же студенты на студентках женятся? Стало быть, семейная жизнь ученью не помеха…
— Еще какая! Вам-то, мужчинам, конечно, ничего, а у нас дети родятся… „Студенты женятся“! Свадьбу сыграть недолго, но он вперед выучится, а она с ребенком останется на бобах.
— Значит, любви не было, ежели останется на бобах. — Егор встал, комкая в руках кепку. — Видно, не столковаться нам, Марья Афанасьевна. Вы бы мне прямо сказали: противен я вам, что ли… Я бы тогда перевелся отсюда, хоть на Куронах. Пропаду я здесь!
— Зачем мне наговаривать, чего нет, вовсе ты мне не противен. Скучно тебе… так поухаживай за кем-нибудь, вон сколько девчонок понаехало!
На такие слова (не совсем, впрочем, искренние) Егор только поморщился, махнул рукой и тихо вышел из комнаты.
Маруся подбежала к открытому окну и последила из-за занавески, как шел он по улице. Две девушки, встретясь с ним, долго оглядывались на него, хохоча и подталкивая друг друга.
„А что, если и взаправду начнет ухаживать? — подумала Маруся, неприятно задетая и даже возмущенная поведением девчат… Такая возможность показалась ей немыслимой. — Захочу выйти за него замуж, когда ему уже другая понравится“.
20
— Удивительнее чувство — любовь! — задумчиво говорил Сергей Ли. — Встречаешься с женщиной, разговариваешь с ней и спокоен. И вдруг в один день, в один час все меняется. Тот же человек, но ты беспрерывно думаешь о нем, волнуешься, стремишься к нему. Что тут происходит, Мирон?
— Не знаю, Ли. Может быть, секретарю парткома не полагается так говорить, но не знаю. Вот совладать с этим чувством можно: ходу ему не дать, подавить его силой разума, если чувствуешь, что выбор ошибочный. А как появляется оно? По-видимому, стечение многих обстоятельств, а не просто искра роковая.
Оба остановились на увале и, наверное, в сотый раз залюбовались знакомым видом: там новый дом вырос, там еще одна линия деревянных сплоток-шлюзов повела воду на склон горы. Растет производство, ширится!
Но на лице Черепанова нет выражения прежней ясности: брови хмуро сдвинуты, а по углам рта резко прорезались морщины, придавая горечь улыбке. Он и Сергей Ли шли на совещание, героем которого, „именинником“, как шутя называли его, был Егор, шли и разговорились о любви его к Марусе, о том, что это была бы замечательная пара.
— Как я хотел, чтобы Надя расцвела для меня… — с грустью признался Черепанов. — Скажешь — эгоист! Но ведь она не видела радости… Что она хорошего видела? Да и я еще не испытал семейной жизни, то молод был — учился, то тайга глухая — женщин мало. А когда полюбил — не повезло…
— Не надо, Мирон, травить себя! Я понимаю, рана свежая, болит. Луша до сих пор плачет, как вспомнит, и мне жалко. Очень!
— А как ты полюбил Лушу? — спросил Черепанов.
Ли покосился на него, не желая показывать сейчас своего счастья, но невольно просиял.
— Очень просто. Хотя нет, не просто. Ходили вместе в вечернюю школу, подружились, сидели за одним столом. И все ничего. Тоненькая, черненькая девочка, хохотушка. Не замечал в ней женщины. — Ли сорвал на ходу прутик каменной березы и, ощипывая мелкие листочки, продолжал уже серьезно: — Вот ходили и ходили в школу. Один год. Другой. Ко как-то раз я заболел и не был с неделю. Весна уже наступила. Тепло такое! Ночи белые. Иду в школу с тетрадками и чувствую — неспокойно мне. Подхожу, а на крыльце стоит Луша, прислонилась к перилам и молчит, смотрит на меня. И я остановился. Смотрю — она и не она. На лице румянец. Глаза широко открытые, черные, смеются и не смеются, и вся тянется ко мне, не сходя с места. Я тогда чуть с ума не сошел от радости. Почувствовал: что-то большое вошло в мою душу, без чего жить дальше нельзя. Мы опять сели рядом за стол, но не учились: ничего не понимали. Только слушали и понимали друг друга. И с тех пор не разлучались.
— Хорошо! — сказал Черепанов без зависти, но и без участия: слишком тяжело ему было, чтобы радоваться сердечному успеху приятеля.
Ли почувствовал это.
— Мне думается, совещание будет бурным, — перевел он разговор на другое. — Я в последние дни все шахты обошел. Почти со всеми забойщиками потолковал. Сомневаются многие, а ведь бесспорный вопрос…
— Не трансцендентный? — с неожиданным лукавым ехидством спросил оживившийся Черепанов.
Ли заметно смутился.
— Ты брось! — сказал он, улыбаясь. — Я теперь эти кирпичи только для себя откладываю.
Совещание еще не начиналось. Егор то и дело доставал из кармана свернутый номер „Алданского рабочего“, находил свою статью и с удовольствием перечитывал четкий заголовок: „Новые методы работы“. Внизу так же четко набрано: „Егор Нестеров“. Текст, очень складно составленный Локтевым, Егор запомнил почти наизусть.
„Знатным человеком стал, — думал он. — Теперь эту газетку по всему району читают и, наверно, интересуются, кто такой Егор Нестеров“.
Вчера из Куронахского приискового управления приезжали забойщики-ударники для ознакомления с его работой. Егор даже растерялся, когда к нему в забой явилась целая группа в сопровождении Локтева и Сергея Ли.
— Давай инструктируй товарищей, — сказал Локтев, весело подмигивая Егору круглым глазом. Он гордился тем, что подкалка возникла на его шахте, и носился с ней, как со своей собственной идеей. Косность ороченских горняков огорчала его не меньше, чем Егора.
Егор вспомнил оживленные лица куронахцев, долгую беседу с ними прямо в забое и в столовой после смены, удивленно подумал: „Инструктор какой выискался! Ведь ты, Егор Григорьевич, еще малограмотный“.
— Скорей бы начинали, — сказал подошедший к нему Рыжков. Теперь, когда о подкалке написали в газете, Рыжков проникся особенным уважением к молодому Егору.
Газету ему прочитали сначала в красном уголке шахты, потом он долго разбирал ее по складам дома.
— В большие люди пошел Егор, — сказал он Акимовне. — Сколько я его расспрашивал про эту подкалку, не раз сам ходил глядеть, а все сомненье какое-то… Так и другие сомневаются. Вот посмотрим, что на производственном совещании решат.
Совещание вышло очень бурным.
— Мы сюда приехали зарабатывать, а не учиться, — откровенно высказался кривой Григорий, работавший теперь тоже на первой шахте. — Человек не машина. Там переставил винты и пошел наворачивать по-новому, а я этак не могу! Ежели мы увеличим производительность, нам прибавят технорму. А потом опять тянись!
— Хорош у Серка обычай: хоть не везет, да ржет! — крикнул кто-то с места.
— Что такое есть эта самая подкалка? — сказал Точильщиков и встал между скамейками, сутуля угловатые плечи. — Это есть нарушение всяких понятий о ведении правильного забоя. Я как ударник даю сто двадцать процентов нормы. Мой рабочий день и так уплотненный до отказа. Переходить на новые методы отказываюсь. У нас на Орочене грунты слабые и Получатся сплошные кумпола.
Рыжков слушал выступавших, поглядывая на лицо Егора, залитое неспокойным румянцем, думал и не мог придумать, на что решиться.
Грунт на Орочене действительно слабый, и это было главным козырем у противников подкалки.
Мнения шахтеров разделились. Споры возникали между соседями, между отдельными группами. У дверей, где набились курильщики, в густом табачном дыму стоял сплошной гул. Черепанов, сидевший в президиуме на сцене клуба, сердито моргал председателю собрания, председатель хватал колокольчик и потрясал им, но только усиливал шум в зале.
Ли, пошептавшись с Черепановым, попросил слова.
— Я, товарищи, кровно заинтересован в применении подкалки, — сказал он, выйдя к рампе. — Насильно мы, конечно, никого не тянем. Только получается странно: людям дают возможность облегчить труд, а они отказываются…
— У нас сыпучка! — крикнули из задних рядов.
— Нестеров сам начал работать в слабом грунте. И у него не было опыта, который он может передать вам теперь.
— А нормы увеличите?
Ли так и не смог настроиться на ораторский тон: его перебивали поминутно.
— Зимой у нас пекари часто получали больше забойщиков, — говорил он. — Больше получали плотники, кузнецы… А ведь главная наша рабочая сила — это вы, горняки-забойщики. Все остальные — подсобные. Чтобы создать вам лучшие условия, мы ликвидировали уравниловку. Труд забойщика должен стать ведущим! Но разве он станет ведущим, если вы хотите иметь старые нормы? Нет! Не станет! Нестеров в прошлом месяце заработал тысячу четыреста рублей… — В зале ахнули, а Ли намеренно помолчал, отыскивая взглядом Егора. — Да-да, тысячу четыреста!.. А нынче получит еще больше. Спрашиваю: разве он работает дольше вас? Нет, также шесть часов. Или он старается до седьмого поту? Тоже ничего подобного. Ударники, перешедшие на подкалку, работают спокойно. Все дело в распределении труда. Этим ведущим ударникам увеличение нормы не страшно. И себе и производству польза. Смотрите, как заинтересовались новыми методами на Куронахе.
— Там грунта крепкие.
— При таких грунтах и мы перешли бы.
Ли развел руками, выражая недоумение.
— В разном грунте разная глубина подкалки, только и всего. — Он еще минут двадцать толковал о соревновании, подкалке и уплотнении рабочего дня, а отходя от рампы, кивнул Егору.
Егор, наступая на ноги тесно сидевших шахтеров, долго пробирался вперед. Он очень волновался, когда выслушивал горняков, упрекавших его в желании возвыситься над ними. Никогда о нем так много не говорили, и он с непривычки робел и стеснялся.
Выйдя вперед, он долго пристраивался у сцены, не зная, как стоять, забыв, с чего начинать; поставил одну ногу на изломанную скамью, прислоненную к стенке, облокотился на колено, смахнул кепкой пыль с сапога, подбоченился.
— Долго ты там будешь переминаться? — крикнул ему Григорий, потеряв терпение. — Задрал ногу-то, ровно у фотографа. Лицом повернись к народу!
— Дай ему с духом собраться. Торопыга какой!
— А и вправду, чего он корячится битый час!
Егор, не обращая внимания на выкрики, поставил ногу поудобнее, вскинув голову, отыскал взглядом в президиуме Черепанова.
— Можно, что ли?
— Давай, давай, — сказал тот.
— Я, товарищи, совсем не хочу быть впереди других как личность, — сказал Егор, стоя вполуоборот к публике и помахивая кепкой. Голос у него вздрагивал, щеки горели. — Личность моя самая неинтересная: простой я парень и малограмотный. Но я хочу работать лучше всех, и тянуть меня обратно никто не имеет права. Здесь я не личность, а государственный человек. — В зале раздался смех, и Егор стушевался. — Да, тут я ударник, — поправился он. — Тут я обязанный идти напролом, не обращая своего внимания на разные хаханьки. В газете пропечатано, как я работаю с подкалкой. Вы все, наверно, читали? А я еще вот что хотел сказать: при подкалке труд в забое разделяется — откатчики только на откатке работают, забойщики на кайлении. При подручном крепильщике мне в одном забое работы не хватает. Предлагаю перейти на спаренные забои. Пусть мне дадут два смежных забоя, и я буду работать в них одним забойщиком при четырех откатчиках. Если создадут условия: чтобы был хороший инструмент, чтобы вовремя подносили крепежник, я обязуюсь выполнять техническую норму в двух спаренных забоях не меньше чем на сто семьдесят процентов.
Когда Егор сел, в зале поднялся гвалт. Обещание перевыполнять норму за двух забойщиков многим шахтерам показалось бахвальством. Другие, задетые странной самоуверенностью молодого, неловкого парня, решили тоже перейти на новые методы. И первым из них попросил слова Точильщиков.
21
— Хочу я, старуха, обратно на старание податься, — сказал Рыжков жене, придя однажды с занятий ликбеза.
— Да что ты, Афоня? — испуганно воскликнула Акимовна, поднимая с подушки голову, повязанную мокрым платком. У нее даже прошла головная боль, так всколыхнуло ее это сообщение. — Или случай какой?
— Нет, все в порядке. Просто есть у меня думка. — Рыжков положил на полку тетрадки, потом достал одну снова и, осторожно перелистывая страницы, сказал. — Вот, погляди-ка! Сам написал! Чернилом! Только буквы не совсем ровные — близко вижу хуже, чем издаля.
— Ты мне зубы-то не заговаривай! — Акимовна подошла к мужу, строго посмотрела на него. — Почему надумал с шахты уходить? Или с начальством контры получились?
— Контров никаких. Отношение со всех сторон хорошее, мне даже мастером предлагают идти в якутскую смену… Однако тянет меня на старанье, прямо покою нет. — Рыжков говорил медленно, негромко, как будто речь шла о самом пустяковом деле, но в душе побаивался, что жена начнет сейчас спорить, а может быть, и плакать, и мрачнел лицом, продолжая перелистывать страницы ученической тетрадки. Но Акимовна только укоризненно покачала головой:
— Эх ты-ы, единоличник!
Она не заплакала, и Афанасий Лаврентьевич облегченно вздохнул, но слова ее неприятно задели его. Он никогда не жил в деревне и понял по-своему, что это упрек в желании отделиться от товарищей — обидный для настоящего таежника.
— Я ведь в артель буду вступать, чтобы большой коллектив был.
— Мало тебе двух-то лет в Трудовой артели показалось?! Хорошо ведь сейчас живем, гляди, сколько всякого добра накупили! Небось на старанье не до тетрадок было. Брось ты это дело, Афоня, право!
— Нельзя бросать, Аннушка, невозможно. Я теперь кое-что соображать начинаю, новой забойной технике обучился. Нужно, чтобы на старанье было то же. — Рыжков присел к столу, начал свертывать цигарку — папирос он не признавал, считая махорочный дым „самым чистым“, — и продолжал с важностью: — Шахта — хорошее дело, да ведь не везде можно вести крупные хозяйские работы. На небольшой россыпи или на приисках, где площади уже испорчены, без старателей не обойдешься. Только в маленьких артелях никакой организованности нет и механизацию на пять — восемь человек не заведешь. Кроме того, научились мы теперь распределять труд, и сразу видно стало, сколько рабочей силы пропадает зря в мелких артелях. Стало быть, самое выгодное — крупный коллектив. Трудовую артель ты теперь забудь! Тогда мы работали безо всяких льгот и машин. А теперь такое дело: можно организовать гидравлику — это раз, можно большие буторные работы — два, или шахтовые с кулибиной — три. Поняла? — Рыжков поднес к сухонькому лицу Акимовны тяжелую ручищу с прижатыми пальцами и сказал: — Выбирай любое!
Акимовна из всей этой непривычно длинной речи поняла лишь одно, что Афоня с шахты уйдет обязательно, хотела отругать хорошенько, но посмотрела, как лучились под косматыми бровями его глаза, мохнато обросшие светло-русыми ресницами, и сдалась.
„Ну что с ним натолкуешь! Как к стенке горох. Раз решил — пересолит да выхлебает“, — подумала она и спросила:
— С квартиры-то съезжать придется?..
— Пока здесь будем помещаться. Старатели теперь приравнялись к рабочим. Раз я тут живу, куда же меня девать? А после свой домик выстроим, как настоящие жители. Завтра пойду с начальством разговаривать.
— Егор тоже переходит на старание? — поинтересовалась Акимовна.
Она была огорчена, но стоило ей взглянуть на мужа, и досада таяла: впервые за долгие годы совместной жизни она видела его таким успокоенным и счастливым. Но ведь он упрямый, а упрямцы, часто даже в ущерб собственному благополучию, поступают так, как им однажды захотелось. Он и сам не рад потом, а все гнет по-своему, пока не упрется лбом в непреодолимую стену. Шахтер — это звучало гордо и независимо. Старатель — отдавало горечью.
— Егор из шахты никуда не уйдет, — сказал, подумав, Рыжков. — Его теперь стараньем не переманишь. Прошлую смену они снова по шесть кубометров на брата дали. Из газеты не выходят: разошелся парень, спасу нет. Подумать только, как выработка взыграла! Кто бы мне сказал в прошлом году, что за смену можно завесить восемь огнив, я бы не поверил. А Егор и до двенадцати завешивает. Ведь это около двух метров погону! Вчера я к нему заходил… Лежит на постели и книжку читает. Тоненькая такая книжка, вроде тетрадки. „Интересуюсь, говорит, горным делом“. Учительница к ним на дом приходит, к ударникам-то. „Осенью, говорит, в школе будем заниматься“. Он ведь тоже не больно обучен грамоте-то. — Недавно совсем неграмотный, Рыжков не без гордости подчеркнул слово „тоже“, но Акимовна была слишком озабочена, чтобы обратить внимание на его самодовольство.
— Молодая учительница-то?
— Молодая… в твоих годах будет, пожалуй, — Рыжков рассмеялся от души, радуясь, что разгадал мысли жены. — Чего у них с Марусей-то опять получилось? Который уж день у нас не бывает. „Как, спрашивает, поживает Марья Афанасьевна?“ — а у самого ажно голос рвется. Зря она откладывает.
— Что же я поделаю, коли она такая поперешная? Нет у нее, стало быть, охоты выходить замуж, я ее и не тороплю. Колабин тоже за ней увивается, и техник один строительный…
— Техники все женатые, — сердито перебил Рыжков. — Это и гадать нечего, у всех дома жены оставлены. Пускай бы шла за горняка — как-то ближе к сердцу. Вот я ужо сам с ней поговорю.
— Выдумывай-ка! Мужское ли дело девчонке об замужестве говорить!
— Так ведь я же отец!
— Мало ли что! — сказала Акимовна и повернула выключатель: ровный белый свет разлился по комнате. Не мигающая свеча, не лампа-коптилка! Словно всю жизнь повертывала Акимовна такие вот выключатели. Светлые сумерки, голубевшие за окном, сразу потемнели, глянув синевой сквозь переплеты рам. Акимовна задернула занавески в своей и Марусиной комнатах, поправила зацепившуюся за подоконник тюлевую штору.
„Только начали жить по-людски, и опять все нарушится“! — грустно подумала она, пройдя на кухню, достала с печки пучок занозистых лучин, принялась растапливать плиту. Примус, блестя незахватанными боками, праздно сиял на полке. Разжигать его Акимовна не любила: больно шумит, засорится — ковыряй иголкой. Боязно: не ровен час пыхнет огнем в лицо».
— Опять плиту топишь? — спросил Рыжков, заглянув на кухню в кепке и сшитом Акимовной пиджаке. — Зачем же я тебе горелку покупал? Дрова летом экономить надо. Теперь леса близ приисков поредели.
— Ладно уж с экономией своей! Далеко ли собрался?
— Хочу в партком сходить! Ежели Маруся скоро придет, с ужином меня не ждите. Я еще в клуб зайду. Может, новости какие узнаю… Старик Фетистов нынче оконфузил меня насчет политики, спасу нет!
Акимовна приготовила ужин, поставила его в духовку, чтобы не остыл, вымыла руки и прошла в комнату. Ей вдруг захотелось плакать. Когда Афанасий ушел, ее снова охватило сомнение: а будет ли после перехода его на старание так же хорошо, как сейчас? Впервые за свои пятьдесят лет она жила в удобной светлой квартире и готовила настоящие обеды, ожидая с работы мужа и дочь. Однако она не ограничивалась только этим, а постепенно обрастала все новыми заботами: доставала у знакомых баб отростки с трудом завезенных комнатных цветов, воевала с курами, совершавшими разбойничьи набеги на огородные грядки, на единственную клумбу с белыми левкоями и золотисто-оранжевыми бархатцами. Недавно хохлатая пестрая курица вывела одиннадцать цыплят, и едва оперившиеся пострелята, к великому сокрушению Акимовны, совсем отвыкшей в тайге от домашней живности, успевали пакостить всюду. Только вышугнет она их из своего огорода, они уже роются в соседском; сбегает туда — глядь, они полезли в помойку, и она поспевает как раз вовремя, чтобы вытащить намокшего, жалко цымкающего птенца.
Для порядку она ворчит и ахает, хотя эти новые для нее хлопоты очень приятны ей. Но ей все кажется, что она бездельничает, и в хозяйстве появляется большеухий, длиннорылый поросенок, потом кошка, оставленная уезжающей знакомой, и Шарик с перебитой лапой, а когда рабочий день домохозяйки уплотнен до отказа, Акимовна начинает посещать женские собрания и приносит домой целую кипу шитья для детских яслей.
Вместе с шахтовым производством вошли в ее жизнь обеспеченность и спокойствие. И вдруг опять предстоит крутой поворот…
Давно забытая неприязнь к старательской работе проснулась снова в душе Акимовны. Полное тревог и огорчений встало перед нею прошлое.
«Всю свою молодость закопал Афоня в проклятые ямы — шурфы. Зачем же сейчас связываться с этим де лом?» Акимовна подумала о том, что запоздалое стремление мужа на старательские работы не принесет им счастья, и ей стало страшно. Найти бы его сейчас и попросить: «Не уходи из шахты, Афоня!» Но разве он послушается? Даже когда она была молодая, ее любовь не смогла отвоевать его у тайги. Сама уступила, сама пошла за ним на лишения. Акимовна вспомнила, какой заботой платил ей Афанасий за это, улыбнулась сквозь слезы и, вытерев щеки шершавой ладонью, прошептала:
— Стыдно тебе, Анна Акимовна! По раздумью-то завсегда, будто по болоту, поколь не выбредешь, зыбко. Пускай делает, как ему по сердцу. Верит, — значит будет хорошо.
Она достала с полки тетрадь Афанасия, начала просматривать крупно и коряво исписанные карандашом страницы: «На колхозных полях работают тракторы и комбайны».
«Что за комбайны такие?» — подумала она и припухшими от слез глазами прочитала дальше: «Красная Армия стоит на страже мирного труда». На следующей странице очень грязно написано чернилами: от неумелых нажимов перо, поцарапав бумагу, разбрызгало зеленоватые пятна. Сама Анна Акимовна давно уже умела и читать и писать — выучилась от Маруси.
22
Рыжков спокойно шагал по улице, поглядывая на освещенные окна, в которых маячили неясные тени. Спать на прииске ложились поздно, и сейчас около бараков еще шумел отдыхающий народ. Пиликали гармошки. Смеялись женщины. Пьяный горланил песню, навалясь на увешанную бельем изгородь. Влюбленные парочки шли по обочинам шоссе. Песок хрустел и шуршал под их ногами, а они ворковали себе, как лесные голуби.
«Ведут своих любушек и ничего, окромя их, не видят! — добродушно отметил Рыжков. — Эх, молодость!»
В долине было темнее и тише, чем на прииске, — там все движение совершалось под землей, но Рыжков хорошо представлял, какая сложная сеть ходов и переходов тянулась там, внизу… Ветер холодил его лицо. Звезды стояли над ним, отливая водянисто-прозрачным блеском, точно осколки горного хрусталя. Все принадлежало ему, и он шагал по своей изведанной земле с чувством победителя.
Черепанова в парткоме не оказалось. Кабинет его был закрыт, а в смежной комнате проходили занятия курсов по горному делу. Седоватый инженер, не закончив фразу, строго-вопросительно взглянул на Рыжкова, и тот, смешно приподняв плечи и мягко ступая на носки, заспешил к выходу.
Выйдя, Рыжков остановился в раздумье. Инженер за стеклами окна говорил что-то, округло разводя руками. Слов не слышно, только видно было, как шевелятся короткие седоватые усы и дряблые над белоснежным воротничком щеки. Ссутуленные спины слушателей выражали напряженное внимание. Женщина в темном халате и красном платочке распахнула крайнее окно, начала трясти скатерть, тихо всхлопывая мягкую ткань. Ее появление спугнуло Рыжкова, и он отошел, раздумывая, почему бы ему не зайти на квартиру Черепанова. Парень свой, приисковый, с народом обращается просто. Кроме того, он принимал когда-то участие в делах артели «Труд», и Афанасий Рыжков считал его теперь чуть ли не сотоварищем в переживании прошлых трудностей.
Рыжков решительно свернул с шоссе, проходившего вдоль поселков по Ортосале, как широкая улица, и пошел в сторону общежития служащих, где жил Мирон. Спросив уборщицу в коридоре, он сразу отыскал по номеру нужную дверь и, не постучав, вошел.
То, что он увидел, смутило его, он даже крякнул от удивления. Раскосмаченный Черепанов стоял посреди комнаты в глубокомысленной позе, а на столе виднелась недопитая бутылка, хлеб, красные маринованные помидоры и селедка с зеленым луком.
«Зашибать стал! — подумал Рыжков и побагровел от неловкости, досадуя на себя за свое непрошеное вторжение. — Партийный человек, неприятно ему будет, что его так застали».
Черепанов вздрогнул от неожиданности, повернулся и сказал, ясно выговаривая слова:
— Здравствуй, Лаврентьевич! Как это ты надумал?
Но Рыжков, избегая его взгляда, торопливо насунул кепку на самые глаза, быстро шагнул к двери:
— Ладно уж… Я завтра утречком после смены зайду к вам в партком. Извиняйте… нечаянно зашел.
— Как это нечаянно? — Черепанов вдруг догадался о причине бегства Рыжкова, и густой загар на его лице сделался бурым. — Вот это действительно, вывел ты меня на чистую воду! Теперь придется прослыть пьяницей. Нет, я знаю, что ты никому не скажешь! — добавил он, заметив, как обиженно дрогнули брови Рыжкова. — Ты ведь из тех, которые привыкли обо всем помалкивать. Ишь ты, какой прыткий: выглядел — и сразу наутек! Моя, мол, хата с краю! Нехорошо так, Лаврентьевич! — Черепанов схватил старателя под локоть, потащил к столу. — Вот, смотри.
С большого листа бумаги глянуло на Рыжкова лицо Надежды. Черты были еще неопределенны, но глаза так и светились упреком и страданием.
Рыжков посмотрел, нерешительно сказал, пощипывая себя за мочку уха:
— Похоже ведь…
— Хочется мне нарисовать ее… Да все не выходит. Не могу смириться: на людях ведь погибла! Видели, как он пришел, как бить ее стал, и никто не вмешался вовремя, не отогнал зверя… — Крохотный живчик беспокойно задергался под глазом Черепанова, и он умолк, тяжело и часто дыша.
— Верно! — с горечью подтвердил Рыжков. — Побоялись, стало быть!
— Нет, не то, Лаврентьевич! Ты помнишь, когда паводок был и все мы работали… Кто тогда о себе думал? Чего мы побоялись? Ради общего дела не щадим себя, а семейные конфликты стараемся по старинке стороной обойти. Тут еще много надо… Даже ударников наших возьми. На работе настоящие, большие люди, а дома… — Черепанов прошелся по комнате, лихорадочно возбужденный, взвихренный. — Заглянул я на днях к одному нашему знатному шахтеру, а он пьяный. В квартире беспорядок: посуда побитая, жена разлохмаченная, на лице у нее синячище! Ну, взял я его под грудки, тряхнул и говорю: «Что же ты вытворяешь? Я тебя привлеку за это!» Он молчит, сопит, а она в слезы: «Брось ты его, говорит, муж ведь он мне! Как-нибудь помиримся!»
Черепанов взглянул на Рыжкова и спохватился.
— Садись, рассказывай. Угощайся помидорами. Только водки нет. В бутылке — уксус. Нюхай. — Он поднес бутылку к носу Афанасия, и тот нюхнул во избежание сомнений. — Проездил по приискам, опоздал к ужину, вот мне наша уборщица и принесла кое-чего.
Вечер у меня сегодня свободный, начал рисовать, а ты нагрянул;
Черепанов достал из ящика стола большую папку, развязал. Рыжков с любопытством начал разглядывать рисунки. Старатели суетились около бутары. Смеющийся китаец, обнаженный до пояса, с рожками платка, повязанного над бритым лбом, стоял, держа пустую тачку, и Рыжков тоже невольно улыбнулся, глянув на его выпуклые зубы. Цветы, опять старатели на отдыхе, приисковые виды, щенок, зевающий на стуле, и просто отдельные предметы, переданные с большой правдивостью.
Поощренный доверчивостью хозяина, Рыжков потер о шаровары пальцы и сам вытащил несколько рисунков.
Черепанов, несколько отстранясь, сидел напротив, предоставляя Рыжкову любоваться своим искусством, которым он занимался втихомолку и урывками. Черные глаза его были смягчены теперь выражением грусти.
Рыжков разворошил всю кипу, нашел еще несколько набросков с Надежды. «Сильно тоскует по ней!» — подумал он о Черепанове и оглянул его скромную холостяцкую квартирку. Все прибрано. Чистенько. По стенам полки, уставленные тесными рядами книг. Книги и на столе, одни открытые, другие с белыми хвостиками бумажных закладок: сразу видно, живет в комнате человек, много читающий и любящий подумать над книгой.
— А ведь я к тебе, Мирон Устиныч, по серьезному делу. Хочу я обратно на старание.
— Да ну? Что так?
Рыжков смутился немножко, но в глаза Черепанова взглянул прямо.
— Знаешь россыпь, что открыли старатели на ортосалинской террасе повыше Орочена? Хорошее золото… Клондайком ее, эту россыпь, назвали. Обидно мне… Кабы я весной на шахту не пошел, кабы не увяз раньше в Трудовой артели, был бы сам первооткрывателем на Клондайке. Я ведь эту терраску давно приметил. На днях начнут там делянки нарезать; ходил я туда нынче раз пять и уж которую ночь спать не могу. Ельничек там поломанный, старые разведочные шурфы… Прикипела у меня душа к золоту. Веришь — нет, сплю и во сне самородки собираю. Для себя мне крупинки не надо… — Тут Рыжков вспомнил о Потатуеве и запнулся: «Сказать или нет?», но смолчал. — Хочу я перейти на деляну, — продолжал он горячо, — и научить старателей работать с подкалкой. Вот, скажем, работали бы мы теперь такой же артелью, как Трудовая, и получился бы толк. Я завтра буду говорить со своим начальством, чтобы организовать большую артель с механизацией. А они ладят меня в сменные мастера назначить, так уж ты, пожалуйста, вступись в это дело.
Черепанов, не спуская с него пытливого взгляда, молча кивнул головой.
23
Поспевала черника. Поспевала голубица. Тучи комаров и мошек толклись над мшистыми кочковатыми марями, над болотистым редколесьем. В дремучих хвойных и лиственничных чащах, под мелким подсадом, по-куриному рылись капалухи[13] нежно подзывая уже оперившихся глухарят.
Рыжие белки выводили из дупел и домиков-гнезд пучеглазых бельчат, проворных, как ящерицы. Гаврюшка поглядывал на них и думал о том, что нынче много родится ореха и много белки. Добычливая будет зимой охота! Эвенк был охотник и хорошо знал тайгу от верховьев Амги до берегов Тимптона. Дальше чужие земли, но и там он мог пройти по любому бездорожью до двух железных полос, проходящих, как лыжный след, с востока на запад. Туда ходил он с отцом лет двадцать назад, провожая людей, приходивших в тайгу искать золото.
Дук-дук! — испуганно кричала белка над его головой, и он видел, как с треском неслась она вверх по сосне, где в развилке темнел искусно сделанный домик. Эвенк видел ее семейство и сразу отличал детенышей весеннего помета от летних, еще совсем крохотных.
Олени шли без ботал, только сухо похрустывали суставы их крепких ног. Шуметь не полагалось, и праздно висела за спиной Гаврюшки двустволка, заряженная на всякий случай картечью и медвежьим жаганом: сейчас он не стал бы стрелять ни в глухаря, ни в сохатого. Он заключил договор… Правда, на словах, но для эвенка сказанное слово было дороже написанного, потому что ни писать, ни читать он не умел. За хорошую плату он согласился сопровождать до Невера знакомого человека, которого возил на прииска с берегов Тимптона в прошлые годы, проводить его так, чтобы миновать кордоны. Что же, если это нужно, можно сделать уважение, тем более что сейчас лето и настоящему охотнику делать нечего.
Человек, которого вез эвенк, был Санька Степаноза. Он ехал на втором олене, еще один олень шел под вьюками, а на последнем ехал страшно исхудалый и загорелый Забродин.
После убийства Надежды Забродин все время скрывался в районе Ороченских приисков, по ночам подходил к жилью, обворовывал кладовки, выставлял окна в бараках и, нагруженные добычей, уходил в тайгу. Два раза он чуть не попался: один раз, когда давил кур в чьем-то темном курятнике и упустил из рук горластого петуха, в другой — когда напоролся на повешенную у входа литовку. Длинный узкий шрам остался у него на щеке.
Однажды, под вечер, он выследил Черепанова и долго крался за ним по низкому кустарнику. Черепанов собирал какие-то камушки, разбивал их, разглядывал, что-то откладывал в рюкзак. Забродин видел его широкое темнобровое лицо и крепкие плечи, осматривал его всего, как оглядывает мясник быка, приведенного на бойню, оценивал его сложение и силу, прикидывал, в какое место ударить.
Когда между ними осталось совсем пустяковое расстояние, у Забродина вдруг задрожали руки, и он перестал ползти: ему вспомнились маленькие окровавленные ступни убитой Надежды. Полежав на земле, он поднял голову и поглядел на Черепанова, — у него пропало желание убить. В конце-то концов какое ему дело до этого парня, который стоял, широко расставив ноги, над грудой камней и отбивал молотком нужный ему кусок. Если он не растеряется, можно получить этим самым молотком по лбу…
Через несколько дней после слежки за секретарем парткома Забродин случайно встретил Саньку-спиртоноса. Тот ехал тайгой без тропы. Сначала Забродин подумал, что Санька отправился за контрабандою, но потом смекнул, что он едет не по шоссе потому, что везет золото.
Санька был очень огорчен встречей с Василием, однако, когда тот попросил, чтобы и его взяли на Невер, китаец не решился скандалить и безропотно согласился. У него действительно было девять килограммов золота и он надеялся перебраться через Амур на свою сторону, где жила в семье отца оставленная им жена. За время своей деятельности в приисковом районе Санька успел переправить за границу не меньше пуда золотого песку с такими же, как он, контрабандистами. Теперь, когда «работать» становилось слишком трудно, он решил уехать совсем и открыть магазин на родине.
Мечтая о будущем, он видел себя в шелковом халате, важным, толстым хозяином. Новый дом, набитый хорошими вещами, охраняемый послушными слугами. Общий почет, уважение. Жена в дорогой кофте и узеньких, как дудочки, штанах, покачиваясь всем телом, ступала перед ним на своих маленьких ножках-копытцах: туп-туп, туп-туп.
От таких мыслей толстые губы Саньки расползались в неудержимой улыбке, а глаза совсем суживались. Он приосанивался, не выпуская из рук ременного повода, и выпячивал пока еще впалый живот, как будто уже шествовал по своим богатым дворам.
Проехали мимо поселков Юхты и Немныра, обойдя их тайгой с левой стороны шоссе. Впереди предстоял перевал через Эвоту. Пробирались еле заметными тропами, а то и вовсе нетронутой чащей.
— Проводник у тебя барахольный, — сказал Забродин, подъехав поближе к Саньке. — С ним до Невера и за год не доберемся!
— Тише едеша — дальше будеша, — глубокомысленно ответил китаец, любивший русские пословицы и поговорки. — Куда ваша торопися? Ожидай никому нету.
Забродин ничего не возразил, только прищурил одичалые глаза.
— Ты на свою сторону думаешь переходить? — тихо спросил он.
— Моя еще посмотри, — небрежно ответил Санька, но в этой небрежности невольно проскользнула тревога, и он с досадой покосился на нескромного попутчика.
— Возьми меня с собой! — потребовал Забродин, словно не слыхал уклончивого ответа.
Лицо китайца под сеткой накомарника передернулось нервной гримасой.
— Моя не собирается за граница! Ваша хочу попадай Невер, моя говори — пожалуста. Больше моя ничего не могу! Сичаса переходи наша сторона очень трудно. Я не хочу играй своя голова. Пять года назад могу ходи компания десять люди, сичаса один собака ходи — пограничника ловити его за хвост. Тебе, Вася, не учитывает обстановка, — добавил он мягче.
— Очень даже учитываю. Я хлопот не доставлю. Сам переходил не раз, знаю… Одному мне не с чем идти, а там-то я устроюсь. Явлюсь к белым гвардейцам, они меня примут. Пошел бы я в каратели со всем удовольствием! Теперь у меня рука ни перед чем не дрогнет. Ты не бойся! — тихонько и злобно сказал Забродин, заметив, как Санька отшатнулся в сторону. — Мне с тобой ссориться ни к чему. Я в каратели пошел бы против всяких советских начальников… Помню я, когда уходили японцы в двадцатом году с Зеи… Мы, говорят, приезжали к вам с мирными целями. Защищать вас хотели от большевиков, а вы, мол, сами на их сторону перекинулись. В другой раз придем, пощады не ждите: будем с корнем уничтожать, от малых ребят до стариков. Вот какая у них программа! Мне она очень подходящая. Ребятишек я бы не тронул, но кое-кому… — Он схватил невидимый нож и, тряхнув сжатым кулаком, так скрипнул зубами, что самому больно стало.
— Худо тебе люди есть! — прошептал Санька, опасливо поглядывая на Забродина. Мысленно он ругал его самыми крепкими русскими и китайскими слогами, какие только были ему известны.
Василий невесело рассмеялся. Ярко блеснули на его заросшем лице выпуклые подковы плотно слитых зубов с темной щербатиной посредине.
— Я, Степаноза, работу не люблю! Почему я обязан любить ее, окаянную? Хочу жить на полной воле. А у них свои лозунги: не потопаешь, не полопаешь. Вот и получилось разногласие. Теперь мое дело здесь конченое. К социализму я не приспособленный, а дрова пилить в лагере еще раз не стану. Хочешь или нет, бери меня с собой.
Санька намеревался промолчать, чтобы не ссориться с таким опасным человеком, но досада взяла верх над благоразумием, и он презрительно бросил через плечо:
— Я тебя подбирай на дорожка. Надо за это спасибо говорити. Моя не боиса, на пушка не бери! — Он отвернулся от Забродина и, ударив пятками оленя, зарысил вперед.
На ночлег они остановились, как обычно, подальше от шоссе. Не разжигая огня, поужинали холодными консервами. Вместо чая эвенк принес из ключа котелок студеной воды, и они начали устраивать постель в маленькой тесной палатке. Забродин всю ночь спал плохо, часто просыпался, ворочался так, что хвойные лапы, подстеленные снизу, сбились в сторону. Рядом легко и чутко спал эвенк, то и дело просыпавшийся из-за беспокойного соседа. У стены похрапывал Степаноза, побоявшийся лечь рядом с Забродиным.
Василий сразу почуял это недоверие и как-то весь сжался. Неясное пока намерение бродило и созревало в нем. Определилось точно одно: нужно уйти за границу. Теперь он обдумывал возможности. В прошлом он ничего и никого не жалел, понятие «совесть» для него не существовало, и он не мучился раскаянием, вспоминая о Надежде: «Сама виновата. Зазналась со своей красивой жизнью! Могла хотя бы для видимости принять покорно». Он скорее готов был пожалеть о том, что не убил Черепанова. «Ничего, еще все впереди. Будет война, со всеми расквитаемся».
Утром, когда Санька умывался у ключа, Забродин тихо окликнул эвенка, чинившего у входа в палатку порванный седельный ремень:
— Дагор![14]
Гаврюшка посмотрел вопросительно. Скуластое бронзовое лицо его с горбатым, опущенным вниз носом и узкими удлиненными глазами было спокойно.
— Мог бы ты, дагор, убить человека? — спросил Василий. — Не даром, конечно, а за деньги. — Он не собирался давать ему такое поручение, но просто хотел выяснить, как отнесется эвенк к исчезновению Саньки. Наивное удивление охотника рассердило его. Забродин хотел оставить проводника в живых: ехать одному до Невера очень трудно: надо знать местность, когда приходится удаляться от шоссе, надо ловить и седлать оленей. Летом они едят всякую зелень, за ночь уходят далеко, и только эвенк может отыскивать их по следу.
— Я окотник… — медленно выговаривая слова и так же тихо, словно чувствуя, о ком идет речь, ответил Гаврюшка. — Стреляем зверя… птичка, большой да маленький глукарь, куропатка. Пушнина торгуем за деньги. Человека-то за деньги, однако, нельзя убить.
Эвенк встал и, помахивая ременным арканом, пошел в ту сторону, где были олени, — невысокий, стройный, тонконогий.
Забродин, глядя ему вслед, судорожно сгреб железными пальцами угол Санькиного одеяла и так рванул, что репсовая подкладка затрещала, встал и, шаркая по росистой траве поношенными ичигами, пошел за Гаврюшкой. Забродину хотелось договориться с ним по-доброму. Он боялся, что тот может удрать от него…
…Санька сложил палатку, собрал все имущество и, сидя на сыроватом от росы брезенте, жевал сухие галеты. Со вчерашнего дня он стал следить за Василием. Нельзя ехать с ним дальше, надо отделаться от него. Недалеко от Хатыми жила знакомая Саньке зимовщица. Придется заехать к ней, подпоить там Забродина и уехать одному. Приняв такое решение, Санька повеселел и пощупал кожаный пояс, плотно и тяжело охвативший его тело под широкой дабовой опояской, — в нем было зашито золото.
Почему-то долго нет ни оленей, ни спутников? Санька отошел от места, где стояла палатка, прошел немного лесом и увидел склоненного над травой Забродина. Он рвал ее… Утреннее солнце светило в прогалы среди ветвей, и в его лучах ярко блеснуло что-то в руке Василия. Роса на траве, которую он выпустил из ладони, была красной, — он вытирал нож…
Быстро и бесшумно китаец вернулся обратно, положил за голенище тонкий якутский кинжал, взял двустволку проводника.
Между кустами послышался шорох шагов. Санька вскинул ружье к плечу. Приладился. Забродин шел медленно, таща в поводу пугливо упиравшихся оленей. Лицо у него было мрачно-спокойное, нижняя губа устало отвисла. Но все спокойствие соскочило с него и он побледнел, когда увидел черно-сизые стволы ружья и перекошенное лицо Саньки.
— Я убити тебя надо! — крикнул китаец срывающимся пронзительным голосом. — Тебе сволочи, а не знакомый люди!
— Кордон близко… услышат! — пробормотал растерянно Забродин, не отрывая глаз от ружья, мушка которого словно застыла над смуглыми руками Саньки. — Прибегут сюда и отберут твое золото.
— А-а, ваша жалеет моя золото! — Китаец даже топнул ногой от охватившей его ярости. — Тунгуса контами, моя контами — пускай наша здесь лежи! Собака тебе! Хуже собака! Привяжи олени за елка! Два шага вперед! Ходи лево, еще лево. Стояти!
Крупный пот покатился по загорелому лицу Забродина. Сотрясаемый холодной дрожью, он послушно выполнял команду и только старался прикрыть локтем разорванную эвенком рубаху. «Дало бы ружье осечку…» — подумал он и вдруг понял — сейчас конец. «Неужели убьет? Убьет, гад. Эх, надо было ночью…»
Он отошел в сторону от оленей, измерил взглядом расстояние, отделявшее его от Саньки, и с отчаянием затравленного зверя рванулся вперед. Оглушенный стуком собственного сердца, он не слыхал выстрела; отброшенный страшным толчком, нелепо взмахнул руками и повалился, дергаясь всем телом от второго выстрела картечью.
24
Полная женщина с открытой грудью, с двумя подбородками над ниткой сверкающих камней лукаво играла заплывшими, но все еще огневыми глазами. Пела она залихватские волжские частушки, поводя плечом и слегка подбоченясь, отчего черное шелковое платье сильнее обтягивало ее стареющее тело. Человек у пианино тоже был в черном.
— Видать, любила покрутить артистка-то! — тихонько шепнул Егор. Теперь гордо приподнятый носик Маруси уже не смущал его, и, глядя на ее гладкий под светлыми волосами лоб, на внимательно обращенные к сцене глаза, он вспоминал, как обрадовалась она вчера его приходу. Он не приходил к Рыжковым после своего неудачного сватовства недели три, и, когда явился, она так растерялась, что не смогла скрыть волнения.
Потревоженная шепотом Егора, Маруся улыбнулась ему. Столько понимания и ободряющей нежности выразилось в этой улыбке, что у него перехватило дыхание. Он слегка придвинулся, коснулся плеча девушки, и она не отстранилась, а ответила той же новой, милой улыбкой, положив теплую руку в его широкую ладонь…
После концерта Егор проводил Марусю до дому, а потом долго слонялся по светлой дороге-улице, и длинная тень его быстро шла, спешила перед ним к Марусиному дому и медленно тащилась сзади, в другую сторону, откуда глядела луна. Камни, приваленные к обочинам, влажно отсвечивали, а в канавах лежала густая тень, окаймляя шоссе двумя черными полосами. Егор перепрыгнул через канаву и пошел по траве, серебряной от росы.
Он видел, как двигалась тень Маруси по освещенному изнутри полотну занавески, как шевелились вскинутые ее руки, выбирая из волос шпильки. Погас свет в милом сердцу окне. Затихли голоса последних гуляк, а Егор все продолжал ходить, пока побледневшая луна не скрылась за гольцами. Звезды таяли в нежной сиреневости предутреннего неба, и только на западе долго еще глядела одинокая крупная звезда.
25
Табуны серых облаков неслись над долиной прииска, заволакивая вершины гор. Лужи блестели после ночного ливня повсюду, светлые капли дождя лежали на листьях придорожной травы. Намокшие пичужки с унылым писком вспархивали с кустарников, которые, словно пробуя свою силу, встряхивал налетавший порывами холодный ветер.
Глинистая грязь громко чавкала под копытами лошади, а Потатуев, возвращавшийся домой с дальнего прииска, вяло покачивался в седле, хмурился, поглядывая по сторонам.
«Как наладить отношения с Рыжковым?» — размышлял он, ощущая сосущую пустоту под ложечкой. Это не было чувство голода. Подташнивание возникало у Потатуева всякий раз, когда он думал о своем спрятанном золоте, о Рыжкове. Возрастающая активность старого таежника пугала его. «Денег ему дать?.. Не возьмет, пожалуй. Как он тогда окрысился на меня! Не любит, за Пролетарку злится». Мысли у Потатуева были серые, смятые, как бегущие над ним облака.
«Сидел бы сейчас в уютной комнате. Попивал бы кофеек со сливками». — Потатуев вспомнил молочно-белые руки Надежды и вздохнул.
«Пропала женщина ни за грош. Другая на ее месте сумела бы угодить и мужу и начальству». Лицо штейгера стало еще мрачнее. Он не боялся смерти. «Всему на свете конец приходит. От смерти ни крестом, ни пестом не отмашешься», — говаривал он, повторяя слова своего отца. Но казалось обидным умереть, не испытав того, что предназначено в жизни. А Потатуев уверен был, что предназначено ему многое, для чего же, спрашивается, он трудился, хлопотал, копил? Особенно беспокоили его полтора пуда золота, скупленного у старателей, выходивших с Алдана на Невер во времена золотой лихорадки, и спрятанного в тайничке в Киренске. Придется ли когда-нибудь пустить в ход это богатство?
Мысли Потатуева снова вернулись к Рыжкову, вызывая беспокойство и ненависть. Он подхлестнул лошадь, сердито ударил по ее круглым бокам каблуками сапог.
На конном дворе, сдав лошадь конюху, он заглянул в шорную и выругал шорника за лопнувший в пути ремень стремени.
Шорник, чернявый и мелколицый, с кудрявыми штопорами волос, спадавшими на самые брови, ответил с улыбочкой:
— Вы, товарищ Потатуев, любую стремю порвете. Грузны вы очень.
— Я тебе наказывал: изготовь мое седло так, чтобы на сто лет хватило. Завесил глаза, как худая бабенка, не смотришь ими. Во мне не десять пудов, вес для моего роста и возраста нормальный, а тебе зачем-то понадобилось узоры на ремне накалывать!
Потатуев повернулся и, не слушая, что там еще говорил шорник, пошел к дверям.
В углу шорной стояла деревянная койка с лоскутным одеялом, со многими подушками в пестрых наволочках; на ней, накрывшись ватным пиджаком, спал конюх, уютно подкорчив ноги. Потатуев посмотрел на спавшего конюха, на дождь, сеявшийся за окном, и сразу почувствовал зябкую дрожь, усталость.
«Промерз», — решил он и, выйдя на улицу, пошел не в контору, а к себе домой.
Дома было сыро, неуютно. Потатуев притащил из сарайчика охапку дров, растопил плиту и долго стоял у обогревателя, прижав ладонь к чуть теплым кирпичам.
Уборщица принесла свежие газеты, он грубовато выпроводил ее, велел передать в конторе, что ему нездоровится. Она ушла. Потатуев переоделся и, присев к жаркой плите, равнодушно прочитал заголовки статей на первой странице «Алданского рабочего», посмотрел на обороте, и сивые усы его дрогнули: «В бригаде ударника Рыжкова».
«Может, однофамилец», — успокаивая себя, подумал Потатуев и начал читать, но речь шла именно об ороченском Афанасии Лаврентьевиче Рыжкове. Какой-то рабкор бойко расхваливал организатора бригады, сообщал, что он ликвидирует неграмотность, выписывает газету, первым в бригаде погасил подписку на заем.
«Активничает, бородатая каналья!» — зло подумал Потатуев. Руки у него затряслись. Он медленно смял газету, рванул ее и, закрыв глаза, откинулся на спинку грубо сделанного стула. Синеватая бледность разлилась по его лицу. Он похудел и обрюзг за последнее время и сейчас казался совсем старым.
Немного успокоясь, Потатуев встал и заходил по комнате. Его знобило… Он подошел к деревянному шкафчику, налил стакан водки, всыпал туда молотого перцу, размешал, посмотрел на свет, как крутились перчинки, добавил туда же ложку горчицы, взбаламутил дьявольскую смесь и выпил. Сначала у него перехватило дыхание, потом он погладил себя по животу и крякнул.
— На доброе здоровье, — тихо сказали от двери.
Потатуев быстро оглянулся. У порога, как нищий, стоял Быков, держа в руках снятую кепку.
Потатуев кивнул ему и вцепился зубами в кусок сырокопченой ветчины. От выпитой водки тепло разлилось по всему телу. Он подмигнул Быкову, пошел к нему, громко прожевывая закуску.
— Чего опять притащился?
— Видел, как вы домой прошли, а мне позарез нужно…
— Что так приспичило?
— Сняли меня с кузницы, — негромко и виновато сказал Быков.
Петр Петрович дрогнул щетинистой бровью.
— Как это ты?
— Заметили, стало быть…
Потатуев побагровел от гнева.
— Сняли… Сняли! Какого же черта ты ходишь ко мне среди белого дня? Ты и под меня мину подведешь! Что я тебе говорил, когда записку давал? Эх ты!
— Ничего не поделаешь, Петр Петрович. Спасибо, что дело без суда обходится.
— А наработал так, что и судить могли?
— Могли бы.
— Ну и дурак! — вскричал Потатуев сердито и насмешливо. — Рассказывай, да скорее.
— Понапрасну вы боитесь, Петр Петрович. Никто не заподозрит плохого в том, что я к вам зашел. Старатель, и все. В кузнице вот как получилось… — Быков почесал давно небритую щеку, замялся, но, вынужденный быть откровенным, продолжал: — После затеянной Локтевым проверки стали мы обеспечивать ударников хорошим инструментом. Немножко успокоились они. Мы тогда ухитрились… сделали запасец поплоше. Двух рабочих я завербовал с лесоспуска. Когда началась показательная канитель со спаренными забоями, они подменку производили. Осмотрит забойщик инструмент в начале смены, потом пенять не на кого. Ладно все было… А на днях всыпался один… на третьей шахте. Спасибо, не все выболтал! — Быков помолчал, одним косящим глазом посмотрел на Потатуева. — Что мне теперь делать?
— Иди опять на старание, — сказал Потатуев. Он сидел у плиты, прищурившись, сложив руки на животе — пальцы в пальцы. Казалось бы, дремал, но глаза из-под набрякших век блестели ярко. — На шахтах от тебя сейчас толку мало — следить будут, — небрежно заметил он и умолк. Быков, выжидая, ел его глазами. Сивые усы Потатуева шевельнулись было и снова обвисли. — Рыжкова ты знаешь? — спросил он твердым голосом, вскидывая на Быкова неожиданно быстрый взгляд.
— Нет… то есть близко не знаю. А так, вообще, знаю. Как не знать? Старый таежник.
— Таежник! — повторил Потатуев, тяжело вздохнув. — Нет уж вольной тайги. Мелкий народ пошел. Со своими собраниями забрехались совсем! Так бы и посожрали друг дружку! Доносчик на доносчике сидит! — В глазах у Потатуева металась тоска; подошел к Быкову, тронув его за рукав, сказал властно: — Иди к старику, просись к нему в артель. Похвали его, он это любит. Понимаешь?
— Понимаю… немножко.
— Как следует понимай, — укоризненно и наставительно сказал Потатуев. — Я ведь неспроста тебя посылаю: надо его убрать потихоньку.
Быков смутился.
— Рыжкова, что ли?
— Ну да… Кого же еще? — В голосе Потатуева прозвучало нетерпение.
— Что же, мы не против, — глуповато от растерянности сказал Быков. — Можно будет… Только как это устроить половчее? Они с динамитом работают?
— С динамитом редко, только большие валуны подрывают.
Быков сморщил плоский клиноватый лоб, посоображал.
— Когда начнут работать с динамитом, суну ему патрон в забой после взрыва. Станет окайливать породу — и того… Или можно стояки подсечь — этак незаметно подкайлю… Ребята на днях рассказывали… Здорово получается.
— А горные работы хорошо знаешь?
— Не особенно хорошо.
— Тогда про стояки забудь. Сдуру попадешь под обвал сам, а другие останутся. Уж лучше патрон. Самое надежное средство, и подозрения не будет, если до этого отпалку делали. Может, он, патрончик-то, от взрыва уцелел. С умом дело проведешь, потом не пожалеешь. Иди, действуй. Только старайся от меня держаться подальше.
Потатуев прикрыл за Быковым дверь на крючок, истово перекрестился и пошел в спальню.
26
Незаметно у шахтеров вошло в обычай собираться в раскомандировочной задолго до смены.
Здесь узнавали самые свежие новости, обсуждали изменения в забойной технике и работу отдельных звеньев.
Егору нравились эти шумные сборища. Недавно его смена с первой ороченской шахты была переведена на богатый прииск Средний, расположенный тоже на Ортосале, между Ороченом и Незаметным. Он еще не обжился на новом месте, скучал по Марусе и все свободные часы проводил возле шахты. «Вроде клуба получается, — думал он, сидя на подоконнике. — Хорошо, когда много дружного народа!»
Сегодня он выходил в первый раз на три забоя.
Мишка Никитин подоткнул за голенище резинового сапога все время вылезавшую штанину случайно подмененной спецовки, критически огляделся и спросил:
— Если у тебя в спаренном выходило до семи с половиной кубометра на человека, так неужели можно еще больше подать?
— Подадим, — сказал Егор, наблюдая за Мишкиными стараниями — соединить короткие не по росту штанины с низкими сапогами.
— Как ты можешь хвалиться заранее? — сказал чернобородый Григорий, протискиваясь поближе и посверкивая одиноким глазом.
— Это не похвальба, а расчет. Через полмесяца я перейду на четыре забоя, а потом на пять.
— Ты что, обалдел? — спросил Григорий удивленно и серьезно.
Егор засмеялся, понимая, насколько странными кажутся рабочим его намерения.
— Все дело в том, чтобы создали условия. Тут можно многое улучшить: ведь смотритель главным образом надзирает за тем, как бы мы не похитили золото, а не старается лучше использовать людей. Раскомандировку мы получаем по порядку номеров, и верховые получают назначение в последнюю очередь. А от них зависит подготовка забоя. Так ведь? Я хочу внести предложение… Сменный мастер должен учитывать квалификацию каждого человека, чтобы расстановка рабочих была правильная. Пускай подсобные получают раскомандировки в первую очередь, и тогда нам, забойщикам, будет легче работать.
Забойщик Точильщиков, склонив набок круглую, словно обточенный голыш, голову, внимательно слушал Егора, прижмурив глаз от едкого дыма папироски. В прошлом году он, как бодайбинец, считался опытным, а нынче ему приходилось переучиваться у молодого Егора Нестерова.
Егор спустился в шахту за пятнадцать минут до смены, осмотрел, в каком состоянии находятся отведенные ему забои, проверил качество инструмента. Шесть его откатчиков явились без опоздания, как один, и он начал подкалку в первом забое.
Хронометражистка ссутулилась над тетрадкой в стороне. Тачка нагружается за пятьдесят секунд. Движения откатчиков быстры и размашисты. Кажется, Егору не успеть за ними, но он работает по-новому. Он движется в забое спокойно, удар его кайла скуп и легок. За этой легкостью строгий расчет, об этом говорят внимательный прищур глаза, твердо сжатые губы. Ударить слегка, но там, где нужно. Куча накайленной породы все растет.
— Вася! — негромко говорит Егор, и подается стойка. За две минуты завешивается огниво… другое. Кивок головы: «Давай!» — и острая скоба впивается в дерево. То время, когда полтора кубометра считались лучшими показателями, кажется всем глубокой древностью.
Егор завешивает третье огниво и идет во второй забой. Три огнива были пределом рабочего дня несколько месяцев тому назад, а сейчас это сделано в начале смены. Над бровями Егора капельки пота. Он стирает их тылом ладони и начинает подкалку второго забоя, потом переходит в следующий. Когда он возвращается в первый забой, вид у него совсем свежий. Восемь огнив в трех забоях завешано в тридцать шесть минут. Теперь Егор разрешает себе перекинуться парой шутливых слов с товарищами и снова берется за кайло.
А наверху, в раскомандировочной, шумно: собралась вечерняя смена, пришли и те, кто работал в утренней. Ожидали приезда с Незаметного представителей обкома союза горняков и райкома партии.
Больше всего шумел и суетился кривой Григорий. Он принимал участие в соревновании с таким же увлечением, с каким раньше искал золото, и каждый день ругался из-за этого с Катериной, никак не понимавшей его спортивно-делового азарта. Впрочем, Катерина, сама внушившая мужу мысль о переходе на хозяйские, тоже была очень занята: водкой она уже не торговала — веселый шинок ее на Пролетарке давно растащили на дрова, — а, поселившись на Среднем, наряжалась, «наводила красоту» и гуляла по шоссе с молодыми парнями.
«Остатнюю дурь вытряхивает», — решил Григорий и по выходным дням почти не заглядывал домой — проводил время то в доме ударников, то возле шахты.
Молоденький откатчик пощипал светлый пух первых усов, вытер широкой ладонью румяные губы и сказал озабоченно:
— А вдруг Егор выдаст меньше, чем в двух забоях?
— Не может быть! — возразил Григорий.
— Почему не может быть? Очень просто — какая-нибудь заминка выйдет.
— По хронометражу уже известно, что за первую половину смены он дал больше, чем вчера.
В разговор вступило еще несколько человек.
— Говорят, раньше всю Ортосалу прочили под дражный полигон. Драги прошли бы поверху, а золото внизу осталось.
— На наше счастье, успели только одну поставить.
— И та несколько раз тонула. А то вовсе бы площадь испортила.
— Пускай теперь после нас по отработкам идет.
На крыльце у открытой двери затопали, шум голосов усилился, и кто-то закричал мальчишески звонким тенорком:
— Приехали! На двух машинах!
Близко послышались гудки автомобилей, потом выстрелила лопнувшая шина.
— В аккурат довез!
— Догнал до отказу!
Брезентовые шляпы и спецовки слились в один беспокойно-веселый поток, замедлявший течение в узком горле двери, где все теснились, торопясь выйти. Крепыши шахтеры шутя толкались на ступеньках крыльца, неуклюжие в своей грубой одежде и резиновых сапогах. Почему не поиграть, когда хорошее настроение? И они играли, поддавая друг другу ядреные подзатыльники, сшибались плечами, таранили тесные группы. Слабенькому человеку от таких шуток не поздоровилось бы.
Возле высокого шахтового копра стояли приезжие с Незаметного и ороченские ответственные работники, окруженные растущей толпой. Смуглое лицо Сергея Ли, который тоже чувствовал себя именинником — разве он не подхватил начинание своего приискового ударника? — цвело сдержанной улыбкой. Но он заметно волновался, желая триумфа Егору Нестерову, — а через него своему профсоюзному комитету, — и потому, то и дело отвлекаясь от гостей, шептался то с Черепановым, то с заведующим шахтой. Солнце сияло в светлых изгибах труб духового оркестра клуба, и стоявшие вблизи люди щурились от этого ослепительного блеска.
Над отвалами кулибины[15], над бревенчатой вышкой копра с красным флажком, всхлопывающим на ветру, голубело августовское небо. Желто-серый цвет одежды шахтеров, почти сливаясь с цветом приисковых отработок, роднил их с окружающей обстановкой. Как будто земля отмечала тех, кто спускался в ее недра, и вид любого из них сразу напоминал о забоях и золоте.
Все рабочие интересовались предстоящей встречей, большинство радовалось. Было шумно, потом кто-то крикнул:
— Идут!
Все притихли, и в настороженной тишине послышался глухой топот шагов и голоса выходящей смены. А цифра уже обгоняла их, передаваясь от одного к другому среди ожидающих.
— Девять и шесть!
— Девять и шесть за смену!
— Девять и шесть десятых кубометра на человека!
Все почтительно расступились, давая дорогу, и самые отсталые звенья смены выходили с таким самодовольным видом, словно и они содействовали победе новаторов.
— Идут!
— Идет!
— Ура Нестерову!
— Егору Не-естерову!
Широкие горла труб уставились навстречу героям дня; громом туша, солнечными отблесками приветствовали группу шахтеров, усталых и улыбающихся. Прижмуриваясь от света, медленно выходили они из двери шахты.
Нестерову и его звену передают цветы, произносят речи. Он снимает шахтерку, вихрастый, сероглазый, и отвечает на приветствия. Солнце смуглит его большой открытый лоб, он щурится, улыбаясь чуть смущенной улыбкой. Говорит громко. Его слушают. Ему весело подмигивают. Показывают руку с оттопыренным большим пальцем: «Во, дескать, молодец!»
Улыбка Егора становится шире. Он рад общему сочувствию. Когда он умолкает, опять, как взрыв раздается шум голосов. Гремит музыка. Взлетают над толпой шляпы и кепки. Перекрывая весь шум и гвалт, взвивается давешний задорный теноришко:
— Молодец, Егорка! Не подкача-ал! Ура-а!
— Ура! — подхватывают шахтеры вечерней смены и смеются, торопливо стуча сапогами по лестницам.
27
После митинга Егор не нашел Мишку в помещении раскомандировочной. Удивленный и немножко обиженный поспешным его уходом, он нарочно не торопился домой: «Пускай теперь меня подождет».
Держа под мышкой, точно банный веник, огромный букет из махровых астр, левкоев и георгинов, Егор медленно шел по прииску. Он был доволен удачным днем, очень растроган общим вниманием и даже этим неудобным, стеснявшим его букетом.
Было часов семь вечера. Светло желтели новые постройки прииска, широко раскинутого по долине. Везде виднелись груды еще не убранной щепы, а грузовики и тракторы все подвозили смолисто-пахучие лиственничные бревна. Егор остановился против еще не достроенного клуба и засмотрелся, как споро и ловко докрывали плотники крышу.
— Сменился, Егора? — окликнул его знакомый голос.
Егор поискал взглядом и в проеме высокого окна увидел маленькую головку Фетистова.
— Ты чего там?
— Да вот… работаю.
Егор поднялся наверх по качавшейся доске, сел на гладко оструганный подоконник (рам в окнах не было) и, свесив ноги, посмотрел на столяра. Тот, без шляпы, в брезентовом переднике, топтался у верстака в ворохе стружек. Свободно гулявший по будущему клубу ветер шевелил его реденькие волосы.
— Чего это? — спросил он парня, подмигивая на букет. — Или поднести хочешь?
— Самому поднесли, — с гордостью ответил Егор. — Мы сегодня без малого по десять кубометров на брата подали.
— Да ну? — испуганно и весело вскричал Фетистов; отложив рубанок, подошел к Егору, взял букет, лежавший у него на коленях и, жмурясь от удовольствия, понюхал… — Обожаю цветки, ароматы душистые. Бывало, в Малом театре бенефис чей-нибудь… Натащут букетов… Розы там всякие, гвоздики, эти самые, как их… горденции… Кайлом работал? — спросил он, обрывая свои воспоминания.
— А то чем еще? Так же, как все.
— Скажет! «Как все»! Кто цветы-то подносил?
— Встреча была. С Незаметного приехали и наши.
— С музыкой?
— С музыкой, — ответил Егор, и неудержимая улыбка появилась на его губах.
Фетистов легко вздохнул.
— Похлеще артиста чествуют. Теперь Марусенька твоя тоже возгордится.
Возле своего дома Егор встретил Мишку. Никитин в темно-сером шевиотовом костюме и при галстуке выглядел франтом.
— Куда ты так быстренько собрался?
Никитин лукаво сощурил тяжелые веки, тонкие лучики морщинок легли на висках.
— Я начинаю определяться. Знаешь Нюсю… работает мотористом на второй шахте? Еще у нас на Орочене бадейщицей была. Помнишь? Эх ты! У тебя память на девок словно у столетнего старика. Ты не обижайся, что я тебя с собой не зову… Сам понимаешь!
Никитин улыбнулся и пошел, пошевеливая на ходу широкими плечами; сипловатым тенорком негромко запел:
И за милого, за кирпичики Полюбила я этот завод…Но вдруг он круто повернул обратно и посвистел. Егор оглянулся с крыльца. Мишка медленно возвращался, точно напоказ переступая новыми ботинками. Выражение лица его было уже не озорное, а мучительно-напряженное, даже как будто виноватое.
Положив руки в карманы, слегка качнувшись с пятки на носок, он посмотрел на приятеля и сел прямо на ступеньку.
— Что? — спросил Егор, прислонясь к перилам.
— Хочу проситься в партию! Как ты думаешь?
— Заявление подать надо…
— Боязно! Один раз исключили, да еще теперь откажут… Может, мне сперва жениться? Ты не смейся… Меня ведь крыли по бытовой линии, в остальном я за собой плохого не знаю. Пил? Верно, пил. За бабами бегал? Бегал, не отрицаю. А теперь хочу решительно сократиться и по этой части.
— Поговори с Черепановым, — сказал Егор, сочувствуя Мишкиной идее, но не веря в ее осуществление. — Заслужить надо. Активистом настоящим сделаться.
— А ты?.. Давай вместе!
— Нет, я еще не годный… Чего-то у меня еще не хватает. Это ведь не просто — пошел да записался…
— Ну, ладно. — Мишка встал, отряхнулся. — Я и вправду поговорю с Мироном Устинычем. Пускай посоветует.
Нестеров долго смотрел вслед товарищу. Вот он идет, ударник Мишка Никитин, и невольная улыбка пробивается у тех, кто знал его года два назад беззаботным гулякой-старателем.
Теперь его по виду не отличишь от техника, а давно ли, увидев прилично одетого служащего, он говорил, сплевывая: «Гляди, Егорка, лягавый!»
«Сам галстук нацепил! Ишь, вышагивает!» — с грустной нежностью думал Егор, очень привыкший к Никитину за последнее время. Почему ему стало грустно, он не знал и, не торопясь сдать спецовку в сушилку уборщице, все стоял на крыльце, занятый новыми мыслями.
«До чего же еще низкое понятие у нашего брата! Боимся мы одеваться по-человечески! Галстук кто наденет — так целое событие. Шляпы у нас носят только китайцы да старатели. По нашей моде шляпа к широким шароварам идет. Деньги копить тоже не умеем: что ни заработаем, либо пропьем, либо в карты проиграем».
Егор сходил в душевую, умылся и надевал в своей комнате чистую рубашку, когда в дверь постучали.
— К телефону!
— Откуда? — спросил удивленный Егор и без пояса, босиком опять вышел в коридор.
— С Орочена, девочка какая-то, — с хитрой усмешкой сказал Точильщиков, тяжело ступая впереди.
В красном уголке, возле стола с газетами и шахматами, висел телефон. Неловко сняв трубку, Егор приложил ее к уху и замер, поглядывая на таинственную разговорную коробку.
Точильщиков, подсевший было к шашечной доске, за которой его ожидал партнер, удивленно оглянулся на Егора.
— Не так держишь. Другим концом к уху! Да сначала повесь и позвони. Вот так. — Он позвонил сам и, округлив глаза, заорал в трубку: — Але! Але! Орочен? Подстанция? Соедините обратно с Ороченом. Отбою еще не было, а вы разъединяете! Але! Это Орочен? Вы спрашивали Нестерова? Давайте говорите! — Точильщиков передал трубку Егору, добродушно похлопал его по спине. — С милашками вашими партию никак не доиграем: звонят и звонят! Вот здесь прижми пальцем, а то ничего не услышишь.
— Это я… — нерешительно сказал Егор и насторожился. Где-то далеко зазвенел милый знакомый голос. Что говорила Маруся, он от волнения не мог разобрать и только крепко прижимал к уху телефонную трубку. У него даже пальцы побелели от напряжения.
— Эка ухватился! — заметил снова, не вытерпев, Точильщиков. — Да ты скажи ей хоть что-нибудь. Чего молчишь, как зарезанный? Скажи, слушаю, мол.
Егор посмотрел на него сердито, но в трубку сказал:
— Я слушаю, Маруся! — и тогда совсем близко услышал ее голос:
— Я думала, ты уже ушел. Слушай, Нестеров, приезжай к нам в выходной. У нас будет гулянье.
— Обязательно приеду! — пообещал обрадованный Егор. Он поглядел на пальцы своих босых ног, видневшиеся из-под наглаженных брюк, тихонько сказал: — Соскучился я. — И торопливо добавил, смущенный, хотя шахматисты уже не обращали на него внимания: — Сегодня мы работали в трех забоях… Подали по девять и шесть… Ты слушаешь, Маруся?
— Конечно! Молодец, Егорик! Ты даже не представляешь, как я горжусь тобой. Я очень буду ждать тебя.
Вдруг другой женский голос, резкий, сухой, спросил:
— Кончили? — в трубке что-то треснуло, и наступила тишина.
— Маруся? — спросил Егор, подождав, но она не ответила, а в телефоне разом заговорило несколько незнакомых голосов. Осторожно повесив трубку, Егор пошел к себе, тихо ступая по прохладным, чисто вымытым половицам.
«Я буду ждать тебя! Я очень буду ждать тебя…» — шептал он, слепо идя по коридору. «Егорик». Неужели это она так смешно и хорошо назвала его?
28
Маруся в легком цветастом платье то и дело выбегала на крылечко и, ожидая Егора, смотрела вдаль на изгибы шоссе. Он подошел незаметно с другой стороны и залюбовался, как стояла она, держа руку щитком над глазами.
В огородиках никла подсыхавшая ботва картофеля, устало припадали к шестам цепкие завитки побуревшей фасоли. Пахло шафраном. Окна домов были открыты. Куры вяло рылись в мягкой земле у завалины.
— Маруся! — окликнул Егор.
Девушка стремительно обернулась.
— Наконец-то! — воскликнула она, не скрывая радости, обжигая его блеском глаз и улыбки. Лицо ее под светящимися на солнце волосами зарделось ярким румянцем. — Пришел! Пришел! — повторяла она весело, не отнимая рук из ладоней Егора.
— А мы заждались. Где, мол, наш сокол замешкался? Все глаза проглядели! — сказала Акимовна, одетая в синюю сбористую юбку и светлую поплиновую кофточку. — Пойдем, старик! — поторопила она Рыжкова. — Бери корзину-то!
Замкнула дверь и заспешила, словно в дни молодости, к Рыжкову, уже стоявшему возле дома.
Егор и Маруся пошли следом по улице прииска, все жители которого (как и Рыжковы) шли в ту сторону, где проводился праздник.
Трава у придорожных канав начинала желтеть; в зарослях кустарника красновато курчавились листья, сожженные первыми утренниками. Просторно-широкой лежала теперь долина, и редко где зеленело на ней еще не срубленное дерево. На порубках всюду белел, лоснился шелком серебристый пух отцветшего иван-чая.
— Лесу-то даже на поглядку не осталось. А помнишь, какая тайга тут стояла, когда мы ходили на Незаметный? — сказал Егор и взял Марусю под руку. — Наши ребята и девчата приехали сюда на четырех машинах. Мишка вдвоем с Нюсей.
— С какой Нюсей?
— С невестой. Он ведь тоже жениться хочет.
Маруся вспыхнула, вскинула на Егора длинные ресницы.
— А кто еще собирается жениться?
— Я и Маруся Рыжкова, — сказал он, счастливо улыбаясь и засматривая ей в лицо. — Я теперь уверен, что ты за меня пойдешь.
Вместо ответа она прижалась к нему плечом, и он притих, стараясь шагать в ногу с нею.
«Ишь воркуют! — подумал Рыжков, с удовольствием прислушиваясь к их разговору, но не оборачиваясь, чтобы не мешать им. — Дело, кажись, пошло на добрый лад. Даст бог — доведется нам с Аннушкой внуков понянчить!»
Он посмотрел на идущую рядом жену. Акимовна шла, придерживая обеими руками кружево черного шарфа, слегка наклонив бледное, но еще красивое лицо. В темных волосах ее, просвечивавших сквозь узорчатое шелковое плетенье, серебрилась седина: немало пережито от неспокойной жизни в тайге. Хватили горя сполна, но никогда не корила его Акимовна за любовь к таежным скитаниям. Подумав об этом, он совсем растрогался, хотел сказать жене что-нибудь нежное, но только подкашлянул, глядя на нее и, встретив ответный ласковый взгляд, по-молодому весело подмигнул: знай, мол, наших!
За Ортосалой уже шумело гулянье. Здесь речка текла вольно. Перейдя ее по мостику, Рыжковы и Егор начали присматривать себе удобное местечко.
На поляне играла музыка и плясали веселые пары, окруженные шумливой толпой. Тут же шустрый затейник в голубой майке проводил массовые игры. Всюду под деревьями и кустами сидели группы нарядно одетых людей.
У высокого куста стланика Рыжков остановился, воткнул палку в дерн и заявил:
— Лучше этого места теперь не найти. Здесь и устроимся, а то старуха совсем уж заморила меня голодом.
Пока Акимовна, ползая на коленях, расстилала холщовую скатерть и разбирала содержимое принесенной корзины, Маруся и Егор затерялись на поляне, где играла молодежь.
Вокруг затейника кружился двойной цепью пестрый хоровод. Маруся приподнялась на цыпочки, осмотрела играющих. Лицо Никитина мелькнуло в толпе, и она помахала ему рукой.
— Кому это? — спросил Егор.
— Мише…
Рядом играли в жгуты. Раскрасневшаяся дивчина наскочила вдруг на Егора и начала пороть его ремнем. Изумленный неожиданным нападением, он начал было защищаться, но Маруся, задыхаясь от смеха, крикнула:
— Беги! — и он побежал нехотя, но, подхлестнутый покрепче, ударился рысью.
Пробежав круга два, он наконец сообразил, в чем дело, и втиснулся на пустое место. Маруся стояла напротив, а рядом с ней Егор увидел Мишку и Нюсю — рыжеватую блондинку с молочно-белой шеей. На румяных щеках ее порхали веселые ямочки, глаза смешливо щурились.
«Похоже, выбрал себе Мишка ровню по характеру», — подумал Егор. Тут его снова стегнули. Он заскочил в круг, потом метнулся обратно, выхватил у долговязого парня ремень и погнал его самого, сопровождаемый хохотом зрителей.
Сложенные за спиной руки Маруси дрожали от смеха. Мишка, не оборачиваясь, показал ему кукиш. Егор подбросил ремень Нюсе и пошел дальше, делая вид, что прячет его под пиджаком. Но избранница Мишки оказалась очень энергичной, и Егор сразу убедился, что она умеет не только смеяться.
Когда они вчетвером подошли к занятому Рыжковыми участку, там сидела целая компания.
Старик Фетистов, уже веселенький, встал и приветствовал молодежь довольно связной речью… Точильщиков, тоже успевший заложить, в новой шляпе и желтых крагах, сверкавших под напуском шаровар, тихонько наигрывал на двухрядке «Бродягу».
Мишка облапил Фетистова и, пошатывая его, говорил ему нараспев в маленькое, заросшее, словно у лешего, ухо:
— Женюсь! Правду ты сказал! Парочку я себе нашел. Ах ты, столяр, столяр, а где же твоя столяриха?
— Померла. Вдовею уже лет двадцать. И столяренков нет. Неотродливый я, как еловый пень.
Мишка взял старика в охапку и, дурачась, баюкая его и жалобно причитая, обежал с ним вокруг куста.
— Не ушиби ты его! — кричала Акимовна, вынимая из корзины холодное мясо, водку и две бутылки черемуховой настойки. — Это молодому упасть с полгоря, а под старые-то кости черт борону подставляет.
Рыжков принес от костра чайник с кипятком, и все начали усаживаться на траве возле скатерти, уставленной стаканами и закуской.
— Ну, Анюта, давайте выпьем за вашу будущую жизнь! — сказал Фетистов, принимая свой стакан из рук Афанасия. — Мишка, он ха-ароший парень!
— Откуда вы узнали, как меня зовут?
— Тут и узнавать нечего: самые ходовые в тайге имена — Марьи да Анны. Ежели какая новенькая, говори сразу: Марья Ивановна, а если нет, так Анна Ивановна наверняка. Одна-единственная была Надежда Прохоровна, и та погибла! Подумать только, я ведь ее перед самой смертью видел! Очень мне обидно: кабы я попозднее пришел, я бы этого бандюгу встретил!
— А что ты с ним сделал бы? — сказал Рыжков. — Он бы тебя одним щелчком уничтожил.
— Ох, елки с палкой! Как ты, Афоня, толкуешь? Я бы ему засветил чем-нибудь тяжелым промеж глаз… Главное — сопротивление оказать. Они такие поблуды: чуть что — всегда трусу празднуют.
— Какую женщину загубил! — с сердцем сказала Акимовна. — До сих пор она у меня в глазах стоит; работала, будто каторжная, и слез столько пролила!.. Выпала злая недоля доброму человеку! А чего стоил этот Забродин? Форменный мизгирь![16]
— Ведь его ухайдакал кто-то, — неторопливо сообщил Точильщиков, снимая с плеча ремень двухрядки.
— Кого? — спросила Акимовна, не веря своим ушам.
— Забродина.
— Чего же ты молчал до сей поры?!
— А вы разве не слыхали? Ребята на АЯМе вечор сказывали. Охотники нашли мертвяка в тайге, а после на зимовье здешние опознали в нем нашего паразита. Жаганом его бахнули да еще вдобавок заряд картечи всадили, какой козлов бьют!
— Слава тебе, господи! — истово перекрестилась Акимовна.
— Разве полагается, мамаша, по такому случаю господа славить? — серьезно обратился к ней Мишка.
— Кабы это леший его подвел к смерти, я бы и лешему спасибо сказала. Бирюк подлый! И надо же было Марусе подобрать его тогда! Пусть бы околел на дороге!
Шумная компания притихла, а Акимовна отвернулась, начала рыться в корзине, выбрасывая смятую бумагу, незаметно вытерла глаза.
После того как на скатерти остались одни крошки, кости да яичная скорлупа, всем стало веселее, попросили Мишку сплясать.
— Наелся я, как дурак на поминках, тяжело будет, — сказал он шутливо, но вышел. Он был в ударе, и после него многим захотелось плясать.
Начал подходить народ, гулявший по соседству. Горняки сначала подтопывали, стоя в стороне, потом зуд в ногах становился нестерпимым, и они выскакивали один за другим, выделывая разные коленца.
Рыжков поглаживая бороду, посматривал то на неуловимо быстрые пальцы гармониста, то на плясунов. Они не жалели ни себя, ни травы, и земля летела ископытью из-под их тяжелых сапог. А зрители еще подзадоривали их, громко хохотали, глядя на особо старательных.
— Ох, и хороша выступка!
— С кондачка берет.
Ты, старуха, на носок, А я, старик, на пятку… Ты, старуха, подбодрись, А я, старик, вприсядку.— Пошел! Пошел! Отдирай — примерзло.
— А-ах, батюшки, какую утолоку учинили! Будто сохатые дрались. Весь мох вытоптали!
Неожиданно, словно его кольнул кто, Рыжков подкинулся на месте, стянул назад сборы широкой рубахи, вышел и развел руками, вызывая охотника. Синие глаза его сияли усмешкой.
— Тятя-то! — вскричала Маруся, не ожидавшая от него такой прыти, и всплеснула руками.
Акимовна, покраснев от волнения, отвернулась.
— Срам-то, господи! Ведь не сможет: под старое тулово молодых ног не подставишь!
Но он уже плясал, легко и просто, с ухватками матерого медведя. Своеобразная дикая грация его сильных движений понравилась всем, а он, припоминая молодость, расходился больше и больше и наконец совсем забил своего юркого партнера. Плясал и даже покрикивал:
— Эх, раз, по два раз, кто подмахивать горазд!
Обаяние мощи и почти детской радости исходило от него, и Акимовна, не в силах сдержать улыбки, сказала ворчливо, но примиренно:
— Статочное ли дело этак скакать пожилому человеку! Ишь ведь! Ишь! — приговаривала она, невольно любуясь, как, откинув руку, подбоченясь другой, отхватывал он машистой присядкой.
А он завертелся на месте и вдруг, заложив пальцы в рот, полоснул слух зрителей оглушительным свистом. Старик Фетистов смеялся до слез:
— Ну и Афанасий, чистый Соловей-разбойник. От такого посвисту и взаправду трава поляжет и цветы осыплются. Талант в человеке скрывается! Ох, елки с палкой! Сплясал бы и я, да у меня подколенные пружины подносились.
Когда усталый Рыжков сел на свое место, молодежь разбрелась по лесу. Егор и Маруся прошли под большими соснами сквозь подлесок из высокого стланика, миновали поляны, покрытые светлыми мхами, заселенные пирующим народом, и очутились на берегу Ортосалы. Большие валуны, окаймленные белоснежной пеной, серели там и сям по руслу. Белели стволы и прополосканные половодьями корни поваленного бурелома. Голубизна неба и зелень леса, подступавшего местами к самой реке, дробились отражением в живом хрустале звенящей воды.
— Вот она здесь какая… непричесанная. Не добрались мы еще до нее, — сказал Егор весело. — Красивая, правда? Но ты красивее всего. — Он обнял Марусю, притянул к себе и поцеловал.
— Постой! — Она обеими руками ласково отстранила его. — Давай посидим. — И первая, подобрав широкий подол платья, опустилась на теплый береговой камень.
Егор сел рядом, снова обнял ее.
Маруся заглянула в его разгоревшееся лицо, придвинулась еще ближе:
— Егорушка, я давно хотела тебя спросить… где ты был тогда ночью?.. Ну, помнишь, перед арестом?
Егор помрачнел, опустил голову.
— Что ты молчишь? — настаивала она уже тревожно. — Смотри на меня! По бабам, наверно, ходил…
Он скорбно улыбнулся.
— По бабам.
Маруся вспыхнула, сделала попытку освободиться, но Егор сжал ее в кольце рук и сказал умоляюще:
— Пошутил я. Зачем тебе это знать? Столько времени прошло… Подожди, не сердись! Ну… Хотел я золота украсть.
— Украсть? Ах, Егор, как же так? — Она медленно поднялась. — Где ты его надумал… взять?
— В соседней свердловской шахте, — сказал Егор упавшим голосом. — Хотел приодеться. Перед тобой все тянулся. Только ни одного золотника не вынес. Тогда у них старые пайщики уходили в жилое. Говорили — ночной смены не будет. Я вечером прошел от Ортосалы по штреку… Шахту знал. Прямо к богатому забою. И вдруг слышу… идут. Только успел заскочить в отработанную просечку. До утренней смены сидел за камнями.
Егор еще сильнее понурился и затих, как пришибленный. Маруся, нахмурив брови, стояла на камне и отчужденно смотрела в сторону. Но несмотря на этот холодно-надменный вид, в душе ее вихрились самые горячие чувства: возмущение отступило перед жалостью, нежность вытесняла стыд за проступок милого друга. И наконец девушка опустилась рядом с ним на землю, стоя на коленях, приподняла его голову теплыми ладонями.
Они не заметили, как из-за леса надвинулись темные громады туч, отсвечивавших по солнечному краю ослепительной белизной, и спохватились только, когда стало свежо и начало погромыхивать.
По всей долине спешили теперь из лесу гуляющие. Мальчишки, оседлав тальниковые прутья, с криками скакали по шоссе в розоватых облаках пыли. Ветер гнул тайгу, свистел в проводах, раздувал платки и юбки женщин, тащивших маленьких ребятишек. Мужчины несли корзины с посудой. Те, кто крепко подвыпил, остались на месте и спали на мхах под кустами, не слыша приближения грозы.
Стало совсем темно. Сплошная желто-серая, местами черно-лиловая туча зонтом накрыла долину. Края ее, истаивавшие и рваные, свешивались между горами. Невидимое солнце еще светило сквозь мутный провал пыльно-белыми, опущенными книзу лучами. Но туча, двигаясь, наглухо закрыла его. Ветер стих, и в этой минутной тишине молния с сухим треском распорола черноту неба.
Акимовна и Рыжков едва успели дойти до крайних бараков, как все содрогнулось, сотрясаемое громовым взрывом. Упали первые тяжелые капли, покатились, как дробинки, зарываясь в мягкую пыль на дороге. Косой холодный дождь, сбиваемый ветром, зашумел по крышам, сразу зачастил, стелясь над самой землей седым туманом мельчайших брызг.
Рыжков хотел бежать во дворик, обнесенный плетеной изгородью, но Акимовна потянула его под навес крыши.
— В помещении и без нас полно! — крикнула она, придерживая рвущийся из рук подол юбки. — Переждем тут. Я не боюся!
Барак стоял в низине, где когда-то рос ельник, а сейчас мокро блестели кусты жимолости и густой голубичник. Серебристый тальник мотался вблизи за дамбой.
Сквозь частую сетку косого дождя бело-голубыми всполохами сверкала молния. При каждом ударе грома Акимовна торопливо крестилась и, молодо поблескивая глазами, хваталась за руку Афанасия.
— Редко ведь в здешних местах бывает гроза, а вон как расходилась!
— Маруся-то где же?
Потом дождь перестал, и сизые клубившиеся тучи медленно двинулись к востоку. Внизу, у хмурого их края, чуть отстав, плыло жемчужно-белое облако. Засинело омытое ливнем небо, но гром еще погромыхивал, и тогда Рыжковы увидели Егора и Марусю. Егор держал ее за руку, и оба, промокшие до нитки, громко хохотали.
Крутая радуга перекинулась живым прозрачным мостом между горами, а на юге, где туча желтым маревом опускалась в долину, еще шел дождь. Казалось, уходящая грозовая громада не в силах была сразу поднять свою тяжесть, и волочила за собой по земле рваный край дождевой завесы.
29
В новом клубе было очень людно и празднично. Ослепительно сияли под потолком большие электролампы.
— Абажуры надо бы, — Фетистов посмотрел вверх, запрокинув морщинистое бритое лицо, в раздумье пожевал сухонькими губами. — Весь свет в потолок уходит, потому как не в чем ему отразиться. Свет — та же волна. Ежели она ударилась обо что-нибудь, так шибает обратно с двойной силой.
— Выдумывай! — недоверчиво сказал Егор.
— Что мне выдумывать? Это наука доказывает. У меня, Егора, мозги-то уж плохо шевелятся. Скинь мне годов тридцать, и я при нонешних порядках академию какую-нибудь прошел бы, чтобы после нее полное прояснение в мыслях иметь. Есть ведь такие академии по плотницкому делу — строители там учатся, архитекторы… Я бы тогда сгрохал такой театр — приходи, кума, любоваться! И чтобы мне было отведено в нем постоянное кресло.
При последних словах глазки столяра так залучились, словно он уже видел перед собой это заветное кресло.
— Слышь… Егора… Да будет тебе высматривать! За ороченскими машину только-только отправили.
Пока собираются да чапурятся, время-то дивно пройдет. Ты тоже вон какие зачесы устроил. Тебя и не признаешь. Постой! — Он схватил Егора за рукав, но, увидев Рыжковых, отступился от парня. — Вот она, любовь-то, что делает с людьми: минуты не посидится ему спокойно! Но молодец — сумел-таки завоевать Марусино сердечко. — Старик вспомнил далекую молодость: тоже ведь «прихрамывал» за своей столярихой, вздохнул и начал осматривать публику.
Теперь, за неимением слушателей, дед разговаривал сам с собой. С каждым годом он становился все болтливее, но и послушать любил. С одинаковым вниманием слушал он и лекцию о детских заболеваниях, и вздорные басни уральского рудознатца, «колдуна» Евтея, и доклад о международном положении. Чем только не была напичкана его седая голова!
«Дорога мне речь людская, — возражал он, когда его упрекали в склонности почесать языком. — От моего разговору вреда никому нету, потому что я не вредный. Мне теперь недолго осталось покрасоваться, на том свете надоест молчать».
Отстав от Егора, Фетистов стоял один возле сцены, заложив пальцы сморщенных рук за ремень, и, разглядывая людей, бормотал вполголоса. — Было бы столько мест, сколько жителей, все бы, наверно, пришли? Ну, мы, клубные работники, для того и существуем, чтобы продвигать культуру в массы. Создать ударнику культурный отдых! Очень серьезная задача, елки с палкой! Чисто стал одеваться народ, даже нарядно! А вот эта-то накрасилась! Ты, матушка моя, не на сцене. Тут будем ударников чествовать, открытие клуба, а ты явилась, как рыжий клоун. Вот еще Катерина расфуфырилась и намалевалась безо всякого понятия о вкусе. Не знает меры ни в чем! А вон Сергей пришел с Лушей! Женщина — ничего не скажешь. И прическа аккуратная, и наряд, и собой симпатичная. А что это Афанасий какой-то чудной сегодня? Он будто — и не он… — Фетистов привстал на цыпочки, вытянув тонкую жилистую шею, чтобы получше рассмотреть, что сталось с Рыжковым. — Побрился ведь! Бороду снял, ох ты, елки с палкой! — И Фетистов торопливо устремился туда, где сидел старатель.
— Ну здравствуй, здравствуй! — заговорил с ним Рыжков, улыбаясь. — Что же ты от нас удрал? Не сиделось тебе на Орочене?
— Мое дело такое! Опыт у меня, вот и перевели, — добродушно похвастал Фетистов, с детским любопытством разглядывая Рыжкова вблизи. — Закончим полное оборудование на сцене, тогда, может, обратно переберусь. А ты как это надумал… бороду-то?
— Не одному тебе бритому ходить. — Рыжков провел ладонью по непривычно голой щеке. Белая кожа, сохраняя след бороды, резко выделялась на загорелом лице, подстриженные усы не закрывали губ. Как будто Афанасию приделали заново незнакомый Фетистову подбородок с приметной родинкой и двумя глубокими морщинами по сторонам рта. — Премию буду получать сегодня, — продолжал Рыжков, довольный впечатлением, произведенным на старика. — Неловко на сцену с бородой лезть.
— Да ведь тебя не раз уже премировали, — возразил Фетистов, не удовлетворенный объяснением.
— Мало ли что! Не было, значит, особой необходимости, а теперь неудобно… Сядешь за стол, в бороде крошки застревают.
— Верно, — одобрил Фетистов и, примостившись рядом с Анной Акимовной, явно недовольной поступком мужа, облокотился на спинку передней скамьи, чтобы видеть все лицо Рыжкова. — Я тоже из-за этого самого бреюсь уже лет тридцать.
После второго звонка Фетистов встал, суетливо одернул новую рубаху.
— Идти мне надо. Я ведь здесь тоже у занавеса.
На сцене с потолка свешивались красные полотнища. В глубине на высокой подставке, тоже убранной красным, стоял бюст Маркса. Посмотрев на его бороду, Рыжков сразу пожалел о своей.
«Жил человек — не нам, малограмотным, чета, а бороды не стеснялся».
Справа от Маркса портрет Ленина с вытянутой рукой, как будто звал Ленин приискателей или приветствовал. Рыжкову вдруг показалось, что прищуренные глаза вождя смотрят прямо на него. Он попробовал податься в сторону «Все равно смотрит!» Изумленный, он подвинулся в другую сторону… Но тут на него заворчала Акимовна.
— И чего юзгаешься?! — сказала она тихонько, вытягивая из-под него примятую юбку.
Тогда он присмирел и начал наблюдать, как поднимались на сцену и рассаживались члены президиума: Локтев, Черепанов, Сергей Ли… Между ними оказался и Егор.
Рыжков обернулся назад, поискал взглядом Марусю. Она сидела близко (место Егора рядом с нею теперь пустовало), серьезная и красивая, смотрела на сцену широко открытыми, ожидающими глазами.
«Хорошего жениха я для нее выбрал!» — с гордостью подумал Рыжков.
Когда духовой оркестр грянул «Интернационал», старатель почувствовал большое волнение. В приискоме, где ему вручили пригласительный билет, Сергей Ли сказал, что он получит премию. Значит, придется благодарить, а легкое ли это дело? Правда, Маруся написала на бумажке несколко нужных слов, и если он не оробеет, то можно прочитать — буквы крупные, ясные, и Рыжков поминутно трогал в кармане сложенный вчетверо листок.
На столе, позади президиума, громоздились всякие хорошие вещи: патефоны, фотоаппараты, пальто, кофточки, отрезы дорогих материй и даже швейная машина.
— Как дадут тебе, отец, машинку, а она у нас уже есть! — беспокойно шепнула Акимовна. — Лучше патефон…
— Сиди уж, не загадывай.
После доклада директора приискового управления на сцену начали выходить ударники. Их вызывали по списку, и оркестр встречал и провожал их музыкой. Получив премию, они подходили к рампе, и каждый пытался сказать что-нибудь неистово хлопающему народу. Почти все краснели или бледнели и так сбивались, путая слова, что Рыжков невольно ободрился: этак-то и он сумеет!
Только Егор, премированный фотоаппаратом и отрезом на пальто, довольно бойко сказал небольшую речь.
«Наторел. — Рыжков невольно подался вперед, одобрительно глядя на Егора, заметил над его карманом цепочку часов. — Золотые. С надписью… Тоже в премию получил…»
— Фетистов Артамон Семенович!
«Это кто же?» — подумал Рыжков и увидел скромно, даже робко выходившего на сцену старого знакомца, известного в районе под прозвищем «Елки с палкой», которого никто никогда не называл по имени.
— За ударную работу по оборудованию клубов на Орочене и Среднем премируется грамотой ударника и серебряными часами.
Фетистов взял часы, подошел к рампе и слабеньким, дрожащим голосом сказал:
— Товарищи, как мы идем к культурной жизни, то и я оказал свое старание. Для нашего общества, товарищи. — Старик замолчал, мучительно морща и без того сморщенное лицо. Он, который знал столько всяких премудростей и мог говорить о чем угодно и сколько угодно, тоже вдруг сделался косноязычным и не мог найти ни одной мысли, подходящей для данного случая. — Клуб — это культура, елки с палкой! — прервал он наконец свое молчанье первой подвернувшейся фразой. — И я благодарю за премию и еще больше буду стараться, чтобы и вперед получать премии. — Фетистов неловко поклонился и ушел за кулисы, сопровождаемый веселым смехом, а оркестр сыграл ему, как и всем, что-то короткое, но очень торжественное.
— Разъело старику губу! — сказала, смеясь, нарумяненная, с бантами на зеленом платье, Катерина, сидевшая позади Рыжкова. — «Чтобы и вперед получать»! Понравилось!
После Фетистова премировали пятипудовой породистой свиньей кривого Григория, но на сцене ему выдали, конечно, только квиток.
— Вот бы тебе этакую свинушку! — шептала Акимовна. — А ему не ко двору. Не было у Катерины заботы…
— Ладно, мать, помолчи! — Рыжков забеспокоился: может, в приискоме напутали и никакой премии ему вовсе не полагается, а он уже сообщил о ней ребятам. Вот получится оказия! Скажут: нахвастался. Ему сделалось так душно от этих мыслей, что он вспотел и расстегнул пуговицы пиджака.
Теперь на сцене стоял Мишка, держал в одной руке грамоту, в другой патефон и тоже, как у всех, срывался его голос.
— Меня бы чем премировали! Я бы сказанула! — беззастенчиво громко бросила Катерина. — Людям честь, а они трясутся.
Рыжков через плечо опять оглянулся на Марусю. Она хлопала в ладоши и улыбалась новой, незнакомой ему, славной улыбкой, чуть полуоткрыв пухлые губы. Золотисто-русые волосы ее, уложенные в пышную прическу, казалось, светились в полутемном зале. «Рада?» — спросил он ее мысленно и повернулся к жене, которая толкала его локтем.
— Тебя выкликают, иди!
Рыжков испуганно вскинулся с места, но идти сразу не решился, пока снова не назвали его фамилию.
Он поднялся на несколько ступенек, тяжело протопал по сцене новыми хромовыми сапогами и остановился, смущенный, большой, неуклюжий в своих сбористых широких шароварах, синей косоворотке и расстегнутом пиджаке.
— За образцово поставленную работу в крупном старательском коллективе премируется грамотой ударника и путевкой в Кисловодск.
«На курорт…» — мелькнуло в уме Рыжкова. Держа в руке полученную грамоту, он пошел к рампе, суетливо отыскивая в кармане пиджака бумажку с речью. Карман показался маленьким (Эх, Анна, не могла поглубже сделать!), искал, но бумажки там не было. «Куда она девалась?» — растерянно подумал Рыжков.
Сотни лиц сливались перед ним в туманное облако, белевшее в черном провале; он не видел ни множества глаз, пристально смотревших на него, ни сверкающих труб оркестра, настороженно обращенных к нему, — только всем существом ощущал это общее ожидание и необходимость оправдать его.
— Говори скорей, давай не бойся! — подбодрил его Фетистов из-за кулис.
Дальше молчать было невозможно, и Рыжков решился:
— Товарищи! — сказал он, охрипнув от волнения, кашлянул и еще раз повторил. — Товарищи! Я ведь старатель… тридцать лет с гаком старался. Все искал фарта.
Он говорил уже спокойнее, машинально, бережно свертывая в трубку полученную грамоту, но слова приходили ему на ум совсем не те, которые написала для него Маруся.
— Мы, старатели, сроду за людей не считались. Даже у Советской власти спервоначала за пасынков — до того к нам припеклось звание хищников. Но понимать надо, что хищничали мы от нужды. Ежели я находил в старое время золото, то какой мне интерес был сообщать об этом хозяину? Покуда я ищу, он не препятствует, только следит исподтишка, а почует добычу — сразу налетит со стражниками, с урядником… Золото отберут и вытурят, да еще плетей вложат. Такая премия была за открытие при старом режиме, — ну и старались мыть потихоньку. Другого хлебом не корми, только бы по тайге ему ходить. Искать ему надо, а раз ищет безо всяких правов — стало быть, хищник. Права-то раньше даром не давали, их купить надо было.
Теперь Советская власть вывела старателей из пасынков и приравняла к рабочим. И для нас настоящая радость, что наш трест перевыполнил программу. На Алдане этого еще не бывало. Работаем ударно. А ежели меня опять поманит в тайгу, я возьму документ на право разведки — и пошел. За открытие теперь почет и денежная премия. — Рыжков замолчал, не зная, что еще сказать; хотел погладить бороду, почти испуганно отдернул руку от гладкого лица и опустил в карман. Бумажка на этот раз сама подвернулась к пальцам. «Вот оказия, откуда она взялась!»
Рыжков достал и развернул ее, но прочитать не смог: в глазах рябило.
— Я теперь, товарищи, грамотный стал, — сообщил он, покосился на бумажку, как петух на зерно, но буквы сливались, и доказать свою грамотность на деле было невозможно. Рыжков огорченно вздохнул и добавил для ясности: — Книжки читаю помаленьку и письма сам пишу. Еще скажу, что норму наша бригада выполняет на сто сорок процентов. Уравниловку уничтожили. До сих пор считалось: раз артель — значит все поровну, а от этого был вред. Только лодырей плодили. Теперь у нас каждый получает за фактический труд и стремится работать получше. Жизнью своей я довольный… шибко довольный. Потому считаю, что фарт свой нашел. Спасибо за это Советской власти.
Он взглянул на свои неудобно большие руки, на грамоту и непрочитанную речь и ушел за кулисы к Фетистову, провожаемый громом аплодисментов и оркестра.
30
За окном кухни красовалась в осенней пестряди молодая рябина. Ее этой весной принесла из леса повариха Ивановна. Маруся помогала сажать. После того общими усилиями устроили с другой стороны крыльца настоящий садик.
Маруся посмотрела на красные в желтизне листьев ягоды рябины и подумала о цветах, погибавших на грядках в саду: «Сегодня достану ящики и высажу астры».
Концы белого ситцевого платка, торчавшие над ее затылком, напоминали заячьи уши, широченный фартук поварихи охватывал бедра, как юбка. Помогая отбирать бруснику для варенья, она черпала горстью ягоды из корзины и пересыпала их в эмалированный таз.
— Вы, Марья Афанасьевна, в детском саду словно мамаша: в лице важность такая… — сказала повариха.
Маруся засмеялась.
— Постарела я, наверно.
Ивановна тоже рассмеялась, ловкими пальцами подсучила повыше рукава халата.
— Дело не в годах… Душа у вас на место стала.
— Да, это верно. Я теперь от детей никуда не уйду: мне с ними хорошо. Но только я не спокойна: мне еще многое нужно сделать. — Маруся доверчиво посмотрела снизу на рослую повариху и сказала: — Нынче зимой буду в шестом классе заниматься.
— Зачем вам зря мучиться? Голову забивать…
— Нельзя иначе. Луша Ли, прежде чем в ясли поступить, семилетку окончила и дальше учиться собирается. Мне тоже нужно иметь настоящее образование, а то получается, что я в детском саду вроде завхоза.
Повариха в недоумении развела пухлыми руками.
— Кем же вы хотите быть, Марья Афанасьевна?
— Хочу так, чтобы хозяйничать и не чувствовать себя недоучкой перед своими педагогами.
Дверь в кухню тихо приоткрылась. Две девочки в синих халатиках вошли и нерешительно остановились у порога.
— Вы зачем сюда? — спросила Маруся, обернувшись на их перешептывание.
— Мы пить хотим, Марь Фанасьевна.
— Они, наверно, ягод захотели, — добродушно-ворчливо сказала повариха. — Вода в комнатах есть — я сама утром свежую наливала. Ишь, баловницы!
Бойкая черноглазая Ольга схватила руку Маруси, прижалась к ней гладко причесанной головкой.
— Мы по секрету…
Рыженькая простодушная толстушка Катюша тоже подошла, а в полуоткрытую дверь стали заглядывать все новые детские лица.
— По секрету? — переспросила Маруся с недоумением. — Интересно, какие это секреты у вас появились?
— Марь Фанасьевна… — заговорила Ольга с выражением озорной решительности на курносеньком лице, и щеки ее стали, как два красных яблока.
— Вы взамуж выходите? — перебивая ее, строго спросила Катюша.
Теперь уже Маруся покраснела до ушей.
— Кто это сказал?
— Андрюшка Коркин. Еще он говорил, что у вас теперь будут свои маленькие и вы от нас уйдете…
— Не выходите замуж, — шепнула Ольга.
— Не уходите от нас, тетя Маруся, — хором, недружно сказали от дверей, где тихая суетня все усиливалась.
От смущения у Маруси навернулись слезы. Она подошла к двери, и сразу ее облепили со всех сторон.
— Что за переполох такой? — сказала она укоризненно, принимая независимый вид вполне взрослого, располагающего собой человека. — Уходить я никуда не собираюсь. Если я… если у меня будет своя семья, я все равно буду работать, ведь ваши мамы тоже работают. И что это за новости — вмешиваться в дела старших? Когда вырастете, тогда… тогда будете рассуждать. А теперь марш в свои комнаты!
— Вот уж сорванцы так сорванцы, — сказала повариха, смеясь. — Мы думаем: они ничего не знают и не понимают, а им все известно. Помогала я сегодня няне накрывать к завтраку. Слышу, Мироша Ли говорит Танечке: «А наш жених — ударник». Мне и невдомек было, про какого жениха разговор шел. А они свое обсуждение имели во время завтрака.
— Что же воспитательница, разве ее не было?
— Была… Да, господи, они ведь хитрущие! И все шепчутся. Видишь, по секрету пришли! Ну, эти хоть постарше, а те-то вовсе мелкота. — Ивановна взглянула в окно, и на ее расплывчатом лице появилась лукавая усмешка. — Легкий на помине.
Маруся так и встрепенулась.
— Кто?
— Да Егорушка…
— Только этого сейчас и не хватало! — Маруся побежала к дверям, но у порога остановилась, стащила с себя платок, пригладила волосы и как раз успела перехватить Егора на крылечке.
— Зачем пришел? — спросила она быстрым шепотом.
— Посмотреть, как ты тут работаешь…
— Тсс! — зашипела Маруся, прикрывая плотнее дверь: мягкий басок Егора показался ей слишком громким. — Если бы ты знал, как мне стыдно было сейчас! — сказала она, снова заливаясь румянцем.
— Что случилось? — спросил Егор, и столько тревоги за нее выразилось на его лице, что Марусе стало стыдно уже по-иному.
— Да вот… ребятишки, — сказала она, счастливо сияя глазами, — просят не выходить замуж.
Егор обнял ее за плечи.
— Ох, как ты меня напугала!
Девушка легонько оттолкнула его:
— Народ ведь кругом! И я на работе нахожусь. Уходи, а то выбегут наши малыши и уставятся на тебя, как на чудо.
Маруся ушла, но через минуту выглянула на крылечко. Егор все еще стоял там. Они посмотрели друг на друга так радостно, словно только что встретились.
— Тебя зовут здесь жених-ударник! — сказала Маруся.
31
Прямо с работы Рыжков зашел в прииском, чтобы узнать толком насчет путевки.
— Вот до чего довелось дожить! — сказал он Сергею Ли, который относился к нему с большим расположением. — Поеду на курорт, будто граф!
— Лучше графа, товарищ Рыжков! — улыбаясь, ответил Ли, обветривший и загоревший за лето так, что зубы сверкали на его темно-смуглом лице ослепительно белой вспышкой.
— Знамо дело — лучше. При нынешних порядках граф в подметки мне не годится.
— Верно! — полушутя продолжал Ли. — В старой вашей артели при уравниловке он приспособился бы, а при новых методах никуда не годится.
— Не годится! — с хорошей гордостью труженика подтвердил Рыжков. — Учить да учить бездельника!
Оба рассмеялись. Ли находился теперь почти все время на Среднем: строительство нового прииска увлекло его так же, как Черепанова.
— В Кисловодск поедете! — сказала Рыжкову секретарь, большеносая девица в ярко-зеленом берете, некрасивая, но свежая и розовая, и, топая ногами, прошла по комнате.
«Ну и девчина, богатырша настоящая!» — подумал Рыжков и, присев на стул, прислушался к ноющей боли в левой руке.
— Что за оказия! Пока на курорт не собирался, не болело ничего, а теперь прострелы начались, — сообщил он, обращаясь к Ли. — То в ногу стрельнет, то поясницу заломит. Не иначе, разнежился. Отдохнуть, оно, конечно, не мешает…
Снова, топая ногами, через комнату прошла секретарша, положила на стол открытую папку с бумагами и двумя пальцами, точно дохлого ужонка, поднесла Рыжкову ручку.
— Распишитесь в получении путевки.
Он посмотрел на ее оттопыренный мизинец, подвинулся к столу и, заслонив добрую его половину локтями, старательно, крупно расписался.
— Путевка у вас с первого октября. Выехать надо, чтобы не опоздать, завтра или послезавтра, — девушка села на место, подобрала за ухо стриженую прядь прямых желтоватых волос и весело посмотрела на старателя. — Пока нет распутицы, до Невера доедете быстро, а позже дорога может испортиться. Ведь вам, если в скором поезде, до Москвы ехать суток восемь, да там еще дня три. Я-то уж знаю: за лето многих отправляли.
— Тогда я опоздаю: завтра мне никак невозможно. Мне надо показать своим ребятам, как работать в спаренном забое. Товарищ Ли, вы переписали бы мне эту бумагу дней на десять попозднее.
Сергей Ли с сожалением развел руками:
— Переписывать путевки мы не можем. Ведь это не от нас зависит. Ничего, надо ехать! Всегда будет некогда.
Рыжкову хотелось бы попасть на курорт к сроку. Но нельзя же бросать работу в самый горячий момент: надо убедиться на деле, что старатели освоили подкалку.
— Ладно, уж как-нибудь договоримся.
Вздохнув, он поднялся, неправдоподобно большой, все еще красивый и статный. Пятьдесят с лишним лет не согнули, не состарили его, и в глазах молоденькой девушки, смотревшей на него, промелькнуло безотчетное восхищение его мужественной силой.
На улице он столкнулся с Черепановым, и они пошли вместе.
— Едешь? — с живым интересом спросил Черепанов. Ему всегда нравился этот упрямый и немного наивный таежник с его неистребимой верой в свое особое старательское счастье.
— Еду. Самому чудно. В первый раз в жизни поеду на курорт. А Егора попрошу взять пока шефство над моими ребятами. Дорогая премия мне досталась, да отблагодарить путем не сумел. Надо было насчет работы потолковать, об ударниках наших тоже, а я все про себя да про себя!
— Как ты отделишь себя от работы? Тебя таким новая твоя работа сделала. Что мог бы ты рассказать о себе лет пять назад?
— Пожалуй!.. — Рыжков вспомнил, как он повествовал на Пролетарке о своем прошлом дочери Марусе. — Тогда и дома нечем было похвастать.
Хотелось Черепанову сказать Рыжкову что-нибудь сердечное, но, посмотрев на него, решил: «Ничего говорить не надо».
Вместо того справился о здоровье Акимовны, с которой очень подружился после Надеждиных похорон.
— Вместе поедем, — сообщил Рыжков. — Хочу ее с собой взять. Без нее ехать невозможно. Тридцать лет она со мной в тайге живет. Сотни верст пешком прошла… Всю невзгоду пополам делили, почему же я теперь один на гулянье поеду?
— Хорошо ты надумал, — одобрил с грустной улыбкой Черепанов.
Рыжков тоже улыбнулся.
— Когда в клубе премии получали, вижу, радуется она, а сама нет-нет да вздохнет. Домой приехали, она и говорит будто шутя: «Мне бы хоть раз в жизни премию какую получить». Смеется, а на глазах слезы. Ах ты боже мой!.. «Аннушка, говорю, я тебя сам премирую. Добуду за деньги другую путевку и поедем вместе».
— Что же она?
— Довольна, конечно.
— Кисловодск! Это очень даже хорошо, — сказал Черепанов раздумчиво. — Там можно и сердце подлечить и ревматизм. У тебя что болит?
Рыжков почесал за ухом, сдвигая на лоб рабочую кепку; приподнял выпукло-щетинистую бровь.
— Как вам сказать? Знаете, когда хворать некогда, ходишь до той поры, пока вовсе не свалишься. Мне вот пятьдесят пятый год, а я у доктора-то ни разу еще не был и лекарства, кроме водки, сроду не пил.
Рыжков покосился на Черепанова, тот шагал, спрятав руки в карманы рыжей кожанки, лицо его выражало искреннее участие.
— Здоровый я, — продолжал Рыжков, — а ногами один раз, когда у Титова работал, шибко болел. Застудился на канавах и обезножел. Так скрючило, спасу нет! Ну и, конечно, никакого пособия. Лечила меня Анна Акимовна. Напарит, бывало, стланику… Сяду в кадку большую, обкладет она меня этими хвойными лапами, потом горячей воды, чтоб только тело сдюжило, я и сижу, как груздь. Пропотею хорошенько да на койку — вот тебе и курорт! Она меня и подкармливала, все время в мамках работала. Потом одыбался, ушел хищничать. Я ведь из тайги-то больше тридцати годов не выходил.
— Поедешь, посмотришь, как на юге живут…
— Да я ведь сам южанин. На Дальний Восток морем приплыл с Новороссийска, а урожденный из Донбассу. У меня и отец и дед шахтеры, и я с четырнадцати годов в шахту пошел. Каторга была, спасу нет! Интересно, конечно, поглядеть, как теперь там живут. И Москву повидать охота.
— Когда выезжаете? — спросил Черепанов.
— Все-таки не завтра, а дней через пяток. У меня тут серьезные дела, управиться надо.
Возле своего дома Рыжков остановился и показал на небольшой огород, обнесенный тыном.
— Садили нынче сами. Картошка уродилась хорошо. Вот приеду с курорту, отдельную дачу себе поставлю, елочек насажу, чтобы на долгое жительство со старухой поселиться.
— А Маруся?
— Маруся что! Она замуж выходит. Егору квартиру дали — не хуже директорской. Перед отъездом погуляем на свадьбе. Давайте заходите к нам чай пить. — И с этими словами Рыжков потянул Черепанова за рукав тужурки.
Акимовна шила на машинке какие-то кулечки. Старик Фетистов сидел напротив нее, поглаживая черную жирную кошку. Кошка громко пела, хитро жмурила зеленые глаза, съезжая с острых стариковых колен, цеплялась за его одежду, стараясь примоститься удобнее.
— Смотри, Фетистов, поломаю я тебе ноги, — шутя пригрозил Рыжков. — Не успею из дома выйти, а он, старый воробей, тут как тут.
Фетистов улыбнулся, вытер узкой ладошкой сморщенный подбородок, точно паутину снял.
— Мы ведь не про любовь толкуем! Годиков десять назад я бы еще мог изъясняться о таком высоком предмете. А сейчас агитирую насчет провизии. Погляди, Мирон Устиныч, сколько она мешков шьет.
Акимовна смущенно, боясь насмешки, посмотрела на Черепанова.
— Не бывала я на железных-то дорогах. Сроду не езживала, не видывала. На Зею мы через всю Сибирь на таратайках тряслись. Потому и собираюсь по-таежному, с припасом.
— Трудно будет с багажом таскаться, — сказал Черепанов. — Продукты на станциях можно покупать.
— Это каждый раз с поезда сходить!
— Конечно, Афанасий Лаврентьич мигом слетает.
Акимовна подумала, но сказала упрямо:
— Нет уж, со своими харчами куда спокойней. Афоня проворный на ноги, но дотошный. Будет ходить по станциям этим, интересоваться разными разностями, да и отстанет где-нибудь.
Фетистов достал из кармана часы на кожаном ремешке, щелкнул крышкой, умиленно поглядел на бойкую секундную стрелку.
— Чикай, матушка, чикай. Совсем ведь чутошная, а сколько у ней енергии: когда ни взгляни — все чикает! — Старик, не вставая с места, горделиво выпятил тощую грудь, подбодрился. — Не всякому тоже такую премию преподнесут.
— Ты лучше расскажи, как терял эту премию, — посоветовал Черепанов, тронутый наивным самодовольством Фетистова.
— Неужто терял? — спросила Акимовна, довольная возможностью переменить разговор. — Хорош, нечего сказать!
— По пьяному делу оплошал, — признался старик с некоторым смущением. — В отпуску был, загулял маленько, а без часов теперь не могу обходиться. Так вот и подмывает: что-то, мол, сделать надо. Гляну на них — сразу успокоюсь. Вот пьяный и поглядел да обратно ими в карман не угодил. Хожу, стало быть, а они на ремешке сверху болтаются и отвязались, конечно. Проспался я, хвать — нету часов. Ох, елки с палкой! Веришь — нет, захворал от огорчения.
— Так захвораешь! Как не захворать! — сочувственно сказала Акимовна. — Поди-ка, отрезал кто для смеху.
— Какой тут смех! Видно, что отвязались. Кляну себя на чем свет стоит, и вдруг приходит Петюнька Ксаверьев и приносит эти самые мои часы: на улице подобрал…
Увлекшись рассказом, Фетистов забыл о задремавшей кошке, и она съехала с его неспокойных колен, но в последний момент так вцепилась в них, что старик едва не выронил заветные часы.
— Брысь, проклятущая! — вскрикнул он испуганно и стукнул ее по изогнутой хребтине. — Что ты по мне ездишь! Всего покорябала. — Извиняющимся тоном старик добавил вслед Акимовне, уходившей на кухню: — Я кошек сроду не любил, а ваша вроде ничего. У меня жена-покойница целый кошачий зверинец содержала. И все трехмастные! Стану, бывало, говорить — куда там! Ведьминский характер имела, не тем будь помянута, покойница.
Фетистов привычным движением опустил часы в карман и взглянул на Черепанова. Тот сидел у стола и, казалось, задумчиво наблюдал за кошкой, которая, презрительно щурясь, прилизывала свою помятую шубку. Но секретарь парткома смотрел не на кошку (он совсем и не видел ее), а на какое-то пятнышко на полу, за которое случайно зацепился взглядом. Черепанов думал о золотой лихорадке в здешней тайге десять лет назад… Люди метались тогда, как листья в осеннюю бурю. Все кипело в стремлении к наживе, а среди этой людской стихии возникали точно маленькие островки — партийные ячейки. Много ли времени прошло! Что сделано за эти годы в тайге? Возникло большое механизированное производство… Но капиталисты тоже смогли бы наладить производство на таком золоте: построить заводы, шахты, электростанции не сложное дело при больших прибылях. Поселки жилые в тайге появились — прекрасно! Но и это не главное. Могли бы тут поселки быть и красивее и богаче. А вот люди другие стали за эти десять лет. Многие до неузнаваемости переменились к лучшему — вот в чем главное, новое. Черепанов вспомнил, как пришел к нему в партком Мишка Никитин и бросил на стол мешочек с золотом… Вспомнил, как пришел советоваться в партком Егор Нестеров, а позже Афанасий Рыжков, как пришел в свое время, девять лет назад, молодой Сергей Ли. «Нет, это я сам нашел его!» — поправил себя мысленно Черепанов, строго-неподвижным взглядом уставясь в невидимую точку. — Созданы условия — и люди растут. Вот Маруся Рыжкова, Луша, Петюнька Ксаверьев, вернувший часы Фетистову, и сотни других… русских, эвенков, якутов, китайцев, корейцев.
— Ну чего ты уставился на кошку, Мирон Устинович, — с дружественной стариковской бесцёремонностью перебил его мысли Фетистов. — Какие узоры ты на ней нашел? Пусть лучше Афанасий нас музыкой позабавит!
Рыжков начал стаскивать салфетку с патефона, но Акимовна окликнула его, и он пошел с нею на кухню.
Фетистов добродушно подмигнул ему вслед:
— Ревнует он меня, а зря: я теперь насчет женского полу безобидный. Был, да весь вышел! Дружно они с Акимовной живут! Тебе, Мирон Устинович, тоже не мешало бы семейную жизнь обмозговать. Возьми-ка меня сватом. Я живо хорошую женщину выгляжу. Будь он проклят, Васька Забродин, плевка не стоил, а загубил настоящую королеву! — Черепанов вздрогнул, но старик не заметил этого. — Вот бы такую найти для тебя, как Надюша!
Рыжков, войдя в комнату, услышал последние слова старика, предостерегающе кашлянул, но Фетистов даже не оглянулся на него, продолжая свою простодушную болтовню.
— Ты настроил бы сам патефончик-то, — предложил ему Рыжков и стал накрывать на стол, стараясь звяканьем рюмок отвлечь внимание старика от Черепанова: «Чего привязался к человеку? Вовсе из ума выжил, а еще клубный работник!» — сердито думал он.
— Славная она была, а разнесчастная, — продолжал вспоминать Фетистов о Надежде. — Она ведь в Егоре души не чаяла. Уж так любила, что и слов нет. — Фетистов даже прослезился и сквозь слезную муть не разглядел, как побледнело до синевы лицо Черепанова.
— А Егор? — не сразу спросил Черепанов.
— У него своя любовь, он и не знал, поди-ка, ничего. А она, бывало, схватит меня за руки и скажет: «Фетистов, Фетистов, тяжко мне!» Это когда Егор с Марусей вместе стали гулять. Я и раньше замечал, что она не в себе бывала. Егора шибко жалел о ней: «Я, говорит, ее больше сестры любил, прямо как мать родную». А Надежду это и мучило, что он ее за мать почитал.
Рыжков, готовый выбросить старика за окошко, сказал с неожиданной горячностью:
— Экий ты болтун, Артамон Семенович! Ну чего ты сейчас наговорил? Скажи, какой приметливый! А того ты не приметил, как трудно жил человек? Что только не претерпел! Значит, уж через край перехлестнуло, если она на то плакалась тебе, чудаку! А Егора-то было за что любить да уважать: он один по-доброму в ее душу заглянул, пожалел, приласкал, как лучший друг… Кабы не он, Забродин ее еще раньше бы убил. Так и не увидела бы она хорошей жизни. Не просто по-бабьи потянулась она к Егору. Я это вот как понимаю, только передать не могу. Нет у меня для этого таких слов. И ты, Фетистов, хоть ты и языкастый, не прикасайся сюда, Христа ради. Не те слова твои, и понятие совсем не то! Как ты думаешь, Мирон Устинович?
Черепанов промолчал: возражение Рыжкова взволновало его еще сильнее, чем откровения Фетистова. Уже не было Надежды Жигаловой на свете, но она жила в душе Черепанова, и любое напоминание о ней больно задевало его. Сколько раз казнил он себя в последнее время за то, что не вмешался решительно в эту семейную драму. Сковывала необычная для него стеснительность, боязнь подойти к делу с узкой, личной позиции. Сообщение Фетистова о безнадежной любви Жигаловой к Егору еще выше поставило в представлении Мирона образ дорогой ему женщины.
— Правду ты сказал, Афанасий Лаврентьевич! — сказал он, с трудом нарушив свое молчание. — Есть чистейшие прекраснейшие чувства, которые свойственны только таким людям, как Надежда Жигалова. 05 этих чувствах надо и говорить, как о самом лучшем в человеке, самыми простыми, хорошими словами. Так, как говорил ты…
32
Клондайк… Рыжкову нравилось это звонкое, необычное название.
— Работаю на Клондайке, — сдержанно улыбаясь, говорил он знакомым. — Шахта у нас.
Шахта находилась на невысокой береговой террасе среди кустов стланика. Возле ее обшитого досками копра были сложены штабелями бревна: к зиме собирались возвести над кулибиной низкий и длинный тепляк.
Подойдя к копру, Рыжков остановился. По тропинкам, желтевшим в пыльной, засохшей траве, шли старатели утренней смены. Птицы, которые озабоченно перекликались в кустах шиповника и голубики, склевывая сморщенную ягоду, то и дело вспархивали перед ними. Рыжков потянул носом ядреный запах осеннего утра и вошел в дверь.
На ярко освещенном шахтном дворе, у подъемника, навстречу ему выкатил полную тачку Быков, недавно принятый в артель. Рыжков добродушно кивнул откатчику и направился по низким полутемным просечкам к своим забоям. Второй его забой шел с углубкой по полотну, и там разбуривали скалу, в трещинах которой было золото. Вызванный с ороченской шахты запальщик ожидал, чтобы зарядить скважины и сделать отладку.
— Сколько шпуров [17] забьете? — спросил Рыжков.
— Три. Рано меня вызвали. Долгая песня получается с ручным-то буром.
— А ты хотел бы, как на рудном золоте, с компрессором?
Рыжков принял забой, уже подготовленный к взрывам, и вместе с забойщиком, откатчиками и подручным крепильщиком первой смены вышел из этой просечки. В забое остался один запальщик.
Рыжков начал помогать советами и делом в другом забое. Когда раздались взрывы, он остановился с занесенным кайлом и стал считать. «Раз… Два…» — отмечал он глухие удары.
Через некоторое время появился запальщик.
— Можно окайливать. Я осмотрел.
Рыжков взял фонарик — электрическое освещение в дальние уголки шахты еще не подвели — и поспешил в забой, где сделали отпалку.
— Идите по домам, — сказал он забойщику, которого сменял. — Мы сами окайлим. Чего уж за пять минут до конца смены начинать новую работу!
Он прошел в глубину просечки. Остальные старатели должны были вот-вот подойти, наверное, они уже спустились в шахту.
Нескладная тень человека метнулась впереди. Рыжков спокойно вгляделся в полумрак: в забое горела только одна свеча, оставленная запальщиком.
«Быков. Ничего, мужик старательный. Только ведь он в смежном работал?..»
Неясная тревога заставила Рыжкова ускорить шаги. Быков стоял к нему спиной, торопливо шарил руками по взорванной породе. Заслышав шум шагов, он отскочил от забоя.
— Ты чего это? — спросил Рыжков, уже подозрительно оглядывая откатчика.
— Тачку прикатил… Мы из смежного втроем сегодня катали: здесь-то и одному при разбурке нечего было делать.
— А чего ты в забое шарил?
Быков переступил с ноги на ногу, косые глаза злобно и воровато забегали.
— Да так…
Рыжков неожиданно сжал его правую руку выше запястья, взглянул на растопыренные пальцы и по-хозяйски полез к нему в карман. Быков рванулся в сторону.
— Но, но! — прикрикнул, как на лошадь, Рыжков и вытащил динамитный патрон. — Башку оторву. К чему такое?
Быков сказал вызывающе:
— Отрывай, не жалко. Я и так неживой хожу по земле. Видимость только, а душу вы из меня давно вынули. — Он вдруг упал на землю и бешено завыл.
Рыжков посмотрел на него с брезгливым испугом, толкнул ногой.
— Вставай, пойдем.
— К ним поведешь? К гепеушникам? Убей лучше на месте!
Рыжков осторожно опустил в свой карман отобранный патрон.
— Отведу до начальства, пускай оно рассудит, что с тобой делать, а я об тебя рук марать не стану.
Молча разминулись они с идущими в забой старателями.
— Ты куда, Лаврентьич? — крикнул им вслед подручный забойщик.
— Начинайте очистку, я сейчас вернусь, — сказал Рыжков, спохватываясь. — Да смотрите, с опаской окайливайте. Не сунул ли этот молодчик еще вот такую штучку. — Он показал патрон и, уже совершенно овладев собою, приказал: — Лучше обождите с очисткой до меня: пока не вернусь с начальством. Займитесь доставкой крепежного леса в оба забоя.
— Может, помочь отвести? Не сбежал бы.
— У меня не сбежит!
За шахтой они встретили Потатуева. Он шел по солнечной пыльной тропинке, направляясь к старателям Клондайка. Солнце било ему прямо в лицо, и он жмурился, радуясь последнему теплу. Увидев Быкова в сопровождении Рыжкова, он встревожился, зашагал быстрее, спросил деланно весело:
— Куда вы, Афанасий Лаврентьевич?..
Рыжков вздохнул всей широкой грудью, и голос его прозвучал глуховато:
— Поймал вот в забое… Хотел он мне патрон подсунуть. Спасибо, не успел…
Лицо у Потатуева посерело, он сжал губы, встопорщив вислые усы, злобно взглянул на понурившегося Быкова.
— Не знаю, почему я ему поперек горла встал? — доверчиво продолжал Рыжков, заметив волнение штейгера. — Кажись, хорошо принял его и в работе помогал… объяснял, что да как. И вот — на тебе! — старатель в недоумении развел руками. — Хочу отвесть его до начальства. Пускай рассудят…
— Ну-ка, покажи патрон! — властным голосом приказал штейгер.
Рыжков послушно вынул и отдал динамит. Потатуев взял его, повертел и… опустил в карман своего плаща, подумав о Быкове: «У этого олуха смолчал, а там сумеют выспросить».
Помедлив в лихорадочных поисках выхода из создавшегося положения, Потатуев зорко огляделся и сказал Рыжкову:
— Если он на тебя покушался — значит у вас личные счеты какие-то. Коли он вредит — значит и ты не чист. Может, он от тебя избавиться хочет, чтобы следы замести?
Рыжков на минуту ошалел.
— Вы, Петр Петрович, такими словами… не шутите. По себе, что ли, судите? Верно говорится: когда свекровка потаскуха, она и снохе не верит. Ваши-то грехи я зна-аю!
— Мало ли про кого ты знаешь! А раз молчишь — значит у самого рыло в пуху.
Рыжков побледнел, но глаза его загорелись холодным синим огнем, и он сказал, заикаясь от волнения:
— За такие подобные слова я вас захлестнуть могу. Что вы меня запугиваете? Выгородить его хотите… Так я сегодня же вас обоих… Ведь это вы подослали его, чтобы свое золото упасти. Ох, дурак я… Надо было мне после того разговору на счет замеров сразу пойти…
— Имей в виду, Афанасий Лаврентьевич, — сказал Потатуев, сипло дыша, — ты меня тогда понял, и я тебя понял… Черт меня дернул разговаривать о делах с этаким пнем! Но уж раз молчал до сей поры… ответишь по всей строгости закона.
— И отвечу, не побоюсь. Теперь мне все словно молоньей осветило: красноармейскую артель ты не так просто поставил, а с вредом, то-то после заюлил! Значит, и нас зря два года маял на пустоте!
Потатуев подошел вплотную, с ненавистью взглянул в лицо Рыжкова.
— Вы-то не на пустоте находились. Есть там золото не плохое. Только вы стороной прошли со своей дурацкой канавой и шахту заложили в другом месте.
Старатель остолбенел: «Из сорока человек кровь тянул, для себя богатство приберег. Не перекосило же его при такой кривой душе!»
Рыжков сгреб с головы шахтерку, ударил ею о землю и в гневе, забыв о Быкове, быстро зашагал к центру Орочена.
Потатуев посмотрел ему вслед. Щеки и губы его дрожали. Вытащив из ножен, висевших у пояса, узкий якутский нож, он сунул его в руку Быкова.
— Беги наперерез… кустами. Успеешь — озолочу!
Штейгер приподнялся на цыпочках, увидел голову и плечи Рыжкова, промелькнувшие за кустами.
«Нет, не успеть Быкову. Да и справится ли? Тот сейчас как сохатый бешеный». Вспомнив о своем приметном ноже, Потатуев окоченел от страха и, сев на мшистую землю, закрыл лицо руками.
33
Рыжков едва не сорвал с петель дверь парткома. Лицо его было бледно, капли пота проступали на висках и на широком лбу. Секретарь посмотрела на него с испугом и удивлением.
— Мне бы Черепанова, — быстро сказал Рыжков.
— Нет его.
— Как это нет, когда нужно?
— Странно, — промолвила она и пожала плечами. — У Мирона Устиновича свои дела…
— Наши дела ему тоже не чужие. Надо мне его, — упрямо повторил Рыжков.
— Я понимаю, но он на Среднем прииске.
Ее поведение рассердило Рыжкова: тут такой горячий момент, а она отговорками занимается!
— Слушайте, барышня, я забой бросил в рабочее время. Некогда мне с вами бобы разводить!
— Вы на меня не кричите, вы не на шахте, а в советском учреждении, — обиженно сказала девушка.
Рыжков невольно отступил.
— А чтоб тебя рассыпало! Шахта ведь тоже советское учреждение, — пробормотал он смущенно и просительно добавил: — Барышня, вы позвоните куда-нибудь, может, найдете!
Девушка сняла трубку телефона. Пока она звонила, Рыжков с тоскливым беспокойством смотрел на свои большие узловатые руки и думал: «Сколько время пропадает! Да как еще посмотрят, может, и мне несдобровать за укрывательство?» Он вспомнил о восьмидесяти золотниках, тайком проданных им Потатуеву здесь, на Орочене, в двадцать шестом году, и ему стало до крайности тревожно. «Фу ты, оказия какая! Взгреют меня. Путевку обратно отберут и в газеты пропечатают: был, мол, ударник Афанасий Рыжков, а оказался подлец и жулик. Золото перепродавал… Точно ли была тогда государственная монополия? Была уже. В двадцать четвертом году можно было золото иметь на руках и в двадцать пятом не так еще строго было, а потом ни-ни. Влипнешь тут по уши, в пору встать и уйти подальше от греха». Рыжков приподнялся было с места, но вспомнил злорадные слова Потатуева о Пролетарской шахте, и сел. Лицо его снова стало суровым.
«Пускай пропечатают. Так тебе и надо, старому дураку».
— Говорите, — прервала его размышления девушка.
Рыжков бережно взял трубку из ее рук и с осторожностью приложил к уху. Голос Черепанова он узнал не сразу, а когда узнал, страшно заволновался.
— Мирон Устиныч, приезжай скорее! С шахты прибежал, вот до чего нужно. — Рыжков убедительным жестом прижал к груди свободную руку и повторил: — Приезжай скорее!
Обрадованный обещанием Черепанова приехать, Рыжков положил трубку на стол и так посмотрел на секретаршу, точно хотел сказать: «Для дельного человека время у него всегда найдется».
Черепанов приехал через час. За это время Рыжков, сидя на крылечке, выкурил целый кисет махорки.
— Что у тебя приключилось? — спросил Черепанов, привязывая лошадь к перилам.
— Паршивое дело, Мирон Устиныч.
— Ну, пойдем поговорим.
В кабинете Черепанова Рыжков, едва успев притворить за собой дверь, сразу бухнул:
— Потатуев обманул нас на Пролетарке. Помимо россыпи шахту забил, а золото в стороне осталось: для себя приберег. «Вы, говорит, со своей дурацкой канавой мимо прошли». Так и сказал — «с дурацкой».
Лицо у Черепанова стало точно каменное, отвердел и взгляд, глубже залегли морщины на лбу и по сторонам рта.
— Все-таки проморгали мы!! Как это он открылся тебе?
— Из-за Быкова. Быкова ведь я поймал сегодня в забое, хотел он меня в распыл пустить, только не успел. Патрон у него динамитный был.
Черепанов слушал, весь подавшись вперед.
— А что у тебя с Быковым?
— Ровным счетом ничего. Потатуев его подослал, чтобы я не донес насчет золота. — Рыжков увидел удивление в лице Черепанова, и заговорил, заливаясь от стыда багровым румянцем.
— Золото он скупал всегда. И в старое время, и в двадцать четвертом году, и здесь… Я ему сам перепродал в двадцать шестом году восемьдесят золотников!
Много он, наверно, напрятал. Я молчал до сей поры потому, что думал, не по таежному это — стуком-то заниматься. Я и насчет Забродина утаил: убийство за ним с царского времени числится. Больную рану задеваю — прости, Мирон Устиныч. У самого душа горит. Когда я сюда шел, догонял ведь меня Быков, с ножом кинулся. Схватил я каменюгу. «Ну, говорю, подходи, только мокрое место от тебя останется». Оробел он, отстал.
— Сейчас я позвоню в ГПУ, сообщу, что ты придешь. — Черепанов протянул руку к телефону. — Расскажешь все там.
— Погоди, Мирон Устиныч. Как ты считаешь, здорово мне попадет за те золотники?
— За которые?
— Ну, что я продал Потатуеву в двадцать шестом году?
— А после было такое дело? Нет? — Черепанов задумался, потом сказал. — Дело прошлое, что о нем толковать! Уполномоченному расскажешь, а больше никому не говори, чтобы зря не болтали.
34
Когда Быков вернулся, Потатуев все еще сидел под кустом, апатичный и вялый. Он молча вскинул на Быкова тускловатый взгляд. Быков криво усмехнулся, кинул на землю нож. Нож перевернулся в воздухе, воткнулся в мягкий дерн. Глядя, как вздрагивала его резная, из мамонтовой кости рукоятка, Быков сказал:
— Ушел.
— Куда?
— Туда ушел… на стан.
Потатуев тяжко вздохнул, взял нож и, вытерев его рукавом, всунул в ножны.
— Заберут нас сейчас. — Голос у него был глуховат, но спокоен.
— Меня не возьмут. Я уйду, — заявил Быков.
— Никуда ты не уйдешь, дурья голова. Везде найдут. — Глаза Потатуева оживились, но сразу потухли: — Э-эх ты-ы, балда деревенская!
Он встал и пошел по тропинке к прииску.
— Куда вы, Петр Петрович? — испуганно метнулся к нему Быков.
— Домой.
Пришибленный странным спокойствием Потатуева, Быков тоскливо посмотрел ему вслед, затем круто повернулся и пошел в другую сторону.
Потатуев, придя домой, лег на кровать, не снимая пыльных сапог, и с полчаса неподвижно лежал, ожидая. Но за ним не шли. Вдруг страшное волнение овладело им, сбросив его с кровати. Нужно было действовать, и он в тревоге заметался по комнате. Теперь каждый шум извне заставлял его вздрагивать. Громко разговаривая, под окнами проходили люди, проехало несколько верховых. Также проходили и проезжали вчера, но сегодня в обычной жизни прииска ощущалась враждебность. Еще проехали конные… Прошуршала легковая машина…
Потатуев с лихорадочной поспешностью рылся в чемоданах, ломая ногти, открывал непослушные замки, отыскал какие-то бумаги, и, пока они горели на полу, рассовывал по карманам паспорт, пачки денег, служебные документы. Губы его были сжаты, усы встопорщились, глаза безумно сверкали, толкнув ногой чемодан, он отшвырнул половичок, открыл подполье… Он пробыл там не больше десяти минут, но, когда вылез, лицо его посерело, руки оказались в земле, и он заметно потолстел в поясе. Одернув рубаху, штейгер надел и застегнул плащ и быстро вышел из дому.
Было солнечное и тихое утро. В теплом прозрачном воздухе осени стоял запах умирающей травы и тлеющих листьев. Шумный прииск остался позади: Потатуев поднимался на перевал к Лебединому. Он брел по кустам, сам не зная куда. Нужно было скрыться, но он знал: скрыться невозможно. Никого бы не видеть и не слышать, но что он будет делать в тайге один?
Тайга готовилась к зимнему сну. Голые ветки кустарника цеплялись за ноги Потатуева, за полы его плаща. Во всем чуялась ему смертная грусть. Вот бурундук, блестя на солнце шелковистой полосатой шкуркой, выскочил из норы. Скоро и он заляжет в свое подземное гнездо, уснет до весны…
— Счастливый ты, сволочь этакая! — прошептал Потатуев, взглянув на веселого зверька. — Лечь бы вот также в берлоге и заснуть до лучших времен. Господи боже мой! — Потатуев взглянул в голубое, печально задумчивое небо и яростно погрозил кулаком невидимому врагу.
С перевала он начал спускаться в долину, пересек шоссе, по тропинке направился к фабрике и несколько минут простоял возле работающей чаши. В погромыхивании кружащихся бегунов, в скрежете растираемого ими камня ему послышалось: «Уходи, уходи! Беги, беги!» — «Куда бежать?» — спросил он безнадежно тоскливо. «Куда-нибудь! Куда-нибудь!» — грохотали бегуны, и мутно-желтая вода с плеском вскипала под их серыми боками.
Веселые работницы начали шутливо задирать Потатуева. Невольно завидуя их беззаботности, он невпопад отшутился, пошел вон и около фабрики столкнулся с большеголовым рудничным запальщиком. Лицо запальщика было помятое, красноватые веки набрякли.
— Пьешь? — спросил Потатуев.
— Пью, — меланхолично ответил запальщик. — Может, одолжите на похмелку? Сегодня я на работе, сегодня трезвый, а голова гудит еще с выходного.
— Палил? — спросил Потатуев, кивая на сумку, висевшую у бедра запальщика.
— Девять шпуров забил, — гордо похвастался тот.
Потатуев помолчал, что-то соображая.
— Капсюли есть у тебя? — спросил он негромко.
— Имеются.
— Дай мне один.
Запальщик отступил на шаг, несколько удивленный, сморщил бабковатый нос и сказал с важностью:
— По инструкции не полагается передавать шнур и взрывчатые вещества в другие руки.
— Ты же знаешь меня, чудак?
— Это точно, Петр Петрович, но в случае чего отвечать придется.
— Не бойся. Жилку я одну нашел на перевале… — Голос у Потатуева осекся. — Хочу подорвать и посмотреть.
Запальщик в нерешительности переминался.
— Разве что жилка. Только у меня заделанных не осталось…
— Ну, давай, давай, — торопил Потатуев.
Запальщик вытащил из другой сумки небольшой сверток в толстой бумаге, передал Потатуеву капсюль, вытянул из кармана метровый шнур и боязливо оглянулся.
— Весь шнур мне не надо, — сказал Потатуев, отрезая небольшой кусок, и пошел в гору, где находилась штольня рудника.
Запальщик смотрел вслед старому штейгеру. Сначала ему показалось, что Потатуев пошел к штольне, и он тоже метнулся было туда.
«Черт его знает, что у него на уме! Какой-то он смутный сегодня».
Но Потатуев круто свернул в сторону верховой сопки, и запальщик успокоился. «Видно, вправду жилку ищет. Короткий шнур взял. Не успеет отбежать, — подумал он, еще тревожась. — Ну, да пес с ним! Старый горняк, опытный. Сам знает, что нужно».
Потатуев поднялся на гору, сел на рыжую вялую траву и стал смотреть вниз.
Ветер шарил по кустам, шелестел сухими метелками горного вейника. Острый запах поднимался от узких листиков свиного багульника, росшего по склону; машинально отщипнув веточку, Потатуев пожевал ее и выплюнул. Рыжая коринка повисла на его отвисшей губе, но он не заметил этого, занятый наблюдением.
Внизу, среди кустов можжевельника и редких пней, раскатились бревна разрушенного старателями барака. Выше по ключу чернел пустотой оконных проемов другой брошенный барак, приземистый, с провалившейся кровлей, заросшей бурьяном. Новый поселок лепился большими домами на дальнем склоне горы. Свежие тесовые крыши казались золотыми под лучами солнца. Ярко блестели, отсвечивая огнем, стекла широких окон. Строятся, строятся. И народ… везде народ. Только-только плотник вобьет последний гвоздь, печник закончит и протопит печь, еще сыровато, еще пахнет деревом, глиной, краской, а жильцы уж тут как тут. Идут с цветами, сундучками, ребятишками. Кто-то поет, кто-то подсвистывает. Котенок играет оставшейся у порога светлой стружкой. Весело, шумно…
Потатуев крепко выругался: «Старатели! Как все перевернулось на свете! Не думал, не гадал, что на старости лет буду бирюком рыскать по лесу».
Он вдруг вспомнил, как, будучи мальчишкой, продал отцовские золотые часы, а потом четыре дня прятался на чердаке. Сын кучера, тоже Петька, приносил ему хлеб и яблоки.
«От своего человека укрывался, — подумал Потатуев, и лицо его сморщилось. — Гордость свою укреплял — отцу родному не хотел покориться. Каково же теперь всякую тварь обходить и жаловать! Нет в жизни ни смысла, ни радости!»
Он понурился, потом быстро вскинул голову и посмотрел вниз. По шоссе в долину спускалась легковая открытая машина. Рядом с шофером сидел человек в сером плаще и зеленоватой фуражке. Второй, в такой же одежде, сидел сзади.
У Потатуева пересохло во рту. Он пошевелил губами, медленно поднялся: прячась меж кустов, пошел по горе, следя за машиной. Она остановилась у конторы. Люди вышли из нее и надолго исчезли. Проходил и проезжал народ, а дверь, за которой находились приезжие, оставалась закрытой. Потатуев снова сел, положил подбородок на кулаки и притих. Бессильная ненависть наполняла его. Он молчал, но мысленно посылал самые страшные проклятия всему, что окружало его в последние годы.
Голоса приближавшихся людей заставили его приподняться. Те, в защитном, неторопливо поднимались на гору к штольне. Впереди них шагал коротконогий запальщик. Потатуев посмотрел на них и обессиленно закрыл глаза. Он понял, что все время еще надеялся на что-то. А теперь стало ясно — его искали.
«Собаку надо было захватить!» — злобно, издеваясь над собой за свою смутную-надежду, прошептал он, быстрым движением растегнул ремень, придержал подбородком подол рубахи и снял широкий тяжелый пояс. Минуту в каком-то забытьи глядел он на него, потом достал нож и вспорол тугую кожу пояса. С шелестом потекло из него золото, сыпалось на колени Потатуева, приминало траву, на которой он сидел. Золото! Последнее золото! Потатуев зачерпнул его горстью и метнул в сторону… Расшвыряв все, он затоптал в землю то, что блестело возле него и, пригибаясь в кустах, пошел по нагорью. У ельника в лощинке остановился: хрупнуло что-то под ногой, посмотрел — целый мост поздних ядреных груздей! Потатуев отодрал моховую пластину, сунул под нее пустой пояс. Грузди сидели дружными, веселыми семьями. «Такие вот соленые к водке хороши», — почти успокоенно подумал Потатуев и вынул из кармана динамит. Он зажал зубами шнур в капсюле, неторопливо отвернул промасленную бумагу на патроне… Капсюль легко вошел в мягкий, как сырая глина, динамит. Потатуев положил заделанный патрон под фуражку, поджег короткий шнур и сел на пенек.
«Один сантиметр в секунду, — подумал он, прислушиваясь к легкому шороху внутри шнура. — Один сантиметр… Всей жизни осталось тридцать секунд… Некого пожалеть, не о ком вспомнить». Ему хотелось подумать о чем-нибудь важном, но в голове путались только мелкие обрывки мыслей. Шорох слышался у самого уха. «Скорость горения бикфордова шнура равна одному сантиметру в секунду…» — совершенно точно вспомнил он фразу из учебника.
Люди в защитной одежде поднялись наверх. Запальщик остановился и показал на верховую сопку.
— Туда он ушел!..
Запальщик хотел еще что-то сказать, но в это время ниже, в лощине, гулко ухнул взрыв. Все трое вздрогнули и прислушались. В ельнике глухо шумел ветер.
— Это он, — уверенно сказал запальщик. — Жилку свою подорвал!
1937–1971 гг.
Товарищ Анна Роман
Часть первая
1
Светленькая девочка с голыми ножками, с ямочками на щеках заботливо оглядела мать и сказала, недовольная ею:
— Не люблю я тебя в этих чёрных штанах. Совсем даже не подходит.
— Что не подходит, Маринка?
— Штаны эти. Прямо стыдно!
— Сты-ыдно? — тёплым грудным голосом переспросила Анна, расчёсывая перед зеркалом свои длинные чёрные волосы. — Чего бы тебе стыдно, маленькая дурочка?
Маринка покраснела, нерешительно отняла руку от кармана брюк, держась за который, она теребила мать.
— Это тебе стыдно, раз ты обзываешься, — сказала она, отодвигаясь от матери, но тут же подхватывая ладошкой чистые, мягкие пряди её волос. — Разве это беда, что я маленькая?
— Конечно не беда, — совсем серьёзно, но с ярким, смешливым блеском в глазах согласилась Анна, рассматривая в зеркале и свою склонённую набок голову и хмурое, с надутыми губами лицо дочери.
Воткнув последнюю шпильку, она оправила воротник тёмной блузы и, раскинув руки, весело обернулась к Маринке:
— Ну, модница моя!
— Я прямо боюсь тебя, — лукаво говорила Марина, болтая ногами, тиская ручонками шею матери.
Она любила всё её большое, крепкое тело, ещё не утратив чувства младенческой привязанности к её ласковым рукам и тёплой груди.
Она трогала её мохнатые чёрные ресницы, влажные зубы, открытые улыбкой, гладила обеими ладошками её смуглые молодые щёки и, наконец, со вздохом спросила:
— Надолго опять уедешь? Ты бы отвела меня в садик сама. Надоело мне с Клавдией ходить. С ней ничего нельзя. Противная такая!
— Маринка… — укоризненно начала было Анна, но девочка закрыла её рот ладонью и сказала негромко, быстро, вся искрясь от смеха:
— Мои мальчишки говорят, что у неё нос, как китайцев ножик. Знаешь? Такой домашний ножик. Юрка его спрятал под ступенькой.
Анна поставила Марину на стул и, посматривая на её приподнятый, немножко облупившийся носик, сказала строго:
— Если ты будешь бегать без меня с мальчишками, я скажу Клавдии, и она будет закрывать тебя на замок. Поняла?
— Поняла, — сказала Маринка, присмирев. — Только это совсем, совсем хорошие мальчишки. Они не дерутся и не ругаются. А ножик мы не украли, он сам выпал из корзины.
— Смотри, — пригрозила ещё Анна.
Она наклонилась к дочери, поцеловала её выпуклый, очень белый под челкой лобик. — Мне ведь не хочется привязывать тебя, как маленького глупого пёсика, но я боюсь, что ты совсем избегаешься. Огородника нельзя обижать. Ему этот нож для работы нужен. Он ищет его, наверно.
— Ищет, — со вздохом подхватила Марина и Настороженно прислушалась к тому, как в коридоре прошлёпали по крашеным половицам плоские, без каблуков подошвы и как, приближаясь, затерялись они на ковровой дорожке.
Тонкая Клавдия вошла в щель между половинками тёмной портьеры, даже не колыхнув ими, и остановилась у порога, заметно кривобокая в своём длинном синем платье и сером фартуке. Чёрные глазки её так и светились из-под косо приспущенных тонких век.
— Мариночке пора идти, Анна Сергеевна, — сказала она, изобразив на своём лице самую добрую улыбку. — Такая миленькая девочка, такая умненькая, а прямо согрешила я с ней… Никакого сладу нет.
Марина, не ожидавшая такого оборота, нахмурилась тревожно взглянула на мать.
— Что ещё? — спросила Анна.
— Новую ленту, которую Андрей Никитич купил, она собачонке какой-то паршивой привязала, та и убежала…
— Правда убежала, — торопливо перебила Марина, — такая бедная-разбедная собачонка. Она обрадовалась, что с бантиком, даже не оглянулась ни разу.
— Будешь теперь ходить без банта, — решила Анна. — Ступай, да не шали. Чтобы таких историй, как с ножом, больше не было.
— Мы отдадим, — весело пообещала Маринка, пытаясь, так же как Клавдия, пройти между драпировками, которые почему-то всегда мешали ей.
Анна посмотрела вслед дочери, вырвала из блокнота листок бумаги, присела к столу.
«Андрей! Четыре дня без тебя, как четыре года, — написала она крупным, твёрдым почерком. — Сегодня выдали со склада последний мешок муки. А парохода всё нет и нет! Отправляюсь сейчас в обычный объезд. Приедешь — обязательно поговори с Маринкой: она опять озорничает с мальчишками.
Целую Анна».Анна положила записку в ящик стола в кабинете Андрея, взяла плащ-пыльник и, поскрипывая сапожками, прошла через столовую на террасу. Дом стоял на взгорье. Выйдя на террасу, Анна окинула взглядом просторную долину прииска. Голая гора, как сказочный дракон, лежала на северо-западе. Сморщенная массивная спина каменного чудовища была угрюмого, серого цвета. Внизу темнел лес, и в этом сине-зелёном лесу покоились лапы и вытянутая голова дракона. С юга поднимались одинокие скалистые горы, ступенчатые, круто обломанные бурые и голубые нагромождения дикого камня.
2
В углу, возле террасы, стояла водосточная бочка, наполненная до краёв недавним ливнем. Два воробья сидели на её верхнем, косо набитом деревянном обруче, трепеща взъерошенными перышками: они пили, поклёвывая ослепительно дробящееся отражение солнца.
— Весна, — промолвила Анна, с усилием отрывая взгляд от дрожащего на воде солнечного блеска.
Только сейчас ощутила она всю прелесть весны: и этот солнечный свет и блеск, и оживление по-весеннему взъерошенных птиц, и запахи молодой травы и земли, уже омытых первым дождём, обильным и тёплым. И от неожиданности этого радостного ощущения у Анны даже на сердце защемило, защемило так волнующе любовно ко всему окружающему — к Андрею, к Маринке, родное тепло которой она всё ещё чувствовала всем своим существом, — что у неё даже закружилась голова.
— Этого ещё недоставало! — вслух произнесла Анна, глядя прямо перед собою широко открытыми, счастливыми, затуманенными глазами. — Взять да расплакаться ещё или в обморок упасть!
Она посмеивалась над своей неожиданной слабостью, но слабость от этого не проходила, и только тогда Анна поняла в чём дело: она была голодна. Здоровая, сильная женщина она жила все последние дни «на кусочке», отделяя ещё от своего пайка для дочери.
«Ничего, скоро придёт пароход, и всё пойдёт по-хорошему», — подумала она и обернулась в сторону дорожки, сбегавшей вниз мимо длинных бараков и крохотных избушек, окружённых свежими плетнями.
Конюх Иван Ковба, и летом ходивший в бараньем полушубке, в стёганой шапке с одним меховым ухом, вёл лошадь. Серый Хунхуз, широкогрудый и злой монгол, с короткой стриженой гривкой, с горячими, хитрыми глазами, степенно вышагивал за стариком. Густая обычно блестящая шерсть лошади, начинала космато сваливаться на подтянутых боках.
«Перепал! — подумала Анна. — Диковатый, зато и в воду и в грязь идёт смело».
— Здравствуй, Анна Сергеевна, — приветствовал её Ковба и, по лицу его, дремуче заросшему каштаново-седой бородой, прошло неясное движение улыбки.
— Здравствуй, Ковба, — ответила Анна.
— Ты ему поводьев-то не давай, — доброжелательно посоветовал Ковба, глядя, как она, придерживаясь за луку, подпрыгивала на одной ноге за неспокойно завертевшейся лошадью. — Смотри, кабы зубами не хватил. Лукавый холера! Однако и он присмирел на одном-то сенце. Ишь, какой шершавый стал! Теперь его только овёс отмоет.
— Чего же ты не принесёшь шапку? — сказала Анна, легко сев в седло. — Клавдия обещала починить.
— Чего её чинить? Теперь лето. Оторванным ухом я Хунхуза совещу: начнёт меня, хватать, а я ему шапку-то к носу: кто, мол, это сделал? Чья, мол, это работа?
— И понимает?
— А ты как думаешь? Знамо, понимает, только выразить не может. Зря ведь это ему разбойную-то кличку дали: он попросту озорной, баловень. Как дитё, сам края не знает. Ему игра, а мне, конечно, накладно.
Анна засмеялась:
— Пожалуй, что так!
«Вот сообразили же насадить тополей! — сказала она себе с укоризной, проезжая по шоссе мимо молодого парка. — И какой это умник придумал, что картошка здесь не будет расти? На юге сумели её вырастить, а нам, на севере, тем более надо», — Анна ещё раз оглянулась на тополя.
Прошедший дождь оживил деревья. Осыпав золотистую чешую, разорвались на них тугие почки, и угловатые липкие листики радостно и плотно завесили ещё недавно прозрачный лесок. Нет, и тополя хороши: совсем другой вид стал у посёлка.
Эта молодая зелень вызвала у Анны смутное, но милое воспоминание о старых огромных берёзах, увешанных бледно-зелёным весенним пухом, о солнечно-жёлтых цыплятах, заблудившихся в красноватом хворосте. Анна даже ощутила снова вяжущий вкус какой-то разжёванной веточки, но неожиданно для самой себя сказала:
— Нет, с каждым годом всё лучше!
3
За последними избушками на взгорье шоссе кончалось. Дальше была широкая просека, покрытая пнями, кучами песка, щебня и жёлтыми выемками земляных работ. Дорога вилась к притоку Алдана, где находилась перевалочная приисковая база. Над выкорчёвкой пней работали тракторы, и удушливая гарь бензина перемешивалась с тощим дымом костров, тлевших у шалашей дорожников.
Работы и здесь шли замедленно. Пни, покрытые золотыми бородавками смолы, плотно сидели на просеке, растопырив корявые лапы-корни. Их надо было выдирать, выворачивать. Они требовали труда, грубого, здорового, сытого. Людям помогали машины. Трактор легко выдёргивал заарканенный пень и волок его, жестокого в сопротивлении, к таким же рогатым, многоруким уродам на общую свалку. Пни выкорчёвывались без надсады, но остроскулые от худобы лица, рабочих, тёмные от загара и копоти, с запавшими, голодными глазами выглядели болезненно усталыми.
Всё недавнее оживление Анны угасло. Люди были голодны. Они были голодны, и они работали. Работали упрямо, с каким-то озлоблением. А что будет, если пароход ещё задержится в пути? А вдруг он вовсе не придёт? Анна вспомнила о таких же голодных шахтёрах, о цынготниках, о невозделанных землях в речных долинах и, мучаясь поздним сожалением и не в состоянии подавить это сожаление, решила тут же перебросить часть тракторов с дороги на раскорчёвку пашен в эвенской артели.
Дорога нам нужна до зарезу. По ней и в летнее время пойдут грузы, тяжёлое оборудование, однако собственное подсобное хозяйство ещё нужнее.
Занятая этой мыслью, Анна рассеянно обернулась на цокот конских копыт и просветлела лицом. На белогривом и белоногом иноходце, несколько грузно, но прямо держась в седле, к ней приближался секретарь парткома Илья Уваров.
— Ну, как съездил, как дела в артели? — спросила Анна, натягивая поводья и задирая оскаленную морду Хунхуза, недружелюбно напиравшего на лошадь Уварова.
— Хорошо! — басом сказал Уваров и крепко тряхнул протянутую ему руку, и при этом глянул своими небольшими карими глазами куда-то в сторону.
Он был в кепи, в чёрном пиджаке, в косоворотке и в чёрных же, заправленных в сапоги брюках. Всё на нём было просто и в то же время внушительно: Уваров был очень широк и плотен.
— Провели собрания и в эвенской артели и в таборах охотников на Уряхе, — сообщил он несколько словоохотливее. — Постановили пригнать для убоя ещё сто сорок пять оленей. Утром уже пригнали. Хороший народ — эвенки. Сочувствуют.
— А мы тут послали бригаду навстречу пароходу, — сказала Анна также доверительно и охотно. — Нашлись среди старателей бывалые сплавщики-лоцманы. Двух подрывников с ними отправили — лучших шахтёров для этого пришлось снять с рудника. Они и взорвали Чертовы камни по руслу выше Широкого плёса.
— Хорошее дело! — серьёзно сказал Уваров. — По такой мелкой воде пароход через те камни нипочём не прошёл бы. Давно уже Ленское пароходство на них зубы точит, да всё сил не хватало.
— Теперь там раздолье! А парохода всё нет и нет, — продолжала Анна, снова тревожась, не засели бы на мелях Широкого плёса. — Я уж дала поручение фельдсвязи: если не удастся довести пароход до базы, организовать переброску продовольствия на оленях. Вьюками. Чтобы подняли на это дело население всех ближних наслегов.
— Хорошее дело, — всё ещё хмуро повторил Уваров.
«Что он, сердится что ли?» — думала Анна, слушая Уварова и внимательно глядя на него. Она старалась припомнить, за что он мог быть недоволен ею, но ничего не нашла и, успокоенная, спросила:
— Когда вернулся?
— Только что. Целую ночь ехал. Теперь весна — всю ночь светло.
— Да, весна. Я только сегодня почувствовала: весна.
Уваров искоса глянул на Анну, прокашлялся и, вытащив из кармана небольшой пакет, неловко подал его.
Анна удивилась. Но лицо её порозовело слегка, когда она, развернув пакет, увидела нарезанное мелкими кусочками мясо:
— Что это?
— Оленина.
— И… её можно есть… такую? — нерешительно спросила Анна, не отрывая взгляда от тёмных мясных стружек.
— Конечно. Она же копчёная.
Анна, блестя глазами, жевала жестковатое, пахнущее дымком мясо, и на лице её было почти детское наслаждение.
— У нас ведь давно ничего нет, — сказала она, точно извиняясь за невозможность отказаться от угощения. — Клавдия перетрясла все кулёчки… Она любит поесть, Клавдия… а на полках и в банках всё пусто. Дураки же мы: прохлопали в прошлом году с огородами. Ох, как нехорошо: жить без запаса! Я в детстве радовалась, когда мать пекла хлеб. Целый ящик булок! Мне это казалось много. Мно-ого хлеба! Но почему-то не замечаешь, как это хорошо, если всегда всего много.
4
К базе Уваров и Анна подъехали в самое жаркое время дня. Пахло на свежих порубках разогретой древесной смолой. Жёлто-серые полосы лиственной коры лежали повсюду, скорчившись от уколов травы, буйно выпиравшей из-под старой ветоши. Сквозь поредевший лес голубела пустынная река, только отражения белых облачков плыли по ней, и, казалось, там — за лесом, обрыв и спокойное небо. Над этим обрывом раскинулись постройки базы.
— А парохода нет и нет! — говорила Анна Уварову, поглядывая на тихие берега. — Я к заведующему через полчасика заеду, А тебя очень прошу: пошли, пожалуйста, кого-нибудь на последний пост. Пусть узнают, что слышно о пароходе.
И Анна поехала дальше, размышляя о тяжкой ответственности, свалившейся на её плечи, о том, что пароход должен придти сегодня, потому что дольше ждать невозможно.
Копыта лошади мягко ступали по грудам мелкой щепы, потом застучали по дощатому настилу. Это вывело Анну из раздумья, и она увидела, что приехала как раз туда, куда нужно. У Хунхуза была хорошая память: он знал, где надо побывать его хозяйке.
Анна привязала коня к навалу брёвен и пошла по доскам лесов.
— Хорош конек! — сказал ей Савушкин, вечный старатель, случайно заблудившийся на плотницких работах..
Он стоял над срубом в распущенной поверх шаровар рубахе, раскрытой на впалой груди, без шапки, в высоких побитых ичигах. Синенькие глаза смотрели тревожно и остро.
— Такого конька подкормить бы да на махан, — добавил он. — Татары съели бы за первый сорт. Да и наши в такой вот трудный момент не побрезговали бы. А я не могу: жалею лошадь, и мясо лошадиное душа не принимает.
— Проморить тебя этак вот ещё с недельку — собаку с шерстью съешь! — озлобленно крикнул другой плотник, поблескивая топором. — Брезговать тому хорошо, кто близко у ларя стоит.
— На птичьем пайке живём: ягодой прошлогодней промышляем, — пожаловался Анне Савушкин и сразу стал невзрачнее и старее.
— Сегодня придёт пароход с баржами, сразу выдадим крупы и масла, — уверенно пообещала Анна и, подумав про себя: «А вдруг не придёт?» — все же добавила: — И консервов мясных выдадим.
— Хорошо бы! — вскричал Савушкин, и холодные глазки его вспыхнули. — Нам ведь эти баржи и во сне уже снятся! На днях вынесли мы постановление выделить из последнего для детей. Самим-то лишь бы с голоду не умереть. Сначала народ упёрся, а потом говорят: близко пароход, вот-вот будет, — ну и отмякли. Русский человек добрый и доброту свою любит. Ничего, мол, потерпим ещё денька два. Раз пароход близко, — можно потерпеть. Ну и ещё сократились, подтянули брюхо потуже. Говорят, большущий пароходище идёт!
— Да, большой! — подтвердила Анна, которой и самой теперь казалось, что пароход должен быть огромным, и хотелось этого, хотя маленький пароход пришёл бы намного раньше.
— Баржи тоже большие? — увлекаясь, спрашивал Савушкин.
— Конечно, — поддаваясь и этому желанию, сказала Анна.
Она смотрела на плотников «с подтянутым брюхом», строивших дом отдыха и веривших в святую необходимость, этой работы, слушала их простые, искренние речи и думала о «доброте», позволившей им выделить для чужих детей последние крохи.
Анна вспомнила свою мать, суровую сибирячку, всегда приберегавшую первый кусок для мужа, для «добытчика». Кто внушил им, всем этим людям, такую заботу о детях?
«Да, да! Нам всё надо беречь. Детей беречь особенно», — подумала Анна и снова зорко всмотрелась в далёкий кривун берега.
Пароход задержался в пути из-за необычно быстрого спада весенней воды. Пароход вёз рабочих, продукты, огородные семена, оборудование. Тысячи людей в этой бесплодной, дикой стороне ждали его с суровым, уверенным и, тем более, страстным нетерпением. И всё это нетерпение ожидающих голодных людей выражалось сейчас в глазах Анны.
5
Молодой врач Валентина Саенко стояла у постели больного кочегара, отсчитывала частые толчки его пульса, глядя на свои золотые часики. Чёрная ленточка часов особенно подчёркивала округлость и нежность охваченной ею руки с лёгкими ямочками на крошечной кисти. Валентина, озабоченная, следила за тем, как бежал по секундной лесенке острый лучик стрелки.
И в это время пароход мягко, но сильно содрогнулся всем корпусом. Валентина обернулась так порывисто, что разлетелись пушистые пряди её волос и посмотрела на окна каюты. За окнами еле виднелись верхушки берегового леса. За лесом неподвижно темнели далёкие горы: пароход остановился.
— Опять! — произнёс кочегар с огорчением, и над бровями его собрались морщины.
Этот молодой человек болел воспалением лёгких — простудившись при стаскивании парохода с мели.
— Опять засели! — повторил он, злясь на своё бессилие. — Пока доберёмся, на приисках все с голоду перемрут.
— Сейчас узнаю, что произошло, — сказала Валентина, тоже встревоженная. — Обидно, если это «опять».
Она вспомнила о последней радиограмме с приисков, полученной капитаном парохода на базе пушторга. Дирекция и партком прииска снова сообщили о тяжёлом положении с хлебом и просили «сделать всё возможное» для скорейшей доставки грузов.
«Мы сделали всё возможное и невозможное, — подумала Валентина, выходя из каюты, — но вода спадает с каждым днём, а впереди ещё какие-то Чертовы камни».
Пароход стоял на широком перекате. Река, пронизанная хрустальными иглами света, играла искристой рябью и её непрерывное журчание за кормой не заглушалось топотом и говором людей, спускавших на воду шлюпки.
Справа невысокие скалы вошли в реку, как стадо рыжих быков, за ними низкий, размытый берег и горы; слева длинная песчаная отмель, серая, гладкая, точно укатанная, и дальше тоже горы. На горах синей тучей лежала тайга. В каких только берегах не застревал на своём пути этот несчастный пароход!
— Не понимаю! Работают же гидрологи, есть же люди, специально поставленные… — донёсся до Валентины раздражённо усталый голос капитана, заглушаемый шумом на палубе. — Правда, у нас, в низовьях, это не так уж сказывается. Но, с тех пор, как существуют гидрологические пункты…
— Наше дело — доставить, — возразил другой густым басом. — И мы бы доставили, черт побери, если бы выехали дней на пять раньше. Такого быстрого спада весенней воды мне тоже ещё не приходилось наблюдать за всю мою работу лоцманом.
— Вы думаете…
— Я думаю, дальше будет ещё хуже. Я проводил здесь караваны судов… не в первый раз. Конечно, мы можем попытаться пройти через мель этого широкого плёса… бывают чудеса: я своими глазами видел сома, перебиравшегося через озёрный перешеек по мокрым камням. Но дальше настоящий заслон. Стоит ли мучить людей. Лучше устроить пакгаузы на берегу и выгрузиться.
Тут в разговор вступило сразу несколько голосов, и шум на палубе ещё усилился, пока его не покрыл всё бодрый, рокочущий бас лоцмана:
— Сом, он и на берег выползает по сильной росе… Ну, что за дамский вопрос! У всякого свои надобности.
«Они не хотят пробиваться дальше!» — испуганно подумала Валентина и тут же увидела чужую лодку, которая огибала борт парохода, причаливая к трапу, где уже покачивалась спущенная матросами шлюпка. Позади гребцов стоял, выпрямившись во весь рост, красавец фельдъегерь молодой, черноглазый, румяный, как девка. С парохода и шлюпки встречали приезжих весёлым, разноголосым шумом.
— Как сплав вверху? — кричал шахтёр из вербованных, Никанор Чернов, перевесившись через перила в своём стремлении разглядеть приисковых посланцев.
— Хорош! — кричал фельдъегерь, сияя молодой, самодовольной улыбкой.
Он и хотел бы поважничать, потомить людей, но то, что он готовил отрапортовать начальству, вылилось само собою при виде народа, собравшегося на палубе:
— Дальше путь свободный, товарищи. Чертовы камни уничтожены. Мы их взорвали…
— Вот это здорово! — сказал капитан, уже стоявший рядом с Валентиной. — Значит, нам стоит потрудиться, чтобы взять последний барьер. Чувствуешь, лоцман?
— Легко сказать: возьмём последний барьер! Да перескочить-то через него трудно. Пароход прямо, как в кашу, сел. Вы только взгляните, как движется по дну разжиженный песок. Стоим в русле, а нас затягивает со всех сторон.
6
Валентина, как и сотни других пассажиров, стала привычно спускаться по трапу. Их всех перевезли на песчаную отмель, которая вблизи не была такой гладкой: была тут и трава, выросшая кое-где пучками, и какие-то голые прутики торчали из песка, облепленные засохшей тиной, а вот и следы больших и малых медвежьих лап. У самой воды наследили голые ступни с узкой пяткой и широким оттиском пальцев. Маленькие подушечки медвежат так и отпечатались на песке. Какое сборище бывает на этой дикой песчаной косе!
Пока Валентина осматривалась, с парохода перебросили на берег канаты. Пассажиры прицепились к ним, как гудящие рои, и начали тянуть пароход обратно, вниз по течению.
«Ну, „леди“, покажите ещё раз свою способность к физическому труду! Это вам не прогулка на теплоходе по каналу Волга — Москва, — сказала себе Валентина, из всех сил упираясь ногами в рыхлый, сырой снизу песок. — Вот бы удивился тот долговязый американец, который так почтительно разговаривал со мной в поезде! Он, конечно, не стал бы утруждать себя, имея билет первого класса».
Скоро все взмокли от пота, хотя топтались на одном месте. Стащить пароход с мели было не легко. Валентина чувствовала его упорное, живое сопротивление по тугой дрожи каната, согретого человеческими руками. Лицо её раскраснелось, ноги, переминаясь, тонули в песке, в туфли набиралась холодная вода.
«Какая злая река! — думала Валентина, глядя, как другие пассажиры дружно и даже ожесточённо тянули канаты вброд. — Она как будто нарочно натащила в своё русло эти песчаные косы. Она устроила настоящие заграждения из песка, гальки и всякой дряни. Теперь она спешит подтащить всё это к самому носу парохода. Но мы перехитрим её. Только бы не пришлось опять разгружать трюмы».
Валентине и в голову не приходило уклониться от участия в этих «авралах». Теперь она была покорена Дальним Востоком. Восемь суток мчал её сибирский скорый поезд до станции со странным именем «Невер», затерянной меж сопок, покрытых голубыми даурскими лиственницами. Восемь суток провела она среди покачивающихся мягких диванов, зеркал, узорчатого стекла, жаркого блеска бронзы. Пассажиры — американцы и японцы, с любопытством поглядывали на красивую «леди», целыми днями торчавшую у окон, то у своего столика, то в коридоре, то на пороге открытого купе.
«Обратно я поеду жестким, — решила Валентина, высадившись со своими чемоданами и глядя вслед поезду, убегавшему в темноту, — там веселее и, наверно, нашлись бы попутчики».
Затем повернувшись лицом к сопкам, куда уплывали, обозначая извилистый путь шоссе, жёлтые огни автомобилей, она сказала:
— Какое это огромное — Сибирь!
7
И вдруг канат ослабел, и все зашумели отступая. Споткнувшись о что-то, Валентина упала, но тут же вскочила и, отряхиваясь, смеясь, пошла рядом с толпой. Пароход, медленно освобождаясь, тоже двигался.
Люди, отдыхая, собрались группами на размешанном ими отсыревшем песке.
— Третью неделю от Якутска плывём, а нас на приисках ждут не дождутся, — досадовал шахтёр Никанор Чернов, расторопный, весёлый и светлоглазый. — Ну и молодцы они, что сами тоже действуют! У меня как-то сразу на душе отлегло: всё-таки неспокойно, когда женщина поставлена директором на горном деле. А эта, видать, толковая, — с минуту он молчал, прятал от ветра слабый огонёк в ковшике ладоней, а закурив, с дымящимся ртом добавил. — Обидно было бы не дотянуть до места. Сколько раз выгружались да погружались!
— Надорвали животики! — мрачно сказал другой, невысокий атлет с выпуклой, просторной грудью, крепко обтянутый красной безрукавной майкой, он был тоже шахтёр с Амура, хрипатый, проспиртованный, бывалый. — Кабы начальство мозгами раскинуло, не послало бы такой пароходище. Можно бы поменьше.
— А что бы он привёз, поменьше-то?
— На вешнюю воду понадеялись, — послышался женский голос из толпы.
— Говорят, что нынче очистят русло, — вмешалась Валентина. — Камни будут взорваны на всех перекатах.
— Кабы очистили! — промолвила со вздохом статная, широкоплечая женщина; она посмотрела на Валентину спокойно, доброжелательно. — Вам бы рукавицы у кого-нибудь попросить… Руки-то у вас мяконькие, непривычные.
— Ничего, я ведь не такая уж неженка! Это только так кажется. Я ведь сильная, — Валентина не переносила жалостливого отношения к себе, но искреннее сочувствие этой женщины тронуло её.
— За границей есть государства… — неторопливо рассказывал своё шахтёр в красной майке, — такие, что утром выйди из дому, пойди пешком в какую хочешь сторону и к вечеру в другое государство придёшь. И от такой тесноты культура там страшная, прямо плюнуть некуда. Покурил, скажем, на улице — окурок хоть в карман клади. А если бросишь, — сейчас полицейский — и штраф.
— Вот брешет! — насмешливо сказал Никанор Чернов, оскалив здоровые зубы.
— Может, и не брешет, — возразила Максимовна. — Про нашу землю такое, небось, не скажешь. Её пешком-то и за целую жизнь не обойдёшь.
— Пешком теперь отходили. Теперь уж на самолёте запросто начинают ездить. На цеппелине, — ввязался в разговор узкоглазый бурят, баргузинский старатель и он же лесоруб с Вишеры.
— Что это ещё за цепелина? — заинтересовался вдруг шахтёр в майке, прерывая свой рассказ.
— Колбаса такая с газом, — пояснил, польщенный общим вниманием, бурят. — Прицепеллинится к самолёту вроде баржи и пошёл…
— Вот это уж вовсе брехня! — сказал Никанор Чернов, не скрывая своего восхищения. — Воздушный путь — не река, баржи таскать, — продолжал он с усмешкой… «Цеппелин» — вполне самостоятельная лётная единица.
8
Садясь снова в шлюпку, Валентина очутилась рядом с пароходным поваром. Он не был ни толстым, ни румяным, как многие старые повара, тучнеющие среди своих кастрюль и сковородок. Пепельно-голубая лайка Тайон вскочила в шлюпку за ним следом, почти коснувшись его лица чёрной тюпкой носа. Повар взял собаку за шею и втолкнул под скамейку, чтобы не путалась под ногами..
— Поработали? — обратился он к Валентине, расправляя ладонью пышные седые усы. — Мы и так вам благодарны за лечение нашего кочегара. Это я могу сказать от лица всей команды. Фельдшер у нас, откровенно сказать, бестолковый человек, совсем безответственный. То есть несоответственный, хотел я сказать.
Тайон высунулся из-под лавки, заискивающе посмотрел на своего хозяина.
— Куш там! — строго сказал повар, втискивая его обратно.
— Я никогда не видела, чтобы собака была такой масти, — заметила Валентина. — Правда, он похож на голубого песца?
Резкие морщинки вокруг прижмуренных глаз повара ещё углубились улыбкой.
— Возьмите его, ежели он вам нравится, — сказал он неожиданно.
— А вам разве не жалко?
— Для хорошего человека никогда не пожалею. Пускай он напоминает вам о благодарной команде нашего корабля.
— Он не пойдёт ко мне, — слабо отговаривалась Валентина.
Собака ей нравилась, и она, вспомнив медвежьи следы на берегу, подумала о том, как хорошо иметь в тайге такую собаку.
— Пойдёт, — горячо уверил повар, сразу проникнутый убеждением, что он давно искал случая подарить своего питомца хорошему человеку Валентине Саенко. — Он же на людях вырос. Ко всем ласковый.
Поднявшись на пароход Валентина взошла на верхнюю палубу и позвала:
— Тайон!
Собака вопросительно взглянула на повара, но он не обращал на неё никакого внимания, глядя в сторону, Тайон тоже посмотрел туда, но не увидел ничего занимательного и побежал к Валентине.
Наверху было светло, пусто. Только пролетела чайка, поджимая красные лапки, посматривая то одним, то другим глазком на палубу, заваленную канатами. Её распростёртые крылья просвечивали снизу синеватой белизной талого снега и, только ложась в крен, вдруг вспыхнули на солнце разящим ослепительным блеском.
Пароход медленно, осторожно продвигался по излучинам реки. Волнисто вспаханная полоса тянулась от него к барже, тащившейся следом на глухо брунчащем канате. За этой баржей тащилась ещё одна, и они, как огромные утюги, сглаживали крутой след парохода. Потом с обеих сторон надвинулись и поплыли совсем рядом красновато-бурые в чёрных трещинах утёсы. В каменных трещинах зеленел колеблемый ветром дикий кустарник.
Валентина присела на свёрток брезента. Тайон судорожно зевнул, припал на вытянутые передние лапы и лёг рядом, жарко дыша. Глаза его на свету казались жёлтыми и прозрачными, как стеклянные пуговицы.
— Скоро приедем, — сказала ему Валентина. — Теперь-то мы уж, наверно, доедем без всяких приключений.
9
Когда послышался гудок парохода, берег ожил. Тут были и лесорубы, и дорожники, и горняки с ближних к базе приисков. Анна шла мимо этих людей по высокому берегу, не отрывала глаз от тонкой живой полоски дыма, стелившейся вдали над лесом. Напряжённое ожидание сменялось облегчением, спокойствием, усталостью.
Потом она увидела Уварова, сидевшего на брёвнах. Он показался ей серым и постаревшим. Она удивилась, как он переменился за последние две недели, как удивилась и тому, что до сих пор не замечала этого.
Его окружали хохотавшие ребятишки, не устрашённые ни его басистым голосом, ни грозной складкой его бровей.
— Что у вас? — заинтересовалась Анна.
— Да вот… — Уваров посмотрел на неё, неожиданно широко улыбнулся. — Вот эта гражданка, — он показал на худенькую девочку лет трёх, — попросила меня рассказать про быков. Я, конечно, рассказал. Не сказку про белого бычка, а про настоящих, рогатых, работящих быков. «Нет, — говорит, — это не те быки: у тех рогов нет и они давят маленьких девочек». Слыхала ты что-нибудь подобное? Я уж фантазировать начал. «Есть, — говорю, — такие с электрическими глазами». А она смотрела, смотрела на меня, даже как будто сочувственно, да вдруг и говорит (глаза Уварова заблестели, и он улыбнулся чуть смущённо, отчего лицо его стало сразу простодушным и добрым): «Такой ты большой дурак, а про быков не знаешь».
Анна засмеялась, потом нахмурилась: девочка была слабенькая с огромными, печальными глазами.
— Вот скоро придут ещё пароходы с баржами. Они привезут нам коров и настоящих быков. Тогда ты будешь пить молоко и станешь круглая, как булочка.
— А я? А я? — наперебой закричали ребятишки, придвигаясь ещё ближе.
— Ты будешь, и ты, и тебе, пожалуй, достанется, ну а ты и так всех толще, — весело отвечала Анна.
Она разомкнула детский круг, взглянула на белую косу дыма, которая всё росла и ширилась, и пошла навстречу по берегу. На ходу она обернулась, посмотрела на Уварова и рассмеялась.
— Чему ты? — спросил он, догоняя её.
— Да так… Я, когда была маленькая, тоже боялась коров. И до сих пор боюсь. Лошади вот — другое дело!
— А я? А я? — наперебой закричали ребятишки.
— Ты будешь, и ты… И тебе, пожалуй, достанется, а ты и так всех толще, — весело отвечала Анна.
Она разомкнула детский круг, взглянула на белую косу дыма, которая все росла и ширилась, и направилась к самому берегу. На ходу обернулась, посмотрела на Уварова и рассмеялась.
— Чему ты? — спросил он, догоняя ее.
— Я, когда была маленькая, тоже боялась коров. До сих пор боюсь. Лошади — другое дело!
— Ну, твой Хунхуз… — начал было Уваров.
— Он очень самостоятелен во всем, — с живостью подхватила Анна. — Сегодня, когда я выходила из дома отдыха, за мной шел кто-то. Громко топал. Я думала, военный какой. Но в дверях он мимоходом бесцеремонно отстраняет меня. Гляжу… лошадиная морда! Как снялся с привязи, зачем вошел в дом? Там еще и полов-то нет, просто доски мостками положены. Только вышел и задурил: накинулся на собаку, заскакал и… удрал на конюшню. Пришлось мне пешком идти.
— Как она ловко тебя обрезала! Деваха-то… — чуть погодя напомнила Анна, охваченная искренним, душевным весельем. — Этакая ведь козявка! А глаза… Ты заметил, какие у нее глаза? Посмотри она на меня своими глазищами вчера, я бы разреветься могла. А сейчас отмякла. Сейчас можно доброй быть: хватит, поскряжничала! Вот он, пароходище… Баржи-то на самом деле огромные! — И Анна поспешила к причалу, где уже пришвартовывался, устало вздыхая, пароход.
Пассажиры хлынули по сходням на берег. Они успели переодеться и такие, праздничные, смешались на берегу с теми, кто их так долго ждал. Совершенно незнакомые люди обнимались и целовались, хлопали друг друга по плечу.
— Долго же вы ехали!
— Долго…
— Ну, со свиданьицем!..
Вместе со всеми на берег сошла молодая, стройная женщина. Матросы несли ее вещи, а один из них, совсем седой, тащил на руках большую собаку-лайку. Лайка, покорно развесив лапы, махала хвостом и все старалась лизнуть матроса в бритую морщинистую щеку.
— Наверное, врач, которого нам обещали, — напомнил Уваров, протискиваясь к Анне и кивая на приезжую.
И все таежники сразу обратили внимание на нее. Даже счастливо оживленные, они были серыми и по лицам и по одежде, замызганной на работе, а она вошла в толпу светлая, свежая, яркая.
Анна всмотрелась в лицо приезжей, потом взглянула на бледного до желтизны Уварова и сразу представила, какой усталой выглядит она сама.
— Врач — это вы? — спросила она просто, но со смутной настороженностью.
— Да, — сказала Валентина и, подойдя ближе, добавила: — Саенко, давайте знакомиться!
— Очень рада, — проговорила Анна, обеими руками сжав протянутую ей руку. — Хорошо, что вы такая молодая! Здесь нужны молодые. Извините… — спохватилась она, не в силах отделаться от неясного беспокойства. — Я Лаврентьева, директор Светлинского управления. — Взглянула в глаза Валентины Саенко, и вдруг ей показалось, что караван судов, так долго и нетерпеливо ожидаемый, привез сюда только одну эту женщину.
10
По каменистой крутизне, по кустикам брусники, покрытым гроздьями крохотных бело-розовых цветочков, инженеры поднялись на голую вершину Долгой горы. Северо-восточный ветер тянул с далеких берегов Охотского моря, вольно пролетая по гольцовым хребтам. Дыхание его было сильно и чисто, и только там, где стлались по камням согретые солнцем ковры богородской травы да курчавились молодые перья зверобоя, ветер отдавал теплым запахом ладана.
Главный инженер управления Виктор Ветлугин вынул чистый платок, вытер лоб и шею. Смуглое от крепкого загара лицо его все раскраснелось. Фетровая шляпа, сдвинутая на затылок, и клетчатая ковбойка, перехваченная широким поясом, придавали ему живописно-щеголеватый вид, но высокие сапоги с ремешками и пряжками были сроду не чищены, а дорогие суконные брюки пожелтели от глины.
— Странно, — сказал он, обращаясь к спутнику, и улыбнулся мечтательно, — когда я поднимаюсь на такую кручу, мне не хватает дыхания, но безумно хочется петь. И странно то, что я ведь никогда не пою, не умею петь.
— А вы покричите, — шутливо предложил Андрей Подосенов, муж Анны, и сам первый крикнул: — О-го-го-го-го-о!
Далеко по ущельям, по мрачным ельникам, пугая стремительных коз и горных баранов, рассыпалось отголосками: «Го-го-го-о!»
— Ага, значит, и на вас действует! — блестя темно-карими навыкате глазами, сказал Ветлугин. — Мне, знаете, с детства нравилось бывать на высоте… Я лазил на крыши, на сопки, воображал себя Манфредом, Демоном… Словом, страшно одиноким и страшно сильным, гордым. Позднее мечтал о самолете. — Он помолчал, добавил задумчиво: — Рвался в небеса, а работать пошел под землю.
Андрей ничего не ответил. Слоистые сланцы выперли ребром на крутом склоне; выветрились с годами, рассыпались в щебенку. Андрей шел, глядел на эту звонкую россыпь под ногами, но думал о словах Ветлугина.
— Мне досталось суровое детство, — сказал он наконец, как бы понуждаемый откровенностью товарища. — Мечтать было некогда. Я потерял родных и начал жить самостоятельно с девяти лет. Добывал кротов, сусликов, нанимался к богатым бурятам… Вы мальчиком воображали себя Манфредом, а я только под тридцать лет узнал, и то со страниц Писарева, что Манфред — один из героев Байрона, а до этого был способен спутать самого Байрона хоть с Бироном, хоть с бароном. Мне исполнилось четырнадцать лет, когда я решил учиться, сделал себе котомку и ушел из степей в город. Один. Пешком. За пятьсот верст… Зимой учился, а летом лоточничал на приисках.
— Вы упорный! — сказал Ветлугин. — Значит, это вас там, у бурятов… — Он сделал неопределенный жест перед своим лицом и сконфузился, залился румянцем.
— Оспа-то? — спокойно переспросил Андрей. Он знал, что легкие рябинки на лице не портили его, и не понял поэтому смущения Ветлугина. — Да, я болел там, в Бурято-Монголии. Но она могла поклевать меня где угодно: мои родители не признавали никаких прививок.
11
Инженеры подошли к канавам, избороздившим вершину горы, и выражение их лиц сразу изменилось: Ветлугин построжел, движения Андрея стали беспокойнее.
— Имейте в виду: мы находимся в тупике, — сказал Ветлугин. — Наш прииск уже в текущем году задыхается от недостатка разведанных площадей.
— Это у меня не только в виду, но вот где! — откликнулся Андрей, похлопав себя по шее. — Вы корите нас, геологов, за плохую работу, а у нас нет средств. Мы тоже задыхаемся.
Андрей сел на край канавы, оперся в борта руками, повисел и спрыгнул вниз.
— Нам надо создать запасы по рудным месторождениям не менее чем на три года! — выкрикивал он уже снизу, из тесной траншеи. — По россыпям — на два года, а денег отпущено столько, что не хватит даже на зарплату сотрудникам.
Геолог отряхнул пыль с ладоней и поднял голову. Над ним голубела узкая полоса неба, загороженная с одного края рослой фигурой Ветлугина, который тоже приготовился спрыгнуть и спрыгнул, обрушив за собой поток мелкой земли.
— Вот черт, за воротник насыпалось! — ворчал он, поеживаясь. — Нарыли могилы какие-то. — Осмотрел круто срезанную стенку забоя и сказал: — Средств мало, а роете основательно. Все-таки я бы на вашем месте переключился на россыпи, честное слово. Ведь нет же ничего.
— На днях здесь обнаружили выход жилки сантиметров в десять, местами в пятнадцать, а сейчас, верно, пропала, — ответил Андрей хмуро, покусывая губы.
Он отбросил кусок кварца, тронутый ржавчиной оруденелости, и прямо посмотрел в широко расставленные глаза Ветлугина:
— Вместо того чтобы советовать мне переключиться, вы бы лучше настаивали в тресте на отпуске средств.
— В тресте много противников вашей Долгой горы, долбят нас запросами. Да и трудно возражать против временного закрытия этих работ: они так затянулись, что стали для нас камнем на шее. Я откровенно вам говорю. Дайте нам лучше синицу в руки…
Андрей заметно изменился в лице.
— Откровенность еще не истина, — заметил он жестко. — Нечего сказать — одолжили! Конечно, закрыть работы легче всего. Еще легче совсем ничего не предпринимать, а плыть по течению. И совесть чиста, и холка не набита…
— А что слышно из Главзолота? — прервав его, спросил Ветлугин.
— Приезжал представитель, посмотрел, составили проект разведочных работ, составили объяснительную записку, — вы же знаете… Распоряжение продолжать работы дано, а о средствах ни слова.
— По-видимому, в главке тоже делают ставку на рассыпное золото. Не обижайтесь на меня, Андрей Никитич. Я понимаю: опять на больную мозоль… Но факты упрямая вещь. — Желая перевести неприятный разговор на другое, Ветлугин добавил: — Я не очень силен в логике и философии, прямо сказать, отстал в этой области…
— Не иначе! — промолвил Андрей, сердито глядя на него. — Но что с того?..
— Решил теперь серьезно заняться… Надо ликвидировать пробел в образовании. Марксизм изучаю. Сижу по вечерам: читаю и думаю. Ведь в старое время молодежь активно болела философскими вопросами, несмотря на гонения. Правду жизни на тернистом своем пути искала! А мы, как богатые наследники, явились на готовое. Перед нами открыты все двери в жизнь, и мы успокоились: газеты читаем — и слава богу.
— А вы не обобщайте, не все успокоились на газетах.
— Само собой разумеется, но таких, как я, грешный, немало, Андрей Никитич! На политчас — и то за труд считаем…
— У вас всегда крайности, — возразил Андрей. — Видите, я тоже умею быть откровенным. Теперь вы ухватились за мысль о своей идейной отсталости и будете носиться с этим, бить себя в грудь и прочее… Тут вы можете взять пример с тех ловкачей, которые умеют из любой ошибки сшить себе шубу.
— Нет, это у меня более серьезно, чем вы думаете, — сказал Ветлугин.
12
Четыре пары рук вскидывали вверх бабу — трехпудовый чурбан: четыре вздоха сливались с глухим ударом. Конюх погонял лошадь, припряженную к оглобле-водилу, и круглая железная площадка оседала все ниже, вращаясь на своей ноге-трубе, которая разбуривала землю острыми зубьями стального «башмака». Издали тесная группа рабочих на площадке напоминала деревянную кустарную игрушку.
Выше по ключу, протекавшему у подножья Долгой горы, работал на разведке россыпей второй бур, и там, в редком леске, суетилась такая же группа людей и туманился высокий костер-дымокур.
У самой разведочной линии Андрей вынул из сумки блокнот и начал записывать, поглядывая на цифры, черневшие на затесах столбов. Ветлугин шел за Андреем.
Смотритель разведок встретил их около бура с цилиндром пробной желонки в руках. Лицо у него было темное, плоско-отекшее, почти шестиугольное. Узкие щелки глаз едва светились.
— Что с тобой, товарищ Чулков? — удивленно спросил Андрей, узнавая его только по одежде и по легкой в движениях полной фигуре.
Чулков сконфуженно махнул рукой:
— Разрешение продовольственного вопроса. Гнус поднялся — по сырым местам звоном звенит. Я все время охотой промышлял, так ничего, при ходьбе не шибко накусывали, а вчера сходил с удочками, посидел на бережку, и лицо под одну опухоль слилось, обратно по тропинке чуть не ощупью шел.
— А рыбы наловили? — заинтересовался Ветлугин.
— Полмешка нахватал. И хайрюзов и ленков. Мы ведь вторую неделю целиком на самоснабжении. Как дикари, без хлеба, на одном мясе живем. Теперь дождались! Только что узнали — пароход к базе подходит. Орочен проезжал на олешках — сказывал. Теперь оживем. Без хлебушка соскучились.
— Да, дождались, — радостно отозвался Андрей. — Нам вчера на Раздольном сообщили…
Чулков взглянул в лицо Андрея, худощавое, загорелое, с темными глазами и твердо очерченным ртом, и спросил:
— Вас, видать, гнус не трогает?
— Едят вовсю, только я не опухаю.
— Значит, крепкие. А у меня тело нежное: чуть что — и заболит и заболит. Я уж теперь решил деготком мазаться. Гнус его очень не уважает. — Чулков сам привернул желонку к стальной штанге и встал у площадки, глядя, как навертывались и опускались в трубу остальные штанги, подхватываемые над устьем скважины штанговыми ключами. — Не только знаки начинают попадаться… Сейчас пробу возьмем, сами убедитесь, — говорил он, не оборачиваясь к инженерам. — На четвертой линии хорошее золото обнаружено.
— Хорошее? — оживленно переспросил Андрей, взглянув на Ветлугина с затаенным упреком.
— В некоторых скважинах очень хорошее… Да вот, извольте посмотреть. — Чулков неторопливо достал записную книжку. — Тут у меня все прописано, до точки.
Промывальщик принял в ведро желтую от глины желонку, рывком подал на площадку бабу и пошел к промывальной яме. Инженеры и Чулков, как привязанные, потянулись следом.
«Будет или нет? — тревожно гадал Андрей. — И какое?»
Он сам подбирал штат разведки, знал мастера и рабочих, вполне доверял им и сейчас почти с удовольствием наблюдал за ловкими движениями промывальщика.
Чулков, пожилой, грузный, сидел на корточках, посапывал трубкой, напряженно смотрел запухшими глазками на дно лотка, где таяла и таяла размываемая кучка породы. Потом он ревниво перехватил лоток, кряхтя, выпрямился.
— Очевидные знаки! — произнес он с торжеством в голосе. — Это вам не баран начихал! — Узловатыми от ревматизма, тупыми пальцами таежник любовно трогал светлые искорки в черных шлихах, приговаривая: — Вот и еще. А это, прямо скажем, настоящее золото!
Андрей нетерпеливо забрал у него мокрый лоток и сам стал ковыряться в нем, рассматривая каждую крошку.
— Правда золото, и совсем не окатанное! — Он уже веселее взглянул на Ветлугина, приглашая его полюбоваться. — Каково ваше мнение, уважаемый Виктор Павлович?
— Неплохо, — ответил Ветлугин, невольно заражаясь его волнением. — Но ведь немного таких проб взято, — добавил он, точно хотел охладить преждевременное торжество разведчиков.
— Почему немного? — обиделся Чулков. — С правой стороны, верно, победнее, а к левому увалу пробы везде дают золото. Андрей Никитич недаром толкует насчет рудного на Долгой горе: все выходы пород с левой стороны обозначаются.
Чулков оглянулся на бур, досадливо крякнул, сразу помрачнев:
— Труба сорвалась!
— Часто это бывает у вас? — спросил Ветлугин, пробуя пошатнуть накренившуюся площадку.
— Почти на каждой линии. Резьба тонкая, слабая, как наскочит на боковой валун, так и готово.
— Разбуривать надо, — сказал Андрей.
— Мы разбуриваем, да разве уследишь?
— Я не очень доверяю ручным бурам, — с неприятной теперь Андрею самоуверенностью говорил Ветлугин, шагая по тропинке к жилью разведчиков. — Что-то варварское в этой долбежке чурбаном. Хотя и во всей вашей работе много примитивного… Да еще жизнь в лесу: день-два пробыть — и то тоскливо, а если на месяцы, на годы… Нет, я бы так не смог!
— Охота пуще неволи, — ответил Андрей с жесткой усмешкой. — Мне нигде не скучно. Разве в черноземной полосе, где не то что скалы, а камня — капусту придавить — не найдешь. Там, пожалуй, соскучился бы. А здесь? Трудно? Очень. Но интересно. Поиски, борьба с природой, дикая красота ее — все захватывает. Вы присмотритесь, какой у меня здесь народ. Есть таежники, которые по тридцать лет из тайги не выходили, и ничем их отсюда не выманишь, а вы говорите — «тоскливо»!.. Не дразните зря, а то опять поцапаемся.
— Я не зря. Вижу ведь, как вы от дикой-то красоты домой тянетесь. Значит, стосковались! Цветы эти зачем?
Андрей неожиданно рассмеялся, приложил руку к сердцу:
— Тут теплый уголок — дочка Маринка!
13
Серые оводы жадно толклись и жужжали вокруг лошади-водовозки. Если такому злющему воткнуть хвост-соломинку, то он все равно полетит, но… кусаться, наверное, не станет. «Нельзя мучить животных», — сказал как-то папа.
«Мучить нельзя, а соломинку можно, — думала Маринка. — Раз они кусаются. Раз они не полезные. Вон лошадь совсем замучили». — И она внимательно посмотрела на водовозку, которая, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, сердито лягала себя под живот.
Девочка сидела на ступеньке крыльца, щурясь от солнца, наблюдала, как дедушка Ковба переливал воду из бочки в желоб, проведенный в кухню через проруб в стене. За сеткой, вставленной в открытое окно, будто рыба в банке, мелькала Клавдия.
— Сплетница-газетница! Ябеда-беда-беда! — тихонько запела Маринка, посматривая то на это окно, то на кладовку, из-за которой таинственно поманил ее вдруг точно с неба свалившийся приятель Юрка.
Маринка сняла панаму, новые туфли, белые с синей полосочкой носки и нарядный фартучек — все, что так легко пачкалось, а потом являлось поводом для нареканий Клавдии, — положила все в углу ступеньки и снова взглянула на кухонное окно.
Клавдия куда-то исчезла. Тогда Марина потихоньку стала съезжать с крыльца. Земля под босыми ногами оказалась теплой, шершавой, и маленькая озорница, замирая от радостного страха, побежала мимо водовозки, мимо молчаливого деда Ковбы.
Юрка и белокурый Ваня сидели на камне за углом кладовки. В руках у Вани была большая коробка. В коробке что-то шуршало.
— Покажи, — сразу приступила к делу Маринка, задыхаясь от пережитого волнения. — Кто это там?
— Угадай!
— Я в другой раз угадаю.
— Вот ты всегда так!
Ване самому не терпелось поскорее открыть коробку.
— Страшные они, — предупредил он шепотом, округлив добрые светлые глаза, и осторожно приоткрыл крышку.
В щель просунулась черная толстая нитка, быстро зашевелилась.
— Волосогрызка. Мы их прямо руками, — похвастался Юрка. — А зубы-то у них какие: раз — и напополам. Чего хочешь дай: хоть волос, хоть травину — все перекусят.
— А проволоку?
— Ну, уж ты придумаешь! Еще скажешь — железину!
Юрка взялся за торчащий из коробки ус и вытащил длинного черного жука, который отчаянно сучил ножками.
Девочка громко завизжала от восторга и ужаса и присела, разглядывая усатое чудовище. Белое ее, с крупным синим горошком, платье колоколом опустилось к земле.
— Тут их много! Они кому хочешь плешину сделают. — Юрка, смуглый и чернобровый, сам похожий на жука, встряхнул коробку, он был старший в компании и все знал. — Сейчас мы сделаем им клетку с крышей, как в зверинце. Вы подождите, я схожу за ножиком.
Маринка взглянула на него виновато-просительно:
— Мама велела ножик отдать, раз он ворованный…
— Опять насплетничала? Э-эх, ты! Вовсе и не ворованный, и не отдам… — Юрка пошел было за ножом, но сразу метнулся обратно. — Спасайся! Крыса бежит!
Мальчишки пустились наутек, а Маринка села у стены и краем платья закрыла босые ноги.
Клавдия налетела стремительно, огляделась, придерживая рукой разлетевшийся подол платья, погрозила костистым кулаком вслед мальчишкам:
— Я вас, негодяи! — Затем она повернулась к Маринке, всплеснула руками: — Что же это такое, господи! Сидит ребенок на голой земле, точно беспризорник какой. Иди домой, бесстыдница!
— Не пойду, — сказала Маринка, мрачно глядя, как ее приятели перебираются через огородную изгородь.
— А мамаша что сказала? Чтобы ты с мальчишками не озорничала.
— Мы не озорничали, — звонко ответила Маринка и другим, сорвавшимся голосом добавила: — Будто поговорить нельзя!
— Мариночка, золотце! Вы целый день в садике играетесь… И все мало! Разулась зачем-то… Боже мой, какие непослушные дети стали!
Она схватила Марину, потащила ее, точно котенка, и только на крыльце выпустила, собираясь обуть, но девочка сказала сердито:
— Я сама умею. Я сама надену… Я сама все папе скажу.
И Клавдия ушла, оставив ее в покое.
Маринка кое-как натянула носки, один пяткой кверху (старательно она обувалась, когда бывала в хорошем настроении), надела туфли и, не застегнув пуговицы, пригорюнилась на ступеньке, глядя на желтевшую под солнцем дорогу, которая, уходя неизвестно куда, всегда дразнила ее. По этой дороге возвращаются с работы мать и отец, иногда оба вместе, а сегодня их нет и нет! Уже кончается длинный-предлинный летний день, а Маринка все еще одна сидит на крылечке.
— Противная старуха! — шептала девочка, чуть не плача. — Сама бы посидела на ступеньке!.. Есть ей нечего… Так тебе и надо, чтобы нечего! А нам в садике все равно дадут.
Грязно-рыжий воробей смело запрыгал по крылечку. Крохотные его ножки-вилочки выбрасывались обе разом, как заводные.
Маринка даже не взглянула на него.
— Пусть прыгает. Попадется черному жуку… Тот зубищами раз — и нет ноги у воробья! Р-раз — и другая напополам. — Маринка даже забеспокоилась и посмотрела на подскочившего совсем близко воробья.
Он как ни в чем не бывало подергивал хвостиком, вертел темненькой, со светлым клювом головкой. Маринка махнула на него рукой, но он только встопорщился и чирикнул что-то на своем воробьином языке. Тогда она рассердилась на непослушного, вскочила и… услыхала со стороны дороги лошадиный топот, стук колес и как будто голос матери…
14
Мать ехала верхом рядом с таратайкой, из которой выглядывала большая собачья голова. Но собака была нестрашная. Присмотревшись, Маринка нашла даже, что «лицо» у нее доброе. И таратайка и лошадь нездешние, а рядом с нездешним конюхом сидела совсем уже нездешняя женщина в синем плаще, повязанная пестрым шарфом.
«Какая прелесть!» — подумала Валентина, глядя из кузова таратайки на подбегавшую Маринку, но Анна вздохнула, сразу заметив незастегнутые туфли и грязное платье дочери.
— Это моя дочь, — сказала она, и сдерживая Хунхуза, приняла из рук конюха тянувшуюся к ней, всегда застенчиво надутую при незнакомых Маринку.
Так они подъехали к дому. Маринка крепко держалась обеими руками за луку седла и с высоты своих четырех с половиной лет оценивала приезжую.
— Нравится тебе Валентина Ивановна? — спросила Анна, когда они трое, вместе с собакой, поднялись на крыльцо.
— Не особенно, — сказала Маринка, краснея.
Покраснела и гостья, а Анна рассмеялась:
— Марина думает, что не особенно — это высшая степень. Не особенно — значит очень.
Клавдия тоже выбежала на террасу.
— Ах, какое изящество! Какая элегантская дама! — бормотала она, проворно перетаскивая вещи Валентины в переднюю, отделенную от столовой крашеной перегородкой.
Пакеты, привезенные хозяйкой, она сразу же унесла на кухню.
— Это ваша родственница? — спросила Валентина. — Домашняя работница? Странно… Что-то в ней не от мира сего…
— Она из владимирских монашек. Правда, немножко странная? Но сейчас трудно найти женщину для домашней работы: все стремятся на производство. Мариночка, поговори с Валентиной Ивановной, а я пойду приготовлю умыться.
Саенко сняла шарф, поправила примятые волосы и осмотрелась. Комната не была чисто вылизанной: на полу насорена мелко искромсанная бумага, у окна на стуле лежали ножницы, какие-то лоскутки — явные следы Маринкиной деятельности. Был беспорядок и на этажерке, но беспорядок такой же веселый.
Валентина обошла кругом стола, неслышно ступая по бело-коричневому узору ковра, понюхала фиалки в фарфоровой вазе. Фиалки были очень крупные, настоящие, нежные весенние фиалки, но без малейшего запаха. Пришлось понюхать еще раз. Да, фиалки ничем не пахли, только чуть уловимая лесная свежесть ощущалась вблизи — дыхание еще живых лепестков. Валентина вспомнила весну по ту сторону Урала. Сердце ее дрогнуло: нельзя сказать, чтобы жизнь баловала ее! Пережив много тяжелого, о чем даже не хотелось вспоминать, она стояла снова одна на незнакомой земле, как путешественник после кораблекрушения.
Валентина выпрямилась и встретилась со взглядом Маринки. Положив подбородок на руки на самом краю стола, та с интересом смотрела на гостью.
— Цветы у вас совсем не пахнут, — грустно сказала ей женщина.
— Не пахнут, — серьезно подтвердила девочка. — Они везде не пахнут. И в садике тоже. Это такие цветы… Так себе цветы!
— Есть лучше? — спросила Валентина уже с улыбкой.
— Да. Лучше! Вот какие есть. — Маринка подняла руки с растопыренными пальчиками. — Больше меня!
Валентина тихо рассмеялась и снова оглянула комнату. Здесь не было дорогой мебели и картин, даже плохоньких, что свидетельствовало бы сразу о равнодушии к живописи, не было и тех бесчисленных безделок, вроде резных полочек с семерками «счастливых» слонов, шкатулок, раковин, бронзовых и гипсовых статуэток, которые украшают, а зачастую бессмысленно загромождают жилье оседлого городского человека. Удобно, чисто, но все как бы заявляло: «Я здесь временно».
Обеденный стол сошел бы и за кухонный, диван мог свободно путешествовать по всем комнатам, так же легко можно было переменить любую вещь в обстановке, до буфета включительно. Самая обыкновенная квартира при большом предприятии, где каждый новый жилец устраивался по-своему, однако в комнате было уютно.
«Она сама симпатичная, потому и все вокруг нее кажется радостным, — подумала Валентина, вспоминая смех и грудной голос Анны. Невольно она пристальнее вгляделась в лицо Маринки. — Единственный, любимый ребенок! А каков отец ребенка? У него, наверное, такие же открытые серые глаза, он, конечно, тоже жизнерадостен и любим».
Маленький портрет в коричневой рамке стоял на диванной полке рядом с кристаллом горного хрусталя.
— Это мой папа Андрей Никитич… Подосенов, самый главный геолог, — гордо пояснила Маринка, проследив взгляд гостьи. — У мамы фамилия отдельная, а у нас с папой фамилия вместе. Когда я еще вырасту, меня будут звать Марина Андреевна Подосенова.
15
Тяжелые мысли о затянувшейся разведке на Долгой горе всю дорогу не покидали Андрея. К Ветлугину он обращался неохотно, с невольным оттенком враждебности, а тот был особенно хорош с ним, как будто, высказав порицание работе Андрея, старался загладить это доброю участливостью.
«Стыдно ему, что ли? Ведь он не карьерист, — думал Андрей, провожая взглядом Ветлугина, уходившего большим шагом в сторону своего дома. — Этакая орясина! Но… не трус! Два года назад он и Анна напролом пошли, когда все по-новому перевернули на руднике! Надо с ним еще поговорить. Убедить его надо!»
Андрей вспомнил, как только что на конном дворе суетливо, но без малейшего заискивания помогал ему Ветлугин собирать рассыпанные обломки пород, как он сдувал румяным ртом пыль с наклеек, деловито и ловко завертывая редкие образцы.
«Он не обиделся на меня за резкость, — решил Андрей, уже потеряв из виду Ветлугина, свернувшего в переулок. — Он только тем озабочен, чтобы отвлечь меня от рудной разведки! Не выйдет, товарищ дорогой!»
Геолог глубоко вздохнул, но не тяжелым оказался этот вздох: такой чистый воздух наполнил его грудь — теплый и мягкий весенний воздух нагорья. Собственно, весна-то давно уже прошла, но здесь, где зима властвовала почти девять месяцев в году, все перемещалось во времени. Лето уже не могло мешкать, и если снег падал в июне, то и в снегу, прокалывая его зелеными иглами, продолжала расти трава, распускались цветы и оживали деревья.
Подосенов посмотрел на привезенный им букет не то флоксов, не то левкоев, собранных на каменистом нагорье у Долгой, Стебли их нагрелись в его руке, пышные сиреневые зонтики поникли, но тем сильнее излучали они приятный, чуть горьковатый аромат.
Даже губами ощутил Андрей этот запах и запах еще клейкой тополевой листвы, потянувший со стороны парка, где гуляла молодежь и откуда слышалась музыка.
Духовой оркестр играл любимый приисковый фокстрот — русский мотив, приспособленный для западного танца, «Катя-Катюша».
«Правду говорят: хлебом не корми, только бы погулять, — подумал Андрей. — Или это на радостях?» — вспомнил он о прибытии парохода.
Веселая мелодия навязчиво звучала в ушах, и он невольно начал подсвистывать в тон оркестру.
Андрей с детства любил музыку, но когда впервые, уже взрослым человеком, попал в оперу, то ничего не понял и ушел смущенный, раздосадованный, с головной болью. У него осталось лишь впечатление пестроты, шума, а это была… «Кармен». Потом он начал посещать симфонические концерты и мужественно выслушивал все до конца: искал тогда в музыке смысл и не представлял себе, что она может восприниматься даже просто как свет и тепло.
— Я хочу понять, что передает музыкальная фраза… Между прочим, высокий, полный и плавный звук мне кажется голубым, — говорил Андрей.
Но однажды он слушал вторую сонату Бетховена. В этот день он был очень раздражен и невнимателен. И вдруг какая-то особенная нота ущемила его за сердце, как будто что-то запело в груди. Андрей забыл рассуждать, переводить звуки в зримые образы, целиком отдавшись мелодии, пробудившей в нем ответные чувства, и в этот раз ушел с концерта по-настоящему взволнованным.
16
Через окно, распахнутое на террасу, послышался незнакомый женский голос. Андрей приостановился. Он знал, как любила Анна, чтобы он был, особенно при посторонних, опрятно одетым, а сейчас все на нем загрязнилось и пахло от него лошадиным потом.
Он посмотрел в сторону кухонного крыльца, где недавно скучала Маринка, но, почему-то озоруя, открыл застекленную дверь в столовую.
Большая собака, лежавшая у порога, неожиданно подвернулась ему под ноги.
— Ух, какой ты симпатичный пес! — чуть не упав, сказал Андрей, разглядывая отскочившего Тайона. — Наступил на тебя? Ну, прости, прости, пожалуйста.
Анна встретила его улыбкой, от которой совершенно преображалось ее лицо, но лишь слегка прикоснулась к его плечу.
— Цветов Маринке привез… — сказал он, договаривая Анне взглядом, что эти цветы предназначены и для нее. — Хотел привезти ей рябчика, да пожалел: очень уж маленький он был, напуганный. Ну и отпустил его в траву… Крохотный, весь в пушке, а удирал такими большими шагами.
На диване, в тени абажура, сидела молодая женщина и внимательно следила за Андреем.
— Познакомься, — сказала Анна. — Это наш новый врач, Валентина Ивановна Саенко.
Валентина встала и сама шагнула навстречу. Мягкая ткань платья подчеркивала девичью стройность ее фигуры, блестели спадавшие до плеч завитки волос, светлых, пушистых и тонких. Невольно Андрей засмотрелся на нее, как на красивое деревце, и задержал в своей руке ее руку.
«Конечно, хороша», — подумала Анна, желая оправдать Андрея и в то же время смутно досадуя на него.
Торопливо выйдя на кухню, она налила воды в хрустальную вазу, бережно поставила цветы, не переделывая букета.
— Вот вы какой, — говорила Валентина, рассматривая Андрея с откровенным любопытством. — Я представляла вас еще моложе и проще. Таким мне обрисовала вас Марина… Она очень похожа на вас!
— Вы уже познакомились? — В голосе Андрея прозвучало настороженно ревнивое отцовское чувство. — Она немножко озорная, а в общем ничего…
— Нет, она прелесть! А вот мой питомец. — Валентина положила руку на голову подошедшего Тайона, тонкими пальцами потрепала его острые уши. — Чуд-ненький, правда? Это вся моя семья.
Саенко снова села на диван, стараясь быть серьезной, но в глазах ее так и вспыхивали огоньки, а губы морщились, готовые раскрыться в улыбке. Она опустила взгляд на собаку, обняла ее за шею и опять посмотрела на Андрея.
Он стоял, наклонив голову, и спокойно, даже холодно смотрел на нее; смуглая от загара рука его, опиравшаяся на край стола, резко выделялась на белизне скатерти.
17
— Вы меня извините за то, что я сную по хозяйству, — сказала Анна, ставя цветы на столик в углу; на минуту она скрылась за оконной занавесью и, заправляя в прическу выбившуюся прядь, обратилась к Андрею: — Я тебе приготовила там, в спальне, все чистое.
Она достала из буфета посуду, тарелочки с закуской и принялась умело накрывать стол.
— Вы, наверное, привыкли жить с удобствами? — спросила она Валентину.
— Нет, в Москве я жила в студенческом общежитии, а теперь уже пятый год работаю в провинции, где приходится мириться с любыми условиями. — Валентина откинулась на спинку дивана и, глядя на то, как билась под потолком ночная бабочка, сказала тихонько: — Мне у вас очень нравится! О-очень! То есть вот у вас, дома, и вы оба, и Маринка. Вы счастливы, правда?
— Да, — просто сказала Анна; у нее были узкие, не густые брови, и это при очень черных глазах и таких же ресницах придавало ее яснолобому лицу выражение особенной, спокойной чистоты. — Да, мы счастливы, — повторила она убежденно и доверчиво. — Я даже не думала раньше, что замужем так хорошо. — Анна покраснела и добавила, как бы извиняясь за свое самодовольство: — Мы оба работаем и учимся.
Подосенов, — она впервые назвала так мужа при Валентине — по фамилии, — готовит диссертацию по своей специальности, а я изучаю историю…
— Какую? — несколько удивленно спросила Валентина.
— Всеобщую. А также историю культуры и философии. У нас в горном институте этого не преподавали, а то, что у меня осталось после рабфака, очень смутно. Приходится пополнять пробелы.
— Когда же вы успеваете?
На лице Анны выразилось недоумение: по-видимому, эта мысль редко приходила ей в голову.
— А как успевают работницы на производстве? — ответила она вопросом. — Или возьмите рядовую колхозницу: она в поде работает и дома успевает, а дома у нее целая куча ребятишек, да еще огород и скотина. Где недоспит, где не погостит лишнего. Так и я! Трудновато, конечно. Тем более прииски разбросаны, приходится много ездить по району. — Она села рядом с Валентиной и, разговаривая, все время свертывала и развертывала измятую салфетку, которой вытирала рюмки. — Когда меня впервые назначили директором большого рудника, я испугалась. На золоте нужно быть не только горным инженером, не только хозяйственником, но и, прежде всего, организатором… Ведь мы не имеем своих постоянных кадров. Рабочие, влюбленные в золото, — это главным образом старатели, люди ценные, как разведчики, а для шахт, для рудников нам приходится создавать коллективы из случайных людей. И почти всегда золото связано с самыми суровыми условиями. Мы приходим и создаем все на холодной, как здесь говорят — нежилой, земле. Поэтому-то мало остается времени для работы над собою.
— Анна, что ты там писала насчет Маринки?.. Опять она вольничала? — спросил Андрей, входя в столовую.
Мягкие, крупноволнистые волосы его, зачесанные вверх без пробора, были влажны. Он шел и не спеша поправлял запонку на манжете белой рубашки.
— Они утащили нож у огородника, — сказала Анна. — Я, жалея, не хотела ее наказывать, когда она невинно проговаривалась, но в последнее время она торопится сама все рассказать уже явно с целью… Как будто этим утверждает за собой право проказничать.
— Ты преувеличиваешь, — ласково возразил Андрей. — Она и от других требует того же: нынче я раздавил елочную игрушку, не заметил и сказал, что это не я. Ты бы посмотрела, какая у нас была драма!
«Понятно, почему Маринка гордится тем, что у них „фамилия вместе“, — подумала Валентина, чуть насмешливо наблюдая за Андреем. — Она копия своего папы не только по наружности. Кто же у них тут верховодит? Во всяком случае, им не скучно живется! Да, им очень хорошо живется».
18
Золотистый свет падал через окно на пушистое одеяло, и согретый плюш тепло лоснился. Обнаженная рука, примявшая откинутую простыню, как будто тянулась раскрытой ладонью за солнечными зайцами. — Валентина спала. Но утреннее солнце добралось и до ее лица.
Она нахмурилась, сонные синие глаза нехотя приоткрылись и сразу заблестели осмысленно и ярко.
Комната совсем еще чужая: взгляд открывает вдруг то забеленную цепочку на печной отдушине, то гвоздь, неизвестно кем и для какой надобности вколоченный под самым потолком. Валентина попробовала представить все углы, которые ей пришлось обживать, и с чувством падающего человека, хватающегося при падении за любую опору, оглянула то, что помогало ей осваиваться на новых местах. Все эти коврики, скатерти, драпировки были тем пухом, которым она устилала свои случайные гнезда и который делал их похожим на ее собственное жилье.
— Что же я лежу? — воскликнула она, спохватившись, быстро села в постели и приподняла на ладони крохотные часики, подвешенные к спинке кровати.
Половина седьмого, а работа в больнице начиналась в девять, и Валентина успокоенно вздохнула: она не любила опаздывать. Воспоминание о больнице, о наладившихся сразу отношениях с медицинским персоналом и с больными настроило ее по-хорошему. За окнами, совсем близко, надрываясь, кудахтала курица. Валентина распахнула оконные створки и рассмеялась от удовольствия — благодатное, мягкое тепло хлынуло в комнату.
«Ну, как не кудахтать в такое утро!»
Китаец-огородник протрусил мимо. Со своими корзинами, низко подвешенными на прямом коромысле, он походил на качающиеся весы. В корзинах торчал пучками бело-розовый редис, курчавилась китайская капуста, похожая на кочанный салат.
Валентина посмотрела вслед китайцу и подумала, что весна прошла (вот и редиска успела вырасти), наступило уже настоящее лето, а она и не заметила, как это произошло. Постоянная смена людей и мест в течение двух последних месяцев и захватила и утомила ее. Так всю жизнь: едва привыкнув к новой обстановке, ока летела дальше, точно осеннее перекати-поле.
Выйдя в коридор, где стоял общий умывальник, Валентина услышала, как по кухне торопливо топотала ногами ее молоденькая соседка. У соседки были муж и двое детей, и все свободное от работы время она что-то варила, толкла, застирывала, штопала своему мужу носки. Настороженно прислушавшись к ее беготне, Валентина почти с озлоблением подумала:
«Что за радость вот так бегать, суетиться, прислужничать какой-нибудь самодовольной морде, не имея времени заглянуть в собственную душу! Может быть, даже бояться этого, как боится чахоточный узнать правду о своих разъеденных легких. Да… А как же Анна? Ей ведь тоже приходится заниматься хозяйством, она и с ребенком возится, и за мужем ухаживает».
Валентина представила Анну с салфеткой в руках, вспомнила ее слова: «Я и не думала, что замужем так хорошо!», вспомнила выражение ее лица, когда она обращалась к Андрею… «Да, она счастлива, мелочи быта не тяготят ее».
Валентина любила представить себя в недалеком будущем. Она поселится в прекрасном городе, в удобной квартире, где нудные домашние работы будут делаться незаметно. Главное в том, что все смогут так жить, не забивая чужой жизни своими дырявыми носками и грязным бельем. Вот Валентина идет к дверям, за которыми ее ожидает голубая, быстрая, словно ветер, машина. Она мчится по серебряной ленте асфальта. Вокруг ничего унылого, угрюмого! Самые теплые, самые радостные цвета должны войти в обиход человеческого существования, а прежде всего в больницы и поликлиники, вытесняя холодную белизну.
Валентина оделась и вышла на улицу. Там не оказалось сказочной голубой машины, зато у ступенек сидела почти совсем голубая собака и пышным своим хвостом разметала соринки на песке, что, наверное, означало: «Доброе утро! Очень приятно видеть вас в таком хорошем настроении».
19
Валентина вошла в прохладную с утра столовую, села у открытого окна и в ожидании, когда ей принесут завтрак, засмотрелась на детей, игравших под окнами на куче сухих опилок.
Девочки уговаривали малыша, едва научившегося ходить, отойти в сторону.
— Не то мы тебя затопчем, — рассудительно говорила одна, постарше, повязанная белым ситцевым платком, но босоногая. — А не то затопчем! — повторяла она, нетерпеливо переступая красненькими пятками.
Валентина слушала и улыбалась. Ей вдруг захотелось иметь такую дочку, смешно повязанную, щекастую, толстопятую, и, когда девчонки наконец сговорились и побежали, она с особым сочувствием поглядела им вслед.
Поэтому она не сразу заметила подошедшего к столу Виктора Ветлугина. Главный инженер показался ей франтоватым, чуточку смешным, она улыбнулась ему доброжелательно.
— Вы рано встаете, — сказал он, здороваясь. — Я проходил с шахты в семь утра, у вас уже были открыты окна.
— Я иногда всю ночь сплю с открытыми.
— Не боитесь? — Ветлугин сел напротив, не спросив ее согласия: они каждое утро завтракали за одним столом. — Вдруг обокрадут?
— Говорят, что здесь воров нет. К тому же у меня завелась добровольная охрана… Вчера кто-то поздно ходил под окнами.
Ветлугин густо покраснел. Скрывая смущение, он вытащил из-под шляпы, положенной им на соседнем стуле, коробку шоколадных конфет.
— Сравнительно свежие: доставлены вчера с оказией не через Якутск, а с Алдана. — Он подержал коробку в руках и подал ее Валентине. — Тайон не плохо разбирается в этом. — Видите, я уже рад и тому, чтобы угождать вашей собаке.
— Угождать собаке! Какое неблагодарное занятие! — Валентина отстранилась от стола, на котором девушка расставляла тарелки с горячими пирожками, и добавила: — Я знаю, что настоящие лайки едят только юколу.
— Тайон ее, наверное, не видел, — сказал Ветлугин, готовый пуститься, если угодно, и на поиски юколы.
Он пододвинул к себе стакан, но забыл о нем, снова обратив к Валентине ласковый взгляд выпуклых, мягко светившихся глаз.
— Вы любите Левитана? — неожиданно спросил он.
— Немножко…
— А я очень люблю. Когда я смотрю на его картины, меня охватывает такая хорошая грусть… Вы тоже, как левитановская березка: светлая…
— Кто занимается с утра подобными разговорами? — с недовольной гримаской перебила Валентина. — О лирической грусти надо говорить после веселого обеда или ужина, когда в голове приятный туман и не нужно спешить на работу.
— Зачем вы так? — сказал Ветлугин, огорченный ее нарочито пренебрежительным тоном.
— Что вас задело? Я совсем не хотела обидеть… Вы знаете, я очень хорошо отношусь к вам. Серьезно! По мне кажется, вас больше должен привлекать такой художник, как Рубенс: вы по натуре очень жизнерадостный человек.
— Но я прежде всего русский человек и поэтому не могу пройти равнодушно мимо Левитана.
— Какой же вы русский? — поддразнила Валентина. — Вы сибиряк, да еще дальневосточник… Что вам до русского пейзажа? Вы и знаете-то его, наверное, только по Левитану.
— Чувство родины не обусловлено местом рождения, — возразил Ветлугин, нервным движением стискивая свои сплетенные пальцы. — Белорусские леса и берега Волги мне так же дороги, как наши сопки.
Он почти отвернулся от Валентины, но, не глядя на ее лицо, не мог не видеть ее рук, которыми она брала то пирожок, то сахар или чашку, и эти руки, с легкими ямочками, с черной браслеткой часов над гибким запястьем, снова вызвали в нем восторженную нежность.
— Как вам нравятся Лаврентьева и Подосенов? — спросила Валентина.
— Очень хорошая пара. Особенно Анна Сергеевна.
— А Подосенов?
— Он немножко суховат. Пожалуй, излишне самолюбив, упрям.
— Не похоже на него! — промолвила Валентина с живостью. — Мне он показался очень сердечным.
— Да? Возможно… Но работать с ним трудно: он поставил себе задачей раскрыть тайны Долгой горы и все остальное готов принести в жертву своей сомнительной идее. Раскрывать-то нечего! Так почему должно страдать все дело ради его любопытства исследователя?
— Какое любопытство? Ведь он не мечется от одного объекта к другому.
— Этого еще не хватало! — возразил Ветлугин с негодованием на самую возможность такого предположения. — Представьте что-либо подобное в вашей собственной практике! Метаться? Это значит утром прописать больному пиявки, потом переливание крови, а к вечеру кровопускание.
— Бывает и так, — сказала Валентина с усмешечкой. — Не переливание и кровопускание, конечно, но иногда приходится прибегать к самым неожиданным комбинациям. При трофической язве через каждые три дня иная процедура, а тяжелые случаи рожистых воспалений с температурой до сорока, когда больной и так весь горит, мы лечим ожогами кварца — облучение выше всякой нормы, — что в ином случае — уголовное дело. Другими словами, льем масло в огонь, и помогает, приводит к затуханию болезни.
— У вас, возможно, бывает и так. Для медиков это не значит метаться: вы имеете дело с живым человеком — самая изменчивая материя. А у нас о чем речь? Гора! Она и сегодня, и завтра, и через тысячу лет все та же, я чего в ней не было заложено, не образуется вдруг.
— А вдруг образуется? — весело спросила Валентина.
— Вам просто хочется позлить меня, — догадался Ветлугин. — Погодите, вот я скоро опять уеду в тайгу… недели на две… — Он нарочно удлинил срок.
Валентина выслушала равнодушно, и он договорил с горечью:
— Я думаю, вы все-таки вспомните обо мне… когда у вас будет плохое настроение.
20
— Уборщица заболела, а я уже привык к ней. Не люблю, когда приходят разные: каждая убирает по-своему, и потом ничего не найдешь на привычном месте — все перепутают. — С этими словами Ветлугин расправил ковер у дивана, вынес в переднюю веник и минуты две плескался на кухне, гремя гвоздем умывальника.
Андрей ходил по кабинету, курил и ожидал терпеливо. Окно было открыто, и ветер относил, надувая парусом, легкие шторы из белого шелка, спадавшие до самого пола. В квартире было свежо, светло и свободно. Две хорошие картины в богатых рамах висели в кабинете, в спальне узкая и, видимо, жесткая постель с двумя подушками в наволочках ослепительной белизны, и два ружья, повешенные на азиатском пестром паласе.
«Всего по паре, только сам один», — подумал Андрей и невольно покосился на тумбочку у кровати, где давно приметил портрет молодой женщины, должно быть, жгучей брюнетки. Но его там уже не было.
«Эге, тут дело непросто, — подумал Андрей, зная о прошлом увлечении Ветлугина. — Кажется, опять заело молодчика! Дай-то бог, как говорится. И книг у него прибавилось. Ну-ка, чем он интересуется? Герцен: „Письма об изучении природы“… Надо будет позаимствовать — еще раз перечитать! А вот Плеханов… „Изложение Фейербаха“».
— С пометками читает… — промолвил Андрей вслух, перелистывая книгу.
— А вы полагаете, я только пустыми разговорчиками занимаюсь, — сказал Ветлугин, входя в комнату и энергично вытирая на ходу лицо и шею мохнатым полотенцем. — Нет, голубчик, Андрей Никитич, я скоро Уварова за пояс заткну по части философии.
— За пояс вы его не заткнете, а помощью его, видимо, пользуетесь. Где Герцена достали?
— У него, — ответил Ветлугин, причесываясь перед зеркалом в простенке.
— Прочитали?
— Нет еще… То есть начал! Знаете ведь, как…
— Да-а, — многозначительно протянул Андрей. — Я вижу, вам теперь некогда.
— Что вы видите?
— Да так…
— Нет, вы скажите, — настаивал Ветлугин, останавливаясь перед Андреем с гребенкой в руке.
С подвернутыми рукавами, с очень белой в открытом воротнике шеей, он так и дышал здоровьем, силой, молодостью.
— Скажите! — просил он, радуясь чему-то про себя.
— Что говорить! Портрет-то исчез?
— Исчез… верно… — Ветлугин замолчал, надевая пиджак, расправил его движением плеч. — Пойдемте, я покажу вам хозяйство холостого человека…
Он подхватил Андрея под локоть и потащил на кухню.
— Родители прислали из Владивостока, — сказал он, делая широкий жест.
На гвоздях, вбитых в бревенчатой стене, и над окном красовались копченая грудинка, связка колбас и небольшой окорок ветчины.
— Прямо как в магазине, — шутливо похвастался Ветлугин. — Для одного человека бессовестно много, но положение… маменькиного сынка обязывает! Минуточку терпения, и я устрою роскошную закуску. Я все умею сам делать.
— Давайте посидим здесь, на кухне, — предложил Андрей, оглядываясь на просторный стол под белой клеенкой. — У вас чистота, как в аптеке.
— И в то же время мерзость запустения, — отозвался Ветлугин, позвякивая то примусом, то сковородкой. — Сейчас угощу вас такой ветчиной… пальчики оближете! Хотите с бобами? По-американски? Откройте, пожалуйства, банку, консервный нож на полке. Вы, разведчики, тоже хозяйственный народ. Вообще дико представить нашего инженера под опекой Захара или Петрушки. А ведь раньше какой-нибудь титулярный советник без лакея шагу не ступал, хотя бы обоим жилось впроголодь. До чего дешевы люди были! — С последними словами Ветлугин достал из шкафчика бутылку таинственного вида и цвета. — Хотите по маленькой? Эту настойку отец сделал. Пишет, что от прострелов хороша, но я пока не страдаю.
— За что выпьем? — спросил Андрей.
— За счастье!..
— Счастье? Дар чувствовать себя счастливым не всем дается, — сказал Андрей, тепло подумав о своей семье.
— Вы, должно быть, счастливы, — заметил Ветлугин, осторожно подкладывая на тарелку Андрея бело-розовый ломоть ветчины. — А мне отчего-то не везет в личной жизни.
За короткие, считанные дни Валентина вошла в него, как болезнь: что бы он ни делал, о чем бы ни думал, все время и больно и радостно напоминало ему о себе ощущение неразрывной связанности с нею.
— В семье счастлив, да, — твердо ответил Андрей, — но с работой не клеится, и все настроение падает.
— С работой… — повторил Ветлугин, стряхивая минутное забытье. — Андрей Никитич, бросьте вы эту разведку, право. Ведь вы поймите, какой у нас зарез получается…
— Мне кажется, вы просто не хотите понять, — горячо заговорил Андрей. — Я для вас и хлопочу — для производства. Знаю, золото на Долгой горе будет: все проверено, рассчитано. Дело только во времени и в деньгах. Может быть, еще месяц какой продержаться, а вы говорите — бросить! Я от вас другого жду, Виктор Павлович! Поддержите меня! Ну, что вам стоит?!
— Мне-то ничего не стоит, я о себе не беспокоюсь, а заваливать предприятие не могу, не имею права. Лично для вас на все готов! Хотите, выброшу за окно это копченое свинство, хотите, сам выпрыгну. Тут высоко, не меньше чем со второго этажа…
— У меня вся душа изболела, а вы с шуточками, — сказал Андрей, порывисто вставая.
Он быстро прошелся по кухне и, подавив раздражение, снова сел на свое место.
«Говори не говори, как о стенку горохом — не берет. Разве можно доказывать, если человек предубежден до равнодушия», — подумал он почти с озлоблением, но произнес неожиданно мягко:
— Я ведь не меньше вашего болею за выполнение программы, хотя смотрю дальше… Какой подъем сулит нам открытие рудного золота!
— Вы нас доведете до того, что мы вас… повесим за такое заманивание, — с дружественной бесцеремонностью перебил его Ветлугин. — Не искушайте меня, пожалуйста.
21
Ветлугин стоял, склонив голову, и слушал… Толпа приискателей окружила его жарким полукругом, напирая к прилавку, где на новеньком патефоне мерцал черный круг пластинки. Горняки тоже слушали и обсуждали преимущества баяна перед скрипкой.
— Скрипка — самая тонкая музыка, — говорил с увлечением Никанор Чернов, работавший теперь бурильщиком на руднике. — Отец мой сказывал, что у нас на Украине скрипач на селе — почетнейший человек. Но, конечно, скрипка всегда требует аккомпанемента. Чтобы, значит, за компанию другой инструмент был.
— Эх ты, украинец! — весело укорил Никанора черный, как цыган, рабочий, по прозвищу Расейский. — Забыл ты совсем, что твой отец путал! Не скрипач на Украине первое лицо, а бандурист. Для нас же, для расейских, нет лучше баяна. Скрипке нужно то да се, а баян один себе и развеселит, и в тоску вгонит. — И Расейский, торжествуя, осмотрелся.
Но он скорее походил на артиста-скрипача со своими сильными, тонкими, нервными руками, как походил на сердцееда-баяниста, чубатый светлоглазый Никанор Чернов, поклонник скрипки.
— Еще бы, — подхватил вызов Расейского по-мальчишески ломкий тенор. — На баяне одних пуговок сотни полторы, и каждая значение имеет.
Раздался одобрительный смех; большинство явно склонялось в пользу баяна.
Чернов презрительно вздохнул:
— Э-эх, вы-ы! Ладов не знаете, а спорить — собаку съели!
Ветлугин уплатил деньги, взял завернутые пластинки и вышел на улицу. Был выходной день. Веселый, праздничный гомон стоял над поселком. Даже милиционер, одиноко отдыхавший на завалине, в галошах на босу ногу, сосредоточенно и угрюмо бренчал на балалайке. Женщины сидели стайками у сеней бараков, подмигивали вслед Ветлугину, задорно посмеивались. А Клавдия, стоявшая на улице с миской в руках, громко сказала своей товарке:
— Красивый наш инженер, как ангел! Румянцы у него в лице такие сочные, просто прозрачные…
Ветлугин невольно прислушался. Слова старухи рассмешили его, и в то же время он почувствовал себя польщенным. Что ответила другая, он не разобрал, но отчетливый голос Клавдии донесся еще раз издали:
— Ну, прямо прозрачные!.. Как кисель брусничный!
— Какую чепуху придумала! — прошептал Ветлугин с усмешкой, ускоряя шаги. — Прозрачный румянец…
Он провел ладонью по щеке: кожа была гладкая, упругая.
— Сочный! — повторил он, уже издеваясь над собою и злясь на Клавдию. — При чем тут кисель? Не дай бог, ляпнет она этакое при Валентине.
Ветлугин только что вернулся из тайги, где срочно строилась подвесная дорога для лесоспуска. Машинам растущей электростанции нужно было топливо. Новые моторы на шахтах и на руднике, мощные драги, работающие и подготовляемые к пуску, — все требовало электроэнергии, а источник энергии — стволы деревьев (золотые и лучистые в разрубе, как солнце, отдавшее им эту энергию), теперь просто бревна, лежали «у пня», на заросших, старых болотах или в камнях на россыпи. Солнечная энергия, заключенная в миллионах кубов горючего, ждала своего сказочного перевоплощения. Но как буднично готовилось это перевоплощение!
— Мотор? — откликнулась Анна на запрос Ветлугина. — Да пожалуйста! Возьмите хотя бы тот, что из старого оборудования, заброшенного с Лены.
— Этакое старье! — возмутился тогда Ветлугин.
— Ничего, отремонтируете, — сухо сказала Анна, упорно не желавшая понять, как испортит этот мотор всю поэзию трудного дела дровозаготовщиков.
Он походил на разбитого параличом больного, много лет пролежавшего на грязной постели, и Ветлугин, — почти с отвращением осмотрев его и приказав немедленно лечить — сам наблюдал за лечением, чтобы только доказать Анне всю зряшность ее затеи.
Ветлугин любил свою работу горного инженера, был он и хорошим механиком, и теперь, когда далекое таежное предприятие обрастало сложными машинами, работал с особенным увлечением. Но он с предубеждением относился к техническому старью — это была его слабая струнка.
Наблюдая за движением первого груза на подвесной, он почти желал, чтобы где-нибудь заело. Но отремонтированный мотор действовал исправно, точно стремился вознаградить себя за время вынужденного бездействия, и Ветлугин, побежденный и тронутый, сказал:
— Прекрасно, старина!
22
Ветлугин вернулся из тайги рано утром, успел помыться в просторной приисковой бане, еще пустой, с чистыми, сухими после ночной уборки полами и лавками, и его лицо так и горело крепким румянцем. Все время, пока он жил в тайге, среди зелено шумящего и сваленного на землю леса, среди разъятых на части древесных туш и сказочно огромных поленьев, чувство приподнято-радостного, иногда томительного ожидания не покидало его. Это была тоска о «ней» и ожидание встречи с «нею».
Он посмотрел на окна Валентининой комнаты, и все мысли разом вылетели из его головы. Окна были открыты. На одном, припав к подоконнику, выставив круглые лопатки, лежала черная кошка. Она плотоядно глядела на синиц, копошившихся на елке у стены дома, и даже сладострастно мурлыкала.
При всей своей самоуверенности Ветлугин не имел никакого основания думать, что о нем скучали. Шаги его сразу стали грузными. Взбежав всего на шесть ступенек, он задохнулся, точно поднялся на шахтовую вышку. Он понимал, что просто ужасно явиться перед Валентиной таким вот — искательным, растерянным, неловким от избытка сил и чувства, но желание видеть ее немедленно, сейчас же, превозмогло колебания.
— А я ухожу на обед к Подосеновым… — сообщила Валентина весело, здороваясь с ним.
— Очень приятно, — сказал он, обиженный, но сияющий. — Вы всех гостей так встречаете?
— Нет, только вас и только потому, что рассчитываю идти вместе с вами. Но мы можем посидеть еще с полчасика у меня и поболтать. Как вы там жили, в тайге?
Валентина прошла через комнату, села на широкий диван, покрытый ковром:
— Посмотрите, какой чудесный диванчик вышел, а внизу ящики, а в подушках сено.
Она сидела, сложив на круглых коленях обнаженные почти до локтей руки, и смотрела на Ветлугина добрыми и лукавыми глазами. Ему захотелось опуститься перед нею, обнять ее, но она зорко взглянула на него и спросила:
— Что это вы такой румяный сегодня?
Он промолчал и сел, держа под мышкой сверток с пластинками.
«Румянец прямо прозрачный», — припомнил он слова Клавдии и поморщился.
— Вы опять принесли что-то, — полюбопытствовала Валентина, не без удовольствия наблюдая его смущение.
— Принес?.. Ах, да! — Ветлугин осторожно развернул бумагу.
Если бы Валентина захотела, если бы она позволила, он загромоздил бы покупками ее скромную комнатку. Он тащил бы сюда все, что смог добыть, как скворец в скворечню. Валентина разбудила в нем мучительную потребность хлопотать и заботиться. Как был бы он счастлив, имея право выбирать для нее платья, туфельки, какие-нибудь детские распашоночки, чепчики, косыночки — всю эту милую, трогательную мелочь, на которую он стал посматривать в последнее время с особенным вниманием.
Он затосковал о семье, но семья была немыслима для него без Валентины, а она или посмеивалась над ним, или смело, почти дерзко давала отпор всем его попыткам опекать ее.
23
— Я выбрал для вас несколько хороших вещей, — проговорил он, запинаясь, мрачнея от сознания того, что не смеет, не может высказать ей то, чем он жил в последнее время. — Вот «Элегия» Массне, «Лесной царь» Шуберта, а это «Вальс цветов» Чайковского…
— Спасибо, — ласково сказала Валентина. — Вы любите классическую музыку?
— Да, конечно, — ответил Ветлугин, продолжая машинально перекладывать пластинки. — Очень люблю. Музыка облагораживает душу. Люблю! — повторил он и, отложив пластинки, посмотрел на Валентину.
Она погладила кошку, перебравшуюся с окна на диван, и снова спросила:
— А гармошку любите?
— И гармошку люблю. — Ветлугин вспомнил разговор в магазине, улыбнулся.
— Она вас тоже облагораживает? — придирчиво допрашивала Валентина.
Чувствуя ее непонятное раздражение и остро переживая его, Ветлугин ответил с выражением грустной задумчивости:
— Да, облагораживает. Однажды я слышал игру лоцмана на Лене. Играл он мастерски. Да еще обстановка такая… Вдалеке унылые берега. Белая ночь. Простор. Страшный водный простор, на котором чувствуешь себя затерянным…
— Странно! Такой вы сильный, а говорите о грусти, о затерянности. И это не случайно. Я уже не впервые это от вас слышу. — Она неожиданно рассмеялась.
— Над чем вы смеетесь?
— Я вспомнила, что говорила Клавдия.
Ветлугин наклонил голову, сгорая от стыда и досады.
— Что могла сказать эта старая колдунья?
— Она говорит… что если бы она была помоложе, конечно, если бы понравилась вам…
— Перестаньте, — попросил Ветлугин.
Его цветущее здоровьем лицо стало таким жалким, что Валентина сразу перестала смеяться.
— Если бы вы знали… Я так одинок, — пробормотал он невнятно.
Валентине снова представилась Клавдия, но она подавила смех и сказала:
— Вам только кажется, что вы одиноки! У вас есть любящие родители, и сестры есть, а вот я… Я действительно совсем-совсем одинока… И мне никого — понимаете? — никого не надо!
— У вас, наверное, были тяжелые переживания, — сказал Ветлугин, подавленный внезапной вспышкой ее явного ожесточения против самой себя. — Кто-нибудь оскорбил вас?
Валентина медленно выпустила кошку из рук, пригладила ее взъерошенную шерстку.
— Я никому не позволила бы оскорбить меня… безнаказанно, — сказала она и побледнела.
— Тогда почему вы сами смеетесь над чужими чувствами?..
— Я? — Она взглянула на него, искренне изумленная. — Ах, вы опять о грусти! Виктор Павлович, милый… Ну, вообразите… сидела бы на моем месте такая… краснощекая бабища и вздыхала о своей несчастной женской доле. Кто бы ей поверил?
— Вы издеваетесь надо мной, — сказал Ветлугин и, неловко повернувшись, раздавил пластинки.
— А вы начинаете буянить?! — воскликнула Валентина и снова залилась смехом.
— Да, я скоро начну буянить, — пообещал он угрюмо и поднялся, кусая губы.
Валентина тоже поднялась.
— Пойдемте со мной к Подосеновым. У них сегодня какой-то особенный пирог и мороженое. Это мне по секрету сказала Маринка, а я по-товарищески сообщаю вам.
— Нет, с меня на сегодня довольно!
— Как хотите. А то я могла бы воспользоваться вашей порцией мороженого. Куда же вы? — Валентина посмотрела вслед Ветлугину и сказала, задумчиво улыбаясь: — Обиделся!..
24
Она шла по улице, счастливая каждым своим движением. Радостное предчувствие чего-то необыкновенного охватило ее и все нарастало даже от ощущения солнечного тепла, от прикосновения ветра, поднимавшего, будто крыло бабочки, край ее пестрого платья.
У террасы Подосеновых вилась по веревочкам фасоль, уже покрытая снизу мелкими красными цветочками. Цепкий, шершаво-шелушистый виток уса, как живой, прильнул к протянутой руке Валентины, потрогавшей на ходу зеленые листья. Она резко отбросила его, и стебелек сломался легко, неожиданно хрупкий. Она поглядела на него с жалостью, вспомнила о сломанных пластинках, о Викторе Ветлугине и поднялась по ступенькам.
Дверь в столовую была открыта, и оттуда доносились тонкий голос Маринки и смех Анны.
Анна сидела у стола, накрытого к обеду. Перед ней лежали крохотные ножницы и тонкие мотки шелковистого мулине. Один моток Анна держала в руках, терпеливо разбирая спутанные нитки.
— Мы уже соскучились по вас, — сказала она Валентине и весело пояснила: — Делаю носовые платки Маринке. Начала давно, да все некогда было закончить. А сегодня она заставила меня рассказывать о всякой всячине, вот я и рукодельничаю. Нитки, конечно, ты спутала! — добавила Анна, повернувшись к дочери.
— Так, наверно, я, — скромно согласилась Маринка. — Ребенок у меня болеет, Наташка моя, — озабоченно сказала она Валентине. — Она добралась до мороженого и ела, ела, пока не захворала. Теперь кашляет, — Маринка перевернула куклу, и круглолицая Наташка с желтыми косицами тоненько запищала. — Вот, — Маринка вздохнула, — плачет… Ты бы полечила ее немного.
Валентина взяла «ребенка», прислонила его головкой к своей щеке.
— Ну, не плачь, не плачь, — уговаривала она серьезно, а Маринка, чуть улыбаясь открытым ртом, с умилением смотрела на нее, держа согнутые ладошки так, точно хотела подхватить своего плачущего ребенка.
Валентина стала осматривать «больную». Кукла опять запищала.
— Ты с ней тихонько, — попросила Маринка, кладя обе ручки на колени гостьи.
— Нельзя говорить Валентине Ивановне «ты», — сделала ей замечание Анна.
Строгий тон матери сразу испортил всю прелесть игры. Маринка потянула куклу из рук Валентины, перебралась с ней в другой угол и стала лечить ее сама.
— Плачь, — требовала она шепотом. — Тихонько плачь и скажи мне «а-а»… — Но играть одной не хотелось, и она снова обратилась к Валентине: — Я скоро буду летать, — сообщила она. — Побегу, замашу руками и поднимусь выше папы, выше дома.
— Было бы чудесно — уметь летать! — И Валентина снова ощутила то чувство особенной радости, с которым шла сюда.
— Я тоже маленькая часто летала во сне, — сказала Анна.
Узкий пробор ровно белел в ее волосах, уложенных на затылке в тяжелый узел. Особенно нежно смуглели полуобнаженные плечи над прозрачными сборками блузки. До сих пор Валентина видела Анну в строгих закрытых платьях и только теперь поняла, что она по-настоящему красива.
— И сейчас еще часто летаю, — продолжала Анна, проворно снуя иголкой; тонкий пушок блестел выше запястья на ее женственно полной руке. — Вот вроде Марины — побегу, обязательно подогну ноги и лечу. И каждый раз боюсь зацепиться за телеграфные провода. Обязательно какие-то провода… Тогда я сильнее машу руками и поднимаюсь еще выше. — Анна откусила нитку, откинув голову, полюбовалась на свою работу и стала собирать платки и разворошенные нитки. — Андрей сегодня совсем заработался. Закрылся в рабочей комнате и пишет…
— Папа все пишет, — вмешалась Маринка. — Я не могла дольше терпеть и пообедала. Вы, наверное, тоже не дотерпите. Мне уж поспать пора, а он все пишет.
Валентине вдруг стало скучно. Она взглянула на свои красиво обутые ноги: стоило надевать такие туфли и новое платье!.. Почему Анна ничего не сказала о нем? Нравится ли оно ей?
— Я сейчас уложу Марину и позову Андрея, — сказала Анна, — вы на минуточку займите себя сами.
Валентина взяла с этажерки первую попавшуюся книгу. Ей захотелось уйти. Какое ей дело до этих людей, погруженных в свои интересы! Пусть они пишут сколько угодно, пусть возятся со своим ребенком. Валентина вспомнила, как Андрей в прошлый выходной день играл с Маринкой. Это доставляло ему столько радости! Он сам дурачился, как мальчишка; его узнать нельзя было.
«Отчего я злюсь, — подумала Валентина, слушая, как сильно стучало ее будто распухшее вдруг сердце. Почему сегодня мне неприятно сидеть у них? Все-таки они оба порядочные мещане… Мещане! — не веря себе, повторила она упрямо. — Уют… И корзиночка с нитками… Не хватало только мужа с газетой. Читают, учатся!» — Валентина так ожесточенно открыла книгу, что переплет хрустнул.
25
Даже не пытаясь прикинуться занятой чтением, Валентина, нервно хмурясь, посмотрела на дверь, за которой послышались шаги: в комнату входил Андрей.
Она сразу заметила выражение особенной оживленности в его лице.
«Любезничают с женушкой, а я тут сижу одна, как дурочка», — подумала она, не поняв этого оживления, созданного работой, и потому еще больше раздражаясь.
— Вы знаете, я читала письмо Энгельса к одной женщине, — сказала она Анне во время обеда. — Меня поразило то, что он ей писал: «Если бы вы были здесь, мы оба смогли бы побродить по окрестностям…» Нет, вы только представьте себе: Энгельс — и вдруг… побродить!..
— Что особенного!.. — вступился Андрей, замедлив с блюдом салата, которое он собирался поставить рядом с заливным из дичи, гордостью Клавдии, изощрявшейся на всякие выдумки.
— Это значит — просто погулять, просто пошататься без всякой цели с милой, умной женщиной, посмеяться, поговорить… И уж, наверное, не об одной политике! — продолжала Валентина, не обратив внимания на реплику Андрея и даже не взглянув на него. — А разве мало у нас людей, засыхающих и физически и душевно на своей работе? Некоторых даже невозможно представить гуляющими. Они всегда заняты, у них всегда безнадежно деловой вид. Поговоришь минут пять с таким человеком — и сразу в носу защиплет, и сам не поймешь, зевать ли тебе хочется или плакать.
— Правда! У нас многие сгорают на работе, — сказала Анна, неприятно удивленная горькой, искренне прозвучавшей тирадой Валентины.
Букет полевых цветов стоял между ними, заслоняя лицо гостьи, и Анна решительно переставила его, оставив на скатерти легкий след опавших от ее движения светлых тычинок.
— Мне кажется иногда, что это просто дань времени, — продолжала она с задумчивым видом, отделяя кусок пирога для Андрея. — Пока мы не создадим в основном того, что намечено нашими строительными планами, пока работа не войдет в нормальное русло, мы не научимся беречь себя. Нам слишком часто приходится спешить. Некоторые, возможно, рисуются этим, но, в общем, мы действительно очень заняты.
— Мне кажется, разрешение этого вопроса во многом зависит еще от семейной обстановки, — снова вмешался в разговор Андрей, серьезно взглянув на Валентину. — Смогут ли двое людей так ужиться, чтобы, не ущемляя интересов друг друга, организовать свой труд и отдых?
«До чего же самодоволен!» — подумала Валентина, поняв только то, что он вполне удовлетворен своей семейной обстановкой и тем, что хорошо ужился с женой.
— Семья! Вот то, во что я меньше всего верю, — произнесла она, не то насмешливо, не то болезненно кривя губы. — Никогда мужчина и женщина не уживутся так, чтобы… не ущемлять интересов друг друга. Для этого нужно состояние вечной влюбленности, совершенно невозможное, и тот, кто первый выйдет из этого состояния, потребует себе больше прав за то, что другой все еще влюблен в него. Вот тут-то и начнется ущемление интересов! А там прелесть нового впечатления, и… пошла семейная драма со всякими дрязгами. Или прямая вражда, или ложь… — Валентина взглянула на побледневшее, с широко открытыми глазами лицо Анны, лицо человека, которого незаслуженно ударили, и торопливо, точно боясь, что ей помешают, продолжала вызывающе: — Вообще, так называемое семейное счастье — довольно непрочная вещь. Стоит только вмешаться другой красивой женщине — и самый честный, самый нежно влюбленный муж начнет испытывать прочность своей семейной клетки.
— Вы глубоко не правы! — возразил Андрей, нарушив внезапно наступившее общее молчание. — Не верить в семью — значит не верить в естественность человеческих чувств и отношений. Какая семья, какого общества — это другой вопрос! Семья в капиталистическом обществе, построенная на расчете, действительно является клеткой, охраняющей все ту же частную собственность. Там ложь и вражда неизбежны… Не то у нас! Могу ли я, живя с любимой, мною избранной женщиной, чувствовать себя в клетке? Конечно, нет! Значит, не может быть и речи об ущемлении интересов, если бы даже я и… разлюбил свою жену. Во всяком случае, для разрушения подлинно современной семьи вмешательства другой красивой женщины далеко не достаточно. Мало ли на свете красивых женщин!
26
Смутная, но остро-тревожная мысль проникла сквозь теплую пелену сна, всколыхнула и разорвала ее. Валентина к самому носу притянула нагретую простыню: ей не хотелось просыпаться, но сознание чего-то непоправимого властно выталкивало ее из сонного забытья.
«Отчего мне тревожно?» — подумала она, переворачиваясь в постели и прижимаясь щекой к подушке, такой свеже-прохладной по краю.
Снилась какая-то чепуха перед пробуждением… Нет, не то! Она перепутала вчера назначение двум больным, чего с ней никогда не случалось. Но ведь все закончилось благополучно, сегодня утром ей было так весело! Да ведь это сегодня уже миновало. Значит, что-то еще произошло.
Она была у Подосеновых… Сердце Валентины вдруг больно сжалось. Она сразу представила себе лицо Анны, когда та стояла на террасе и теребила листок фасоли, от чего вздрагивала вся зыбкая зеленая завеса. Красные цветы-мотыльки тоже вздрагивали, точно хотели взлететь. Лицо Анны было неподвижно, только тяжелые ресницы ее моргали медленно, и Валентина, глядевшая на ее профиль, чувствовала, что взгляд женщины-директора намеренно ускользает от нее. Все слова, сказанные Анной после их беседы за столом о семье, звучали вежливо, но холодно.
— Ну и пусть, — прошептала Валентина грустно. — Теперь это уже не поправишь!
Она легла на спину, вытянулась и пролежала так с полчаса, но странное волнение, овладевшее ею, все разгоралось, и наконец она уже не в силах была лежать в постели, пробежала в одной рубашке по комнате, забралась на диван и некоторое время сидела, сжавшись в комок, охватив руками колени.
«Частная собственность… капиталистическое общество… Целый трактат по политэкономии!» — иронически усмехаясь, припомнила Валентина слова Андрея, и еще она вспомнила, вся вспыхнув: «Мало ли на свете красивых женщин!»
— Ничтожество! — промолвила она с громким вздохом. — Слякоть! Как ты могла ляпнуть такое про семью? Как ты могла сказать такую пошлость? Ведь это ты от зависти! Ай-ай-ай! Какой стыд! — И Валентина не то засмеялась, не то всхлипнула, прижав ладони к лицу.
Нервная дрожь прошла по ее спине, она потянула к себе за угол пуховую шаль, окуталась ею, затем взяла недочитанную книгу, открыла ее на закладке, но не прочитала и полстраницы, как убедилась, что думает совсем о другом и не понимает смысла прочитанного.
Она попробовала представить себя на месте Анны. Вот она подходит к постели Маринки, идет в кабинет и садится у стола. Сколько всяких книг и бумаг на этом столе! Анна говорила, что она любит проснуться иногда ночью и посидеть с книгами часок-другой или даже просто так посидеть в тишине и подумать. Ну, вот и она, Валентина, также проснулась и встала, но читать ей не хочется, а думать… если думать только о семье Анны и разговоре у них за столом, то лучше совсем не думать: так больно и пусто делается на душе от однообразно повторяющихся мыслей, точно они обшаркивают ее своим бесконечным движением по узкому кругу.
И все-таки Валентина возвращалась к тому же. Работают и учатся!.. Валентина тоже любила свою работу. Она вспомнила кочегара на пароходе и сотни, сотни других пациентов. Имена и отдельные черты их она уже забыла, но то, как она лечила их, создало у нее доверие к своим силам, уважение к себе — человеку-работнику.
Хорошо Анне, что Андрей для нее настоящий товарищ и его слова не расходятся с делом. Хорошо ей, что у нее такой здоровый, красивый ребенок!
Валентина вспомнила, как она стояла однажды в Эрмитаже перед Мадонной да Винчи. У Мадонны был огромный безбровый, гладкий лоб, невинное лицо девочки и колени матери. Младенец, которого она бережно поддерживала своими пухловатыми в запястье руками, был светел, крупен, весь в нежных складочках жира, но девочка-мать смотрела на него с таким важным раздумьем; казалось, она подавлена была величием своего материнства.
Валентина порывисто встала, сунула ноги в мягкие туфли, открыла шкаф, приподнявшись на цыпочки, достала с полки деревянную плоскую резную шкатулку.
27
Толстые щечки его блестели, блестел круглый лобик и веселые глаза. Во рту, открытом улыбкой, едва белел чуточный зубок. Это был ее ребенок, ее сын! Снова она ощутила на своих руках утраченное тепло его маленького тела. Глаза ее заволоклись слезами. Казалось, она все имела для простого и милого женского счастья, но почему-то это «все» оборачивалось для нее в худшую сторону. Озлобленная неудачница! Неужели она не стоила иного в жизни?..
Валентина вставила карточку в щель между оправой и стеклом настольного зеркала. Потом ее печальный взгляд сосредоточился тревожно на собственном отражении.
Тонкая шея, открытая вырезом ночной рубашки, была гладкой, под легкой тканью обрисовывалась невысокая грудь. Наклоняясь, Валентина откинула назад светлые кудри, приблизила к зеркалу полыхающее румянцем лицо и вдруг улыбнулась сквозь слезы, восхищенная.
— Я еще буду любить! — с увлечением прошептала она. — У меня еще будет ребенок!
Ока подошла к окну, распахнула его. Сырая прохлада потянула в комнату. Валентина крепче закуталась в шаль и присела на подоконник.
На востоке едва брезжила заря. Казалось, кто-то огромный хотел поджечь темные лохмотья туч и раздувал под ними на горах тлеющие угли.
— Все-таки я очень одинока! — прошептала Валентина, глядя, как разгоралась и не могла разгореться тлеющая в тучах заря. — Вот и я стала вздыхать вроде Виктора… Но я ведь не докучаю с этим никому! — добавила она, точно оправдывалась перед собой за недоброе чувство, шевельнувшееся в ее душе против Ветлугина.
Она отлично сознавала, что раздражало ее совсем не то, что он так упорно тянулся к ней, стремительно подчиняясь всем ее прихотям и настроениям, — она даже не представляла, как могла бы жить, не привлекая чьего-либо внимания, — а раздражало то, что все его старания только подчеркивали ту душевную пустоту, которая особенно томила ее в последнее время.
Под окном вдруг зашуршало что-то, и Валентина от испуга и неожиданности чуть не свалилась с подоконника. Тайон, встав у стены на задние лапы, молча приветствовал ее, потягиваясь и размахивая тяжелым хвостом.
— Ах ты, дурной! — упрекнула его Валентина, перегнулась через подоконник, с трудом подняла и втащила собаку в комнату. — Все шляешься?
Пес виновато прилег.
— Когда ты привыкнешь к своему дому? — Валентина достала из шкафчика кусок булки, но Тайон только из вежливости обнюхал его. — Я привяжу тебя на цепь, — сказала Валентина; она сердилась, но чувство одиночества уже не бередило ее сознания, как минуту назад.
28
Все утро в больнице она была задумчива: мысль о том, что Анна обиделась, не покидала ее, а тут еще главный врач предложил ей поехать вместо заболевшего фельдшера в тайгу, к разведчикам, и она совсем приуныла.
— Вы умеете ездить верхом? — спросил вечером Ветлугин, пришедший по обыкновению навестить ее.
— В том-то и дело, что не умею.
— А сапоги у вас есть?
— Есть, но я ни разу их не надевала, — равнодушно ответила Валентина, сидевшая с шитьем в руках.
— В туфлях ехать нельзя.
— Не знаю я, ничего не знаю! — уже с досадой ответила Валентина и, страдальчески морщась, посмотрела на уколотый палец. — Как поеду и с кем поеду — мне все равно.
— Поедете вы с Андреем Никитичем, — сообщил Ветлугин. — Я это знаю потому, что Анна Сергеевна при мне разговаривала по телефону, — пояснил он, удивленный быстрым движением Валентины и тем взглядом, оживленным и испуганным, который она вскинула на него. — Там заболели два разведчика. Анна Сергеевна беспокоится… может быть, тиф.
— Об этом уж мы, врачи, должны беспокоиться, — сухо промолвила Валентина и низко склонила голову над шитьем.
Сильно вьющиеся на концах и над висками пряди волос совсем заслонили ее лицо, видна была только круглая мочка маленького розового уха.
Помолчав, она подняла голову, искоса взглянула на Ветлугина:
— Это далеко… ехать?
— Километров тридцать — и все тропой.
— Обязательно в сапогах?
— Да. Иначе вы сотрете ноги. А ходить по тайге в туфлях невозможно.
— Я сказала, что у меня есть… Валентина быстро опустилась перед своим самодельным диваном, вытащила из-под него пару маленьких, связанных ушками сапог. — Вот! Я купила их, когда поехала сюда.
Ветлугин взял сапоги, развязал бечевку.
— Они вам будут великоваты, — сказал он, шаря в сапоге, не торчат ли гвозди, но гвоздей не было. Он снова взглянул на Валентину, и сердце его сжалось от неизъяснимо смутной догадки. — У вас есть портянки?
— Нет, но я могу сделать. — Валентина вынула из чемодана кусок полотна, надрезала и оторвала от него широкую полосу. — Вы мне покажите, как нужно навертывать.
Она села, сняла туфлю и начала неумело пеленать ногу поверх чулка.
— Так и так… А теперь куда?
— Дайте я покажу, как нужно, — предложил Ветлугин и, опустясь на колени, деловито перепеленал ногу Валентины. Лицо его при этом было серьезно, даже угрюмо.
Когда он хотел подняться, Валентина положила руку на его плечо. Ветлугин вздрогнул, но овладел собой и посмотрел на нее почти холодно.
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что вы самый хороший, самый славный человек из тех, кого я встречала! Я чувствую, мы станем друзьями.
Ветлугин вспыхнул, словно мальчик. Его недобрая догадка превращалась в уверенность. «Вот и я стал хорошим, потому что… потому что…» Он не посмел закончить свою мысль и молча отстранился от кокетки.
29
Лошадь оказалась очень высокой, и оттого, что она быстро переступала ногами, вся ее длинная спина до кончиков навостренных ушей и круглые бока подергивались, шевелились, и сидеть на ней, особенно в начале пути, было страшно и неудобно. Валентина то и дело теряла стремена, смущалась, сердито ворчала, отыскивая ногой ускользавшую опору.
«Наверное, я очень смешная сейчас!» — думала она и старалась держаться как можно прямее.
Ей казалось, что она скачет во весь опор, но смирная ее лошадь только трусила добросовестно, без понуканий, по выбитой корытом лесной дорожке, размытой на спусках дождями. Вернее, лошадь торопилась просто из боязни отстать в тайге от своего черного соседа по конюшне, на котором ехал Андрей. Не все ли равно, что побуждало ее торопиться? Важно то, что через некоторое время она стала как будто ниже ростом, и спина ее оказалась надежно широкой.
Осмелев, Валентина начала посматривать по сторонам — на зеленый полумрак леса, на болотце, заросшее пухлыми моховыми кочками и желтыми звездочками чистотела. Когда лошадь немного отстала, замявшись в нерешительности перед размешанной на тропинке грязью, Валентина крепко торкнула ее каблуками сапог и, перескочив рытвину, снова почувствовала себя счастливой. Ей уже досадно стало, что Андрей был впереди и не заметил проявленной ею ловкости.
— Я нарочно еду тихо и все жду, что вы окликнете меня, — ответил он на ее упрек в невнимательности.
— Мне никогда не приходилось ездить верхом, — оправдываясь, сказала Валентина и, недовольная собой за это, добавила с хвастливой небрежностью: — Зато теперь я могу как угодно.
— Даже рысью?
— Почему бы нет!
— Попробуем, пока позволяет дорога. — И Андрей слегка подстегнул свою лошадь.
Валентина сразу же потеряла стремя и съехала набок, но не слетела, не выпустила поводьев, а крепко, точно испуганная кошка, вцепилась в седло. Она бы расплакалась от досады, но то, что ей удалось удержаться, ободрило ее. Она сумела поправиться в седле, и Андрей ничего не заметил, когда остановил коня и, улыбаясь, обернулся.
— Вы молодец! — крикнул он ей, как Маринке, не разглядев выражения ее обиженно изогнутых губ.
— Я устала, — сказала она, когда они проехали в молчании еще километров пять. — Я устала и хочу пить, — повторила она, и в голосе ее прозвенел уже не задор, а слезы.
— Скоро мы доберемся до воды. Там можно будет напиться и отдохнуть, — снова, как маленькую, утешил он.
— Поезжайте со мной рядом, — потребовала Валентина. — Моя лошадь все время спотыкается. Она не кривая?
— Нет, это отличная верховая лошадь, — спокойно ответил Андрей и поехал совсем близко, но не рядом, а по-прежнему впереди: дорожка была узкая.
«Ничем не проймешь! — думала Валентина, почти ненавидя его шляпу с откинутой на поля сеткой и крепкую, бурую от загара шею. „Нет, отличная верховая…“ — передразнила она с ожесточением. — Но могло же мне показаться…»
30
Мягкая дорожка кончилась, подковы лошадей начали постукивать о камни, и вскоре сосновый бор, пронизанный дождем солнечных лучей, светло распахнулся вокруг Он был громаден со своими бронзовыми под блеклой зеленью стволами-колоннами, с грудами разрушенных скал-останцев, покрытых розово цветущей богородской травой. В нем пахло теплой хвоей, смолою.
Пи-ить… пи-ить, — стонал в вышине голос невидимого ястребка.
Изредка в пустоте высоких просветов перелетали красногрудые клесты. Внизу, над тонкой желто-бурой вязью сухих иголок, между редкими кустами шиповника и темнолистой рябины, суетились у своих стожков муравьи.
Валентина стащила с головы сетку вместе со шляпой и осмотрелась.
Пи-ить, пи-ить! — кричала птица, и казалось — сейчас за соснами распахнется в шуршании камышей, в белой кайме песка сказочный, прозрачно-голубой простор озера.
Вбежать бы в светлую воду, вдохнуть запахи озерной свежести, ощутить всей кожей дыхание ветра, еле качающего в тусклой оправе далеких берегов солнечный блеск.
Но сосны не расступались, а все новые и новые поднимали над дорожкой высокую крышу бора.
— Где же ваше ружье? — неожиданно напомнила Валентина, взглянув на Андрея.
— Я не взял его с собою, — сказал он, посматривая по сторонам. — Зачем вам понадобилось ружье?
— А если медведь?
— Здешние медведи редко нападают.
— Редко нападают, — повторила Валентина. — Но все-таки нападают!..
«Хорош, нечего сказать, — подумала она. — Правду говорил Ветлугин: он совсем не чуткий, в нем нет даже простого человеческого отношения к окружающим. И что, собственно, хорошего может находить Анна в своей жизни с таким человеком!»
31
У русла речки, под редкими соснами, громоздились развалы рыжеватых скал; в замшелых расселинах их белели пушистые, на тонких стебельках звезды эдельвейсов; внизу, в камнях, чернела вода.
— Здесь, — сказал Андрей и, привязав свою лошадь за ольховый куст, хотел спуститься к берегу.
— А я? — спросила Валентина, все еще сидевшая в седле.
— Что — вы?
— Помогите мне слезть отсюда.
Андрей неловко усмехнулся:
— Простите, я совсем не привык ухаживать. Наши женщины-геологи проявляют в таких случаях полную самостоятельность. — С этими словами он протянул к ней руки и принял ее с седла, как ребенка.
На одно мгновение она прижалась к его груди и встала перед ним, прямо и смело глядя на него блестящими глазами.
— Вы… легкая, — сказал он, немножко смущенный; всем своим видом она как бы говорила: «Я вам нравлюсь. Не правда ли?»
Вода в омуте, под нависшей скалой, черно-зеленая, плотная, была неподвижна, а выше по руслу звенела так, словно лилась на камни из узкого горла кувшина.
Валентина спустилась по крутому обрыву, бросила шляпу на береговой камень, зачерпнула пригоршней ледяную воду. У нее сразу, после первых глотков, заныли зубы. Она провела захолодевшими ладонями по горячему, потному лицу и снова начала пить.
— Вы заболеете, — предупредил Андрей, вытираясь носовым платком; намокшие волосы его смешно топорщились.
— Неужели? Я сама врач.
— Верно, я про это забыл.
— Забывать не следовало бы!
Ей захотелось шаловливо обрызгать его, но в это время что-то большое зашевелилось в глубине.
Валентина вздрогнула, опираясь ладонями в край камня, заглянула в воду.
— Вы обрушитесь туда, — снова предостерег Андрей.
— Ничего, вы меня вытащите…
Андрей подошел ближе, тоже всмотрелся.
Могучая рыба вышла из темноты, где едва виднелись затонувшие коряги. Мелькнуло, приближаясь, ее длинное тело, спина взбороздила поверхность омута, изогнутая лопасть хвоста взметнулась, обдав брызгами скалы. Всколыхнувшаяся вода сразу стала прозрачной и легкой, пока угловатое, в светлых полосах тело рыбы не исчезло опять в глубине.
— Осетр! — сказал Андрей с улыбкой. — Забрался сюда с Алдана и живет себе отшельником.
— Удалился от мира! — радуясь, звонко откликнулась Валентина. — Мне показалось, будто у него рта нет, — добавила она нерешительно.
— Рот у него тут, — Андрей тронул себя под подбородком, — маленький, круглый.
— Противный, — перебила Валентина.
— Почему противный? Вам сегодня всюду разные недостатки мерещатся.
— Смотрите, опять! Он совсем не боится нас, — сказала Валентина, словно не расслышав замечания Андрея. — Отчего он так осмелел?
— Играет. Ах, мерзавец, что он проделывает! Обычно они ходят стаями по самому дну, взрывая ил, как свиньи. Ему вольготно живется в этой яме. Ниже речка обмелела: в прошлом году образовались по руслу карстовые воронки… такие полости в известняке… и почти вся вода провалилась под землю. Вот он и играет здесь.
— Хороша игра! — промолвила со вздохом Валентина, вспомнив о собственном одиночестве. — Он уж, наверное, взбесился от скуки…
Андрей рассмеялся.
— Интересно, как мы его подкараулили. Вот я расскажу своим женщинам…
— Маринке?
— Да, ей и Анне.
— Вы им… ей… все рассказываете?
— Все.
— Решительно все?
— Решительно.
— Неправда. — Валентина нервно поиграла сломанной ольховой веткой. — Всего вы никогда не расскажете. И я не расскажу, и никто другой.
— Тогда это не настоящие отношения, — сказал Андрей уже серьезно. — Если любишь человека, то ничего не можешь скрыть от него… даже если бы и пожелал.
Валентина закусила губу, потом поднялась и улыбнулась принужденно.
— Вот я бы взяла да поцеловала вас сейчас, разве вы рассказали бы?.. Именно когда любят человека, то, не желая волновать его, о многом умалчивают.
— Тогда лучше не делать того, что будет неприятно любимому человеку, — негромко, но твердо проговорил Андрей, ничем не выражая своего отношения к ее словам о поцелуе.
32
Валентина остановилась на склоне горы, тяжело дыша, опустилась на желтоватый мох.
— Отдохнем минуточку… Какой чудный вид отсюда, сверху!.. Почему этот ключ называется Звездный?
Андрей оглянулся и тоже сел.
— Может быть, вы сядете еще дальше? — задорно смеясь сказала Валентина. — Тогда мы будем разговаривать точно два китайца, чтобы нас отсюда слышала… Анна Сергеевна. Вы видели… иногда встретятся два китайца, сядут на корточки, не рядом, а… вот как мы с вами. Далеко слышно, как они кричат что-то друг другу.
Андрей нахмурился.
— Анна обиделась бы на вас за такие слова…
— Еще не поздно: вот мы приедем домой, и вы ей доложите о каждом моем и вашем движении. — Валентина посмотрела на пасмурное лицо Андрея и присмирела. — Я дерзко шучу, каюсь! — сказала она упавшим голосом. — Правда, я очень полюбила вашу жену и совсем не хочу… касаться легкомысленно ваших отношений. Я даже завидую вам обоим. Видите, как я откровенна. Но мне почему-то не верится… не верится, что эти отношения могут быть совсем-совсем искренними. Может быть, я не имею права говорить вам такие вещи…
Валентина посмотрела на белых чечеток, перелетавших по крутым дугам кедрового стланика, высохшего после давнего пожара, и заговорила торопливо:
— У моих соседей есть кошка, черная, мягкая. Она часто приходит ко мне… Когда птицы садятся на провода у самых окон, она смотрит на них и смешно урчит. Правда! Как будто блеет тихонько… Нет, я даже не могу найти названия тому, что у нее получается, но очень, очень смешно. Рот раскроет широко и хрипит тихонько, а когтями так и корябает по подоконнику. — Валентина покосилась на удивленного Андрея и переспросила: — Почему этот ключ называется Звездным?
— Здесь мы видели звездный дождь, — ответил Андрей, снова озадаченный ее вызывающе-злыми выпадами и неожиданными переходами с одной темы разговора на другую.
«Или она не очень умна, или… несчастна, чем-то надорвана», — подумал он и продолжал:
— Возможно, это были мелкие метеориты. Мы пришли сюда, я и разведчики, чтобы заложить первые канавы. Ночью у нас сгорела палатка: попали искры от железной печки. До утра мы просидели вокруг костра под открытым небом…
— У вас была печка… — напомнила Валентина.
— Печкой тайгу не натопишь. И вот я встал, чтобы подбросить дров, но вдруг слышу легкий шорох… Оглянулся. Небо серовато-синее перед рассветом, а по этому мутному небу под звездами косой светлый дождь, такие огнистые хвостики. Разведчики дремали, а один вскочил и закричал: «Богова палатка горит. Пусть-ка он попробует сам пожить на голом небе!» Так мы и решили назвать этот ключ Звездным.
— Богатое тут золото?
— Пока еще нет, но мы надеемся на рудное, здесь, на водоразделе Долгой горы.
— Хорошо, когда есть надежда! Действовать и надеяться… Я всю жизнь жила надеждой… на яркое что-нибудь.
33
Валентина рассеянно погладила бледно-желтые кустики оленьего моха.
Полые, густоветвистые стебельки его, сросшиеся в сплошной дерновник, свернулись на верхушках, точно подпаленная шерсть, в коричневые узелки спор. На днях прошли дожди, и мох, еще не просохший на солнце, был мягок. Валентина прилегла на него, закрыла глаза рукой, и пальцы ее красновато просветились, будто к самым глазам поднесли раскаленное железо. Она даже не шевельнулась, когда поднялся Андрей, слышала, как он пошел наверх, но не окликнула его: так хорошо было лежать на крутом солнцепеке.
Всю ночь она провозилась с больными. У одного действительно оказался тиф, у другого — малярия, привезенная из Средней Азии. Валентина вспомнила серовато-синее, точно в лучах кварца, лицо малярика, его холодные, с лиловыми ногтями руки… Послушав отеческого совета смотрителя разведок Чулкова, он выпил стакан водки с перцем и горчицей, и его страшно рвало кровью.
Испуганный Чулков, грузный, но услужливо проворный, бегал ночью в тайгу с кайлом и притащил целое ведро вечного льда.
Лед, пролежавший в земле многие тысячи лет, внушал невольное к себе уважение, но под ножом кололся легко и, оплывая водой, распускался на блюдце просто, как самый обыкновенный. Чулков подносил его кусочками к обтянутым вокруг зубов губам больного, и чайная ложка тряслась в его тупых пальцах. Он был так расстроен, что Валентина даже не решилась побранить его за «собственное средство».
Сейчас больной спал, и Валентина, в свою очередь, едва осиливала дремоту, лежа на моховой постели.
Эта поездка сквозь лесное море, осетр-отшельник, звездный дождь от сгоревшей «палатки бога», малярик, которому она помешала умереть ночью, — все слилось для нее в одно радостное ощущение полноты жизни. Вот и небо здесь, над горой, такое близкое, что кажется — только протяни руку и прикоснешься к нему.
— Я счастлива, — сообщила Валентина, ласково улыбаясь светлой синеве неба, и снова погрузилась в дремоту, как бы растворяясь в солнечном тепле, плывя куда-то…
Смятые облака плыли вместе с нею над черно-лиловыми краями гор, прорывались, наползая на скалистые гребни… Странно и хорошо было следить из-под опущенных ресниц за их беспорядочным движением.
* * *
Сверху донесся голос Андрея. Валентина приподнялась, прислушалась.
Что-то звякало, точно разбирали лопатами груду железного лома.
Валентина положила раскрытые ладони на мох, крепко нажимая, опять погладила его. Шершавые стебельки щекотно прошли под ее пальцами, и она, улыбаясь, с веселым озорством сжала и выдрала их.
— Странно! — прошептала она, глядя, как шевелился моховой дерновик, примятый и разорванный ее руками. — Странно. Почему это… радость у меня? Радуюсь чему? С ума сошла!..
Она встала и тихо пошла наверх. Из канав летела земля, выбрасываемая невидимыми лопатами, грубо звучали голоса. Валентина опять прислушалась и повторила:
— Странно. Очень странно!
В одной из канав она увидела Андрея и долго молча смотрела на его опущенные плечи и ссутуленную спину. Чулков выбирал куски камня из кучи в углу ямы и с самым серьезным видом передавал Андрею, который рассматривал эти камни в лупу. Валентина постояла у канавы и медленно отошла. Что же, ведь она забралась сюда совсем не для того, чтобы отвлекать его от работы. Хорошо и то, что он здесь. Она обязательно увидит его через несколько минут. Ничто не может помешать ей увидеть его.
— Заложить еще одну в крест простирания, — донеслось до нее из канавы.
Валентина удивленно подняла бровь, улыбнулась и села на желтый, уже сухо обветренный камень, вынутый из ямы.
— По свалу-то мы подсекли ее, верно, — сказал. Чулков, — уйти ей некуда.
После минутного молчания — голос Андрея:
— Элехченты залегания показывают сброс вправо.
— Сомнительно, Андрей Никитич, скорее сдвиг влево.
— Сброс…
Валентина слушала с доброй усмешкой: как будто не все равно, сдвинуть или сбросить. Потом Андрей произнес:
— Попробуем заложить одну правее.
И, слышно вздохнув, Чулков повторил недовольно, но покорно:
— Заложим правее.
— Переспорил! — прошептала Валентина. — Ох, какой ты упрямый, милый мой! — И беззвучно засмеялась, откинув голову, задыхаясь от сразу полонившего ее чувства.
Милый? Этот грубовато-неловкий Андрей? Разве он уже не сухой эгоист? Разве он изменился со вчерашнего дня? Она не знает, и никто не знает, и никто не может помешать ей называть его так, как ей хочется.
34
Андрей подходил, озабоченно хмурясь, но, взглянув на нее, смирно сидевшую на камне, сдержанно улыбнулся.
— Мечтаете, милосердный врачеватель?
Валентина не ответила, только пристально посмотрела на него широко открытыми глазами. Лицо ее, обычно оживленное, подвижное, выражало глубокую внутреннюю сосредоточенность. Она точно прислушивалась к чему-то.
— Случилось что-нибудь? — спросил он, невольно побаиваясь ее ответа.
— Да, произошло открытие.
— А именно?
— Очень, очень важное.
— Для кого?
— Пока только для меня, — отрезала она строго и спросила: — Что такое «в крест простирания»?
Андрей удивился, но на лице Валентины было самое серьезное внимание.
— Простирание — один из элементов залегания жилы, то есть ее направление. Например… если она простирается отсюда на северо-восток, то мы закладываем канавы в крест этого направления. Значит, поперек. А почему это вас заинтересовало?
— Хочу знать, чем дышат разведчики.
Валентина встала и улыбнулась новой, немножко виноватой и оттого жалкой улыбкой.
«Вот они, женщины! — подумал Андрей. — Кажется, понял ее совершенно, а глядь, она уже совсем иная и далее на себя не похожа. Может, именно сейчас она настоящая?!»
— Мы скоро обратно поедем? — спросила Валентина и, не ожидая ответа, обратилась к подходившему Чулкову: — Я не последила, как там подготовят перевозку больных…
У Чулкова было серое после бессонной ночи лицо, веки покраснели, набрякли.
— Будьте покойны, — сказал он с уверенностью старого служаки, почтительного, но знающего себе цену. — Конюх у нас — спец на все руки. Носилки соорудит хоть для самого китайского императора. Вот только на сегодня мы без лошадей останемся. Это мне прямо нож в сердце.
— Ваших больных товарищей надо перевезти!
— Понятное дело — на другое я не дал бы: шутка сказать — на каждые носилки по две лошади!
— Мне нет надобности особенно торопиться, — сказала Валентина. — И это просто моя обязанность… Пусть Андрей Никитич едет вперед, а мою лошадь можно впрячь в носилки, и я поеду вместо второго конюха.
Чулков просиял до неузнаваемости.
— Уж сколько раз это самое у меня на языке висело, да все никак не осмеливался. Оно вроде принято у нас, в тайге, а вроде и неудобно: образованная барышня — и вдруг за конюха при носилках!.. Вот если бы с Анной Сергеевной — тогда другой разговор.
— Почему? Она ведь тоже образованная!
Чулков усмехнулся, и пухловатое лицо его с широким носом и выдающимися скулами показалось Валентине хитрым и неприятным.
— Анна Сергеевна — человек ко всему привычный. Мы с ними ехали прошлой зимой в кошевочке, я и заглядись, старый дурак, на белку… И чего мне в ней помстилось: белка как белка, самая обыкновенная! Загляделся да и вывернулся на раскате: кошевку так и забросило. Ну, думаю, сейчас Анна Сергеевна меня разделают! А они стряхнулись да за кошевку, и враз мы ее вдвоем на дорогу направили. Взялись вдвоем — раз, и готово!..
— Вы распорядитесь, чтобы там поскорее все устроили, — сказала Валентина, перебивая его воспоминания.
«И чего он нахваливает ее при муже? — подумала она неприязненно. — Подхалим какой!»
Она взглянула на Андрея и уловила еще не погасший теплый блеск в его глазах. Ему рассказ Чулкова явно понравился.
— Пусть и мою лошадь впрягут в носилки, я тоже поеду вместе с больными, — сказал Андрей Чулкову. — Снимать с разведки лошадей и рабочих сейчас просто грешно. — Андрей с благодарной улыбкой посмотрел на обрадованную Валентину и промолвил ласково: — Вы становитесь настоящей таежницей.
35
Родовой строй у кельтов процветал еще в восемнадцатом веке. Анна опустила книгу и задумалась. Энгельс писал, что наивность ирландских батраков, глубоко проникнутых представлениями родового строя, приводила их к трагедии массовой деморализации, когда они переселялись в города Старого и Нового Света. Оторванные от родной почвы, от первобытно-простых нравов родной среды, они сразу опускались на дно: шли в публичные дома, пополняли камеры уголовников. Город одинаково перемалывал и цветущих девушек, и угрюмых здоровяков-парней, превращая их в отщепенцев, в жалкое человеческое отребье.
Анна вспомнила древние песни ирландцев, в которых они сочетали детскую жестокость с прелестью чистейших, утонченных чувств. Эти песни потрясали ее, словно живой крик, звучавший из седой мглы прошлого тысячелетия.
— Массовая деморализация! — повторила она вслух, и рука ее судорожно сжала шершавый переплет книги. — А разве я не была наивной, как ирландец, когда поступила на первый курс рабфака? Разве молодежь, пришедшая за эти годы в наши города из самых глухих районов, не носила на себе следы родового строя?
Анна вспомнила ненцев и гиляков, эвенков и якутов, с которыми ей пришлось столкнуться за годы учебы.
Перебираясь в город, они не имели понятия о самых простых вещах, известных каждому городскому ребенку.
«Как мы заботились о них!»
Анна вдруг нахмурилась, обеспокоенная воспоминанием. В институте, будучи уже на предпоследнем курсе, она ударила студента. Ударила в лицо сильно, зло, до крови из носу. Еще бы! Он позволил себе такую хвастливую фразу: «Я еще не пробовал узбечек…»
Анна представила бесцветное узколобое лицо студента, маленькую смуглую девушку, возле которой он увивался, и снова, как тогда, ощутила толчок горячего гнева.
«Неужели я и сейчас ударила бы?» — подумала она.
Она читала, полулежа на диване. Час был такой, когда еще светло на дворе, но в комнатах уже сумеречно, и настольная лампа, принесенная в столовую, уютно светила ей из-под зеленого абажура.
Здесь же, у дивана, расположилась лагерем и Маринка с автомобилями и пестрой кукольной мелочью. Сначала она играла тихо, потом на полу началось форменное сражение: даже смирные тапочки Анны превратились в военные корабли. Маринка нагружала их людьми и машинами, с шипеньем волокла по ковру, сваливала все в одну кучу, а потом уже разбирала, бесконечно нашептывая.
— Начинается бой, — шептала она. — Товарищи! Вот идут фашисты… — Маринка оглядела свое военное хозяйство, сурово нахмурилась. — Товарищи! Сейчас я буду стрелять. Только не подходите к танку: он заряженный пулями и бомбами. Сегодня пули попали прямо в медведя, он свалился в яму. Там его совсем убило электрическим током.
«Откуда это у нее? — подумала Анна, прислушиваясь к бормотанию дочери. — Что за фантазия? И всегда она что-нибудь выдумывает!»
— Когда пули попали в медведя? — спросила Анна.
— Когда тебя не было дома.
— И он упал в яму?
— Упал.
— Какой же он был: черный или бурый?
— И черный и бурый… — Маринка подумала немножко, — и серебристый.
Клавдия поставила в буфет вымытые тарелки, тоненько рассмеялась.
— Значит, вправду! Еще и серебристый! Это она, Анна Сергеевна, про лису слыхала: у Валентины Ивановны элегантская шубка с таким воротником.
— И вовсе не шубка, а медведь.
— Где та яма, в которую он упал? — спросила Анна, но в это же время представила Валентину в ее «элегантской» шубке.
— Ямы уже нет… там теперь столб, а медведь вылез по столбу и убежал в лес.
— Вот папенька его там поймают и приведут домой, — сладко пропела Клавдия. — Что это вы, Анна Сергеевна, отпускаете Андрея Никитича безоружными? Не дай бог, вправду медведь?! Долго ли до греха…
— Я говорила… — Анна помолчала, машинально отгибая уголки страниц, с шелестом пропуская их из-под пальца, взгляд ее стал рассеянным. — В прошлом году мы с Виктором Павловичем видели медведя на тропе. Ничего… посмотрел на нас, постоял на дыбках и ушел в тайгу.
— Настоящий, мама?
— Самый настоящий, только я не помню, был ли он серебристый.
36
— Долго нет нашего хозяина, — сказала Клавдия и присела на краешек стула. — Валентина Ивановна на лошади-то не умеет ездить… Ее, наверно, поддерживать приходится.
Анна ничего не ответила.
— Нежная женщина, к тайге не привычна. А уж следит за собой… чтобы все наглажено, чтобы все начищено. Верите, нет — нынче прачку заставила все белье переглаживать.
Анна опять промолчала, ей не хотелось принимать участие в таком разговоре, но смутное любопытство мешало оборвать болтовню Клавдии.
— Виктор Павлович по пятам ходят, чисто привязанные. Только они его не очень-то жалуют: прошлый раз вышел от них туча тучей. А уж такая пара была бы, такая пара, лучше не придумать. И детки были бы породистые, красивые! Да, видно, вправду говорится: не по-хорошу мил… Жалко Виктора Павловича. Сегодня идут из столовой и что-то несут в газетке. Гляжу, Тайона подсвистывают. Прямо смех и горе!
— А вы, чем подсматривать, накормили бы собаку сами, — сказала Анна с чувством внезапной неприязни к Клавдии.
Почему она решила, что все это интересно слушать сейчас, когда Андрей и Валентина уехали вместе в тайгу?
— Господи боже мой! Вы думаете, я ленюсь покормить собаку? Я кормила, да Валентина Ивановна запретила. «Хочу, говорит, чтобы он у меня дома жил, а не бегал по чужим кухням». Ревнивые.
— Ревнивые? — повторила Анна.
— Конечно. Я по себе знаю. Был у меня кот сибирский, пушистый. Любила я его до страсти и видеть не могла, если кто к нему руку протянет, погладит. Все мы, женщины, ревнивые за свою собственность, — спокойно закончила Клавдия, и в ее словах Анне почудилось что-то недоговоренное.
— Я пойду купаться, — сказала она, поднимаясь и надевая тапки.
Оловянный солдатик зацепился в одном за стельку; Анна сердито поморщилась, вытряхнула его на пол.
— Я бы тоже покупалась, — неуверенно предложила Марина, чутко угадывая, но не понимая перемену к худшему в настроении матери.
Анна никогда не требовала от дочери не слушать то, что ее не касается, зная, что умненький резвый ребенок интересуется всем вокруг него происходящим. Она так просто, без шепотков и подмигиваний в сторону всегда навостренных маленьких ушей, говорила о семейной жизни, о любви и детях, что Марина спокойно продолжала заниматься своими делами, выхватывая из разговора взрослых лишь то, что задевало ее воображение, — вроде Тайона, ждущего подачки под окном кухни.
— Я бы пошла с тобой, — сказала Маринка, сделав на своем хорошеньком лице просительную гримаску.
— Нет, вечером дети не ходят купаться: вода очень холодная.
Анна зажгла везде свет, переоделась, взяла мыло, мохнатое полотенце и вышла на улицу.
37
Она медленно шла нагорьем. На душе у нее было смутно. Нехорошо задетая словами Клавдии, не в силах побороть все возраставшую неприязнь к Валентине, она думала:
«Какая дрянь эта Валентина! Почему ей понадобилось смутить, поддразнить нас? Разве не видит она, как я дорожу своей семьей? „Если красивая женщина захочет…“ Неужели себя имела в виду? Тогда это просто нахальство! Не верит в семейное счастье, а зачем-то старается привлечь каждого интересного человека?»
— Однако, не слишком ли мнительной я стала! Такая муть поднялась в душе, — с досадой на себя произнесла Анна вслух, остановилась и посмотрела кругом.
Было еще совсем светло, но молодая, бледная, с вмятым бочком луна уже высвободилась на тускневшем небе, и нагретая за день каменистая земля одевалась паутиной жидких теней. Просторно раскинувшись, тоже еще в бледных огнях, лежал в долине поселок. Огни поднимались на склоны гор, лепились вдали по серым обрывам, где вставали голубые дымы у рудных штолен и шахт. Поселок казался настоящим городом, к несказанно прекрасный в ранних сумерках, под рано вставшей луной вид этого поселка-города, созданного с таким трудом здесь, в тайге, за тысячи километров от культурных центров, наполнил сердце Анны волнующим чувством.
«Вот то, что доверено моему знанию и совести. Сколько здесь людей, близких мне! — Глаза Анны зажглись ярким блеском, и новое выражение гордого, почти злого торжества осветило ее черты. — Меня могут оскорбить, но отнять у меня сознание человеческого достоинства невозможно».
Почти каждый день приносил в долину что-нибудь новое, и сейчас, когда Анна осмотрелась, деловые заботы завладели ею. Давно ли казалось: главное, решающее — доставка хлеба. Но вот теперь рабочие были сыты, а программа по золоту снова срывалась. Анна вспомнила все чаще застывавшую ленту транспортера на флотационной фабрике: рудник не справлялся с подачей руды, и на фабрике появились простои. Виктор Ветлугин сидел сейчас над проектом, который должен был изменить всю прежнюю систему отработки рудника.
«Нужно перестроиться, а на это время развернуть старательскую добычу и шахты рассыпного золота, — размышляла Анна. — Вот если бы мы имели новый участок с хорошей россыпью… Андрей все-таки слишком увлекается разведками по рудному золоту. Придется решительно поговорить с ним… Ах, Андрей!» — И Анна снова нахмурилась, вспомнив о его поездке с Валентиной.
Раздеваясь в женской купальне, она поглядела на плотину, в которую упиралась широко разлившаяся здесь приисковая речонка. Купающихся было мало, вода в быстро текущих таежных ключах и реках всегда холодная, а после заката солнца кажется особенно студеной. Оставшись в черном купальном костюме, Анна медленно пошла по мосткам.
Она начала заниматься спортом с первых дней вступления в комсомол: бегала, плавала, натирала мозоли во время лодочных соревнований, приводила в негодование мать, когда без юбки, в трусиках и майке, появлялась при всем народе, с такими же голоногими юношами и девушками. Сама Анна, однажды преодолев чувство неловкости, почти не замечала этой полуобнаженности и в азартном увлечении заботилась только о славе своей спортивной команды.
С тем же азартным увлечением она засмотрелась на двух мальчишек-подростков, перерезавших вперегонки пруд. Один плыл боком, расталкивал воду и плечом, и черноволосой головой, другой — саженками, вылетая из воды почти до пояса. Первым доплыл черноголовый, хотя казалось, что он двигался медленнее. Он вылез на плотину и, дыша всей грудью и животом, впалым и смуглым над белыми трусами, пронзительно свистнул.
Анна улыбнулась мальчику, напомнившему ей недавнюю юность, и стала сходить по ступенькам, глядя на свое отражение, дрожавшее на темной воде.
«Я тоже красивая, — подумала она, отталкиваясь от последней ступеньки и снова возвращаясь к мысли о Валентине, — я тоже могу нравиться… Но ведь я не стараюсь привлечь общее внимание».
Вдоволь поныряв и поплавав, Анна легла на спину, посмотрела в глубокое небо, где тоже как-будто плавали звезды. Странно и хорошо было смотреть на них, ощущая под собой текучую зыбь. Погрузиться бы на самое дно, глядя сквозь толщу воды! Наверное, она будет прозрачно-синяя, исколотая насквозь золотыми изломанными, дрожащими лучиками.
Анна вспомнила, как купалась вместе с Валентиной, как та ежилась, не решаясь прыгнуть в холодную воду, а потом вылезла вся розовая, и, смеясь, притопывая ногами, отжимала кудрявые волосы…
«Она красивее меня, и Андрей видит это. Как загорелись у него глаза, когда он впервые взглянул на нее!»
— Что за чушь лезет мне в голову! — сказала Анна, подавленная своей беззащитностью перед этими мыслями.
38
Игра солнечных бликов на письменном столе мешала Анне. Она встала, опустила штору. Новый проект рудничных работ, составленный Ветлугиным, лежал перед нею, и она снова и снова просматривала его с чувством тягостного недоумения.
Вся будущность рудника заключалась в сложной сетке проекта, тщательно вычерченного на просторном листе плотной бумаги, но только явным легкомыслием Ветлугина можно было объяснить то, что он предлагал.
— Дикий бред! — сказала Анна гневно. — Были у человека все возможности пошевелить мозгами, а он убил время и преподнес черт знает что! Прямо зарезал! Зарезал, красавец писаный!
Она развернула старый проект, по которому еще велись работы на руднике.
«В свое время это было очень смелым новаторством, — думала она, остро всматриваясь в проект, созданный два года назад ею и Ветлугиным. — Хорошее, горячее время было тогда! Но мы действительно погорячились и кое-что не предусмотрели, а теперь под землей останется сорок процентов рудных целиков. Но что же именно мы не предусмотрели?»
Морщинки глубже залегли между бровями Анны, она склонилась над столом, раздумчиво оперлась на ладонь.
Земля! Да, земля, с которой им приходилось иметь дело, не была такой, какой она кажется миллионам людей, живущим на ней. Пески в рудниках — это спаянные зерна могучих жил кварца, прорезающего твердое тело материнских пород, глины — глаза полевых шпатов, немо глядящие из холодных гранитных массивов. В мягкой верхней земле, лежащей над постелью-скалой иногда только слоем пыли, иногда мощным покровом в десятки метров толщиной, лежало и мелкое, рассыпное золото. Рудное уходило в неразрушенную скалу, слитое с рудами жил, с коренной материнской породой. Там его приходилось брать тоже тяжким трудом, но в сочетании с высоким горным искусством.
«Именно искусством, — думала Анна, сосредоточенно глядя перед собой. — Неожиданности, иногда потрясающе грозные, опрокидывают самые точные расчеты. Нужны знание, опыт, особое творческое чутье, и смелость нужна, чтобы овладеть каменной стихией. Как будто все мы предусмотрели в этом проекте… Думали — вынем руду сначала широкими колодцами-камерами, начиная выборку со дна колодца, потом вынем промежуточные, временные целики, которые держат кровлю выработок и в которых проложены ходы сообщения. А что получилось? Камеры мы отработали так, как нам хотелось: впервые в нашей горной практике без крепления, впервые с выпуском отбитой руды под давлением ее собственного веса. С этим мы справились, а на целиках осрамились: взорвать их взорвали, но „посадить“ и вынуть не смогли. Теперь флотационная фабрика простаивает из-за недостатка руды. В чем дело? Ветлугин на этот вопрос никак не ответил».
Анна встала и принялась ходить по ковровой дорожке. Конечно, ошибки, допущенные на руднике, будут исправлены. Но как быть с программой? Добыча золота, подорванная весенним недоеданием и цингой, еще уменьшилась из-за простоев фабрики. Беда за бедой! Но Анна даже не пыталась оправдываться. Выполнение программы было главной целью для всех работников производства. Работа была смыслом жизни, без нее Анна не представляла себя. И вот нарушалось это самое главное, жизненно необходимое.
39
Разгоряченное лицо Анны прояснело, когда она услышала за дверью низкий, словно из бочки, голос Уварова.
— Как ты кстати, Илья! — сказала она, идя ему навстречу. — Я только что хотела звонить тебе… Зла я сейчас чрезвычайно! Только остыну, начну взвешивать за и против — и снова взвинчиваюсь. Смотри сам, что он такое представил! Даже подумать страшно: убил время и преподнес черт знает что!
— Погоди, не кипятись, — сказал Уваров и сел к столу, ссутулив широкие плечи, подперев кулаками голову.
В ожидании Анна снова начала ходить по комнате, изредка посматривая на затылок Уварова, тронутый ранней проседью, на его неудобно притиснутые, покрасневшие уши.
А Уваров с увлечением пробирался по линиям чертежа, прикидывал, соображал. Красота смелого проекта захватила его. Рассеянным взглядом он отыскал на столе карандаш, подтянул лист чистой бумаги и сам занялся выкладками и подсчетами. Гладкая прическа его расстроилась, блестящие пряди черных волос свесились на выпуклый лоб. Он совсем забыл о гневе Анны и, на минутку оторвавшись от проекта, весело задумался, вспоминая время, когда она и Ветлугин вводили камерную отработку без всякого крепления. Как развернулись сразу работы рудника! Только теперь впервые сказались недостатки этой системы. Выправляет ли их Ветлугин? Уваров снова уткнулся в проект, устроившись на нем обоими локтями; глаза его так и бегали по чертежу, отмечая детали. Он даже посапывал, затем начал легонько насвистывать.
«Ищи, ищи, все равно ты там ничего хорошего не найдешь», — думала Анна.
Она разбирала почту на другом конце стола и с сердитым любопытством наблюдала за Уваровым.
— Да-а! — сказал наконец Уваров, неожиданно оборачиваясь к ней. — Проект, надобно сказать, красиво сделан!
— В этом-то вся беда, что он красиво сделан, — сдержанно возразила Анна. — В этом-то и опасность: можно поверить, увлечься и такое устроить, что потом не расхлебаешь. Ценность проекта в его осуществлении, а не в том, что он красив, как… мыльный пузырь!
— Надо выслушать самого автора, — предложил Уваров, усмехаясь.
— Ты улыбаешься? — снова взволновалась Анна. — А мне драться хочется.
Уваров покачал головой:
— Сразу драться! Посмотреть надо, обсудить. Ветлугин — инженер, преданный делу беззаветно… Работяга! Узковат он, правда, по части теории, но это уж его беда, а не вина. Вон в механическом Ивашкин — слесарь седьмого разряда, а старшего механика побил по изобретательству. Сметка у шельмеца! Я ему посоветовал после технических курсов еще учиться: организуем ему университет на дому, без отрыва от производства. Парень упорный! Ветлугин взялся быть консультантом.
— Там он берется, а свое дело не делает! — нетерпеливо перебила Анна.
— Как не делает? Ведь вот сделал. Ты погоди, не кипятись: если не совсем ладно, можно исправить.
— Да это неисправимо!
— Посмотрим. В проекте есть свои положительные стороны. Мне хотелось бы проверить кое-что, послушать самого Ветлугина.
— Ну что ж, послушаем, — холодно сказала Анна и позвонила. — Попросите главного инженера, — сказала она, когда вошел секретарь — седенький, усатый, очень чистенький старичок.
Проводив взглядом его мелко переступавшие коротенькие сапожки, она со вздохом повернулась к столу.
40
Ветлугин вошел, внешне спокойный, окинул взглядом разложенные на столе чертежи и сел возле Уварова, высоко держа крупную голову. Его спокойствие и выхоленная внешность, до сих пор соответствовавшие представлению Анны о солидности главного инженера, снова обозлили ее.
«Заелся, как гусь в засадке!» — подумала она.
Сейчас она забыла, что Ветлугину не с чего было худеть: он не пил, почти не курил, вообще вел жизнь праведника. Анна забыла и свое дружеское отношение к нему, свои шутки, сочувственное желание женить его, чтобы не пропадало зря это железное здоровье, сердечность, избыток мужских сил и чувств. Сейчас перед ней сидел человек, который плохо выполнил порученное ему дело и, по-видимому, не сознавая этого, с невинным самодовольством смотрел на нее.
— Ваш проект не пойдет, — сказала Анна, краснея и волнуясь. — Вы предлагаете разбить следующий этаж рудника на одиннадцать камер, оставив между ними целики в метр толщиной вместо прежних шестиметровых… Из одной крайности вы ударились в другую!
— Зато в целиках останется только двенадцать процентов руды, — возразил Ветлугин и оглянулся на Уварова, ища сочувствия: в глубине души он не был так спокоен, как показалось Анне.
— По сравнению с тем, что мы имеем сейчас, было бы неплохо, — как будто согласилась Анна. — Но провести это на практике невозможно! Целики в один метр толщиной не выдержат давления сверху…
— Вы забываете, что ширина камер будет также уменьшена, — сказал Ветлугин, весь вспыхивая. — Зачем при узких выработках оставлять колоссальные стены, которые не удастся потом разрушить и вынуть ни при каких условиях? А ведь это запасы той же руды!
— Совершенно верно: целики — запасы руды, но они и временная опора для кровли. И если эта опора будет слаба, то все, что вы предлагаете, рухнет в разгар работы! Мы должны думать о людях, которые будут там, под землей! Допустимо идти на риск в затратах средств, но рисковать человеческой жизнью мы не имеем права… Мы не можем! — поправилась Анна с гневною запальчивостью. — Словом, в отношении безопасности ваш проект не выдерживает никакой критики. Он просто… безграмотен.
«Не о том вы думали, когда составляли его!» — чуть не добавила она, вспомнив заботу Ветлугина обо всем, что касалось Валентины, вплоть до ее собаки.
Оскорбленный непривычной резкостью своего директора, Ветлугин даже не нашелся сразу, как возразить.
— Это голословное заявление, — сказал он, обретая снова дар речи. — Проектируя одиннадцать камер, я рассчитывал на особенную устойчивость потолка — кровли. Постепенная отработка камер создаст суженные сводчатые уступы потолка. При опоре на десять стен-целиков это будет представлять ряд подземных галерей необычайной прочности.
— А где будут ходы сообщения? — спросил Уваров, вглядываясь в проект. — В каждой камере нужно не меньше двух выходов. Они должны вести в прочное место — в целик…
— Здесь предусмотрено, — быстро сказал Ветлугин, ища с карандашом на чертеже. — Вот ходок через целик в следующую камеру. Вот второй… — И он посмотрел на Уварова, встревоженный его молчанием.
Анна опустила глаза, испытывая нечто близкое к стыду перед упрямством Ветлугина и его нежеланием понять свою ошибку.
— Вы сами сказали о постепенной отработке камер, об уступах потолка… — заговорила она. — Это значит, при отработке одна камера будет опережать другую на три-четыре метра. Когда вы начнете пробивать ходки, они попадут на места, уже заполненные отбитой породой. — Анна помолчала, потом продолжала холодно: — Один раз мы с вами уже ошиблись. Мы хотели дать руду скорее, проще, дешевле, но увлеклись, не продумав все до конца, и получился срыв работы. Я надеялась, что теперь-то вы серьезнее подойдете к вопросу… У вас было время подумать, а теперь оно зря упущено! Вы понимаете, нам придется остановить фабрику: там просто нечего будет делать.
«Вот женская поспешность суждения! — подумал Ветлугин неприязненно. — Видно, вправду нелегко для женщины усвоить мужской стиль работы».
— Уж и делать нечего, уж и фабрику остановить! — сказал он с натянутой иронией. — Ведь ваши доводы — слова. А нужно проверить, хотя бы представить на практике.
— На практике? Хорошо. Идемте на рудник. Ты, Илья, конечно, тоже с нами. Посмотрим на месте, поговорим с рабочими… Я думаю — там, под землей, вы сами сможете представить на практике, что даст выполнение вашего проекта.
41
Они остановились на краю воронки — обвала над старой выработкой. Воронка так огромна, что в нее можно было бы сбросить все ближние дома поселка. Странно выглядели эти желто-серые каменные осыпи, уходившие в головокружительную глубину.
— Смотрите, какой провал! — сказала Анна, значительно взглянув на Ветлугина. — Помните, здесь росла столетняя лиственница… Ее в ту ночь, когда опустилась земля, тоже рвануло книзу. Сначала она перевернулась вверх комлем: корни виднелись на дне ямы еще утром. Говорят, что они корчились, как живые, цепляясь за камни. Потом все было размолото и ушло в глубину. Теперь пустоты, сделанные нами под землей, снова заполнены.
— Да, золотоносная порода поднята из рудника на-гора, и превращена в пыль, — рассеянно отозвался Ветлугин. — Во время флотации даже золото становится невесомым. Когда-то жена американца-изобретателя заметила во время стирки белья на реке, как пристают песчинки к пузырькам мыльной пены. Так возникла идея флотации, но вместо песчинок люди заставили оседать на пузырьки эмульсии золото.
— Для этого требуются колоссальные затраты, и нужно взорвать и вынуть из-под земли миллионы тонн камня, — сказал Уваров. — Какой гигантский труд на глубине в несколько сот метров! Когда-нибудь люди посмотрят на следы наших трудов и удивятся им. Но они будут знать, что не в пыль, а в радость человека превращена золотоносная руда, добытая нами.
— Смотрите, как осела земля, — заговорила Анна после короткого молчания. — Какая огромная тяжесть опустилась туда! Но все это держалось монолитно, пока мы не разрушили целики, на которые опирались верхние слои горных пород.
— Целики? Да… — повторил Ветлугин, и лицо его снова приняло выражение гордого упрямства, когда он представил мощную опору для каменной кровли, которую создаст предложенная им система отработки.
— Об этом мы должны подумать в первую очередь, дорогие товарищи, — сказал Уваров, сталкивая камешки с края воронки и следя, как они, подпрыгивая, гулко скатывались вниз. — Предусмотреть все, чтобы не устроить вот такой обвал во время производства работ.
Имейте в виду: история горного искусства отмечена многими гробами.
В помещении раскомандировочной они надели поверх своей шахтерскую одежду и, сразу измененные до неузнаваемости, направились коридорами штольни к подъемной клети.
Клеть плавно подошла к выходу колодца, звякнул железный затвор, и рабочие в грязных, мокрых донельзя спецовках замелькали мимо, громыхая сапогами по камню рудничного двора: выходила утренняя смена, проводившая передовой штрек на нижнем горизонте. Выходили мастера углубки, проходчики передовых забоев — мастера ответственнейшего шахтерского труда.
Узнавая Анну, иные широко, радостно и устало улыбались, а она и хотела бы улыбнуться в ответ, да не могла, встревоженная мыслью: как убедить Ветлугина в непригодности его проекта, чтобы не подвести потом доверенных им людей?
Клеть, только что взлетевшая, снова дрогнула и стремительно упала в темноту. Мелькали ярко освещенные дворы горизонтальных штреков, мелькали в них, как в окнах, фигуры рабочих, и снова слепая темнота, да жесткий шорох клети, да плеск воды, льющейся со стен колодца.
На сто тридцать пятом горизонте, то есть в горизонтальной выработке на глубине в сто тридцать пять метров, Ветлугин, Уваров и Анна вышли. Глянув на клеть, снова ринувшуюся в сырую глубину колодца, Анна сказала Ветлугину:
— Сначала мы посмотрим старые работы, поговорим… Да, говорить мы будем здесь, а потом спустимся в передовой штрек сто восемьдесят пятого горизонта. Там сейчас столько воды, что едва успевают откачивать.
Анна повернулась и пошла по двору штрека, где было особенно светло и сухо: здесь работали моторы, обслуживающие этот этаж рудника.
«Сейчас я ткну тебя носом в то, что мы напортили, и помогу представить, что получилось бы из твоего дурацкого проекта», — думала Анна, идя первой по просторному коридору штрека.
42
Свет фонаря упал на лицо снизу, и под твердым подбородком блеснула пряжка ремня. Металлическая каска придавала шахтеру вид мужественно-суровый, но если бы снять эту каску, отжимавшую узел волос на самые плечи, эти брезентовые штаны и куртку, то перед разбитым люком оказалась бы просто миловидная женщина, встревоженная и даже смущенная.
Выпускной люк был разбит взрывом. Но что же делать, если к выходу спускаются большие глыбы? Вот сегодня снова спустилась одна пудов на шестьсот, а из-за нее застряла вся руда. Глыбу разбурили, взорвали… Вместе с ней взорвался затвор люка, и в развороченное отверстие выперла грудой раздробленная руда. Выпускаемая под тяжестью собственного веса, она не разбиралась, как ей следовало выходить, и завалила весь коридор штрека: рабочие не успевали нагружать вагонетки вручную.
«Всю механизацию свели назад, к лопате! — подумала Анна с горечью. — Но мы хотели дать золото скорее и дешевле, — возразила она себе. — Мы предполагали создать мощный, непрерывный поток руды, и мы его создали, только вот этого мы не предусмотрели… Да, именно этого мы не предусмотрели! — сказала она себе, цепко ухватывая неожиданно возникшую мысль. — Что, если люки и вагонетки перенести в нижний этаж и туда перепускать руду… А под выпускными воронками… вот здесь, положить над устьем добавочного колодца рельсовые грохота… Крест-накрест. Все крупные куски, которые не пройдут в отверстия этой решетки, взрывать здесь».
— Мы должны внести в проект дальнейшей разработки горизонт грохочения, — сказала Анна громко, обрадованная возникшей идеей, ища глазами Уварова, такого же серого и огромного в спецовке, как остальные шахтеры. — Понимаешь, нечто вроде решета на промежуточном этаже, такие решетки из рельсов, и в случае надобности вторичная распалка над люком. Тогда люки не будут повреждаться и выпуск руды пойдет без перебоя. Ну вот, спросим его.
Не ожидая ответа, Анна обернулась к рабочему-забойщику и стала объяснять ему. Она не терпела промедлений, отсрочек, долгих размышлений, быть может даже слишком нетерпеливая в своем желании действовать. Уваров хорошо знал эту ее сторону и сейчас, наблюдая, как она сразу на непосредственно заинтересованном человеке проверяет возникшую у нее деловую мысль, еще раз подумал о ее отношении к проекту Ветлугина. Она умела пойти на риск, когда за этим риском была действительная перспектива.
Уваров казался рассеянным, но Анна увлекла и его, и он тоже стал слушать, глядя при этом больше на забойщика, и, когда забойщик неожиданно хорошо, располагающе улыбнулся, Уварову самому захотелось улыбнуться: так нужно было все, о чем говорила Анна.
«Если мы введем горизонт грохочения, это поможет потом исправить прошлые ошибки и выпустить запасы оставшейся руды», — думала Анна, карабкаясь по крутым лестницам колодца, пробитого в целике.
В камеру все трое — Ветлугин, Уваров и Анна — проникли через боковой ходок, низкий и темный. Ходок не был закреплен деревянными столбами-подхватами, как не была закреплена и сама камера — просторная выработка в виде пещеры в сплошной каменной породе. Рядом с нею, за таким же шестиметровым целиком, по ходам которого они прошли, была вторая, потом опять целик и опять камера. Так были расположены все шесть целиков и семь камер в этом этаже рудника.
Бурильщик Никанор Чернов опустил перфоратор, давая отдых натруженным рукам, освобожденно улыбнулся, блеснув ослепительно-белыми на запыленном лице зубами.
— Выпуск руды нас ограничивает! — громко крикнул он, оглушенный треском соседних перфораторов, и опять улыбнулся. Он впервые работал один на двух молотках, и настроение у него, несмотря на усталость, было повышенное. — Внизу задержка с выпуском, а нам здесь, под потолком, тесновато.
Анна и сама видела, что в забое тесновато. Бурильщики перфораторами и динамитом вгрызались в потолок камеры и каждый день обрушивали его, и каждый день, каждый час разрушенная порода в медленном непрерывном движении, вытесняемая собственным весом, уходила из-под их ног. Когда вся отбитая порода уйдет через выпускные воронки на дне, камеры будут представлять искусственные пещеры до пятидесятки метров высотою. Подумав об этом, Анна сразу вспомнила провал наверху…
— Опять люк подорвали! — кричал Чернов, так же улыбаясь. — Мы производительность здорово повысили, а развернуться негде…
В своем сером брезенте, осыпанный каменной пылью, он стоял перед Анной хозяином недр, сильный и смелый, как и все, кто работал здесь, под землей.
— Сколько сейчас даешь? — спросила Анна, любуясь энергичным Черновым.
— На двух бурах до пятисот процентов.
— А мог бы дать больше?
В лице Никанора Чернова мелькнуло недоумение, даже как будто испуг. На минуту он задумался, сразу постарев, без блеска улыбки.
— Мог бы, если бы было где развернуться, — произнес он, морща сосредоточенно лоб и запыленные брови. — Развернуться негде. Если я один работаю сразу на двух станках, то, приноровившись, и на трех-четырех сумею.
43
— Когда мы введем горизонт грохочения, он создаст возможность ускорить работы здесь, — сказала Анна, подходя к Уварову. — Видишь, как задерживает бурильщиков плохой выпуск руды. А ведь мы могли бы предусмотреть это, если бы не поспешили…
— Вы сожалеете, что мы ввели новую систему отработки? — спросил Ветлугин.
— Никогда! Но ее нужно усовершенствовать, а не губить легкомысленно.
Лицо Ветлугина в тусклом сквозь пыль освещении потемнело от бросившейся к щекам крови.
— Вы о чем?
— О вашем проекте.
— Это нужно доказать.
— Хорошо. Я буду доказывать. Мы для того сюда и пришли, чтобы представить на практике… — Анна подошла к неровной, ямисто выбитой стене целика, провела по ней ладонью. — Вот опора для того, что наверху, а наверху нависла каменная порода — пласт в сто тридцать пять метров толщиной. Сделанные нами пустоты усиливают давление, разрушив целостность этой породы. На сто восемьдесят пятом горизонте, для которого составлен ваш проект, давление еще усилится. А высота камер рассчитана в пятьдесят метров. Представьте себе, что это высота двадцатиэтажного дома. — Резкая складочка легла между бровями Анны, но она продолжала спокойно: — Целики по вашему проекту будут между выработками-камерами, как каменные стены в метр толщиной. Но вывести их на всю высоту невозможно. Ведь это не воск резать: каждый шаг в породе мы пробиваем взрывами, от которых целики тоже трескаются. Вообразите, что местами толщина поневоле разбуренных целиков будет сохранена только в полметра или еще меньше… Они осядут и сами уйдут в выпускные воронки. Их попросту выжмет своим весом спускающаяся отбитая руда. Допустим, что удалось бы отработать так, как вам хочется. Но при страшном давлении сверху ваши узкие да еще растрескавшиеся целики не поддержат кровли: их раздавит верхней породой. Это загубило бы всю систему работ без крепления. — Анна взглянула бегло в глаза Ветлугина и сказала: — Если вы не возражаете, я попробую познакомить Чернова с вашей… идеей.
Бурильщик Чернов выслушал Анну очень внимательно. Серое от пыли лицо его стало еще серее.
— Где же будут проложены ходы сообщения? — спросил он.
— Через камеры, — серьезно пояснил Уваров, — через целики в следующие камеры.
Чернов заметно смутился.
— А в случае… обвал… куда мы денемся?
— В другую камеру, — с прорвавшейся поневоле издевкой сказала Анна.
— Разве все камеры сразу пойдут в отработку? — Чернов в своей деловитой заинтересованности не заметил ни тона, ни выражения Анны. — Так же, как теперь? Тогда не выйдет никаких ходов, товарищи дорогие! Я в любом месте буду натыкаться на полный магазин, и случись что — как в мешке прихлопнет.
— Почему обязательно прихлопнет? — спросила Анна, не глядя на Ветлугина.
— Очень просто. Малая пичуга — и та гнездо прямо на земле не построит, а обязательно под каким-нибудь прикрытием, или под кочкой, либо ямку выроет. Для нее трава — целый лес, а придет, к примеру, медведь, ляжет на траву — и останется от гнезда мокренько…
— Загнул невесть что! — не выдержав, возмутился Ветлугин. — При чем тут трава?
— При том… Конечно, я человек без образования, выражаться технически неспособен… Но, по моему представлению, против той тяжести, что над нами висит, целики в метр толщиной — та же трава против медведя, — сомнет их. Скажу прямо: меня заранее озноб продирает от таких мыслей. Я вот работаю здесь без крепления, а душа у меня спокойна, потому что рядом кочка — несокрушимая стена-целик в шесть метров толщиной со всеми ходами-выходами.
— Неужели вам не ясно и теперь, что вы заблуждаетесь?! — сказала Анна Ветлугину, когда они отошли в сторону.
Брови Ветлугина дрогнули, поползли к переносью.
— Надо создать другой проект. Не медля, не тратя зря ни одного часа, — настойчиво, страстно продолжала Анна. — Положение у нас сейчас просто трагическое. Нельзя впадать в панику, но не надо и обманывать себя. Найдите что-нибудь иное, а для опыта, чтобы убедиться, мы оставим один метровый целик. И вы посмотрите, как просто он уйдет в выпускную воронку.
Поднимаясь снова по узким лесенкам, Анна продолжала думать о словах Чернова.
«Развернуться… — бормотала она вполголоса, ловко карабкаясь по затоптанным ступенькам ходов-колодцев. — Раза в два удорожатся подготовительные работы, когда введем горизонт грохочения… Как же это возместить? — Анна поднялась на следующую ступеньку и остановилась, пораженная смелой мыслью. — Что, если в два раза сократить число целиков? В два раза меньше этих ходов и лесенок, в два раза меньше нарезных работ. Распахнуть камеры в целые подземелья. Вот тогда можно будет развернуться бурильщику!»
44
Домой Анна явилась очень рассеянная и в то же время возбужденная.
— Поиграй с нами, — попросила Маринка, загородившая комнату нагромождением стульев и табуреток. — Это самолет. Хочешь, я отвезу тебя вместе с папой на полюс? На льдину, где живут белые медведи. Или, хочешь, полетим в Америку, как Валерий Чкалов? — Некогда мне, дочка! — ответила Анна и мимоходом нечаянно оборвала протянутые между стульями нитки. — Что ты все заплела, словно паук? — промолвила она с недовольством.
— Анна! — с мягким упреком окликнул Андрей, сидевший с газетой в руках на одном из стульев в качестве пассажира.
— Да, да, — нетерпеливо отозвалась Анна.
Конечно, это он избаловал дочку, позволяя ей перевертывать все в доме вверх дном.
Но, сразу забыв о проказах Маринки, о том, что у Андрея тоже неприятности, связанные с неудачами рудной разведки, Анна пошла в ванную.
Она очень опоздала и поэтому обедала одна; торопливо жевала, почти не замечая того, что ей подавала Клавдия, чертила по скатерти черенком вилки и, не выпив чаю, поспешила в свою комнату.
— Что у тебя случилось, Анна? — спросил Андрей, тихонько прикрывая дверь и подходя к жене.
Она сидела у письменного стола, но не писала, а задумчиво смотрела в окно, где уже копились тонкие сумерки, не оборачиваясь, взяла руки Андрея, которые он положил ей на плечи, и сжала ими свое лицо. Щеки ее горели.
— Тебе нездоровится? — спросил он с ласковым участием.
— Нет, мне хорошо было бы… но рудник болеет, — медленно проговорила Анна, впервые не решаясь делиться с мужем тем, что так волновало ее.
Но они оба привыкли доверяться друг другу во всем самом сокровенном, и, поколебавшись, Анна выложила свои соображения.
Андрей слушал заинтересованно, однако под конец легкое смущение отразилось на его лице.
— Какую ширину камеры ты хочешь предложить?
Анна задумалась. Ей самой это было еще не ясно.
И, может быть, оттого, что она не смогла сразу ответить, от вдруг возникшей неуверенности в сочувствии Андрея она почувствовала себя как художник, у которого выпытывают тайну еще не выношенного им произведения. Разве недостаточно того, что она сказала? Андрей смотрел выжидающе. Как он любил выражение раздумья на ее лице!
— Я думаю, метров пятнадцать. Четыре камеры по пятнадцать метров шириной, — сказала она неохотно, почему-то щурясь и хмуря брови.
— Около трехсот квадратных метров каждая?
— Да… приблизительно.
— По-маринкиному «приблизительно»? — сказал Андрей с улыбкой.
— Нет, по-взрослому разумению, — сказала Анна уже с выражением обиды.
— Без крепления, как теперь?
— Конечно. Как же иначе?
Андрей встал, не на шутку встревоженный, медленно прошелся до порога и обратно.
— Ты фантазируешь! — невольно резко произнес он, останавливаясь перед ней и глядя на нее сверху вниз.
— Ничего подобного, я решаю вопрос очень серьезно.
— А мне кажется…
— Мало ли что тебе кажется! — грубо перебила Анна.
В самом деле: никогда раньше не критиковал он ее замыслы так снисходительно и в то же время с пренебрежением. Откуда у него такое? Совсем как будто некстати она вспомнила о его поездке с Валентиной. До сих пор он ни слова не сказал об этом. Почему он умалчивает? Так подумала Анна, но заговорила о другом:
— Вот я сделаю проект…
— Над которым будут… смеяться, — почти страдальчески хмурясь, возразил Андрей.
— Смеяться? Над моим проектом? — повторила Анна и с презрением, словно только и ожидавшим того, чтобы враз вылиться наружу, взглянула на Андрея. Ему показалось даже, что она посмотрела на него с ненавистью. — Бояться того, что скажут, может только обыватель! — проговорила она сдавленным голосом и отвернулась.
— Анна! — воскликнул Андрей, оскорбленный до глубины души.
«Какая зазнайка ты стала: совсем не терпишь возражений», — хотел сказать он, но, понимая, что это еще больше ожесточит ее, молча вышел из комнаты.
— Поговорили! — горестно промолвила Анна, глядя на дверь, плотно прикрытую Андреем. — Конечно, легче всего хлопнуть дверью. Не понял, не поверил! — Анна сжала кулак и медленно разжала его. — Эх, Андрей!
45
— Конечно, он имеет полное право представить на рассмотрение свой проект. Но лучше бы он так не делал: даже в случае одобрения в тресте мы этот проект проводить не станем — значит, опять проволочка времени, — громко говорил Уваров, морщась от железного лязга и звона разрубаемой черпачной рамы, у которой суетились механик, рабочие и слесари.
— Не станем! — так же громко подтвердила Анна.
Рама — мощное сооружение для конвейерного подъема ковшей-черпаков — лежала перед понтоном будущей драги на деревянных подставках. Когда ее длинное тело было разделено надвое, десятки рабочих стали растаскивать половины, нестерпимо блестевшие в разрубе, примеряли, прикладывали к ним кусок вставки.
— Три метра двадцать сантиметров для черпаковой рамы и три с половиной для стакерной, — сказал Уваров. — Теперь мы сможем черпать породу глубоко! А когда Ивашкин предложил сделать все своими силами, помнишь, какой дерзостью это показалось? Вот тебе и слесарь седьмого разряда! А как он переделал топку на паровой драге… Что значит творческая-то жилка!
— Да, заказ на новые рамы в Ленинграде был бы готов только через месяц, а сюда их доставили бы поздней осенью, — говорила Анна, поднимаясь следом за Уваровым по круто сброшенным мосткам.
Внизу, под дражным понтоном, поддерживая его, стояли клетки из коротких бревен; там пряталась прохладная тень и неслышно текла мелким ручьем мутная вода. А наверху от нагретого железа так и отдавало горячим теплом, хотя было уже за полдень, и черные тени Уварова и Анны пересекали весь бурый понтон, сиявший крохотными солнцами заклепок.
Здесь тоже стоял звон, разносившийся по всей окрестности, за ажурными переплетами высоких ферм, на которых должен был утвердиться корпус дражного помещения, бригада сборщиков склепывала последние листы понтонной обшивки.
— Теперь драга сможет вступить в строй нынешним летом, — рассуждал Уваров сам с собою под звон железа.
— О чем ты, Илья? — спросила Анна.
— Я говорю, что хорошо, когда трезвый расчет соединяется в деле с живым воображением: а как лучше? — не повторил, а продолжал Уваров свои мысли вслух. — Ведь Ветлугин не отказался от предложенного им проекта потому, что не представляет, как лучше, а видит только необычность твоей идеи.
— Он упрямо стоит на своем и говорит, что я хочу ввести не камеру, а целую десятину, что мой проект четырех камер десятин и трех пятиметровых целиков безумная затея. Отправим оба проекта — и посмотрим.
— Ты сознаешь, какую ответственность берешь на себя? — испытующе спросил Уваров.
— Сознаю и отвечаю за все.
— Отвечать будешь не ты одна. Но я уверен в реальности твоего предложения, хотя многим оно покажется смелее и дерзновеннее ветлугинского. Как относится к этому делу Андрей? — спросил неожиданно Уваров, с интересом наблюдая за слесарем, бравшим щипцами белораскаленный болтик заклепки.
Брызги окалины сверкнули под ударом молота, но вдруг повеяло жаром, запахло гарью: рабочий-подавальщик рванулся мимо, сбивая руками с одежды накинувшееся на него пламя, нелепо улыбаясь от испуга и боли.
— Эх, растяпа! — рявкнул Уваров, по медвежьи схватывая горевшего.
В следующий момент он повалил его наземь, подбежали другие рабочие, заминая, туша огонь кто кепкой, кто лосевой голицей, кто пиджаком. Все окончилось легкими ожогами, суматохой, испугом.
— Куда поскакал? — выговаривал потерпевшему Уваров, сам очень бледный, с трудом переводя дыхание. — Сгорел бы на ветру, как охапка соломы.
46
— Кажется, ты тоже обжегся? — тревожно спросила Анна.
— Немножко, пустяки, — ответил Уваров, засучивая обгоревший рукав и хмуро глядя не на обожженную свою руку, а на близкую к нему в этот момент щеку Анны, затененную гладким крылом волос, на губы ее, изогнутые от сочувствия.
Анна не успела ответить на вопрос об Андрее, и ей не хотелось, чтобы Уваров повторил его. Слишком тяжело ей было вспоминать о последнем споре с мужем: сразу взбаламучивался неприятный осадок, оставшийся на душе, и делалось больно за свою резкость, за нежелание Андрея понять ее замысел.
— Значит, дружба с Ветлугиным рассохлась? — спросил Уваров, когда они возвращались со сборки драги на Светлый.
— Не то чтобы дружба рассохлась, но появилась настороженность… Знаешь, иголочки такие: как ни подойди — покалывают! Обоюдно, конечно. Соперничество? Возможно. Но тут не только столкновение авторских самолюбий…
Она не досказала своей мысли, задумавшись.
Раз взявшись за дело, Анна чувствовала себя обязанной довести его до конца. Она страдала и стыдилась, если оно выходило у нее только хорошо, стремясь сделать все отлично.
После разговора с Андреем она потеряла спокойный сон, почти не отходила от письменного стола и так похудела, что Клавдия, гордая своим искусством поварихи, почувствовала себя оскорбленной.
— Кушать надо побольше, — сказала она Анне однажды после завтрака. — Высохли совсем. Люди подумают, что мы вас голодом морим.
— Вы сами не толстая, — возразила Анна, тронутая этой заботой.
— Обо мне другой разговор. Мое дело… одинокое… — Клавдия хотела сказать «девичье», но в присутствии Андрея почему-то не решилась. — А вы детная мать, женщина во всей силе. Вас полнота красит… И что за охота убиваться так из-за чужой фабрики? — добавила Клавдия вполголоса.
Внешняя перемена в Анне не ускользнула и от глаз Уварова.
«Наверное, поссорилась она с Андреем из-за его разведок, — размышлял он, припоминая недавнюю жизнерадостность Анны, особенно привлекавшую в ней, деловой женщине. — Что ее еще может сушить? Работа, правда, везде идет на высоком напряжении…»
* * *
У себя в маленьком домике, с печью-плитой у входа, с якутским ковром из кусочков меха перед кроватью и кипами газет на столе и на книжном шкафу, Уваров прежде всего распахнул створки окон, осторожно переставив плошки с живыми цветами, и занялся почтой, принесенной без него уборщицей.
Газеты, журналы, телеграммы, письма из обкома партии, извещение о подписке на новые издания… Забинтованная рука Уварова перевернула последний листок почты, и он крепко задумался.
Случай на драге разворошил старые воспоминания. Сколько радости было в свое время в жизни Уварова, радости, о которой так же больно вспоминать, как и о том, что сразу смахнуло ее. Уваров бережно вынул из бумажника тронутый желтизной любительский фотоснимок. Молодая женщина в сарафане и босиком, с волосами, небрежно заколотыми после купания, стояла на берегу, у лодки, с веслом в руках. Она, смеясь, говорила что-то мальчугану лет пяти, сидевшему на корме; другой мальчишка лез в лодку, навалясь голой грудью и животом на борт, смешно выставив попку, обтянутую трусиками.
Это старший, ему теперь одиннадцать лет, а ей, Катерине, было тогда тридцать. Не знала она усталости ни в работе, ни в веселье. И как хорошо смеялась! Старшего сына родила, будучи студенткой последнего курса, и потом ни на один год не прерывала работу на заводе.
Работала химиком-технологом. Сколько бессонных ночей провел Уваров, глядя на это ее смеющееся лицо, разговаривая с нею. Он не мог, не хотел вспоминать о том, что было найдено после пожара в обгорелом цехе завода.
47
«Скоро рассветет», — подумал Андрей и, положив руки на листы исписанной им бумаги, посмотрел усталым взглядом на темное еще за шторой окно.
За окном шла ночь, должно быть, блестели, обходя небо, звезды. Если Андрей засидится еще, придет утро, — вольно человеку не спать, когда все подчинено покою ночи! Сон борет и прячет живое, но и во сне, отдыхая, оно растет и старится: распускается влажный от росы лист, лопается кора, набухшая над рожком молодого отростка, и, как молочная капелька, забелеет к утру зубок, прорезавшийся на десне ребенка. Жизнь на земле совершается своим ходом.
Почему же один Андрей сидит ночь напролет у письменного стола?
Перед ним северо-восточный угол страны… Тысячи километров земли, изломанной горными хребтами, пространство, занимающее не один миллион квадратных километров, но по населению — пустыня, где каждый поселок — таежный центр, охотничий кочевой чум — жилая точка.
Сколько сказочных богатств в этих еще не исследованных горах! Какой простор для геолога! По ту сторону Тихого океана все уже вскрыто: от россыпей Аляски, золотых котлов Клондайка в Канаде и колоссальной жилы в Калифорнии до рудников Мексики и древних разработок Бразилии. Полоса открытий протянулась от заполярного мыса Ном почти до тридцатой параллели за экватором, на которой лежат и золотые и алмазные богатства Трансвааля и сказочные, но истощенные россыпи Австралии.
Огромный золотой пояс по ту сторону океана. Богатейшие запасы его уже расхищены, но далеко не все разведано и там.
«А у нас? — Андрей встал, разминаясь на ходу, подошел к карте, висевшей на стене. — Чуть только затронута исследованием Чукотка. Образования ее аналогичны с Аляской. Где-то там должна быть голова золотого тела, простертого до древнего темени Азии. Колыма — лишь звено в цепи будущих открытий. — Андрей провел ладонью сверху вниз по карте, задержался на своем районе. — То, что дает сейчас наш рудник, — случайные крохи, слабое ответвление… Главное должно быть здесь». — И он постучал согнутым пальцем по отмеченному кружком району Долгой горы.
Он неохотно отошел от карты, еще завороженный видением богатств края в недалеком будущем.
Лет шестьдесят назад знаменитый геолог, австриец Зюсс, уже предсказывал миру золотой голод.
«Когда эта опасность назреет, мы будем в расцвете сил, — думал Андрей, шагая по комнате и вслушиваясь в тишину дома. — А потом, кто знает, быть может, мы научимся добывать золотую пыль, которая растворена в морской воде и заключена в любом гранитном булыжнике. Теперь оно, золото, нужно для укрепления экономики страны, потом пойдет на украшение быта».
48
Он долго сидел, заполняя листы тетради такими убористо-мелкими строчками, как будто экономил бумагу. Еще в детстве он узнал цену труду и вещам и сам утвердил для себя жесткий режим во всем. Некоторые привычки остались и создали ему репутацию педантичного человека. Он был аккуратен в уплате долгов, точен во времени, обязателен в своих обещаниях, но иногда ему до боли хотелось оставить совсем свой конторский кабинет, надеть котомку, прихватить ружье и по-старательски уйти в горы. Особенно донимала его эта тяга весной, и он открыто радовался поездкам в тайгу, что иногда обижало Анну. Но, обижаясь, она не осуждала его: таким ведь знала его с юности.
Однако даже Анна не могла представить, какое волнение испытывал он, попадая на новые, никому не ведомые, никем не обжитые места. Это было нетерпеливое волнение горячей гончей. Чутье тянуло его все дальше по звериным тропам, поднимало на скалистые столбы выветривания, бросало к звериному водопою — родниковой впадине на поляне среди кочек и редких камышей. Но не следы козьего копытца, отпечатанного в голубоватой глинке еще мутного водоема, привлекали Андрея, а вид этой глины; не свежий помет горного барана привлекал на высотах, а развалы диких камней. На иные камни он прямо-таки набрасывался и тогда забывал о возможности заблудиться, о медведях, змеях, обвалах. Тогда этот «педантичный» человек поднимался, обдираясь о камни, по самым тесным ущельям, карабкался на четвереньках с рюкзаком и молотком за спиной. Но если вспугнутый им горный баран летел турманом со скалы на скалу, Андрей, увлеченный его головокружительными прыжками, замирал на месте и тогда хоть час мог стоять, любуясь на черно-зеленые горы, громоздившиеся перед ним. Иногда он плутал в тайге, и когда, голодный, усталый, истосковавшийся по жилью, выходил наконец к какой-нибудь старательской хижине, то испытывал радостное чувство моряка, увидевшего землю.
Он был геологом-минералогом по специальности и исследователем по призванию, но предпочитал молчать о романтической стороне своей работы.
Отложив тетрадь, Андрей придвинул было к себе для справки ученый труд недавно умершего академика Карпинского. Но в его мысли о смерти этого крупнейшего геолога внезапно вклинился полушутливый разговор с Валентиной на пути со Звездного.
— У вас все данные для того, чтобы стать ученым, — говорила она на привале. — Но вы не доживете до академика, вы истребите себя гораздо раньше, потому что живете… слишком лихорадочно.
«Пожалуй, она в чем-то права: щадить себя мы не привыкли. Однако уже не в первый раз слышу я от нее такое!
А в самом деле, ведь очень поздно! — определил Андрей, взглянув на окно. — Вернее, рано». И ему сразу непреодолимо захотелось спать.
Он, зевая, поднялся, погасил свет и направился к дивану: ему жаль было беспокоить своим появлением Анну, которая тоже мало спала.
«Ничего, надо успеть больше сделать, пока молодость позволяет недосыпать», — сказал себе Андрей, положил под изголовье все подушки, какие были на диване, торопливо, будто боясь потерять минуту, разделся, закутался в простыню и уснул.
* * *
Сон его прервался очень неожиданно.
— Обыватель! — произнес над ним голос Анны.
Андрей сонно усмехнулся, еще глубже зарываясь в подушки.
— Обыватель! — повторила Анна.
Он никогда не был обывателем, и не это словечко задело его, а явное зло, прозвучавшее в голосе Анны. Он повернулся и осмотрелся — Анна исчезла. Он еще помедлил, опираясь на локоть, — слишком громко говорило в нем повторенное чувство обиды.
И вдруг Анна действительно вошла в комнату, дыша добрым весельем, просто невозможно было представить в ней злобу, которая разбудила Андрея. «Значит, мне приснилось», — подумал он.
— Ты знаешь, — заговорила она, присаживаясь к нему на диван и обнимая его за плечи. — В руднике западный штрек пересек жилу исключительной мощности. Теперь ты можешь быть спокоен.
— Правда?! — воскликнул Андрей, торопливо поднимаясь. — Как это хорошо, Анна!
— Да, теперь ты можешь быть совершенно спокоен, — повторила она, подчеркивая каждое слово, точно придавала сказанному особое, свое значение, и это заставило Андрея снова насторожиться.
— Пока я могу только радоваться, а спокойным почувствую себя, когда найду жилу на Долгой горе.
Анна усмехнулась.
— На Долгой горе ты ничего не найдешь, потому что уже получен приказ о прекращении работ! — сообщила она и вспыхнула, заметив резкое движение Андрея. — Не маши руками, я не боюсь!
И опять не слова ее, а враждебность в ее голосе поразила, а потом и возмутила Андрея.
— Анна! — прикрикнул он, мрачно глядя на нее.
— Не кричи! — осадила она его. — И не строй из себя невинность. Скажи спасибо, если я по-родственному замну дело, мало чем отличное от растраты. — Неузнаваемо исказившись от ярости, она придвинулась к Андрею, и он изо всей силы ударил ее по лицу.
И сразу упал, точно в шахту сорвался, и уже лежал на спине весь в поту, поводя обезумевшими глазами. Сердце его стучало, казалось, на всю комнату.
— Анну ударил! — вскричал он со стыдом и страхом, но пришел в себя и чуть не всхлипнул от радости. — Заспался, сукин сын! Да после такого, если бы на самом деле, — повеситься надо!
49
Минут пять лежал он, наслаждаясь освобождением от кошмара. Он не мог ударить Анну, как и она не могла бросить ему такой гнусный упрек.
С этой мыслью Андрей торопливо встал, оделся и пошел умываться.
Анны дома уже не было. Ушла и Маринка в садик «на работу», как шутя говаривал Андрей. Обычно она поднималась раньше всех, но сегодня, похоже, проспала: куклы, уложенные с вечера в своем углу, остались спать на весь день. Только плюшевая обезьянка с потертой мордой и единственным стеклянным глазом успела проститься с хозяйкой и сиротливо сидела посреди ее еще не убранной кроватки.
— Ну и урод! — прошептал Андрей, дивясь устойчивой привязанности дочери к этой игрушке, и, отложив ее в сторону, вышел из комнаты.
Он не понимал щедрости детского сердца, с материнской нежностью призревавшего некрасивого урода. А может быть, старая обезьяна и не была уродом для Маринки.
В конторе ощущение жизнерадостности быстро покинуло Андрея. Сметы его трещали по всем швам, и деловые разговоры здесь сводились к одному: денег, денег, денег! Надо было изворачиваться, урезать, даже хитрить, что особенно тяжело действовало на него.
Прямо с ревностью он вспоминал суммы, которые отпускались раньше на разведочные работы, — в какую бездну ухнули те деньги! А когда здесь начал работать Андрей, уже пошли сокращения средств, хотя он и протестовал против этого и против многих приказов по разведкам. Однако строптивость лишь украсила его послужной список двумя выговорами из управления треста.
— Тяжелый переплет! — сказал он с досадой после разговора с бухгалтером разведочного отдела. — Не бухгалтер, а кулак какой-то: так и прижимает на каждой копейке, будто не он у меня служит, а я у него под началом. И ничего не поделаешь — финансовый контроль…
Андрей представил немолодое лицо бухгалтера — тщательно выбритое, с начинающим отвисать подбородком, мешковатыми складками под глазами и выражением вежливого, но непоколебимого упорства — и еще пуще озлился.
В это время дверь кабинета медленно отворилась и сердитый взгляд Андрея встретился со взглядом Валентины Саенко, в нерешительности остановившейся на пороге.
— Можно? Я на одну минуточку, — сказала она, вспыхивая и, может быть, поэтому выше, чем следовало, поднимая пышноволосую голову.
Не ожидая ответа, она быстро прошла по комнате к столу, на ходу вынимая из сумки какие-то бумаги. Дверь, не прикрытая ею в коридор, закрылась сама, и то, как Валентина беспокойно оглянулась, и то, что она оставляла дверь открытой, тоже стало неприятно Андрею. Похоже, Саенко поступала так из предосторожности, ненужной при обычных отношениях между людьми.
— Ваш разведчик, тот, который с малярией, поручил мне передать вам это письмо, — заговорила она, выпростав из сумки незапечатанный конверт. — Он просит перевести его заработок за прошлый месяц семье и дал доверенность на получение денег.
— Вы будете получать?
— Да.
— Хорошо, выдача зарплаты в общий платежный день, — сказал Андрей, и ему стало неловко, что он даже не предложил Валентине сесть: ведь она совсем не обязана заботиться о нуждах его разведчиков, хотя они и лежали теперь в приисковой больнице. — Как они там?
— У Петрова тиф протекает нормально, а у Егорыча неблагополучно с печенью, — с серьезным сожалением сказала Валентина, сразу став вполне естественной, и, уверенно повернув к себе простое кресло, присела в него. — Понимаете, гемолитическая желтуха.
— Осложнение после малярии?
— Малярия тут ни при чем. Сейчас он на строгой диете. Покой и медикаментозное лечение. Это ведь ваш старый разведчик?
— Да, он очень опытный, бывалый таежник, — подтвердил Андрей, уже с чувством симпатии присматриваясь к Валентине. Она сидела перед ним спокойно и с хорошей заботой говорила о том, что интересовало его. — Сможет он теперь вернуться на тяжелую работу?
— Конечно. Желтуха продлится не больше десяти — двенадцати дней, но после кровавой рвоты от снадобья товарища Чулкова ему полагается быть под врачебным присмотром месяца полтора. Ослабел он очень.
— От снадобья? — Андрей недоверчиво улыбнулся. — Таежники часто так лечатся.
— Раз на раз не приходится, — возразила Валентина, вставая. — Поперхнулся, дурно закашлялся и сразу разрыв поверхностного сосуда.
— А вы шефство взяли над нашими разведчиками? — спросил Андрей, задерживая ее этим.
— У меня много таких подшефных. Мы заботимся об одиноких, которым нужно помочь вне стен больницы.
— Знаете что, загляните в бухгалтерию сейчас, — сказал Андрей, крепко пожимая протянутую ему узенькую руку. — Бухгалтер у нас страшный сквалыга и в платежные дни остро заболевает.
50
Было часов семь вечера. Илья Уваров сидел у себя дома в шлепанцах на босу ногу, в темной пижаме и перечитывал письмо, полученное им от сестры Августы. Двое его сыновей, мальчишки-погодки, жили в ее семье; у нее было трое своих, и всю эту буйную ораву она держала в ежовых рукавицах.
Отдав ей детей, Уваров вначале беспокоился и тосковал, не очень доверяя педагогическим способностям сестры, которая помнилась ему глазастой, большеротой девочкой с громким голосом и ухватками сорванца. Когда Августа училась в медицинском институте, он отправлял ей посылки и деньги, получая взамен письма о ее сумасбродных планах на будущее. Она мечтала стать светилом в медицинском мире, ехать зачем-то в Монголию, что-то там открывать, бредила славой и училась неплохо, но по окончании института вышла замуж за председателя горсовета и надолго умолкла. Потом, после несчастья Уварова, она без зова приехала к нему, будучи уже матерью семейства, и, по-бабьи, наревевшись, увезла его мальчишек к себе под Рязань, где работала врачом-хирургом. Только через год, летом, Уваров смог навестить их.
Он сам никогда не знал ни детских игр, ни других утех золотого детства и мечтал о беззаботном счастье для всех малышей. Поэтому он был потрясен видом своего первенца Володи — в то пору еще семилетнего, увидев его за чисткой картофеля на террасе. Шестилетний Ленька сосредоточенно нес к брату миску с водой, держа ее обеими руками, но, увидев отца, растерялся, уронил миску и расплакался от избытка чувств. Мальчики Августы, чуть постарше Володи, окапывали яблони в саду. Заслышав шум на террасе, они мигом примчались и еще увеличили общую суматоху. Один из них вытер прежде всего лужу на полу, а затем; вытирая руки о штанишки, подошел здороваться.
Уваров поставил чемодан, бросил на кресло кепи, пальто, покупки, но не успел разглядеть и расцеловать разномастные, загорелые детские лица, как все его вещи были уже водворены на место.
Мальчишки наперебой ухаживали за жданным гостем, а Уваров стеснялся этих услуг и даже возмущался, сердясь на сестру: «Почему она не наймет для них няньку или постоянную домработницу! Ведь я перевожу ей ежемесячно больше половины своего жалованья…»
Дело кончилось тем, что для успокоения маленького муравейника он взял лопату и сам: пошел окапывать яблони. Присев покурить после окончания работы, он разговорился с Ленькой. До трех лет мальчик был неказист с виду. Кривоногий, с носиком утенка, с серыми живыми глазками, он при первом знакомстве потешал всех, а потом неизменно завоевывал общие симпатии деятельно-добрым и веселым характером. Теперь он выправился и особенно понравился Уварову крепкими плечиками, коренастостью и блеском золотых ресниц на золотисто-розовом лице, и тем, как серьезно сказал он кому-то из мальчишек:
— Ну, зачем ты так говоришь? Я все равно не переделаюсь.
И вот этот по-новому выглядевший Ленька подошел к отцу и, прислонясь к нему крупной головкой, сказал не без гордости:
— Я вычистил твои последорожные ботинки.
Уваров посмотрел на его широконький носик, действительно выпачканный ваксой, на короткую стрижку с чубчиком-челкой и со стесненным сердцем сказал, ласково потрепав белые волосы сына:
— Как вас смешно остригли! Чтобы за вихор было удобно таскать?
Ленька, сияя, молча смотрел на него, любовно ловил его большую руку.
— Батюшки! — сказал Уваров. — Ты, видно, прямо руками ваксил? Ах ты, чистильщик! И всю рубашку увозил!
Илья не дождался прихода сестры и сам оделил детей подарками, не желая дольше испытывать свое и их терпение. И опять он был поражен взрывом особенной радости, как будто в этом доме детей никогда ничем не одаряли.
«Скуповато живешь, Августа Степановна!» — с горечью думал он.
Даже Володя, похожий красивым лицом на мать, но порядочный флегматик, весь раскраснелся, и глаза его горели точно фонари.
— Ты купи мне еще удочки, — попросил он отца. — Чтобы с вертушкой, и я тогда щуку поймаю… на два пуда. А игрушками поиграю и подарю их Леньке. Пусть ему достанутся, правда?
Ленька большими глазами окинул будущее наследство, подвинулся, не выпуская из рук своего и сказал просительно, мило и счастливо улыбаясь:
— А щуку-то не надо! Ну ее, такую… зубастую… Ты с ней не справишься…
Весь вечер Уваров играл с детьми, помогал им кипятить молоко, варить кашу. Но в одиннадцатом часу они послушно, как гусята, отправились спать.
* * *
Поздно ночью был у Уварова разговор с сестрою. Она приехала усталая с совещания в областном здравотделе и после купания и ужина отругала его:
— Зачем ты надарил им столько ни с того ни с сего! Ленька даже сна лишился: все поднимается, на свои сокровища взглянуть. Боится, чтобы не исчезли, что ли?
Уваров долго молчал, потом сказал дрожащим голосом:
— Эх, Августа! Не ожидал я от тебя такого. Неужели и зимой, когда они учиться будут, у них тот же режим останется?
— Какой режим? — спросила она с изумлением и встала перед братом, готовая к отпору.
— На побегушках они у тебя! Кухонные затычки из них готовишь… чтобы потом за женами горшки выкосили.
— А-я-яй! — Августа покачала стриженой головой — видимо, ей не впервые приходилось слышать подобные упреки. — Вы хотите, выбившись на дорогу самостоятельно, детей с нянюшками выращивать? Буржуа так выхаживали свое потомство… но они для нас не пример. Нам трудовую смену воспитывать надо.
— Дети есть дети! — упрямо сказал Уваров. — Их дело расти да учиться…
— Я их трудом не изнуряю, — с раздражением перебила Августа. — Для мытья полов, для стирки ко мне женщина ходит. Обеды тоже она готовит… Только по выходным дням сами обходимся. Ты думаешь, детям труднее учиться будет, если они к порядку приучены? Удивительно, но ты повторяешь слова жен ответственных работников, посвятивших себя воспитанию одного ребенка, много — двух. Пичкают их да балуют. «Ребенок не может то, ребенок не может это!» А потом такой «ребенок», уже лет восемнадцати, заявит: ты мать, так и делай все сама — обязана. И вообще трудиться не станет, скажет: вы родили — вы и деньги давайте. Нет, Илья, это не воспитание!
— Хоть для кухни найми постоянную работницу, — гнул свое Уваров. — Если денег не хватает, я могу увеличить переводы…
Августа, точно уколотая, сорвалась с места.
— Неужели ты думаешь, что я для себя экономлю? — крикнула она напряженным голосом. — Капитал за счет детей наживаю? Вот, посмотри, я действительно отложила три тысячи… — Она подала ему сберкнижку. — Твои деньги! Лишние ведь присылал. Мало ли что может случиться с каждым из нас…
— Ты, наверное, хочешь взять мальчишек? — спросила она после долгого молчания. — Не делай этого, Илья! Они скучать будут: привыкли здесь… Такая пятерка крепкая!..
51
«Странные настроения стали появляться у тебя, Илья, — писала в письме Августа. — Я понимаю, братка: устал ты от одинокой жизни. Да и то, пора: годы уходят. Мы с мужем тоже решили, пока не упущено время, попытать еще раз счастья, не удастся ли приобрести Наташку для своей компании? Ты много не воображай! Володю и Леньку, если и женишься, не отдам. Жена-то будет их любить или нет, еще вопрос, а скорее мешать будут. Денег можешь не присылать; нам со своим хозяйством всего хватает».
«Вот изверг! — подумал Уваров, дочитав письмо. — Что за женщины пошли на белом свете!.. Почему взбрело ей на ум насчет моей женитьбы? Какие-то особенные настроения померещились? — Он понурил голову. — Годы уходят, это верно. Под сорок подкатывает».
Уваров долго ходил по комнате и думал о своей, погибшей жене, о сыновьях, об их учебе и письмах, в которых особенно резко сказывалась разность характеров. Было у них и общее — заботливость об отце, по-видимому, сказывалось пятилетнее владычество Августы. Изредка Уваров подходил к окну, опирался на горячий от солнца подоконник, и, щурясь от яркого света, смотрел вниз, на раскинутые по долине приисковые постройки, все старался и не мог уловить какое-то смутное чувство, ворошившееся в его душе.
— Уже семь часов, а солнце еще высоко. Ишь, как жарит, — неожиданно отметил он, с удовольствием ощущая теплоту июльского вечера. — Лето в разгаре. Володька стоит где-нибудь на притоке Оки со спиннингом. Хотя у них, в Рязанской области, теперь час дня — не клев. Жара… самое купанье.
Часов семь разницы во времени и тысячи километров между ним, Уваровым, и комочком жизни, оторванным от него! Тысячи километров богатейшей прекраснейшей земли…
— Нет, тридцать девять лет — это еще хорошие годики! — сказал Уваров и, точно все было приведено в ясность, с облегчением расправил плечи, отходя от окна.
Он успел обложиться журналами и разворошил кипу газет, готовя конспект будущего доклада, когда к нему, постучав, вошел Ветлугин, а минут через пять без стука ввалился Андрей.
Ветлугин принес обратно недочитанного им Плеханова.
— Возьму потом еще раз. Совсем зашился в работе… А письма Герцена о природе прочитал, — прелесть!
— Не прелесть, а удар в самую точку, — ревниво поправил Уваров и, осмотрев книги, поставил их на полку шкафа.
— Как ваши философские занятия, Виктор Павлович? — спросил у Ветлугина Андрей, не скрывая иронической усмешки. — Вооружаетесь?
— Понемножку втягивается, — вступился Уваров, которому очень нравилось решение главного инженера всерьез «подковаться» по части идеологии, тем более что решение это было принято не без его влияния. — Нас с тобой, Андрей Никитич, комсомол выводил в люди, а Ветлугин из той интеллигенции, которая от политики в сторону шарахалась.
— Защищай, защищай! — поддразнил Андрей, присаживаясь поближе к столу. — Что защищать этакого матерого: его бить надо!..
— Бить тоже с толком следует. Сам знаешь силу влияния среды, — говорил Уваров, весело посматривая на Ветлугина, который с видом завсегдатая освобождал для себя угол на жестком диванчике, перекладывая книги и папки с бумагами. Была в России революционная интеллигенция, которой мы гордимся, но была и такая, которая больше ударяла по части субъективного идеализма, символизма, а значит и мистицизма… Только бы подальше от слишком грубой действительности! Ин и ладно! Для меня важно одно: инженер Ветлугин понял, что ему, как советскому человеку, знание передовой философии необходимо! А сроками я его теснить не стану.
— Правильно, Илья Степанович! — воскликнул Ветлугин. — Сейчас меня золото замучило!
— Оно и видно, — съехидничал Андрей. — Мученик!
— По внешнему виду не судите, Андрей Никитич, — сказал Ветлугин, вспыхнув и почти враждебно взглянув на Андрея. — Вы знаете, я по вашей милости просто разрываюсь сейчас, чтобы натянуть выполнение июльской программы хотя бы на девяносто процентов.
— Почему по моей милости? — возразил Андрей, предвидя нападки на разведку Долгой горы.
Но Ветлугин промолчал. Промолчал и Уваров, распечатывая новую пачку папирос, и только потом сказал:
— Работа на золоте приобретает теперь особенное значение. Обстановка международная все усложняется. Фашисты Италии и Германии задушили испанскую республику, японцы, как вам известно, захватили Шанхай и распространяют свои войска в Китае. Нынче Германия захватила Австрию. Вы понимаете, дорогие мои товарищи, что это означает наступление вооруженной реакции? Вы помните, как интервенты вырезали семьи горняков-республиканцев в Астурии? По-го-ловно! Такое могло быть продиктовано только классовой ненавистью. Они превращали в прах и пепел мирные города бомбежкой с воздуха… Это проба сил, опыт для будущей большой войны… Можно себе представить, как остервенело они точат зубы против нас. Словом, нам следует быть начеку.
52
Узкие колоды-желоба, подконопаченные мхом, были поставлены вместо козел на дерновые подушки. Из колоды в колоду, роняя по бурым космам мха светлую капель, текла вода, холодная даже в солнечный, по-северному знойный летний день.
— Действительно, каторжный труд! — сказала Анна Ветлугину, кивая в ту сторону, куда текла вода. — Помните разговор о бригаде стариков старателей? Она здесь, вы знаете…
У самодельного прибора для промывки суетилась группа плохо одетых людей. Их рваные опорки и проземленные шаровары, их старческие жилистые руки и примитивные орудия труда не давали никакого представления о могучей силе, поднявшей на дыбы многотонный, тяжкий на подъем участок отведенной им земли-деляны.
— Видите, что они натворили здесь, а ведь почти все уже пенсионеры, — со смешанным чувством стыда и гордости обратилась Анна к Ветлугину.
— Ничего, еще поработаем! — отозвался бригадир, старик Савушкии, снова перешедший с плотницких работ на старание. — На пенсию выйдешь — кончена жизнь: сиди и ожидай, когда придет гололобая. А тут гоношимся помаленьку, ан и повеселее становится. И мы, мол, люди, а не просто старики — казенные иждивенцы!
Савушкин отложил лопату, вытащил кисет из кармана просторных штанов, с добродушной хитрецой подмигнул Анне.
— А как насчет нормы? — полюбопытствовал Ветлугин, выглядевший еще более румяным и цветущим среди этих старческих лиц.
— Перевыполняем понемножку. Нам бы вот спецовочки, товарищ Лаврентьева… Хоть бы сапожонок каких поношенных. Чеботари у нас свои. Починили бы!
— Нету, — не скрывая огорчения, сказала Анна. — Спецовкой мы еле-еле шахтеров обеспечиваем. И тоже чиним.
— Экая жаль! — сказал Савушкин, нимало не задумываясь. — Мы ведь отложили было в золотоскупке на шесть пар болотных сапог, да после того вынесли решение погодить, покуда тепло. Вбили денежку на оборудование, а тем временем сапоги и кончились: все техснаб забрал.
— На какое оборудование? — поинтересовалась Анна.
— Между прочим, и на барак… Тесу и стекла нам тогда отпустили по вашей бумажке бесплатно, как льготу, да что-то вздумалось побелить, тюфяки приобрели, одеяла новые… Старый-то барак у нас разорвало зимой, — деловито сообщил Савушкин, обращаясь к Ветлугину. — Подкатила вода из наледи и за одну ночь разворотила целый угол.
— Все деньги на тюфяки потратили? — недоверчиво улыбаясь, спросила Анна.
— Между прочим, и на тюфяки. Как же! Оборудование для жизни, а главное… — Савушкин неожиданно покраснел, улыбнулся смущенно и еще покраснел. — Самое главное — купили мы у одной отъезжающей корову. Так себе, незавидная якутская коровенка… да мамка наша настояла: хороший, мол, случай для питания. Для всей бригады… Дело-то стариковское, животы-то плохие. Конечно, мы в тайге без молока привыкли, а когда оно есть, очень даже на пользу. Чайком ли побаловаться, кашу ли сварить…
— Дело начинает проясняться, — весело заговорил Ветлугин. — Сначала тюфяки, потом корова, потом корову обмыли…
— Дак обмыли, как не обмыть! Естественно… Чуть-чуть коровой не опохмелились, — признался Савушкин и рассмеялся.
Остальные старатели замедлили работу и тоже расхохотались.
«За выпивку им не стыдно, а за покупку коровы краснеют, — сказала себе Анна и почти с материнской жалостью посмотрела на жилистую, будто из веревок свитую шею Савушкина. — Пропили спецовку и похохатывают, точно маленькие».
— Приходилось раньше хорошо зарабатывать? — спросил Ветлугин.
— Бывало! Всяко бывало… И рестораны откупали на целый вечер. Идешь между столиков, а оно у тебя тут… — Савушкин потряс пустым карманом шаровар, — оно у тебя тут возится.
— Золото! — оживленно подсказал Ветлугин.
— Оно самое. Ведь ежели измерить, сколько эти руки земли переворочали, целые составы поездов нагрузить можно. Она, землица-то, плачет от наших рук, и мы от нее страдаем — все кости болят: тяжела, матушка! Задор-то есть, да мочи нет…
53
Дальше Анна уже не слушала, глаза ее рассеянно перебегали от трудно переступавших рваных опорок откатчика и его напряженно выгнутой спины к выбеленным кайлам забойщиков, так же горбато возившихся на дне широкой ямы; от гребков, шаркавших под струей воды по комьям каменистой грязи, к деревянному колесу тачки, облепленному глиной.
«Рестораны откупали! — повторила Анна наивную похвальбу старого старателя, — и снова посмотрела на него. Он бросал на бутару породу, подвозимую для промывки, действуя неторопливо, привычно, острые лопатки его угловато выпирали при каждом движении из-под выцветшей рубахи, взмокшей от пота. — Какое варварство даже в выборе развлечений! Выбросить с таким трудом заработанные деньги на то, чтобы напиться в одиночку в пустом ресторане!.. Откуда беспросветная дичь приходила в голову, как не от этого деревянного колеса?»
Анна еще посмотрела на тонкую шею Савушкина с ерзавшими и прилипшими к ней отросшими косицами, и снова тоскливая жалость овладела ею.
«Рестораны откупали! Может, и врет… Может, всю жизнь только и был тяжко-горбатый труд, а остальное — просто мечта, немудрый вымысел». Анна знала, что старатели, как всякие охотники, любили прихвастнуть.
Она переступила через поломанный валок, затащенный для костра с зимней деляны, медленно пошла прочь.
— Большой коллектив, а получается то же, что у одиночек, — сказала она Ветлугину, когда он догнал ее.
— Отсталый народ, — отозвался Ветлугин.
— Да не народ отсталый, а методы труда отсталые, — возразила Анна с тихим раздражением. — Дайте этим старателям что-нибудь сложнее, совершеннее, посмотрите, каких они чудес натворят!
Ветлугин, задетый за живое пренебрежительным, как ему показалось, тоном Анны, посмотрел на нее сердито-удивленно, но ее выражение погруженного в свои мысли человека заставило задуматься и его.
— Я могу установить у них на деляне гидровашгерд, — сказал он неожиданно с важностью доброго волшебника. — Это для усиления производительности, — добавил он, желая досадить Анне, отношения с которой у него разладились после того, как она представила на утверждение и свой проект. — Что касается мозгов, то, по-моему, они у стариков неплохо настроены. Все эти старички хотят быть полноценными гражданами, труд веселит их. Что же вам еще?
— Я хочу, чтобы они научились и жить по-настоящему, — возвращаясь из своего рассеянного состояния, сказала Анна.
64
В том же состоянии глубокой задумчивости она шла вдоль старательских делянок, всматриваясь во все с видом человека, отставшего от поезда в незнакомом городе. Иногда Ветлугин подхватывал ее под локоть или пытался помочь ей перейти по узким дощечкам мостков, но она отстранялась, быстро через плечо взглядывала на него и говорила:
— Ничего. Я сама.
— Вы говорите «я сама», как Маринка, — сказал он насмешливо. — Помните, когда я хотел помочь вам сесть на лошадь? Мне до сих пор неудобно…
— Тогда не надо вспоминать, — перебила его Анна, сразу оживляясь. — Правильно вы решили: поставим на деляне стариков гидравлические работы, а участки мерзлоты будем оттаивать паром. — Еще занятая мыслью об этом, она сказала Ветлугину: — Просто смешно, когда помогают здоровому человеку перешагнуть через маленькую канавку.
— И это всегда?
— Всегда, — промолвила Анна спокойно, но вдруг лукавые искорки заблестели в ее глазах. — Нет, не всегда, конечно, иногда такая помощь очень приятна.
— Когда ее предлагает он?
— Именно! — тихо смеясь, подтвердила Анна. — Мы, женщины, странный народ в этом отношении!..
— Для женщины вы действуете слишком прямолинейно, — сказал Ветлугин, — отрезаете сразу: вы мне неприятны и потому не приставайте со своими услугами.
— Разве так получается? — спросила она и, понимая, что ее слова могли обидно задеть его, и в то же время сознавая внутреннюю свою правоту, добавила: — Я с вами вполне откровенна… Видите ли, я люблю Андрея, счастлива им и, может быть, поэтому резко прямолинейна с другими. Некоторые женщины кокетничают для испытания своих способностей нравиться, у иных это врожденное, а я кокетничать не умею. Да мне просто и некогда заниматься подобными штучками!
Ветлугин понял, что она намекает на Валентину, и, уже недовольный Анной по личным мотивам, сказал с досадой:
— Напрасно! Нам, мужчинам, прежде всего нравится женственность.
— Вы находите, что я не женственна? — В повороте головы Анны, в голосе ее и взгляде отразилось вместе с насмешкою тревожное недоумение.
— Нет, этого я не нахожу, — сказал Ветлугин, переходя вслед за нею через водоотводную канаву и глядя на сильные плечи женщины-директора, на тяжелый узел волос над ее нежной смуглой шеей. — Но… вот вы идете по зыбкой доске, идете смело, как настоящий шахтер… У вас нет того милого лукавства, которое помогает женщине преображаться в ребенка. Возможность проявить себя защитником и опорой по-хорошему льстит мужскому самолюбию… Нежная беспомощность слабого существа может быть только притворством, но тут мы охотно попадаемся на удочку из-за уверенности в собственных уме и силе. — Ветлугин помолчал, размышляя о характере самой Анны, не решаясь определить его окончательно со своей новой позиции противника. Уважение, которое он испытывал к ней, и крепко связавшая их деловая дружба, создавали в нем двойственное отношение, и он то щетинился, то, забываясь, был по-прежнему доверчив. — Нет, — продолжал он вслух полушутя-полусерьезно. — Я нахожу, что вообще мир устроен вполне благополучно. Честное слово! Пусть обманчива иллюзия, лишь бы она украшала жизнь.
Анна нетерпеливо выслушала его.
— Ужасно, — сказала она, когда он умолк, и сердито подумала, продолжая идти тем же быстрым шагом: «Или он поглупел за последнее время, или я не замечала этого раньше!..»
Дорога к руднику, пробитая среди глыб камня, была просторна. Как бесплодные солончаки, переходившие в побелевшее от зноя озеро, широко растекались по долине иловые отходы флотационной фабрики. На фабрике были простои. Рудник болел. Программа не выполнялась, а влюбленный главный инженер утешался и пробовал утешить других обманчивыми иллюзиями.
— Ведь это старо, то, что вы говорите, — снова заговорила Анна. — И просто дико звучит теперь: у нас чувства и отношения совсем иные.
Ветлугин посмотрел на нее внимательно и сказал:
— Да, это старо… но потому-то и страшно въедливо. Многое можно изменить в жизни: и в отношениях человека к человеку, и отдельной личности к обществу… Но в области отношений между мужчиной и женщиной на первом месте… простите… физиология…
— Опять!.. — произнесла Анна и даже подняла руку, будто хотела защититься от его слов, звучавших для нее оскорбительно. — Вы не правы! Возможность изменений даже в этой области огромна. Любовь без взаимного уважения, основанная на одних иллюзиях, как и чисто физиологическая любовь, просто невозможна для высокоморального, развитого человека. Женственное кокетство, нежная беспомощность… Ох! А духовный облик, а общественное значение женщины? Я не верю, что вы говорите искренне.
Ветлугин замялся.
— Я высказываю то, что наблюдал не раз в жизни, — промолвил он, заметно волнуясь. — То, что происходит в действительности, далеко не всегда отвечает нашим пожеланиям и рассуждениям. Впрочем… Возможно, это не совсем так…
Анна, не дав ему закончить, сбила разговор на деловую тему.
Часть вторая
1
Богатая земля у Кирика Кирикова! Ах, какая богатая бескрайняя земля, такая гористая, что края ее сходятся с небом, точно шов сказочной мастерицы. И каких только трав и мхов нет в лесистых низинах, где пасутся великаны лоси! Ах, лось! Рога у него — крылья: не они ли несут его через кусты и гнилые болота? Как могучий лесной дух, летит он по крутому склону, и горные травы поднимаются за ним, выпрямляемые ветром от его полета.
Богатая ты, богатая и щедрая земля! Ягоды свои и цветы, живое серебро рек и сизые шумящие леса — все отдаешь ты человеку, только были бы у него глаза ястреба и ноги оленя. Но если человек заболел, что делать ему в тайге? И разве плохо иметь на случай болезни и старости постоянный угол?
Кирик стоял на краю поля. Широкое поле… кусок тайги, с которого сняли косматый зеленый мех, а обугленную кожу разодрали железным клыком плуга. Кирик видел, как терзали его землю, и ощущал почти физическую боль. Но веселые девушки его рода нарыли на грядах ямки и закопали в них удивительные круглые корни с белыми глазками ростков. В других местах разбросали тоже незнакомые семена: одни с ресничками, плоские и легкие, другие — словно глаза землеройки, или самая мелкая дробь.
Кирик за всем наблюдал с тяжелым недоверием: земля сама знает, где какие семена посадить, и каждая травка знает свое место.
— Толку не будет, — упрямо твердил охотник.
Сейчас он работал на сенокосных лугах артели. Иногда он заходил в длинные хлева, построенные для поджидаемого скота, осматривал пустые ясли, в которых шмыгали тонкие, грязно-желтые, злые горностаи, и задумчиво качал головой.
«Выйдет толк или нет?..» — гадал Кирик, хотя давно уже слыхал, что у якутов и кое-где на русских заимках по берегам Маи есть целые стада коней и коров. Говорили, что такой конь-олень один может увезти больше, чем четыре эвенкийских оленя. Наслушавшись об этом, Кирик совсем не удивился, когда увидел впервые на Светлом прииске странное животное, толстое, будто медведь, но на высоких ногах, с круглыми, словно березовый нарост копытами, и длинными волосами на хвосте и шее.
— На таком большом можно и десять нарт увезти, — сказал Кирик на русском языке старику Ковбе, допустившему его на конный двор.
Лицо Кирика только раз вытянулось от удивления, когда один конь-олень, серый, как облако, задрал свою безрогую морду и закричал таким пронзительным голосом, что у Кирика задребезжало в ушах. Он даже попробовал схватить гостя за меховой рукав своими большими зубами, но Ковба треснул его по шее и пригрозил:
— Я-я тебя, баловень!
Испуганный Кирик вынул изо рта погасшую трубочку (курить в конюшне старик не разрешил) и произнес давно слышанное, не совсем понятное и потому поглянувшееся ему ругательство.
— Прямо сущая сатана.
А сейчас Кирик стоял, широко расставив ноги, на краю картофельного поля, и выражение недоверия на его лице постепенно сменялось довольной улыбкой: новая трава росла темно-зеленая, сильная. Дальше зеленела светлая полоса чего-то другого. Кирик не узнавал места, еще недавно такого обезображенного. Он поцокал языком, качнулся, медленно пошел по узким тропочкам.
Мелко рассеченная мягкая ботва моркови привлекла его внимание. Он выдернул сразу целую горсть, подивился на желтые корешки-хвостики, отряхнул с них землю о свои заношенные штаны, сшитые из грубо выделанной оленьей замши. Вкус незрелой моркови ему не понравился, он пожевал ее листья, выплюнул и пошел дальше. Он ничего не оставил без внимания; лиловатые черенки свеклы, пахучий укроп, редьку, капусту, еще не завитую в кочаны, матово-сизую, с каплями росы в кудряво-вогнутых листьях. Так Кирик обошел почти половину поля, на зубах его скрипел песок, а на лице застыло недоумение.
Но самое удивительное ожидало его впереди: опустившись в низинку, он увидел председателя артели эвенка Патрикеева. Старик сидел на корточках. Маленькое под меховой шапкой лицо его было опущено к земле. В руке он держал вялые листики редиски и, поглядывая на них, осторожно выщипывал с грядки всю зелень, не похожую на ту, что служила ему образчиком.
2
— Чем ты занимаешься? — воскликнул Кирик. — Разве ты забыл, что сказал шаман о тех, кто пробует рыться в земле?
Старик поднялся, не сразу выпрямляя усталую поясницу, сморщенный, хрупкий и тощий, как пучок ягеля в сухое лето.
— Я проверяю работу женщин, — ответил он и, помаргивая, искоса взглянул на высокого Кирика. — Они плохо вычистили эту грядку. Сейчас они ушли пить чай, а я проверяю и сторожу. Наши ребятишки потоптали вчера две гряды. Ничего еще не понимают. — Патрикеев повертел в пальцах стебелек, взятый им для образчика, и добавил. — Шаман болтал разное, но только слова у него кривые: смотри — трава растет.
— А земля сердится, — упрямо сказал Кирик. — Вчера я спал в вершине Уряха и слышал ночью, как вся она задрожала. С берега в ручей посыпалась земля, а под скалой злой дух два раза ударил в ладоши.
— Это бабьи сказки, — возразил Патрикеев. — Да и девки из нашей артели не все поверят этому. Они больше говорят сейчас о новых платьях да о деревянных домах, где собираются жить и летом и зимой. Даже их неугомонные языки не успевают перемалывать за день то, что видят глаза и слышат уши. Где уж им думать о злых духах? Вчера говорили, что шаман сам не прочь вступить в артель охотников.
— Я тоже зимой пойду охотиться, — негромко, но твердо сказал Кирик. — Только летом можно заниматься разными пустяками, новая трава растет плохая.
— Откуда ты знаешь?
— Я вырывал ее из каждой полосы и, пока дошел до тебя, съел столько, что можно было бы накормить оленя. Нет, я шучу, — поспешил добавить Кирик, заметив испуг на лице Патрикеева, — просто я попробовал немножко, а остальное бросал.
— Теперь ты будешь наказан, — важно объявил Патрикеев и выпрямился под своей большой шапкой. — Ты потоптал гряды… Ты вырвал это… А оно еще не совсем готово.
Кирик готов был рассердиться, но услышал приближавшиеся шаги, глянул через плечо и смутился. К ним шла, играя хлыстиком, русская женщина. Эвенк сразу признал в ней главного приискового начальника Анну Лаврентьеву: он видел, как ездила она на том сером коне, который когда-то хотел укусить его, и относился к ней с большим почтением.
— Он испортил гряды, — тоненьким, противным Кирику голосом сообщил Патрикеев Анне, ткнув пальцем в грудь Кирика. — Он таскал… — И, не найдя подходящего русского слова, Патрикеев так широко развел руками, точно Кирик обошел и вытоптал все поле.
— Он не видел! Он врет! — заорал Кирик, возмущенный ябедой сородича, в нем он еще не привык видеть начальника. — Если я пробовал паршивую траву… эту новую траву, так разве мы работаем у чужих? Разве огород артели не мой огород?!
— Где ты сам работаешь? — спросила Анна, с интересом наблюдая расходившегося Кирика.
— Расчищаю покосы, — сказал он угрюмо, но быстро добавил, желая показать ей, какой он дельный человек, и вместе с тем подчеркнуть ничтожество Патрикеева: — Я получил нынче премию. Самую первую. Сатин и ситец и сто рублей денег.
Анна улыбнулась торопливой похвальбе Кирика, решив, что он испугался и немножко заискивает.
— А если бы Патрикеев пришел к тебе на покос, развел там костер и сжег сено, которое ты накосил… что бы ты сделал? — спросила она, переводя взгляд на морщинистое, безбородое лицо старика председателя.
— Я бы взял его и сбросил вниз головой в речку, — запальчиво, не раздумывая, заявил Кирик. — Пусть бы он пускал пузыри, пока не всплыл, как дохлый таймень.
— Он может сделать с тобой то же за потоптанные гряды…
Кирик опешил, однако быстро нашелся и сказал, путая русские и эвенкийские слова:
— Я не топтал. Я только рвал и пробовал. Пусть старик придет на покос и набьет себя сеном хоть до самого горла. Или унесет сколько может. Сжигать — другое дело. Это злое дело!
Анна всмотрелась в обиженное лицо Кирика, и ей стало весело: перед ней стоял человек, перешедший прямо из патриархального родового коллектива в ее большую трудовую семью.
— Ты должен беречь огород, как и свой покос. Если работа огородников не принесет артели дохода, ты получишь меньше на трудовой день. И каждый член артели получит меньше.
— Я могу посадить все корни обратно, — с угрюмым снисхождением предложил Кирик, начиная понимать, что поступил неладно, и только из упрямства не сознаваясь в этом.
Патрикеев устало переступил с ноги на ногу.
— Оно все равно не будет жить. Женщины садили вчера то, что выдергивали по ошибке. Однако это зря. Оно сварилось на солнце. Ты совсем еще молодой и глупый, Кирик!
Тогда «молодой» Кирик, которому едва перевалило за пятьдесят, неожиданно развеселился и, показывая в усмешке черные от табака зубы, сказал Патрикееву:
— А ты старый ворон! И, видно, ты одряхлел, если твои глаза не отличают нужную траву от лишней. В другой раз не берись сторожить поле. Слепой сторож — это ружье без дроби.
Очень довольный своей остротой и тем, что отомстил старику Патрикееву, Кирик снова пошел вдоль гряд, тонконогий и стройный, как лесная сушина.
3
Успехи эвенкийской артели вызывали у Анны чувство гордости. Радовало ее и хорошее любопытство кочевых охотников, каждый день приезжавших посмотреть на оседлое хозяйство. Ей хотелось втянуть в работу всех их, праздно болтавшихся сейчас в тайге. В самом деле, кому, как не охотникам, проводить лето на огородах!
Поднимаясь на террасу своего дома, Анна вспомнила волнение Патрикеева, бранившего Кирика за потраву, и Кирика, который считал себя полным собственником артельного добра во всем, что ему потребуется, и сама снова по-хорошему взволновалась. Семья Кирика заняла половину новой избы, но он, придя домой с покоса, не лег спать в этой избе, а устроил себе в кустах, рядом с избой, чум-шалашик.
«Ах, чудак! Милый, смешной чудак!»
Анна присела на пороге открытой двери и подумала: «Теперь надо заняться постройкой овощехранилищ. Для капусты можно устроить засольные ямы-чаны прямо в земле, зацементировать их, устроить над ними навесы. Сегодня же дам распоряжение».
Она представила тысячи нитей, связавших сельскохозяйственную артель с предприятием, а подумав о предприятии вообще, остановилась мыслями на руднике. Она очень тревожилась за участь своего проекта. «Вдруг он не будет принят, а примут Ветлугинский! Разумеется, несостоятельность того проекта скажется сразу на практике. Но ведь придется опровергать, доказывать, затягивать время и выполнение программы… Может быть и хуже: обвал в руднике, гибель рабочих…»
Директора залихорадило от волнения.
— Нет, — сказала она, отгоняя страшные мысли. — Мы ведь все объяснили почти наглядно.
Она стянула сапожки, отбросила их и насторожилась, услышав голос возвращавшейся из садика Маринки.
— Закрой глаза и открой рот, — говорил Юрка.
— Не закрою и не открою, — почему-то сердито ответила Маринка. — У тебя руки грязные, да еще: «Рот открой!» Дай я сама возьму.
— Все бы ты сама! Да уж ладно, бери. Придешь играть?
— Приду, — шепелявя занятыми губами, обещала Маринка. — Мне теперь можно. Папа сказал: можно. Папа мой сознательный.
— А мать?
— Она? — Девочка помедлила с ответом. — Она везде сознательная, а мне так говорит: «Запру тебя на замок».
Маринка подошла к ступенькам веранды, взглянула вверх, вздрогнула, заулыбалась и, сразу позабыв о Юрке, побежала к матери.
Анна обняла ее, любуясь, слегка отстранила от себя: выражением лица, особенно глазами и постановом светлой головки она повторяла Андрея, только по-детски, по-девичьи нежнее. Маринка смотрела вопросительно и все улыбалась, довольная встречей и тем, что мать попросту, как маленькая, сидела на пороге.
— Ты сегодня никуда не пойдешь?
— Пока нет. Вечером пойду в контору, а сейчас мы с тобой можем отдохнуть немножко.
— Пойдем на гору, погуляем…
Анне совсем не хотелось гулять сразу после поездки. Да и ночь она опять провела за рабочим столом, еще раз проверяя детали своего проекта. Веки ее припухли. Она могла бы вздремнуть, сидя даже вот здесь, на пороге, но дочка смотрела на нее так просительно, что невозможно было отказаться.
— Если тебе очень хочется, пойдем!
— С мальчишками?
— Хорошо, возьмем и мальчишек. Видишь, я тоже немножко сознательная.
— Ты подслушивала! Ты подслушивала! — закричала Маринка весело, но вся покраснела. — Вот ты какая!
— Вы громко разговаривали, а я не глухая! — с этими словами Анна поднялась и повернула голову на шорох шагов по дорожке.
4
Голубое платье мелькнуло сквозь зеленые листья, и по лицу Анны прошла тень. Она обняла дочь за крепкие плечики, прижала к себе, точно хотела спрятать, но Маринка, шаля, откинулась на ее ладони, посмотрела снизу на Валентину, поднимавшуюся по ступенькам, и, смеясь, перегнулась так, что светлые ее волосенки, отлетев со лба, запрокинулись вместе с нею. Анна, перехватывая руками, наклонилась тоже, пока Маринка не взглянула в ее лицо совсем близко: на нем было незнакомое выражение стыда и страдания. Девочка притихла, перестала шалить. Затем обе выпрямились и посмотрели на гостью.
Валентина стояла, опустив руки, губы ее слабо шевелились, пытаясь сложиться в улыбку, но улыбка не выходила. Анне эта улыбка показалась виноватой, а Маринке вдруг стало жалко Валентину Ивановну, потому что она одна: никого у нее нет, кроме Тайона, и тот — собака, да еще такая собака, которая никогда не сидит дома.
Желая развлечь доктора, Маринка прильнула к ней, едва они прошли в столовую, и шепнула:
— Пойдем, я покажу тебе своих мальчишек!
— Вот звереныш! — Анна так рассмеялась, что холодок встречи сразу растаял. — Ты думаешь, Валентине Ивановне интересно смотреть на твоих чумазых мальчишек?
— Они вовсе не чумазые! Юрка — он просто такой черный и никогда не отмывается. Он подарил мне вчера телефон. — С этими словами Маринка вихрем сорвалась с места и вытащила из-под дивана спичечную коробку, за которой на длинной нитке выкатилась пустая катушка. — Прижми коробок к уху, — попросила она Валентину. — Я буду говорить.
Она завертела катушку, поглядывая то на мать, то на гостью.
— Что-то не получается…
Но в комнате послышалось бойкое постукивание дятла, и по лицу Маринки разлилось сияние: крохотный деревянный молоточек стучал в спичечной коробке, Валентина притиснула ее к уху, и тогда там, глухо вибрируя, загудела еще медная струна. Похоже, дятел и оса устроили концерт.
Анна исподлобья смотрела на Валентину. Та слушала сначала серьезно, с полуоткрытым ртом, а потом заулыбалась удивленно и радостно. Анна вспомнила, что она сама вчера, в ожидании чего-то, возможно и подвоха ребяческого, открывала рот, и так же, наверное, моргала и удивленно улыбалась. И Андрей улыбался, пока в коробке не застучало слишком громко, — тогда он нахмурил брови, но весело сказал Маринке:
— Говорите, пожалуйста, потише, а то я могу оглохнуть. — И девочка от этих слов была в полном восторге.
— Ты пойдешь с нами гулять? — спросила она Валентину, продолжая крутить катушку. — Мы с мамой пойдем вместе с мальчишками.
Когда они втроем вышли из дому, Маринка сразу побежала вперед, остановилась на углу, придерживаясь за выступ террасы, и, оглядываясь, не без гордости сказала:
— Вот они!
«Они» сидели рядком на разрытой завалине: черный жучок Юрка и Ваня — белоголовый крепыш с добрыми, круглыми глазами.
«Она будет кокетка», — решила Валентина, любуясь самодовольным личиком Марины.
«Нехорошо, что она распоряжается этими мальчишками, — подумала Анна. — Мы все-таки очень балуем ее. Надо иначе…»
Но как «иначе» — она не нашлась и перевела взгляд на Саенко.
Валентина шла, осматриваясь по сторонам, и вдруг пронзительно засвистела, словно сорванец. Ребятишки закричали, радостно замахали руками: на гору во всю собачью прыть мчался Тайон, колыхая мохнатым кольцом хвоста. Ярко чернела на светло-серой морде тюпка носа, розовый язык вываливался из белозубой пасти.
— Красивый он, правда?
— Хорош! — сказала Анна. — Сейчас мы поднимемся к осиновой рощице, — продолжала она, стараясь преодолеть чувство внутреннего напряжения. — Мне всегда не нравился осинник, а прошлой осенью поднялись туда с Маринкой и не могли налюбоваться. Не хотелось уходить из него… Особенно когда нашли гриб. Большой, рыжеголовый, на редкость крепкий подосиновик на толстой ножке.
— Вы изжарили этот гриб?
— Конечно. — Анна задумчиво улыбнулась. Строгие черты ее точно осветились и, снова став серьезными, сохранили тепло улыбки в прищуре глаз и углубленных уголках рта. — Очень люблю ходить по лесу. Идти одной, чтобы рядом никто не шуршал и не мешал думать.
— И собирать грибы…
— Нет, я тогда совсем забываю о них. Если только случайно набредешь, спохватишься… Посмотришь, как сидят они во мху, дружные, прикрытые желтыми травинками, и так уютно покажется в лесу. А кругом тихо… В каждой веточке важность такая… Посмотришь, вслушаешься и почувствуешь всю красоту человеческого сознания, благодарность какую-то к самому себе за то, что живешь. Ночью вот еще на озере… Вы бывали ночью у воды… так, чтобы одной?
— Нет. Я боюсь темноты и ни за что не осталась бы одна в пустынном месте. Я люблю, когда шумно и весело. Музыку обожаю. Когда я слушаю Моцарта, например, или Чайковского, у меня все дрожит внутри, и мне хочется сделать что-нибудь необыкновенное.
5
Осиновая роща росла в небольшой лощинке на южном склоне горы. Вся она, от верхушек до нижних ветвей переливала сизым блеском: плотные круглые листья, свободно болтаясь на слабых черенках, точно рвались улететь с неподвижных деревьев. Жидкие тени их текли по голубым стволам, по высокой траве, редкой и ровной. Из травы торчали кое-где угловато-обломанные камни, покрытые зеленой плесенью мха.
— Грустно здесь! — сказала Валентина. — Ваш лес напоминает мне покойника, у которого еще растут ногти и борода.
Анна удивленно повела взглядом:
— Вы бы посмотрели, как горит и сверкает эта роща осенью!
Они сели на опушке, откуда виднелись грузные шахтовые копры, окруженные сетью желобов и канав.
— Я очень интересуюсь проектом вашей новой системы на руднике, — сказала Валентина. — Это будет страшно, да?
— Нет, мы постараемся, чтобы было нестрашно, — сухо возразила Анна. И ей сразу представилось, с каким ожесточением говорит о ее проекте Ветлугин. — Все построено на строгом расчете.
Теперь она стала скрытнее, сдержаннее и не могла делиться с Валентиной тем, что так волновало ее; развал в работе, взыскание по партийной линии, мерещившиеся в трудные минуты, были бы для нее тяжким приговором.
Левой, правой! Левой, правой! Барабан уже дырявый… —кричала Маринка, бегая со своими приятелями вокруг трухлявого пня. Потом Юрка сказал что-то о букашках, и все трое стали раскапывать пень.
— Моему сыну уже исполнилось бы шесть лет. Он рос славный, смуглый, румяненький. — Валентина помолчала и с тоской добавила: — У него были такие большие руки! — Она опять умолкла, глядя на игравших детей, потом тихо заговорила, оживленно и лихорадочно светя глазами: — Вы знаете, однажды в детстве я отказалась петь на елке. Мать пошла за мной в другую комнату. Отчим тоже пришел — грузный, красивый, пьяный. Он стал издеваться над нами обеими, и тогда мать (я никогда не забуду этого!)… она заплакала, ударила меня, схватила одной рукой за рот и щеки, другой стала душить. — Яркие краски в лице Валентины поблекли, омраченные воспоминанием синие глаза погасли и сузились. — С тех пор у меня осталась только отчужденность к матери. Но когда родился ребенок, я смягчилась и многое простила ей. Ведь нас у нее было двое от первого брака… Мой муж тоже не любил детей… маленьких особенно, но даже он гордился сыном. Правда! Это был такой славный ребенок!
— Вы… разошлись?
— Да. Он ужасно грубо и пошло ревновал, а сам позволял себе все, требовал, чтобы я бросила работу, оскорблял меня на каждом шагу. Я слишком остро все переживала, и мы расстались.
— А ребенок? — напомнила Анна, проникаясь живым участием.
— Умер от скарлатины.
— Бедная, — прошептала Анна, кладя руку на ее плечо. Я тоже схоронила первого ребенка, знаю, как это тяжело. А у вас вся семья развалилась… С ума сойти можно!
— Нет! — сказала Валентина со странной улыбкой. — Нам только кажется, что мы с ума сойдем, а приходит горе, и все переносишь. Только остается в душе провал… пустота, в которую боишься потом заглянуть, как в заброшенный колодец.
6
Барак Чулкова стоял среди мелколистных кустов березового ерника. Раскиданное по кустам, сохло на ветру белье рабочих, застиранное до серости.
— В тайге и так случается, что безо всякой стирки с плеч сползет, — сказал по этому поводу разведчик у костра за бараком.
И пошел разговор о трудных переходах по тайге, об открытиях и временах золотых лихорадок. Чем тяжелее были испытания, тем с большей приятностью вспоминали о них.
Разведчик Моряк, придерживая подбородком задранную рубаху, показывал сизые рубцы, стянувшие кожу на груди. В сумерках, при неровном свете костра, выпуклая грудь его казалась татуированной.
— Что это у тебя? — спросил подошедший с Чуйковым Андрей.
— На пороге садануло, когда я возвращался с Учурской экспедиции в горах Бонах на реке Альгаме. Разбился плотик, и так водой меня шарахнуло, как из пушки. Наглотался вволю. Выловили ниже порога красивого: кожа и рубаха лохмотьями висели, и вето чушку себе расквасил. Носом-то уж об другой камень хлобыстнуло.
— А со мной такой был случай…. — перебил колоритную речь Моряка другой разведчик, скрытый белыми клубами дыма, отгонявшими полчища комаров.
— Теперь начнут вспоминать! — сказал Чулков Андрею, тоже примащиваясь к костру: идти в барак засветло не хотелось. — В Бонах я сам бывал, когда ходил с поисковой партией. Богатейшие места — что пушнины, что руды! Да приступу нет. Мраморные скалы — глаз не оторвешь. Козы — за каждым камнем. Горные бараны пуда по четыре весом, одни рожищи фунтов на пятнадцать… Такая туша тяжелая, а ведь на полном скаку замрет над обрывом. Только бы самую малость зацепиться копытцами. Постоит, прицелится, да как махнет вниз, на ту сторону ущелья. И пошел сигать со скалы на скалу. Остановится, оглянется — и опять летит! Завидно даже. Ну куда я против него: чуть оступись, и готов…
— На скалах, правда, завидно, — сказал Андрей, улыбаясь, — особенно когда повиснешь между небом и землей.
— Так-эдак! — нескладно, но горячо подхватил Чулков и, в свою очередь, подогретый воспоминаниями, засучил рукав, показывая сбитый когда-то локоть. — Повисишь, да и сорвешься… Вот, сажен десять проехал на локтях и коленках, да с вывихнутой ногой…
Андрей сам мог рассказать немало, но он был задумчив и молча присматривался к своим людям. Каждого из них отметила дикая природа, с которой они сталкивались в течение долгих лет. Давний спор между ними и ею продолжался, не ослабевая, а ожесточаясь с годами. Пустынная земля как будто сознательно выживала пришельцев, пугала их зверями, засыпала им путь двухметровыми сугробами, превращавшимися по весне в жидкую кашу, изматывала бездорожьем, а они все переносили: тонули и выплывали, плутали среди гор, вязли в болотах, голодали, но, едва отдохнув, принимались за то же. И они еще любили ее — эту суровую землю!
Рассеянно слушая чей-то рассказ об открытии золота на Алдане, когда старательская вольница совершала сорокадневные голодные и холодные переходы по тайге, Подосенов припоминал события прошедшего дня.
Его вызвал со Светлого Чулков, обрадованный рудной жилкой, вскрытой в одной из канав. Жилка вправду оказалась интересной. И хотя Долгая гора уже не раз обманывала ожидания Чулкова и Андрея, открытие обнадежило их. Чтобы дополнительно разведать жилу на глубине, на канаве, как и прежде в таких случаях, заложили шурф.
— В третий раз будем пробивать, — со вздохом обратился Андрей к Чулкову, прерывая его новый рассказ, тоже из алданской эпопеи.
— В этот раз не ошибемся, — ответил Чулков, сразу проникаясь тревогой главного геолога.
— Послезавтра картина станет ясной, — сказал Андрей, представляя себе сеть земляных работ на горе.
— Не раньше, Андрей Никитич, а может, и затянется дело: скала ведь сплошная — подрывать придется.
— Дольше ждали…
— У меня предложеньице есть, — тихо заговорил Чулков, придвигаясь поближе, — я не хотел все сразу… Объявился здесь один из бывалых старателей-золотничков, говорит, что амбарчик знает. Верст за тридцать.
— Километров, товарищ Чулков! — весело поправил Андрей. — Когда я вас отучу от старинки? Значит, амбарчик открыт!.. И надежный человек?
— Кремень!
— Ну-ка, давай его сюда.
«Кремень» оказался мужчиной лет сорока восьми, с шершавой бородкой, с русыми патлами, торчавшими из-под войлочной шляпы. Сбористые шаровары его, спадавшие пузырями на коричневые краги, были сшиты не из темного трико или молескина, именуемого таежниками то ли за крепость, то ли за черный лоск чертовой кожей, а из светлой бумазеи с мелкими букетами синих и красных цветов. Поверх распоясанной рубахи накинута старая, чудом державшаяся на одном плече вытертая до плешин меховая дошка.
Он был крепко навеселе, но глубоко посаженные глазки его горели бойко и ярко, как у медвежонка.
— Права на вольную разведку имеет, — шепнул Чулков Андрею и ободряюще кивнул своему гостю.
Но тот совсем не нуждался в ободрении: даже в таком шутовском наряде он сумел внушить разведчикам если не уважение к себе, то сочувствие и живой интерес.
7
— Закурил!.. Четвертый день уже, — заговорил он, подходя к Андрею. — Вылетел из тайги бос и наг. Вот оперился по мере возможности. — Он оглянул себя не без удовольствия, и в то же время озорные искорки блеснули в его глазах. — Позвольте представиться — мещанин Мышкин, как теперь принято выражаться, из прочих, вроде бы вольный кустарь-одиночка. Отец мой был препровожден в сибирские края царским этапом за фальшивые деньги. А я, став на возрасте, решил посвятить себя благородному металлу. Дело трудное, но завлекательное и до святости чистое. — Он исподлобья взглянул на Андрея и неожиданно серьезно сказал: — Вы не обращайте своего внимания, что я много треплюсь, — намолчался. Три месяца в тайге в молчанку играл.
— Вы не из нашего района отправились? — спросил Андрей.
— Нет, я оторвался в пути от поисковой партии, но туда, — подчеркнул он последнее слово, — направлялся специально. Я раньше в Верхне-Амурской компании служил разведчиком, и мы в эти места тоже заглядывали. Решил кое-что проверить.
— Ну и как?
— Все в порядке. Посмотреть и вам не мешало бы, товарищ инженер…
— Андрей Никитич, — подсказал Чулков.
— Я помню, что Андрей Никитич. Богатства особого не обещаю, но не прогадаете. Тем паче не дальше сорока километров. И старая ороченская тропа есть.
— Пойдем — пятьдесят окажется, — пошутил Андрей.
— А кто их тут мерял! Якуты за двести верст в гости чай пить ездят.
«Надо побывать, — решил Андрей. — Возьму шурфовщика да промывальщика, продуктов, чтобы в случае надобности оставить им на неделю. Когда вернусь, Чулков уже проведет дополнительную разведку на жиле…»
Мысль о том, что они приближаются к значительным открытиям на Долгой горе, все время волновала Андрея.
— Поезжайте, а мы за это время выясним, — сказал ему Чулков после ужина. — Зачем вам здесь томиться: проведем сами, как полагается. Может, и вправду амбарчик-то у Мышкина богатенький. Двух рабочих смогу вам дать. Эх, жалко, Егорыч болеет, вот бы его туда!.. Грамотой не силен, но для самостоятельного задания по россыпной разведке лучше не сыскать. Честный, работяга, лоток у него в руках так и играет. Убежденный разведчик. — Чулков обдал Андрея крепким махорочным дымком — прикуривал от его папиросы, — потом сказал с недоумением: — Такой здоровяк был — и свалился. Неужто и вправду от водки с горчицей? Перцу я ему не особенно много сыпанул: только что зацепил на ноже. Врачи — они любят добрых людей в сомнение вводить. На вот, мол, тебе, терзайся. А там, где самим слабо, помалкивают. Почему бы, к примеру, не сказать человеку: дескать, жить тебе осталось крайний срок — неделя?
— Ему тогда тяжелее будет, — возразил Андрей, устраиваясь на нарах в углу, рядом с Чулковым.
— Это уж мое дело: тяжелее или легче мне будет, зато я свои последние денечки проведу с толком.
— С каким толком?
— Таким… что я бы велел вынести себя на самый шум, где народу полно, на волю, и все бы глядел да слушал, дышал бы так, чтобы про боль забыть. А может, и умереть забыл бы. — В бараке, набитом людьми, раздался смех, Чулков всмотрелся в темные углы и добавил: — Ведь если доктора молчат, я и пролежу один и проохаю, пока она меня не придушит.
— Нет, лучше не знать, — сказал молодой голос.
— Как хочешь, — серьезно согласился Чулков. — Помирай в одиночку.
В бараке снова раздался смех, хотя многие из рабочих, находившихся в нем, не раз уже глядели в лицо смерти и яростно сопротивлялись ей.
Смеялся и Андрей. Он очень любил жизнь и землю, но смерти не боялся и не задумывался о возможности небытия. Он признавал эту неизбежную необходимость в будущем — признавал довольно спокойно, — а пока жил, дыша полной грудью, стараясь сделать содержательным каждый день своей жизни.
— Растревожился я тогда очень, — говорил рядом Чулков. — Ну-ка, думал, умрет Егорыч, с какой бараньей совестью я жить останусь? А потом встретил Валентину Ивановну в больнице, и сразу отлегло на душе. Ка-ак она меня успокоила в этот раз! Будет, мол, жить ваш приятель. Руку мне подала так, будто сроду мы с ней знакомы были.
— Красивая она… — явно стесняясь, сказал за спиной Андрея молодой разведчик Мирский.
— Митек наш прямо влюбился!.. — откликнулся другой рабочий.
— Ты сам распинался, чтобы хоть посмотрела на тебя!
— Ну, куда нам! Смотреть-то она смотрела, да как на деда Ковбу. Попробуй подступись к ней!
— С народом она просто держится, — возразил Чулков. — Я нынче наших ребят проведал — не нахвалятся.
— А муж у нее есть? — спросил басом сидевший на порожке открытой двери Моряк, до пятидесяти лет доживший без сединки и всегда с шуткой.
— Не посвататься ли хочешь? — поддразнил кто-то из молодежи.
— Э, просто интересно! Вместе сюда ехали на пароходе. Могу и посвататься. Мне все можно. Только я и на ней бы не женился, потому что заботу переносить не в силах. У меня от задумчивости затемнение в мозгах делается. Скиталец морей, а теперь скиталец-таежник. Полундра! — вдруг зычно заорал Моряк, вызывая общий смех.
— Когда выпьет, так из него эти слова как из худого решета сыплются! — сказал Чулков Андрею, который и сам уже знал Моряка как облупленного. — А мужа у Валентины Ивановны нет, видно? — повторил он вопрос Моряка, задевший почему-то и его.
— Нет, — сказал Андрей неохотно.
Он сам в последнее время думал о Валентине очень хорошо, и ему не понравились эти мужские разговоры о ней.
— Красивые люди всегда несчастные, — твердо заявил Моряк. — Не родись красив…
— Без тебя слыхали, — перебил его Мирский.
8
Рано утром Андрей, еще раз перетолковав с Чулковым о возможных вариантах поведения жилки, отправился на амбарчик. Он взял с собой Моряка — настоящего имени его никто не упоминал — и Митю Мирского.
Мирский, парень лет двадцати, выделялся среди разведчиков большим ростом и медлительной, будто дремлющей силой в движениях. Андрей любил смотреть на его красивое, юношески свежее, но мужественное лицо. Любил он его и за привязанность к разведке. Не зная устали на тяжелой, земляной работе, Мирский по вечерам вместе с Чулковым упорно одолевал учебники за пятый класс, мечтал о горном техникуме. С Моряком он ладил, хотя они и поддразнивали друг друга: пятидесятилетний Моряк был беспечен и обидчив, как простодушный ребенок.
Мышкин не выспался и, опухший с похмелья, поменяв цветастые шаровары и краги у мамки Прасковьи на обноски ее мужа, утратил необычайно праздничный вид. Он сразу стал молчаливее и невзрачнее.
— Вся команда на «мы», — смеясь, сказал Моряк, беря за повод лошадь Андрея, нагруженную инструментом и продуктами.
Андрей с ружьем за плечами тоже пошел пешком. Он не считал это за труд для себя, когда располагал временем, потому что был вынослив и легок на ногу, да и лошади лишней на их небогатой разведке не нашлось.
Он шел следом за Мышкиным и по слову вытягивал историю его прошлого.
— Нанимался горнорабочим, потом нарядчиком служил в Верхне-Амурской компании, — скупо отвечал Мышкин, споро, но без поспешности переступая по лесной тропе высоко подвязанными ичигами (чтобы они не хлябали, он положил в них стельки из сена и шел неслышно). — Когда ходил с разведками, напал на этот амбарчик. После того ударил инженера за издевательство и вылетел. А место запомнил. Инженер, видно, для себя хотел его приберечь. Это уже перед Октябрьской, — добавил с нажимом Мышкин. — Работал потом буфетчиком на пароходе, на органе играл, был продавцом в кооперативе, где судился за растрату, и все равно вернулся на золото.
— Вы настоящую разведку там производили? — спрашивал Андрей, стараясь представить, куда они идут (районы свои он знал неплохо).
— Инженер для себя опробовал, приметил — и все. А я в этот раз несколько ям выбил.
К вечеру они еще не добрались до места, а поднявшись в горы, вышли вдруг к большому озеру, окруженному вершинами каменистых гольцов. Только с одной стороны подступала к нему сплошная стена леса, и огромные стволы елей, поваленных ветрами, серели в прозрачной глубине под обрывами берега.
— Я здесь купаться не стану, — мрачно сказал Моряк, вешая над костром чайник. — Зачем объявилась вода на такой вышине? Ну, добро бы болото: болота на горах не в диковину. А ведь тут глубь, дна не видать — и тишина-а. Хоть бы шелохнулось!
Как бы в ответ на эти слова в первозданной тишине, нарушаемой лишь потрескиванием костра, в озере звучно чвякнуло что-то.
Даже лошадь повернула голову на странный звук, косясь глазом на воду и на притихших людей.
— И вправду, какое место невеселое! — сказал Митя, без усилия поднимая тяжелые вьюки с седла. — Может, нам перекочевать подальше, Андрей Никитич? Может, тут гад какой живет, вроде змеи-полоза…
— Забоялись, будто девушки! — со смехом сказал Андрей. — Какой тут полоз при здешних морозах! Вон в углу камышик светлеет — похоже, утки водятся. Странно одно, что я до сих пор не слыхал об этом озере. Вот сейчас проверю, кто там возится.
— На новом месте осторожностью пренебрегать не следует, — встревоженно сказал Мышкин. — Мы сюда и не заглядывали. Кто его знает, может, тут воронка до самого центра земного. Читал я книжку инженера Обручева, как одна экспедиция съехала нечаянно в пустоту посреди земли. Еле-еле выбралась обратно. Ну, ладно — по сухому месту, а ежели вас в воронку на дне озера ушвыркнет? Ишь, как чвякнуло!..
— У Обручева научно-фантастический роман, — ответил Андрей, раздеваясь. — Если бы существовала на самом деле такая пустота под землей, мы бы с вами как разведчики давно уже там побывали.
Он подождал немного, разгоряченный после дня ходьбы, потом чуть разбежался и нырком махнул с берега…
— Андрей Никитич! — испуганно вскрикнул Митя и тоже заторопился раздеваться.
— А-а! Стыдно стало! — кричал Андрей, рассекая саженками прохладную воду, переливавшуюся на поверхности светлым блеском, наслаждаясь купанием и сознанием своей ловкости.
— Ну, а если бы вас затянуло там? — спросил за чаем Моряк, так и не рискнувший окунуться. — Митька — он, конечно, из амбиции прыгнул… А вы как?
— Я — чтобы у Мирского амбицию вызвать.
9
Ночью Андрей проснулся от ровного шума. В темном небе ни звездочки. Андрей приподнялся на подстилке из хвойного лапника, уложенного на камнях, прогретых с вечера огнем костра. Второй костер, разложенный неподалеку, ярко горел, играя косо стелившимися языками пламени. Искры вдруг взлетели над ним хвостом жар-птицы, и Андрей ощутил на лице упругое касание ветра. Шумел весь лес по нагорью. Капля дождя упала на руку Андрея. Он сел и осмотрелся. Лошадь, невидимая за костром, звучно фыркнула, переступила, глухо топнув спутанными ногами.
— Не спите? — раздался бодрый голос Мити. — Я уже вставал. Коршун начал биться на привязи. Должно, медведь подходил близко. Я подумал — как бы вьюки наши не уволок, подтащил их к огню поближе.
— Он такой… пакостник, — хрипло сказал Моряк, высовывая косматую голову из-под своего пиджака, покрытого шинельным сукном; ноги разведчика в ичигах и кулевых штанах лежали, раскинутые, как чурки. — Славно поспал, — сказал он, зевая и смутно мерцая в полутьме черными глазами. — У нас на Звездном тоже повадились ходить косолапые, — продолжал он неторопливо, видимо совсем поборов сон. — Особливо понравилось им, что лошади завелись. Лошадью пахнет — вот они и кружат по ночам.
— Дождь, однако, собирается. — Андрей запрокинув лицо, посмотрел в темноту неба, особенно сгустившуюся, когда огонь костра разгорелся высоко, охватив целую гору хвороста, натасканного Митей.
— Хорошо, что брезентик прихватили, — заметил Моряк. — Палаточку соорудим, а то размокнут Митины книжки. Неужто и сюда взял?
— Взял.
— У меня там барачек махонький остался и печка есть, из плитняка сложенная, — подал голос Мышкин, лежавший с самого края и для большего уюта огородившийся со стороны озера кучей дров.
— Неужто ты, Митек, вправду на инженера хочешь добиваться? — вернулся к своему Моряк.
— Очень хочу.
— А потом что же?
— Работать буду.
— И женишься на образованной?
— Женюсь.
Наступило молчание. Дождь все накрапывал потихоньку. На озере громко раз-другой крякнула утка.
— Вишь, орет! — с неудовольствием сказал Моряк. — Прямо как в деревне. Тоже необразованная!
— Видно, дело к рассвету, — промолвил Мышкин. — Нам от огня-то темнее кажется. — Он повозился на своем месте и встал. — И вправду светает! — сказал он, уходя в сторону.
Андрей лежал, подперев голову рукой, и глядел на костер. Искры, уплывавшие в темноту, напоминали ему блестки золота. От светлого колыхания огня в лицо веяло жаром, но все хотелось смотреть на его бесконечное движение. Смотреть и думать…
Может быть, новый шурф, заложенный на канаве, вскроет мощную жилу. Тогда не надо разведки бурами Крелиуса: горный массив Долгой позволит подсечь жилу снизу, от подошвы, горизонтальной выработкой — штольней. Андрей точно наяву представил эту будущую штольню: он шел по ней, освещая фонарем изломы кварца, входил в боковые штреки и почти реально ощущал на своей ладони кусок руды, в которой блестело золото…
Громкие голоса заспоривших разведчиков отвлекли Андрея от заветной мечты.
— Всех на свой аршин меряешь, — говорил Митя Моряку обиженно, но не зло. — Ты в женщине ничего не видишь, кроме того, что с ней поспать можно.
— А ты чего видишь? — не сдавался Моряк.
— Я в ней красоту вижу. Вон звездочка на небе проглянула, — ты на нее любуешься, толстый черт! Ведь она не хуже оттого, что ты ее схапать не можешь.
— Ну, это тебе в двадцать лет ладно любоваться…
— Чем ты мудрее в свои пятьдесят?
— Тем, что я больше на землю смотрю, а не на звездочки и, что можно, под себя подгребаю.
— Дурак ты! — не выдержал Мирский.
— Дурак, да спокойно живу! Ты бы тоже не отказался, кабы она…
— Молчи, а то получишь по морде!
— Молчу.
Яростная вспышка всегда сдержанного Мити удивила не только Моряка, но и Андрея. Андрей вспомнил себя в его годы. Будто совсем недавно это было — двенадцать лет назад! Он также упрямо тянулся к знанию и не терпел пошлого отношения к женщинам. Он уже любил Анну и ожидал ее приезда, — она поступила в тот же институт. Поэтому прекрасная женщина не являлась для него недосягаемой мечтой, до которой надо возвыситься: мысли об Анне, будущей жене, жили в нем с юности, и он ни разу не задумывался о другой.
А Митя? Может быть, он действительно влюбился в Валентину Саенко, а возможно, она поразила его только как идеал женщины?
Андрей вспомнил ее приезд на Звездный, то, как она ходила по бараку и хлопотала возле больных, и то, как, к досаде мамки Прасковьи, разведчики стыдливо попрятали свое грязное рванье, всегда валявшееся на нарах, и почти все надели новые рубахи. Два дня у них было праздничное настроение, даже не слышалось матерщины, хотя работали они по-прежнему.
«А она и не заметила ничего, — с улыбкой думал Андрей. — Для нее это обычный вызов к больному».
10
Барачек Мышкина оказался землянкой-балаганом. Подойдя ближе, разведчики увидели, что крыша у него разобрана, только остатки дерна беспорядочно свисали со стен; разобрана и печь, устройством которой особенно хвалился Мышкин, а камни, обмазанные глиной, свалены в стороне в одну кучу с бревнами.
— Видно, дожидался он моего ухода, — с огорчением говорил Мышкин, разглядывая следы когтей на столбах, на которых раньше держалась крыша. — Ишь, как старался, выдергивал! Один столб повалил-таки… и камни разобрал, словно хороший печник. Что за скотина озорная! Житья нет от этих медведей. Они здесь прямо дари.
— Наладим, — весело сказал Моряк, ухватывая бревнышко потяжелее. — А царю твоему я влеплю ха-а-ароший заряд картечи, чтобы он тут не путался.
Андрей поднялся вверх по ключу. Место было унылое: изогнутая корытом долина в горах, заросшая сухими кочками и чахлыми лиственницами, с которых свисали космы белого мха.
«Когда-то здесь проходил ледник», — подумал Андрей, оглядывая рельеф долины и круглые под мхом валуны, среди которых извивался хрустально-чистый ручей. — Воды маловато, но в весеннее время, наверное, шумит. Надо искать ближе к устью, если окажется золото. А должно быть, — решил он, рассматривая зерна кварца и черные песчинки железнякового шлиха, осевшие на дне ручья.
— Пойдемте, я покажу, где мы брали пробы, — сказал запыхавшийся Мышкин. — Это когда в девятьсот шестнадцатом году… Я тогда рабочим в партии был и любознательности ради выследил, куда ходил инженер с промывальщиком, а нынче сам пробу сделал.
Мышкин подошел к засохшему кусту ольхи, с трудом раскачал его и оттащил прочь, потом разбросал землю, разобрал настил из коротких жердей и открыл мелкий шурф — яму с мутной лужицей воды на дне.
— Сейчас посмотрим. — И он, опираясь на лопату, спустился вниз.
Андрей с сильно бьющимся сердцем стоял над ямой, — ему самому не терпелось посмотреть поближе эти древние отложения — наносы.
— Сейчас увидим, — повторил Мышкин, принимая от него остальной инструмент.
Тут же в яме он стал промывать, подложив под ноги камни, чтобы не соскользнуть в воду.
— Золото? — с торжествующим видом спрашивал он, протягивая мокрый лоток.
— Слабое, но золото.
— То ли еще будет! — хвалился Мышкин, снова нагребая землю в лоток…
Потом они направились к устью ключа; здесь в мощных наносах были глубокие шурфы, кое-как закрепленные, но воды в них набралось столько, что взять пробу без откачивания оказалось невозможно.
— Помпы надо сделать, — сказал Мышкин. — Кто еще топором ладить может?
— Я могу, — вызвался Моряк.
Вдвоем они подняли за речкой, в которую впадал ключ, такой стук, что выгнали из лесу лося и четырех диких оленей. Когда Митя выкопал еще одну яму на плоском у воле, покрытом кустарничком, Андрей пошел вместе с ним по ключу с нивелиром, чтобы сделать съемку местности для составления топографической карты. Амбарчик был не пустой, а насколько он богат, покажет потом детальная разведка.
«Если окажется хорошее золото, можно будет нынче же осенью поставить тут крупные старательские работы. Разведаем силами Чулкова. Мышкина привлечь надо — мужик дельный. Старателей прихватить… Пообещать им за работу хорошие делянки. Эх, оказалось бы доброе золото!» — И Андрей осмотрелся с таким видом, будто весь ключ отдавали ему в личное пользование.
«Хозяин поставил бы здесь лавку и бессовестной продажей — обменом продуктов и водки на золото — стянул бы его в свои карманы с этой площади без всяких затрат. У нас же не допускаются самые честные комбинации. А надо как-то выходить из трудного положения! Мне ведь не для себя, и я ниоткуда не выжму лишнего рубля сверх сметы».
Андрей еще рассеянно взглянул в трубку нивелира и рассмеялся: перед его прищуренным глазом ярко предстало непреклонное лицо бухгалтера.
11
Только через три дня они откачали воду из ям. Пробы оказались хорошие. Еще лучше были взяты из ям, пробитых Мирским. Дав задание по участку, Андрей выехал обратно на Звездный один: Мышкин, Моряк и Мирский остались на амбарчике. Теперь, опоздав вернуться по своим расчетам, Андрей ехал, сгорая от нетерпения. Вместо рудной жилки, оставшейся на попечении Чулкова, ему представлялось мощное рудное тело с широкими ответвлениями, куски породы с блеском крючковатого в изломе золота. Он подхлестывал лошадь, досадовал на каменистые осыпи в горах, вязкость заболоченных мест, на бурные речки, то и дело пересекавшие путь.
Сам дивясь своей страстной устремленности к цели, Андрей мысленно сравнил себя с птицей, летящей на насиженное гнездо, и вспомнил Мирского, который утром убил на болотце утенка кряквы. Крупный, но еще весь в пушке, утенок перевернулся на воде вверх брюшком и, умирая, помахивал лапкой.
— Это он корил тебя: «Что ты, мол, на меня, такого обзарился?» — говорил Моряк, добыв утенка из болота и с сожалением рассматривая его. — Он ведь еще совсем дитенок.
— Я его за чирка принял, — оправдывался смущенный Мирский, — далеко бил, да еще по движущейся цели.
И Андрей видел, что хотя Мите тоже жалко утенка, но он доволен метким выстрелом.
«Сколько народу — и все разные, — думал Андрей, переправляясь через очередной брод. — Тот же грубиян и задира Моряк вдруг превращается в большого ребенка; как завтра проживет — не думает, все может пропить, а то в долг отдаст, и не спросит, и сам тоже никогда не возвращает, если займет».
Чтобы скоротать дорогу, а потом и с интересом, Андрей стал припоминать характеры и повадки людей, с которыми ему приходилось искать золото. Человек, случайный в тайге, резко выделялся среди них и очень быстро отсеивался. Андрей усмехнулся, вспоминая: «Летят на золото всякие… как бабочки на огонь».
Выбравшись из проток, островов и заболоченных берегов крупной реки, которую надо было переезжать по малознакомым бродам, Андрей погнал лошадь рысью. Потом он взглянул на ее взмыленную шею и поехал тише. Причуды тропинки злили его. Когда на подъеме в гору у седла лопнула подпруга, он пришел просто в отчаяние.
В высокой траве после прошедших проливных дождей выросли целыми мостами ядреные белянки, раздобревшие по целому блюдцу, с пушистыми, толсто и кругло завернутыми краями.
«Бабья радость! — называл их Моряк. — Собирать весело, а глазам горько».
Давя сапогами эту «бабью радость», путаясь в травах, Андрей обошел вокруг лошади и наскоро стал чинить упряжь.
На горе и под горой в поднимавшихся туманах было тихо, только веселый бурундучок пробежал по сваленному дереву до вывороченных его корней, торчавших черными рогами из влажной зелени, и, взмостившись повыше, посвистал Андрею, встав на задние лапки.
Голодный, усталый, но веселый Андрей засветло подъехал к бараку Чулкова и, крупно шагая, ввалился к разведчикам. Народ был еще на работе.
«Так и должно быть», — одобрительно подумал Андрей и, захватив кусок хлеба из артельного ящика (Прасковья тоже куда-то запропастилась), поспешил на Долгую.
При виде мрачного лица Чулкова, выглянувшего словно из-под земли, у Андрея похолодело в груди. Спрыгнув в канаву, он через минуту уже стоял перед приятелем. Тот ничего не сказал, моргнул, крякнул и потянул из кармана кисет с махорочкой.
— Неужели?.. — упавшим голосом спросил Андрей.
— Выклинилась, подлюга!
— А я Анне по телефону говорил…
— Что же будешь делать, Андрей Никитич! Мы тем шурфом не ограничились — пробили рядом еще. Канавками нащупывали. Как сгинула!
12
— Говорят, вы нашли в тайге амбарчик с золотом? — весело спросила Андрея Валентина, встретив его на крыльце конторы. — Правда, амбарчик?
— Правда.
— Большой?
— Километров на пять.
— Значит, целый прииск. Значит, будет золотая лихорадка?
— К сожалению, нет. Это единственная болезнь, от которой мы не отказались бы. Но к осени подготовим там хороший участок для зимних старательских работ.
— В общем, интересно съездили?
— Да, пожалуй… — Андрей искоса взглянул на Валентину, ожидая вопроса о нашумевшей зря рудной жиле.
Но Валентина промолчала: чувствовала, что вопрос о Долгой горе будет неприятен сейчас Андрею, и он, еще не остыв после разговора с Ветлугиным и Анной, был очень тронут ее чуткостью.
* * *
— А для нас это очень больной вопрос, — говорила Анна главному инженеру, выходя из своего кабинета.
Взгляд ее упал на улыбающееся лицо Валентины, проходившей мимо и в глубокой задумчивости не заметившей ни ее, ни Виктора.
«Чему она радуется? — подумала Анна, провожая взглядом такую знакомую теперь, легкую фигуру. — Вчера я ее встретила — она была какая-то замученная, а сейчас цветет».
— Один этот амбарчик нас не устроит, — продолжала она, почти сурово посмотрев на Ветлугина и этим остановив его попытку окликнуть Валентину Саенко. — Сколько таких амбарчиков мы уже упустили за два года!
— Я думаю, последняя неудача охладит Андрея Никитича, — сказал Ветлугин, надевая плащ.
Подать пальто Анне он просто забыл. А она, обычно отклонявшая такие услуги, на этот раз была неприятно задета его невниманием.
Нечаянно подсмотренная улыбка на лице Валентины показалась ей торжествующей.
«Как будто помирились, а все-таки нехорошее лезет в голову», — с досадой подумала Анна и, овладевая собой, снова обратилась к Ветлугину:
— Сначала на шахту, а после пробы транспортера пройдем по учебным забоям. Надо проследить, какие условия создают в работе якутам и эвенкам, чтобы они обратно в тайгу не потянулись.
13
Через день Андрей хмурый и озабоченный вошел в просторный кабинет парткома. Было совсем раннее утро. В открытые окна тянуло свежей прохладой: и трава, и цветы, и кустарники под окнами еще не просохли от ночной росы.
Андрей сел на подоконник, оперся на него ладонями и, глянув через плечо, подумал: «Всюду за собой цветы тащит!» Он предчувствовал, зачем Уваров вызвал его, и заранее сердился, но сердиться на Уварова было трудно.
«Так и есть, — отметил про себя Андрей, обводя взглядом светлую комнату, с большим, под красным сукном, простым столом и такими же простыми стульями. На этажерке, на шкафчике, на подставках у окон стояли горшки с крошечными еще растениями. — Ему бы агрономом быть!»
— Здорово! — по-хозяйски широко распахнув дверь, сказал Уваров. — Я прямо из купальни, даже не завтракал. Вот проспал!
Воротник его русской рубашки был застегнут наглухо, мокрые волосы гладко причесаны. Плавал он хорошо и, считая холодную воду средством от всех болезней, ходил купаться даже тогда, когда застывали забереги.
— Давно ждешь? — спросил он Андрея, проходя по комнате, и сел, втискивая мощное тело в хрупкое плетеное креслице.
Андрей невольно улыбнулся.
— Чему ты? — спросил Уваров.
— Раздавишь ты когда-нибудь это сооружение.
— Ни! Я хоть и толстый, а ловкий, — похвастался Уваров. — По проволоке пройти могу. Кресло это как раз по мне: я мягких не люблю, вообще сидеть не люблю. И черт его знает, отчего толстею? — При последних словах Уваров оглянул фигуру Андрея и вздохнул. — Танцами еще заняться, что ли? — сказал он уже с оттенком издевки над собой. — Видал, что наша молодежь на площадке в саду выделывает? Страх и ужас! Я им говорю: не себя, так подметки пожалейте. Какое там! Смеются, дикобразы. Посмотришь на них, посмотришь, и самому весело станет. — Глаза Уварова действительно заблестели, но по лицу прошла тень печали и весь он стал такой человечески притягательный, со своим любовно и грустно лучившимся взглядом.
Андрей смотрел на него удивленный: до сих пор он знал секретаря парткома как серьезного и даже угрюмого товарища.
— Говорят, неважно идут дела у тебя? — спросил Уваров и все еще улыбчиво взглянул на Андрея.
Уваров не меньше Анны болел тем, что окружало его. Он судил о работе предприятия, за которое считал себя ответственным, не по рапортичкам, а как инженер-контролер, отлично разбираясь в балансе производства, был в курсе всех дел и прекрасно знал людей рабочего коллектива. Если труд за годы первых двух пятилеток стал источником почета, зажиточности, творчества, то в этом была заслуга таких партийных работников, как Уваров. Зато и несли ему дань уважения — в партком шли, добровольно назначая его судьей и советчиком в самом заветном, задушевном, а иногда и постыдном.
Андрея сегодня он вызвал сам. Вопрос о разведках был сейчас наиболее острым и волнующим из того, что тревожило Уварова. Требовалось прекратить неудачную, затянувшуюся рудную разведку на Долгой горе, и Уваров, зная, как тяжело это будет для Андрея, непоколебимо верившего в успех своей разведки, чувствовал себя точно хирург, которому нужно для спасения жизни отрезать ногу близкому человеку.
14
— Что там, на Рудной? — помедлив, спросил он, настороженно отмечая сразу помрачневшее лицо Андрея и резкое движение, каким тот поднялся с подоконника.
— На Долгой жила новый фортель выкинула. Нащупали ее с поверхности канавой. Сняли наносный слой. Стали разведывать на глубину детальнее, а ничего нет — выклинилась.
— Нам не хватает денег, — с чувством неловкости заговорил геолог после продолжительного молчания. — Понимаешь, не хватает денег. Сейчас самый сезон для развертывания работ, а мне предлагают… — Андрей опять замолчал, задохнувшись от волнения. — Разве я там дурака валял два года! Я не могу… не имею никакого права согласиться на прекращение работ… разведочных, на которые уже вбито столько средств, где сделано так много. Да, я считаю, что сделано много. Последняя неудача лишь подтверждает богатство основной жилы, ускользающей от нас. Мне говорят: выгоднее затратить дополнительные ассигнования на разведку россыпей, что это дело вернее и сама разработка доступнее. Но разве можно сравнить десятки мелких старательских участков с тем, что даст Долгая гора?
— Даст ли?
— Даст. Пусть меня повесят, как недавно грозился Ветлугин, если я ошибаюсь. Мы столько уже затратили… Неужели нельзя выделить еще восемьдесят — сто тысяч?
Уваров задумчиво покачал головой:
— Надо уметь вовремя остановиться. Знаешь, как в азартной игре. Разведка — ведь тоже своего рода азарт. Мы не можем принимать ставку на твою жизнь: она еще пригодится стране.
— Ты рассуждаешь, точно одряхлевший старец, — не выдержав, вспылил Андрей. — Вовремя остановиться! Можно ли остановиться, когда перед тобой цель, вершина подъема? Еще одно усилие — и ты будешь там. И вдруг отступать, и отступать так позорно!
— Я точно старец… одряхлевший, а ты вроде Васьки Буслаева, — с ласковой укоризной сказал Уваров. — Знаешь былину… Пристал Васька к острову, а там на горе камень с надписью: «Хочешь перепрыгнуть — скачи только поперек». Где же Ваське покориться! Захотелось молодцу прыгнуть вдоль камени, ну и расшибся. Мы все по-дружески, по-товарищески говорим: не горячись. Будет время, получим средства — тогда и разведаешь. И что вам дались канавы?.. Ну, хорошо, тебе тут виднее — ты геолог, вас этому обучали, а я горный инженер. Но меня избрали в партком и обязали в тесном контакте с людьми следить за всем, что творится в районе. Я знаю — ты работаешь от души и прав, безусловно, в своем стремлении закончить дело. А разве не правы Лаврентьева и Ветлугин? Они хотят скорее получить объекты, доступные для разработки. И ты должен их дать.
— Неужели вы думаете, что я не сознаю этого? — горько промолвил Андрей. — Смешное дело! Мы лучших рабочих, самых сильных и опытных, перевели на разведку россыпей. На Долгой горе остались охотники из старателей, которые верят мне и работают условно, на свой риск. Настоящих разведчиков — раз-два и обчелся. Мне не на что их содержать! Технический надзор — я сам да Чулков, проводящий там сверхурочно все свободное время. Нищая колония! Не так-то уж дорого обходится она сейчас!
— А инструмент? А заброска продовольствия? А спецодежда? — напомнил Уваров.
— Вы хотели бы оставить нас даже без хлеба? — возмутился Андрей, нервным движением выкладывая на стол спички и портсигар. — Хорошо, мы будем носить продукты на себе, в котомках, по-старательски.
— Ну, уж это анархизм, — сказал Уваров, сожалея и досадуя. — Ты не мальчик, Андрей. Старательская разведка рудника — неплохая идея, но когда она делается как бунт против общего мнения, то получается непартийно. Тех же старателей можно с большей пользой поставить на россыпи.
— Значит, вы просто не верите, что на Долгой есть золото? — спросил Андрей.
— Может быть, оно там и есть, — уклонился было Уваров, — но сразу устыдился своей уклончивости и, краснея густо всем лицом и шеей, сказал: — Не верю, Андрей. Ждал. Верил! А теперь изверился. Ты хочешь довести дело до конца и по-своему прав. Но у нас нет сейчас ни средств, ни времени. Значит, надо подчиниться.
Андрей побледнел, порывисто встал и, не попадая портсигаром в карман брюк, заговорил быстро:
— Постановления о прекращении работ еще нет. Главк пока ничего не решил. Я буду писать в трест, начальнику главка, наркому.
— Пиши, пиши! — огорченно сказал Уваров, взволнованный его отчаянным упорством.
15
Солнце высушило росу под окнами. Ярко цвел у дорожки стелющийся портулак, бедный игольчатой смуглой зеленью; синели анютины глазки, розовел душистый горошек. Осы гудели над цветами, но Андрей ничего не замечал, выйдя из парткома. Все в нем кипело, и он опомнился только в кабинете Анны.
Она разговаривала по телефону, а у стола сидели работники с фабрики и приисков. Андрей нахмурился, но уйти, не переговорив, не мог и присел в стороне.
— У вас мало старателей? — спрашивала Анна заведующего прииском. — Почему же вы без всякой надобности отбираете у них подготовленные участки? Вы сами разваливаете свои кадры. Заключите со старателями договоры. На тех, кто отлынивает от работ, не распространять льгот правительства. Тех, кто работает, беречь, как кадровиков. Проявите больше гибкости и заботы — и люди будут. Приеду сама, проверю. Что еще? Не хватает оборудования? — Анна снова брала трубку, звонила в техснаб и распоряжалась об отправке дополнительного оборудования: — Чтобы не находилось потом отговорок.
За какие-нибудь полчаса она отпустила весь народ, каждому дав самые определенные объяснения и указания, но Андрею время, проведенное у нее, показалось томительно долгим.
— Я был в парткоме, — сразу приступил он к своему наболевшему, когда они остались одни.
— Да? — промолвила Анна внешне спокойно, но смуглая ее рука, игравшая карандашом, остановилась, не закончив движения.
— Уваров, конечно, заодно с вами.
— Почему «конечно»? И что значит «заодно»? — сказала Анна с вынужденной холодностью, стараясь не поддаваться сочувствию к тому, чему она не могла сочувствовать. — А ты разве за другое?
— Брось! — сказал Андрей с раздражением. — Ты отлично знаешь, что дело тут не в политике…
— А в чем же? Разве мы не создаем в каком-то масштабе политику нашей работой?
— Брось, прошу тебя, — повторил Андрей. — Мне сейчас не до тонкостей в выражениях. У меня все рушится сейчас!
— Нам приходится беречь средства, — холодно сказала Анна. — Пока из треста спустят сметы будущего года, мы должны уложиться в существующие. А нам необходимы новые золотоносные площади, и их надо искать, использовав любые возможности. Нынче мы кое-как протянем, но в будущем придется свертываться, если вы, геологи разведочного отдела, не найдете ничего подходящего. Вопрос стоит очень остро.
— Вы сами не даете мне возможности разрешить этот вопрос! — почти крикнул Андрей.
— Мы не можем затратить остатки средств на разведку одной Долгой горы, — тихо, но твердо сказала Анна.
Геолог опустил голову. Почему ему верят рабочие разведки? Почему такой опытный таежник как Чулков, чуявший золото по одному виду местности, готов черту душу заложить за будущее золото Долгой горы? Неужели только уверенность его, Андрея, могла заразить их этой разведкой?
«Кровь из носу, а мы свое возьмем!» — заявил Чулков при последней встрече.
«Возьмешь, пожалуй, — подумал Андрей, с кривой усмешкой вспоминая убежденность старого разведчика. — Да отчего же она так со мной поступает?» — И он пытливо, почти враждебно взглянул на жену.
— Я понимаю, как тебе тяжело, — грустно сказала она. — Поверь, я переживаю твою неудачу, как собственную.
— А я не считаю разведку Долгой горы неудачей, — возразил Андрей, огромным усилием подавив волнение, вызванное этими оскорбительными для него словами.
Словно болезненное видение, вспомнился ему сон о безобразной ссоре с женой. В конце-то концов, разве она не имела права высказывать свое мнение? Он должен был доказать на деле.
— Если бы мы имели сейчас возможность развернуться по-настоящему! — продолжал он, снова обращаясь к ней. — Ну, неужели ты не найдешь… не сможешь выделить каких-нибудь девяносто тысяч? Я хочу писать наркому, но, пока это дойдет, пока разберутся, может быть, создадут комиссию, самое дорогое время будет упущено. Ведь лето проходит, Анна!
— Да, лето проходит. — Взгляд ее снова стал отчужденным, и она отвела его в сторону. — Я не могу просто выделить «какие-нибудь» девяносто тысяч. Мне нужно оторвать их от нужд первой необходимости. Сделать это нельзя. — Она умолкла: ей трудно было так жестоко говорить с самым дорогим, самым близким человеком. — Знаешь что, — заговорила она с внезапным оживлением, — у нас с тобой на сберкнижке отложено тридцать пять тысяч… И даже больше: ведь мы должны получить компенсацию за отпуска, не использованные в течение двух лет. В общем, наберется около сорока пяти — восьми тысяч, почти около пятидесяти. Ты можешь затратить их на доразведку своей Долгой горы.
— Значит, ты тоже не веришь мне?! — скорбно сказал Андрей. Он хотел отказаться, но то же чувство, которое владело им в споре с Уваровым, которое привело сюда и заставило возобновить безнадежный, унизительный разговор, чувство матери, готовой любой ценой спасти свое детище, остановило его. — Хорошо, — сказал он с нервной дрожью в голосе, — я возьму эти деньги… Но… если бы вы знали, что вы делаете со мной!
16
Далеко по подземному штреку уходит ряд электрических ламп; под их желтоватым светом движется к Анне, стоящей на лестнице бункера, лента транспортера, покрытая неровными кучами породы. Песок и галька, связанная глиной, и мелкие валуны, доходя до бункера, с шумом валятся вниз.
Директор приискового управления стоит смотрит и в задумчивости не может оторвать взгляда от движущейся с легким шорохом ленты; когда она загружена не полностью, то, как виноватая, торопливо проскальзывает по роликам, уходя обратно. В верховьях долины ключа Светлого идет на-гора руда, а здесь, на раздольном устье и по речке шумят россыпи — богатая «Палестина», как говорят старатели.
Анна медленно сходит с лестницы на ярко освещенную площадку, где работают моторы транспортера и водоотлива, и заговаривает с женщинами-мотористками.
— Простоев нет, — говорит одна из них. — С боем дорвалась до мотора, теперь надо поддержать марку, У нас тут чистота и порядок соблюдаются строже, чем дома. Муж мой смеется: поменяла, мол, меня на шахтный двор.
Бадья спустилась с копра по колодцу подъемника. Бадейщица открыла люк бункера. С грохотом сыплется порода. Звонок. Полная бадья уходит наверх.
— Откатчики перестали наседать с тачками? — шутливо спрашивает Анна бадейщицу.
Под брезентовой шляпой девичье лицо, круглое, с ярким румянцем, черные ресницы выпирают жесткими щеточками из раскосого разреза глаз. Почти влюбленный взгляд обращается на директора.
— Нет, теперь тихо. Раньше катали сюда и за триста метров. Теперь на ленту всем близко.
— А в шахте уже не боишься?
— Привыкла, — говорит девушка, сверкнув зубами, белыми, словно кварцевая галечка, и уверенным движением кладет руку в кожаной рукавице на затвор бункера. Звонок. Бадья снова идет наверх.
По лестницам, отгороженным в стволе подъемника, раздаются шаги. Несколько человек, стуча сапогами и громко переговариваясь, спускаются с копра на шахтный двор; шахты по сравнению с рудником неглубокие: метров до двадцати с небольшим. Анна оживленно поднимает голову и прислушивается.
Это шахтеры, приехавшие с Алдана для обмена опытом, с ними Уваров и председатели поселкового Совета и профсоюза. Из штрека торопливо выходят смотрители смен: они вместе с Анной приветствуют приезжих в своем подземном хозяйстве.
Короткая встреча алданцев с шахтерами Светлого происходит в красном уголке молодежной шахты во время перерыва. Анна стоит у стола и смотрит то на притихшую молодежь, то на алданца-новатора. Выступать перед народом он еще не привык. Он привлекает внимание цифрами, фактами, а не умением говорить, но его нескладная речь зажигает слушателей задором: перед ними такой же шахтер, но с орденом Ленина на груди. Он член правительства страны, о нем пишут в газетах. В чем его особенность?
Анна смотрит на руки алданца, грубые, покрытые коркой мозолей, сразу видно, что они вынули из забоев тысячи и тысячи кубометров породы. Не будь революции, эти руки тоже подавали бы кубометры, но человек стоял бы на самой низшей ступени общества.
— …открыта радость творческого труда, — продолжает Уваров вслух мысли Анны. — Все дело в новом отношении к труду, в том, что он для себя, для своей страны, которая умеет его ценить.
* * *
Проводив почетного гостя в подготовленные для него забои — он начал работать сразу в трех смежных одним забойщиком, — Уваров и Анна остановились в стороне, наблюдая.
— У него все рассчитано, — говорил Уваров. — Смотри, какая точность движений! Вот это мастерство! И в первую очередь разделение труда в звене. Есть чему поучиться нашим.
— У нас на руднике скоро своя знаменитость появится.
— Кто? Никанор Чернов? Да, той же породы, волевой. Видишь, как этот завинчен, — тугая пружина. Зарабатывает две тысячи в месяц, но к деньгам равнодушен — не копит.
— Я свои накопления отдала нынче Андрею, — сказала Анна спокойно. — Все, сколько было.
Уваров посмотрел вопросительно.
— На доразведку Долгой горы, — пояснила Анна, заволновавшись вдруг. — Пусть он добьется… убедится сам, чтобы потом не упрекал нас.
— И он взял?
— Обиделся, но взял. Оттого обиделся, что я не верю больше в разведку Долгой горы. Вот я смотрела сегодня на рабочих, и у меня даже сердце болело: так я связана с ними! Не только от встречи с алданцами им было весело… Хорошее настроение у наших людей бывает, когда открываются новые, большие работы! Это потому, что в труде, который по душе, — вся наша жизнь. Подумай, Илья, вот эта механизированная шахта… чистая, красавица такая!.. Ты помнишь, как мы коллектив для нее сколачивали, боролись за чистоту быта? Чтобы не было пьянок, карт, хулиганства. Помнишь, как открывали первый Дом ударника? — Анна поглядела в даль просечки широко открытыми глазами и заговорила тише, будто в забытьи. — Ты только представь, что эта шахта уже отрабатывается… Зачищают полотно, девушки прометают метелками все трещины в каменном полу — сплошной скале, собирают мелкую породу, потом уносят доски выкатов. Рабочие уберут крепление, которое можно вынуть, освещение снимут… и останутся в шахте пустые темные просечки. А когда последние работы окончены и подняты моторы, вода начинает затоплять брошенные отработки. Страшно, правда? — встрепенулась Анна, будто отталкиваясь от нарисованной ею картины. — А рабочим каково! Ведь они любили ее, шахту! Ведь они сдружились в работе. Великая сила — слаженный коллектив! И чтобы сберечь, не распылить его, надо дать ему сразу новую работу, большую и интересную. И вдруг такой работы не окажется, а мы, а я… будем виноваты в том, что ее нет. Ты понимаешь?..
— Да. Если бы на Долгой горе нашлось рудное золото, мы могли бы перевести туда рабочих и с этой шахты, когда она отработается, — сказал Уваров. — Разные методы проходки, другие механизмы, а люди одни — советские. Но, видно, рудник на Долгой — мечта пустая.
17
Из показательного забоя Анна, уже одна, поспешила в штрек, который велся дополнительно для соединения с соседней шахтой. Из сухих и светлых просечек образцово поставленной шахты она сразу попала в мрак сырого погреба. Здесь земля, только что пробитая ходом, прямо истекала влагой. Вода тяжелыми каплями сеялась с потолка, струилась по бревнам подхватов и пучкам хвойных лап, затисканных крепильщиками между стойками. По настланным на полу доскам она катила ручьем во всю ширину штрека. Это был обычный вид новой выработки.
Вспомнились рассказы о том, как одолевала вода первоначальную углубку этой шахты, когда пробивали колодец-ствол. Три паровых водоотлива-центробега не справлялись с ее притоком. Бригада горнорабочих, поставленная на углубку, допустила обвал, перекосивший ствол, сузила крепление, и работа была приостановлена во второй раз, а шахта отнесена к разряду неподдающихся.
Ветлугин и Анна ахнули, узнав, что расход на углубку последних полутора метров в течение четырех месяцев обошелся в шестьдесят тысяч рублей.
— Черт знает что такое! — сказала тогда Анна, отходя от широкого колодца, затопленного доверху.
Кругом виднелись следы недавней бурной деятельности: раскатившиеся навалы крепежника, затоптанные в талый снег и грязь кучи хвойных пучков, поломанные кусты, плешины земли, засыпанные углем и золой, — места, где стояли центробеги. Так выглядел участок и устье неподдающейся шахты.
— Как после побоища, — заметил Ветлугин. — Повоевали и отъехали ни с чем. Первый раз затопили на глубине девяти метров, потом откачали и углубили еще на полтора метра. Полтора метра за четыре месяца! — повторил он, снова изумляясь и безумной затрате, и той действительной трудности, которую предстояло одолеть.
— Сколько еще осталось?
— Около семи метров.
— Но мы не можем затратить на них год Бремени и триста тысяч деньгами.
— Само собою разумеется. Мы поставим тут два электрических мотора-водоотлива, а главное — надо найти специалистов по углубке.
— Найдем! — ответила Анна и в тот же день вызвала к себе смотрителей приисков.
Углубщики объявились среди старателей, но они работали на богатых делянах и не захотели пойти на трудную, мокрую и сравнительно невыгодную работу. Анна предложила им хорошую оплату, обещала премии, квартиры в Доме ударника и даже путевки на курорт. Старатели поколебались и сдались. Шахта была доуглублена в пятнадцать дней, и те же углубщики, отложив поездку на курорт, вызвались провести и провели передовой штрек от ствола и самые трудные из него просечки. Они переехали в новый Дом ударника и… стали кадровыми шахтерами.
Анна уверенно, будто у себя дома, шла по штреку, покачивая открытым фонариком, и все покачивалось вокруг нее в неверной тьме, оживленной говором льющейся воды, которую штрек стягивал отовсюду в свое готовое русло.
Впереди, за сеткой дождя, показался свет, рассеянный желтыми пятнами. Встретились откатчики с тачками, полными жидкой грязи, — так выглядела в передовых забоях золотоносная порода.
— Ну, как алданский ударник… работает? — со значительным выражением спросил Анну забойщик из бывшей старательской бригады. Мокрая брезентовая спецовка так и шумела на нем, шляпа-шахтерка обвисла блином.
— Работает.
— Небось не очень развернется: это на Алдане грунта мягкие, а у нас — как попадет. Ежели нарвется на обломки скалы с примазкой глины — пропал. Дай бог общую норму выполнить.
— Завтра именно в таком грунте будет работать. Забоем широкого сечения.
— Посмотрим. У нас-то, в передовой, все это не годится: вода сама кайлит, только успевай придерживать.
— Годится и для вас, — сказала Анна, присматриваясь к работе звена. — Вам разделению труда надо поучиться. Вот вы все опытные собрались и держитесь в кучке, на откатке породы мастеров-забойщиков используете. Это растрата дорогих сил. Бросить надо работать по старинке, а опыт молодежи передать.
— Кому же у кого учиться?
— Я думаю, взаимно, не обидно будет.
18
— Шалит Долгая! Уж как мы рассчитывали в прошлый раз напасть на настоящий след, ан опять пусто, да нет ничего, — сказал Чулков и вздохнул, добывая из кисета щепотку табаку. — Без хлеба еще можно жить, а без махорочки тяжко. Одно удовольствие в тайге, — говорил он, свертывая цигарку и приминая ее грубыми пальцами. — В жилых местах театры для просвещения души, музыка, музеи разные, а мы все в копоти да в земле. И удивительное дело: никуда ведь не тянет! Вот только бы золото нам найти. Оправдать себя перед добрыми людьми! Но я уверен, Андрей Никитич, оправдаемся!
— Еще бы! — сказал Андрей с горькой усмешкой. — Пятьдесят тысяч получили.
— Поддержка немалая! — спокойно возразил Чулков. — Завтра же командируем одного молодца, растолкуем ему, что требуется, и соберет он нам еще одну бригаду старателей. До морозов раздуем кадило — только держись.
Оба сидели на каменистом отвале между канавами. Солнце скрылось, потухли краски заката, и казалось, будто из этих длинных канав, зиявших черными могилами на голом крутосклоне, поднимались серые пары сумерек. Небо с грязными мазками облаков тоже было серым. Назойливо ныли комары. Изредка снизу, из провала долины, доносился стук топора: рабочие разведки уже спустились к баракам.
Странным и чужим показалось вдруг Андрею то, что окружало его. Зачем он здесь? Что привязало его к этой лысой горе? Глушь, неустроенное жилье, пустые канавы, скалы развороченные, а надо всем давяще нависло хмурое небо. Щемящее чувство поднялось в душе Андрея.
— И тоскливо же тут! — сказал он, озираясь по сторонам. — Даже небо поганое!
— Вот тебе на! — Чулков укоризненно качнул головой. — Небо как полагается: дело к ночи. А поддаваться унынию нет резона. Работа у нас завлекательная, люди найдутся, главное — денег дали. Спасибо Анне Сергеевне, еще раз поверила, выручила! Вот если мы их, денежки-то, зря всадим, тогда конфузно будет. Но быть того не должно. Жила хитрая, из-под самого носа ускользает, а все равно мы ее приберем к рукам. Однако пора до дому, — добавил Чулков, вставая с камня. — Айдате. Ужинать ждут.
— Идите, а я следом, — сказал Андрей, но долго не двигался с места, глядя, как укорачивалась, исчезая за склоном горы, крупная фигура разведчика, спускавшегося в долину. В тишине далеко был слышен шорох каменной щебенки под его ногами.
«Денег дала. Еще раз поверила! — прошептал Андрей. — Ничему она не поверила, потому и откупилась. Сказал ведь Уваров: „Верил я, ждал, а теперь изверился“. Так и она, самый близкий мне человек. Значит, в самом деле я ничего не стою! А туда же, в доктора наук полез! Может, действительно в этой горе нет ничего, а я преступно вколачиваю в нее народные денежки?»
Андрей стиснул руками голову, стараясь отогнать черные мысли, но только пуще расстроился, стукнул кулаком по глыбе, на которой сидел. «Эх, Анна! Выкинула подачку, точно псу дворовому, лишь бы не тявкал».
Стояла пасмурная летняя ночь. В лесистых верховьях ключа заблудился крохотный огонек. Разведчики ложатся спать. Ни звяка, ни стука, одни лесные шорохи в тайге. Где-то далеко, за горами, спит Маринка. Но даже воспоминание о дочери не согрело Андрея: у нее тоже свое…
Ночь плыла над тайгой в туманах, широко раскинув белесые крылья. Звезды попрятались. Спускаясь с нагорья, Андрей споткнулся, рванув ногой корень, перехлестнувший звериную тропу. Лопнуло что-то, всхлипнув тоненьким голоском. Смутно вспомнилось вдруг западное поверье об альрауновом корне, который стонет, как человек, когда его вырывают из земли. Альрауновый корень помогает находить золотые клады! Есть ли такой на Долгой горе? Долго идти по этой горе, долго ищут и не могут найти скрытое ею золото. Если не прав Андрей, не поможет и альраун.
19
— Быть по сему, — сказал Ветлугин и встал, покусывая яркие губы. — Значит, можно поздравить вас с утверждением проекта. Хотя не скажу, чтобы это было веселое событие в моей жизни.
Анна промолчала. Она понимала, что любое проявление радости с ее стороны будет сейчас оскорбительно для Ветлугина, но кривить душой не умела, и радость невольно пробивалась в ее лице, в движениях, в голосе. С этим выражением сдержанного ликования она обернулась к Уварову.
— Значит, завтра приступаем к подготовительным работам на руднике.
— Выходит так, товарищ директор! Только еще раз прошу: не увлекайтесь, не забывайте ни на минуту о том, что вы посылаете людей на глубину почти двухсот метров.
— Да, конечно, мы не будем действовать опрометчиво! — Но черные быстрые глаза Анны заблестели еще ярче на разрумянившемся от волнения лице. И такое искреннее, порывистое воодушевление было в ней, что оно сообщилось не только Уварову, но и Ветлугину, в котором зависть и досада боролись с чувством дружеской симпатии к Анне. То обстоятельство, что она не только опротестовала его проект, но представила свой, который был принят и утвержден, равно увеличивало в душе Ветлугина эти чувства.
— Мы будем очень осторожны, — подтвердила Анна обещание, данное Уварову, и лицо ее стало строже. — У меня сейчас состояние летчика, получившего разрешение на дальний полет. И радостно и страшновато: ведь все впереди, — сказала она, когда Ветлугин вышел из кабинета. — И даже странно: боюсь торжествовать.
— И все-таки торжествуешь, — смеясь, сказал Уваров.
— Разве заметно? Я не хочу, чтобы Ветлугин принял это на свой счет, хотя прежде всего радуюсь провалу его проекта. Нельзя терять такого хорошего работника. Он все-таки очень любит дело и знает его. Это Валентина Ивановна нагнала на него хандру и бестолковщину.
— А как Андрей? — после неловкого молчания спросил Уваров.
— Андрей? — тревожно переспросила Анна, невольно увязывая его вопрос с упоминанием о Валентине и Ветлугине.
— Как обстоит дело с рудной разведкой?
— Ах, с разведкой? — Анна облегченно вздохнула, но тут нее нахмурилась, вспомнив разговор с мужем. — Ты знаешь, я отдала на производство дополнительных работ наши сбережения. Это даст Андрею возможность продержаться до осени без вмешательства треста, которое закончилось бы прекращением поисков на Долгой горе. Да, все сбережения, мои и его. Мы хотели купить дачу… где-нибудь под Москвой. Но ведь она еще нескоро нам понадобится, дача-то. Мы оба молоды и не собираемся уходить на пенсию, чтобы жить в покое. Я даже не представляю себе и не хочу такого покоя! Значит, можно пока обойтись без этих денег. Правда, Андрей принял их как-то нехорошо. Он очень тяжело переживает свою неудачу в работе, хотя упорно твердит, что он прав. Пусть попытается еще раз доказать свою правоту.
20
— Первые роды, и женщина не молоденькая, а в больницу вовремя не явилась. Ох уж эти мне кержаки упрямые! — Главный врач больницы, фыркая, как морж, усатый, седой, неуклюжий, вылез из-за стола и, не глядя на Валентину Саенко, подошел к старателю, который стоял посреди приемной, теребя в руках мятую кепку.
По этому сдержанному волнению сразу можно было признать в нем будущего отца.
— Почему ты раньше ее сюда не привез? — свирепо спросил его главный врач. — Все на своих матушек ссылаетесь, которые в банях да на полосе рожали?..
— Я готова, Климентий Яковлевич, — сказала Валентина, быстро, но без суетливости укладывавшая в дорожную сумку аптечку, бинты, вату, набор самых необходимых хирургических инструментов.
— А готова, так нечего мешкать! — обрушился Климентий Яковлевич уже на нее. — Поезжайте, нечего фасоны разводить, все равно там любоваться на вас некому будет. Нет, какова! Вместо того чтобы вовремя приехать в больницу — ведь это сказка, а не больница! — она заставляет врача тащиться верхом на лошади за тридевять земель! Какие там могут быть условия для роженицы?..
— Сердитый какой! — неловко усмехаясь, сказал старатель, поспевая за Валентиной, сбегавшей с больничной террасы.
Теперь таежник, настрадавшийся сам, так и вцепился в нее, точно боялся, что доктор вдруг ускользнет, оставив его в дикой растерянности и страхе.
— Наш главврач не сердитый! Он очень добрый, но стесняется быть добрым, вот и ворчит, — говорила на ходу Валентина.
Она надела дома темные брюки, сапожки прямо на тонкие чулки, накинула длинный жакет и с сумкой через плечо вышла из дому.
Старатель уже ехал со стороны конного двора на своей косматенькой лошаденке, ведя в поводу лошадь, знакомую Валентине по поездке на Звездный.
«Просто молодцы!» — подумала Валентина о старике Ковбе и Климентии Яковлевиче, которые успели позаботиться о том, чтобы дать ей смирную, знакомую лошадь.
Отклонив помощь своего проводника, она сама подвела лошадь к крыльцу и, сначала навалясь всем телом, быстро взобралась на нее.
— Сколько тут ехать? — спросила она его, с независимым видом разбирая поводья.
— Верст сорок с гаком будет, — сказал он и так тревожно, по-птичьи щурясь, глянул на солнце, что Валентина тоже заволновалась: роженица мучилась вторые сутки.
Лето еще стояло в полной красе и силе. Давно отцвели в распадках кремовые букеты вечнозеленых альпийских роз; отцвели на каменистых взгорьях нежные сиреневые флоксы и красно-розовые, редкостного аромата цветы, особенно яркие над влажными мхами ельников. Луга, заросшие высокими, по пояс травами, пестрели кашками, синими колокольчиками и белыми зонтиками дудника.
Но в зелени кустов и деревьев уже мелькали желтые листья, и в этом чувствовался перелом лета. Валентина любила все времена года, однако вот такое напоминание о недалекой осени в пору летнего цветения ощущала почти болезненно.
На луговой низине работали приисковые косари. Ряды вянущей на солнце травы перестилали дорожку, У шалашей дымились высокие костры. Потом снова пошел дремучий лес на горах и зеленый сумрак подлеска.
Все-таки хорошо в тайге, если бы не одолевали комары, и можно было бы снять шляпу и сетку.
Валентина и не подозревала, как быстро исполнится ее последнее желание. На крутом повороте узкой тропинки смирная ее лошадь точно взбесилась. Одновременно раздался странный звук, отрывистый, басовитый, а лошадь проводника взвилась на дыбы и поскакала с ним неведомо куда. Ветка снесла шляпу с Валентины, лишь случайно не выхлестнув ей глаза, кустарник и тонкие деревца начали бить ее по ногам: молодая женщина во весь опор скакала за проводником. Она только пригнулась в седле, не в силах сдержать свою лошадь, а когда та рванулась опять в сторону, потеряла стремя, сползая набок, почти бессознательно выпустила поводья и заслонила лицо руками.
Опомнилась она на земле. Еще колыхались над нею распрямившиеся кусты, еще бешеный стук лошадиных копыт не заглушился стуком ее сердца, а она уже ощутила, что, кажется, цела, и с трудом перевела занявшееся дыхание.
«Что сказал бы по этому поводу Климентий Яковлевич?» — подумала она в следующую минуту и потрогала свою походную сумку. Сумка была на ней в полной сохранности.
Валентина посидела еще, прислушиваясь. Все тихо. Кто же напугал лошадей? Если медведь, так почему он не погнался за ними? Она припомнила слышанный звук: как будто хрюкнула огромная свинья. Может быть, здесь водятся кабаны?
Валентина поднялась и осмотрелась. Кругом высокий лес и кустарник. Она свалилась на спуске с горы; груды скал, затянутые темным мхом, уступами поднимались кое-где среди частых деревьев. Через полчаса ходьбы она выбралась на тропу, очевидно, ниже и дальше того места, откуда рванулись лошади, и тут осмотрела себя: ссажено под брюками колено, разорван рукав жакетки, болит плечо, но какие это пустяки в сравнении с тем, что она осталась жива.
Валентина поглядела в ту сторону, где должен бы находиться Светлый: километров пятнадцать они уже отъехали. Если она пойдет по дорожке, то проводник, выбравшись, в свою очередь, из леса, быстро догонит ее. А если не догонит? Хватит ли у нее сил пройти оставшиеся двадцать с лишним километров? Валентина вспомнила, как приходилось иногда в Москве, когда еще не было метро, возвращаться пешком с футбольных матчей. От стадиона «Динамо» до Елоховской площади.
— Тут, конечно, подальше, но ведь не ради развлечения… — Незадачливая всадница тряхнула головой, отгоняя комаров, налетевших роем, и решительно зашагала вниз по дорожке.
21
Солнце уже клонилось к горам, а проводника не видно и не слышно.
Наверное, он тоже слетел с лошади и расшибся. Только бы добраться засветло! Теперь осталось, по всем расчетам, не больше десяти километров пути, но левый сапог натирает ногу, да и правый стал неудобен.
«Зря я поторопилась и не надела портянок», — с сожалением подумала Валентина. Она присела у дорожки, разулась. Ноги оказались стертыми почти до крови.
«Пройду немножко в чулках, идти босой без привычки тоже больно».
Так она прошла километра три, радуясь тому, что тропинка приметная и нет развилин и перекрестков, пока быстрая речка не пересекла ей путь в узкой долине.
«Начинается бег с препятствиями», — невесело пошутила Валентина и остановилась в нерешительности: переходить ли и где?
Речка неслась как бешеная, выпуклая полоса ряби посредине русла напоминала конскую гриву. Валентина выбрала место пошире (тут было, конечно, глубже, но спокойнее), надела сапоги, привязала повыше свою санитарную сумку и с палкой в руке храбро полезла в воду. Ее ударило под колени ледяной струей. Когда она оступилась среди острых камней, торчавших на дне, суковатая палка была вырвана у нее из рук. Со страшным напряжением совершен следующий шаг, потом еще один… Выбравшись на другой берег, Валентина почувствовала, что у нее дрожит каждая жилка.
— А-а, черт! — сказала она зло, но торжествуя.
Пройдя немного, она свалилась на пригорке и снова принялась стаскивать промокшие насквозь сапоги. Сбитые ноги горели как в огне.
Впереди чернели в низине густые заросли.
«Неужели опять речка!» — подумала Валентина.
Там оказался только широкий ручей. Валентина перешла его по камням, но, отыскав свою дорожку в сумраке густо нависших ветвей, увидела рядом, на сыром песке, почти треугольный отпечаток медвежьей лапы. Глубокий свежий след громадной голой подошвы с узкой пяткой и вдавленной пятерней мощных когтей быстро наполнялся водою…
Впереди предстоял крутой подъем, но напуганная женщина взлетела на него, как на крыльях. Сердце ее отчаянно билось. «Ничего, — сказала она себе, отдышавшись. — Медведь ушел вниз по берегу, а я, наверное, уже близко к поселку».
Но горы и лес уже окутывались сумерками. Она не заметила, когда исчезло солнце, — в последний миг оно, такое огромное, стояло над ближним хребтом.
И вдруг тропа раздвоилась. Это было хуже всего: до сих пор Валентина шла, уверенная в том, что подвигается к цели. Она постояла в раздумье и свернула на ту дорожку, которая казалась приметнее, а недалеко от поворота привязала на ветку свой носовой платок.
В сумерках она стала чаще оступаться, ушибать и накалывать ноги и снова обулась и шла, чуть не вскрикивая при каждом неловком шаге.
Уже совсем стемнело, а вокруг — никаких признаков жилья. Тропинка петляла бесконечно, потом уперлась в сплошную стену деревьев.
Валентина почти ощупью отыскала свой путь и снова начала спускаться куда-то в низину.
«Может быть, я не туда иду? — подумала она с тоской. — Вот черт косматый — напугал наших коней!»
Она выругалась вслух, но страх ее еще усилился при звуках собственного голоса, так слабо прозвеневшего здесь.
И в это время она увидела желанный свет огня, дрожавший на воде. Перед нею блестело небольшое озеро, а на берегу, на опушке черного, точно высмоленного ельника горел костер. У костра сидели люди — трое чумазых, оборванных, шершавых, не то лесорубы, не то старатели. Они с изумлением уставились на молодую красивую женщину, вышедшую из темноты леса в полумужском костюме, с целой копной растрепанных светлых волос.
— Скажите, я правильно иду на Утинку? — спросила Валентина, подходя к огню и пытливым взглядом окидывая таежников.
Она совсем приуныла, узнав, что пошла не той тропой и что до Утинки — если обратно, то верст тринадцать, а прямиком через горы около восьми, но тут еще и речка большая…
— Тогда лучше обратно, — решила Валентина. — Версты я как-нибудь пройду, а через речку и горы у меня не хватит сил. Кто из вас проводит меня?
— Ты зачем забралась-то сюда? — весело спросил один, крепко сколоченный, толстогубый.
— Я врач. Меня к больной вызвали.
— Вызвали и в тайге бросили. Ай-яй! — сказал толстогубый.
— Никто меня не бросал… Это медведь так напугал наших лошадей.
— Да вы хоть чаю попейте… У нас скоро уха поспеет, — заговорили в раз двое других.
— Нет, какой уж тут чай! — Валентина слабо махнула рукой. — Там женщина больная: трудно рожает. Уже два дня мучается. — И сама ужаснулась тому, сколько времени упущено зря. — Когда теперь доберусь!
— Ну, коли так, то Дементий проводит. Айда, Дементий, — решил самый старший на вид, хлопотавший у костра.
В кармане у Валентины лежал захваченный впопыхах кусок хлеба. Из-за пережитых волнений ей целый день не хотелось есть. Шагая за Дементием, она достала хлеб, стала откусывать его, подсоленный слезами. Было трудно, но уже не страшно: она шла не одна и знала, что выберется на Утинку.
— Не давайте мне отдыхать, а то я сяду и не встану, — попросила она своего молчаливого спутника, когда у нее подвернулся каблук сапога и чулок, прилипший к натертой ране, снова оторвался.
Она шагала за проводником, отставала, спотыкалась и тихонько плакала.
— Возьмите меня за опояску — легче будет, — посоветовал участливо Дементий. — И тогда я не так круто идти буду.
Валентина протянула руку, взялась за край его широкого кушака-опояски, сделанного из длинного куска плотной материи.
— Вот и ладно, я вас вроде на буксире поведу, — ласково и просто сказал Дементий. — А вы нас так и не признали? Мы разведчики со Звездного. Теперь на амбарчике работаем, а сюда с ночевой пришли порыбачить. Рыбы здесь!.. Кишмя кишит. Щуки во!..
«Какая темнота!» — думала Валентина, почти не слушая его.
Ее даже не удивило то, что она неожиданно в таком глухом месте встретила знакомых людей. Хорошо, что встретила!
Начал накрапывать дождь. Лес точно встряхнулся, зашумел. Чьи-то глаза — живые фонарики — засветились в кустах.
— Дождь пойдет проливной, — пообещал молодой таежник, прислушиваясь к скрипу деревьев. — Давайте поспевать, теперь уж близко, а то намочит.
— Все равно… Пусть пойдет. Пусть намочит, — сказала Валентина, только крепче уцепилась за его опояску да проверила свободной рукой, плотно ли закрыта сумка.
И дождь пошел… Он обрушился, как водопад, и сразу промочил до нитки Дементия и Валентину. Зато выбитая корытом лесная дорожка превратилась в ручей, и они, ослепленные ливнем, шли по ней, не сбиваясь, до вершины горы. Потом перед ними замелькали редкие огоньки: в распадке приютился маленький приисковый поселок. Хижины с плоскими крышами обозначились точно угловатые черные глыбы, подслеповато краснели глазки окон. Это была Утинка.
Под навесом топилась сбитая из глины и камня русская печь, поставленная по таежному обычаю в сторонке от жилья. Багрово мерцал за сплошной завесой утихавшего дождя огонь в открытом челе. Черная в розовых отсветах пламени фигура женщины возилась у печи с ухватом — ставила чугуны с водой.
«Не роженица ли? — У таежниц так бывает: родит и сама обмоется. А мужа-то ее так и нет!» — спохватилась Валентина, направляясь к женщине.
Но тут она услышала протяжный, задыхающийся, захлебывающийся вой, раздавшийся из ближнего барака.
22
Придерживая скользкую клеенчатую сумку, Валентина побежала. Она не знала, что у нее еще найдутся силы бежать.
— Воды горячей! Руки! — говорила она женщине, которая засуетилась около нее, бросив возню у печи под навесом.
«Как будто успела», — думала Валентина, на ходу стягивая жакет.
Она сбросила сапоги и чулки, отжала и повязала косынкой волосы.
Роженица лежала на нарах, на сенном тюфяке, запрокинув потное, заострившееся лицо, и глухо стонала.
— Успокойтесь, мамаша, все будет в порядке, — громко сказала Валентина, подавляя тревогу: два существа трепетали перед нею, может быть, в последнем дыхании. — Сердце вот… неважно! — «И даже хуже, чем неважно», — отметила она про себя, одним прикосновением определяя пульс. — Сейчас я вас подбодрю, — уже увереннее говорила она, радуясь уцелевшему шприцу и лекарствам и тому, что женщина жива и можно бороться за ее жизнь.
Остановившийся взгляд роженицы стал осмысленнее.
— Доктор! — сказала она, цепко хватаясь за руку Валентины. — Помираю я…
— Погоди, рано еще. Тут мальчишка или девчонка на белый свет просится.
— Мальчишка! Господи, разродиться бы! — И снова приступ тянущей, разрывающей боли исказил лицо женщины.
— Кричи! Ничего, кричи! Не стесняйся! — раздавался над нею голос, звучавший где-то на краю черной ямы, в которую словно проваливалось все ее измученное тело.
Этот зовущий голос тормошил, будил гаснувшее сознание; выталкивал роженицу из темных провалов, возвращал ей остроту боли, и страх, и желание избавиться от этой боли.
Время шло. Валентина не отходила ни на минуту, помогая и матери и ребенку. Забыв про усталость, она следила за общим состоянием рожавшей женщины, поддерживая его, ловя каждое западание пульса. Ее руки умелого акушера были чутки, подвижны, сильны, и, когда они подхватили наконец выпроставшееся посиневшее тельце ребенка, в них оказались новые силы. Они быстро освободили его шейку от петли короткой пуповины, нажимали, массировали слабую грудку, откачивали, пошлепывали, чтобы растормошить остановленное дыхание.
И вот в избе, освещенной керосиновой лампой, которую держала еще безыменная помощница врача, раздался крик новорожденного.
— Ага, сознался! — сказала Валентина, награждая ребенка добавочными шлепками, и вдруг села на скамью, словно подкошенная, блаженно улыбаясь, ощущая на ладонях живую тяжесть, трепетание, теплоту введенного ею в мир человеческого существа.
— Как будто я сама тебя родила! — говорила она, обмывая и пеленая его в простынку из старенького, мягкого ситца. — Ишь ты, какой ловкий, сразу решил пойти ножками!!
Она положила ребенка возле матери, уже тянувшейся взглянуть на него, и, сразу усталая, притихшая, продолжала свое дело акушера.
— Теперь чайку? — сказала весело помощница, сожительница по бараку, когда все было приведено в порядок.
— Давайте чайку!
— Сначала ужинать и водочки для согрева?
— Можно и водочки.
Валентина подошла к полуоткрытой двери барака (е нем жарко топилась железная печь) и выглянула в темноту ночи. Дождь продолжал идти, и, разглядев зубчатую стену черной тайги на горах, Саенко зябко повела плечами: могла бы все еще плутать там.
— Где мой провожатый?
— Он у печки, под навесом, — сказала Анисья — так звали помощницу. — Семка я его позову. У нас все мужики разбежались ст такого случая.
— Моего-то мужика позовите, — попросила родильница, услышав разговор.
— Смилостивилась наконец! — Анисья рассмеялась. — А какими словами ты его ругала? Говорила: не подпустишь больше. Ох, все мы бабы такие. Крута горка, да забывчива!
Она шагнула было за порог, но Валентина схватила ее за локоть и, подаваясь за нею под дождь, сказала шепотом:
— Там не муж ее, это другой!
Анисья остановилась в изумлении.
— То-то он и промолчал, когда я его на бегу проздравила! А где ж ее-то мужик?
— Да он… на Светлый вернулся. Забыл там что-то. А я одна немножко заблудилась, — солгала Валентина, с облегчением вспоминая, что ничего не успела рассказать Дементию.
23
Утром молодого врача разбудил плач ребенка.
— Аа-а! — напевала, шикала над ним Анисья. — Вишь, горластый какой! Певун барахольный! — И еще что-то наборматывала она нежно и невнятно.
Чувствовалась в ее мягком голосе ласка женщины, испытавшей материнство. Потом она заговорила с родильницей, и обе тихо смеялись.
— Взял? — спрашивала Анисья.
— Взял… Сссе-ет!
— Ишь ты!
Валентина слушала, смежив веки, и улыбалась про себя, затаенно. Тело ее было точно связано усталостью. Ногами она боялась шевельнуть. Кто-то маленький, легкий, пушистый пристроился у нее на подушке: она осторожно повернула голову и увидела у своей щеки дремлющего серого котенка с гладкой шерсткой и розовым носиком. Потревоженный ее движением, он тоже приоткрыл глаза и начал петь — урчать — и даже потрогал лапкой ее лицо, может быть, нечаянно, потягиваясь. Но Валентина приняла это за ласку.
Она вспомнила, как ночью котенок, играя, влез под одеяло и начал цапать ее за подошвы, а у нее недостало сил сбросить его с постели. Анисья сама поймала озорника и унесла к себе.
— Проснулась? — спросила она, подходя к нарам, где устроила на ночлег врача. — Брысь ты, паршивый! — крикнула она на котенка. — Вот привадила спать с собой — он и лезет.
— Он мне не мешает. Я люблю кошек, — сказала Валентина.
— Так… животное! — неопределенно промолвила Анисья и добавила весело. — Одежу твою я просушила и утюжком погладила, а парню рубахи вальком катала — как лубок, высохли. Рано ушел. Славный какой парнюга!
— Дождь идет? — спросила Валентина и, сняв чужую рубашку, взяла свою из стопки одежды, сложенной на чистом фартуке Анисьи.
В окна, по обычаю таежных новостроек затянутые ситцем, ничего не было видно.
— На улке солнышко. Теплынь. Опять парит, — говорила Анисья, собирая на стол и с любопытством посматривая на то, как одевалась Валентина. — Ишь ты, куколка беленькая! — заметила она с простодушным восхищением. — А муж у тебя есть?
— Нет, — сказала Валентина, невольно краснея.
— Что же так?
— Умер…
— Жалко. Ну, ничего, молодая. Другого найдешь. Мой-то мужик пришел утром — порадовался на чужую прибыль. Все, которые здесь живут, приходили уже. Иду-у-ут поодиночке! Хоронить думали Марфу, ан тут новый человек объявился.
Валентина оделась, но босиком (надеть сапоги она не решилась), осторожно ступая по земляному полу, пошла на улицу умываться.
Там и вправду парило: воздух, как в теплице. А лес распушился от влаги, а сочные травы так и клонились к мокрой земле. Все живое нежилось, расправляясь под горячими лучами солнца.
— Серы я натопила, — говорит неугомонная Анисья и тоже босиком, легко ступая, подходит от печи с железным листом — жаровней — в руках. — Печка у нас богатая, да вот опять мужики по-своему, по-приисковому, не в жилье поставили. И в дождь и в мороз тащись с булками на улицу. Печники-то липовые — в избе боятся ставить.
В жаровне налита вода, сверху решеткой лучины, на лучинах куски лиственничной коры, пахнущей смолкой.
— Хорошая сера. Вот попробуй! — Анисья сбрасывает кору, лучинки и обрывает от натопившейся в воду массы кусок светло-желтой тянучки.
Валентина «пробует» серу: она жуется, как мягкая резинка, липнет немножко к зубам, но вкус и запах удивительные.
— То-то! — говорит довольная Анисья.
— Где вы ее взяли?
— С листвянок, какие покорявее. Вот Марфин мужик притащил. — Анисья кивает на кучу сырых после дождя дров, сваленных у барака. — Куда он сам-то запропастился? Чего забыл на Светлом? Должно, загулял с горя: все равно, мол, помрет баба. Шибко он жалеет ее.
«Действительно, куда он запропастился?» — с щемящей тревогой подумала Валентина. Это было единственное, что беспокоило ее сейчас.
Она взглянула в ту сторону, откуда пришла с Дементием, и обрадовалась: легкий на помине, с горы спускался вчерашний старатель, таща в поводу ее лошадь, сильно хромавшую.
Он тоже был изумлен при виде врача, а когда взглянул на сына, то забыл кряхтеть и охать, а только морщился, пока Валентина вправляла ему вывихнутую руку.
— Медведь… Должно быть, спал у тропы, за корягой. Ка-ак рявкнет — да бежать. Ну, и кони схватились, — рассказывал он, поглядывая то на своих женщин, то на доктора. — Когда меня из седла вышибло, не помню. Сначала вроде вдарило чем-то… Память отшибло, а потом я в кусты уполз и под дождем до свету лежал. Утром одыбался — поднялся. Ни коней, ни доктора. Пошел было на Светлый, дошел до косарей. «Нет, говорят, никто обратно не был ни вечером, ни ночью». Я и повернул к себе на Утинку… Твою хромушу у речки поймал, на ней переехал по броду, а наш Гнедко, должно быть, на утинские покосы удрал.
— Платок мой на развилке видели? — спросила Валентина. — Я ведь заблудилась… Потом шла по той же дороге, но снять забыла.
— Нет, не видал. Такая буря ночью была — на тропе целые завалы: листу набило и веток, и какие выворотни лежат!
24
Андрей оторвался от книги и рассеянно взглянул на дочь. Ее круглая спинка с переложенными накрест лямочками передника, и пухленькая шея задержали его взгляд.
«Уже большая она!» — подумал Андрей, глядя, как ползала Марина по полу, поднимая то книжку, то исчерканный лист бумаги и все бормоча что-то озабоченно.
Один из каблуков ее туфель был стоптан, и это особенно тронуло отца.
«Ботинки стала изнашивать!» — сказал он мысленно с гордостью и живо представил себе, как нянчил ее, спеленатую и красненькую, как она корчилась у него в руках и вертела головкой, требовательно плача, когда хотела есть.
Уговаривая ее, он наклонял к ней лицо, и она торопливо хватала его за щеки беззубым ищущим ротиком.
«Тогда я брился прежде всего для нее», — вспомнил Андрей и улыбнулся.
— Ты что смеешься? — спросила Маринка, поднимаясь с полу. Она подошла к отцу, положила руку на его колено, другой, с резинкой, зажатой в кулаке, обняла его локоть. — Я тебе не мешаю, правда?
— Правда.
— Мы с тобой вместе работаем.
— Да, да, — произнес он уже снова рассеянно и, не обращая внимания на ее деловую возню, уткнулся в книгу.
Потом он взял ручку, стал что-то записывать. Маринка бросила рисовать, долго молча наблюдала, как под его пером возникали на бумаге рваные цепочки. Если закрыть глаза, то похоже, будто кто-то совсем маленький суетливо бегает по столу, нарочно шаркает подошвами.
Девочка тихонько приоткрыла один глаз, потом другой, широко открыла оба. На столе уже тихо, и вечная ручка лежит смирно, уткнувшись в свой неровный след.
— Что это вас не видно и не слышно? Вы забыли, что сегодня выходной день? — спросила Анна, появляясь на пороге.
Она недавно вернулась с рудника. Густые, еще влажные ресницы ее были особенно черны, и лицо молодо румянилось после ванны: под землей приходилось путешествовать и в подъемной клети, и ползком, на четвереньках.
— Может быть, мы совсем отменим выходные дни? — пошутила Анна, входя в комнату.
Маринка быстро взглянула на отца, но, видя, что он улыбается, сообщила радостно:
— Он исписал сто листов. Я ему совсем не мешала.
— Валентина Ивановна сейчас заходила… — Анна положила руки на плечи Андрея, тихонько поцеловала его в густые волосы. — У нее сегодня день рождения. Звала на пирог и на чай со свежим вареньем из жимолости.
— И я… И меня?
— О тебе особого разговора не было. Ты знаешь, я не люблю, когда маленькие ходят за взрослыми по пятам и лезут со своим носом в серьезные разговоры.
— Я не буду лезть с носом, — пообещала Маринка с таким видом, точно отказ от участия в серьезных разговорах был для нее большим огорчением. — Я буду сидеть и молчать целый день.
— Ну, это положим!.. Вряд ли ты усидишь на месте хотя бы с полчаса.
— Папа! — Маринка мигом перебралась со своего стула на колени отца. — Милый папа! — Она обхватила обеими руками его голову, прижимала ее к своему лицу, ерошила его крупные мягкие кудри и повторяла умоляюще. — Папа, ну пожалуйста! Папа!
— Просто не знаю, взять ее с собой или не стоит? — сказал Андрей совсем серьезно, высвобождая голову из цепких детских ручонок.
— Какой ты недобрый! Я тебе не мешала и туфли принесла, и… я плакать буду.
— Поплачь немножко, — разрешил Андрей, смеясь.
— Нет, я много буду плакать! — И глаза Маринки заволоклись слезами.
Андрей просительно взглянул на жену.
— Хорошо, возьмем, — сказала Анна и, чтобы оправдать свою уступчивость, добавила — Клавдия тоже хотела идти в гости. Надо отпустить ее, а дверь закроем на замок.
25
Выйдя из дому, они увидели Уварова. Он шел в русской рубашке, опоясанной крученым поясом, и издали улыбался, покачивая головой.
— Вот и навещай их после этого! Кое-как выбрал время, а они всей семьей сбежали.
— Идем вместе, — предложила Анна. — Мы к Валентине Ивановне.
— Неудобно, — возразил Уваров, сдержанно здороваясь с Андреем. — Знаешь, ведь незваный гость… Да еще хозяюшка такая… щепетильная — шик-блеск!
Анна вспомнила разговор в осиновой роще о семейной драме Валентины и сказала с неожиданной горячностью:
— Нет, Илья, ты ее совсем не понял. Она не мелочная.
Уваров немного смутился, наклонился к Маринке:
— Как ты думаешь? Идти мне с вами или нет?
— Пойдем! Валентина Ивановна сварила варенье из жимо… жимолости. А что мы подарим ей? — вдруг заволновалась Маринка. — У нее ведь рожденье.
— Правда, нужно купить что-нибудь, — сказала Анна, удивляясь, как это ей самой не пришло в голову.
— Зайдем в магазин, — предложил Андрей.
— Мы купим ей конфеты, — суетилась Маринка, перебегая на его сторону, — с такими серебряными бумажками. Или чашку, как у мамы.
В магазине они долго ходили от прилавка к прилавку: конфеты были только дешевые, а купить туфли или блузку всем, кроме Маринки, показалось неудобным.
— Я знаю что! — крикнула она, припоминая. — Мы купим ей в ларьке… прибор. Красивый прибор с мылом, пудрой и духами.
В ларьке действительно нашлись такие коробки.
Пока Андрей расплачивался, пока продавщица завертывала в бумагу красную коробку с видом Кремля, настроение Анны угасало, и только суетня Маринки, озабоченной и торжествующей, поддерживала улыбку на ее лице.
Она сделалась угрюмой за последнее время, все чаще просыпаясь по ночам, Андрей видел свет, слабым отблеском лежавший на полу у двери ее кабинета, — это означало, что она дома, но занята. После ссоры из-за ее проекта, а потом из-за денег на разведку он уже не мог с прежней свободой заходить к ней в любое время, заметив еще, что она стала менее откровенной и даже торопливо спрятала однажды какую-то исчерканную бумагу.
Андрей сам утратил простоту и доверчивость в отношениях с женой после того, как она вступила в деловой блок против него с Ветлугиным и Уваровым, и не мог отделаться от оскорбительной мысли, что она предложила ему их личные деньги только потому, что не верила в успех его предприятия.
Иногда, просыпаясь, он не находил Анны дома, вставал, зажигал свет и работал или просто ходил из угла в угол, с тоской думая о наступившем разладе.
У нее появилась еще рассеянность, раньше ей несвойственная: она входила в комнату, не замечая мужа, вдруг останавливалась, подносила руку ко лбу и, растерянно оглянувшись, выходила обратно. Исчезла и ее милая заботливость о нем, ее шутливые нотации.
«В личном она тоже отошла от меня!» — думал Андрей, невольно обижаясь на такое невнимание к себе.
Вот и сейчас, входя в дом, она пропустила вперед Уварова и Маринку и чуть не захлопнула дверь перед ним; правда, сразу спохватилась и, опустив руку, виновато взглянула на него через плечо, но он даже представить не мог, как больно резнуло это ее самое.
«Как я могла бы обидеть его!» — подумала она с чувством острого раскаяния, но внимание ее снова было отвлечено.
Анна не была избалована подарками и не думала о них, но, когда Маринка забрала коробку из рук отца и сияя подала ее Валентине, которая тоже расцвела в улыбке, ей стало досадно смотреть на них, и только тогда она поняла, что завидует сердечному отношению, которое было вложено ее близкими людьми в этот подарок.
— Так тебе подходит, — сказала Маринка, трогая крохотный бантик ленты в волосах именинницы, когда та поцеловала ее. — Я тоже буду носить такой.
— Ах вы, щеголихи! — с ласковой укоризной сказала Анна, подавляя неприятное чувство.
26
Валентина чувствовала настороженность Анны, но счастливое оживление все равно неудержимо пробивалось в ее лице, когда она обращалась к Подосенову.
Как будто стремясь развлечь всех, она легко облокотилась на стол и предложила, беспечно улыбаясь:
— Попросите меня спеть.
— Вы давно обещали доставить нам удовольствие — послушать вас! — обрадованно сказал Ветлугин, который то хозяйничал вместо Валентины, то, забывшись, неотрывно смотрел на нее. — Я совершенно уверен в том, что вы хорошо поете.
— Сегодня у меня особенный день, последний день молодости. Поэтому мне все дозволено, а завтра я уже начинаю стареть, — ответила она.
Слишком беззаботно было сказано это, чтобы ответить ей обычным разуверением: и тон ее, и вид показывали, что счет годам для нее пока не имеет значения и особенность дня заключается в чем-то совсем другом.
Анна заметила все, но сама чисто по-женски посмеялась над Уваровым, который, желая услужить ей, опрокинул бутылку розового муската, разбив тарелку и залив скатерть.
— Какой ты медведь, Илья, — сказала она, посыпая солью пятно на скатерти.
— Мне простительно. Я-то уже давно старею, неловкий стал, — отшутился Уваров. — Раздаюсь с годами в ширину, вот места мне и не хватает. Зато каждый посмотрит и скажет: прочно утвердился на земле человек.
— Прочного ничего нет, — сказала Валентина, отчего-то обрадованная беспорядком на столе. — И очень хорошо: все старинное вызывает чувство тоски.
— У дедушки-водовоза очень прочная гармошка, — неожиданно сообщила Маринка, забыв свое обещание не вмешиваться в разговоры. — Он нам показывал, и мы ее уронили. А она хоть бы что!
— Тогда надо попросить ее, — сказал Уваров, вставая. — Да я и сыграю с вашего разрешения. Такие «жигули» разведу!.. — он засмеялся и быстро вышел из комнаты.
— Так вы споете? — напомнила Анна Валентине и сразу представила ее маленькой, страшно одинокой девочкой, рыдающей после елки.
27
Высокий, грудной голос Валентины прозвенел с такой ликующей страстностью, что Анна вся выпрямилась. Как больно дрогнула ее душа!
Дождались мы светлого дня, И дышится так легко… —пела Валентина, и как будто чище становился самый воздух, в котором звучал этот радующийся своему обаянию голос.
«Неужели можно было задушить такое?» — удивленно подумала Анна и посмотрела на Ветлугина.
Он стоял неподвижно, на руке его, стиснувшей спинку стула, резко обозначились побелевшие суставы.
«Что он чувствует?» — спросила себя Анна, избегая взглянуть на Андрея.
— А вот и гармошка, — объявил Уваров, вваливаясь в комнату, когда Валентина, разрумяненная, сияющая, усаживалась на свое место. — Гармошка прочная, слов нет. Играть-то можно? — дурашливо, глубоким басом спросил он и сел возле Маринки. — Ну, чалдонка, что вы тут без меня делали?
— Мы пели, — сказала Маринка, глядя на свои пальцы, липкие и розовые от варенья.
— Теперь послушайте Илью Уварова. Гармошке я у одного священника научился. Лихой был поп!.. Бывало, сидит в подряснике нога на ногу, а гармонь у него так и дышит, так и вьется. Добрый был поп и музыкальный, а я у него вроде дворника работал. — Уваров взглянул на Валентину и спросил тем же шутливым тоном: — Может, вы споете еще под гармонь, если не обиделись на мое исчезновение? Знаете, есть такая хорошая песня… У Гурилева это романс, а в народе просто песня, ну, и мотив немножко другой. Вот… слушайте. — Он развел мехи и тихонько заиграл, глядя в напряженно-внимательное лицо Валентины, и, когда оно дрогнуло блеском глаз и улыбки, он, не дожидаясь согласия, подвинулся к ней со стулом.
Валентина выждала еще немного и уверенно вплела в окрепший голос гармони задушевные слова:
Отчего, скажи, мой любимый серп, Почернел ты весь, как коса моя?..Она никогда не певала под гармонь, и оттого, что получилось неожиданно так хорошо, пела, сначала улыбаясь от удовольствия, но затем грусть песни захватила и ее.
Зелена трава давно скошена, На селе косцы давно женятся, —пела она, слегка подавшись вперед, нервно сжимая рукой узкий поясок платья.
Только нет его, ясна сокола… Не к добру тоска давит белу грудь, Нет, не к радости плакать хочется.От глухой сердечной боли, смягчившей серебряный тембр ее голоса, слезы выступили на глаза Анны, и мрачное предчувствие снова овладело ею.
— Прекрасно, — сказал Ветлугин с гордым восхищением.
— Вот как мы! — сияя, пробасил Уваров.
Андрей ничего не сказал, но, когда Валентина искоса быстро глянула на него, его глаза ответили ей таким ярким блеском, что она вся вспыхнула.
— А вы играете на чем-нибудь? — обратилась к ней в это время Анна, с усилием освобождаясь от своего оцепенения.
— Да… — ответила Валентина и, не сразу понимая, о чем ее спрашивают, виновато и счастливо улыбнулась. — Да, я играю, — добавила она, мгновенным напряжением памяти восстанавливая обращенный к ней вопрос. — Если бы у нас в клубе было пианино, я могла бы иногда выступать… — Она неопределенно развела руками и снова взглянула на Андрея.
Оттого, что тот сразу ответил ей взглядом и улыбкой, у Анны зазвенело в ушах, но она обернулась к Уварову и сказала глухо:
— Надо будет перевезти с базы пианино. Не обязательно ждать, когда закончим шоссе. Можно трактором на площадке… Это хорошо, когда в клубе пианино.
28
Пианино действительно привезли трактором. Увидев издали большой, сбитый из толстых досок ящик, Андрей еще раз подивился, как быстро выполняла Анна свои намерения.
Ребятишки, словно стая воробьев, облепили тракторную площадку, пока рабочие подтаскивали и устанавливали доски для мостков, и так же, как воробьи, ссыпались разом на землю, когда ящик с пианино стал съезжать по доскам, бережно подхватываемый сильными мужскими руками.
Андрей подождал, пока и пианино, и грузчики, и ребятишки протиснулись в двери клуба, и вошел следом. Там было полутемно. Огромная пустота стояла над раздвинутыми рядами скамей с высокими спинками, между которыми медленно продвигалась, стуча ногами, сомкнутая группа рабочих. Серый ящик покачивался среди людей, как гроб, в мрачном, гулком сумраке.
В библиотеке клуба Андрей долго рылся в каталоге технической литературы, потом сам просматривал то, что стояло на полках. Возвращаясь через пустой зал, он увидел Валентину. Она стояла у рампы, освещенная снизу красноватым светом, и наблюдала за суетней, происходившей в глубине открытой сцены.
Подосенов замедлил.
Угловатое, блестящее черной полировкой тело инструмента, высвобождаемое рабочими из ящика-гроба, точно вздыхало облегченно, вырастая в колебаниях света и теней. Но оно еще дремало, ожидая прикосновения умелых рук, легких и чутких.
Андрей опять посмотрел на Валентину. Она стояла далеко от него, но он хорошо видел своими дальнозоркими глазами ее полуобернутый, чуть улыбающийся профиль.
«Ей весело», — подумал Андрей, вспомнив, как давно не было весело ему самому. Правда, он шутил и даже смеялся, но что-то было утрачено им в последнее время, угасла светлая искорка, всегда тлевшая в его душе.
«Может быть, сказывается усталость», — размышлял он, вспоминая передряги последних дней: бурные, даже злые разговоры в парткоме, в кабинетах управления, зияющие щели канав, идущих по пустоте, угрюмые лица разведчиков, ожидающие, сочувственные (отталкивающие его этим сочувствием) взгляды Анны…
Тоска с новой силой охватила Андрея. Он опустился на край скамьи, сгорбился, облокотясь на книги, лежавшие у него на коленях. Тишина в зале вдруг удивила его, и он понял, что сидел здесь не просто так, не просто потому, что устал, а потому, что ему хотелось музыки, смутное представление которой возникло у него при виде мрачного, торжественного шествия инструмента и таинственного освобождения его и при появлении женщины, освещенной, как отблеском пожара, красноватым огнем рампы.
Вздохнув, Андрей сунул под мышку свои книги и неторопливо направился к выходу, но, не дойдя до середины зала, оглянулся и опять увидел Валентину. Она шла по сцене и через весь зал смотрела на него, остановившегося в нерешительности.
29
— Я так давно не играла, что мне даже страшновато начинать, — сказала Валентина, подходя к Андрею. — А завтра у нас вечер, будут выступать приезжие поэты. Вы придете?
— Конечно, — сказал Андрей.
Он не взял ее под руку, когда они вышли из клуба; почти не смотрел на нее, но чувствовал каждое ее движение, и ему было приятно, что она идет около него просто, без кокетливых ужимок и дерзостей.
— Вы очень изменились за последнее время, — сказала она, прерывая легкое для обоих молчание. — Вы стали каким-то неземным.
— Просто ангел во плоти! — подтрунил над ее словами Андрей и тихо рассмеялся.
Он шел упругим шагом, подлаживаясь к походке Валентины, по-мальчишески сдвинув на затылок кепи, сдержанно помахивал на ходу свободной рукой. Уголок его крупного, хорошо очерченного рта еще кривила усмешка, но общее выражение, несмотря на поднятый козырек и приподнятый прямой нос, было невеселое.
— Почему же неземной? — мягко спросил он.
— Да та-ак, — протянула Валентина, очень серьезно, искоса посматривая на него и покусывая листик, сорванный ею с куста. Ее особенно привлекало в Андрее это иногда проявляющееся в нем сочетание мужественности с задушевной, почти нежной мягкостью. — Вы как будто свалились с другой планеты… С Марса, может быть. У вас какой-то далекий взгляд. Правда! Будто все кажутся вам бесплотными тенями, как во сне, как в лесу в лунную мглистую ночь.
— Почти правда, — сказал Андрей уже весело. — Смотрю на вас… но даже тени вашей не вижу: где ваша тень, Валентина Ивановна?
— Моя? Ах, да! Мы с Ветлугиным поссорились немножко, — сказала она. — Из-за вас поссорились.
Андрей вспыхнул:
— Из-за меня?
— Да. Из-за вас. Вернее, из-за вашей работы. Я видела вас в тайге, на горах, среди ваших людей (какой там народ чудесный!) и сразу поняла… У вас в одну какую-нибудь яму вложено больше мечты, чем у Ветлугина во всю его деятельность. Если бы он действительно умел мечтать, как он часто говорит, то никогда не пошел бы… не согласился бы на прекращение такой увлекательной работы, а дал бы вам возможность довести ее до конца!
— Решение этого вопроса зависит не от него… — медленно, с запинкой произнес Подосенов с чувством благодарности и грусти: она, единственный человек здесь, на Светлом, поддержавший его, ничего не понимала в горных работах.
Но это наивное одобрение, эти слова сочувствия, исполненного не жалости, как у Анны, а негодования и веры в него, тронули геолога.
— Мечта, конечно, необходима, — продолжал он после короткого молчания. — Но я не просто фантазирую, а ищу на основании науки и опыта. Оттого-то и обидно и тяжело! Мне не верят потому, что я много затратил на разведку этой горы и все еще ничего не нашел. Черт возьми! — вскричал он с увлечением. — Если бы вы знали, какие огромные средства отпускались страной на наши разведочные поиски. Вся беда в том, что нашлись идиоты, вообразившие и сумевшие убедить других, что наше предприятие обеспечено разведанными запасами. На десятки лет будто бы обеспечено. Они поднимали шум вокруг старательских поисков. Любовались стариками-старателями и потихоньку душили нас, кадровых разведчиков, сокращая из года в год плановые разведки.
— Почему же это не исправят теперь?
— Такие дела скоро не делаются, и есть среди наших работников трусливые, нерешительные люди, а мы все еще деликатничаем там, где не нужно.
— Мне кажется, вы лично деликатностью вообще не страдаете! — заметила Валентина к слову.
— Вы находите? — серьезно спросил Андрей и остановился, впервые за время разговора взглянув ей в глаза.
— А вы нет, не находите? — невинно спросила она, в свою очередь, и оба неожиданно рассмеялись.
30
Они стояли, очень довольные друг другом, и смеялись от души, как два сорванца.
— Однако вы тоже не страдаете этим самым, — сказал Андрей, отправляясь дальше, но все еще продолжая улыбаться.
— Да, я иногда грублю. Это от жизни, — добавила Валентина с неожиданной горечью. — Хотя мне хочется только хорошего и себе и другим… Я недавно ездила к роженице в тайгу, и дорогой лошадь сбросила меня — испугалась медведя. Проводник тоже слетел и чуть не убился. Вот бы вы посмотрели, как я мчалась и… как упала. Когда поднялась, то не знала, что делать… идти обратно было ближе. Однако я пошла в тайгу. Одна, без проводника: больная-то могла умереть! Но как я боялась! А потом ваш разведчик с амбарчика — Дементий — вел меня на буксире. У меня уж сил не было идти, — пояснила Валентина, заметив удивление Андрея. — Я держалась за его кушак. Дождь лил ужасающий — я даже не представляла раньше ничего подобного. Он полоскал нас, пока мы не пришли в поселочек в горах! Там я приняла очень трудные роды и после всего прямо свалилась на скамью. Но… если бы вы знали, какое счастье — держать в руках спасенного тобой ребенка! Он бился, как рыбка, а ведь я приняла его без дыхания, синюшного! А потом было утро… знаете, солнечное утро после дождя, когда все распускается пышно-пышно и… так хочется жить… Вы поглядите, — сказала Валентина, неожиданно прерывая свой рассказ и осматриваясь по сторонам. — Так может только присниться, правда?
— Да, — согласился Андрей, и ему показалось, что он действительно видел во сне такой вечер с черными нагромождениями туч над круто изломанной линией высоко поднятого горизонта, с синим сумраком, зримо опускавшимся над грудами дикого камня, над крышами потемневших домов и остатками изуродованных деревьев, жалких и страшных на изрытой земле.
— Будет гроза, — произнесла Валентина голосом, полным затаенной радости.
— Может и не быть, — так же беспричинно радостно ответил Андрей. — Вы чувствуете движение воздуха, как он плывет волнами, очень холодных, свежий, но где-то идет разрядка…
— На Раздольном гремит вовсю. Пробило кабель, — сообщила Анна, поджидавшая их на развилине дорожки. Она издали приметила их, дружно шагавших вдвоем, а потом остановившихся и громко смеявшихся над чем-то. Она давно не видела Андрея таким веселым и поздоровалась с Валентиной холодновато. — Пробило кабель, — повторила она, точно хотела подчеркнуть, что ей некогда шататься по прииску. — Один высоковольтный мотор вышел из строя. Пустили резервный, но что там творится сейчас, неизвестно: телефонная линия выключена.
«Он тоже выключился», — заметила про себя Валентина, взглянув на сразу отвердевшее лицо Андрея.
— Я, кажется, помешала вам, — сказала Анна мужу, когда они вдвоем подходили к своему дому. — Вам было очень весело!
Она сказала это почти спокойно, и Андрей ответил:
— Да, мы посмеялись немножко.
— О чем вы говорили?
— Обо всем.
Губы Анны задрожали:
— Разве можно говорить обо всем с такой пустой и самовлюбленной особой?
— Нет, она вовсе не пустая, — возразил Андрей, как будто не замечая едва сдерживаемого волнения жены.
— Ты находишь? — вырвалось у Анны. — Тебе, конечно, виднее, — добавила она торопливо, пугаясь своей гневной ненависти.
31
Анна нерешительно перебирала платья — которое надеть: свое любимое, коричневое, или любимое Андрея, синее? Она колебалась недолго и сняла с вешалки синее, из тяжелого файдешина. Сидя перед зеркалом, поправила крылышки кружевной вставки, надушила виски и руки и сама залюбовалась собой, хотя смутная тревога все время покалывала ее, зажигая на щеках неровный румянец.
Такой и застал ее Андрей: с чуть приподнятой бровью, с вытянутой круглой шеей, смуглевшей над тонким узором кружев. С минуту он глядел на жену, не замеченный ею, потом вошел в комнату и спросил ласково:
— Кокетничаешь?
— Немножко.
— Для кого принарядилась?
Она с упреком взглянула на него: еще он спрашивает!
Андрей, тронутый, наклонился, чтобы поцеловать ее, но она слегка отстранилась.
— Ты любишь меня, Андрюша?
— Очень!
— Ты так спокойно говоришь это! — сказала она и пытливо посмотрела на него. — У тебя такие далекие, равнодушные глаза.
— Я думаю о своей рудной разведке, просто извелся за последнее время. Я не жалуюсь, — добавил он, чутко уловив промелькнувшее по лицу жены выражение грустной отчужденности. — Но ты пойми: ведь мне одному приходится тащить эту глыбу, а вам она или безразлична, или… досадна!
— Только не безразлична!
— Но и не интересна. Я точно в темном лесу… Иду к своей цели, срываюсь, падаю — и все один. — Говоря это, Андрей невольно вспомнил слова Валентины о том, как она ночью шла по тайге к больной женщине.
— Ты знаешь, как я переживаю за тебя, — возразила Анна, смело встречая и выдерживая его взгляд.
— Моя работа и я — одно и то же.
— Я чувствую так же, — сказала Анна. — Тот, кто любит свою работу, не боится никаких трудностей. И надо иметь мужество признать провалы в ней.
— Я не могу признать черным то, что мне кажется белым, кто бы ни старался внушить мне обратное, — запальчиво сказал Андрей.
Оба долго молчали.
— Ну, что же… Пойдем мы в клуб или нет? — сухо спросил он.
— Конечно, пойдем, — ответила Анна, почти бессознательно подчиняясь его желанию загладить новое столкновение. Но слишком горько было у нее на душе, и она сказала: — Обо мне ты уже не думаешь? То, что я переживаю, тебя не волнует? Ты всегда был спокоен по отношению ко мне.
— Не понимаю, что значит «спокоен», — возразил Андрей с легким оттенком досады. — Разве тебе хочется, чтобы я ревновал, когда ты уезжаешь в тайгу с Уваровым или со своими инженерами? Я думал, ты дорожишь моим уважением и доверием…
— Да, да, ты прав, — прошептала Анна, понимая, что обидела его. — Не думай обо мне плохо.
— Ой, какая ты нарядная! — восхищенно сказала Маринка, вбежав в комнату, умытая, в ночной рубашечке. Она обошла вокруг матери, потрогала кружево на ее груди. — Какая ты нарядная! — повторяла она. — Какая у тебя гуля!
Анна посадила девочку в кроватку, поправила ей подушку, укутала одеялом; вдруг не захотелось уходить из дому, но Андрей уже вышел и ожидал на террасе.
— Похоже на то, что опять дождь будет, — сказал он. — Я захватил твой плащ.
— Спасибо, дорогой, — ответила она, особенно тронутая в этот раз его заботливостью.
32
В вестибюле клуба уже никого не было, но тусклая пелена табачного дыма еще голубела в нем, постепенно редея и рассеиваясь.
— Опоздали, — сказала Анна, прислушиваясь к тому, что происходило в зрительном зале.
Стоило постучать, и им открыли бы, но Анна не спешила войти, взглянула на Андрея, и он опустил руку. Медленно они прошли в дальний угол фойе.
Подосенов поглядел на жену и выжидательно улыбнулся.
— Помнишь, как мы с тобой в первый раз были в театре? — спросила она. — Ты пригласил меня в буфет, а потом у нас не хватило пятидесяти копеек. Помнишь? Ты бегал, разыскивал наших студентов, а я сидела за столиком и умирала от стыда: мне тогда казалось, что все знают, почему я сижу так долго.
— Зато теперь ты можешь выбрасывать по пятьдесят тысяч на сумасбродные затеи своего мужа, — с язвительной колкостью сказал Андрей.
— Зачем подковырка? У меня совсем другое на сердце, — проговорила Анна стеснительно. — Знаешь… Я очень хочу… Подари мне что-нибудь.
— Чего же тебе хотелось бы?
— Коробку конфет, духи…
— Обязательно подарю, — пообещал Андрей, немножко озадаченный ее внезапной прихотью.
Книжный киоск привлек случайно его внимание пестротой выставленных обложек.
— Знаешь, что я подарю тебе?
— Что? — спросила Анна, по-девичьи оживляясь.
— Я куплю тебе сейчас записную книжку. Здесь были очень приличные.
— Хорошо, — промолвила она с тем же оживлением, но уже принужденным.
33
Приезжие поэты не понравились ей: она столько читала и слышала похожего.
Но, несмотря на это и даже именно поэтому, Анна заставила себя выслушать все, что говорилось со сцены, и хлопала в ладоши так же долго, как все сидевшие вокруг нее.
«Возможно, стихи были лучше, чем показались мне», — подумала она, не доверяя своему рассеянному вниманию.
Она встала с места и, сразу оттесненная от Андрея, нерешительно остановилась в людской толчее, образовавшейся двумя течениями: одни устремились в буфет, другие — поближе к сцене, где стояло новое пианино.
— Пока соберутся музыканты, я сыграю, — услышала Анна голос Валентины и, обернувшись, увидела, как села та перед инструментом, и приподняв край платья, протянула узкие ножки, нащупывая ими педали.
Один из поэтов, высокий, костлявый и нервный, торопливо листал перед нею ноты, тихо переговаривался с ней. Его очень большие руки подчеркивали нескладность всей его фигуры, и Валентина рядом с ним казалась еще стройнее.
— Я сыграю «Каприз» Рубинштейна, — сказала она после некоторого колебания и, оглянувшись через плечо, поискала взглядом кого-то в толпе.
«Почему „Каприз“?» — подумала Анна, незнакомая с этим произведением композитора, почти испуганно замечая, что Валентина еще более похорошела за последнее время, глаза ее искрились, пышно, царственно лежали над открытыми висками и лбом крупные завитки волос, подобранные заколками с боков и блестящей волной спадавшие сзади на полуоткрытые плечи.
Пальцы Валентины коснулись клавишей. У нее были маленькие руки, ей трудно было играть, но мелодия все разрасталась и разрасталась и вдруг все рассыпалось под мощным ударом перезвоном хрустальных колокольчиков.
«Она выбрала то, что выражает ее настроение!» — думала Анна, мучаясь от своего бессилия перед обаянием этой женщины.
Андрей стоял неподалеку в толпе. Вещь, исполняемая Валентиной, захватила его. Именно такой музыки он хотел и ждал. Он был взволнован.
Поведя взглядом, Анна увидела его и поразилась: он точно хотел, но не мог понять, что с ним происходило, да так и забылся мучительно-напряженный, ей показалось, что он не слушал музыку, а неотрывно, не моргая, — как прошлый раз Ветлугин, — смотрел на Валентину, всю ее обнимал одним взглядом и ничего, кроме этих быстрых, сильных и гибких рук, кроме этих сияющих, залитых светом волос, не существовало для него, — так показалось Анне, и она закрыла глаза, потрясенная страхом и страданием.
«Я уйду, не могу, не в силах находиться здесь дольше».
Она отвернулась и медленно, никого не различая, пошла сквозь молчаливо расступавшуюся перед ней толпу.
34
Мрак охватил ее за дверями, Анна постояла на ступеньках и почти бессознательно ступила на песок, где тихо шептал невидимый дождь. Он обрызгал ее лицо, смочил плечи, но она не почувствовала ничего, так горело и ныло у нее в груди. Мокрая ветка зацепилась за платье, женщина рванулась и почти побежала по дорожке, спотыкаясь, слабо вскрикивая и заслоняясь руками, точно боялась в этом смутном мраке удариться о гудевшие вблизи провода.
Она быстро прошла мимо удивленной Клавдии, открывшей ей дверь, сердито отмахнулась от ее предложения выпить чего-нибудь согревающего. Заболеть? Меньше всего она думала о болезнях.
Маринка спала. Взглянув на дочь, Анна сняла намокшие туфли, стянула платье и с горькой усмешкой посмотрела на «красивую гулю». Сырое белье противно холодило тело, и Анна сбрасывала его, обрывая от нетерпения петли и пуговицы. Надев ночную рубашку, она ковриком, чтобы не обращаться к любопытной Клавдии, подтерла пол и, постепенно успокаиваясь, стала заплетать косу.
«Зря ушла домой, — сказал в ее душе ясный, холодный голос. — Ведь хорошо было… приисковый клуб — и такая музыка, и чуткое внимание рабочих, шахтеров, а она, вместо того чтобы радоваться, сорвалась и убежала, как девчонка…»
Анна попробовала даже улыбнуться, но улыбки не вышло. Она легла на спину, выпростала поверх одеяла руки, посмотрела на них. Они были смугловаты, сильны, крупны. Анна вспомнила огромные руки приезжего поэта, неуклюжие рядом с прекрасными руками Валентины.
«И я сама помогаю ей во всем! — подумала она с новым взрывом отчаяния. — Зачем нужно было спешить с перевозкой пианино?»
Анна вспомнила, как Андрей однажды пристрастился к танцам, и как ей было приятно тогда, что он, интересный, хорошо танцующий мужчина, не делал различия между красивыми и дурнушками, а перебирал их будто по необходимости.
Она взглянула на платье, небрежно брошенное ею на спинку стула… Любимое платье мужа.
Ей стало стыдно. Она поднялась с кровати, устроила платье на вешалке, расправила его и унесла за шкаф, чтобы не увидел Андрей, потом она взяла книгу, снова легла, но читать не смогла.
Она ждала и, когда муж пришел, с замиранием прислушивалась к его твердым шагам.
— Почему ты ушла? — спросил он, входя в комнату.
— Меня вызвали на рудник, — сказала Анна с героическим спокойствием, но глаза ее умоляли его не верить этой лжи.
— Я так и подумал, что тебя вызвали куда-нибудь, — беспечно сказал Подосенов. — Но ты не взяла плащ…
— Мне дали дождевик. Дождь шел…
— Да, дождь… Он все еще идет. — Андрей отдернул занавеску, открыл окно. Ему не хотелось ложиться в постель. С минуту он стоял, опираясь ладонями в края рамы, смотрел в прохладный мрак, где неумолчно, радостно плескались дождевые струи. — Вот в такую ночь хорошо спать на свежем сене, на сеновале, — сказал он, не оборачиваясь. — Я очень люблю спать, когда дождь стучит по крыше. — Голос его звучал негромко, но возбужденно и бодро; похоже, Андрей улыбался…
Анна наблюдала за ним подавленная, со странным, холодным любопытством. Все в ней опало вдруг. Она понимала, что Андрею должно быть весело сейчас потому, что еще не о чем было сожалеть, не в чем раскаиваться. Но, понимая, она не могла ни примириться со своим неизбежно надвигавшимся несчастьем, ни предупредить его.
— Танцевали? — тихо спросила она.
— Да, там еще танцуют. Я тоже два раза покружил… С Валентиной Ивановной.
Пытаясь справиться с нервным удушьем, перехватившим ей горло, Анна промолвила:
— Она играла хорошо.
— Да, она играла чудесно. — И, точно оправдываясь, Андрей добавил: — Мы шли домой с Уваровым. Он очень доволен вечером.
35
На участке деляны чувствовалась особенная праздничность, хотя все работали. Общее внимание привлекал только что сгруженный с тракторной площадки мотор водоотлива.
— Ловкий моторчик! Аккуратный, — приговаривал старик Савушкин, любовно оглаживая и осматривая его. — Сколько на нем загогулинок, и все к месту, все надобное. Исхитрился человек придумать такое! Вот она, наука! Какое замещение рукам! Попробуй-ка откачать ее, воду-то, из ямы… из шахты тем паче! А мотор день и ночь справляется со своим делом. Ни хвори ему, ни устали!
— Будет тебе там разглагольствовать! Поторапливайся! — ревниво и весело кричали Савушкину старатели, плотничавшие на возведении эстакады.
Савушкин хватался за топор и лез на эстакаду, пока его не отвлекали привезенная вагонетка, сизые усы рельсов, торчавшие за трактором или массивные закругления насоса, черного и грузного.
— Обзаводимся хозяйством! — гордо закричал Савушкин Анне и Уварову, увидя их на участке. — Механизируемся! Технически!
Анна понимающе улыбнулась, интересуясь всем не меньше старика.
— Славно-то как! — говорила она Уварову. — Теплынь стоит, чудо! Даже не верится, что находишься на севере. Солнышка-то сколько! Я сегодня полдня провела на руднике… Пока там ходила, забыла, что лето и зелень, а вышла на свет и ахнула: до чего тут изумительно красиво! Под землей только то и отрадно, что есть живые люди.
— А золото? — напомнил Уваров не без хитрости.
— Золото? Но ведь еще и уголь есть и руды, да мертвое все это, — серьезно сказала Анна. — Я иногда думаю, в любой работе найдется какая-нибудь романтика, возьми ты металлургов-литейщиков, моряков, железнодорожников, а у шахтера красота труда заключена в самом себе. Подземелье — каменный мешок, без света, без солнышка. Кругом твердая порода, немая, сплошная, тяжкая… Надо особенную, смелую душу иметь для такой работы. Вот бурильщики… Ведь они первые подвергаются риску, а они лучше всех отнеслись к введению десятины.
— Так и зовут десятиной?
— С легкой руки Ветлугина привилось. Она действительно будет громадна! И, понимаешь, относятся не со слепым доверием, а сами рассчитывают, соревнуются за право начать бурение, — снова увлекаясь, продолжала Анна. — Первую камеру подготовим для работы к концу августа. Ты знаешь, Илья, она мне даже сниться стала. Честное слово! Уже определилось, что она будет в триста девяносто квадратных метров. Это только представить надо! В ней мы оставим метровый целик: пусть Ветлугин убедится на опыте…
— Он еще сомневается?
— Нет, он теперь искренне заинтересован десятиной. Может быть, он даже доволен, что десятина оставила в тени его проект: ему не пришлось признавать свою неудачу открыто. Но, надо сказать, он легко примирился с этой неудачей. При всей его работоспособности он не страдает особым самолюбием.
Анна помолчала, глядя, как старатели по указаниям механика устанавливали мотор водоотлива над широкой ямой открытого забоя. Механик, молодой, худощавый, темноволосый, работал наравне со всеми: разбираться в чинах было некогда.
— Отличный работник, — сказала о нем Анна. — Я рада, что его жена согласилась сюда приехать.
— Он прямо сто сот стоит, — согласился Уваров.
— А твои мальчишки… пишут?
— Обижаются, что третий год не еду к ним. Грозятся бросить писать.
— Сюда взять не собираешься?
— Августа не отдаст. Она совсем завладела ими.
Дружная работа стариков старателей, сразу точно помолодевших в своем воодушевлении, казалась со стороны легкой. Они весело стучали топорами и молотками, звенели лопатами, подготавливая забой, тащили, будто муравьи, рельсы, доски, гидравлические трубы. Впервые старики столкнулись с механизмами. Они готовились облегчить свой тяжкий, первобытно-простой труд, и руки их, покрытые черствой коркой мозолей, почерневшие и потрескавшиеся, как сама земля, особенно бережно принимали и поддерживали переносимое оборудование.
— Они, должно быть, дружно живут, — добавила Анна, продолжая думать о механике и его жене. — Он расцвел за последнее время, и работа у него так и спорится.
— У хорошего человека всегда спорится, — негромко сказал Уваров.
— Нет, не всегда! Если на душе неспокойно, то это очень сказывается.
Уваров вопросительно посмотрел на нее.
Лицо Анны выразило печальную растерянность.
— Ты не понял меня. Я вообще… Хотя нет, не вообще. Поведение Андрея меня тревожит и в нашей личной жизни, — созналась она, снова обращая на своего друга открытый, но смущенный взгляд. — Ты пойми, Илья, как это мучительно: догадываюсь, хочу узнать, верно ли, и боюсь узнать. Я не спокойна, а мне хочется, чтобы… чтобы Андрей не заметил этого, не подумал бы, что я мелочная… ревную его. — Анна положила руку на горячую от солнца гидравлическую трубу, подведенную к эстакаде, потрогала язвочку ржавчины, желтевшую на железе. — Ревность разъедает чувство вот так. Нет, я не хочу! — сказала она с таким волнением, что у Ильи Уварова сжалось сердце, а широкие брови совсем наползли на переносье, придавая ему угрюмый, даже суровый вид.
То, о чем неожиданно заговорила с ним Анна, не было для него внезапностью, и тем не менее ему было нелегко слушать ее признание.
— Я верю в постоянную силу любви, осмысленную духовной близостью, — продолжала Анна торопливо и нервно. — Если эта уверенность обманет меня… Неужели я буду неправа? Не может быть! Значит, и не было настоящей любви, настоящей близости… Значит, просто сжились двое, не поняв до конца друг друга!.. Но ты знаешь, — она тяжело перевела дыхание, — нет, ты даже не представляешь, Илья, как мне будет больно, если я ошибусь.
Уваров не успел как-либо откликнуться на ее печаль: так же неожиданно, как начала, Анна умолкла и направилась в сторону, но ее сдержанное волнение расстроило его сильнее всяких жалоб.
«Ты не хочешь быть мелочной, — с горечью размышлял он, провожая взглядом уходившую Анну. — Ты допускаешь ее… — Он не сомневался, что речь шла о Саенко. — Ты допускаешь эту красавицу к себе в дом, разрешаешь ей играть с твоим ребенком и потихоньку испытывать прочность вашей семьи… Эх, Аннушка, я бы на твоем месте…»
Он не закончил мысли, не зная, что же он сам предпринял бы в данном случае.
36
Уваров повернулся и медленно зашагал в другую сторону. Он шел, твердо ступая по каменистой дорожке, но если кто-нибудь остановил бы его и спросил, куда он идет, то он не сразу нашелся бы, что ответить. Его остановила вода, над которой вдруг оборвалась дорожка. Мостков не было. Уваров огляделся и увидел, что зашел далеко.
Гибкие кусты молодого лозняка шелестели над мутной водой речонки; сквозь их листву, негустую, бледно-зеленую, виднелась просторная долина, огороженная горами. Вдали, среди островерхих серых валов песка и камня, тяжело ворочалась, лязгала, скрипела в своем котловане землечерпалка-драга. Поднятая с глубины и промытая ею золотоносная земля зубчатым следом тянулась по долине. Людей не было видно, и казалось, что гигантская машина-судно сама выполняла свою работу. Ее пронзительные стоны еще более одушевляли ее: как будто она искала что-то и жаловалась на трудную необходимость этих поисков наплаву.
Секретарь парткома рассеянно огляделся по сторонам и сел на прибрежную травку.
В камнях, вынутых из заброшенной старателями ямы, тоненько посвистывала мышь-каменушка. Нервно пошевеливая острым усатым рыльцем, она уже хотела выбежать из дремучих для нее зарослей петушьего проса, но увидела человека и попятилась. Вместе с нею подался в траву выводок рыжих веселых мышат.
Уваров не интересовался тем, что происходило за его спиной: мышь ли это пела или птица — не все ли равно! Он думал о горячей исповеди Анны, и самые противоречивые чувства теснились в его сердце. Она была для него товарищем по работе, он сдружился с нею, врос в ее радости и печали, воспринимая теперь ее тревогу, как собственную. Ему вспомнилась первая встреча с Маринкой два года назад, когда они познакомились. Андрей сидел тогда у стола, держал ее на коленях и рисовал для нее на большом картоне голову лошади. Получилось хорошо, но Маринка спросила:
— А где еще глазик?
И не отступилась до тех пор, пока отец не испортил рисунок, нарисовав на профиле лошади второй глаз. А нынче она этого уже не потребует, потому что стала понимать больше, чем ей следовало. Недавно она даже заявила ему, Илье Уварову:
— Ты совсем не изячный. Толстый какой!
Илья посмотрел на свои большие руки, смирно лежавшие на коленях, и несколько раз сжал и разжал кулаки.
«Да, не изячный, но добрый кряж! У Леньки моего такие же ручищи будут». И Уваров ярко представил свой первый приезд к сестре под Рязань; дом, окруженный яблонями, и кучу детей, барахтавшихся в саду на траве.
«Теперь там добавилась Наташка, — с доброй завистью думал он. — Бабушка какая-то приехала. Совсем хорошее житье пошло!»
«И какого еще рожна надо Подосенову? — с неприязнью переметнулся он мыслями к Андрею. — Обладает таким счастьем и потянулся на сторону! Нет, быть этого не может, — внезапно заключил он. — Анна просто ошибается».
Голоса приближавшихся людей вывели его из раздумья. Он поднял голову и посмотрел в ту сторону. По берегу медленно шли Валентина и Ветлугин. Тайон нехотя тащился за ними. Уварову стало неудобно, что его увидят сидящим на берегу, вроде тоскующей Аленушки. Он хотел подняться, но мысленно махнул рукой и остался на месте, внешне спокойный, даже вялый.
— Вас тоже выманила хорошая погода? — крикнул Ветлугин, останавливаясь. — Правда, вечер особенный!
— Пойдемте с нами! — предложила Валентина с ласковой улыбкой. — Виктор Павлович нашел неподалеку очень интересные отложения известняков. Там сохранились остатки древних растений и разных малявок.
— Как это вас заинтересовало? Ведь вы не любите ничего, что наводит на воспоминания о прошлом, — спросил Уваров, досадуя оттого, что помимо воли почувствовал себя подкупленным ее приветливостью. Он хотел быть суровым к ней за… Анну.
«И что за охота у нее кружить всем головы? Теперь она с Ветлугиным!» — заметил он про себя.
— Я говорила в более узком смысле, — возразила Валентина и нахмурилась, сразу став старше. — Иногда я говорю даже совсем не то, что чувствую. Интересно проверять свои мысли в споре. Это точно свежий ветер.
— Вернее, сквозняк в голове, — пробормотал Уваров, поднимаясь.
— Вы находите меня легкомысленной? — без обиды спросила Саенко. — Что дало вам повод так думать обо мне?.
— Ваши же собственные слова, — сказал Уваров и пошел рядом с ней, несколько озадаченный ее простотой. — Попусту спорить — воду в ступе толочь. Это может быть и от молодого задора, и от пристрастия к красивой фразе.
— Для пустословия я слишком нетерпелива… Правда, правда! — вскричала Валентина, заметив усмешку на лице Уварова. — Вы уже готовы обвинить меня в легкомыслии и еще бог знает в чем, а я просто далека от условностей. Во всяком случае, искренна.
— Да ведь вы сейчас заявили, что можете говорить не то, что чувствуете, — упрямо сказал Уваров, не глядя на нее, чтобы не поддаваться обаянию ее женственной прелести. — Замуж вам надо выйти! — сказал он неожиданно и нахмурился, опять недовольный собой. — Тогда постепенно у вас все войдет в норму.
— Не хочу я в норму! И вы не можете желать мне того, чего избегаете сами, — не без колкости сказала Валентина, не заметив при этом подавленного вздоха Ветлугина. — До сих пор мне не особенно верилось в возможность семейного счастья, — промолвила она после небольшого молчания.
— А теперь? — Ветлугин, едва заметным движением прижал к себе ее локоть.
— Теперь я старше стала, — уклончиво ответила Валентина. — Трудно устраивать жизнь заново, когда тебе уже не восемнадцать лет, когда на жизнь смотришь трезво и требования к человеку совсем иные… Чему вы так язвительно усмехаетесь? — вспылила она, взглянув на Ветлугина, который и не думал усмехаться.
— Мне кажется, чувства всегда одинаковы и даже с годами становятся безрассуднее, — сказал Виктор. — Безрассуднее именно потому, что во всем остальном смотришь на жизнь трезво.
Валентина рассмеялась.
— Товарищ Уваров может обвинить вас в противоречии с большим успехом, чем меня. Впрочем, вы можете ответить ему словами Уитмена: «Разве я недостаточно велик, чтобы вместить в себе противоречия?» А я соглашаюсь с вами при условии существенной поправки: безрассуднее потому, что любишь сознательно… Во всяком случае, можешь определить, какое значение это имеет в твоей жизни.
37
— Ничего похожего на известь, которой у нас белят стены! — сказала Валентина, глядя на розовато-серые скалы. — И какие формы причудливые: зубцы, башни, языки изогнутые.
— Это доломит, — пояснил Ветлугин, поднимая обломок.
— Известняк, богатый солью магния, — добавил Уваров хмуро. — Чтобы сделать из него известь для побелки, его надо обжечь. Действительно, вид здесь фантастический.
— Небольшая копия доломитовых Альп в Южном Тироле, — самодовольно похвалился Ветлугин. — А это мергель, тоже известняк. — Он потрогал отшлифованный изгиб камня и взглянул на Валентину.
Она стояла на скале, вся в белом, с золотой гривой развевавшихся волос. На нее, ярко освещенную солнцем, глазам больно было смотреть.
— В Америке и Швейцарии плитами мергеля мостят улицы, — громче, чем следовало, продолжал Ветлугин.
— А у нас? — спросила Валентина, рассматривая впаянные в стене известнякового утеса ракушки: какие-то зубчатые крючки, палочки.
— У нас из него делают цемент, — ответил Уваров, легко подтягиваясь на руках между двумя глыбами и усаживаясь повыше. — Когда здесь будут строить каменные города, вон тот мраморовидный доломит пойдет на облицовку зданий. Представляете, какие ступени получатся из такого розового известняка?
— Подумать только, что все это остатки микроскопических амеб! — искренне восхищаясь, воскликнул Ветлугин. — Но корненожка, вырастившая целые горы, была не простейшей голой амебой, а имела раковину и даже скелет — пылинку углекислого кальция! Какие мощные залежи такой пыли отложились на дне морей! Во время последнего горообразования эта плоть древнего мира, окаменевшая в морских глубинах, была поднята к самому небу. Из нее построены вершины Альп и нашего Крыма, и Эвереста в Гималаях. Эверест поднял ее на высоту почти девяти километров на границе Тибета и Индии, где теперь сплошной материк! Все это молодые горы… самые молодые: им около пятидесяти миллионов лет.
— А Кавказ?
— Кавказ тоже молод, и Памир, и Кордильеры в Америке. Урал старше их примерно на триста миллионов лет, он и представляет собою уже невысокие каменные развалины…
— Это звучит как пересказ из энциклопедии, — неожиданно насмешливо сказала Валентина. — Вы не заглянули в нее, часом, перед прогулкой? Нет, я шучу, не сердитесь, пожалуйста. Сколько же лет роду человеческому?
— Около миллиона.
— Опять «около»! Все миллионы да миллионы. А мне двадцать девять лет! Если сравнить, то получится корненожка!
— Учтите, что человек начал тонкую обработку камня всего семь тысяч лет назад, — сказал Уваров. Он сидел на облюбованной им светлой скале-башне и, вслушиваясь в разговор, смотрел сверху в гористые дали. — Семь тысяч лет назад в жизни человека, просуществовавшего на земле миллион лет, прикрепление к палке отшлифованного каменного топора было настоящим событием, — продолжал он. — А вы через семь тысяч лет плюс двадцать девять располагаете лучами рентгена и радия! Если вы корненожка, то корненожка гигантская.
— А Ветлугин радуется находке известняков. Тоже событие!.. Может, мы вымостим ими улицы приискового поселка!.. Нет, если быть корненожкой, то такой, которая обладает хоть пылинкой настоящего вещества, — заговорила Валентина, снова мгновенно меняясь: выражение уныния исчезло с ее лица. — Я не хочу быть голой амебой, которая только питается и множится. Скажите, — обратилась она к Ветлугину, стоявшему в печальной растерянности, — на что еще годятся ваши скалы?
— Доломит обогащен солью магния…
— Мы уже слышали это.
— Магний — металл, который намного легче алюминия. При горении он дает ослепительный свет, вы видели его у фотографов. Если будет война, мы увидим этот свет в ракетах…
— Пусть лучше не будет войны. Может быть, тут есть писчий мел?
— Нет, мел, или мягкий известняк, — отложение других корненожек. Вот мраморы произошли из настоящих, прочных известняков…
— Значит, Венера Милосская…
— Создана греческим скульптором и корненожкой.
— Любопытно!..
— Паросский мрамор славился прозрачностью излома и особым желтовато-розовым оттенком телесного цвета. Может быть, это качество придавало такое дыхание жизни созданиям античных художников, — снова оживленно заговорил Ветлугин. — Мрамор тоже плоть существ древнего мира. Недаром он применяется в виде пыли как удобрение в сельском хозяйстве.
— Любопытно! — повторила Валентина, подставляя течению ветра лицо, вдруг разгоревшееся жарким румянцем. — Но какое отношение ваша находка имеет к нам, приисковым жителям? К золоту?
— Это очень узкий, деляческий подход, — запротестовал Ветлугин. — Я не объявлял, что сделал важное открытие. Просто ехал мимо и обратил внимание…
— Отчего же Андрей Никитич не обратил внимание?..
— Как геолог, он еще скорее бы заинтересовался.
— Но он не стал бы с таким увлечением толковать о них. Вы думаете, он не видел эти скалы? Наверное, видел и спокойно прошел мимо, потому, что он целеустремленный человек, а не разбрасывается, как вы, тоже горный инженер.
В голосе Валентины прозвучала такая досада, что Уваров подумал: «Она не даст мужу почить на лаврах! Но что у нее: только ли упрек женщины, лично заинтересованной в успехах избранника?»
38
Через несколько дней Уваров, Анна и Ветлугин отправились на деляну стариков старателей, где был назначен пуск гидровашгерда. Все трое были в приподнятом настроении: крупные механизированные работы устанавливались на старательском участке впервые. Нужно было провести их как можно лучше, чтобы заинтересовать старателей района и оправдать доверие самих стариков, ожидавших себе тысячу благ от этой установки.
— Интересное дело, — басил Уваров, — теперь я хорошо представляю, что значит, когда почва уходит из-под ног. Бурильщики наших камер на руднике похожи на людей, идущих против движения конвейера. Правда! Шахтеры — все-таки отчаянный народ. Силенкой и характером они напоминают мне моряков. В молодости я служил на Тихоокеанском флоте… Как же! С Урала многих туда отправляют.
На деляне стариков-старателей Ветлугин и Анна пошли к насосной будке, а Уваров свернул к яме открытого забоя, в которую скатывалась по канату с высокой эстакады новенькая вагонетка. Человек семь забойщиков, покуривая, ожидали в яме. Старик Савушкин в празднично-новой рубахе при широком ремне похаживал у эстакады, по-хозяйски посматривая кругом. Все было начеку.
— Ишь, как ты подтянулся, — настоящий красноармеец! — сказал Уваров старателю, шутливо ухватив его под ремень. — Здорово, товарищи! Что-то вы плохо поправляетесь на молочке?
— Мы его уже не пьем, — сказал Савушкин. — Это питье нам не по вкусу пришлось.
Уваров прищурился:
— Почему?
— Да так уж… — неопределенно ответил Савушкин. — Оно тоже не совсем полезно, это самое молоко. С непривычки особенно. Бруцеллез еще какой-то в нем имеется…
— Ну?
— Ну вот, я и говорю: не полезно!
— Полезней спирта ничего нет, — ввернул свое слово старик завальщик, стоявший наверху эстакады, сложив на животе костлявые тяжелые руки и с хитрой, по-ребячьи озорной усмешкой смотревший на Уварова. — Молоко, оно иной раз скисается, а спирт сроду нет!
Раздался взрыв такого смеха, что Уваров не выдержал и тоже рассмеялся.
— Над чем вы потешаетесь? — спросила подошедшая Анна.
— Чудят наши старики! Корову-то они, похоже, продали.
— Продали, — деловито уже, с самым серьезным видом подтвердил Савушкин. — Не ко двору пришлась: то у ней молоко не спущается, то мышки ее давят. Скотина нежная, за ней уход да уход нужен. Где нам!
— Жалко, — сказала Анна. — Сами себя обижаете.
39
Полная вагонетка поднялась наверх, с шумом посыпалась земля, проваливаясь сквозь люк на промывальный прибор — вашгерд.
Старатели второй смены заинтересованно столпились вокруг. Савушкин, побледнев от волнения, встал на свое место мониторщика. Под самый потолок навеса ударил столб воды из монитора, распался радужно сияющим облаком и снова сквозь эту расцвеченную утренним солнцем водяную пыль забил одной струей, кипенно-белой и ровной. Лица старателей так и осветились радостью, но, когда мощная струя ударила в комья породы, разламывая и перевертывая их, когда полетели вниз выбиваемые ею увесистые камни, все старики сразу заволновались.
— Легче, ты, легче! — закричали они Савушкину. — Придерживать надо малость.
— Попробуй придержи! — огрызнулся тот.
— Тебя приспособили, ты и соответствуй.
— Разве этак можно?
— Силища такая! Поставить вместо пожарной кишки — она и дом разнесет.
— Где же тут золотинке удержаться, когда такие каменюги выбрасывает?
— Все идет как следует, товарищи, — попробовал успокоить их Ветлугин, но они не слушали, даже не замечали его, а продолжали напирать на Савушкина-мониторщика, крича в один голос:
— Хватит!
— Заткни ты ее!
Савушкин растерялся. Струя взвилась вверх и оборвалась, обдав присутствующих холодными брызгами.
Прислушиваясь к тому, как журчала среди внезапной тишины вода, стекавшая по промывальным шлюзам, Анна оглядела старателей, громко сказала:
— В чем дело, товарищи? Вот Виктор Павлович, опытный инженер, ручается, что все идет нормально. Я тоже это подтверждаю.
— А мы этак не можем…
— Пустое дело!
— Конечно, может, кое-что будет оставаться…
— Нет, уж лучше по-старому, на бутаре. Хоть меньше песков промоешь, зато все золото соберешь.
Савушкин сразу злобно взъерошился и, расталкивая всех, протиснулся к Анне.
— Издевка получается, товарищ директор! — закричал он сердито. — Мы, можно сказать, со всей душой на это дело пошли: ни себя, ни трудов не жалели и на такое напоролись! Вам, конечно, ничего: вы ученые, за свои выдумки жалованьице получаете, а мы тут силу напрасно кладем. Не согласны! Оставьте нам насосик и вагонетку, раз уж труды наши вложены, а дудку снимите. И будем мы по-стариковски мыть, потихонечку.
— Нельзя сейчас мыть потихонечку, товарищ Савушкин! Нам золото нужно. По-старому вы давали всей бригадой кубометров десять в сутки, а здесь будете промывать до ста пятидесяти. В пятнадцать раз больше.
— Нам это не больно интересно! Будем землю ворочать, надрываться из-за кубометров, а золото зря уйдет.
— Да кто вам сказал, что оно уйдет? — Анна посмотрела на упрямо поджатые губы Савушкина, с минуту подумала, потом обернулась к Ветлугину. — Сходите в управление, возьмите в кассе… возьмите четыреста граммов золота. Сейчас мы проверим.
40
Через полчаса Ветлугин вернулся в сопровождении работника охраны. В напряженной тишине он распечатал тугой мешочек, вытряхнул содержимое на совок, пересчитал самородки и на виду у всех швырнул золото на груду мокрых камней и грязи.
Золото упало в грязь, и одновременно у старателей вырвался такой дружный вздох сожаления, что Анна рассмеялась.
— Ну вот, мы ищем, а они швыряются! — сказал Савушкин, сокрушаясь.
— На ветер не напасешься! — откликнулся другой из толпы, и еще кто-то крикнул совсем невразумительное, и вся толпа взорвалась ревом.
«Что, если и вправду уйдет? — невольно смущенная порывом толпы, подумала Анна. — Бывают нелепые случаи… — Она посмотрела на Ветлугина, ставшего на место мониторщика Савушкина. — Бросил тоже под самый удар! — И еще она подумала, бледнея, когда снова забила струя воды: — Не бросаю ли я так же под удар и свою любовь?»
Когда пробная промывка кончилась, промывальщик сгреб в лоток черные и тяжелые железистые шлихи, осевшие сквозь решетки на дно деревянных колод-шлюзов. Теперь нужно было «довести» — отделить снятое золото. Старатели, оживленно тесня друг друга, столпились около. Так же волнуясь, подошла Анна.
Промывальщик ловко, легко и бережно крутил в воде широкий лоток, потряхивая его, споласкивал через край. Золотой песок и самородки желтели уже сквозь смываемые шлихи на дне лотка. Это были те самые самородки, которые бросил Ветлугин, но песку заметно прибавилось.
— Пожалуйте сюда, Анна Сергеевна, отсюда виднее, — предупредительно обратился Савушкин к директору, расталкивая острыми локтями своих, тоже сразу отмякших товарищей. — Сбили они меня с толку. Этакий рев подняли! Известно, народ неученый!.. — И Савушкин так улыбался, синенькие глазки его так ласково лучились, как будто совсем не он орал на Анну какой-нибудь час назад.
41
— Какая страшная вещь — сомнение! — сказала Анна Ветлугину, идя с ним по соседнему участку, где другая бригада старателей укладывала трубы для гидравлических работ.
— Да, когда люди сомневаются в чем-либо, они не хотят работать, — сказал Ветлугин, — зато какой подъем вызывает у них ревность к чужим успехам в труде…
В личной жизни наоборот, сомнение заставляет нас стремиться к совершенству, а ревность… О, ревность только озлобляет и унижает человека! — Ветлугин помолчал, присматриваясь к старателям, тащившим трубы и нехотя, через пень колоду, строившим эстакаду. Вот они будут завтра завидовать тем, кто сегодня уже осваивает промывку на гидровашгерде, и эта зависть сразу подхлестнет их на большие дела. Да, да! А представьте себе, что будет вон с тем дядей, если его милая потянется к другому. В лучшем случае он опустится донельзя, в худшем — зашибет их обоих. Ну, что бы вы сделали, если бы приревновали серьезно? — неожиданно спросил Ветлугин, заглядывая в лицо Анны.
— Зарезала бы, — мрачно пошутила она. — А вы?
— Я зарезал бы себя!
— Отчего же себя?
— Оттого, что мне не дано права…
— Зарезать?
— Нет… любить.
— Любить для того, чтобы зарезать! — промолвила Анна в печальном раздумье. — Почему же не остается благодарности за испытанное счастье? Неужели надо мстить за то, что была возможность изведать его? Нет! Это просто потому, что мы еще не научились жить, — с горестным увлечением сказала она. — Ревность — такое огромное чувство, она не может унижать человека. Она, как и любовь… нет еще сильнее!., должна толкать его на хорошее, чтобы он мог стать лучше, умнее, красивее, чем тот, на кого его меняют.
— Простите, Анна Сергеевна, но ведь это риторика! Любовь слепа, ее ничем не удивишь: ни умом, ни хорошими делами, поэтому так зла ревность.
— Вы опять за свое старое?
— Да, я как Лютер: «Стою на том и не могу иначе».
— Бог с вами!..
— Аминь, — заключил Ветлугин грустно и остановился возле двух трубных обогатителей, только что сгруженных возле будки землесоса. — Вот они, любезные! Теперь старатели начнут греметь.
42
— Я думаю, мы вылезем из прорыва, если пустим в ход все, что у нас имеется… до наших сердец включительно, — ответила Анна с острой усмешкой.
— Уваров мне сказал, что вы не включили в список сотрудников, представляемых на премию, никого из моих рабочих с рудной разведки? — с этими словами Андрей раздраженно подвинул к себе стул, но не сел, а, опираясь обеими руками на его спинку, посмотрел на директора.
То, что лучшие его рабочие были обойдены, возмутило Андрея. Он не волновался бы, если бы речь шла о нем самом. Поощрение собственному беспокойному труду он находил в сознании его нужности, в том, что именно ему, главному геологу управления Подосенову, досталась такая почетная задача. А рабочие, в том числе и Чулков, хотя тоже не нуждались в особом поощрении, будучи всей душой преданы делу, заслуживали, по мнению Андрея, того, чтобы просто порадовать их чем-нибудь.
«Будет свинством не отметить их ударную работу, — думал он, вспоминая веселого Моряка и Дементия Мирского, которого разведчики именовали Митей, и остальных работавших на Долгой горе. — Они живут в тяжелых условиях, но не жалуются, ничего не требуют и не падают духом при неудачах, потому что верят в успех».
Анна вполне понимала и разделяла чувства Андрея-организатора.
— Но ты пойми, Андрюша: мы их не включили потому, что это совершенно невозможно, — мягко сказала она. — Поощрения, премии — общественное дело…
— Конечно, общественное, а не семейное! — желчно расшифровал Андрей недосказанное ею. — Так, что ли?
Она, не теряя самообладания, встретила и выдержала его недобрый взгляд. Ее молчание подтвердило его догадку.
— Вы считаете рудную разведку фиктивной единицей потому, что она существует отныне на ваши личные деньги! Это вы имеете в виду? — говорил он, бледнея и продолжая с силою сжимать спинку стула.
— Нет, я ничего подобного не имею в виду, — возразила Анна внешне спокойная и именно своим спокойствием особенно раздражавшая Андрея.
Ей все равно… Ей безразлично то, что касается меня и моей работы, — думал он. — Отчего такое равнодушие? До сих пор совместная работа и трудности, связанные с нею, укрепляли нашу дружбу, были радостью и гордостью, а теперь… не то! Не любит она меня больше — вот в чем дело! — неожиданно для себя заключил он свои мысли. — Да и любила ли раньше-то?
Андрей представить не мог, как трудно было Анне сохранять спокойствие, как больно воспринимала она каждое его злое движение. Деньги! Раз решившись отдать их, она сама не напомнила бы о них ни единым словом. Можно ли в их отношения вносить дрязги из-за денежных расчетов?
— Я совсем не то имею в виду, — сдержанно ответила она, перекладывая бумаги на своем столе: ей надо было занять каким-нибудь делом руки, которые начали выдавать ее волнение. — Ты сам знаешь, что в тресте считают Долгую гору безнадежным объектом, но пока смотрят сквозь пальцы на продолжение твоей разведки. Мы молчим, молчат и они. И вдруг мы представим к премии рабочих этой самой разведки! Нам, конечно, скажут: позвольте, а где результаты! Что вы имеете по приросту запаса?
— А Утинка, а золото на амбарчике? — начал перечислять Андрей, с неприязнью глядя на неторопливые движения рук Анны. Впервые он почувствовал острую неприязнь к ней самой: ее голосу, к лицу, с этим не идущим к ней, старящим ее выражением неестественной холодности. — Ведь разведка производится там рабочими с Долгой горы!
— Тем более нет основания показывать их как разведчиков руды.
— А Чулкова? Хотя бы… его!
Лицо Анны выразило мучительное нетерпение.
— Человек всего себя отдает делу, — продолжал Андрей запальчиво. — Ни выходных, ни сверхурочных, от отпуска даже отказался.
— Но результаты? — повторила Анна и протянула руку: жест, показавшийся Андрею особенно фальшивым.
Презрительно-злая усмешка искривила его лицо.
— Мы представляем на премии лучших работников тех отделов и производственных единиц, которые выполнили свою программу. Ты должен знать это! — закончила Анна твердо, хотя и побледнела, заметив ясно выраженное отношение к ней на лице мужа.
— По объему горно-разведочных работ мы перевыполнили наличными кадрами все, что намечалось по планам. А результат… Он ведь не от рабочих зависит. Однако без их усилий результата не может быть.
— Его и нет!
— Но он будет! Наш труд — поиски, а не добыча готовой руды!
— Мне кажется, настаивать не в твоих интересах, — устало промолвила директор.
43
— Мы выедем завтра утром, а инструмент и трубы для буров отправим вьюками сегодня, — сказал Андрей, поглядывая то на карту, прижатую рукой Ветлугина, то на него самого. — Чулкова я беру с собой, хотя он необходим на Долгой горе и на россыпи по Звездному: вдвоем мы быстрее и лучше определим места новых разведок. Он вернется недели на две раньше меня, но если тут что-нибудь потребуется… на Рудной… я вас очень прошу о содействии.
— Само собой разумеется, — уверил Ветлугин сухо. Сейчас все в Андрее раздражало его, особенно беспокойство о пустой, убыточной работе.
— Конечно, я прослежу, — добавил он, нисколько не смягченный мыслью о предстоящем Андрею нелегком и хлопотливом пути.
Да, он сделает так, чтобы работа на Долгой горе велась, как и при Андрее. Пусть сама действительность докажет им, что они ошибаются.
Легко сказать — ошибаются! Теперь от успеха разведки зависела жизнь предприятия. Ветлугину представилось мертвое молчание над занесенными снегом отвалами и ямами, вмерзшие в лед колья разломанных плотин, звериные следы у редких бараков, слепо глядящих черными провалами дверей и окон на тайгу, снова наступающую на них с окрестных гор. Зарастут порубки густым лесом, затянутся высокой травой, только поближе к воде, под кустами гибкой вербы, останутся навсегда, как глубокие шрамы, следы земляных работ. Вот судьба всякой россыпи после короткой вспышки лихорадочного оживления. Рудное золото не то: оно на долгие годы.
Ветлугин питал неприязнь к геологу за его увлечение Долгой горой, но еще больше из чувства ревности. Но, осуждая Андрея за первое, Ветлугин все-таки понимал его, а за Валентину не мог простить, хотя и сознавал, что Подосенов здесь неповинен.
«Странно сказала Анна Сергеевна, будто ревность должна толкать людей на хорошие дела!» — вспомнил Виктор.
Он смотрел на карту района, в который собирался ехать Андрей, пестревшую отметками о работе геологической поисковой партии. Топограф, составивший ее, был артистом своего дела. Ветлугин представил, как он лазил по глухим чащобам, по кручам сопок, как смотрел в золотой глазок нивелира и как тетерева, озлобленно дравшиеся на светлых опушках, нехотя взлетали перед ним со своих токов.
«Неужели у нас должно быть всегда так же, как у этих петухов?» — подумал Ветлугин с горькой усмешкою. Неожиданно ему припомнилась горячая откровенность Валентины, с которой та отчитала его на известковых скалах за отсутствие… целеустремленности!
Пальцы его слегка дрожали, он прикрыл их ладонью другой руки, напряженной и сильной; прямо взглянул в лицо Подосенова.
— Вы можете ехать спокойно. Я сделаю все, что нужно.
* * *
От Ветлугина Андрей прошел в кабинет директора, где сидела целая компания матерых таежников. Увлеченная жарким разговором, Анна только мельком взглянула на мужа, который постоял и сел, прислушиваясь, о чем шла речь Анна предлагала старателям возобновить заброшенную рудную штольню, заваленную оползнем года четыре назад. Старатели рядились об условиях кредита, напирая на то, что штольня-де была оставлена из-за слабого содержания золота, а потом уже обрушена и взять ее теперь для разработки — все равно что разведывать заново.
Андрей слушал, не сводя глаз с лица жены, то внимательного, то улыбающегося, с ее крупных рук, листавших подшитые в папке бумаги. Он хорошо знал ее деловую манеру и, видя тактичность и напористость, с которыми она уговаривала целую артель видавших виды мужчин, испытывал смешанное чувство гордости за нее и обиды за то, что она в трудный для него час побоялась поддержать его.
Разговор с нею о предстоящей поездке укрепил в нем чувство отчуждения и обиды.
С этим Андрей вышел из кабинета и неожиданно в коридоре столкнулся с Валентиной.
Они поздоровались молча и, не найдя, что сказать, в замешательстве остановились.
— Я уезжаю, — неловко сообщил геолог, прерывая молчание. — Завтра с базы уходит пароход, и я уезжаю в тайгу.
Саенко, будто не расслышав, ласково улыбнулась.
— Уезжаю на целый месяц, — повторил он.
— Даже так? — сразу опечаленная, сказала Валентина. — На целый месяц!
Чувство смутной тревоги не покидало Андрея до вечера. Он сам не мог понять, радостно ли было ему, грустно ли: так быстро менялось в нем все, то вспыхивая, то тускнея, как облачный ветреный день. Сидя у себя в конторе, он с серьезным видом слушал то, что говорил ему агент по техническому снабжению, и вдруг улыбнулся. Агент, маленький, кругленький, со странно оттопыренными ушами, принял улыбку на свой счет и недоумевающе умолк.
— Продолжайте! — кивнул ему Андрей, и агент снова стал обстоятельно перечислять то, что выдавалось со склада для разведочной партии.
Подосенов, не перебивая, слушал, но думал о том, как непохож этот мягонький человечек на старателей, разведчиков и шахтеров и о том, как скучно жить такому слабому и некрасивому, неведомо какими путями попавшему в тайгу.
Оборудование для новых разведок отправили на речную базу только вечером. Понаблюдав за рабочими и конюхами, которые завьючивали лошадей у склада, Андрей неторопливо пошел домой.
— Ты уезжаешь? — спросила Маринка. Она обняла его колени, печально моргая, посмотрела на него снизу. — Мама не дает мне укладывать… твои вещи. Я хотела помогать, да просыпала бритвенные порошки. Такие мыльные порошки… И она сказала: «Ты все мешаешься, ты все путаешь». Почему ты молчишь, папа? Попроси ее хорошенечко. Я так люблю помогать…
— Мы вместе займемся сборами в дорогу, — сказал Андрей растроганно.
Он взял дочь на руки, посмотрел в ее серые глаза, опушенные темными ресницами. Это были его глаза, но еще по-детски округленные и очень яркие.
— Мы будем вместе, — бормотал Андрей, идя с нею по комнатам. — Где она, эта наша сердитая мама? Почему она мешает нам просыпать мыльные порошки?
Анна стояла на коленях перед открытым чемоданом, из которого перекладывала в другой, поменьше, отутюженное белоснежное белье.
— Вон там… — Маринка показала на край ковра. — Там я зацепилась и уронила мыльную перечницу. Я хотела скорее!
— Нет, ты зацепилась потому, что никогда не смотришь под ноги, — сердито возразила Анна.
— Ты собираешь меня, точно на курорт, — сказал Андрей, неприятно задетый раздражением жены, понимая, что раздражена она потому, что ей опять приходится заниматься домашними мелочами. — Зачем такое белье? Положи лучше трикотажное. — И, болезненно нахмурясь, подумал: «Ох, скорее бы уехать, что ли!»
— Сейчас жарко! — ответила Анна. — Ты сам будешь доволен. Трикотажного я тоже положила две пары.
— Сколько же всего?
— Пять пар.
— Так много! Я ведь еду только на месяц.
— На целый месяц! — вырвалось у Анны, и лицо ее выразило нежность и грусть.
Андрей присел рядом.
— Лучше бы ты распорядилась насчет ужина, а мы с Маринкой здесь живо все устроим.
— Правда, мы устроим, — обрадовалась девочка.
— Уж вы устроите! — с сомнением сказала Анна.
Но они действительно собрали и уложили все очень быстро. После этого Андрей принялся набивать патроны для охотничьего ружья — очень интересное занятие, в котором можно принять самое деятельное участие.
— Пыш-ш… — шептала Маринка, вынимая гибкими пальчиками очередную «штучку». — Он тоже вылетает из ружья?
— Вылетает, — рассеянно повторил Андрей. — О чем ты, Марина?
— Пыж… Вот он, лохматенький. — И, не дожидаясь ответа, спросила еще: — А когда гремит, тогда сам патрон вылетает?
— Да.
— Или, может, одни дробины? — допытывалась она, уже не доверяя рассеянным ответам отца. — Может, одни дробины без патрона?
— Да, — кивнул Андрей, быстро крутя машинку.
— Какой ты, папа! — девочка отодвинулась обиженная. Она еще понаблюдала, как ловко завертывала машинка внутрь мягкие края патронов, и вдруг насторожилась: — Кто-то пришел, я посмотрю…
Подосенов зарядил последние гильзы и начал складывать их в специально приспособленный ящичек.
— Восемь… двенадцать… — считал он тяжелые пары, — двадцать три.
— Там Валентина пришла… Ивановна! — сообщила Маринка, влетая в комнату.
44
Саенко сидела возле Анны, торопливо починявшей прорванный рюкзак.
— Вы никогда не бездельничаете, каждую минуту заняты, — говорила она почти с завистью.
Рука Анны нетерпеливо дернула и порвала снова заузлившуюся нитку.
— Всегда так, если торопишься! — с досадой прошептала она. — Какие-то узлы противные! — Она искоса взглянула на Валентину и, ожесточаясь, промолвила: — Эти мелочные занятия страшно связывают женщин: столько времени тратишь, и мозги засоряются чепухой! Иногда я просто задыхаюсь, — продолжала она, опять бросив на Саенко недобрый взгляд. — Хочется стряхнуть все и идти, дыша полной грудью. — С минуту Анна шила молча, прислушиваясь к тихо звучавшим голосам мужа и дочери; лицо ее постепенно прояснилось. — Нужна большая любовь, чтобы охотно заниматься мелочами быта, — добавила она и покраснела, вспомнив, что точно такие же слова сказала вчера Андрею, когда ей пришлось отложить свои дела, чтобы помочь ему отыскать запонки.
После долгих поисков она нашла их в игрушках Маринки, сунула коробочку мужу и, кипя досадой, ушла к себе. Сейчас ей ясно представилось его неподвижное лицо и отчужденный взгляд.
«Он обиделся на мою резкость, — сказала она себе, сожалея, что так получилось. Потом она была занята до поздней ночи, а утром просто забыла о маленьком домашнем конфликте. — Да и Андрей, наверное, забыл, — подумала она, представив объем своей и его работы и незначительность этого „конфликта“. — Не объясняться же из-за каждого слова».
— Если хотите, поедемте под выходной день с нами… со мной и Маринкой… в дом отдыха, — сказала она Валентине. — Тогда вы увидите, каким лодырем я могу быть.
— А вот я и папа! — объявила Маринка. — Мы набивали в патроны, а потом умывались.
— Ты не даешь отцу отдохнуть!
— Он не отдыхал! Когда он отдыхает, я хожу на самых цыпочках…
Андрею стало опять неловко оттого, что он не знал, здороваться ли ему еще раз с Валентиной. После заметного колебания он подошел к ней.
«Она теперь даже кокетничать не может, — заметила про себя Анна, собирая в кучу приготовленные вещи. — Она смотрит на него испуганно и преданно, словно девочка. Господи, неужели опять она будет сидеть весь вечер!»
Но Валентина не засиделась на этот раз и даже не осталась ужинать: ей слишком трудно было владеть собою.
— Я вашей собачке косточки приготовила, — умильно сказала ей Клавдия, когда она собиралась уходить.
Саенко взяла у нее из рук тяжелую мисочку, потом обернулась к Андрею, и снова, как утром в конторе, молча посмотрела на него.
Клавдия на кухне вытирала о фартук чистые, сухие ладони. Умильное выражение на ее лице сменилось озлоблением: она, старая девушка, сгорала от неосознанной зависти к Валентине.
— Бессовестная! — прошипела она и по-ребячьи показала острый язык. — Вот тебе! Вот… — И энергично потрясла сухонькими кулаками-кукишками.
45
Маринка и Тайон сидели рядом. Тайон позевывал. Ему, видимо, совсем не нравилась затея с поездкой в лодке; куда лучше было лежать в тени возле кухни, в обществе Рекса и Дамки. Собаки эти, жившие при доме отдыха, отличались миролюбием, и Тайон сразу заважничал, оттесняя от общей миски рослого, но глуповатого Рекса. Несмотря на его нахальство, они очень дружно облаивали втроем ночью лесные шорохи.
— Посмотри, Тайончик, какие маленькие человечки лежат на берегу. Сколько лодок! Там Юркин папа. Он, знаешь, работает под землей. Теперь он отдохнул и стал совсем черный, прямо как из хаты дедушки Тома.
— Марина, сиди смирно!
— Я совсем смирно. Мы разговариваем. Ты видела, как Юркин папа поднял меня сегодня одной рукой? Он очень сильный!
— Для того чтобы поднять тебя, много силы не требуется!
— Нет, требуется. Он сказал: «Ух, какая ты крепенькая!» — И Маринка самодовольно улыбнулась. — Там еще один есть… Ох, как он прыгает!
— Не подскакивай на скамейке, ты свалишься в воду.
— Не свалюсь! Ты видела его, когда играли в волейбол? Он умеет гасить мяч. Помнишь — все закричали? Это он чуть-чуть не оборвал сетку — совсем навесился на нее. У него все время глаз подмигивает оттого, что испугался медведя.
— А ты уже успела спросить?
Валентина сидела на корме, молча рулила, глядя на Анну, которая босиком, в просто сшитом полотняном платье, с волосами, заплетенными в косу, гребла, напрягая при каждом ударе веслами красиво округленные мускулы рук.
«Какая она юная сейчас! — думала Валентина, прислушиваясь к сипению воды, рассекаемой лодкой. — Сейчас я чуточку повернула влево — и мы поехали к протоку, теперь вправо… и мы подвигаемся к острову. Что, если налетим на эту скалу? Лодка опрокинется, и все мы утонем». — Валентина представила себе горе Андрея, но взглянула на гордую голову Анны, на ее сильные руки и точно наяву увидела, как эти руки сразу выхватили бы ребенка из холодной текучей глубины, как яростно боролись бы они за его жизнь!
«А если бы случайно спаслись только я и Маринка, — подумала Валентина и испугалась. — Вот так, наверное, убивают и грабят! Да, да… Сначала просто мерещится „это“, а потом…»
— Правьте к острову! — сказала Анна, поднимая весла и осматриваясь. — Вон к тому мысику. Вам нравится там?
— Очень! — ответила Саенко и покраснела.
На белом песке пустынного берега громоздились кучи сухого, чисто вымытого плавника. За песком, за редкими корявыми ивами, обросшими в половодье блекло-зелеными космами тины, прохладно кустился лес. Женщины высадили своих пассажиров, вытащили лодку на горячий песок.
Анна натаскала груду плавника для костра, а когда огонь погнал густые завитки дыма, принялась подбрасывать в него сухие сучья, пока он, к восторгу Маринки, носившейся по берегу наперегонки с Тайоном, не загудел одним огромным, рвущимся вверх пламенем.
— Теперь мы не сможем повесить чайник! — сказала Валентина, успевшая искупаться и принести воды.
— Мы потом вскипятим чай… — ответила Анна, не отрывая взгляда от рыжей гривы огня, развеваемой ветром. — Смотрите, как он торопится жить, но чем больше в нем жадности, тем быстрее все кончится.
— Это оттого, что сухие дрова, — отразила возможный намек Валентина, тоже огненная в своем оранжевом купальном костюме. — Дайте ему сырое полено, и он начнет ворчать и глодать нехотя, точно сытая собака.
— Да, дрова сухие, — низкий голос Анны прозвучал глухо.
46
Они воткнули в песок четыре палки, натянули на них простыню. Река дышала прохладой, а на песке было жарко.
Женщины лежали на нем и тихо разговаривали, радуясь ветерку, который набегал из прибрежных кустов, щедро заплетенных диким хмелем и повиликой, и вместе с дымом костра отгонял комаров.
— Вы обещали лодырничать: ведь сегодня выходной, — говорила Валентина, купая руки в сыпучем песке; теплые струйки его скатывались по ее плечам, она ловила их ладонью, снова сыпала на плечи и шею. — Вы хотели отдыхать, а захватили книгу. Разве это отдых? Я вот готова хоть целый день лежать, ни о чем не думая.
— Ни о чем не думая?
— Да, ни о чем! — подтвердила Валентина с притворным спокойствием. — Разве вы не устали от деловых звонков, приказов, заседаний? Разве вам не хочется иногда вздремнуть среди тысячи рассуждений?
— Нет! — Анна нервно засмеялась. — Если эти рассуждения интересны, я слушаю с увлечением, если скучны и неумны, начинаю сердиться. И в том и в другом случае спать не хочется.
— А дома? — пытливо поглядывая на нее, спросила Валентина. — Когда вы приходите домой, чтобы отдохнуть, но вместо того задыхаетесь от всяких мелочей… Помните, вы так сказали? Но еще раньше вы говорили совсем иное…
— Задыхаюсь? Да, бывает, но не потому, что хочу отдохнуть, а мне не дают… Напротив, я отдыхаю именно среди этих мелочей. Сейчас другое: огромное напряжение в работе, и потому все постороннее раздражает меня. Но так стыдно и тяжело, когда вдруг начинаешь ворчать, словно старая бабка, этим оскорбляешь самое дорогое сердцу. Мне всегда кажется, что я слишком мало внимания уделяю своей дочке. — Анна поглядела на Маринку, которая, вырыв в песке порядочную яму, пыталась уложить в нее Тайона, и грустно усмехнувшись, продолжала: — Нехорошо иметь одного ребенка: его или забывают или балуют, но он все равно одинок и потому постоянно мешает взрослым. Если бы наша первая девочка была жива, Маринке жилось бы веселее.
— Отчего она умерла?
— От скарлатины. Мы оба учились, когда она родилась. Я приносила ее из яслей и бежала в магазин. Андрей в это время возился с нею и готовился к экзаменам. Или он шел в очередь, а я, дрожа над каждой копейкой, хозяйничала, также занимаясь на ходу. Было трудно.
— И ребенок умер?
— Не во время нашей учебы! Вот что обидно… Она умерла, когда мы уже начали работать и у нас были средства к жизни.
— А если бы она умерла тогда, когда вы еще учились, вы тоже чувствовали бы себя виноватой?
— В чем? Разве я как женщина, как мать не сделала все, что от меня зависело? — Анна села, обхватив руками колени, и, глядя на сизых голенастых куличков, деловито бегавших у воды, заговорила в раздумье: — У меня есть знакомые. Мы учились вместе… Когда они были на втором курсе, у них родился ребенок. Тогда эта студентка бросила институт, чтобы дать возможность своему мужу «создать себе положение». Я помню, многие студенты восхищались ее «сознательным» поступком. И муж действительно легко закончил институт, теперь в аспирантуре.
— А она? — спросила Валентина с живостью.
— Она мать уже троих детей. Но вместо того, чтобы радоваться этому и гордиться положением мужа, при всяком случае напоминает ему о том, чем она пожертвовала для него. Ей кажется, что он это забывает, что он не ценит и не уважает ее.
— Ужасно, — пылко сказала Валентина. — Ужасно! — повторила она со злостью и тоже села, упираясь ладонями в песок. — О! Я отлично помню по жизни своей матери, что значит целиком зависеть от мужа, да еще имея на руках ребенка от первого брака! Когда тебя могут попрекнуть каждым куском, каждой тряпкой! Вечно подделываться к чужому настроению, привычкам, прихотям… Довольно! — закричала Валентина, с веселой яростью вскакивая на выброшенный половодьем пень и топая по нему своими узенькими пятками.
— Верно! — смеясь, подхватила Анна. — Нельзя приносить в жертву примусу наши человеческие интересы.
— Ой, посмотрите! — вскричала Валентина.
Тайон, сбежав от хлопотливой Марины, мокрый после купанья, валялся на песке с косынкой Анны в зубах.
— Он совсем одурел на приволье! — сказала Анна с досадой. — Что он сделал с нашими платьями! — Она вскочила и побежала к собаке, за ней Валентина, потом Маринка с лопаткой в руке.
Тайон, очень довольный поднявшейся суматохой, пустился наутек и бегал до тех пор, пока не выронил косынку, и тогда ее, измусоленную, подхватила Марина.
— Ой да я! — сказала она, радуясь и просовывая пальчики в дырки, оставшиеся на шелке от собачьих зубов.
47
Маринка первая разглядела на берегу, возле причала, знакомую фигуру в полушубке и меховой шапке.
— Дедушка встречать пришел.
— Верно, это Ковба, — сказала Анна, щурясь от дыма головешек, положенных в жестянку для защиты от комаров.
Лодка пошла быстрее, и Валентина с грустью оглянулась на остров, уже слившийся с синей полосой дальнего берега. Золотая рябь струилась по реке, уносившей этот солнечный блеск к болотистым низинам тундры, к Ледовитому океану. Еще день прошел…
«Я должна переломить себя и выйти замуж за Виктора. Неужели никогда не смогу полюбить его?»
Она попробовала вообразить себя женой Ветлугина, и ей захотелось плакать, потому что никого не нужно ей было, кроме Андрея. Его голос, смех, каждую черточку лица она любила. Валентина даже зажмурилась, представив, как она подходит к нему и его руки встречают и обнимают ее. Неужели этого никогда не будет? Никогда… Валентина посмотрела на Маринку. Та, морщась от лучей низкого солнца, забавно изогнув полуоткрытые губы, пристально смотрела на приближавшегося вместе с берегом деда. Сходство ее с отцом ущемило и тронуло Саенко.
«Ой, да какая я несчастная! — судорожно вздохнула Валентина, вспоминая снова заразительный смех Андрея. — Нет, надо переломить себя! Надо забыть… Вот пока его нет, совсем не думать о нем, и, может быть, все пройдет. Должно пройти. Забыть! Забыть!» — твердила она, охваченная озлоблением на самое себя, на Андрея, на Ветлугина, который так хотел, но не мог заинтересовать ее.
Анна первая выскочила на берег, потянула лодку, которая звучно шаркнула о камни; мутная вода, переливаясь в корму через поперечные порожки днища, опрокинула и залила зашипевшие головешки. Валентина поднялась, строгая, притихшая.
— Давно ждете? — обратилась Анна к Ковбе, сразу переключаясь на деловой тон.
Он молча полез в карман, достал что-то завернутое в тряпицу, отстегнул большую английскую булавку, начал не спеша развертывать. Женщины, Маринка и даже Тайон нетерпеливо следили за его трудными движениями. Размотав тряпку-платок, он вынул ровно свернутую бумажку, подал ее врачу и только тогда сказал:
— Дохторов мобилизуют.
— Куда?
— В тайгу. Прививки делать. По телефону передали со стана. Срочно, мол, требуется выехать. Постановление получено из области.
— На чем же я поеду? — беспомощно от растерянности спросила Валентина, передавая телефонограмму Анне. — Тут пишут: в таборы кочевых эвенков… Где-то на Омолое.
— На оленях придется, — сказала директор.
Конюх Ковба с сомнением покачал головой:
— Трудно на них без привычки-то! Седелка так ходуном и ходит, так и сбивается на сторону.
— Вы ездили?
— Как не ездил? Приходилось.
— Ну и что?
— Ничего… Слетал раз до ста. — Ковба посмотрел на озабоченное лицо Валентины, улыбнулся. — Это я шутю — сто не сто, а разов пять падал.
— Если вы столько падали, так я вовсе на олене не удержусь, — промолвила Валентина опечаленным голосом, но вспомнила поездку с Андреем и сказала: — Может быть, обойдется по-хорошему: я быстро везде осваиваюсь…
— Конечно, освоитесь, — успокоила Анна. — Мы дадим опытного проводника, и он будет вас оберегать. Есть у нас один такой… Кирик.
— Кириков-то? — спросил Ковба. — Он бедовый: с ним нигде не пропадешь! У нас с ним дружба. Трубочку зимой у меня выпросил, взамен рукавички беличьи давал. Я не взял, так он мне после двух глухарей приволок. Вот он какой!
— С ним и поедете, — сказала Анна, улыбаясь Ковбе и своему воспоминанию о Кирике.
«Обрадовалась, что я уеду, — подумала Валентина, обиженная ее улыбкой. — Хотя Подосенова сейчас нет… и когда я вернусь, еще не будет… Как долго я теперь не увижу его!»
Молча пошла она позади всех.
По откосу берега густо цвела ромашка. Сухие сосновые иглы нежно потрескивали под ногами, растущий поселок походил на огромный парк, и было так грустно и хорошо идти краем этого парка над цветущей каймой берега.
48
В сыроватых еще комнатах дома отдыха, с некрашеными полами, с букетами полевых цветов в консервных банках особенно гулко раздавались голоса отдыхающих. Веселые люди бежали с полотенцами к умывальникам, повешенным среди деревьев, к реке, сверкавшей внизу. На широкой террасе накрывали к ужину длинные, под светлыми клеенками столы.
Грустное настроение не помешало Валентине съесть большой кусок хорошо зажаренной рыбы и стакан смородинового киселя. Она даже попросила вторую булочку к чаю.
— Если не спится, то ничего не поделаешь, а заставить себя жевать всегда можно, — сказала она при этом. — Когда я волнуюсь или болею, я нарочно больше ем, чтобы не высохнуть и не подурнеть.
С той же грустью она укладывала вещи и усаживалась в тележку-таратайку, даже вид красавицы просеки, прорвавшей черным ущельем дремучий ельник, не разогнал уныния.
Артели рабочих вывозили тачками жирную желтую глину, другие наваливали на будущее шоссе кучи сырого песку, от шуршанья которого под колесами таратайки вспоминались гладь реки и влажная прохлада тополевых зарослей.
— Кирпичи бы делать! — сказал Ковба, сидевший на сене рядом с Валентиной. — Или бы горшки… латки всякие.
Лицо старика привлекло вдруг ее внимание: оно было обросшим на диво, шерсть росла у него даже из ушей, из носа, щетина бровей лезла на глаза, и когда он шевелил ресницами, то навесы бровей тоже шевелились. Из этой дремучей поросли наивно светились совсем молодые маленькие бледно-голубые глаза.
«На кого он похож?» — мучительно старалась вспомнить Валентина.
Колеса стучали по бревенчатому настилу гати, далеко убегавшей по болоту. Розоватый туман уже курился по обеим сторонам ее, тонкими облачками расползался над камышом, над кочками, заросшими осокой. Между кочками блестела вода — синяя вдали, в просветах тумана, черная вблизи, у бревен.
— Да это «Пан» Врубеля! — вспомнила наконец Валентина и вздохнула, обрадованная.
Притихшая Маринка тепло шевельнулась на ее коленях, а Ковба спросил:
— Чего говоришь?
— Я говорю… Вам не жарко летом вот так… в полушубке?
— В самый раз. Много ли ее, жары-то, здесь?
Валентина слушала его с радостным любопытством, и фантастический синий пейзаж вставал перед нею. Клочки раскиданных озер, стремительные на ветру листья берез и он, белокурый Пан… Такие же голубые глаза и руки — узловатые корни, и огнистый рог месяца над мощным скатом плеча. Валентина огляделась и с волнением увидела на юго-западе тонкий надрез луны, почти незаметный на бледной желтизне неба. Это было точно неожиданный подарок. Теперь даже запах лошадиного пота и запах дегтя от Пана-Ковбы показались ей с детства знакомыми и приятными.
«Я буду кочевать в тайге. Одна, с каким-то Кириком! Но ничего, надо быть смелой и все преодолевать, — раздумывала Валентина, прижимая к себе обеими руками тяжелую, сонно-вялую Маринку и прислушиваясь к фырканью Хунхуза, на котором ехала Анна. — Вот ездит Анна, а чем я хуже ее? Подумаешь, премудрость — езда на олене! Если и упадешь, так невысоко… Зато увижу много интересного. Многое сделать смогу как врач. Привыкну!» — окончательно успокоила себя Валентина, но вдруг смутилась: широкополая шляпа и крутые плечи всадника выплыли из сумерек.
— Да это Ветлугин! — сказала она не то с облегчением, не то разочарованно.
— Я позвонил и поехал встречать вас, — заговорил весело Ветлугин, соскочив с лошади. — Я уже соскучился, — сообщил он, не стесняясь Анны, поздоровался и пошел рядом, придерживаясь за край тележки.
— Видите, какой я… — говорил он нежно и насмешливо. — Даже ночью в тайге разыскиваю вас, чтобы надоедать своим присутствием. — Виктор помолчал, но Валентина тоже промолчала, и он со вздохом добавил: — Вы сами тоже любите поговорить. Я почувствовал, как вы обрадовались появлению попутчика, хотя по человеческой слабости попытался истолковать это иначе.
— А вы знаете, ведь я уезжаю в тайгу, и надолго, — сообщила она так, точно огорчена была предстоящей разлукой с ним.
— Да, я знаю, — ответил он сразу упавшим голосом.
49
Через день Валентина и Ковба опять тряслись по неготовому шоссе, но тут шоссе было совсем иным, чем в речной низине: солнце палило на каменистых плоскогорьях, и въедливая пыль вихрилась над кучами сухого щебня.
«На каждом шагу свой климат», — думала женщина с ощущением тяжелой боли в висках от жестокой тряски и пыльной жары, от снова пробудившегося чувства неуверенности и страха.
Условия, в которых предстояло работать, смущали ее. Должна быть чистота. Как-то объясняться надо с эвенками. Могут быть осложнения после прививки. Ведь жизнь там, в тайге, совсем первобытная.
Даже Ковба, не слыша возни и мурлыканья Валентины, обеспокоился, взглянул на нее. Она сидела со своим чемоданом, ухватясь за край повозки, щурилась на облака пыли, ползущие по дороге.
— Чего примолкла? — спросил он доброжелательно.
Валентина подняла голову. Лицо ее, потное, пыльное и все равно красивое, было скорбно.
— Думаю о себе… как жить лучше.
— Да… жизнь! Она, брат, жизнь, — неопределенно согласился Ковба. Пошевелив ресницами и бровями, он поискал, что сказать, не нашел и сердито подхлестнул сытого мерина. — Вот скоро того… на настоящей тележке будем ездить, — утешающе добавил он.
Его слова рассмешили Валентину. Она снова с любопытством посмотрела на кудлатую щеку Ковбы, на кольчики волос, вылезавшие из-под его шапки.
«Нашел чем обрадовать!» — подумала она и сказала:
— Скоро на машине будем ездить. Придут с последним пароходом грузовики и одна легковая — для Анны Сергеевны.
Ковба пересел поудобнее, укутал сеном край ящика с медикаментами.
— Ничего хорошего не придумали! — наконец промолвил он сердито. — Когда лошадь есть при жилье, оно жилым пахнет. А от машины гарь одна. Вот тракторы я уважаю, потому — облегчение для лошади. Очень даже большое. Но чтобы, значит, ее сменять на машину — это уж зря. Тогда и человека вовсе не видать, а лошадь его украшает, человека-то.
«Трактор он уважает! — усмехнулась про себя Валентина. — Вот сразу в нем заметно было что-то немудреное, но крепкое. Лошадник какой! Это его и вправду украшает».
Все еще ласково усмехаясь, она сняла шляпу, спрятала ее, повязав ситцевым платком голову и лицо до самых глаз. Так показалось на первых порах прохладнее. Затем Валентина подумала, что даже интересно — пожить под открытым небом, как живут настоящие таежники, как Андрей, и ей захотелось скорее увидеть Кирика.
50
А Кирику уже надоело ожидать. Он был доволен предстоящей поездкой и очень гордился тем, что именно ему поручили сопровождать доктора. Для этого его сняли с покоса. Но ему все равно оплатят за каждый трудовой день. Так объяснил председатель артели старик Патрикеев, на диво эвенкам научившийся разговаривать по шнурку с людьми, которые находились на десятки верст в стороне от поселка. Теперь уже неудобно было бы ругаться с таким человеком. Теперь Кирик выслушал его с уважением, с неменьшим уважением посматривая на разговорную коробку, стоявшую на столе в избе председателя. Было очень приятно и немножко боязно, что о нем разговаривали так необычайно.
Когда он поедет по кочевьям, то всем будет рассказывать об этом.
Кирик сидел у своей избы и от нечего делать готовил палочки для растопки. Они так и оперялись светлыми застругами под его легким ножом. Кирик был упрям и на редкость трудолюбив. Это хорошо знал Патрикеев, который сказал ему:
— Ты очень дельный человек, но ты и вредный, ты упрям, словно олень на льду. Свою вредность ты забудь у себя дома. Не серди доктора и береги его, точно свой глаз.
Предупреждение председателя показалось эвенку обидным, но он стерпел и только сказал:
— Я буду беречь его, как порох.
И вот Кирик уже раз десять ходил посмотреть на пасущихся в загоне оленей, починил упряжь, сумы; со всеми поговорил, а теперь, не зная, куда себя девать, готовил жене Катерине растопку. Конечно, Катерина могла сама ее сделать, но такие уж беспокойные руки были у Кирика. Жена его работала вроде старика Ковбы, только вместо коней у нее были коровы: черно-белые, длиннохвостые, с гладкими кривыми рогами.
— Ко-ро-ва, — протяжно выговорил Кирик. — Корова с молоком! — Об этом тоже стоит рассказать в тайге.
Он отложил растопку, поднялся и снова отправился посмотреть, не едет ли доктор.
Отойдя немного от своей избы, охотник услыхал погромыхивание, будто камни вдали подпрыгивали и снова падали на дорогу, постоял, послушал, склонив голову, и неторопливо пошел навстречу.
Смуглые ребятишки в меховой одежде, а то и вовсе голые или в русских длинных платьях, гомозились, словно птицы в кустах, между редко поставленными избами. Кирик, посматривая на них, вспомнил, что рассказывала ему Катерина о бане, выстроенной без него в поселке, о избе, в которую собирали на весь день самых маленьких детей. Эвенк видел уже баню и детский сад на прииске у русских, но здесь такое казалось странным, и очень хотелось поговорить об этом со знающим посторонним человеком.
Увидев лошадь с повозкой, Кирик сразу пожалел об оставленном дома ременном алыке: можно бы прикинуться ищущим оленя, не то доктор подумает, что он суетлив, как женщина.
Бородатое лицо Ковбы выглянуло из-за круглого бока лошади, и обрадованный эвенк решительно зашагал вперед.
— Ишь ты! Тпру! — произнес Ковба и, остановив лошадь, обернулся к Валентине: — Кирик это.
А тот хотя еще и не дошел до повозки, уже протягивал руку здороваться, причем лицо его было непроницаемо спокойно.
— Доктор где? — спросил он, неумело подержав в узкой ладони тяжелую лапу Ковбы и бегло взглянув на Валентину.
— Вот он самый и есть.
Кирик удивился, но вспомнил Анну и тотчас успокоился.
— Садись, — предложил ему конюх и пересел вперед, освобождая край повозки.
— Баню построили, — сразу приступил к новостям Кирик, побалтывая длинными ногами. — Камни горячие. В камнях пар. Вода горячая. Котел большой-большой! Целый олень сварить можно. Два оленя сварить можно.
Эвенк посмотрел на доктора; она откинула платок с лица и оказалась совсем молодая, румяная, темнобровая, но слушала очень внимательно! Это еще подбодрило Кирика, и он, подпрыгивая от толчков на ухабах, крепко держась за края повозки сухими руками, продолжал оживленно:
— Баба моя Катерина два ребятишки привела… сынка моя парнишки. Посадила на лавка в одежка, сам наверху полезла. Наверху жарко, внизу жарко. Парнишки кричат. Другая баба давай моя жина ругать. Стал учить мыть. Вода холодная, горячая. Больно легко получается. Катерина мылась. Легко, говорит. Похоже, помолодела, похоже, потеряла чего, говорит.
Ковба удивленно пошевелил бровями:
— Как, небось, не потерять! Отроду ведь не мылась.
— Не мылась, — весело подхватил Кирик. — Я обратно приеду, тоже мыться буду. — И он обратился уже прямо к доктору: — Ребятишка в одну избу собирают. Смешно получается: целая стая маленькие.
— Вместе им веселее, — сказала Валентина и улыбнулась детской болтовне охотника.
— Правда, веселее, — подтвердил Кирик. — Все маленькие и все вместе. Будто рябчики!
У избы председателя Патрикеева он слез с таратайки и обошел вокруг лошади. Его очень заинтересовала упряжь с махорчиками и железными бляшками. Он даже отошел в сторону, чтобы полюбоваться. В это время ветер сбросил с таратайки смятую газету, с шумом положил ее у передних копыт лошади. Лошадь тревожно переступила, навалилась на оглоблю, отчего бугристо и косо выступили мускулы на ее груди, и одним глазом, скособочив голову, пугливо, но не без любопытства посмотрела себе под ноги.
В своем нелепом испуге она удивительно напомнила эвенку дикую утку, что, охорашиваясь, перебирает у воды скользкие перышки и вдруг замирает, следя, как всплывает и лопается перед ней загадочный серебряный пузырь; за ним неудержимо бегут из темной глуби другие, помельче, а утка стоит, выпятив грудь, забыв подобрать отставленное крыло, стоит и смотрит, как расходятся перед ней по воде тонкие круги от дыхания озерного дна…
— Испугалась, будто утка!.. — весело сказал Кирик, кивая на лошадь, когда та, успокоенно вздохнув, выпрямилась в оглоблях. — Совсем утка.
— Сам ты утка! — ответил Ковба, обижаясь за лошадь. — Ишь ведь чего придумал! Птица порх — и нет ее. А тут такая сила!
— Завтра поедем, товарищ Кирик, — сказала Валентина, выглянув в окно. — Сегодня я отдохну немножко.
— Ладно, поедем завтра, — согласился Кирик, несколько огорченный. Ему хотелось выехать немедля, но он не осмелился возразить, помня слова Патрикеева и свое обещание беречь доктора. — Пожалуй, отдохни немножко. — И он не торопясь, важничая перед набежавшими женщинами и ребятишками, полез в таратайку, чтобы еще раз прокатиться по поселку.
51
Бело-розовые колокольчики вьюнка светлели на кустах шиповника; гибкие побеги его нежно обвивали колючие ветки, блистающие влажной свежестью цветы перемешивались с жесткими зелеными ягодами. А шиповник так широко раскинул ветви, так встопорщился весь, точно шагал по лесной поляне, гордясь своей легкой прекрасной ношей.
— Это любовь! — промолвила Валентина, проезжая мимо шиповника. Она протянула руку — сорвать один колокольчик, но за ним потянулся целый побег, и весь куст задрожал. — Прости, — сказала женщина шиповнику. — У тебя осталось еще так много!
Она прицепила цветок к шляпе и запела, складывая сразу слова на неожиданно найденную мелодию. Но песни здесь складывались странные:
Ельник старый, сухой, косматый, Не тяни ко мне темные лапы! Пропусти меня, я люблю молодого, А у тебя такая седая борода!..Валентина пела, а Кирик, ехавший с ружьем на передовом олене, за которым шли привязанные гуськом еще три оленя, с удовольствием прислушивался к ее голосу: он звучал для него как голос невиданной птицы.
Теперь она успокоилась; Кирик действительно знал тайгу. До отдельных примет — вроде изгиба безыменной речонки или груды скал, они добирались со всей точностью его расписания. Валентина видела в горном ручье выдру, плывшую с рыбой в зубах, видела медведя, спокойно разбиравшего гнилой пень в каких-нибудь сорока шагах от палатки. Руки ее ныли от комариных укусов, от перьев птиц, которых она ощипывала почти на каждой остановке, сама превращаясь в такие минуты в голодного зверька. Осваиваясь с тайгой, иногда скучая, всегда уставая, она забывала бояться и пела обо всем, что попадалось ей на глаза: о клочьях белого мха, свисавших с деревьев, о юных пушистых елочках, о матово-сизых ягодах голубики. В этом пении была особенная прелесть. Иногда порыв ветра прижимал к ее открытому рту сетку накомарника. Валентина смеялась, отбрасывала ее на поля шляпы.
«Хорошая баба, доктор-то!» — думал Кирик, сидя точно пришитый на своем плоском седле.
В начале пути он очень опасался, как бы не пришлось вернуться обратно: доктор Валентина раза четыре падала с оленя, чуть не сломала руку, и Кирик совсем растерялся, увидев ее плачущей. А сейчас она едет, как ездят все женщины его племени, едет и поет так, что у Кирика щекочет в горле и ему самому хочется петь. Заезжая с нею в таежные поселки, он рассказывал там, какие штуки умеет она выделывать голосом, и, увлекаясь, тоненько взвизгивал, к великому удовольствию своих веселых слушателей.
Его всюду встречали радостно, и каждому встречному он сообщал новости:
— Доктора везу. Оспу надо делать. — Заметив испуганное недоумение, торопливо объяснял: — Руку поцарапает маленько и помажет. Вовсе не больно. Сила тогда входит в человека большая, и красная старуха убегает от него.
После этого Кирик с гордостью показывал вьюк, в котором хранилась добрая молодая оспа.
Но все-таки было удивительно и непонятно: как сумели огромную спасительную силу поместить в крохотные склянки? Почему она не разрывала такую хрупкую оболочку? В глубине души Кирик подозревал, что дело не так-то просто, как объяснял ему председатель артели. Сначала он был твердо уверен, что доктор шаманка, но его уверенность поколебалась, когда Валентина упала с оленя и ушиблась, словно маленькая девочка.
«Может, не шаманка, а может, и шаманка», — говорил себе Кирик и, окончательно сбитый с толку, слово в слово повторял объяснения Патрикеева, почти ничего от себя не прибавляя.
В доказательство он сбрасывал рукав летней дошки и показывал случайному слушателю свою руку с оспенными знаками. Тот, если у него не было прививки, озадаченно цокал языком, разглядывая таинственные шрамы, или также закатывал рукав, и оба смеялись, сравнивая свои метки.
Валентина пробовала протестовать против таких остановок, но потом смирилась: проехать без «капсе»[18] было невозможно, это было бы самым грубым нарушением таежного этикета. К тому же проезжий — будь он из племени эвенков или якут с притоков Омолоя — передаст новость дальше. Капсе с поразительной быстротой распространяет по тайге все, что достойно внимания.
52
Кирик остановил оленей, всмотрелся в зеленый навес ветвей и начал торопливо поворачивать обратно.
— Что там? — спросила Валентина, тоже всматриваясь, но ничего не замечая.
— Круг дать надо, — мрачно кинул охотник, колотя пятками по бокам своего оленя; вьюк зацепился за ствол дерева, захрупали, посыпались сухие ветви и содранные коринки.
— Зачем круг?
— Красная старуха тут ходила.
— Постой. Я хочу посмотреть, — сказала Валентина. — Чего ты боишься? У тебя прививка есть. Нечего тебе бояться…
— Есть-то есть… Нечего бояться, да не больно нечего…
Кирик еще ворчал, но строгий вид и голос Валентины, а также боязливо-любопытное желание испытать силу прививки подействовали, и он остановил оленей, уже повернутых в другую сторону.
— Иди! Посмотри! — сказал он сердито и полез в карман за табаком.
Валентина спрыгнула с седла и стала пробираться вперед среди густых и мягких пихтовых елочек. Над молодой порослью траурно чернели столетние кедры, угрюмо теснились могучие ели, поднимая свечи побегов, пахучих и светлых; стену черной хвои прорезали скорбно-синеватые лиственницы, покрытые красной завязью шишек, как брызгами свернувшейся крови. Пахло прелью, сыростью, глухой, дикой, недосягаемой солнцу и ветру.
У Валентины сжалось сердце, и она оглянулась на Кирика. Он сидел на седле, согнув в коленях высоко подобранные ноги, почти касаясь носками узких торбасов[19] железного ботала на шее оленя. Олень, приподняв голову так же, как эвенк, тревожно, но кротко смотрел на Валентину, тонувшую в мрачной зелени леса.
Вся фигура Кирика выражала безмолвный вопрос:
«Может, не пойдешь?»
«Нет, пойду», — ответил взгляд Валентины, но она так и встрепенулась, когда охотник, ерзнувший в седле, нечаянно пнул по боталу.
Дребезжащий звон железа прозвучал здесь зловеще.
Разводя руками ветви густого подлеска, Валентина прошла еще и остановилась…
Скрытые в зелени, висели на деревьях коконы-саваны. От прогнивших оленьих шкур, в которые были зашиты когда-то трупы умерших мужчин (женщин эвенки хоронили на земле), уже не веяло смрадом: легко держались подвешенные на ремнях обветренные кости. Невдалеке виднелись остатки брошенных чумов, обтянутых такими же сгнившими оленьими шкурами. Валентина с тяжелым чувством обошла выморочное становище. Копылья рассохшихся нарт черными клыками торчали повсюду. Валентина переступила через груду тряпок, проросших травой, смахнула паутину у входа и, наклонясь, вошла в чум. Вот кто-то прилег в углу на постели, да так и не встал: тонкий скелет, облипший остатком одежды, слабо белел в полумраке. А вот и другой — свернулся на земляном полу у очага. Когда это было? Знал ли кто-нибудь о трагедии, разыгравшейся здесь на маленьком жилом островке?
Валентина еще раз прошла между чумами. Смерть скалилась на нее отовсюду. Здоровые покинули больных родичей и сами, наверное, погибли неподалеку и даже дикое зверье почему-то не нарушило покоя мертвых…
«Так вымирали раньше от оспы целые города, целые области, — подумала Валентина. — Только в России умирало ежегодно до полумиллиона человек. Что мы знаем об этой проклятой болезни? Мы до сих пор не знаем средства ее лечения!» — Валентина вспомнила, что Андрей тоже переболел оспой, и нежное, почти материнское чувство к нему шевельнулось в ее душе.
53
Дикая глушь. И какая страшная даль! Где-то на краю земли… Горы с голо-каменистыми вершинами и гранитные осыпи в серо-зеленых лишайниках. Долины мрачные, черно лесистые, и суровое молчание заросших осокой болот. Разве не здесь до сих пор открывают горные хребты длиною в сотни километров? Сколько сил должен иметь народ, который оживит эти мертвые, пустынные пространства!
Мысль об опасностях поездки, о важности своей миссии вызвала у Валентины чувство гордости, хотя сознание того, что она довольна своим положением, удивило. Вид вымершего поселка ужасал ее, но среди этого потрясающего молчания, где слышался стук собственного сердца, она с особенной силой ощутила значение своего бытия. Да, она проявила не меньшую настойчивость, чем Андрей и Анна, для того чтобы стать полноценным человеком.
«Их двое, они поддерживали друг друга, а меня даже ободрить некому было».
— Это я! Да, это я! — сказала она вслух. — Мое призвание привело меня сюда. Мы с Кириком двигаемся на олешках, точно казаки-первооткрыватели, как Хабаров, как Дежнев, плывший на кочах. Разве тайга не похожа на море? И если мы затеряемся здесь, кто сможет отыскать нас?
— Посмотрела? — спросил Кирик, нетерпеливо ожидавший ее, не слезая с седла.
Он не хотел шагу ступить по здешней страшной земле, слишком хорошо помня смерть братьев и матери и многих других сородичей. Страх пережитого снова встал перед Кириком.
— Чего смотрела? — кричал он гневно.
— Никого там нет, Кирик!
— Всех кончал — молодой и старый… — Кирик хотел было выругаться, но побоялся, чтобы не накликать плохого. — Разный хворь-то есть. Не каждый раз хворают вместе. Старуха красная пришла, всех положила… Пошто так? — спросил он, когда они уехали далеко от опасного места.
— Потому что оспа передается на огромные расстояния, и зараза ее на вещах сохраняется годами. — Валентина задумалась: картина страшного опустошения еще стояла перед нею. — Это очень старая болезнь, Кирик, и пришла она к нам с юга, из жарких стран… из Китая, из Африки…
— Я знаю, что старая. У нас ее старухой зовут. Красная старуха.
— Она и черная бывает. Когда простая оспа, то все тело покрывается таким горохом белым… А при черной оспе горох черно-красный: кровь в гнойничках.
— Я знаю… Видел. Краснеет, чернеет… Старая. И не подохнет, однако!
— Нет, Кирик, теперь она уже издыхает! — сказала Валентина, снова повеселев.
54
Ветлугин облокотился на стол, уставился в стенку невидящим взглядом. Выпуклые глаза его, обведенные густыми синяками, смотрели тускло, точно подернутые дымкой.
— Привязался, как пес! — прошептал он с грустной издевкой над собой. — То погладят тебя от полноты сердечной, то бьют по носу. Андрей! Да, Андрей… Вот жестокая игра чувств! Я мечтаю о ней, дико радуюсь и глупею от одного ласкового слова, а тот проходит, не замечая ее обожания. Истинная трагедия!
Ветлугин хотел обмакнуть перо в плоскую чернильницу, но в ней тонула, отчаянно барахтаясь, муха.
— Фу, дрянь какая! — сказал Ветлугин и снова задумался.
«Подло все-таки устроен человек! — решил он наконец. — Целым миром управлять может, а со своими чувствами не справится. Барахтается… будто муха…»
Но мухи в чернильнице уже не было. Она сидела на «отношении», которое Ветлугин собирался подписать, старательно вытирала голову лапками. Жирная черта, проведенная мушиным брюшком, чернела на бумаге, по обе стороны ее красовался тончайший узор мелкого накрапа — следы лап и крыльев.
— Ты удивительное существо, способное вывести из себя кого угодно, — сказал Ветлугин, сбрасывая муху концом пера и еще более размазывая чернила, — что сказала бы Анна Сергеевна, увидя на деловом письме эту мазню! Отвратительно! В самом деле: я превращаюсь в этакого жалкого нытика!
Ветлугин взял испорченное отношение и пошел было в машинное бюро, но на пороге столкнулся с директором.
— Я вернусь сию минуту, — сказал он, здороваясь с нею.
«Вот женщина, не расположенная к меланхолии, — размышлял он, идя по коридору. — Мне бы так! Ей, наверное, и в голову не приходит, что ее Андрюша может ей изменить. С другой женщиной он, возможно, и не изменил бы, но Валентина… Она и его приручила. О, злая, злая, рыжая ведьма!»
— Я к вам по очень серьезному делу, — сказала Анна, придвигаясь к столу вместе с креслом. — Только что получен запрос из треста о разведке Долгой горы. Просят дать наше окончательное заключение. — Анна чуть помедлила, рассеянно перебирая по столу пальцами. — Неудобно, если это придется сделать без Подосенова. Но требуют ответа срочно. Андрей сам писал туда… Теперь нужно решить. Мои соображения вам известны. Как там сейчас, на Долгой?
Ветлугин пожал плечами, сделал неопределенное движение рукой.
— В том-то все и дело — пусто!
— Значит?..
Ветлугин вспомнил разведчиков и старателей, работавших на свой риск на канавах Долгой горы.
«Не фанатики же они, в самом деле! Что их привязало там? „Целеустремленность“, — вспомнил он словечко Валентины. — Но какие надежды поддерживают эту целеустремленность»?
Разведка россыпи по ключу под горой давала хорошие данные: золото шероховатое, яркое; попадается с кварцем — золото явно местного происхождения. Выхода пород на Долгой тоже обещали многое, хотя жилы и выклинивались.
— Ну, что вы думаете? — поторопила Анна.
— Я думаю… Нужно еще раз съездить туда, посмотреть, — сказал Ветлугин.
Лицо Анны заметно просветлело: проклятая гора, затянувшая Андрея, доставляла ей немало тревог, да и Ветлугину тоже. Однако он не был ни мстительным, ни мелочным, и директор управления особенно оценила это сейчас.
«Но как он изменился, — подумала она. — Такой был веселый, говорун, а сейчас поблек. И постарел, пожалуй».
— Поедемте туда… завтра, — предложил Ветлугин после небольшого молчания, нервно играя незажженной папиросой; белоснежный рукав нижней рубашки выглянул из-под манжеты его ковбойки.
— Лучше подождем представителя треста, — сказала Анна, краем глаза успев заметить ловко пригнанную заплаточку на ковбойке Виктора. «Следит за собой, будто опрятная вдовушка», — подумала она доброжелательно, но, недовольная тем, что отвлеклась посторонней мыслью, добавила: — Он приезжает на днях. Правда, по другому вопросу… ознакомиться с введением новой системы на руднике, но он работал и по разведкам. А я договорюсь с правлением треста подождать с заключением до возвращения Подосенова.
Анна пошла к двери, но вернулась и сказала серьезно:
— Мне хочется, чтобы у вас все было хорошо. — Она вспыхнула до корней волос под быстрым взглядом Ветлугина и добавила: — Так радостно видеть счастливых людей.
55
Главный инженер ехал, небрежно кинув поводья. Глаза его рассеянно блуждали по сторонам: по этой дороге проезжали весной Валентина с Андреем.
«Как она обрадовалась тогда поездке с ним! Даже скрыть не сумела, — вспомнил горестно Ветлугин. — И меня приласкала: „Мы будем друзьями“. Вечное утешение для влюбленных неудачников! Благодарю покорно!»
Ветлугин сердился, но в то же время представлял, с какой радостью отправился бы он к Валентине при первой возможности.
«Да, Виктор Павлович, — говорил он себе, почти не глядя на дорогу, предоставляя лошади везти себя, как ей вздумается. — Вы, конечно, сразу полетели бы сломя голову, но возможности отлучиться с работы не предвидится! Ну-ка, я завтра махну в тайгу, а у меня восемь тысяч рабочих, сборка драг, введение новой системы на руднике… Размахнулась Анна Сергеевна, ничего себе! Почти на четыреста квадратных метров. В одну отработанную камеру колокольню Ивана Великого упрятать можно! И поеду я, отыщу свою хорошую где-нибудь в якутском таборе. А она сурова, занята: или палатку ставит, или с больным возится».
Виктор сердито тряхнул головой, как будто хотел отогнать невеселые мысли, и вдруг в стороне от дорожки увидел что-то синее. Кругом возвышался сосновый лес, развалы камней чернели между могучими стволами деревьев. Густо разросся шиповник, рябина клонилась, отяжеленная гроздьями еще желтоватых ягод. Было дико, глухо, но странное пятно привлекло внимание Ветлугина. Он свернул с дорожки и, отстав от спутников, поехал прямо через кустарник…
На земле, покрытой сухими сосновыми иглами и вылущенными шишками, лежала шелковая косынка. Синяя косынка с мраморным белым узором. Ветлугин поднял ее и с минуту с отчаянно бьющимся сердцем всматривался в знакомый узор. Он помнил каждую складочку на платьях Валентины. Это была ее косынка. Она будто хотела напомнить Ветлугину о его любви. Он поднес косынку к губам, но остановился. Как она попала сюда? Разве Андрей и Валентина ехали не по дороге? Зачем они сворачивали сюда? Может быть, они сидели здесь и… «Боже ты мой!» — Ветлугин взглянул еще и не узнал знакомого узора: все расплылось.
56
У новой канавы, особенно глубокой, сидел Моряк, упросивший-таки Чулкова перед отъездом перевести его с амбарчика обратно на Долгую гору, где «куда как людно и весело». Одна нога его была обута в сапог, широконосый, рыжий, стоптанный, другую ногу он неторопливо и ловко обертывал куском парусины.
— Сапог-то потерял, что ли? — хмуро спросил его Ветлугин.
Моряк — весь точно сбитый, линялая рубаха, сопревшая от пота, так и расползалась на его плечах и широкой груди, — поднял голову, узнав Ветлугина, улыбнулся.
— Работаем, — заговорил он, продолжая свое занятие. — Сапог-то? Нет, не потерял. Ногу я убил. Ломом. Лом уронил, ну и зашибся. Распухла нога-то, не идет в сапог.
— Значит, лечиться надо, а не работать! — посоветовал Ветлугин.
— Где же тут лечиться? — просто сказал Моряк. — К вам на прииск идти далеко. В бараке одному сидеть тошно: я человек компанейский.
— Прикроем здесь работы, тогда подлечишься, — желчно сказал главный инженер.
Моряк спрятал концы веревки, завязанной им над лодыжкой, всунул забинтованную ногу в короткий опорок и только после того глянул исподлобья на главного.
— Ловко придумано! — в голосе его прозвучало осуждение и даже угроза. — Как же вы прикроете дело без Андрея-то Никитича? Вишь, какие прыткие! Конечно, вам все равно: будут работать на Долгой горе или не будут. А мы тут, можно сказать, душой прикипели.
— Да ведь нет ничего!
Моряк молча встал, порылся в кармане, достал бумажку, вытряхнул из нее на ладонь блестящие желтые крошки и поднес ладонь, бугристую от мозолей, к самому лицу начальника:
— Это как называется, товарищ инженер?
— Золото! — Сразу забыв обо всем, что волновало его, Ветлугин начал рассматривать светлые крупинки; золото было такое же, какое встречалось в россыпи внизу, на Звездном. — Где ты его взял?
— Здесь, в этой канаве. В кварце попало. Только оно в цельных кусках было, в руде, а я их растолок.
Виктор покачал головой.
— Зря! Ну, кто теперь поверит, что оно отсюда?!
Углы толстых губ Моряка растерянно опустились.
— Я без умысла. Столько радости у нас было! Мы ведь сейчас сами большие, сами маленькие!
— Еще попадается?
— Нет покуда. Мы сегодня со всей охотой метра два прошли, хотя скала сплошная. Но нету.
— Вот здесь опять обнаружена и сразу выклинилась жилка с золотом, вкрапленным в кварце, — сказал Ветлугин Анне, подходившей вместе с представителем треста.
Все стали рассматривать найденное золото.
— Оно похоже на то, что нам показывали внизу, на левом увале россыпи, — заметил представитель треста, перекатывая пальцем желтые крупинки на пухлой ладони.
— Похоже потому, что наш чалдон растолок образцы руды, — сказал Ветлугин.
Представитель треста обернулся к Моряку, который то краснел, то бледнел от волнения.
— Работаете на разведке, наверное, не первый год, а позволяете себе такие поступки? Я убежден, что коренное месторождение здесь уже нарушено. И не на Долгой было оно основным, а в гольцах верховья. Ведь золото-то обнаруживается по течению всего ключа. Чем же вы меня разубедите теперь? Безобразие! Разве вы не знаете, что каждое вещественное доказательство должно быть сохранено для документации! Оно неприкосновенно, как мертвое тело до приезда следователя.
«Ну и дурак! — подумал Ветлугин, сразу обрушив все свое внутреннее раздражение на трестовского инженера за его тупость и нападки на рабочего, который с подбитой ногой притащился на крутой водораздел и целый день работал „со всей охотой“. — С какой стати ездят такие умники и при чем тут мертвое тело? Ему только бы лишнюю командировку отметить, а для нас это вопрос жизни».
57
Тун-тун-тун… Железо кричало звонко, страстно, и этот отрывистый зов далеко разносился по дикой долине. Андрей сидя съехал с крутизны по плотному моховищу и несколько минут сидел неподвижно, упираясь ногами в дерн, на котором в сухих кочках поднимался корявый ольховник. Зубчатый лист колебался перед самым лицом Андрея. Геолог потянулся к нему, сорвал его губами: он был шершав и прохладен. За лесом все так же звонко долбил бур Кийстона, завезенный сюда с разведочной базы еще зимой. Слушая далекий звон железа, Подосенов зажмурился: казалось, звенела земля, теплая под августовским солнцем.
Тоненький звук выделился еще в этом звоне, в лесном слитном шорохе. Андрей открыл глаза. Прямо перед ним бегала по валежине крохотная пичуга, боязливо вертела головкой в широком воротничке сердито, но жалко встопорщенных перьев. Он смотрел на нее и не шевелился, любуясь. Осмелев, она перебежала через его вытянутую ногу, и тогда совсем близко, под сухими былками прошлогодней травы, он увидел ее гнездышко. Уже оперившиеся птенцы смирно лежали в нем, сбившись в серую кучку, блестя черными бисеринками глаз.
— Вот оно дело-то какое! — сказал Андрей, улыбаясь, встал, подкинул выше тяжелый рюкзак и с ружьем в руках пошел сквозь ольховник на звон бура. Шелковые сита паутины висели между ветвями, неподвижно сидели на них хозяева-пауки, выставив круглые скорлупки спин. Геолог то и дело смахивал с лица липкое их плетение. Он шел, грузно топча траву, усталый после целого дня ходьбы. Ручные буры, привезенные со Светлого, были установлены на новом ключе, продовольствие заброшено, и Андрей пробирался на разведку, где находился Чулков. По уговору, тот должен был закончить свою работу, чтобы после встречи немедля двинуться прямо тайгой на Звездный; разведка Долгой горы страшно беспокоила их обоих.
Андрей шел и думал о предстоящем отдыхе у разведчиков.
«Сейчас не то, что зимой в палатке, когда волосы примерзают к подушке», — подумал он, споткнулся о невидимый в траве камень и снова улыбнулся, безотчетно радуясь ощущению своей крепкой молодости, которая делала его счастливым хозяином тайги.
Сотни глаз смотрели на двуногое чудовище из-под каждого камня, из-под каждого листа. Множество существ невидимо поедали друг друга, жертвовали собой, охорашивались, трудились и все вместе создавали жизнь. Андрей шел, с удовольствием вдыхая запахи таежных трав и смолистых лиственниц, и бережно нес в себе это счастье жизни.
Деловые заботы и волнения оставили его. Ни о чем не хотелось думать: Анна, с которой он расстался почти охотно, стремясь восстановить прежнюю ясность своих отношений с ней, и Валентина, даже Маринка — все отошли от него.
Непуганые тетерева и вальдшнепы взлетали у самых его ног, а он, впервые не обжигаемый страстью охотника, кричал им вслед:
…Зеленый снизу, голубой и синий сверху, мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит…Ему казалось, что прелесть охоты пропала от обилия этого летающего мяса, от легкости убить. Но он просто не мог убить в этот день, когда все в нем распустилось и разнежилось, как молодой лист, вывернувшийся из почки.
Когда Андрей вышел из чащи на светлый косогор, предзакатное солнце показалось ему тусклым: где-то горела тайга. Он остановился, потянул носом запах далекой гари. Так вот пахло в детстве, когда по сопкам гуляли огни весенних палов, цвел лиловато-розовый багульник и лягушки скрипели хором на оттаявших болотах.
58
Барак разведчиков стоял на каменистом мысу возле устья ключа, впадавшего в речку, одинокий, низкий, но такой надежно-уютный со своим срубом из толстенных тополевых бревен, с блекло-зеленым дерном крыши и окошками, глубокими, точно бойницы. Костер, разложенный у воды, еще дымился; неподалеку в ямке-садке, выложенной камнями, играло с десяток хайрюзов, тут же валялись чайник и котелок, облепленный рыбьей чешуей.
Бросив на угли сухого хворосту, Андрей повесил чайник над огнем на обгорелую жердь и, волоча за лямку рюкзак, пошел в барак. Там было пусто, темновато, прохладно, пахло баней: у порога в два ряда висели веники. Чулков отсутствовал, но вещи его — пустая котомка и телогрейка — лежали особняком в углу на широких нарах.
Андрей положил рюкзак и ружье, постелил на краю нар плащ и прилег отдохнуть, пока вскипит чайник. Миска с голубикой стояла недалеко от него на столе. Геолог потянулся было к ней, да так и заснул с вытянутой рукой; стрелка ручного компаса, освобожденная неловким его движением, долго не могла успокоиться.
Он спал и уже во сне взял эту миску. Но он держал ее не один… Синие глаза Валентины смотрели на него, шевелились яркие губы, но слов не было слышно.
— Что? — спросил Андрей, наклоняясь и чувствуя, как неровно, стесняя дыхание, забилось сердце, точно к иконе, приложился к беззвучно шевелившимся ее губам.
От этого неощутимого поцелуя, от щемящей боли в груди он проснулся и, ничего не понимая, сел на нарах.
Было темно. Кругом сонно дышали люди. В открытой двери слабо серебрился вверху край звездного неба, а на порожке дрожал красноватый отсвет костра. Посидев с минуту, Андрей снова лег и вдруг понял, что ему жаль утраченного сна и хочется еще увидеть Валентину со взглядом, открывающим нежную горечь ее затаенного чувства.
Он не пытался разобраться в своем отношении к ней, да и не смог бы сделать это сейчас, когда все в нем словно сдвинулось с места. Он лежал неподвижно, улыбался, бережно перебирал встречи с Валентиной, ее слова, жесты, взгляды. Она была прекрасна, она понимала и любила его. Андрей сам не знал, почему у него возникла такая уверенность, но радость его росла.
Он встал, неслышно ступая по земляному полу, вышел из барака. В прохладе августовской ночи плескался в камнях невидимый ключ, бурлила вода на речном пороге, ветер шелестел травой и листьями, потрескивал костер, казалось, даже звезды шуршали ворсинками фосфорического мерцающего света.
Звенящий удар пронесся над долиной. Андрей вздрогнул. И снова раздался удар, железный, кованый: на Кийстоне возобновили работу. Разведчик взглянул на черную фигуру, колдовавшую у костра над таким же черным котелком, и медленно пошел к буру по едва заметной тропинке.
Буровой станок, высокий и легкий по контуру, четко вырисовывался в белом облачке дыма, чумазый кочегар возился у топки. Искры огненной метелью кружились над ним. Андрей поговорил с мастером, посмотрел, как промывальщик делал промывку вынутой из скважины породы. Проба оказалась хорошая, и это еще больше подняло настроение Андрея: не зря потеряно время, не стыдно возвращаться домой. Он постоял у станка и пошел обратно.
59
Увидев черную глыбу барака над слабо освещенной линией берега, Андрей вспомнил, что с утра ничего не ел, и ускорил шаги. Вместе с дымом костра он вдохнул запах ухи и почти сбежал вниз.
На камнях у огня сидел Чулков. Они расстались недели две назад, и оба обрадовались встрече.
— Завтра подамся к дому, — сказал Чулков, помешивая в котелке ложкой. — Покуда вы доберетесь обратно до здешней разведочной базы, я уж на Звездном буду. Прямиком-то отсюда километров девяносто, не больше.
— Пожалуй, не больше.
Вдвоем они долго трудились над ухой, пили чай, мыли посуду. Потом закурили.
— Значит, вы домой! — задумчиво произнес Андрей.
Он сидел, охватив руками колени, щурился от дыма папироски; взгляд его, устремленный на огонь, был неподвижно-сосредоточен.
— Да, домой, — сказал Чулков и усмехнулся неожиданно горестно. — Ходишь вот так по тайге день-деньской… Велика она, матушка! А ты перед ней ровно семечко на ветру. Плохо, когда его нет, дома-то!
Горечь, прозвучавшая в голосе старого разведчика, заставила Андрея очнуться от своих дум. Он пристально взглянул на Чулкова и почувствовал неловкость оттого, что не знал личной жизни преданного ему человека.
— Неужели вы совсем один на свете?
Что-то, видимо, разбередило Чулкова, и ему хотелось поговорить.
— Один как перст. И всю жизнь в тайге, — сообщил он нерешительно, но тотчас начал рассказывать: — Отец мой русский был, а женился на якутке. Крестьянствовал в наслеге[20]. Семья у нас народилась большая, заимку освоили добрую, а после захудали: то ячмень вымерзал, то скот падал. Пошел я тогда батраком в соседний наслег. Долго там работал. И жил там якут… Прохором его звали. Большеголовый, кривоногий, но сильный удался и ловкий как бес. Напоролся весной на медведицу с медвежатами, подмяла она его, так он ее ножом заколол. Вот какой был отчаянный! — Чулков помолчал, будто продолжая рассказ про себя: лицо его все больше оживлялось. — Уехал он раз на Лену, Прошка-то. Пушнину повез, хотел новое ружье купить. Долго проездил. Снег уже сходил, когда он заявился: со старым ружьишком, без пушнины, и что бы вы думали — привез он себе жену. Феклой ее звали. Славненькая, тоненькая, лет шестнадцати. Не очень скуластая, только глаза якутские, узкие. Так и жжет, бывало, ими. Увидел я ее — и приглянулась она мне. Смеялась она всегда тихонько так да зазывно. Посмеивалась, а близко не подпускала. Я ей говаривал: «Ты меня, Фекла, не дразни», — а сам от нее оторваться не мог.
— Полюбил, значит?
— Стало быть, полюбил. Прошло этак года два. Фекла вовсе похорошела, а Прошка заплюгавел. Тосковать стал: детей ему хотелось иметь. Пошли у них нелады. И вдруг начала она ко мне припадать. После-то я понял: ребенка ей надо было, — ради этого и приходила, — а тогда обрадовался. Говорю ей: давай сбежим на Лену, Прошка, мол разлюбил тебя, другую теперь возьмет. А она в слезы, и то ластится ко мне, то шипит, будто дикая кошка. Страдание, да и только! Стала она и с лица увядать. Да еще какую привычку взяла: как метель, она шасть из юрты, встанет на самом ветру и не то поет, не то причитает, и в ту пору не подступиться к ней… Так в одну метель и сгинула без следа. Дня через три уже пошли якуты за оленями, а она стоит себе свечечкой на сугробе. Ремень-то зацепила за сук да и захлестнулась, а потом уж снегом ее замело… Тоска меня тогда взяла: все мне Фекла из-за каждого дерева мерещилась. Сны одолевали один страшней другого. Проснусь — будто кличет кто: «Петра! Петра!» И слышно — в темноте бляшки на одежде позвякивают. А Прошка-то, оказывается, тем же самым мучился. Удивительное дело! Вот нагрянул он ко мне и говорит: «Давай, уезжай куда-нибудь. Фекла, говорит, приходит ко мне по ночам, плачет, на тебя жалуется». Что тут будешь делать? Собрал я свои манатки и уехал. На прииски, к русским. Разведчиком стал. Жизнь уже прожил, а тоска не изжита. Значит, душа не стареется.
Чулков лег грудью на камни, подперев руками голову, уставился в темноту. Костер догорал, и от его неровного света глаза таежника то вспыхивали красноватым блеском, то снова гасли.
— Что такое эта самая любовь? — произнес он ровным голосом, обращаясь не к Андрею, а к кому-то невидимому за костром. — Говорят, сон сильней всего, а она и сон, и самую жизнь отнимает. Не любила бы Прошку Феклуша, разве пошла бы она на такое?
— Тяжелая история, — сказал Андрей; ему жаль было Чулкова, жаль Феклу, но даже этот грустный рассказ не омрачил его настроения, а лишь оттенил чистоту и прелесть чувства, владевшего им. — Конечно, тяжело в тайге одному, — добавил он с оттенком невольного превосходства.
— Куда же денешься? — сказал Чулков покорно. — Жить тяжело, а переживать надо.
60
На высоком помосте, у груды сваленной рыбы сидела женщина в сатиновом платье-рубахе. Внизу, на песчаной косе, темнели чумы, в одном из которых особенно громко в ясной свежести лесного летнего утра плакал ребенок. Он плакал, не жалея своей маленькой грудки, изредка умолкал, чтобы отдохнуть, и мать, нанизывая рыбу на бечевку, с удовольствием прислушивалась к его сильному голосу: ребенок не камень, чтобы лежать молча. Тоненькие косицы мотались по острым скулам эвенки, по ее узким под просторной рубахой плечам. Выпрямившись во весь свой малый рост, миловидная, легкая, она посмотрела вдаль, заслонясь от солнца щитком ладони, и радостно засмеялась: к поселку рыбаков приближалось по тропе полдесятка чужих оленей.
* * *
Грязные ручонки детей, смугло лоснящиеся руки женщин… Серая кожа стариков… Преодолевая собственную тревогу и боязнь первых дней, Валентина преодолевала и косность лесных жителей.
— Мыться! Кирик, скажи, чтобы все приходили ко мне чисто вымытые. Пусть без мыла, пусть в холодной воде, но вымыться надо и надеть что почище, и чтобы не расчесывали царапины, которые я сделаю.
Валентина принимала празднично одетых людей возле чума. Столом служила перевернутая нарта, накрытая свернутой палаткой. Валентина вытирала перед прививкой кожу пациентов спиртом, а Кирик неодобрительно морщился:
— Можно горячий вода, сварить, как в баня. Зачем спирта мыться? Выпить лучше.
Мужчины и даже девушки вполне разделяли мнение Кирика, принюхивались, вздыхали, удивлялись расточительности доктора. Будь Валентина купцом, геологом, просто путешественником — посуда со спиртом давно бы исчезла, но ее звание доктора было покоряюще обаятельным в своей новизне и загадочности.
Старого охотника, известного храбростью от Учура до верховий далекого Оймякона, уговаривали долго.
— Стыдно тебе, дедка Михайла! — укоряли его эвенки.
— А если умру? — упрямился он. — Я две больших оспы видел. Не трогала меня красная старуха, а когда я ее на молодую променяю, она осердиться может.
Потом он пошел на хитрости:
— Когда все будут привитые, все будут здоровы?
— Будут здоровы, — сердито подтвердил Кирик, уже охрипший от разговоров.
— Значит, мне и заболеть не от кого будет.
Рыболовы заахали от такого мудрого рассуждения.
Кирик тоже не сразу нашелся, что возразить, но вспомнил слова Валентины, полез в карман, вынул из гаманка пачку денег, прежде чем отделить трехрублевку, старательно поплевал на пальцы.
— Больной оспой поплюет на руку в Оймяконе или в Крест-Хольджое… А потом эти деньги, которые он трогал, привезут сюда. Так ходят болезни, — сказал он гордому собой старику. — Почему они так ходят, я не понял, но если оспа летает по ветру, то в моем кармане ей совсем хорошо.
Михайла помолчал, подумал и начал стаскивать рубаху с жилистого сильного тела.
Вечером Валентина долго сидела на стволе упавшего дерева над речным порогом. Вода неслась перед ней ревущим потоком, кипела пенистыми буграми, налетая на камни, прыгала, как лосось, изгибая в облаках брызг черно-зеленую спину. А немного ниже по руслу, косо относя к отлогому берегу белоснежные шматки пены, она текла сплошной, глянцевитой, лоснящейся массой, отдыхая после стремительного бега.
Было грустно следить за быстрым движением дикой реки, смотреть на деревья противоположного берега, черные, точно обугленные на фоне багрово-красного вечернего неба.
«Мрачно и величественно, как в стихах Верхарна», — подумала Валентина, встала и вдруг увидела, что по глубокому броду верхом на оленях перебирались эвенки.
Олени без седоков отбились в сторону и плыли следом, закинув за спину рога, и казалось, не от зари, а от этих рогатых голов струилась по реке кровавая полоса.
61
Снова вспыхнул сухой хворост на кострах. Рыбачки выбегали из чумов, на ходу оправляя платья и косы. Явился и Кирик, сел на песке у огня, расчесал пальцами жесткие вихры, запалил трубочку — ту, что выменял на глухарей у старика Ковбы. Веселая болтовня началась у костра.
Приезжие женщины с наивным любопытством осматривали Валентину. Они трогали ее сапожки, щупали мягкие волосы, оттенявшие светлым блеском смуглый загар лица и шеи. Их темные руки легко прикасались к ее розовым ладоням, к мужскому костюму и гребенкам. Она только улыбалась, позволяя вертеть себя, как им вздумается, забавляясь простодушием своих лесных сестер, еще более живых и непосредственных, чем она сама. С ними приехали дети… Валентина присела у вьюков, сложенных на песке, развязала мягкие ремни, вынула из корытца-плетенки крепенькую девочку. Девочка была по уши мокрая, но толстощекое, накусанное комарами личико ее широко улыбалось. Сжав кулачонки, она потянулась всем уставшим тельцем, смешно отставив задок, чумазая, пропахшая острым зверушечьим запахом и все равно прелестная своей детской нежной пухлостью и теплотой.
— Надо мыть, — сказала Валентина матери, сразу угадывая ее по мягкому, тревожному блеску глаз.
— Надо мыть, — повторила эвенка и, смеясь, оглянулась на большой костер. — Кирик! Надо мыть?
Кирик переспросил, тоже засмеялся, начал оживленно говорить по-эвенкийски. По тому, как жадно слушали все и как дружно захохотали, Валентина поняла, что он рассказывал про баню артели.
Она сама принесла теплой воды в котелке, щурясь от дыма, начала мыть девочку, придерживая ее под грудку, сильно намыливая ее опущенные плечики и круглую спину. Ребенок удивленно молчал, только покряхтывал, но под конец операции закатился громким плачем.
— Мыло в глаза попало, — пояснила Валентина матери, окатила девочку остатком воды и завернула в свое полотенце. — Вот теперь мы совсем славные.
— Хороший девка-то? — спросил подошедший Кирик и пощелкал пальцами. — Э-эй, какой хороший!
Девчонка опять улыбалась, и всем было очень весело.
— Говорят: охотники наша рода кочевали туда. — Кирик кивнул на приезжих и махнул рукой на водораздел Омолоя и Сантара, черневший над лесом на тускло-красном, уже остывающем небе.
— Жаль, — спокойно ответила Валентина.
«Замечательно то, что Кирик рассказывает эвенкам о делах и всех событиях, которые происходят у нас на приисках», — подумала она, впервые так радостно ощущая свою связь с тем, что происходило там.
Она сидела, покачивая на руках ребенка, смотрела на скуластое, с длинным приплюснутым носом лицо Кирика и примиренно думала об Анне.
— Уехала родня! — говорил охотник, все больше огорчаясь. — Верста за сорок уехала, а может, за шестьдесят.
— Может, и за шестьдесят, — рассеянно повторила Валентина, погруженная в раздумье.
— Повидаться бы надо, — продолжал эвенк. — Больно уж надо.
«Почему у них начались нелады из-за мелочей? — думала Валентина, не слушая Кирика. — Неужели Андрей стал мелочный? И разве я не могу без него жить? Просто он показался мне лучше всех, кого я встречала до сих пор. Но теперь, кажется, я уже забываю о нем».
— Надо бы повидаться-то. Может, заедем?
— Куда заедем? — встрепенулась Валентина.
— К родне заедем. Давно не видел.
— А где она?
— Да верста сорок, а может, шестьдесят. Чаю попьем.
Валентина смотрела на проводника с изумлением. Лицо его было упрямо-неподвижно.
— Чаю попьем? — Она не знала, смеяться ей или сердиться.
— Может, полечишь кого, — настойчиво продолжал свое эвенк. — Давно ездим. День-два лишни — не беда.
— Нет, мы поедем завтра не в гости, а вниз по Омолою, к якутам, — твердо сказала Валентина.
— Потом поедем вниз. Сколько лет не видал…
— Кирик!..
— Я знаю: Кирик! Я везде идет… Целый месяц идет. День-два лишни — не беда.
62
Консервная банка валялась на земле, выжженной костром. Разбросанные головешки не были покрыты пеплом, ярко чернели и холодные угли: сразу видно, что костер не потух, а залит водой.
«Банку забыли — значит, очень торопились».
Кирик пнул ее в сердцах, и она, звякнув, отлетела в кусты. Он обошел еще раз кругом.
Нежно лоснились примятые ветки пихты, настланные на земле, пахли смолой тонкие жерди — остов чума. Видно, совсем мало жили здесь эвенки. Кирик тихонько посвистел, искоса взглянул на доктора.
Валентина сидела прямо на земле, охватив руками колени, сердито-насмешливо смотрела на Кирика. Туча мошкары колыхалась в горячем воздухе над оленями, привязанными к дереву. Даже в чаще, под тенью елок, было жарко. Кружилась голова от запаха хвои, еловых шишек, разнеженной, теплой земли, разогретых натеков янтарной смолы на коре лиственниц.
— Зачем уехали? Куда уехали? — бормотал Кирик, разглядывая помятую траву и олений помет.
— Напился чаю? — съязвила Валентина. — Эх ты, вредный ты, вредный! Меня мучаешь, оленей мучаешь! Я все расскажу вашему председателю.
— Зачем мучаешь? — укоризненно сказал Кирик. — Один-два дня — не беда.
— Не беда? Как это не беда? Теперь обратно еще два дня…
— Зачем обратно? Дальше поедем.
— Дальше? — вскричала Валентина, поднимаясь.
Она сорвала с себя сетку и шляпу, обмахиваясь ими, с разгоряченным лицом пошла к Кирику.
— Теперь уже близко, — заискивающе, смущенно, но по-прежнему упрямо сказал он, отступая назад. — Погода-то жаркий, костер-то совсем сырой.
Валентина до боли в пальцах сжала кулак. Ей хотелось поколотить этого упрямого Кирика.
— Я не поеду, — сказала она ломким голосом, гневно наступая на него.
— Тогда подожди здесь, — решительно предложил он, отступая еще на шаг и на всякий случай заслоняясь выдвинутым локтем.
Валентина заметила его движение, отбросила шляпу и со слезами в голосе крикнула:
— Подождать? Ты теперь будешь гоняться за ними по тайге, а я буду ожидать? — Слезы все-таки покатились из ее глаз. — Как же я останусь одна? Неужели тебе не стыдно?
— Я не говорю — останься, а говорю — вместе поедем, — с жалостью, но без раскаяния сказал эвенк. — Ты сама говоришь: не поеду.
Он чувствовал себя правым. Валентина даже растерялась перед его непоколебимым упорством.
— Куда же они уехали? — спросила она после тягостного молчания.
— То-то беда: никакой метка нет, — заговорил Кирик, сразу оживляясь.
— Услышали, что ты к ним в гости собрался, вот и уехали куда глаза глядят. Метку не оставили! Очень-то нужен ты им! — Еще сердясь, Валентина подумала, что охотники, наверное, испугались, услышав о прививке оспы, и нарочно откочевали подальше. — Куда же теперь ехать без метки? — спросила она.
Кирик совсем повеселел.
— Найду! Оленей-то у них много.
Тут он сразу вспомнил, что доктора надо беречь, начал умело, быстро разжигать новый костер, сбегал за водой, даже подобрал мимоходом шляпу Валентины.
Она сидела на коряге, устало опустив на колени поцарапанные, грязные руки, и сердито наблюдала за хлопотами своего проводника. Он примащивал плоский камень для столика, подсовывая под него нарубленные км поленья; все его согнутая спина была покрыта серой кишащей массой: комары так и набрасывались на все живое.
«Ему это, конечно, интересно. Он чувствует себя тут дома. Старый, вредный черт!» — с ожесточением думала Валентина.
Пусть он хоть треснет, она больше не станет помогать ему в домашней работе. Пусть он сам теребит своих куропаток и рябчиков. Пусть сам варит и жарит!
Комары садились на лоб Валентины, мошки лезли ей в глаза и уши, но она «назло Кирику» позволяла им есть себя, не утруждаясь взять шляпу. Даже когда дым костра повалил на нее, она зажмурилась, но не пошевелилась.
Неподвижность доктора напугала Кирика.
— Ты, что… захворал? — спросил он, бросая развязывать тюк с провизией. — Хворь, что ли, пришла? — переспросил он тревожно.
Губы Валентины страдальчески изогнулись, она хотела еще сидеть и молчать, но вспомнила, что олени стоят рядом неразвьюченные, кругом тайга, а Кирик — дикий человек… Что ему стоит вскочить на своих таких же диких оленей и умчаться, оставив ее одну? Он, кажется, очень хорошо понял, как ходят болезни.
— Дым глаза ест, — сказала она, порывисто вставая.
63
После короткого отдыха Кирик потрогал острие пальмы — тяжелый нож, насаженный на длинную рукоятку якутским кустарем, еще не успел притупиться — и сел на передового оленя.
К вечеру они доехали до остановки эвенков, но по всему было видно, что охотники снялись отсюда еще с большей поспешностью и повернули на север от Сантара. Теперь и Валентину захватил азарт погони, и она наутро ничего не сказала Кирику, только спросила уже в пути:
— Верно ли едем?
— Верно, однако. Теперь-то знаю, куда едут. Скоро река будет. Я тут шел молодой.
— Так ведь это давным-давно было…
— Давно. Еще один жил. А теперь меньшой сын жену взял.
Утром небо показалось Валентине серым, а солнце, тусклое в мглистые от жары и сухого тумана августовские дни, совсем утонуло в белом мареве. Кирик заметно забеспокоился: то и дело вздыхал, цокал языком, стал озираться по сторонам и спешить, местами пуская оленей рысью. Валентина молча, покорно ехала за ним.
Потом по тайге потянул ветер, он дул слабо, едва раскачивая в редколесье прозрачные колосья высокого вейника, но был не по-таежному зноен. И вскоре неожиданно принес с собой горьковатый запах гари.
Кирик ничего не сказал Валентине, останавливаясь на ночлег, но не отпустил оленей в тайгу, а привязал их на длинном ременном алыке. Когда Валентина уже спала, он вылез из своего шалашика, взглянул на небо. В мутной мгле не горели звезды, угасла и Полярная, которая своим неподвижным светом указывает путь таежным следопытам.
— Дым, однако! — тревожно шептал Кирик.
Он раза два взбирался на дерево, но видел только седую мглу сухого, едучего тумана.
— Однако, это дым, — бормотал он тоскливо. — Ехать надо скорее. Спать нельзя.
На рассвете по тайге потянулись стаи белок, с треском и шорохом летевших с дерева на дерево. Они осыпали Валентину и Кирика коринками, высохшей хвоей, шишками, их рыжие распластанные тела, как огненные лапы, проносились над головами путников.
У подошвы каменистой сопки Кирик оставил Валентину с оленями, а сам побежал наверх, быстро мелькая меж серых стволов лиственниц. Валентина смотрела ему вслед, чувствуя, как тошноватый холодок страха сжимал ее горло. Теперь она не злилась на Кирика; в нем была единственная возможность спасения.
Беловатый дым окутывал на северо-востоке все видимое сверху пространство. Местами он был темнее, иногда багровые гибкие языки пламени прорывали его и снова исчезали, и тогда дым сгущался в огромные черно-сизые клубы. Казалось, небо сбросило туда все облака: такого пожара эвенк еще ни разу не видел. У него сразу пересохло во рту и ничего не получилось, когда он хотел поцокать языком. Сородичи его, наверное, успели перейти на берега больших озер, на ту сторону реки, к которой стремился Кирик, но путь к ним теперь был отрезан.
Огонь буйствовал еще далеко, но он быстро двигался широким полукругом, и стаи белок, мчавшихся на запад, резко повернули к югу.
Все время приходилось пробираться по нетронутому, иногда тонкому и частому, словно тростник, лесу. Кирик ехал впереди, яростно, неустанно рубил широким ножом-пальмой, расчищая путь. Грязный пот струился по его лицу, но он не вытирался, не снимал шапки. Серый дым наполнил лес, и сквозь него безучастно, как слепой красный глаз, смотрело солнце. Перед огнем отступало все живое: летели, бестолково кружась, птицы, скакали, точно безумные, зайцы, пробежал-промчался медведь, подкидывая черными голыми пятками, и долго слышно было, с каким треском ломился он сквозь сухие ветки ельника.
Порой Валентине все представлялось дурным сном, но так больно били по телу ветки деревьев и кустарника и страх так сжимал сердце, что, будь это во сне, она давно бы проснулась.
Наконец они выбрались к неширокому протоку. Перед ними раскинулся остров, покрытый ельником и тополями. Кирик посмотрел на подтянутые бока оленей и, кивнув на остров, сказал Валентине:
— Плыть, однако, надо.
Река горела серебристым блеском, но вдоль острова, обросшего по берегу кустами ив, двигалась темная, покачивая, словно зеленые облака, отражения листьев. По всей реке, как поплавки, мелькали головки белок.
— Поплывем, — сказала Валентина, ободренная речной прохладой.
64
Остров был уже занят. Всюду на кустах и деревьях ожесточенно отряхивались мокрые белки. Усталые после переправы, с облипшей шерсткой, они казались безобразно тощими со своими большими ушами и прилизанными хвостами. Напуганные зверьки не собирались уходить отсюда, а все новые и новые стаи рябили воду реки. Некоторые самки пытались спасти бельчат, но выносили из воды жалкие трупики. Уходить с острова было некуда: по ту сторону речки тоже клубился дым. Удрученный Кирик с минуту грустно смотрел на него, потом плюнул, смешно и грубо выругался.
— Все кончали! Мох пропал, зверь пропал, птица пропала. — Кирик остервенело погрозил кулаком тому, кто выпустил огонь на волю, затем оглянулся на доктора и крикнул: — Паром делать надо.
На береговой косе громоздился прибитый половодьем сухой лес. Кирик принялся вырубать топором бревна. Валентина срезала ножом-пальмой тальниковые прутья. Мокрые волосы прилипали к ее лицу и шее. Босиком, без шляпы, в подвернутых до колен брюках, она походила на мальчика. Сейчас она одна легко перетаскивала такие бревна, какие в обычное время ей было бы и не поднять.
Едва они увязали два первых бревна, как загорелись ельники на острове, и скоро на берегу закопошилась масса мелкого зверья. Горностаи, белки, бурундуки, мыши крутились прямо под ногами людей, ища спасения, лезли на бревна плота. Потом неожиданно сверху по реке донесся крик человека:
— Э-эй!
Кирик поднял голову, но не бросил работу, закричал в ответ:
— Э-эй!
Крик повторился, все приближаясь. Показался человек в легкой оморочке: это был охотник Михайла, тот самый, который так боялся прививки оспы.
— Говори! — быстро сказал он Кирику, выскочив на берег, но не присел, не набил трубочку, а схватил бревно и потащил его в воду.
— Ты говори, — откликнулся Кирик, не бросая работы.
И Михайла, увязывая гибкими прутьями бревна, рассказал о том, сколько выгорело оленьих кормов там, где сходятся верховья Омолоя, Сантара и этой реки — Большого Сактылаха, о том, что пожар, возникший от костров конного транспорта, сначала шел двумя огненными полосами, на расстоянии трех дней пути, а потом ветер подхватил его, слил в одно сплошное пламя и погнал в сторону заката. Лучшие оленьи ездоки, посланные поселковым Советом по следам доктора, наверное, остались по ту сторону пала или отсиживаются на озерах.
Плот рос быстро, но огонь наступал еще быстрее. Странно заколыхались вдруг ближние кусты. Среди густого сплетения ветвей показалась лобастая голова медведя. Он жалобно урчал, крохотные глазки его пугливо посверкивали. Ему было страшно, но люди все-таки показались лучше огня. Зверь поколебался еще и вышел из кустов. Олени не обратили на него внимания, а продолжали стоять, понуро опустив головы, с налитыми кровью глазами. Скоро этот клочок острова превратился в тесный зверинец. Смерть неслась сюда, высоко развевая красной гривой, и заяц, готовый лопнуть от страха перед ней, сидел сгорбленный на хвосте притихшей лисы.
Но они забеспокоились и заметались, когда нагруженный плот медленно отошел от берега. Отталкиваясь длинным шестом, Валентина увидела тысячи глаз, понятливо устремленных на плывущие бревна. Стоило людям замешкаться, и у них не хватило бы места для пассажиров.
— Сгорят они все, — сказала Валентина, подавленная этими по-человечески осмысленными взглядами.
— Не все сгорят… которые потонут, — сказал Кирик, уже успокоенный. — Сохатый-то не дурак: выплывет на мелкое. В воде стоять будет. Медведь тоже.
Плот быстро плыл по реке, затянутой дымом. С берегов дышало нестерпимым жаром; ветви деревьев, трава, сухие сучья чернели, дымились и вдруг с треском светло вспыхивали, посылая в небо грязные лохмотья сажи, облака дыма и разорванные полосы огня. Горящая тайга гудела; огонь шел, сокрушая ее в диком порыве, швырял по ветру горящие лапы, осыпал реку метелью вьющихся и гаснущих искр.
Кирик черпал котлом воду, поливал ею вьюки, себя, оленей. Все были мокрые, а к ночи хлынул проливной дождь.
65
Дождь лил, и вода в реке хлюпала, булькала, покрытая звонкими пузырями и светлыми, опрокинутыми на шляпки дождевыми гвоздиками. Сумерки снова разливались над крутыми темно-лесистыми берегами, меж которых плыл плот. Олени серой, почти неподвижной грудой лежали посреди плота. Трое людей караулили с шестами каждый крутой поворот, каждый выступ, в который могли уткнуться несшие их бревна. Так плыли они уже второй день, садились на мели, бродили в ледяной воде, сталкивая плот с камней.
Чем больше трудностей они переносили, тем крепче и спокойнее чувствовала себя Валентина. Казалось, на свете перестали существовать кашли и насморки, хотя ноги все время были мокрые и струйки дождевой воды то и дело проползали под прилипающее к спине сырое белье. Теперь Валентина гордилась собой и, преодолевая усталость, работала наравне с охотниками. Она даже усвоила себе их походку, легкую, почти неслышную, их манеру всматриваться и вслушиваться.
— Хорошо едем? — спрашивал Кирик, совсем привыкший к ней.
— Хорошо, да не больно, — отвечала она его же фразой.
Валентина стояла с шестом в руках, с нетерпением ожидая удобного места для высадки. Погреться бы у костра горячим чаем, съесть кусок поджаренного на вертеле мяса. Валентина с усмешкой подумала, как расстроился бы Ветлугин, увидев ее в этой обстановке. Сейчас она была бы рада встретить его. Об Андрее ей далее не думалось, он стеснил бы ее: такой некрасивой казалась она себе в грязном мокром костюме, с распухшими, обветренными руками.
За поворотом на берегу горел большой костер, болталась на шесте серая тряпка.
— Эй! — крикнул Кирик.
В косой сетке дождя выросла высокая фигура охотника.
— Кто плывет? — спросил он по-эвенкийски, сбегая вниз.
— Доктор плывет. Чум-то есть?
— Шалаш есть. Чай есть. Мясо есть… — скоро заговорил охотник и изо всей силы ухватился за брошенный ремень, захлестывая его за корень вывороченного дерева.
Устроенный им навес из оленьих шкур едва вместил приезжих, и сам охотник сел под дождем, накинув на плечи и голову кожаный лоскут. В боковом свете костра лицо его с косо поставленными крыльями жестких бровей казалось бронзовым.
— Скажи ему, чтобы он лез сюда, мы потеснимся, — сказала Валентина Кирику. — Почему он не хочет? Уважение гостям? Вот глупости.
Кирик перевел. Охотник подсел ближе, стал говорить.
От оленных всадников с Омолоя он узнал о докторе, по следам которого пошел страшный пожар. Эвенки решили, что если доктор не погибнет в огне, то ему не миновать «сплава» по реке Сактылаху, и вот он, охотник, ждет здесь. У него умирает жена от какой-то непонятной болезни.
— Далеко? — спросила Валентина.
— День на олене… Семья большая: восемь детей.
Кирик переводил. Он так устал, что ему даже не хотелось рассказывать ни о приисках, ни о своей артели. Он только и спросил, к какому роду принадлежит охотник и не встречался ли он с его сородичами.
Валентина долго сидела молча. Вьюк с аптечкой был в сохранности, и что такое день езды на олене?!
«День-два лишни — не беда», — вспомнила она слова Кирика и усмехнулась печально.
Охотник не уговаривал, не суетился, а сидел неподвижно, с внешним спокойствием ожидая ответа. Эвенки дипломатично молчали: пусть доктор решает сама.
66
Утром Михайла отправился обратно в верховья, а Валентина с Кириком и охотником поехали в тайгу. Дождь все шел, и, слушая, как он долбил по шкуре, накинутой шерстью вниз на плечи и голову, Валентина смотрела на голубоватые ветви лиственниц, осыпанные светлыми каплями, на черные от сырости сучья ольхового подсада. Земля в низине не принимала больше воды, и набухшие бурые прошлогодние листья не могли уже прикрывать мелких луж, а тонули, запрокидываясь вверх распрямленными краями.
Теперь Валентине казалось, что в тайге было удивительно хорошо, когда стояла жара и так славно пахло древесной смолой и вялыми травами. А сейчас вещи во вьюках отсырели, и во всем лесу не найдешь сухого местечка для ночлега.
Два чума стояли у озера, на устье мелководной речонки, льющейся среди огромных валунов. Серая лайка, очень похожая на Тайона, но зверовато-настороженная к приезжим, без заискивания встретила хозяина. Толпа черноголовых ребятишек с тревожно-веселым любопытством уставилась на Валентину.
Но все уже привычное: и лайка, и ребятишки в своей меховой и ровдужной[21] одежде, и синие космы дыма, спадавшие с острых макушек чумов, — не поражало ее воображения.
В чуме под меховым одеялом металась в жару еще молодая женщина…
— Сколько дней хворает? — спросила Валентина, отшатнувшись от крика больной, которую едва успела затронуть.
— Четыре… пять дней.
Чуткая рука врача снова осторожно легла на твердый, как доска, живот, горячий и мокрый от пота.
«Или внематочная беременность, или прободной аппендицит, — решила Валентина, осматривая больную. — Да, аппендицит. Верная смерть: трогать нельзя, везти нельзя. Пять дней с прободением — это уже общее заражение крови. Ни один хирург ей теперь не поможет».
— Она умрет, — перевел Кирик предсказание Валентины, и охотник, хозяин юрты, сразу стал сутулым.
Горе охотника окончательно расстроило Валентину. Как она хотела, чтобы наперекор всему его жена, хрупкая и длиннокосая, снова наполнила чум материнской суетней.
— Она, наверное, умрет, — повторила Валентина с состраданием, точно хотела тоном голоса искупить жестокость своих слов. — Но я буду лечить ее, — добавила она, проникаясь смутной надеждой: не ошиблась ли в диагнозе? Может быть, здесь просто ушиб?
— Нет, — снова отвечал охотник на вопросы Кирика, — жена не падала на живот, она не поднимала ничего тяжелого, никто не ушибал ее.
«А может быть! — упрямо думала Валентина, глядя на восковое лицо, увлажненное испариной. — Мужчины многого не замечают».
Надо было как-то действовать, чтобы отвести душу себе и другим и облегчить хоть чем-нибудь страдания больной. Убого выглядело при скудном свете камелька лесное жилье, даже обмыть больную нельзя; зачем причинять ей излишние страдания — через день, много два она все равно умрет.
«А может быть!»
Открыв аптечку, Валентина достала нужные лекарства. Холод на голову и живот! Льда нет? Только к утру успеют сходить за льдом? Хорошо, пусть идут. Есть холодная вода. Давайте пока воду. Нельзя вымыть больную… так хотя бы прикрыть ее лучше, сменив взмокшее меховое одеяло.
Валентина разорвала и сметала на простыню собственное чистое, но измятое во вьюках белье, сама приготовила крепкий бульон.
«А может быть!..»
Было совсем поздно, когда она, тепло укутав больную, дрожавшую от озноба, добралась до постели, приготовленной для нее, закрылась зимней дохой хозяина и уснула тяжелым сном. Она не слышала, как забегали из другого чума дети, как выпроваживал их отец. Кирик сбежал к ним в большой чум и долго сидел там у огня, поднимая брови, потряхивая головой в мучительном раздумье, пока не свалился, тоже побежденный сном.
67
Среди ночи Валентина вдруг проснулась и приподнялась, глядя в полутьму широко открытыми глазами. Ей приснились какие-то бабы, нагие, безобразные, наглые, и она между ними, босая, в одной рубашке. Андрей, очень пьяный, жалкий, маленький, сморщенный, целовал ее всю и плакал. Сама она тоже была дряблая, сморщенная, и стыд сжигал ее, потрясающий стыд…
Сидя на постели, трогая свое теплое, нежно-округленное тело, Валентина не могла отделаться от ощущения этого стыда и ужаса. Потом она прислушалась к плеску дождя, еще усилившегося, сладко зевнула, собираясь снова прикорнуть в нагретом ею местечке, но, не закончив зевка, взглянула на постель больной и сразу вскочила.
Женщина лежала неподвижно, одеяло не шевелилось на ее груди, лицо в переменчивом свете костра было темное, как земля. Валентина, почти не дыша, присела около нее на корточки, потрогала ее тихонько. Она была жива, но пульс ее, частый, западающий, едва бился.
— Не умирай! — попросила Валентина и нежно погладила жесткие волосы женщины. — Не умирай! — страстно повторила она, опускаясь на колени возле ее изголовья. — Ты еще так долго сможешь жить! Почему я не приехала к тебе несколько дней назад? Все было бы хорошо. Не умирай, не надо умирать! — как заклятие твердила Валентина, бережно пряча под одеяло горячую, потную руку эвенки. — Господи! — прошептала она, тоскуя в страшной затерянности здесь, перед лицом смерти. — Такая ночь и глушь кругом… Так мало людей на этой дикой земле… А смерть отнимает мать у детей.
Слезы навернулись на глаза молодого врача. Вся гордость ее пропала, и она чувствовала себя слабой и бесконечно несчастной.
К утру больная снова заметалась, начала бредить. Хозяин чума и Кирик поставили на столик, похожий на низко опиленный табурет, чайную посуду, вареную оленину, лепешки, ягоды. Валентина не смогла есть: она заставила себя взять кусок, разжевала его, но гнетущая тоска клещами сдавливала ей горло.
— Как баба-то? Не померла? — спросил Кирик.
— Нет… жива пока.
— Помрет еще. — Кирик помолчал в раздумье, поднимая и сводя к переносью брови. — Разный хворь-то бывает. Не все, однако, лечить можно!
— Все можно лечить, пока не поздно, — сердито ответила Валентина. — Эта больная умрет потому, что некому было помочь ей вовремя. А женщин у вас мало, старятся рано. Матерей особенно беречь надо. — Валентина взглянула на удивленного Кирика, добавила с раздражением: — Ничего не понимает.
— Я все понимает, — обиженно возразил эвенк. — Ты правду говоришь: баб у нас мало. У якутов баб мало… Да разве можно уберечь! Микола-матушка! Помирает все равно — мужик или баба. — Кирик помолчал, разрывая зубами белое сухожилие — ленок. Как теперь поедем? Обратно нельзя: оленей кончим. Мох-то сгорел. Плыть будем, что ли? Ниже, вот он говорит, камень много. Тогда олень поедем. Там база есть. На главный берег придем, там лодка с окошками, дым большой.
— Пароход?
— Угу, — произнес Кирик, не в силах сказать другое потому, что рот у него был забит едой.
— Далеко мы заехали! — печально удивилась Валентина.
— Еще дальше заедем, — пробормотал охотник, но, заметив испуг на лице Валентины, пояснил: — Речка-то вниз пойдет. Больно круто поворачивает.
68
Лес кончился. Впереди светлела широкая порубка по косогору, уютный угол, образованный течением реки и впадавшего в нее ручья. За неровно опиленными пнями стоял на берегу чудесный дом. Настоящий бревенчатый дом, рубленный в лапу. Из трубы медлительно, неохотно расставаясь с крышей, шел сизый дымок. Тут же, на берегу, на устье ручья, стоял склад-амбар, а поодаль — баня. Дверь амбара была широко открыта, в темноте смутно виднелись нагроможденные до потолка ящики и мешки с мукой. Двое в брезентовых плащах хлопотали у порога, чем-то звякали, громко переговаривались. Они не сразу услышали чавкающие шаги оленей: косой дождь частил над просекой, над мокрыми крышами построек, наполняя окрестность звучным шорохом.
— База это, — сказал Кирик Валентине с самым равнодушным видом, точно они на каждом шагу встречали такие базы.
Валентина промолчала: вид настоящего жилья растрогал ее, захотелось поскорее взбежать по ступеням крыльца, распахнуть деревянную на железных петлях дверь…
— Вот башмаки так башмаки! — по-русски произнес в амбаре мужской голос. — Под этаким башмаком любой валун треснет.
Саенко с тем же чувством оживленного интереса повернула голову.
— У себя в мастерской изготовили, — негромко ответил другой таежник.
От этого негромкого голоса у Валентины до онемения похолодели кисти рук: она сразу угадала:
Андрей! Он стоял тоже спиной к двери, неестественно широкий в своем дождевике.
Она спрыгнула с седла и пошла к распахнутому зеву амбара неровной от усталости и волнения походкой.
Андрей обернулся на звуки шагов, возникшие в шорохе дождевых капель.
— Вы! Как это вы?!. — Он не улыбнулся ей, не поздоровался, не сделал далее шага навстречу.
«Вот он какой… странный…» — думала Валентина, подходя к нему. Губы ее, полуоткрытые от удушья, мелко дрожали.
Второй разведчик тоже перестал рыться в груде железа, сваленного на полу, и стоял, удивленно глядя на неожиданную гостью.
«Уж лучше бы не встречаться!» — подумала она и от досады на самое себя спросила почти спокойно:
— Здесь ваша база?
— Да, здесь наша база, — подтвердил Андрей и неопределенно развел руками, в которых держал два косозубчатых кольца.
— Что это у вас? — продолжала Валентина с тем только, чтобы не молчать.
— Где? Ах, это!.. Башмаки для буров, — пояснил геолог. — Вы видели когда-нибудь работу буровой разведки?
— Нет, не видела, — сказала Валентина звенящим голосом. — Я не видела работу разведки… Мы очень промокли. Где бы нам тут переодеться и согреться?
— Пойдемте! — спохватился Андрей; положил свои башмаки и пошел с Валентиной к дому, куда Кирик уже втаскивал снятые с оленей вьюки.
«Какой я совершенный идиот! — упрекал себя Андрей, глядя на стоптанные, порыжевшие от сырости сапожки врача, на жалко обвисшие поля ее фетровой шляпы. — Какой я невыразимый идиот!»
В просторном еще новом бараке он сдернул с постели на нарах одеяло, торопливо завесил им угол для Валентины; один край не доставал до торчащего в стене гвоздя, и Андрей притянул его, накинув на суконное ухо петлю из чьего-то галстука. Он послал одного рабочего топить баню, другого в склад за продуктами, а сам, стараясь не смотреть на отгороженный: им угол, принялся усердно шуровать в печке.
— Погода совсем разладилась, — сказал он Валентине, когда она вышла, переодетая во все сухое, в его рубашке с подсученными рукавами. — Я очень сожалею, что вы попали к нам в дрянную погоду.
— Вот как! — перебила Валентина, понимая, что он вообще не рад ее приезду. — Разве я выгляжу очень плохо? Хотя… — она ожесточенно пощипала подвернутый рукав рубашки, — хотя, конечно, после приключений, какие нам довелось вынести, нельзя выглядеть иначе.
69
Идя в баню по грязной тропинке в чьем-то большом дождевике, пиная коленками шумящие его полы, Валентина с досадой перебирала подробности встречи, такой сказочно прекрасной и такой нелепой.
«Что же это? Ведь я больше месяца не видела его. И вот встретились, а радости нет. Значит, чувства нет?» — Она рванула к себе дверь низенькой баньки, топившейся по-черному.
Там было темновато, знойно, сухо, дымок еще ел глаза.
— Вроде угарно! — сказала женщина, раздеваясь на лавочке у двери, и поглядывая на угли, тлевшие в печке-каменке.
Снизу, из-под полка, пахло прелым березовым листом, на деревянном корытце ожидал положенный заботливой рукой новый веник.
— Ну что же, попробуем, — сказала Валентина и облила веник ковшом горячей воды.
Сморщенные, уже засохшие листья сразу окрепли, расправились.
«Вот угорю здесь, — подумала Валентина, почти желая этого, и одновременно наслаждаясь теплом, охватившим все ее иззябшее тело. — Они не скоро пришли бы за мной… Он, наверное, не побеспокоится!»
«Вы видели работу разведки?» — зло передразнила она, вздрагивая от озноба, покрывшего ее кожу пупырышками, плеснула из ковша на раскаленную каменку, окатилась водой сама и полезла на полок, захватив веник.
Она неумело, но сильно хлесталась мягкими, жарко шелестевшими листьями, и волны горячего пара колыхались над нею. Дышать было трудно, но тело ее, светлевшее, словно перламутр, в этой черной норе, становилось таким гибким и легким, точно она выбивала из него всю усталость, всю зябкость и… злость.
— Самый настоящий массаж! — Бросила веник, спустилась вниз, где стояло корыто.
Свою мочалку-губку она оставила в тайге, разделив в подарок ребятишкам, а теперь взяла рогожную, которую приготовила перед баней сама, и так неожиданно приятно оказалось мыться этой жестковатой вехотью, обильно ронявшей мыльную пену! В крохотное оконце виднелся кусок реки — текущая веда, покрытая дождевой рябью, — да еще у самого стекла покачивалась узкая травка. Всего травин пять…
Угореть уже не хотелось. Когда она вернется из бани, там приготовят чай; обязательно с консервированным молоком. Она давно не пила чаю с молоком.
Потом ей пришла мысль, что, пока она моется, Андрей вдруг соберется и уедет к своим разведчикам, не простившись с нею. У него это получится очень просто. Валентина заторопилась одеваться и снова занервничала, то роняя вещи на залитый пол, то хватаясь руками за покрытую копотью стену.
Когда она вошла в барак, Андрей сидел за столом с каким-то новым русским. Они весело разговаривали и ели разогретые на сковороде консервы.
«Он совершенно безразличен ко мне, — снова затосковала Валентина. — Мне бы кусок не пошел в горло, если бы я ожидала его, а он спокойно ест и вообще ведет себя так, как будто ничего не произошло. — Его оживление раздражало ее не меньше, чем недавняя серьезность. — Да, он не побежит на свидание, не пообедав!»
— Почему вы сели за стол без меня, гостеприимный хозяин! — укорила она с натянутой шутливостью.
— Для вас особый обед готовится, — сказал Андрей. — Если бы вы приехали до ненастья, когда была богатая охота… А сегодня только вот… — И он кивнул на железную печь, где дожаривался крепко подрумяненный рябчик. — Конечно, вас дичью не удивишь после вашего путешествия по тайге. Но там вы ели ее изжаренную прямо на огне, а у нас по-настоящему, на сковородке. А еще макароны, и даже варенье есть к чаю. — Разговаривая, Андрей обошел вокруг печки и остановился около Валентины. — Через три дня на речной базе будет пароход, — добавил он несколько неожиданно.
— Будет пароход, — повторила Валентина, тревожно глядя на него. — Значит, мне надо сразу ехать!
«Неужели я ни одной минутки не побуду с тобой наедине?» — спросила она его глазами.
Чисто вымытые кисти ее опущенных рук нервно шевельнулись.
— Мы вместе отправимся на оленях рано утром, — сказал Андрей и смутился, — мне тоже пора домой, — добавил он, точно оправдываясь.
70
Гулко стреляли в печке горящие поленья. Треск огня напоминал пожар, бушевавший в тайге, но влажный шорох дождя за стеной гасил это воспоминание: трудно вообразить горящей мокрую до корней тайгу. А как хорошо было сидеть на скамейке в настоящем доме, где ниоткуда не протекало и не дуло, где все самое настоящее, даже пол под ногами.
Андрей у стола, под висячей керосиновой лампой, писал что-то в толстой тетради. Когда Валентина посматривала на него через плечо, то видела его опущенное лицо с выражением озабоченной старательности. Но она ощущала его присутствие и не глядя, как ощущала с закрытыми глазами движение тепла и света.
Вот он встал и пошел к ней. Она угадала его приближение не по шагам — в бараке ходили еще и другие, уже готовясь ко сну, — а угадала по радостной тревоге, колыхнувшей ее сердце, не выдержала и снова оглянулась.
— Отогреваетесь? — спросил Андрей, садясь рядом с нею.
Валентина не ответила. Казалось, ничего не могло быть лучше скамейки, на которой они сидели. Большего и не нужно, только бы сидеть вот так. Она совсем не испытывала усталости, обычной после дороги, даже тепло дома не разморило ее.
— Расскажите о себе, — попросил Андрей. — Ваш проводник говорил, что вам пришлось спасаться от пожара. В тайге это страшное дело!
Валентина легко вздохнула и принялась рассказывать…
Затем они долго сидели молча.
— Я могу молчать с вами сколько угодно. Мне и это радостно, — призналась она.
Андрей ничего не сказал, открыл дверку печи и, опустясь на одно колено, подтащил клюкой головешки. Лицо его, освещенное красноватым светом, было задумчиво и даже печально.
Люди в бараке уже спали, привернутая лампа горела тускло: весь свет шел от печки, от смолистых поленьев, сунутых Андреем в ее раскаленный зев. Андрей посмотрел еще, как огонь охватывал дрова дружным пламенем, медленно поднялся и, счищая липкую серу с ладоней, снова присел на скамейку.
— Я смотрела на вас и думала, что это никогда-никогда больше не повторится, но запомнится на всю жизнь, — грустно заговорила Валентина. — Все лес да лес. Глушь такая… северная. Дикие камни! И вдруг дом… бревенчатый домик. И этот свет от печки, и вы… человек, подбрасывающий в печку поленья…
— Что же тут такого!.. — начал было Андрей, но взглянул на Валентину и увидел ее совсем близко. Снова, как тогда, во сне, когда он поцеловал ее, сердце его сжалось до боли. Он оглянулся на тонувшие в темноте углы барака и вдруг устыдился за излишнюю предупредительность своих разведчиков, грубоватых, простодушных парней.
— Вот чудаки какие, — сказал он. — Зачем на ночь лампу привертывать — получается совсем неэкономно. Наоборот: когда лампа заправлена, как надо, в ней газ горит, а в привернутой один керосин сгорает, оттого и копоти больше…
71
Снова торопко шли олени, снова сыпались отрясаемые ими с кустов частые капли, но каким веселым казался теперь этот добавочный дождь!
Кирик, ехавший впереди, свернул с дороги и начал спешиваться: облачные сумерки уже оседали на землю… Он положил между корнями дерева мелкого хворосту, вынул из вьюка сухие растопки, и скоро синий дымок пополз, извиваясь вокруг двух низеньких палаток. Андрей расстелил в палатке Валентины охапку веток, хотел выйти, но взглянул на свою спутницу и улыбнулся: она сидела у входа, положив руки на дорожный вьюк, но ничего не вынимала, а только смотрела на него, Андрея.
— Что же вы сидите, точно в гости приехали!
— Я и приехала в гости. Я у вас в гостях, Андрей Никитич!
Он взял вьюк, отложил его в сторону и сел рядом с ней.
— Я очень рад встрече с вами. В тайге это особенно чувствуется. Ведь если бы знать, что вы там, среди огня, — с ума сойти можно!
Валентина вспомнила бескрайние, безлюдные пространства, ночи, проведенные у постели умирающей эвенки, свою тоску и растерянность… Дыхание у нее неожиданно остановилось. Она попыталась сдержаться, заслонилась рукой, отвернулась, будто покашлять хотела, но рыдания душили ее.
— Валентина Ивановна, — сказал Андрей порывисто, — разве вы плакали, когда ночью шли по тайге?
— Конечно, плакала. Но тогда, когда я шла к роженице, это было от усталости, от физической слабости, а тут возле умершей. Тут было совсем, совсем другое. Вы и представить себе не можете, какая бывает тоска… Я опоздала и ничего не смогла сделать, но и уехать от нее, умирающей, тоже не могла. — Слезы Валентины сразу высохли, глаза расширились и потемнели. — Вы понимаете: целая куча детей… маленьких, а мать умирает, а кругом юрты, лес… на всю жизнь. Сплошной лес! Я врач, училась тому, как лечить, и вот смотрю на человека и вижу: я бессильна перед этим… и вообще бессильна. Почти трое суток она… умирала. Пульс, как ниточка, и уже ни температуры, и… ничего. Человек сдал — умирает, и сам знает, чувствует, что умирает, и до последней минуты в сознании. Я ночами подходила к ней с такой глупой надеждой: вдруг ей легче станет! А она поведет стеклянным взглядом и только вздохнет: все понимала. А тут еще эти маленькие лезут к ней, и она им наговаривает по-своему, а я не мешаю, потому что… все равно!.. — Голос Валентины задрожал, и она закрыла лицо руками.
— Не надо так, — попросил Андрей, бережно проведя ладонью по ее опущенной голове. — Вы измучились, вот и нервы…
— Да, нервы… — Знаю, дети не пропадут. Я напишу в область, когда приеду. Дело не в том, — добавила она, вытирая лицо подвернувшейся марлевой косынкой.
— А в чем? — ласково спросил Андрей.
— В том, что вдруг видишь свое бессилие, сознаешь, что все твои познания ничего не дают.
— Это настроение минуты, — сказал Подосенов, задетый за живое воспоминанием о собственных неудачах. — Это у всех бывает, когда… не везет в деле.
— Значит, пройдет?
— Пройдет, — нежно глядя на нее, но не сознавая этого, ответил Андрей.
72
Валентина долго лежала, вслушиваясь в шелест ветра, — дождь, шуршавший с вечера по туго натянутой брезентовой крыше, видимо, перестал, — и думала об Андрее. Ей казалось, что она лежала так и не спала всю ночь, а если спала, то и во сне думала о нем и ощущала его присутствие. Ведь он совсем близко: вторая палаточка в двух-трех шагах.
На приглашение Валентины переночевать в ее палатке Андрей сначала не ответил, а потом покраснел так, что покраснела и она, и сказал:
— Нет, я вместе с Кириком… Вы теперь привыкли не бояться в своем перекидном доме.
Да, она уже привыкла, просыпаясь по ночам, слышать над собою могучий шум леса или тонкий звон комаров в глубоком безмолвии. Большой дом — тайга! Темные руки ночи медленно двигают звезды по синему небу. Какой-то зверь-житель проходит вблизи, шевельнет сучок осторожной лапой — и сухо крякнет сучок. Кашлянет в ответ в своем шалашике Кирик, всегда чутко настороженный, далеко ответит звон ботала на олене. Кирик пятьдесят лет прожил, не выходя из тайги. Привыкла к ней и Валентина: месяц прошел.
Выйдя наутро из палатки, она увидела Андрея, хлопотавшего у костра. Он только что отставил в сторону чайник и, прислонясь подбородком к тонкой сушине, которую еще держал в руке, задумчиво следил за банкой консервов, поставленной им на угли. Он будто ждал появления Валентины: обернулся к ней, улыбнулся. Но улыбка проскользнула, не оживив лица. Валентина сразу подметила, что за одну ночь его лицо осунулось, и, как это ни странно, — обрадовалась такой перемене.
— Вы уже встали! — сказала она, подходя и перебирая руками полотенце.
— Я и не ложился: до полуночи просидел в палатке, а когда перестал дождь, сидел у костра.
— Ну почему вы не разбудили меня, — пылко упрекнула Валентина. — Я тоже люблю полуночничать. Вам было неудобно, наверное, в маленькой палатке?
— Нет, удобно. — Андрей сломал о колено сушину и бросил в костер. — Мысли всякие одолевали… Такой разброд! Мне иногда тоже тяжко бывает.
— Аа-а! — протянула Валентина, неожиданно гибким движением опустилась на корточки, жмурясь от жара, прихватила краем полотенца и оттащила в сторону закипевшие консервы.
Умываясь у ручья, она думала: «Иногда тяжко» — это он о работе. Но только ли работа его волнует? Что значит «разброд»? Ей не хотелось вспоминать об Анне: она не могла сочувствовать этой женщине, захваченная влечением к ее мужу, а относиться плохо было просто невозможно.
«Вот это и есть разброд! — заключила Валентина. — Работа не ладится — „тяжко“. Если бы меня вздумали лишить звания врача, я бы погибла с горя: ведь столько лучших лет и сил затрачено!»
* * *
От береговых отвесных утесов дорога через горный хребет повернула в сторону, петляя то по гущине ольховника, то по скалам, заросшим сверху толстыми моховищами, потом потянулись чахлые лиственницы.
Погода стояла пасмурная, прохладная, комары исчезли, и подниматься пешком было легко.
— Смотрите, как низко плывут тучи, — весело говорила Валентина Андрею, — они идут, как сытые коровы с пастбища. А сколько здесь голубики! Чем выше местность, тем ниже ее кусточки, вот тут прямо стелются по земле, но ягоды все крупнее.
Оба остановились на крутом повороте у обрыва. Облака тумана клубились под их ногами, в просветах его неровной полоской светлела речонка, ближе, прорывая белую пелену, чернели острые верхушки лиственниц.
— Еще один шаг — и смерть, — задумчиво сказал Андрей.
— Далее мысль о ней меня всегда возмущает! — ответила Валентина, но тоже задумалась. — Я очень люблю жизнь и… себя… Вот я одна — большая Валентина, много работаю, обо всем беспокоюсь. Если бы я была только такой, то стала бы доктором наук, профессором. Но есть еще другая я — маленькая. Эта любит наряды, веселье, тащит меня из поликлиники, мешает заниматься за письменным столом.
— Каким же образом мешает?
— Всячески…
— А-а! Вон кедровка летит, хотите, убью ее? — Андрей вскинул ружье и шутя опустил его стволами на плечо Валентины. — Вот так…
— Стреляйте, я не боюсь!
— Да я-то боюсь. Интересно, какая вы сейчас: большая или… маленькая?
Она ответила, искренне затрудняясь:
— Сама не знаю. Может быть, я просто наболтала на себя. Наверное, у всех так!
С разговорами оба забыли о Кирике, потом спохватились и пустились нагонять его. С вершины перевала они увидели, как он, уже далеко внизу, сводил оленей не по прямой, а зигзагами. Местами и Кирик и олени съезжали почти сидя.
— Куда он затащил нас? — удивился Андрей. — Есть более отлогая тропа.
— Он человек с фантазиями, — переводя дыхание, весело сказала Валентина. — А раз вы его не направили по верному пути — сами виноваты! — И она начала спускаться первой, не выбирая дороги.
— Осторожнее! — крикнул Подосенов, нагоняя ее. — Мох мокрый и скользкий. Можно скатиться со скалы.
На каменистой круче он протянул руку Валентине. Она легко оперлась и в следующий момент уже стояла с ним рядом. Он перебрался ниже и опять потянулся к ней.
Пушистая прядь волос задела его по разгоревшейся щеке.
— Вы научились ухаживать? — сказала Валентина, пытаясь улыбнуться.
— Это не ухаживание! — взволнованно ответил Андрей, не выпуская ее из рук.
— Что же тогда? — Голос ее дрогнул, но она пошутила: — Не забывайте об осторожности, а то мы оба свалимся с обрыва.
Он посмотрел в блестевшие перед ним глаза Валентины (невозможно было оторваться от их сияющей синевы) и еще крепче прижал ее к груди.
73
— Я полюбил тебя знаешь когда? — спросил Андрей.
Она сидела на белых перилах, держась одной рукой за железную стойку, другая рука ее лежала на его плече.
— Знаю, — прошептала Валентина. — Когда я пела! Я никогда так не пела, как в тот раз. И ты посмотрел потом на меня… — Лицо ее засветилось от счастья. — Ты нехорошо думал обо мне до этого?
— Нет, только хорошо, хотя иногда ты казалась мне странной, а то, что люблю тебя, понял в тайге, на разведке, где был один перед лесным пожаром…
— Мне хочется поцеловать тебя, — сказала Валентина капризно и спрыгнула с перил.
Она стояла, весело смеясь, а Андрей восторженно любовался ею, поправляя жакетик на ее плечах.
Солнце пробило наконец серебряную толщу облаков над серой рекой и, бледное, но теплое, тянулось лучами в ослепительно-белый провал, все разрыхляя и раздвигая его рваные края.
— Завтра будет чудесный день, — промолвила Валентина, следя за движением солнечных лучей.
— Чудеснее, чем сегодня, он не будет, — ответил Андрей.
— Есть же на свете счастливые люди! — сказал кто-то позади них.
Они действительно чувствовали себя счастливыми, позабыв обо всем на свете, и присутствие на палубе других людей совсем не стесняло их. А на них смотрели внимательно…
Проходя узким коридорчиком, пропитанным особенными пароходными запахами — временного жилья, машинного масла и краски, — они встретились с моложаво-седым усатым поваром, и Валентина вспомнила, что именно на этом пароходе ехала она из Якутска на Светлый.
— Ну, как Тайон? — спросил повар, поздоровавшись.
— Здоров. Еще красивее стал, но совсем не сидит дома, а все где-то шляется.
— Та-ак… — протянул повар с заметным сожалением и посмотрел на Андрея; видимо, ему хотелось спросить еще о чем-то, однако он не решился.
— Это он подарил мне собаку, — шепнула Валентина.
Войдя в каюту, она закрыла дверь и сказала: — Ты знаешь, я столько, столько раз мечтала подойти к тебе вот так и чтобы твои руки встретили меня.
Андрей взглянул в ее доверчиво обращенное к нему лицо, побледневшее от страстного волнения, и вдруг представил Анну с таким же, так свойственным ей выражением открытой душевности, и ему показалось, что пол каюты качнулся под его ногами.
«Да как же это я?!» — подумал он, весь холодея.
74
Кирик в это время беспокойно бродил по палубе. Ему было и интересно и страшно немножко в этой плывущей избе, наполненной острыми запахами. Он не понимал, отчего она так скоро двигалась вверх по течению. Никто ее не тянул, не подталкивал, не видно было ни весел, ни парусов, только внизу, с обоих боков вертелись два колеса, взбивая белые горы воды. Какая сила заставляла их так шуметь и хлопать по воде?
Эвенк трогал ладонями вздрагивающие переборки, прислушивался, как мелко сотрясался под его ногами пол. Только по этой напряженной дрожи он догадывался о том, каких усилий стоило пароходу быстрое движение по реке. Длинные волны с загнутыми белыми краями выбегали на песчаные берега, облизывали их и нехотя скатывались обратно или с шумом расшибались о береговые утесы. Кирик смотрел на них целыми часами.
Потом он шел к своим оленям, привязанным на корме, где находилась еще за тесной перегородкой телка, молодая, комолая, с красными пятнами на спине. Красные эти пятна особенно смущали Кирика. Почему же у его Катерины все коровы черно-белые? И он, поплевав на пальцы, попробовал даже потереть блестящую шерсть смирного животного.
Олени стояли грустные: их также волновала непривычная обстановка. Трава и куча лиственных веток лежали перед ними нетронутые. Кирик погладил кроткие морды оленей и стал наводить чистоту на полу, как наказал ему здешний начальник.
— Эй, дагор! — окликнули его с верхней палубы. Эвенк бросил тряпку, подсмыкнул съехавшие в пылу уборки ровдужные штаны, помаргивая, посмотрел наверх. Там оказался человек в слепяще-белой рубахе с засученными рукавами, с белым бабьим фартуком на животе, в белой же кругленькой шапочке. Даже усы у него тоже были белыми. Кирик посмотрел, щурясь, на этого необыкновенного человека, и ему снова стало весело.
— Здравствуй! — крикнул он дружелюбно. — Ты кто, доктор, что ли?
— Лучше доктора, — отозвался новый знакомец. — Обедать хочешь? Айда ко мне на кухню. Знаешь, внизу, у машинного отделения.
— Айда! Ладно.
Он убрал на место метлу и тряпку, вымыл под умывальником руки, вытирая их о штаны, не без робости вошел в душное, жаркое, помещение. Направо был ход, налево ход. Кирик подумал и пошел направо, откуда все время раздавался глухой шум.
Едва он сделал несколько шагов, как перед ним открылся светлый провал. Эвенк замер, прислонясь к стенке. Оттуда снизу тянуло запахом разогретого машинного масла. Железо урчало, лязгало, блестело, ворочалось в глубокой пароходной утробе. Кирик не вошел бы туда один ни за что на свете. Он уже попятился, но откуда-то сбоку снова появился человек в белом.
— Ну, чего ты стал? — спросил он ворчливо-укоризненно. — Экой ты, братец мой, нерасторопный! Боишься, что ли? — Он подошел вплотную к оробевшему таежнику, облокотился на железную загородку, весело подмигнул, разглаживая белые усы: — Нравится работка?
— Прямо голова болит.
— Голова болит оттого, что не обедал, — спокойно определил повар. — Мне наши девахи сказали, что ты с утра крутишься по пароходу, а в буфет не идешь. Денег нет, что ли?
— Как нет денег? Есть деньги! — Осторожно идя за поваром, охотник пощупал в кармане гаманок. — В тайгу ездил. В тайге зачем деньги? Все целы.
— На прииски едешь?
— Угу. Домой едем. Доктора возил.
Повар обернулся так неожиданно, что Кирик при всей своей ловкости наскочил на него.
— Какого доктора?.. Женщину?
— Женщину. Валентину.
— Ишь ты! — совсем как конюх Ковба, произнес белый старик.
Кирик сразу почувствовал в этом его уважение и сразу начал хвастаться доктором и собой.
75
В жаркой кухне повар усадил своего гостя у окна и начал потчевать.
Кирик ел и подробно рассказывал о поездке внимательно слушавшему старику. Он был смущен немного отказом повара взять с него деньги и чувствовал себя обязанным, не зная, чем отблагодарить за угощение.
— А кто… этот с ней… муж ее, что ли? — застенчиво спросил повар.
— Андрей-то? Нет, не ее муж. Анкин это. Баба у него есть — Анка. Больно хорошая баба, начальник она на приисках.
— Жалко, — пробормотал повар. — А я думал, замуж вышла.
— Нет. Чужой играет, — простодушно сказал охотник.
— Жалко. Нехорошо это.
— Пошто нехорошо? Ничего-о! Молодой, здоровый, играть маленько надо.
— По-твоему, может, и ничего, а по-моему, плохо. Кабы была какая-нибудь завалящая, так пес с ней, а за эту обидно. Одни неприятности и ей и Анке. Узнает — думаешь, легко той будет? Через это до смертоубийства доходят.
После обеда повар повел полюбившегося ему эвенка в машинное отделение, потом в красный уголок, все показывал и объяснял с видом владетельного хозяина. Кирик, очень польщенный таким вниманием, шел за ним, точно привязанный, ко всему присматривался с жадным любопытством.
Расставшись с поваром, Кирик опять вернулся к своим оленям, принес им воды, перевернул вялый сверху корм и задумался, навалясь на перила борта. Он думал о Валентине, об Андрее, о том, что плохо играть с чужим.
— Одни неприятности, — медленно, недоуменно выговорил он.
Легкое прикосновение к плечу вывело его из раздумья. Это была Валентина. Она долго смотрела сверху на него, такого странного в кожано-меховой одежде, со своими дикими олешками на палубе парохода. Он показался ей здесь затерянным. Она оставила Андрея, сбегала в пароходный киоск и торопливо спустилась вниз.
— Ты не бойся, Кирик, — сказала она, ласково сияя синими глазами, — зрачки ее даже при дневном свете казались огромными в тени блестящих ресниц. — Не бойся, я не стану жаловаться. Понимаешь? Я никому не скажу, что ты не слушался меня. Хочешь, я подарю тебе портсигар и зажигалку? А это — папиросы. Возьми, пожалуйста…
Кирику очень хотелось иметь зажигалку. Он взял ее, подумал, взял и портсигар, а заодно и папиросы. Потом он взглянул на оживленное, румяное лицо Валентины, на ее припухшие ярко-красные губы и неловко от стеснения и гордости улыбнулся.
— Я никого не боится. — И, еще помолчав, он добавил: — Анка-то — друг. Она меня знает. Кирик подарка зря не берет. Жалко маленько Анка-то. Больно друг хороший.
Часть третья
1
Едва Анна сняла пальто, как в спальне раздались страшный шум, звон разбитого стекла и резкий плач Маринки. Анна замерла с поднятыми к вешалке руками, затем, тяжело дыша, с побледневшим лицом, пробежала по коридору, отстранила у порога Клавдию и вошла в комнату, боязливо ища взглядом…
Маринка, исходя слезами, стояла у разоренного туалетного стола. Наступая на деревянную оправу трельяжа, на хрустящие осколки стекла, Анна подскочила к дочери, схватила ее и стала осматривать, с трудом удерживаясь от рыданий. Все — и ручки и ножки — было цело, крови нигде не видно. И тогда, не то вымещая свой испуг, не то просто от избытка чувств, Анна больно шлепнула ребенка.
— Дрянь такая! — крикнула она дрожащим голосом и, не в силах успокоиться, шлепнула еще раз. — Я с тобой разговаривать не буду.
— Нет, будешь…
— Я тебя не люблю…
— Нет, любишь! — страстно протестовала, захлебываясь плачем, испуганная и оскорбленная девочка, обнимая плечи матери, прижимаясь мокрым лицом к ее шее. — Я ведь… Я…
— Ты! Ты всегда что-нибудь устраиваешь, — сказала Анна, уже стыдясь за свою скорую расправу, но стараясь не показать этого. — Будет слезы лить! Ты меня совсем размочишь, — сурово добавила она, оглядывая теперь и комнату.
Опрокинулись и разбились флаконы, намокла съехавшая скатерть, коврик на полу, вытряхнутая из коробки пудра, и раскрытая толстая книга… Тут только Анна услышала тонкий, но сильный запах своих любимых духов.
Как ни странно, а шлепки подействовали на Маринку успокоительно, теперь она плакала совсем по-иному, тоном ниже, почти наслаждаясь обилием своих слез.
Анна села на кровать, вытерла платком ее глаза и щеки.
— Довольно!
— Ведь только что она на кухне играла, — подметая осколки, сказала Клавдия, не без тайного удовольствия наблюдавшая сцену расправы. — Только-только я ей в тазик воды налила, голышку она своего купала… И что за ребенок такой непоседливый! Все она что-то крутит, все что-то ворочает.
— Да не ворочала я, — пробормотала Маринка, хлюпая носом. — Просто я… просто… — Но слезы и всхлипывания помешали ей говорить.
— Я хотела надушить Катюше головку, — сказала она Анне, уже умытая, с припухшим лицом, когда они сели на диване в столовой, совсем примиренные. — Я знаю, нельзя трогать твои духи. Я хотела взять средние — твои и папины. Бутылочка стояла с той стороны. Я полезла с кровати и столкнула зеркало. Оно и разбило все на свете.
— Ах ты, дурочка! — грустно промолвила Анна. — А я думала, что ты у меня уже большая. Вот была бы у тебя маленькая сестренка… разве можно было оставить ее с тобой?
— Мы отнесли бы ее в ясли, — ревниво сказала Марина, но тут же заулыбалась. — Нет, я сама играла бы с ней. Я бы одевала ее… купала.
— Надушила бы ей головку… — добавила Анна.
— Нет, она же не кукла. Она маленькая, — возразила Маринка так, как будто уже имела эту сестренку. — Ты думаешь, я ничего не умею? Хочешь, косы тебе сделаю? Ну, пожалуйста. Я тихонько, не буду дергать.
Она проворно повытаскивала шпильки из прически Анны, бережно распустила по ее спине тяжелые волосы.
— Я люблю заплетать твои косы, — болтала она, серьезно посматривая в лицо матери, прикладывал к ее щекам блестящие черные пряди.
— Ты наступаешь мне на волосы, Марина, — говорила Анна, морщась и снова с удовольствием отдаваясь милым прикосновениям детских рук.
— Я парикмахер. Правда, я парикмахер, мама, — щебетала Маринка, топчась вокруг нее по дивану крепкими ножками.
За ужином она села рядом, суетливо ухаживала за матерью и даже, забыв о недавнем конфликте, сказала:
— Ты будто моя подружка.
«Вот я буду тебя почаще шлепать, тогда ты научишься дружить со мной», — с ласковой насмешкой подумала Анна и вдруг резким движением отодвинула тарелку с горячей котлетой.
— Нет ли у нас чего-нибудь другого? — обратилась она к Клавдии, — дайте мне овощи… Или, может быть, рыба осталась?
— Почему ты не хочешь? — обеспокоилась Маринка. — Это же такая хорошая котлета. Хочешь, я покормлю тебя? Будто ты маленькая.
Не ожидая согласия, она поднесла кусочек к губам Анны и, удивленная, широко открыла глаза, когда та махнула рукой и, быстро выскочив из-за стола, убежала из комнаты.
— Вот какая котлета!.. — нерешительно проговорила Маринка и тревожно посмотрела на улыбавшуюся Клавдию.
2
Анна сама умыла дочь, надела на нее свежую рубашечку и, примостившись возле ее кровати на маленькой табуретке, почитала ей. Анна любила хорошие детские книги и даже завидовала немножко дочери, имевшей свою литературу и своих писателей. Из книг, попадавших в руки Анны в детстве, она запомнила и до сих пор перечитывала с волнением только «Каштанку» да «Зимовье на Студеной».
— Мистер Твистер, бывший министр… — бормотала Анна, поставив на этажерке осколок зеркала и снова причесываясь по-своему.
Она приблизила лицо к самому зеркалу, потрогала еще совсем гладкую кожу: глаза ее лучились мягким светом, движения были тоже мягки, неторопливы.
Посмотрев на часики с простой браслеткой, она прошла в кабинет, где на письменном столе поблескивали рожки телефона. Несколько голосов недружно, вразнобой заговорили у ее уха.
— Ефим Ильич! Как вы сегодня спали, Ефим Ильич? — надрываясь, весело кричала женщина.
Но Ефим Ильич затерялся в разноголосице, и она снова кричала:
— Что вам снилось сегодня, Ефим Ильич?
Анна добродушно усмехнулась: «Вот ненормальная!»
Ветлугин сообщил ей, что фельдсвязь уходит в четыре утра и что он сам занесет сейчас на квартиру бумаги для подписи.
— Я приду в контору попозднее.
— Да я уже на ходу, — сказал Ветлугин, — мне по пути.
Анна встала и прошла в кабинет Андрея. Сердце ее вдруг сжалось: казалось, он только что вышел и вот-вот вернется. Он сам обычно убирал на своем столе, никому не позволяя трогать его бумаги. Женщина сразу представила, как хлопотали здесь родные руки. О чем он думал, когда отдыхал? Он уехал очень печальный. Анна снова с горечью вспомнила свои деловые столкновения с ним, свою раздражительность в домашней обстановке. Как могла она раздражаться, если он, Андрей был с нею? Вспомнилось все, стало стыдно и тяжело.
— Как я могла обижать его? — прошептала она.
Над столом в легкой рамке висел портрет красивой девушки, в лыжной блузе, с приподнятым в открытой улыбке юным лицом.
— Это я такая была, — сказала Анна.
Сколько доброты и внимания ко всему находила она тогда в своей душе!
Анна взяла один из блокнотов, наугад открыла его. Страницы заполнены цифрами, деловыми соображениями геолога-таежника. Совсем неожиданно среди этих записей она прочла:
«Если Долгая гора будет ошибкой, то и вся моя работа о тождественности наших геологических образований с колымскими будет необоснованным вымыслом. Я сам тогда буду резким оппонентом своей диссертации. Я сомневаюсь сейчас, и это сомнение — слабость одинокого человека. Как страшно быть одиноким!»
— Ах, Андрей, твоя ошибка — в твоем выдуманном одиночестве, — грустно сказала Анна, пораженная этими словами.
Теперь, когда пришли известия о лесных пожарах, она особенно затосковала и забеспокоилась об Андрее, сегодня просто извелась от тоски по нем. Где он сейчас?
Молодая женщина прижала блокнот к щеке и вспомнила о записной книжке, подаренной ей мужем после ее просьбы в клубе. Она вернулась в свой кабинет, нетерпеливо открыла ящик стола.
В самом дальнем углу должен был лежать подарок Андрея. Анна нащупала тисненый кожаный переплет, достала книжку и задумалась. Горькие складочки снова улеглись в углах ее рта. Все-таки эта книжка была дорогою для нее вещью, и ей можно доверить самое заветное.
Достав из нагрудного карманчика вечное перо, Анна старательно, четко написала на первой страничке:
«Нам два месяца… Мы уже предъявляем кое-какие требования. Отказываемся от мяса. Бедную маму тошнит».
Задумчиво улыбаясь, перечитала написанное и записала ниже:
«Двадцать четвертого августа закончены подготовительные работы на сто восемьдесят пятом горизонте. В ночь на двадцать пятое в камеру номер девятнадцать вышла первая смена бурильщиков».
Ветлугин зашел очень усталый. Лицо у него было помятое.
— Закончили на электростанции монтаж третьего агрегата. При пуске произошла небольшая авария, — сообщил он Анне. — Нет, теперь уже все в порядке.
Он сел, сдержанно зевнул и, щуря сразу заслезившиеся глаза, прислушался к мелодии, приглушенно звучавшей в радиоприемнике: передавали оперу Римского-Корсакова.
— Ваша Снегурочка спит уже?
— Спит. Мы с ней подрались сегодня: зеркало она разбила и сама чуть-чуть не изуродовалась, — ответила Анна, просматривая принесенные бумаги.
— Разбить зеркало — плохая примета, — сказал Ветлугин, привычно подумав о Валентине.
— В приметы не верю.
— Во что же вы верите?
— Иногда верю предчувствию. Оно как-то оправдывается нашим подсознанием.
— А помните, вы пожелали мне счастья… — стесняясь и сразу обретая свой девичий румянец, спросил Ветлугин. — Что это — предчувствие?
Анна оторвалась от чтения докладной записки, подняла голову.
— Пока только предчувствие. Я так счастлива сейчас, — продолжала она с особенным выражением, милым и гордым, — что, мне кажется, этого счастья хватило бы на всех.
3
У крыльца веранды, сплошь увитой буйно разросшейся фасолью, листья которой, прополосканные последними дождями, уже начинали желтеть, были положены в грязь длинные доски. Маринка пробежала по ним и остановилась, оглядываясь.
— Вот, — сказала она, показывая на узкую, изогнутую полоску, ярко белевшую на голубом после ненастья небе.
— Что же тут такого? Обыкновенное облачко.
— Да нет… Ты посмотри.
Девочка потащила мать за угол дома, и тогда та увидела далеко над горами самолет. Он шел на юго-восток, а длинная белая полоса, суживаясь вдали, тянулась за ним, как хвост кометы.
— Впервые вижу… или внимания никогда не обращала.
— Он на полюс полетел? — спросила Маринка, довольная произведенным впечатлением. — Мы теперь знаем, какой бывает полюс. Это такое большое поле, на котором ничего не растет. Вечно ледяное.
— Нет, наверное, местный, с Лены. Может быть, он полетел туда, где были лесные пожары, — сказала Анна, вспомнив радиограмму, полученную от Андрея и снова ревниво представила его встречу в тайге с Валентиной — теперь они едут вместе…
«Ну и хорошо, — говорила себе Анна, хмуро глядя на исчезающий самолет. — Главное, все благополучно обошлось. Только бы забылось то неприятное, что было у нас с Андреем в последнее время. Вот я скажу ему…»
При мысли о том, что она собиралась сообщить мужу, лицо женщины прояснело. В этот раз ей особенно хотелось поскорее встретиться с ним.
— Ну, пойдем, — сказала она дочери, легко повернулась на каблуках и увидела подходившего Ветлугина.
* * *
Они шли втроем по нагорью над новым шоссе, хорошо укатанным, но грязным после дождей. Наверху было суше, но и здесь решеточки от новых калош Ветлугина так и отпечатывались на чисто вымытой дорожке. Маринка сосредоточенно шагала по ним, затирала их своими тупыми, уже сношенными калошками, весело приговаривала:
— Вафля. Нет вафли.
После дождливых дней солнце крепко согрело землю, парило даже после полудня, и Анна с удовольствием шагала по сырой дорожке, обрамленной кустами мягкой травы, ощущая движение теплого, влажного воздуха.
— Будто во Владивостоке, — говорил Ветлугин. — Вы бывали там, Анна Сергеевна?
— Приходилось.
— Помните, как там славно в июле, когда начинают расходиться туманы и солнце греет землю… Ах, как я люблю Владивосток!
При этом восклицании Анна невольно усмехнулась, но искоса взглянула на очень похудевшее лицо Ветлугина и улыбнулась уже сочувственно-ласково, увидев в нем отражение собственных переживаний.
— Да, очень люблю, — продолжал он со своей откровенной, немножко наивной манерой высказываться, не замечая улыбки Анны. — Не осенью, когда он золотой, а в розовые и туманные июльские дни. Я раньше любил уезжать с рыбаками под парусом… Море не такое, как в Крыму, где оно хвастливое, синее до черноты. Нет, оно у нас зеленоватое, сказочное. И вот лежишь на корме и смотришь, как туманятся, курятся сопки… А до чего зелены наши сопки!.. Какая там вообще яркая зелень!
— Хвастливая.
— Нет, вы бросьте ехидничать. Тут совсем другое. Зелень — это песня земли, в ней хвастовства не может быть. И море у нас зеленоватое потому, что в нем жизнь кипит. Чего только в нем нет! Меня один раз чуть не задавил осьминог, — неожиданно закончил Ветлугин.
— Правда?
— Правда, — сказал он, все еще мечтательно улыбаясь. — Прямо у берега схватил в камнях… На Русском острове. Спасибо, рыболовы отбили.
— Страшно было?
— Наверно, страшно: закричал ведь… Потом я видеть не мог спокойно, когда этих тварей-осьминогов везли на базар. Ноги переплетаются в узлы, все в присосках, их режут на такие «симпатичные» куски… студенистые, прозрачные. Вообще массу всякой дряни раньше вывозили.
— А чем вы занимались во Владивостоке?
— Жил. Учился. Потом на каникулы приезжал к родителям. Славный наш домик стоял на сопке в центре города, козы у нас водились. Мамаша меня очень упитывала. Недавно писала: не узнать теперь Владивостока. Раньше он грязноватый был, экзотика так и выпирала на каждом шагу, а теперь город что надо.
— Странно все-таки, как мы сюда собрались! — сказала Анна задумчиво. — Вы — с Дальнего Востока, Уваров — с Урала, Валентина Ивановна… москвичка, мы с Андреем иркутяне. Даже Клавдия — и та из Владимира.
— Знаю, я там тоже бывал.
— Там-то зачем?
— Просто посмотреть. Я, когда получаю отпуск, много езжу, пешком хожу: хочу своими глазами увидеть, каким царством владею. Был в Средней Азии, бывал и на Кольском полуострове. Вот где райское житье для геолога! Да… Вы начали говорить, что вам странно?.. Я сбил вас.
— Я подумала о том, что мы собрались сюда издалека, с разных сторон. Несколько лет назад даже и не слыхали ничего друг о друге, а теперь все болеем одним. — Анна чуть покраснела, пошла тише, легко ступая своими невысокими на каблуке сапожками. — Вот Валентина Ивановна… Она ведь никогда не бывала в тайге, а сегодня приезжали эвенки с верховьев Уряха и так радовались, узнав о ней хорошие новости.
— Что они говорили о ней?
— Очень хвалили. Этот Кирик такой смешной: хвастался там каждым пустяком. Но они оба очень авторитетны стали. На Уряхе, после их приезда, эвенки организовали еще одну охотничью артель, рыбаки на Омолое баню построили… Она молодец, Валентина Ивановна, отличный врач и смелая, — сказала Анна с гордостью за Саенко, когда мимолетное чувство неприязни было подавлено и радость ожидания целиком овладела ею. — Вы помните, как она пела? Так может петь только влюбленная женщина, — неожиданно для себя убежденно заявила Анна. — Счастливая, влюбленная женщина.
— Да, — сказал Ветлугин радостно.
Разве мог он понять по-иному прозрачный намек благожелательно настроенной Анны?
4
— Едут! Честное слово, едут! — воскликнул Ветлугин.
Анна тоже взглянула вдаль, лицо ее запылало, и она ускорила шаги, задыхаясь от внезапного бурного сердцебиения.
— Марина, не беги!.. Марина, разобьешься! — кричала она дочери, а сама едва сдерживалась, чтобы тоже не побежать навстречу.
Она не заметила выражения Валентины; лишь мельком взглянула на нее, как всегда, красивую, она сразу устремилась к Андрею и видела только его, когда он, торопливо спрыгнув с тележки, схватил подбежавшую Маринку, подбросил и крепко расцеловал.
— Ты приехал! Приехал, — твердила Маринка и гладила темные от загара щеки отца, прижималась к его рту кругленьким лицом.
— А ты выросла за это время, — говорил Андрей, тоже обрадованный встречей с ребенком. Болтовня Маринки помогла ему овладеть собой, но он все еще не решался взглянуть на жену и не здоровался с нею.
— Почему невнимание такое? — шутливо спросила Анна, однако в голосе ее прозвучала плохо скрытая обида. — Нехорошо, Андрей Никитич, меня-то ведь тоже нужно поцеловать.
Он пересадил сиявшую Маринку на другую руку, странно ощущая широкие, крепкие плечи жены, обнял и поцеловал ее, глянув при этом в сторону.
— Ты очень похудел, дорогой! — с тревогой сказала она и провела ладонью по его впалой щеке.
— Я там все пешком, — ответил геолог и слегка отстранился. — Грязный я, — пробормотал он, извиняясь за свое движение. — Знаешь, как в дороге…
— Да, в дороге, — машинально повторила Анна и покраснела, оглядываясь на Валентину и Ветлугина.
Почти до самого дома она молчала, но Андрей словно не замечал этого. Он нес Маринку на плече, и оба были очень довольны. Валентина громко разговаривала с Ветлугиным, и они тоже казались довольными.
«Что произошло? — кричал тоскливый голос в душе Анны. — Вот он приехал, идет рядом со мной, но он совсем не тот, каким был до поездки. Да ты хоть взгляни на меня! — обращалась она мысленно к нему. — Неужели не видишь, как мне тяжело?..»
Но она и сама не видела, как тяжело было ему.
Заслоняясь поднятой рукой, в которой он держал ручонку дочери, Андрей громко рассказывал о каких-то пустяках, прикрывая этим свою душевную боль и растерянность.
5
Она лежала в постели рядом со спавшим мужем, сгорая от стыда и ревности. Да, он разлюбил ее. Да, он не находил в себе силы скрывать это. Все его отношение к ней, каждое слово, каждое движение говорили о том, что у него теперь есть другая, что он не может отдавать себя никому, кроме одной, самой любимой, самой желанной.
«Может быть, я сделала ошибку, позволив ему так завладеть моими чувствами? — с наивной печалью думала Анна, следя полузакрытыми глазами за прокравшимся в комнату зеленоватым лунным лучом. — Что же мне делать? Неужели убить себя, чтобы избавиться от этого чувства? Но разве я могу пойти на самоубийство? А как теперь жить? Ведь я не полюблю снова! Такое в жизни не повторяется, и я навсегда несчастна. Приехал любимый человек, вот он рядом со мной. Я слышу каждый его вздох, но уже не смею спросить, о чем он вздыхает: боюсь спрашивать. Спит ли он или притворяется, что спит? Мне страшно повернуться в собственной постели. Страшно проговориться о том, о чем я хотела сообщить ему с такой радостью… Он подумает, что я хочу привязать его этим и может возненавидеть не только меня, но и моего будущего ребенка».
Анна широко открыла блестящие в полутьме глаза, безнадежно тоскливо посмотрела на окно — до утра было еще далеко. Длинна сентябрьская ночь! Как в больнице… Нет, и в больнице ночи не тянулись так мучительно долго. Ожидание молодой матери скрашивалось во время бессонницы представлением о тугом, теплом пакетике, о милой тяжести на руке родной головенки. И еще письма. Письма, написанные в перерыве между лекциями, в очереди за продуктами. И когда родилась вторая — Маринка, было то же: любовь, внимание, трогательная забота, гордость отцовства. Ведь он гордился и радовался, потому что любил ее — мать своих детей. И ночи и дни были одинаково прекрасны.
А сейчас все по-иному. И сколько тяжких минут нужно отсчитать Анне, пока передвинется с кровати на шкафчик зеленое пятно лунного света! Андрей спит… Теперь он действительно спит, и Анна боязливо поднимается на локте, засматривает в его лицо. Он дышит сильно. Он шевелит губой, как сонный ребенок.
«Почему ты уходишь от нас, разве можно зачеркнуть наше прошлое, — обращается к нему она беззвучно. — Спи, тебе сейчас тепло, спокойно, ты ни о чем не думаешь и счастлив».
Женщина тихо выбралась из постели, ступая по ковру, по прохладному полу, подошла к окну… Светлая сеть тонких облаков, роняя мелкие звезды, тянулась по небу, и плыла за нею пухлая луна, морщась от бегущих по ней теней, заливая все таинственным светом.
— Ах ты, тоска зеленая! — прошептала Анна.
6
Анна хотела встать с кресла, но не смогла, странная слабость охватила ее.
Целый день она находилась в гнетущем напряжении. Работа шла обычным порядком. Та же обстановка, те же люди окружали ее, но Андрей был не тот, и все потеряло для нее живой интерес. Сейчас выпала свободная минута, Анна сидела одна, и скорбь смогла овладеть ею безраздельно. Подперев рукою сразу постаревшее лицо, она смотрела остановившимся взглядом и думала… Какой жалкой казалась она себе! Но ее глубокое дыхание, выражение взгляда, большое, налитое здоровьем, заметно пополневшее тело говорили об ином, цепко жизнерадостном, уже независимо от ее сознания проникавшем все ее существо. Только кому нужна была теперь радость ее будущего материнства?
Снова представила она то, что произошло вчера между нею и Андреем. Она вошла в спальню свежая, сияющая, с переброшенной по-девичьи на грудь тяжелой косой. Лицо Андрея и руки его, выпростанные поверх одеяла, резко выделялись на белизне постели. Анна наклонилась к нему, улыбаясь, но он продолжал притворяться, будто спит, и она, все еще с улыбкой, поцеловала родные, крепко сомкнутые губы. Тогда он вздрогнул, полуоткрыл глаза и сказал неумело притворным голосом: «А я лег и сразу уснул. Я так устал».
— «Я грязный. Я устал», — гневно прошептала Анна, припоминая все. — И два раза за вечер он сказал: «Ох, какой длинный день!» Разве таким он возвращался раньше?
Анна судорожно вздохнула, потом задумалась.
— Схожу с ума, но ведь ничего особенного не случилось. Не мудрено задремать после такой поездки. Может быть, я зря все придумываю, расстраиваю себя и… ребенка, — с нежностью к неизвестному, но уже любимому существу сказала она себе. — Кому нужны разные психологические штучки?.. Как могла я умолчать о ребенке?.. Андрей был бы так рад! Он, наверное, был бы рад…
В это время дверь тихонько приоткрылась, и в нее боком пролез Кирик в оборванной дошке и меховой шапке.
— Здравствуй, — сказал он, подойдя к столу и протянул директору узкую руку.
— Здравствуй, друг, как ездил? Как твои олешки?
— Хорошо ездил. Олени все здоровый. Маленько-маленько совсем пропал. Больно большой огонь-то был. — Эвенк потоптался, неуверенно сел на краешек стула, вытянув длинные ноги. — Валентина-то ругал меня? — спросил он.
— Нет, она тебя хвалит.
— Хвалит. — Кирик помолчал, крепко сжав губы. — Я охотник, я не боится.
— Чего не боишься?
— Ничего не боишься… Попал в огонь и вышел из огонь. Я везде дорога сделаю, везде найду.
— Знаю, — грустно сказала Анна. — Ты молодец, Кирик.
— Молодец, Валентина тоже знает. Она меня здорово ругал. Плакал. «Ты подожди, говорю, я один поеду…» — «Нет, говорит, вместе поедем». — Кирик помедлил, потом сказал убежденно: — Ты, Анка, тоже молодец. Мужик твой молодец: тайга жить знает. Валентина веселый стал, когда на база-то пришел. «Кирик, говорит, не бойся». Зажигалка мне подарил, папиросница подарил. А я охотник, я не боится. — Эвенк опять умолк.
Анна тоже молчала, растерянно слушая его простодушную болтовню.
— Ты мне больно друг. Молчать не надо, я не боится… Валентина твой мужик играл маленько: спал все равно своя баба.
Анна вздрогнула так, что и Кирик вздрогнул, но поправил свою большую шапку и договорил как мог ласковее:
— Кирик никому не скажет, не подумай. Раз плохо — молчать, однако, надо. Тебе говорю: ты друг. Мужик-то твой, беда-то твоя! Валентина — тоже друг. — И охотник с недоумением развел руками, не находя, по-видимому, большой беды в том, что случилось. — Все молодцы… всех жалко. А я ничего не боится. Друг ты есть, нельзя молчать, спаси бог.
Он осторожно взял папироску из коробки, стоявшей на столе, нажал колесико дареной зажигалки. Анна сидела неподвижно, вся выпрямясь.
— Кури, — предложил Кирик и пододвинул к ней коробку.
Она молча взяла, закурила, потом закашлялась, опустив голову в ладони.
— Я никого не боится. Попал в огонь и вышел из огонь, — повторил Кирик, глядя на ровный пробор, слабо белевший в ее черных волосах. — Дружба есть, жалко есть.
Он ушел, так и не поняв, сумел ли растолковать Анне, что взял подарки за свое молодечество при встрече с огнем, а не за то, что привел Валентину к ее мужу.
7
Когда она осталась одна в серых сумерках, ей хотелось кричать от боли, но разве можно было кричать? Она должна скрывать все, да и кому рассказать о таком несчастье?
Изредка в огромном здании конторы отчетливо раздавались чьи-то шаги, изредка гулким выстрелом хлопала дверь. И опять тихо, только приглушенно ныл где-то телеграфный столб, и от его нудного звона у Анны заломило в висках.
Придерживаясь за кресло, она поднялась, зажгла настольную лампу. Идти сейчас домой не было сил. Увидеть Андрея… Нет, невозможно! Надо или лгать, или сказать ему все сразу.
Резко зазвенел телефон. Анна отшатнулась от стола, потом протянула руку и боязливо подняла трубку.
— Я слушаю, — сказала она глубоким, грудным, напряженно прозвучавшим голосом.
— У меня к тебе дело, товарищ Лаврентьева.
— Заходи, Илья! Да! Да! Заходи сюда.
Она положила трубку и задумалась, не снимая руки с аппарата: боялась, что позвонит Андрей, но — странное дело! — хотела этого.
Она совсем не заметила, сколько времени прошло между звонком и приходом Уварова, и даже забыла, что ждала его, но сразу почувствовала себя еще более несчастной: ей захотелось плакать, как ребенку, когда есть кому пожалеть.
— Куришь? — удивленно спросил он, взглянув на потухшую папиросу, и укоризненно покачал головой.
Анна стояла по другую сторону стола, заложив руки за спину, в бледном лице ее было что-то жалко-трогательное.
— Эх, Анна Сергеевна! — сказал Уваров с горечью, пораженный ее состоянием.
Он уже видел ее днем и сразу почувствовал, как она удручена. Догадываться о причине ему не приходилось, но он верил в силу ее характера.
Сев на свое место, она почти спокойно посмотрела на него, но он отвернулся: от такого спокойствия у него мороз пробежал по коже. Некоторое время они сидели молча. За окнами в темноте раздался одинокий собачий лай.
— Соба-ака, — еле слышно пробормотал Уваров.
— Да-а, — также еле слышно с коротким вздохом шепнула Анна. — Лает…
Уваров гортанно кашлянул, будто в горле у него запершило, поморщился почти страдальчески.
— Ты это брось, — сказал он сердито.
— Что бросить, Илья?
Он кивнул на папиросу, но Анна поняла, что подразумевается не куренье, а то, чем оно вызвано.
— Ни к чему впадать в отчаяние или, хуже того, в полное уныние. Ты смотри на себя твердо. Ты не одна в семье. И в какой семье! Будь у меня две шкуры, я бы первый за тебя их обе спустил. Честное слово!
Женщина улыбнулась криво:
— А зачем мне твоя шкура?
— Пошутил. Плохая шутка. Прости! Не привык я выражать нежные чувства. Но по-дружески говорю: жизни своей для тебя не пожалел бы.
— Я и своей собственной сейчас не рада. Никогда раньше такого не было… Ты ведь знаешь меня…
«Не нравится мне это, — думал Уваров, слушая ее ровный голос и громко отрывисто покашливая, что было у него признаком особой расстроенности. Он закипал медленно, но зато потом долго не мог успокоиться. — Если не ладно у них там, в семье, ну хоть бы поплакала, что ли. Побранилась бы!»
— О каком деле ты говорил? — неожиданно спросила Анна.
— О деле? Да… О чем это я хотел поговорить? — Уваров крепко потер переносицу. — Ей богу, не помню, а было что-то.
Она засмеялась.
Уваров, опешив, взглянул на нее: может быть, у нее другое случилось?.. Но она уже перестала смеяться, встала, положив руки в карманы жакета, прошлась по комнате. Еле слышно поскрипывали ее туфли, еле слышно было ее неровное, как при подъеме на кручу, дыхание.
8
Непривычно сутулясь, Анна остановилась возле Уварова.
— Ты помнишь, я говорила о красоте и верности чувства при духовной близости? А Ветлугин все твердил о первостепенном значении физиологии, и это страшно возмущало меня. Я спорила с ним, я верила, но… верила зря… — Анна сцепила руки и так сжала их, что они хрустнули. — Зря, — повторила она глухо. — Физиология, эта слепая сила, разрушила нашу семью.
— Ну разве можно так истязать себя?.. — заговорил Уваров, совершенно подавленный глубиной и искренностью ее горя.
— Можно! Ведь если он пошел к той — значит у меня-то все рухнуло! Я знаю его… Десять лет прожили — царапинки не было, а тут… такая рана! Значит, умерла любовь, которая нас связывала… Значит, жизнь вместе кончена!
— Не спеши с выводами, — сказал Уваров, поверив несомненности высказанного ею, но еще пытаясь смягчить удар. — Может быть, здесь случайное, просто ошибка. Наверно, он сам сожалеет об этом.
— Нет, не случайное! Он знает, что он для меня единственное, неповторимое чувство. Этим шутить… играть нельзя. И если он отошел, то серьезно и… уже не может скрыть… Что же мне-то остается?!
— Ребенок у тебя. И жизнь впереди богатейшая! — Уваров чуть помолчал, одолевая волнение, глухо сказал. — Я тебе говорил о Катерине своей… Это, товарищ дорогой, тоже любовь была!..
— Ах, Илья, то совсем другое! — воскликнула Анна, не сознавая эгоистичности своих слов. — У тебя горе случилось!
— Горе? — повторил Уваров, губы его вдруг задрожали. — Да… того, что у вас с Андреем, у меня не произошло, но и надежды никакой не осталось. А я лучше бы любую боль перенес, только бы ей жизнь сохранить. Чтобы хоть изредка голос ее слышать. Я, бывало, в первые-то дни, обниму детей и плачу над ними… Сам тогда сделался как ребенок, — договорил он и закашлялся отрывисто, сухо, будто залаял.
Он собирался еще что-то сказать, но в кабинет, не постучав, рывком открыв дверь, вошел Андрей.
— Ты что? — сразу овладевая собой, спросила Анна.
— Там фельдсвязь пришла с Раздольного. Первое золото со старательской гидравлики. Я бы хотел посмотреть.
— Да… Конечно. Разведчику всегда интересно посмотреть… на открытое им золото. Пойдем, Илья.
Анна первая вошла в кассу управления. Молодцеватый фельдъегерь с особенной готовностью уступил ей дорогу, будто знал о ее несчастье, так же молчаливо-сочувственно глянул другой, а кругленький, седой и румяный кассир даже замедлил со съемкой пломб с привезенных кружек и тоже соболезнующе посмотрел поверх очков на своего директора.
«Теперь начнет лезть в голову всякая чертовщина, — подумала Анна с горечью. — Чепуха, они еще ничего не знают. А если узнают, разве от этого изменится что-нибудь? Пусть узнают, пусть себе судачат, мне теперь все равно. Ах, боже мой, как бы я хотела, чтобы было все равно!»
Тяжко погромыхивая, сыпался металл на железный лист. Плоско осела плотная груда. Тускло-желтая крупа. Неровно округленные самородки. Золото!
— Оно кажется теплым, — тихо сказала Анна и погладила расплющенный самородок.
Рука ее задержалась на нем и порывисто сжала его нервным движением.
— Вы у нас, товарищ Лаврентьева, миллионерша, — торопливо заговорил Уваров и неловко улыбнулся: впервые он обратился к ней на «вы». Он не узнавал ее и опасался, как бы она не запустила сейчас в Андрея этим самородком.
* * *
— Куда вы девались? И ты и папа! Я все жду, а вас нет и нет! — закричала Маринка, вбегая в столовую.
Она сильно обхватила мать ручонками, прижималась к ней, тормошила, целовала ее платье.
— Ты с ума сошла, Маринка! — сдавленным голосом произнесла Анна и поневоле опустилась на стул. — Тебе спать давно пора.
— Нет, я буду ждать папу. Ты бы позвонила ему…
— Папе некогда, Марина. — Анна взглянула на окно: за кружевом занавесок чернела ночь. — Папа… занят.
— Я подожду, — упрямо сказала девочка.
Желание ребенка видеть отца, разговор о нем сейчас, когда он, наверное, ушел к другой женщине, надрывали сердце матери. И удивительное сходство маленькой девочки с большим, мужественным человеком — сходство, которым Анна всегда гордилась, — вдруг тоже мучительно обожгло ее.
— Иди-ка лучше спать, Маринка!
Она отстранила дочь, встала, хотела выйти из комнаты, но пошатнулась и, как слепая, хватаясь руками, свалилась на пол.
— Мама! Что ты, мама? — вскрикнула перепуганная Маринка, кидаясь к ней.
— Ничего, ничего, — прошептала Анна с лицом, искривленным душевной болью. — Просто… ноги онемели.
9
Бледная, с синими пятнами под глазами, вышла она утром из своей рабочей комнаты, где провела всю ночь.
— Тебе нездоровится? — спросил Андрей за завтраком с оттенком неловкой затаенной виноватости. — Ты очень плохо выглядишь… Тебе нужно отдохнуть.
— Да, мне нездоровится, — тихо сказала Анна.
«Конечно, я выгляжу скверно, но как жестоко с его стороны говорить мне теперь, что я подурнела!» — с негодованием подумала она.
Она вспомнила карточку молодой, красивой женщины, обнаруженную ею случайно в его книге. Он сказал тогда, что эта карточка забыта в книге кем-то из студентов. Анна поверила. Почему она всегда верила ему? Может быть, последнее событие в их жизни далеко не новость для него?.. Что, если он обманывал ее и раньше?..
Она наливала чай ему и Маринке, переставляла на столе хлеб, сахар, масло и все припоминала да припоминала, и многое в прошлом начало казаться ей подозрительным.
* * *
Оставшись одна, Анна торопливо прошла в кабинет Андрея. Почему она до сих пор не посмотрела его записи в дневнике, не проверила ящики стола: может быть, там хранятся любовные письма, может быть, портрет Валентины?
Дрожа от волнения, с лихорадочными пятнами на щеках, она принялась рыться в бумагах мужа, в его адресных книжках и блокнотах.
Конверты деловых писем обжигали ей пальцы, исписанные листы шуршали на весь дом, затискиваемые нетерпеливыми руками в тесные отделения портфеля и в папки. Каждый уголок, каждая книга могли служить приютом того, что она стремилась вырвать, как постыдную тайну Андрея. У нее закружилась голова: для того, чтобы перевернуть каждый лоскуток бумаги, нужно затратить целый день, и она вдруг горячо пожалела о своей прежней беспечности. Ведь мужа не было дома целый месяц, а она не проверила даже то, что он записывал в это лето.
Вот еще связка бумаг, — что в ней такое? От нетерпения Анна разорвала шнурок, листки блокнотов, газетные вырезки рассыпались по ее коленям, скатились на пол.
«Нет, опять не то!» — подумала она с отчаянием, точно какая-нибудь любовная записка могла успокоить ее, хотела нагнуться, чтобы собрать рассыпанное, но в это время услышала шаги мужа, да так и застыла у стола.
— Что ты ищешь? — удивленный беспорядком в комнате, спросил Андрей, но сразу все понял и так густо покраснел, будто сам совершил что-то невыносимо постыдное. Он даже забыл, зачем забежал домой, и, круто повернувшись, пошел вон из комнаты.
— Вот до чего ты довел меня! — крикнула Анна, но он даже не оглянулся.
* * *
Она никак не могла взять в толк, что говорила ей появившаяся в дверях Клавдия. Но Клавдия явилась снова, и только тогда Анна сообразила, что ее требуют к телефону. Она и у телефона переспрашивала несколько раз, пока Ветлугин не разъяснил ей почти с раздражением, что на гидравлике разорвало обогатитель, а на руднике второй час простой из-за поломки компрессора.
— Хорошо, — безучастно ответила Анна, положила трубку, и, подперев лицо кулаками, сказала: — Заплакать бы мне! Почему я не умею плакать?
Что там у них поломалось?! Разве это можно сравнить с тем, что сломалось у нее? Компрессор остановился… Тысячу раз его можно починить и пустить снова. А вот как наладить ее отношения с Андреем? Где найдется такой кудесник? Уж не та ли ревность, о которой она говорила Ветлугину, что должна не унижать человека, а, как и любовь, толкать его на большие дела? На большое же дело толкнула она ее! И почему это ей, такой несчастной, ревнивой, слабой до ничтожества женщине, сообщают о каком-то разорванном обогатителе? При чем тут она?
Гидравлика… Золото, брошенное под струю монитора, выдержало испытание, а любовь — нет.
Ох, если бы она могла заплакать! Вдруг вспомнилась сказка о прекрасном мальчике, который никогда не плакал и не видел слез. Счастливый, он полюбил; вся его жизнь была золотым сном. Но однажды он увидел свою подружку на руках другого, и по лицу его потекли слезы. Ему показалось, что это свет уходит из его глаз…
Свет уходил и из глаз Анны, но слез не было: и она просто задыхалась под навалившейся на нее незримой тяжестью. Так задыхаются буры рудника, когда прекращена подача сжатого воздуха. Как злится, наверное, бурильщик Никанор Чернов, первым перешедший вчера на бурение сразу четырьмя молотками!
Он приехал весной вместе с Валентиной Саенко. Анна вспомнила солнечный берег, толпу, оживление, радостные лица, свою первую встречу с Валентиной. Как сразу угадала она беду! Сердцем — не умом — угадала. Ведь никогда раньше не ревновала она Андрея. И как все ждали этот пароход!..
На том же пароходе приехал человек с неистовой жаждой труда — Никанор Чернов. Он ходит сейчас по камере, по ее просторной десятине, и его жесткие, рабочие, жадные руки сжимаются в кулаки от досады и нетерпения…
10
Через полчаса она уже сидела у себя в конторе. Надо было идти на рудник и на гидравлику, где лопнул обогатитель, но женщина медлила, понимая, что откровенный разговоре мужем теперь неизбежен, и все в ней ныло от ожидания. Но он не шел и не звонил, и Анна с трудом заставила себя осознать, что в разгар рабочего дня некогда заниматься разговорами о своих сердечных делах.
Стараясь сосредоточиться, она нервно перебирала деловые бумаги, потом резко оттолкнулась от стола и с минуту сидела неподвижная, строгая, прямая, но внутренне развинченная донельзя. «Так-то вот! А кто работать будет?»
— Надо на рудник, здесь сидеть сейчас невозможно, — сказала Анна вслух и подошла к окну.
Первое, что она увидела, была бочка под водостоком. За время летней жары деревянные обручи, свитые из колотого пополам молодого вяза, покоробились, разошлись и свалились, разошлись и клепки, позеленевшие и темные от последних дождей, и вся бочка, скрепленная только в уторах, как будто скалилась, нахально усмехаясь. Анна взглянула еще раз и вспомнила, как весной в такой же бочке, но полной до краев, блестело солнце и как радостно было тогда смотреть на этот солнечный блеск.
«Безобразие! — машинально отметила она. — Неужели завхоз не видит? Говорим везде о противопожарных мерах, а бочки рассохлись, и никто не замечает! Все разваливается!»
Анна посмотрела в сторону конюшен и вдруг увидела Андрея.
Он шел туда в осеннем плаще с тощим рюкзаком, перекинутым через плечо. Вцепившись в раму окна, Анна смотрела ему вслед. Она вспомнила, что он собирался на Звездный, потому и вернулся утром домой… Снова представила его неожиданное возвращение, и ее кинуло в жар и холод. Он уезжал, даже не позвонив ей: обыск письменного стола, по-видимому, совсем оттолкнул его от нее.
* * *
Андрей действительно уезжал на Звездный. Поздно вечером его вызвал к телефону Чулков и сказал, что на канавах рудной разведки встречена очень интересная жила кварца. В голосе Чулкова геолог угадал радостную тревогу и сразу заволновался. Нужно было ехать. Но как уехать, не предупредив Валентину?
За короткое время после возвращения Андрей извелся от беспокойства. То ему хотелось быть с Валентиной, и он рвался к ней, то его мучила жалость к Маринке, стыд перед Анной и гнетущее раскаяние в том, что уже произошло. Во всяком случае, думал он о Валентине непрестанно, и чем больше думал, тем больше беспокоился.
Сегодня мысль о том, что он не увидит Валентину несколько дней, привела его в отчаяние, и, придя утром на работу, он сразу позвонил в больницу.
— Попросите врача Саенко, — сказал он чужим, охрипшим голосом.
— Кто спрашивает?
— Ну… значит, нужно… Вам-то что?
— Как что? Ведь это я, Саенко.
— Ох, — вырвалось у Андрея. — Валентина… Ивановна. Я уезжаю сейчас на Звездный. Дня на три. Вы ничего не будете посылать туда? Чулков говорил… Да. Аптечка?.. Тогда вы приготовьте, а я заеду, — говорил Андрей, уже весь сияя.
Он забежал сначала домой, нужно было переодеться, взять кое-что. И вдруг у себя в кабинете он увидел Анну. Ее жалкое лицо, разбросанные и перевернутые в ящиках стола бумаги, рассыпанные письма — все ошеломило Андрея.
Но сознание собственной, еще большей вины удержало его от столкновения с женой. Он взял плащ, рюкзак и, не переодеваясь, поспешил в больницу.
В приемной сидела у стола женщина в белом халате и звучно скрипела пером. Андрей сразу почувствовал неловкость от присутствия лишнего человека, но увидел одну Валентину, поднявшуюся ему навстречу. Увидел и просто обомлел: так отчужденно посмотрела она на него. Он не представлял, сколько она выстрадала после приезда, потому что сам тосковал о ней, не зная ее ревности.
Что-то он говорил, о чем-то невыносимо холодно говорила она. Затем в его руках оказался длинный картонный ящичек. Зашел главврач и, пожав руку Андрею, расспрашивал о поездке, а потом уже все время в комнате толпились люди.
«Что же это такое? — горестно думал Андрей уже в дороге. — Может быть, она не любит меня? Чужая… совсем чужая».
Только вид Долгой горы, медленно выраставшей на горизонте, вывел Подосенова из тяжкого раздумья. Лесистая долина ключа Звездного стала светлее от порубок и как будто шире, и от этого вытянутый массив Долгой горы казался еще внушительнее. Кое-где темнели бараки, срубленные из неотесанных бревен. Андрей не был здесь больше месяца, и все теперь представлялось ему по-иному. Он подстегнул лошадь и поехал крупной рысью.
11
Вернувшись из поездки, Чулков решил «окопаться» по-настоящему. Его подтолкнули на это долгое ненастье, размывшее земляную насыпь старой крыши, и тоска о доме, вдруг одолевшая его там, в тайге. Разведчики перекрыли свой барак, врубили новые косяки для окон, подбили мох в пазах, настелили пол и даже вкопали возле барака длинный стол, чтобы обедать и пить чай на вольном воздухе. Но последняя затея не привилась: мешали то комары, то дождь, да и стряпка наотрез отказалась таскаться с посудой на улицу.
— Конечно, ей и так дела хватает, — говорил Чулков, хлопоча у железной печки с чайником. — Вот ушла полоскать белье… Нагрузилась — смотреть страшно.
Он поставил на стол стаканы, ловко открыл консервы, напахал целую гору хлеба и, налив чаю себе и гостю, долго цедил из банки загустевшее молоко.
— Я на Светлом никому не сказал о вашем сообщении, — говорил Андрей, поразивший его своим угрюмым видом. — Зачем опять преждевременно будоражить всех? Надо найти что-нибудь более определенное, настоящее.
— Найдем! — сказал Чулков весело. — Теперь мы на верном следу. Начинает уже проклевываться кое-где. Спасибо Виктору Павловичу: поддержал он нашу линию, когда комиссия составляла заключение, а теперь мы сами с усами. Сплошная жила пошла! Самостоятельная!
Андрей встрепенулся.
— Надо посмотреть.
— И посмотрим! Вот только чайку напьемся. Теперь оно в наших руках, никуда не уйдет. А насчет того, чтобы пока помалкивать, это вы верно. Подождем, чтобы заранее шуму не наделать, а потом враз и объявимся. — Чулков вытер ладонью усы, полез на полку и достал брезентовый мешочек. — Вот образцы. Да вы кушайте, кушайте.
Но видно было, что ему самому не терпелось. Он сел за стол, однако мешок из рук выпустил не сразу, а только выпустил — он уже оказался у Андрея, и они оба, отодвинув в сторону хлеб и посуду, с увлечением начали рассматривать образцы руд, взятые из разведочной канавы.
— Это вы наклеивали? — спрашивал Андрей, с жадным и радостным интересом читая надписи на обломках камней.
— Я. Как же. Чтобы все было в аккурате, чтобы не напутать чего. Теперь-то я в своем деле твердо себя чувствую, а вспомню, каким пришел на разведку, прямо смех. — Успех в работе после стольких неудач окрылил Чулкова, и его глубоко посаженные глазки так и искрились. — Пришел зимой на шурфовую разведку. Меня спросили: «Умеешь проморозку вести?» Я думаю: чего уж проще в такой мороз. «Умею», — говорю. Ну, мне, как «опытному», дали в подмогу одного старика и отправили на дальний ключ. Смотритель показал, где шурфы зарезать, и уехал. День проходит, другой. Старик говорит: «Давай приступим». А как приступать? Место болотистое. Талики. Вода. Тут старик и оказал свою былую прыть: начал мной командовать.
Чулков ласково усмехнулся, вспоминая о себе таком. Ему приятно было сознавать свое теперешнее превосходство, и он продолжал прямо с удовольствием:
— Зарезали мы шурфы, как полагается. Дали им промерзнуть хорошенько. После стали класть пожоги и вынимать четверти. Я перед тем, как пожог класть, попробую тупиком, насколько промерзло. Только вода цыкнет, забью дырку деревянной пробкой. Всем тонкостям меня старик обучил, а приду спускаться — в шурфе вода. Стал я тогда мозговать. Нельзя ли, думаю, запалить пожоги во всех ямах зараз и вынимать не сразу положенные двадцать сантиметров, а понемногу? Парень я здоровый: сумею из каждого шурфа по ложке выгрести, а назавтра опять… Вот и получатся четверти. Ведь это какую опытность надо иметь, чтобы угадать чик в чик оттаять эти самые двадцать сантиметров! Заготовил я ворох растопки. Старик мой как раз заболел, лежит под шубой вверх бородой. «Спи, говорю, завтра узнаешь, кто такой Петр Чулков». Поближе к утру запалил я свои пожоги. Ямы-то были уже метра по два; пока все облазил, вспотел. А главное, волнуюсь, потому как первый опыт. — Чулков взглянул на Андрея, занятого образцами, рассмеялся тихонько и продолжал: — Вот до чего заразился своей идеей! Ну, устал… Зато дым над долиной так и валит клубами. Полюбовался я и пошел отдыхать. Только успел глаза завести, вскочил, ровно бешеный.
Старик даже испугался. «В уме ли ты?» — говорит. «Был», — говорю. Да на улицу гляжу — над ямами ни дымочка. Подбегаю к крайней — вода, а на воде головешки плавают. И в другой то же, и в третьей.
— Неужели все шурфы затопил? — со смехом спросил тоже развеселившийся Андрей.
— Все как есть. Сейчас-то, конечно, смешно, а тогда меня слеза прошибла.
Они вышли из барака и начали взбираться на крутой склон. Погожий золотой осенний день стоял над горами. Разведчики на россыпи по ключу тоже работали: Андрей и Чулков ясно слышали грубые голоса и глухие удары бабой, доносившиеся снизу, но все их помыслы были сосредоточены на рудной. Оба думали о жизни, которая закипит скоро в этой долине.
12
— Мирский с Мышкиным на амбарчике все перелопатили бы, да ладно, что бур им вовремя забросили, теперь будут действовать по правилам, — говорил Моряк, проворно прихрамывая подле Андрея, когда они вечером возвращались в барак. — Я Мите говорил: надсадишься, мол, бешеное дитя. Земляная работа — она тяжелый воз: не гони, как раз к сроку поспеет. Главное, не сбить охотку, пока до золота не дорвались…
— Теперь, похоже, дорвались, — отозвался Андрей, уловив только последние слова.
— Точно! Видели бы вы, что тут у нас творилось вчера!
Чулков предостерегающе кашлянул.
— Что же? — спросил Андрей.
— Всех уложило. Такая качка была, боже мой! А всего-то по литровке на брата не вышло, — болтал Моряк, невзирая на знаки Чулкова.
— А Чулков? — Андрей метнул смеющийся взгляд на своего смотрителя.
— Он, как бывалый капитан, устоял на посту, но и его побрасывало. Это уж как водится.
— Экий ты, право, будто баба худая! — сказал Чулков с досадой. — Вправду говорят: с кем поведешься, от того и наберешься.
— Блошка у нас водится, — не унимался Моряк, — голодная скачет и от сытой покою нет. Нынче Мирский опять посулил мне в морду, а я сроду битый не бывал и не дирался, хотя драки уважаю. Стравить кого, подразнить — это мое дело. Они излупят друг дружку, а я в стороне.
— Почему же Мирский рассердился, — поинтересовался Андрей, с чувством симпатии вспоминая молодого разведчика.
— До сих пор барышней своей бредит, а другим слова про нее сказать не дает.
— Какое слово! — вступился Чулков, недовольный болтовней Моряка.
— Что за барышня? — спросил Андрей и смутился, сообразив, о ком шла речь.
Теперь такие разговорчики о Валентине были ему особенно неприятны и, поглядев на толстую шею и круглую голову Моряка, он подумал, что тот и вправду напрашивается на подзатыльник.
— Надежная жила вскрыта, — заговорил он, сбивая все на деловой тон.
— Можно твердо рассчитывать, что дополнительную разведку проведем с толком, — воодушевился Чулков, — сразу несколько шурфов заложить…
— Потом «крелиусом» на глубину-то будем бурить? — уже серьезно осведомился Моряк.
— Нет, штольню от подошвы заложим. — Андрею ярко представилась его мечта об этой штольне ночью, у костра возле нагорного озера.
Теперь мечта превращалась в действительность. Дорого обошлось это превращение! Но все трудности после достижения цели сразу потеряли свою остроту и делались даже приятными воспоминаниями. Зная Чулкова, Андрей не зря поверил его взволнованности: жила была нащупана настоящая.
— Теперь и деньжонок нам подбросят, — сказал Чулков. — Марку свою оправдали.
— А вдруг она опять выклинится? — высунулся с предположением Моряк.
— Типун тебе на язык. И что это тебя всегда так и тянет, так и тянет чем-нибудь этаким ковырнуть! — Чулков окинул сердитым взглядом Моряка и покачал головой. — Хоть бы шаромыжник какой был, а то ведь работяга — золотые руки. И вот, скажи на милость, трепло какое!
— Скажи на милость — трепло какое уродилось! — срифмовал Моряк, искренне наслаждаясь и досадой смотрителя, и его похвалой.
— Вот, извольте любоваться! — сказал Чулков, негодуя. — Никакого соображения у человека. А ведь бывший флотский! Хоть и не военного флота, хоть и давно служил, а все-таки с дисциплиной должен бы дружить. Так нет, совсем извратился.
— Он неплохой, — задумчиво возразил Андрей, глядя вслед разведчику, который пошел поторопить мамку с ужином. — У него что на уме, то и на языке.
— Одно слово — с придурью, — заключил Чулков, уже остывая. — Мы точно, выпили вчера… Как говорится, последняя копейка вверх орлом! Но случай-то какой! Тут и святой бы напился!
13
«А вдруг она и вправду выклинится?» — подумал Андрей, сидя за столом после скромного ужина у разведчиков. От одной этой мысли ему стало душно и в сердце возникло ощущение какой-то тошноты.
— Вот мы ее шурфом вскроем, и сразу все, как на ладони, видно станет, — заговорил с ним Чулков, подсаживаясь поближе.
Он был совершенно поглощен теперь этой идеей, и глубокие складки морщин над его переносьем выражали почти свирепую озабоченность.
— Парочку бы или троечку шурфов удачных, а потом по всему простиранию, а потом снизу, прямо с ключа, штоленку заложить. Ведь условия-то для этого прямо лучше не придумаешь: расположение-то в горном массиве где угодно подсечь позволит.
«Ишь, как распелся!» — подумал Андрей, уже наученный горьким опытом.
— Если и в этот раз ошибемся, трудно подняться будет, — высказал он вслух навязчивую мысль, подкинутую ему Моряком.
— Что вы, Андрей Никитич! Право слово! До каких пор она нас водить будет? Хоть она и жила, а тоже надо совесть иметь!
— Егорыч еще не выписался? — спросил Подосенов чуть погодя, оглядывая помещение барака, в сумраке которого как пчелы гудели рабочие.
— Выписался, да у него после желтухи с почками неладно сделалось. Недаром пословица — простоит изба и сто лет, ежели ремонту нет.
— Не слыхал я такой. — Счастливо улыбаясь, Андрей представил поездку в тайгу, дни, проведенные с Валентиной. — Вы вроде Моряка сочинительством занялись.
— Да ведь правда! — немножко застеснялся Чулков. — Изнашивается человек с годами, а все держится, покуда на ногах. А свалился раз — и пошло-посыпало. На курорт направили Егорыча. На самый на Кавказ. Анна Сергеевна путевку отхлопотали.
Андрей ничего не сказал, но открытое лицо его выразило унылость.
— Мне думается, Анне-то Сергеевне надо бы сразу сообщить! — добавил старый таежник, не зная, как истолковать выражение Андрея. — То-то порадуется! Ведь весь будущий производственный вопрос на ниточке держится.
— Нет, лучше подождем. Вы и рабочих предупредите, чтобы помолчали пока.
Андрей встал, беспокойно прошелся по бараку. Чулков исподлобья наблюдал за ним: он ожидал большего проявления радости. Вялая задумчивость главного геолога оскорбляла лучшие чувства разведчика.
14
Кирик не успел еще подробно рассказать жителям своего поселка о поездке, о том, как он заезжал на выморочное стойбище и как спускался с белым стариком в горячую утробу парохода.
Пока он отсутствовал, начали строить магазин, теплые подвалы для овощей, отправили человек тридцать парней и девушек на шахты обучаться горному делу, а якут Гаврила вспахал трактором новое поле за речкой.
Жена Кирика за это время научилась хорошо доить и совсем привыкла к своим коровкам, но однажды, когда она выходила из коровника, ее любимица Ветка, мотнув головой, нечаянно подцепила ее рогом за кожаный, в светлых бляшках пояс.
Как всполошились эвенки, увидев бегущую гигантскими шагами Катерину рядом со скачущей коровой. В напряженно поднятой руке доярка держала ведро с молоком. Она испугалась, но молока не пролила. Кирик, выслушав рассказ о том, как односельчане, держа в руках жерди, сразу образовали круг и остановили ошалевшее животное, похвалил жену за храбрость и уважение к артельной продукции;
— Каждому дадут больше денег, если в артели будет больше прибыли, — важно сказал он, припоминая свой разговор с Анной.
На этом и застал его председатель артели Патрикеев, который сообщил, что в Буягинском наслеге, на Алдане, открываются курсы медицинских сестер и кооперативные и что со Светлого привезли бумагу об отправке на учебу молодых эвенков. В бумаге есть приписка насчет Кирика, если он пожелает, то для него по возрасту сделают исключение.
Охотник не сразу понял, что такое «исключение по возрасту», а разобравшись, очень возгордился. После этого он уже никак не мог не пожелать.
С целой оравой молодежи он в тот же день выехал на Светлый.
— На какие ты хочешь: на кооперативные или медицинские? — хмуро спросил Уваров, к которому Кирик явился посоветоваться.
— Медицинские — это фершалом, что ли? — с робкой надеждой спросил старик: ему очень польстила мысль сделаться чем-нибудь вроде доктора.
— Больно скоро хочешь ты стать фельдшером, — сказал Уваров, — это же шестимесячные курсы. Медицинской сестрой будешь, хирургической. Помогать при операциях будешь.
Эвенку очень хотелось бы помогать при операциях, хотя он и боялся их, но…
— Как же я сестрой буду? Баба я, что ли?
Этот наивный вопрос смутил и рассердил Уварова, сбитого с толку:
— Ну, братом будешь. Экий ты!.. Не все ли равно, как называться! Главное, чтобы дело знать.
— Тогда уж лучше, однако, на кооперативные.
Уваров написал ему заявление и позвонил по телефону в поселковый Совет.
Из поселкового Совета эвенк зашел в магазин. Вид продавцов, хлопотавших за прилавками, привел его прямо в умиление. Он сразу представил, как сам будет заправлять разными такими делами. Теперь надо было составить письмо для жены и передать обязательно — поклон односельчанам, чтобы ждали пополнения своих ученых кадров в торговле. Теперь иначе было нельзя, и охотник решил пойти к дружку Ковбе, но, выйдя из магазина, увидел Валентину Саенко.
— Здравствуй, — промолвил он с искренне радостной улыбкой.
— Кирик… Здравствуй, Кирик! — обрадовалась и Валентина: эта встреча вызвала у нее столько волнующих воспоминаний.
— Ты что, хвораешь? — спросил он, шагая рядом: при всем оживлении она не выглядела такой свежей и румяной, какой он запомнил ее с первой встречи.
Саенко вздохнула:
— Немножко болею…
Она сразу потащила его к себе, узнав, что ему нужно написать письмо, и они вдвоем долго обсуждали, как лучше его составить.
— Пиши: едет, мол. Ученый, мол, будет. Заведующий магазином будет, — говорил Кирик, покусывая мундштук холодной трубочки: курить в такой нарядной комнате он стеснялся. — Хорошо, когда ученый, — продолжал он мечтательно. — Кругом уважение. Неученый мужик хуже ученой бабы. Я тебя уважаю. Я Анке-то сказал, что ты да мужик ее играл маленько… спал, мол, вместе.
— Ты с ума сошел, Кирик! — сдавленным голосом произнесла Валентина, бледнея.
— Нет, с ума не сошел. Надо сказать: друг она. Спать — это ничего. Обманывать нельзя — спаси бог.
— Что же… она сказала?
— Ничего не сказала. Она меня знает. Давай пиши еще: приедет, мол, домой, патефон купит. Вот как у тебя. Кружков с песнями купит…
Запечатанное письмо эвенк отнес в контору и сдал секретарю, как научила его Саенко, потом вышел на крыльцо и сел на ступеньке.
«Хорошая баба Валентина, — сказал он себе. — Хороший доктор».
Охотник вспомнил поездку с ней по тайге и вдруг забеспокоился. Сначала научился бы на сестру… или брата, потом на фельдшера. Как бы он, фельдшер Кирик Кириков, ездил по тайге! Знал бы все болезни. Лечил. Оспу делал, и все бы уважали его.
Сообразив, что допустил большую оплошность, он встал и пошел в партком.
Уваров выслушал тревожно сбивчивую речь эвенка и подумал, что, пожалуй, верно, лучше окончить ему медицинские курсы. В магазин и так все придут, а вот лечение, гигиена… Тут очень важно, чтобы свой человек был который язык знает.
Уваров написал новое заявление и снова долго говорил по телефону с поселковым Советом. Получив исправленные документы, Кирик вспомнил о письме, отосланном жене. Будут ждать продавца, а приедет вроде как фельдшер. Нет, так нельзя: обман получится. И Кирик помчался в контору. Он получил обратно письмо, положил его в карман и, выйдя на улицу, задумался: надо было написать другое.
15
Конюх сидел в своей комнатке, провонявшей крепким запахом дегтя и кожи, пил чай с постным сахаром и сухариками.
— Здорово, старик! — еще с порога закричал сияющий Кирик. — Я завтра, однако, поеду учиться.
Ковба отложил ложку, которой ел размокшие сухари, вытащил из-под стола запасной табурет.
— Давай садись, — предложил он и потянулся за второй кружкой.
Тогда охотник тоже начал хлопотать: положил дорожный вьюк на постели, развязал ремни и, ухватив за примятые листья, вытащил из сумы какую-то тяжелую овощь.
— Редька. — Ковба радостно осклабился, очень тронутый гостинцем. — Вот спасибо! Давно я редечки не едал. Сейчас мы ее нарежем да с маслом… — Он засучил рукав, вооружился ножом и спросил: — С огорода, поди-ка, спер?
— Пошто спер? Спаси бог! Сторож дал.
— Да ведь это турнепса, — определил Ковба с огорчением, сидя за столом и медлительно пожевывая. — То-то я и гляжу: красивая она больно.
Узнав, что Кирик отказался от кооперативных курсов, старик крепко пожалел.
— Это бы тебе верный кусок хлеба. Эх ты, голо-ва-а! Фершалом сделаться трудно: ведь они есть которые почище докторов, а тебя еще грамоте учить да учить! Валентина-то твоя лет пятнадцать, поди, училась, покуда до дела дошла.
Вообще Ковба был не против медицины, но желание эвенка подражать Валентине Ивановне вызвало в нем досаду.
— Никакого сознания в ней нет, — проворчал он, вспоминая то, что рассказывали ему Клавдия и сам Кирик. — Никакой жалости, а еще образованная!
С этими словами Ковба добыл с полки листок бумаги, конверт и чернила в бутылочке с деревянной пробкой. При своей внешней заскорузлости он был человеком с понятием, давно уже умудрился ликвидировать неграмотность и — хотя писать ему было некуда и некому — обзавелся всем письменным припасом.
Письмо он писал мучительно долго, и даже Кирик, с почтением наблюдавший за движениями его тяжелой руки (она возилась по листу бумаги, как медведь на песке), терял терпение и не раз пытался разнообразить дело посторонними разговорами.
Получив наконец письмо, заклеенное хлебным мякишем, эвенк отнес его к поселковому Совету — контора уже не работала — и опустил в почтовый ящик. Потом он отошел и снова затосковал, забеспокоился.
Уваров лег спать, но еще читал в постели газету, когда в дверь постучали. Он встал и впустил очень расстроенного Кирика.
— Что это у тебя вид такой унылый, товарищ медик? Будто ты уже помог кому-нибудь отправиться на тот свет, — грубовато пошутил таежник.
— Не могу я по-медицински, — жалобно заговорил таежник. — Меня грамоте учить да учить…
Уваров сел на кровать, почесал в раздумье волосатую под расстегнутой рубахой грудь.
— Ничего, научишься. Парень ты толковый.
— Какой я парень? Никакой я парень! Пятьдесят лет, однако. Голова-то худой уж!
— Хм! — Уваров похрустел газетой, разглядывая присмиревшего Кирика.
Лицо эвенка выражало тревогу.
— Не расстраивайся, — сказал Уваров, понимая растерянность охотника. — Видишь ли, у тебя, попросту сказать, глаза разбежались.
— Тогда пускай пойду я в кооператив.
— Смотри, тебе виднее. Давай бумаги. Я утром пораньше все выправлю.
Обрадованный Кирик полез по карманам.
— Ты уж не серчай, друг, — приговаривал он, виновато посматривая на Уварова.
На улице совсем темно. Незадачливый курсант пошел было к конному двору, возле которого жил Ковба, но снова вспомнил о письме: «Поеду на кооперативные, а написал — на медицинские».
У него заломило в висках, и он остановился посреди улицы. Одна нога хотела идти к старику, другая — за письмом. Кирик постоял в нерешительности и круто свернул к поселковому Совету. Темные изнутри стекла отсвечивали от ближнего фонаря, и охотник ясно увидел в них свою одинокую тень. Щель, в которую он недавно запустил письмо, оказалась совсем узкая, и расстроенный Кирик сел на завалину, не зная, что делать:
«Снять ящик?.. Пожалуй, нельзя. Ждать до утра — долго».
Ему захотелось домой, в артель. Он вдруг почувствовал себя совсем никудышным.
В домике Уварова уже темно. Эвенк долго в нерешительности ходил кругом, но все-таки подошел к двери, поцарапался легонько, потом сильнее. За дверью послышались грузные, твердые шаги. Крючок звякнул, дверь распахнулась. Уваров, странно большой, в белом, стоял у порога.
— Что? — спросил он. — Чего тебе не спится? Или опять передумал?
— Передумал, — тихонько сказал Кирик. — Однако я лучше домой поеду.
— Ну, беда-а! — Уваров полусердито рассмеялся. — Заходи в горницу. Аа-я-яй! — шумно зевнул он, включая настольную лампу.
С минуту он смотрел на эвенка теплым, сонным взглядом, потом вытащил из-под постели запасной тюфяк, постелил его на жестком диванчике, кинул в изголовье полушубок.
— Давай ложись и спи. Понял? Никаких больше разговоров сегодня на эту тему! Ты и меня совсем закружил…
— Тогда я пойду, однако…
— Не-ет! Никуда ты, однако, не пойдешь. Я тебе не мальчик всю ночь бегать открывать да закрывать. Я ведь тоже за день-то натопаюсь…
Уваров подождал, пока Кирик стянул торбаса и неловко улегся на диванчике, но, когда лег сам, сказал ясным, мягким и добрым голосом:
— Я тебя, браток, понимаю… Вопрос в жизни серьезный. В таких случаях человек обязательно сомневается. Все мы немножко чудаки: есть что-нибудь одно — берешь и доволен, дай на выбор — и не сообразишь, за что ухватиться.
Уваров замолчал, и Кирик, тотчас услышав его ровное дыхание, понял, что самый главный на прииске партийный товарищ уснул, и сам успокоился от близости этого сильного человека. Но и утишив свое волнение, он еще долго не мог отделаться от всяких трудных мыслей. Его беспокоило даже то, отчего ему так ловко лежать на высокой скамейке. Он вспомнил гладкие руки Валентины, уснувшие, как дикие голуби, на плече Андрея Подосенова, кудри их, темные, светлые, перепутанные сном и любовью, и вспышку страшного гнева, вызванную рассказом об этом, на лице Анны. Еще Кирик вспомнил редьку-турнепсу, подаренную им Ковбе, и большой хлеб, положенный в его вьюк стариком. Хлеб был круглый, теплый, румяный, как солнце.
— На дорожку, — сказал старик Ковба.
Эвенк взял булку, прислонил к своему лицу, вдыхая теперь уже привычный запах хлеба, потом поднял ее обеими руками и, любуясь ею, промолвил по-эвенкийски:
— Какое счастье, что есть на земле хлеб!
16
— Иначе я не мог…
Валентина молчала, опустив голову, нервно теребила снятую с руки замшевую перчатку. Она и Андрей сидели в уютной прибрежной котловине, обросшей по краю кустами жимолости и шиповника.
— Неужели ты не понимаешь, как мне тяжело!
Валентина еще ниже опустила голову, пряча лицо, но Андрей увидел, привлеченный движениями ее рук, перчатку, которую она теребила, и то, что вспыхивало светлым блеском и тут же расплывалось пятнами на желтой замше: Саенко плакала.
Он был с нею, пошел на унизительные уловки, чтобы устроить это свидание…
— Разве тебя не радует то, что мы вместе сейчас?
Она медлила с ответом, и Андрей вдруг услышал надвигающийся шквал птичьего перелета.
Прямо на них тянула стая гусей. Их было не меньше пятисот, и мощный плеск крыльев прошумел, словно буря, когда они взмывали разом ввысь, заметив сидевших людей. Быстро удаляясь на фоне тускневшего неба, стая извивалась огромной змеей, то выравниваясь, то колыхаясь клубами. Неумолчно звучал в ядреной свежести осеннего воздуха зовущий переклик голосов.
Андрей слушал, откинув голову, ноздри его раздувались.
Он вспомнил широкие розово-черные озерные разливы, желтизну высоких болотных трав и то, как однажды, в такой же вот тускло-багровый прохладный вечер, он нашел у своего охотничьего шалашика Анну. Она оставила все и прискакала к озерам. Чувство испуганной виноватости овладело им, когда он увидел ее измученную, а она, сразу просияв, сказала: «Живой! Пороть тебя некому! Шестой день пропадаешь».
— Ты заботишься лишь о себе, — сказала неожиданно Валентина, поднимая заплаканное лицо со злым, еще не знакомым Андрею выражением. — Ты думаешь только о том, что тебе тяжело. А мне легко?
— Я все время думал о тебе, — горячо сказал Андрей, сразу полностью обращенный к ней. — Я так тосковал…
— Конечно, ты приехал домой, к своему семейному очагу, — быстро продолжала Саенко, теперь уже спеша высказать то, что наболело у нее за последние дни, и пропустив мимо ушей его уверения. — Я не имею никакого права упрекать тебя, но и спокойной оставаться не могу, когда ты — там, с нею!.. Это просто невыносимо. Я ненавидеть ее начинаю.
Валентина взглянула в опечаленное лицо Андрея, и злость исчезла. Ей стало стыдно и больно.
— Прости меня, — сказала она, порывисто обнимая его, — прости, я ничего не буду требовать. Но не забывай, что есть одна такая, для которой ты — все на свете!
— Как можно забыть? Я тоже извелся. Ведь я тебя целую неделю не видел.
«Что же тебе мешало прийти?» — хотела сказать Валентина, но удержалась и только прошептала:
— Да, целую неделю!
Теперь ей хотелось загладить то, что прорвалось поневоле, и в то же время она ощущала горький осадок оттого, что, вспылив, лишь потеряла в его мнении: не избалованная жизнью, она все-таки не умела и не могла побороть собственную строптивость.
— Я больше не стану упрекать тебя, — сказала она, снимая с куста легко отпадавшие, вялые листики и осыпая ими Андрея, лежавшего возле нее на сухо шелестевшей траве. — Я постараюсь успокоиться и не ревновать.
— Неужели ты думаешь, что я буду делить свое сердце между двумя? — спросил он, облокачиваясь и положив на ладонь лицо. — Но ты пойми, насколько я связан. Я хорошо сознаю, какую ответственность несу перед тобой, но и Анну пощадить надо…
— Как хорошо было бы, если бы мы встретились лет десять назад! — задумчиво произнесла Валентина.
Андрей промолчал.
Десять лет назад он уже любил Анну. Хотел ли он вычеркнуть ее из своей жизни в те годы? А пять лет назад? А в прошлом году?..
17
«Объявляться» Чулков приехал неожиданно, даже Андрей, подготовленный к этому, растерялся, когда в кабинет ввалился его старый приятель. Сам Чулков, хотя и старался напустить на себя небрежное спокойствие видавшего виды разведчика, не мог скрыть торжества, и скуластое лицо его так и расплывалось в улыбке.
— Привез первую добычу, глядите, Андрей Никитич! — сказал он и, подмигивая, усмехаясь, покашливая, засуетился самозабвенно над привезенными мешочками и пакетиками.
— Показывай свои трофеи. Чем вы хотите похвастать? — говорил Андрей, тоже взбудораженный.
Вместе с Чулковым он начал высвобождать из оберток образцы красноватого, ржаво-дымчатого и совсем белого кварца. Куски кварца были с тонким золотым накрапом, блестками золота в изломах и сплошь спаянные золотом, будто облицованные им. Вокруг стола уже собрались сотрудники разведочного отдела, смотрели молча, только глаза и щеки у всех разгорелись, точно озарял людей чистый блеск найденного ими металла. Они ведь тоже искали его: топографы, геологи поисковых партий, геологи-разведчики, чертежники, машинистка с бантами в белых девичьих косах. Находка, выложенная на стол, притягательная, словно магнит, принадлежала им, она сразу подняла их над остальными работниками приискового управления.
Все молчали, а у крыльца конторы, у магазина и шахтовых копров уже обсуждался вопрос о том, какую рудную фабрику будут строить на Долгой горе.
— Теперь загремим! — сказал Ковба Хунхузу, засыпая ему по такому радостному случаю добавочную порцию овса. — Ешь на здоровье. Теперь, брат, начнут нам подбрасывать и денег и продуктов, а прежде всего народ к нам повалит. Это уж как водится. Он, народ-то, не станет разбираться, какое тут золото: рассыпное или рудное. Ему только бы золото!
Анна и Ветлугин узнали об открытии позднее всех: им сообщили по телефону.
— Да, очень богатое, — сдержанно ответил Анне голос главного геолога — ее мужа.
— Поздравляю! — тихо сказала она. — Я тоже рада.
— Спасибо, — почти официально отозвался Андрей.
Потом в кабинет директора влетел сияющий Ветлугин. Теперь и он гордился: разве не настоял он на том, чтобы дать положительное заключение на весь сезон летних работ?
Одна Анна осталась в стороне от общего торжества: ведь она больше всех протестовала против Долгой горы. Правда, никто не напоминал ей об этом, но она-то помнила и хотя не раскаивалась, но гордиться ей было нечем. Однако она вздохнула свободнее, страшная тяжесть свалилась с ее плеч: тупик, в котором находилось предприятие, был взорван, — только это и радовало.
— Пойдемте к разведчикам, поздравим их с открытием и поглядим на золото, — сказала она Ветлугину.
— Проходите, проходите, Анна Сергеевна! — бросившись им навстречу, вскричал Чулков, чувствовавший себя в это время в кабинете начальника совсем по-хозяйски.
Он бесцеремонно раздвинул людей, толпившихся возле образцов руды, и, идя боком впереди Анны и Ветлугина, с таким видом подвел их к столу, что не удивиться тому, что он хотел показать, было невозможно. Но директор и главный инженер удивились не из вежливости. Их, как и всех остальных, заворожило золото, блестевшее из каждого излома руды. Это было, поистине сказочное богатство, и они могли теперь от чистого сердца преподнести его стране.
18
Красные до черноты лежали на солнцепеке кисти зрелой брусники. От этих темных маленьких гроздьев лбище горы казалось кудрявым.
Анна смотрела на ягоды, раздавленные сапогами тех, кто шел впереди, осторожно ступала по скользким листочкам, негромко говорила Чулкову:
— Сколько добра зря пропадает! Перебросьте-ка сюда на недельку человек сорок с лесозаготовок! Дайте им норму… ведра два-три.
— Три много, Анна Сергеевна.
— На такой-то ягоде! Вооружите их совками — больше дадут. Ссыпать можно в ящики. Зимой вывезем с обратным порожняком. Я, когда была девчонкой, любила ягоды собирать. Меня Кабарожкой звали на зимовьях. Знаете, коза такая есть — кабарга… Легко я по горам ходила.
Чулков стал рассказывать о своем, но Анна уже не слушала его. Она увидела себя девочкой-подростком. Платок всегда съезжал почему-то с ее гладко причесанной головы. Андрей любил дергать ее за косу. Ох, и натрепала она его однажды за такую грубую шутку! А потом они помирились… Он жил тогда у них только летом, пока в приисковом поселке не открылась своя средняя школа. Каждую весну, вытянувшийся за время ученья, он вваливался к ним в барак с котомкой. В котомке были потрепанные учебники — подарок Анне, которая одолевала их в течение года до следующей встречи, — пара белья, застиранного неловкими юношескими руками, да старое одеяло. Появление друга всякий раз казалось влюбленной девочке неожиданно прекрасным.
Еще вспомнилось далекое осеннее утро. Деревья тонули в слоистой пелене тумана. Расплывчато рыжел над ними огнистый куст солнца, а настоящие кусты, у самой тропинки, мокрые от оседавшей мги, пламенели ярко, свежо, холодно. Мать Анны первая сняла с плеч берестяный короб, обтянутый оленьей шкурой. Они отдыхали: мать, Андрей и Анна, усевшись на пожухлой траве, ели вареную картошку с огурцами и черным хлебом…
Брусника была такая крупная, горы такие синие. Деревянные пальцы совков покраснели от ягодного сока. Вольный ветер шел по горам на юго-запад, к Байкалу, разгонял туман, склонял посохшую траву в распадках, играл платком на плечах Анны. Она и Андрей взбежали вместе с ветром на высокие скалы.
Далеко впереди шумел Байкал, голубо-седой, мощный, дышавший пьяным разгулом.
Девушка никогда не видела столько воды… Двое юных посмотрели на шумевшее море, друг на друга и… поцеловались. Впервые он погладил ее тяжелую косу.
Сейчас он шел совсем близко, но в его прямой спине и уверенной походке чувствовалось совершенное равнодушие: он и в радости отчуждался от нее.
Анна повернулась к Чулкову, снова заговорила, стараясь отогнать тяжкие мысли:
— Мы ссыпали бруснику в кадки на зимовьях. Это в Баргузинской тайге. Кадки ведер на сорок. Зимой на санях вывозили их домой, в поселок. Бывало, выбежишь в кладовку, стукнешь по краю бочки — ягода несмятая так и покатится, зашумит. Я любила принести ее к чаю и облить мерзлую медом… Вы любите с медом?
— Люблю, — сказал разведчик. — У нас на Лене тоже этак: осенью целыми артелями ездили по бруснику, с бочками, с ящиками.
Чулков сразу заметил нелады между Анной и Андреем и сам намеренно говорил много, чтобы «не бередить болячку».
19
Около одной из канав Чулков остановился, заложив пальцы рук за узенький ремешок, лукаво подмигнул главному геологу.
«Вот мы какие, знай, мол, наших!» — говорило все его выражение.
Андрей понимающе кивнул и первым сошел в канаву. Сухо-каменистая, просторная, с устьями шурфов, темневшими на ее дне, тянулась она по горе. Именно здесь, в этой простой, свободно открытой канаве, находилось то, что объединило всех пришедших одинаковым волнением. По грубо сделанной лесенке они спустились в шурф. Оруденелая, точно ржавая кварцевая жила, прорвавшая когда-то древние граниты, была теперь вскрыта на глубину. В кварце светло блестело густо вкрапленное золото, местами он пророс золотом, как жиром, прямо залился им. Рука человека разрушила породы, и в только что вскрытой руде золото желтело особенно ярко, блестящее, холодное, шероховатое, с крючковатыми краями изломов. Такого богатства ни Ветлугин, ни Анна, ни сами разведчики никогда не видели.
— Вроде этого было на Королонских приисках по Витиму… — заговорил Чулков, первым нарушая сосредоточенное молчание.
Притихший после всех радостных волнений, он почти с благоговением смотрел на хитрую жилу, которая так долго ускользала от него и его товарищей.
— Я тогда работал у старых промышленников, — продолжал он свои воспоминания. — Только там кварц уже разрушился, рассыпался в песок, и золото можно было просто выбирать. Самородки, как тараканы в щелях, сидели в скале. Старатели, когда хищничали, крючком их выгребали. Без всякого шума уносили шапками. Богатое золото было, слов нет, а до этого и тому далеко!
— Эх, что бы найти этакую жилу пораньше! — бормотал Ветлугин, рассматривая кусок руды.
Даже радость по поводу открытия не приглушила в нем неприязни и зависти к Андрею.
— Что бы вам денег-то давать нам побольше? — в тон ему, но улыбаясь, укорил тот.
Как счастлив был бы он теперь, если бы над ним не тяготело предстоящее объяснение с Анной.
— В пору ведь было с подписным листом идти! — продолжал он насмешливо. — А теперь небось постараетесь как можно скорее выжить нас отсюда.
— Безусловно, — Ветлугина сразу обозлило нескрываемое торжество соперника. — Я рад душевно за свои денежки: не зря мы их вколачивали в Долгую гору.
— Может, на большую фабрику развернемся, — мечтал вслух Уваров, блестя карими, добрыми сейчас глазами: он был горячо благодарен Андрею за его оправданное деловое упорство. — Как ты думаешь, Анна Сергеевна?
— Теперь о чем угодно можно думать — золото есть.
— Есть, бессомненно, — подтвердил прямо-таки разнеженный Чулков. — Будем гнать да гнать и в глубину и по простиранию. Прослеживать будем. Жила что надо. Ровная, как апельсин!
— Вот уж придумал, — сказала Анна. — Апельсин круглый…
— Пес его знает, какой он есть. Слышал я, говорят такое.
Чулков лукавил: он отлично знал, что такое апельсин, но любил прикинуться закоренелым таежником, а кроме того, ему хотелось развеселить Анну. Оживленная богатым открытием, она снова стала молодой, как это было и на самом деле, а теперь еще смеялась — значит, все отлично: жила, золото, работа и отношения между ними — добрыми людьми.
— Лет через десяток вырастут здесь и апельсины, а яблоки наверняка, — полушутя сказала ему Анна, когда они вышли из канавы. — Взять распадок на южном склоне, застеклить его сверху вроде ангара…
— Дорого обойдется, — с сочувственной улыбкой возразил Ветлугин.
— А что нам дорого? Люди наши дороже стоят. Золото есть, отчего же садам не быть?
— При здешних снегах никакое застекление не выдержит, а без теплиц ничего не выйдет, — серьезно сказал Уваров, с сожалением взглянув на суровые хребты вокруг.
Ему тоже хотелось совершить что-нибудь особенно хорошее, радостное и значительное для всех.
— У меня есть один… без теплицы зимой ягодками пользуется, — сказал Чулков и, свернув с дорожки, приподнял корину, упавшую с сухостойного дерева. — Вчера я заприметил, как он хлопочет…
На земле лежала кучками отборная крупная брусника, отдельно — сланиковые орехи и лесные колоски.
— Бурундук? — спросила Анна.
— Он самый. Утром это вытаскал из норы. Немножко проветрит, просушит и обратно стаскает. Мудрый зверь! Много ли зараз за щеку возьмет, а глядите, натаскал сколько!
— Я его ограблю немножко… для Маринки.
— Берите, берите! — обрадованно заговорил Чулков. — Орехов у него на всю зиму. Я уж второй раз его высматриваю. А дочке интересно будет. Бурундук, мол, поклон послал с орехами.
20
Малоприметная дорожка, выбитая конскими копытами среди мхов и камней, вилась то по глухому лесу, то между скал, нагроможденных на открытых склонах. Далеко впереди ехал Андрей, потом Ветлугин, только Анна и Уваров ехали вместе, и всех их, двигавшихся гуськом, стало видно, когда они поднялись на голые просторы нагорья.
«В пору было с подписным листом идти», — припомнила Анна невеселую шутку мужа, отыскав взглядом черную точку, маячившую на краю каменистой пустыни. Очертаний знакомой фигуры она не различила. Неужели это Андрей один там, впереди?
Хунхуз споткнулся, громко звякнув подковой. Анна сразу натянула поводья. Она держалась в седле непринужденно, как и три месяца назад, казалось, не было оснований тревожиться за нее в пути, но Уваров мгновенно спрыгнул со своего коня и, забегая вперед, крикнул:
— Стой, товарищ Лаврентьева! Расковался твой разбойник.
Он подошел к Хунхузу, сильной рукой взял его ногу, поднял ее и снял подкову, заломившуюся в сторону на последнем гвозде.
— Может, возьмешь на счастье? — пошутил он.
— Давай! Знаешь, я ведь и вправду теперь суеверной сделалась… Не очень, а так, чуть-чуть. Во всяком случае, бабьи заклинания, привораживания ожили в памяти. Слова-то какие подбирались! У меня бабушка слыла мастерицей зубы заговаривать, кровь останавливала, — продолжала Анна, выждав, пока Уваров сел на свою лошадь и двинулся рядом. — Помню, мне лет десять было, принесли к нам из тайги охотника-медвежатника. Такой статный детина, добрый молодец, как в песнях поют… А медведь поломал его страшно и кудри вместе с кожей спустил ему на лицо. Крови под носилками — целая лужа… А бабка вышла в сенки, глянула да и говорит: «Мое дело — кровь останавливать, а коли она вытекла, я над ней не властна». Он, охотник-то, тут же в сенках и умер.
— Ну? — спросил Уваров, с тревогой поглядывая на Анну.
— Испугалась я, конечно. Ночью у меня озноб сделался, сон пропал. Этот охотник у нас бывал иногда и все посмеивался: «Подрастешь, Анна, замуж возьму». И дома и на улице дразнили меня невестой… И вот лежу я на печке с бабкой — на лавке одна спать побоялась, — плачу, дрожу. Жалко мне было охотника. Бабка меня с уголька вспрыснула, потом начала слова какие-то чудные наговаривать. Стало мне смешно, засмеялась я сквозь слезы, а бабка говорит: «Вот теперь и его душеньке полегче. Не может душа терпеть, когда над нею детские слезы ночью проливаются. Слепнет она, душенька, и дорогу к райскому саду теряет». Интересная была у меня бабка, и так она верила в свои сказки, что, слушая, не хочешь, да поверишь. Лечила она еще от бессонницы, от тоски любовной своими особенными словами…
— И действовало? — спросил, ласково улыбаясь, Уваров.
— Пациенты оставались довольны, благодарили…
— А почему ты о бабке вспомнила?
— Подкова чем-то растревожила. Хотя нет, не подкова. Не раз я свою бабку вспоминала в последнее время. Думала: не зря они, наши бабушки, выдумывали всякую всячину… Когда душа горит… хочется ее полечить словом каким-нибудь, за сердце хватающим. Они и верили. Им-то нельзя было иначе: больше у них ничего не оставалось. А у нас… — Анна круто осадила коня и, приподняв на дыбы, повернула обратно. — Смотри, Илья!
Перед ними, как дно большой реки, высохшей в незапамятные времена, лежала на глубине заросшая лесами долина ключа Звездного. Горы, окружавшие долину, — отлогие, если смотреть на них снизу, — теперь выросли и теснили ее, смыкаясь вдали неровными хребтинами, будто допотопные чудовища, окаменевшие среди вечного молчания. Ни жилья, ни дорог. Только на груде камней, на вершине гольца сиротливо торчала тренога, крепко-накрепко поставленная геологами, чтобы медведи, приходящие сюда, не разламывали и не опрокидывали эту вышку.
— «Здесь будет город заложен!» — с шутливой торжественностью провозгласил Уваров, отыскивая глазами знакомый рельеф Долгой горы. — Правда твоя, Анна Сергеевна: то была присказка, а сказка только теперь начинается. Проведем сюда шоссе, явятся люди… тысячи людей с машинами, цветами, ребятишками. Недаром давеча толковали мы про сады. Будут здесь сады! Не райские, конечно, но такие, где живому человеку отдохнуть можно.
— Фабрику поставим! — в тон Уварову откликнулась Анна. — Миллионное строительство развернется. Ты смотри, какое здесь сочетание природных условий: и лесу строевого непочатый край, и площадь по долине раздольная, и воды вдосталь… А на россыпи шахтовые работы…
Ей уже виделось, как поднимались из дремучих чащоб шахтовые копры, крыши домов вырастали среди островков бывшего леса, и выше всего вставали над долиной светлые корпуса фабрики. А там ляжет широкая лента шоссе. Мощная сеть электрических проводов опояшет горы…
«Все благодаря Андрею!» — неожиданно подумала Анна, но тут же у нее опять возникла жестокая мысль: уходит он от меня. Ушел уже. Сердце могло бы перевернуться, когда стало видно, как он ехал далеко впереди… один. Пока один! И это сейчас, во время такого радостного события!
— Всех переупрямил! — будто угадал ее мысли Уваров. — Смотрю я на эту дикую сторонку и думаю — какая жизнь здесь закипит! Россыпь отработаем в три-четыре года, потом драги по ней пройдут, и все, а рудник с таким золотом — целый переворот в тайге! Может быть, центр приисковый сюда переведем. Новый жилой район возникнет, и еще одно белое пятно на карте исчезнет.
Илья посмотрел на Анну и, заметив выражение беспокойства на ее лице, но не совсем угадав его, сказал:
— Я не стану скрывать, что уговаривал Андрея повременить с рудной разведкой, и то не забуду, что в последнее время разуверился в ней. Говорить теперь другое — значит примазываться к чужой славе и умалять доблесть наших разведчиков, которые, как солдаты, стояли насмерть. Но мы не злоупотребляли своим положением, мы боялись погнаться за журавлем в небе. А у Андрея в этой погоне был весь смысл работы, и он, убежденный в своей правоте, пошел напролом и оказался прав.
— Честь и хвала ему, — сказала она и отвернулась.
21
Со дня на день Анна откладывала объяснение с мужем, хотя видела неизбежность разрыва и ненавидела себя за слабохарактерность и надежду на какой-то лучший выход из мучительного положения.
«Надо объясниться! — решительно говорила она себе. — Да, да, надо объясниться. Так дальше нельзя. Это невозможно! Я превращусь в сварливую бабу, закисну, состарюсь, начну хандрить…»
Она возвращалась с шахты, где устанавливали ленточный транспортер. Погода стояла бешеная: солнце, жара и ветер, поднимавший вихри пыли.
Ветер забегал навстречу, кружил мусор и желтые листики, опавшие с кустарников, перебирал и колебал, словно струны, провода на столбах. Провода сдержанно гудели, и от их унылого гудения делалось совсем тоскливо.
Анна вспомнила, как в прошлом году, в это же время, они с Андреем ходили к разведчикам за ближний перевал и отдыхали под елочкой, а бледное небо смотрело на них сквозь нависшие шалашом еловые лапы и голые голубые ветви осинника. Теперь от такого воспоминания хотелось плакать.
Ветер отгибал полу легкого пальто, открывал край шерстяной юбки. Женщина шла, жмурилась от пыли и все думала о себе и о муже. Вчера он нагрубил Клавдии, и та целый день ходила с красными от слез глазами.
«Ему тяжело теперь с нами, со мной, — думала Анна, — тяжело, но он молчит. Он хочет, чтобы я сама…»
Нервное озлобление охватило ее, и, все более озлобляясь, она вспомнила, что теперь часто, придя домой с работы, он беспокойно ходит по комнатам, не снимая кепи. Или так же, в кепи, присядет у себя на диване.
Он совсем забросил работу над диссертацией, мало ест, тревожно вздыхает.
«О чем ему вздыхать? Работа дала блестящие результаты, в сердечных делах счастлив. Значит, только я мешаю… Мое присутствие давит его! Хорошо, я все возьму на себя, — решила Анна с горестной гордостью. — Я отпущу его. Видно, и вправду клетка оказалась тесной».
Было совсем поздно, когда, осмотрев на конном дворе лошадей, пригнанных из Якутска, она не спеша возвращалась домой. Слишком тягостно стало ей притворяться спокойной перед Маринкой и перед теми, кто заходил к ним.
Вдруг словно кто толкнул ее в грудь, и она остановилась замерев: из переулочка вышли Андрей и Валентина. Они шли под руку, тесно прижавшись друг к другу. Имя Кирика, произнесенное Валентиной, дошло до сознания Анны и слова его: «Обманывать — спаси бог».
У них хватило стыда говорить об этом! Они смеют вышучивать!..
Ей хотелось догнать их, ударить, наговорить злых, горячих слов, но она продолжала стоять с полуоткрытым от удушья ртом.
«Я увижу, как они будут целоваться. — Эта мысль сорвала ее с места. — Тогда я скажу им… Я все им выскажу!..»
Но чтобы увидеть, надо идти тихо, надо прислушиваться, а кровь звенела в ушах Анны, и туман застилал глаза. Она не умела подсматривать и, отвернувшись, точно стыдясь взглянуть, обогнала их. «Какая я несчастная! Какая несчастная!» — повторяла она, вся дрожа.
Тем же быстрым шагом, не разбирая дороги, Анна прошла мимо домов засыпающего поселка, мимо шахтовых отвалов, где чернели везде провалы ям и канав, и, казалось, ни один камень не ворохнулся под ее ногой. Она опомнилась далеко в лесу.
Глухо шептал в чаще затаившийся ночной ветер. Сквозь высокие стволы деревьев, прямые и черные, зябко дрожали звезды: по-осеннему темное небо прижималось к самой земле. Женщина тоже легла на землю, припала лицом к траве.
Плакать бы, рыдая во весь голос! Кричать… кричать так, чтобы остановилось сердце!
Кричать и плакать! Любой зов заглохнет здесь, как крик птицы, схваченной зверем. Но она только простонала:
— Да за что же? За что мне такое? — И, ощутив живую теплоту своей подвернувшейся руки, с ожесточением впилась в нее зубами.
Боль привела ее в себя…
Потом Анна услышала таинственный звон. Он вошел в ее сознание, пленительно-нежный, успокаивающий, как тихая музыка. Она приподнялась, придерживая рукой развившуюся тяжелую косу, прислушалась. Земля баюкала ее: где-то пробиралась, журчала вода.
Женщине захотелось пить. Она поднялась и побрела, прислушиваясь к голосу ручья, то замиравшему, то возникавшему вновь в темноте ночи.
Не сразу определился впереди знакомый контур высокой горы — дракона, сторожившего Светлый, — горы, так хорошо видной с террасы дома Анны. Медленно надвигалась она в ночи непроглядно черной громадой, только серебрилась в густой синеве неба линия крутого обрыва, на который щедро и бесконечно лился поток Млечного Пути. И уже нельзя было понять, в небе ли, на земле ли звенело все зовом бегущего потока.
Пройдя еще немного, будущая мать опустилась на колени: в узкой щели между камнями зашевелилась черная струя воды. Анна потянулась к ней руками, зачерпнула полные пригоршни — и как будто не воду, а звездный блеск, обжигающий холодом, подняла она на ладонях.
22
Дома встретил Андрей, очень встревоженный, и она сразу поняла, что они с Валентиной даже не заметили ее, когда шли вместе.
— Где ты была? Я звонил всюду…
— Ты… беспокоился?
Он ответил с хмурой уклончивостью:
— Маринке что-то нездоровится. Я пришел, малышка еще не спала.
— А где ты был? — спросила Анна, не глядя на него.
— Я был у себя… в кабинете, — сказал он сухо, взял с этажерки две книги, словарь и направился к двери.
Анна как вошла — в черном берете, в пальто с прилипшими иголочками хвои, — так и стояла у стола, не раздеваясь, не вынимая рук из карманов. Сейчас Андрей выйдет из комнаты, засядет у себя и будет до рассвета перелистывать страницы, скрипеть пером или сидеть неподвижно, изредка прерывая тишину неровными вздохами, а завтра она опять не сможет начать разговор… Снова молчать, терзаться, может быть, подсматривать. Нет! Сейчас же!
— Андрей!
Он быстро обернулся.
— Мне нужно поговорить с тобой.
Он посмотрел на нее, на свои книги и подошел, неловко улыбаясь:
— Что ты хочешь сказать?
От его жалкой улыбки гнев Анны сразу остыл.
— Я не могу больше так жить, — прошептала она с кроткой растерянностью. — Я не хочу…
Андрей стоял перед ней, напряженно выпрямись, ожидая тяжелого объяснения, смотрел в сторону и машинально тасовал в руках книги.
— Погоди, не шурши! — сказала она нетерпеливо и, забывшись, положила ладонь на его горячую руку.
Одна из книг выскользнула, с шумом упала на пол. Оба вздрогнули.
— Чего ты от меня хочешь?
— Я хочу, чтобы ты сказал мне все прямо. Все как есть, — потребовала Анна, стараясь унять бившую ее дрожь.
— Мне кажется, я ничего не скрываю.
— Неправда! — вскричала она, сразу охваченная гневом. — Ты унижаешь нас обоих своей трусостью! Если ты любишь больше Саенко, иди к ней! Я не держу тебя… — Анна тяжело оперлась рукой о край стола, боясь упасть и вызвать жалость к себе. — Я опять чуть не стала подсматривать сегодня… — сказала она подавленно. — Это мерзко… Ты вовсе не был на работе. Ты ходил к Саенко.
— Да, я ходил к ней.
С минуту Анна молчала, потрясенная. Даже после сообщения Кирика в ней жила затаенная надежда, что тот ошибся и все обойдется по-хорошему. Даже увидев Валентину и Андрея вместе, она еще не совсем поверила в свое несчастье. Теперь последняя надежда рухнула, и Анна сказала почти спокойно:
— Нам надо разойтись.
— Видимо, иного выхода нет, — согласился Андрей, но побледнел. — Придется расстаться.
— Немедленно.
— Когда захочешь.
— Когда захочешь! — вспылила Анна. — Не я, а ты к этому стремишься!
Андрей наклонился, поднял книгу.
— Значит, мне надо уходить из дома?
— Пожалуйста…
«Неужели это конец?» — с ужасом подумал он и спросил:
— Но как же с Маринкой? Разве нельзя условно жить вместе ради нее?..
— К чему?! — возразила Анна холодно. — Мы ведь не обыватели, заключившие брачную сделку по расчету. Зачем нам условности? Жить без любви, без уважения друг к другу!.. Ради чего? Существовать в роли снисходительной жены я не смогу. Терпеть или… ссориться… Только калечить детей… Маринку! — поспешно поправилась она, огромным усилием подавляя желание сказать ему о своей беременности. — Полюбил другую… дал волю чувству… Жестоко… Очень жестоко… Но лучше уж так… по-честному.
Андрей хотел еще что-то сказать, не смог и вышел из комнаты неровным шагом.
23
Теперь уже никакой надежды не было. Теперь полагалось побороть в себе чувства к недостойному человеку и рьяно взяться за работу. В старину подобного рецепта от сердечной болезни не существовало. Условия жизни того не позволяли, и ни одна бабка в своей ворожбе не возвысилась бы до такой фантазии. Тогда пошли бы в ход все приворотные зелья, чтобы вернуть ветреника в лоно семьи и сокрушить соперницу. Именно в этой борьбе с злодейкой судьбой, а не на общественном поприще восстанавливалось бы попранное достоинство женщины. Можно и теперь бороться с судьбой и вернуть любимого без всякой ворожбы: подать на него жалобу в партбюро, мобилизовав мнение коллектива…
Горькая ирония помогла Анне немного прийти в себя, снять пальто, умыться, но, когда она вошла в свою рабочую комнату и села к письменному столу, силы покинули ее.
«Что я ему сделала! — вырвался у нее душевный крик. — Почему он так безжалостно расправляется со мной? А надо выдержать… — Глаза Анны выразили тоску загнанного, смертельно измученного животного. — Стерпеть надо эту боль и устоять. Смог же пережить свое горе Уваров! Неужели я слабее? Но как глухо, тошно, будто навалили на меня мешки с золой… тяжко, и задыхаюсь! Ничего, Андрей Никитич, я еще встану и стряхну с себя эту пыль».
Женщина болезненно усмехнулась, опустила на руки отяжелевшую голову. Сколько уже бессонных ночей! Сухие глаза не смыкаются, в них точно песок, а по утрам надо идти в контору, на шахты или в рудник и, сцепив зубы, заставлять себя заниматься делами.
«Все дрожит у меня внутри! Такая пустота в груди, боль страшная! Гейне говорил, что при зубной боли в сердце помогает „свинцовая пломба“… „Свинцовая пломба“ помогла бы и мне, несомненно. Но как это было бы дико! Мать, беременная женщина — стреляет в себя… Нехорошо. Ах, нехорошо!»
Анна переменила положение рук, но взгляд ее под тенью ресниц остался неподвижным. Ей точно в бреду представилось, как она на днях ходила в баню. Безотрадное настроение ее было развеяно там видом молодой матери, которая мылась с ребенком напротив нее. Хорошенький мальчик с пухлой, вздернутой кверху губкой, спокойно сидел в тазу и поливал на себя из зеленого стаканчика. Приятно ему это было очень, но все удовольствие его выражалось только в улыбчивом блеске глаз, а губкой он шевелил задумчиво, как бы прислушиваясь к своим ощущениям. И еще там была чудная толстушка-девчонка, которая так же сидела в тазу, и, пока ее мать полоскала и ворошила обеими руками свои намыленные космы, ничего не видя, девчонка наклонялась и пила воду из таза. Каждый раз, проделав это, она радостно всплескивала ладошками, брыкала в воде ногами и, довольная собой, с торжеством осматривалась. Глядя на этих детей, Анна думала о своем будущем ребенке, и ей становилось легче, а сейчас сна подумала, что у тех детей есть отцы, что они не брошенные..
И заметалась по комнате.
«Это какие-то жестокие приступы, точно родовые схватки. Но так родиться может только ненависть… Я бы не хотела зла. Я хочу только хоть на минутку успокоиться. Вот как он истолковал мою помощь денежную… Видно, правду говорил Ветлугин: когда возникает физическое влечение, оно украшает свой предмет, а охладев, стараются развенчать, рассеяв все иллюзии. Это чтобы оправдаться, чтобы не стыдно было за себя. Тогда как ни повернись — плох. А я не хочу, не хочу, чтобы меня опошлили ради собственного оправдания».
Она взяла портфель… порывисто открыла его, вытащила бумаги… Но где почерпнуть живого внимания и сообразительности ей, полумертвой от горя? Перебирая деловые бумаги, она думала только о случившемся несчастье, о Маринке… Ах, Маринка!
Анна прошла в спальню. Тяжело ей стало заходить в эту комнату! После того, как Андрей застал ее у своего письменного стола, он не спал здесь, но Анна не могла забыть, как радостно засыпала она на руке Андрея и как счастлива бывала, когда он, просыпаясь рядом с ней, с сонной блаженной улыбкой обнимал ее. Какой любовностью были проникнуты все их отношения! И часто даже во сне Анне было жаль переложить на подушку голову с его руки. И вот совершилось то, чего с ужасом ожидала она все эти дни: не было исхода и никакой надежды на примирение.
— Никакой! — прошептала Анна, подходя к кроватке дочери.
Маринка спала неспокойно. Что-то снилось ей: она морщилась, вертела головенкой. Мать прижалась губами к ее виску. Такие пушистые волосики! Детеныш был еще совсем крошечный, и горло у него почему-то завязано белым платком.
«Болеет, — подумала Анна, жадно всматриваясь в любимые черты ребенка. — А мы со своими делами забросили ее!»
Горестный стон чуть не вырвался у нее. Боясь разбудить Маринку, она выбежала из спальни, метнулась в столовую и тут, уже не в силах владеть собой, опустилась у дивана, уткнув лицо в ладони, сотрясаясь всем телом от подавленных, бесслезных рыданий.
24
Эти рыдания вызвали такую усталость, что Анна уснула тут же, привалившись к дивану плечом и головой; одна рука ее была неловко подвернута, другая бессильно отброшена в сторону. В такой позе пьяного человека, с закинутым, болезненно нахмуренным лицом она проспала, сидя на полу, часа два.
Пробуждение было мучительно: в ушах гудело, болел затылок, вся кожа головы. Женщина пересела на диван, распустила волосы, морщась от боли, расчесала их.
Часики показывали шесть утра. Осторожно ступая, Анна прошла на кухню, где позевывала проснувшаяся Клавдия.
— Что с Маринкой? — спросила Анна, включив свет и прикрывая дверь в коридор. — Вызовите сегодня врача, пусть он посмотрит ее. Я вернусь домой к завтраку. Нет, нет, можете сейчас не вставать, — поспешно добавила она, глядя на худые, жилистые ноги Клавдии, на длинные шнурки ее полосатой юбки, которые та начала было завязывать над своими плоскими бедрами. — Я не буду завтракать.
У вешалки Анна переоделась, натянув суконные брюки и сапожки, надела теплую куртку, шапочку-папаху и вышла из дому. Холодный воздух освежил ее открытый лоб и щеки, и она вспомнила, что забыла умыться. По спине сразу потекла зябкая дрожь: на ступеньках крыльца и досках, вдавленных, втоптанных в высохшую грязь, на траве по косогору лежал сплошной иней первого крепкого утренника. Анна глубоко вдохнула морозный воздух и поморщилась от боли в груди.
— Эка, до чего довздыхалась! — укоризненно сказала она себе и пошла по дорожке.
Внизу замешкалась, не решив еще, с чего начать свой рабочий день: пройти ли в механическую мастерскую, где срочно склепывали по новому проекту трубный обогатитель для гидравлики, или проехать на лесозаготовки?
В голове у нее мутилось, ноги подкашивались. Хотелось залечь в темном углу и лежать, никуда не показываясь, никого не видя.
Впервые Анна почувствовала жестокость своих обязанностей: у нее разрывалась душа от огромного горя, а надо было думать о том, чем заняты окружавшие ее люди.
Никто из них не догадывался о том, как ей тяжело. Наоборот, все осаждали директора своими деловыми и личными просьбами, растаскивая на тысячи кусков каждый день ее жизни. Нет, она никого не хотела видеть сейчас, но и домой возвращаться было невозможно. В лес! Да, конечно. И она круто свернула к конному двору.
Пока конюх, поставленный временно вместо Ковбы, выводил из стойла, поил и оседлывал Хунхуза, Анна стояла, прислонясь к новой, еще сухой колоде, смотрела на чисто выметенный, рыжий от навоза двор, на ярко-белые от инея былинки просыпанного вечером сена; слушала фырканье и звучное жевание коней и постукивание их подков по деревянным настилам, вдыхала крепкий запах конюшни, и чувство тоскливого отчуждения от всего этого — почти неестественного в своей спокойной простоте — овладевало ею. Поеживаясь от нервного озноба, она приняла поводья из рук конюха и, почти не ощущая тяжести своего тела, села в седло.
Синие сумерки переходили в рассвет, наливались румянцем. Истончалась, бледнела ущербная луна. Как она мучила своим светом Анну в эти бессонные ночи! Но луна уже постарела. Какие-то пятна двигались по ней, разрыхляли ее, — казалось, сквозь нее проглядывало небо.
— Так тебе и надо! — прошептала женщина и остановила лошадь над перевалом.
Солнце уже улыбалось земле, земля улыбалась солнцу блеском каждой песчинки, каждой иголочки изморози. Только Анна смотрела на все неподвижно-застывшим взглядом.
— Так тебе и надо! — громко сказал кто-то.
Она вздрогнула. Неужели она сама произнесла эти слова?
25
Оставив лошадь у барака, Анна пошла по делянкам. Тонкое серебро инея оплывало с верхних ветвей леса, блестели на солнце мокрые сучья, и редкие листья, падавшие и копившиеся на них огнистые капли; искрились, выхватываемые вдруг солнечными лучами верхушки уже оголенного лиственного подлеска, точно покрытые белым кружевом; выпрямлялась согретая, мокрая до корней желтая трава на круто-склоне, и, как слезы, стекала влага по смуглой коре сломленной придорожной сосны. Лес вздыхал и, прекрасный в мощной своей скорби, томился ожиданием белого, подобного смерти покоя зимы.
Здесь все было огромно: и деревья, и очищенные от коры бревна, светлые, точно восковые, и сами лесорубы, — громкоголосые мужики.
Вместе с десятником Анна поднялась на крутой водораздел, и десятник-бурят, работавший раньше на вишерских лесозаготовках, показал, в каком месте и как можно сделать ледяную дорожку для лесоспуска.
— На Вишере она здорово помогла нам, — оживленно говорил он, сверкая узкими глазами. — Это очень дешево. Это очень выгодно.
Они вернулись на делянку, когда лесорубы, вдосталь намахавшись топорами и пилами, отдыхали у костра перед своим шалашом. В располосованной сучьями ватной одежде, обросшие щетиной, они полулежали на земле, как лесные разбойники. Отточенные топоры их хищно поблескивали в стороне, всаженные полукружьем в широкий пень.
Лесники пили черный, как деготь, чай с брусникой. Куски пшеничного хлеба были свалены грудой на чьей-то поношенной телогрейке.
— Чай пить с нами, Анна Сергеевна! Душу попарить! — ласково предложил Ковба, временно посланный на лесозаготовки вместе с другими рабочими, но как будто здесь, в лесу, и родившийся.
Чай пах дымом. Мелкие соринки плавали в нем. Анна ела хлеб, порушенный неотмываемо черными мужскими руками, черпала деревянной ложкой ягоду из общей миски.
Лесорубы, смеясь, рассказывали ей, что Ковба совсем истосковался по конюшне, что он пробовал кого-то из них зануздать спросонья вместо Хунхуза и каждую ночь кричит:
— Тпру ты, холера, урюк соленый!
Старик смеялся вместе со всеми, щеря в косматой бороде желтые зубы, сплошные и крупные.
Потом он встал, ушел куда-то и возвратился очень скоро с охапкой сена. Его встретили шутками, что все, мол, сыты, но он обратился к Анне, которую им так и не удалось рассмешить:
— Земля-то холодная. Сядь на сенцо, а мы песню сыграем.
Конюх положил сено на землю, помедлил, стряхивая с рукава прилипшие сухие травинки.
— Оно, правда, скучаю я тут, — сказал он тихо, и Анна подумала, что он хочет поскорее обратно на прииск, и это сено, и песня, которую он собирался сыграть, и угощение — все просто-напросто является его заискиванием перед ней.
— Ничего, работать везде нужно, — произнесла она намеренно сухо.
— Знамо, нужно, — по-прежнему тихо сказал Ковба, — только по Хунхузу я скучаю. Привык. А так и в лесу тоже свой интерес есть. Вот недавно, к примеру, случай был… Видел я, как один охотник пальнул в ястреба. И что ему взбрело? Птица красивая. Помехи здесь от нее никому нету. А он стрелил. Я неподалеку ягоду брал… Гляжу, падает. Камнем. Пал и лежит — куча пера смятого. А охотничек-то из-за куста снизу посматривает — брать не идет: неохота, знать, в гору лезть. И вот видим — ожил ястребок: голову поднял, крыло подтягивает да как глянул на нас через плечо, зорко да злобно так: «Эх, вы! Сволочи, мол». И двинулся прочь. Только шагнул раза три и свалился. Дышит тяжко. Взъерошился. Кровь на нем. Однако вздохнул и опять зашагал. Глядим, крылья разводит… Лететь надо, а мочи нет. Упал, и так ему больно да тошно на ту боль: глаза будто угли. Про нас думать забыл. Потом рванулся еще раз и побежал, потом крылами ударил и опять взлетел. Перья с него падают, кружатся, а он все выше и выше и пошел отмахивать. Эка птица сильная да гордая! Прямо до слез она меня тронула. Вот ведь оно, дело-то, какое бывает, Анна Сергеевна. — Ковба взглянул на понуренную Анну и добавил еще внушительнее: — Птица, а гляди, чего… Не сдается, да и все тебе!
Из шалаша тем временем принесли гармошку, на которой весной играл Уваров. Без всякого ломанья Ковба присел на чурбак у костра. Молодой гармонист, по прозвищу Расейский, черный, как цыган, пристроился тут же. Сам Ковба давно не перебирал ладов, жалуясь на свои уже нечуткие пальцы.
С минуту он сидел молча, поглядывая на всех, потом сказал что-то Расейскому. Сиповатым, но задушевным и мягким голосом вывел он слова песни:
Среди долины ровныя на гладкой высоте… —разом подхватили остальные.
Растет, цветет высокий дуб в могучей красоте.и снова тосковал Ковба:
Высокий дуб, развесистый, один у всех в глазах, —и мощно, слаженно поднимали песню полтора десятка мужских голосов:
Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах.«Ах ты, леший косматый! — любовно думала Анна, с трудом удерживаясь от слез. — Когда ты успел разгадать, что у меня?!»
Но глаза ее отсырели, и словно сквозь дымку видела она, как пел старик, глядя в огонь, охватив колено заскорузлыми руками:
Взойдет ли красно солнышко, кого под тень принять?И дружно откликался, жаловался хор:
Ударит непогодушка, кто станет защищать?Нет, все-таки потекли и сразу хлынули слезы, и женщина уже не стеснялась их. По тому, как еще сердечнее зазвучали голоса лесных людей, как теснее сдвинулись они вокруг, она поняла, что все тут знали о ее горе и так же, как Ковба, жалели ее. Она подумала о своей нужности этим людям и о том, как много должна сделать для них, — и заплакала навзрыд, точно таяла в ее груди ледяная, душившая ее глыба. А песня набирала силу, и все хорошели, разгораясь, лица певцов.
26
— Мы сказали себе: «Надо выполнить». И подготовительные работы на руднике были выполнены в кратчайший срок. Это сделали золотые руки и золотые сердца наших рабочих — крепильщиков, забойщиков, проходчиков передовых…
Андрей сидел в большом зале клуба, на производственном совещании, и слушал выступление Анны. Она стояла на сцене, прекрасная в своем воодушевлении, и ее слова задевали лучшие чувства собравшихся людей.
— С каких это пор сердца бывших старателей стали принимать любовное участие в работе, которая не манит золотым фартом? С каких пор забойщик из старых хищников начал заглядывать к табелисту, выспрашивая о нормах выработки забойщика-комсомольца?.. Да с тех самых пор, как они почувствовали себя ответственными за свой участок перед всей страной. Тогда в них проснулась гордость за себя и стремление к творчеству. Эта могучая сила поставила на один уровень инженера Ветлугина и забойщика Никанора Чернова, нашего главного механика и слесаря товарища Ивашкина…
Андрей всмотрелся в далекое от него лицо Анны, потом оглядел соседей по скамьям. В зале, набитом битком, была тишина: всех волновала речь женщины-директора, которая вкладывала в нее горячее собственное убеждение. Старатели, шахтеры, бурильщики с рудника, мастера смен и инженеры слушали ее, точно песню о своем мастерстве. Взлеты и падения отмечались в фактах и цифрах, задевавших за живое, когда зал то притаивался, блестя сотнями глаз, то дружно вздыхал.
«А Никанор Чернов, пожалуй, и выше Ветлугина», — подумал Андрей.
— Рабочий Никанор Чернов не останавливается на своих успехах, — продолжала Анна, словно отвечая Андрею. — Он настоящий новатор и идет все дальше. Он перестраивает в забое свое звено, по-новому ставит работу с буром-перфоратором и дает двести сорок процентов нормы, потом переходит на два станка, на три и, наконец, на четыре. Норма выработки у него доходит теперь до тысячи процентов, заработок его выше, чем у инженеров, мы создаем ему наилучшие бытовые условия. Кажется, рабочий сделал и получил все, что мог, но на днях внес опять техническое предложение по устройству перфоратора, и наши специалисты должны были признать и принять его. Так растет в труде человек!..
— Растет, ядрена-зелена! — одобрительно отозвался, сам того не замечая, сосед Андрея — организатор крупнейшей старательской артели.
Сидел этот старатель, кинув неловкие в праздности жилистые руки на наколенники болотных сапог, кивал Анне бритым подбородком, притопывал каблуком, и победно осматривался по сторонам. «Вот, мол, какие мы!» Артель его шла первой из передовых по всем показателям. Как же было не ликовать его растревоженной душе!
— Еще мы сильны тем, что нет у нас стремления залезть в свою нору и отделиться от товарищей по работе. У нас личное благополучие зависит от общественного процветания, а это порождает коллективизм — свойство народа, который строит для себя будущее. Поэтому наряду со своим трудовым вкладом и заботой о народной собственности рождается внимание к человеку-товарищу. Чтобы не только жил он да выполнял норму, но не остался одиноким и в личной беде. А уж если он попал в нее, то сделать все, чтобы у него поскорее стала душа на место. Это делает наш рабочий коллектив несокрушимым.
Тут в голосе Анны прозвучало что-то такое, что взорвало весь зал бурей аплодисментов и заставило Андрея не раз прокашляться: встал поперек его горла непослушный комок.
27
Многие, аплодируя, поднялись со скамей. Со всех сторон обращались к Анне оживленные взгляды.
Она еще стояла за трибуной, тоже взволнованная, и укладывала в папку листы бумаги, испещренные цифрами, на которые изредка поглядывала во время выступления. Легкая испарина проступила на ее лице: после пережитого нервного подъема она едва держалась на ногах. Огромным усилием воли заставила она себя собраться с мыслями — выступая, как всегда, не по бумажке, — не только передала людям то, что хотела, но зажгла их и теперь вместе со страшной усталостью ощущала грустное облегчение: сердечная боль, угнетавшая ее непрерывно в эти дни, отступила.
«Оживать начинаю, — подумала она, вспомнив рассказ о ястребе. — Может, и упал потом, может, погиб, а все-таки справился — полетел».
В это время листок бумаги, свернутый угольником, прошел через зал из рук в руки и лег на трибуну. Анна, уже с папкой под мышкой, рассеянно взяла его и, на ходу развертывая, направилась за кулисы…
«Да, здорово получается, — подумал Андрей, припоминая сказанное ею. — Впервые за последнее полугодие перевыполнена месячная программа, и, конечно, они наверстают теперь упущенное. Как сразу сказалась отработка рудника широкими камерами!»
Общее приподнятое настроение передалось ему. Но почему Анна уклонилась от вопроса о разведке? Конечно, это не годовой отчет, но она могла сказать и о разведчиках. Пришла было мысль, что ей просто тяжело упоминать о нем, но он отмахнулся от этого. Ему казалось, что Анна целиком погружена в дела производства и заинтересована ими больше, чем своими собственными. Разве можно было вообразить, слушая ее выступление, что лишь несколько дней назад она сказала самому близкому человеку: «Нам надо расстаться»?
«Неужели ей так легко расстаться со мной? Не плакала! — Андрей задумался и все лучшее, что он пережил с нею, предстало перед ним. — Разве она не сожалеет об этом?»
Он поднялся и начал шарить по карманам, ему захотелось курить. Все уже вышли, торопясь использовать перерыв, и Андрей, поколебавшись, направился не в переполненное фойе, а за сцену.
— Полно, Анна Сергеевна, не надо так расстраиваться. Зачем убивать себя? — услышал он совсем рядом, за кулисами, голос Ветлугина и невольно притаился.
Сквозь разодранную декорацию он увидел Виктора и Анну, которая сидела на скамейке, закрыв глаза, откинувшись головой на картонную стену; руки ее, лежавшие на коленях, выражали полную беспомощность.
— Стоит ли обращать внимание на глупую, злую записку? — продолжал Ветлугин, садясь рядом на скамью. — Валентина Ивановна не авантюристка, не темная личность. Всем это известно.
— Вам особенно, — тихо вставила Анна, и выражение слабой, тонкой и ласковой иронии оживило ее черты. — Меня не то поразило, что написал какой-то дуралей, — и не со зла написал, а по доброму расположению, — поразило то, что все уже знают о нашем разрыве. Значит, это действительно совершилось. Мне сочувствуют…
Анна выпрямилась, провела рукой по влажным волосам, и Андрей увидел, что блузка на ней тоже мокрая.
— Вы уж постарались, чуть не целый ушат на меня вылили, — виновато усмехнулась Анна. — Я рада, что никто не видел, когда мне стало дурно. Это от переутомления… Я совсем не отдыхаю. И то, свое, личное, сказалось, разумеется.
— Да, нам обоим грустно. Но что же делать? Я много передумал в последнее время и понял: надо отойти! — Ветлугин облокотился на колени, сжал большими руками черноволосую голову, Андрею даже показалось, что он заплакал. — Вам еще тяжелее, у вас дочка, — сказал он. — Я не говорю о материальном положении, в этом вы сильнее любого мужчины, но ребенок… будет скучать об отце.
— Нет, для меня лучше то, что есть ребенок, — сказала Анна просто.
28
Подойдя к будке землесоса, Анна взглянула на молоденькую мотористку, особенно румяную в лиловом байковом платке. Из-под платка забавно выглядывала короткая коса. Маленькими, по-детски пухлыми руками девушка — дочь одного из старателей — регулировала работу мотора.
Сколько женщин пришло на горные работы за последнее время! И толстощеких крепышек, и таких, румянец которых давно растаял, сбежав по морщинам. Что думает она, эта девочка? Наверное, радуется своей власти над умным чудовищем, запустившим железный хобот в кипящую грязь. Оно втягивает эту грязь, пыхтя и хлюпая, по тысяче кубометров в сутки, но все новая сбегает к нему от высоких обрывов забоя, обрушиваемых жемчужно-белыми струями двух мощных мониторов. Будка землесоса дрожит над водой, сотрясаемая его работой, но девушка уже привыкла к шуму, чудовище покорно и послушно ей, и грязные ее рукавички спокойно лежат у его чугунных лап на чисто вымытом полу. Сегодня она мотористка, завтра будет техником, потом — инженером. Она счастливее Кирика, уехавшего все-таки на медицинские курсы: раза в три моложе его.
* * *
Анна отходит от будки и по узкой дорожке, покрытой грязью, пробирается к руднику.
Она идет и думает о том, как было бы хорошо поставить вместо тракторов насосы на всех гидравликах управления. Один насос заменит двенадцать тракторов-газогенераторов. Одна девушка выполнит работу за четырех трактористов, и нет постоянных поломок и простоев. «Это очень выгодно, здорово нам помогло…»
Кто так говорил? Анна вспомнила десятника-бурята, старика Ковбу, песню в лесу и свои слезы, вызванные ею и неожиданно найденным сочувствием. Она шла и пытливо смотрела на всех, кто попадался ей на пути. Она старалась проникнуть в их мысли, чтобы лучше понять, чем живут не похожие друг на друга люди.
Мальчишка проскакал по отвалам, размахивая рогаткой. Ему хочется запустить камнем в сидящую на проводе ярко-рыжую сойку, но в камне светло блеснула слюда, и он замешкал, рассматривая камень. Он кладет ее в карман и обшаривает отвал со страстью будущего геолога.
Старатель-завальщик с гидровашгерда торопится домой — только что сменился. Застарелый ревматизм и усталось гонят на отдых, но он увидел свежую газетку под мышкой встреченного инвалида-сторожа. Как же не расспросить о новостях? Сторож не спешит: его работа начинается ночью. Оба останавливаются, закуривают, и начинается разговор.
Прошел рослый красавец военный в простой, но опрятной шинели. Это фельдъегерь, который провозит по тайге золото и срочную почту. В мороз и в метель. У него бархатные брови, свежее лицо его горит молодым румянцем. Он избалован взглядами девушек и даже на Анну смотрит победительно-нежно. Но вот мальчик лет пяти идет за матерью, прижимая к груди буханку хлеба обеими ручонками. Он не может перебраться через грязную рытвину, лицо его плаксиво морщится, а руки матери заняты грудным ребенком и корзиной. И фельдъегерь направляется к нему, пачкая грязью свои сверкающие сапоги.
— А ну, держи крепче буханку, — говорит он деловито.
Директор уже далеко, но слышит и понимает все, что творится за ее спиной.
Это такие разные люди, но в каждом из них она узнавала себя. Разве не она перенесла через грязь мальчика с булкой? Ладони ее еще ощущают теплоту и тяжесть его маленького тела. Она тоже остановила бы незнакомого человека со свежей газетой, расспросила о новостях.
Вместе с группой шахтеров Анна привычно вошла в железную клеть, но неожиданное ощущение тошноты возникло у нее сразу при стремительном падении вниз.
Можно ли добровольно ухнуть в пропасть… вот так, совсем… — спрашивала она себя, ощущая нараставший звон в ушах и прижимая руки к груди, чтобы утишить, унять поднимавшуюся тошноту. — Ну разве тебе хочется, чтобы лопнул канат и клеть пошла еще быстрее?
По узкой щели ходка Анна проползла вверх в камеру, освещая путь шахтерской лампой, и поднялась, осматриваясь. Вот она перед ней, ее десятина.
Только что была произведена отпалка, электрические лампы не горели, и углы громадного подземелья тонули во мраке. Багровый в серой пыли свет ручного фонаря, оставленного пальщиком, не разгонял сумрака даже в центре, где угловато изломанные серые глыбы, опускаясь постепенно на всей площади камеры, образовали воронку — адский котел. Хаос камня, мрачные тени, багровый в густой пыли свет невидимого фонаря — все говорило о вечности этого камня, о мгновенном сгорании маленькой человеческой жизни, и сердце сжималось тоской под низко нависшим суровым каменным потолком.
Анна только тогда вернулась к действительности, когда увидела темные фигуры горняков, возникшие из мрака, где скрывался другой ходок.
Люди внесли с собой свет и оживление. Перерыв кончился. Начались обследования забоев, очистка отпаленной породы. Все сразу приняло другой вид: был просто горный цех, откуда начиналось движение золота, какие сильные, смелые люди работали здесь!
Оглушаемая треском перфораторов, Анна подошла к бурильщику Никанору Чернову, который опять дал вчера тысячу процентов нормы, выбеленному, как мельник, пылью, рвущейся из-под его буров, громко заговорила с ним. И в нем она тоже искала и находила свои черты.
Надтреснутая глыба висела над самой головой бурильщика. Анна взяла обушок, постучала по кровле. Звук получился глухой, надежный. Она не хотела обидеть недоверием сменного смотрителя, не собиралась обрушить эту глыбу на себя и на Никанора Чернова, зорко следившего за своими четырьмя станками-телескопами — просто она привыкла проверять даже то, в чем была уверена.
— Не бунит! — весело крикнул Анне Никанор Чернов, покосив глазом на трещину в потолке.
— Нет, не бунит!
— Не обрушится!
— Нет, не обрушится!
Гул перфораторов заглушал их громкие голоса.
Анна представила могучее медленное движение каменной массы под своими ногами, гул моторов, грохот бегунов на фабрике, плавный шелест и шорох транспортных лент, звон воды, идущей по трубам гидравлик. Разве все это не звучало, как героическая трудовая симфония? И разве она, Анна, не владеет радостью такого труда? Здесь, в мрачном подземелье, рождалась песня, зазвучав с новой силой в душе женщины.
Но теперь эта песня-воспоминание взволновала ее по-иному: она почувствовала себя снова гордой, богатой тяготением к жизни и людям.
29
После доклада Анны на совещании и подслушанного нечаянно ее разговора с Ветлугиным Андрей несколько дней ходил точно угорелый. Смутные сожаления давили его, и он был то груб и рассеян с людьми, то как будто стыдился смотреть на них.
— А я так люблю тебя, что мне никого не стыдно, — вызывающе сказала ему Валентина при очередном свидании. — И незачем прятаться. Все равно везде знают. Сколько людей приехало вместе с нами! Отчего ты не стыдился там, на пароходе? — И снова ревность к Анне прорывалась в ней, — слишком непосредственна она была, чтобы скрывать свои чувства.
— Тебе нравится находиться под каблуком своего директора? Тем хуже для тебя! Но ее это тоже характеризует не с лучшей стороны, если ты в самом деле не живешь с нею сейчас, как муж.
— Анна имеет больше прав сердиться… — начал было Андрей, но умолк, вспомнив, что, имея эти права, она отпускает его.
— Если ты признаешь ее права, то зачем же ходишь на свидания с другой женщиной? — спросила, задетая за живое, Валентина скорее надменно, чем зло.
Она совсем забыла, что до сближения с Андреем ничего не искала, кроме его взаимности. Теперь он нужен был ей безраздельно. Задерживаясь в больнице после работы, она занималась для виду чтением книг в комнате отдыха — ждала условного звонка, но так волновалась, сгорая в ожидании, что больные, врачи и сестры старались не смотреть на нее, а если кто взглядывал, то не вдруг отводил глаза: такое чувство освещало ее лицо. Иногда после долгого ожидания это прекрасное лицо бледнело, страдание сказывалось в нем, невольно вызывая сочувствие.
— Ты пойми, как унизительно для меня жить так! Ведь это только говорится, что с милым рай и в шалаше! — страстно упрекала она Андрея, сидя возле него под навесом из еловых ветвей. — То дождь, то — дела — некогда, то семья тебя задерживает, а я одна да одна. Вот сегодня выходной. Я все утро ждала твоего звонка в больнице, потом няня Максимовна мне говорит, грубо так: «Идите уж домой — не майтесь. Ежели позвонит, я приду скажу». — Голос Валентины задрожал — эта женщина осуждает нас, а даже ей жалко стало!
— Не торопи меня…
Валентина вдруг залилась светлым смехом, как в лучшие минуты своей жизни.
— Хорошо, не буду, пусть тебя зима поторопит. Не встречаться же нам в двухметровом снегу!
30
Анна проснулась рано утром и увидела еще полусонная, как деловито перелезала Марина через сетку кроватки на табурет. В полутьме она казалась очень худенькой в своей длинной рубашке, с растрепанными белыми вихрами.
Подойдя к постели матери, девочка постояла в нерешительности, потом осторожно подняла край одеяла и смешно, как котенок, полезла под него. Сначала пригрела бочок, затем повернулась и обвила ручонкой шею Анны. Женщина молчала, только губы ее вздрагивали в улыбке.
— А меня никто не любит, — как будто ни к кому не обращаясь, тихонько сказала Маринка.
Анна опять промолчала.
— И кушать мне не дают, — пропела девочка уже громче, отодвигаясь на подушке и засматривая в лицо матери: — Мы вчера не ужинали, наверно.
— Вы уже кушать захотели? — смеясь, спросила Анна.
— Я не помню, когда мы ужинали…
— Понятно. Ты правда похудела и что-то горячая… Почему ты такая горячая? Наверно, опять босиком бегала? Что сказал доктор?
— Он сказал, чтобы я показала ему язык. Я показала. Раз он сам попросил, это можно.
— Ах ты, дипломат! — усмехнулась Анна укоризненно и сразу вспомнила разговор с Ветлугиным в клубе и то, что Маринка перестала мучить ее разговорами об отце.
Она как будто поняла, что произошел разлад, и даже стесняется шалить, когда они изредка собираются дома вместе. Подумав об этом, Анна впервые почувствовала тягостное недоумение от того, что Андрей медлил с уходом. В самом деле, отчего он медлит, когда вопрос уже решен?
В конторе директора ожидала обычная деловая горячка: разговоры по телефону, срочные бумаги, посетители, — все сразу обрушилось на нее и овладело ею, и она расцвела, разговаривая, распоряжаясь, всех подгоняя. Это она задавала общий тон работе, зная силу и слабость каждого отдельного участка, и сегодня этот тон поднялся на небывалую высоту.
«Да, я удержалась, — сказала она себе, когда выдалась свободная минутка. — Вот моя рука на телефоне, какая хорошая, сильная рука! Вот радиограммы об отпуске дополнительных средств, о представлении смет и проектов на Долгую гору. Как много денег получим мы теперь — и как быстро! Прежде всего нужно распорядиться об отправке полутора тысяч рабочих на Звездный. Умница я, если мне дано решить и этот вопрос, и участь этих людей! За ними потянутся семьи. Целый городок опять строить надо. Счастливая ты, Анна Лаврентьева! И дети у тебя будут такие же. Милые мои ребятишки! — И она рассмеялась. — Вот как нахваливает себя солидный директор!»
Она подняла смеющиеся глаза на вновь вошедших людей, и даже то, что среди них был Андрей Подосенов, не омрачило ее настроения: теперь и он должен чувствовать себя счастливым! Эти люди внесли в кабинет еще большее оживление, особенно когда новый управляющий нового Звездного прииска сразу поставил вопрос об организации яслей.
— Позвольте, — весело запротестовала Анна. — В первую очередь надо отправить рабочих, а семьи потом. Мы не можем обеспечить все сразу!
— И тем не менее придется… Горняк пошел особенный, товарищ директор. Раньше в первую очередь отправляли на новые прииски спирт, а теперь… — Уваров замялся и, смеясь, закончил. — А теперь и спирт, и детские соски.
— Много женщин?
— Все механизмы будут обслуживаться женщинами.
— Чудесно! — Анна легко вздохнула. — Начнем на новом месте, с благословения Уварова, сразу по-настоящему, с яслями и ребятишками. — Она повернулась к Андрею и, спокойно взглянув в его растерянно вспыхнувшие глаза, сказала с улыбкой: — Вы с Чулковым теперь герои дня. Придется с вас по литровке магарыча. Вот сообщение из главка о денежных премиях, а это об отпуске средств на дополнительную разведку и на подготовительные работы. В конце ноября мы уже начнем разработку россыпи на Звездном, а с нового года примемся за Долгую гору. Развернем рудничное строительство, тогда с нас магарыч! — И, довольная тем, что совладала со своими чувствами, Анна повела взглядом по планам и картам, разложенным перед нею.
31
«Да, мои разведчики сейчас герои дня, — думал Андрей, выходя вслед за Уваровым из кабинета Анны. — Но она-то как держится!.. Ведь не может того быть, чтобы совсем успокоилась. А вот улыбается, шутит».
— Теперь мы выберемся из тупика, — весело заговорил Уваров, оборачиваясь на улице к Андрею. — И впредь доводить разведки до такой крайности не позволим.
— Посмотрим, товарищ секретарь парткома.
— Можете не сомневаться, товарищ разведчик!
Научены горьким опытом. В тресте этот горький опыт тоже будет учтен. — Уваров покосился на Андрея, подравниваясь к нему на ходу, и спросил с доброй насмешкой: — Ты что невеселый такой? Ведь ты теперь еще и герой романа!..
— Нашел чем шутить!
Секретарь парткома нахмурился:
— Это ты шутишь-то, а не я.
— Я не шучу, — заволновался Андрей. — К женщинам я всегда, с самой юности, относился серьезно. Бить меня сейчас еще — просто жестоко.
— Мы не бьем, — сказал Илья, настораживаясь. — Хотя за Анну Лаврентьеву следовало бы.
— Поставьте вопрос на бюро! — огрызнулся Подосенов.
— Следовало бы, — сказал Уваров сдержанно, но заметно изменился в лице. — Семья — дело общественное. Разумеется, любить мы не запрещаем. Не можем ведь мы вынести постановление: люби жену свою. А без любви ты ей не нужен: не такой она человек.
— Да, она не такая! — с невольной гордостью вырвалось у Андрея.
Илья зорко посмотрел на него.
— Небось плохим ее не вспомнишь! Эх ты, дурной! А еще говоришь: «На бюро»! Сам ты себя на всю жизнь наказал.
Андрей промолчал, но углы его губ жалобно опустились.
«Ишь ты, какой тонкокорый стал: где ни затронь — болит. Понятно: Анна-то теперь ох как высоко над тобой!»
С этой радующей его мыслью об Анне Илья направился в партком.
— Дяденька Уваров, иди к нам печеные картошки исть! — кричали ему мальчишки, пристроившиеся у костра, дымившегося над серыми отвалами промытой породы. — У нас тут складчина по три штуки!
«Картошки будто яблоки считают. А на будущий год уродится у нас этого добра вволю. Как-то мы сами будем к тому времени», — подумал секретарь парткома.
Сначала ему представлялось, что Андрей переедет к Саенко или она к нему, а Анна выпросит перевод в другое место. Но теперь такая комбинация с отъездом директора управления была уже невозможна.
* * *
Андрей посторонился, пропуская двух девчонок, которые несли большое ведро воды, расплескивая ее на свои босые красные ноги и со смехом подбирая подолы платьев. Он в задумчивости, а они, занятые своей ношей и озорством, едва не столкнулись.
«Должно быть, сестренки», — подумал он, останавливаясь и глядя, как они подходили к сенцам маленького барачка по чисто разметенной перед ним дорожке.
Еще одна девочка, постарше, вывернулась из сеней, повязанная под мышки бумажным платком, и принялась возиться у окна: подтыкала мох, заклеивала стекло. У соседнего барака набрасывали землю на завалину, воткнутая лопата торчала в ожидании хозяйских рук.
День был холодный, не пасмурный, но по-осеннему тусклый, с бледным солнцем, низко прикорнувшим над горами. Зима напоминала о скором прибытии, и люди утепляли свои гнезда. Да, зима всех заставляла торопиться!..
«Хорошо быть маленьким, беззаботным, когда над тобой не тяготеет большее, чем шлепок родной руки, когда все так цельно и ясно!»
С этой мыслью, позавидовав детишкам, Подосенов присел на лавочке у плетня крошечного огорода. За изгородью на вырытой картофельной гряде похаживал, хрюкая, поросенок, забуривался в рыхлую землю так, что падал на коленки, и тогда виден был только его задок да бойко вертевшийся хвостик. Подошла рыжая собачонка, похожая на лису, вежливо обнюхала сапог Андрея и посмотрела на него улыбчиво. Даже у паршивой собачонки было хорошее настроение!
Кажется, дошел! — сказал себе Андрей. — Да, дошел! А ведь я счастлив должен быть! «Герой романа», — вспомнил он слова Уварова.
В это время поросенок, громко хрюкнув, бросил вырытую им яму, галопом, лихо и весело, дал круг по огороду, подбежал к плетню и обнюхался с любопытной собачьей мордочкой. Потом оба, взвизгнув, бросились со всех ног в разные стороны.
Андрей представил, как рассмеялась бы Валентина. Хорошо было бы открыто посидеть с ней вдвоем здесь, на лавочке.
«Кто же тебе мешает?» — спросил он себя, и снова тоска охватила его.
Посмотрев на юных хозяек, все еще по-птичьи хлопотавших у маленького гнездышка, он вспомнил свой летний сон и то, как проснулся, потрясенный стыдом и страхом. Даже во сне нельзя было оскорбить Анну, а как он ударил ее наяву? И Маринку так же жестоко ударил!
32
Утром Марину опять не приняли в детский сад, градусник очень нагрелся, и сама заведующая, покачав головой, тихо сказала:
— Бедная ты, бедная девочка!
Девочка совсем не считала себя бедной, но домой пришлось вернуться. Целое утро она смирно просидела на кухне, наблюдала за суетней Клавдии. Здесь было очень тепло! Рядом на ящике лежала муфта. Если протолкнуть в нее руку, то можно нащупать несколько конфет в бумажках и кучу орехов. Это норка бурундука, которым была сейчас сама заболевшая Маринка. Она все еще играла орехами, привезенными Анной, и искренне верила, что это подарок от бурундуков. Она сама столько раз видела, как эти зверьки вместе с горностаями воровали со стола на террасе печенье и сахар.
Клавдия сидела напротив Маринки и кургузым, обломанным ножом чистила грибы. Грибы, рыжеголовые, плотные, сине-зеленые по срезу, лежали на столе, на коленях Клавдии, в корзине, стоявшей на полу у ее ног. Будто на войне, когда грибы подрались с каким-то царем Горохом. И еще эта Клавдия кромсает их ножом! А они развалились по всей кухне… И кто знает, может быть, встанут опять на свои крепкие ножки и пойдут на гору, в лес… Должно быть, от ожидания у Марины кружилась голова, а по спине бегали холодные мурашки.
— Пойдем в комнату, я тебя в постельку уложу, — сказала Клавдия, зорко посматривая на девочку.
И вот Маринка одна в большой комнате. Можно закрыться с головой. Так теплее, но под одеялом темно и скучно. Лучше всего сделать окошечко и смотреть на открытую дверь. Вот слышно: затопал кто-то. Уж не идут ли сюда большеголовые грибы со своими страшными синяками?.. Маринка быстро поднялась и села. Нет, это дедушка Ковба привез воду. Громко фыркнула водовозка. Чем-то загремели на кухне, и дед Ковба сказал совсем близко:
— Я теперь в лесу вроде завхоза: за всеми покупками меня посылают. А я мимо конюшен никак не пройду. Заходил опять в гости к Хунхузу. А заместитель-то мой попросил воды вам привезти. Известно: одному за троих отвечать трудно, при лошадях особенно. Ну, и не справляется, хоть молодой. А мы в лесу робим подходяво. — И еще он сказал после слов Клавдии, тихих и непонятных: — Жалко Анну Сергеевну.
Клавдия, уже рассерженная, отвечала, на этот раз ясно, тоненьким злым голосом:
— Чего их жалеть, когда они сами себя не жалеют? «Уходи, говорит, немедленно!» А нет того чтобы в права свои взойти! Какие княгини не стеснялись руку к мужниной щеке приложить! Соперницы-то трепетали, в дом не лезли. А теперь все с гордостью: фырк да фырк!
— Самостоятельная женщина, уважительная, — опять, сожалея, сказал Ковба.
— Она бы лучше о своем положении подумала, — возразила Клавдия. — Один ребенок только-только от рук отошел, а тут другой родится. Кому она будет нужна с двумя-то!..
«Это у мамы родится», — догадалась Марина и, вздрогнув от удивления, а заодно и от озноба, потянула одеяло к подбородку.
— Вот как бросит он их, Андрей-то Никитич… Совсем ведь оплела его врачиха… Уйдет он к своей Валентине Ивановне, а тут ребенок спросит: кто, мол, отец-то мой? Грех, да и только! И старшенькая все висла на нем, на отце-то! Избалованная, везде с носом лезет!..
«Я со своим носом…»
Марина сразу устала сидеть, сделала ямку в подушке, легла, повозилась и притихла, свернувшись в комочек. Муфта с подарками лежала в изголовье, одеяло сбилось на одну сторону, пижама завернулась, и на открывшейся спине зябко, жалко встопорщились светлые щетинки… Зато голова была укрыта тепло, и девочка не слыхала, как дед Ковба промолвил укоризненно:
— Пустое, Клавдия Кузминична, зря ты так говоришь!
33
Даже теперь, когда разведка Долгой горы дала богатейшее золото, Андрей не мог забыть жестокой обиды, которую нанесла ему летом Анна, не мог спокойно вспоминать об этом, говоря про себя: «Неверие в твое дело вне дома унижает, а дома — уничтожает.
Я тоже удивился ее смелому проекту, пробовал образумить, однако ведь не препятствовал, не вмешивался так грубо, как она, и не высказывал таких оскорбительных сомнений».
И все-таки его что-то удерживало: то ли привязанность к дочери, то ли не совсем погасшее чувство к жене и жалость к ним обеим.
«Валентина права: нам ни к чему прятаться от людей. Надо идти в открытую, иначе с ума сойдешь, — думал он иногда, но, когда собирался выполнить свое намерение, все в нем холодело, и он отступал, вместо того чтобы сделать последний шаг. — Да как же это я!»
* * *
Странный шорох возле дома остановил Андрея. Но шуршала густо сплетенная завеса высохшей за лето фасоли, колеблемая порывом ветра. Свет из окна, падавший на веранду, желтил мертвые листья, и неровная, сквозная тень их трепетала на дорожке.
Андрей открыл дверь, взглянул мимоходом на вешалку: Анна еще не приходила. Он сбросил пальто и, не снимая кепи — привычка, созданная отчуждением к дому, — пошел прямо к себе.
В квартире было тихо, только Клавдия возилась на кухне: плескалась водой, что-то переставляла.
Проходя мимо спальни, Андрей в щель между косяком и портьерой увидел Маринку. Она в измятой фланелевой пижаме, босиком сидела на своей кровати и тихонько играла — такая забытая в большом доме.
«Как же это она… одна?» — Андрей хотел войти в комнату, но Марина взобралась вдруг на спинку кровати, с ловкостью мальчишки прыгнула и перекувыркнулась на постели. «Вот еще новости! — подумал встревоженный и восхищенный отец. — Так недолго и голову сломать!»
Но смелая шалость Маринки вызвала у него желание поиграть с нею, как в прежние дни. Он опустился на четвереньки, стал подкрадываться из-за двери к дочери…
В это время она снова прыгнула, перевернулась, вскочила на ноги и увидела… И Андрей увидел ее кругленькое, страшно побледневшее лицо, серые глаза, огромные, гневно-испуганные. Он поднялся, выпрямился, шагнул, и она повалилась ничком, молча закрывая руками голову.
— Маринка, это я, Маринка… — растерянно звал он, подбегая к кровати. — Это я, Мариночка. — Ему показалось, что у нее от испуга разорвалось сердце.
Она уже отвыкла от шуток. Она не узнала его, вползавшего в комнату на четвереньках, в кепи…
«Проклятая кепка!» Андрей сорвал ее и швырнул на пол. Руки его дрожали. Он потрогал Маринку, погладил ее плечики, и она забилась в беспомощном, не по-детски горестном плаче, припадая лицом к постели.
Андрей вытащил дочь из кроватки, сел с ней прямо на пол. С трудом оттаскивая от ее лица судорожно прижатые, мокрые от слез ладошки, он целовал ее, сам готовый разрыдаться.
— Ты разлюбила меня, Маринка! — сказал он с отчаянным укором.
Но она зарыдала после этого так, что ему снова стало страшно: она вся дрожала почти в истерическом припадке, маленькая, жестоко оскорбленная женщина.
— Ты сам… Ты сам разлюбил нас… с мамой! — крикнула она, задыхаясь от рыданий. — Ты уйдешь к Валентине Ивановне, а у нас родится, у нас родится еще одна девочка! Кого же она будет называть папой?
— Марина, — Андрей нечаянно сдавил ее. — Что ты говоришь, Марина? Откуда ты знаешь?
— Я знаю… Клавдия дедушке Ковбе… ябедничала. Я все слышала, — бросала Маринка сквозь слезы, только теперь по-настоящему пугаясь отца. — Пусти меня, мне больно! — вскричала она, оборвав плач и делая гневную попытку высвободиться. — Я сама буду играть с сестренкой! Я сама буду беречь ее! Но мне жалко, — слезы снова ручьями полились по щекам Маринки, — мне жалко, что у нее совсем не будет папы. Она ведь спросит…
Теперь девочка уже не вырывалась, а плакала, вся распустившись, потная от слабости и усталости. Андрей молча прижимал ее к себе, гладил ее босые ножки. Ему сразу стали понятны и обморок Анны в клубе, и многое, многое другое… Он совсем забыл о назначенном свидании с Валентиной, а когда вспомнил, то оно показалось ему немыслимым: разве мог он сейчас оставить дочь снова одну?
Птица вдруг ударилась о стекло. Потом другая.
— Кто это, папа?! — крикнула Маринка.
— Какая трусиха ты стала! — Глаза Андрея смотрели с напряженным, суровым вниманием. — Это птицы улетают на юг. Они летят сейчас днем и ночью. Их так много… Свет из окна ослепил их, и они налетели на стекла.
— Они разбились? — всхлипывая, осипшим голосом спросила Маринка.
— Не знаю.
— Иди посмотри.
Андрей послушно пошел и тотчас вернулся.
— Там никого нет, а высоко-высоко летят журавли.
Когда Маринка уснула, еще всхлипывая и вздыхая во сне, он отошел от ее кроватки и стал ходить по комнатам.
Он передумал все и, хорошо зная характер Анны, понял, что она умолчала о своей беременности из гордости: не хотела связывать, понуждать его, раз уже не было между ними любви и дружбы… Но разве она разлюбила его? Андрей бесконечно вспоминал ее слова, сказанные в клубе Ветлугину, все выражение ее лица при этом — выражение счастливой матери: «Для меня лучше то, что есть ребенок». Конечно, не об одной Маринке думала она тогда. Значит, она еще любит его, какая женщина может так гордо носить ребенка от нелюбимого, покинувшего ее человека?
«Она простит меня! — неожиданно радостно подумал Андрей. Должна простить. Я сделаю все, чтобы она забыла… чтобы она была счастлива».
До сих пор он жалел ее, а теперь преклонялся перед нею и вместе с тем ощущал острое сострадание.
Он ходил из угла в угол по своему кабинету, заглядывал к спавшей Маринке, выбегал на крыльцо, прислушиваясь к шагам прохожих, ждал Анну. Но она не приходила, и Андрей снова шагал по комнатам, курил, думал и, промучившись почти до утра, не дождался — уснул на диване усталый, но впервые почти успокоенный.
34
Когда он проснулся, то не нашел жены дома: работа в эти дни заменила ей все, и она отказывала себе в отдыхе. Мысль о том, что придется отложить разговор до вечера, испугала Андрея, и он сразу кинулся в контору. У Анны теснился народ. Поговорить было невозможно, но, сознавая это, Андрей, все-таки вошел к ней.
Накануне он почти уверил себя в том, что она не оттолкнет его. Однако уверенность покинула его, едва он переступил порог ее кабинета. Он боялся взглянуть на нее, но взглянул и поразился: кого же он жалел, кому сострадал! Перед ним сидела женщина с таким светлым и строгим лицом, с таким ярким блеском в глазах, что он растерялся. Движения ее были полны женственно-сдержанной простоты и в то же время энергией. Все, с кем она разговаривала, казалось, хорошели и молодели, как бы облученные этой ее душевной энергией. Минут пять Андрей наблюдал и вышел, как прибитый, прежде чем она успела обратиться к нему, с трудом соображая, куда ему идти и что делать. Жалеть Анну было уже невозможно, но и… радоваться тому, что она не нуждалась в его жалости, он не мог. Предоставленная ему нравственная свобода испугала и принизила его. Он посидел у себя в кабинете и снова вернулся к Анне. У нее были уже другие люди, но и на них она действовала так же неотразимо.
Старый брюзга — инженер с рудника — докладывает о бурении десятины. Анна внимательно глядит на него, делает быстрое движение рукой, повторяя цифру процента, она улыбается одобрительно, и старый инженер весь выпрямляется, расцветает. Они прощаются, словно два заговорщика, и Андрею завидно, что это не с ним так говорила она.
Молодой голенастый практикант из горного техникума подходит к ее столу. Анна посылает его на трудный участок и говорит:
— Работа там предстоит тяжелая, не осрамитесь.
В радостном смущении парень неловко отвечает:
— Как-нибудь, потихоньку…
Все смеются, улыбается и Анна, взгляд ее становится матерински мягким, лучистым, и опять Андрею завидно, что этот взгляд не для него.
— Нет, уж лучше не потихоньку, а так, как мы с вами уговорились, по-настоящему! — говорит она, превращая неловкость в шутку.
* * *
Он застал ее наконец одну поздно вечером. Анна сидела за столом, освещенным настольной лампой, торопливо записывала что-то в блокнот. За день энергия ее уже израсходовалась, но и усталая она была прекрасна.
— Сейчас, — кинула она Андрею.
Он взял стул, но не сел, а, опираясь на его спинку, пытливо всмотрелся в строгие черты Анны.
— Ну что скажешь, товарищ Подосенов?
Андрей молчал, прислушиваясь к тому, как тяжело дышала она, рассматривал пятнышки — примету будущего материнства, которые снова оттенили ее припухшие губы. Он увидел, как похудело ее лицо при цветущей полноте тела.
— Анна… Значит, это правда, Анна? — спросил он робко. — Почему ты мне не сказала о себе?
Ресницы женщины опустились. Конечно, он честный человек и сознание долга привело его теперь к ней. Но разве сна могла принять его, пришедшего только по велению отцовского долга? Жестокая борьба чувств прошла по ее лицу легкой судорогой, но она сделала над собой усилие и ничего не выдала взглядом Андрею: ни упрека, ни злобы не заметил он в ее глазах.
— Почему я не сказала? А что бы это могло изменить в наших отношениях? — так же тихо, но твердо спросила Анна. — Чтобы ты остался, а потом вечно сожалел о потерянной любви? Это была бы такая напрасная жертва!
Она метнулась от него, подобно магнитной стрелке при внезапном приближении железа, а подойти ближе, чтобы совсем притянуть ее к себе, у Андрея не хватило решимости: нестерпимый стыд овладел им.
— Как ты можешь так… так спокойно говорить об этом?
Анна закусила губу: слова его возмутили ее. Она вскинула голову, вызывающе, гордо улыбнулась ему в лицо.
— Видишь ли… Мне кажется, волнение может повредить нашему… моему будущему ребенку.
35
Стаи гусей и уток двинулись с севера: летели круглосуточно, оглашая зовущими криками небо над пустевшей тайгой, над черными горами и белесыми озерами. Выходя поздно вечером на крыльцо конторы или стоя на шахтовом копре, Анна по-особенному вслушивалась в шум птичьих перелетов. Сколько грустных дум улетело с этими птичьими стаями, а грусти не поубавилось, только мягче стала она.
— Летите, милые, до свиданья! — говорила Анна, поднимая лицо к ночному небу, затянутому осенним туманом.
Иногда свист крыльев раздавался совсем рядом, и тогда в молочной мути мелькали бесформенные тени, резал уши громкий, гортанный, скрипучий крик — неслись тяжелые гагары и нырки-поганки, тянули на привал, на ближний разлив воды.
— До весны! — говорила им вслед Анна. — До свиданья, милые поганки, вы улетаете парами и возвращаетесь вместе. Как трудно вам лететь с вашими короткими крыльями в плотных пуховых шубках! Может быть, эта трудность делает вас неразлучными…
* * *
Холодная мгла оседала на землю. Анна, зябко поеживаясь, шла рядом с Ветлугиным. Они возвращались с рудника, куда их вызывали посмотреть, как стронулся и начал спускаться вместе со всей отбитой породой метровый целик, оставленный для опыта в камере, отрабатываемой по проекту Анны. Ветлугин пришел немного позднее, и настроение его не улучшилось при виде стены-целика, оторванной от кровли нажимом опускающейся породы. Это каменная переборка в метр толщины выжималась из камеры беспощадно.
«Что-то похожее происходит и со мною, — подумал Ветлугин с горечью. — Как устоять против такой страшной силы?»
Анна ничего не сказала ему там, но, выйдя из рудника под туманное небо, звеневшее криками пролетающих птиц, спросила:
— Убедились?
— Спасибо, — ответил он, подавленный. — Мне остается одно: уйти со сцены, так же, как этот целик, совсем уйти.
— Вы с ума сошли! — с горячностью воскликнула Анна. — Что за малодушие? Разве так просто сдаются сильные, ценные люди?
— Я совсем не такой сильный, как это кажется. Да и самый сильный, если на него падает удар за ударом, сломится наконец. И не ценный я! Скажите, в чем моя сила, моя ценность? Помните, было совещание и вы в своем докладе говорили о творчестве… Я слушал и казнился, а потом, когда пришел домой, сказал себе: ты жалкий ремесленник, а не инженер. Что ты создал за свою жизнь? Работал? Работать просто у нас теперь не проблема — все работают. Жалкий ремесленник и неудачник в личной жизни… Поймите, мне нечем жить дальше!
— Я решительно не согласна с вашими выводами! — сказала Анна, встревоженная не словами, а тоном Ветлугина. — Разве весь рудник в целом не ваше детище? А шахты, а механизмы, с таким трудом добытые и завезенные? И вся эта жизнь, создаваемая на дикой земле! Напрасно вы прибедняетесь, хотя хорошие ремесленники тоже в цене! — пошутила она, улыбаясь.
— Нет, Анна Сергеевна, я потерпел полное поражение в жизни. Поймите, тут не просто упадничество.
— Выходит, я совсем не понимаю, что означает это слово! Вы просто-напросто устали и захандрили. Вы помните, когда началось «это»… У меня тоже все рушилось: семья, работа… И я никому не говорила до сих пор, но Андрей теперь знает, значит, и каждый может знать. Я беременна, Виктор Павлович. Мне и сейчас нелегко, а в тот момент, когда нанесли удар, у меня отнимались и руки и ноги. Временами я приходила в такое отчаяние, что могла бы лишить себя жизни. Но подумайте, как это было бы до дикости безобразно! Нет, вы лучше представьте, сколько нам еще нужно жить! — Анна подняла лицо к небу и прислушалась. — Опять нырки-поганки летят. Слышите крик особенный… Вы знаете, они, эти смешные и милые птицы, самые верные супруги. Я прошлый раз даже позавидовала им. А что хорошего в верности по бессмысленному инстинкту? И думается мне, что со всеми своими терзаниями я счастливейшее существо на земле.
— Успокоились?
— Нет, конечно, нет!
— Что же тогда вас радует?
— Богатство самой жизни.
36
Вернувшись домой, Ветлугин долго ходил по своим чистеньким комнатам, думая о словах Анны.
«Хороший ремесленник»! Это не мастер-новатор, что с задорной искоркой в смекалистых глазах мудрит у станка, создавая что-то для пользы и красоты человеческого общежития. Тот мастер сродни художнику и знает все муки и радости творчества. Нет такой отрасли труда, которая не выдвинула бы сейчас в общем подъеме новаторов, чьи имена гремят по стране. Все движется в промышленности, и второй год невиданные урожаи приносит земля от Черного моря до берегов Тихого океана.
А хороший ремесленник!? Это тот, про кого говорят «золотые руки»: на что ни посмотрит — все сделает. Не придумает сам пороху, но уж если выдаст что-нибудь, то без сучка без задоринки, играет, светится вещь, и всякий огладит ее, взяв в руки.
«А я?» — с пристрастием пытал себя Ветлугин.
Он представил себе подземные работы рудника, где был с Анной, драги и агрегаты электростанций, о которых она только что говорила, и флотационную фабрику, и даже древний мотор на подвесной дороге, который он с такой веселой яростью отремонтировал и пустил весной. Ладно шло дело и его рук!
«Теперь Долгую гору принимаем у разведчиков. — Ветлугин вспомнил двух иностранных инженеров, приезжавших на днях с работниками треста. — Как они смотрели! Ка-ак смотрели! — Ветлугин неожиданно улыбнулся. — Их хозяева за концессию здесь голову друг дружке оторвали бы!»
В спальне Ветлугина на полу широко распласталась бурая с белесыми подпалинами шкура медведя, — подарок Валентины. Шкуру эту, отлично выделанную, привез из тайги старатель, муж Марфы, у которой Валентина принимала ребенка. Ветлугин вспомнил обиду таежника, когда Валентина отказалась принять его дар, а потом с общего согласия шкуру передали ему, Ветлугину. В его большой квартире ей нашлось место.
Это была вещь, к которой прикасались руки Валентины. Как она гладила и теребила густой мех, весело вспоминая медведя, из-за которого слетела с лошади.
Ветлугин постелил на шкуру простыню, потом убрал ее, чтобы не мешала ощущать близость Валентины, и взял с кровати только плед да подушку. Но прежде чем устроиться на полу, принес охапку дров и затопил голландку: в комнатах было по-осеннему сыро.
Он долго лежал, закинув за голову руки, глядя на пламя, игравшее, точно маленький костер, в открытой печи, потом встал и, вынув из ящика письменного стола объемистый конверт, сунул его в огонь. Это было написанное им под настроение завещание обществу.
37
Недалеко от шахтового копра, на разъезженной тракторами-тягачами дороге, Анна встретила влюбленных: девушку-бадейщицу и молодого забойщика.
Придя задолго до начала смены, они мерили расстояние между навалом крепежного леса у копра и шахтовой конторкой. Он, знатный забойщик, шел, захватив в свою ладонь и утянув в карман куртки озябшую руку девушки. Потом он взял и вторую ее руку и так, точно танцевать собрался, медленно вышагивал по ухабам. Девушка шла с запрокинутым к нему лицом, он наклонялся к ней, и можно было только подивиться, как они не спотыкались, точно их поддерживал быстро густевший сумрак.
Они поцеловались на ходу, не замечая приближавшейся Анны, и она разминулась с ними, прямо посмотрев в их счастливые лица. Эта молодая радость напомнила женщине о ее собственном несчастье. Воспоминание о другой паре, может быть, так же бродившей в потемках, обожгло, как соль, брошенная на свежую рану.
Анна ускорила шаги, но прежде чем войти в длинный, утепленный к зиме сарай над промывальным прибором — кулибиной, оглянулась.
«Прекрасное чувство — влюбленность!» — И снова со всей силой поднялась в ней горечь обиды и утраты…
— Не надо! — вырвалось у нее, и возникший вдруг перед нею смотритель отступил в недоумении.
Она уже несколько минут стояла в тепляке над промывальным прибором шахты, в забывчивости уставясь на мутную воду, бурливо текущую по деревянным решеткам.
— Нет, надо, конечно! Можете приступать! — спохватываясь, сказала она смотрителю, вспомнив о назначенной съемке золота.
Кулибина… Ее ящичные желоба тянутся от шахтового копра отлогими ступенями на десятки метров. Здесь промываются пески с россыпным золотом. День и ночь заваливается на кулибину размельченная естественным разрушением порода, поднятая из забоев шахты, беспрерывно льются на нее потоки воды. Краснощекие девушки в ярких косынках стоят с гребками в руках по обеим сторонам промывальных колод, переворачивают и отбрасывают валуны, разбивают вязкие комья.
— Посмотрите-ка, Анна Сергеевна! — с улыбкой торжества заговорил смотритель и поднес на отяжеленной ладони гладко обтертый крупноноздрястый самородок. — Сейчас девчата нашей смены сняли с решетки вместе с валунами. Сразу заметили. Отмылся — вон какой чистый да желтый! Засветился, будто месяц ясный!
— Килограмма три будет? — Директор взяла самородок, взвесила на руке.
— Не меньше…
Тем временем прекратилась подача воды, работницы подняли со дна желобов решетки, ворсистые коврики, и начался сполоск. Бережно смывались с плотно сбитых досок на лотки черный тяжелый песок — спутник — железняковый шлих и золото, золото, золото…
Анна стояла у железного бака-зумпфа, где делалась доводка — шлих отмывался от металла. Рекордная съемка была сделана, что-то нужное доказывалось этим, а что именно — она забыла и смотрела, как иностранка на шаманский обряд, не понимая, зачем так суетились, шумели и радовались окружавшие ее люди.
«И мне бы вот так! — додумалась она наконец. — Отмыть бы, отделить все лишнее, зря отяжеляющее душу».
38
Раза два поднимала Валентина руку постучать в дверь, но отступала в нерешительности, тщетно пытаясь найти предлог для посещения. Вдруг Андрей не один? Что она скажет ему при других, что подумают, увидев ее у него в такое позднее время?
И все-таки она постучала (разве она не имела на это права?) и, не ожидая ответа (пусть там будет кто угодно), открыла дверь.
Андрей был один, сидел вполоборота к двери и писал. Перед ним лежало столько бумаг…
— А-а? — только и произнес он и улыбнулся невесело.
Валентина молча смотрела на него. Побеждая бунт оскорбленного самолюбия, с новой силой поднималось в ней чувство любви к нему, и лицо ее, пытливо обращенное к нему, просветлело. Идя сюда, она уверяла себя, что идет только для того, чтобы объясниться и гордо заявить Андрею: «Все между нами кончено!», но теперь это казалось ей невозможным.
Андрей отложил «вечное перо», смущаясь и жалея, протянул Саенко руку. Он всегда протягивал ей руку вверх ладонью — открыто.
Саенко сразу почувствовала принужденность в его обращении, но ей и самой было неловко: между ними — стол, заваленный бумагами, а за стеклами окон мерещились в темноте любопытные взгляды.
— Почему ты не пришел тогда? Я ждала до двенадцати часов ночи. Я так боялась одна в лесу, — заговорила Валентина быстро. — Ты бы мог позвонить уже столько раз, — закончила она, срываясь на шепот.
— Работаю. — Андрей неловко усмехнулся, понимая, что это не оправдание. — Столько работы, что голова кругом идет.
Не мог он рассказать Валентине о сцене с Маринкой, после которой не пришел на свиданье, о беременности жены, которую та скрыла от него самого, как не мог признаться и в том, что потухла в его душе живая радость чувства. Он был жалок в своем неумении хитрить, но эту растерянность Валентина поняла как унизительное, жестокое пренебрежение. Оно сразу убило в ней гордость и веру в себя. Она даже не смогла рассердиться.
— Работа, да, работа… — произнесла Саенко едва слышно, вытянула из сумочки тонкий платок, вытерла им увлажнившиеся глаза и молча вышла из кабинета.
Уборщица мыла в коридоре пол. За распахнутыми дверями канцелярий таращились пустые стулья. Пахло мокрым деревом и пылью. Веник из прутьев валялся под порогом; выходя, Валентина споткнулась о него. Дверь за нею стукнула глухо: точно оборвалось что-то.
На ступеньках крыльца Саенко неожиданно столкнулась с Анной. С минуту они смотрели друг на друга и разошлись молча.
Эта встреча встряхнула Валентину: мысли ее прояснились.
«Он, наверно, давно хотел развязаться со мной, — подумала она с острой жалостью к себе. — Ну, разве это любовь? Ну, где же тут любовь? — Саенко криво усмехнулась. — Может быть, завтра он опять удостоит меня своим посещением. Неужели я все прощу?»
Тихо шла она по темной улице. Спешить теперь было некуда, но когда она увидела окна своей комнаты, то заторопилась, взбежала по ступенькам, на ходу разыскивая в сумке ключ; только вошла, только прикрыла дверь, как бросилась на диван и разрыдалась так горестно и торопливо, точно боялась, что ей помешают выплакаться. Тайон подошел к ней, недоуменно ткнулся мордой в колено. Ему хотелось выйти, и он повизгивал, поглядывая то на хозяйку, то на дверь.
— Пошел от меня! — крикнула Валентина. — Тебе только бы бегать! Ты ничего не понимаешь, жирная, ленивая тварь!
Если бы к ней пришел Андрей, чтобы утешить ее, она так же оттолкнула бы его. Подумав о нем, Валентина заплакала еще пуще: несмотря на всю жестокость горя, она ждала и хотела прихода Андрея, и сознавать это теперь было особенно тяжело.
Наплакавшись вдоволь, женщина откинула с потного лба перепутанные пряди волос, выпустила собаку и в мрачной задумчивости начала ходить по комнате.
«Столько страданий было в моей жизни, а я до сих пор не поумнела! — корила она себя. — И он все знает о моей трудной жизни, сочувствовал, а сам добивает меня! Многие живут легко: сходятся, расходятся, и никаких терзаний! Почему же у меня все ложится на душу новым камнем? Счастлив тот, кто постоянен в любви, и как хотела бы я быть постоянной!»
39
«Что случилось с ним? — гадала Валентина, перебирая одно и то же на все лады. — Отчего он не придет и не скажет мне прямо?.. Боится, хитрит? Как это на него непохоже! А у меня от неопределенности такая лихорадка: не могу справиться с собой: и ненавижу, и оправдываю, и люблю!»
Она несколько раз звонила Андрею по телефону после своего последнего посещения. Один раз дозвонилась, но он до того сухо разговаривал, что она не выдержала и положила трубку: наверное, был не один. Она ждала звонка, нарочно задерживалась после работы в больнице, а он точно совсем забыл о ней.
Валентина сидела в светлой комнате, сметывала клинья парашюта, прижимая материю коленом к краю стола. Рядом на столе ловкие женские руки собирали цветок из лепестков коричневой бумаги.
«Роза, — рассеянно подумала Саенко. — Отчего же такая? Нет, не роза», — решила она через минуту, снова взглянув на работу соседки.
Ей показалось, что женщина просто забылась, прибавляя все новые и новые лепестки на проволочный стебелек, она уже хотела вмешаться, но вспомнила, что будет лес, медведь, зайцы и, значит, розы не понадобятся. Нужно вот это: еловые шишки, парашюты, пилотки и еще до режущей боли в груди нужно увидеть Андрея.
«Может быть, он заболел?» — думала Валентина и тонкими пальцами без наперстка, то и дело накалываясь, с ожесточением гоняла иглу сквозь яркую ткань.
Парашют голубого цвета с желтой каймой… Один большой и много мелких, разных цветов, которые спустятся все разом. Саенко пошарила под пестрыми лоскутьями, разыскивая ножницы…
Ох, если бы она могла среди веселого ералаша на столе найти маленькую записочку! Но некому ее подсунуть, а главное — некому написать: ведь если бы Андрей заболел, то в больнице было бы известно, значит, он просто избегает встречи. Вчера в его домашнем кабинете долго-долго горел свет, и Валентине хотелось позвонить ему, но она побоялась, что ответит Анна.
— Какие они счастливые! — произнес радостный голос по ту сторону стола, где женщины что-то клеили, звякая ножницами и шурша бумагой. — Вся страна сейчас знает и любит их!
Саенко тоже интересовалась судьбой якутских летчиц, которые доставили продукты и медикаменты группе моряков Северного пути, но, возвращаясь, сами потерпели аварию. Их вместе с самолетом отыскали в тайге охотники из племени юкагиров. Это было такое волнующее событие!
Валентина участвовала в подготовке большого детского утренника, где будет целое авиапредставление, она помогала готовить костюмы, но эта веселая суматоха, всегда увлекавшая ее раньше, шла сейчас сама собой, помимо ее сознания.
«Неужели все действительно кончено между нами?» — Саенко подавленно вздохнула и вдруг увидела Маринку, которая стояла у стола и с любопытством всматривалась в то, что мастерили женщины.
Положив свое шитье, Валентина ловко пробралась между стульями, заваленными накрахмаленной марлей, раскрашенными картонами, пестрыми детскими костюмами, цветной бумагой, и остановилась перед девочкой.
— Здравствуй! — сказала она, волнуясь, и обеими теплыми ладонями приподняла личико Маринки.
Снизу поглядели веселые, ясные глаза, но тотчас же лицо Марины густо покраснело, и она потупилась, перебирая свои маленькие пальцы.
— Здравствуй, — повторила Валентина и, наклонясь, нежно поцеловала ее. — Разве ты уже забыла меня? — спросила она тихонько, опускаясь на корточки и лаская ее взглядом. — Нет? Не забыла? Почему же ты дичишься меня? Ты пришла посмотреть, как мы работаем?
— Не-ет, — еле слышно протянула Маринка и еще пуще покраснела. — Я просто так.
Смущение ребенка передалось женщине, она почувствовала себя неловко, нехорошо.
Новые, из светлых дранок, корзины стояли тесно одна к другой на шкафах вдоль стены. В корзинах свежее печенье для утренника. На сдвинутых табуретках, на чьих-то подушках, покрытых чистыми полотенцами, лежали горячие, зарумяненные, пышные бисквиты, и толстая красивая повариха детского сада хлопотала над ними, отставляя белые с ямочками локти. И вдруг эти круглые бисквиты начали дрожать и двоиться в глазах у Валентины, и все задрожало, поплыло: полотенца, голые локти поварихи, светлые дранки корзин… Женщина еще раз взглянула на опущенную головку Маринки и отошла, с трудом переводя дыхание.
«Это Анна настроила ее против меня! И он… Неужели ему хотелось только встряхнуться со мною? Не слишком ли дорого приходится платить за такую прихоть? — Валентина взяла свою работу и так близко поднесла ее к лицу, точно хотела закрыться ею. — Он пожалеет об этом», — сказала она себе, машинальным движением разыскивая и вынимая иголку.
40
Сразу после утренника в детском саду Валентина встретилась с Ветлугиным возле конторы. В последнее время они даже не здоровались, но он явился к ней по первому зову. Она не думала о том, что опять обнадеживала его своей радостно сияющей улыбкой, ей нужно было только, чтобы все видели, как ей весело с ним, нужно было, чтобы об этом узнал Андрей. Анна, наверно, передаст ему… Пусть и ему станет больно.
— Куда мы пойдем? — спросил Ветлугин, боясь верить ее оживленному взгляду.
— Куда хотите, только не домой. Пойдемте к реке, в лес, на гору. Мне хочется побродить. Смотрите, какой день: совсем как парашют, который мы сегодня спустили: голубой-голубой, а эти горы — желтая кайма… Правда, сейчас теплее, чем утром? Утром я проспала немножко, в сад бежала бегом, и мне не было жарко…
Валентина расстегнула пуговицы осеннего пальто и ласково заглянула снизу в лицо Ветлугина. Он ответил ей очень серьезным взглядом. На мгновенье она смутилась, но тут же на лице ее появилась заносчиво-пренебрежительная гримаска. Ему все равно не будет больнее, чем сделали ей. Пусть ее слезы отольются хотя бы на нем. Мужчины боятся попадать в смешное положение, но сами никогда не избегают случая поставить женщину в трагическое.
«Подумаешь, какие щекотливые создания! Чуть что, и они начинают бесноваться и корчиться от каждого слова. Им можно ревновать, нам — нельзя! Нам и любить воспрещается. Ненавижу!» — судорожно вздохнула Саенко, а глаза ее и улыбка заблестели еще ярче.
Так Валентина и Ветлугин прошли по прииску, миновали сумрачные вышки — копры шахт — и пошли прямо по траве, высушенной утренними заморозками. Теперь, когда их никто не мог видеть, лицо ветреницы тоже стало серьезным. Она совсем перестала смотреть на своего спутника. С ним просто удобно было идти, опираясь на его сильную руку, глядя на носки своих закрытых туфель, приминавших сухо шелестевшую траву. Идти и думать о личном, совсем от него утаенном.
— Я давно хотел передать вам, — неожиданно сказал Ветлугин, краснея и смущаясь, как девочка. — Это… ваша косынка.
— Моя косынка? — переспросила Валентина, удивленно. — Ах, да, я потеряла ее, когда мы ездили на Звездный. — Она схватила косынку и, рассматривая ее, сказала: — Сколько же времени она пролежала там, в лесу?.. — Глаза Валентины затуманились: до чего же хорошо было тогда!
Она опустила голову и долго шла молча.
— Как странно, как страшно все меняется! — сказала она вслух, сама того не замечая.
41
— Посмотрите, Валентина Ивановна! — неожиданно перебил ее мысли Ветлугин.
Валентина огляделась, но ничего не увидела. Они стояли на берегу речонки, блестевшей внизу, в глубоко пробитом ею каменном ложе. По берегу, как и везде, покачивалась высохшая трава, рыжел мох и краснели прутья кустарника. Валентина села, спустила ноги с обрыва, посмотрела на омут, зазывно темневший под крутой излучиной берега, потрогала косынку в кармане. Где она потеряла ее: на дороге или там, где они с Андреем пили воду? Неважно. Главное — в самой возможности этой поездки, в счастливой жизнерадостности, которая переполняла тогда ее.
— Вы знаете, — тихо заговорила Валентина, — однажды я видела в таком вот омуте большую рыбу. Было странно, когда она проплывала внизу, — вода казалась прозрачной и легкой. Дайте мне что-нибудь, я брошу туда.
— У меня нет ничего. — Ветлугин ощупал карманы и невесело пошутил: — Я мог бы спрыгнуть сам, чтобы доставить вам развлечение.
— Нет, не надо. — Валентина ничуть не сомневалась в серьезности его слов: он на самом деле мог спрыгнуть! — И отодвинулась от края. — Что вы мне показывали?
Ветлугин протянул руку над береговой поляной.
— Да в чем дело? — переспросила она с недоумением.
— Посмотрите, что делается с травой.
Валентина совсем отвернулась от реки, напряженно-внимательным взглядом окинула берег. Легкий ветер колебал перед ней целый лес сухих травяных кустов, блекло-желтых, серебристых, коричнево-бурых. Солнце холодно, ярко освещало их до самых корней. Женщина смотрела, не понимая, уже раздосадованная, пока новая красота не открылась ее рассеянному сознанию: сухие травы покачивали головками, венчиками, прозрачными зонтиками, метелками, колосьями, и каждый венчик, каждая метелка поднимали над землей полные пригоршни созревших семян. Мудрой и прекрасной казалась каждая травинка, щедро рассевавшая их на ветру. Вся поляна, осыпанная с краю серой крупой отцветшего курослепа, справляла праздник осеннего плодородия. С легкой улыбкой на полуоткрытых губах Саенко взглянула на Ветлугина.
«Я поняла, — сказала ему ее улыбка. — Но, — продолжали чуть сдвинутые брови, — меня это совсем не трогает».
— Пожалуйста… — Валентина встала, отряхнулась, — поднимемся на гору.
И она первая, сначала тихо, потом все быстрее пошла через колеблемые в осеннем цветении травы, через молодой лиственничный лес, пустой и светлый на желтой от осыпавшейся хвои земле.
— Вы испортите туфли! — крикнул Ветлугин, догоняя ее у каменной россыпи.
— Подумаешь, важность какая!
— Хотите: я на руках унесу вас наверх?
— Вы всюду готовы жертвовать собой, — насмешливо упрекнула Валентина.
— Думаете, трудно?
— Конечно, трудно. А главное — совсем не нужно. Вот если я упаду и сломаю ногу, тогда я сама попрошусь к вам на ручки.
Они поднимались по каменистому склону, поросшему редкими кустами кедрового стланца. Справа открывалась перед ними долина прииска, слева, из-за волнистого косогора, росли навстречу вершины других неведомых хребтов.
— Выше! Еще выше! — звала Валентина, задыхаясь от быстрого подъема.
Неожиданно за горой с левой стороны раздалось два выстрела, и несколько диких коз выскочило из-за каменного развала. Серо-желтые, белесоватые, как осенние травы, они замерли на миг, обратив к людям узкие на высоких шеях мордочки… Блестели пугливо их черные яркие глаза, вздрагивали большие уши. Прыжок… полет… Тонкие ноги, как стальные пружины, еле коснулись земли — и снова прыжок. Только замигали сзади белые пуховки.
— Бежим! Посмотрим! — крикнула Валентина и ринулась туда, где прогремели выстрелы.
Ветлугин бежал чуть в стороне, боясь налететь на нее.
В зарослях багульника, в узкой, еще зеленой лощине, стоял Андрей. В нескольких шагах от него билась подстреленная коза. Она вся дрожала еще, порывалась встать, выгибала шею, взрывала землю тонкими, точеными ножками. Кровь хлестала из ее раны, пятнала густую светлую шерсть, дымилась на примятой траве.
Немного не добежав, Валентина споткнулась и остановилась, подхваченная Ветлугиным. Андрей обернулся, взглянул на них. Суровое лицо его еще более посуровело. Он молча кивнул им, осторожно шагнул и наступил сапогом на запрокинутую шею козы. Тихий, почти человеческий стон замер в холодном воздухе, напоенном терпким запахом осени.
Валентина подошла к умирающему животному. Взгляд его широко открытых глаз поразил ее осмысленным страданием.
— Как вам не стыдно?! — Валентина с гневом, даже с отвращением посмотрела на Андрея. — Как вам не жаль!
— Не подходите близко, — нахмурясь, сказал Андрей. — Она еще может ударить и сломать вам ноги. Я выслеживал их с самого рассвета, — добавил он, обращаясь к Ветлугину.
— И вам не жаль? — повторил тот слова Валентины, страдая от жалости к ней самой.
— Жаль, жаль! — угрюмо буркнул Андрей. — Если бы была «жаль», тогда и охоты бы не было!..
— Пойдемте, я не хочу смотреть на это! — крикнула Валентина Ветлугину, истолковывая по-своему ответ Андрея, резко отвернулась и, не оглядываясь, пошла прочь.
42
Треугольник света мотался над застывшей грязью улицы, падая из-под невидимого в мелкой пороше абажура.
«Какая тоска! — подумала Валентина. — Не хватает только собачьего воя!»
На углу переулка она столкнулась с Клавдией, хотела было пройти мимо, но хитрая старуха сама остановила ее.
— Вы совсем нас забыли, — ехидно запела она, пытливо вглядываясь в лицо врача своими глазками проныры. — Что-то и не бываете и не заходите…
— Некогда. Работаю, — машинально ответила Валентина, и все в ней дрогнуло больно и горячо. «Работа! Работа!» Ведь это Андрей сказал ей такие слова и так же, наверное, солгал.
— А у нас все по-старому… — продолжала наговаривать Клавдия с невинным видом. — Только Анна Сергеевна полнеть начали… Как же, поди-ка, уж на четвертом месяце! Прибавится семейство. — Старая дева выжидательно помолчала и сразу отметила, довольная, что Саенко стояла «камушком». — Андрею-то Никитичу сына бы надо. Уж так любит он с детишками возиться, так-то любит. Вы уж к нам заходите, у нас вам всегда рады, — зачастила, запуская шпильки, Клавдия, видя, что Валентина собирается идти дальше.
* * *
Листья на деревьях в парке, не успевшие облететь, стеклянно звенели: они покрылись льдом, и все было покрыто льдом, и грузно провисли между столбами оттянутые необычайной тяжестью, обледеневшие провода, мутно отсвечивавшие от уличных фонарей. Какие-то мерзлые кисточки задевали по лицу и плечам Валентины. Косо летевшая изморозь хлестала ей в глаза. Саенко бесцельно брела по заколдованной ледяной роще, и ей казалось, что тускло-белые, как скелеты, скрипевшие сучьями деревья приплясывали от холода. Садовые скамейки тоже обледенели.
«Работа! Работа! — Валентина ударила кулаком по скамейке. — Разве он не мог сказать мне, что он просто пожалел беременную жену? Почему он не жалел ее раньше?»
Она медленно вышла из парка, тяжело ступая по хрустевшей дорожке, и опять пошла бродить по улицам, подталкиваемая пронизывающим ветром.
Окна, мутные во мгле непогоды, обрисовывали контуры домов, заполненных теплом и светом. Над домами текла растворенная во тьме бескрайняя громада холодного воздуха. Если бы сжатое тепло со взрывчатой силой раздвинуло стены, если бы свет, лишенный стремительности, тоже вырвался, тогда они сразу взлетели бы и смешались с тем, что кружилось и неслось над землей в могучем, стихийном движении. Так Валентина представляла свою жизнь… Жизнь, как свет, рвалась улететь, но, сгорая, она разрушала свою хрупкую оболочку, и во сто крат скорее разрушала она ее в таком вот напряженном до предела горении.
Валентина потеряла перчатки, одежда ее вся поседела от мокрого снега. Спрятав руки в карманы, непривычно сутулясь, она тихо шла домой… И вдруг встретила Ветлугина.
Он был в кожаном пальто. Пальто блестело и скрипело на нем, — оно и не могло быть иным в такую ледяную ночь.
— Вы… Вы ко мне заходили?
— Нет, я не заходил. Я люблю даже просто проходить мимо вашего дома. Пройти близко-близко, может быть, по вашим недавним следам…
— Идемте ко мне… Я боюсь сейчас быть одна.
— Что с вами? — обеспокоился Ветлугин, вглядываясь в ее лицо.
— Ничего. Все работа, работа… Голова кругом идет… — Взбегая по ступенькам, Валентина добавила: — Вся жизнь кругом идет…
— Мы будем пить чай… с коньяком! — заявила она, входя в комнату. — Меня знобило вчера, и я купила бутылку коньяку. Нет, мы выпьем его с лимоном. У меня есть лимоны. Да, я забыла, что это вы принесли их мне! Вы знаете, где печенье, конфеты? Поставьте стол к дивану. Чайник сейчас… — Валентина говорила негромко, быстро, весело, пока Ветлугин снимал с нее пальто. Лицо ее лихорадочно горело.
— Вам лучше бы в постель, а я разожгу примус и напою вас чаем.
— Нет, нет! Я здорова, — сказала Валентина, прикалывая гребенкой намокшую прядь волос. — Я совсем здорова.
В черной юбке и светлой блузке, с озябшими, красными руками, она походила на девушку.
Разжигая примус на кухне, обожгла пальцы и долго дула на них, глядя на рыжий венчик огня, дрожавший над горелкой. Вспомнился костер, разведенный Анной на острове, их разговоры там, Пан-Ковба, золотой ободок, блестевший из-под темного круга новорожденной луны. Как давно это было! Как чисто и радостно все это было!
43
От коньяка перехватило дыхание. Валентина взяла ломтик лимона, посыпанный сахаром. Ей сразу стало тепло.
— Я хочу напиться сегодня, — с мрачной веселостью заявила она.
— Не надо. У вас будет болеть голова, а завтра рабочий день.
— Работа? Ой, как у меня кольнуло в сердце! Нет, ничего, это нервное. Давайте выпьем, и, пожалуйста, бросьте свои мамины охи. Мне от них скучно делается, честное слово! «Будет болеть голова»! Ну, что за пустяки, когда душа расстается с телом!
Она выпила одну за другой две рюмки и, блестя глазами, посмотрела в лицо Ветлугина. Он был очень бледен.
— Вы мой друг. Вы не станете думать обо мне дурно. Но у меня такое настроение… Такое настроение! — Валентина сжала руки, хрустнув пальцами, и, не находя слов, повторила: — Такое настроение сегодня… И я, право, не пьянею. Нисколько! Это же чудесный коньяк!.. Смотрите, он светится, как золото!
От широкой спины голландки тянуло теплом, и хорошо, что рядом сидел надежный друг. Может быть, именно в нем счастье? Может быть, ему, сильному и покорному, надо было сказать сердечное слово. Она устала от своего одиночества, но зачем-то доверилась другому, который так жестоко поступил с нею!
Недавно он протянул ей руку, как всегда, вверх ладонью…
Однако он сделал это не сразу, и какое странное выражение было на его лице! Так глядят на нищего, не имея за душой ничего, что бы подать ему… Ну да! Что он мог дать, если все свое богатство отдал Анне?
Валентина потянулась за бутылкой, но вдруг увидела Тайона, который подобрался к кастрюльке с молоком, стоявшей под окном на полу, столкнул крышку и лакал лениво, громко.
— Ты с ума сошел! — вскричала Саенко. — Вот еще новости! — Она оттащила собаку в сторону, ударила ее подвернувшейся под руку мягкой туфлей. Тайон заворчал. — Ах ты, негодяй! Еще и злится!
Валентина ударила его сильнее; тогда он, извиняясь, лег, подполз к ее ногам и замер, заискивающе помахивая хвостом. Она посмотрела на его виноватую морду, и туфля выпала из ее рук.
Ветлугин улыбался, глядя на забавную сцену, а Валентина стояла, вся красная, кусая губы: точно такое виноватое выражение было прошлый раз у Андрея! «Как собака!.. Как побитая собака!» Гневные слезы выступили на ее глазах.
Значит, не было у него никакой любви! Как он сказал в лесу: «Если бы было „жаль“, то и охоты бы не было». Значит, ему не жаль меня… одна охота!
Женщина резко встряхнула головой и засмеялась, но так, что, не видя ее лица, можно было подумать о подавленном рыдании, и снова вернулась к столу.
Она подняла свою рюмку, вгляделась в нее на свету.
— Давайте выпьем за нашу встречу, — сказала она. Скорбь смягчила ее звонкий голос, и он зазвучал подкупающе сердечно: — Вы слышите, как гудит за окном пурга? А когда мы встретились, стояла весна… Какая солнечная была нынче весна! Мы сидели в столовой у окна… Я спросила вас: «Кто вы?» И вы ответили: «Человек». — Валентина положила руку на плечо Ветлугина. — Слышите, как воет на чердаке ветер? Он шумит на крыше, будто хочет своротить ее с дома!.. Тогда все разлетится… и свет и тепло… В такую страшную ночь немыслимо быть одинокой!
* * *
Валентина проснулась от испуга: кто-то держал ее за руку. Да что же это? Она лежала раздетая, закрытая простыней и одеялом… и не одна… Повернула голову, готовая вскрикнуть от испуга, и не вскрикнула: возле ее узкой кровати, склонясь к ней на подушку, прикорнул Виктор Ветлугин.
Серый рассвет вползал в комнату, но в полутьме Валентина сразу заметила, какое счастливое лицо у спавшего Ветлугина.
От ее резкого движения он открыл глаза и остановил на ней взгляд.
— Жизнь моя! — прошептал он тихо. — Радость моя!
Он был счастлив… Он был счастлив!!!
Валентина спрятала лицо в ладонях.
— Боже мой, что я наделала!
Отчаяние, прозвеневшее в ее голосе, хлестнуло Ветлугина. На сердце у него захолонуло. Желая что-то сказать, успокоить ее, он придвинулся, но она обеими руками оттолкнула его.
— Я вас ненавижу! Как смели вы… воспользоваться моей… слабостью!
Она не смотрела на Ветлугина и не видела, как он побелел, как затряслись и растянулись у него губы, уродуя лицо гримасой нестерпимой боли, только почувствовала вдруг содрогание его большого тела, забившегося у кровати в припадке тяжелого мужского плача.
— Я вас не тронул… Я не мог вас тронуть такую… больную!.. — почти выкрикивал он сквозь глухие рыдания. — Если бы это случилось, я сам возненавидел бы себя на всю жизнь!..
44
Какая пурга крутилась над землей, развевая седыми космами! Крыши враз побелели, когда опала бешено хлеставшая поземка. Стало тихо и холодно.
Да, тихо стало. А снег все падает — сплошная завеса из движущихся в воздухе пушистых хлопьев.
Рыжая собачонка, похожая на лису, дрожала на ступеньке крыльца. Валентина открыла дверь и позвала ее. У собачонки улыбчивый взгляд подхалима, но она молча проскальзывает мимо женщины в теплоту дома и садится у кучи сырых дров. В коридоре топится печь. Собачонка греется и дрожит. Она могла бы кое-что рассказать Валентине о грусти Андрея, но она только улыбается и встряхивает свою шубку, пахнущую мокрой псиной.
Валентина входит в комнату и думает:
«Все хотят любви, а она как призрак, вечно зовущий. Проходишь, словно в тумане, и остается лишь чувство щемящей тоски. Было что-то прекрасное — и рассеялось».
Она сняла пальто, вспомнив собачонку, отряхнула его под порогом и, укутавшись шалью, принялась ходить из угла в угол. Ей нездоровилось; должно быть, простудилась, когда ночью бродила по прииску. Она подошла к окну, приложилась лбом к холодному стеклу, ее знобило, но голова горела.
«Вот бы когда умереть! — подумала она, и впервые ей не стало жалко себя при этой мысли. — Ну, что я такое? Жила с одним, потом с другим — и не как-нибудь, а в семью влезла… Теперь вот еще Ветлугин! Ох, что он подумал обо мне, когда я оставила его у себя?.. Нет, он все понял. Он единственный, кто любит и уважает меня…»
Валентина отошла от окна, потирая ладонью нахолодавший лоб. Вид у нее был глубоко сосредоточенный.
«До чего жалко мне его теперь!.. Он, наверное, гордился собой, а я его точно по лицу ударила! Ушел, и ни одного упрека. А плечи у него все еще вздрагивали. Он плакал. Как страшно он заплакал тогда. И Анну мне только сейчас стало жаль. Что она пережила по моей милости?! Как она сказала: „Я и не думала, что замужем так хорошо“. У нее настоящая любовь была, а я, вместо того чтобы порадоваться ее счастью, позавидовала ей…»
«Вон ветер опять поднялся — все закружилось. И снег совсем черный летит, или у меня в глазах темно… Каждый скажет теперь обо мне: дрянь такая! А разве я дрянь? — Саенко с трудом прошла по комнате — будто груз пудовый тащился за ее ногами, и прилегла на диване. — Я чувствовала себя сильной и гордой, пока оберегала себя. После своей неудачной семейной жизни решила, что если мне понравится кто-нибудь еще, то я сбегу от него на край света… Вот и сбежала! Но нельзя же всю жизнь — до самой старости, до смерти — прожить в одиночестве! Как я была слепа!.. Почему я обижала Ветлугина? Почему оттолкнула его любовь? Оттолкнула возможность ничем не омраченного счастья!»
Валентина закрыла глаза и долго лежала не шевелясь в каком-то оцепенении.
«Ко ведь еще не все потеряно. Никто не избегает меня, не презирает, а товарищи по работе и жалеют. Даже наш милый брюзга Климентий Яковлевич сунул мне пакет яблок сегодня и прорычал, что надо лучше питаться, а то я уже не похожа ни на врача, ни на женщину, а черт знает на что! Да, он так и сказал: „Похожа черт знает на что“. — Валентина опять притихла, и глаза ее сделались огромными. — Может быть, он ухаживает за мной теперь, как за распутной… Сегодня яблоки… Завтра отрез на юбку! Но она представила его миловидную жену и троих детишек, и ей стало стыдно до боли. — Вот его бы еще оскорбить!.. Он, наверное, затопал бы ногами, закричал, во всяком случае, не заплакал бы… Что же не идет Ветлугин? Какими словами попросить теперь у него прощения?»
К ночи Валентина совсем разболелась и начала метаться то в жару, то в забытьи. И вдруг ей показалось, что около нее в темноте стоит Андрей. Она замерла: страх нового унижения охватил ее.
— Уходите, — тихо сказала она. — Теперь все кончено.
И столько печальной решимости было в ее голосе, что тот молча отвернулся и, сгорбясь, пошел к выходу. Он отворил дверь, свет из коридора упал на его плечо, и Валентина узнала кожаное пальто Ветлугина.
— Виктор! — крикнула она, поднимаясь.
Он остановился, включил свет и подошел к ней, похожей на тоненькое деревцо, дрожавшее под осенним ветром. Шаль, протянувшаяся за нею по полу, походила на ее тень.
— Какими словами просить мне у вас… — заговорила она, поднимая к нему восковое лицо с пятнами горячечного румянца.
— Вы совсем больны! — Ветлугин со страхом вгляделся в ее черты, искаженные страданием. — Пожалуйста, не надо никаких слов!
45
Почти двое суток бушевала метель, будто зима утвердилась по-настоящему. Андрей хорошо запомнил эту метель. В те дни он поверил, что зима уже пришла, как поверил тому, что его полноценная жизнь навсегда надорвана.
В тот метельный вечер, когда Валентина узнала о беременности Анны, Андрей решил окончательно переговорить с ней. Он всегда был очень прям, даже резок в отношениях с людьми и сразу предпочитал идти навстречу неизвестности. Как же мог он в течение стольких дней малодушно избегать объяснения с женщиной, с которой не на счастье связал свою судьбу? Что его удерживало? Анна отказалась от, него. Он был волен располагать собой, а медлил, и, уже решив наконец, что с Валентиной будет несчастен, но еще не выяснив толком почему, прятался от нее, подавленный стыдом и раскаянием.
Теперь, когда Анна отошла от него, Андрей все чаще думал о прошлом: оно было прекрасно. А с чем бы он пришел к Валентине?..
«Вот когда настоящий-то разброд! — мучительно думал он, прислушиваясь к разбойному свисту ветра, кидавшего в стекла пригоршни мерзлого снега. — Надо пойти к Валентине и все рассказать, что я мучаюсь, что детей не смогу забыть, и ничего, кроме терзаний, не внесу в ее жизнь. А то она ждет и думает разное, а тут еще ветер, как с цепи сорвался! Пусть она осудит… Да нет, она не осудит меня за увлечение, оно было серьезно — я сам все поставил на карту. А малодушие мое — обида страшная».
Андрей торопливо оделся и, впервые не таясь, поспешил на квартиру Валентины. Ему казалось, что таиться теперь было не для чего: он шел не к любовнице, а к обиженному им человеку. Но дверь ее комнаты была закрыта. Он вышел в мутную метельную мглу и направился к больнице.
— Давно бы так надо — в открытую, — строго сказала ему дерзкая на язык сиделка Максимовна. — К той или к другой, чем обеих-то мучить.
— Я не с тем пришел.
— А не с тем, так и говорить не о чем, и искать ее, зря тревожить не побегу, — сердито сказала она и, удаляясь, проворчала: — Ох, уж эти мужики! И везде-то наша сестра за них страдает!
* * *
Андрей замедлял шаги, проходя мимо освещенных окон, смотрел, нет ли где Валентины? Может быть, в тот момент, когда она, изнемогая от горя, стояла у обледеневшей скамьи, он прошел улицей мимо тополей парка, второй раз заглянул в ее дом, потрогал дверь, постучал и почти выбежал с тяжелым чувством невольного убийцы.
Ветер точно потешался над ним: толкал его то в спину, то в грудь, рвал с него одежду, с шипеньем расползался перед ним сизой поземкой. Но вдруг в стороне распахнулась дверь, золотой сноп света рассыпался по черно-белой улице, и мужской голос, молодой, звучный, радостный, сказал громко:
— Ну и погодка! Разгулялась — красота!
Девичий смех послышался, и двое юных, может быть, те, которые недавно растревожили Анну, пробежали мимо Андрея.
Вернувшись домой, он, как был, в мокром пальто, лег у себя на диване, зарылся лицом в подушки.
Ночью Анна проснулась от странной тревоги. Она села на постели. Ветер шумел за стеной. Она напрягла слух и услышала подавленно-глухие рыдания в соседней комнате. Рука ее судорожно захватила и сжала оборку ночной рубашки. Жалость матери к несчастному сыну пробудилась в ней. Встать! Подойти! Сказать ласковое слово! Но она сидела, не шевелясь: гнев оскорбленной женщины был сильнее жалости.
46
Через несколько дней снег растаял, и снова наступило настоящее лето. Удивляя всех старожилов, оно стояло еще не одну неделю, такое жаркое, что шоссе поседело от пыли, а по обочинам его и по взгорью из-под бурой травяной ветоши проглянула зелень. И, точно устав от этой безвременной жары, торопливо стали осыпаться последние листья с ив и тополей.
— Эксцентрическая погода! — сказала Клавдия, греясь под солнышком на завалине дома; она была в темном шерстяном платье и черном шарфике. — Климат здесь совсем ненормальный.
Несмотря на это решительное утверждение, лицо старой девы выражало явное удовольствие. Она была чем-то очень довольна и в то же время обеспокоена. Время обеда давно прошло, а она все не двигалась с места и только изредка вытягивала узкую на длинной шее головку и присматривалась, прислушивалась.
Она слышала, как Андрей входил в столовую, как выходил обратно, шумно двинув стулом.
«Ничего, подождешь! А распорядиться сам не посмеешь», — подумала она, притаиваясь, но тут же оживленно вскочила, увидев идущую к дому Анну.
Очень редко теперь Анна и Андрей садились за стол вместе, а Клавдии сегодня это было просто необходимо. Подавая второе, волнуясь до хрипоты в голосе, она сообщила:
— Виктор Павлович и Валентина Ивановна сегодня с законным браком! Сама видела, своими глазами, как они ходили в поселковый Совет.
Подосенов опустил вилку, закашлялся. Анна покраснела, но оба не произнесли ни слова и не посмотрели друг на друга.
«Так она решила вытравить из сердца Андрея, — думала Анна о Валентине, возвращаясь на работу. — Да, нашла себе другого и всю любовь растоптала. Неужели это легче сделать, чем перестрадать одной?»
* * *
В первую минуту Андрей ощутил от слов Клавдии почти физическую боль и в то же время… невольное облегчение. Потом все слилось в чувство грусти. Оскорбленная им Валентина сделала новый шаг в жизни, совсем отделивший ее от Андрея; она точно спряталась за широкой спиной Ветлугина. Думая о ней, Андрей сразу представлял выпуклые карие глаза главного инженера, его мощные плечи, руки его, которыми он обнимал ее.
Встретясь с ним, Андрей не смог набраться решимости, чтобы поздравить его, а сразу холодно заговорил о деле, Ветлугин, наоборот, был добр, уступчив, а когда кто-то, может быть по примеру Клавдии, громко спросил его о здоровье жены, он юношески покраснел от удовольствия.
Он был счастлив.
«Ну и пусть живут, радуются. Хорошо, что они счастливы. Он красивый, здоровый!.. — Чувство неприязни к молодожену шевельнулось в душе Андрея, и он нахмурился от досады на себя. — Определенно красивый, — отметил он, исподлобья посматривая на Виктора, — такие нравятся женщинам… Но разве это любовь была у нее, если она так скоро ушла к другому? Если назло мне, то это все равно никуда не годится».
47
Андрей стряхнул снег с рукавицы, натянул поводья. Перед ним лежала болотистая марь, запушенная молодым снегом. Под белыми кочками еще чернела сморщенная тонким ледком вода. Было тепло, и снег валил такими клочьями, что за его живой завесой едва виднелись черный лесок по ту сторону болота и приземистые горы за ним. В этих горах ожидал Андрея Чулков: нужно было осмотреть участки для новой разведки. Они закончили свою работу на Звездном, и теперь там хозяйничали Ветлугин и Анна.
Геолог вспомнил приезд Чулкова с образцами найденной руды, красавицу канаву на Долгой горе и то гордое и радостное оживление, которое было у разведчиков в первые дни открытия. Теперь все понемногу улеглось. Андрей чувствовал себя уверенно, но радости уже не испытывал.
«Отгрохают они там заводище!» — подумал он о Ветлугине и Анне и осмотрелся по сторонам.
Он проезжал здесь два раза прошлым летом, но снег, щедро лепивший свои хлопья на что ни попало, совершенно изменил вид окрестности. Подосенов хорошо помнил только то, что ехать надо прямо на черневший впереди островок, а там начиналась возвышенность, тоже болотистая, но поросшая редким лесом.
— Тропа где-то здесь, — пробормотал Андрей и тронул с места Хунхуза.
Следы конских ног, налитые черной грязью, остались ненадолго на опушке, где торчали хилые березки, облепленные мягкими комьями снега. Анна сама предложила мужу взять для этой дальней поездки ее лошадь вместо его захромавшего Коршуна.
Андрей-то не совсем доверял чутью горячего Хунхуза, хотя и отдавал должное его смелости.
Торопливо выдирая ноги из чавкающей грязи, талой под снегом, Хунхуз уверенно пробирался по болоту, раздирал широкой грудью спутанные кусты, шагая по крупному могильнику. Но он упрямо направлялся на пропотевшее от подземных ключей озерко, где ржавая вода окрасила желтизной падающий в нее снег, и нервы Андрея не выдержали… Он совсем не помнил, чтобы на пути стояла такая широкая мочажина, — правда, они были раскиданы по всей равнине, но меньше, незаметней. Конечно, левее, там, где кочки торчали чаще, должна пролегать тропа, по которой он ездил летом.
Пустив в дело плеть, Андрей с трудом заставил толстокожего Хунхуза свернуть с облюбованного им направления.
Хунхуз, неохотно подчинившись, пошел так же смело, но острые уши его, поставленные торчком над стриженой гривкой, стали прядать настороженнее, и в оскаленной, с трепещущими ноздрями морде появилось волчье выражение. Широко расставляя ноги, он переступал по кочкам, которые оседали под двойной тяжестью лошади и человека и, сбросив пухлые шапки снега, снова выпрямлялись, косматые от жесткой рыжей осоки.
Подосенов проехал еще и оглянулся: дальний лес теперь едва виднелся в снегопаде, но черная полоса, обозначавшая путь лошади, еще темнела отчетливо.
«Хорошо, что я свернул сюда», — подумал Андрей, но вдруг странно осел книзу вместе с седлом.
Скошенный назад выпуклый глаз Хунхуза смотрел на него.
«Ну, что теперь будет?» — просто спрашивал взгляд остановившейся лошади.
Она не поднялась на дыбы, не опрокинулась, заваливая под собой всадника, а с безрассудной храбростью влезла в болото с последнего зыбкого островка всеми четырьмя ногами. Не зря же ее направили сюда. Пока можно было, она шла…
«А дальше как?» — спрашивал взгляд Хунхуза, ставший непривычно кротким.
— Ну, милый, ну! — ободряюще сказал Андрей и подобрал ноги выше к седлу.
«Милый» натужно вздохнул и, поверив еще раз, рванулся вперед всем напряженно собранным телом, рванулся и действительно пошел, разваливая грудью черную грязь. Крутые мускулы его шеи сразу налились мелкой дрожью.
— Шагай смелей! Немножко осталось, — просил Андрей, приподнимаясь в седле, точно это могло облегчить движения Хунхуза.
Снег продолжал падать, и все так же близким и далеким казался желанный ольховый лесок.
«Может быть, я не туда правлю?» — подумал Андрей, тоскливо осматриваясь и замечая, что правее выделился второй такой же колок.
Хунхуз шел, выбиваясь из последних сил. Он сам не хотел тратить время на отдых: лес манил его, обещая твердую землю под копытом.
«Нет, не туда!» — холодея, решил Подосенов, видя, как с каждым шагом глубже заходит лошадь, хрипя от натуги, и потянул правый повод. Но Хунхуз только устало повел ушами.
«Что же ты сразу не пустил меня туда?» — как будто сказал он.
И, точно вправду осознав эту мысль, поняв неуверенность седока и безнадежность своей попытки выбраться, лошадь остановилась. Силы сразу покинули ее.
Теперь болото держало ее прочно. Андрей встал в седле и, не выпуская поводьев, прыгнул на ближнюю высокую под снегом кочку. Он попробовал тянуть за повод, но едва удержался сам на зыбкой дерновой подушке, наросшей на плавучем торфяном пласту, и лошадь не тронулась с места, оседая все ниже, кося на человека тоскующим взглядом. Утратив опору, она еще искала ее ногами, и от судорожных этих движений трясина вздрагивала и сипела, жадно расступаясь под тяжестью животного.
Жалуясь, лошадь заржала тихим, бархатным голосом. Андрей огляделся, но ждать помощи было не от кого… Не оборачиваясь на вытянутую, с приложенными ушами, тонконоздрую морду лошади, он двинулся прочь, опираясь на ружье, как на дубинку, скользя и проваливаясь. Тогда, испугавшись, что его покидают, Хунхуз заржал пронзительно-звонко.
Андрей полз по кочкам, хватался, выдираясь из топи, за жесткую осоку, изрезавшую в кровь его ладони, и все время отчаянное ржанье покинутой лошади, не переставая, билось в его ушах. Но уже не жалость, а ужас вызывал в нем этот напрасный зов: он сам, как дикий зверь, боролся за свою жизнь, пока, обессиленный, не уткнулся лицом в обхваченную руками травяную подушку.
— Ох, мама! — сказал он и затих.
48
Он лежал, запорошенный снегом, и милые образы теснились в его стынущем, словно обнаженном мозгу. Он видел Анну, которая тоже шла по болоту, но шла стремительно; приблизилась к нему, подняла его и понесла, будто ребенка, а вокруг волновалась уже голубая зыбь гигантского озера. Солнце просвечивало воду до твердого дна; длинные волосы женщины колыхались в ней, точно черные водоросли. Анна легко несла Андрея на вытянутых руках, и волны омывали его нагое тело… Но вот волна поднялась, подхватила его на гребень — и кинула обратно в болото. Он лежит на снегу, и волосы его смешиваются не с жесткой осокой, а со светлыми кудрями Валентины. Он целует их, эти кудри, целует ее глаза. Но не любовь смотрит из них, а смертельный ужас. Какие они черные, глубокие, огромные! Это глаза Анны!.. Анна стонет там, в зыбунах.
Андрей приподнял голову и снова уронил. Но Анна стонала, звала его. Собрав все силы, он стряхнул с себя оцепенение, понял, где находится, вспомнил, что Анна жива, и страстное желание выбраться отсюда снова овладело им. Руки закоченели, и ему с трудом удалось стронуться с места, двигая ими, словно ластами… И вот он выбрался, выполз, как выползает из болота лось. Поднявшись на ноги, геолог обернулся. Глаза его искали место, где была лошадь. Но снег запушил и его собственный след…
* * *
На Чулкова Андрей набрел по запаху дыма. Таежник уже перекочевал и отсиживался в шалаше на берегу реки. Он ожидал Подосенова дня на два позже и, числясь в очередном отпуску, охотился на тетеревов, успев подбить штук двадцать черных косачей, краснобровых и белохвостых, и с дюжину скромнорябеньких тетерок, а потом снег испортил ему охотничье настроение.
— Косачи сидят на березках, а у меня в глазах сплошное мелькание, — сердито ворчал он, развешивая и растягивая у костра выполосканную им в реке одежду Андрея. — Нагрянет братва — надолго ли этой дичины хватит! Эк его прорвало: сыплет да сыплет! В метель по тайге ходить немыслимо: она так тебе изобразит местность, своего жилья не признаешь!.. Жалко Хунхуза!.. Теперь старик Ковба изведется с горя.
Андрей все еще не мог прийти в себя, зябнул и жался к огню. Чулков говорил, явно пренебрегая собеседником: в голосе его звучало не столько сожаление о лошади, сколько осуждение Андрея. Потом, взглянув на него, худого, измученного, облаченного в одежду с чужого плеча, Чулков смягчился и добавил:
— Спасибо, хоть сами-то выбрались. Бог с ней, с лошадью.
Он снял с огня чайник, поставил на ящике в шалаше нарезанное в миске вареное мясо, хлеб, каменно-жесткую «московскую» колбасу, выпил за компанию стопку разведенного спирта, не закусил, а просто утерся рукой и, выбрав парочку косачей, грузно сел у входа — начал теребить атласно-черные перья.
«Хорошие люди, а канитель какая у них идет! — грустно думал Чулков. — Зачем было в трясину лезть, когда тропа существует? Мысли-то не тем заняты! Мог бы и вовсе не выбраться!»
Гладкая головка мертвой птицы моталась по земле, подмигивая Андрею прижмуренным глазком, а сам Чулков, осыпанный птичьим пером, походил на большого хищного зверя. Он ощипывал свою добычу молча, хмуро, и эта хмурь, как тень, ложилась на лицо Андрея: казалось, рвалась последняя дружба, скупая на внешние проявления, но надежная.
Андрею вспомнилась ночь на Долгой горе, тоскливое чувство отчуждения от работы, от окружающей обстановки. Легче ли было ему теперь? Теперь он просто боялся приближения ночи.
49
Чулков хотел выйти из шалаша, но оленья шкура, прикрывавшая вход, была придавлена чем-то снаружи, потом она мягко подалась, и целая куча снегу обрушилась на голову и плечи таежника.
— Ух! — вскрикнул он, ощутив холод за воротником, и, что-то бормоча себе под нос, принялся отбрасывать снег.
Андрей, разбуженный восклицанием Чулкова, сонно смотрел, как возился в сугробе его приятель. Над тайгой вовсю гуляла метелица. Но, только увидев косо летевшую поземку, Подосенов услышал тонкий посвист ветра, а затем и мощное гудение леса, раскачиваемого бурей, и проснулся окончательно. Вся неприглядность его положения представилась ему: одно хуже другого, и в завершение драмы гибель замечательной лошади. Ржанье гибнущего Хунхуза как будто еще звенело в ушах Андрея.
«Душегуб ты проклятый», — сказал он себе со злостью, сбросил одеяло и сел. Чулков, загораживая вход своей крупной фигурой, втаскивал в шалаш железную печку.
— Сейчас огонька добудем, чайку сварим, тогда дури сколько влезет, — рассуждал он вслух. — Все закидала. Прорвало ее не вовремя! — пожаловался он Андрею на метель с тем же вчерашним брюзгливо-недовольным выражением. — Печку еле раскопал!
Он быстро установил трубу, растопил печурку, поставил на нее котелок со снегом и присел возле, на куче нарубленных дров, протягивая к теплу растопыренные пальцы, озябшие и красные.
— Теперь нам дня два здесь отсиживаться, покуда ветер не переменится, — продолжал он, не поворачивая головы, с обычной манерой словоохотливого человека, привыкшего рассуждать наедине с собой. — Вот ужо стихнет, тогда пойдем на ключ, где разведка будет. К этому времени, глядишь, и ребята наши подъедут. Жалею я: не наказал конюхам, чтобы они обратным ходом книжечек побольше захватили из библиотеки. Теперь мое дело таковское — своя жизнь конченная, так хоть на чужую поинтересоваться. Книжку такую почитать, про любовь, про молодых да хороших.
«Что он меня ковыряет?» — подумал Андрей с досадой.
А Чулков снял с печки котелок и, высунувшись из шалаша, начал тут же, у входа, добавлять в него снегу.
— Молодой, еще не слежался, как пух, — приговаривал он. — Вот мороз двинет, тогда другое дело. Тогда снег, как сахар, станет, зернистый да тяжелый, раз черпанешь — и сразу полкотла натает.
Разведчик снова сел на свое место, и Подосенов увидел, что лицо у него сегодня особенно грустное, даже унылое.
— Не люблю метель. Форменный ералаш она устраивает, никому не нужный, — сказал Чулков, искоса взглянув на своего начальника.
— Вы всю жизнь в лесу, — ответил нехотя, чтобы только поддержать разговор. — Вам это родное… привычное.
— Родное, конечно, — пробормотал Чулков и продолжал оживленнее: — Вот живет, к примеру, муж с женой, любит ее… уважает, а она горячая, нервная… Чуть не по ней — и пошла рвать: бранится, истерики всякие… Так разве мужу приятно? Терпит, да и все. Но привычка к этому делу плохая. Не люблю сварливых баб и когда метель не люблю. Когда этак вьюжит, самому выть хочется.
Он умолк, а воображению Андрея представилась Фекла, тоненькая, хрупкая, несчастная женщина, бегущая по лесу с ременной веревкой в руках. И еще тоньше кажется она в мглистых облаках бурана, под раскидистым суком дерева. Ветер покачивает ее, треплет тугие косы, роняет, обегая ее, пригоршни снега. И растет сугроб, тянется белым языком к носочкам маленьких меховых унтиков, и снежинки не тают на лбу Феклы, на жестких ресницах, над тусклой чернью раскосых глаз…
— Всегда я любовался на вас с Анной Сергеевной, — промолвил вдруг Чулков, и Подосенов весь вздрогнул: так резанули его эти жестокие теперь слова. — Вот, думал, какое счастье людям выпало, и дитенок у них… Только бы жить да радоваться, а все наперекосяк, извините, пошло. — Чулков задумался и неожиданно смело сказал: — И как вам не грех было этакую женщину обидеть, Андрей Никитич!
Андрей открыл рот, но ответить не мог: задыхался, глядя на Чулкова большими глазами.
— Ну, чего вы встопорщились? Обидели, факт. И я, при всем моем уважении к вам, не могу о том промолчать.
— Лежачего бьете!
— Нет, я этого сроду не делал. Хотя кого другого за Анну Сергеевну побил бы. Ведь в самую трудную минуту она нам деньжонок подбросила… А вы? Да за такое сочувствие!..
— Сочувствие! — перебил геолог, загораясь страстным негодованием. — Кинуть в окно кусок нищему. Как это называется по-вашему?
— Не кусок, а пятьдесят тысяч, да не государственных, а своих. Вот так — выложила из кармана и сказала: возьмите, товарищи, дорогие, — не унимался Чулков. — Не шумите, все равно тут, кроме меня, никто не услышит: лес да снег кругом.
— Да разве я один виноват в том, что случилось?! — кричал Андрей. Все напряжение последних месяцев прорвалось у него бешеной вспышкой: так больно задел его Чулков. — А она святая, выходит! Не верю в твои поиски! Грош цена твоему труду. Ага, ты еще кипятишься! Ты еще ходишь, привязываешься ко всем, как сумасшедший, как нищий. Ну, на тебе, и отвяжись! Сочувствие! Эти деньги — подачка — самое страшное оскорбление в моей жизни. А надо было стерпеть, принять их надо было, потому что иного выхода не предвиделось. Я в работу на Долгой горе всю душу вложил… — Голос Подосенова прервался на выкрике.
Охваченному гневом тесно в шалаше. Стукнувшись раза два о жерди наката, он опомнился, но, присев на вьюк, так и застыл с опущенными руками.
Чулков смутился: слишком близко и понятно было ему чувство, оскорбленное в его начальнике.
— Да разве она так относилась? Не верю я что-то!.. Не из таких она, Анна-то Сергеевна!
Андрей не ответил, потом, глядя на выход из шалаша, где безобразничала метель, заговорил в тяжелой задумчивости:
— В труде все мое значение человеческое, лучшее, что я вырастил в себе, и плевать на него никому не позволю.
Таежник слушал. Он сам мыслил и чувствовал так же. Если бы его сняли с разведки, не доверяя ему это дело, и заставили выполнять что-нибудь другое, ведь и в нем поднялся бы гневный протест! Неужели Анна Сергеевна так оскорбила Андрея? Не напрасно ли он, Чулков, взбудоражил его? Не лучше ли было промолчать, как молчал он в последнее время, уже зная обо всем? Но вспомнилась энергия, доброта Анны, и Чулкову снова захотелось обрушиться на Подосенова.
«Зря ты, Андрей Никитич, себе и другим голову морочишь. Думаешь, мы сами рассуждать не умеем!» — хотел он сказать, но почувствовал, что геолог все-таки прав: нельзя было не обидеться, когда его не признавали. Прав и в том, что защитил свое дело и довел его на Долгой горе до победы, и, однако, подумав, Чулков заговорил снова:
— Был у нас случай на разведке… Один разведчик порубил себе руку топором. Парень здоровенный. Сами мы — доктора и знахари. Да надоумил его кто-то, что может получиться заражение крови. Он и ударился на приисковый стан. Покуда добирался тайгой, не день, не два прошли. Явился в больницу без ума и еще с порога орет: «Доктор, заражение крови у меня!»
Доктор, конечно, нашу повязочку прочь, посмотрел. Какое ж, говорит, заражение? Рана-то заживает. Слов нет, говорит, глубокая была, да затянулась, — разведчик искоса посмотрел на Андрея. — Вот и вы как тот парень перед доктором, а рана-то уж затянулась. — И уже сурово Чулков кинул: — Не любите вы ее, Анну Сергеевну, вот и подводите балансы, кто кому нанес обиды. Была бы настоящая любовь, она разве так рассуждала бы?!
Это был новый удар, нанесенный Чулковым. Как будто он кружил вокруг Андрея и выбирал, куда вернее ударить. Так кружит с ломом у ледяного бугра, наплывшего над подземным источником, зимовщик-таежник. Раз ударил — железо, сухо крякнув, с треском проламывает пустой, вымерзший пузырем лед. Еще раз ударил в другом месте — взлетают голубые осколки над глыбой, до звона скованной морозом. Еще разок — и вдруг брызжет прозрачная струя воды и заливает лед живым серебром, — так раскрылось все и в груди Андрея. То, о чем он теперь боялся подумать, было произнесено полным голосом, и точно лопнула кора, сковывавшая его чувство. Ясноглазая, с тяжелой косой, перекинутой через плечо, Анна как наяву встала, и он по-прежнему, даже еще сильнее потянулся к ней. Он встал и начал торопливо одеваться.
— Куда это вы, Андрей Никитич? — спросил встревоженный Чулков.
— Домой.
— Домой? Этакую-то даль, да пешком… В такую-то непогоду? Что это вам втемяшилось? Угодите в прорву, к сивке на поминки! Слышите, что на воле-то делается?
— Все равно домой, — сказал Андрей, захлестываясь шарфом.
Лицо Чулкова просияло.
— Давно бы так! — обнадеживающе промолвил он, молодо блеснув глазами. — Только обождем до утра. Вместе пойдем. Провожу вас через болота, одного и за порог не выпущу!
50
За окном над поселком, над вершинами гор бледно голубел вечер. Высоко вставали, курились желтоватые дымки из труб. Казалось, весь поселок со своими белыми после снегопада крышами медленно поднимался к небу. Ворон, толстый и черный, прогуливался по крыше соседнего дома. Он спускался по самому краю крутого ската, вязнул в снегу, вынося вперед ногу, выпячивал грудь и живот. Голову он держал прямо, опустив на грудь тяжелый клюв. Плотно прижатые его крылья походили на руки, заложенные за спину, а вся птица напоминала очень старого, очень солидного зубного врача.
— Он гуляет, — сказала Анна вслух, и ей самой захотелось побродить по свежей пороше.
Она надела кожаное с меховым воротником пальто, каракулевую шапочку-кубанку и вышла из кабинета. В коридоре она замедлила: впереди шли к выходу Саенко и Ветлугин. Он бережно-любовно поддерживал ее под локоть и, слегка нагнувшись к ней, приглушенным, взволнованно-радостным голосом говорил что-то. Валентина смеялась. Ее смех удивил Анну. Она сама отвыкла смеяться за последнее время, и ей показалось странным, как может быть весело Валентине. Она остановилась, разглядывая плакат на стене, подождала, пока они выйдут. На плакате старатель в шапке-ушанке, туго подпоясанный кушаком, и его румяная подруга улыбались одинаковыми улыбками среди штабелей ситцев и обуви.
Анна прошла по коридору, открыла дверь… Валентина и Ветлугин стояли на крыльце, держась за руки. Валентина быстро оглянулась и опустила лицо в пушистый мех воротника. Воротник был чернобуро-серебристый, тот самый, который когда-то так понравился Маринке и Клавдии. Однако Саенко сразу овладела собой и прямо взглянула на Анну.
«Я все забыла! Забудьте и вы», — сказала она этим взглядом, печальным, но ясным и ласковым.
Анна покраснела от неловкости.
— Поздравьте нас! — просительно сказал Ветлугин. — Вы до сих пор нас не поздравили…
«Вы сами знаете почему», — чуть было не отрезала Анна, но вовремя спохватилась. Хотела сказать: «Все некогда», — но вместо того кивнула на снежные сугробы:
— Снег-то какой славный…
— Славный, да не очень: драги-то у нас теперь начнут обмерзать.
— Да, драги… Это верно. — И директор пристально посмотрела на него.
Виктор просто расцвел за последнее время. Он знал все об отношениях Валентины к Андрею, и это не мешало ему быть счастливым. Анна вспомнила, как он хлопотал над пуском второй драги, как однажды, усталый, заснул у котлована на бревнах. Он был хороший человек, и, чтобы сделать ему приятное, Анна пересилила себя, улыбнулась Валентине.
— Я рада за вас. Желаю вам всякого благополучия, — сказала она.
«И в человецех благоволение» — грустно, издеваясь над собою, подумала она, сходя с крылечка.
51
Снег поскрипывал под ее ногами, где-то повизгивала пила, и так тоскливо было идти неизвестно куда по недавно промятой дорожке. Женщина шла, чувствуя себя старой и усталой, всматривалась в следы. Не разгадать уже, не счесть, сколько ног ступало по молодому, еще утром нетронуто чистому снегу.
«Так вот и в жизни, — горько рассуждала Анна, представляя полоску четких птичьих следов там, на крыше. — Прошел Андрей по моей жизни, и каждый следок видать, а пройдет другой, и пятый, и десятый — и тогда уже ничего не поймешь. Тогда, наверно, и горя такого нет: ушел один — другой будет, и снова весело. Вот Андрей… Изменил, а даже скрыть не сумел. Все-таки хороший он. Как ему тяжело сейчас! Все отдал, той… семью разрушил для нее и остался ни с чем».
То, что Валентина так неожиданно ушла к Ветлугину, вызывало у Анны болезненное чувство, близкое к ревности за мужа. Как можно сменить его на кого бы то ни было?! Это еще раз оскорбляло ее прежнее чувство: взяли у нее самое дорогое и… затоптали. Каприз или месть — все равно больно, оскорбительно, тяжело.
За прииском дорожка свернула к лесу, на перевал, за которым работали лесозаготовщики. Это они, громкоголосые мужики, проторили здесь дорожку по целине. Анна вспомнила, как уехала от них в прошлый раз. Может быть, именно с того дня началось ее выздоровление. Ей снова вспомнилась песня, спетая для нее Ковбой и его товарищами.
«Простая песня, простые слова, а вот поди ж ты!..» — подумала Анна и повернула обратно к прииску.
На белой улице, у избушек и палисадников, где каждая тычина поднимала пухлый кулачок снега, возилась детвора. Стайками шли светлоглазые подростки, помахивая тяжело набитыми портфеликами — занятия в десятилетке проводились в две смены, — и звонкий девичий смех разливался по переулочкам. Над крышами домов белели верхушки елок, но главное, конечно, было не в елках, а в этих вот портфеликах и палисадниках. Кончилась тайга одиноких хищников: в тайге сажали цветы, и детский смех звенел повсюду. Все было просто и удивительно хорошо, даже то, как тяжело рюхали и чесались в хлевушках у бараков молодые приисковые свиньи.
Возле парткома Анну окликнул Уваров, одетый в меховую дошку, унты и беличью шапку с длинными ушами.
— Ты что-то толстеешь, — с ласковой укоризной сказала Лаврентьева и задержалась взглядом на его мягких, в белую полоску, меховых сапогах. — Унты у тебя прямо замечательные.
— Ездил нынче в район, там и купил. А толстею… от сердца, Аннушка, — сказал Уваров и пошел рядом с ней. — С сердцем у меня что-то неладно.
— Влюбился, что ли?
Уваров помолчал, крепко задумавшись.
— А что, Анна, если бы нашелся человек… Ну, другой человек… который любил бы тебя, оберегал. Могла бы ты… привыкнуть к нему?
— Я не хочу привыкать, Илья, — сразу погрустнев, ответила она от самого сердца идущим голосом. — А полюбить мне трудно. И разлюбить трудно…
— Значит, все простила?
Она невесело засмеялась.
— Бог простит.
— Увиливаешь, — спросил он жестко, даже грубо.
— Как тебе не стыдно, Илья?
— Не сердись, — сказал Уваров. Лицо его болезненно сморщилось. — Я люблю тебя, как самого лучшего друга. И хочется сохранить тебя в памяти такой — самой лучшей.
— Сохранить в памяти? Разве ты уезжать собрался?
— Хочу на курорт проситься. Есть такой для сердечников у нас на Урале, на озере Кисегач. Озеро, Аннушка, будто слезинка, чистое. Скалы, белый песок, сосновые леса. Приеду обратно, и ты меня не узнаешь… К мальчишкам своим съезжу! Обязательно! Давно уже я их не видел. Может, гусли из дому привезу. Еще дед мой на них играл. Был он из нагайбаков — татар, высланных на Урал при Иване Грозном. Гусляр он был. Ни одна свадьба без него не обходилась. Это его и сгубило: пьяный в проруби утонул, а гусли на льду оставил. Вот поеду и захвачу их. Старые уже, лет им не меньше сотни, а звон — как серебро.
— Хорошо, Илья, — сказала Анна с дружеской лаской в глазах и голосе. — Поезжай на Урал и привези гусли.
52
Торжественно провожали Никанора Чернова. Он уезжал для обмена опытом с горняками верховий Амура.
— Начинаем и мы отправлять наших питомцев в свет! — сказал Уваров Анне после митинга.
— Завоевали добрую славу, — ответила она, вспоминая остальных своих подземных богатырей.
Бригада разрозненных ею старателей-углубщиков рассеялась по разным приискам, и каждый из них собрал вокруг себя «могучую ватажку» из молодежи. Молва о рекордах этих шахтеров, которые первыми уходят под землю, прокладывая путь остальным, дошла и до Колымы и до Алдана. А чего стоят забойщики комсомольской шахты? А чем хуже слесари механического цеха и машинисты агрегатов на электростанции?
— Растем! — закончила она вслух свои мысли. — Какие сильные люди подобрались, Илья!
— Сибиряки вообще народ сильный, — с гордостью поддержал Уваров. — Хотя у нас в стране весь народ такой…
Они вышли последними и стояли на возвышенной площадке у клуба, перекрещенной по снегу укатанными до блеска лыжнями. День был выходной, и приисковые лыжники собирались за клубом для первого пробега по ближним горам. Веселые, уже увозившиеся в снегу, они с шорохом проскальзывали мимо, упруго развернувшись на повороте, исчезали за углом здания.
— Я раньше тоже любила на лыжах… — задумчиво заговорила Анна. — А теперь все некогда. — Она посмотрела на Уварова и спросила: — Когда ты на курорт собираешься?
— Успеется, — сказал он нехотя. — Может быть, дело и не в курорте. Вчера утром встал в пять часов и, пока еще темно было, припомнил старину — дал по шоссе километров двадцать туда и обратно. Только снег пылью летел. Какое же тут сердце! Мне при моей комплекции не в парткоме бы сидеть, а в забое работать!
— Да, сибиряки — они народ сильный! — повторила его слова Анна, и оба рассмеялись.
— Андрей в Заболотье уехал? — спросил Уваров чуть погодя.
— Уехал. Они с Чулковым хотели после установки новых разведочных работ подняться еще на гольцы. Там в старое время проходила американская экспедиция.
— Не терпится ему до весны, — сказал Уваров.
* * *
Проходя мимо поселкового Совета, Анна взглянула на единственное окно крошечной пристройки. За светлым на солнце стеклом двигались со спицами и носком на них немолодые, с жилочками и морщинками женские руки. Вся остальная фигура вязальщицы была не видна. Носок красный, с синими полосками. Должно быть, пожилая сторожиха-уборщица довязывала между делом обнову внуку. Как он весной замелькает по улице красными, словно гусиные лапки, ногами!
А из этой двери вышла недавно Валентина Ветлугина…
«Даже фамилию сменила!» — подумала Анна о своей бывшей сопернице. Будет она еще долго жить на свете, может быть, и в ее руках зашевелятся когда-нибудь спицы с обновкой для внука, но как человек, товарищ, она для Анны умерла.
«Все перегорело!» — подумала Анна, осторожно спускаясь с пригорка.
Спицы в женских руках еще продолжали занимать ее воображение. Теплые носки с нарядными полосочками на детские ножки. Сколько любви чувствуется в этом! И все в мире товарища Анны движется трудом и любовью.
Она идет и не насмотрится на людей, живущих вместе с нею в поселке, думает и о своем будущем ребенке. Узнает ли он ласку отцовских рук? Брови женщины сдвигаются опять, морщинки уже отметили привычность этого движения.
«Что за лихорадка такая?» — изумляется женщина, предчувствуя очередной приступ душевной боли.
Ей представляется дальняя тайга. Над гущей заснеженных лесов прорываются серые на белесом небе голые горы. И Андрей, жмурясь от ветра, карабкается по холодным скалам, чтобы взглянуть на следы и знаки старой поисковой партии. Да, ему не терпится до весны! Беспокойство разведчика толкает его вперед. Ему всюду надо влезть со своим любопытным носом. Анна вспоминает дерзкий профиль Андрея, его чистоту, честность и страстность во всем и улыбается печальной улыбкой. Ей вдруг стало понятно одиночество мужа в то время, когда на пути его встала Валентина. Наверное, та сумела пригреть одержимого разведчика сочувствием постороннего делу человека. Ей это было нетрудно.
Приступ проходит, потрясая душу Анны, но рождается не ненависть, а глубокая грусть и сожаление о прошлом. И снова ей думается, что со всеми ее страданиями она счастливейшая женщина на земле.
53
На взгорье, возле своего дома, Анна остановилась и посмотрела на игравших внизу детей.
Маринка в белом башлыке поверх капора, толстая в плюшевой шубке катала на салазках карапуза лет трех. Она бежала по дорожке рысью, притопывая, как заправская лошадь, пока ее седок не свалился в снег. Почувствовав легкость, девочка обернулась. Тепло укутанный мальчик лежал молча, широко растопырив руки, подтянутые большим платком. Маринка подняла санки и так, неся их обеими руками, вернулась обратно.
— Ну ты, жирный-пассажирный, — сказала она, подставив к нему санки.
Она помогла мальчику подняться, заботливо обмела его рукавичкой, усадила на санки, взялась было за веревочку, но сразу передумала и положила своего «жирного-пассажирного» врастяжку вниз животом. Теперь его можно везти быстро: лежит надежно — не упадет.
Анна вошла в дом. Ей хотелось поскорее сесть за письменный стол, раскрыть свои тетради, смахнуть пыль с книг, пересмотреть Маринкино белье, маленькие ее платья… В душе робко шевельнулась прежняя радость жизни, бледная еще, как росток в наклюнувшемся зерне. Ей казалось, что она вернулась после долгого, тяжелого путешествия.
— Да, я счастлива, — сказала она вслух, и тонкие морщинки, навсегда положенные скорбью в уголках ее рта и между бровями, отметились еще резче, придав ее лицу выражение важного раздумья. — Я счастлива уже потому, что сумела выстоять в беде, неожиданно обрушившейся на меня. Я живу и чувствую, что не опустилась, не обеднела душой, а стала богаче.
В таком приподнятом настроении она оставалась весь вечер, играла с Маринкой, укладывала ее спать. Потом мысли ее сосредоточились снова на Андрее… Как он там, в тайге? Ей, Анне, тяжело, но, по крайней мере, не в чем раскаиваться…
«Что испытывает в эту самую минуту Андрей, совершенно одинокий? А если он уже ничего не испытывает?»
При мысли о возможной гибели мужа — всяко бывает! — женщина похолодела.
Она уже не могла сидеть у стола, встала, прошлась по комнатам. Дом показался ей огромным, пустым, неуютным. В темном кабинете Подосенова тускло белели просветы окон. Анна присела на диван. Даже этот угол — последний в доме, где задержался на время дорогой жилец, — утратил его тепло.
За окнами горели звездные россыпи: желтые, тепло-лучистые внизу, холодно-голубые вверху, над неясными очертаниями гор. Анна посмотрела на холодные звезды и закрыла глаза. На душе у нее был сумбур — болезнь осложнялась.
* * *
Перед рассветом на кухне постучали в окно. Отворилась и снова прикрылась дверь. Анна ничего не слыхала: измученная ночным раздумьем, она спала на не разобранной постели, сняв только сапожки, укрытая теплым пледом. Андрей подошел, осторожно ступая, с трудом переводя дыхание, жадно и робко всмотрелся в ее лицо. Она спала тихо, подняв кверху нос и подбородок. Эта манера, которую так любил и над которой всегда подтрунивал Андрей, придавала спавшей милое, доверчивое выражение. Слабо освещенное настольной лампой лицо ее было таким же, как в дни юности.
— Анна, — позвал он тихонько, чтобы не испугать жену.
Еще сонная, она взглянула, ничего не понимая. Разве могла она испугаться, если он стоял перед ней — живой, невредимый? Но что ему вдруг понадобилось? Анна приподнялась на локте и вдруг в самом деле испугалась: ни грязной одежды, ни ввалившихся щек Андрея она не заметила, одни глаза его светились, полные страдания и любви, и она замерла, не смея поверить.
Тогда кудлатая голова его поникла, бледное лицо мелькнуло и зарылось в подушки, на которые опиралась ее рука. Анна услышала глухие рыдания. Что-то больно перевернулось в ее сердце, и она тоже заплакала.
1941–1945
Примечания
1
Хозяйскими на приисках назывались работы, организуемые предприятиями (раньше — хозяином). (Здесь и далее примечания автора.)
(обратно)2
Дресва — толченый песчаник, перегоревший в банной печи.
(обратно)3
Козанки — суставы пальцев.
(обратно)4
Огнива — бревна потолочного крепления.
(обратно)5
Кумпол — обвал кровли.
(обратно)6
Разрез — неглубокая горная выработка.
(обратно)7
Жилым местом старатели называли давно обжитые районы страны.
(обратно)8
Штейгер — мастер, заведующий горными работами.
(обратно)9
Маркшейдер — инженер, проводящий съемку местности с изображением ее на планах.
(обратно)10
Тянигуж — длинный прямой подъем на гору.
(обратно)11
Крыльца — лопатки.
(обратно)12
АЯМ — Амуро-Якутская магистраль.
(обратно)13
Капалухи — самки глухаря.
(обратно)14
Дагор — друг.
(обратно)15
Кулибина — сооружение для промывки золотоносных песков.
(обратно)16
Мизгирь — паук.
(обратно)17
Шпур — скважина, в которую закладывается взрывчатое вещество.
(обратно)18
Капсе — по-якутски — разговор.
(обратно)19
Торбаса — гладкие летние сапожки на мягкой подошве.
(обратно)20
Наслег — якутский поселок.
(обратно)21
Ровдужная — замшевая, грубой выделки.
(обратно)


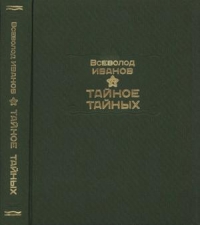

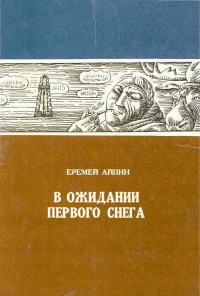
Комментарии к книге «Том 1. Фарт. Товарищ Анна», Антонина Дмитриевна Коптяева
Всего 0 комментариев