В тихий предзакатный час Корней Яранцев подошел к родной Черемшанке. Мягкий и теплый свет падал на крыши изб, жарко вспыхивал в окнах; в оголенных ветвях тополиной рощи чернели опустевшие гнезда грачей; было слышно, как бабы ласково, нараспев зазывали скотину — в вечернем воздухе ясно и далеко разносились их голоса; с утробной тоской мычали коровы, плаксиво блеяли овцы, пощипывало ноздри знакомым с детства запахом дыма, горьковатой навозной прели.
Свернув дрожащими руками цигарку, Корней сделал несколько жадных затяжек, бросил окурок в траву, загасил носком сапога и нетерпеливо зашагал дальше. Чтобы ни с кем не встречаться, оя спустился в сумеречный, сырой, как погреб, овраг и, продираясь сквозь цепкие заросли, весь облепленный репьями, тяжело поднялся на другой его край — обрывистый, в рваных, косматых клочьях дерна, горевший на закате красной глиной. Не передыхая и часто спотыкаясь, Корней обогнул плетни чужих огородов с кучками гниющей картофельной ботвы и высохшими бу-дыльями подсолнухов, миновал последний проулок, пересек улицу и вдруг ошеломленно застыл, не веря своим глазам. Господи, да неужели это его дом?
Криком кричала его душа, пока смотрел он на темные провалы окон, забитые крест-накрест серыми полуистлевшими досками, на обломки резных наличников, обветшалую крышу, где взошли и тянулись к небу желтые хилые кустики сурепки...
Все было разорено и растаскано, и кругом, до самого оврага,— задичалый, в сивом бурьяне пустырь. Ни изгороди, ни сарая, ни старой березы со скворечницей. Чудом уцелели две рябинки, посаженные когда-то в палисаде перед окнами, но и они словно отбились от дома и жили уже при дороге. Видно, ребятишки, срывая ягоды, пооб-
ломали нижние ветки, и лишь на верхушке вызывающе пламенели зрелые гроздья. Торчал из полыни почернелый липкий пенек, обросший бледно-розовыми поганками. На отшибе, как пьяные гуляки в обнимку, нелепо кренились на сторону два высоких столба с ветхим замшелым козырьком — створки ворот сняли с петель и унесли...
«Люди! Да что ж это такое? — Корней зашарил руками по груди, застонал.— Ни стыда, выходит, ни совести...»
Он ощутил слабость в ногах, сутулясь, опустился на ступеньку крыльца и прикрыл ладонью глаза. Муторно, нехорошо было на сердце. Разве имел он право кого-то корить теперь, если сам несколько лет назад бросил все на разор и запустение?
Вчера, когда он ехал со станции в районный городок, где жила его дочь, по пути в знакомых деревнях ему не раз встречались такие же покинутые, с заколоченными окнами избы. Иного дома Корней и вовсе не находил, хотя хорошо помнил, что он стоял на том месте многие годы; в просвете между домами угадывалась глубокая, как воронка от снаряда, яма — ее дремуче глушил чертополох...
Смешанное чувство одиночества, давней, незаживающей обиды и чего-то еще, непоправимо потерянного, захлестнуло его...
Сложив на коленях усталые руки, стесненно дыша, он долго сидел, не шевелясь, уже упрекая себя за то, что поддался какому-то наваждению и, ничего не сказав дочери, удрал сюда.
С крыльца ему открывалась почти вся деревня: и лесная сторона, и заречная, и подгорная. Овраг разделял улицу пополам, дальше она полого взбиралась в гору, упираясь крайними домами в низкорослый лесок, охваченный сейчас неярким багрянцем осеннего увядания.
На земле уже хозяйничали сумерки, а березовые рощицы были еще полны золотого предзакатного света; но вот и они погасли, как только солнце затонуло в глубине степи. В деревне сразу стало неприютно и тоскливо, потянуло откуда-то сырым, промозглым ветерком, и, потревоженные им, зашуршали у ног Корнея сухие листья.
Нужно было подумать о ночлеге — поспешить в Приречье к Ксении, которая, наверное, всполошилась и ждет его, или остаться в Черемшанке и заночевать у сестры.
В избах затеплились жидкие огоньки керосиновых ламп, все погружалось в рыхлую, ненастную мглу. Деревня затихла, лишь кто-то долго искал в потемках заблудившуюся овцу: «Машу-у-ня! Ма-шу-у-ня!»; рядом в проулке
тягуче заскрипел ворот колодца, лязгнула железная цепь, захлебнулось ушедшее в воду ведро; шаркающе проволочились по дороге шаги,— видно, ходил за водой старый человек; оглушительно хлопнула дверь. И когда отстоялась тишина, взмыл над притихшей деревней ликующий девичий голос, поддержанный сиплыми вздохами гармони:
Мне хорошо, колосья раздвигая, Прийти сюда вечернею порой...
В соседнем темном доме заплакал ребенок, умоляюще, измученно просила женщина: «Ну перестань, миленький! Что с тобой?.. Не плачь, ну не плачь, кровипочка моя!» Заунывно, как в пустую бутылку, посвистывал ветер; шумели кусты в овраге, куда теперь, казалось, стекала вся гущина непроглядной тьмы, шумела за огородами река; щемила сердце все дальше уносимая радостными подголосками песня...
Корней снова скрутил цигарку, затянулся до слез, до надсадного, с хрипотцой кашля, и с первым глубоким выдохом будто отлегло что-то от души. Он курил и с грустью думал, что жизнь его вроде прошла зря, если после стольких мытарств он стоит как потерянный на бездорожье, никому не нужный, как вот этот бесприютный, брошенный всеми дом...
Он не заметил, как подошла к крыльцу дочь, и вздрогнул, услышав ее встревоженный зов: - Тятя? Ты?
Она щелкнула кнопкой электрического фонарика, резкий свет ударил Корнею в лицо, и он сердито крикнул:
— Убери свою мигалку!
— Ты что ж это, тятя? — прерывисто дыша, проговорила Ксения.— Я уж не знала, что и думать!.. С ума можно сойти... Как маленький, честное слово!
Корней ничего не ответил — сидел, все так же сгорбившись, сжав губами цигарку; короткими вспышками она изредка освещала его черную с проседью бороду, сдвинутые к переносью густые брови.
«Ну и характер! — вся кипя от возмущения, думала Ксения. — Или под старость все становятся такими вот упрямыми и невыносимыми?»
Ее так и подмывало высказать отцу всю обиду, вполне естественную для человека, которого неизвестно ради чего заставили дико переволноваться и пройти десять километров по вязкой грязи, но, уловив при очередной затяжке его угрюмый, полный затравленной тоски взгляд, она спохватилась. Уж не слишком ли поспешно она осудила сумасбродную выходку отца? Ведь не по прихоти и старческому своеволию он вдруг сорвался и убежал на этот полынный, бурьянистый клочок земли?
Мгновенная досада сменилась в ней чувством раскаяния и нежности. Она присела рядом с отцом на ступеньку и коснулась ладонью его теплой шершавой руки.
— Напугал ты меня, тятя... До сих пор во мне все дрожит!.. Ну как ты?
— Запахни пальто-то,— хмуро бросил отец.— Застудишься...
— Был в доме? — послушно застегиваясь, спросила Ксения.— Можно в нем жить?
— Это ты куда гнешь? — раздраженно отозвался отец.— У меня пока что голова на плечах, а не шалаш без крыши!..
— С чего ты взял? Я просто так сказала,— смущаясь тем, что отец легко разгадал ее намерение, тихо и примирительно заговорила она.— Ну ответь мне по совести: почему ты цепляешься за город? Была бы там хорошая квартира, я понимаю, а то ведь крохотная комнатушка в общежитии! Была бы, наконец, работа, которую жалко оставить! Сколько ты получаешь за свое дежурство в проходной?
— Сколько ни получаю — все мои,— нехотя цедил сквозь зубы Корней.— Ежели все на деньги мерить, то, может, и жить не стоит...
- Напрасно ты мне глаза отводишь. Вас же там четверо! Волей-неволей приходится считать. Или, может быть, Ромка с Никодимом начали кое-что подбрасывать?
— Дождешься от них, держи карман шире,— буркнул отец.— Да и не нуждаюсь я в их подачках. Сами бы себя прокормили, и то ладно!
Ксения уважала отца за то, с каким достоинством он вел себя, стремясь быть независимым даже от собственных детей, но сейчас его упрямство казалось ей никчемным.
— Если бы вы жили вместе, все было бы иначе! И дело тут для каждого нашлось бы по душе, и вообще... о чем говорить! Здесь скоро все переменится, вот увидишь! А те, кто раньше уехал, побегут обратно в деревню!
— Может, и побегут, если разуются да пятки крапивой нахлещут! — Корней хмыкнул.
— Вот попробуй убеди тебя! — Ее подавляла, выводила из себя глумливая недоверчивость отца.— Можно подумать, что ты не слышал и про сентябрьский Пленум! Я за этот месяц побывала во многих колхозах, люди прямо не нарадуются!.. Ожили будто... А ты по-прежнему на все смотришь сквозь свою обиду. Ну, плохо было здесь, тяжело... Никто тебя не осуждает, что ты уехал. Но теперь-то ведь все будет по-другому!
— Вывернули все наизнанку — это верно,— с тихой раздумчивостью проговорил Корней.— Да написать все можно... А посулами меня все годы кормят, я ими давнспо горло сытый!..
— Но кто и когда тебе говорил всю правду, как вот сейчас? Кто? — все более горячась, выпытывала Ксения, уже стоя перед отцом, запальчиво размахивая руками.
— А мне и говорить не надо было, я и сам знал, что в нашем колхозе делается... Закрывай глаза да беги!..
— Поэтому мы и открыли глаза, чтобы все исправить!
— Ну и исправляй, кто тебе мешает,— на то ты и в райкоме состоишь...
— А тебе, значит, на все наплевать? Как катилось все под гору, так пусть и катится?
— Чего ты ко мне-то пристала? — Корней бросил в лужу окурок, и он шипуче погас.— Кому до меня какое дело? Не все ли равно, что скажу я? Кто меня раньше спрашивал?.. Одному Аникею Лузгину вера была — и в районе и в области, а он что хотел, то и делал тут! И сейчас еще на шее сидит, а ты меня назад в его упряжку тянешь. Хоть ты и в райкоме работаешь, и, может, начальник не маленький, а по мне — мелко ты еще плаваешь, вся задница, извини, у тебя наружу!
— Ну, знаешь! — только и нашла что сказать Ксения, теряясь перед этой неуважительной, грубой выходкой отца.
Ей было и неловко и совестно, просилась на язык ответная дерзость, но она сдержала себя и, подавив подступивший к сердцу гнев, круто повернулась и пошла прочь от крыльца в темноту.
— Не вздумай в дом лезть! — крикнул вдогонку Корней.— Измажешься впотьмах!
Она не собиралась осматривать дом, но, услышав последние слова отца, отыскала непрочно прибитую доску,
оторвала ее и, больно ударив колено, исцарапав до крови руку, забралась через окно в кухню. В доме было теплее, пахло мышами, пылью, плесенной затхлостью.
Ксения нажала кнопку фонарика, и свет вырвал из темноты разваленный свод русской печки. На шестке лежали черный от сажи обломок чугунной вьюшки, изогнутая алюминиевая ложка,.в пятне света дрожала паутина с высохшими мухами.
В горнице было пусто и голо, со стен свисали лохмотья пыльных обоев, но, несмотря на всю запущенность, широкие плахи потолка даже при тусклом свете фонарика отливали кремневой желтизной сухого, годы прожившего в тепле дерева; стены, срубленные из вековых, в обхват, сосен, были добротно проконопачены; плотно сбитый пол хранил следы давней покраски.
Ксения вспомнила, как сюда по вечерам сходилась вся семья, все рассаживались за большим столом под оранжевым, с шелковыми кистями абажуром: пили чай, играли в домино, карты, слушали радио, читали вслух интересную книгу или статью из газеты, спорили, веселились — шумно, открыто, на виду у всех.
В ту предвоенную пору семья жила хоть и не в полном достатке, но, однако, ни в чем не терпела нужды. Братья завели себе велосипеды, стали одеваться в красивые, по-городскому сшитые костюмы, неумело затягивали у горла шелковые галстуки, терли до кирпичной красноты рука и, отправляясь на гулянье, наполняли дом непривычным ароматом одеколона.
За синими затейливыми наличниками ворковали голуби, на подоконниках горела герань, в промытые до голубизны стекла заглядывались смуглые рябинки, в палисаде качались алые махровые мальвы.
Обрастал новыми пристройками двор, за огородом поднимался молодой сад, одеваясь по весне в белую кипень цветения, среди приземистых яблонь желтели домики ульев, там не утихал басовитый гул пчел.
Никодим первый в деревне натянул между крышей дома и старой березой тонкую антенну, и сквозь распахнутые настежь окна зазвучала на всю улицу веселая музыка. Короткими летними ночами у лавочки около палисада чуть не до рассвета толпились парни и девушки, играл баян, слышался девичий смех и визг, прожигали темноту огоньки папирос.
— Чего ты там, полуночница, бродишь? — словно над самым ухом раздался хриплый, как бы чуть оттаявший голос отца.— Не клад ли, случаем, отыскала? Гляди на чердак не сунься, а то свернешь шею-то!
Не отзываясь, она толкнула дверь в сени и осветила крутую, без перил лестницу. Здесь гуляли сквозняки, дышалось легко — воздух был полон уже по-зимнему резковатой, пресной свежести, тянулась над головой старая веревка, и едва Ксения дотронулась до нее, как она расползлась и упала к ногам. Вспыхнули на свету диковатые, фосфорически зеленые глаза кошки, она метнулась в окно.
Выключив фонарик, Ксения стояла у окна, глядела на засыпающую деревню, понемногу успокаивалась. Она слышала, как нарочито громко покашливал на крыльце отец, как он чиркал спичками, не то закуривая, не то ища что-то на земле. Ей уже опять было жаль его, и она укорила себя за ненужную обидчивость и черствость. У старика, может, все кровоточит внутри от того, что он тут увидел, а она взялась его агитировать!
Заметив полузасыпанную мусором груду ученических тетрадей, когда-то выброшенных ею, Ксения с любопытством перелистала первую тетрадь, исписанную формулами, подняла другую, потом приставила к стропилам фонарик, опустилась на колени и, все более волнуясь, стала быстро просматривать страницы. Было что-то удивительно трогательное в этом нежданном возврате к тем неповторимым временам, когда вокруг нее каждый день шумел родной курс!
На одной из страниц Ксения увидела жирно выведенную цифру 3. Недоумевая, когда это она получала в сельхозтехникуме такие низкие отметки, Ксения перевернула еще одну страницу и на вложенной внутрь розовой выцветшей промокашке прочитала три расплывшихся слова: «Костя... Константин... Костя».
Ей стало вдруг жарко, душно, она вскочила, судорожно сжимая в кулаке промокашку. Фонарик внезапно погас, и Ксения долго и бесполезно щелкала кнопкой.
Отец по-прежнему сидел на крылечке, над деревней словно начинало светать — в воздухе порхали первые лохматые снежинки и, казалось, меркли, долетев до черной земли.
Бросив взгляд на мрачно сутулившийся в темноте дом, Корней будто нехотя поднялся, тяжело вздохнул.
— Пока ты там ходила, я вот что надумал — продать избу надо, если за нее что-нибудь дадут. А то потом и на дрова никто не возьмет!..—Он помедлил, видимо дожи-
даясь, что скажет дочь, равнодушно покосился на белевшую в ее руке бумажку.— Что это ты там подобрала?
— Да просто так...
Ксения расправила промокашку, медленно, с каким-то недобрым наслаждением разорвала ее пополам, затем свернула вчетверо и снова разорвала, уже на мелкие клочья.
Ветер подхватил и унес их, кружа вместе с белыми хлопьями снега, но два или три обрывка задержались в бурьяне и зябко дрожали у самой земли, не в силах оторваться и улететь...
В темных сенях Корней не сразу отыскал дверь, долго шарил руками по стене, пока не ухватился за железную скобу и не потянул ее на себя.
Однако в избе было ненамного светлее — над квадратным, покрытым клеенкой столом висела семилинейная лампешка без стекла, с прикрученным фитилем, он пускал тонкие струйки копоти, отбрасывая на потолок текучие тени; неверный, сумеречный свет раздвигал лишь близкую темень, а уже в трех-четырех шагах от стола с трудом можно было различить широкую деревянную кровать, задернутую ситцевым пологом, низко нависшие полати; посудный шкафчик в простенке тускло отсвечивал стеклянными дверцами; из старинного литого рукомойника возле большой, занимавшей пол-избы русской печи звонкими горошинами падали в таз крупные капли.
— Дверь-то за собой закрывайте — не лето на дворе! — сердито закричала возившаяся у шестка женщина, и Корней по голосу узнал сестру.
Продолжая двигать тяжелым чугуном и греметь ухватом, она еще что-то недовольно выговаривала про себя, не обращая на него никакого внимания.
У Корнея сжалось сердце, ему стало совестно, что еще недавно он колебался и раздумывал над тем, стоит ли ему вот так негаданно являться сюда.
Он негромко кашлянул в кулак и сказал:
— Здравствуй, Анисья!
Сестра выронила ухват и кинулась к порогу.
— Господи!.. Корней? Ксюшенька? Это вы, что ли?.. Батюшки, мне прямо в голову ударило! Да каким это ветром тебя?.. А я уж думала, так и помру и никого из родных не увижу.
Голос ее задрожал, глаза наполнились слезами. Она обняла брата и племянницу, обдав их запахом дыма и бражным запахом пойла, которое готовила в шайке. Шумно высморкавшись в передник, она засуетилась с девичьим проворством, забегала по избе, наводя порядок, и все говорила, говорила без умолку, словно молчала до этого целый год. Достав из шкафчика стекло для лампы, она протерла его клочком бумаги, надела, прибавила фитиль, и в избе сразу посветлело.
— Последнее осталось,— пояснила она.— В сельпе были стекла, да кончились, вот Егор его и прячет. Явится к ночи, сделает себе свет и сидит с газетой или книжкой, жгет керосин, одно разоренье с ним! Да хоть бы польза какая от его чтения, а то как были нищие, так нищие и есть!
На столе появилась белая, ручной вышивки скатерть, сбереженная еще с девичества; Анисья стелила ее по особо торжественным дням: в большие праздники или когда приезжал кто-нибудь из близких.
— Раздевайтесь да кажитесь! — не переставая хлопотать, просила она.
Любовно оглядев их с ног до головы, она не преминула сказать брату, что он «нисколечко не изменился», а племяннице наговорила кучу похвал: и хороша-то она, и расцвела, как цвет маков, и что, доведись встретить на улице, не узнала бы, наверное, прошла мимо.
— Забыла ты нас, сродственница, забыла! — легко упрекнула она Ксению.— В деревне бываешь, а к нам совсем глаз не кажешь! А сама я к тебе в район уже какой год не могу выбраться. Егору сколь раз говорила — зайди проведай, но ему если что втемяшится, сроду не повернешь!
— Где он сейчас-то? — чувствуя неловкость за дочь, которая не удосужилась за два года навестить родную тетку, спросил Корней.
— Где-нибудь на собрании пропадает, где ж ему быть еще! Дома ест не досыта, зато там наговорится вдоволь, ему хватает!
— Все такой же — упрется, и ни с места?
— Куда там! — живо подхватила сестра.— Не подходи! Еще хуже стал — так и рубит сплеча. И никому от этого никакой пользы, только себе по ногам и попадает! Вся душа нараспашку, и весь в синяках!
— Как и раньше — всех хочет переделать, на свою сторону обратить?
— Не знаю, чего уж ему и хочется, но от своего сроду не отступится! Иного бьют — он в стельку превращается, а моего чем больше колотят да измываются над ним, он все злее да упрямее становится! На него, поди, ничто не действует. Прокалился весь, как железо стал!
Корней сочувственно вздохнул и покачал головой.
— Не сладко тебе с ним: намаялась за все годы-то, места, наверное, живого нет?
Анисья вдруг выпрямилась, и Корней удивился ее спокойному, улыбчивому и чуть насмешливому взгляду, так не вязавшемуся ни с тем, о чем она только что говорила, ни с усталой покорностью, с какой она, казалось, мирилась и с невзгодами, и с нелегким характером мужа.
— А я, братушка, не каюсь и не жалуюсь! Молодая была — ревела сдуру, все веселой жизни хотелось. В нарядах бы походить да людской завистью попитаться. А сейчас...— улыбаясь, она махнула рукой, потом, опустив голову, развела в стороны концы старенького фартука, как бы заранее прося брата извинить и не осуждать ее ни за этот фартук, ни за стираное-перестираное платье с аккуратными заплаточками на локтях.— А сейчас,— повторила она,— я иной раз счастливее тех, кто ест в три рта и на других не смотрит. Мой и не пьет, и ни от какой работы не бежит. Одеваемся мы, правда, не красно, зато совесть у нас чистая!..
Поборов первое смущение, вызванное укором Анисьи, Ксения слушала тетку со все возрастающим удивлением и радостью — и как это она могла забыть о такой милой и рассудительной женщине!
— А не обижает он вас, тетя?
— Егорушка-то? Да господь с тобой! Это он с виду чисто зверь, а так ведь он душевный, добрый. На меня, спроси хоть кого, за всю жизнь руки не поднял, слова матерного не сказал.
Она налила в самовар воды, зачерпывая ковшом из кадки, разожгла и бросила в трубу пучок смолистых лучинок, насыпала несколько пригоршней угля из железной тушилки. Доставая из-под печи колено трубы, она задела поросенка, лежавшего там, он выкатился, похрюкивая, и ткнулся ей влажным пятачком в руки.
— Сюнька, марш на место! — с деланной строгостью крикнула Анисья и, почесав у поросенка за лопушистым ухом, засмеялась.— Беда прямо с ним! Наладишь самовар,
а он откуда ни возьмись вырвется, пырнет своей сопаткой в кран и выпустит всю воду! Один раз думала — ну, распаяется самовар, да нет, обошлось. Ну ладно, иди, иди, неженка чертова! — ласково добавила она и пихнула ногой поросенка под печку.
— Живете-то вы хоть как? — поколебавшись немного, полюбопытствовал Корней. Он хотя и слушал сестру с явным удовольствием, но не очень верил в её дружную и радостную жизнь с Егором.
— Живем — не скачем, упадем — не плачем,— смеясь, отозвалась Анисья.— Нонешний год все посвободнее вздохнули — и налог скостили, и на заем не через силу тянут... Животину вот на базаре купила.
— Почем поросята-то?
— Двести целковых отдала! — будто хвастаясь перед братом, сказала Анисья, но тут же добавила с возмущением: — Шкуру дерут, черти! А без поросенка нам никак нельзя...
Пройдясь по избе и взглянув на полати, Корней спросил:
— Где ж так поздно ребятишки твои?
— Да в кино убежали! Хлебом не корми, а поглазеть дай. Сейчас еще ничего, а вот зимой в нашем клубе хоть волков морозь или протрезвиловку устраивай — сунь на часок самого горького пьяницу, и тот живо в себя придет!
— Дрова, что ли, жалеют? Раньше, при Гневышеве, топили...
— Это когда было-то? Уж позабыли все! А как Лузгин стал над нами — туда только девки, парни да пацаны ходят, а постарше кто и не думай! Порядка никакого, пол семечками заплюют, ругань до потолка, а то и сцепятся кто друг с другом, морду расквасят. Срамота!
— А Егор там не показывается?
— Вот-вот! — как бы радуясь подсказке, сказала Анисья.— Его одного и побаиваются. Когда он сидит в кино, никто не безобразничает. А я там не бываю — больно велико счастье зубами стучать!
Ксения с улыбкой слушала звонкий голос тетки — словно бежал, перепрыгивая через камешки, журчащий ручеек — и неторопливо расхаживала по избе, разглядывая книжки на самодельной этажерке, редкие фотографии под стеклом, отделанные по краям цветной бумагой, дивилась пристрастию родственников к ярким красочным плакатам, которыми был обклеен весь передний угол, где когда-то висела икона. На одних плакатах полыхали алые знамена,
на других красовались румяные доярки в белых халатах.
«Вот чудак»,— подумала Ксения о Дымшакове. Это, конечно, его затея превратить свою избу в своеобразный агитпункт.
Анисья уже успела переодеться в черную юбку и светлую, в блеклых цветочках кофту, причесала густые темные волосы, и Корней поразился перемене, какая произошла с ней. Вначале, когда он увидел ее в потемках, ему показалось, что сестра сильно сдала, постарела, а теперь перед ним хлопотала хотя и пожилая, но по-своему привлекательная, миловидная женщина с полным и еще красивым смуглым лицом, на котором горячо и влажно поблескивали светло-серые глаза, вспыхивали огоньками серьги, придавая ему выражение моложавое, озорновато-веселое.
Подмигнув себе в зеркале, она легко подхватила с полу самовар, поставила его на стол, обмахнула фартуком, и не успел Корней оглянуться, как появились чашки, чайник с отбитым носиком, желтая пластмассовая сахарница, полная рафинада.
— Ладно тебе суетиться,— сказал Корней.— Не бог весть какие гости! Для ребят побереги сахар-то...
— Вроде хозяйка тут я, а не ты! — Анисья вскинула пушистые ресницы, изогнула брови.— И ребятам достанется, не голодные сидят! Им хоть что дай — сожрут! Как в прорву, право слово!.. Но ничего, скоро у них вдоволь молочка будет, отопьются!...
— Откуда?
— А я тебе и не сказала? — Анисья всплеснула руками.— Батюшки, вот заполошная! Корова наша скоро отелится, жду, как светлого праздника!..
— Да когда же вы ее завели?
— А нынче в рассрочку дали!— раскрасневшись и словно еще помолодев, радостно поблескивая глазами, говорила сестра.— С кормами, правда, будет тяжело, не знаю, как зиму ее прокормим, да уж как-нибудь — от себя что оторву, на базаре продам, а за кормилицу нашу будем держаться!..
В сенях послышались шаги, дверь рывком отворилась, и через порог грузно шагнул широкоплечий, коренастый мужчина в потертой кожаной тужурке и такой же кожаной облезлой кепке с навесистым козырьком.
Знакомый, исподлобья, взгляд темно-синих диковатых глаз с большими белками заставил Корнея испытать привычное чувство некоторой робости и скованности перед зятем, но он не подал и вида, что смущен его появлением,
не привстал навстречу в родственном радушии, а лишь приветствовал Егора кивком головы.
Втянув крупными ноздрями воздух, как бы принюхиваясь к чему-то, Дымшаков бросил наотмашь кепку, выпустив на бугристый лоб рыжие, рано поседевшие кудри, и сказал с будничным спокойствием, точно они не виделись с Корнеем не несколько лет, а каких-нибудь два-три дня:
— Здорово живете! С приездом тебя, шурьяк...
— Спасибо,— настороженно, с неторопливой степенностью человека, знающего себе цену и способного не дать себя зря в обиду, поблагодарил Корней.
Присев на табуретку, Егор опустил мосластую загорелую руку на белую скатерть, пошевелил узловатыми пальцами и покосился на разом притихшую Анисью.
— Ты что ж плохо гостей привечаешь, жена? — угрюмо полюбопытствовал он.— Без вина вроде русские люди не встречаются, а?
Не ответив, Анисья смотрела на мужа в упор, не мигая, и Ксения первая поняла, что у тетки просто нет денег на водку, но она не решается сказать об этом Егору открыто, боясь сконфузить его перед братом и племянницей. Егор наконец понял, в чем дело, запустил руку в карман пиджака и начал там молча копаться.
— У меня есть разменянные деньги,— не выдержав гнетущей тишины, краснея, проговорила Ксения и раскрыла свою сумочку.— Вот возьмите, пожалуйста...
Егор метнул на нее полный снисходительной насмешки взгляд и вежливо, но настойчиво отвел ее руку.
Он не спеша доставал из кармана по трешнице, по рублю, высыпал на собранную кучу бумажек серебряную мелочь и придавил все это ковшом ладони.
— Во — как раз на поллитровку!
Следя за каждым движением его руки, Корней досадовал на дочь, зачем она неумело вмешалась не в свое дело; и, чтобы как-то загладить ее выходку, решил именно ее попросить сходить в чайную.
— Уважила бы нас, Ксюш...
Дочь пунцово вспыхнула, и он недоуменно посмотрел на нее.
— Ты чего?
— Я...— Она была смущена и растеряна.— Ты, наверное, забыл, где я работаю, отец?..
— Не надо, Ксенечка, не надо! — торопливо заговорила Анисья и, схватив платок, набросила его на голову.— Я сама живенько слетаю! Мигом!
Пока она собиралась, Ксения в нерешительности стояла посредине избы и машинально щелкала замком своей блестящей черной сумочки.
— А ты примечал, шурин, али нет — как только иная баба пойдет по партийной линии, так она становится вроде ни мужиком, ни бабой, а? — усмехаясь, проговорил Егор.— Не пьет, не курит, ребят не рожает, а сохнет на корню и на других печаль наводит...
— Постойте, тетя! Я пойду с вами! — Ксения рванула с гвоздя свою тужурку, совала руки мимо рукавов.— Я постою на улице и подожду вас...
Дверь хлопнула, и Егор с Корнеем остались одни.
— Чудной народ встречается,— словно отвечая на какую-то тревожившую его мысль, тихо проговорил Егор.— Живут для людей, а на людей походить боятся...
Он провел рукой по небритой, заросшей рыжеватой щетиной скуле, поднял на Корнея пытливо-сверлящий взгляд своих вызывающе открытых глаз и спросил с грубоватой откровенностью:
— Ну, чего прибыл? Насовсем, может, а? Или только, ручки в брючки, посмотреть, как мы тут затылки скребем и на одном месте топчемся? На всю страну подуло вроде сквозняком, и только у нас в колхозе стараются покрепче все двери и окна закрыть... Или тебе, шурин, от этого нового ветра тоже не жарко и не холодно? Выкладывай свои козыри, не таись!..
Корней отмолчался. Он хотел избежать тягостного разговора с зятем, просто повидаться с сестрой, узнать про ее житье-бытье и, не затевая спора, мирно распрощаться. Но теперь стало ясно, что Егор не отстанет от него, пока не узнает, что ему нужно, даже если для этого пришлось бы вытрясти из родственника всю душу...
Закуска была скудная, и Егор с Корнеем быстро захмелели. Анисья принесла из чайной селедку, разрезала ее на мелкие кусочки, обложила белыми кружками лука и полила постным маслом, поставила на стол тарелку квашеной капусты. Сама она после первой рюмки разрумянилась и, смеясь, говорила, что голова у нее пошла кругом. По этой причине она дальше
пить отказалась, прибегнув к обычной хитрости хозяек, когда хотят сберечь угощение для дорогого гостя.
Ксения даже не пригубила рюмку, сколько ее ни упрашивали отец и тетка, выпила чашку чаю и, сказавшись усталой, прилегла на кровать.
— Ладно, пускай покуражится! — недовольно сказал Егор.— Не плясать же нам перед ней? Нам больше достанется — наливай по второй, жена!
Корней посмотрел вслед дочери, но ничего не сказал. Он устал не меньше ее, но терпеливо, как подобает гостю, сидел за столом, ел, пил и поддерживал неспешный разговор. Не обращая особого внимания на задиристые, въедливые вопросы зятя, старался отвечать ему как можно спокойнее, вразумительнее: живем, как все, наперед не лезем, а загадывать далеко какой толк — чему быть, того не миновать, утро вечера мудренее... Да и не те годы, чтобы бросаться сломя голову, рисковать даже тем малым, что имеешь! А от людей тоже отставать не намерены, куда все, туда и мы...
— А ты все такой же! — вызывающе посмеивался Егор.— С какой стороны тебя ни возьми — гладкий весь, обструганный!
— Может, и так,— соглашался Корней, хотя в душе был обижен.— А вот скажи, тебе-то какая выгода, что ты ходишь весь как в сучьях? Легче, что ль, жить, когда другие о тебя царапаются и на самом клочья висят?
Дымшаков захохотал, запрокидывая голову, широко открывая рот, полный крупных, желтых от табака зубов, так оглушительно и раскатисто, что Анисья прикрыла ладонями уши.
— Будет ржать-то! Будет! Вот труба!
— Ловко ты меня поддел! — вытирая слезы, гудел Егор и все норовил поймать текучий, ускользающий взгляд Корнея. Он заметно повеселел, диковатая хмурь сошла с его лица, синие глаза осветились изнутри дерзким и сильным пламенем.
— С содранной кожей, конечно, больней ходить, чем с дубовой шкурой.— Дымшаков хмыкнул.— А то ли дело стоять в стороне — и без меня, мол, народу много, как ни то обойдутся! И себе урону не нанес, и людям пользы не принес! Кругом чисто! А если совесть сладко спит, так зачем ее зря тревожить?
— Да ладно тебе, Егор,— беспокойно и примирительно заговорила Анисья, умоляюще глядя на мужа и пытаясь завладеть его плавающими над столом руками.— Разве
брат тебе что поперек сказал? Что ты распалился-то? Уймись! Он ведь хочет, как нам получше... чтоб мы зря не мытарились!
— Знаю я его, твоего разлюбезного братца! — не унимался Дымшаков и лез своей рыжей гривой в самое лицо Корнею.— Еще когда парнями холостовали с ним, так он, как драка — руки засунет в карманы и ждет!.. У меня из носу кровяное сусло хлещет, а он хоть бы что!..
— И не совестно тебе? — Корней с тяжелой укоризной поглядел на зятя.— И как только язык поворачивается? Сколько разов я тебя из свалки выручал вот этими кулачищами? Мало ты всяких буч зря поднимал и меня в это дело втаскивал? Эх, Егор...
— Являлся завсегда к шапошному разбору,— твердил свое Дымшаков и нехорошо кривил в пьяной усмешке губы.— Такой уж характер: на чужом горбу хочешь в рай въехать! Вот почему ты сразу смотался отсюда, как только увидел, что все здесь стало не по тебе! Лишь бы самому было хорошо, а остальные хоть пропадай!..
«Так и знал, что вспомнит о старом, не вытерпит!» — подумал Корней и хотел было подняться из-за стола, чтобы не слушать эту злую напраслину, но, боясь еще больше раззадорить Егора, остался сидеть на месте.
Он хорошо понимал, что зять ставит ему в вину не то, что в молодости он неохотно влезал в драки, не то даже, что он покинул родную деревню; нет, Дымшаков по-прежнему не прощал ему того, что в самый трудный для колхоза час Корней не захотел стать во главе колхоза. Бывший председатель, человек взыскательный и добрый, много потратил сил, чтобы в тяжелую пору войны хозяйство артели не подорвалось, чтобы люди не терпели острой нужды. Но Степан Гневышев тяжело оступился: купил как-то с рук позарез нужный для строительства фермы лес, а лес оказался краденым. Степана судили, приговорили к пяти годам лишения свободы. По слухам, он вскоре попал на фронт, и с тех пор о нем не было вестей. Дымшаков считал, что Корней в то время смалодушничал, испугался тяжелого бремени, отговорился своей малограмотностью, старческими недомоганиями и, передав колхоз в руки Аникея Лузгипа, по сути дела, предал всех односельчан.
— Ты бы уж перестал меня тыкать в одно и то же место, как кутенка какого, как только не надоест? — с тяжелым вздохом проговорил Корней.— Жил как умел! Всякому свое.
— Во-во! — подхватил Егор.— Засел, как кулик на болоте, и тянешь свою песню — слушать тошно,, все внутренности переворачивает!..
— А ты не слушай, но и сам перестань всякий мусор мне на голову сыпать! — решив больше не потакать бестолковой и неуемной дерзости зятя, отвечал Корней.— Тебе больше по нраву драки — дерись, воюй! А у меня охоты попусту махать кулаками нету!.. Один сорняк выдерешь, а за ним другой силу кажет — да разве их всех изведешь? Чем человек похуже и поподлее, тем он живучее! Ты Аникея теперь голыми руками не возьмешь, а вот тебе он жить не даст! Ну что ты против него? Хворостина сухая — взял и переломил пополам... Эх, Егор, бедовая твоя голова!..
— Значит, на колени стать перед паразитами? В обнимку жить с теми, кто людей тут топчет и дышать не дает? Ты так мне предлагаешь, дорогой родственник? — навалясь грудью на стол, задыхаясь, спрашивал Егор.— Да только пожелай я пойти с ними на мировую — лучше бы всех здесь зажил! Дом бы под железо отгрохали, играли бы невпроворот! А она вот,— Дымшаков кивнул на пере-пуганно слушавшую его жену,— не ходила бы в чиненом-перечиненом!.. Порадовать моих врагов? Задобрить? Вр-ре-ошь! Я им живой не дамся! Мне с ними по одной дороге не ходить! Дай срок — я под ними огонь разведу, они у меня запляшут!..
— Ох, Егорушка, загубят они тебя, загубят!—застонала вдруг Анисья, прижав к груди руки.— Никто головы не поднимет, а ты перед ними как на юру! Грозились ведь, братушка, по-всякому намекали: спалить могут или еще того хуже... Долго ли до греха...
— Пускай грозят! — с силой бросая на стол квадратный кулак и сотрясая посуду, крикнул Егор.— Чуют, что сейчас им конец приходит, вот и грозятся! Раз с верху самого за колхозы взялись, не иначе — завтра дойдет и до нас, мимо нашей Черемшанки правда не проедет, не опасайся!..
— Наверху, может, все понимают,— согласился Корней,— да у нас-то в деревне ломают по-своему... Засели, как тараканы по щелям, попробуй их выкури!
— И выкурим! — стоял на своем Егор.— Кто ты, чурка или человек? Зачем на земле живешь? Для того чтобы пищу переводить или для чего другого? Ходить по ней хочешь или ползать на карачках? Если ходить — так ходи, как человеку положено, в глаза всем открыто гляди, а
если что не так, не но правде — не терпи, в набат бей... До глухих не дойдет — в Москву пиши!
— Покрутит письмо по разным местам и вернется обратно в район, к тому же человеку, против которого ты писал,— тебя же и взгреют, чтобы знал край да не падал! Мало ты раньше строчил?
— Ты мне про то, что раньше было, не поминай! — зло оборвал Дымшаков.— Ты в каком годе живешь — в прошлом или нынешнем? Хватит жить с оглядкой да с опаской! Пускай тот трясется, у кого совесть в ребрах зажатая! А нам с тобой бояться нечего — мы поросят не крали, у нас в ушах не визжит!..
Он снова засмеялся, но миролюбиво и душевно, над головой его вырос пущенный из широких ноздрей куст дыма и долго качался в воздухе, затеняя свет лампы.
— Ох, Егор, достукаешься ты! С любого ведь стружку снимаешь — спасенья нет! — вздохнув, проговорила Анисья, и было непонятно — то ли осуждает она мужа, то ли восхищается его удалью.— Притянут тебя за язык! Запрячут куда-нибудь подальше, а мы тут будем Лазаря петь.
— Не дрожи, мать, впереди страха,— ласково обнимая жену за плечи, проговорил Дымшаков, и в тихом, размягченном хрипотцой голосе его зазвучала веселая издевка над собой, которая, видимо, не раз помогала ему в его нелегкой жизни.— Если жить да при каждом слове оглядываться — да пропади она пропадом, такая жизнь!
Анисья была довольна, что спор за столом начал затихать, и со свойственной большинству женщин чуткостью поняла, что наступил самый подходящий момент перевести разговор на другое. Не снимая мужниной руки с плеч, она еще ближе прижалась к нему и, заглядывая в его диковатые глаза, с нежной робостью посоветовала:
— Ты бы уж завтра-то, Егор, не лез наперед, а?
— А что у вас завтра? — насторожился Корней.
— Да слух прошел, будто секретарь обкома едет, не то кто поболе,— оборачиваясь улыбчивым лицом к брату, ответила Анисья.
— Секретарь, может, к нам и не завернет, а в районе что творится — пыль столбом! — язвительно усмехаясь, заговорил Дымшаков.— Дороги, сам видел, когда шел, какие у нас — смертоубийство одно! Так трясет, что кишка за кишку цепляется! Ну так сейчас от Черемшанки до района по три раза в день дорогу бульдозером скребут, мостик починили,— там лошади ноги калечили! Стояла на краю
убогая избушка, в землю по окна вросла. Глядь, а там ровное место! Смеяться некому!
Однако Корней не видел в этом ничего смешного.
— Ему бы не на машине, с гудом, а втихую явиться,— вздохнув, заговорил он.— На лошади или, того лучше, пешком. Да районному начальству не сказывался бы, а то так дело обставят, что и народа не увидишь, хотя и побываешь среди него...
— Если захочет правду узнать, ему ничто не помешает,—горячо подхватил Егор.—Не в том суть! Кого, главное, хотим обмануть-то? Самих себя! И это, я тебе скажу, шурин, мне прямо нож острый! Не знаю, что бы сделал, лишь бы эту заразу с корнем вырвать! Ну зачем, скажи, нам свои болячки хоронить, в эти чертовы жмурки играть? Зачем? Если уж сейчас всю правду не говорить — тогда во что верить и зачем жить?
— Правда, Егор Матвеевич, бывает одна — партийная! — неожиданно подала свой голос с кровати Ксения, и все удивились, что она не спит.— Ворота дегтем вымажут — тоже правда, а кому она нужна, такая правда?
— А ты выходи на свет, племянница! — позвал Дымшаков, разительно меняясь в лице и становясь снова вызывающе дерзким.— Впотьмах правду трудней искать!
Корней поднял голову и посмотрел в угол, где стояла задернутая ситцевым пологом кровать. Он обрадовался было, что сестра погасила никчемный, выматывающий душу спор, а теперь спова встревожился. Неужто дочь ввяжется в назревающую ссору?
Цветистый полог покачнулся, и Ксения, поправляя на ходу растрепавшиеся волосы, вышла к столу, сепия давно бы заснула, если б не зычный, полный злого упрямства голос Дымшакова, то и дело возвращавший ее из зыбкой полудремы.
В ноги и руки ее вступила истомная, усталая теплота, лень было двигаться и даже прислушиваться к разговору отца и Егора: сошлись за рюмкой вина два мужика и начинают на все и на вся наводить критику.
Однако вскоре она насторожилась — рассуждения отца и особенно Егора уже не казались ей такими безобидными. Она хотела сразу прекратить этот злостный поклеп и на колхоз, и на работников района, но вдруг почувствовала себя в ложном и двусмысленном положении.
С одной стороны, как инструктор райкома она обязана была вмешаться в этот нелепый разговор и поставить каждого на свое место, но, с другой стороны, она понимала, что находилась не на собрании, где легко могла поправить любого человека, высказывающего неверные или вредные взгляды, а в гостях у своей тетки, да еще и впервые за два-три года.
Ксения была непоколебимо убеждена в одной истине — вышестоящим организациям и возглавляющим их работникам всегда известно все, и плохое и хорошее, что происходит в каждом районе, и если почему-либо в обкоме не находят нужным менять то, что на месте кажется уже отжившим, значит, не назрели еще условия для таких перемен. И не ее дело сомневаться в разумности того, что исходит свыше! Придет время — скажут!
Ксения как-то по-особому гордилась тем, что работает в райкоме и живет в самой гуще волнующих событий. Когда ей два года назад предложили оставить работу участкового агронома и перейти в райком, она согласилась не сразу, потому что не была уверена, что справится со своими новыми обязанностями. Но Коробин, под начало которого она попала, сумел убедить ее, что люди не рождаются с задатками партийных работников и что деятели такого типа выявляются на практической работе.
Довольно быстро Ксения освоилась и с общей обстановкой в отделе, и со всеми техническими тонкостями, какие надлежало знать инструктору: как в образцовом порядке содержать партийное хозяйство, как расписать детальный план очередной кампании, провести инструктаж агитаторов, проверить деятельность первичной партийной организации, деловито, с предельной четкостью сформулировать проект решения бюро райкома по какому-нибудь вопросу, составить в ясных формулировках резолюцию пленума или конференции.
Спустя некоторое время Коробин уже ставил ее в пример другим инструкторам: все задания она выполняла с чисто женской аккуратностью, относилась к каждому поручению с добросовестностью и высоким сознанием возложенного на нее долга, никогда не проявляла неудовольствия, если ей предлагали немедленно, в любую погоду
выехать в отдаленный колхоз уполномоченным, и не покидала его до тех пор, пока не выполняла все, что от нее требовалось.
Ксения самозабвенно любила свою новую работу. Никто, наверное, и не догадывался, что она бралась за любое дело с величайшим рвением и охотой и бывала счастлива, когда на нее сваливалось какое-нибудь особо ответственное задание. Она готова была принять какую угодно суровую критику, не допускала душевной размагниченности и сентиментальности, когда дело касалось принципов, и поэтому считала себя вправе с той же высокой требовательностью относиться и к другим.
Вот почему, слушая вздорные рассуждения Дымшако-ва, Ксения наконец не выдержала,— это было просто свыше ее сил! — отдернула ситцевый полог и вышла к столу.
На стекло лампы был надет бумажный, свернутый из старой газеты абажур, уже успевший обгореть сверху, и трепетный язычок пламени из-за потемневшей бумажной кромки сверкал прямо в глаза.
— Не скрою, Егор Матвеевич, вы меня поразили! — стараясь говорить как можно спокойнее, хотя это с трудом удавалось ей, сказала Ксения.— Если бы я вас не знала, я бы ни за что не поверила, что все это говорит коммунист!
— А ну давай, давай! — как бы подбадривая ее, хмельно поблескивая глазами, отозвался Егор.
В том, как она стояла у стола, держась руками за гнутую спинку венского стула, чуть вскинув голову, было что-то дерзкое и смелое, и Дымшаков искренне залюбовался ею: ему всегда по нраву были люди, готовые бороться за свои идеи.
Да и помимо всего, Ксения была просто хороша собой — высокая, ладно скроенная, по-цыгански смуглая, с тонким энергичным лицом, на котором горели большие черные, мятежного блеска глаза. На маленькой голове ее вились темные кольца волос, мужская стрижка не огрубляла ее, а, как ни странно, делала еще более женственной, придавая ее облику выражение юношеской порывистости.
Теребя на шее нитку бус, словно из крупных ягод шиповника, и не спуская с Дымшакова напряженного и укоряющего взгляда, Ксения спросила:
— Как же прикажете вас понимать, Егор Матвеевич? Выходит, что наши руководящие работники живут обма-
ном, показухой и только заботятся о том, как бы скрыть от всех истинное положение вещей?
— Ты меня, племянница, дураком не выставляй! — сказал Дымшаков и обезоруживающе рассмеялся.— Я и без тебя в них немало походил! Я говорю про свой колхоз и район, а как в других местах — не знаю! Люди-то ведь везде разные — одного секретаря хлебом не корми, а дай ему покрасоваться да себя показать, он и на обман ради этого пойдет, а другого с души воротит от всякого очковтирательства. Я всех под одну гребенку не стригу, так недолго и гребенку сломать!
— Ну хорошо, допустим, все, что вы говорили, имеет отношение лишь к нашему Приреченскому району. Что ж, по-вашему, Сергей Яковлевич Коробин, который сейчас у нас исполняет обязанности первого секретаря, такой чинуша и бюрократ, как вы расписали? Да он ночей недосыпает, мотается по всему району, себя не жалеет и ни о какой показухе не думает... Да как же вам не совестно?
— Ты мою совесть пока не трожь,— помрачнев, ответил Егор, раздувая ноздри.— А что Коробин по району мотается, так в Черемшанке от этого пользы пока не видать! Маятник вон тоже на ходиках день и ночь мотается, время отсчитывает, а секретарю время отсчитывать мало! И пускай вволю досыпает, что ему положено, что толку от его недосыпу-то?
— Почему же вы не заявите открыто, что Коробин сидит не на своем месте и что от него нет никакой пользы? Или вы нигде не можете доказать свою сермяжную, мужицкую правду? Если так, то я вам сочувствую — вам действительно тяжело жить и трудно дышать в своем собственном колхозе...
Ей казалось, что Дымшаков подавлен ее иронией. Он слушал ее, опершись локтями на стол, уставив неподвижный каменный взгляд в одну точку. В ней уже заговорило чувство некоторого раскаяния, и она подумала, что, пожалуй, напрасно так резка с ним, но вот Егор качнулся, как бы отталкиваясь от стола, и Ксения поняла, что ее впечатление было ошибочным,— перед нею сидел насмешливо-дерзкий, лишенный какого-либо смущения человек, и в широко распахнутых глазах его играли недобрые огоньки.
— Ты меня, племянница, не жалей, а то, глядя на тебя, и я навзрыд заплачу, — судорожно усмехнулся Дымшаков.— Дождемся конференции и Коровину твоему правду
в глаза скажем, никто теперь молчать не будет, а то слишком дорого обходится нам всем эта молчанка!.. Я сорняк с хлебом никогда не путаю и тебе не советую, а то будешь жевать неизвестно что, а до настоящего хлеба и не добе- решься! По-твоему — если человек о своих нуждах болеет, то он вроде уже и не той правдой живет! Вот слушали таких грамотеев, как ты, и докатились до ручки — ни хлеба, ни мучки!
— Я этого не говорила! — Ксения протестующе подняла руку.— О своих нуждах мы не имеем права забывать, ведь мы живые люди.
— Спасибо, хоть это ты разрешаешь!..
— Ваши шутки неумны и неуместны! — На смуглые щеки ее пробился неровный румянец.— Но если все нач- | нут так рассуждать, как вы, и не видеть ничего, кроме своей избы, то мы забудем не только об интересах государства, но вообще договоримся черт знает до чего! А государ- ство разве о нас...
— Знаю!—Дымшаков упрямо мотнул головой.— Как мы без государства слабей слабого, так и оно без нас. В один сноп все это связано и давным-давно всем известно. Но партия мою сторону держит, а не твою.
— Весьма любопытно! — проговорила Ксения и даже попыталась рассмеяться.— Загадки загадываете?
— А вот посуди.— Егор остановил на ней спокойный вдумчивый взгляд.— Выгодно или нет государству, чтобы мы так жили, как последние годы? Слабее или сильнее оно будет, если мы станем жить получше? Партия сказала — хватит тебе, Егор Матвеевич, перебиваться с хлеба на квас, наступила пора зажить хорошей жизнью!
— А разве я против этого?—поражаясь такому повороту в разговоре, изумилась Ксения и даже отступила на шаг от стола.
— Ты? — Дымшаков посмотрел на нее, словно рассчи- I тывая, как побольнее нанести удар,— Ты, по-моему, ходишь ни в живых, ни в мертвых...
— Зто как же понять? Вы меня просто забавляете. Ксения не замечала, что отец, давно стряхнув с себя тяжелую усталость, весь подавшись вперед, смотрел на нее, словно стыдился всего, о чем она тут говорила, не видела, как участливо и ободряюще кивала ей Анисья, по доброте сердечной жалея племянницу и не одобряя мужа за то, что он поступал не по-родственному, обижая гостью I в собственном доме. — По совести, я давно собирался сказать тебе это, да
ие приходилось...— тихо и угрюмо проговорил Дымша-ков.— Ты к нам никогда не изволишь жаловать, а сам я не привык попусту поклоны отбивать, ну и оставались, что называется, при своих... На партийных собраниях у нас ты редко бываешь, а как заявишься, все вроде как-то строжишься, так что к тебе без дела и подойти вроде нельзя... Ну, а сейчас не пеняй, если против шерсти поглажу... В другой раз, может, и постеснялся бы, а при отце и тетке сполна выложу!
Он словно нарочно помедлил, как бы подыскивая наиболее убедительные слова, и Ксения вдруг почувствовала, что вот сию минуту он скажет что-то такое, что рассорит их навсегда.
— Вот ты вроде стараешься, разъезжаешь по колхозам, сидишь на собраниях, проверяешь наши протоколы, чего-то там советуешь секретарям... Ну, а скажи, что ты сделала для людей такое, чтобы они тебе спасибо сказали? Может, ты где какой колхоз из ямы вытащила или хотя бы на одной ферме порядок навела? Или на другое какое доброе дело коммунистов и всех других подняла?.. И получается странно даже, что ты ни за что не воюешь, а только со стороны за жизнью наблюдаешь и голую идейность разводишь. А вот вывести на чистую воду нашего Аникея или хоть присмотреть нам хорошего парторга вместо Мрыхи-на — на это у тебя гайка слаба! Ты как печка, которую не в избе топят, а на улице — вот она и отдает тепло на ветер!..
— Что Лузган у в.ас давно в печенках сидит, я знаю,— стараясь задеть его самолюбие, сказала она.— Никто й райкоме, конечно, не разделяет вашего мнения о нем, и мы его в обиду не дадим! А чем плох для вас парторг
Мрыхин?
— Эх ты!.. Не для меня он плох, а для дела! Он не работает, в рот Лузгину смотрит да зубы у него считает! А они у него давно сосчитаны!
Расстегнув рывком ворот выцветшей сатиновой рубахи, он навалился грудью на стол и глухо ронял тяжелые и безжалостные слова, не заботясь об их выборе, как бы торопясь поскорее высказать ей все.
— Говоришь ты так потому, что никого в своей родной деревне не знаешь! И не делай такие глаза — я думаю, что говорю!.. Ты хоть раз со мной говорила по душам? Знаешь, что меня мучает, днем и ночью покоя не дает? А я ведь тебе какой ни на есть родственник! Что же тогда о других наших коммунистах говорить! Давай
по списку любого — голову даю на отруб, что по анкете, может, и знаешь кой-кого, а по жизни — нет! Вот после этого и решай, какой ты работник и можешь ли ты меня учить и агитировать, как мне надо работать, по какой правде мне жить!..
Ксения слушала Дымшакова уже без всякой растерянности и обиды.
— Я, Егор Матвеевич, работник еще молодой, и у меня немало бывает ошибок,— сказала она тоном некоторого превосходства.— Мое дело — проводить в жизнь решения партии, а не сочинять для себя какую-то особую работу. С меня вполне хватает и того, что мне поручают... Но вы, видимо, не понимаете, что входит в мои обязанности.
— Эх, пономарь ты, пономарь! — с досадой проговорил Дымшаков и покачал головой.— Звонишь в колокола, а зачем— и сама ие знаешь!.. Болеть надо за все, душу свою отдавать, а ты... Звонарей да указчиков у нас и в колхозе хоть отбанляй!
Дверь с шумом распахнулась, и в избу, смеясь и толкая друг друга, ворвались Егоровы ребятишки — русоголовая девочка, поразительно похожая на мать, смуглолицый, выше ее на голову, мальчик лет тринадцати и крупно-скулый, веснушчатый крепыш лет восьми, вылитый Дымшаков, с такими же, как у отца, озорными синими глазами.
Увидев в избе гостей, они разом оторопели, сбились в кучу у порога и исподлобья глядели на всех.
— Ну чего засовестились? — спросила Анисья и кивком поманила девочку к себе.— Ишь как овечки притихли! А кто дома все вверх дном переворачивает, когда чужих нету? Здоровайтесь вон с дядей Корнеем да с Ксюшенькой, сестрицей двоюродной... Будет дичиться-то!
Пряча глаза, дети несмело подошли к Корнею, и Ксения удивилась, что, потрепав каждого по голове, отец достал из кармана горсть конфет и одарил ребятишек. Ей снова стало неловко и совестно, как в тот момент, когда ее попросили сходить в чайную. Она могла бы, конечно, найти оправдание, почему, впопыхах собираясь сюда, забыла о гостипцах для детей, но от этого ей не стало легче: ведь отец волновался, наверно, пе меньше ее, когда отправлялся в деревню, а нашел вот время подумать и о такой ме лочи, как конфеты...
Давно угомонились на полатях ребятиш- ки, могучий храп Егора перешел в ров- глубокое дыхание, непроглядная тьма льнула к окнам, в сонливой тишине звучно капала из рукомойника вода. Потом, заглушая чистый звон капель, теплую пахучую тьму избы засверлил сверчок.
А Корней как лег навзничь, так и лежал с открытыми глазами, и, как этот надоедливый сверчок, точила его одна тоскливая мысль за другой...
Он думал о брошенном доме, с которым теперь уже бесповоротно решил расстаться, и о споре Дымшакова с дочерью: неужели все его дети скоро станут для него такими же непонятными и чужими? Давно ли Ксюша прибегала к нему со своими детскими печалями и радостями, и вот перед ним совсем незнакомый, далекий, видать по всему, человек.
Корней снова перебрал злые упреки и наветы зятя, разбередившие его до самого нутра, и сейчас ему казалось, что он и в самом деле как будто в чем-то был виноват и перед ним, и перед земляками, а Егор, незыблемо стоящий на своем многие годы, вызывал чувство уважения и даже зависти, хотя завидовать в его жизни было, собственно, нечему.
Ведь и сам Корней когда-то тоже был такой же горячий и неуемный, за все болел душой и никогда не проходил мимо того, что считал во вред колхозу, распекал любого за нерадивость, бесхозяйственность и лень, не боялся сказать правду в глаза ни бригадиру, ни председателю. Да никто особо и не дивился его горячности — не один он вел себя так.
В те годы он хорошо знал, что где посеяно, тревожился, как всходят хлеба, и, хотя об этом его не просили, не раз за весну наведывался в поля. Без всякого бухгалтера он прикидывал, какой доход можно ждать от урожая пшеницы, овощей, от надоя молока.
Иногда у него останавливался переночевать кто-нибудь из районного начальства,— секретарь райкома, предрика, и Корней отводил душу в сердечном разговоре, делился всем, что думал об артельных делах, откровенно, ничего не утаивая и не приукрашивая. Ему дорого было само внимание секретаря райкома или предрика, которые хотели знать обо всем малом и большом, что происходило в
хозяйстве; он был уверен, что один председатель, каким бы он ни был мудрым, никогда не сможет заменить всех.
Корней сам не заметил, какая сила отвела его от артельных дел и забот, и он из рачительного хозяина, болевшего за каждый пустяк, превратился в равнодушного наблюдателя и безгласного исполнителя чужой воли. Началось это еще с войны, когда некоторые руководители в районе перешли в обращении с людьми на голую команду и приказ там, где раньше властвовали добрый совет, душевный разговор и убеждение. Может быть, причиной всему было время сурового спроса с человека, когда весь народ напрягался в жестокой борьбе с врагом, но война минула, а привычка командовать людьми осталась, пустила, как сорняк, цепкие и глубокие корешки. Иногда Корней охватывало чувство гнетущей подавленности, и он во всем начинал винить себя, свою старость. Но ведь и молодые парни и девчата были заражены тем же безразличием и спокойно проходили мимо того, о чем раньше возмущенно гудела бы вся деревня. Значит, не в нем самом было дело.
Особенно такое охлаждение к колхозным нуждам стало проявляться после ареста старого председателя, которого сменил тихий и даже робкий с виду Аникей Лузгин. При Степане он работал кладовщиком, и за широкой спиной Гневышева его было не видать и не слыхать, но стоило ему занять председательское место, как он сразу преобразился. До этого ходил в замусоленном ватнике, а тут сшил себе защитного цвета китель, какие носили районные работники, бобриковое пальто, натянул хромовые сапожки...
Довольно быстро Лузгин обставил себя родственниками, подхалимами, завел нужные ему знакомства среди районных и областных работников, и через год его было не узнать —ходил наглый, самоуверенный, с жесткой весе-линкой в азиатски темных, узких глазах, на всех покрикивал.
О его самоуправстве колхозники писали и в район и в область, но проверять эти письма почему-то приезжали всегда одни и те же люди. И выходило так, что ему одному верили больше, чем всем колхозникам, потому что в районе и области Аникей Лузгин уже слыл за хорошего председателя: он вовремя и даже раньше, чем другие, выполнял все планы, рапортовал одним из первых, имя его почти не сходило со страниц районной газеты.
Да и было чему подивиться! Не успеют в области задумать какое-нибудь новшество, как Аникей Лузгин тут же проводит его в колхозе. Он первым начал строить доильный зал, отделал его кафельной плиткой, смотреть на этот зал и бегущее по прозрачным трубам молоко приезжали чуть ли не из всех колхозов области, зал снимали на кинопленку, бесчисленное количество раз фотографировали. На эту ферму Аникей затратил около трехсот тысяч рублей и распорядился ими, не спросив ни совета, ни согласия у тех, кому эти деньги по праву принадлежали. Но не прошло и года, как доярки забросили механизированный зал, потому что коров к этой дойке приучить не сумели, коровы пугались, резко сбавили удой, к тому же большую часть времени паслись за рекой, в лугах. Зал пустовал, аппараты и все механизмы в нем ржавели.
Через год с небольшим Аникей переоборудовал этот зал под птичник, установил там механизированные птице-клетки, и опять поднялся шум в газетах. Но вскоре без умело составленного рациона, режима и достаточного света куры стали дохнуть. Однако Лузгину все сходило с рук.
Корней, по старой привычке, не раз пробовал высказать разным районным работникам свое недовольство тем, что делалось в колхозе. Как-то в ответ на его критику председателя один из инструкторов райкома сказал: «Кроме наших личных интересов, отец, есть интересы повыше, понял? И товарищ Лузгин лучше других соблюдает первую заповедь: хорошо заботиться об интересах государства». И хотя Корней знал, что Аникей больше всего печется о себе, а не о пользе державы, он спорить не стал: инструктор не располагал к душевной беседе, а разговаривал с ним так, словно он, Корней, был малым и несмышленым дитем, а не взрослым человеком, у которого есть своя голова на плечах.
Районные работники теперь редко останавливались переночевать у кого-нибудь из рядовых колхозников. Поговорив с председателем или парторгом, они спешили засветло уехать домой, а если приходилось задержаться после долгого собрания, то, как правило, гостили у Аникея Лузгина. Никто из них ни разу не поинтересовался, не спросил Корнея, как он живет, есть у него что надеть в будни и праздники и, наконец, бывает ли он каждый день сыт или набивает живот одной картошкой.
Он уже не мог противиться страшной неуверенности во всем: работай, гни спину с весны до зимы, наращивай мозоли па руках, а ради чего, неизвестно — получишь ли что в конце года, чтоб прожить до нового хлеба безголодно, или Аникей пустит все на новую затею, выдав людям какие-то жалкие крохи на трудодень. Работа осточертела ему, и хотя он по-прежнему делал все, что ему поручали, но уже без былой охоты и радостного воодушевления. Наряды бригадира выполнял просто потому, что не находил себе места, если с утра не знал, чем заняться. Перестал он ходить на собрания, потому что не выносил длинных и безудержно хвастливых речей Аникея...
Когда стали отпускать по домам солдат, Аникей, боясь соперников, сделал все, чтобы отбить у фронтовиков охоту работать в родном колхозе. Утолив тоску по близким, солдаты покидали деревню и устраивались где-нибудь неподалеку: в райпромкомбинате, на кирпичном заводе, в любой захудалой промысловой артели. Прижились из тех, кто вернулся с войны, Егор Дымшаков да еще пять-шесть человек.
Не все ладно складывалось и в семье Корнея. Вначале не захотел остаться в деревне старший сын Никодим — отлежался после госпиталя и подался в город, уехала учиться Ксения, за ними потянулся младший, Роман. Дом наполовину опустел, и в Корнее будто что-то надломилось. Он не обращал внимания на то, что все приходило в упадок, ничего не поправлял ни в доме, ни на усадьбе.
И однажды осенью Корней решился на то, о чем прежде думал, как о самом страшном, что могло выпасть на его долю. В ту осень урожай выдался скудный, еле-еле собрали семена, но и их пришлось отправить на поставки, на натуроплату за работу МТС и неубывающие старые долги. На трудодень Корней получил по триста граммов хлеба и ни копейки денег. Чтобы уплатить большой долг, пришлось продать стельную корову и забросить входивший в самую силу яблоневый сад.
Тогда он пригласил к себе в гости Аникея Лузгина, выставил ему щедрое угощение и попросил выдать необходимые для отъезда из колхоза справки. Аникей для виду покуражился, поломался, а затем отпустил его на все четыре стороны: он не забывал, на какое место прочили черемшанцы Яранцева.
На всю жизнь запомнил Корней горькую минуту прощанья с родным кровом. Погрузив на телегу домашний скарб, он взял в руки топор и начал большими гвоздями заколачивать дверь. Заголосила жена, припав к пухлому
узлу, затряс седой головой отец, шепча что-то побелевши* ми губами, и лишь младшая дочка Васеиа, стиснутая со всех сторон вещами, довольная предстоящим отъездом, весело поглядывала по сторонам.
Забив дверь, Корней взял в руки вожжи и, не оборачиваясь, зашагал сбоку телеги. Но когда выехали на улицу со двора, он не выдержал, еще раз оглянулся, и будто жгучим чем полоснуло его по сердцу...
Заворочался на кровати Егор, что-то проговорил во сне—невнятно, громко и быстро, скороговоркой.
«По ночам и то никому не дает поблажки, воюет с кем-то! — усмехнулся Корней.—И откуда в нем сила и вера такая? Мужик, как и я, а поди ты, возьми его голыми руками — обожжешься!»
Будь Корней помоложе, он, может быть, рискнул бы, перебрался в Черемшанку. А ну как потеряешь то, что имеешь? Как тогда жить дальше? Зарплата у него, конечно, невеликая, а все-таки каждый месяц триста пятьдесят рублей вынь да положь! При небольшом огородике и почти даровом жилье худо-бедно можно прожить, а сорвешься с насиженного места и вернешься сюда, так по старой памяти походишь, покланяешься Лузгину. Дрова привезти — проси лошадь, огород вспахать — опять клянчи, соломки скотине, кольев на изгородь, за каждой доской — все к нему, ломай перед ним шапку, будто ты не такой же хозяин в колхозе и лично он делает тебе недозволенное одолжение...
За окнами словно разливалась мутная большая вода, как в половодье, в избе начало светлеть. Корней наконец задремал.
Проснулся он, когда на столе уже шумел ярко начищенный самовар, а у печи, озаряемая отблесками пламени, суетилась Анисья, ловко поворачивала сковороду с пышными оладьями.
— Вставай, дорогой гостенек! — улыбчиво, певуче заговорила сестра.—Уж все давно на ногах! Буду потчевать тебя своей стряпней!
Но Корней наскоро сполоснул лицо, заторопился, будто ждали его неотложные дела. Присев к столу, он до обидного мало отведал оладий, выпил стакан чаю и поднялся, наотрез отказываясь погостить хотя бы денек.
Глаза Анисьи увлажнились, она, как при встрече, стала громко сморкаться в передник, потом взяла брата за пуговку на пиджаке, повертела ее в пальцах и вдруг неловко ткнулась головой ему в грудь и тихо, заплакала.
Ей всегда было горестно расставаться с родными и близкими, какая бы, долгая или короткая, ни предстояла разлука.
Смущенный ее слезами, Корней обнял сестру за плечи.
— Будет тебе, Анисья! Будет... Чай, не за тридевять земель я уезжаю!..
— Гостинца бы какого послать Поле, да нечего... Уж вы не обессудьте!—сказала Анисья, удивительно хорошея от застенчивой своей улыбки.
— Еще чего не хватало! — хмурясь, ответил Корней, чувствуя вяжущую неловкость от этой бесхитростной доброты.
Приласкав на прощанье ребятишек, он оглянулся на передний угол, где раньше висела икона, а теперь полыхал какой-то праздничный плакат, и, вздохнув, шагнул через порог.
За воротами Дымшаков придержал его за полу пиджака и, дыша в лицо махорочным запахом, спросил буднично и просто, как о чом-то обычном:
— Ну, шурин, когда соберешься домой насовсем?
Корней ошеломленно вскинул глаза на зятя, молча переглянулся с дочерью. И откуда Егор взял, что ему вообще могла прийти в голову такая мысль? Не подслушал же он его ночные раздумья!
Дымшаков ждал, и взгляд его подернулся неприязненным холодком.
— Что молчишь? Или душа, как на качелях, туда-сюда бросается и места себе не найдет? А может, в пятках прячется и труса празднует?
— Я никого не убил и не ограбил, чтобы мне хорониться! — не выдержав издевки, возвысил голос Корней.— И кто ты мне такой, Егор, чтобы меня, как прокурор, все время пытать? Зачем, да отчего, да почему? Хватит мне кишки на кулак наматывать! Я у тебя на службе пока не состою, чтобы на все тебе отвечать. Как-нибудь и своим умом проживу!..
— А от начальника, значит, все бы снес? — ехидствовал и скалил прокуренные зубы Дымшаков, потом внезапно изменился в лице, сморщился, как от зубной боли, и помрачнел.— Смотри только не прокарауль чего в своей будке — окошко-то там маленькое, не все видать!..
Глаза его будто немного оттаяли, обветренные губы шевельнула тихая улыбка. Он железно, как клещами, сжал руку Корнея, легонько тронул за плечо Ксению.
— И ты на меня букой не гляди, инструктор! Тебе за Черемшанку краснеть не придется: секретарь обкома сразу в соседний ктолхоз завернет, там и жизнь не чета нашей, да и мать его, видно, не зря за свой дом держится, не уезжает пока никуда...
— А вашему колхозу тоже теперь прибедняться не стоит,—ответила Ксения.— Доход скоро через миллион переползет, и показать есть что, хоть вы и хулите Лузгина. А что мусор кой-какой с дороги убрали, так вы же у себя в избе тоже прибираете, когда кого-нибудь зовете в гости?
— С каких это пор секретарь обкома считается у себя в области гостем? — полюбопытствовал Дымшаков.— Может, и ты тоже себя всюду гостьей чувствуешь?
Ксения промолчала, глядя куда-то мимо Дымшакова, видимо решив не ронять своего достоинства и больше не отвечать на его вздорные упреки и колкости.
— Ох и язва ты, Егор,— вздохнув, сказал Корней.— Ну чего ты к девке пристал? Ровно от нее тут все зависит! Или у тебя уж натура такая, что ты без того, чтобы кого-то не злить, просто жить не можешь?
— А ты ее не защищай — раз взвалила на себя, то пусть и везет или заявит всем, что эта ноша не по ней! — согнав с лица улыбку, сказал Дымшаков и вприщур еще раз окинул Ксению с головы до ног.— И если уж совсем по правде говорить, то выдавай-ка ты лучше ее поскорее замуж, а то она в такой сухарь затвердеет, что потом не укусишь!..
Лицо Ксении пошло малиновыми пятнами, и Корнею стало жаль ее, но что он мог поделать с этим сумасшедшим зятем, который снова, не сдерживаясь, ржал во все горло.
Махнув на прощанье рукой, Егор зашагал серединой улицы, не разбирая луж, по вязкой, деготно-черной грязи, словно перед ним расстилалось ровное и широкое шоссе, а не развороченная, в рытвинах и глубоких колеях, труд-пая дорога.
— Если найдется покупатель на дом, скажи, я за ценой стоять не буду! — крикнул Корней вдогонку.—Слышишь?
Дымшаков мотнул головой, и Корней, тронув за рукав помрачневшую дочь, пошел в другую сторону, выбирая места посуше, стараясь шагать поближе к плетням и заборам.
Вчера, подхлестываемый жгучим нетерпением, Корней опрометью бежал по Черемшанке, ничего не видя перед собой, лишь изредка останавливаясь, чтобы перевести дыхание и стряхнуть застилавшую глаза слезную муть. Сквозь нее плыли, мешали взору черные мушки.
Зато сегодня он жадно озирался по сторонам, сразу примечая все, что взгляду нездешнего человека вряд ли показалось бы интересным: светлую, из березовых кольев изгородь, новые венцы у нескольких изб; крытую розоватым шифером крышу, как яркую заплату среди серых соломенных крыш, и, наконец, нежданно выступивший на середину улицы желтый, восково поблескивающий сруб с разбросанными около него пахучей смолистой щепой и стружками; только что поставленные ворота из свежего теса словно излучали сияние.
«Скажи на милость, строиться начали! — радостно недоумевал Корней и даже оглянулся на дочь, чтобы обратить ее внимание на эти перемены. Но Ксения шла за ним, понурив голову, и он не стал ее окликать.— Последний дом, помнится, перед самой войной ставили, если, конечно, не брать в расчет председателя и его родню. Чудеса в решете, да и только! Так недолго и наш дом перетряхнуть, лучше новенького стал бы!»
Он тут же насупился, точно поймал себя на какой-то запретной мысли, ускорил шаги. Довольно казнить себя тем, чему не суждено сбыться!
Погода, как это часто бывает поздней осенью, менялась прямо на глазах: то в лохматые разрывы низких туч пробивалось солнце и все вокруг начинало играть жаркими красками лета; то вдруг невесть откуда налетала ненастная хмарь, солнце скрывалось за темными облаками, вся деревня словно погружалась в сумерки. — Отец, постой!
Корнея быстро догоняла отставшая было дочь. — Знаешь, отец, а Дымшаков, кажется, не врал! — сказала она и потянула Корнея за рукав.— Смотри, по-моему, это обкомовская машина. Значит, Пробатов на самом деле едет сюда.
Она была необычайно возбуждена, смуглые щеки жег заревой румянец. От недавнего ее уныния и подавленности не осталось и следа; она разительно изменилась и похорошела.
— Я, правда, видела его всего два раза, и то издали, он у пас недавно, месяца три, не больше! Но все говорят, что это замечательный человек! Да ты его должен помнить — он уроженец нашего района.
Не успела она досказать, как ослепительно полыхнуло на солнце ветровое стекло, и кургузый, медленно колыхавшийся «газик» плавно свернул в ближний проулок, к заросшей тальником речке.
— Боже мой! Да они же там застрянут! — испуганно крикнула Ксения и растерянно оглянулась на отца.— Там ужасный мост! Кругом надо объезжать!
Не отдавая себе отчета, что она делает, Ксения вдруг рванулась и побежала наперерез машине, что-то крича и размахивая руками.
Корней заволновался и пустился трусцой за дочерью.
Однако опасения оказались зряшными: у ветхого, из мелкого накатника моста машина притормозила и остановилась — то ли заметили сигналы Ксении, то ли решили переждать, пока проедет по мосту двигавшийся навстречу воз с сеном.
После небольшой заминки груженная сеном телега первой стала съезжать по крутому спуску к мосту. Мужик в распахнутом ватнике весело посвистывал, туго натянув вожжи, чтобы не давать лошади полной воли. Но она и сама выбрасывала передние ноги и, оседая на задние, медленно сдерживала напиравший на нее воз. Выйдя на ровное место, она рывком вытянула его на дощатый настил моста, сделала еще несколько шагов, и тут Корней услышал сухой, сразу бросивший его в жар треск досок. Царапая шаткие перила, воз начал заваливаться на сторону. Бешено орал на лошадь возчик, надрывный крик его был выражением бессилия и нелепой сейчас строгости. Воз оседал все глубже, а лошадь забилась в перекошенных оглоблях.
Корней с дочерью бросились на помощь возчику.
У самого моста их опередил выскочивший из машины высокий человек в сером костюме. Он подбежал к лошади, с непривычной для городского жителя сноровкой быстро отпустил подпругу, рассупонил ее и, рванув на себя узду, поднял лошадь на ноги.
Растерявшийся возчик снова стал было заводить лошадь в оглобли, но человек в сером костюме остановил его:
— Давай сначала воз вытащим, а потом уж будешь запрягать!
Из машины вылез еще один человек, в костюме защитного цвета. Откуда-то, словно из-под земли, появились еще люди, дружно облепили воз, и не прошло и нескольких минут, как его вытащили ни середину моста.
Ксения оттолкнулась от колючего душистого сена и, стряхивая с себя сухие травинки, зашептала отцу:
— Вот это и есть Пробатов...
— Это который же? Не признаю что-то... В зеленом, что ль? — спросил Корней, потому что в этом человеке было больше начальственной осанки.
— Да нет же! — Ксения, досадуя, затрясла головой.— Тот, что лошадь поднимал... Узнаешь?
Корней продвинулся ближе и стал пристально разглядывать Пробатова, который сразу пришелся ему по душе своей ловкой, мужицкой хваткой. Видать, не отвык от крестьянской работы — такого хоть куда ставь: к молотилке, метать стога — выдюжит!
Правда, секретарь обкома совсем не походил на горластого худощавого мужика и серой солдатской шинели, который когда-то верховодил в здешних местах. Только по едва уловимым чертам можно было признать в нем вожака тех ледоломных и бурных лет. Сейчас перед Корнеем стоял и вытирал платком голову и шею высокий подтянутый человек — седой как лунь, но еще моложавый.
«Не вспомнит он меня, наверное,— подумал Корней,— Разве всех упомнишь! Да и не все ли мне едино?»
— Отец, останови его! — отчаянно зашептала Ксения, увидев на мосту неизвестно откуда вынырнувшего Дым-шакова.— Он же сейчас скандал тут такой устроит — стыда не оберешься!
Но было уже поздно — Дымшаков неторопливой, развалистой походкой приблизился к секретарю обкома и смело, свободно поздоровался с ним за руку. Лицо Егора светилось довольством, на лбу блестели капли пота. Смахнув пот рукавом кожаной тужурки, он добродушно улыбнулся.
— Два дня вас ждем, Иван Фомич!.. Все глаза, можно сказать, проглядели...
— Вот как? Не знал...— Пробатов сощурился, левое веко наползло и почти прикрыло глаз, тонкие губы задержали легкую усмешку.— Значит, хотели встретить хлебом-солью?
— Насчет угощения не знаю как.— Дымшаков хрипловато рассмеялся, сбил кулаком лезший на глаза широкий козырек кепки.— А что шик-блеск наводили — это уж точно! Одну дорогу сколько раз бульдозером утюжили, чтобы вам было гладко ехать. Да жалко, не по тому пути вы поехали — вот оно все и поломалось.
— Что ж мост не починили? — Пробатов смотрел на Дымшакова серьезно, без улыбки.
— Кто же знал, что вы этот мост помните? Собирались кругом вас провезти.
Какой позор! Ксения видела, что народу на мосту становится все больше — и откуда только успели узнать о приезде секретаря! — и хорошо понимала, что милый родственник не успокоится до тех пор, пока не выложит все, что его тяготит. Она чувствовала, что должна как-то вмешаться в разговор, иначе весь райком влипнет в ужасную историю.
— Вот вы сейчас вроде к Любушкиной путь держите,— торопливо говорил Дымшаков, словно боялся, что ему помешают высказать все наболевшее.— Конечно, у Прасковьи Васильевны есть чему порадоваться — у них жизнь супротив нашего на несколько лет вперед бежит. А почему? Что мы, враги себе и жить по-людски не хотим? У нас что — руки поотсохли и работы страшатся?
Он так неожиданно выбросил вперед свои руки, что Пробатов даже чуть посторонился перед его темными, чу-гунолитыми кулаками.
— Один раз кого стукну — душа с телом может проститься! А по правде — дурная сила, и нет ей никакого выходу. Разве Аникея разок приласкать? Так руки не хочется марать! Может, сам насосется да отвалится?..
— Закуривайте!—Пробатов раскрыл портсигар, видя, что его собеседнику нелегко дается каждое слово.— А Аникей — это кто же такой будет?
— Неужто не слышали? — притворно удивился Дымшаков и выловил дрожащими пальцами папиросу.— А если его послушать, так он чуть не у каждого большого руководителя в области чаи по-домашнему распивает!.. Да это же наш разлюбезный председатель колхоза Аникей Ермолаевич Лузгин, которым нас еще в войну укрепили, и, похоже, на всю жизнь. На работе он горит — аж дым от него валит, похудел — страсть, из-за живота сапог не видит! Ходит по полям с портфелем и командует! Дай ему полную волю — так он давно бы здесь всех штрафами облепил, засудил, пересажал за решетку и один бы шастал в коммунизм!
Губы Пробатова были плотно сжаты, а голубые глаза, чуть суженные в легком прищуре, откровенно смеялись.
«Почему он так себя ведет? — подумала Ксения.— Вместо того чтобы дать достойную отповедь этому дезорганизатору, он позволяет ему обливать грязью председателя и районный комитет партии. Неужели он верит всему, о чем говорит Дымшаков? Тогда почему же я стою и молчу?..»
— Извините, Иван Фомич, но вас здесь неправильно информируют! — проговорила вдруг она, выступая из-за воза.—Дымшаков, как всегда, все преувеличивает!.. Колхоз «Красный маяк» сейчас находится на подъеме, доход его дошел до восьмисот тысяч, да и товарищ Лузгин не такой злодей и бюрократ, каким его расписывают...
— Ты бы уж не мешалась не в свое дело, Ксения Кор-неевна,— с еле сдерживаемой яростью сказал Егор.— Ну что ты о нашем колхозе понимаешь?
— Постойте,— тихо дотронувшись до плеча Дымшакова, сказал Пробатов, и Ксения почувствовала вдруг, что сейчас вот, в эту минуту, она оказалась как бы наедине с его пристально-вдумчивыми, пронизывающими глазами.— А вы, собственно, кто такая? А то неудобно как-то, идет принципиальный разговор, а мы друг друга еще не знаем!
— Инструктор Приреченского райкома Яранцева,— протягивая руку, представилась Ксения.
— А вы что тут делаете? — Секретарь обернулся к Дымшакову.
— Большой начальник — кто куда пошлет! — криво усмехнулся Егор.— Конюхом работаю...
— Так. Ясно,— сказал секретарь, хотя было совсем не ясно, что он подразумевал под этим.—А какого же Яранцева вы дочь? Я раньше знавал одного Яранцева...
— Да вот он сам у воза притулился! — опережая Ксению, крикнул кто-то из толпы, уже плотно обступившей Пробатова.
Точно притянутый взглядом секретаря обкома, Корней выпрямился и, не сдерживая просившейся на губы улыбки, подошел ближе, поздоровался...
— Так бы я вас не признал, Иван Фомич, а заговорили—ну, думаю, это он,—сказал Корней и, как бы ища поддержки, оглянулся на дочь.— Вам-то уж где меня упомнить!
— Нет, я хорошо вас помню.— Пробатов долго не отпускал Корнееву руку, словно, пока он держал ее в своей, ему было легче вернуться мысленно в те незабываемые, давно отшумевшие годы.— Вы ведь, Яранцев, одним из первых в колхоз вступали? А разве не вы тогда и первый трактор в Черемшанку пригнали?
— Я!..
Секретарь наконец отпустил его руку-, и Корней почувствовал себя свободнее и смелее.
— Да, да,— просияв, подтвердил Пробатов и провел рукой по своим пышным седым волосам, словно сквозившим голубизной над его загорелым и обветренным лбом.
— Ну и что же вы теперь? Какими тут делами заворачиваете?
— Да я, Иван Фомич...— Корней на мгновение замялся.— К дочке вот приехал погостить!.. На заводе работаю, в рабочий класс, можно сказать, перешел... Так что в их делах я тут посторонний!..
— Напрасно так думаете, Корней Иванович,— сказал Пробатов; в глазах его будто что-то погасло, но голос стал тверже.— По-моему, теперь нигде посторонних быть не должно, да и непохоже это на вас! Я помню, как вы, когда помоложе были, впереди всех шли...
— Смолоду мы все были бравые да удалые,— уводя глаза от проницательного взгляда секретаря, тихо ответил Корней.—Стар, наверное, стал, как сырая чурка,—не то что других зажечь, а и сам не загоришься, хоть керосином плещи!
— Не верю! — Пробатов покачал головой.— Кто хочет, тот. загорится!
— Гореть зазря надоело, Иван Фомич, вот что!..
— О чем ты говоришь, тятя? — запальчиво и гневно крикнула Ксения.— Как тебе не совестно! Разве ты голодал когда-нибудь?
— Нет, пышками об'ьедался! — метнув сердитый взгляд на дочь, сказал Корней.— Тебе, конечно, лучший кусок отдавал, а сам воду пил да картошкой закусывал!..
— А вы напрасно опекаете своего отца,— нахмурясь, заметил Пробатов.— Он не глупее нас с вами, уверяю вас. Нам надо было почаще таких вот людей слушать...
— Да чего его слушать! — неожиданно раздался насмешливый голос Дымшакова.— Когда ему было тепло в колхозе, он грелся, а как наступили холода — он дал отсюда деру! Так бы и сказал по правде, а то разводит кисель сладкий — тошнить начинает!..
Пробатов молча покосился на Дымшакова, все более мрачнея и сводя к переносью брови.
— Вы что, всегда так, сплеча рубите? — спросил он.
— А чего мантимонию разводить! Он, как туго пришлось, драпанул отсюда. Или, может, ему медаль за это выдать?
— И однако, действовать топором я вам не советую! Топор вещь хорошая, но грубая и не на всякое дело годится! Не кажется ли вам, что, когда заходит речь о человеке, здесь нужен инструмент потоньше?
— Согласен с вами, Иван Фомич, на все сто процентов! — раздался зычный голос.
Толпа зашевелилась, раскололась пополам, и по освободившемуся проходу двинулся к секретарю обкома Аникей Лузгин.
— Предупредили хоть бы за часок, Иван Фомич, я бы тогда никуда не отлучался,— говорил Аникей Ермолаевич, весь исходя улыбчивой приветливостью.— Для нас это большая радость! Видите — не успел слух пройти, а народ как ветром согнало!
Он сиял защитного цвета картуз, обручем стягивавший его шишкастую голову, и стал торопливо обтирать большим цветастым платком лоб, через который, как рубец, тянулась красноватая отметииа от картуза, и толстый загривок с розовой складкой; по рыхлым, распаренным, как после бани, щекам его катились капельки пота, на угловатой скуле темнело пятно йода — след свежего пореза: видно, второпях брился. Он принарядился в новый темно-синий, военного покроя костюм, в котором всегда выезжал в область, и в ярко начищенные хромовые сапоги с уже заляпанными грязью передками.
— Ох и лиса ты, Аникей! — с тяжелым вздохом протянул Дымшаков.— Кому ты глаза замазываешь? Неделю назад ведь всем говорил, что секретарь обкома к нам пожалует! Да не тот мост чинил — промашку дал!
— Вот посудите сами, Иван Фомич! — разводя в стороны руками и как бы приглашая Пробатова в свидетели, обиженно проговорил Лузгип.— Дохнуть некогда, интересы государства соблюдаю, стараюсь сверх силы, а он меня при всех позорит — и жулик-то я и проходимец!.. Так злобствует против меня, что все из рук валится!
— Ишь заскулила сирота казанская! — тряхнув кудлатой головой, рассмеялся Дымшаков.— Поплачь, может, тебе кто и поверит, примет матерого волка за смирную овечку!
Стоявшие плотной кучкой за спиной председателя двоюродный брат Лузгина Никита Ворожнев, кладовщик
Сыроваткин, бухгалтер Шалымов и бригадир Тырцев, словно по сигналу, вдруг разноголосо заорали;
— Да уймите вы его, окаянного!
— Что на него, советских законов, что ли, нету?
Ксения ждала, что секретарь обкома сейчас-то уж наверняка одернет зарвавшегося критикана и дезорганизатора, но Пробатов непонятно медлил. Всем своим поведением он как бы говорил, что запасся достаточным терпением и не намерен никого ни прерывать, ни останавливать — пусть каждый высказывает все, что считает нужным.
— Я такой же коммунист, как и Егор, но он, вместо того чтобы одну упряжку тянуть со мной, поперек всякому делу ложится! — настойчиво втолковывал свое Лузгин.— А все потому, что хочется ему мое место занять!
— Не мути воду, Аникей, не выйдет! — открыто посмеиваясь пад председателем и еще пуще раззадоривая его, крикнул Дымшаков.— Твое место давно за решеткой, а мне туда неохота! И за партию ты брось прятаться. Это с виду ты гладкий, как яблочко спелое, а раскуси — нутро у тебя гнилое!..
Ксения решила снова прийти на помощь Пробатову, чтобы его не сбила с толку эта несуразная перебрапка.
— Я думаю, Иван Фомич, вам теперь ясно, что это давняя и не очень красивая склочная история! Если их не остановить, они будут переливать из пустого в порожнее до вечера!
Секретарь медленно обернулся к ней, и в голосе его впервые за весь разговор прозвучала та требовательность, суховатая строгость, которая всегда в ее глазах отличала настоящего большого руководителя:
— Если в том, о чем они говорят, нет ничего принципиального, тогда почему райком не положит конец этой склоке?
— Видите ли, Иван Фомич, мы, может быть, недостаточно вникали в эти передряги, потому что считали, что в «Красном маяке» руководящее звено крепкое, работоспособное, толкачи здесь в любую кампанию не нужны — колхоз первым стремится все выполнить!.. Я, по совести, не ожидала, что вы будете свидетелем такой безобразной сцены.
— Если для вас это явилось неожиданностью, значит, вы, по-видимому, не очень хорошо разобрались в том, что здесь происходит.— Оглядев притихших на мосту людей, Пробатов добавил: — Мы поможем, товарищи, районному
комитету партии навести в ваших делах порядок, и давайте на этом сейчас ваш спор прекратим! А теперь у меня вот такой вопрос — скажите, товарищ Лузгин, это чей мост?
— Да, по правде сказать, мы и сами не знаем, чей он! — пожимая плечами, ответил Аникей и покосился на зиявшую щель пролома позади телеги.— Мы считаем, что он государственный, а доротдел за собой его не признает, и получается волынка — досмотру за ним хозяйского нет! Мы, черемшанские, по нему ездим считанные разы, а у Любушкиной тут проходит дорога к полевым станам.
— Выходит, двум колхозам по отдельности не под силу содержать один этот мост? — поинтересовался Пробатов, и теперь уже не только в глазах, но и в голосе его Ксения уловила дрожавшую смешинку.— Теперь мне становится ясно, что вам лучше всего объединиться, и тогда-то уж я не сомневаюсь, что вы как-нибудь справитесь с этим делом, а?
— О чем это вы? — словно проснувшись, переспросил Лузгин и, чтобы как-то скрыть свою растерянность, рывком заключил свою голову в тесный обруч фуражки.— Только мост сообща отремонтировать или на всю жизнь с соседями сойтись?
— А зачем вам по мелочам связываться? Уж если сходиться, то для больших дел и навсегда! Мы как-то прикидывали с вашим секретарем райкома, и, по-моему, может получиться немалая выгода, если два таких хозяйства побратаются. Посудите сами: у вас заливные луга, а у соседей С кормами туго, у них земли — сплошной чернозем, а у вас чуть ли не одни суглинки. И так по всем статьям, что ни возьми. А если все это ухватить в одни руки, будет где развернуться и себя показать. Стоит, мне кажется, всерьез подумать, а? Как считаете, товарищи?
Как бы забыв на время о председателе, он обратился ко всем, кто окружал его живым кольцом. И люди закричали вразнобой:
— Мы-то, может, и рады бы, да как вот Прасковья Васильевна?
— Захочет ли она с нами породниться?
— Есть ли богатому расчет сватать невесту с таким приданым?
Пробатов поднял руку, и все разом стихли.
— Соседи, по-моему, народ понятливый, а если в чем не смогут разобраться, мы им поможем, подскажем — они должны не только со своей колхозной вышки смотреть, а и подальше видеть!
— Только ничего из нашей затеи не выйдет! —покрывая начавшийся шум, громко и с обычной своей насмешливостью проговорил Дымшаков и наотмашь рубанул рукой воздух.— На этом разговоре все и загаснет! Ведь соединись мы с соседями — Аникею с его бражкой зарез, петля! Любушкияа быстро им воровские руки отрубит! Так что они насмерть стоять будут, а не пойдут на это! Наплюйте мне в глаза, если я окажусь не прав!
— Захотят люди вместе жить — пускай живут на здоровье! — сказал Лузган, сложив на груди руки и стараясь показать, что его нисколько не задевают бесшабашные наскоки потерявшего всякую осторожность мужика.— А я на свое место через людей поставлен, и что люди пожелают, то закон для меня. Я каждый день политикой дышу и не бог, чтобы такие вопросы один решать! А вот ты себя, Егор, показал нынче во всем разрезе...
— Ну довольно, товарищи! — хмурясь, прервал их Пробатов, и в лице его Ксения увидела странное смешение еле сдерживаемого раздражения и тревожной озабоченности, которое он словно не хотел обнаружить перед всеми.
Пробатов стал прощаться, пожал руки тем, кто стоял к нему поближе, и неторопливо пошел к машине. Все гурьбой двинулись за ним. Остановившись у раскрытой дверцы, он поискал кого-то глазами, и Ксения замерла, увидев, что секретарь снова направляется к стоявшему чуть в сторонке отцу.
— Может быть, Корней Иванович, вам в гостях так понравится, что вы не захотите и на завод возвращаться? А?
«И на что я всем тут сдался? Будто без меня и прожить но смогут!» — с тоскливой настороженностью подумал Корней, испытывая вяжущую по рукам и ногам неловкость от обращенных на него взглядов.
— Я свое покопался, Иван Фомич, пускай другие попробуют... Да и отвык я за так да за пятак работать...
Ксения быстро метнулась к отцу, страшась, что он сейчас скажет что-то ненужное, лишнее, что может повредить не только ему самому, но и бросит тень на нее как на работника райкома, не способного повлиять на своего отца. Увидев ее умоляющие глаза, Корней насупился и замолчал.
— Ну, мы еще, надеюсь, увидимся с вами,— вздохнув,проговорил Пробатов.— Но заранее условимся, чтобы дочь ваша в следующий раз не мешала нам, как сегодня!
Кровь жарко полыхнула Ксении в лицо. Она обернулась, оглядела всех и поразилась — ее окружали словно застывшие, каменно-бесстрастные лица.
«Неужели я на самом деле никого здесь не знаю? — подумала она, и ей стало не по себе от этой глухой, окружающей ее неприязни.— А что, если они все относятся ко мне, как Егор?»
Сделав крутой поворот, обкомовская машина медленно двинулась от моста в сторону новой переправы.
Ксения окликнула отца, но он уже шел далеко впереди и не отозвался на ее голос.
то же это Яранцев хотел сказать мне?— думал Пробатов, вглядываясь в рыжую, опустевшую после жатвы степь и низко стлавшиеся над нею ненастные, будто покрытые копотью облака.— Может быть, собирался упрекнуть в том, что мне-де легко рассуждать о будущем и звать его снова в деревню, когда я получаю за свою работу немалые деньги, а он вынужден скитаться где-то на стороне или жить в своем доме и довольствоваться таким трудоднем! Да, да, именно это он и высказал бы мне, если бы не дочь...»
Машину покачивало, встряхивало на глубоких рытвинах, но Пробатов не чувствовал ее резких толчков, захваченный потоком беспорядочных мыслей, по привычке держась за гнутую железную скобу перед ветровым стеклом. Уже вторую неделю, недосыпая, не давая себе передышки, он разъезжал по районам области, чутьем угадывал в людской разноголосице, в жарких спорах, неурядицах бурное течение грядущих перемен. Казалось, убрав с полей урожай, деревня вдруг забыла о близком приходе зимы и ни с того ни с сего начала лихорадочно готовиться к весеннему выезду в поле. Только внезапная смена времен года могла вызвать такую взбудораженность чувств и настроений, какую принес партии и стране этот переломный Пленум.
В одном колхозе ему пришлось пережить мучительные и горькие минуты. Доярки окружили его, как только он вошел с секретарем райкома и председателем колхоза в
низкий, сумрачный коровник. Даже не спросив, кто он, откуда и зачем приехал, они начали жаловаться на неполадки в колхозе, на нищенскую оплату труда, не стесняясь присутствия секретаря райкома и открыто глумясь над своим председателем, называя его в глаза и жуликом, и проходимцем, и пьяницей. Женщины как-то ловко оттеснили Пробатова к стене, кричали зло, все более ожесточаясь, размахивая пустыми подойниками. Пробатов попробовал было отшутиться, спросив, не собираются ли они для большей убедительности стукнуть его разок-другой, но неуместным балагурством лишь оттолкнул их. Какая-то краснолицая рябая доярка в лоснящемся ватнике вдруг прекратила бестолковый шум, пробралась сквозь толпу своих товарок и сказала насмешливо-презрительно: «Да что вы, бабы, ему свои слезы льете? Что у него — семеро по лавкам сидят и есть просят? Мало их тут с пузатыми портфелями побывало? Накормят досыта всякими посулами, сами ручки в брючки, и поминай как звали! А наш Митюха снова мудрует над нами, пропивает с дружками наши денежки! Отпустите его подобру-поздорову, а то как бы свое дорогое пальто тут не запачкал!» Пробатову точно плеснули в лицо кипятку, па какую-то минуту оя даже растерялся. Со странной неловкостью он ощутил, что стоит перед доярками в широком пальто из серого ратина, в мягкой велюровой шляпе и мнет в руках черные кожаные перчатки. Секретарь райкома, решив прийти на помощь, вдруг возвысил свой голос до сверлящего визга: «Кто тебе позволил оскорблять самого секретаря обкома и разводить тут антисоветскую болтовню? Кто?!» Доярки слушали его с угрюмой отчужденностью. Судя по всему, этот человек давно перестал быть для них авторитетным руководителем, и только годами воспитанное уважение и доверие к тому учреждению, которое он представлял, заставляло их воздерживаться от дальнейших грубых выходок. Вероятно, почувствовав недобрую настороженность женщин, он внезапно замолчал, точно его, как репродуктор, отключили, и, беспомощно глядя на Пробатова, развел руками: посудите сами, разве их можно в чем-либо убедить!
«Да, этот деятель держался все годы одним своим зычным голосом и считал, что этого вполне достаточно, чтобы вести за собой людей!» —уже неприязненно подумал Пробатов и тихо попросил доярок успокоиться. Он пригласил их пройти в боковушку, где в свободные минуты женщины отдыхали, и попытался во всем спокойно разобраться. Он рассказал им и о недавнем Пленуме, о том, что с этого
дня они не будут больше работать «за палочку», что они не должны всерьез принимать слова секретаря райкома, пытавшегося их запугать с помощью Советской власти.
«Как ухватиться за основное звено, чтобы вытащить всю цепь? — следя за полетом рыжего коршуна, распластавшегося над жесткой щетиной стерни, думал Пробатов.— На что обратить главное внимание? Кадры? Материальная заинтересованность колхозников? Более интенсивная производительность труда? Инициатива и тесно связанное с нею широкое и свободное планирование, которое должно расковать неизвестные нам резервы и возможности? Или все это вместе взятое есть лишь производное от чего-то более важного, чего я пока еще не в состоянии уловить в сложной, не лишенной жгучих противоречий жизни, незнание и непонимание чего помешало нам в свое время увидеть и понять наши упущения и ошибки и ликвидировать их в самом зародыше? За несколько лет мы, несомненно, вытянем наше сельское хозяйство из прорыва, гораздо тяжелее будет восстановить не телятники и свинарники, а доверие к нашим словам у этих доярок и у такого человека, как Яранцев... Водь если из года в год, несмотря на все посулы, они ничего не получали на трудодень, то разрушалось не одно хозяйство, а одновременно происходило что-то с душами людей...»
— А все-таки, Иван Фомич, мужик этот хлюст порядочный! — неожиданно прервал его раздумье сидевший позади в машине Васильев, и Пробатов досадливо поморщился: он не выносил, когда люди судили о чем-либо с маху.
Васильев был постоянным спутником Пробатова во всех поездках, и, как все другие секретари обкомов, Пробатов в шутку называл охраняющего его человека «комиссаром». Было время, когда он сильно раздражал его, даже мешал думать, когда шаркал за спиной своими сапожища-ми сорок пятого размера. Но постепенно Пробатов к нему привык, и теперь даже ночью, ложась в постель, он иногда не мог отделаться от наваждения, что его «комиссар» находится где-то рядом. Однако Васильеву нужно было отдать должное — он умел быть ненавязчивым и почти незаметным. От него исходили спокойная, уверенная сила и то избыточное здоровье и жизнелюбие, которое так ободряюще действует на других людей. Пробатов временами даже забывал о его присутствии, если тот не напоминал о себе, как сейчас, каким-нибудь неуместным замечанием,
— Какой мужик? — спросил Пробатов.
— Я о том, который наводил на всех критику!
— А вы разве знаете его? — холодно поинтересовался Пробатов.
— Да его сразу видать — какой он! Я таких партизанов чутьем беру...
— Ну, ну,— сказал Пробатов.—А не кажется ли вам, что там все обстоит гораздо сложнее?
Васильев молчал, в скошенном зеркальце Пробатову было видно его выбритое до розового лоска лицо, полное официальной почтительности и уважения.
«И откуда у нас эта категоричность и безапелляционность, когда мы судим о людях, да еще по первому впечатлению! — думал Пробатов.— Не успели увидеть человека, поговорить с ним пять минут, и уже готово — раз, и навесили на него ярлык! И получается, что иногда ненастырный, не лезущий в глаза работник ходит у нас в неспособных, а пролаза и проныра, который всегда под руками и всегда готов выполнить любое, даже ошибочное наше распоряжение, пользуется самым большим доверием. Уж этот слова против не скажет!.. Не потому ли нам часто приходится иметь дело с одними и теми же людьми, которых мы сами возвели в разряд незаменимых, хотя их, может быть, давно пора заменять более достойными и способными работниками... Ведь такими поверхностными представлениями о людях мы, по существу, отгораживаемся от широкого и многочисленного актива, потому что куда удобнее работать с ограниченным кругом в десяток человек, чем изо дня в день искать новых людей, открывать в незаметном и скромном труженике даже им самим не подозреваемые способности...»
Не потому ли почти на всех областных и районных совещаниях всегда мелькали одни и те же лица, выступали одни и те же наскучившие всем «штатные» ораторы? Все настолько свыклись с ними, что обычно заранее знали, о чем они будут говорить, не чаяли услышать ничего нового и, однако, с непонятным равнодушием мирились и с потерей дорогого для всех времени, и с этим выматывающим душу пустословием.
«А потом мы удивляемся, почему все идет не так, как бы нам хотелось,— размышлял Пробатов.— Ведь мы не доводим наши мысли, наши начинания до каждого человека, чтобы он сам мог поразмыслить обо всем, загореться новым делом. Нить, связывающая нас с большим коллективом, нередко рвется где-то уже в районе, куда вызывают для очередной накачки председателя и парторга. Возвратись,
они в лучшем случае расскажут о том, что слышали, бригадирам, а то и мимо ушей пропустят, и, несмотря на большую шумиху, все глохнет. Надо решительно увеличивать актив, а может быть, вообще нужно отказаться от этого • слова, заранее определяющего некий узкий, избранный круг людей. Стучаться в каждую дверь, хорошо знать каждого человека, иначе нам не справиться со всем тем, что требует сегодня от нас партия! И любой руководитель, как бы он ни был одарен и прозорлив, не поняв этого главного, может оказаться в положении человека, пытающегося вычерпать море ложкой».
Солнце разворошило пышные стога облаков, и на землю хлынул горячий поток лучей. На заречной стороне открылась обласканная солнцем луговина с уходящими к лесу копнами сена, потом сквозь этот поток пробились темные полосы, похожие на полосы дождя, они постепенно меркли, пока их не смыло слепящими водопадами света.
Пробатов поднял защитный козырек в машине, чтобы полюбоваться сказочно похорошевшей степью.
— В район сначала заедем или сразу свернем к Евдокии Павловне? — спросил шофер.
— Давайте сначала навестим мать, а то может обидеться.
Как только Иван Фомич стал секретарем в родной области, он начал уговаривать мать перебраться к нему в город, но она отказывалась — что ей там делать? Сидеть сложа руки или переливать из пустого в порожнее с домашней работницей? Нет уж, уволь, она к этому не привыкла! В своей родной избе она пока полновластная хозяйка, и если что не по ней, то пошумит и на Тихона и на невестку, а в городе и построжиться будет не на кого! Пробатов смеялся, но в глубине души был немного обижен. Машина поравнялась с березовым, пронизанным солнцем перелеском, и Пробатов заволновался, щелкнул крышкой портсигара, закурил. С холмистого увала стала видна родная деревня — длинная, тянувшаяся по пологой балке улица, охраняемая высокими, уже потерявшими осеннюю позолоту тополями.
У маленького, обшитого тесом и покрашенного светло-желтой краской домика с голубенькими наличниками Про-батов вышел из машины, постоял минуту-другую, оглядываясь по сторонам и ожидая — вот сейчас хлопнет дверь в сенях и кто-то из родных выбежит ему навстречу! Но никто не появлялся, лишь по чисто подметенному двору ходили вперевалочку белые утки и о чем-то оживленно разговаривали на своем утином языке да на подоконнике среди ярко-красных махровых цветов сидел и умывался серый кот.
— Вот и не верь после этого приметам! — кивая на кота, сказал Пробатов.
Захватив чемодан, он зашагал, распугивая уток, к крылечку, поднялся на ступеньки, несколько раз дернул за ручку двери, потом, вспомнив о потайном местечке, быстро нащупал ключ в трещинке за дверным наличником.
В доме было тепло и тихо, пахло недавно побеленной печью, хлебом и чем-то сытным и вкусным, напоминавшим запах парного молока. На стене стучали ходики с зеленоватой стеклянной шишкой на цепочке, на полосатых самотканых половиках лежали солнечные пятна.
Кот спрыгнул с подоконника, прошел по солнечным пятнам и замурлыкал у ног Пробатова, поднимая трубою пушистый хвост.
— Узнал, чудище? — спросил Пробатов и погладил кота по мягкой дымчатой шерсти.— Где же наша хозяйка?
Заглянув в горенку, полную зеленоватого сумрака от цветов, которыми были заставлены не только подоконники, но и украшенные вышитыми салфетками табуретки, Пробатов вернулся в кухню и, не раздеваясь, присел на лежанку.
Сразу усталость налила теплом его ноги и руки, отяжелила веки, и, широко и сладко зевнув, он улыбнулся внезапно возникшему желанию. Сбросив ботинки, Пробатов взялся за деревянный бортик печки, поднялся на лежанку и тут только понял, какой запах властвовал над всеми запахами дома — на печи сушилось насыпанное ровным слоем зерно. От него и веяло этим сытым солодовым ароматом. На рассыпанной пшенице лежали полушубок и подушка — словно кто-то знал, что он приедет и захочет здесь вздремнуть.
С наслаждением вытянув ноги, Пробатов несколько минут лежал, вдыхая знакомый с детства бражный запах сохнущего зерна. Он вспомнил, как мальчишкой любил
забираться сюда в дикие вьюжные ночи, подумал о том, как удивится его озорству мать, но тут мысли его смешались, и он задремал.
Проснулся он от ощущения, что кто-то сидит рядом и смотрит на него.
— Здорово, гостенек! — улыбаясь, тихо сказала мать.— Ты что же, Ванюша, опять печку облюбовал? Будто у нас кровати нету?
У матери было смуглое, чуть иконописное лицо с карими строгими глазами, излишняя их суровость смягчалась добрыми морщинками и девически-застенчивой улыбкой, по которой Пробатов узнал бы ее среди тысяч других женщин. Трудно было даже сказать, в чем заключалась прелесть этой улыбки, но, когда она улыбалась, в выражении ее глаз, в уголках губ появлялось что-то юное, наивно-робкое, полное неповторимого, одной ей присущего обаяния.
— Я старею, а ты все молодеешь, мать...
— Ладно над матерью шутковать! Как дома-то — все хорошо? Все здоровы?
Не отвечая, он приподнялся на полушубке, поцеловал мать в щеку и снова лег навзничь. Он держал в своих руках жестковатую руку матери с взбухшими фиолетовыми прожилками, смотрел на родное каждой своей черточкой, каждой морщинкой лицо, и душу его заливала тихая нежность.
— Дочь-то еще не просватал? — спросила мать, и Пробатов удивился странному течению ее мыслей.
— Найти жениха — это дело не мое, а ее собственное,— отшутился он.— Подберет подходящую кандидатуру и потом поставит родителей в известность.
— Не смейся, а то бы плакать не пришлось! — не поддержав его игривого тона, укоризненно посоветовала мать.— Навяжется какой-нибудь прощелыга, и не отделаешься от него! Смотри не прогляди, чтоб парень на Иришке женился, а не на тебе!..
— Как это? — не понял сразу Пробатов и рассмеялся.— Ты скажешь!..
Она тронула на его пиджаке болтавшуюся на одной нитке пуговицу, покачала головой.
— Что ж, доглядеть там за тобой, что ль, некому? И жена не хворая, и дочь невеста, а одного мужика не могут обиходить как следует — срамота! А ну давай снимай, я живо приметаю!
— Да брось ты, мама!
— Не спорь, Ванюша! А то ведь нехорошо — ты все время на народе, и на тебе все должно быть в аккурате! Люди всякое примечают, особо у тех, кто на виду стоит. Вот, мол, сам-то нас учит и указует нам, а у самого пуговица еле держится!..
Смеясь и притворно кряхтя, Пробатов спустился вместе с матерью с печки, снял пиджак. Пока он обувался, она принесла из горенки нитку с иголкой, пришила пуговицу и вдруг встрепенулась, засуетилась, подхватила с полу ведерный самовар.
— Раскудахталась я тут с тобой, и прямо из ума вышибло, что покормить тебя сначала надо, а уж потом разговорами заниматься!
— Успеется еще, мама...
— Нет, нет! — Мать уже собирала на стол, и Пробатов дивился молодому проворству ее движений.— А пока я буду возиться, ты бы мне рассказал, что па свете творится... Что про войну-то слыхать — не свалится она на нас? Мне вот вроде и жить-то уже немного осталось, а как подумаю про это, так душа с места сходит...
— Вы же получаете газету, слушаете радио. Столько же и я знаю...
— Ладно притворяться — постыдился бы от матери-то скрывать!
Пробатова всегда забавляло, когда мать пыталась выведать у пего что-то такое, о чем якобы не пишут в газетах, не говорят по радио, но что непременно долями знать ее сын, раз он занимает такую высокую должность, заседает в Верховном Совете, встречается с большими людьми. Такое наивное убеждение жило не только в душе матери. Часто люди, разговаривая с ним, хотели услышать от него что-то особое, известное немногим.
— Если бы случилось что-нибудь серьезное, мать, то народу об, этом сразу бы сказали! А волновать людей без причины не стоит.
— Я тоже, когда досаждают, так говорю всем,— согласилась мать.— Разве, мол, Иван Фомич что утаил бы от матери, если бы на самом деле что было!
— Да, чуть не забыл, мама! Я же тебе подарок из Москвы привез.
Посмеиваясь, Пробатов опустился па колени перед своим дорожным чемоданом, вынул оттуда бумажный сверток, и из рук его скользнул на крашеный пол вишнево-темный, будто охваченный сизоватым инеем, тяжелый шелк.
— Балуешь ты меня, Ванюша,— любуясь красивой материей, сказала мать.— Куда мне, старухе, такое носить! Вот, скажут, вырядилась!
— Ничего, не осудят, поймут. В молодые годы не носила — теперь порадуйся!..
Мать насухо вытерла руки о фартук и тоже присела рядом с ним, перебирая в пальцах играющую бликами материю...
Так сидящими у расплескавшегося на полу шелка и застала их Любушкина. — Начальству низкий поклон и почтение! — нараспев проговорила она.— Ну, думаю, пока догадаются позвать, я сама нагряну — авось не сгорю со стыда!
— Здорово, председательша, всегда рад тебя видеть! — Пробатов выпрямился и пожал по-мужски сильную руку женщины, откровенно любуясь обветренным румяным лицом, полным того открытого, мужественного достоинства, которое, по его мнению, всегда отличало хорошо знающих себе цену людей труда.
— Экая красотища, батюшки! — протяжно ахнула вдруг Прасковья Васильевна и бросилась, не раздеваясь, к шелку.— Сделают же такое чудо!
Не спрашивая разрешения, она быстро сняла -коричневую плюшевую жакетку и, набросив переливающийся лунными бликами конец материи на грудь, подошла к висевшему в простенке зеркалу.
— До чего хорош — душа заходится!
Как зачарованная стояла она у зеркала, чуть вскипув голову, потом начала плавно поворачиваться то боком, то спиной, казалось, забыв, что она в горенке не одна.
— Годы наши не те, дьявол бы их забрал! — словно приходя в себя, с неподдельной грустью проговорила она и отложила шелк в сторону.— Вот походить бы так, потешить сердце, а уж вроде и совестно и ни к чему. Бабий век — сорок лет!
— Вот и неправда! — сказала Евдокия Павловна.— В народе хоть так и говорят, да прибавляют: «А в сорок пять — баба ягодка опять!»
— Ай да мать! — Пробатов обхватил ее за плечи, смеялся до слез.
— А что? — не сдавалась та.—Лишь бы самой нравилось, а на всех не угодишь! Вот если уж у самой охота красоваться пройдет, то тогда, что ни надень, все равно старуха...
— Так-то оно так,— раздумчиво протянула Любушки-на.— А все же совесть знать надо и не надо делать вид, что годы тебе нипочем. Не гребень чешет голову, а время...
— Ладно сердце зря травить,— сказала Евдокия Павловна.— Садись за стол, чайком побалуемся!
— Не откажусь! За чаем-то и Иван Фомич меньше строжиться будет, гляди, и поможет чем...
— Ох и хитра ты, Прасковья Васильевна! — усаживаясь за стол, сказал Пробатов.— Умеешь сиротой прикинуться— и того-то у вас нет, и этого не хватает,—гляди, секретарь обкома и раздобрится, леску выделит, кирпичей, а то и новую автомашину.
— Ну как в воду глядели, Иван Фомич! — грея над блюдцем красные руки, сказала Любушкипа.— Если председатель колхоза будет нростоват да трусоват, какая от него польза?
Пробатов оттаивал, когда встречал таких людей, как Прасковья Васильевна Любушкина. Удивительно приятно было слушать ее сильный, сочный голос с едва уловимой задоринкой! Разговаривая с Любушкиной, Пробатов каждый раз словно сам набирался свежих сил и бодрости.
В те годы, когда он верховодил в районе, он почти не знал Пашу, робкую и худенькую девушку, всегда сторонившуюся шумных сборищ и уступавшую всем дорогу. В бедной многодетной семье она несла основную тяжесть домашних хлопот и забот, а когда умер отец, кормила и поднимала на ноги ораву младших братишек и сестренок. В войну, узнав из письма матери, что председателем колхоза выбрали Любушкину, Пробатов с трудом припомнил ее. И вот то, что за два десятка лет не сумели сделать ходившие в председателях здоровенные мужики, оказалось под силу этой волевой, внешне такой простодушной женщине, смотревшей на него сейчас с явной лукавинкой.
— Рассказывай лучше, как сама живешь-можешь, Прасковья Васильевна,— попросил Пробатов, и Любушкина взглянула на него с благодарностью. Вот Коробии хоть и чаще бывает, а ни разу не спросил, как она себя чувствует, все про одни надои расспрашивает, как будто одними только надоями живет и дышит!
— Как с мужем-то, ладишь? Он ведь у тебя второй?
— Второй...— Любушкина помолчала, спрятала под стол руки и загляделась в налитое до краев блюдце,—
Кровный-то мой под самой Москвой с жизнью простился... Душевный он был у меня... Все письма его берегу. Иной раз захочется — почитаю, пореву маленько, и вроде полегче станет...
— Тогда, прости, я не понимаю тебя.— Пробатов был сбит с толку.— Ты нее с Тимофеем как будто неплохо живешь, а?
— А я Тимофея и не хаю,— спокойно ответила Любушкина.— Разве я себе никудышного какого выберу? Но первый у меня был орел! И сам ввысь рвался, и меня за собой тянул.
Она глубоко вздохнула, подула на блюдце, отпила глотка два и чуть отстранилась от стола.
— Тимофей, конечно, мужик добрый и жалеет меня, а все ж сосет у него внутри, что я, а не он, делами-то ворочаю... Намедни сидим поздно вечером — в доме прибрано, тепло, по радио музыка хорошая играет... Я за книжку взялась, и он что-то мастерит. А потом поднял голову да вдруг ни с того ни с сего и брякнул: «Побить бы тебя разок, что ли, Паия? А то тошно, прямо сил нет...» У меня глаза на лоб полезли — и смешно, и плакать хочется, вот дурень, чего сморозил! Вишь, власть ему хочется надо мной показать! «Ну побей, говорю, если тебе легче от этого будет, я согласная...»
Пррбатов рассмеялся, но, взглянув в задумчиво-строгое, без улыбки лицо женщины, замолчал.
— Как первого убили, думала, и сама жить не буду,— тихо рассказывала Любушкина.— А тут еще в колхозе маета... Скот дохнет, жрать нечего — завяжи горе веревочкой... Собрали как-то нас в клубе, слышу, бабы меня называют. Я аж похолодела вся. «Загубить меня хотите!» — кричу им, а сама чуть не в голос реву. «Будем слушаться, говорят, не загубим!» И как я на такое дело тогда пошла — ума не приложу!..
— Народ тобой, Паня, доволен,— как бы стараясь утешить председательницу, сказала мать.— Чего ж еще?
— А есть такие, что беспокоят или критикуют тебя? — спросил Пробатов, и Любушкина впервые за все время разговора посмотрела на секретаря с пытливой настороженностью, желая разгадать, почему он этим интересуется: просто так или по причине какой-нибудь кляузы?
— Люди в колхозе есть всякие, Иван Фомич,— сдержанно ответила она.— На всех не угодишь! Да и без колючих людей тоже жить нельзя — не заметишь, как сам
заснешь на ходу... Да и умней народа все равно не будешь, сколько ни пыжься да ни надувайся!..
— Постой, Прасковья Васильевна,— движением руки останавливая Любушкину, сказал Пробатов.—Как же ты понимаешь, что умнее народа все равно не будешь?
— Что ж тут мудреного? — Любушкина пожала плечами, как бы удивляясь тому, что ей приходится пояснять секретарю такие простые мысли.— Я считаю: тот, кто больше других слушает и от всех ума набирается, тот и руководитель хороший... И он от народа ничего не скрывает, и народ от него не таится... А народ завсегда все знает и болеет за все душой, он сильней сильного!..
— Да, да,— закивал согласно Пробатов, радуясь и удивляясь тому, что мысли Любушкиной созвучны его недавним мыслям,— Ну, а что ты будешь делать, если на собрании или вообще в колхозе возьмет верх отсталое настроение? Ты и тогда скажешь, что умнее народа нельзя быть?
Любушкина ответила не сразу. Она считала, что Пробатов затеял этот разговор не без умысла, с какой-то потайной целью, и опасалась, как бы со своей бабьей откровенностью не брякнуть чего не следует! Как и все в колхозе, она гордилась, что руководитель области был уроженцем их деревни, и — чего греха таить! — ей хотелось чем-нибудь удивить его, похвалиться новыми постройками, ценной для хозяйства покупкой. Как истая и рачительная хозяйка, она была до крайности самолюбива и несказанно огорчилась бы и обиделась, если бы Пробатову что-либо пришлось не по душе.
«Видно, что-то приметил,—думала она, ничем пока не выдавая своего беспокойства и пытаясь по выражению лица Ивана Фомича определить, что он хочет у нее выведать.—Нет, неспроста он издалека подъезжает, ох, неспроста!»
— Народ у нас в колхозе сознательный, Иван Фомич, его агитировать за хорошее не надо, сам без председателя разберется, что к чему! Да и коммунисты на что? Разве они будут сидеть, в рот воды набравши?
— Ну, а что, если и коммунисты оплошают? Бывает же иногда такое...
— Ну, тогда вы нас поправите, Иван Фомич. Пробатов не сдержал улыбки. Ловка, ничего не скажешь!
— Это хорошо, что ты уверена в людях, можешь их на доброе дело поднять,— сказал он и, поставив под кран самовара пустой стакан Любушкиной, налил чаю и добавил молока.— Позволь за тобой поухаживать, Прасковья Васильевна!
— Спасибо. Это мне надо за вами ухаживать, а мы у себя дома...— Она еще не была уверена, что чутье обмануло ее и Пробатов только и добивался услышать от нее то, что и сам хорошо знал.
И она не ошиблась. Отпив несколько глотков чаю, он, как бы между прочим, поинтересовался:
— Почему вы мост через речку не почините? Материала, что ли, нет?
«Вот оно!» —сказала себе Любушкина, легко разгадав за наивной простотой вопроса таившуюся неприятность.
— Аникей уже успел нажаловаться? Ну и бессовестный мужик!
— А в чем дело-то?
— Как в чем? Значит, он все на меня свалил? Мы же договорились с ним по очереди мост поправлять — один год мы, другой они... А я и так его уже два раза подряд ремонтирую!..
— Вам никогда но приходила в голову мысль слить ваши хозяйства в одно? Конечно, не для того, чтобы из-за моста не ссориться, а для большей взаимной выгоды, а?
Это было так неожиданно, что Любушкина даже привстала за столом, не сводя с Пробатова напряженного взгляда.
— Вы, конечно, шутите, Иван Фомич?
— Нет, зачем же! Ваши соседи с большой охотой к вам пойдут! Я только недавно оттуда, и, судя по всему, там возражений особых не предвидится!
Прасковья Васильевна снова опустилась на стул, отодвинула от себя стакан, с минуту молчала, обиженно поджав губы.
— Они-то, может, и с премилым удовольствием, да вот нам с ними родниться никакого расчета нет...
— Значит, все дело только в том, что нет расчета?..
Она понимала, что, отвечая так, ставит себя в невыгодное положение, даже что-то теряет в глазах секретаря обкома, но по свойству своей горячей и самолюбивой натуры не могла уже сдержаться.
— Вы сами понимаете, Иван Фомич, что неволить нас никто не может, а я одна такое дело не решаю — куда люди, туда и я! Но закрывать на правду глаза я тоже не хочу! У нас люди уже наработаются досыта, а в Черем-шанке только с постелей встают! У нас скажи что — повто-
рять не надо, сразу делают, а у них лаются все друг на друга до хрипа... Идти, конечно, и с гирями на ногах можно, да будет ли прок какой?
— Кто их, черемшанских, не знает! — поддержала председательницу мать.— Сроду по чужим огородам да садам шастают!
— Неужели всем миром так и совершают нашествия — женщины, старухи, дети? Может быть, даже во главе со своими бригадирами?
— Я, Ванюша, о подростках.— Мать была явно смущена.— Есть там у них такие.
— А у вас, безусловно, любителей лазить но чужим садам нету? — открыто насмехался Пробатов.— У вас все мальчишки ангелы?
— Да не в ребятах суть,— сбитая неумелой поддержкой Евдокии Павловны, хмурясь, сказала Любушкина.— Сколько раз можно объединяться? Мы себе один раз уже взяли бедный колхоз...
— Да, года два, может, придется потерпеть, пока снова в силу войдет. Не хмурься, Прасковья Васильевна, дело говорю. Одни их луга дадут такое, что вам и не снилось,— стадо раза в четыре сможете увеличить, а если станете еще травы подсевать, зальете молоком всю область. Капуста у них плохо родится, культуры у них, что ли, нет настоящей, а вы там возле реки на заливных илистых землях будете брать урожай побольше, чем у себя. Опять же за рекой озера у них, птицу разведете и осенью целыми машинами станете в город возить. Не веришь?
— Оно со стороны, конечно, рай, а не жизнь получается... Только где мне с ними управиться! Аникей все горлом берет.
— Не плачься, не строй из себя горемыку! Почувствуют люди настоящий интерес и работать начнут так же, как и ваши колхозники. Да и не стану скрывать от тебя — объединитесь, и одним плохим председателем в районе будет меньше.
— Ну, Лузгина легко с места не сдвинешь, с мясом надо будет рвать! — Любушкина рассмеялась, но тут же свела строго брови.— Не уговаривай понапрасну, Иван Фомич. Не по плечу эта ноша мне, да и надоело, по правде: тянешься, тянешься — и как в сказке про белого бычка.
— Значит, ты категорически против?
— Да что я! Не захотят наши с ними родниться. А насильно мил не будешь.
Пробатов слушал, не поднимая глаз, словно стыдясь чего-то, испытывая чувство разочарования и усталости.
— Настаивать на вашем объединении никто, конечно, не будет,— сказал он, наблюдая за растерянным, в малиновых пятнах лицом Любушкиной.— Это ваша воля и ваше доброе желание! Но меня вот что удивляет, Прасковья Васильевна: как вы можете людей целого колхоза огулом зачислить в лодыри? И потом вот еще: вы уверяли, что народ у вас в колхозе сознательный, что его на хорошее дело агитировать не надо, а сейчас вдруг, даже не спросив мнения всех, самолично за них отвечаете? Как же после этого прикажете понимать ваше рассуждение о том, что умнее народа все равно не будешь, а?
Любушкина сидела, опустив голову, затенив ладонью глаза, и не отвечала...
Пробатов уехал из деревни под вечер, когда откланялась Прасковья Васильевна. Они посидели еще немного в сумерках, и мать вышла его проводить.
— Шерсти па днях па базаре купила. Чудо какая хорошая!— похвалилась она, когда вышли в сени.—Хочу вам всем носки вязать. Сперва тебе, а уж потом...
— Не надо, мать, у меня же есть носки.
— Эка сравнил! — чуть было не обиделась мать.— Да нешто магазинные с нашими могут спорить?
— У тебя и так хватает работы.
— Не отвалятся руки-то! Или ты носить не хочешь? Тогда скажи.
— Да нет, свяжи, пожалуйста. Кто ж от добра отказывается?
Деревня тонула в сумеречной мгле, моросил мелкий дождь. Пробатов оглянулся на мать, шедшую рядом в наброшенном на плечи платке, и забеспокоился:
— А ты не простудишься? Уж больно легко оделась... Мать засмеялась.
— Что-то ты пужливый стал, Ваня! Забыл, что ль, как я босиком на снег выскакивала? Бывало, мою дол, не хватит воды, и по снегу, аж пар валит, наискосок, через улицу так и прожгешь до колодца!
У калитки она задержала его, запустила пальцы в мягкие седые кудри сына, погладила пепельные виски, вздохнула, и Пробатову опять, как и в прошлый раз, стало грустно расставаться с матерью.
— Ну, когда ты насовсем переберешься ко мне, а? Упрямая ты! Был бы жив отец, скомандовал бы тебе — кругом арш! — и вся недолга.
— Мной и отец твой не командовал.— Она помолчала, словно вспоминая о чем-то своем, далеком,— Вашему брату мужику только один раз дай распоясаться — потом не удержишь! Нет, Ванюша, к тебе я не поеду, ты не обижайся, так надо!
— Да кому надо-то?
— А может, тебе первому больше всех нужней, чтоб я в деревне жила да работала!
— Мне? — Пробатов был не на шутку удивлен, и раздосадован, и встревожен.— Вот ты, кажется, на самом деле хочешь меня обидеть...
— Да ты не торопись, лотоха! — Мать притянула к груди его руку.— Ты кем сейчас работаешь в области, знаешь?
— Вроде знаю,— не понимая, к чему клонит мать, ответил Пробатов.
— А ты никогда не думал, что скажут люди, если я завтра не выйду на работу и перестану вместе со всеми перебирать картошку к зиме?
— Ну что ж, ты не молоденькая! Разве ты не заслужила на старости лет свой отдых! И пойми...
— Я-то пойму, а вот люди могут не попять, и это уже будет тебе во вред. Как, мол, сын стал большим начальником, так и в нашей работе, и в нашем хлебе у нее нужды больше нет... Хлеб для нее легким сделался!
— Что-то, мать, по-моему, ты путаешь...
— Да и не в нашей одной деревне дело-то, Ванюша! Кругом ведь знают, где твоя мать и что она делает, верно? И ежели ты меня от колхоза оторвешь, люди скажут — значит, самый первый человек в области не надеется, что тут у всех хорошая жизнь наладится. А когда все видят, что я тут рук от земли не прячу, значит, и тебе больше веры. Зачем бы ты меня стал здесь держать, когда б не надеялся, что тут жизнь будет не хуже, чем в городе?
У Пробатова сжало горло. Он смотрел на темное лицо матери, поражаясь этой древней, могучей своим постоянством любви к земле, к труду, к людям, с которыми она прожила всю жизнь, но еще больше радуясь тому, что она так чутко понимала его.
— Спасибо, мама...— тихо проговорил он и, обняв мать за плечи, долго и безмолвно стоял с нею в тишине, прежде чем оторваться от нее и выйти за калитку к машине.
Несмотря на то что секретарь обкома обошелся с ним не сурово, а скорее даже приветливо, Аникей Лузгин уходил от моста в подавленном настроении. Именно эта ровная вежливость произвела на пего самое удручающее впечатление. Она тревожила и пугала Аникея, потому что неизвестно, что за нею скрывалось.
Было гораздо легче, когда разные представители из области напускали на себя невозможную строгость, зло выговаривали ему, подметив какие-нибудь зряшные неполадки, и, что называется, учиняли полный разнос. В таких случаях можно было заранее сказать, что гроза ненадолго, начальство выкричится, а потом обязательно сменит гнев на милость, особенно если ты будешь слушать упреки с видом человека, познавшего свои заблуждения и ошибки. Подобные представители были самыми безопасными, потому что они, как правило, плохо знали хозяйство и свое незнание вынуждены были возмещать повышенной взыскательностью. Перед ними главное — молчать и ни в чем не оправдываться, и все кончится миром: начальство уедет к себе с чувством хорошо исполненного служебного долга, а ты можешь снова делать все по-своему.
Куда труднее было, если в колхоз приезжал дотошный, во всем разбирающийся человек. Такого руководителя не проведешь! Обнаружив серьезные промахи и недостатки, он мог решиться на крутые меры. Тут одно спасение — жалуйся на всякие помехи, проси помощи и поддержки и, не теряясь, выкладывай одну нужду за другой. Не забывай при этом водить его по всем фермам, бригадам, чтобы, он с непривычки устал до изнеможения и подумал — да, видать, председателю на самом деле нелегко! Ну и уж под конец давай любые заверения и обещания все изменить к лучшему и в нужные сроки. Когда-то он выберет время снова заглянуть в твой колхоз, если их в области тысячи!
Но, пожалуй, больше всего приходились Аникею по нраву руководители, которые любили слушать в основном только самих себя. Эти обычно не утруждали себя знакомством с хозяйством, всерьез ничем не интересовались и приезжали в колхоз уже с готовыми «проектами», которые надлежало лишь провести в жизнь. В «проектах» недостатка никогда не было, так как начальство постоянно
чем-нибудь увлекалось, «болело», 'и важно было вовремя подхватить очередную затею, расхвалить ее и уверить, что введение такого новшества даст небывалый результат. Если требовалось заявить о повышенных обязательствах, Аникей тоже не задумывался, соглашался с любыми доводами, а если спорил и возражал, то только ради проформы, чтобы не подумали, что он безмозглый какой чурбан. Начальство уважало в меру самостоятельных людей! Ведь для них самое главное было в том, чтобы он взял обязательства, а как он будет их выполнять, есть ли для этого возможности и условия — таких людей не тревожило, потому что они жили своей выдумкой, и ничем больше. Доказывать же им нереальность того, что они предлагали, тоже не имело смысла — их не убедишь, а себе навредишь.
Именно наличие таких «проектных», как их называл Аникей, руководителей, заставляло его нерушимо придерживаться одного железного правила: самому не брать в колхозе ничего сверх того, что ему положено было по закону,— и этого вполне хватало на жизнь. Но зато он позволял «брать» другим — бригадирам, заведующим фермами, всем, кого он поставил на командные посты в колхозе. Уличив такого человека в мелком воровстве или жульничестве, потом можно было держать его в крепкой узде. Не скупился Аникей и если кто из приезжих проявлял охоту поживиться за счет колхозного добра.
Время давно осудило людей, запускавших руки в артельный карман, и все-таки, несмотря на все строгости, встречались еще любители дарового добра. Кое-кому Лузгая посылал подарочки к праздникам, и ничего, не брезговали, брали. Это позже окупалось с лихвой, когда Аникею что-нибудь требовалось получить в области или районе из дефицитных материалов.
С таким руководителем, как Пробатов, Лузгин встретился впервые и поэтому начал тревожиться и даже паниковать. Поди пойми его, когда он с одинаковым интересом слушает и тебя, и позорящего твой авторитет Дымшакова. Догадывайся потом, ломай голову, чью сторону он занял в споре, что про себя решил.
Поднявшись от моста в горку, Аникей обернулся. За ним на некотором расстоянии понуро брел брательник, Никита Ворожнев, суетливо семенил, вытягивая жилистую шею, тощий и высокий кладовщик Сыроваткин, угрюмо, ни на кого не глядя, шествовал рябой и сумрачный бухгалтер Шалымов, словно стараясь быть незаметным, горбился и негромко покашливал в кулак бригадир Ефим
Тырцев. Замыкала жидкую цепочку председатель сельсовета Екатерина Черкашина, зябко кутавшаяся в темную шаль. Шли они молча, вот почему Аникей не сразу почувствовал их за своей спиной. Тоже мне защитники! Он скривил в презрительной усмешке губы. Как что урвать из колхоза — их звать не надо, тут как тут, носом учуют, а как нужно заткнуть рот одному горлохвату, так их нету!
— Ну чего плететесь, ровно хороните кого? — зло крикнул Лузгин и недобро засмеялся.— Насмерть перепу-жал вас Егорка?
— Блоха не великая тварь, а почешешься от нее! — трудно дыша, проговорил бухгалтер Шалымов, и на безбровом, по-бабьи пухлом лице его Аникей не увидел обычной как бы застывшей ухмылки. Похояге, и этот невозмутимый цифроед не на шутку был встревожен.
— Блоху поймал — и к ногтю! А Дымшак ведь ровно кобель с цепи сорвался! — зверовато буркнул Никита Ворожнев.— Кажись, моя бы воля — придушил бы гада вот этими...
Он выставил вперед спои темные, узлонатыо ручищи разящая пальцы и свел в кулаки, но Аникей грубо остановил его:
— Потише ты, вояка!.. Размахался после драки — тут много ума не надо, да и Егор так даст сдачи, что закачаешься!
Подошли остальные, обступили Лузгина, молча свернули по цигарке, задымили. Последней поднялась и отдышалась Екатерина Черкашина. Теперь все были в сборе, кроме парторга Мрыхипа. Боится после опохмелки показываться!
— Ну что, орлы, пройдемся по хозяйству? - оглядывая унылые лица, сказал Аникей.— Не такое видели, так что руки кверху поднимать не будем!
Он говорил нарочито громко, посмеиваясь, словно то, что произошло на мосту, не только не страшило его, но даже не беспокоило.
— Я не могу пойти с вами,— проговорила Черкашина и покраснела.— У меня срочные дела в Совете...
— Так...— протянул Аникей и пожевал губами.— Иди, коли не терпится!..
Он надеялся, что, услышав эти слова, звучавшие предостережением, Черкашина раздумает и останется, но она круто повернулась и быстро, не оглядываясь, пошла по улице. Аникей чуть не задохнулся: у него было такое ощущение, словно эта строптивая женщина сейчас хлест-
нула его по щеке. Еще никто ни разу не высказывал ему такого открытого непослушания и, уж во всяком случае, не осмеливался отказываться от его приглашения. И вот на тебе, не такая уж важная персона, да еще баба, показывает ему свой норов! Ну что ж, запомним, Екатерина Андреевна, этот ваш номер, не возноситесь высоко — больно падать будет!
Глаза его сузились в темные щелки, и он с минуту не мигая смотрел на тех, кто окружал его.
— Может, еще кому недосуг — так я не держу! — тихо выдавил он сквозь зубы, и вдруг долго сдерживаемая злоба опалила его.— Ну что вы сбились, как овечки перепуганные? Боитесь, стричь начнут?
Умом он понимал, что говорит не то, что, оскорбляя тех, на кого все эти годы опирался, он отталкивает от себя единственно верных ему людей, но уже ничего не мог поделать с собой.
— Опостылели вы мне, обрыдли! — брызгая слюной, кричал он.— Глаза бы на вас не глядели!
Он точно мстил им за то, что они были живыми свидетелями его собственного бессилия перед Дымшаковым, Может, после этого они думают, что его вообще легко свалить?
— Уходите, и без вас обойдусь!
Зло плюкув себе под ноги, Аникей тяжело перевалил свое рыхлое, грузное тело через прясло огорода и зашагал между грядками, с хрустом давя старую картофельную ботву. Он не жалел о сказанном. Невелики шишки, стерпят! Кому они нужны? За каждым из них он знал немалые грешки и мог в любую минуту поквитаться со всяким, не нанеся себе никакого урона. Даже сговорясь между собой, избрав его жертвой, они не смогли бы выйти сухими из воды!
Он шел от фермы к ферме, бродил, заглядывая во все уголки, стараясь обнаружить непорядок, но, даже замечая явную бесхозяйственность и нерадивость, не выговаривал никому, не распекал, как обычно, а, странно робея, сдерживал мутившую его ярость.
У силосной ямы, из которой, как из котла с варевом, валил пар, два мужика вилами бросали в открытый кузов автомашины темно-зеленую силосную массу. Аникей задержался около них, спросил:
— Сколько машин отвезли?
Никто не ответил ему — то ли мужики не слышали его вопроса, то ли притворились. В другое время он живо нагнал бы страху, но тут смолчал и, даже не повторив вопроса, потоптался около машины, пошел дальше.
Сегодня он прямо-таки жаждал, чтобы кто-нибудь обратился к нему хоть с какой-нибудь просьбой. То вечно с утра до ночи только и слышишь — разреши то, отпусти это, помоги тем-то, а нынче ни один не заикнулся.
В правление Лузгин вернулся вконец расстроенный.
«Это их Егор настропалил, в уши нажужжал,— думал Аникей.— Иисусиком себя выставляет, авторитет зарабатывает».
Но как бы дурно он ни думал о Дымшакове, это не приносило ему облегчения. Он тихонько прошел по коридору и без стука втиснулся в небольшую комнату-боковушку, где ютилась сторожиха правления, она же уборщица, а при нужде и посыльная.
— Нюшка, ты дома?
В сумеречном углу на кровати зашевелился шубняк, сторожиха свесила босые белые ноги, с хрустом потянулась.
— Тсс! Будет тебе, бесстыжая! — понизив голос, зашикал Аникей.— И когда ты только выдрыхиешься?
— Мне за сон не платить,— сладко раздирая в зевоте рот, сказала Нюшка и, громыхнув стулом, слезла с кровати.— Не мятушись, садись вон... Не часто ты в нонешний год гостишь у меня...
— Может, еще что брякнешь? — сердито просипел Аникей.— Не до тебя мне сейчас, прямо петля подходит...
Он насупился, сдернул с головы фуражку, полез в карман за платком.
— Сроду ты ноешь, Аникей! Петлю, вишь, на него заготовили. Ты сам ведь из кого хошь веревку совьешь да еще на этой веревке и удавишь!
— Замолчи ты, звонкодырая! — кивая на дверь, взмолился Лузгин.
С тех пор как он знал Нюшку, она всегда была вот такая озорная, дерзкая па язык. Он и сам толком не понимал, что привлекало его к ней: и лицом не очень удалась, все оно изрыто мелкими оспинами, и нос пуговкой. Но в выражении Нюшкиных смутно-темных глаз, в скользящей плутоватой улыбке, постоянно тревожившей полные сочные губы, таилось столько нерастраченной лукавой ласковости, что за одно это Аникей прощал ей эти внешние изъяны. К тому же они с лихвой восполнялись ее телом — ловким, молодым и крепким, с двумя рожками грудей, сводивших Аникея с ума, пухлыми, не по-крестьянски бе-
лыми руками с нежными ямочками у локотков, мягкой и гибкой кошачьей походкой. Она действовала на Аникея как дурман, и, стоило ему побыть с нею немного, как он становился сам не свой, размякал от нежных чувств, готов был забыть обо всем на свете.
Вот и сейчас он притянул Нюшку к себе, опустил руку на ее тугое плечо.
— Ишь сдобная какая.— Он легонько похлопал женщину пониже спины.— Одну картошку мнешь, а добра как с одних сливок...
— Без толку можно гладить одну телку,— отстраняясь, проговорила Нюшка.— Или своя костлявая рыбина надоела? Обкалываешься об нее?
— Вот бес! — Аникей опять прижал ее обеими руками к себе, потерся лбом о ее грудь.— Ты ведь хуже самогона всякого, пропадешь с тобой!..
— Сказывай, куда идти,— не отвечая на ласки Аникея, сказала Нюшка и, освободившись от его объятий, набросила на голову платок.— Загонял до смерти!..
— Выпростай уши-то из-под платка.— Аникей понизил голос до хрипучего шепота.— Потолкаться надо везде, послушать, что люди брешут промежду собой, поняла? Да мусор-то всякий не собирай, а покрупнее что...
Нюшка повела кончиком носа, как бы принюхиваясь, сонливость мигом исчезла с ее лица, а в блудливых глазах заиграли колдовские искорки.
— В случае чего — ментом ко мне! Ясна установка?
— Ну дык! — фыркнула Нюшка.
— А пока суд да дело, покличь мне Черкашину!
Он прошел к себе в кабинет, присел к столу с зеленоватым стеклом посредине, тоскливо скользнул взглядом по вороху бумажек. Все вроде на мосте — и длинный стол, примыкавший к его председательскому столу, окруженный торчащими спинками стульев, и стеклянная пепельница на красной скатерти, и чистые, приготовленные к зиме окна с белой ватой и черными угольками между рамами, и широкое полотнище переходящего знамени, которое стояло за его спиной в углу, полуразвернутое, с золотыми буквами и длинными кистями. Но сегодня Аникею чего-то недоставало. Может быть, привычного чувства уверенности, что он останется хозяином этого кабинета и завтра и послезавтра, до тех пор, пока сам не запросится на покой?
Черкашина явилась так быстро, что Лузгин не успел еще решить, как с ней нужно разговаривать — грубо, в открытую или мягко, увещевая. Нетвердый народ эти бабы:
сегодня одно, завтра другое, пусть хоть во вред себе, лишь бы не по-старому!
Она была одета, как всегда, по-монашески строго — в черный костюм и мужские сапожки. Черные, без блеска волосы были причесаны гладко, на пробор, от этого сухощавое лицо ее, сейчас полное настороженного ожидания, казалось еще длиннее.
— Звал? — спросила она и, достав пачку папирос из кармана, закурила.
«Тоже нервы не железные,— с удовлетворением подумал Аникей.— Как душа не на месте, сразу начинает дымить!»
— Видишь, какое дело,— начал миролюбиво Аникей.— Давеча ты убежала, а- сама того не смекаешь, что обстановка у нас, возможно, сложится крутая, и ежели мы все повезем врозь, так нас разбросают кого куда — костей не соберешь!..
— Давай не крути,— неожиданно резко прервала его Черкашина.— Говори папрямки — чего ты хочешь от меня?
— Я? От тебя? — притворно удивился Лузгин и засмеялся с короткими всхлипываниями.— Я добра хочу всем и тебе тоже. Разве ты от меня плохое видела?
— Так, значит, ты меня позвал, чтобы я лишний раз тебе, в верности поклялась? — нервно затягиваясь папиросой, спросила Черкашина и поднялась.
— Не закипай! Не плещи через край, сама себя обваришь! — посоветовал Аникей.— Я к тебе с открытой душой, а ты плюнуть туда норовишь!.. Я твое мнение желаю внать — стоит ли идти в работники к Любушкиной или лучше своей семьей жить? По-старому, как жили?
— Спроси народ...
— Я хочу знать, что у тебя на уме! А народ что дышло: куда повернешь, туда и вышло!
Черкашина долго гасила окурок в пепельнице, мяла его жёлтыми, как от йода, пальцами.
— Каким ты, Аникей, стал поганым и подлым! — наконец тихо сказала она и подняла на него полные нескрываемого презрения глаза.— Как ты смеешь так говорить о народе, без которого ты, как старый дырявый мешок, ничего не стоишь! Правду люди говорят, что ты потерял всякий стыд и совесть и как трухлявый пень у всех на дороге.
Меньше всего Аникей Лузгин. ожидал, что Черкашина станет нападать на него, да еще с такой откровенной злобой. На какое-то мгновение он даже струсил: а вдруг ей
что-нибудь известно такое, чего он сам еще не знает? Разве стала бы она говорить с ним так смело и вызывающе оскорбительно? Но показаться слабым и беззащитным перед нею он не хотел.
— Вон как ты запела, пташечка-канареечка! — язвительно протянул он и осклабился.— Политике учить меня вздумала, да? А сама какой политикой жила, когда от моего брательника тушку баранью в подарочек брала? Или у тебя совесть резиновая — на сколь хочешь растянешь ее, а?
— Да откуда ж я тогда знала, что мясо ворованное? — отшатываясь, как от удара, слабо возразила Черкашина.— Вы же уговорили меня, знали, что муж мой с голоду еле ноги таскал... Думала, спасу его! А так я бы разве взяла вашу подачку?
— Гляди, дело твое — может, кто и поверит тебе, что ты ничего не понимала, была как младенец чистый!..
— Меня ты можешь затоптать, но тебе, Аникей, это не поможет.
— Цыц, продажная душа! — рявкнул Лузгии и грохнул кулаком по столу.— Ты еще не знаешь, что я могу с тобой сотворить!..
Черкашина, ни слова больше не говоря, накинула на плечи серую вязаную шаль и стремительно вышла из кабинета. Аникей кинулся было за нею, но остановился. Черт с ней, пусть уходит! Пока его еще не свалили, не подмяли, он легко сдаваться никому не намерен.
До дома Аникей не шагал, как обычно, а бежал впритруску, изредка останавливаясь и хватаясь за сердце: оно так и рвалось наружу. Ломило виски, лицо
набухало кровью, казалось, еще шаг — он упадет и больше не встанет.
Пока добрался домой, в глазах потемнело. В сенях он опрокинул стоявшее не на месте ведро, поддел ногой пузатую кошку и вихрем ворвался в прихожую.
— Серафима! — что есть мочи заорал он.— Живв-а-а!
— Да чего ты горло дерешь, как вахлак какой? — недовольно отозвалась из горенки жена.— Можно подумать, режет тебя кто!
— Тебя бы на мое место, не так бы еще взвыла,— но унимался Аникей, сбрасывая и кидая куда попало фуражку.— Поди, опять морду штукатуришь?
— Постыдился бы! Что ты понимаешь, некультурный ты мужик!
— А ты что-то больно много этой культуры нахваталась. Пожиже развести, так на всю деревню хватит! — Он скинул ремень, сапоги и в одних носках вошел в горенку.
Так и есть! Распустив по плечам редкие рыжие волосы, Серафима сидела перед низким комодом и, вытянув подбородок, старательно растирала кремом морщины. У подола ее цветастого, сшитого по городской моде платья крутился котенок.
— Два лета проторчала в ларьке на рынке и сбесилась! — Аникей хлопнул себя по яшрным ляжкам.— Ну перед кем тебе здесь красоваться-то? Кто на тебя теперь станет заглядываться? Умора!
— Много ты понимаешь, невежа!
Серафима презрительно скривила губы, приблизила лицо к овальному зеркалу, пощипала, выравнивая, черненые брови, примяла их, послюнявив палец.
Не обращая больше внимания на мужа, она стянула в узелок волосы и поднялась — сухопарая, высокая и сутулая, блестя жирно смазанным лицом.
— Завсегда врываешься домой, как бандит! За всю жизнь ни одного хорошего слова от тебя не слышала, все «давай» да «жива»...
— Ну, теперь нам разводиться поздно, хочешь не хочешь — терпи, тебя никто не возьмет, и я уж все зубы на тебе проел! Так что перестань скулить. Покличь вон лучше Никишку, брательника, позарез нужен.
Он собрал в кучку разложенные на столе вороха разноцветных материй, свалил одним махом на диван, коротко приказал:
— Вернешься — сготовь чего закусить: может, гости будут!
— Гости! Гости! — заворчала, одеваясь, Серафима.— Дня не проходит, чтобы кого-нибудь задарма не кормили! Не дом, а постоялый двор какой-то! Ни передыху тебе, ни покойной минуты...
— Пожалела, жадюга! — Аникей гневно хмыкнул, свел к переносью брови.— Вот скинут меня, тогда небось от всего отдохнешь!
Серафима сразу застыла, открыв рот, с минуту остолбе-
нело смотрела на мужа, потом всплеснула руками, е хрустом заломила пальцы, застонала:
— Да когда ж это кончится, господи! Кто же ато опять под тебя яму роет?..
— Яма-то все та же, старая, вся суть в том, кто кого столкнет в нее... Ну да ладно рассусоливать — тони сюда Никишку! От твоих причитаний не легче.
Ворожнев явился тут же, хмурый, небритый. Он долго шаркал ногами у порога и так грозно супился, что даже Аникея взяла оторопь.
— Ты что, по-хорошему глядеть не можешь, Никита? Меня и то страх берет. Ребятенка какого можешь до смерти перепужать. Зарос весь, как медведь...
— Озвереешь, коли тебя норовят в берлогу загнать... Брательник, судя по всему, не настроен был шутить,
скинул галоши и, сотрясая каждым шагом посуду в шкафчике, приминая половицы, протопал в горенку.
— Выкладывай скорей, что знаешь,— торопил Ани-ней.— Какие новости-то?
— Всю деревню разворошили - как пчельник гудит. И всякая букашка старается тебя побольнее ужалить.
— Ты туману-то не напускай! Ты толком выкладывай, что народ-то говорит?
— Да народ от меня как от бешеного шарахается. Так бы и разорвал иного на куски!..
Он скрипнул зубами и, не снимая кепки, грузно опустился на затрещавший под ним стул.
— Ты зря не зли людей, Никита! — смиряя крутой нрав родича, тихо посоветовал Аникей.— Другой обозленный дурак может такое выкинуть, что и самому что ни на есть умному не придумать. Пока волоки из наших рук не вырвали, надо с умом править, а то на таком раскате, не ровен час, не заметишь, как и вылетишь.
— Чего доброго! — согласился Ворожнев и, положив на стол свои длинные, кряжистые руки, медленно разжал большие кулаки, вздохнул.— Сами напрашиваются, черти! Не хочешь, да сорвешься... Я ведь к тебе не один...
— Я вроде тебя одного звал...
— Этот гость нам не помешает,—Ворожнев довольно ухмыльнулся.— Хромоногого захватил я с овсом...
— Какого хромоногого?
— Да Саввушку! Егора Дымшакова напарника!
— Эх, жалко! Не того ты накрыл! — Аникей не выдержал, взволнованно зашагал по горенке, потирая руки.—
Вот ежели бы Егорку подмочил, я бы для тебя не знаю что сделал. Ничего бы не пожалел.
— Дав это толковать — воду в ступе толочь,— пожал могучими плечами Никита,— Я уж чего, кажись, ни пробовал, с какой стороны ни заходил — иной бы, как муха на липкой бумаге, увяз, а этот с голоду сдохнет, а рук марать не станет.
— Не теряй веры, брательник, мы его еще подкуем, дай срок! Много этот варнак халнул?
— Да без малого куль пелый.
— Где он своей судьбы дождался?
— На крыльце стоит, в мыслях уже со всеми простился — я еще страху-то нагнал для начала!
Через минуту Ворожнев ввел в горенку конюха Сав-вунтяу. Прихрамывая, тот сделал несколько шагов и остановился, опираясь на суковатую палку, держа на весу левую ногу. Щуплый, низкорослый, с узким остроносым лицом, он скорее походил на подростка, чем па зрелого, в годах мужчину. На подбородке торчали редкие сивые волосинки, тонкие губы посипели, твердо сжались, па потрепанный ватник налипла сенная труха, одно ухо малахая болталось.
— Ты что ж не здоровкаешься, Саввушка? — негромко спросил Аникей.
Конюх убито молчал.
— И чтой-то ты ноне невеселый? — продолжал тихо допытываться Лузгин.— Может, повздорил с кем али нездоровится? Тогда ты, брат, не запускай свою болезнь, а то как бы хуже не было!
Саввушке была известна эта манера председателя — неторопливо, с издевкой изматывать тех, кто попадался ему в руки, поэтому он считал за лучшее отмалчиваться.
— Один ты на это темное дело решился? — все так же, не повышая голоса, спросил Аникей и участливо тронул конюха за плечо.— Или толкнул кто тебя на это? Чего ж ты, пятак-простак, один наказанье понесешь? Если ношу пополам разделить — легче будет!
Конюх дрогнул ресницами, раскрыл было рот, но тут же снова упрямо сжал губы.
— Ты что, пьянь беспробудная, язык проглотил? — не выдержав, крикнул Ворожнев,— Небось в тюрьме стоскуешься по нашему разговору, да поздно будет!
— Погоди, Никита, не забегай вперед! — остановил брата Аникей.— Ну, попутал дьявол человека, выпить до
смерти захотелось, а выпить не на что — вот и взял. С кем не бывает! Зайдет ум за разум или кто другой надоумит, а он, может, тут вовсе и ни при чем, а? Он нам сейчас скажет, и мы отпустим его подобру-поздорову,
Он подошел вплотную к Саввушке, поднял его лицо за подбородок и отпрянул: вместо жалкой растерянности глаза конюха горели нескрываемой ненавистью.
— Я, может, самый что ни на есть последний человек, и хуже меня в деревне никого нету,— гневно выдавил сквозь зубы Саввушка.— Но все ж совесть моя не совсем сгорела, и я свой позор на Дымшака перекладывать не стану!
— А чего это ты вдруг про Егора вспомнил? - Аникей сделал круглые глаза.- Его будто никто здесь не упоминал. Я вроде не глухой еще, да и Никита вот не даст соврать...
— Знаем мы твоего Никиту! — Саввушка злорадно усмехнулся и судорожно глотнул воздуха, словно набираясь сил.— Вам бы только и забросать грязью Егора-то... Да навряд ли удастся! Золотой, он и в грязи блестит!..
На минуту в горенке наступила гнетущая тишина.
— Вон ты как закукарекал,— протянул Аникей и, отступив от конюха, развел руками.— Ну, тогда не взыщи — золотой, позолоченный, сверху медью околоченный! Лет пять, а то и поболе посидишь за решеткой — гляди, и голос прорежется. Веди его, Никита, к участковому, составляйте протокол, и дело с концом!
Он повернулся к Саввушке спиной и закричал жене:
— Серафима! Принеси нам червячка заморить, а то подсасывает — терпенья нет!..
Конюх не уходил, словно все еще на что-то надеялся. Он опустил голову и снова смотрел в пол, лицо его было бледно.
— Ну, чего ж ты торчишь? — легко толкнув в плечо, выводя его из задумчивости, спросил Ворожнев.— Нам тут верстовой столб ни к чему.
Саввушка, прихрамывая, опираясь на свою палку, поковылял к порогу, и здесь силы оставили его — он не выдержал, рухнул на порожек, голос его слезно задрожал:
— Не губи... Аникей Ермолаевич!.. Ребята ведь малые! Жена хворая— в могилу ее толкнуть!.. Пропадут они без меня, как есть пропадут!.. Пожалей!..
— А ты много их жалеешь, прощелыга этакий? Вас пожалеешь, а вы потом как собаки набрасываетесь. Проваливай! Проваливай! Надо было раньше думать, когда воровать собрался.
— Кабы знал, где упасть, так соломки подстелил...— всхлипывая, размазывая ладонью слезы по лицу, говорил Саввушка.— Пылинки сроду не возьму, не то что... Неужто сердца у тебя нет?
Аникей не удостоил его ответом, молча принял из рук жены кусок жареной курицы, посыпал солью и стал есть.
— Огурчика дай соленого,— сказал он Серафиме,— А то суховато.
— Прости ты меня, окаянного,— с неутихающей дрожью в голосе ныл Саввушка.- И за язык мой прости — просто так брякнул, с пылу...
Аникей обглодал все косточки, вытер ладонью мясистые губы и минуты две глядел на конюха.
— Быстро ты затрещал, орех грецкий! Еще ни разу тебя молотком не ударили, а ты уж раскололся! А туда же, в герои лезет, орет черт те что! — И неожиданно возвысил голос: — А ну встань, босяк!
Конюх схватился за палку, но она выскользнула из рук и отлетела в сторону; тогда он уцепился за косяк и поднялся, не спуская с председателя умоляющих глаз.
— Ради детей покрою твой грех,— проговорил Аникей, но голос его по-прежнему дышал угрозой.— И запомни, ежели я еще хоть раз услышу о тебе худое слово — моли не моли, ни за что не пощажу! За этот же самый куль овса сядешь!
— Да нешто я... Аникей Ермолаевич!..— расслабленно бормотал Саввушка.— Как рыба буду молчать, вот как на духу...
— Ишь сбросил гнет с души, понес с дури-то! — останавливая конюха, сказал Ворожнев.— Ты слушай, что тебе наказывают, да на ус мотай! Тебе жизнь дарят, а не премию за работу выдают, а ты расслюнявился тут...
— А если образумишься и путное что сотворишь — я тоже не забуду! Я чужие обиды не считаю. Не для себя живу, а для людей... Ну вот так... А теперь валяй!
Аникей махнул рукой, Саввушка судорожно качнулся ему навстречу, точно норовя поблагодарить за прощение, но Ворожнев, обхватив его за плечи, выпроводил из горенки.
— На деле спасибо скажешь, а словами мы и так объелись!..
Из сеней он вернулся в сопровождении Нюшки, а следом за ними явилась из кухни и Серафима, с ревнивым любопытством поглядывая на нелюбую гостью.
Но Нюшка была не из тех, кого можно смутить недобрым взглядом, она везде привыкла чувствовать себя как дома. Сбросив стеганку и теплую шаль, она предстала в черной атласной юбке и нарядной малиновой кофте. Как бы только что заметив Серафиму, она удивленно подняла густые брови, ласково заулыбалась ей.
— Что-то вы вроде с лица изменились, Серафима Прокофьевна! Хворь, что ли, какая вас мучает?
Серафима посмотрела на Нюшку чуть свысока, не выказывая ни малейшей растерянности, и, как ни была уязвлена вопросом сторожихи, ответила с достоинством:
— Я ж не бобылка горькая, при муже живу, а он разве даст захворать! Чуть насморк какой, а он уж тревожится — что, дескать, с тобой? Па здоровье пока не жалуюсь, могу и занять, у кого мало!
Аникей переглянулся с братом, словно хотел сказать: «Видал, как схлестнулись? Одна другой стоит!»
— А чем это ты мажешься, милушка? — медоточиво улыбаясь, поинтересовалась Нюшка.— Уж больно душисто пахнет!
— Аникеюшка крем из города привез, недешево, говорит, заплатил...
— Знамо! — согласилась Нюшка.— Красота, она задешево не покупается. Да и сухоту коровьим маслом не под-правишь.
Серафима стала сразу багровой от этого дерзкого и нахального намека на ее старость, но не успела придумать, чем унизить Нюшку, как Аникей прервал их словесный поединок:
— Хватит вам, бабы, облизывать друг друга! Вас не останови, так вы глаза друг дружке выцарапаете.
— Больно ты ей большую волю дал! — не желая уступать Нюшке, глядя на нее с нескрываемой ненавистью, сказала Серафима.— В твоем доме срамят законную жену, а ты уши развесил!
— Ничего, с тебя не убудет, а Нюшка меня иной раз так выручает — дай бог каждому!
— Чем это она тебя выручает? — распаляясь и наступая на мужа, спрашивала Серафима.— Уж не глазищами ли своими бесстыжими да тем, что задом туда-сюда вертит?..
— Серафима! — дико заорал Аникей.— Не доводи до греха, а то я тебя так проучу, что сама неделю на задницу не сядешь! Вытолкай ее на кухню, Никита, да закрой дверь — я хочу с Нюшкой по секрету поговорить. Не уймется — ведро воды на голову вылей, живо очухается!.. Серафима не стала дожидаться, когда ее выставят за дверь, и сама стремглав вылетела из горенки, понося на чем свет стоит свою лихоманку-соперницу. Никита, насу-пясь, вышел следом за нею, и в горенке наступила тишина.
— А все же ты, Аникей, жены боишься,— не скрывая своего торжества, сказала Нюшка.
— Чужая собака укусит — радости мало, а уж если своя сбесится, может живого места на тебе не оставить!..
Нюшка сочувственно вздохнула:
— Не сладкая у тебя жизнь, Аникеюшка...
— Не кисель, известно,— согласился Лузгин и коротко приказал: — Докладай!..
Нюшка мгновенно преобразилась, улыбка пропала с ее губ, глаза как бы затуманились,
— Дела твои, Апикей, как сажа бела. Надо бы хуже, да нельзя!.. Кого ни послушаешь — все против тебя в один голос говорят: не уймут, мол, его на месте, в область будем писать, в Москву, куда хошь! Сама, дескать, партия подсобит убрать его с председателей!..
Лузгин помрачнел, лицо его отяжелело.
— На что хоть жалуются-то? — помолчав немного, спросил он.— Или просто без разбору все помои сливают, как в лоханку?
— Всего и не упомнишь,— сказала Нюшка.— Но перво-наперво злятся, что ты не весь заработанный хлеб на трудодни выдал, а припрятал, мол, для будущего года, чтоб первому отрапортовать!
— Еще что?
— Болтают, мол, зима нынче-завтра, а дров почти ни у кого нету,— тараторила Нюшка.— Во время сенокоса обещался, дескать, долю накошенного выдать, а сейчас молчит, опять обмануть хочет, как в прошлом годе... Старики в обиде особо — всю жизнь, говорят, в колхозе работали, а теперь хоть помирай — ни хлеба не дает, ни дров, ничего...
— Хватит!..— Аникей резко опустил на стол чугунный кулак.— Тебе бы следователем быть — все раскопаешь...
— Ну дык! — горделиво вскинула голову Нюшка.
Она хотела продолжить свой рассказ, но, взглянув в поскучневшее лицо Аникея, сочла за лучшее воздержаться. Так можно и себе навредить. Лузгин сидел, наморщив лоб,
сжав губы. Нюшка вынула из-за пазухи колоду карт и стала раскладывать их на белой скатерти.
— Для себя... для дома...— шептала она.— Что будет? Чем сердце успокоится?
— Брось ты цыганить,— скосив взгляд на карты, сказал Аникей.— Какой толк их мусолить?
— Не скажи.— Нюшка отмахнулась.— Забыл, как прошлый раз я тебе гадала и какая счастливая карта выпала? Вот сейчас — смотри! — казенный дом тебя ожидает!
— Это я и без гаданиев знаю.— Лузгин тяжело вздохнул.— Вот вызовут в райком или в область, намылят голову, а то и совсем снимут — долго ли!
— Что на сердце у тебя? — шелестя картами, говорила нараспев Нюшка.— Вишь, трефовая дама!
— Это ты, что ль? — Аникей усмехнулся.
— Может, и я. Я как раз в трефовую масть ударяюсь... Да и сюда гляди,— обрадовалась она.— Во исполнение твоих желаний пиковый король выпал — лучше нельзя!..
— Наверное, секретарь райкома, кому еще боле,— сказал Аникей.
— Будет тебе еще какая-то бумага и дальняя дорога...
— Бумага — это не иначе как протокол общего собрания, а дорога — это отпустят на все четыре стороны, и поминай как звали!.. Ладно, Нюшка, кончай свою барахолку!
Аникей смешал в кучу карты и поднялся. Раскрыв дверь на кухню, он позвал жену и брательника. Они явились и молча стали следить, как он меряет неторопливыми шагами горенку.
— Ну вот что,— проговорил он, наконец останавливаясь, и глаза его угрюмо блеснули.— Если жареную рыбу есть хотим, то нечего бояться, что мелкой косточкой подавимся. Задергивай, Серафима, шторки и тащи на стол все, что имеется!..
— Ты что хоть надумал-то, Аникей Ермолаевич? — робко спросила жена.
— Берись за стряпню. Созовем гостей и будем водку пить, песни петь! А ты, Нюшка, навостряй лыжи — обежишь кого надо...
Выпроводив из горенки жену и сторожиху, он велел Никите присесть к столу.
— Завтра, брательник, соберем правление и остатний хлеб на трудодни пустим — надо заткнуть глотки!.. С утра, занаряжай все подводы в лес, и каждому прямо во двор
пускай дрова возят. Шалымов соберет стариков и подбросит им что требуется. Не жадничайте — все окупится!
— Ох, напрасное что-то ты затеял.— Ворожнев забеспокоился.— Разве их этим купишь? Замажешь их глаза?
— Надо, чтоб люди поняли, что я, ежели захочу, как хошь могу повернуть... Один поверит, второй усомнится, третий смолчит... А вечером придумаем, как нам от Лю-бушкиной оторваться.
С тех пор как Сергею Яковлевичу Коровину сообщили, что Пробатов появился в районе и, не заезяжая в райком, успел уже побывать в двух колхозах, он терялся в догадках. «Странно, очень странно,— думал он.— Не позвонил, не позвал... Что бы это могло значить?»
За годы, которые Коровин отдал партийной работе, он не помнил случая, чтобы руководители области, отправляясь в какой-либо район, не ставили об этом в известность первого секретаря райкома. Обычно они и самого секретаря брали в поездку по колхозам, чтобы можно было прямо на месте указать на его промахи и недостатки.
Правда, Коробин пока еще числился вторым секретарем и исполнял обязанности первого немногим больше месяца; однако после того, как слег Бахолдин, Коробин фактически нес ответственность за все дела в районе. Мало того, второй секретарь обкома Инверов, разговаривая два дня тому назад с ним по телефону, совершенно недвусмысленно намекнул, что если Бахолдин в ближайшее время не сможет вернуться к работе, то обком, по всей вероятности, будет рекомендовать его, Коробина, на пост первого секретаря. Сергей Яковлевич не подал виду, как его обрадовали эти слова, сдержанно поблагодарил за доверие и, положив трубку, долго сидел, сжав каменно губы, хотя его всего распирало от радости. Наконец-то он мог взять в свои руки целый район и показать, на что способен!
Он то присаживался к столу и начинал разбирать скопившуюся почту, то брался за непросмотренную свежую газету, но в конце концов вскакивал и снова расхаживал в своих скрипучих сапогах по травянисто-зеленой ковровой дорожке. Или надолго прилипал к окну, глядя на пустынную площадь. Ветер гнал и крутил оброненные с во-
зов клочки сена, у длинной коновязи важно прогуливалась старая ворона, около нее суетливо прыгали воробьи, то взмывая в воздух, то падая серыми комками на унавоженную землю. В разгороженном палисаде чья-то беспризорная коза деловито обгладывала посаженный нынешней весной молодой тополек.
Машинально барабаня пальцами по стеклу, Коробин подумал, что надо бы распорядиться прогнать козу, но тут же забыл об этом, пораженный новой, не лишенной приятности догадкой: а что, если секретарь обкома просто приехал к матери? Тогда он может никого и не ставить в известность!
Он тут же снял трубку и попросил соединить его с Лю-бушкиной. В трубке что-то потрескивало и шипело, потом в этот шум вплелось радио, и какой-то слащавый тенорок пропел ему прямо в ухо: «Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной...» За Любушкипу ответил бухгалтер, и голос его был похож на комариный писк, хотя в жизни — если бы крикнул во весь голос — он мог бы оглушить любого. Несмотря на раздражающие помехи, Коробин все же узнал то, что его интересовало,— председательница пошла к матери Пробатова.
«Значит, секретарь там,— повеселев, заключил Коробин.— А Прасковья Васильевна вряд ли испортит ему настроение».
Он пригласил к телефону начальника районного отделения связи и, не слушая его объяснений, начал напористо и грубо выговаривать ему свои претензии: до каких пор райком будет терпеть такое положение, когда скорее сбегать в колхоз пешком, чем дозвониться до него? Он сам удивился, как легко умел вызывать в себе подступающий к сердцу приступ гнева. Стоило ему услышать возражения нерадивого работника, как он давал полную волю своему раздражению. Сколько раз можно уговаривать, нянчиться? Пока не пригрозишь, что можно расстаться с партийным билетом,— не прошибешь!
Как ни странно, но, сорвав злость на начальнике связи, Коробин почувствовал себя спокойнее. Он снова выглянул в окно, увидел ту же козу и застучал кулаком в стену помощника. Не дождавшись, решительно открыл дверь в приемную, но здесь почему-то никого не оказалось: ишь как распустились при старике Бахолдине, отлучаются на обед, даже не предупредив! Надо будет их призвать к порядку!
В коридоре слышались знакомые волочащиеся шаги истопника Сысоича. Вот он с грохотом вывалил у печки вязанку дров, и Коробин окликнул его:
— Сысоич, зайди ко мне!
Тот остановился в раскрытых дверях и, наклонив голову, глянул на Коробииа поверх сползших с переносицы очков в светлой металлической оправе. Был он по-стариковски сутуловат, в драном ватнике и рыжих валенках с галошами, на лохматой, вечно не чесанной голове его торчало какое-то подобие шапки.
«Черт знает что! — подумал Коробин.— Вдруг этакое чучело попадется на глаза Пробатову? Вот не догляди, а потом хоть проваливайся со стыда!»
— Что это ты решил печки топить?
— Да я уж протапливал которые печки раза два, надо все опробовать, а то, может, дымит какая... В прошлом годе вот было загорелась сажа...
— Я что-то не помню, чтобы у нас загорелась сажа.
— Да не у нас, а у моего зятя...
— При чем же здесь зять? — Коробииа начинала злить эта бестолковость,— Ты бы лучше сегодня отдохнул, а за свои печи взялся завтра...
— Завтра мне некогда.— Сысоич дотронулся до чуть распухшей щеки.— Зуб буду дергать — терпенья нет!.. Говорят, хорошо чай распарить и на зуб ложить. Даве пошел в магазин, а его нету...
— Кого нету?
— Да чаю. Соли спросил — одна, говорят, крупная... — Послушай, ты что дурака валяешь?
— Правду говорю. Чай тоже привезли, но еще не распечатали... Заведующий сказывал. Он ведь на Маньке Халютиной женится.
— Ну и что? — К сердцу Коробина подкатывала знакомая тошнотворная озлобленность.— Ты зачем все это плетешь?
— И не думаю даже — кого хоть спроси! Манька небось без ума от радости. Где птица оседает и гнездо вьет, там она и пух теряет...
— Какая птица? — Коробин еле сдерживался, чтобы не заорать на истопника и не вытолкать его из кабинета.
— Привезут шерстянку или еще чего — вот добро и будет к Маньке в первую очередь липнуть, а через нее и к другим... Она же племянница Козлову нашему.
— Какому Козлову? — несмотря на всю бестолковщину, разговор вынуждал Коробииа поддерживать его и даже задавать вопросы.
— Вот те и раз! Как будто не знаете — да нашему заведующему райсельпо... Он ведь в Москву укатил...
— Ну довольно! — Коробин сцепил пальцы рук, он был вне себя.— Иди приведи себя в порядок, переоденься, а то мы секретаря обкома ждем — неудобно будет, если он увидит тебя в таком виде. Да прогони вон козу из палисада.
— Ее прогони, а она опять залезет, такая уж тварь, спасенья от нее нету... А наряжаться я не буду — не замуж меня выдавать, глаза мозолить не стану в случае чего... Говорят, водка на зуб тоже пользительна, особо ежели с перцем. Вот у нас тут давно жил купец...
— Ступай, ступай,— выходя из-за стола, проговорил Коробип и, проводив истопника, прикрыл за ним дверь. «Уф! И где это Бахолдин откопал такой экземпляр? С ума можно свихнуться от старика! Наплел такого, что и с помощью всего аппарата не разберешь! Стоило за все три года один раз заговорить с ним, как прямо-таки завяз в старческом вздоре!»
Похрустывая сцепленными пальцами, Коробин несколько минут вышагивал по кабинету, стараясь обнаружить, что же все-таки встревожило его в бестолковой болтовне истопника. Да! Старик вовремя напомнил о магазинах!
Вызвав к себе Вершинина, секретаря, ведающего вопросами торговли, Коробин связался по телефону с Лузги-ным. Но тот стал пороть несусветную чушь. Из его слов выходило, что главным событием в колхозе был не визит Пробатова, а козни и интриги Егора Дымшакова, опозорившего его перед большим руководителем.
— Не разводи панику, Аникей Ермолаевич! Ну чего ты раскис, как баба? — сурово прикрикнул на председателя Коробин, зная, что на того лучше всего действуют не утешения и уговоры, а грубоватый окрик.— Разве ты завалил заготовки или у тебя массовый падеж скота? Нет! Ну и не хнычь, раз все в порядке! А демагогов мы к ответу призовем. Авторитет твой всегда поддержим! Бывай!
В сердцах он бросил трубку на рычаг. Ну что за люди! Как будто крепкий мужик, способный и живо откликнуться на любую инициативу, и держать в руках других, а вот достаточно легкого щелчка по самолюбию, и он как размазня!
Предусмотрительно постучав, вошел Вершинин и, печатая ровными шагами ковровую дорожку, приблизился к столу. Было заметно, что он жаждал казаться представительным, солидным, но, несмотря на непреклонное жела-
ние выглядеть старше своих лет, говорить внушительным баском и без нужды строго хмурить брови, ему никого не удавалось обмануть и сркрыть свою молодость. Синие глава Вершинина, вастенчиво прячущиеся в густых ресницах, светились помимо его воли здоровой и чистой радостью человека, жизнь которого пока ничем не омрачена. Впрочем, было одно обстоятельство, которое не на шутку беспокоило молодого секретаря,— он нравился многим девушкам, и они открыто и подчас довольно бесцеремонно вы-сказывали ему свои чувства. Когда он проходил в парке или в районном Доме культуры мимо озорной девичьей стайки, стараясь изо всех сил не обращать на них никакого внимания, вслед ему неслось: «Какой симпатичный молодой человек, правда, девочки?» Работники райкома, передававшие Коробину эти веселые подробности, от души смеялись и предлагали срочно женить Вершинина в целях спасения его авторитета.
И все же, хотя Вершинин был молод и явно неопытен, он обладал завидной способностью — выполнять то, что ему поручали, с дотошной скрупулезной точностью, стараясь докопаться до малейших подробностей. Обычно, когда он докладывал о каком-либо деле, ни у кого не возникало никаких сомнений, что он в своем анализе предельно исчерпал проблему. Вот почему, когда Бахолдин слег, Коробин остановил свой выбор на Вершинине и перевел его с должности секретаря по зоне МТС в аппарат райкома.
Не доходя до стола двух-трех шагов, Вершинин остановился, поднял на Коробина свой ясный, не замутненный заботами взгляд.
— Я слушаю вас, Сергей Яковлевич...
— Садитесь.— Коробин кивнул на мягкое кресло.— Вы давно были в наших магазинах?
— Каждый день захожу и сегодня собираюсь пройти в хозяйственный, а что?
— Да ничего особенного! — Коробин протянул раскрытую пачку папирос, и Вершинин машинально взял папиросу, покрутил ее в пальцах.— В район приехал Иван Фомич... Я подумал, что будет не совсем приятно, если он решит пройти по злачным нашим местам и обнаружит там непорядок. Говорят, есть у него такая привычка — заглянуть в чайные, в палатки.
— Что ж, очень хорошая привычка! Секретарь обкома должен знать, что есть в наших магазинах.— Вершинин пружинисто поднялся и, не заметив, как выскользнула
из рук папироса, шагнул и раздавил ее.— Я, конечно, сейчас же посмотрю, чего у нас недостает. У меня есть одна жалоба покупателей, заодно и ее проверю...
— Не спешите! — с досадой проговорил Коробнп.— Да сидите же, чего вы вскочили? Дело в том, что Козлов укатил в Москву, поэтому я просил бы лично вас проверить, чем торгуют наши магазины. Если полки в них пустуют, нужно кое-что из запасов выбросить — понимаете?
— Как же так... Сергей Яковлевич! — Щеки у Вершинина стали малиновыми, но он, не опуская глаз, внимательно и — похоже — чуть осуждающе смотрел на секретаря.— Выходит, мы делаем это специально ради Про-батова?
— Вы не совсем правильно меня поняли! Если нашим торговым работникам изредка не напоминать, что у них имеется на складах, не контролировать как следует, они могут по неповоротливости и сгноить кое-что, а покупателям не выбросить. О себе-то они, уж наверное, не забывают!
— Тут вы абсолютно правы! — Краска уже отхлынула от щек Вершинина, но в глазах еще таилась какая-то настороженность.— Я до отъезда Козлова вплотную занимался райпотребсоюзом, и, надо прямо сказать, картина там получается неприглядная. Разбазариваются самые дефицитные строительные материалы... Шифер, цемент и особенно дефицитное кровельное железо отпускаются не на строительство животноводческих ферм, а сплавляются индивидуальным застройщикам в районном центре...
— Наверное, Козлов передоверил кому-то эту операцию,— пытаясь смягчить вину расторопного торгового деятеля, сказал Коробин.— А там напортачили.
— Да нет, Сергей Яковлевич, вся беда как раз в том, что материалы отпускались только по его запискам! — с горячей настойчивостью, стараясь рассеять заблуждения секретаря, повторил Вершинин.— Я бы сам не поверил, если бы не видел этих записок своими глазами!
— Советую вам не торопиться с выводами,— спокойно и холодно сказал Коробин,— разберитесь до конца, а там посмотрим. Нянчиться с такими людьми не будем — дадим по рукам, чтобы неповадно было!
Последние слова он произнес угрожающим тоном, который успокоил Вершинина и убедил его в том, что Коробин стоит выше приятельских отношений и не посмотрит ни на что, если дело коснется принципов.
Вершинин выпрямился и направился к двери, там он обернулся, словно желая высказать еще какие-то свои опасения, но раздумал и вышел.
«Вот доверься такому — он лоб расшибет от усердия и докопается до таких глубин, что сам рад не будешь!» — думал Коробин, снова стремительно расхаживая по кабинету.
Он чувствовал, что больше уже не в силах сидеть и ждать. Нужно было как-то действовать, что-то предпринимать... «Пойду к старику Бахолдину! — решил вдруг он.— Не может быть, чтобы Пробатов не навестил больного. И если он не заглянет в райком, то там уж он будет непременно!»
Дом, в котором жил Алексей Макарович Бахолдци, стоял в тупичке узкого, заросшего травой проулка. Это был старый, еще добротный особняк, обшитый тесом, крытый железом, просторный, с большими светлыми окнами, украшенными узорной резьбой, с парадным крылечком и даже сохранившейся с давних времен белой стеклянной ручкой, от которой тянулась к звонку тонкая проволока. Дом этот достался городку в наследство от какого-то богатого купца, за долгие годы в нем перебывало немало разных жильцов, но последние десять лет здесь жили только первые секретари райкома.
Алексей Макарович поселился в нем совсем недавно, все не хотел расставаться с ветхим флигельком во Дворе детского дома, и потребовалось чуть ли не вмешательство обкома, чтобы Бахолдин наконец перебрался в пустовавшее помещение. Такую привязанность к прошлому Коробин считал чудачеством, не раз откровенно высказывал это Бахолдину, но тот, вздыхая, обычно отвечал: «Я же, батенька мой, этот флигелек сам строил, своими руками, понимаете? Сколько тут детских душ отогрелось, сколько людей отсюда в большую жизнь ушло!»
Коробин относил эти чувства к ненужной для партийного работника сентиментальности. Ему казалось, что, выказывая пренебрежение к жизненным удобствам, Бахол-дин просто притворяется, стремясь создать мнение о себе,
как о человеке, чуждом всякой корысти, а Сергей Яковлевич не одобрял таких дешевых приемов для поддержания популярности.
Алексея Макаровича знали в районе и стар и млад, о нем не раз писали в областной газете, в журнале «Огонек» ему как-то был посвящен целый очерк, богато иллюстрированный снимками, и нужно отдать Бахолдину должное, он вполне заслужил и эту известность, и это признание.
Он приехал сюда после окончания учительской семинарии, но детей учить ему не пришлось — началась гражданская война, в горах загрохотали выстрелы, все смешалось, и деревне было не до него. Да к тому же его сразу постигло несчастье — умерла в родовых муках его молодая жена, с которой он вместо собирался обучать ребятишек грамоте. Похоронив жену, Бахолдин все силы отдал тому, чтобы спасти жизнь новорожденному, но скоро рядом с могилой жены ужо копал могилу и для своего первенца.
Горе потрясло его, он стал дичиться людей, днями не выходил из тесной комнатушки при школе или бесцельно бродил по окрестностям, не отвечая на приветствия встречных, будто никого и не замечал.
Однажды, забредя зачем-то на станцию, он увидел трех оборванных ребятишек и долго смотрел, как они копошатся около мусорной ямы, выискивают что-то съедобное и вяло жуют.
В деревне не знали, чхал думать, когда он привел этих оборванцев к себе в дом,— сам ведь жил впроголодь, а тут еще три лишних рта! Недели через две, когда он снова притащил со станции целый десяток бездомных ребят, многие решили, что учитель рехнулся. Но Бахолдин не успокоился на этом, стал собирать по окрестным селам и деревням осиротевших, беспризорных детей, и скоро его окружила большая голодная и босая орава, наводившая на окрестных мужиков немалый страх. Теперь живи да оглядывайся, как бы к тебе в огород или сад не забрались, не ограбили, не подпалили избу, а то, чего доброго, и ножом пырнут! Известно — хулиганье, бандиты, им терять нечего!
Но прошел месяц, другой, а о безобразиях не было и слуху. Наоборот, вскоре заговорили совсем о другом. Чтобы как-то оправдать свое пропитание, ребята подряжались на любую крестьянскую работу. Алексей Макарович завел нехитрый столярный инструментишко и открыл в школьном сарае мастерскую, стал приучать ребят к ремеслу. Не прошло и полугода, как на воскресных базарах начали по-
являться крепко сколоченные табуретки, и грабли, и скалки, и иные предметы, необходимые в домашнем обиходе.
Так возник этот необычный приют, созданный на свой страх и риск человеком, заболевшим горем беспризорных детей. Когда на селе прочно утвердилась Советская власть, приют превратили в детский дом, отвели землю под сад и огород, построили настоящую мастерскую, при доме появились и своя конюшня, и молочная ферма. И Алексей Макарович на долгие годы остался бессменным главой большой детдомовской семьи.
Ушел он из детского дома после войны, когда его выбрали председателем райисполкома, но и здесь он вел себя так, как будто перед ним были не взрослые люди, а по-прежнему малые дети, которых надлежало убеждать и уговаривать.
В приемной Бахолдина постоянно толпился народ, кабинет напоминал проходной двор, и приходилось диву даваться, как Алексей Макарович не запутывался в этой сутолоке, не терялся в текучке и мелочах. Если он с утра собирался выехать в какой-нибудь колхоз, можно было с уверенностью сказать, что выберется он туда только к обеду, не раньше. Случалось, даже на пути от кабинета к машине его останавливали люди, и он снова возвращался к себе в кабинет, кого-то упрашивал, что-то доказывал.. И главное — умудрялся при этом сохранять радушие и спокойствие.
Заняв пост первого секретаря, Бахолдин перенес атмосферу домашней сутолоки и в райком. Коробину подчас становилось просто невмочь, когда он слышал, как Алексей Макарович, разговаривая с каким-нибудь председателем колхоза, называл его «голубчиком» и «батенькой», в то время как этот «голубчик» заваливал заготовки или срывал важнейшую кампанию и ему уже давно пора было влепить «строгача». А Бахолдин увещевает его, как малого ребенка, да еще добавляет напоследок: «Ну я, дорогой мой, надеюсь, что ты не подведешь! Поднажмешь как следует и вытянешь! Конечно, тебе нелегко, я знаю, но ты у нас мужик боевой, напористый и своего, если захочешь, добьешься. Верно?»
Коробин в этих случаях еле сдерживался, чтобы не наговорить дерзостей. Останавливало одно — скажи правду, и станешь нехорош, прославишься среди председателей чинушей и бюрократом, а старик с его мягкотелостью и либерализмом все равно останется для них отцом родным.
Впрочем, когда дело касалось принципа, затрагивавшего его убеждения, Бахолдин вдруг становился упрямым, несговорчивым, по эту непонятную неуступчивость Коровин относил уже к старческой блажи. Особенно Алексей Макарович выходил из себя, когда в отдельных рекомендациях колхозам находил ненужную категоричность тона, граничившую с командой или приказом. Бахолдин придавал излишнее значение словам, а не все ли равно, в каком гоне дано указание, лишь бы оно было выполнено.
Коробин торопливо прошагал чистым травянистым двориком и, решительно потянув па себя дверь, лицом к лицу столкнулся с Дарьей Семеновной.
— Ну проходи, чего остолбенел? — с бесившей его грубостью проговорила она и отступила, пропуская.
Он терпеть не мог эту самовластную и дерзкую старуху и не скрывал своей откровенной неприязни к ней. Она начала работать с Бахолдшшм еще в те далекие времена, когда он собирал вокруг себя беспризорную ораву, обмывала, обшивала, кормила их всех. Теперь она вела его нехитрое холостяцкое хозяйство, и он не только доверял ей во всем, но даже позволял ворчать и покрикивать на себя.
— Что с Алексеем Макаровичем? — сухо осведомился Коробин, как бы не придав значения ее грубой выходке и ставя себя выше мелочной придирчивости.— Получше?
— Поди, ждешь не дождешься, когда он па ноги встанет?
Она стояла перед ним, насмешливо щуря голубенькие выцветшие глазки, кутая широкие костистые плечи в теплую вязаную шаль, и ее злое ехидство наконец вывело Коровина из себя.
— Перестаньте молоть вздор! — тихо и угрожающе проговорил он.— Совсем из ума выжили!
Дарья Семеновна пе смутилась, не отступила, лишь поправила лезшие из-под пестрого платка седые пряди и ответила уже без улыбки:
— У тебя ума не занимать стать!.. Да и не обманешь ты меня своей заботой, я ж тебя, милый, насквозь вижу и еще на три метра в землю...
Он смотрел на ее крупную, как спелая земляника, родинку с торчащими белесыми волосинками, прилепившуюся на самой скуле, и еле удерживался от желания прикрикнуть на старуху... Но пересилил себя и улыбнулся.
— Чудесный у вас характер, Дарья Семеновна! Наверное, не случайно Алексей Макарович вас столько лет держит около себя?
— Моя печаль к тебе не присохнет, по все ж, если совесть твоя не сдохла, побереги старика, не дергай его зря...
Хотя глаза ее по-прежнему смотрели на Коровина с явным недоброжелательством, в голосе зазвучало что-то новое, почти умоляющее, и Сергей Яковлевич не поверил столь внезапному переходу — только что хотела как можно злее оскорбить и унизить его, а сейчас, похоже, старается даже задобрить. Неужели старик ей на самом деле так дорог?
Не отвечая, он шаркнул ногами по половичку и вышел из кухни. По обе стороны узкого коридорчика пустовали четыре комнаты. Двери в них почему-то всегда были открыты, виднелись отливавшие желтизной чистые полы и голые стены, К этому давно пора было привыкнуть, но Ко-робин каждый раз, проходя мимо, испытывал то неприятное и тоскливое чувство, какое иногда вызывает вид заброшенного, пустующего помещения. Неужели комнаты нельзя заставить хоть каким-нибудь барахлом, чтоб не наводили уныния?
Бахолдин занимал угловую и самую большую комнату в доме, служившую ему одновременно и спальней и кабинетом. Постучав согнутым пальцем в дверь, Коробин по-дождал с минуту, потом осторожно надавил на дверную ручку.
Алексей Макарович спал, и Коробин в некотором замешательстве остановился посредине комнаты, не зная, что ему делать: повернуться и так же тихо выйти или как-то дать знать о своем присутствии. И пока он раздумывал, глаза его невольно обшарили и лежавшего на кровати человека, и тесно заставленную мебелью, забитую разными ненужными вещами комнату.
Рядом с кроватью стоял круглый столик, заваленный лекарствами, книгами, газетами, письмами, за ним высилась плетеная этажерка; па письменном столе валялись початки кукурузы, пучки каких-то трав; одну стену целиком занимала книжная полка, на карнизе ее ленились чучела птиц и пушистых зверьков; коврик над кроватью наискосок перечеркивала двустволка; на другой стене висела запыленная картина в самодельной грубоватой раме, кажется, написанная самим Бахолдиным в молодые годы: девушка сидит у раскрытого окна и смотрит на залитый солнцем зеленый двор.
В соседней маленькой комнате, куда вела полураскрытая дверь, стояло старенькое пианино, старик не расставался с ним чуть ли не с самой гражданской войны. .
Просто невозможно было догадаться по этой обстановке, что здесь живет партийный руководитель района, а но какой-то любитель природы, учитель естествознания или путешественник.
Коробин испытал чувство жалости, когда попристальней вгляделся в лицо Алексея Макаровича, разительно изменившееся за те два дня, что он его не видел,— землисто-серое, с ввалившимися щеками, заросшее рыжеватой щетиной. В глубоких глазницах скопились тени, будто натекла туда темная вода, голова на пышной подушке, не собирая складок, покоилась почти невесомо. Но больше всего поразили Коровина руки — костлявые, обтянутые желтой, точно просвечивающейся кожей, как-то беспомощпо и вяло сжатые в детские кулачки, лежавшие поверх зеленого плюшевого одеяла.
Кто бы поверил, что еще недавно этот человек поражал всех своей живостью, вокруг него с утра до поздней ночи крутился парод, он всем был необходим, полезен, без его мнения ничто не решалось в районе, и вот Жизнь уже идет мимо...
Два года они неплохо работали с ним, старик ему во всем доверял. Но если подходить не только по-дружески, но и по-партийному строго и взыскательно, то надо признать, что в новых условиях, когда нужна большая гибкость, Бахолдин вряд ли сумел бы тянуть район и дальше.
Коробин вдруг почувствовал, что не один в комнате, и вздрогнул, заметив, что Алексей Макарович спокойно и пристально разглядывает его.
— Я только что вошел и боялся вас потревожить,— поспешно сказал Коробин.
Старик указал ему глазами на стул. Коробин, словно пойманный на чем-то запретном, неуклюже засуетился, выронил из рук кепку, придвинул поближе к кровати стул и, недовольный своей трусливой готовностью, наконец сел и насупился. Минуту, другую он молчал, не глядя Бахолди-ну в глаза, потом распрямил плечи, откинул голову и сказал:
— Пробатов с утра в нашем районе.
— Иван Фомич? Где же он?
Старика, видимо, взволновало это известие, он даже попытался приподняться на локтях и сесть, но отказался от своего намерения и снова опрокинулся на подушки. На лбу и на верхней губе его проступила испарина, слабый, болезненный румянец пробился лишь на одну правую щеку, словно на левую крови уже не хватило. Из-под одея-
ла робко высунулась худая гипсово-белая нога с восково-желтой пяткой и аккуратно подрезанными ногтями. В ней уже не было ничего ншвого, и, глядя на эту ногу с чувством бразгливости и отвращения, которого он не мог побороть в себе, Коробин стал неторопливо рассказывать все, что знал о приезде секретаря обкома. Он старался не упустить ни одной подробности и в конце концов даже похвалил инструктора Яранцеву, которая сумела дать отпор нездоровым настроениям отдельных людей, иначе у Пробатова могло сложиться не совсем правильное представление о колхозе.
Бахолдин слушал его, не прерывая, и только при последних словах поморщился.
— Ну, это вы уж, батенька, хватили! Напрасно вы думаете, что Ивана Фомича так легко сбить с толку...
— Но вы же знаете Дымшакова! — недовольно возразил Коробин.— Он так воду замутит, что ничего не разглядишь!.. И я, откровенно говоря, удивляюсь, почему вы с ним еще нянчитесь!.. Одна паршивая овца портит все стадо...
— Там нет стада, Сергей Яковлевич,— с неожиданной твердостью в тихом, немощном голосе прервал его Бахолдин и, помолчав немного, словно потратил на эту фразу весь запас своих сил, добавил шепотом: — Там хорошие люди, и Егор Матвеевич среди них не последний человек... Горяч, это правда, по его надо понять, разобраться, чем он недоволен, а не грозить ему, не пугать ответственностью...
— Как же, испугаешь его! — Коробин усмехнулся, по-прежнему не сводя взгляда с бледной омертвелой ноги, она раздражала, мешала сосредоточиться.— Он всем недоволен — и председателем и райкомом, и на нас он плюет, потому что для него не существует никаких авторитетов.
— На кого же нам обижаться, если мы не стали для него авторитетны? — спросил Бахолдин и утомленно закрыл глаза.— Просто для него, наверное, авторитет и должность не одно и то же...
Поймав один из довольно откровенных взглядов Коровина, Бахолдин втянул ногу под одеяло. Разговаривая, он так ослабел, что стал забываться в легкой дреме. Наконец, замолчав на какое-то мгновение, дрогнул всем лицом, и серые бескровные губы его остались полураскрытыми.
Коробин снова оказался наедине с самим собой, Пробатов вошел стремительно, шумно, внося с улицы волну свежего воздуха, и, не раздеваясь, прошагал к кровати.
— Здорово, старина! — глуховато и мягко проговорил он, и не успел Бахол-дин прошептать что-то вроде приветствия, как секретарь обкома наклонился и поцеловал его.— Ты что это надумал, а?
Алексея Макаровича будто обрызнули живой водой, он снова попытался приподняться, и Пробатов, заметив эти бесполезные усилия, легко обхватил его за плечи, помог сесть, засунул ему за спину подушку. Казалось, он только теперь обнаружил, что стоит около кровати в пальто и шляпе, и смущенно попятился.
— Ты уж извини...
Он поискал глазами вешалку и, не найдя ее, бросил пальто на стоявший поблизости стул, а шляпу швырнул, как мальчишка, па ветвистые оленьи рога над дверью, и она там зацепилась. Молча пожав руку Коробииу, не сводившему с него удивленных глаз, Пробатов вытащил из-под кровати самодельную скамеечку, присел на нее и опустил свою большую, сильную руку на костлявый бахолдин-ский кулачок, который скрылся весь под этой могучей пятерней.
Коробин впервые встречался с Пробатовым в обыденной домашней обстановке. На двух или трех совещаниях и активах, где ему приходилось присутствовать, он наблюдал за ним лишь издали.
— Ну, что говорят врачи? — спрашивал Пробатов, с улыбчивой приветливостью глядя на исхудалое, изможденное лицо товарища и не отпуская его руки.
— Дело, Иван Фомич, голубчик, не в лекарях,— тихо отозвался Алексей Макарович, и на губы его пробилось подобие жалостной усмешки.— Вся машина поизносилась, по частям разваливается...
— А мы ее починим, капитальный ремонт сделаем! — с преувеличенной бодростью сказал Пробатов.
— Если бы среди запчастей сердчишки попадались, тогда куда ни шло, можно было бы попробовать, а так обманывать себя нечего — списывай меня в утиль и заменяй меня вон молодыми кадрами! — Бахолдин шевельнул свободной рукой в сторону Коробина.
— С запчастями у нас в области неважнецки, сам знаешь, но для тебя мы постараемся,— весело отвечал секретарь обкома.— Если мы таких, как ты, будем списывать в расход, то недолго разбазарить все свои накопления!..
Коробину казалось, что Пробатов сознательно ведет разгозор в таком нарочито бодром тоне, который скорее был свойствен врачу, чем партийному работнику. Да и сам Пробатов в этой обстановке выглядел вызывающе здоровым, несмотря на седину, почти молодым со своим румяным, энергичным лицом, жизнерадостной улыбкой, сильными руками, всей полноватой и ладной фигурой.
Но эта наигранная веселость не могла обмануть Коробина. Он считал, что Пробатов приехал убедиться только в одном — сможет ли Бахолдин и дальше руководить районом или пришла пора подумать о его замене. Поэтому понятно было его желание как-то смягчить силу удара, который неминуемо должен был обрушиться на старика. Ведь его нужно было морально подготовить и внушить ему хотя бы слабое утешение, что он не останется в одиночестве и по-прежнему будет кому-то нужен.
С той минуты, как секретарь обкома вошел, Коробин стоял все в той же несколько скованной позе и, глядя в аккуратно подстриженный затылок Пробатова, молчаливо наблюдал за ним.
Его начинало слегка беспокоить явное невнимание секретаря обкома, который пока, не проявлял никакого интереса ни к работе райкома, ни к нему лично. Неужели он опять все оставит в той же мучительной неопределенности?
В эту минуту Пробатов круто, всем корпусом обернулся к нему, и Коробин замер в напряженном ожидании.
- Что там у вас происходит в Черемшанке, Сергей Яковлевич?
Коробин отвечал спокойно, без запинки, долго не раздумывая, чтобы у секретаря обкома не сложилось впечатление, что он знает обо всем понаслышке.
— Колхоз нас ни разу не подводил, все задания выполнял одним из первых, а Лузгин, хотя звезд с неба и не хватает, однако в спину его подталкивать не приходится.
Пробатов качнул головой.
— А чего же добиваются те, кто недоволен им? Просто хотят заменить его кем-то другим? Но почему? Не выносят его требовательности или по иной причине? И что это за люди, которые заботятся только о своем, а о колхозном забывают,— все они лодыри или есть среди них работящие, честные колхозники?
— Всякие,— неопределенно ответил Коробин, досадуя, что с каждым новым вопросом он чувствует себя все менее уверенно.
— Ну конкретно, вот этот Егор Дымшаков, которого вы считаете заводилой во всех нездоровых явлениях, он что — пьет, дебоширит, не выходит на работу?
— К сожалению, этого про него сказать нельзя...
— Почему «к сожалению»?
— Простите.— Коробин покраснел до ушей, опасаясь, что своей обмолвкой может навредить себе больше, чем это в состоянии сделать его недруги.— Я не совсем удачно выразился... Но Дымшакова вы напрасно слушали, Иван Фомич! Первый крикун на всех собраниях! Один раз, когда я там проводил совещание, он почти что сорвал его и увлек за собой отсталые элементы!..
— Почему же вы считаете, что оно сорвалось по его вине, если вы сами там присутствовали? — спросил Пробатов, и Коробин, по достоинству оценив этот тяжелый упрек, не нашелся, что ответить.
— Он ведь коммунист, Дымшаков-то,— тихо проговорил все время молчавший Бахолдин, и секретарь обкома, похоже, был благодарен ему за эту подсказку.— Я его давно знаю, еще когда приют здесь сколачивал... Мужик он неровный и даже злой, по в нем есть что-то настоящее..,
«Лежал бы лучше и не ввязывался не в свое дело, старый гуманист! — с вспыхнувшей вдруг неприязнью подумал Коробин.— Вот попробуй докажи этому партийному деятелю, что на его либеральных принципах далеко не уедешь, если не будешь достаточно требователен».
Упираясь руками в колени, Пробатов поднялся, неторопливо, лавируя среди нагромождения вещей, прошел к окну, постоял, вглядываясь в скопившуюся в проулке синеву сумерек, побарабанил пальцами по подоконнику.
— Скажите, Сергей Яковлевич,— неожиданно спросил он.— Вам тяжело работать?
Коробин вспыхнул и с минуту молчал, не в силах справиться с охватившим его волнением.
— Как я работаю — об этом лучше всего судить вам, Иван Фомич... Мне кажется, что я пока справляюсь со своими обязанностями, хотя мне и приходится тянуть за двоих!
Ему уже казалось, что он говорит неубедительно и, главное, зря, потому что если секретарь обкома начал сомневаться в его способностях возглавить район, то любые слова бессильны и бесполезны.
Пробатов обернулся, и Коробин увидел на его лице сму-
щеннуюую и грустную улыбку. - Вы не так меня поняли! — как бы извиняясь, что огорчил молодого работника, тихо сказал Пробатов.— Мне хотелось знать, бывает ли и вам тяжело? Мне, например, бывает... И почему-то думается, что дальше будет еще сложнее и труднее, хотя некоторые товарищи считают, что все пойдет само собой, раз мы имеем такие замечательные решения. Но ведь чтобы их выполнить, нам нужно, по-моему, что-то понять заново...
У Коровина сразу отлегло от сердца, он слушал секретаря обкома с радостной готовностью, еле сдерживая просившуюся на губы улыбку. Вот струхнул, ни к черту стали нервишки!
— Сколько коммунистов в Черемшанке?
— Партийная организация там небольшая, всего двенадцать человек.— Коробин отвечал с прежней четкостью и деловитостью.— Мы, конечно, понимаем, что тут у нас есть известная недоработка, для такого колхоза это маловато, но как-то вроде не намечаются подходящие кандидатуры.
— Просто вы, видимо, недостаточно хорошо знаете людей,— с оттенком непонятной грусти заметил Пробатов.— Вот и вся, как вы говорите, недоработка! Старая и затяжная наша болезнь...— Он помолчал, словно прислушиваясь к чему-то в себе.— Независимо от того, захотят ли объединиться Черемшанка с Заречьем, нам нужно создать там боевую и сильную организацию, может быть, сделать ее территориальной, влить туда учителей, рабочих с маслозавода, а главное — искать, искать новых людей!
— Мы подумаем над всем этим, Иван Фомич,— пообещал Коробин.— Вплотную этим займемся...
— А с колхозом разберитесь хорошенько... Если бы моего вмешательства было достаточно, чтобы все выправить там, я бы, не задумываясь, остался в Черемшанке на день, а то и больше. Но мне кажется, что у недовольства, которое там бродит, более глубокие корни... Я не хотел бы и вас лишать ответственности за все, что происходит в колхозе,— пора учиться всем работать без мелкой опеки!..
— Не беспокойтесь, Иван Фомич,— смело и открыто глядя в глаза секретарю, ответил Коробин.— Во всем наведу порядок и доложу вам лично!
— И помните.— Пробатов поднял указательный палец, как бы приковывая внимание: — Сейчас, пока товарищ Бахолдин болен, за все дела в районе мы будем спрашивать
только с вас, и без всяких скидок на то, что вы второй секретарь. Ясно? А теперь не станем докучать Алексею Макаровичу, через часок я заеду в райком, и мы займемся текущими делами.
Это было как раз то, что Коробин жаждал услышать. Он мог теперь уходить со спокойной душой, потому что при любых обстоятельствах обком считал фактическим руководителем района только его!
— Будем стараться, Иван Фомич, чтобы оправдать доверие областного комитета!
Пробатов чуть поморщился, словно в последних словах Коробила что-то не понравилось ему, но ничего не сказал, только нагнул голову, как бы давая понять, что разговор окончен и что он хотел бы несколько минут побыть наедине со старым больным товарищем.
Не успели стихнуть в коридоре шаги Коровина, как Дарья Семеновна внесла охапку дров, осторожно вывалила их на железный лист перед печью, стукнула чугунной дверцей.
— Ты что это надумала, Даша? — спросил Бахолдин.— Вроде не зима еще...
— Тебе в тепле надо лежать. Протоплю разок — сырость всю выгоню, да и дух тут будет полегче...
В стеганке она выглядела крупнее и толще, но двигалась проворно: с треском отодрала от березового чурбачка бересту, положила ее трубочкой в печку, набросала припасенных заранее смолистых щепок, чиркнула спичкой, и юркий огонек забегал по дровам; теплый розовый отблеск упал на белый кафель.
— Может, вместе с сыростью и хворь твоя исчезнет,— стоя на коленях перед печкой, невесело пошутила она.— А заодно и кой-какая другая нечисть, что у тебя бывает, в трубу вылетит!..
— Дарья! — Бахолдин насколько мог повысил голос.
— Не пужай, все одно молчать не буду!..
— Кого же это вы имеете в виду, уважаемая Дарья Семеновна? — Пробатов оторвал руки от подоконника и подошел поближе к старой женщине.
— Есть тут один,—уклончиво ответила она.— Хоть а рога на нем не обозначены, а нутром чую — нечистый,
— Перестань, говорю, старая, не срами ты меня,— взмолился Алексей Макарович.— Дался он тебе!
— А чего он все время ходит, выглядывает, вынюхивает— чего? Ровно нам тут два дня жить осталось!.. Так и ворочает своими буркалами...— Не договорив, она в сердцах хлопнула чугунной дверцей и вышла. Уже шагая по коридору, что-то сердито и громко выговаривала, но слов нельзя было разобрать.
— Прямо беда с ней,— помолчав немного, заговорил Алексой Макарович, словно извиняясь перед Пробатовым ва эту сцену.— Кого невзлюбит — хоть в дом не пускай!
— За что же она его не любит?
— Кто ее знает, не пришелся но душе, вот и все... Клянется своим нутром, что он плохой человек, а фактов у нее, конечно, никаких нет и быть не может... Есть, правда, В ого характере одна неприятная черта — он постоянно разговаривает со всеми тоном выговора, а люди, как из-вестно, этого по переносят, они хотят, чтобы с ними говорили как с равными, даже если он тысячу раз прав... За два года, которые мы с ним работаем, никак не могу отучить его от этого... Он какой-то оголтело принципиальный, что ли... Любую мелочь возводит в принцип, во всем и везде хочет быть непогрешимым, словно ему со дня рождения выдали индульгенцию от всех ошибок и дали право выражать единственно правильную точку зрения на все...
Пробатов тихо засмеялся, а Бахолдин смущенно замолчал, поймав себя на том, что секретарь обкома может воспринять его слова как желание наговорить лишнее на молодого партийного работника. И, словно желая сгладить впечатление, поспешно добавил:
— А вообще-то он энергичен, напорист, горячо берется за любое дело, подталкивать его не приходится...
Они долго сидели так в тишине, не тяготясь наступившим молчанием, думая каждый о своем.
Быстро смеркалось, стекла окон наливались густой синевой, сквозь нее проступали, как резные, ветви раскидистой березы, росшей во дворе под окнами. Потом окна померкли, и во мгле двора, у сарая, смутно, как снежный сугроб, засветилась березовая поленница.
Пробатов сел около печки на низкую скамеечку, приоткрыл дверцу и, глядя на почернелые поленья, исходившие белым шипучим соком, долго любовался ярким буйством огня. Руки его окрасил оранжевый загар, в лицо веяло жаром, но он не отодвигался, не шевелился, весь уйдя в далекие, неподвластные времени воспоминания,,»
Когда отгремели выстрелы в горах, отполыхали в таежной глуши партизанские костры, Иван Пробатов, в пропахшей потом и дымом шинели, в высокой буденовке, вернулся в родную деревню. Мужики выбрали его сначала в комбед, затем, несмотря на молодость и неграмотность, поставили председателем Совета, а позже, когда сколотилась на деревне первая партячейка, он стал ее вожаком.
Дни и ночи проводил Иван в Совете — тесной, прокуренной избе, часто тут же оставался ночевать, с наслаждением вытягивался на жесткой и голой лавке, не выпуская из руки рубчатой рукоятки нагана.
Сюда в Совет и явился однажды высокий Мужчина в коротком, не по росту, стареньком полушубке, черных подшитых валенках и уж совсем не по-здешнему белой поярковой папахе, наползавшей ему на глаза. Мужики, как только он вошел, стали сдергивать шапки. Людей в тот день в Совете было много, все дымили махрой. За окном слепяще горели снега, стекла искрились колючей бахромой инея, а в избе было чадно, не продохнуть, и над головами, почти не расползаясь, плавало сизое облако дыма, пронизанное солнцем.
Поздоровавшись со всеми, незнакомец попросил Проба-това выделить лошадей, чтобы привезти для приюта дров. Он сказал об этом так спокойно и просто, словно был заранее уверен, что Пробатов не только не откажет ему, но что выполнять такого рода просьбы является его прямой обязанностью.
— Это что еще за такой приют? И на каком основании... Мужики не дали ему договорить, загалдели, перебивая друг друга.
— Да это нашенский учитель, Иван!
— Сирот набрал и всякому делу их обучает! Пробатов не сразу все понял, а разобравшись, не сразу поверил:
— Как так? Выходит, сам по себе их собирал? Или кто дал тебе распоряжение такое?
— Сам по себе,— сказал учитель и даже заулыбался, словно речь шла невесть о каких пустяках.— А разве Советская власть запрещает помогать бездомпым детям?
- Советская власть для того и родилась, чтобы всем хорошую жизнь сделать! — нравоучительно и строго сказал Пробатов.— Но что будет, если каждый начнет свою частную лавочку открывать? Давай-ка становись на учет, пристраивайся в ряд. Порядок должен быть!
Учитель не обиделся, не полез на рожон.
Если будет от этого польза, я согласен! Пишите. Ну пишите!
Пробатов багрово, до ушей покраснел: писать он не умел и еле расписывался, ставя коряво букву за буквой. Но учитель оказался отчаянно понятливым человеком.
— Хотите, я вас в два счета грамоте обучу?
- Л если я окажусь чурбак чурбаком?
Он страшился этого больше всего на свете: а вдруг он не сумеет справиться с тем, что даже ребятишки схватывают па лоту? Но еще больше пугала его собственная беспомощность — душа светила и пела, мог зажечь и повести за собой людей, а глаза будто застилала липкая темь. »Учи-тель словно глядел ему в самую душу, подзадоривали выкриками мужики, и Иван согласился на эту стыдобушку.
- Ну ладно, авось сквозь землю не провалюсь!
И с тех пор, отдавая день заботам и хлопотам, он до поздней ночи засиживался с Бахолдиным в Совете и, старина, правильно держать в непослушных пальцах карандаш, выводил буквы или неторопливо, нараспев читал: «Мы не рабы. Рабы не мы».
С каждым днем он чувствовал себя увереннее во всех долах, сам терпеливо разбирал пришедшие из укома бумажки и вскоре бойко, размашисто выводил свою фамилию.
Всем был хорош Алексей Макарович, но, как заговоришь с ним о том, что ему тоже надо обязательно быть в партии,— кому же в нее вступать, как не таким людям! — он умолкал или отнекивался. Однажды Пробатов даже рубанул напрямик:
— Может, у тебя грех какой в прошлом есть, так ты скажи, мы незлопамятны, мстить не будем!
Нет, оказалось, ничего такого за душой не водится, просто он считает, что в партии люди должны быть особенные, даже героические, а его призвание скромное — поднять на ноги ребят. Пробатов тогда перестал его донимать: придет время, сим запросится.
И не ошибся. Учитель вступил в партию зимой тридцатого года, и причиной тому, даже не причиной, скорее последним толчком, опять-таки был Пробатов.
Зима выдалась тревожная — чуть не каждую ночь озаряли деревню пожары. Пробатов к тому времени уже был женат, имел двоих детей, и жена, каждый раз провожая его на очередное собрание, не чаяла дождаться домой. Она закрывала дверь на толстые крючки, прикручивала проволокой дверную скобу к железному лому, плотно занавешивала окна и, прикрыв детей одеялом, положив рядом с кро-
ватью топор, просиживала около них ночи напролет. Под утро Иван возвращался из очередного похода по дворам, где шли поиски зарытого в ямы хлеба, и, поспав немного, снова отправлялся «ворошить контру».
Один из таких вечеров чуть не стоил ему жизни. Он выступал в Народном доме, в здании бывшего волостного правления. Он не боялся злобных выкриков против «ком-мунии»,— никто не мог сбить его никакими словами! — но в тот вечер он чувствовал странную тревогу: будто дул откуда-то сквознячок и сковывал спину. Иван говорил, не выказывая своего беспокойства, старательно шаря глазами по сумеречным углам, где возникал подозрительный шум. Договорить он не успел — грохнул выстрел, и висевшая над головами людей большая лампа брызнула стеклом и керосином. Поднялся дикий визг, рев я гвалт. Несколько бандитов бросились к сцене, но Пробатов опередил их — ударом сапога вышиб раму и, изрезав в кровь руки, вырвался в ночную темь. Он долго плутал по переулкам, пока, сбив своих преследователей со следа, не очутился в детдомовском огороде. Пробатов постучал в окно флигелька, и Алексей Макарович впустил его. Через несколько минут в дверь забарабанили кулаками. Учитель вышел в сени и закричал истошно:
— Что это за пьянчуги ломятся к детям? Вон отсюда! За дверью опешили, потом один сказал:
— Чего орешь-то? У тебя Иван Пробатов?
— Нужны вы мне со своим Пробатовым! Идите к черту и не мешайте мне спать! У меня самого целый колхоз на шее!
За дверью пошептались, но, уходя, бандиты предупредили:
— Смотри, Макарыч! Хоть ты и беспартейпый, но мы с тобой в жмурки играть не будем, ежели что...
После той памятной ночи учитель сказал Пробатову:
— Твоя правда, Иван Фомич... Мне нужно быть в партии! Раз враги так лютуют против нее — значит, в ней вся сила, весь корень...
С тех пор их жизни пошли несхожими путями, у каждого по-своему: Пробатов вскоре поступил на рабфак, потом работал и снова учился, партия перебрасывала его с одного важного участка па другой, а Бахолдип, связавший свою судьбу с детдомовцами, оставался все время в Прире-ченском районе...
Пробатов взял забытую Дарьей Семеновной маленькую кривую кочергу, пошуровал в печке, взвихривая облачко
трескучих искр. Подбросив пару полешек, он закрыл диерцу, приставил к ней кочергу. Загудело пламя, и сквозь круглые отверстия в дверце упали на пол золотые шпаки.
— Знаешь, я сейчас думал о том, как мы с тобой увиделись в первый раз, ты помнишь? — нарушая долгое молчание, сказал Пробатов.— Удивительное дело! Иногда мне кажется, что ничего этого со мной не было и про все это я или слышал от кого-то, или вычитал в книгах... И что особенно поразительно — столько прожито и пережито, словно не одна уже жизнь позади, а живу по-прежнему с таким чувством, будто самое главное, что я должен сделать, еще впереди и настоящая жизнь вроде и не начиналась! У тебя когда-нибудь бывает такое?
Старик ответил не сразу. Пробатову даже стало казаться, что Алексей Макарович задремал, но суховатый строгий голос товарища заставил его насторожиться.
Когда душа продолжает расти, всегда думается, что иго впереди. Совсем недавно я тоже строил большие планы — вот, мол, теперь только и поработать, когда больше доверим во всем стило, а ног слег, и во мне как-то все оборвалось... Видно, выдохся, и можно подводить, как говорят, черту...
Пробатов поднялся со скамеечки, подошел к кровати, сел па край ее.
— Послушай, это на тебя не похоже! — Он нашел горячую руку Бахолдина, словно это прикосновение могло помочь ему убедить друга.— От кого угодно я мог ждать безвольную чепуху, ты извини меня за некоторую резкость и грубость, но только не от тебя!
— А ты не возмущайся,— все так же угнетающе сухо и тихо проговорил Алексей Макарович.— Мы привыкли смотреть правде в глаза... А правда такая — я скоро умру...
— Нет! Нет! — почти вскрикнул Пробатов, стискивая руку старика и с ужасом чувствуя, что верит тому, о чем говорит Бахолдин, хотя внутренне всей душой должен был сопротивляться этому.— Ты выбрось эту чушь из головы! Мы тебя вылечим! Если нужно, повезем в Москву, К лучшим специалистам...
— В Москве люди тоже умирают,— сказал Алексей Макарович, и в голосе его звучала не легкая насмешка над наивностью друга, а какая-то мрачная отрешенность.— Зачем нам обманывать самих себя? Ты же знаешь, у меня был инфаркт, и я еле выкарабкался. В общем, не будем об
этом!.. И, по совести говоря... Когда вот так уходят от тебя силы и ты не можешь двинуть ни рукой, ни ногой, когда от слабости иногда не можешь даже думать — ничего ясного, один туман в голове,— то в конце концов все становится безразличным...
Пробатов смотрел на лицо Бахолдина, темневшее на белой подушке, и слушал его со все возрастающим волнением и тревогой. Никогда еще, может быть, за всю свою жизнь он не ощущал себя таким беспомощным, бессильным. Он сталкивался в последние годы с тяжелыми, трагическими положениями, но его вмешательство почти всегда давало ощутимые результаты. Ответственные посты, которые он занимал, привили уверенность, что ему подвластно многое, и не потому, что он наделен какими-то необычными правами или сверхъестественными способностями, волей и характером, а потому, что облечен высочайшим доверием партии и действует от ее имени, ее силой, ее авторитетом. Он мог направить на спасение гибнущего урожая тысячи людей и машин, если бы этого требовали обстоятельства, поднять на ноги весь город, всю область.
А вот сейчас он был до противной тошноты немощен и бессилен, хотя дело шло о жизни одного из самых дорогих ему людей.
Отблески пламени от топившейся печки, отражаясь на белом потолке, на кафеле, будто рассеивали в сумраке комнаты красноватую пыль, и эта печальная мгла рождала ощущение еще большей безнадежности.
«Как это дико, что ему понадобилось смертельно заболеть, чтобы я бросил все дела и приехал сюда! — думал Пробатов, чувствуя, что веки его теплеют.— Собрания, совещания, активы, нужные и ненужные, захлестывающие нас речи, иногда совершенно бессодержательные, пожирающие наше время, и дела, дела... И мы так крутимся в этом водовороте, что забываем выбрать час, чтобы навестить близкого человека. Неужели нас подхватывает и гонит так стремительный бег нашей эпохи — беспокойной, нетерпеливой, на долю которой выпало сделать как можно больше, пусть не до конца хорошо, но скорее, иначе мы что-то упустим и потомки по простят нам этого промедления...»
— Ты не верь, что мне все равно, я это так... просто взвыл от одиночества! — Бахолдин передохнул, словно собираясь с силами, в голосе его прорвалась взволнованная, надсадная хрипотца.— Я ужасно хочу жить, работать именно теперь, когда наступили такие перемены во всем,
когда, кажется, я только начал понимать, что делал хорошо и что плохо, и все открылось мне...
— Если бы каждый сумел сделать в жизни то, что Ты!..— Пробатов отпустил руку товарища и порывистю встал, как бы освобождаясь наконец от того мрачного, что все время тяготило его.
- А иногда меня мучает другое.— Алексей Макарович дышал тяжело, с присвистом.— Может быть, я жил не так, как надо было... Нет, ты послушай,— замотал он головой, видя, что Пробатов выражает крайнее нетерпение.— Ты Поставь себя на мое место — я ведь тут работал почти всю жизнь... А сколько в нашем районе еще слабых колхозов, как еще трудно живут некоторые люди... Разве нет моей вины в том? Не пойми меня так— вот, мол, старина расклеился и стал каяться в своих грехах, заботиться о спасении души... Нет, я всегда считал себя солдатом партии, и даже в то минуты, когда я начинал думать, что в сельском хозяйстве творится что-то неладное, я верил, застав-лил себя наконец верить, что, очевидно, такое положение диктуется какими-то более высокими причинами, О которых мне неизвестно... А теперь я вижу, что напрасно молчал!.. Нельзя жить бездумным исполнителем, если хочешь быть настоящим коммунистом...
— Да, это тяжелый и горький упрек.— Пробатов сделал несколько шагов по комнате, но сразу наткнулся на какой-то острый угол и остановился.— Я тебя хороню понимаю.... Вот сегодня утром я встретил одного знакомого мужика, ты его, наверное, знаешь, Корнея Яранцева...
— Ну как же! Я даже помню, как он уехал отсюда... Я замотался с разными делами и как-то не уследил за ним, хотя мне рассказывали, что он приходил ко мне в райисполком... А потом слышу — исчез! Я тогда как больной ходил, честное слово! И дело не только в нем, ведь и кроме него бежали люди из деревни... По о таких, как Яран-п,еп, Я думал всегда как о своей опоре..
Теперь это все в прошлом,— не выдержав, снова прервал его Пробатов.— А нам нужно думать о настоящем! И главное — все делать для того, чтобы такие, как Корней, вернулись обратно. Сколько у нас в деревнях еще заколоченных изб!
— Вот это-то не дает мне покоя... Лежишь иной раз тут один, темень, собаки где-то лают, и сосет тебя, сосет одна мысль за другой... Если, мол, ты не сумел создать людям хорошую жизнь — а они ведь доверяли тебе, ждали, что
сможешь,— то, может, ты вообще ни на что не годишься. До того муторно станет, хоть волком вой...
Он пошарил руками по груди, Пробатов растерянно наклонился к нему.
— Тебе плохо?
— Ничего.— Старик задыхался и с трудом выдавливал слова. — Тут где-то капли...
— Сейчас, сейчас.— Пробатов заторопился, опрокинул что-то на столике.— Ты меня прости, что я растревожил тебя,— черт знает, что за характер!
Свалив на пол какие-то книги, он наконец догадался зажечь свет и нажал кнопку настольной лампы. Темно-зеленый абажур отбросил густую тень на потолок, а столик облил ярким светом. Найдя нужный пузырек, Пробатов, не оборачиваясь, спросил:
— Сколько?
— Двадцать...
Держа над краем чистого стакана чуть вздрагивающий в руках пузырек, он отшептал положенное число капель, долил из графина немного воды и обернулся к Алексею Макаровичу. Сумрак утяжелял лицо Бахолдина, подчеркивал глубокий провал глазниц, ввалившиеся щеки и дряблый мешочек под подбородком. Свет словно смыл все тени и темные пятна, напоил влажным блеском глаза, окрасил все лицо легким, болезненно неровным румянцем.
Полузакрыв глаза, Алексей Макарович медленными глотками выпил лекарство и с минуту лежал молча, не сводя пристального взгляда с Пробатова.
— Что ж не ругаешь меня? Или считаешь, что я просто хлюпик и неврастеник и поэтому ударился во всякую ересь?
— Я не считаю это ересью, по я не могу согласиться с тобой, когда ты чуть ли не отказываешь себе в праве на смысл в своей жизни.
Свет, разделивший комнату на два пласта — мертвенно-зеленый, лежавший наверху, и теплый, все согревающий, внизу, — позволял Пробатову доввльно легко лавировать среди вещей. Он проложил себе дорожку от окна до двери и свободно вышагивал, давая полную волю своему темпераменту.
— Да, я согласен с тобой, многое еще идет у нас не так, как бы нам хотелось,— покачивая в такт шагам головою, говорил он.— И желание решить все проблемы и трудности сразу, одним махом, тоже вполне понятно и даже закономерно, но, к сожалению, нереально... У нас встре-
чаются и всякие изъяны, и недостатки, но ведь было бы неестественио, если бы их не было. Мы не одно десятилетие прорубали путь для других... Но разве все эти годы ТЫ по был счастлив и горд за свою страну, за свой великий народ? Ты подумай только, из какой вековой тьмы и нищеты мы вытащили страну, и она теперь стоит на виду у всего мира, и ничто в этом мире уже не может решиться без нее! Или этого тебе мало, чтобы ты знал, что жил и работал не зря? И если хочешь знать, в этом есть и ты, и я, и тот еще скудно живущий колхозник, перед которым мы 0 тобой в долгу!
Он забыл, что находится в комнате больного, размахивал руками, говорил, все более воодушевляясь, раскатисто-громко. Поймав лихорадочный взгляд притихшего Алексея Макаровича, он наконец остановился и смущенно улыбнулся.
— Оглушил я тебя совсем, старина?
— Спасибо тебе,— тихо поблагодарил Бахолдин, и Пробатов увидел в глазах его остро блеснувшие на свету слезы.— Спасибо, что навестил, что так хорошо разбередил
душу...
Голос Алексея Макаровича окреп, звучал мягче, в нем исчезла надтреснутость, но в глазах еще долго стояли крупные, дрожавшие у век слезы.
Скоро Пробатов, пообещав прислать известного в области профессора, распрощался, н Бахолдин остался один.
Машина развернулась, бросив в окна резкий свет фар, захрустела под колесами скованная заморозком грязь, и скоро стало так тихо, что было слышно, как по-щенячьи поскуливает в поддувале воздух.
Ксения догнала отца за деревней, около перелеска. Корней устало и равнодушно месил грязь — далекий, суровый, полный нарочитого безразличия к тому, что она идет рядом. Он ни разу не взглянул на нее, ни о чем не спросил, но весь вид его и даже сутуло горбившаяся спина выражали недоброе отношение к ней. Ксении хотелось как-то успокоить отца, раздосадованного и взволнованного встречей с секретарем обкома, и, не вызывая в нем нового взрыва негодования, убедить в том,
что в разговоре с Пробатовым он был не прав — разве можно все сводить к своим личным обидам и неудачам, как бы они ни были тяжелы?
Мокрый, продрогший на ветру перелесок проглядывался насквозь; редкие листья зябко дрожали на оголенных ветках; вокруг стоял неумолчный шорох капель, частым дождем сыпавшихся на вороха опавшей листвы.
За перелеском в осенней туманной испарине тянулись черные поля поднятой зяби, ветер нес в лицо серую морось.
— Ты какой-то злой стал, отец,— не вынеся наконец тягостно-отчужденного молчания, заговорила Ксения.— Ну зачем ты так позорил меня перед Пробатовым?
Корней медленно обернулся, взгляд его будто заволокло дымкой — он возвращался мыслями откуда-то издалека.
— А ты бы лучше помолчала и не встревала в спор,— с хмурой непримиримостью ответил он.— Думаешь, людям по душе, что ты каждую щель замазывала?
— Ничего я не замазывала! — Ксения старалась говорить как можно сдержаннее и холоднее.— Ты забыл, что я инструктор райкома и что я не имею права допускать, чтобы наш дорогой родственничек сбил всех с толку!.. Я лучше тебя представляю, что сейчас делается в колхозе.
— Дети — они завсегда считают, что живут умнее отца с матерью,— угрюмо отозвался Корней.— Тебе хочется, чтобы я по-твоему и жил и думал, а мне покуда своего ума хватает. А ты вот — не бери только в обиду — пока чужим живешь!.. И по мне, твоя жизнь как бумажка чистая — что хочешь, то и малюй на ней.
— Нечего сказать, хорошего мнения ты о своей родной дочери. —У Ксении задрожали губы.— Выходит, по-твоему, у меня нет собственного мнения? Спасибо на добром слове, утешил!..
Корней остановился, вздохнул, тронул дочь за рукав и, глядя в ее влажные, гневно-красивые глаза, сказал с грустным укором:
— Выбросила бы ты разную дурь из головы да, как вон зять советует, выходила бы поскорее замуж, а?
Это было так неожиданно, что вначале Ксения подумала, не ослышалась ли, но, увидев на губах отца доверительную, полную скрытого лукавства улыбку, растерялась.
— Вроде хороший человек тебе в мужья набивается... Я об Иннокентии Павловиче говорю,— не давая ей опомниться, продолжал Корней.— В каждом своем письме приветы от него передаешь, по всему видать, мужик уважительный, не попрыгун какой, в годах... Чего ты его, как
телка на привязи, держишь? Иль не надоело бобылкоя жиить?
— Живу одна, зато никто надо мной не стоит,— глядя себе под ноги на чавкающую под резиновыми ботами жирную грязь, тихо ответила Ксения.— Никому отчетов не дню, ничьи прихоти не исполняю. Кому я в тягость?
— Да себе в тягость, себе! — горячо и раз'досадованно подхватил отец.— Чего ты передо мной-то прячешься, гордость свою выставляешь? Разве я не вижу — без радости ты живешь, скучно, как вон тот верстовой столб в поле: хоть и при большой дороге стоит, а пусто кругом... Ах, Ксюша, да разве мы с матерью не добра тебе желаем!.. Он что у вас делает, в райкоме-то?
— Ты про Иннокентия Павловича? Заведует отделом пропаганды и агитации...
— А как работник он из себя? Ничего? Ценный?
— С ним считаются, уважают его...
— Может, водку хлебает без меры?
Да ты что, отец? Его бы и дня не держали в рай-коме!
Тогда чего же ты такого самостоятельного человека от себя отпугиваешь? — Корней передохнул и вдруг, словно пораженный внезапной догадкой, спросил с недоумением и горечью: — Или ты все еще того вояку забыть не можешь, что закружил тебе голову, когда ты зеленой девчонкой была? Я б не только думать о нем перестал, а из памяти вон вытравил, паршивца!..
— Ты о ком это? — Она сама не знала, зачем хитрила и делала вид, что не понимает, о каком человеке говорит отец, и не успел он назвать это, казалось, давно похороненное для нее имя, как она схватила отца за руку.— Не надо о нем, тятя... При чем тут Мажаров? Я ж тогда была совсем глупая, и вообще... не будем об этом!
Корней пристально посмотрел на дочь, стараясь угадать, что таилось за ео смятенным, просящим взглядом, затем молча отнял руку и, втянув голову в плечи, зашагал дальше навстречу сырому, моросящему ветру.
Пряча в рукава озябшие пальцы, Ксения шла позади. Вот здесь, около этого перелеска, она когда-то повстречала человека, которого до сих пор не могла забыть. Она удивлялась тому, что впервые за многие годы думала о Константине Мажарове без привычного чувства обиды и душевной угнетенности.
Было время, когда во всем, что случилось плохого, она винила одного Константина. Даже вчера, очутившись в сенях родного дома, она вспомнила о нем, не прощая ему ничего. А сейчас о прошлом думалось легко и свободно, словно отстоялась боль пережитого и над нею струится поток чистых, ничем не замутненных воспоминаний. Она шла и улыбалась им.
Это случилось в девятнадцатую весну ее жизни, за год до конца войны. Ксюша училась тогда на последнем курсе сельскохозяйственного техникума, жила на частной квартире в райгородке и домой наведывалась лишь по субботам.
В один из таких дней, перекинув через плечо привязанный за косынку туго набитый портфель, она отправилась в Черемшанку. Шла и напевала что-то вполголоса, простоволосая, в пальто нараспашку, беспричинно радуясь наступившему теплу, весенним лужицам на дороге с бездонной синевой опрокинутого неба, птичьему пересвисту в придорожных кустах.
Перелесок был окутан дымкой первой сквозной зелени, цыплячьим пушком желтели отцветающие вербы, пахло нагретой землей, палым прошлогодним листом и горьковатой терпкостью тополиных почек.
Из перелеска вышел на дорогу молодой офицер, неся на белой перевязи раненую руку, в другой он держал сломанную веточку, тонкую, с едва распустившимися клейкими язычками листьев.
В те времена Ксюша с каким-то обостренным вниманием и нежностью относилась ко всем, кто побывал на войне. Испытывая к фронтовикам восторженное чувство уважения и благодарности, она каждый раз словно искала на их лицах отблеск далекого и страшного зарева сражений.
Однако случайно встреченный на дороге молодой лейтенант почему-то не вызвал в ней знакомой признательности. Он даже внешне мало походил на военного человека, форма не делала его стройным, подтянутым, она лишь подчеркивала его глубоко штатский вид: гимнастерка защитного цвета коробилась на спине, большими раструбами торчала из-под широкого ремня; неуклюже и ухарски сидела на голове фуражка, не в силах примять пышные
каштановые волосы; и уж совсем неуместными казались на широкоскулом лице очки в светлой роговой оправе, может быть, потому, что лицо его с несколько неопределенным и наивным выражением было лишено той непреклонности и сдержанности, какая, по мнению Ксюши, была свойственна людям, прошедшим через тяжелые испытания.
«Наверное, какой-нибудь писарь,— подумала Ксюша.— А может быть, и врач».
Офицер поравнялся с нею и неожиданно улыбнулся Ксюше доверчиво и ласково, как старой знакомой. В этой улыбке и в том, как он смотрел на нее, было столько откровенного любования, что Ксюша потупилась и быстро прошла мимо, не поздоровавшись, хотя обычно, по деревенской привычке, первая здоровалась с незнакомыми людьми старше себя.
Через минуту она оглянулась, словно кто-то силой повернул ее голову. Лейтенант стоял на месте и, улыбаясь, смотрел ей вслед. Потом поднял здоровую руку и слегка помахал зеленой веточкой.
Вот еще! Чего доброго, вообразит, что он ей понравился! Она капризно тряхнула головой и решила больше не оглядываться.
Но, сбежав с подсохшего, проколотого первыми зелеными перышками травы пригорка, она как бы невзначай покосилась в сторону и уже не увидела офицера.
На какое-то мгновение ей стало грустно, но, будто желая освободиться от чувства еще не осознанного сожаления, она стремглав перепрыгнула через широкую канаву, налитую до краев талой водой, и очутилась в перелеске. И тут она услышала голос лейтенанта — он громко пел ту же самую песню, которую только что напевала она. Это невероятное совпадение показалось ей полным особого
смысла.
Обхватив рукой молодой тополек, Ксюша слушала и словно впервые видела и лопнувшую клейкую почку над головой, и полуразвернутый, еще сморщенный лист, блестящий, точно покрытый лаком. По серому сучку ползла к нему красная божья коровка, и на другой ветке, чуть повыше, покачивалась и цвенькала веснянка...
Затрепетала оставленная птицей ветка, песня стихла. Ксюша снова выбралась на дорогу и огляделась. Дорога была пустынна, только слепила в развороченных колеях водой да где-то поблизости говорливо и беспечно булькал вешний ручеек.
«Будто никого и не было,— подумала Ксюша.— Интересно, здешний ли он?..»
Другой раз она увидела лейтенанта на вечере танцев в районном Доме культуры, куда пришла вместе с подружкой Лизой.
В зале было светло и холодно, топили за недостатком дров редко. Пахло влажными, недавно вымытыми и еще не успевшими просохнуть полами, вдоль стен громоздились одна на другую поставленные скамейки, стулья; посредине зала сидел на табуретке пожилой баянист в теплом ватнике и скучающе оглядывал входивших с улицы парией и девушек. Несмотря на прохладу, они были одеты по-летнему, девушки тут же у дверей сбрасывали грязные ботики, становились на высокие каблучки, охорашивались у небольшого зеркала.
Едва они вошли в зал, Лиза сразу заметила офицера и, наклонясь к Ксюше, зашептала:
— Это наш детдомовский... Парень мировой, только иногда фасонит, строит из себя что-то. Недавно из госпиталя, живет у нас во флигеле... Хочешь, познакомлю?
— Нет, нет, зачем?
— А чего ты тогда краснеешь? — бесцеремонно стала допытываться подруга и вдруг, тряхнув соломенного цвета челкой, крикнула на весь зал: — Константин! Можно тебя?
— Ты с ума сошла! — Ксюша дернула Лизу за руку, но было поздно — поскрипывая сапогами, лейтенант приближался к ним. Рука его уже не висела на перевязи, но он бережно прижимал ее к груди, словно боялся, что кто-то неосторожно ее заденет.
— А-а, Лиза,— насмешливо, с оттенком некоторого разочарования протянул он.— Пришла подрыгать ногами? А кто за тебя будет готовиться к экзаменам?
Ксюша поняла, что там, на дороге, ее первое впечатление об этом человеке было обманчивым: несмотря на внешнюю небрежность, отличавшую, по ее представлениям, людей бесхарактерных или, во всяком случае, мягких, покладистых, офицер способен был даже на дерзкую выходку.
— Ты бы, Константин, перестал читать мораль! — Лиза посмотрела на него с напускной веселостью.— Она мне в детдоме надоела. Скоро я вообще стану свободной птицей — куда хочу, туда и лечу!..
— От чего свободной? — не расставаясь с иронической усмешкой, поинтересовался лейтенант и, крепко стиснув Ксюшину руку, сказал уже спокойно и серьезно: — Мажаров...
Она назвала свое имя, но, казалось, ему было совершенно безразлично, кто она и как ее зовут.
«Видно, на самом деле много о себе мнит!» — подумала Ксюша, задетая и этим нарочитым невниманием, и тем, что он сказал ее подруге: ведь это в равной мере относилось и к ней.
— А вы разве пришли сюда не потанцевать? — спросила она.
— Что ты, Ксюшенька! — притворно удивилась Лиза.— Будет он попусту тратить время! Если он и станет что-нибудь делать, то обязательно для всего общества. На меньшее никогда не согласится. Он принципиальный враг всяких танцулек и развлечений.
— Но это же смешно! — Ксюша пожала плечами, уже жалея в душе сконфуженного офицера.— И очень старо. Мне кажется, еще тургеневский Базаров...
— Правильно, он мой ближайший единомышленник! Ставлю нам нить! — Мажаров с насмешливой присталь-ностью посмотрел на нее, глаза ого за стеклами очков сияли.— А Лизе я не поставил бы даже двойку, потому что она злостно искажает мой положительный образ. Во-первых, я не враг танцулек, да еще принципиальный. Я только не понимаю, как можно каждый вечер по нескольку часов на все лады шаркать подошвами и забывать о том, что идет война и в эту минуту, может быть, умирают люди...
— Ну, развел свою философию! — Лиза нахмурилась.— Нет, поди, из-за этого мы должны целыми днями сидеть дома и лить слезы... Затянул канитель — слушать тошно. Лучше сел бы вон за пианино да сыграл что-нибудь веселое.
— К сожалению, не могу — рука,— сказал Мажаров, и скуластое лицо его отвердело, в глазах, недавно искрившихся от смеха, не осталось и тени усмешки.— Даже боязно сесть за инструмент...
Последние слова он произнес с тихой грустью, ж Ксюша поразилась такой неожиданной смене его настроения — было непохоже, что он только что дерзил и насмеялся над ними. Баянист, сидевший посредине зала на табуретке, достал из футляра баян, расстелил на коленях суконку и небрежно тронул перламутровые лады.
— Мой любимый вальс! — проговорила Лиза ж сама двинулась навстречу пересекавшему наискосок зад партнеру.— Ксюшенька, я исчезаю со своим кавалером, а тебя пускай развлекает Константин. Может быть, он даже догадается после танцев тебя домой проводить?
— Лиза! — не вытерпев, крикнула Ксюша. Но подруга, смеясь, уже кружилась в вальсе.
— Идите веселитесь, а я вас потом провожу...— сказал Мажаров, но Ксюше уже расхотелось танцевать.
— А если мы сейчас сбежим? — нерешительно предложила она, еще не отдавая себе отчета, почему она так поступает,— какое-то упрямство властно, наперекор ее воле, подчиняло себе.
Мажаров задержал на ней пытливый взгляд, как бы стараясь понять, что движет ее внезапным порывом.
— Ну что ж, мне здесь терять нечего...
Сырая весенняя тьма обступила их, как только они оказались за порогом. Мажаров, не спрашивая разрешения, смело взял Ксюшу под руку, она доверчиво подчинилась ему, сразу почувствовала себя увереннее. Тьма была полна неясных шорохов и звуков, словно в природе совершалось что-то таинственное и необыкновенное — неслышно шли в рост травы, каждый лист на дереве, и эти невидимые перемены будили в Ксюше странное предчувствие близкой радости...
— Как тихо,— проговорил Мажаров.— Вот брожу второй месяц, и даже но верится, что скоро опять все начнет рваться над головой...
— Там очень страшно, да?
Лейтенант некоторое время шел молча, и Ксюша подумала, что он по невнимательности даже не услышал, о чем она его спрашивает.
— К страшному тоже привыкаешь...— наконец с тихой раздумчивостью заговорил Мажаров.— И не то чтобы перестаешь бояться, а просто страшного так много, что как-то постепенно тупеешь, что ли... Ведь каждый день кого-то теряешь, рвешь от сердца! Только что с другом хлебали из одного котелка, а через час он лежит на земле и больше уже никогда не встанет...
В словах Мажарова не было и следа какой-либо рисовки, он говорил о войне с суровой откровенностью человека, познавшего всю горечь утрат и нелегких побед.
— Раньше я никогда не думала о смерти,— отозвалась Ксюша, еще не совсем уверенная, что может поделиться с этим случайным знакомым самым сокровенным.— А когда убили моего старшего брата Николая, я никак не могла поверить, что никогда больше не увижу его,.. В нашей
семье он был лучше всех, сколько он хорошего сумел сделать людям!.. И вот его почему-то нет, а я живу...
— Ну зачем же так?
— Нет, нет, я не хотела сказать, что от меня не будет никакой пользы! — горячо перебивая офицера и страшась, что он не совсем правильно поймет ее, заговорила Ксюша.— Ведь могло же меня вообще не быть на свете? Правда? Ну, родилась, поживу, сколько удастся, и потом меня тоже не станет. Ну почему так нелепо и дико устроено? Зачем тогда было появляться на свет, если жизнь заранее отмерена тебе — пусть даже сто лет, а потом пыль, прах, пустота...
— Когда-то я тоже всем этим мучился.— Мажаров вздохнул.— Наверное, это нечто вроде кори...
Он разглядел в густой темноте у ее дома лавочку около палисада. Не спрашивая согласия Ксюши, он потянул ее, и она послушно опустилась рядом.
Нашарив в кармане портсигар, Мажаров чиркнул спичкой, и, пока она горела трепетным неверным огоньком, Ксюша успела замочить, что вблизи его лицо выглядело не безвольным, каким оно показалось ей раньше,— с крутым светлым лбом и упрямым подбородком, большими губами, твердо сжимавшими папиросу. В стеклах его очков трепетали два ярких огонька. Но вот спичка погасла, и голос Мажарова зазвучал мягко и доверительно:
— Я как-то не задумывался над тем, что буду делать, когда мы победим,— я ведь кончил педтехникум и собирался, как наш детдомовский батя Алексей Макарович Бахол-дин, отдать всю жизнь ребятишкам... И вот когда войне уже скоро конец, я опять не нахожу себе места, опять на бездорожье...
— Но почему? — удивилась Ксюша.— Разве учителем быть плохо? Вы же сами всем обязаны Алексею Макаровичу...
— Нет, в учителя я не гожусь! — Мажаров затянулся папиросой.— Я только недавно это понял, когда поселился после госпиталя в детдомовском флигеле. Ребята ко мне лезут с утра до вечера, то им что-то расскажи, то придумай новую игру, ну никакого терпения не хватает! Тут одного внимания да желания мало. Какая-то особая нужна любовь, и взыскательность, и адское терпение — в общем, то, чего во мне нет.
— Найдете какую-нибудь другую работу,— сказала Ксюша.— Стоит ли из-за этого расстраиваться?
— Странная вы девушка! — с чувством какого-то сожаления протянул Мажаров.— Не могу же я браться за то, к чему у меня не лежит душа. Да и не в работе только дело, поймите... Мне скоро двадцать пять лет, а что я путного сделал в жизни? В мои годы многие люди сумели, совершить и открытия в науке, и написать книги, и мало ли что!..
— Значит, вы хотите прославиться?
— При чем тут слава! — досадливо отмахнулся лейтенант.— Но разве вам не хотелось бы сделать что-то такое, что оправдывало, как вы говорите, ваше появление на свет? Я все еще своей настоящей цели не нашел, и будет горько, если я пойду на компромисс с самим собой и возьмусь за первое попавшееся, что подвернется.
Для Ксюши это было непонятно. Светлая река жизни просто посла ее вперед, а к какому берегу нужно пристать, она могла выбрать уже в пути...
— Мальчишкой, когда меня определили в детский дом, я хотел быть только героем,— сказал Мажаров.— День и ночь готовился к этому...
— Как это? — не поняла Ксюша.
— Очень просто...
И Мажаров, посмеиваясь, стал вспоминать, как он, прочитав «Овод», «Андрея Кожухова», «Что делать?», решил быть таким же сильным, непреклонным и бесстрашным, как герои этих книг,— спал па сырой земле в сарае, на голых досках, купался в ледяной воде, бросался вниз головой с высокого обрыва, вызывался на самую тяжелую и черную работу. Чтобы доказать всем детдомовцам, что он ничего не боится, он однажды на спор пошел ночью на сельское кладбище и притащил старый подгнивший крест. И тогда Алексей Макарович прекратил эти опыты по нравственному совершенствованию.
— Мы слишком поздно начинаем разбираться в том, что, кроме героических дел, которые могут выпасть на долю каждого, в жизни чаще всего нужно нести обыденные, подчас нелегкие, даже скучные обязанности, какую бы вы ни поставили перед собой прекрасную цель,— говорил Мажаров и, помолчав, досказал с нескрываемой печалью: — А настоящие герои как раз и не думают о подвиге, а, если надо, идут и умирают... Как вон на войне. Или мой отец...
Словно недовольный тем, что разоткровенничался, Мажаров внезапно помрачнел и поднялся. Он сухо попрощался с Ксюшей и, пожелав ей спокойной ночи, пропал в темноте.
Ей хотелось окликнуть его, сказать что-то еще, но она так и не решилась и долго стояла у калитки, словно ждала, что он может вернуться.
Замутненная непонятной грустью, она тихо вошла в комнату, включила свет и несколько минут гляделась в круглое зеркальце в костяной оправе. На смуглых щеках ее лежал ровный и нежный румянец, над чистым лбом вился темный локон, а глаза смотрели с тревожным недоумением.
«Мне теперь надо купить какую-нибудь яркую косынку,— подумала Ксюша.— И пудру... В конце концов я уже но маленькая!»
— Коп-стан-тин,— раздельно и тихо проговорила вдруг она, с удивлением прислушиваясь к тому, как звучит для нее ото еще вчера чужое имя.— Кон-стан-тин...
В ближайшее воскресенье Ксюша решила сходить па барахолку, где всегда можно было купить то, чего нельзя достать в магазинах.
Она долго бродила в толпе, ища подходящую для тебя цветную косынку, глазела на выставленную на расстеленных прямо на земле мешках всякую всячину — медный, покрытый зелеными тинистыми отеками таз, ржавые замки, колена труб, рваные ботинки и голенища сапог, гвозди, шурупы, рыболовные крючки. Всего и не разглядишь!
Над толкучкой плыл разноголосый гул, пахло пылью, человеческим потом, слепило глаза стеклянное и никелевое великолепие, специально вымытое и надраенное для продажи; какой-то заросший густой щетиной человек в плаще, дыша винным перегаром, хрипло выкрикивал: «А ну, налетай, кому деньги не жалко! По дешевке отдам, задарма!» — и потрясал на вытянутых руках бязевыми кальсонами; где-то завели патефон, и на всю площадь неслось с надрывом и шипением: «У самовара я и моя Маша, а на дворе...»
Неожиданно в разномастной толпе Ксюша увидела Ма-жарова и, сразу забыв о том, что привело ее на рынок, стала медленнее двигаться в людском водовороте, не теряя его из виду.
Вот он задержался около какого-то гражданина в засаленном ватнике, тот что-то показал ему из-под полы, и Ксюша поразилась тому, как мгновенно изменилось лицо Мажарова, стало тревожно-жестким. Разговаривая с человеком в ватнике, он озирался по сторонам, как бы разыскивая кого-то в текущей мимо толпе, потом глаза его остановились на Ксюше и словно приказали; «Иди сюда!»
Работая локтями, она быстро пошла вперед и, запыхавшись, остановилась около офицера. Мажаров даже не поздоровался с нею, точно они расстались минуту тому назад, только повел глазами на оттопыренную полу гражданина и тихо спросил:
— Вот предлагают спиртное... Может, купим для свадьбы?
Конечно, это была игра, и Ксюша должна была поддержать ее.
— А сколько просите?
— Четыре красненьких за литр, цена известная.
— Так...— Мажаров помедлил, переглянулся с Ксюшей.— Ну как, не разоримся мы с такой ценой? — снова качнулся к спекулянту.— И много у вас будет водки?
— А сколько душе угодно!..— выдохнул ватник и спохватился, глаза его тоскливо зашарили по толпе,— Берете, что ль? Л то мне некогда с вами...
— Возьмем, возьмем, не тревожься,— сказал Мажаров и, шагнув, взял спекулянта за руку.— Но вместе с водкой и тебя в придачу!..
— Ну, ты покороче! А то ведь я не погляжу, что военный.— Ватник рванулся, но Мажаров железной хваткой держал его.— Пусти! По-хорошему говорю!
Вокруг них уже начинали толпиться зеваки, и Ксюша с ужасом заметила, что среди просто любопытных и падких до всякого скандала людей трутся, переглядываются несколько человек, видимо как-то связанных со спекулянтом. Когда толпа загустела, они оказались около Мажарова и, словно невзначай, стали оттеснять его к забору.
«Что же мне делать? Что делать? — лихорадочно соображала Ксюша.— Где милиционер? Они же могут пойти на все, чтобы выручить этого типа!»
Увидев, что он уже не один, спекулянт вдруг размахнулся и левой рукой изо всех сил толкнул Мажарова в грудь. Лейтенант качнулся, с носа его соскользнули очки, но он не бросился их поднимать, а продолжал цепко держать спекулянта. Взгляд его без очков был растерянным,, но лицо будто окаменело.
- По советую вам размахивать кулаками! — с тихой угрозой произнес он.— Если ударю вас я, вы будете долго приходить в себя! Я немного занимался боксом...
Дружки спекулянта уже окружили офицера плотным кольцом и зло выкрикивали ему в лицо:
— Мы и без бокса тебя успокоим, слышь?
— Отпусти мужика, гад!
По Мажаров, судя по всему, был не робкого десятка.
- Я па фронте и не такую сволочь уничтожал,— щуря близорукие глаза, отвечал он.— Спрячь нож! Спрячь! — и неожиданно крикнул в толпу: — А ну, товарищи, кто покрепче— давайте сюда, скрутим этой погани руки!..
Только сейчас Ксюша заметила, как по-прежнему бережно прижимает Мажаров к груди раненую руку и старается встать к тем, кто теснил его к забору, правым плечом. Не выпуская спекулянта, он наконец коснулся спиной забора и тогда, точно собрав силы, изловчился и пнул сапогом в живот первого, кто полез на него с ножом. Парень как куль свалился на землю. Двое других бросились к офицеру сзади, но Мажаров круто обернулся и встретил одного резким ударом кулака в скулу; другой успел навалиться на него, и тогда Константин, увлекая за собой спекулянта, упал на землю.
Ксюша дико закричала, не помня себя, кинулась в самую свалку, вцепилась в волосы человека, бившего Мажарова, и ее отодрали от него только подоспевшие на гвалт милиционеры.
Всех бандитов, скрутив им назад руки, уже держали какие-то незнакомые люди, прибежавшие на помощь лейтенанту; сам Мажаров, вымазанный в грязи, с разбитым до крови лицом, поднялся с земли, держа очумелого, помятого спекулянта. Так, сопровождаемые милиционерами и ватагой зевак и свидетелей, они дошли до отделения милиции. После того как составили протокол и спекулянтов взяли под стражу, Мажаров с Ксюшей вышли на улицу.
— Вам нужно помыться и помазать ссадины йодом,— сказала она.— Зайдемте ко мне.
— Это все пустяки.— Лицо Мажарова приняло застенчивое выражение, такое неожиданное после всего, что случилось.— Вот как я буду теперь без очков — просто не" понимаю!..
— Так я же их подняла! — Ксюша совсем забыла о ле-жавцшх в кармане жакетки очках.— Я хотела сразу от-дать, и вот точно ум отшибло. Жалко, дужка одна сломалась...
— Чепуха!
Мажаров от радости засмеялся, точно ребенок, выхватил из рук Ксюши очки, нацепил их на нос, протер, снова надел, словно не верил, что пропажа нашлась.
— Я на первое время подвяжу веревочкой или из проволоки сделаю, главное — стекла уцелели, сейчас их достать очень трудно.
В очках он будто почувствовал себя увереннее и без всякой связи с тем, о чем они говорили, вдруг предложил:
— А знаете что, Ксюша, пойдемте на озеро! Там я и лицо умою и, если захочется, покатаемся на лодке...
— Как же так сразу? — удивилась Ксюша, радуясь тому, что лейтенант помнит ее имя, и вместе с тем почему-то робея.— Тогда, может быть, мы позовем с собой и Лизу?
— А зачем? Боитесь, что мы без нее скучать станем? Он но дал ей ответить, взяв под руку, потянул за собой,
и Ксюша легко, как и при первой встрече, подчинилась ему. И вот они уже шагали окраиной районного городка, держась за руки, как маленькие, и неизвестно чему радуясь...
Миновав березовую рощицу на склоне, они вышли к темно-синей, почти фиолетовой под солнцем и ветром чаше горного озера.
— А вон и паши детдомовские ладьи! — Мажаров показал па тихую бухточку, где покачивалось на приколе несколько выкрашенных в голубой цвет лодок. С глухим шорохом сыпались за ними потревоженные на тропинке камни, булькали в воду.
Бросив на дно первой лодки ржавую цепь, Мажаров хотел было сесть за весла, но Ксюша запротестовала:
— У вас же рука по зажила как следует! Давайте я буду грести.
— А я хочу ее испытать. Думаю, не подведет...
— О, сегодня вы ее достаточно испытали! — Ксюша засмеялась.— Пусть отдохнет...
— Ну тогда станем грести вдвоем — хорошо? Вы с одной стороны, я с другой...
Ксюша мгновение поколебалась, а потом, чуть подоткнув подол юбки, села на скамейку. Мажаров оттолкнул лодку от берега и опустился рядом, вплотную с Ксюшей. Она попыталась немного отодвинуться, по двигаться было некуда, и пришлось смириться и сидеть, все время чувствуя то теплоту чужого плеча, то резкое прикосновение колена.
Журчала за бортами вода, ослепительно вспыхивали мокрые, высоко вскинутые весла, редкие брызги летели Ксюше в лицо. Гладкие, точно точеные, воронки крутящейся воды уплывали за корму, где расходился волнистый пенистый след. У самого берега он застывал, стекленел, накрытый густой тенью кустов, висевших над водой седыми клубами дыма.
Когда отплыли на середину озера и лодка стала тихо скользить по живой искрометной ряби, Мажаров перестал грести и, зачерпнув ладонью воду, сполоснул лицо.
Нот возьмите.— Ксюша вытащила заткнутый под манжет блузки чистый носовой платок.—- Больно? Саднит?
- Ерунда! Как говорят, до свадьбы...
- Ой, я ужасно перепугалась, когда увидела, сколько их,— торопливо говорила Ксюша, впервые так откро-венно разглядывая скуластое, в кровоподтеках и царапинах лицо лейтенанта и непонятно по какой причине вол-нуясь,— Ведь пырнули бы ножом, а потом ищи виноватых! Стоило нам связываться с этой дрянью!
Мажаров слушал ее, слегка улыбаясь, по при последних слонах нахмурился, и лицо его поразило Ксюшу каким-то новым, незнакомым ей выражением, мгновенно отрази» то, чем он жил и эту минуту.
- И не совестно вам? — спросил он, не скрывая своей презрительной насмешливости.
— А разве я не права? Таким способом жуликов не переведешь, а жизни из-за какого-нибудь негодяя лишиться можете.
— Вот уж от вас никак не ожидал этого! — резко проговорил Мажаров и, глядя в зардевшееся лицо девушки, досказал с тяжеловесной прямотой: — Сейчас вы рассуждаете, как стопроцентная обывательница!.. Значит, раз меня не трогают, я могу пройти мимо, да? Хорош совет, нечего сказать... Вот так мы и миримся со всяким безобразием, песправедливостыо и подлостью... А паразиты всех сортов живут за счет вот такого мещанского равнодушия...
- Нет, нот, я не мирюсь,— беспомощно оправдывалась
Ксюша.— Но они же могли убить вас!..
— Я об этом не думал.— Мажаров отвернулся от нее и, опустив за борт лодки руку, говорил отрывистым баском: — Разве взвесишь на весах, нужно так поступать или, не нужно, когда тебя душит ненависть к этой сволочи? Паразиты наживаются, пользуются нуждой честных людей, а в это время где-то настоящие люди отдают свою жизнь... Нет! Я вообще не переношу человеческой жадно-
сти и не могу видеть, как страсть к наживе сжирает человека и он становится рабом денег или вещей!.. В тридцатом году собственники убили моего отца, и я тогда попал в детдом... Л там, на фронте, кто прет против нас? Кого мы там уничтожаем? Разве не кровожадную собственность, под каким бы именем она ни была?.. Четыре красненьких ему, видите ли, захотелось содрать за литр! Четыре сотни, за которые иной человек трудится целый месяц!.. И вы желаете, чтобы я прошел мимо или дрожал, как последний трус, за свою жизнь?
— Но я же боялась, что тебя убьют! — чуть не плача, крикнула Ксюша.
Константин замолчал. Тихо скрипели уключины, плескалась за бортами вода. Кровь постепенно отливала от горящих щек, но Ксюша все еще не решалась поднять голову и посмотреть в глаза человеку, которому она этим неожиданно вырвавшимся криком сказала то, чего никому никогда не говорила...
Мажаров вдруг опустил руку на ее плечо и тихо приказал:
— Не шевелитесь! Ни слова!
Ксюша не сразу поняла, в чем дело, и, увидев па пригорке стадо пятнистых оленей, замерла. Лодку снесло почти к самому берегу, и они могли вблизи любоваться красивыми животными.
В стороне от стада, охраняя его покой, стоял на страже златогрудый вожак, запрокинув дымчато-серые ветви рогов. Застыв как изваяние, он ловил чутким ухом каждый подозрительный шорох. Вот над озерной рябью взмыла белая чайка, и вожак проводил ее медленным поворотом головы, переступил ногами и снова окаменело врос в травянистый бугор.
Мажаров прижался к Ксюше, касаясь чубатой головой ее щеки, и словно забыл о лежавшей на ее плече руке. Струившаяся мимо вода, вся в солнечных искрах и бликах, бросала на его лицо трепетные отсветы, и оно бронзово вспыхивало.
«Он, конечно, теперь будет презирать меня,— с горечью подумала Ксюша.— Разве он станет уважать какую-то обывательницу!»
Мажаров вдруг привстал в лодке, гикнул и, вложив два пальца в рот, ошалело засвистел.
Вожак вздрогнул, одним прыжком метнулся к стаду, и через мгновение олени взлетели над волнами густой травы и пропали в чаще.
Какая красота-а! — Мажаров, смеясь, обернулся к Ксюше, глаза его восторженно сияли.— Мне хотелось по-смотреть, как они прыгают!..
О борта лодки зацарапали прибрежные кусты. Мажаров выскочил па дернистый берег и загремел железной цепью.
- Ну что же вы сидите? — спросил он.— Посмотрите, кап тут хорошо! Или, может быть, вы обиделись на меня? Я? — Ксюша не сдержала благодарной улыбки.— А я как раз боялась, что вы на меня сердитесь...
Он протянул ей руку, и Ксюша чуть не свалилась ему в объятия. На берегу розово светились мачтовые стволы сосен, за ними на пологих склонах прятались в густой траве розовые колоски горлянки, качались на легком ветру голубые бокалы горечавки, а еще дальше, за долинным распадком, полыхал малиновыми кострами цветущий маральник. Мажаров быстро прошел вперед, наклоняясь к земле, и не успела Ксюша догадаться, что он делает, как Константин подал ой букет, еще мокрый после недавнего дождя. Это были простые лесные цветы, почти без запаха, от них шел лишь тонкий и нежный аромат зелени, по Ксюша была счастлива, как никогда в жизни,— ведь еще никто ни разу не дарил ей цветы!
Она готова была тут же броситься на шею Мажарову и расцеловать его. Искушение было настолько сильным, что, взглянув в лицо ничего .не подозревавшего лейтенанта, забыв даже поблагодарить его, она кинулась прочь, вверх по скользкой от хвойной осыпи тропинке. Ей хотелось смеяться, и плакать, и петь, и бежать, бежать безоглядно, не обращая внимания на хлещущие по рукам ветки.
Деревья и кусты были унизаны крупными каплями, в каждой капельке горело и дрожало солнце, срываясь, они обрызгивали ее сверху, и Ксюша, хохоча, ловила их ладонями и ртом. Высоко в зеленых кронах гомонили и высвистывали птицы, косые потоки света рассекали лес и то обласкивали Ксюшу теплом, то одевали в пеструю веселую кутерьму теней. На взгорье она остановилась, нетерпеливо поджидая Мажарова, и, когда он поднялся, шагнула к нему навстречу, стремительно и легко.
— Ну что вы? — переведя дыхание, спросил он.
Влажный свет струился из его широко открытых темных глаз, полных доверчивого ожидания.
«Я, наверное... наверное, люблю тебя!» —хотела крикнуть Ксюша, но только молча улыбнулась, с нежностью глядя в разгоряченное потное лицо, ставшее вдруг дорогим и близким.
— Я хотела сказать... Если вы, конечно, пе против... Давай будем на «ты», и зови меня Ксюшей, ладно?
Мажаров, нелжиданно посерьезнев, с минуту молча смотрел на него.
— Хорошо, - согласился он, точно ему стоило труда убедить себя в этом.
Он протянул ей руку, сцепил в замок свои пальцы с ее пальцами, и они медленно стали подниматься пологим травянистым склоном.
через неделю, когда Ксюша явилась домой в Черемшанку, отец встретил ее у порога, загадочно усмехаясь.
— Как-то неладно получается,— подмигивая жене, проговорил ои.— В деревне уже все давно просватали тебя, говорят, что свадьбу твою скоро играть будут, а мы с матерью ни сном ни духом не ведаем!..
Ксюша почувствовала, что щеки ее занялись жаром.
— Хоть бы показала нам жениха своего, а? Какой он из себя? Бравый или морда как решето?
— Я не знаю, тятя, о ком вы. Мне никто руку и сердце не предлагал.
Меньше всего Ксюше хотелось сейчас шутить над тем, чем она жила и дышала все последние дни.
— Совсем похожа на мать! — не унимался Корней.-Когда я каждый вечер чуть ноги не отмораживал в сапогах, пока стоял у ворот, она тоже считала, что за ней никто не ухаживает.
— Кто ж тебе виноват! — посмеиваясь, ответила мать и, потянув дочь за руку, усадила рядом с собой.— Намучилась я с твоим отцом!.. Собираешься на свиданку, думаешь — ну уж сегодня-то обязательно в любви признается, а ои о чем угодно языком мелет, а о самом главном ни слова!
— А чего ж говорить! И так все должно быть ясно, раз человек околевает в сапогах. Ради одного уважения мерзнуть не станешь.— Корней подсел к дочке, не оставляя ее в покое.— Значит, это врут люди, что какой-то лейтенант за тобой приударяет?
— Нет, не врут! — Ксюша вскинула голову, и одного этого гордого и независимого движения было достаточно, чтобы отец перестал улыбаться.— Что вас еще интересует? Какого цвета у него глаза? Какого он роста? Или сколько получает денег?
- Ты нос-то не задирай! Не задирай; становил ее Корней.— Ишь зашипела, сковорода горччаш. Такие там у него глаза — это ты сама смотри, но так как ты нам сродни немного приходишься, то не худо бы узнать, что он за человек.
Кончилось все тем, что Ксюша пригласила Мажарова в Черемшанку й, сгорая от смущения и неловкости, познакомила его с родителями, братьями и младшей сестрой Васеной. С этого дня Константин частенько стал бывать у них в доме, и как-то само собой подразумевалось, что этот общительный, но сдержанный офицер должен скоро стать их родственником..
У Ксюши было такое чувство, словно вся ее жизнь превратилась в плошной праздник, с утра и до ночи звучала в ней, не стихая, одна и та же ликующая песнь...
Константин обычно поджидал ее в сквере, когда она возвращалась с очередного экзамена в техникуме, провожал до квартиры, вечером они снова встречались и гуляли до рассвета. Для Ксюши было мукой прожить день, не увидев Константина, пе поговорив с ним, не высказав ему всего, о чем передумала за краткие часы разлуки. Если он бывал занят, то обязательно присылал с кем-нибудь записку, где всегда были написаны одни и те же слова: «Приходи к озеру, буду ждать тебя у серых камней». В ответ она царапала карандашом на обороте бумажки; «Жди», а когда не могла вырваться из дома, посылала с большим письмом Васену. Мажаров ничем не походил на тех разбитных ухажеров, которые в первый же вечер клялись любить до гроба и лезли обниматься; он относился к Ксюше с такой бережностью, что было непонятно — то ли боялся обидеть слишком открытым проявлением своего чувства, то ли просто сдерживался.
Только один раз он словно решил изменить себе, своей натуре, и этот день круто изменил и Ксюшину жизнь. Они гуляли около небольшого озерца, заросшего густой травой и осокой. Шли по колено в разнотравье, срывали колокольчики, бегали, как дети, взапуски, дурачились, смеялись до упаду. Висели над светлой чашей озерка изумрудные стрекозы, тянулся позади волнистый след по траве и смыкался, как вода. Константин не выпускал из своей руки ее руку,
и, когда оглядывался на нее, лицо его каждый раз поражало Ксюшу каким-то новым, незнакомым ей выражением — так мгновенно отражалось на нем то, чем он жил в эту минуту, что чувствовал, о чем думал. В его лице вдруг промелькнуло что-то такое, она не могла бы сказать, что это было, но ей стало тревожно и даже боязно. На какой-то миг Ксюша почти физически ощутила, что Константин будто ушел от нее куда-то, далеко. Однако возврат был таким же быстрым, но стоило ему остановиться и задержать на ней странный, будто изучающий ее взгляд, как ей стало как-то не по себе. Она сама не знала, чего испугалась, но ей захотелось вырвать свою руку и убежать.
— Пойдем назад! — сказала она.— Я хочу домой!..
Не отпуская ее взгляда Константин положил ей на плечи руки, легко, как неживую, притянул к себе и поцеловал в твердые сжатые губы.
— Постой] Не надо так! — сказала она, пытаясь освободиться.
Его руки жгли, он не отрывал своихагуб от ее губ, целовал, не давая ей передохнуть, все сильнее прижимая ее к себе, и Ксюша, обессилевшая, словно падала куда-то, проваливалась в зыбкую дурманную волну. С головы ее слетела косынка, выскочили из волос шпильки, косы распались, скользнули вниз и точно притянули ее к земле. Трава раздалась под ее телом как теплая вода, и в ноздри ее ударил горьковатый и острый запах смятой молодой полыни...
В тот вечер она долго лежала в сумеречной комнате и не могла заснуть. Ей почему-то хотелось и смеяться и. плакать. Она то вытягивалась под прохладной простыней, так ей было томительно и жарко, то вся сжималась в комочек, как в детстве, подбирая чуть не у самой груди колени.
Руки ее все еще пахли травой и солньем, перед глазами пестро и ярко плыл прожитый день, ее продолжало слегка покачивать, как будто она плыла с Константином в лодке по озеру.
«Что же мне теперь делать? Что делать? — стискивая ладонями горящие щеки, думала она.— Остаться здесь и ждать, когда он вернется, или, может быть, попроситься туда вместе с ним? А что, если его снимут с учета, а мне придется ехать учиться? Только бы не потерять его, только бы быть с ним!»
За один этот день она словно повзрослела на несколько лет, Она не мыслила теперь своей жизни без Константина,
готова была исполнить любое его желание, любую его прихоть, даже забыть о родных и близких и идти за ним, куда бы он ни позвал. Они виделись почти каждый день, гуляли в роще, ходили к заветному озерку. Казалось, ее радости не будет конца, что каждое утро она будет просыпаться с таким чувством, точно в жизни ее длится бесконечный праздник.
Но однажды ее счастье омрачилось большой размолвкой с отцом. Спекулянт, которого Мажаров задержал на толкучем рынке, как выяснилось, он оказался матерым хищ-
ником. Его шайка занималась в самых дефицитных материалов и продуктов, не брезгует ничем, что давало крупный барыш. Узнав об этом, Константин отправился в райисполком, затем райком и настоял на широком расследовании всего дела. Клубок стал распутываться, и одна из его ниточек неожиданно протянулась в Черемшанку. Волею случая к делам воровской шайки стал причастен председатель черемшанского колхоза Степан Г'невышев — он купил у этих жу шков пиломатериалы для строительства животноводческой фермы и очутился па скамье подсудимых.
Отец Ксюши ходил мрачный, хотя эта история его вроде и не касалась. А когда Гневышева осудили, Корней раздраженно заявил дочери, что, если бы не ее ретивый жених, все обошлось бы выговором по партийной линии. Конечно, Степану не следовало связываться с ворюгами, но иным-то путем он не достал бы лесу, и скоту негде было бы зимовать.
Ксюша Свято верила в непогрешимость человека, которого уже беспамятно любила, но и в словах отца была своя правда. Поэтому вечером, встретясь с Мажаровым, она не удержалась и упрекнула его:
— По-моему, ты, Константин, зря погубил хорошего человека!
— Ты о Гневышеве? — Мажаров усмехнулся.— Это на тебя поххоже вначале уговаривала меня беречь себя, если жизнь сталкивает меня со всякой гнусностью и мерзостью, а теперь ей стало, видите ли, жалко председателя колхоза, которого я вместе с другими жуликами вывел на чистую воду!
— Но ведь Гневытнев не о себе заботился, не для себя эти материалы доставал, пойми ты!
— Ну и что из того? — с холодной неприязнью глядя па Ксюшу, жестко и непримиримо спросил Константин.— Кто ему позволил быть добрым за чужой счет? Сегодня
он, не спросясь никого, выкинет колхозные деньги на строительство, завтра запустит руку в карман поглубже и распорядится ими уже для собственной личности!..
— Но ты же не знаешь Степана! Как ты можешь так говорить о нем? — возмутилась Ксюша.— Он не такой человек, чтобы руки марать!.. Я его, конечно, совсем не оправдываю, но ты поступил бездушно — нельзя топить человека, не разобравшись во всем до мелочей!..
— Я поступил так, как мне велела моя совесть! — резко повысил голос Мажаров.— Не уговаривай меня мириться со всякой подлостью — тут я никогда не пойму тебя! А вот тебе самой я советую смотреть на такие дела не из домашнего курятника, а с государственной вышки!
В тот вечер они проспорили до глубокой ночи, так и не убедив ни в чем друг друга. Когда, расставаясь, Мажаров хотел было обнять ее, она невольно отстранилась: что-то мешало ей быть с ним ласковой и доверчивой, как прежде. Но стоило Константину уйти, как она пожалела о своей черствости. Она еле дождалась следующего вечера, чтобы отправиться к условному месту у озерка.
В роще было темно и сумрачно, березки светились в темноте, как девушки в белых платьях. Ксюша шла не торопясь, сдерживая себя, словно боялась расплескать то, что переполняло все ее существо. Каждый звук волновал и настораживал ее — и треск сухой веточки под ногами, и вскрик потревоженной птицы, и глухое тарахтенье телеги на далекой горной дороге.
Вот и серые камни — живые свидетели стольких ее встреч и радостей. Они наполовину вросли в землю, обросли розоватым лишайником, в расщелине между двумя валунами поднималась хилая, искривленная березка.
— Ладно тебе, Костя, прятаться! — крикнула она,— Выходи!
Но за камнями никого не было, и Ксюше почему-то стало неприятно, что она пришла на свиданье первой. Она погладила шершавую поверхность камня, еще хранившего дневное тепло, и напряженно вслушалась в хрупкую тишину рощи. За озером, над темными зубцами деревьев, поднималась оранжевая луна, где-то поблизости сочился родник.
Волнуясь и мучаясь, Ксюша прождала Константина час, а может быть, и больше. Мысленно высказав Константину все свои упреки, Ксюша вдруг подумала: «А что, если он заболел, а я, как глупая, понапрасну ругаю его?»
Было уже совсем темно, когда она, усталая, подошла к детдомовской усадьбе и поднялась по шатким ступенькам флигеля.
То, что она увидела, заставило ее попятиться. Посредине комнаты, куда она однажды заходила с Константином, стояла дородная босоногая женщина и мочальной кистью, привязанной к длинной палке, старательно белила потолок. Маленькая, забрызганная известью электрическая лампочка скупо освещала пустые стены и пол, застланный старыми газетами и обрывками бумаг.
Ксюше стало как-то тревожно, но она пересилила себя и спросила:
— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где Константин Мажаров?
Женщина неторопливо обернулась, скользнула по лицу Ксюши безразличным взглядом.
— Чуть свет укатил в область.
Будто что-то оборвалось у Ксюши внутри.
— Его па комиссию вызвали, да?
— Да, была какая-то бумажка.
Женщина подоткнула упавший подол широкой юбки и, нацелясь жирно смоченной кистью, ударила в угол потолка. В лицо Ксюши полетели брызги, но она не шевельнулась, с тоскливой жадностью глядя на равнодушно работавшую женщину. Успокаивающе-домовито постукивали на голой стене ходики.
— Он никому ничего не оставлял?.. Не просил передать?
— В одночасье собрался, перебаламутил всех и полетел как угорелый.— Женщина перестала шаркать кистью, отвела лезшие на глаза волосы и вдруг впервые, словно вспомнив о чем-то, пристально посмотрела на Ксюшу.— А ты не Яранцева девка будешь? Постой, постой — не ты ли ему тут голову морочила? Но из-за тебя ли он с Алексеем Макаровичем разругался?
— А вам-то что? — не сдерживаясь, почти сквозь слезы крикнула Ксюша и выбежала из комнаты.
Опомнилась она далеко за селом, среди полей, на изрытой колеями темной дороге, под холодным звездным небом. Ее всю трясло. Она шла, часто оглядываясь на огоньки села, густо посеянные во тьме, в виски неотвязно било, стучало. Что случилось? Почему он так уехал? Не предупредив, не сказав ей пи слова?
Ксюша вернулась домой разбитая и всю ночь не смыкала глаз, сломленная отчаянием и неутихающей душевной
болью. Не было ни одной отрадной мысли, ни одного просвета в хлынувшем на нее мраке.
К утру ей стало немного легче, и она решила не лишать себя последней надежды. Мало ли чего не бывает в жизни! А вдруг его вызвали так срочно, что он не сумел даже ее предупредить? Он человек военный и не волен сам распоряжаться своим временем. Возможно, он постеснялся оставить записку в чужих руках, в дороге бросит письмо, и она не завтра-послезавтра его получит. Наконец, Костя сможет неожиданно нагрянуть обратно, и ей будет стыдно за все, что она думала о нем.
Она заставила себя сесть за учебники, так легче было скрыть от домашних свою растерянность и озабоченность.
Однако прошел день, другой, третий, а почтальон ковылял мимо их дома, кособочась под тяжестью большой кожаной сумки, и даже не оглядывался на их окна.
Опустошенная тоской и ожиданием, Ксюша смотрела ему вслед и чувствовала, что начинает ненавидеть даже почтальона. И все-таки, как ни беспросветна казалась ей теперь жизнь, она все еще продолжала твердить себе — нет, нет, он все равно напишет ей, что бы ни случилось, как бы он ни решил! Каким же нужно быть человеком, чтобы оставить ее вот так, в безвестности, па распутье, в страшном одиночестве. Неужели она совсем не знала этого человека? Говорил одно, а думал другое? Значит, лгали его глаза, его губы? Разве можно после этого вообще верить кому-то?
Ей стало вдруг все безразлично. Сдав экзамены за последний курс техникума, она поступила работать в колхоз. Ехать в институт она отказалась, сколько ее ни уговаривали. В конце концов от нее отступились, и она была довольна, что ее оставили в покое. Разве объяснишь всем, что делается с тобой, если в тебе рухнула вера в человека, которого ты считала самым лучшим, самым искренним, самым желанным и дорогим из всех живущих на земле?
В тот год осень подкралась незаметно, щедро мазнула по лесам охрой и золотом, напоила густой синевой небо. Стояли сухие, ясные дни, в безветрии и тишине беззвучно роняли листву березовые перелески и рощи, поля быстро пустели и словно раздавались вширь. Потом хлынули дожди, затяжные осенние ливни разом смыли с лесов всю ржавчину и позолоту, и лишь багряные листья осин да рябиновые грозди жарко тлели сквозь голизну ветвей. Небо выцветало, в свинцово-тяжелых, налитых до краев лужах дрожали на мутной ряби облетевшие листья, над лило-
выми пашнями зяби низко ползли серые, грязные облака. Так же бесприютно и холодно стало на душе у Ксюши, и, если б не работа в колхозе, ей бы и жить было невмоготу. Она не отказывалась ни от какой работы, лишь бы не оставалось времени иа ненужные раздумья, лишь бы сковать смертельной усталостью все тело и камнем провалиться в сои!
В один иа пасмурных слякотных дней, когда Ксюша возвращалась верхом из полеводческой бригады, она по-встречала на пути Лизу. Лиза тоже не поехала учиться дальше и устроилась па какую-то, как она уверяла, выгодную должность в райисполкоме.
— Ксюш, бесстыжая! Совсем забыла про меня! — закричала Лиза и натянула вожжи.— Стой, дьявол! Тпру!
Она сидела в бричке в новенькой плюшевой жакетке зеленого цвета, в ярко блестевших резиновых ботиках, на ее коротко остриженных, под мальчика, волосах капустным листом торчал берет, розовые мочки ушей были охвачены желтыми, похожими па раздутых пауков клипсами,
Ты только послушай, какую я тебе новость сообщу! — затараторила подружка.— Ну, угадай!
— Да ладно тебе, говори уж...
Круглое миловидное личико Лизы с соломенной челкой, закрывавшей почти весь лоб, было полно скрытого лукавства и таинственности.
— Я тебе всегда говорила — не верь мужчинам! — захлебываясь, продолжала подруга.— Но тебя, такую святую, разве убедишь?..
Ксюша еще не знала, что скажет ей Лиза, но уже чувствовала, как все начинает дрожать в ней.
— Ты знаешь, какую штуку твой Костя отмочил? Получил на комиссии чистый билет и сразу катнул в столицу! Пет, каков фрукт, а?
— Ну что ж,— силясь улыбнуться, ответила Ксюша.— Его дело...
— Конечно, скатертью дорожка! — подхватила Лиза.— Никто здесь о нем плакать не будет!
Ксюша еле дослушала досужую подружку, всегда раньше других знавшую все районные новости, нашла в себе силы улыбнуться ей на прощанье, потом ударила каблуками в бока коня и поскакала навстречу сырому, хлеставшему по глазам ветру. Ей казалось: еще немного, и она пе выдержит, свалится.
За деревней, когда уже нечем стало дышать, она соско-
чила, бросила повод на сук дерева и, не разбирая дороги, шатаясь, как пьяная, побрела по высохшей бурой траво.
По щекам ее текли слезы, она глотала их, шла куда глаза глядят, растравляла себя какими-то причитаниями и жалобами, потом споткнулась, упала на мокрую траву и заревела по-бабьи, навзрыд...
Она долго лежала так, ничком, на холодной траве, а когда подняла голову, над нею тихо, как мотыльки, мельтешили в сером небе еле приметные хлопья снега. Не шевелясь, Ксюша смотрела в белесую мглу, пока она не встала перед нею сплошной белой стеной.
Тогда она поднялась и, едва передвигая ноги, пошла назад. А снег все сыпал и сыпал, заметая ее следы, гася пламя ближних рябинок, навсегда хороня в душе то, что, казалось, будет цвести в ней целую жизнь.
За всю дорогу от перелеска до районного центра Корней не сказал дочери больше ни слова.
Сцепив за спиной руки, ссутулясь, он упрямо вышагивал вдоль кювета, краем давно убранного поля. Дорога изматывала. Уже плохо слушались ноги, икры деревенели, на подошвы сапог налипали тяжелые ошметья грязи, от нее невозможно было освободиться. Изредка останавливаясь, Корней ожесточенно шаркал сапогами по высохшему бурьяну, по колючей стерне, но через несколько минут вязкая грязь цеплялась снова, сапоги будто разбухали, с трудом отдирались от земли.
Закрывая небо, ползли, чуть не волочась по горбатым увалам, темные дымные облака, не переставая, летела в лицо надоедливая холодная морось.
Постепенно Корнеем овладело отрешенно-усталое безразличие ко всему — и к пропавшему за моросящим дождем родному дому, и к дочери, жившей какой-то непонятной, путаной жизнью, и даже к са,мому себе. Не все ли равно, как он будет жить завтра, послезавтра, когда вся жизнь уже позади и нужно только прожить в покое отпущенные под старость годы? Роскошествовать он не привык, а на одежонку и хлеб всегда заработает, и если дотянет до пенсии, то вообще ни в чьей милости нуждаться не будет.
Сквозь туманные наплывы оседающего мелкой пылью дождя проступила труба кирпичного завода, серым грибом выросла деревянная пожарная каланча, забелели колонны Дома культуры, на площади над двухэтажным зданием райкома и райисполкома вяло шевелился на ветру мокрый красный флаг. Вскинутый на высокий шпиль, он был виден отовсюду, по нему сразу угадывался центр широко раскинувшегося районного городка.
Вдоль заборов по обеим сторонам улицы тянулись узкие дощатые тротуары, и, ступив на хлипкие, пружинящие под ногами доски, Корней наконец освободился от грязи, вымыл пучком травы сапоги в луже.
У калитки дома, где квартировала Ксения, их встретила хозяйка. Она шла от колонки, неся на гнутом коромысло полные ведра.
Толкнув калитку, она прошла, чуть покачиваясь, по каменистой дорожке к крыльцу, в сапожках, простоволосая, и цветном сарафане, опустила на ступеньки ведра. Вода и них рябилась от сыпавшихся дождинок.
- Как знала — через край набрала! — проговорила улыбаясь.— Поздравляю вас, Ксения Корпеевна, и отца вашего тоже от всей души!
Она стояла перед ними и довольно жмурилась, словно от яркого солнышка.
— Чего это вы раскудахтались? — Корней не любил, когда уже немолодые женщины вели себя игриво, с развязностью и назойливостью.— По какому такому случаю? У дочери сегодня не день рождения, да и я ничем особым тоже вроде не отличился.
Он хотел пройти мимо хозяйки в дом, но она, шутливо иодбочеиясь, преградила ему дорогу.
— По-хорошему с вас еще магарыч полагается! Не каждый день, поди, портреты ваших сыновей в газете печатают!
- Стар я для шуток, Порфирьевна! — угрюмо буркнул Корней,
— Батюшки! — вдруг всплеснула руками женщина.— Да вы, наверно, еще газету в глаза не видели! Ай-дато в дом, может, и парней своих не признаете! А соседи с утра только о вас и говорят — уже поздравлять приходили.
Сордцо Корнея затомилось от недоброго предчувствия, и, но слушая больше словоохотливую хозяйку, он рванулся в дом, не закрывая за собой дверей, бурей влетел в ком-пату дочери.
Газета лежала на белой скатерти во весь разворот, и Корней сразу увидел в центре полосы большой снимок: посередине сидела жена Корнея — Пелагея, робко-счастливая, и словно просила у него извинения, что она решилась на такой шаг в его отсутствие; рядом с нею каменно застыл бородатый дед Иван, отец Корнея; с правой стороны стоял довольно ухмылявшийся Роман, с левой — сдержанно-строгий Никодим, а около него примостилась младшая, восемнадцатилетняя Васена, будто до крайности удивленная и обрадованная тем, что ее фотографируют для газеты.
Еще не понимая, что происходит, по какому случаю вся его семья, за исключением его самого, оказалась в газете, Корней почувствовал вдруг страшную усталость, как вчера вечером возле родного дома. Упираясь руками в кромку стола, он тяжело опустился на стул и закрыл глаза.
— Ну чего ты переполошился, тятя? — Голос дочери был суховато-почтителен.— Сейчас все узнаем.
— А что тут узнавать-то! — не вытерпела хозяйка.— За такие дела вам в ножки должны поклониться.
Газета зашелестела в руках Ксении, и Корней не выдержал, крикнул:
— Да читай, ради бога! Что ты, язык отъела?
— Дай в себя прийти! — сказала Ксения и тихо рассмеялась.— Кажется, заварил наш Роман кашу!
— Ромка? — Корней привскочил, вырвал газету из рук дочери.— Я всегда говорил матери, что от этого ветрогона чего угодно можно дождаться! И в кого он такой уродился? Да что он хоть натворил-то?
— Читай сам, а то, может, не поверишь...— Лицо Ксении было розовым от смущения.
Корнея шатало, руки у него дрожали, буквы прыгали перед глазами и не хотели сливаться в слова. Ага, вот оно! Под снимком, над тремя столбцами убористого текста призывно и хлестко разворачивался заголовок: «Следуйте патриотическому почину семьи Яранцевых!»
Бог ты мой! У Корнея опять ослабели ноги, и он сел, вышептывая слово за словом. Газета шуршала в его трясущихся руках.
Корреспондент областной газеты, видно, побывал на квартире Яранцевых и бойко рассказывал обо всем со слов младшего сына — Романа. Не скупясь на похвалу самому себе и всем домашним, Роман сообщил корреспонденту, что постановление сентябрьского Пленума в их семье произвело на всех глубокое впечатление. После некоторого
раздумья они с братом Никодимом и сестрой Васеной решили вернуться в родную деревню и помочь подъему сельского хозяйства. По словам Романа выходило, что несколько лет тому назад они вынуждены были из-за низких трудодней покинуть колхоз и своим возвращением хотели теперь исправить прошлую ошибку. Брата Никодима Роман выдавал за скромного, но даровитого рационализатора, мастера на все руки. Восхищенно рассказывал о сестре Васене, которая заканчивала школу культпросветработников и мечтала работать в родном колхозе. Даже восьмидесятилетний дед Иван рвался якобы назад, в родную деревню, и самолично заявил: «Раз партия просит — отчего не пособить!»
Дочитав газету, Корней поднялся, весь багровый от гнева, потряс хрустящим листом.
— Твоя работа? — хрипло спросил он.
— Да что ты! — Ксения отшатнулась, как от удара.— При чем тут я?
— Ах, ты тут ни при чем? — язвительно допытывался отец, наступая ни нее и угрожающе сдвигая лохматые брони,— За моей спиной сговорились, и она, оказывается, сбоку припека, нашему забору троюродный плетень!.. Насмешки над отцом строить? Не мытьем, так катаньем решили взять?
— Постой! — Ксения подняла руку, пытаясь сдержать отца.— Говорю тебе честно — я ничего не знаю, и ты на меня, пожалуйста, не кричи!
— Ты от моего крика не помрешь! — еще более возвысил голос Корней.— Пока кормишь да одеваешь вас, сопли вам утираешь, тогда вам отец с матерью нужны, а как старость к родителям придет, так вы только помыкать можете.
Ксения молчала, понимая, что уговаривать сейчас отца бесполезно, он не успокоится, пока не перекипят в нем обида и злость.
— И все этот Ромка, заводила чертов! — расхаживая по комнате, размахивал руками Корней.— Сколь разов он ко мне приставал, кровь портил!.. Чего только не сулил, чем не заманивал. Да я не дурная рыба, чтоб любую наживу глотать, не подумавши! Получили от ворот поворот, и все же решили на своем настоять, сбросить отца с телеги, а самим дальше ехать. Или пыль в глаза пустить хочется, покрасоваться перед всеми? Тогда валяйте, а я в хвастуны не гожусь, позориться на старости лет не буду!..
Ксении самой было все непонятно в поступке младшего брата. Легковесный его характер как-то не вязался с тем значительным событием, запевалой которого он сейчас выступал. Жил Роман всегда шумно, крикливо, словно напоказ, любил прихвастнуть и высокими заработками, и редкими вещами, купленными где-то с рук и потому особенно им ценившимися. «Ты думаешь, это ширпотреб? — частенько спрашивал он.— Нет, это заграничное!» Его не беспокоило, что заграничная вещь по качеству могла быть намного хуже отечественной, словно обладание заграничной вещью чем-то выделяло его среди других. Однажды он потратил чуть не ползарплаты на кожаную куртку с меховой подкладкой, с блестящими строчками «молний» на вороте, на кармашках, а в конце месяца пришел одалживать у отца деньги на папиросы. Мать совестила его, а он только ухмылялся и щурил свои зеленоватые, с наглинкой глаза. И вот — на тебе! — он становится во главе благородного и важного дела, призывает всех следовать своему примеру. Ксения долго терялась в догадках — то ли с братом что-то произошло и он действовал под влиянием чистого порыва, то ли пускался в очередную авантюру, чтобы произвести шум вокруг своего имени, не заботясь о последствиях такого решения. Действительно ли он добился согласия старшего брата Никодима, его жены Клавдии, сестры Васены или не посчитался с ними так же, как с отцом, было пока неизвестно, и это больше всего волновало сейчас Ксению и даже пугало.
Внезапно отец опустился на колени перед кроватью и потянул за ручку лежавший там чемодан.
— Ты что это надумал, тятя? — Ксения бросилась к нему, поставила ногу перед чемоданом.— Пяти дней не прожил и уедешь? Меня-то зачем обижаешь?
Не отвечая, Корней потеснил дочь плечом, выволок чемодан и, раскрыв его, стал бросать туда полотенце, мыльницу и другие мелкие вещи. Придавив коленом крышку, щелкнул замком и поднялся.
— И чего вы разбушевались, Корней Иванович? — озадаченно спросила хозяйка.— Ну худое бы дело было, а то ведь домой вертаетесь! И дом у вас тут свой, и усадьба, сад разведете. И опять-таки слава о вас в народе пойдет!..
— Больно нужна мне ваша слава! — хмуро бросил Корней.— Из нее щи не сваришь, из славы-то...
Он перекинул через руку пальто, поднял чемодан и вышел из комнаты. У. калитки Ксения придержала его, попросила:
— Ну не горячись, тятя, прошу тебя!.. Не становись у всех поперек дороги... Не останешься же ты один в городе, когда все сюда поедут? Ты подумай, какой это будет скандал!
— А вы много обо мне думаете? — Корней не глядел, на дочь.— Ишь как распорядились моей жизнью!.. Будто родной отец — это лапоть: когда захотел — надел, когда захотел — сбросил... Одна заманила в гости, как какого дурачка, а другой в это время вон какие варианты выкидывает!
— Да как тебе не стыдно, тятя! — Ксения была вне себя от обиды.— Я же тебе русским языком сказала...
— А я, тоже с тобой не по-турецки разговариваю, слава богу, понимать должны. Взяли моду над родителями мудровать!..
— Но куда же ты на ночь глядя бежишь? Что ты этим кому докажешь? Измучаешься только вконец, и все... Сорок километров до станции, не близок свьт... Пойдем назад, чаю попьем, успокоишься, а завтра как знаешь...
— Не привык переиначивать! Да и горит во мне все -чаем но зальешь. А ночь меня не пугает — попадется добрая душа, на машине подвезет... Прощевай!
Ксения хотела еще что-то сказать, но Корней ие стал ее больше слушать, махнул в сердцах рукой и, ткнувшись не столько по желанию, сколько по привычке прокуренной бородой в шею дочери, пошел прочь. Доски тротуара гнулись под его грузным шагом.
Ксения обессиленно прислонилась к столбику калитки и тревожно смотрела вслед отцу, пока он не скрылся из виду.
Вершинин сидел в кино, когда чей-то зычный голос, перекрывая шум и музыку фильма, объявил из темноты:
— Товарища Вершинина просят к телефону!
Зрители начали оглядываться, а по залу живым эхом продолжало катиться: «Вершинина! Кто тут Вершинин? К телефопу!»
Он вскочил и стал торопливо выбираться из тесного и узкого ряда, боясь кому-нибудь оттоптать ноги, смущаясь тем, что вынужден беспокоить людей.
— Ну и работка! Даже картину не дают посмотреть человеку! — сочувственно сказал кто-то.
Вершинин прошел в кабинет директора, взял лежавшую на столе трубку, назвал себя и тотчас услышал недовольный голос Коровина:
— Удивляюсь я вам, Игорь Владимирович! Как вы могли сегодня пойти в кино?
— А в чем дело?
— И вы еще спрашиваете? — В голосе Коробина появилось неподдельное раздражение.— Да ведь у нас в районе находится первый секретарь обкома! А вы разгуливаете неизвестно где.
— А что я обязан был делать? Сидеть сложа руки в кабинете? Все в положенный час разошлись, вас тоже не было...
— Кончайте оправдываться и немедленно являйтесь в райком! Видимо, вы еще слишком молоды, чтобы самому понять, что в такой момент кино не совсем подходящее место для ответственного районного работника. И не забудьте захватить на всякий случай ваш план.
«Чего нервничает с самого утра — не понимаю! — думал Вершинин, выходя из кинотеатра и окунаясь в ненастную темень.— Умный вроде человек, а поднял никому не нужную шумиху. И что у него за манера держать всех в искусственном напряжении, когда приезжает кто-нибудь из областных руководителей?»
С тех пор как Сергей Яковлевич освободил его от обязанностей секретаря по зоне Приреченской МТС, они работали до последнего дня дружно, согласованно, пи о чем никогда не споря. Вершинин относился к Коробину с большим уважением, ценил в нем и опыт, и волевую деловитость, восхищался непреклонной убежденностью, которая сквозила в каждом произнесенном им слове. Казалось, этому человеку были чужды всякие сомнения и колебания, похоже, ему всегда все было ясно, и даже в те минуты, когда он бывал в чем-либо не уверен, он не имел привычки обнаруживать перед людьми свою слабость и некомпетентность.
И все же, несмотря на эти несомненные достоинства, он вел себя подчас совершенно непонятно и загадочно. Взять хотя бы этот злополучный план, о котором он напоминал сейчас по телефону. Коровин попросил составить его в первые же дни, когда Вершинин только осваивался с новой для него должностью. Вначале он пробовал было
отказаться сочинять какой-то план, пока не ознакомится с жизнью всего района, не побывает в колхозах, но Коровин не принял его возражений. «Нужно уметь мыслить отвлеченно,— заметил он,— план — это организующее начало для всякого партийного работника, и пренебрегать им может только человек, не желающий работать по-настоящему».
Вершинин, хотя и считал затею с планом без предварительного изучения всех условий зряшной, дня три старательно рылся в прошлогодних вариантах планов, списывая оттуда отдельные параграфы и разделы, пытаясь кое-что добавлять от себя. Он понимал всю нелепость хвоего положения, когда, выполнив какую-то бессмысленную работу, он именно с помощью этой далекой от реальности жизни работы должен был доказать свои способности и как бы утвердить свое право на дальнейшую деятельность в райкоме.
Если по считать этой первой, открыто не высказанной неудовлетворенности, во всем остальном они неплохо ладили с Коровиным, хоти последнее время Сергей Яковлевич почти перестал советоваться с ним и, не интересуясь мнением Вершинина, ограничивался в основном конкретными заданиями. Вероятно, он был очень занят, и у него просто не оставалось времени для таких бесед. Однако не мог же он, взваливая на свои плечи нелегкий груз ответственности за дела всего района, надеяться лишь на свои собственные силы!
Вершинин не заметил, как очутился на краю площади перед райкомом, и невольно замедлил шаг, увидев, что все здание ярко освещено.
Он заторопился, не разбирая дороги, пересек площадь, по у самого крыльца, разбрызгивая лужи и похрустывая жирной грязью, его перегнал «газик». Водитель лихо развернул машину и остановил ее впритирку к нижней ступеньке. Раскрыв дверцу, из «газика» вылез высокий плечистый мужчина, держа в одной руке шляпу, а через другую перекинув осеннее пальто.
— Это по какому случаю так празднично? — здороваясь с Вершининым, спросил он и кивнул на окна.— Разве у вас в районе свой режим дня?
Вершинин сразу узнал Пробатова и растерялся, не зная, что ответить секретарю обкома, но его выручил Коровин. Он появился на крыльце в полосе льющегося из окна света, как всегда подтянутый, сдержанно-строгий. Лицо его сковывала сейчас напряженная улыбка, как бы
ничего не выражавшая и вместе с тем полная беспокойного ожидания.
— Прошу, Иван Фомич! — широким жестом приглашая Пробатова, сказал он.— Я велел собраться всем сотрудникам — может быть, понадобятся какие-нибудь сведения по району, тогда мы тут же на месте все и уточним.
— Отпустите всех домой, Сергей Яковлевич,— тихо сказал Пробатов.— Не стоит ради какой-то цифры томить людей и заставлять их работать лишние часы. Да и узнать любую цифру мы можем всегда хотя бы по телефону.
В кабинете первого секретаря райкома их ждал председатель райисполкома Синев — пожилой сутуловатый человек с красным обветренным лицом крестьянина, тихий, застенчивый. Он не спеша пожал руку Пробатову, указал ему на вешалку в углу за тяжелым кубом несгораемого шкафа.
— Насчет чайку как, не возражаете? — поинтересовался он.
— Неплохо бы.— Пробатов вопросительно посмотрел па него, словно не желая никого обременять лишними просьбами и вносить ненужную сумятицу.— А это не хлопотно?
— Пустяки, сейчас организуем! — как будто обрадовавшись согласию секретаря обкома, сказал Синев, и широкая улыбка собрала вокруг его серых утомленных глаз веселые лучики морщин.— Если бы мы не сумели напоить вас у себя даже чаем, какие бы мы были хозяева?
Вершинину было приятно, что в кабинете Коробина оказался председатель райисполкома, с ним он всегда чувствовал себя как-то увереннее и свободнее, без той натянутости и официальности, которая неминуемо устанавливалась, если в беседе главенствовал Сергей Яковлевич.
— Пока будет готовиться чай, может быть, пройдем по райкому и хотя бы бегло познакомимся с работниками, а? — спросил Пробатов.— Пусть хоть люди будут считать, что их не зря позвали.
Он повесил пальто и шляпу, слегка пригладил ладонью седые волосы и оглянулся на 'Коробина, все время стоявшего перед ним навытяжку.
— С какого отдела начнем, Сергей Яковлевич?
— С какого хотите, Иван Фомич.— Коробин помедлил, будто припоминая что-то.— Я думаю, есть смысл познакомиться со всеми — и инструкторы, и заведующие отделами будут рады поговорить с вами. Не часто мы видим у себя секретарей обкома.
— Смотрите, как бы я вам потом не надоел! — Пробатов тихо засмеялся.— У меня особое пристрастие к Приреченскому району!
— Мы будем только счастливы! — не оставаясь в долгу, ответил Коробин.— Я бы только просил обратить особое внимание на Иннокентия Павловича Анохина, заведующего отделом агитации и пропаганды.
— Это тот самый, которого вы рекомендуете одним из будущих секретарей райкома?
— Да. Мне. кажется, он подойдет. Молод, энергичен, политически зрелый товарищ,— словно зачитывая письменную характеристику, раздельно и четко выговаривал Коробин.—- Ходил года четыре в инструкторах, был редактором районной газеты, сейчас руководит отделом и, по-моему, неплохо справляется со своими обязанностями.
«Но почему же Сергей Яковлевич ни разу не посоветовался с нами? — невольно переглядываясь с Синевым, подумал Вершинин.— Зачем делать из этого какой-то секрет?»
— Ну что ж, товарищи,— шутливо заметил Пробатов.— Может быть, мы приступим к смотру ваших боевых сил?
Все время, пока Вершинин переходил за секретарем обкома из одной комнаты в другую, его не покидало чувство взволнованной приподнятости.
После того как Пробатов познакомился с работниками всех отделов, он заглянул в кабинет заведующего отделом агитации и пропаганды.
При появлении секретаря обкома Анохин не спеша поднялся. Он был одет так же строго, как и Коробин, в темно-синий костюм полувоенного покроя и до блеска начищенные сапоги. В каждом его движении и жесте чувствовалась та неторопливая обстоятельность, которой всегда недоставало Вершинину, из-за чего он в последнее время тайно мучился.
Анохин, казалось, был начисто лишен того неприятного заискивания перед большим руководителем, которое иногда Вершинин замечал в других, и тем, что он держался независимо и с достоинством, он сразу располагал к себе, хотя и не делал для этого никаких усилий. У него было гладкое, несколько холодное лицо, темные, ровно зачесан-
ные па пробор волосы, серые глаза смотрели па собеседника с пристальным вниманием.
— Прошу вас, располагайтесь, Иван Фомич! — Он подвинул Пробатову стул, пригласил кивком головы своих товарищей.
И тут Вершинин стал свидетелем небольшого конфуза, о котором позже не мог вспоминать без смеха. В двух-трех шагах от письменного стола он увидел зиявшую в полу темную дырку величиной с каблук. Анохину 'видимо неожиданно вспомнив о ней, шагнул и плотно прикрыл ее подошвой сапога.
Он сделал это так неловко, что на эту нелепую выходку обратили внимание все, исключая Пробатова, потому что, разговаривая, он всегда смотрел в лицо человеку. Синев, не выдержав, отвернулся к окну и начал негромко покашливать. Коробив взглянул на Анохина с тяжелой укоризной, но, видно, Иннокентию Павловичу было не до этого молчаливого упрека — отвечая секретарю , он теперь вынужден был не сходить с дырки.
— Что вы стоите? Садитесь! — сказал Пробатов.
— Ничего,— уже деланно улыбаясь, ответил Анохин.— Я за день достаточно насиделся...
Однако, рассказывая Пробатову о себе, он увлекся, нечаянно отступил в сторону и сошел с дырки. На лице его отразилось беспокойство. Не переставая отвечать и улыбаться, глядя секретарю обкома прямо в глаза, он начал осторожно шарить носком сапога по полу, стараясь нащупать и прикрыть дырку, но она, как назло, не попадалась под ногу. На лбу Анохина проступил пот, он уже отчаивался найти злополучное отверстие, но вдруг, снова почувствовав его под подошвой, обрадованно одеревенел :й заговорил более уверенно и оживленно.
«До чего же глупеет человек, когда изменяет самому себе,— не столько осуждая, сколько жалея Анохина, подумал Вершинин.— Неужели он на самом деле считает, что главное для него сейчас — торчать на этой дурацкой дырке, и тогда все будет в порядке?»
— Может быть, мы пройдем в мой кабинет? — пытаясь выручить товарища, предложил Коробин.
— А тут чем плохо? — спросил Пробатов.— Какая разница!
Теперь Анохину ничего не оставалось, как сойти с места и начать хлопотать. Вершинину показалось, что Пробатов тоже увидел наконец дырку, но лишь покосился на нее и ничего не сказал. Сысоич внес в кабинет
чайник, секретарша Варенька расставила на зеленом сукне стаканы, высыпала из бумажных кульков в тарелку конфеты и пряники.
Пробатов отпил несколько глотков из стакана и неожиданно попросил:
— Иннокентий Павлович, расскажите, пожалуйста, как вы прожили вчерашний день.
— Я, видимо, не совсем понял вас, Иван Фомич.— Анохин оглянулся на Коробина, словно надеясь на подсказку.— Вы хотите сказать, чем я занимался вчера с утра до ночи?
— Да, и, если вам не трудно, давайте начнем с того момента, когда вы проснулись....
Анохин задумчиво молчал, щурился на стакан со сломанной в отражении, ложечкой.
— Ну что ж,— тихо, с медлительной неуверенностью проговорил он.— Значит, так... Встал я, как обычно, в семь утра много поразмялся гимнастикой.
— Неплохо,— одобрил Пробатов.— Мне вот как-то все не удается делам ее регулярно. А надо бы, надо! Однако, простите, нойдем дальше...
Вершиыин,.Весь подался вперед, бросая жадные взгляды то на Анохина, то на секретаря обкома. Он просто сгорает от нетерпения поскорее выяснить, что таилось за этими будничными вопросами Пробатова, которого вряд ли интересовало только то, как заведующий отделом пропаганды составил режим дня. Синев сидел, подперев кулаком щеку, видимо не меньше Вершинина заинтересованный необычным началом разговора с Анохиным, и лишь один Коробин проявлял непонятное беспокойство, словно он присутствовал на каком-то трудном экзамене и сам готовился отвечать на путаные загадочные вопросы. Он то потирал руки, то сжимал их в кулаки на зеленом сукне стола, то откидывался на спинку стула и застывал в напряженной позе.
— После завтрака, перед работой, я зашел в магазин,— одобренный поддержкой Пробатова, более уверенно продолжал Анохин.— Надо было кое-что купить из продуктов.
«Не станет же он, надеюсь, рассказывать о том, что ест за обедом и ужином?» — подумал Вершинин.
— Интересно, а сколько вы тратите на питание? Хватает вам зарплаты? — настойчиво и мягко спрашивал Пробатов.
—Как вам сказать.—Анохин, видимо, снова почувствовал себя неловко, неуверенный в том, насколько он может быть откровенным с секретарем обкома.— В общем, конечно, да...
— А вы не стесняйтесь! — Пробатов не сдержал улыбки.— Я не собираюсь вам ни урезывать, ни прибавлять зарплату, мне хочется просто знать...
— Пока я холостой и у меня на руках только одна больная сестра, я концы с концами свожу, хватает и на витание и на одежду, но хотелось бы, например, завести личную библиотечку, а на книги денег уже не остается... Да и, по правде, они очень дорогие у нас!
— Да, это верно, еще дорогие,— согласился Пробатов и помолчал немного.— Ну й что же вы купили в своем магазине?
— Консервы рыбные, макароны, чай... Ну, спички... Вроде все! Сахар у нас бывает редко, раз в месяц, его моментально расхватывают, масло не помню, когда последний раз доставал, правда, его можно купить на рынке. Но там оно дорогое.
— Простите, Иннокентий Павлович! — неожиданно вмешался в разговор Коробин.— Вы нарисовали такую картину, что у Ивана Фомича может создаться впечатление, что мы тут чуть ли не голодаем!
— А я с вами не согласен! — Вершинин порывисто поднялся, покраснел, зачем-то одернул гимнастерку и снова сел на стул и, уже не глядя ни на кого, водя пальцем по зеленому сукну, досказал: — Естественно, что мы здесь не голодаем, но, однако, я не вижу, почему мы должны скрывать от секретаря обкома то, что есть на самом деле!..
Коробин метнул на пего сердитый взгляд.
— Но если мы станем ныть по поводу своих недостатков, толку тоже будет мало. Если я не прав, Иван Фомич меня поправит...
«Я никогда не думал, что он способен на такие демагогические трюки!» Вершинин поборол свое смущение, смело взглянул на Коробина и поразился добродушной улыбке, как бы прощавшей ему его юношескую горячность.
— Владимир Ильич говорил, что лучше неудачно сказать правду, чем умолчать о ней, если дело серьезное,— как бы уравнивая на весах чашу спора, сказал Пробатов и опять повернулся к Анохину.— Итак, будем считать, что продовольственную проблему вы решили, явились в райком. А как складывался ваш день дальше?
- Не успел присесть, как зашел редактор газеты с макетом очередного номера...
— Почему же он ходит к вам с макетом? На утверждение, что ли?
— Видите ли...— Анохин замялся.— Редактор у нас молодой, приходится ему помогать, советовать...
— Какой же это совет, если он показывает вам все материалы, которые должны пойти в газете! Таким путем вместо ответственного редактора, активного выразителя нашего общественного мнения, нашей партийной совести, вы превратите его в перестраховщика и иждивенца. А если ему завтра нужно будет раскритиковать в газете руководимый вами отдел пропаганды, он тоже должен прийти согласовать это с вами?
«Вот когда наступило для него настоящее испытание,— подумал Вершинин.— Это куда серьезнее, чем та дырка, которую он закрывал сапогом».
— Ну хорошо, редактора вы отпустили. Дальше!
— Вслед за ним явился товарищ, который ведает у нас в районе кинофикацией. Он принес список кинокартин на текущий месяц, для него это фактически план работы...
— Ну и что вы делали с этим списком? Надеюсь, не вычеркивали картины, которые вам лично не нравятся?
— Нет, я просто контролирую его, знакомлюсь с графиком движения картин по колхозам.
— А сам он что, не в состоянии за этим проследить?
— Да уж как-то так заведено, Иван Фомич...
— Нами заведено, нами и должно ломаться! — Черты пробатовского лица отвердели.— Нельзя, Иннокентий Павлович, поймите, нельзя быть почтовым ящиком — что в тебя вложили, то и вынули. Думать надо над тем, что делаете. И если какая-то формальность налипла, пристала к вам, смело отказывайтесь от нее, вам же легче дышать будет!
— Перед самым обедом,— уже несколько уныло и монотонно рассказывал Анохин, разглядывая свои руки,— мы с заведующей парткабинетом прошлись по городу, посмотрели, как обстоит дело с наглядной агитацией...
— Что же вы обнаружили?
— Обнаружил, собственно, не я, а завпарткабинетом, и я считаю, что она вовремя нам сигнализировала... Щиты кое-где подрасшатались, надо их обновить, маловато красочных плакатов. Да и художники частенько халтурят, пишут лозунги наспех, меловой краской. Пройдет один дождь и все наполовину смоет...
Пробатов слушал с напряженным вниманием, изредка отпивая глоток-другой. Когда чай кончался, он сам наполнял стакан из стоявшего на столе чайника, но все это проделывал почти автоматически, не отвлекаясь.
— Я видел эти щиты, когда утром проезжал мимо,— сказал он.— Дело даже не в том, что они непрочно стоят и с них быстро сползает краска... Я думаю, что у нас тут просто много казенщины какой-то, что ли... Ну вот скажите по-честному, Иннокентий Павлович, вас самого трогают все эти щиты и плакаты?
— Да ведь я что, Иван Фомич!.. Для меня это работа, я привык ко всему этому...
— А это не должно быть для вас привычкой! Вы сами должны гореть этим! — Пробатов вдруг поднялся и заходил по комнате мимо стола, за которым сидели все остальные и жадно следили за ним, отставив в сторону полные, нетронутые стаканы с чаем.— Я зпаю одного секретаря райкома, который, приезжая в колхозы, первым делом интересуется, как у них поставлена наглядная агитация. А что люди в некоторых из этих колхозов до сих пор по пятьсот граммов хлеба на трудодень получают, ему и- горя мало!
— Мы нацеливаем своих людей, Иван Фомич, на решение главной задачи, поставленной партией на последнем Пленуме,— снова не выдержал Коробин, как будто опасался, что его сравнивают с тем секретарем, о котором рассказывал Пробатов.— Мы же понимаем, что в борьбе за благосостояние колхозов основной рычаг — это материальная заинтересованность!
Секретарь обкома не откликнулся на столь очевидную истину.
— Или вот возьмем такой пример,— останавливаясь посредине кабинета и окидывая всех устало блестевшими глазами, заговорил он.— Несколько лет вы пропагандируете успехи колхоза «Путь к коммунизму», который ведет Любушкина. Слов нет, и хозяйство передовое, и вожак у колхоза настоящий. Но если все дело в опыте, который надо там перенять, то почему же годами этот опыт не могут освоить соседние колхозы? В чем дело? Почему вы не раскрываете для людей природу этого опыта? Для вас Прасковья Васильевна стала козырной картой, с которой вы выступаете и хвалитесь на всех совещаниях. А в другом районе этим козырем делают передовую доярку... Однако вернемся к вашему дню, Иннокентий Павлович.
— Во второй половине дня я принял секретаря райкома комсомола, выписывал квитанции на лекции Общества по распространению научных и политических знаний.
— А это зачем? Тоже входит в ваши обязанности? Этак вы дойдете до того, что ни один человек, связанный с пропагандой, не сделает без вас ни одного шага! Но ведь всех товарищей, что приходили к вам, вы не приглашали?
— Да, я их пе звал.
— А пе кажется ли вам, что в этих случаях не вы руководите событиями и активно влияете на жизнь, а эти события руководят вами, а вы только плывете по течению и не сопротивляетесь?
— Вы абсолютно правы, Иван Фомич,— негромко кашлянув в кулак, проговорил молчавший все время Синев и распрямился за столом, откинувшись на спинку стула.— Далеко ходить не надо... Два дня назад нагнали к нам из областного центра около сотни автомашин за овощами, капустой, картошкой. Заготовители наши растерялись, да и точпой согласопаипости с областными организациями не было. И вот трудно даже поверить, по весь аппарат нашего райкома и райисполкома с утра и до вечера только и занимался этими машинами, распределял их по колхозам, о всех других делах и думать забыл...
— А знаете, почему это происходит? — спросил Пробатов и подошел к столу, положив на зеленое сукно свою красивую большую руку.— Потому что ваш аппарат почти всегда на побегушках — составляет сводки, готовит справки для отделов обкома, собирает материалы для очередного отчета секретарю. И мы мало интересуемся тем, как инструктор, заведующий отделом понимают свои обязанности, умеют ли самостоятельно во всем разобраться, не проверяем, наконец, растут ли они теоретически, духовно или только барахтаются в ежедневной толчее и не замечают, что те, кем они призваны руководить, давно уже обогнали их!..
«Мой план — тоже филькина грамота!» — подумал Вершинин, но промолчал, решив пощадить Коробина. Ему и так есть над чем поразмыслить.
— Не сочтите за лесть, Иван Фомич, но я не помню, чтобы кто-нибудь из секретарей с нами разговаривал так, как вы сегодня,— сказал Синев и, словно чувствуя себя несколько стесненным оттого, что он сидит, а Пробатов стоит, тоже поднялся.— Мы не всегда воспитываем своих работников, но и нас тоже плохо и мало учат... Вот нынче летом вызывают меня на заседание облисполкома. В самый сенокос. Мы с сенокосом немного запоздали, но сознатель-
но, чтоб трава подошла. И вот, ни о чем не разузнав, не выслушав меня, стали, что называется, разносить в пух и прах! На грубости не скупятся — и шляпой меня обозвали, и ротозеем, а в конце кто-то предлагает записать выговор. За что? Да за срыв сенокоса! Едва оправдался. Вышел из облисполкома — не поверите, руки дрожат, так переволновался. А ведь сена-то мы собрали больше других, да еще лучшего качества! Только вся вина в том, что позже всех доложили о выполнении... И когда с нами перестанут так разговаривать?
— А разве перед вашим отчетом никто не приезжал в район?
— Был один товарищ. Но он уже из области выехал с готовым заданием — расчихвостить меня, взять, как отрицательный пример, на котором нужно подтянуть другие районы. Ему что ни говори — оп глухой на оба уха! Да и что говорить, разобраться во всем до тонкости, понять, почему мы поступаем не так, а этак, посоветовать нам что-то, конечно, куда труднее, чем собрать весь мусор и высыпать нам на голову! Плохое — оно само в глаза лезет, его искать особо не приходится.
Несколько минут все молчали, а Пробатов опять па-чал расхаживать по комнате, сцепив за спиной руки, словно забыл на время, что он здесь не один. Но вот он остановился рядом с Сипевым, щуря свои светлые глаза.
— То, о чем вы только что рассказывали, я бы на вашем месте не держал в секрете.— Пробатов дотронулся до плеча Синева.— Напишите об этом статью в газету, выступите на конференции. Обидите кое-кого — не беда! Теперь, может быть, частенько придется обижать тех, кто не захочет понять существа новых перемен... Если мы решения партии будем выполнять старыми методами, мы далеко не двинемся!
«Хорошо, что Коробин нашел меня в кино!» — не переставая чему-то радоваться, думал Вершинин.
На другое утро Ксения встала с тем привычным чувством бодрости, с каким всегда отправлялась в райком, где ее постоянно ждали и новые дела, и люди и где она была просто необходима. Все, что она пережила за последние сутки, уже не так сильно огорчало ее. За ночь многое потеряло свою остроту
и значимость, и, хотя Ксения немного растерялась в присутствии Пробатова и не сумела ничего доказать Дым-шакову, она была настроена еще непримиримей, чем прежде.
Единственно, что немного смущало Ксению, это та невозмутимость, с какой держался секретарь обкома; его могло извинить только одно — он завернул в колхоз случайно и, может быть, поэтому не хотел делать поспешных выводов.
Она съела кусок хлеба, запивая прямо из кринки холодным молоком, и, запахивая на ходу полы пальто, выскочила на улицу.
Захлюпали под ногами доски тротуара, в лицо пахнуло свежестью, сырым ветром. По улице, редея и расползаясь, еще плавали дымные клочья тумана, но небо над селом уже расчищалось, с набухших влагой, потемневших тесовых крыш сочились капли, ветер срывал их, рябил мутные студеные лужи.
«Нужно во что бы то ни стало найти Иннокентия и рас-сказать все ему, решила Ксения.— А уж потом идти докладывать Сергею Яковлевичу».
Она улыбнулась, вспомнив, как Анохин позавчера хотел отправиться вместе с нею на поиски отца. Какой он псе же чуткий и душевный человек! Как близко к сердцу принимает ее тревоги и волнения! И, откровенно говоря, кто знает — пойди он в тот вечер с нею, возможно, и не было бы всей этой вздорной и склочной истории.
Чувство Ксении к Иннокентию Анохину походило больше на глубокую признательность и привычку, чем на любовь. Когда уехал Мажаров, все в Ксении словно омертвело. Назойливое внимание мужчин оскорбляло ее, и, когда кто-либо с подчеркнутой нежностью задерживал в своей руке ее руку, ей хотелось выдернуть ее и дать пощечину. Она защищалась презрительной насмешкой и явно выраженным равнодушием.
Первым человеком, в котором Ксения не обнаружила обидного для себя мужского любопытства, был Иннокентий Павлович. Он сразу стал относиться к ней как к товарищу, давал дружеские советы по работе, она не слышала от него ни пошлых шуток', ни анекдотов, на которые так охочи некоторые мужчины, а его покровительство воспринимала с благодарностью.
С Анохиным Ксения могла сколько угодно пробыть наедине, и ей даже в голову не приходило, что это может показаться предосудительным. Он со всеми был ровен, не-
изменно внимателен, никогда ничем не выделял ее среди других женщин, сотрудников райкома.
Было известно, что десять лет тому назад Анохин похоронил любимую жену, по этой причине переехал в другой район, чтобы ничто не напоминало ему об утрате, жил вместе с глухонемой сестрой, взяв на себя нелегкую заботу о ней и тем самым как бы заранее отказываясь от мысли заводить новую семью.
Однажды Ксении рассказали под секретом, что года четыре тому назад, перед самым ее приездом сюда, Анохин сильно увлекся ее бывшей школьной подругой Лизой и, возможно, связал бы с нею свою жизнь, да Лиза в чем-то проштрафилась и попала на скамью подсудимых. Для Анохина это было страшным ударом, он больше года ходил потерянный, мрачный и никем не интересовался. Досужая молва объясняла такую отрешенность тем, что он продолжал любить Лизу и ждал ее возвращения. Но Ксения почему-то никак не могла представить себе, что ее легкомысленной подружкой мог увлечься такой серьезный и вдумчивый человек.
Для нее же самой беседы с Иннокентием стали со временем постоянной, почти неодолимой потребностью, и, если случалось, что он уезжал в командировку, она ловила себя на том, что в эти дни ей как будто чего-то недостает. Как-то он отсутствовал недели две. В день приезда она увидела его в коридоре райкома и подбежала к нему.
— Где вы так долго? Я о вас ужасно соскучилась! Анохин мельком оглянулся по сторонам длинного пустого коридора.
— А я о вас тоскую всегда, даже когда вы рядом,— проговорил он, и глаза его перестали улыбаться.
В конце коридора хлопнула дверь, и Анохин, не сказав больше ни слова, повернулся и пошел от нее. Через минуту Ксения услышала его ровный и, казалось, бесстрастный голос, тихий, сухой смех.
Все это было так неожиданно, что она не успела даже покраснеть. А может быть, это ей просто послышалось? Но часом позже, на совещании, она поймала горячечный, полный влажного блеска взгляд Иннокентия, и у нее от предчувствия заныло сердце.
«Как же я буду теперь с ним? — думала она, теряясь и страшась новой встречи с Иннокентием.— Он честный, хороший человек, но я же совсем не люблю его!»
Она винила себя в том, что держалась с ним недостаточно строго, боялась, что Анохин станет настойчив, навязчив, будет докучать своими объяснениями и клятвами.
Однако при первой же встрече он держал себя так, как будто ничего не случилось, и Ксения успокоилась. Недели через две она опять прибежала к нему за советами, и они снова болтали обо всем на свете, словно и не было того тревожного разговора в коридоре. Иннокентий по-прежнему приглашал Ксению в кино, и она не отказывалась, потом провожал ее до дома, вежливо прощался и уходил. По воскресным дням нынешней зимой они отправлялись на лыжах в горы, носились как сумасшедшие с дикой крутизны, зарывались, как дети, в пушистый снег, и она была счастлива и довольна. На одной из прогулок, когда она, хохоча, с трудом выбиралась из сугроба, Анохин помог ей встать на лыжи и вдруг обнял ее, раскрасневшуюся, усталую, и закрыл губами смеющийся рот. И Ксения не оттолкнула ого. Иннокентий не был ей так уж безразличен, кик прежде. Правда, отношение ее к нему совсем не походило па то, что она когда-то пережила с Константином Можаровым, но ой льстило, что ее полюбил не какой-нибудь золеный юноша, а всеми уважаемый и серьезный человек. Он не говорил красивых слов, ничего не обещал, но ему можно было верить. А разве это не самое главное, если люди хотят быть вместе?
После памятной прогулки Иннокентий не раз делал ей предложение, но она почему-то никак не могла решиться на такой серьезный шаг, и, хотя не было к тому никакой веской причины, Ксения медлила, чего-то ждала, точно боялась в чем-то обокрасть себя...
Над двухэтажным зданием райкома бился на ветру алый флаг, он огнисто вспыхнул, зажженный прорвавшимся в разводья облаков солнцем, и Ксения на минуту задержалась на площади, любуясь и флагом, и слепящими окнами, и небольшой, но приметной скульптурой Ленина перед райкомом.
В пустом и светлом коридоре второго этажа Ксения остановилась: трезвонили на разные голоса телефоны, как заведенная строчила машинистка, гудели за стеной спорящие голоса. По обе стороны коридора блестели на обитых дерматином дверях стеклянные таблички с названиями отделов, на стенах висели кумачовые лозунги.
Дверь в приемную первого секретаря была полураскрыта, и сидевшая за столиком белокурая Варенька сразу закричала:
— Товарищ Яранцева! Ксения Корпеевна! Вас несколько раз спрашивал Сергей Яковлевич!
«Ну вот, не сумела проскочить! — досадливо подумала Ксения.— Придется обойтись без советов Иннокентия».
Коробин стоял у стола, перебирая какие-то бумаги. Услышав скрип двери, он поднял голову и неожиданно приветливо и широко улыбнулся.
Он был тщательно, до розового лоска на щеках, выбрит, влажно чернели его коротко остриженные волосы, серые глаза, обычно полные недоверчивой пристальности, сегодня смотрели на Ксению добродушно и даже весело.
— Заходите скорее! Я давно вас жду!
Все в нем было ей по душе — всегдашняя подобранность и строгость, с какой он держался, и скуповатые решительные жесты, и предельно взвешенные и точные слова и формулировки — ничего лишнего, все естественно и просто. Но сегодня в нем было что-то новое, необычное, чего она раньше за ним не примечала,— словно он был чем-то воодушевлен, взволнован и как бы жаждал поделиться этим и с ней...
— Вы молодец, Яранцева! — громко и чуть торжественно проговорил Коробин.— Честно скажу — прямо не ожидал, что вы можете вести себя так твердо и мужественно. Садитесь и рассказывайте все по порядку...
Он был в своем неизменном защитного цвета кителе, удивительно шедшем к его плотной и стройной фигуре. Видимо, он любил этот китель, хотя в последний год надевал иногда темно-синий костюм, светлую рубашку и галстук. Но в костюме Коробин не выделялся среди окружающих его людей, становился похожим на всех остальных, а в кителе выглядел немного суровым и недоступным, каким, по его мнению, и должен быть на людях первый человек в районе. Это было необходимо не столько лично для него, сколько для дела и авторитета учреждения, которое он возглавлял.
Ксения знала, что многие работники осуждали такую черствость и замкнутость в руководителях, звали их «сухарями», но она не разделяла эти взгляды. Она не извиняла ненужную грубость и бестактность, но горячо оправдывала строгость, с которой Коробин относился ко всем. Ведь стоило проявить излишнюю чуткость и стать простым в обращении с теми, кто его окружал и в какой-то мере зависел от него, как непременно возникли бы фамильярность и панибратство. А это рано или поздно могло бы
привести к взаимной амнистии грехов и ошибок, к полной беспринципности. Не потакая своим личным пристрастиям и слабостям, он был свободен от всякой предвзятости и имел полное моральное право предъявлять самые суровые требования к другим. Да и люди, чувствуя такую независимость и неуязвимость своего руководителя, в его присутствии подтягивались не только внешне, но и внутренне, хотя за глаза почти все отдавали предпочтение старику Бахолдину.
Коробин слушал Ксению, не прерывая, сосредоточенно хмурил темные брови, кивал.
— А как по-вашему, Ксения Корнеевна, почему так нейтрально отнесся ко всему секретарь обкома? — спросил он.
— Мне кажется, что Иван Фомич не хотел ни на кого оказывать давления и подрывать авторитет райкома партии. Ведь он недвусмысленно выразил уверенность, что райком разберется во всем.
— Ну что ж, пожалуй, вы правы! — согласился Коробин и одобрительно качнул головой.— Скажите честно, а что вы сами думаете обо всем случившемся?
Еще пи разу за три года Коробин не разговаривал с Ксенией так доверительно и всерьез, не интересовался ее мнением — это льстило ее самолюбию, но одновременно заставляло быть осмотрительной.
— Я, может быть, в чем-то ошибаюсь, Сергей Яковлевич, но мне кажется, что обстановка в Черемшанке сложилась не очень легкая. Парторг Мрыхин человек слабый, частенько выпивает, Лузгин его не уважает и не считается с ним, подмял под себя...
— Подмял — значит, сильный! — Коробин рассмеялся отрывистым смешком.
— Да, но ведь если так, то, значит, над ним нет никакого партийного контроля! — возразила Ксения.— И Лузгин, кажется, действительно начинает смотреть на колхоз как на свою вотчину. Председатель он, конечно, опытный, хозяйство ведет умело, лучшей кандидатуры там просто нету, но все же мы его слишком избаловали, и он кое в чем уже теряет меру.
— Конкретнее,— попросил Коробин, и лицо его отвердело, стало жестковато-непроницаемым.
— Он всем грубит, угрожает, недостаточно внимателен к людям, не считается с их насущными нуждами, ему ничего не стоит обидеть любого, оскорбить походя. Он здорово подраспустился и не понимает, по-моему, главного —
теперь ведь в колхозе совсем другие люди, чем, скажем, год или два тому назад...
— Вы что-то тут навоображали, товарищ Яранцева! — прервал ее Коробин.— По-моему, люди там те же самые, что и были...
— Нет, нет, Сергей Яковлевич! — с горячей настойчивостью повторила Ксения.— В том-то и дело, что люди и те и не те. Ну как бы вам объяснить...
Она порывисто поднялась, словно то, что она сидела в кресле, мешало ей чувствовать себя свободной и смелой.
— На первый взгляд они как будто ни в чем не изменились, но стоит с кем угодно заговорить, и вы почувствуете, что это уже иные люди... Понимаете? Они, конечно, радуются, что стали лучше жить, что снизились на две трети, а то и больше, налоги, что начали получать каждый месяц денежный аванс. Но, главное, они воочию увидели, что партия всерьез взялась за сельское хозяйство, и если раньше почти всюду говорили об одном хлебе, то сейчас хотят чего-то большего — хотят, чтобы к ним относились, как к действительным хозяевам колхоза, прислушивались бы к их словам... А Лузгин знай себе по-прежнему кричит на них. Но теперь они не желают этого терпеть и сносить... Отсюда и все недовольство.
— Ну что ж, Лузгана мы всегда можем поправить, чтобы он не спекулировал нашим хорошим отношением к нему.— Коробин смотрел на нее уже без улыбки, спокойно и строго.— А недовольные не скоро исчезнут, на всех не угодишь! И наша с вами задача заключается не в том, чтобы слушать жалобщиков и недовольных, а каждый раз стараться взглянуть на все с большой, государственной вышки. Мы обязаны вовремя предупредить и таких, как Лузгин, чтобы он не забывался, и найти подходящего парторга, если Мрыхин не справляется, но, главное, помнить, что нас сюда поставили не наблюдателями, а руководителями. Значит, мы не имеем никакого права все пускать на самотек и произвол, иначе там такую демократию могут развести, что нас и дня не станут держать в райкоме.
— Я согласна с вами.— Ксения немного успокоилась и опять села в кресло.— Но что мы доложим секретарю обкома об этом колхозе?
— Ради этого я вас, собственно, и пригласил,— сказал Коробин и встал.— Я считаю, что мы должны докладывать ему делом — наведем порядок, дадим нахлобучку председателю, уберем безрукого парторга, кое-кому, вроде Дымгакова, напомним о его партийных обязанностях, призовем к дисциплине, чтобы был полный ажур. Скоро в колхозе должно быть отчетно-выборное собрание, готовьте его и проводите.
— А не лучше ли вам самому туда съездить, Сергей Яковлевич? — спросила Ксения.—Одно дело, когда собрание будет проводить инструктор, другое, когда приедет сам секретарь... Солиднее, авторитетнее как-то!
— Несколько лет тому назад я тоже переживал такую же неуверенность,— сказал Коробин, немного рисуясь.— Партийные руководители не рождаются готовыми. Я учился у старших товарищей, и вы, может быть, кое-что возьмете от меня, но вам пора уже действовать самостоятельно, без поводыря. Если будут затруднения — звоните, всегда буду рад помочь вам.
Ксения не боялась не справиться с тем, что поручал ей секретарь, скорее она даже гордилась: ей доверяют такое, и общем, нелегкое дело, но хотелось поделиться сомнениями, которые тревожили со, утвердиться в чем-то, чтобы охать и колхоз со спокойной душой. Она не знала, как ей нужно нести себя с Дымшаковым, и не потому, что ее связывали с этим человеком родственные отношения — ради принципов она могла поссориться с кем угодно, даже со всей своей семьей,— а потому, что в недовольстве Дым-шакова и его страстных и бесшабашных обличениях была известная доля здравого смысла, и от всего этого нельзя было просто отмахнуться. Но, боясь, что ее сомнения будут истолкованы Коровиным как некое проявление малодушия и беспомощности, Ксения промолчала.
— А как быть, Сергей Яковлевич, с объединением? — почти с испугом вспомнила она.— Ведь на собрании могут и об этом поднять вопрос.
Коробин на минуту задумался, захваченный немного врасплох, переставил с места на место пресс-папье, переложил с одного конца на другой папку.
— Я полагаю, что мы не должны вмешиваться в это дело и навязывать им свою точку зрения. Продумают как следует все и выскажут пожелание объединиться — пожалуйста, возражать не будем. А пока собирайте коммунистов, обговаривайте кандидатуры в члены правления, обстановка покажет... Желаю успеха!
Коробин пожал ей руку, и, когда Ксения была уже у двери, он снова окликнул ее:
— Простите, товарищ Яранцева! Совсем вылетело из головы — забыл вас поздравить!
— С чем?
В руках секретаря зашелестела газета, и Ксения почувствовала, как уши и щеки ее стали наливаться предательским теплом.
— Почему вы это держали в секрете?
— Я тут совершенно ни при чем, Сергей Яковлевич! Честное слово!
— Не скромничайте. Вы делаете большое дело, и мы приветствуем вашу инициативу.— Коровин вышел из-за стола и, стоя перед Ксенией, чуть покачивался с пятки на носок, поскрипывая ярко начищенными сапогами.— Передайте всей вашей семье, что райком партии поддерживает славный патриотический почин и окажет вашей семье всяческую помощь.
Ксения понимала, что разубеждать сейчас Коровина бессмысленно и бесполезно.
— Ваша семья — это только первая ласточка! — все более воодушевляясь, говорил Коровин.— Вот на днях мы получили письмо из Москвы — довольно ответственный товарищ из министерства просится на работу в наш район. А за ним и другие добровольцы хлынут — так что дела у нас теперь пойдут в темпе.
Ксения сама не знала, что ее заставило поинтересоваться новостью.
— А чем привлек его наш район? — спросила она.
— Он как будто здешний уроженец,— охотно пояснил Коробин.— Работал в сибирском главке, а теперь ему захотелось на практическую деятельность.
— Местный? — переспросила Ксения, чувствуя сосущую пустоту в груди.— А вы случайно не помните кто?
— А мы сейчас узнаем его фамилию.— Коробин порылся в стопке бумаг и отыскал голубенький конверт.— Вот, пожалуйста, Мажаров...
Ксения пошатнулась от неожиданности, жар, ожегший ее, сменился холодным ознобом. Заметив ее растерянность, секретарь спросил:
— Вы что... знаете этого человека?
— Да... то есть нет! — Ксения улыбнулась натянуто, как бы через силу, как улыбаются люди, проведшие много времени на морозе.— Может быть, это и не тот, о ком я думаю. Как его инициалы?
Ей бы больше ни о чем не спрашивать и поскорее уходить отсюда, но она точно стояла на краю пропасти, и темная неодолимая сила тянула ее вниз.
— Его зовут Константином Андреевичем..
Она будто задержалась на самом краю головокружительной крутизны, взяла наконец себя в руки и подняла на Коровина мятущиеся, полные нестерпимого блеска глаза.
— Хочу предупредить вас, Сергей Яковлевич,— дрожащим голосом произнесла Ксения.— Работать вместе в одном районе с таким человеком, как Мажаров, я не буду! Ни за что! Так и знайте!
И, не слушая, о чем говорит, пытаясь остановить ее, Коробин, она опрометью выскочила из кабинета.
Скорее! Скорее! Надо сейчас же, сию минуту па что-то решиться, а то будет уже поздно!
«А что поздно?»— спросила себя Ксении и тут же забыла об этом, увле-ченная потоком бессвязных мыслей.
Почти беспамятно Ксения бежала по длинному коридору, пронизанному пыльными столбами света. Она кинулась вниз по лестнице, скользя рукой по отшлифованным до лоска перилам, увидела перед собой каких-то людей, толпившихся перед приемной Синева, повернула назад и снова начала быстро подниматься по лестнице, перешагивая сразу через две ступеньки.
«Что я наделала! Что я наделала! — лихорадочно стучало ей в виски.— Зачем я сказала так Коровину? Что он теперь подумает?»
Она никак не ожидала, что весть о приезде человека, о котором еще вчера вспоминалось с тихой и светлой грустью, вызовет такое смятение в ее душе. Ну зачем он едет сюда? Зачем?
Было что-то нелепое, чудовищное и даже оскорбительное в том, что Мажаровг пренебрегая совестью и честью, вызвался поехать добровольно именно в тот район, где жила и работала она.
На площадке между этажами Ксения остановилась. В высокое решетчатое окно, как сквозь соты, светило обманное осеннее солнце, плавилось, слепило глаза. Где-то чуть слышно журчало радио, строчила, не переставая, машинистка, шаркали сапоги, хлопали двери.
И вдруг Ксения обмерла: по лестнице, держа под мышкой желтую кожаную папку, спускался Иннокентий.
— Ты? — удивился он, и глаза его вспыхнули изнутри мягким, обволакивающим светом.— Ты почему здесь стоишь? Ждешь кого-нибудь?
— Нет, просто так...
— Да что с тобой? На тебе лица нет! — В голосе Иннокентия послышалась неподдельная тревога.— Случилось что-нибудь?
Ксения не хотела бы говорить ему неправду, но и сказать правду тоже казалось невозможным.
— Я попала тут в одну неприятную и склочную историю...— удрученно ответила она.
Он взял ее вздрагивающую руку, ласково заглянул в глаза, улыбнулся.
— Да перестань ты меня пугать! В чем дело?
Анохину передавалось ее волнение, а Ксения становилась все спокойнее и ровнее. Она уже могла говорить, открыто глядя ему в глаза.
— Я только сейчас от Сергея Яковлевича... Понимаешь, вчера в колхозе произошла скандальная сцена...
— Постой!—остановил ее Анохин.— Так я ничего не пойму. Давай зайдем куда-нибудь, и ты расскажешь обо всем по порядку.
Он взбежал наверх и стремительно пошел по коридору, заглядывая то в одну, то в другую комнату.
«Я веду себя как девчонка! — подумала Ксения, следя за лишенными всякой суетливости движениями Иннокентия, радуясь его энергичности, собранности.—И чего я ударилась в панику? Рядом со мной такой умный, хороший человек, а я мучаюсь тем, что сюда приедет какой-то тип, способный на жестокость и подлость! Какое мне до него дело? Хочет работать здесь — пускай работает, мне совершенно это безразлично. Если уж на то пошло, пусть лучше он тревожится, что может встретить меня тут!»
Дойдя до конца коридора, Анохин помахал ей рукой, и Ксения рванулась к нему. Никогда еще она не испытывала такой нежной признательности и благодарности к этому человеку, готовому ради нее бросить все дела и прийти на помощь.
В комнате никого не было, и, как только дверь захлопнулась за ними, Иннокентий обнял и привлек Ксению к себе.
— Ты с ума сошел, Кеша!.. Сюда же могут войти!.. Погоди!
Она отстраняла лицо, но он крепко держал ее и целовал — в шею, в щеку, в ухо. После молчаливого сопротивления Ксения покорилась, хотя ей стало как-то не по себе от этих жадных воровских поцелуев в неприютной прокуренной комнате, тесно заставленной голыми канцелярскими столами. Ей никогда не приходилось видеть Иннокентия таким возбужденным и одновременно жалким, лицо его налилось кровью, глаза смотрели на нее с просящей нежностью, и, ощущая тепло его торопливых губ, она не испытывала никакого волнения, словно целовали не ее, а кого-то другого, а она только равнодушно наблюдала со
стороны.Видимо угадав ее состояние, Иннокентий наконец отпустил ее, и Ксения, поправляя растрепанные волосы, отошла к окну. Она слышала за спиной прерывистое дыхание Анохина и ждала, когда он заговорит, начать говорить первой ей почему-то было стыдно... Иннокентий остановился рядом и как ни в чем не бывало спросил:
— Так что же все-таки стряслось?
Она облегченно вздохнула и обернулась. Перед ней стоял прежний Иннокентий, каким он ей нравился,— спокойный, вдумчивый и серьезный.
Перескакивая с одного на другое, Ксения сбивчиво, словно все время опасаясь проговориться о том главном, что вывело ее из себя, рассказала Анохину о встрече с Пробатовым.
— Ну что ж, пока я не вижу, с чего ты всполошилась,— сказал он, когда Ксения замолчала.— В колхозе все обойдется — первый раз, что ли? Вот разве твой отец выкинет какой-нибудь номер. Но и здесь я сомневаюсь... Да и на худой конец — почему ты должна за всех отвечать?
Он нашарил в кармане портсигар, взял папиросу, подержал в пальцах спичку, следя, как быстро пожирает ее жидкий огонек, неторопливо закурил.
— Вчера в райком заезжал Пробатов и разговаривал с нами до глубокой ночи... А сегодня,— Иннокентий немного помедлил, будто раздумывая,— а сегодня я говорил с Коровиным... Вероятно, его скоро изберут первым, не делают этого пока потому, что щадят больного старика... В общем, Коробин намекнул мне, что в случае перемен он хотел бы видеть меня уже не заведующим
отделом.
— Да? — Ксения, не выдержав, вскинула ему руки на плечи.— Я ужасно рада за тебя, Кеша! Кто-кто, а ты-то имеешь право на выдвижение, у тебя для этого есть все — и опыт, и большие способности. Тебя все уважают и любят. Тебя, конечно, должны были заметить раньше, но ты и сейчас свое возьмешь — я в тебя очень верю.
— Спасибо, милая,— тихо сказал Иннокентий и, оглянувшись на дверь, бережно снял со своих плеч ее руки.— Я, конечно, покривил бы душой, если бы сказал, что мне это все безразлично, хотя в иное время я почти наверняка отказался бы от всякого повышения...
— Но почему?
Он был сегоди я какой-то необычный — то как сумасшедший сам набросился на нее и не боялся, что их могут застать в этой комнате, то вдруг убирает с плеч ее руки, заботится, как бы ее доброе имя не было опорочено.
— Я всегда считал, что для того, чтобы быть счастливым, совершенно не обязательно иметь много денег или занимать высокую должность. Главное, как мне кажется, это делать то, что тебе по силам. На моих глазах, как говорится, «погорело» немало способных товарищей, и все потому, что лезли не на свое место, не рассчитывали своих возможностей...
— Я не совсем понимаю тебя,— сказала Ксения,— Неужели ты, Кеша, просто страховал себя?
— Зачем такие громкие слова? Я трезво сужу о своих способностях. Лучше их немного недооценивать, чем брать ношу не по плечам,— нисколько не обидевшись на подозрение Ксении, пояснил Анохин.— Но теперь, если мне предложат пост одного из секретарей, я не откажусь. И не удивляйся, когда я скажу, что я это делаю не ради карьеры, а ради тебя.
— Ради меня? Ну, это ты зря! — теряясь, сконфуженно запротестовала Ксения.
В другое время, в иной обстановке она осудила бы такое признание, звучавшее довольно странно в устах партийного работника, ставившего любовь к ней выше общих интересов, но сейчас она слушала Иннокентия, проявляя необъяснимую слабость.
— Я хочу, чтобы ты гордилась мной! — знобко и жарко дыша ей в затылок, говорил Анохин. — А если ты меня будешь сильно любить, я добьюсь многого, поверь мне! Я чувствую, что смогу сделать что-то большое и настоящее... И пора нам кончать наши неопределенные отношения — пойми, что я не могу больше ждать!
— Но нельзя я?е так сразу...
— Что значит сразу? Я уже почти год твержу тебе об одном и том же. То ты хотела посоветоваться с родителями, то тебе казалось, что нам будет мешать моя сестра. Сейчас все эти причины отпадают. Через месяц я получаю квартиру в ионом доме... Или ты еще что-нибудь придумала?
— Ты же слышал, что отец неожиданно уехал — я даже не успела понять, что с ним происходит...
— Ксения, ты же взрослый и самостоятельный человек,— пожав плечами, проговорил Анохин.—При чем тут отец или мать? Ты, по-моему, просто сама не знаешь, чего ты хочешь. Но я прошу об одном — скажи мне честно: да или нет? Оттолкнешь — я уйду, у меня хватит и самолюбия и характера.
— Хорошо,—после некоторого раздумья проговорила Ксения.—Давай условимся так — ты меня больше ни о чом но спрашивай, я подумаю и скажу тебе сама... Ладно?
— Ну что ж, пусть будет по-твоему,—вздохнув, протянул он, бледное лицо его точно покрылось пылью, тонкие губы скривились в усмешке,— Когда прикажете ждать ответа? Завтра или через год?
— Зачем ты так, Кеша? — устало возразила Ксения. Иннокентий продолжал иронически улыбаться.
— Ну сегодня вечером мы увидимся? — спросил он.
— Не знаю.—Она подумала.—Лучше, пожалуй, не надо... Я очень утомилась...
— Тогда разрешите откланяться! — Иннокентий шутовски осклабился, сделал легкий поклон и вышел из комнаты.
«И чего он кривляется, зачем это нужно?» — подумала Ксения, поражаясь тому, что ее совершенно не трогают ни слова Иннокентия, ни его язвительная усмешка. Она не испытывала сейчас к нему ни жалости, ни нежности, ни обиды.
Она долго стояла у окна, упираясь локтем одной руки в широкий облезлый, с потрескавшейся краской подокон-пик, выводя другой на пыльном стекле узоры, потом ей вдруг нестерпимо захотелось на время уйти куда-нибудь, остаться наедине со своими мыслями.
Миновав пустые огороды, Ксения вы- шла к реке, и в лицо ей повеяло сту- деной свежестью. Свет воды ударил в глаза, она зажмурилась и несколько минут стояла так, наслаждаясь охватившей ее тишиной...
Своенравно и диковато игривая в горах, река начинала смиряться, когда вырывалась на степной простор около ее родной деревни, а здесь, после своего таежного разгула, текла покорно и тихо, отражая белые облака, порыжелые осенние берега, играя в омутных водоворотах последними яркими листьями.
В копытных следах, которыми была изрыта вся кромка берега, голубыми слитками блестела вода; из одного следа, запрокидывая черную иголку клювика, пила желтобрюхая пичуга. Вспугнутая появлением Ксении, она вспорхнула на ветку ивняка и закачалась на ней, тоненько посвистывая. Откуда-то из-за изгиба реки доносился равномерный стук валька, потом он заглох, и дремотную тишину нарушал лишь убаюкивающий шелест и плеск мелких волн.
«А что я, собственно, хочу? — неожиданно спросила себя Ксения, скользя рассеянным взглядом по кишащей солнечными светляками реке.— Чтобы сюда не приезжал Мажаров? Но ведь это просто глупо. Он, наверное, давно забыл обо мне. А я, как старая дева, разжигаю свое воображение и выдумываю какую-то сентиментальную душещипательную чепуху. И мучаю ни в чем не повинного человека, который во сто раз лучше меня».
Под выдвинутыми в реку деревянными мостками на козлах захлюпала вода, и Ксения увидела седую сгорбленную старуху, неуверенно вступавшую на шаткий настил. Она несла на коромысле ведра, полные настиранного белья. Щупая ногами колыхавшиеся доски, старуха добралась до края мостков, осторожно сняла ведра и, кряхтя, опустилась на колени. Несколько минут она сидела, полузакрыв глаза, отдыхая.
Ксения видела ее морщинистую шею, седую голову в мелкой, неутихающей тряске, сложенные на заплатанном переднике темные, с вздувшимися венами руки. Прополоскав пару белья, старуха подышала на зябнущие пальцы, и тут Ксения не выдержала, быстро подбежала к мосткам. . — Бабуся, дайте я вам помогу!
Старуха повернула к ней желтое, иссохшее лицо с выцветшими слезившимися глазами и ничего не сказала.
Ксения подняла лежавшее сверху полотенце и окунула ого в воду. Едва руки ее коснулись воды, как острый колючий холодок пронзил ее, дошел, казалось, до самого сердца, и оно отозвалось вдруг яростной, кричащей болью. Да, да, только один Мажаров виноват во всем, как бы она ни обманывала, ни утешала себя! Если бы не этот человек, отравивший ее душу горьким недоверием ко всем, она сейчас по стояла бы на распутье, не терзалась бы непрошенной обидой.
— И откуда ты, милка, взялась такая? — допытывалась старуха, обласкав Ксению тихим светом выцветших голубых глаз.— Живешь, видать, справно — одежа вон на тебе хорошая, а к чужой беде не глухая!..
— А кто же вас, бабушка, посылает с такой поклажей на речку? Помоложе-то нет никого?
— Нужда посылает... Весь век жила бобылкой! Пока молодая была — всякая ноша по силам, а старость нагнали - кому я пунша? Даром хлеб не ем... Бельишко вот по людям стираю, детишек нянчу. Жить как-то надо!.. Иной раз и смертушке бы рада, да бог смерти не дает — сама не растянешься...
— И родных нету?
— Как перст одна.— Старуха горестно вздохнула.— А ты чего такая смурая? Что тебя за душу тянет?
Не отвечая, Ксения дополоскала белье, согнувшись, подлезла под коромысла и, пружиня шаг, медленно пошла от реки, испытывая странное облегчение от этой давящей на плечи тяжести.
Домой она вернулась без сил. Тихо прокралась к себе в комнату и, сбросив грязные ботинки и жакетку, ничком упала на кровать. Горели руки, гулко била в виски кровь. В доме стояла такая тишина, что было слышно, как рядом на маленьком столике тикают ручные часы. В синей продолговатой вазе пламенел букет золотистых кленовых листьев. Один перепончатый лист отвалился и накрыл часы, может быть, поэтому так ясно отбивали они свои секунды.
Ксения взяла этот лист, разгладила на ладони, приложила к пылающей щеке, и вдруг словно что-то мягкое и теплое повернулось в груди, и она заплакала. Боясь, что он услышит хозяйка, она вдавила лицо в подушку и затряслись в беззвучных судорожных рыданиях...
Лотом она долго лежала, обессиленная и тихая, ощущая во всем теле тянущую пустоту. Ей не хотелось вставать, чтобы приготовить себе ужин, и она то забывалась в короткой дреме, то снова точно всплывала из глубины сна и бездумно глядела в белый потолок, с каждым возвращением из полузабытья чувствуя себя все легче и как бы невесомее.
Так Ксения дождалась сумерек. Тогда ей стало ясно, что она не выдержит ни длинной ночи впереди, ни тягостного, полонившего ее одиночества.
Она зажгла свет, задернула шторки на окнах и вдруг решила идти к Иннокентию. В конце концов не все ли равно, когда она даст ему ответ — сегодня, завтра или через неделю?
Ксения сняла смятое платье, припудрила перед зеркалом чуть вспухшее лицо и, найдя в столике когда-то купленную помаду, впервые в жизни слегка подкрасила губы. Если на то пошло, почему она должна быть исключением, пусть у нее будет жизнь как у всех людей, нечего ей корчить из себя недотрогу!
Было совсем темно, когда Ксения вышла из дому. Сыпал мелкий, бьющий в лицо снег, крыши и козырьки ворот уже запорашивало белой пылью. Пахло дымом, набухшим от влаги деревом и первой пронзительной свежестью молодого снега.
Ксения шагала навстречу ветру и снегу так, словно она делала это кому-то назло. За кружевным тюлем освещенных сельских домиков огромными цветками качались оранжевые, голубые, зеленые абажуры, где-то играл патефон и пели песни. Обычно Ксения завидовала уюту, свету и теплу, которыми были полны эти домики, ей постоянно казалось, что сама она лишена всех этих простых житейских радостей. Но сегодня она не испытывала никакой зависти: стоит ей только захотеть, и она тоже будет счастлива так же, как все эти люди. Может быть, даже больше!
Чем ближе подходила она к домику Анохина, тем сильнее охватывала ее необоримая дрожь — то знобко-лихорадочная, то жарко-истомная, губы ее все время высыхали, и она беспрестанно облизывала их. Что ж, пусть это лучше будет сейчас, пока не приехал сюда Мажаров! А то он, чего доброго, может подумать, что она несчастна и одинока, что все эти годы только и делала, что ждала его.
На торопливый стук Анохин выскочил на крыльцо.
— Ксюша?
Он еще не понимал, что таил в себе ее нежданный приход: то ли непоправимую беду, то ли... Он смотрел на нее,но дыша, страшась выговорить слово и нечаянно спугнуть, оттолкнуть от себя навсегда. Свет, косо падавший из окна на крыльцо, делал почти неузнаваемым его бледное, застывшее, как гипсовая маска, лицо.
— А я думал, ты не придешь,— торопливо заговорил Анохин, точно стараясь задержать ее ответ, нелепо взмахивая руками, как бы отгоняя от себя снежинки.— Сижу читаю, и ты прямо как по сердцу стукнула!..
Он топтался на крыльце, непривычно суетливый, что-то бормотал, и ему даже не приходило в голову пригласить ее в дом.
— Мы что же, так и будем здесь стоять? — спросила наконец Ксения и улыбнулась с тихой грустью.
И Иннокентий вдруг понял все. Ловя ее холодные мокрые руки, он крикнул:
— Я просто не верю... Я схожу с ума!.. Нет, послушай, неужели это наяву?..
Уже не дожидаясь ответа, он потянул ее за собой. Позади, как выстрел, лязгнул замок, и, слушая дурманящий, обжигающий шепот Иннокентия, Ксения удивлялась тому, как легко, безропотно и равнодушно подчиняется; ему во всем.
Давно пора было брать чемоданы и спускаться к подъезду, где его, вероятно. Уже ждало вызванное такси, но Мажаров почвму то медлил.
Он несколько раз обошел свою опустевшую холостяцкую квартиру, проверяя, не забыл ли что-нибудь второпях, но, хотя все вроде было уложено, чувство странного душевного беспокойства не покидало его. Может быть, причиной всему была эта комната, ставшая вдруг неуютной, заброшенной, словно он и не жил здесь никогда и еще вчера не веселился с друзьями, провожавшими его в далекий путь...
«Хорошо, что я уговорил их не ходить на вокзал,— подумал он, останавливаясь у широкого окна и глядя с высоты пятого этажа в глубокий колодец двора, освещенный окнами многих квартир.—Вряд ли можно в вагонной сутолоке, на людях сказать друг другу больше, чем мы высказали вчера за бутылкой випа!»
Стекла были усыпаны матовыми бисеринками дождя, почти невидимого в синих сумерках. В потоках падавшего из окон света он оседал и клубился, как легкий туман, казалось, и сам дом, как океанский пароход, плывет куда-то сквозь сумеречную мглу...
Впрочем, не все ли равно, какая погода здесь будет завтра. За ночь колеса вагона отсчитают не одну сотню километров, и он проснется уже далеко за Рязанью.
Удивительное что-то происходило с ним с тех пор, как он решился навсегда оставить Москву. Он не знал, что ожидает его в деревне, не знал даже, что будет там делать, и все-таки испытывал какое-то отрадное обновление, словно то, чем он жил эти годы, было временным, преходящим, а подлинно настоящее наступало лишь теперь. Он истомился и изныл душой, пока целый месяц разрешались всякие формальности, и готов был махнуть рукой на всю эту волокиту и самовольно отправиться в 'любой захудалый колхоз, чтобы после четырех лет канцелярской суеты увидеть наконец, что твоя работа кому-то нужна и приносит каждодневную пользу...
Когда, кончив Тимирязевку, Мажаров получил направление в Министерство сельского хозяйства, он не скрывал своей гордости, что удостоился чести трудиться в таком высоком учреждении. Он составлял справки для руководителей главка, участвовал в разработке всевозможных инструкций и рекомендаций и был непоколебимо убежден, что делает чрезвычайно ответственное, государственной важности дело. Он но сомневался в том, что все бумаги, над составленном которых он корпел в прокуренной помните своего отдела, не только необходимы, но что бей них и колхозах просто не будут знать, что нужно делать, и и конечном счете сама жизнь не сможет развиваться так, как задумано свыше, с той глубиной проникновения в будущее, которым жила вся эпоха.
Он не был ни наивным, ни тупым, чтобы не видеть, как живут люди в отсталых колхозах. Бывая в командировках, он наблюдал и нужду, и явную запущенность многих хозяйств, но всякий раз, когда его начинало терзать сомнение, что все идет как-то не так в сельском хозяйстве, он тут жо находил неопровержимые причины — ведь была война с ее неисчислимыми жертвами, разрушенными дотла городами, заводами, и мы просто вынуждены временно мириться и с этой нуждой, и со всеми недостатками. Разве можно было допустить, что «наверху» не осведомлены о том, что делается в деревне? Ему, как и многим, почему-то казалось, что больше всего он способен помочь захудалым колхозам, раскрывая перед ними опыт передовых и сильных хозяйств. Поэтому, отправляясь в длительные командировки, он старался бывать в хороших, богатых колхозах, заранее полагая, что в слабых он не найдет для себя ничего поучительного. Ведь и на коллегиях министерства, где он частенько присутствовал, слушали обычно выступления только известных и знаменитых в стране председателей колхозов, директоров показательных МТС. В те времена никому как-то не приходило в голову пригласить на заседание руководителя какого-нибудь бедного колхоза и разобраться во всех его нуждах.
Теперь с этим самообманом было покончено. Для Константина стало невмоготу работать в министерстве. Вся его деятельность вдруг потеряла для него то высокое значение, какое он прежде ей придавал. С душевной болью Мажаров понял, как далек он от того, что было завещано ому всеми помыслами отца и даже самой его смертью. Жаль было четырех лет, которые он потратил, исписывая горы бумаг, не оказывая никому конкретной помощи, а может
быть, и мешая своими надуманными инструкциями и рекомендациями.
«Нет, так дальше жить нельзя,—думал Мажаров, глядя, как пузырятся во дворе лужи от усиливавшегося дождя.— Жить, принимая желаемое за сущее, не тревожа свою совесть. Пора мне перестать быть в жизни наблюдателем, надо отвечать перед всеми и за себя и за других! И главное, какое я имею право на те блага, которыми пользуюсь сейчас? Чем я их заслуяшл? Тем, что был нахлебником у народа?»
Пронзительная трель звонка оборвала его раздумья. Константин поспешно бросился к двери, распахнул ее. За нею стоял человек в синем плаще.
— Вы вызывали такси? Уже настучало порядком!
— Извините...
Мажаров будто очнулся, подхватил свои чемоданы, набитую продуктами авоську, и знакомое радостное возбуждение, которое всегда охватывало его перед всякой поездкой, заставило его почти бегом сбежать по лестнице. Пока водитель укладывал чемоданы в багажник, дождь, лишь рябивший до этого лужи, вдруг обрушился с густым плеском на асфальт, разом поглотив все звуки вечернего двора.
Константин нырнул под спасительную крышу машины, захлопнул за собой дверцу, и шум дождя стал глуше, ровнее.
Отвечая на вопросительный взгляд шофера, Мажаров весело сказал:
— К Казанскому!.. И пожалуйста, через центр!..
Он мог бы поехать к вокзалу более близким путем, но перед отъездом хотел еще раз полюбоваться Москвой, которая в дождь казалась ему всегда красивее. Когда-то снова удастся побывать здесь?
Сквозь наплывы дождя, с которыми еле справлялись щетки на стекле, улица проступала празднично, ярко, вся в радужных мазках растекающихся красок. Вода начисто смывала их, они плавились, стекали на дно маслянисто-черной реки и вот уже горели там, полыхали, взрывались целыми каскадами, и поток лаково блестевших машин двигался через их калейдоскопическую пестроту.
Мажаров опустил забрызганное разноцветными каплями стекло, и вместе с резкой свежестью воздуха в машину хлынули человеческие голоса, шелест подошв по асфальту и где-то близко — беззаботно-счастливый смех. Дождь
внезапно стих, умытые улицы струили в отражении свои огни. Вокзал оглушил Константина шумом, светом, толкотней, и он, с радостью подчиняясь суетливому ритму, стал пробираться с толпой пассажиров на перрон. Пока длились прощальные минуты и провожающие оставались в вагоне, Мажаров не находил собе места, ругая себя в душе на то, что лишился напутственных дружеских слов и ру-копожатий.
«И что и выдумал, не понимаю.— Стоя в тамбуре вагона, он не замечал, как пассажиры, шагая мимо, невольно надевают ого.— Конечно, они сразу согласились со мной, потому что решили, что меня будет провожать женщина. По водь у меня никого нет».
За годы своей московской жизни Константин не раз знакомился и с девушками и с женщинами, часто увлекался, привязывался к ним душой, порою даже готов был связать свою судьбу с интересным, как ему казалось, человеком, но почему-то не мог это сделать слепо, безоглядно, как это делают в годы юности, ко всему придирался, подходил с немыслимыми требованиями, примеряя их к какому-то недосягаемому идеалу, скрупулезно все взвешивал, и достаточно было любой мелочи, чтобы он легко излечился от любви. Он мучился от этого непостоянства, винил во всем себя и, хотя ему давно осточертела холостяцкая свобода, ничего не мог с собой поделать.
Поезд мягко, почти неслышно тронулся с места, и платформа с провожающими поплыла назад. Не прошло и нескольких минут, как замелькали новые платформы с толпившимися на них дачниками: блестели раскрытые зонты, сверкали, как текущая вода, плащи. Бешено, как снаряд, оглушительно грохоча и завывая, промчалась встречная электричка, вся в трепете и блеске огней, и вагон точно пролихорадило. И вот уже меркло зарево над Москвой, похожее на зыбкий утренний рассвет...
Надвинулись и исчезли подмосковные леса, в ненастной хмари за мокрым, слезным окном проносились теперь опустевшие поля с ворохами разбросанной соломы, гигантские опоры высоковольтных передач, унизанные тарелками изоляторов, рабочие поселки в строительных лесах и башенных кранах. И снова поля, перелески, далекие и близкие деревни.
Маняще вспыхивали яркие огоньки — то одинокие, блуждающие, то весело и щедро рассыпанные по степному раздолью.
Потом они стали гаснуть — где-то там, за разбухшими от дождей пашнями, засыпали одна деревня за другой, и уже сами окна изб, как темная вода, ловили блескучий отсвет огней мчавшегося мимо поезда...
Напоминание было мимолетным и призрачным, но Константин закрыл на мгновение глаза и увидел себя в сумерках родной избы. Он сидит у заиндевелого окошка, смотрит на засыпающую деревню, ждет, когда мать подоит корову и придет с улицы. Гаснут вдали, среди суг-робной сумятицы, жидкие огоньки в избах; скрипит журавель колодца, и звонко перекликаются голоса баб, пришедших за водой; натужно скулят полозья саней медленно двигающегося по дороге обоза с сеном, видно, как метут края воза по обочинам; тихо звякает где-то впереди колокольчик на дуге — звон его хрустально ломок и чист. Хлопает избяная дверь, и в клубах свежего воздуха вырастает у порога закутанная в шаль мать. От нее пахнет парным молоком и еще чем-то неуловимо родным и приятным — то ли нахолодавшими после мороза щеками, то ли запушенными инеем волосами, то ли ласковыми, еще отдающими теплом коровы руками, гладящими его по голове. Да и голос матери, словно истосковавшейся без него, пока она ходила по двору, полон истомной нежности и доброты, он проникает в самое сердце, и благодарный за ласку Костя обнимает мать за шею, и долго не может оторваться от нее, и отстает лишь после тихих, отрадных душе уговоров... Вот мать вваливается в избу с гремящими, застывшими на зимней стуже рубахами, раскоряченными подштанниками и кричит еще с порога, чтобы он живее лез на печку, а то застудится. От мороженого белья пахнет пресной свежестью речной воды и еще чем-то, похожим на тонкий аромат дикого полевого цветка. Наложенные ворохом на столе и на кровати рубахи скоро обмякают, но запах от них еще долго держится в избе. А вот Костя лежит в жару, разметавшись на мягкой постели, и как сквозь горячий, липкий, заливающий глаза туман видит нависшие над ним полати, и мглистые тени на потолке, и зыбкий, дрожащий кружок от лампы на толстой матице. Но как бы ни расплывалось и ни таяло все вокруг, он ни на минуту не перестает чувствовать мать: прикосновение ее прохладных рук к пылающему лбу, убаюкивающий, полный целительной силы голос, влажный край кружки с молоком, которую она подносит к его спекшимся губам...
— Мама,— прошептал вдруг Константин и задохнулся от горечи, стыда и жалости к самому себе.
Он не знал, как вырвалось у него это слово, позабыл даже, когда в последний раз произносил его!
Охваченный острым сожалением о потерянном для него навсегда, Константин уже не слышал ни железного клекота колес под вагоном, ни звенящего бравурным маршем радио к узком коридорчике, но чувствовал гулявшего по иолу студеного сквознячка...
Косте Мажарову шел десятый год, когда он потерял отца. Январским утром тысяча девятьсот двадцать девятого года раным-рано кто-то постучался в обметанное инеем стекло, и Костя встрепенулся, разбудил мать. Она вскочила, босиком прошлепала к окну. В серой рассветной мгле смутно виднелась запряженная в кошевку лошадь, около нее топтался высокий мужик в заиндевелом тулупе.
— К нам кто-то,—тревожным шепотом сказала мать,— сбегай, Коська...
Костя сунул ноги в глубокие материны валенки, нахлобучил на самые глаза старую отцовскую шапку и в залатанном кожушке выбежал из избы.
Поднатужившись, он отодвинул толстую жердину, закрывавшую сразу ворота и калитку, и увидел перед собой незнакомого бородатого мужика.
— Принимай, парень... С тяжелой ношей к вам...
Костя не понял, о какой ноше говорит мужик, но, когда подвода въехала на заснеженный двор, его словно кто толкнул к завешенной серым солдатским сукном кошевке.
— Стой, парнишка! Стой! — испуганно рванулся к нему возчик, но не успел. Костя дернул за край одеяла и без крика как подкошенный повалился на снег...
Пришел он в себя уже в избе. Отца положили на широкую крашеную лавку. На выпуклой и словно чуть вздувшейся груди покойно лежали восково-желтые кулаки, и, если бы на коленях возле лавки не стояла и не причитала мать, можно было подумать, что отец вернулся с улицы, где колол дрова, бросил под лавку топор, расстелил полушубок с курчавой свесившейся полой и прилег отдохнуть...
Посреди избы, почти касаясь головой полатей, стоял все тот же угрюмый мужик и, сдвинув брови, мял в узловатых руках косматую шапку. У порога толпились бабы, шумно сморкались, вытирая глаза концами платков, к ним робко жались присмиревшие ребятишки.
Увидев, что Костя открыл глаза, мужик присел рядом на кровать и положил на его голову теплую руку.
— Оклемался маленько? Смотри духом не падай — не один остался на свете, люди кругом... Хотел отец тебе хорошую жизнь добыть, да, вишь, не рассчитал, что встанет у гадов поперек горла!.. И ты его врагов не забывай — они еще по земле ходят, а он вот лежит и уж больше не встанет!..
В голос закричала мать:
— Кормилец ты наш, поилец ты наш ро-о-ди-мы-ый!.. Загубили твою светлую го-ло-овуш-ку!.. И что я буду с сиротой горемычной де-е-е-лать!
Костя впервые слышал, что мать плачет так — нараспев, подвывая, и от этого плача ему стало жутко.
— Не плачь, мамка! Не плачь! — захлебываясь слезами, крикнул он и бросился к ней.— Я скоро вырасту большой. Я наймусь в работники!
Мать схватила его сухими горячими руками и, трясясь, целовала как в беспамятстве...
Отца похоронили за селом, около братской могилы партизан, в общей ограде, поставили деревянный обелиск с красной фанерной звездой. А Косте никак не верилось, что он больше никогда не увидит его.
Прежде отец каждый год уходил на заработки: то нанимался сезонщиком на золотые прииски, то отправлялся плотогоном на далекую сибирскую реку. Не раз он звал с собой и мать — бросим все, заколотим избу и уйдем отсюда, но она отказывалась наотрез. Ее страшил большой, незнакомый мир, начинавшийся за березовой околицей родной деревни.
Весною двадцать восьмого года разнесся слух о колхозах, и на этот раз отец не ушел на заработки. Прослышав, что в соседнюю деревню пригнали трактор, он отправился туда вместе с другими мужиками и вернулся домой как будто совсем иным человеком. Всем и каждому он только и толковал о чудодейственной машине, корежившей на его глазах вековую, твердую как камень залежь. Деревня бурлила, обсуждая на разные лады эту новость, отец дни и ночи пропадал на собраниях, являлся домой перед светом, будил мать, Костю, хватал его на руки, сажал на пле-
чо и носил по избе. Под тяжелыми его шагами скрипели и гнулись половицы.
— Скоро, Коська, мы с тобой заживем! — говорил он, вапрокидывая кудлатую рыжую голову и глядя на сына синими пронзительными глазами.— Всю силушку и один кулак — и расступись, худая жизнь, заявись, хорошая!
Но мать слушала его настороженно, без улыбки.
- Больно много счастья сулишь,—не разделяя отцов-ской радости, грохоча ухватом, цедила она,— кабы молоч-ные реки но потекли!..
- Мать у нас темная, Коська! Ей все кажется, что один свет на земле — тот, что в окошке светит. Ничего, потом увидит, на чьей стороне правда. Да и куда она без нас денется?
Мать сердито, рывком дергала горячую сковороду. На лице ее трепетало пламя от печи, раскосмаченные волосы падали на лоб, и она отводила их согнутым голым локтем.
— Послушал бы, что люди про ваши колхозы говорят! Срамота! Спервоначалу коров в одну кучу, потом баб...
— А ты верь всякой брехне! Для тебя все люди без разбору, а для меня есть горемыки-бедняки, вроде нас, и есть такие, что всю жизнь кровь нашу пьют и распрямиться не дают.
Отцу выпало счастье везти в район список членов новой артели и похлопотать заодно о том, чтобы колхозу нарезали лучшие земли. Костя не отставал ни на шаг от отца, просился:
— Возьми меня, тять, с собой!
— Погоди, сынок, одежи у тебя нету справной! Вот сошьем на тот год обнову — тогда айда куда хошь! Уговор?
Костя кинулся отцу на шею, и тот, словно зная, что прощается с сыном навсегда, долго не решался оторвать его от себя.
...После похорон отца будто померк свет в окнах. Костя целыми днями сидел дома, не отзывался на крики сверстников, звавших его кататься на санках с горы. Прибежит из школы в подшитых материных валенках, заберется с книжкой на полати и сидит там дотемна, пока мать не подоит корову, не зажжет тусклую лампешку.
Мать ходила повязанная черным платком, притихшая, печальная, говорила шепотом, словно боялась кого-то разбудить. Но спустя месяц-другой она немного отошла, при-
мирилась и однажды, усадив Костю за стол, стала диктовать письмо родному брату Сидору, жившему в большом торговом селе.
«А еще кланяемся супруге вашей Евдокии Анисовне,— быстро говорила мать, следя, как Костя выводит букву за буквой.— И желаем ей много лет в ее цветущей молодой жизни».
Жена дяди Сидора была уже немолодая, толстая женщина с жидкими волосами и злым горбоносым лицом, но Костя матери не перечил, писал, как велела.
А моя жизнь известная,— жалостно поджав губы, продолжала мать,— осталась я одна, как травинка горькая, и некуда мне, несчастной, прислониться. Дружки Андреевы зовут в коммунию, а чего я там не видела? Кому я там нужна без мужика? Вечные попреки да обиды слушать! Изболелась душой — живого места нет, хоть впору руки наложить, да сироту горемычного жалко, куда он без меня? Может, ты что присоветуешь, дорогой братец Сидор Тимофеевич. А к сему остаюсь твоя сестра, любящая тебя по гроб жизни. Фетинъя.
Весной по совету брата она неожиданно легко рассталась с избой, коровой, двумя овцами. Дядя Сидор приехал на телеге, погрузил их скудный домашний скарб, и у Кости защемило сердце, когда стали пропадать из глаз крыши родной деревни.
Они поселились с матерью в дядином сарае, поставили там свой большой сундук, обитый цветной жестью, и спали вдвоем на старой, выброшенной за ненадобностью кровати.
Новые перемены пришлись Косте по душе. Он сразу подружился с соседскими ребятишками, бегал с ними купаться на речку, удил рыбу. Река будто возвращала его к жизни, и острая боль недавной потери притуплялась.
По реке, огибавшей светлой подковой все село, проплывали белые пароходы, расстилая над заливными лугами зычные гудки, тянулись вниз по течению плоты с зелеными шапками шалашей, с сизыми дымками костров; сердитые буксиры, шипя и пофыркивая, тащили за собой пузатые баржи, беляны с лесом. Жизнь на реке не затихала ни днем ни ночью.
Однажды, прибежав с реки, Костя столкнулся у калитки е дядей Сидором. Тот стоял, загородив своей иизкорос-
лой, коренастой фигурой проход, и пьяно ухмылялся; от него несло водкой. Прижмурив левый глаз, он чмокнул губами и сказал:
— Бегаешь невесть где, а мы, считай, уж твою мать пропили!
Костя побледнел, кинул на землю удочку, банку с червями и бросился во двор. Но у крыльца дядя настиг его и придавил медвежьей своей лапой: Стой, дурная бишка!
Тяжело дыша, он поднял на Костю мутные, нехорошие глаза и строго, наставительно сказал:
Не вздумай чего сотворить, а то с тебя хватит!.. Я вас тогда с матерью и дня держать не стану. Нужны вы на мою шею. У меня и так есть кому на ней сидеть...
Он надавил на плечо, и Костя присел на ступеньку, со страхом слушая хриплый гневный шепоток дяди.
— Отец тоже был горяч, через то и угодил на тот свет. Сколь разов я его упреждал: смотри, Андрей, достукаешься — которых убивают, те назад не вертаются! А слушал бы меня — сейчас ходил бы и траву мял. Ноне жизнь крутая, и вам с матерью одним нельзя — пропадете без хозяина. А хозяин сыскался такой, что за ним хоть закрывши глаза иди — во как! Намотал? Иди, и чтоб без глупо-стев, а то я тебе живо Москву покажу!..
Косте было страшно войти в дом, но дядя Сидор раскрыл перед ним дверь, толкнул в спину. Весело дробившиеся в комнате голоса смолкли.
— Вот привел вам рыбака!—похохатывая, сказал дядя.— Удит там всякую мелочь и не знает, дурачок, какая ему счастья в жизни привалила!
Костя сразу увидел «хозяина».
На гнутом венском стуле, скрестив ноги, сидел плотный, грузный человек в черной поддевке. У него было бугристое, цвета глины лицо, большой мясистый нос, тонкие губы. Из-под редких бровей колюче и весело поблескивали глазки. Сквозь жидкие с сединкой волосы, зачесанные на одну сторону, сквозила лысина. Шея была жилистая, будто вся в узлах, на ней, чуть скрытый сивой бородой, шевелился большой кадык. «Хозяин» сидел и, осклабясь, смотрел на Костю.
— А где же «здравствуй»? — сурово спросила рыхлая жена дяди Сидора.— Проглотил? Чему вас только учат!., У-у, упрям, батя вылитый...
Костя молчал и смотрел под ноги.
— Иди сюда, Коська,— тихо позвала мать.
Она сидела наискосок от «хозяина» и быстро перебирала в руках снятые с шеи крупные янтарные бусы. Ступая деревянными ногами, Костя подошел к ней, и она подняла на него молящие, виноватые глаза.
— Чего ты букой смотришь? Разве тебя кто съест? Будет дичиться-то!..— сжав горячими ладонями его щеки и обдавая дыханием шею, зашептала она.— Игнат Савельевич зовет нас к себе жить. У него хорошо — и тебе одногодки есть, и постарше — защита. Станешь его слушаться — в люди выйдешь, а он нам с тобой добра желает.
Игнат Савельевич качал головой, как бы соглашаясь с матерью, потом протянул Косте бумажный кулек, полный конфет и орехов. Костя замотал головой и стал отталкивать кулек от себя.
— Не надо, не надо,— твердил он.
— Бери, коли дают, да в ноги кланяйся! — крикнул дядя Сидор.— Ишь фон-барон какой, едрена мать! Зало-мался, пряник копеечный!
— Чего навалились на парня? — сказал Игнат Савельевич и почесал толстым пальцем шею.— Не хочет — не надо, не ломайте его силой. Придет время, поостынет, сам попросит. Ты их не слушай, Костя, делай как хочешь!
Костя недоверчиво поглядел на него. Меньше всего он ожидал, что поддержка придет к нему с этой стороны.
— Иди, милый, иди гуляй! Чего с нами сидеть? С нами скучно. Хочешь — товарищам раздай конфеты. Для людей не жалей добра — к тебе больше вернется.
Костя беспомощно оглянулся на мать. Она тоже закивала ему, и он, взяв кулек и тяжело вздохнув, вышел из комнаты. Уже открывая двери в сени, услышал:
— Разве так можно? Ты вначале его ручным сделай, чтоб он твою руку принял, а потом уж с божьей помощью лепи из него, как из воска.
Что-то оскорбительное было в этих словах. Костя не понимал что, но у него запылали уши. Он выскочил из сеней, прибежал в сарай и, ткнувшись ничком в подушку, заплакал. Ему хотелось умереть, чтобы они все — и мать, и дядя Сидор, и эта грубая, жадная рыжая тетка — мучились потом, что довели его до этого. Но, вспомнив об отце, он сел и вытер рукавом рубахи глаза. Он увидел брошен-
ный около кровати бумажный кулек и с минуту гневно смотрел на него. Затем, рванув кулек, стал расшвыривать по сараю конфеты, с треском вбивать каблуком в землю орехи. На тебе, на!..
На другой день мать надела на Костю го- лубую сатиновую рубаху, черные шта- ны из чертовой кожи, вымыла души- стым мылом голову и вывела за ворота. Сама она тоже была в нарядной праздничной кофте и юбке, в ушах ее сверкали новые серьги, подаренные накануне отчимом. Игнат Савельевич приехал ва ними на паре гнедых, запряженных в легкую бричку. Их вышли провожать дядя Сидор и рыжая тетка.
— Милости прошу! — по-молодому суетясь возле брички, приглашал Игнат Савельевич.— Садитесь, где помягче да попышнее. Дорога хоть и недолгая — на другой конец села, а все ж!..
Он помог сесть матери, подхватил под мышки и ткнул в бричку Костю и, довольный, уселся сам.
— Ну вот и устроилась твоя судьба, сестра! — сказал дядя Сидор, растягивая в улыбку мясистые губы.— За Игнатом Савельичем не пропадешь. Счастливо тебе жить и горя не знать!
— А ты сам к вечеру приезжай,— сказал Игнат Савельевич.— Отметим сие торя?ество! Можно бы с громом, да по нынешним временам лучше потише, чтоб в глаза не било... Как пойдешь, барахлишко ихнее, какое ни есть, прихвати. Трогай...
Костя увидел, как вспыхнула мать; кони лихо взяли с места, и, словно от повеявшего навстречу ветра, лицо матери снова обрело свой ровный, спокойный цвет.
Правил старший сын Игната Савельевича, при встрече почтительно приложившийся к щеке молодой мачехи. Поигрывая ременной плеткой, он свистел, щурил белесые глаза под лакированным козырьком фуражки.
Игнат Савельевич искоса с нежностью поглядывал на жену, кланялся встречным мужикам, чуть касаясь правой рукой фуражки,— одним лишь показывал, что приветствует их, и подносил руку к козырьку, другим отвечал более уважительно — приподнимал фуражку и, мгновение подержав ее над лысиной, опускал на жидкие остатки волос.
У ворот большого пятистенного дома под железной крашеной крышей сын осадил лошадь. Кто-то метнулся за окнами, или Косте так показалось.
— Ну вот вы и дома,— сказал, довольно улыбаясь, Игнат Савельевич. Он помог матери сойти с брички, сдернул с козел Костю и ткнул сапогом калитку.
Он шел впереди размашистой, крупной походкой хозяина, знавшего свою силу и власть, и мать, держа за руку Костю, еле поспевала за ним и словно боялась оглянуться на широкий, чисто подметенный двор, приземистые амбары, на косматую собаку, с лязгом и вжиканьем гонявшую через весь двор по проволоке железную цепь. Двор окружал высокий плотный дощатый забор.
На террасе, застекленной сверху цветными треугольниками—синими, желтыми, зелеными,—был накрыт большой стол, застланный камчатой скатертью, пофыркивал, пуская струйку пара, пузатый, до золотого блеска начищенный самовар.
— Куда это моя орава попряталась? — Игнат Савельевич насупил брови, топнул сапогом.— Или черти вас с квасом съели? А ну, живо сюда!
Из дома вышли два сына, рослые, беловолосые, белозубые красавцы, явился со двора старший, две невестки, одетые по такому случаю нарядно — в яркие сарафаны. Они были тоже какие-то одинаковые — тугие, краснощекие, с голубыми навыкате глазами, с толстыми, закрученными на затылке косами. Последней прибежала худенькая, девочка-подросток — горбунья, с голубыми грустными глазами. Она оказалась смелее всех—первая подошла к мачехе, поклонилась ей в ноги, обняла и поцеловала. Ее примеру последовали и остальные.
— Ну вот вам, дети, новая мать! — властно и зычно сказал Игнат Савельевич, поднимаясь над столом с налитой до краев рюмкой.— Любите ее и уважайте! Может, кому не по нраву, что отец на старости лет завел молодую жену, то не вам о том судить и не мне перед вами оправдываться. Поживете с мое, наживете с мое, тогда и поступайте, как вашей душе будет угодно. А пока чтоб я о ней слова плохого не слышал. Что не по душе — молчи про себя, есть две ноздри — посапывай и молчи. А кому захочется языком болтать и по-своему жить — не воспрепятствую! Выведу за ворота, дам буханку хлеба в руки —. иди, места на земле много, ищи свое! Ну, а теперь выпьем, и спаси нас Христос!
Сыновья молча, как по команде, опрокинули в рот рюмки, вытерли кулаками красные губы. Невестки чуть
отхлебнули из рюмок, но Игнат Савельевич повел в их сторону коршунячьим взглядом, и они, давясь и кашляя, осушили рюмки до дна. Лишь Аниска, отцова жалость и укор, делала что хотела — ей все прощалось.
Поднимаясь из-за стола, все стали креститься. Один Костя не поднял руки и стоя теребил кисти скатерти.
— А ты чего не молишься? — испуганным шепотом спросила горбунья и дернула Костю за рукав.— Молись, а то тебя боженька накажет!
Услышав ее шепот, все молча уставились на Костю, но Игнат Савельевич и тут выручил.
— Стало быть, без бога прожить надеется,— пояснил он.— И так можно, если своя вера имеется. Дикари вон, слышал, чурбашкам молятся — всякому свое!..
— А какая у тебя вера? — допытывалась у Кости Аниска, ласково сияя голубыми глазами.
— Отец нехристь был,— сказала за сына мать.— Тоже, бывало, сроду лба не перекрестит. Все насмешничал, ну и этот от него перенял. Известно, какая у него вера — красная! Тряпку красную на шею наденет — вот и вся его нора...
— И не тряпку вовсе, а галстук! — крикнул вдруг Костя.— И бога никакого нет — его попы выдумали, чтобы народ обманывать!
— Замолчи, змееныш! — Мать больно дернула его за ухо.— Покарает тебя господь!.. Ишь наслушался чего, паскуда!
— Постой, Фетинья,— отстранил ее отчим,—веру в башку кулаком не вдолбишь, а его еще пуще ожесточишь!.. Пускай носит и галстук и лба не крестит — может, бог и не заметит. Где ему за всеми уследить, нас у него много — он, поди, давно со счету сбился и не знает, кого считать за праведников, кого за грешников. А по нонешним временам, гляди, и польза какая будет — раз власти красный цвет по нраву, мы супротив тоже ничего не имеем. Вера, Костя, это сила — в какую силу веришь, за той и иди...
К вечеру собрались гости, дом будто раздался вширь, наполнился смехом, гомоном, стуком каблуков, стонущими голосами гармони. Горница была наглухо, на железные болты, закрыта ставнями. Над столами качался махорочный дым, стоял неумолчный говор, лязг ножей и вилок, трепыхали языки пламени в подвешенных к потолку лампах. Оглушительно вылетали из бутылок пробки, выбитые ударом ладони о дно, густой, смачный хохот колыхался из
стороны в сторону. Из роившегося гула голосов то и дело вылетал лешачий смех дяди Сидора, он орал, покрывая шум свадьбы: «Горь-ка-а!..» Игнат Савельевич, степенно вытирая полотенцем жирные губы, обхватывал мать, целовал ее, и Косте было за нее стыдно.
Затаясь в углу, он зверенышем следил за гульбой. Мать повеселела, пила рюмку за рюмкой, смеялась. Она была еще очень молодая и красивая — щеки ее горели, на них рождались и таяли нежные ямочки.
Старший сын Игната Савельевича, свесив на лоб русый чуб, сидел на табуретке и разваливал от плеча до плеча цветастую гармонь; рыжая жена дяди Сидора, обмотавшись кашемировым полушалком, колыхалась на коротких толстых ножках, взмахивала платочком, взвизгивала: «Иех-иех!» От топота ног звякала посуда на столах, вздрагивали язычки пламени в лампах. Хрустела под сапогами подсолнечная и ореховая скорлупа, пахло потом, табаком, селедкой и огуречным рассолом.
. Костю отыскал дядя Сидор, дохнул на него самогонным перегаром и, покачиваясь, сунул ему в рот носик чайника.
— Пей, парнишка!.. В какие хоромы попал, а? Как прынц будешь жить! Вона!
Костя хлебнул из чайника, ему опалило острой горечью рот, он задохнулся до слез, а дядя захохотал и, расплескивая из чайника самогон, пошел к столу.
«Если бы тятя был живой, он бы им дал!» —в бессильной злобе думал Костя, глядя, как сплетаются и расплетаются на потолке корявые тени.
Отчим медленно пьянел, лицо его багровело, нос лоснился от жира, глаза словно заплывали, становились меньше, а когда он пил, запрокидывая сивую бороду, на его жилистой шее противно дергался кадык.
Неожиданно в гомон и гвалт гульбы ворвался тревожный набатный гул. Все вскочили из-за стола, кто-то выдернул чеку из болта, распахнул ставни, и горница наполнилась зловещим отблеском пожара.
— На верхней улице горит! — охнула какая-то баба.
— Цыцте вы! Дайте послухать...
Колокол бросал над селом тоскливый, ноющий звон. За резными силуэтами соломенных крыш взвился огонь, заплясал, встал на дыбы, и, точно грива, билось на ветру косматое пламя.
— Товарищи красный цвет любят! — Кто-то подавился тихим смешком.
Гости сгрудились у окна, гадали, чья хата горит, но почему-то никто из них не тревожился за свою избу, не пытался бежать на пожар. Голос хозяина вернул их к столам:
— Закройте окно! Эка невидаль, пожара давно не видели? Каждую ночь, почитай, на чьей-либо крыше петух гуляет — еще насмотритесь.
Костя не заметил, как возле него появилась Аниска.
— Пойдем туда, а? — шепотом спросила она.
На улице было светло от зарева, обнявшего, казалось, полнеба. Бежали мимо, бренча ведрами, люди, неслась вскачь лошаденка. Стоя во весь рост на дрожках, ее отчаянно погонял мужик в неподпоясанной рубахе. В прикрученной к дрогам бочке хлюпала и билась вода.
— Страшно как, а? — сказала девочка.— Ты не боишься?
Не умолкая, стлался над крышами ощетинившихся соломой изб заунывный стон колокола, несло гарью.
Они взялись за руки и побежали. На улице становилось всо светлее, слышались уже беспорядочные крики, плач и причитания. На лужайке, недалеко от охваченной пламенем избы, в лицо им ударил нестерпимый, как от топившейся печи, жар.
Мычала скотина по дворам, на узлах, сваленных в кучу посреди улицы, ревели ребятишки, мал мала меньше, тряслась старуха, осеняя себя крестом, шептала что-то побелевшими губами. По ее темным морщинистым щекам текли слезы.
Стропила избы обгорели и рухнули, огонь выплескивался через обугленные пазы. Вокруг бегали, кричали люди, лили в огонь ведро за ведром, горящие верхние венцы сбрасывали вниз, баграми оттаскивали в сторону, забивали землей. Но пожар не утихал, а только, казалось, набирал буйную силу. Крыши соседних изб были мокрыми, на них лепились люди, гасили каждую залетевшую искру.
— И кого жгут, сволочи! — услышал Костя густой, полный затаенной ненависти голос.— Гол как сокол, а тут последней рубахи лишают, последнего куска хлеба!
Костя оглянулся на говорившего. Он стоял без фуражки, в серой солдатской шинели и сапогах, светлые льняные волосы кольцами падали ему на лоб, худощавое лицо с твердо сжатыми губами было полно властной решимости.
— Заметь, Иван, больше все артельщики горят,— отозвался кто-то из толпы.— Значит, свои, а не чужие творят это!
— Те, кто поджигает, никогда своими для нас не были,— ответил светловолосый.— Это враги наши лютые! Нас запугать хотят, а сами свой страх показывают.
— Волк, он завсегда волком останется...
— Ничего, мы его скоро зафлажим, никуда не денется! Привезли свежую бочку с водой, Иван позвал нескольких мужиков и вместе с ними стал качать насос.
Шипучая струя ударила по черным бревнам, пламя стало прятаться, реже и осторожнее выглядывать через пазы, гуще повалил дым и белый пар. Пожар терял силу, мерк, и скоро люди стали расходиться по домам. Только старуха по-прежнему сидела на узлах, прижимая к себе ноющих ребятишек. Глаза ее были сухи и бесцветны, будто гасли вместе с огнем.
— Давай позовем их к себе,— сказал Костя.— Ну где они жить будут?
— Я скажу батяне, он им поможет,— нашлась вдруг Аниска.— Он знаешь какой добрый? К нему все приходят, и он всем дает...
В доме еще шла свадьба, за ставнями ревели пьяные голоса, хрипела, надрываясь, гармонь, слышался звон разбиваемой посуды...
— Пойдем к тяте.— Девочка решительно потянула Костю за собой,— Он когда пьяный, то добрый-предобрый!
Игнат Савельевич сидел за столом без пиджака, в желтой атласной рубахе, водя осоловелыми, мутными глазами по сторонам. К нему лезли целоваться бородатые красномордые мужики, и он подставлял их слюнявым губам бугристую щеку и обнимал молодую жену, не снимая руки с ее талии.
Дочка протиснулась к отцу и, обвив руками его шею, что-то зашептала в оттопыренное хрящеватое ухо.
— Что? Не слышу! — Игнат Савельевич мотал головой, как конь, которому надевают узду.— Цыцте, мужики, замусолили всего, зализали, черти! Должен я уважить
дочку?
— Сделай милость,— орали наперебой мужики.— Уважь!
Наконец он, видимо, понял, о чем она просила,— вначале нахмурился, потом тряхнул ветхим начесом чуба и встал над столом, распрямил полные плечи. Подняв крупный, в рыжей щетине кулак, он торжественно возгласил:
— Дорогие гости, сваты, свояки, брательники! Моя Аниска хочет, чтобы я погорельцам родным отцом был — помог им по силе возможности!
Свадьба загудела на разные голоса:
— На всех, сват, не напасешься!
— Пускай товарищи им помощь окажут — у них карман казенный, бери сколь хошь! Их власть!
Игнат Савельевич стукнул по столу кулаком.
— Али мы не русские люди, не христиане? — зычно пробасил он.— А власть у нас ноне не шибко богатая — дырье кругом, не успевает заплаты ставить! А мы не обеднеем, если от себя лишний кусок оторвем. Разве не тому нас Христос учил? Может, он за грехи мои дочь убогой сделал, чтоб она совесть мою будила, не давала ей заснуть. Мне на доброе дело никогда не жалко, на-а, бери, Аниска, божья душа! Пусть люди знают! Я над копейкой не трясусь!
Он выхватил из кармана смятые бумажки, бросил на чистую тарелку. Аниска подняла их, кто-то еще бросил туда несколько бумажек, звякнуло с десяток мелких монет. Лицо девочки сияло, в глазах ее плясали золотые огоньки. Счастливая, она оглядывалась на Костю.
Утром они вместо побежали к погорельцам и отыскали их у соседей.
В избе, заваленной домашними вещами, было сумрачно и неуютно. Аниска помолилась на иконы, поздоровалась, потом спросила:
— Это чья изба сгорела?
— Ну наша,— ответил ей угрюмый мужик, сидевший у стола.
— Вот вам тятя на погорелое послал,— быстро сказала Аниска, развязала уголок платка, куда были спрятаны деньги, и положила их перед мужиком на стол. Он с минуту молча смотрел на скомканные бумажки, вздохнул, потом широкой смуглой ладонью отвел их к краю стола.
— Забери. Не надо.
— Не надо? — отступив, спросила Аниска.
Высокая худая женщина с опухшими глазами бросилась было к нему, но он остановил ее движением руки.
— Мы хошь люди и бедные,— угрюмо произнес мужик,— да в кулацких подачках не нуждаемся!
— И не совестно такие слова говорить! — вспыхнув, сказала Аниска.
Дрожащими руками она собрала со стола деньги и, сложив их в платочек, стянула зубами узел.
— Тятя всей душой к вам, а вы... Все знают, какой он добрый!
— Слыхали.— Мужик криво усмехнулся.— Он добрый
и обманет весело, не заметишь. Вначале шкуру спустит, а потом заместо нее рубаху посулит. Чего-то я его, такого доброго, не видал вчера на пожаре, когда чуть не вся деревня сбежалась!
— Ты злой и дурак! — крикнула Аниска, и остроносое лицо ее пошло малиновыми пятнами.
— Ну, ты иди от греха,— тихо сказал мужик и поднялся, лохматый, с красными, воспаленными глазами.— Не была б ты с горбом, я б показал тебе, где бог, а где порог! Ишь разорался кулацкий ублюдок! Кыш отседова!
Костя выскочил из избы как ошпаренный. Он не отвечал на окрики Аниски — ему хотелось бежать куда глаза глядят. Аниска догнала его у ворот и схватила цепкими пальцами за рубаху.
— Эх ты! Испугался! — сказала она, окидывая его презрительным взглядом.— Пусть бы тронул — тятя бы ему дал!
— А за что он нас так?
— Завидует, больше ничего! Тятя, он сильный, богатый, а богатых и сильных не любят те, кто сам не стал богатым. Вот и этот тоже — голяком живет, а задается чего-то... Так ему и надо — бог его наказал!..
Костя удивился дрожащему от злобы голосу девочки, посмотрел на нее и, отвернувшись, вошел во двор.
Увидав у крыльца террасы «отца, Аниска бросилась к нему.
— Вот, не взял! — крикнула она и заплакала. Игнат Савельевич помрачнел, поднял мокрое от слез
лицо дочери, стал вытирать ладонями.
— А ты чего ревешь, глупая? Ведь не обидел он тебя? Скажи на милость, гордый какой! Да с гордости новую избу не срубишь! Еще пожалеет, да поздно будет...
Он не договорил. Распахнув калитку, во двор входили какие-то люди, впереди — вчерашний высокий, светловолосый мужик в солдатской шинели внакидку.
От будки, лязгая цепью, метнулась собака, но Игнат Савельевич перехватил ее на пути, привязал, потом вернулся к крыльцу, сторожко оглядывая пришедших.
— Проходите в дом, гражданин Пробатов,— сказал он,— гостями будете...
— Некогда гостить. Мы к тебе с делом — можем и тут переговорить...
— Ну, смотрите, воля ваша! — Игнат Савельевич через силу улыбнулся,— А мы гостям завсегда рады. Какое же дело?
— Дело наше простое,— сказал Пробатов.—Тебе известно, что собрание постановило отобрать у тебя мельницу и передать ее на пользу трудовому народу?
— А я кто ж, по-вашему, буду? У меня что, руки белые, буржуйские? Мозолей на них нету?
Перед ним возник, размахивая парусиновым портфелем, коротконогий лупоглазый мужик.
— Ты, Игнат Савельевич, по всей форме на кулака выходишь. К середняку тебя не прилепишь, а к бедняку и вовсе. Верно, Иван?
Он замигал мучнистыми ресницами и, словно испугавшись собственной дерзости, спрятался за спины других.
— А как ты про кулаков понимаешь? — щурясь, допытывался Игнат Савельевич.
— Про то всем известно,— выскочил тот же мужик и заморгал ресницами.— Животины полон двор, как у тебя, мельница на два постава, жнейка, в амбарах пшеница с позапрошлого года лежит. На него, значится, другие хребтину гнут, а он зажал снос богатство в кулак и пьет чай с сахаром!
Все засмеялись, ухмыльнулся и Игнат Савельевич.
— Чужое будешь считать —своего век не наживешь. У меня сыновья хрип гнут, и сам я сна в глаза не вижу — день и ночь на ногах. Только на время брал людей со стороны, для подмоги — уж'так заведено. Вот и выходит, кулак — это тот, кто, наработавшись, на кулаке спит, боли не чует. Середняк — это тот, у которого спереди сума и сзади сума, а сам он посередке болтается. А бедняк — это тот, который работать не любит, а любит портфелю в руках таскать!
— Ну, ты нас побасенками не корми, мы тебя не первый год знаем! — сдвинув брови, сказал Пробатов.—Где ключи от мельницы?
— Там у меня сын с невесткой.
— Пойдешь с нами, сдашь все в целости и сохранности. И вот еще что — свезешь сорок пудов зерна.
Игнат Савельевич выпрямился, глаза его сузились.
— Я не дойная корова — меня доить нечего. Сколько было — все зимой свез. Совесть надо ж знать!
— Ты про совесть-то помолчи, не у тебя нам ее занимать. Не свезешь — сами возьмем. Уж тогда тряхнем так, что и ста пудами не разделаешься.
— Берите, ваша власть! —хрипло выдохнул Игнат Савельевич.—Может, заодно уж исподнюю рубаху снять?
Он рванул ворот рубахи так, что отлетели пуговицы.
— Надо будет нищету одеть — так и рубахи лишние заберем. Люди задарма на тебя работали, ты не одну с них рубаху спустил. Пришла пора возвращать...
Игнат Савельевич опустился на ступеньки крыльца и молчал.
— Погляжу по сусекам, сколько подмету — свезу,— сказал он.
Ночью Костя проснулся от шума в сенях. Соскользнув с полатей, он пробрался на террасу и увидел копошившиеся возле предамбарья фигуры. Там были, кажется, все, даже Костина мать. Заслышав, что кто-то идет к террасе, Костя на цыпочках вернулся в дом, залез на полати.
В дом вошли отчим и мать.
— Может, тебе от страха показалось? — приглушенно спросил Игнат Савельевич.
— Да нет, вроде кто-то ходил...
По голосу матери Костя понял, что она дрожит. Игнат Савельевич, тяжело дыша, поднялся на лежанку, чиркнул спичку.
Костя притворился спящим, тихо засопел. Отчим постоял, спичка догорела, и он спустился вниз.
— Спит,— тихо сказал он.— А ты больно нужлива — с тобой, гляди, родимец забьет... Если б кто и вздумал следить, рази б стал ждать? Мигом ворота бы выломали!
Голос матери немного размяк — видно, боязнь ее прошла, и она улыбалась.
— А ты у меня вон какой. Неужто тебе не страшно? Отчим вздохнул, помолчал, видимо, ему было приятно восхищение жены.
— Голову терять — это последнее дело... Я уж думал, отвязались они от меня, а они, похоже, только присасываются!.. И видно, досыта не скоро накормишь — сыпь как в прорву, и все мало... Моя б власть, я б их быстро накормил, за один раз... Там все уже, что ли?
— Притоптать только, и хоть с ищейкой приходи — нюх отшибет.
Когда мать и отчим ушли, Костя долго лежал с открытыми глазами. Он думал над словами отчима, который делал что-то такое, что нужно было скрывать от людей, прислушивался к шорохам просторного чужого дома и лишь на рассвете забылся тревожным сном. Ему снилось, что Игнат Савельевич поджег свой дом, оставив в нем одного Костю...
— Да проснись ты, чумной, чего испужался? — Рядом с ним сидела на полатях мать и трясла его за плечо.
Костя ткнулся матери в колени. Мать была в чужом, пахнущем нафталином платье, но руки, гладившие его голову, были родными, ласковыми, и от одного их прикосновения ему стало хорошо. Он поднял на мать полные слез глаза и сказал:
— Мам, уйдем отсюда... Не хочу я с ними жить. Не хочу!
Мать зажала ладонью ему рот, испуганно зашептала:
— Опомнись!.. Чем тебе тут худо? Чем? Сытый ходишь, обутый, одетый...
— Не хочу я ихнего хлеба... Я лучше буду под окнами просить. Они мироеды, мамка!
- Да куда ж мы с тобой пойдем-то? Куда? — чуть не застонала она.— Опять в чужой угол? На чужие глаза? Жить в худобе, обноски носить, жизни не видеть? Я и так с твоим отцом натерпелась, все посулами жила...
— Ты тятю не трожь! — крикнул Костя и отстранился от матери.— Он лучше всех был!.. Он никогда бы не стал, как этот жадюга, свой хлеб прятать!
Мать побледнела, глаза ее расширились, она, остолбенев, посмотрела на Костю, потом схватила его за плечи:
— Что ты мелешь? Что?.. Господи!.. Ты погубить меня хочешь? Погубить?
Она опрокинула его навзничь, вдавила в подушку, наклонилась к нему искаженным белым лицом, и Костя не узнал ее.
— Да если ты хоть слово пикнешь, тебя со свету сживут,— зашептала она.— Они нас убьют, как твоего отца убили...
— А кто тебе сказал, что они тятю убили? — Костя рывком сел на полатях.
Мать схватилась за голову руками, запричитала:
— Ох, покарал меня господь!.. Да очумел ты, что ли? К слову так брякнула, к слову, дурья твоя башка!.. Не нам с тобой с ними тягаться — растопчут, и знать никто не будет...
В прихожей послышались шаги, и мать, проведя рукой по глазам, мгновенно преобразилась — лицо ее стало жал-
ким, умильным, и, не глядя на Костю, она нарочито громко, чтобы услышали ее, сказала:
— Игната Савельича слушайся — он тебя в люди выведет, станешь большой — будешь вот так же хозяйствовать, добро наживать.,. Это к ленивому да беспутному ничего не пристанет. А ты у меня смышленый, удачливый будешь...
Под полатями прошел отчим, задержал шаг, прислушиваясь, потом появился посредине избы.
— Я поехал, Фетинья... Насбирал по зернышку два куля. Не знаю, что сами жрать будем.
— Бог даст, проживем! — быстро заговорила мать.— Не смущай себя, изведешься...
Она спустилась с полатей и, улыбаясь, подошла к мужу.
— Если б не ты, прямо пропадай,— сказал Игнат Савельевич.— Одна отрада, одно утешенье!..
Он положил ей руку на плечо и повел из избы. Мать проводила отчима, заперла за ним ворота. Скоро он вернулся — мрачный, серый в лице. Следом за ним явились вчерашние мужики во главе с Пробатовым. Ни о чем никою не спрашивая, они ходили по двору, по избе, заглядывали в каждый угол, спустились в подполье, облазили весь огород, сараи, протыкали, щупали землю железными прутьями, где она была помягче, но хлеба не нашли.
Уходя, Пробатов сказал Игнату Савельевичу:
— Дали мы тебе ночь на твои темные дела — обошел ты нас. Ну да ты шибко не радуйся! Куцый хвост у твоей радости-то!
Костя видел, как посмотрел в спину уходившему мужику Игнат Савельевич. Мелкой дрожью тряслись его длинные мосластые руки, опущенные вдоль туловища, что-то темное, до жути лютое плескалось в глазах.
— Как медведя в берлоге окружают,— тихо выдавил он сквозь зубы.— Но я им живым не сдамся!
— Не убивайся, Игнатушка, бог им этого не простит...
— Эх, Фетинья,— тяжело вздохнул Игнат Савельевич.— Бог, он, видно, ненасытный: ему сколь ни давай, все мало — церкви построй, лоб расшиби, душу наизнанку выверни, а он знай себе молчит...
— Пошто богохульничаешь? Обида тебя ослепила — вот и выходит, ты грешник, а хочешь, чтобы всевышний простил тебя.
— Может, он мне больше задолжал, чем я ему? Может, у него передо мной больше вины? Что мои грехи рядом с его жестокосердием — пыль одна, прах...
— С головой у тебя неладно, Игнатушка.
Мать заплакала, кинулась к мужу, скатилась с полатей Аниска, повисла на шее отца.
Игнат Савельевич поднялся, движением плеч освободился от жены и дочери, постоял в раздумье.
— Молитесь — убытку от этого не будет. Но на меня не обижайтесь... Ежели меня свалят, то и вас, как корешки, порубят... Бог велел терпеть — вот и терпите!..
О каком терпении говорил глава семьи, все поняли спустя недели две, когда Игнат Савельевич заявил, что хлеб весь вышел и теперь они будут жить на отрубях и картошке.
И с этого дня в доме началась страшная жизнь. Все притихли, ходили сумрачные, не глядя друг на друга, подолгу сидели, тупо уставившись в одну точку. Ели одну зелень с огорода — варили из ботвы зеленую жижу, пахнувшую коровьим пойлом, и, преодолевая отвращение, хлебали деревянными ложками. Перестал звенеть голос и смех Аниски.
Лишь один Игнат Савельевич по-прежнему держался бодро, покрикивал на сыновей, невесток. Он похудел, лицо его осунулось, резче проступил под сивой бородой кадык. С утра ставили на стол полутораведерный самовар, отчим усаживался под божницей и, глядя на тускло блестевшую жесть, украшавшую иконы, цедил из крана чашку за чашкой и, отдуваясь, пил крутой, чуть посоленный кипяток. Соли в доме был большой запас.
Костя, ослабев от недоедания, целые дни лежал на полатях. Он со страхом смотрел оттуда, как Игнат Савельевич, примостя на растопыренных пальцах правой руки глубокое блюдце, сосал, причмокивая, воду.
Лицо отчима наливалось кровью, мутные капли пота катились со лба и щек, пятнали рубаху. Косте казалось, что из глаз отчима, из его бугристых, усеянных точками угрей щек скоро брызнет вода. Он опрокидывал чашку вверх дном на блюдце, вылезал из-за стола, крестился и, вытерев рушником бурачно-красное лицо, говорил:
— Вода — она пользительна для человека. Покуда из тебя не выйдет, ты вроде сыт... Согреет изнутри и кости размягчит...
Властно кивнув сыновьям, уводил их за собой по хозяйству.
Ночью, когда все в доме спали, Костя слышал подозрительные шорохи, скрип половиц в сенях, сдавленные голоса. Несколько раз делала налет «легкая кавалерия» — десятка два комсомольцев обшаривали все закутки усадьбы, но уходили ни с чем. Во время налета Игнат Савельевич выходил во двор, садился на ступеньку у предамбарья и держал за ошейник тихо рычавшего пса. Не успевала за «кавалерией» захлопнуться калитка, как он спускал собаку. Взвизгивала железная проволока, гремела цепь — перемахнув несколькими рывками двор, пес захлебывался злобным лаем. Сквозь лай до Кости доносился густой, утробный хохот отчима. Возвратись в избу, он довольно ухмылялся и, велев поставить самовар, снова садился пить голью — посоленный кипяток.
Хуже всех в семье переносила голод Аниска. И до этого тоненькая, костлявая, с уродливым горбом, она выглядела совсем больной и хилой. Теперь птичье лицо ее было таким обнаженно-худым и острым, словно было обтянуто тонкой папиросной бумагой; голубые глаза ввалились и, казалось, выцвели. Она уже почти не двигалась, целыми днями сидела на широкой лавке или на кровати, окружив себя тряпичными куклами. На чуть сплюснутой с боков, скошенной к правому плечу голове торчали жидкие косички. Вплетая в них длинными костлявыми пальцами блеклые ленточки, она говорила сама с собой или рассказывала что-то куклам. Однажды Костя, лежа на полатях, слышал, как Аниска, играя, угощала пришедших к ее куклам гостей:
— Ешьте, сватушка, ешьте... Вот булки сладкие... Блины... Макайте в масло!
...С каждым днем жить становилось тяжелее. На Игната Савельевича уже смотрели в семье с ненавистью, но боялись сказать ему слово. До нового хлеба было еще далеко, да и урожая настоящего ждать не приходилось: лето стояло сухое, пыльное, скотина приходила с пастбища с окровавленными губами, коровы поедали жесткую выгоревшую траву и давали молока только на забелку.
Мутное, полное испепеляющего зноя, висело над селом небо, горели огневые закаты по вечерам, и словно от них валился на притихшие избы душный жар. По ночам ломал тишину набатный звон колокола, полдеревни сбегалось к подожженной избе, она сгорала дотла, как спичка. Иногда через село скакали верховые, слышались одиночные выстрелы, и все село замирало. Старухи пророчили конец света, погибель всему живому, кое-где позакрывали церкви. Село жило в тревожном ожидании чего-то необычного.
Но как ни боялись сыновья и невестки Игната Савельевича, дольше терпеть было невозможно, и однажды власти его пришел конец. Как-то в полдень, когда семья сидела за столом и хлебала зеленую, пахнущую тиной жижу, старший сын вдруг бросил ложку на стол и сказал:
— С души воротит — не могу,—и, исподлобья взглянув на отца, спросил с тихой дрожью в голосе: — Ты что, тятя, долго еще нас морить думаешь?..
Костя видел с полатей, как метнулись навстречу друг другу брови отчима, и только страшным усилием он заставил их лечь на свое место.
— А тебе что, Тимофей, решетку захотелось?
— По мне, так за какой угодно решеткой легче, чем у нас дома! Там, по крайней мере, кормить будут.
— Ну, если по нраву, иди садись по доброй воле, я никого не держу...
Сын поднялся из-за стола.
— Я ведь с пустыми руками не пойду, тятя... Что мне положено — отдай!
Игнат Савельевич грохнул кулаком по столу так, что все отшатнулись к стене.
— Цыц, сучий сын!.. Ты с кем говоришь, подлюга?.. Кто тебя вспоил-вскормил, кто?
Он выскочил на середину избы, замахнулся на сына кулаком, но тот ловко отстранился и, схватив отца за ворот рубахи, оттолкнул от себя.
— Рукам воли не давай — я не маленький... Мы с Настей сколь лет работаем, так что наше отдели, и мы уйдем...
— Себя по миру пущу, а не отдам! — кричал Игнат Савельевич, чувствуя свое бессилие перед неповиновав-шимся сыном.— Чтоб духу вашего тут не было!.. Во-о-он!
К отцу подбежала Аниска, схватила его трясущиеся руки, а он их все вырывал, кричал злобно и хрипло, брызгал слюной, пока не разобрал, о чем с плачем просила дочь.
— Тятя, не гони их! Не гони!.. У нас же всего много — пожалей, ради Христа!.. Мы крадучись будем есть хлеб— никто не узнает, никто! Когда все будут спать, мы будем есть...
- О чем ты мелешь? Откуда у нас хлеб? Разорили нас дочиста!..
— А на чердаке? — спросила Аниска.— Я вчера кукле могилку на чердаке рыла — и под землей там...
Она не договорила — страшный удар отбросил ее к стене, она упала горбом на лавку, слабо вскрикнула, ноги ее подогнулись, словно хрустнули, и она беспамятно свалилась на пол. Изо рта ее, окрашивая худенькую шею и цветной ситец сарафана, потекла алая струйка крови.
Игнат Савельевич попятился, будто не веря тому, что сделал, потом бросился к дочери, но сын грубо оттолкнул его и поднял сестру на руки.
— До чего дошел,— гневно глядя на отца, сказал он.— Зверь, а не человек!
Аниску побрызгали водой, привели в чувство. Когда она открыла глаза, отец, целуя ее худые, беспомощно опущеные вдоль тела руки, моляще запросил:
— Прости меня, доченька... Сам не помню, как оно вышло... Дитятко мое кровное...
Аниска смотрела на отца долгим немигающим взглядом, будто силилась понять его и не могла. Потом опять впала в беспамятство. К утру она умерла. Соседям сказали, что она разбилась, упав с полатей.
В гробу Аниска будто выпрямилась, восковое лицо ее тонуло в цветах, лоб пересекала узенькая бумажная подоска венца.
Костя смотрел на нее с полатей, ему хотелось плакать, но слез не было.
Аниску унесли, и в избе еще долго пахло ладаном.
После смерти дочери Игната Савельевича будто подменили. Он помирился с сыном, невестки стали печь хлеб — и все повеселели, ожили.
Но мир этот однажды рухнул, когда их снова навестил Иван Пробатов. Он застал семью за обедом. На столе вместо поспешно убранного хлеба валялись заплесневелые сухари.
— Ну, как живешь, хозяин?
— Терпим,— ответил Игнат Савельевич.
— Терпим, говоришь?.. Так. Нужду, что ли, терпишь?
— И нужду, и тебя в избе,— со спокойной дерзостью отвечал Игнат Савельевич. Только блюдечко с чаем мелко дрожало на растопыренных пальцах.
— Значит, плохо Советскую власть переносишь? Не по нутру она тебе?.. Я ведь твой хлеб не для себя ищу, а для народа, от которого ты его запрятал... Неужто на плесневелые сухари перешел?
— И сухарям и отрубям будешь рад, коли довели до такой жизни...
— Теперь вижу — и в самом деле довели тебя! — Пробатов усмехнулся, покачал головой.— Я уж на что беднее тебя живу, а мне б такая пища в горло не полезла.
Он подошел к обитому цветной жестью сундуку, тронул его носком сапога.
— А здесь у тебя что?
— Погляди, коли не совестно,—сказал Игнат Савельевич и поставил блюдечко на стол,—Соль у меня там.
— Куда ж ты ее столько иодзанас?
— Лишнее но помешает. Самим много будет — скотине пойдет...
Пробатов взялся за железную дужку, приделанную сбоку сундука, и попытался оторвать его от пола.
— Что-то больно тяжела соль у тебя,— хмурясь, сказал он.— Воды ты туда подлил, что ли? Может, откроешь?
Игнат Савельевич поднялся, лицо его стало серым.
— Кто тебе дал право по чужим сундукам шарить? — ошалело закричал он.— Господи, что же это делается — среди бела дня лезут к тебе в карман, и ты терпи! Да доколе же будет такое самоуправство?..
— О правах не кричи,— сказал Пробатов.— Выше моих прав вообще нету... Так что давай ключи!
— Да нету там ничего, окромя соли,— заторопился Иг-цат Савельевич.— Дайте ему, пусть подавится!
— А ты без выражений. Я ведь с тобой миловаться не стану — не девка красная!
Он щелкнул ключом, от поворота которого словно заныло что-то в сундуке, открыл крышку. Сундук был полон соли. Пробатов взял со стола нож, ткнул его в соль.
— Поглубже-то у тебя что?
— Барахло там всякое...
— Поглядим...— протянул Пробатов.
Он быстро стал отгребать соль в одну сторону и обнаружил доски. Под ними белела вата. Пробатов вывернул одну доску, рассыпая соль по полу, разбросал клочья ваты, и Костя увидел с полатей тускло блеснувшие, смазанные жиром винтовки.
— А это ты для какого случая припас? — задыхаясь, крикнул Пробатов.— Или на облаву готовишься, вражина?
Пальцы его нырнули в карман штанов, и в руках его Костя увидел наган с вороненым сизоватым дулом.
— Собирайся,— тихо приказал он.— Пойдешь со мной! И тут Костя решил прийти на помощь Пробатову.
— Дяденька! Он тебя обманул! — крикнул он, свисая с полатей.—Он всех обманул!.. Голодом нас морил, а у самого полный чердак хлеба!
Охнув, села на лавку мать с вытаращенными от страха глазами, закричали невестки. Пробатов вскинул голову, и глаза его с этого момента уже не отпускали Костю.
— Вот и нашлась пропажа! — весело сказал он и ободряюще кивнул Косте.— Правильный парень растет!
— Не слушайте вы его! Не слушайте! — закричала жена старшего сына.— Он у нас умом тронутый!
Она рванулась к полатям, вся дрожа от злобы, голос ее перешел в сверлящий уши визг:
— Выродок несчастный!.. Зараза красная!.. Не жить тебе на свете! Не жить!
Пробатов грубовато оттолкнул ее в сторону, прикрикнул:
— А ну заткнись, кулацкая подворотня! Не вздумай парнишку тронуть — я с тобой шуток шутить не стану!.. У вас тут и вправду здоровому человеку свихнуться недолго.
Он вынул из сундука винтовки, пересчитал, сложил их на столе и велел сыновьям Игната Савельевича нести их в сельский Совет. Невесткам сказал:
— А вы заготовьте им харчей. Да и сами понемногу собирайтесь. Теперь вам предстоит долгая путь-дорога... Поедете, кроме мальчишки,— его я заберу от вас. В детдом определю.
Заплакала мать. Пробатов увел Игната Савельевича и сыновей. В избе стало тихо. Заунывно и тоскливо заныл оставленный на столе кипящий самовар.
Костя слез с полатей, кое-как добрался до лавки, ткнулся в колени матери.
— Ма-м!.. Уйдем отсюда!.. Уйдем!..
По лицу его катились слезы; мать смотрела на него как на чужого и молчала. Потом вытерла шершавой ладонью мокрые его щеки, прижала к себе.
— Завязла я тут, Коська, завязла так... Не отдерешь... Заберут тебя в детский дом — не пропадешь, бог даст!
— Не хочу я никуда, не хочу!.. Как же я без тебя буду, ма-а-ма!
— С нами тебе не жить— мытариться!.. Иди лучше туда, куда люди зовут...
Все было непонятно и запутанно в этой большой и страшной жизни, окружавшей Костю. Отец убивал любимую дочь, и вся семья молча скрывала это, родная мать бросала его ради этого подлого озверевшего человека и
уходила неизвестно куда, а совсем незнакомый суровый человек в серой шинели, чем-то напоминавший отца, властно брал Костю за руку, распахивал перед ним двери и выводил в новый, может быть, еще более трудный
мир...
Когда мать, оставив его на произвол судьбы, уехала с отчимом и далекие северные края, не проходило дня, а может, и часа, чтобы он не думал о ней, не ждал ее, словно она жили где-то поблизости и, соскучившись, обязательно вернется к ному. Потревоженным ульем гудел детдом, звонкими обручами, за которыми Костя бегал, катились дни. Костя сытно ел, хорошо спал, был окружен товарищами, и все же ему на первых порах чего-то недоставало. Иет-нет да и скомкает сердце непрошеная обида, просто так, без всякой причины, и тогда Костя убегал куда-нибудь подальше, чтобы тихонько поплакать. С годами, взрослея, он стал думать о матери с неприязнью и злой отрешенностью — она предала не только дело, которым жил отец, и память о нем, нет, она променяла родного сына на ненавистного всем человека, чуть не погубившего и ее, и Костю, и всю свою семью. Скоро детдом стал для Кости родным, а самым близким и дорогим человеком — Алексей Макарович Бахолдин, которого он, как и многие детдомовцы, через год-другой не столько по обязанности, сколько по душевной потребности звал «батей».
Вступая в комсомол, Константин с печальной гордостью поведал всем о погибшем отце и мстительно, слепо, как только может это делать ничего не прощающая юность, отказался от той, которой был обязан своим появлением на свет. В те годы такое отречение не считалось зазорным, скорее наоборот, оно было выражением высокой идейной закалки и принципиальности. Отрекшиеся от своих виноватых отцов и матерей получали неписаное право жить и работать наравне со всеми, после этого уже никто не колол им глаза чуждым социальным происхождением. Но они не знали, что, однажды безжалостно смыв это позорящее их пятно, позже обнаружат в себе другое, уже несмываемое, которое будет жечь и тревожить их со-впсть до конца дней...
Время не сделало Константина Мажарова всеядным и всепрощающим, но оно иначе окрасило воспоминания о матери, со всеми ее заблуждениями и дикой темнотой, позволило по-иному взглянуть и на идейную категоричность молодости, которая во имя классовой непримиримости наотмашь рубила по чувствам кровного родства...
Он давно раскаивался в том, что не отыскал затерявшийся материнский след, не повернул ее к своему свету — ведь еще отец об этом мечтал! И теперь он знал, что вряд ли когда-нибудь простит себе отступничество от родной матери...
Сибирская земля встретила Мажарова неласково — слепой метелью. Едва сошел он с московского экспресса на перрон в областном городе, ему показалось, что он очутился в открытом поле — запорошило снегом глаза, качнуло с чемоданами в сторону, пронизало насквозь демисезонное пальто.
До отхода местного поезда, которым Константин собирался добраться в Приреченский район, он побывал в обкоме, купил на рынке новые, пахнувшие паленой шерстью валенки, мягкие вязаные носки, рукавицы на собачьем меху, в магазине приобрел добротную стеганку, брюки и тут же надел их под демисезонное пальто, сразу став солиднее и медлительнее в движениях.
На вокзале Константин стал в очередь к кассе за девушкой в черной шубке, повязанной белым пуховым платком. За спиной ее висел туго набитый рюкзак защитного цвета, у ног стоял квадратный ящик, похожий на футляр из-под баяна. Когда очередь подвигалась вперед, девушка бралась за лямку ящика и по полу тянула его за собой.
На ее покатый лоб выбивались из-под платка пушистые пшеничные кудерки, она то и дело прятала их обратно и с детским любопытством наблюдала за всем, что происходило вокруг. В выражении ее миловидного лица было что-то доверчиво-открытое и вместе с тем застенчивое. Не защищенное обычным для взрослых выражением сдержанности, оно, как у ребенка, мгновенно отражало то, чем она сию минуту интересовалась. Когда парень в очереди начал рассказывать что-то забавное, девушка вся просияла, заулыбалась; стоило кому-то грубо выругаться, как лицо ее словно померкло. Бесцеремонно расталкивая всех, к кассе полез высокий краснолицый мужчина в шапке из серого каракуля с кожаным верхом, и девушка беспокойно оглянулась на тех, кто стоял поблизости, словно спрашивала: ну что же вы смотрите?
В вагоне, куда вошел Мажаров, стоял невообразимый гвалт. Вагон был уже до отказа полон, а люди все входили
и входили, и было непонятно, где они разместят свои вещи и где присядут сами. Чтобы никому не мешать, Константин занял свое плацкартное место — среднюю полку, помог сделать то над самое девушке, оказавшейся его соседкой по куне. Но вот в проходе застряла женщина с ребенком и большим узлом, и Константин соскочил вниз.
— Давайте сюда вашего малыша, я пока подержу ого! крикнула девушка, и Мажаров, приняв из рук женщины закутанного и одеяло ребенка, передал его ей.
К отходу Поезда каждый обрел свое место, никто уже по стоил, нощи, рассованные под лавки и на верхние полки, тоже уже никому не мешали, и вагон показался Константину по-своему уютным и обжитым, точно люди в нем охали по меньшей мере два-три дня. Державшиеся стайкой ремесленники поставили к себе на колени фибровый черный чемодан и начали отчаянно стучать костями домино; любители чтения пристроились поближе к свету; кое-кто распаковал корзины с провизией, и в вагоне запахло всякой снедью. На весь вагон, почти заглушая голоса и смех, гремело радио.
— Не оттянул он вам рученьки-то? — спросила молодая женщина у девушки, нянчившей ее малыша.— Ишь глаза таращит, ровно понимает, что о нем говорят! Ну иди сюда, гулена мой, иди, ненаглядыш!
Мажаров зачарованно слушал молодую мать — казалось, она не выговаривала, а выпевала каждое слово, голос ее был полон волнующей дрожи. Да и сама она была как красная девица из песни — рослая, белолицая, налитая, с венком черных кос. Полыхала перед глазами ее ярко-оранжевая кофта с пышными, вздувшимися у плеч рукавами, плескалась на груди голубая косынка.
— Чуда ты мо-я-а! — улыбчиво, ласково выпевала она, раскутывая ребенка ловкими, сильными руками.— Батька, поди, смерть как соскучился по нас! Прибежит как есть чумазый от трактора и первым делом к сыну — ну, где тут орелик мой? «Да отмой хоть черноту-то самую, батя,— говорим мы ему,— а потом уж бери нас, подбрасывай к потолку — нам это очень даже нравится!»
Малыш упруго дрыгал ножками на ее коленях, одетый и голубые ползунки и пушистую, как отцветший одуванчик, шапочку, из которой, как два румяных яблока, вышарили его тугие щечки.
Женщина стала расстегивать кофту, чтобы кормить ре-бенка, и Мажаров с девушкой, как по команде, отвернулись.
— А ты-то что ж, милая, застыдилась? — обращаясь к девушке, спросила женщина и счастливо рассмеялась.— Гляди, ведь скоро свой такой будет. Как же можно жить без такого ненагляды?
— Ой, что вы! — Девушка вся вспыхнула.— Да я же...
— Недавно, видать, поженились, да? — сочувственно спросила женщина у Мажарова.— Я вот тоже в первые дни такая же была — что ни скажи, огнем вся займусь...
— Да мы сроду и знакомы не были! — с каким-то отчаянием воскликнула девушка.
Константин смеялся до слез, но стоило ему передохнуть, как кто-нибудь в купе прыскал в кулак, и он снова закатывался от смеха. Не смеялась одна только девушка, вся пунцовая от смущения. Однако потом она тоже не вытерпела и рассмеялась, но не открыто, как все, а затаенно, тихо, словно сдерживая себя.
Она сбросила шубку, платок и, застеснявшись, стояла на виду у всех — тоненькая, большеглазая, поправляя рассыпавшиеся по плечам светлые вьющиеся волосы. На ней было недлинное темно-коричневое платье с белоснежным кружевным воротничком — этот воротничок делал ее похожей на школьницу, а чуть полуоткрытый, влажно алевший рот, по-детски худенькая шея и широко распахнутые серые глаза придавали ее лицу выражение наивного удивления и чистоты.
«Какая славная!»—подумал Константин и, чтобы совсем освободить девушку от сковавшей ее застенчивости, предложил:
— Ну, раз уж нас поженили другие, то давайте хоть сами-то познакомимся.— Он, улыбаясь, протянул ей руку.— Мажаров Константин...
— Ася,— чуть слышно выдохнула девушка, и рука ее почти не отозвалась на крепкое мажаровское пожатие.
— Теперь вам ничего не остается, как сыграть в вагоне свадьбу и ехать дальше с полным веселием! — проговорила женщина и, приподняв краешек косынки, которой была прикрыта ее грудь и лицо малыша, задержала на нем восхищенный взгляд.— Умаялся мой богатырь, так и пышет весь жаром. Батьку, наверно, во сне видит, не оторвешь их прямо друг от дружки...
Она уложила сына, кинув на абажур настольной лампы свою косынку, чтобы свет не падал мальчику в лицо, и весело оглядела всех.
— А теперь не грех бы и душу чайком отогреть. Константин принес от проводника четыре стакана горячего янтарно-густого чая в металлических подстаканниках, горсть квадратных пакетиков с кусочками сахара, и столик быстро завалили разными яствами.
— Вот попробуйте мои пирожки с капустой,— сказала Ася и несмело добавила: — У нас мама их очень вкусно готовит.
— И малосольные огурчики ешьте! — угощала женщина.— По всем правилам солила — и с укропчиком, и с чесночком, и со смородиновым листом — в общем, со всякой всячиной. Мой Алеша страсть как их обожает, а если другого посолу, так он и есть не станет — куражливый. И далеко вы едете, милая?
— В Приреченский район. Может, слышали?
— Так мы же сами оттуда! — обрадовалась женщина.— Вы что же, живете там или так, погостить?
— К сестре пока, а там буду на работу устраиваться.— Ася уже поборола свое смущение, отвечала с радостной доверчивостью.— Мы всей семьей в деревню переезжаем, о нас еще в газете писали. Может, случайно читали про
Яранцевых?
Мажаров чуть отстранился от столика, зажал в ладонях стакан, чувствуя, как сосущий холодок подбирается к его сердцу. И как это он сразу не узнал эти серые, с пытливой незащищенностью глаза? Ведь это она босоногой девчонкой принесла ему однажды записку от сестры. Да, теперь он вспомнил и ее имя — по-настоящему ее звали Василисой, ласкательно Васеной или Васеней, но ей, наверное, чем-то пришлось не по душе это имя, и она решила называться Асей. Но имя Васена и сейчас ему нравилось
больше.
— Мой Алеша тоже на весь наш район гремит! Самую большую выработку дает на тракторе,— поделилась своим молодая женщина.— Как весна, так председатели завсегда переманивают его бригаду к себе — уважь, дескать, Алексей Иванович, кормить будем трактористов до отвала, только согласись! Но он за деньгами и жратвой не гонится, у него одних премиев да грамот всяких — всю избу можно обклеить. А уж работает — ничего не скажешь: где его бригада вспашет — пух, а не земля!
Константин допил двумя глотками чай, нашарил в кармане портсигар и поднялся.
— Пойду покурить...
Да тут дымите! — разрешила женщина.—Дым не стыд, глава не выест. Я вон своему Алеше говорю...
Но Мажаров уже не слушал ее, торопливо шел по узкому проходу, натыкался на кого-то, безотчетно стремясь поскорее покинуть купе и остаться наедине с самим собой. В полутемном тамбуре он вдохнул холодного воздуха, закурил и, прислонясь к дрожащей стенке вагона, закрыл глаза...
«Почему я считал, что не встречу здесь Ксению? — думал он.— Или я надеялся на то, что она уехала учиться и не вернулась обратно? Святая наивность!»
В те дни, когда Константин после ранения поселился во флигеле детского дома, он всем существом отдался миру и тишине. Набираясь сил, он целыми днями бродил по знакомым перелескам, уходил в горы, слушал неугомонный клекот реки, сумасшедше гнавшей с круч вешние воды, приносил домой лиловые цветы кандыка — раннего вестника близкой весны. Она хлынула с гор теплом и светом, мутной снеговой водой, густым ароматом нагретой хвои и прели лесных чащоб.
На поляне перед самым флигелем покачивались желтые одуванчики, бились о стекла пестрые бабочки, на подоконники открытых окон сыпался яблоневый цвет. По утрам его будил птичий гомон и пересвист.
Константин жил беззаботно, как должное принимая все, что щедро дарила в те дни жизнь,— и отеческую ласку Алексея Макаровича, и сердечную привязанность людей, и даже любовь девушки, безоглядной и доверчизой в своем чистом первом порыве. Ему было хорошо с ней, он ни разу не думал о том, любит ли ее сам, может быть, потому, что не знал, что ждет его завтра, или просто не давал себе отчета в том, что делает.
Все, что случилось месяц спустя, Мажаров не мог потом вспомнить без жгучего стыда и раскаяния. Однажды, вернувшись с позднего свидания, он нашел у себя на столе повестку из военкомата — его вызывали в областной город на медицинскую комиссию. Он не слышал, как вошел во флигель Алексей Макарович, и, только почувствовав за спиной его тяжелое дыхание, обернулся.
— Гуляешь, вояка?
— Да, батя... Хожу и не могу надышаться — хорошо у нас.— Константину стало вдруг щемягце-тоскливо при мысли, что он снова должен прощаться с учителем и, как знать, может быть, больше никогда и не увидит его.— Спасибо вам, батя, что пригрели меня... Я этого никогда не забуду...
— Оставь, Костя! Нашел о чем... Разве ты для меня чужой? — Алексей Макарович присел рядом с Макаровым
на койку, взял его руки в свои.— Тяжело каждый раз отпускать вас на войну...
- Ты должен радоваться и гордиться, батя! Чем черт не шутит, может, я до Берлина дойду!..
Старик потер кулаком глаз, вздохнул и, помолчав немного, неожиданно поинтересовался:
— А как ты с девушкой, Костя?
— Какой девушкой? — деланно удивился Мажаров, понимая, что Алексей Макарович задает этот вопрос неспроста, и начиная почему-то тревожиться.
— Ты же знаешь, о ком я,— словно укоряя, проговорил старик.— Ксюша из хорошей семьи... Дочка Корней Яранцева из Черемшанки.
— А почему это вас беспокоит, батя?.. Завтра меня, наверное, отправят на фронт, и я не хочу об этом думать сейчас!..
— Видишь ли, Костя.— Алексей Макарович поднялся и медленно, в раздумье заходил по комнате.— Я не знаю, насколько у вас все серьезно, но мне кажется, что настоящее чувство не подлежит каким-то измерениям.
— Верю... Но дело даже не в этом, батя.—Константин начал в смущении растирать ладонями щеки.— Ксюша славная и хорошая девушка, но тот ли она человек, который мне нужен? Поймет ли она меня во всем? Не знаю...
— А ты-то сам на что? Почему ты не берешь в расчет свои силы — ты что, не способен повлиять на нее? И наконец, если это настоящее чувство, то оно перешагнет через все преграды и даже окрылит тебя!
— Мало ли еще у нее и у меня будет таких встреч и расставаний в жизни!..
— Ну смотри.— Старик покачал головой.— Не мне жить — тебе...
Что-то осталось в тот вечер недоговоренным, и, хотя наутро Константин душевно простился с Алексеем Макаровичем, он уехал из детского дома с тягостным, смутным чувством какой-то вины перед батей.
Медицинская комиссия неожиданно для Мажарова сняли ого с воинского учета. Три дня он проболтался в городе, овивая пороги военкомата, упрашивая послать его на фронт добровольцем, но ничего не добился. Потом он решил, им заезжая в детдом, повидать Ксюшу, объясниться О пню и тогда уже со спокойной совестью — на все четыре стороны,
Он побежал па вокзал, но опоздал на очередной поезд. Следующий отправлялся только ночью, и до темноты Константин как неприкаянный слонялся в сутолоке вокзала, не находя себе места. Он обрадовался случаю и купил у проезжего солдата подарок для Ксюши — крошечные заграничные женские часики, похожие на медальон, с бисер-но-тонкой золотой цепочкой. Вытянув в нитку цепочку, Константин, любуясь, укладывал ее звенышко за звеныш-ком на ладонь, и она становилась едва заметной кучечкой золотого песка. На внутренней крышке часиков, словно хранившей отблеск жаркого солнца, был витиевато выгравирован вензель, а чуть пониже, если смотреть сбоку, светясь гранями, шла короткая надпись на чужом языке.
«Интересно, что означают эти слова?» — подумал Константин, и оттого, что он не мог прочитать их, хотя в школе, а затем в педтехникуме его начинали учить двум языкам, он почувствовал легкую досаду, а потом и злость на себя. Острый приступ тоски, раздражения, недовольства собой охватил его, и он вдруг с присущей ему в ту пору непоследовательностью сказал себе: «Не поеду к Ксюше!» Начнутся взаимные упреки, слезы, и неизвестно, хватит ли тогда решимости оторвать ее от себя и исчезнуть. Нет, уж лучше так — не видя друг друга, не прощаясь, с глаз долой и из сердца вон! Да, нечестно! Да, малодушно! Но ведь он и на самом деле ничего не обещал Ксюше, ни в чем не клялся! А имеет ли он хотя бы даже моральное право заводить семью, когда в руках у него, но сути дела, нет настоящей профессии? Не вернется же он ради нее к работе, от которой мысленно отрекся. Нет, остаться здесь значило отказаться от чего-то настоящего и большого, что должно стать его истинным призванием!
Да и откуда он знает, что Ксюша любит его любовью, способной выдержать все испытания? Не было ли ее чувство выражением той же увлеченности, что и у него? Не явилась ли причиной всему весна, пьянящий настой воздуха по вечерам, хмельно закруживший их головы?
И в конце концов, зачем он всему этому придает такое значение и казнит себя ненужным раскаянием? На войне у него тоже завязывались случайные отношения с женщинами без клятв и взаимных уверений — казалось нелепым загадывать далеко вперед, когда каждого могли убить на другой же день. Война все спишет, да и Ксюша доверилась ему лишь потому, что он был ее первым наивным увлечением, и кто знает, скольких мужчин она еще встретит, прежде чем найдет того, с кем захочет прожить всю жизнь.
Константин всему находил оправдание, тем более что оправдать самого себя при желании всегда легко.
Он ходил по перрону, смотрел на освещенные окна поезда, отправлявшегося на Москву, и, когда судорожно дернулись вагоны, быстро зашагал рядом с высокой подножкой, потом в каком-то отчаянии схватился и повис на поручнях. Поезд все убыстрял бег, тогда он подтянулся, перемогая боль в раненой руке, и, войдя в тамбур, в изнеможении прислонился к стене.
«Что я наделал! —думал он.— Что я наделал! Не бегу ли я от самого себя?»
Он долго стоял тогда в тамбуре, с тоской и болью смотрел на кружившие за окном поля, словно прощался и с ними насовсем. Голубая от озими степь шелковисто лоснилась под весенним ветром, скользили по ней разорванные тени облаков, и, как будто живая, она двигалась, плыла вместе с ними вдаль...
В поезде Константин несколько раз принимался писать письмо Ксюше, но, перечитав написанное, с ожесточением рвал на мелкие куски.
Уже из Москвы он написал покаянное письмо Бахолди-ну, прося у него прощения за все. Константин умолял, чтобы батя поговорил с Ксюшей, объяснил ей, что он поступил так не потому, что хотел оскорбить ее, а потому, что твердо решил сохранить свою свободу для большого дела. Батя ответил ему в непримиримом тоне: каждый, мол, человек должен отвечать за свои поступки сам, ну, а если у него не хватает мужества, пусть не перекладывает свою ответственность на другие плечи. Из следующих, непривычно холодных писем Бахолдина Константин понял, что Ксюша оказалась настолько самостоятельной и серьезной, что сра-зу после окончания сельскохозяйственного техникума стала работать в колхозе. И он успокоился.
Несмотря на сдержанную строгость своего учителя, Константин продолжал писать ему все время, рассказывал, как сдал очередную экзаменационную сессию в Тимиря-зевке, сообщал о новостях своей студенческой жизни. Постепенно весна в родных краях началя забываться, блекнуть и памяти, и новая жизнь заслонила ее...
... И вот теперь он возвращался в родные места, так и не сделан ничего настоящего в жизни, и сейчас его тревожило не чувство вины перед Ксенией — все, наверное, давно забылось и быльем поросло, и она живет в тысячу раз лучше, чем он, обретя свое место в жизни, в то время как он по-прежнему мотается как неприкаянный! И Констан-
типом овладела та же растерянность, которая тогда заставила его малодушно бежать отсюда. Кому и что он доказал?
Поезд мчался уже через пустынную степь, полосато-бурую, всю затканную снежной кисеей. Зычно орал паровоз, бросая под откосы белые лохмотья дыма, ветер подхватывал и нес их дальше, на припорошенные первым снегом поля, в таинственную мглу надвигающихся сумерек.
«Кажется, я попадаю в довольно неприятную историю,— с горечью размышлял Мажаров.— Хорошо, если Ксюша уже вышла замуж, обзавелась детьми. В таком случае все опасения отпадают сами собой. А если она по-прежнему одна?»
Взволнованный этой мыслью, Константин сделал несколько шагов по тамбуру, затем снова прилип к окну, глядя, как гуляет над серой равниной метель.
«Интересно, какая она теперь стала?»—подумал Мажаров и вздрогнул: рядом с ним стояла Васена.
— Я соскучилась по хорошему снегу,— тихо проговорила она.— В городе ведь такого не бывает. Боюсь только, как бы сестра не застряла с машиной...
Константин с трудом переборол вдруг возникшее в нем любопытство узнать все сразу о Ксении — чем она теперь занимается, есть ли у нее семья, дети, счастливо ли живет. Но удержался от соблазна и не открыл себя девушке, а, помолчав, без всякой связи с предыдущим сказал:
— Я тоже ведь еду в ваш район!
— А я почему-то так и думала,— точно радуясь подтвердившейся догадке, порывисто выдохнула Васена и, как бы устыдившись своего душевного движения, опустила голову, чертя пальцем по тусклому, чуть запотевшему стеклу.— Я ужасно люблю приезжать, когда меня никто не ждет!.. Подкрадусь на цыпочках, открою дверь и говорю как ни в чем не бывало: «Здравствуйте, как поживаете?» Ну, тут такое начинается! Все ахают, укоряют и рады-радешеньки! Сестру-то, конечно, ничем не удивишь — она у нас такая серьезная, принципиальная, я все время удивляюсь ей и завидую... А вас на станции кто-нибудь встречает?
— Нет.— Константин немного поколебался, собираясь наконец объявить девушке, что он отлично знает ее.— Нет, никто меня не ждет.
— Тогда вы можете доехать с нами,— неизвестно чего смущаясь, но опять с каким-то тайным удовольствием предложила Васена.— Одно-то место у нас найдется.
— Ну что ж,— неопределенно протянул Мажаров.
Все сваливалось как снег на голову — прошлое неожиданно напоминало о себе, словно требовало от Константина какого-то ответа, и он мучительно искал выхода из положения, в котором очутился по воле случая,
Все было как перед другими станциями — на последнем перегоне пассажиры стали забивать узкий проход мешками, чемоданами, корзинами, узлами, так что проводница с трудом пробралась через этот завал к выходу. Брызнули из густой темноты огни железнодорожного поселка, выступила, как скала, серая стена элеватора, поезд начал замедлять бег, захлебываясь громкой скороговоркой на стрелках и стыках рельсов. К сердцу Константина вдруг словно подкатило что-то, и он заволновался до тошноты, до одури...
— Знаете что? — оборачиваясь к Васене, сказал он.— Я, пожалуй, не стану вам мешать... Доберусь как-нибудь сам... Честное слово!..
— Ой, зачем вы так? — озадаченно проговорила девушка.— Вы и мне поможете — один баян вон какой тяжелый!
Вздохнув, Мажаров молча продел руки в лямки от футляра, встряхнув плечами, уложил поудобнее ящик на спине, поднял два своих чемодана и грузно двинулся следом аа Васеной.
Волнение, замутившее его душу, не проходило, но теперь к нему еще примешивалось чувство растерянности и стеснения. Как ему вести себя, когда он сейчас, через какую-то минуту увидит Ксению?
Он обмер, услышав ее голос, отозвавшийся в толпе на радостный зов Васены, и, уже ничего не разбирая, неуклюжи сорвался с вещами с подножки вагона. Кое-как на лету удержав свалившиеся с носа очки, он выпрямился и уви-дол, что Васена уже тормошит стоящую чуть поодаль от него сестру.
«Как же мне назвать ее? — лихорадочно соображал он,— Ксюшей, как раньше, вроде ни к чему, по фамилии тоже мудобно».
Ои робко приблизился к ним, и тут Васена неожиданно выручила его.
- Здесь один товарищ...— сказала она, когда Константин поравнялся с ними.— Я думаю, в машине найдется место?
— Конечно! Пожалуйста! — ответила Ксения, даже не взглянув на Мажарова, и подхватила сестру под руку.— Ну, как там наши? Как мама?
«Она такая же, как прежде,— не сводя глаз с ее дышавшего свежестью лица, думал Мажаров.— Нет, нет, гораздо лучше!»
Он не мог даже сказать, что изменилось в Ксении, это было почти неуловимо, но в каждой черточке сквозило выражение зрелой и чуть вызывающей красоты.
— Тятя как будто немного стал потише,— громко говорила Васена, приноравливаясь своей плавной походкой к твердому, стремительному шагу сестры.— Первые три дня, как вернулся от тебя, он был не очень-то разговорчив...
Она рассказывала, смеялась по-детски заразительно, но Константин не слушал, весь поглощенный одной мыслью: «Как же дальше-то? Тащу на себе какой-то дурацкий баян и делаю вид, что я никого не узнаю и вроде не собираюсь признавать. Черт знает что! Что она может обо мне подумать, когда обнаружит это притворство?»
Тяжелые чемоданы оттягивали ему руки, одна лямка, подвернувшись, терла плечо, но он, не останавливаясь, шел по чавкающей под сапогами грязи, постепенно как бы втягиваясь в нудную, вступившую в тело боль.
Метель давно стихла, выпавший снег растаял, как это часто бывает перед тем, когда ложится настоящая зима, лишь кое-где известково белели в темноте отдельные уцелевшие островки. На привокзальной площади, освещенной одной качавшейся на столбе под жестяным абажуром лампочкой, сгрудились подводы, пахло навозом, конским потом, волглым сеном. Фонарь на столбе мотался из стороны в сторону, то накрывая площадь крылом гигантской тени, то вновь отбрасывая ее.
— Товарищ, где вы? — раздался вдруг впереди голос Васены, а через некоторое время она сама появилась рядом, задохнувшись от бега.— Извините, я совсем забыла про вас! Заговорилась с сестрой и... Вам, наверное, очень тяжело?
— Пустяки,— пробормотал Константин, почувствовав невольную признательность к случайной милой попутчице, и шутливо добавил: — Донесу сам, не беспокойтесь!
У светло-серой, густо забрызганной грязью «Победы» их поджидали Ксения и шофер в ватнике, протиравший руки клочком сена.
— Ты где сядешь, Ксюша? — спросила Васена, как будто это могло иметь какое-то значение, и, не дождавшись ответа сестры, сказала: — Мы с товарищем устроимся позади, а ты впереди, хорошо?
— Как хочешь!
Освободившись от тяжелой ноши и сев в машину, Константин не испытал ни малейшего облегчения.
«Я должен в конце концов решиться и сказать ей, кто я,— думал он.— Мое молчание она может неправильно истолковать, будто я чувствую себя в чем-то виноватым перед нею. Но ведь прошло почти десять лет, как мы расстались, оба изменились, стали другими, и я напрасно мучаю себя тем, от чего наверняка уже не осталось и следа».
Пробуксовывая и заносясь задними колесами к самой обочине, машина вырвалась наконец на дорогу и побежала, отпугивая жавшуюся к обочинам косматую темь, с треском отдирая липнувшие колеса от вязкой, жирной грязи.
Васена наклонилась вперед к сестре, обняв ее за шею, что-то вышептывала ей, а Ксения, полуоборотясь, слушала ее, кивала, улыбалась, чуть запрокинув по-цыгански смуглое лицо, освещенное снизу розоватыми бликами от щитка.
Пользуясь тем, что сестры забыли о нем, Мажаров не таясь, с беззастенчивой пристальностью разглядывал близкое и вместе с тем уже далекое лицо Ксении, с таким знакомым очертанием губ, с их волнующей теплой припухлостью, с темными, влажного, мятежного блеска глазами, с невыразимой прелестью кожи, согретой неровным румянцем, возле уха он был блеклым, но потом густел, наливался и уже алым цветом ложился на щеки.
Словно потревоженная его взглядом, Ксения резко повернулась и спросила:
— А вы из какой организации, товарищ? Константин не совсем вежливо пробурчал, что едет по
споим делам в райком. В лице Ксении что-то дрогнуло — то ли изогнулись черные брови, то ли губы, то ли прошла но нему смутная тень, и Константину показалось, что она узнала его, и душу его охватило смятение, почти испуг. Но это продолжалось какое-то мгновение, словно она сделала иид, что узнала его, или что-то помешало ей утвердиться и этом окончательно, и Ксения лишь встряхнула головой, как бы отгоняя неприятную мысль, и снова с улыбкой обратилась к сестре:
— Ну, а как дедушка?
— Он же у нас чуток глуховат,—смеясь, проговорила Васена, украдкой оглядываясь на Мажарова.— Но все же, как узнал, что вроде собираются в деревню переезжать, больше всех обрадовался. Как тятя приехал, он со всей душой прямо к нему — думал, что от него это идет, а не от Ромки. «Осчастливил ты меня, Корней, на старости лет!» —говорит, а у самого слезы на глазах. Тятя-то сначала не понял. «В чем, дескать, дело-то, чему, мол, ты радуешься?» — «А как же мне не радоваться, когда опять на свою землю вертаюсь! Разве для меня тут в городе жизнь? Коли теперь умру, так со старухой рядом похоронишь». Ну, тут тятя обозвал его дитем малым, дедушка тоже рассердился, начал укорять его. Ну и, как всегда, все сгладил Никодим...
— Н-да, обстановочка там у вас,— вздохнув, сказала Ксения.— Так на чем хоть порешили-то?
— Ромка с Никодимом, по-моему, уже взяли расчет
на заводе, но я их не стала дожидаться. Взяла свой культ-
просветовский диплом, баян в руки, и только меня и видели!
— А невестка наша молодая?
— Клавдия-то? — Васена пожала плечами.— Не понимаю я их — то вроде любят друг друга, водой не разольешь, а то по два дня не разговаривают. Но старшего нашего братца ты знаешь — уж если что он решил, от своего не отступит. Год молчать будет, а сделает все по-своему! Характер у Дыма тятин, капля в каплю.
— Да, характерами нас родители не обидели,— подтвердила Ксения.
Дорога выплывала из тяжелого мрака, остро поблескивая залитыми водой рытвинами, с густым шелестом расступались под колесами лужи, нудно взвывал на подъемах мотор, а шофер, то и дело смахивая пот со лба, отчаянно крутил баранку руля, чтобы машина не сползала с колеи. Но она уже с трудом слушалась его, еле преодолевая жидкое месиво из грязи и снега,
— И когда успело развезти? — недоумевал шофер. Впереди зачернел перелесок, и скоро машину с обеих сторон обступил густой частокол осинок, тополей, обнаяш-лись на свету босоногие березки, выбежавшие к самой обочине, и тут же стыдливо скрылись в темноте. Машина, дрожа от напряжения, сделала несколько рывков, пытаясь выскочить из глубокой выбоины, скребнула низом сухую землю и остановилась.
Водитель прибавил газу, стараясь раскачать машину и сорвать ее с места, потом, приглушив мотор, раскрыл дверцу.
— Сидим крепко, как дома! — сбивая на затылок плоскую, словно блин, кепку, проговорил он.— Дело траурное, но не будем морально переживать. Тащите побольше веток под колеса, а я поддомкрачу и буду откапывать дифер. Двинули!
Мажаров вылез из машины, перепрыгнул через бурья-нистую канаву и очутился в темном перелеске. И зачем он согласился ехать с ними! Уж лучше бы одному тащиться по этой слякоти пешком, нести свои чемоданы, чем испытывать эту несуразную горькую неприкаянность.
После надрывного стенания машины его мягко обняла тишина, какая -бывает только поздней осенью в лесу, полная неясных шорохов, близкого побулькивания ручья, треска сучьев, непонятного писка. Снег, недавно легший на ветки, таял, мокро блестели в темноте стволы деревьев, слышался вокруг сухой и дробный перестук крупных, срывавшихся вниз капель. Все словно сочилось, истекало и разбухало в этой тишине — и темнота, и звуки, и самый воздух, напоенный горьковатым запахом сопревших листьев, мха, отсыревшей коры, грибной гнили...
Константин удивился, что смог различить все хлынувшие на него звуки, запахи, стоял и, жадно, как воду, втягивая в себя чуть душноватый, парной воздух, слышал, как перекликались в темноте сестры, как шумели ветки, которые они волочили по земле.
Слушая в машине Васену, Константин радовался — в семье Яранцевых происходило что-то родственное тому, что переживал в последнее время он сам. И все-таки, несмотря на эту сближавшую их общность цели, его разделяло с Ксенией то мелкое и постыдное, что упрямо хранила его память, от чего он не мог просто отмахнуться и что мешало ему с легким сердцем назвать себя.
«Что же я торчу здесь, когда они работают? — неожиданно спохватился он.— Я должен сейчас же подойти к ней и открыться, иначе потом она будет считать меня трусом!»
Он набрал полную охапку веток и заторопился к дороге. Водитель, лежа на боку около машины, еще выбрасывал из-под колес землю. Слабый свет фар раздвигал лишь близкую тьму и освещал наваленную в беспорядке на дорого кучу хвороста.
— А вот и мы! — громко крикнул Мажаров и, кинув
свою ношу в общую кучу, поискал глазами ту, ради которой он и заговорил так громко.
— Давай! Давай! — скомандовал водитель, ловко орудуя лопатой.— Страна учтет своих героев!
Сестер у машины не оказалось, и Константину стало стыдно и за это фальшивое «вот и мы», и за деланное свое бодрячество.
«Все равно разыщу ее сейчас и скажу! — упрямо решил он.— Даже если она не подаст мне руки, я обязан это сделать».
Он снова перескочил через канаву и, как бы подталкиваемый вперед частыми ударами сердца, пошел в глубину перелеска, на заблудившийся во мраке веселый голос Ксении. Обуреваемый нетерпением, он лез напролом сквозь мокрую чащу; чуть не сбил шарахнувшейся веткой очки, один раз оступился в яму с водой и сразу почувствовал, как ледяная влага просочилась в сапог, кольнула пальцы.
Над голыми вершинками перелеска вдруг посветлело, облака, плотно кутавшие землю, поредели, за ними пряталась луна, и свет ее едва брезжил, растекаясь мутными пятнами в небе.
Константин задохнулся, увидев Ксению одну на небольшой полянке у высокой, по-монашески мрачной ели; он скорее угадал, чем узнал, что это Ксения, а не Васена.
— Разве с машиной уже все в порядке, Леша? — заслышав его шаги, спросила она и выпрямилась, держа в руках толстые ветки.— А я вот набрала покрепче...
— Вы только не бойтесь, Ксения,— еще не отдышавшись, прерывисто выговарил он.— Это не шофер, это я — Мажаров...
Она стояла перед ним, не выпуская из рук веток, и молча смотрела на него, пораженная странным, охватившим ее спокойствием и даже равнодушием.
«Удивительно! — подумала она.— Никогда не представляла, что это будет так буднично и просто! Я ведь сразу поняла, что это он, я не могла забыть этот голос, только не хотела поверить в это до конца! А он-то — каков нахал! Как будто между нами ничего не было! Нагло лезет в машину и молчит, кто он такой! Неужели время сделало его еще большим хамом и циником? Ну, не на ту напал, ему придется за все поплатиться!»
— Не знаю, как получилось, но вы как-то сразу не узнали меня, а я растерялся,— торопливо говорил Константин, словно боялся, что она прервет его и скажет что-то резкое, после чего он уже не сможет ей все объяснить,—
Может быть, всему виной моя борода? Но я так рад, что мы увиделись!.. У меня такое чувство, как будто мы расстались какую-то неделю назад!
Она глядела на его ставшее почти неузнаваемым лицо и изумлялась тому, что не испытывает ни обиды, ни гнева, ни презрения, а скорее легкую грусть и разочарование. Слишком всерьез думала она об этом человеке.
— Это замечательно, что мы, оказывается, будем работать вместе,— говорил он, совсем обескураженный ее упорным молчанием.— Да что вы держите эти ветки, дайте их мне, я понесу. Знаете, мне в обкоме предлагают тоже должность инструктора, так что нам с вами немало придется поездить!
— Я замужем! — с непонятной строгостью вдруг сказала Ксения.
— Поздравляю! — горячо проговорил Константин и тут же замолчал: «Я кажется, смолол чепуху! Ведь она, несомненно, не вчера вышла замуж?»
Ксения внезапно бросила на землю собранную охапку и стремительно пошла к дороге. Мажаров начал было подбирать брошенные ею ветки, потом оставил их и кинулся следом. Он догнал Ксению у самого выхода из перелеска, где свет. от машины как бы прореживал тонкоствольные деревца.
— Остановитесь, Ксения Корнеевна,— задыхаясь от бега, проговорил Константин и попытался взять ее за руку.— Я должен вам сказать... Я был тогда зелен и глуп, и я, конечно, виноват перед вами...
Она с силой выхватила у него руку, сверкнула гневными, полными слез глазами, голос ее зло срывался, дрожал, когда она, порывисто шагнув ему сама навстречу, спросила:
— Зачем вы сюда приехали? Зачем?
— То есть как зачем? — ошеломленно переспросил он.— Вы же знаете...
— Что я знаю? Ничего я не знаю и знать не хочу! — запальчиво, как в бреду, отрывистым шепотом выкрикивала ома.—Никто вас сюда не звал!.. Вы сами выискались, чтобы заработать здесь политический капиталец! Так пот,— она издала какой-то горловой звук и замотала голо-вой,— ничего у вас не выйдет! Понятно? Не выйдет! Я всем раскрою глаза на то, что вы за человек!..
- О чем вы говорите, Ксения Корнеевна! — изумленный до крайности, прервал ее Константин.— Скажите наконец, в чем дело?
— Не стройте из себя наивного человека! — все в той же горячке отвечала Ксения.— Рассчитываете, что всех покорите вашей выдающейся натурой, вашим умом и щедрой душой? Тогда вы глубоко заблуждаетесь!
Рассмеявшись ему прямо в лицо, она круто повернула и побежала к машине.
Потрясенный тем, что услышал, Мажаров некоторое время стоял в полной растерянности, потом медленно побрел к дороге.
«Что за нелепость! — подавленно думал он.— Неужели она на самом деле верит тому, о чем только что говорила? И главное, с каким презрением! С какой ненавистью!»
Нет, ничего не осталось от той удивительной, доверчивой девушки, которой он так увлекся когда-то и о которой еще недавно думал с таким душевным смятением. Как будто совсем другой человек!
Константин не знал, как ему поступить — подойти сейчас же к Ксении и заставить ее объяснить, что значат эти невероятные обвинения, или забрать свои чемоданы и отказаться ехать с ними дальше? С какой стати он должен терпеть подобные подозрения?
— Товарищ, толкнем разок! — увидев его, закричал водитель и, нырнув в машину, добавил: — Ну-ка, по команде давай! И все разом! На-ча-ли!
Не раздумывая, Константин налег с одного бока на машину, уперся ногами в землю, Ксения и Васена прижались с другого бока. Мажаров давил и давил плечом в крыло, не обращая внимания на то, что грязь из-под колес жидкими ошметьями летит ему в лицо. После нескольких попыток машина с дрожью и ревом стала выбираться из рытвины, загребая под колеса ветки и тут же выбрасывая их и обдавая Мажарова брызгами. И вот она стояла уже посреди дороги, пофыркивая, тараща свои светлые фары, а шофер ходил вокруг нее, обтирал тряпкой стекла, стучал капотом.
— Что ж вы там стоите, товарищ?.. Простите, я забыла, как вас зовут! — высовываясь из машины, спросила Васена.— Садитесь, а то вы совсем измучились. Возьмите вот мой платок и оботрите лицо, вы бог знает на кого похожи.
«Конечно, это будет глупо, если я сейчас уйду,— сказал себе Мажаров.—Обыкновенная трусость, и только. И что я докажу своим поступком? Шофер и Васена сочтут меня за ненормального, а Ксения будет думать, что я сделал так потому, что всерьез принял ее слова».
Машина скоро миновала перелесок, и здесь водитель вздохнул с облегчением — дорога шла теперь открытой степью и была несравнимо суше.
Долго кравшаяся за облаками луна глянула в темный, как полынья, развод, и на пепельно-серую ширь полей, словно раздвигая даль, заструился призрачный стылый свет. Видимо, утомленные тяжелой возней с машиной, все молчали, шофер с наслаждением посасывал цигарку, вызывая у Константина желание тоже затянуться горьким дымком. Ксения сидела, не оборачиваясь, сурово сжав губы. Мажаров видел лишь левую' часть ее лица и чуть притушенный густыми ресницами темный глаз.
— Граждане, а чем объяснить, что мы все будто в рот воды набрали? — только сейчас обратив внимание на то, что все молчат, весело удивилась Васена.— Ксюш, ты что такая смурая? А вы почему приуныли, Леша?
— Устал от физической зарядки.— Водитель вяло улыбнулся, и, ие снимая одной руки с баранки, другой быстро провел по лицу сверху вниз, и зевнул.— Две ночи подряд сплю, словно на войне, но два-три часа, не больше!.. Нынче дежурил до самого света у Бахолдина, кемарил на кухне — то доктора к нему возил, то сестру. Как бы не дал дуба наш редкостный старик!..
У Константина перехватило дыхание, он хотел что-то спросить, но лишь пошевелил губами, словно парализованный. Все, что еще минуту назад терзало и мучило его, отлетело как дым, показалось до обидного мелким и ничтожным рядом с тем, что могло обрушиться на него не сегодня завтра.
— Кто для других горит, тот всегда быстрее сгорает,— точно сам с собой, рассуждал водитель.— С ним, бывало, поедешь по колхозам, так он о тебе сроду не забудет — где сам сядет поесть, тут и тебя рядом сажает, не то что Коровин: уйдет иной раз и не вспомнит, что ты, может, давно с голоду околел. О своем аппетите небось не забывает!.. Л вы напрасно хмуритесь, Ксения Корнеевна. Что, аль я неправду говорю?
— Прошу вас! — наклоняясь вперед и беря водителя за плечи, с трудом выговорил Мажаров.— Прошу вас! Если можете, быстрее!
Водитель оглянулся на его испуганное, бледное лицо и, ни слова не говоря, прибавил газу.
Константин долго плутал по пустынным, залитым холодным сиянием луны улицам районного городка, прежде чем отыскал нужный ему тупичок.
Еще издали он увидел высокие темные ворота с пятном света, падавшим из-под железного козырька на черный выпуклый номер; за изгородью высилась старая раскидистая береза, среди оголенных ветвей ее торчал скворечник, как большой птенец с разинутым клювом. Опустив чемоданы, Мажаров потянулся было к массивному, вделанному в калитку кольцу, но неожиданно обнаружил, что она не заперта.
Распахнув ударом ноги калитку, он побежал по выложенной кирпичом и усыпанной сухими листьями дорожке в мрачном предчувствии беды. Сердце его билось тяжело и надсадно.
У крыльца Константин остановился, пораженный тем, что дверь в дом открыта настежь. В слепом отчаянии ему показалось, что он спешит уже напрасно и то, о чем страшно было подумать, свершилось.
Желтая полоса света падала из раскрытой двери на крашеный иол в сенях, тянулась через порожек к крыльцу и здесь обессилевала, мешаясь с бледным свечением луны.
— Кто это там дверь расхлябастал? — раздался из глубины дома сердитый хрипловатый голос детдомовской няни, и не успел Мажаров пройти в сени и приблизиться к порожку, как рядом с ним выросла сгорбленная ширококостная старуха в стеганом ватнике.— Да ты что, милый, оглох, что ли? Весь дом выстудишь!
Константин быстро прикрыл за собой дверь.
— Не закрыто было, нянюшка,— перебарывая дрожь в голосе, проговорил он.— Зря ругаешься!..
Старуха пристально вгляделась в него, открыла было рот, чтобы возразить, но лишь беззвучно шевельнула губами, сделала два-три спотыкающихся шага, как слепая, и ткнулась в грудь Мажарова.
— Господи, Костенька!.. Да как же это ты? Ни телеграммы не отбил... не позвонил? — бормотала она, цепляясь за него трясущимися руками.— Ох, даже в голову вступило!.. И ноженьки не держат...
Взволнованный этой материнской лаской, которую он ничем не заслужил, Константин, кусая губы, бережно обхватил за плечи Дарью Семеновну и усадил на табуретку.
— Что с Алексеем Макаровичем? Что? — заглядывая в ее сморщенное от плача лицо, тревожно спрашивал он.
— Коромысло повесила на кухне и про дверь забыла, из головы выскочило... А тут гляжу — ты... А я-то думала, что этот бес явился докладать Алексей Макарычу...
— Да скажите же мне, как Алексей Макарович? —-взмолился Мажаров.— Какое мне дело до какого-то беса?
— Да ежели бы не он, так нашему батьке куда легче было бы! — все еще всхлипывая и трубно сморкаясь в передник, жаловалась Дарья Семеновна.— Каждый вечер приходит, а сегодня и ночью собирается. Вчера вон Алексей Макарычу опять худо было, до утра возле него с сестрой медицинской просидела...
— Да как же можно допускать с делами к больному человеку?
- Вот и я им про то! Да разве они меня слушают?.. А Коробин — он сейчас в райкоме вместо нашего Алексея Макаровича,— так уж и по телефону ему трезвонит, и сюда, как к себе домой, заявляется... Хоть на крючок от него запирайся!
— Но сейчас-то Алексею Макаровичу легче?
— Да вроде отпустила его хворь немного.— Старуха три раза плюнула через плечо.—А то уж я духом пала!.. Негоже ему наперед меня уходить.
Константин в изнеможении прислонился спиной к теплому кафелю печки и, закрыв глаза, только теперь почувствовал, как все напряжено в нем до предела, как мелкой нервной тряской отдает в ноги и руки.
— Он что, спит уже?
— Какое там! Газеты читает. Про еду не спросит, а про них сроду не забудет...
— Теперь все будет хорошо, нянюшка,— растроганно проговорил Константин и, притянув к себе ее седую голову, поцеловал в морщинистый лоб.— Вот увидите! Я уверен... Как пройти к нему?
— Да охолонись ты чуток,— забеспокоилась Дарья Семеновна.— Может, я упрежу его?
— Нет, лучше я сам... Прошу вас!
— Оно конечно.— Старуха согласно закивала, улыбаясь и глядя на Мажарова посветлевшими глазами.— Вот уж обрадуешь старика! От радости, кажись, еще никто не помирал!..
Стараясьне скрипеть половицами, Константин прошел по голубому от луны коридору.
Здесь было светло как днем, переплеты оконных рам изломанными тенями падали на побеленную стену, между рамами лежала пухлая, как снег, вата, украшенная гроздями рябины, казавшимися от света черными. Большой, наполовину пустующий дом был полон таинственного потрескивания, где-то задумчиво свиристел сверчок, то затихая, то вновь заводя свою песню, от протопленной недавно печки веяло слабым жаром, разносившим по всему дому терпкий смоляной дух.
Мажаров взялся уже было за тускло блестевшую металлическую ручку, когда услышал за дверью сухой шелест газеты и негромкое, знакомое с детских лет покашливание,
Он замер и мипуту-две стоял в тишине коридора, не зная, постучать ли тихонько или войти без стука.
Почти не дыша, Константин осторожно нажал на ручку двери и шагнул в зеленоватый, как морская вода, полумрак комнаты.
— Здравствуй, батя,— тихо сказал он и, протягивая руки, пошел к смутно белевшей кровати.— Прости, что я так... Это я, Костя!
Газета полетела на пол, старик ухватился жаркими пальцами за его рукав, зашептал горячо:
— Ах ты, бродяга... Да ведь ты мог отправить меня на тот свет!.. Но это на тебя похоже, ты всегда был такой — не знаешь, чего и ждать от тебя!
Только сейчас через замутившие глаза слезы Константин увидел лицо Алексея Макаровича и, не отнимая рук, опустился на колени перед кроватью.
— Ну как ты, батя? — нетерпеливо спрашивал он, вглядываясь в худое, изможденное лицо Бахолдина.
— Бывает лучше, бывает хуже, но как будто косая понемногу отступает...— Алексей Макарович провел высохшей рукой по густой мажаровской шевелюре.
«Вот я и дома»,— подумал Константин, впервые за многие годы скитаний ощутив вдруг с размягчающей сердце нежностью, что он попал наконец туда, где его всегда ждали, где ему действительно рады.
Словно не было ничего позади — ни войны, ни упорных лет учения, ни работы в министерстве,— он снова стал детдомовским подростком.
— Я так рад, что мы опять будем вместе, батя...
— Я тоже рад.— Алексей Макарович улыбнулся и минуту с тихой ласковостью смотрел на своего питомца.— Однако я должен тебя спросить, ты только не обижайся!..
— Какая ерунда! — Мажаров порывисто поднялся.— Не хватало еще, чтобы я сердился на вас...
— Ты на самом деле убежден, что здесь ты больше нужен и необходим, чем где-то на другой работе? Пойми меня правильно, я вовсе не хочу... Но ты же сам когда-то мечтал что-то сделать в науке. Я уверен, что при твоих способностях ты легко мог бы получить кандидатскую степень.
— А для чего? — запальчиво и горячо возразил Константин.— Чтобы прибавить еще одну диссертацию, повторяющую чужие мысли, к тысячам других, которые погребены в архивах и никому не сослужили пользы, кроме самих авторов?.. Может быть, я и вернусь к диссертации, если почувствую, что мне есть что сказать — новое и важное для всех. А заниматься компиляцией чужих идей не стоит... Для меня сейчас речь идет о чем-то гораздо более серьезном, чем даже диссертация.
— А что бы ты хотел здесь делать?
— Не знаю! — Он зашагал по комнате, то и дело спотыкаясь о какие-то вещи и останавливаясь.— Я, конечно, понимаю, что мой приезд сюда ни для кого не событие... Но я не могу жить так, как жил до сих пор!.. Можно подумать, что я вообще никуда не гожусь, но я почему-то верю, что дело для меня найдется...
— Не сомневаюсь, Костя,— следя за размашистыми движениями Мажарова, проговорил Бахолдин.— Мы прочим тебя на партийную работу...
— Но подойду ли я? — Константин облокотился на спинку стула и с тоскливым напряжением вглядывался в лицо старого учителя, словно от того, что он скажет, и зависела вся его дальнейшая судьба.— Мне всегда казалось, что на эту работу выдвигаются люди с какими-то особыми способностями, что ли...
Алексей Макарович потер заросший, небритый подбородок, где седина уже почти победила рыжину, и засмотрелся на стенку, как будто зайчик от лежавшего перед настольной лампой круглого зеркальца удержал его взгляд. Мажаров хорошо помнил эту давнюю привычку Бахолдина задумываться, не заботясь о том, сколько времени придется его воспитанникам ждать ответа.
— Я думаю, что ты недалек от истины,— наконец тихо начал он, с размеренной обстоятельностью взвешивая каждое слово.— У нас долгое время существовало мнение, да и сейчас мы от него еще не избавились, что для партийной работы вроде годится любой человек... Мы обычно отдаем
предпочтение специалистам — агрономам, зоотехникам, если речь идет о сельском районе, или инженерам, если нужен работник в промышленный район, а вот разбирается ли такой работник в людях, любит ли он их, тянет ли его к ним, нас почему-то меньше всего тревожит, а это ведь корень всего!
— Да! Да! — как эхо отозвался Константин.
— Был бы, говорят, требовательным, и ладно! Но ведь чтобы только требовать, немного надо, даже без большого ума можно обойтись. А чтобы убеждать, воспитывать, поднимать людей па большие дела — тут одного ума мало, тут нужна душа, щедрость необыкновенная... Уж я-то это выстрадал, поверь мне...
— Батя, тебе вредно так,— забеспокоился Константин.— Может, потом, а?
— А результат всегда один,— не обращая внимания на этот призыв, настойчиво и убежденно продолжал Алексей Макарович.— Черствый, глухой к человеческим нуждам и запросам работник может походя разрушить то, что мы воспитываем в людях годами!.. Ведь такого деятеля принимают не только самого по себе, он везде и для всех является представителем нашей партии, и ты можешь вообразить себе, что он натворит, если глотка заменяет ему душу и сердце!
— Как же тогда определить, какой человек подходит к партийной работе? — снова не вытерпел Мажаров.— Не каждый может проявить себя сразу... Вот возьмите меня — скоро уж тридцать пять лет на счету, а по-прежнему вроде живу и работаю вхолостую!
— Ну, это уж ты напрасно,— попробовал было смягчить Бахолдин суровое самоуничижение Мажарова.
— Нет, нет! — Константин замотал головой.— За последние шесть месяцев на меня, как, наверное, и на многих других, свалилось столько, сколько я не пережил за всю свою жизнь!.. Я просто поражаюсь, в каком угаре самообмана я жил, не замечая того, что делается рядом... А когда видел, то многому находил какое-то высокое оправдание... Но это теперь в прошлом, и я хочу наконец знать, что я смогу делать для людей, какую приносить им пользу сегодня, вавтра... Новый срыв был бы для меня непоправимым!..
Словно сконфуженный своей горячей откровенностью, Мажаров сдернул очки и, дохнув на стекла, стал протирать их клетчатым носовым платком.
— Мне тоже не все сразу стало ясно,—устало заключил Алексей Макарович.— Часто и я делал не то, что хотел, в чем был убежден, не всегда был принципиален. Но вот одно я понял для себя безошибочно... Если, допустим, люди, которые меня избрали на какой-то пост, не идут ко мне за советом, не несут ко мне свои заботы, малые или большие, я начинаю тревожиться, понимаешь?.. Что-то, значит, я делаю не так, в чем-то упал в их глазах... В общем, значит, что-то неладно!.. Помни об этом, это я тебе говорю не зря...
Серые воздушные пряди волос упали на влажный лоб Бахолдина, он не спеша отвел их назад, смочил чистый носовой платок одеколоном из стоявшего на столике флакона, вытер лоб и щеки, утомленно откинулся на подушку.
— Не думай,— продолжал он,— что люди не раскусят тебя. Спроси их, и они скажут, что ты за человек, доверься коммунистам района, и, если они не станут бояться, что ты расправишься с ними за критику, они все выскажут тебе в лицо. Всегда простят тебе неопытность, но не пройдут мимо заносчивости, командирского тона, чванства. И потом вот,— старик захрустел листом газеты,— надо, чтобы она не была карманной у секретаря райкома, не писала только о частных недостатках, но и осмеливалась бы говорить правду о серьезных промахах и ошибках!
— В том числе и промахах секретаря?
— Безусловно! В партии ведь нет критики для избранных и отдельно критики для рядовых членов.
— А не подорвет это авторитет секретаря в районе?
— Авторитет! — Алексей Макарович усмехнулся.— О таком, с позволения сказать, авторитете заботится только тот, кто не надеется на свои силы и вместе с тем считает, что умнее его никого нет. Да ведь секретаря, который позволяет не по пустякам, а по-серьезному критиковать себя в газете, больше станут уважать, а сам он быстрее сможет исправлять то, на что ему указывают коммунисты. И тогда уж это будет не искусственно подогреваемый, а подлинный авторитет человека и руководителя, который в первую голову думает не о личном самолюбии и тщеславии, а о пользе дела!
Увлекшись, Бахолдин не слышал ни звонка, ни шагов по коридору и точно очнулся, когда раздался дробный и настойчивый стук в дверь.
— Да-да! — недовольно отозвался Алексей Макарович.— А-а, Сергей Яковлевич! Знакомьтесь, товарищи... Секретарь райкома Коровин, а это мой долгожданный доброволец Мажаров.
Константин и Коробин двинулись навстречу друг другу и посредине комнаты обменялись рукопожатием.
— Я очень рад, что нашего полку прибыло!—сказал Коробин, уверенными быстрыми движениями освобождаясь от плаща и вешая его на гвоздь.'— Скажите, на улице, около калитки, не ваши ли чемоданы дожидаются?
— Конечно, мои! — ответил Константин и, хлопнув себя по лбу, рассмеялся.— Обо всем на свете позабыл! Извините, я сейчас...
Мажаров отнес чемоданы в одну из пустовавших комнат, где хлопотала Дарья Семеновна, устраивая ему на раскладушке пышную постель, а когда вернулся назад в спальню, в ней что-то неуловимо изменилось — вместо домашнего радушия и уюта царила уже деловая и даже чуть официальная атмосфера. Все окружающее словно потеснилось перед энергичным человеком в защитного цвета кителе и аккуратных начищенных сапогах; щеки его были тщательно выбриты, в резких и грубоватых чертах сухощавого лица, в скуповатых, но властных жестах были законченность, определенность.
Коробин придвинул к кровати круглый столик с лампой под зеленым абажуром, раскрыл коричневый портфель и стал подавать Алексею Макаровичу одну бумагу за другой. Подтянув к животу колени, на которых лежала твердая картонная папка, Бахолдин принимал очередную бумагу, читал, озабоченно хмуря брови, потом, прищурясь и склонив набок голову, не спеша подписывал ее. Получив бумагу обратно, Коробин бережно прикладывал к ней розовый квадратик промокашки и прятал в портфель. Все это делалось молча, с непонятной для Мажарова сосредоточенностью и многозначительностью.
— Я не помешаю вам? — невольно задерживаясь в дверях, спросил Константин.
— Вы приехали помогать нам, а не мешать! — улыбаясь, сказал Коробин.— Так что присаживайтесь поближе и входите в наши районные дела. Секреты теперь у нас будут общие.
Он подержал на раскрытой ладони, слегка подбрасывая, сухо потрескивавший белый лист бумаги.
— Вот что это такое, по-вашему? Обыкновенная бумага, и только, верно? А для нас с Алексеем Макаровичем она лучше всякой музыки! Докладываем обкому, что завершили уборку и заготовку овощей и картофеля! Прямо гора с плеч!
— Подзатянули мы нынешний год, подзатянули,— вздохнул Бахолдин, но, когда вгляделся в поданный ему рапорт, лицо ого просияло.— Ого! И сверх плана отвалили? Вот порадовали, Соргей Яковлевич! Кто же отличился? Какие колхозы? Надо бы их тут же и отметить особо, а?
— Я знал, что от такой вести вы поправитесь скорее, чем от всяких лекарств,— чрезвычайно довольный впечатлением, какое произвел на первого секретаря рапорт, проговорил Коробин.— Не возражаю, чтобы упомянуть в рапорте и колхозы и председателей! Как всегда, нас не подвели Любушкина, Добытин и Лузган.
— Последнего можно и не отмечать.— Алексей Макарович нахмурился, сокрушенно покачал головой.— Хитер мужик.
— Но почему же хитер? — Коробин пожал плечами.— Он так же старается, как и Любушкина.
— Сравнили! — укоризненно произнес Алексей Макарович и заметно взволновался.— Прасковья Васильевна не о себе заботится, когда излишки сдает, да и, прежде чем решиться на такое, с правлением посоветуется. А этот все вывезет и ни у кого не спросит...
— Я не совсем согласен с вами,— тихо возразил Коробин, и лицо его, только что приветливое и оживленное, словно застыло.— Может быть, Лузгин кое в чем и зарывается иногда, но зато государственные задания выполняет одним из первых. Его в спину толкать не приходится — сам все понимает с полуслова. А не за такие ли достоинства мы прежде всего должны ценить председателя?
«Если они каждый вечер так обмениваются мнениями, то Дарья Семеновна права!» — подумал Константин, не зная, удобно ли ему вмешаться, чтобы загасить жар спора в самом начале. Но скоро он понял, что вряд ли стоит так поступать, потому что, судя по всему, речь шла не только о способности какого-то Лузгина вести колхоз, а о чем-то более серьезном, разделявшем двух секретарей.
— Да, мы с вами в первую голову должны смотреть, хорош или не хорош председатель как хозяин! — подтвердил Бахолдин, и, так как спорить в полулежачем положении ему было не совсем удобно, он слегка подтянулся и
сел, облокачиваясь на подушки.— Вот вы уверяете меня, что Лузгин государственные интересы ставит на первый план. А вы убеждены, что выполнения планов он добивается, ничего не нарушая в хозяйстве, не подтачивая его основ? Разве нас должно интересовать только одно — чтобы он выполнил задание? А если Лузгин добивается выполнения, дискредитируя те коренные принципы, ради которых мы с вами живем, и боремся, и строим коммунизм? А тогда разрешите спросить: кому нужны успехи, достигнутые такой ценой? Нам нужен в колхозе не управляющий имением, выколачивающий доходы любой ценой, а руководитель, душа коллектива, которого бы все уважали!
Казалось, Коробин слушал Алексея Макаровича с усталой рассеянностью, как бы не придавая особого значения разговору, но Константин видел, что в этой рассеянности таились и нарочитость, и настороженность, и трудно скрываемое раздражение.
— Простите, Алексей Макарович, но я не понимаю вас! — Коробин пружинисто поднялся, скрипнув сапогами, нетерпеливо хрустнул пальцами рук.— Вы же сами не один год поддерживали Лузгина! Почему же он сразу так низко пал в ваших глазах?
— Я ждал, что вы зададите мне этот вопрос...
Бахолдин взял со столика автоматическую ручку с блестящим наконечником, повертел ее в руках, положил на место, по привычке погладил щеку. Было пока непонятно — задет ли он упреком или, наоборот, доволен, что его заместитель из деликатности не умолчал о том, что и его волновало, и теперь можно было внести в спор полную ясность.
— Может быть, я и виноват в том, что в прошлые выборы, когда предлагал убрать Лузгина, не настоял на своем. Но вы и другие члены бюро заверили меня, что он исправится, сделает выводы из критики, а самое главное, убедили меня, что его просто некем заменить... Но не в этом суть!..
Алексей Макарович передохнул, поискал глазами Коровина, ему, видно, легче было говорить, глядя на того, кого он хотел убедить, но лицо стоявшего в тени абажура заместителя словно проступало со дна затянутого тенистой ряской омута.
— Сегодня мы с вами тоже как будто всех вполне устраиваем — и обком, и районный актив. А можете ли вы, Сергей Яковлевич, допустить, что завтра коммунисты вдруг могут лишить нас доверия? И не потому, что мы с
вами плохие люди, а потому, что не годимся как руководители?
— Вполне возможно,— неохотно согласился Коробин,— Никто от этого не застрахован. Диалектика, как говорится, закон развития!
— Так и с Лузгиным,— миролюбиво заключил Бахолдин.— Вчера он вроде и тянул колхоз, и люди там его терпели, а нынче по хотят терпеть!..
— Вы же знаете, кто там воду мутит,— с мрачноватым упрямством проговорил Коробин.— Отдельные личности недовольны, а не все колхозники...
— Ну, это надо проверить! — сказал Алексей Макарович.— Наше дело разобраться во всех фактах досконально, а не полагаться на свои догадки и одностороннюю информацию!.. Я получил прямо на дом несколько анонимных писем, и, если отбросить даже мелкие личные обиды, которыми эти письма пропитаны, можно понять, что Лузгина там никто не любит, не уважает и пока только побаиваются! Изжил себя человек, не по плечу ему такая ноша. Поэтому я бы на вашем месте не торопился с выводами, прежде чем вы станете докладывать о Черемшанке Ивану Фомичу.
— Мы, по-моему, будем вместе докладывать...
— К сожалению, я уже, вероятно, не смогу этого сделать, хотя ответственности с себя и не снимаю.— Алексей Макарович потянулся к большому столу и взял лежавший на стопке книг белый запечатанный конверт.— Вот, прошу вас... Отправьте с райкомовской почтой.
— Что это? — Коробин приблизился к полосе света и стоял теперь рядом с кроватью, с некоторой растерянностью глядя на Алексея Макаровича,
— Мое прошение об отставке,— с шутливой живостью ответил Бахолдин, но по тому, как левая его щека вдруг стала нервно подергиваться, видно было, что эта шутливость дается ему нелегко.
Сердце Константина болезненно сжалось, первым его побуждением было броситься к старику, отговорить его от опрометчивого, как ему казалось, решения, но он не двинулся с места, боясь ненужной жалостью еще сильнее растревожить Алексея Макаровича. Он заметил, как спокойно принял это известие Коробин, словно оно не было для него неожиданным, положил конверт в портфель, щелкнул замком и только спросил:
— А может быть, вы это напрасно?
— Я знаю, что делаю,— сухо ответил Бахолдин,—
Сколько я еще пролежу — неизвестно, а дело, вижу, от этого страдает. Да и вашу инициативу сковываю...
— Нисколько, Алексей Макарович!
— Вот так,—как бы ставя точку, проговорил Бахол-дин.— Будем считать вопрос решенным.
Он снова сполз с подушек, улегся поудобнее и прикрыл ладонью глаза, как будто свет тяготил его. — Что же вы хотели бы у нас делать? Константин не сразу понял, что Коробин обращается к нему, так неожидан был этот переход. Он весь был во власти противоречивого и смутного чувства обиды за своего старого учителя, желания как-то приободрить и утешить его и нескрываемой досады на этого напористого и черствого человека, не считавшегося, судя но всему, ни с чем.
— Алексей Макарович вот думает, что я должен идти на партийную работу... Мне тоже кажется, что это будет интересно, и, может быть, я смогу...
— Для коммуниста всякая работа должна быть интересной, если ее поручает партия! — хмурясь, прервал его Коробин.
Мажаров рывком встал, готовый возражать и спорить, но тотчас опустился на стул, медленно положил ногу на ногу, и пальцы его больших рук сомкнулись плотным замком на остром колене. Он сдержал себя и не дал воли своей горячности.
«А он не такой уж тихоня, каким показался с первого взгляда!» —подумал Коробин.
— Наверное, вам нелегко было уйти из министерства, товарищ Мажаров?
Вопрос таил в себе некий иронический смысл, но гость был толстокож и не почувствовал себя уязвленным.
— Нисколько! — Константин обезоруживающе улыбнулся и с подкупающей откровенностью пояснил: — В последнее время я не скрывал своего равнодушия к работе, и, может быть, поэтому меня особенно не удерживали... Как говорится, была без радости любовь... Я просто счастлив, что наконец вырвался оттуда, так все мне там осточертело.
«Хорош!» — чуть было не сказал вслух Коробин. Он уже жалел, что задал приезжему вопрос, который вызвал такую граничившую с легкомыслием искренность. Обычно он старался в разговоре с любым человеком избегать той предельной степени откровенности, которая как бы связывала его чем-то на будущее — словно он оставался в этом случае в каком-то моральном долгу перед собеседником. Но
теперь он волей-неволей вынужден был продолжать начатый разговор.
— Чем же вас не устраивала работа в министерстве?
— Как вам сказать? — Константин пожал плечами.— Дело совсем не во мне... Просто я пришел к выводу, что такая должность в главке, где я работал, не нужна. Она была в какой-то степени даже нелепа — ведь я не приносил никакой пользы колхозам, которые были под началом нашего главка... Сократи эту должность, и ничего не изменится ни в самом министерстве, ни в главке, ни тем более в жизни; кем и для чего она была выдумана — непонятно!
Мажаров поднялся и стоял перед Коровиным, прижимая руку к груди, глаза его казались совсем черными от волнения, говорил он очень громко, по-юношески ломким, отрывистым баском, нисколько не заботясь о том, как его поймут.
— Месяца два назад, когда я вернулся из очередной командировки, я пошел к своему начальнику и высказал ему все это... И он, вы не поверите, почему-то решил, что я хочу повышения и недоволен своей зарплатой! А потом, когда до него дошло, начал меня воспитывать, обвинил в гнилой интеллигентщине и прочих грехах. Напрасно вы, мол, обобщаете, увидели два-три отсталых колхоза и стали паниковать. Это я-то! — Мажаров рассмеялся.—Я, конечно, выслушал его, но поступил по-своему — написал докладную в ЦК и в ней поделился своими мыслями, рассказал о том, что видел... Начальник главка, узнав, что я пишу докладную, и тут меня хотел отговорить: зачем вам, мол, это нужно? Наверху и без вас знают о положении вещей, и — нет, вы только послушайте, Алексей Макарович! — он усомнился в моих патриотических чувствах! Тут уж я ему выложил все, что думаю о нем, и подал заявление об уходе.
Мажаров ходил от стола до дверей, жестикулируя, горячась, а Коробин молча, исподволь наблюдал за ним.
— И откуда у нас расплодилась эта порода безликих людей, которым ни до чего нет дела, кроме личного благополучия и спокойствия, Алексей Макарович? — спрашивал Константин.—Нет, нет, у такого начальника в словах недостатка не будет, он всегда клянется интересами народа, а сам давно забыл, когда в последний раз заходил в крестьянскую избу. И что особенно меня бесит — вот чувствую всем нутром, что такой деятель не имеет никакого права занимать это место, что пользы от него ни на грош никому, а доказать это почти невозможно! Формально он делает все, что от. него требуется.
Каштановая прядь упала Мажарову на глаза, он отбросил ее взмахом головы, провел по волосам растопыренной пятерней и глуховато заключил:
— И вдруг раскрываю газету и узнаю, что состоялся Пленум ЦК!.. Все решилось сразу — меня отпустили из главка с добрыми напутствиями, а начальник полез на прощанье целоваться. Но я-то уверен, что мы таких людей постепенно выведем на чистую воду. Правда, Алексей Макарович?
Бахолдин, не спускавший глаз со своего воспитанника, молча кивнул.
— Весьма любопытно — ликвидировали вашу штатную единицу или оставили? — спросил Коробин, с отчужденностью глядя на взволнованное лицо Мажарова и еще не зная, как ему отнестись к этой манере высказывать свои мысли, ни с чем и ни с кем не считаясь.
— Какое это имеет значение! — Константин махнул рукой.— Важно, что все так здорово повернулось в жизни.
— Скажите,— как бы игнорируя невежливость Мажарова и желая хоть чем-нибудь смутить его, поинтересовался Коробин,— бороду вы носите для солидности или сейчас такая мода в Москве?
— Что вы! Какая там мода! — без тени неловкости ответил Мажаров.— Мне неудобно говорить об этом, но дело в том, что я проиграл пари одной нашей сотруднице, и она попросила меня отрастить эти заросли... Так что ничего не поделаешь — надо быть хозяином своего слова!
Коробин смотрел на него во все глаза, видимо не веря тому, что услышал.
— И что же, вы обязаны теперь носить ее до конца жизни?
— Нет, зачем.— Лицо Мажарова расплылось в добродушной улыбке.—По условиям пари я должен носить ее еще месяца три, не больше, хотя, откровенно говоря, я как-то к ней привык... А что, моя борода вам активно не нравится?
Настала очередь смутиться самому Коробину. Будь его воля, он бы, конечно, приказал немедленно сбрить эту бо-роденку. Он не выносил никакого отклонения от нормы и считал бороду неким анахронизмом, простительным для какого-нибудь темного старика в деревне, но отнюдь не для человека, собирающегося стать работником райкома. Однако высказать сейчас свое мнение этому московскому выскочке он не решился. Он был почему-то уверен, что Мажаров поддался модному призыву и долго не удержится в деревне — не пройдет и полугода, как он снова запро-
сится в столицу. Так что пусть отращивает на своей физиономии что угодно, не все ли равно.
— Это дело вкуса,— сказал он и стал прощаться.
Он натянул томно-сипий прорезиненный плащ, надел поглубже фуражку, сунул под мышку портфель и уже у порога тронул Мажарова за плечо.
— Когда нас ждать в райкоме?
- Да и готом хоть завтра! — сказал Мажаров.—Мне хочется поскорее...
Проводив Коровина и пожелав спокойной ночи Алексою Макаронину, Константин вернулся к себе в комнату, Которая стараниями Дарьи Семеновны выглядела уже не только жилой, но и уютной. На окне белела занавеска, около кровати лежал маленький самодельный, из лоскутков, коврик, рядом стоял столик, покрытый узорчатой скатертью, на нем зеленый графин с водой. От кафельного бока печки, выходившей топкой в коридор, тянуло теплом, простыни, пододеяльник, наволочки после старательного проглаживания пахли, как пахнет чуть подпаленная на солнце кожа рук.
«Как хорошо!» — подумал Константин, вытягиваясь под одеялом и закрывая глаза.
Нет в мире ничего отраднее, чем после многих лет скитаний, после слякотной ночи возвратиться под родной кров, в тепло и свет, где тебя ждали и встретили близкие тебе люди. И хотя в том, что Константин пережил сегодня, было и что-то тягостное и печальное, он думал о завтрашнем дне с радостью и надеждой. Все теперь будет иначе, все по-новому и лучше, чем прежде!
Убаюкивающе стрекотал сверчок, за окном, пронизывая занавеску, светила полная луна, старая береза бросала на подоконник корявую тень, за березой, чернея чугунными стволами, в сказочной дремоте стыл сад... И можно было, забыв обо всем, заснуть...
После сырых, промозглых дней осени дохнуло холодом. Зазимки тянулись недолго, с легкими пыльными порошами, сухими заморозками по утрам. Хрустко ломался тонкий ледок побелевших луж, дороги, скопанные стужей, стали серыми, пустые телеги тарахтели по ним, как по булыжнику.
Рано темнело, и однажды, когда в избах зажглись огни, в синих сумерках вдруг густо повалил снег. Он сразу побелил крыши и заборы, прикрыл захламленные пустыри.
Снег шел всю ночь, заботливо и мягко кутая землю, перед рассветом стих, и утром люди проснулись в зиме. За окнами было разлито чистое сияние сугробов, в избах сразу посветлело, и все вокруг будто обновилось.
Набирали силу морозы, трещали по ночам деревья в палисадах, в снегах пролег твердый санный путь, темно-лиловые, еще не замерзшие полыньи на реке дышали белым паром, оттуда везли обледенелые бочки с водой.
Остро и свежо иахло дымом, по утрам он вырастал над заснеженными крышами розовато-голубой рощей. Затуманенные снегопадом горы словно придвинулись к деревне.
На восходе Егор Дымшаков пришел на конюшню и, отпустив ночного сторожа, стал задавать лошадям корм. Лошади встретили его отрывистым ржанием, тянулись к охапкам душистого сена, обнюхивали руки, били копытами в дощатый пол. Довольно усмехаясь, Егор покрикивал на них, но их не проведешь: они хорошо отличали, когда он на самом деле бывал зол, а когда кричал для порядка.
В сумеречном свете маслянисто поблескивал холеный круп председательского выездного рысака, которого, в отличие от всех остальных лошадей, держали на овсе и на хорошей мучной замеске. И хотя лошадь ни в чем не была виновата, Егор не одаривал ее лаской и даже как-то недолюбливал, несмотря на гордую ее стать и красивую, серую в крупных яблоках, масть. Рысаку он всегда последнему приносил сено, и тот, словно понимая, терпеливо дожидался, не ржал, как другие, лишь изредка косил фиолетовым глазом. Егор останавливался и невольно любовался — до чего же хорош, черт! Барии!
Наконец солнце стекло с покатой крыши, просочилось сквозь узкие оконца, зажгло лохматые лошадиные гривы, осветило опушенные инеем темные углы, и под самой крышей, в деревянных перекрытиях, запорхали и зачирикали воробьи.
Скоро прихромал Саввушка. Егор вывел свою любимую гнедую лошадь, поставил в оглобли. Эту не нужно погонять, показывать ей кнут — сама все знает. Завались хоть распьянешенек в сани — все равно привезет домой под самые окна, да еще заржет, чертушка, чтоб, значит, выходили встречать.
— На Заречный луг поедешь? — спросил Саввушка.
— Да, надо бы подальше, а то заметет потом дорогу — намучаешься.
Егор увидел председателя, подходившего быстрым шагом к конюшие, и замолчал. Но часто к ним наведывался Лузгин, видимо, что-то неотложное погнало его сюда в этот час.
Егор повернулся спиной и, как бы не замечая его приближения, старательно затягивал супонь хомута, упираясь грубо подшитым валенком в клешню и кряхтя от натуги. Лузгин остановился за спиной; было слышно, как дышал он, но Егор не оборачивался. Дел около лошади немило — закрепить вожжи, подтянуть чересседельник.
Председатель посопел, посопел и вынужден был начать разговор первым:
— За сеном собрался?
Егор не спеша обернулся, смерил председателя с головы до ног насмешливым взглядом. Ну до чего же он не выносил этого набитого чванливой спесью человека!
— Что ж, здравствуй, Аникей! — помолчав немного, проговорил Егор.— Может, я запамятовал, но сегодня мы будто с тобой не видались, а? Разве только во сне меня видел, так это ты, наверное, в счет не берешь?
У Лузгина сузились голубенькие глазки.
— У меня дел не с твое, хоть ты и поносил меня перед секретарем обкома! То в район, то по хозяйству — так мотаешься, что забудешь, когда в последний раз жрать садился, не то что...
— Никто себя с тобой не равняет! Разве это мыслимо? — сказал Егор и, похоже, даже сочувственно вздохнул.— Это, может, у кого глаз нету, а люди с понятием видят, Аникей Ермолаевич, как ты, за народ болеючи, изголодал весь — кожа да кости остались. Пошто не бережешь себя?
Хромоногий Саввушка поглядел на председателя — тучного, располневшего до того, что полы полушубка еле сходились на животе, не выдержал и, припадая на правую ногу, заковылял к хомутовке. Подальше от греха! А то завтра над припомнит — чего, скажет, горло
драл?
— Смотри, Дымшак, досмеёшься! — проводив тяжелым взглядом Саввушку, тихо, сквозь зубы выдавил Лузган. — Я долго терпел, но все же я не Иисус Христос и жилы у меня не веревочные — могут порваться...
Егор тоже перестал улыбаться и насторожился, уловив
в бегающем, ощупывающем взгляде Лузгина какое-то беспокойство.
После ссоры на мосту он не разговаривал с Аникеем наедине и сейчас вприщур разглядывал его помятое, всегда будто со сна, одутловатое лицо с низко нависшим лбом и белесыми, жесткими, точно выщипанными, бровями.
— Запрягай моего скакуна и езжай в степной колхоз за мешками. Два месяца прошло, как взяли, и чего-то тянут, не отдают.
— Полежат, не протухнут твои мешки. Засаливать их там не будут,— сказал Егор.— Не поеду. Завтра лошадям задавать нечего.
— Напрасно свой характер показываешь. Сам себя накажешь в случае чего. А я неволить не собираюсь — другого пошлю...
Егор понимал, что, отказываясь выполнить распоряжение председателя, пусть самое несуразное и никчемное, он давал Лузгину лишний козырь в любом споре и, подумав немного, хмуро согласился.
— За сеном снаряжу других, а ты мне мешки доставь! — довольный, что настоял на своем, торопливо говорил Лузгин.— А то пустят чистые мешки под картошку и вернут потом всякую рвань. Что ты, этот колхоз не знаешь,— вечно побирушничают.
Он засуетился, сам вытащил из хомутовки сбрую и вывел застоявшегося рысака. В поведении председателя было что-то загадочное, непонятное — то ли Лузгин пытался пойти с ним на мировую и искал, чем его можно задобрить, то ли задумал еще какую-то новую пакость — попробуй разгадай! Но насчет мешков он, конечно, был прав: не возьмешь вовремя — считай, пропали совсем.
Намяв в розвальни хрустящей соломы, бросив в передок сена и немного овса в мешке, Егор вынес из хомутовки позеленевший латаный тулуп и молча завалился на охапки соломы. Серый взял с места крупной рысью, словно обрадовался, что наконец вырвался из конюшни на белый свет.
— Коня-то не запали! — закричал вдогонку Лузгин.— Не гони дуром, заночуй там, слышишь?
Егор, хотя и слышал, но молчал, считая ниже своего достоинства отвечать на такие дурацкие поучения. Коня не запали! Будто он впервой взял в руки вожжи!
Проезжая мимо своей избы, Егор сдержал лошадь и постучал кнутовищем в обметанное изморозью окошко.
На стук выбежала Анисья, простоволосая, в валенках на босу ногу, с красным распаренным лицом — видно, от печки,
— Отрежь полкраюхи хлеба и заверни чего там,— сказал Егор и насупился.— Может, в один день не обернусь.
А помоложе-то сослать некого, что ль? — закричала Анисья,— Нот черти едят мужика поедом!
Лидии, авось всего по сожрут, и тебе кой-чего оста-нется. Да не стой ты на холоду — лихоманка затреплет. Тпру-у, дьявол ненасытный!
Анисья обернулась быстро, сунула в руки Егора сумку о едой, куда напихала всего понемногу — и хлеба, и вареной картошки, и луковицу, и соленых огурцов. Теперь она вышла в накинутой на плечи стеганке и сером платке, точно собиралась побыть с мужем подольше, за нею увязался Васятка, отцов любимец, наследник,— сын! Но Егор сегодня был неприветлив и не посадил сына покататься даже вон до той старой каланчи. Как ни канючил Васятка, Егор мотнул головой, гикнул, и рысак сорвался с места.
Вихрем промчавшись через деревню, Егор дал коню передохнуть, пустил его вольным шагом.
Напялив на себя тулуп, Егор лег поудобнее навзничь, закрыл глаза. В запасе у него был непомерно длинный день —и надремлешься, и не раз пожуешь кусок хлеба, и устанешь от дум. Только допусти одну какую-нибудь немудрящую мыслишку, за ней тотчас набегут другие и начнут выматывать душу.
Розвальни пошатывало на раскатах; Егор приоткрывал ресницы, уже запушенные инеем, и видел все одно и то же — ровно стлались вокруг белые поля, придорожные кусты стекленели ледяными блестками, бежали от столба к столбу провисшие, в колючей бахроме, телеграфные провода, прыгали одинокие вороны на дороге.
Он думал о председателе, который почему-то явился в такую рань на конюшню, и смутное подозрение все сильное разъедало его. Ох, неспроста послал его Лузгин подальше от деревни! В последние дни в Черемшанке ходили разные слухи, и, хотя на поверку большинство всяких слухов обычно оказывалось сплетнями и глупой бабьей брехней, на отот раз Егор улавливал в них что-то похожее на прайду. Одни поговаривали, что с отчетно-выборным собранном тянут потому, что в районе до сих пор не могут решить, остаилять на прежнем месте Аникея Лузги-
на или сливать колхоз с соседним и отдавать под начало Любушкиной. Сама Прасковья Васильевна как будто шла на это с охотой, но ставила одно непременное и пока невыполнимое условие — пусть, мол, с черемшанекого хозяйства спишут триста с лишним гектаров негодной непахотной земли. Земли эти, когда-то нарезанные колхозу и отошедшие ему по акту в вечное пользование, при Аникее были запущены, заросли березкой и кустарником, частью так были выбелены солонцами, что на них не росла даже полынь. На всякие просьбы и обращения в район, в область и выше — списать с колхоза эту землю — черемшан-цам советовали заняться раскорчевкой. Конечно, Любуш-кину можно было понять — в случае слияния ей ведь пришлось бы уже с нынешней осени расплачиваться за эту бесплодную землю хлебом, мясом и молоком.
Для Аникея Лузгина все складывалось как нельзя лучше. Он-то готов был за эти триста гектаров всю жизнь рассчитываться колхозным добром, лишь бы все осталось по-прежнему. Он доверительно рассказывал своему окружению, что на отчетно-выборное собрание, чтобы поддержать его кандидатуру, приедет чуть ли не все районное начальство, а то, может, кто-нибудь и из области явится, где его по-прежнему очень ценят. Правда, в этом хвастовстве кое-кто усматривал слабость Аникея: каждый раз, когда ему бывало туго, он распускал по деревне самим же им выдуманные истории о задушевных разговорах с большими людьми. Проверить его выдумки было невозможно, попробуй размотай этот запутанный клубок, отыщи первую ниточку! Да если и отыщешь, Лузган открестится от всего на свете.
Неделю тому назад откуда-то пошел слух, что Коробин вместо себя посылает на собрание инструктора райкома Ксению Яранцеву, Егорову сродственницу, и люди расценили это по-своему — поступают, мол, так потому, что не хотят, как в прошлые годы, навязывать председателя: хорош Лузгин — останется, плох — тогда ничто его не спасет, не выручит. Видимо, понимая шаткость своего положения и боясь провала и позора, но не желая уходить подобру-поздорову, Лузгин затевал какую-то новую, сложную, путаную и, как всегда, нечистую игру.
Чем только не томил себя Егор за долгий путь до Степного, и, хотя запасся немалым терпением, его уже не хватало. Он то вставал в розвальнях на колени, окидывая серые безмолвные поля тоскующим взглядом, то смотрел на рвущийся из-под полозьев накатанный след дороги, пока
не начинало рябить в глазах. От нечего делать он съел все, что Анисья дала в дорогу, даже изжевал луковицу, от нее во рту горчило.
Серый не просил кнута, сам бежал шибко, изредка всхрапывая и мотая головой. Завидев встречную подводу, он но-молодому призывно ржал и несся еще более лихо, и тогда Егор чуть натягивал поводья и пилил ему удилами губы, чтобы он чувствовал хозяина, не озоровал.
В Стопное Дымшаков въехал после обеда, перед правленном осадил рысака, отпустил чересседельник, ослабил подпругу и, бросив у коновязи охапку сена, трусцой взбежал но ступенькам.
Так он и знал. Если с утра споткнешься на чем-нибудь, так до вечера все пойдет через непь-колоду. Председатель колхоза в Степном еще со вчерашнего дня мотался в районе, и неизвестно было, когда его можно ждать обратно. Егор сунулся к бухгалтеру, к кладовщику, но никто не решался отдать мешки без хозяина.
— Да ведь мешки-то наши, черти вы полосатые! — горячась, убеждал Егор.— Развелось тут у вас бюрократов — не продохнуть!
— Прошу без выражениев! — обиделся кладовщик.— Будет тут всякий тыкать, чертить и обзывать! Стань на мое место — узнаешь, что почем. Наш Силыч без резолюции ничего не признает.
Егор зло плюнул и вышел из правления. Вот незадача какая — за своим походишь, наклянчишься! Он напоил коня, дал ему овса, побродил около коновязи, потом зарылся с головой в солому в розвальнях, задремал. Очнулся от густого, рыкающего баса и сразу догадался, что прибыл председатель. Стряхивая с себя соломенную труху, Егор торопливо подошел к высокому, худощавому мужику, стоявшему около кошевки.
— Ну и лавочка у тебя здесь! Держат человека попусту! Резолюцию завел, а мешки для хозяйства завести но можешь? У тебя, может, без резолюции люди и до ветру не ходят?
Председатель захохотал как леший, ухая и чуть не приседая от смеха.
— Да откуда ты чудной такой свалился? — передохнув, спросил он.— Из Черемшанки? У вас что же там за порядок — вали кулем, потом разберем? Ну, а мы по бедности и свое считаем, и чужое бережем.
— Что же вы в мешках держите?
— Да так с зерном и стоят. Отборная пшеничка, с опытного участка. Тары у нас не хватает, вот кладовщик и мудрил насчет резолюции — думал, ты домой смотаешься, ждать не будешь.
— Хитро работаете!
Откровенное признание председателя пришлось Егору по душе, сразу расположило к нему, и он с охотой пошел в его кабинет.
Председатель вынул пачку хороших папирос, закурили, и как-то сама собой потекла беседа, будто они дружили давно и только редко виделись. Скоро Егор знал о всех неладах колхоза в Степном, обо всем, что беспокоило председателя и лишало ого сна. Председатель всю жизнь проработал на заводе и когда вызвался стать на время хлеборобом, то даже не представлял себе, что означает этот неизмеримый цех под голубым небом, где каждый день может свалиться на тебя любая неожиданность: заткнешь одну прореху — появляется другая, отведешь одну беду — другая в двери стучится, и так без конца. За год он не один раз помышлял сбежать отсюда, а вот теперь уже и рвать больно, мясом прирос. Да и дела колхоза круто пошли в гору, и люди, поверив в нового вожака, менялись на глазах.
Когда пришел кладовщик и сказал, что мешки уже положили в розвальни, Егору стало даже как-то не по себе, словно он делал недоброе, отбирая у людей то, без чего в его колхозе могли легко обойтись.
Провожая Егора, председатель, посмеиваясь, спросил:
— Послушай, ты извини меня, но я забыл узнать — как тебя зовут?
Егор почему-то покраснел, назвал себя и в свой черед узнал, что председателя зовут Петром Силычем Добытиным.
«По характеру и фамилия! Добытин... Всем людям хорошую жизнь добывает!» — думал Егор, чувствуя, что от встречи с этим человеком остается в душе что-то отрадное, теплое и радостное.
На улице уже смеркалось, серая муть заволакивала деревню. Добытин вышел вместе с ним к подводе и все расспрашивал о Черемшанке, словно норовил выпытать что-то важное для пользы дела.
Дымшаков отвязал Серого и стоял уже одной ногой в розвальнях, когда председатель стал уговаривать Егора остаться переночевать.
— Ну куда ты на ночь глядя? Если завтра утром раненько выедешь - поспеешь к самому отчетному собранию. Все равно народ скоро не соберется! Как ты считаешь, не прокатят Лузгина на вороных?
Все в Егоре зашлось от неприятной догадки.
— Постой, Петр Силыч! Ты мне толком скажи — откуда ты про собрание слыхал?
— Вот так так! Здорово у вас дело поставлено! Утром собрание, а ты коммунист и даже не знаешь! Я в райкоме видел инструктора Яранцеву, я — домой, она к вам поехала: сегодня вечером собирает партбюро с активом, будет советоваться с нами.
Так.— Кулаки Егора налились свинцовой тяжестью.— Похоже, на совет собирают только нечистых, а чистых подальше отсылают, сволочи!
И, не объясняя ничего пораженному Добытину, Егор огрел кнутом рысака и по-разбойному засвистел. Тот дико рванул розвальни — как только устоял Дымшаков,— чертом понесся в сумерки, поднимая снежные вихри, и скоро был уже за овражными сугробами, в степи.
Он загнал бы коня насмерть, если бы не спохватился, не взял себя в руки. Случись что — под суд пойдешь, не посмотрят ни на что, ведь только и ждут, чтобы поскользнулся! Давая Серому короткие передышки, он снова пускал его рысью, но не горячил кнутом, мысленно просил: «А ну, не пожалей сил, голубчик, помоги, сроду не забуду!»
Никогда еще Егор так не страшился быстрого наступления вечера, но свет дня уже гас за дальними полями, и не успел Егор опомниться, как засинели нагие, потонувшие в снегах перелески, залиловела степь, и, пожирая последние светлые пятна, стала красться по земле ненасытная темь.
Сгущался вокруг тяжелый мрак, ветер нес в лицо обжигающую колючую снежную крупу, нечем было дышать. Бешено, слепо опаляла Егора злость, он чувствовал себя жалким и беспомощным да еще так бессовестно обманутым. «Обвел, как дитя малое, боров жирный! Но ничего, я тебя еще порадую, ты еще меня попомнишь!»
На грех, хоть бы попалась одна встречная подвода — безлюдье, глушь, рассыпанные в кромешной тьме огоньки, хрип лошади, свист ветра и не отпускающее ни на минуту волнение!
Он потерял счет времени и, когда пошли наконец знакомые тюля и за косогорами приветно, как живые, замигали огни в избах Черемшанки, несказанно обрадовался. Значит, не очень поздно, зсли многие еще не спят!
Не заезжая на конюшню, он свернул к своей избе и, бросив вожжи, теряя последние остатки терпения, рванул на себя дверь.
— Анисья! — хрипло закричал он, еще не видя жены, и, тяжело дыша, схватился за косяк.— Распряги поскорей Серого да постагь под навес. Не звали меня на собрание?
— Не знаю, по какому делу приходила Черкашина. Страсть расстроилась, что не застала тебя...
— Ну, я побегу...
Анисья цепко схватила его за распахнутые полы полушубка, и ничего не понимая, просила:
— Что с тобой, Егорушка, охолонись! На тебе ведь лица нет! Похлебай садись немного — как же ты не емши-то?
— Никакая еда мне в рот сейчас не полезет. Я им поперек встану. Он меня нарочно услал, а я вот он! Не выгорит у них это, не выгорит!
— Да отцепись ты от них, Егор! — Анисья застонала, повисая на руках мужа.— Что ты один-то сделаешь с лиходеями?
— Не держи меня, мать! — сурово остановил се Егор.— Я себе век не прощу, если сейчас о гадами не схлестнусь. Или они меня, или я их!..
— А об детях ты подумал? Как им-то жить потом?
— Ради них и иду туда! Кому же тогда жить, коли не им? Или, может, пусть он, гад ползучий, и над ними изгаляется?..
Вокруг уже стояли спрыгнувшие с полатей ребятишки и плакали, сами не зная почему: им достаточно было, что мать о чем-то слезно упрашивала отца и боялась отпускать его из дому.
Но Егор ничего не видел и не слышал, лицо его окаменело, и весь он был как чужой. Прикрикнув на ребят, он вдруг притянул за плечи жену, заглянул в ее полные слез глаза, погладил ладонью по щеке и, хмуро отстранясь, надавил плечом на дверь.
Он бежал в темноте, не разбирая дороги, наугад, словно боялся, что кто-то может удержать его, и, только миновав проулок и свернув на другую улицу, пошел шагом,
Тише, Егор, тише! Криком и скандалом ничего не возьмешь. Правда на твоей стороне, и надо показать выдержку, если потребуется — быть железным.
Около правления кто-то стоял: мерцал в темноте огонек цигарки. Егор сбавил шаг, подойдя ближе, узнал в горбившемся человеке бригадира тракторной бригады Молод-цова.
— Алексей? Ты чего дом подпираешь — боишься, как бы не завалился?
- А какой толк там сидеть? Одна родня собралась, водой не разольешь.— Молодцов вздохнул, помедлил и досказал с нескрываемой горечью: — При таком активе ваш дом и без моей подмоги может завалиться.
— А ты-то чей? Не наш, что ли?
— Я что, вспахал, посеял, убрал,—что мне положено по закону, отдай. Живу я не у вас, а в своей деревне, так что моя хата с краю...
— А как мы будем жить — тебе, выходит, наплевать? Набил карман, и ладно? Умный ты, оказывается, мужик — расцеловал бы тебя за твою доброту, да некогда!
— А ты напрасно злишься, Дымшаков! И торопишься зря—там уже без тебя все порешили. Явился ты, брат, к шапочному разбору!
Не слушая больше Молодцова, Егор стал быстро подниматься по скользким ступенькам. Ощупью пройдя темные прокуренные сени, он рывком дернул на себя дверь.
Висячая лампа под потолком будто плыла в облаке табачного дыма. В комнате собралось не больше десяти человек; все, словно рассорившись, сидели беспорядочно — кто на подоконнике, кто у покрытого красной материей стола, кто на стульях у стены. Вел партбюро Федор Мры-хин — высокий, сутулый, с впалыми щеками, и длинным, с малиновым отливом носом. Он вскидывал над бритой головой худющие, как плети, руки, размахивал ими не поймешь зачем. Рядом с ним сидела Ксения Яранцева ~ прямая, строгая, с выражением крайней озабоченности и тревоги на бледном лице. По другую сторону от парторга, развалясь на стуле, почти сползая с него, восседал утомленный духотой Аникей; за его спиной на подоконнике устроился Никита Ворожнев. Он осторожно поглядывал на всех, сдвинув косматые брови. К нему жался щуплый кладовщик Сыроваткин, временами он напускал на лицо степенную важность, хотя провести здесь ему было некого: все наперечет знали — стоит буркнуть Лузгину, даже зев-
нуть, как Сыроваткин мгновенно преобразится и навострит уши. У стены сидели рядком бухгалтер Шалымов и бригадир полеводческой бригады Ефим Тырцев.
«Ишь какую оборону заняли,— подумал Егор, разом оценивая обстановку.— В случае чего стенкой пойдут!»
Присев на корточки, приткнулся в углу Прохор Цап-кин и, жмурясь, потягивал скрученную из едкого самосада цигарку. Когда-то первый гармонист на деревне, он начал пить, с годами опустился, и осталась у него одна страсть — выступать на собраниях, покорять всех мягким, бархатным голосом. Его толкни к столу, и он, не ведая, о чем идет речь, станет говорить, да иной раз так складно, откуда только слова берутся! В эти минуты он преображался и, несмотря па то что ему было за пятьдесят, выглядел по-своему бравым — на лоб свешивался махорчатый чуб, в глазах плескалась озерная синева.
Было время, когда он один из немногих в колхозе открыто осмеливался критиковать Аникея. Но однажды после особенно злого выступления на собрании Аникей вместе с секретарем райкома Коровиным в перерыв пригласили Цапкина в кабинет и очень долго увещевали его. Прохор вышел сердитый, красный, никому не смотрел в глаза, а сразу после перерыва снова попросил слова и наотрез отказался от всех обвинений, которые только что бросил Лузгину в лицо. Народ так и ахнул, услышав его покаянную речь, из углов раздались насмешливые выкрики, но Прохор договорил свое и демонстративно, точно мстя кому-то; покинул собрание. С этого памятного дня он словно дал зарок — ни единым словом никогда не задевать Лузгина.
Доярка Авдотья Гневышева, жена бывшего председателя, как всегда, куталась в черный платок и старалась забиться подальше в тень. Эта сроду слова не скажет, а как дойдет до голосования, взглянет на Лузгина и поднимет свою сухую, смуглую руку с жесткими, полусогнутыми от многолетней дойки пальцами.
Особняком держалась на заседании и председатель сельского Совета Екатерина Черкашина — дородная, крутоплечая женщина, пристроившаяся у самой двери. Она первая увидела Егора и оживилась, поманив его пальцем.
— Я заходила к тебе, Егор Матвеевич. Куда ты запропал?
Лузгин сразу подобрался на стуле, сел попрямее, нарочито прокашлялся.
— А ты про это лучше вот у кого спроси!—громко, чтобы все слышали, ответил Егор и ткнул пальцем в председателя.— С утра пораньше загнал меня в Степное, чтобы с глаз долой! Да и не одного меня, видать, сюда не позвали. Зачислили в актив только тех, кто активно в рот ему смотрит да хвостом перед ним виляет!
Лузгин нахмурился, тяжело засопел, но сделал вид, что не расслышал, о чем говорит Дымшаков, дал знак Мры-хину, и тот словно очнулся, застучал стеклянной пробкой по графину, замихал длинными руками.
— Будем закругляться, товарищи! Значит, кандидатуру Аникея Ермолаевича мы обговорили и завтра сообща будем рекомендовать ее общему собранию и, как положено, всячески поддерживать. Других мнений нет, а потому позвольте наше...
— Постой, Федор, не торопись! — Егор отвалился от стены и вышел на середину комнаты.
Вот она, долгожданная и рискованная минута, о которой мечтал он последние годы. Только бы не сорваться, только бы устоять!
— Постой, не торопись,— повторил он и проглотил тяжелую слюну.
Наступила неловкая и вместе с тем тревожная тишина, какая бывает перед началом большой ссоры.
— Давай, Егор, не бузи! — подстегнутый требовательным взглядом председателя, возвысил голос Мрыхин.— Не затягивай бюро. И так уж сколько паримся. Пришел— садись, веди себя как полагается.
— Нет, разлюбезный Федор, я молчать не буду, когда мне коленом на самое горло наступают!
Не выдеря?ав, вскочила Ксения, их взгляды о Егором скрестились, но она не отвела глаз, лишь слегка порозовела и, убрав со лба темную прядку волос, тихо проговорила:
— Что вы, собственно, предлагаете, Егор Матвеевич? Чтобы мы провели бюро заново, потому что вы опоздали по какой-то причине? Разве вы не знаете Устава? Мы уже проголосовали и не имеем права снова начинать обсуждение только что решенного вопроса.
Кто-то подавился всхлипывающим смешком, похоже — Сыроваткин, и снова повисла в комнате хрупкая тишина. Егор подошел вплотную к столу, опустил на красную материю кулак.
— Я Аникея Лузгина от председателей отвожу!
— А кто ты такой? — вскинулся багровый от злости Никита Ворожнев.— Кто тебя на это дело уполномочил?
Чего ты мелешь — соображаешь али нет? Аникея Ермола-евича сам райком рекомендует, голова!
Ворожнева дружным гулом поддержали бригадир, кладовщик и бухгалтер, но, странно, чем больше они выходили из себя, тем Егор становился упрямее и спокойней. Он переждал, пока не пошел на убыль их напористый, слитный гомон.
— Ты, Никита, загадки тут не загадывай! Кто я такой, ты лучше меня знаешь, немало я тебе крови попортил. И если бы Аникей, твой брательник, не загородил тебя своей спиной, ты давно бы за решеткой скучал, а не в партии числился. Ты лучше скажи, сколько ты поросят с фермы украл?
Удар был хорошо рассчитан и пришелся по самому больному месту, потому что Ворожнев даже растерялся, и кровь отхлынула от его рябого, бугристого лица.
— Ты меня не позорь! — закричал он, суча огромными кулачищами и подвигаясь ближе к Дымшакову.— Ты что, за руку меня ловил?
— Если бы я тебя словил, ты бы у меня не ушел!.. А тут так — жулик жулика захватил, и поквитались! Баш на баш вышло!
Всякий раз, когда Лузгину приходилось выслушивать на собраниях злые выступления Дымшакова или кого-либо другого, он обычно придерживался давно испытанного правила — никак не отвечать на критику и молчать, даже если будут говорить сплошную напраслину. Отмолчавшись, он всегда как бы оставлял за собой последнее слово. А начни объяснять — получится, что ты уже оправдываешься, считаешь себя виноватым. Людей послабее он позже незаметно прижимал, давал им почувствовать свою власть, но действовал так, чтобы они не имели никаких поводов жаловаться.
Пока шла короткая перебранка, он сидел, ни во что не вмешиваясь, только изредка бросая на Мрыхина нетерпеливые взгляды. Сколько ни учи растяпу, он все равно выпустит вожжи аз рук.
Потея, Аникей то вытирал платком шею, лоб, щеки, то улыбался, как бы показывая, что не придает никакого значения скандальным наскокам Дымшакова.
— Ты, Дымшаков, все же голову-то не терял бы! — сказал он, покашливая в кулак.— Она может тебе еще пригодиться.
— Ты свою пощупай, крепко ли она сидит, а о моей не болей! — дерзко и зло ответил Егор.— Да и пора бы с нашей шеи слезть тебе, а то, по правде, засиделся ты на ней, да и шея затекла — не повернешь...
— Я знаю, что ты за словом в карман не лезешь, даже если он у тебя дырявый. Долго я тебя прощал по доброте, но, кажись, хватит с меня. Теперь я тебе все припомню, ты за каждое слово ответишь сполна! Меня что, из чащобы выгнали, чтобы мной страх на всех нагонять?
— Ты, Аникей, хуже того зверя, что из чащобы выгоняют! Того всем видать — хорошенько прицелься и вали! А ты же, как человок, под красным вон знаменем нашим сидишь, от него свет на тебя падает, и вроде ты его за всех в руках держишь, чтобы людям видней было, куда идти. Но ты ж его для себя держишь, обманом, а не для людей, и выходит, что ты хуже волка из чащобы, хуже врага всякого!
Поднялся невообразимый шум и гвалт. Ворожнев, Тырцев, бухгалтер и кладовщик вскочили со своих мест, грохотали об пол стульями, кричали разноголосо, злобно и яростно:
— Да уймите этого прощелыгу!
— Чего ты смотришь, Мрыхин? Ты секретарь ай нет?
— Кто бюро у нас ведет — ты или Егор? Тогда выходи из-за стола — пускай уж он командует, раз ты дал ему такие права!
Мрыхин бестолково мотал руками, звенел пробкой о графин, лысая голова его покрылась испариной, он дергал близко стоявших за рукава, выкатывал в крике глаза, но все было безуспешно. Ворожнев уже протиснулся на середину комнаты и подступал к Дымшакову, держа на весу огромные кулаки. Комкая в руках платок, Ксения стояла и испуганно следила за происходившим, не зная, что предпринять.
— Я прошу...— раздельно и явственно, когда все стали стихать, проговорил Лузгин.— Я прошу, чтобы записали в протокол все, что он тут брехал, как антисоветский элемент. Я от своего не отступлю!
— Валяй записывай! — крикнул Егор и словно повеселел.— Но тогда уж давай записывай и что я еще скажу! Перво-наперво пишите, что Лузгин Аникей нарушает Устав артели, тайно хоронит от колхозников хлеб, который в бухгалтерии нигде не числится, и, пока новый косят, он втирает всем очки в районе и старым хлебом с государством рассчитывается, чтоб раньше всех отрапортовать!
— Нашел чем корить — что я о государстве раньше
всех забочусь! Ты что же, против, чтобы мы поболе хлеба державе сдавали?
— Ты меня на политике, Аникей, не лови1 Я не против того, чтобы лишний хлеб сдать или продать государству, но ведь это не твой хлеб, а колхозный, почему же ты им распоряжаешься один, как помещик? Почему ты людей не спросишь или правление хотя бы, а? Хочешь один впереди всех бежать и перед начальством быть хорошим? Кто тебе дал право с народом не считаться, кто? Я вот в колхозе всю жизнь, а что я сейчас знаю о хозяйстве, кроме своей конюшни? Да ничего! Сколько чего лежит у нас в амбарах, какие запасы, сколько денег у нас — один ты да твой подхалим бухгалтер знаете!..
— Буду доклад делать — все узнаешь!
— Цифрами всем глаза залепишь? Я не о том болею — я не меньше твоего хочу о нашем достатке думать. А тебе невыгодно, чтобы люди все знали, чтобы все хозяйство на виду было.
Аникей снова сидел на стуле, чуть откинувшись на спинку, и, щурясь, с ухмылкой слушал Дымшакова.
— Ворожнев мне говорит, что Аникея сам райком рекомендует и потому, мол, мое дело маленькое — слушать, что велят в райкоме, и баста. А я Лузгипа получше райкома знаю, и неплохо, если бы райком нас сперва послушал, а потом уж советовал. А ежели он для Коробипа такой хороший — пусть возьмет его к себе, а нас от него освободит! Я так считаю!..
Егор замолчал, и Мрыхин, словно только и дожидавшийся этого момента, забренчал по графину пробкой.
— Ну, погорячились немного, и ладно! — сказал он.— Всякое бывает, на то она и критика, чтоб, значит, никто не дремал. Завтра прошу всех без опозданий явиться на собрание и держать нашу линию. А ты, Егор, должен подчиниться большинству — на то и есть в партии дисциплина. Объявляю бюро с активом закрытым.
Это было сделано так быстро, что Егор оторопел. Он бросился было к столу, за которым сидела Ксения, но голос его потонул в общем гуле. Все встали и начали выходить из комнаты.
— Чисто сработано! — Егор задыхался, воротник рубахи показался ему тесным.
Ксения в упор, не мигая, смотрела на него. Губы ее были сжаты с непреклонной суровостью. Тогда Егор метнулся назад, схватил за руку выходившего из комнаты Прохора Цапкина.
— Разве я неправду говорил, скажи — неправду? Прохор отвел в сторону глаза и ответил с загадочной неопределенностью:
— Получилась, брат, сложная структура жизни!
Он любил ошарашить непонятными словами, особенно когда хотел уйти от прямого ответа. Но от Егора не так легко было отделаться.
— Ты что, считаешь, что мы с тобой должны и дальше Аникея терпеть?
— Это смотря но тому, в какой плоскости вопроса к нему подходить,— туманно и многозначительно ответствовал Цапкин.— В одном разрезе он будто и не совсем, так сказать, соответствует, а в другом разрезе — заменить-то его ведь некем. Вот какая выходит стратегия!
— Умный ты мужик, Прохор, а вечно дураком прикидываешься. И не надоело тебе комедь ломать?
Дымшаков сплюнул и пошел навстречу Ч.еркашиной, мерявшей небольшими шажками коридор. Она, видимо, ждала его и, порывисто сжав его руку, горячо зашептала:
— Я так и знала, что ты ему все выскажешь! Я тоже против выступала, но и десяти слов не дали сказать — рот заткнули!
— Что ж ты в молчанку играла, когда я говорил?
— Да ведь мы уже все проголосовали, как же можно орать попусту, когда провели так, что не подкопаешься? Мы же в партии, Егор, и должны подчиняться ее дисциплине.
— Можешь считать эту шайку-лейку за коммунистов, а для меня они обманом в партию пробрались и обманом в ней держатся, и надо огнем выжигать эту погань!..
— Что же ты один сделаешь?
— А я не один, а вместе с партией и народом буду с ними намертво драться!.. За что же люди нас коммунистами считают — чтобы мы их интересы предавали, что ли? Не будь мокрой курицей, Катерина!.. Помни, что люди тебя здесь не в ларьке торговать поставили, а Советской властью выбрали!
Он отмахнулся от подавленной его насмешками женщины и снова вернулся обратно в комнату, где за столом, низко склонясь к бумагам, сидели Мрыхин и Ксения.
— Всегда вот так,— словно рассуждая с собой наедине, тихо проговорил Егор.— Когда надо поддержать — в рот воды наберут, а потом лезут, руки жмут, вроде заодно с тобой думают...
— Это ты о ком? — подняв голову, спросил Мрыхин.
— О ком? — Егор помолчал, не испытывая никакого желания называть Мрыхину имя Черканганой, так как это могло не только повредить ей, но и означало навсегда потерять ее, отбросить от себя.—А не все ли тебе равно? Сам-то ты во сто раз хуже! Без Лузгина пальцем пошевелить боишься, такой он на тебя ошейник надел — на шаг не отпускает.
— Вот видишь, Ксения Корнеевна,— разводя руками и делая обиженное лицо, оказал Мрыхин.— На всех бросается как бешеный! В райкоме меня упрекают — мало, дескать, работаем мы с ним, не разъясняем, а попробуй скажи ему что — он сразу на дыбы становится.
— Тоже учитель нашелся! — Егор не скрывал своего презрительно-насмешливого отношения к парторгу.— Сперва на себя погляди! Выл, мол, когда-то и мастером неплохим, и человеком честным, пока не стал горло водкой заливать. За то и терпит его Лузган, что он своего голоса не имеет и за пол-литра душу черту-продаст.
Мрыхин сгреб со стола бумаги и, не попрощавшись с инструктором, как ошпаренный выскочил из комнаты. Егор дрожащими пальцами скрутил цигарку и закурил.
— Какой вы несправедливый и злой, Егор Матвеевич! — пристально глядя на родственника, проговорила Ксения,
— Зато ты больно добра! Все силы кладешь, чтобы самого подлого человека на первое место опять посадить. Разве тебя партия за этим сюда послала?
— Я, Егор Матвеевич, свои обязанности знаю,— как можно суше ответила Ксения, точно боялась, что Дымшаков оскорбит и ее.—Если вы считаете, что я веду себя здесь не по-партийному, то ваше право написать об этом в райком!
— Кому писать-то — Коробину? — Егор нехорошо осклабился.— Я еще сказку про белого бычка не позабыл! Пришлют вместо тебя другого толкача, и все начинай сначала...
Ксения была довольна, что бюро, в общем, благополучно кончилось, и теперь хотела, не вызывая в Егоре нового взрыва злости, успокоить его и уговорить правильно вести себя на завтрашнем собрании.
— Надеюсь, ты с утра никуда не уезжаешь? — спросила она.
— Один раз охмурил — хватит,
— Да нет, я совсем не хотела, чтобы ты куда-то уезжал. Можешь даже и на собрании выступить — покритиковать как следует Лузгина...
— А мне твоею разрешения не требуется,— по-прежнему непримиримо отвечал Егор.— Я сам знаю, что мне делать.
— Но не станешь жо ты теперь отводить его кандидатуру, когда все коммунисты решили его рекомендовать общему собранию?
— Все равно но буду я вам подчиняться. Ишь чего захотели!
— Да но мне, а товарищам по организации, большинству.
— Это ворожневская банда., что ль, большинство? Нет, большинства-то как раз ты и не увидела. Сдохну, а с ними меня в один сноп никто не свяжет! Да будь моя воля, я бы завтра их поганой метлой из партии вымел... Нет уж, племянница дорогая, ты меня не гладь — я не телок. Я про Устав тоже не забываю, но он мне велит, чтоб я на своем стоял и не давал гадам передыху!
— Это может кончиться для тебя плохо. Как бы билетом не поплатился.
— А ты меня не стращай, не ты мне его давала, и не тебе его отбирать. Пока живой хожу, от партии никто меня не оторвет, силы у вас не хватит.
Он поднялся, и они с минуту строго и отчужденно смотрели друг на друга. Все было ясно, но Егор еще почему-то медлил, не уходил.
— Что тетке-то сказать? — наконец решился спросить он.— Придешь ночевать к нам или нет?
— У меня еще есть дела, так что не ждите — я тут как-нибудь пересплю.
— Понятно,— протянул Егор.— Живешь вроде по Уставу, а через себя перешагнуть не можешь.
Только на улице, когда Егора обступила холодная морозная темь, он пришел немного в себя и, может, впервые с такой ясностью понял, что ничего не добился.
«Неужели больше ничего нельзя сделать? — подумал он, с тоской всматриваясь в огоньки деревни.— Так вот и опустить руки, признать верх этого жультреста? Ни за что! Пойду в каждую избу, скажу всем, что от них зависит, быть Лузгину у нас или не быть, всю ночь буду ходить, а своего добьюсь!»
Он сделал несколько шагов, пересекая наискосок улицу, бредя на первый в ночи огонек, но остановился. Нет, Егор, не дело ты затеял! Зачем тебе рыскать по избам и сговаривать людей против Аникея? Ты же коммунист, и негоже тебе нападать на него из-за угла, со спины — это он всегда крадется по жизни как вор, а ты бей его на виду у всех, по-честному. Не может быть, чтобы народ сам пошел против себя!
Он повернул назад и зашагал к своей избе. Анисья на стук быстро открыла, словно все время стояла за дверью и ждала его возвращения.
— А я недавно ребят уложила, насилу угомонились, пристали: где тятька, да и только,— говорила она, помогая Егору раздеться.— Изголодал, поди, совсем? Садись похлебай щей горячих, в загнетке томятся...
Она все поняла, взглянув в лицо мужа, но ни о чем его не спрашивала — сняла с него шапку, стянула разбухшие валенки, нарезала хлеба, достала из печки чугунок.
— Кормилица-то наша последние дни, видать, ходит, Егор,— тихо продолжала она, стараясь отвлечь мужа от тягостных мыслей.— Соломки ей давеча подложила, а она ровно все понимает, глядит прямо как человек — не поверишь!
Егор почти не вслушивался в голос Анисьи, думал о своем, черпал ложкой щи. А Анисья все говорила и говорила, пока он, словно отходя после лютого холода, не начал ей кивать. Она целый день пробыла без него, ей было что порассказать о ребятишках, о домашних делах, обо всем, что она думала сама.
Скоро уже Егор не пропускал ни одного ее слова, с нежностью смотрел на лицо жены и устало улыбался.
— Зря я с ума сходил, Аниска,— тихо признался он.— Опять Аникей наверху.
— Ну и леший с ним! Я наперед знала, что так будет, да тебя разве остановишь? А ты не горюй, хуже, чем было, не будет, а нам с тобой не привыкать, впервой, что ли,— за нуждой к людям не ходили, своей было хоть отбавляй. Эка невидаль!
Егор хорошо понимал, что Анисья страдает сейчас не меньше, чем он, но такой уж был у нее характер, не любила показывать свою слабость никому, не кривила совестью никогда, не шла на поклон ни к кому в самые лихие годы.
— Пропал бы я без тебя,— сказал Егор и взял в свои руки руку жены.— Что бы делал — не знаю, родная ты моя... душа...
— Да будет тебе,— смущенно отмахнулась Анисья, и на глазах ее нежданно проступили слезы, а смуглые щеки окрасил румянец,— Иди ложись, устал до смерти, а завтра рано вставать...
Когда Егор вышел, хлопнув дверью, Ксения бросилась за этим сумасшедшим мужиком — остановить, удержать от безрассудного поступка, который он мог совершить завтра. Однако Егора в коридоре уже не было, она выбежала за ним на улицу, но кричать не решилась. В конце концов сам не маленький, есть своя голова на плечах. Сорвется— пусть пеняет на себя. Она сделала все, что могла, лишь бы убедить его, что он не прав и поступает не так, как подобает коммунисту.
И все-таки, несмотря на этот, казалось бы, ясный, трезвый вывод, ей почему-то не становилось легче. Все, что произошло на бюро, подействовало на нее угнетающе, смешало ее мысли и чувства, и она, по совести, даже не представляла себе, сумеет ли хорошо провести завтрашнее собрание.
Она ходила от стены к стене, по привычке терла, как бы умывая, ладони, в комнате было еще сизо и душно от дыма, хотя через маленькую форточку вливались морозные волны воздуха и колебали язычок пламени в керосиновой лампешке, которая задыхалась и сипела.
«А что, если все, что говорил Егор, правда? — подумала Ксения и остановилась.— Бывает же так в жизни, когда правым оказывается один, а не все».
Она не была уж такой наивной и бестолковой, чтобы мириться с тем, что мешает людям лучше жить и работать, но бунтарский дух Дымшакова грозил самому главному, без чего она не мыслила крепкой организации,— единству и сплоченности. Дай волю вот таким анархиствующим — и завтра же под видом очищения от всего плохого они не пощадят ни одного авторитета, поднимут руку на незыблемые принципы, посеют сомнение, расшатают всякую дисциплину. Никто не возражал против критики,— пожалуйста, критикуй, но делай это разумно, в рамках партийности, не нанося ущерба партии, не вредя делу.
Может быть, Ксения проходила бы так до утра, если бы ей не пришла в голову мысль позвонить Коробину. Телефонистка в районе некоторое время, видимо, колебалась, соединить ли ее в полночный час с квартирой секретаря, и, только еще раз переспросив, дала вызов. К телефону долго никто не подходил, и Ксения уже хотела положить трубку, когда раздался недовольный и строгий голос Ко-робина. Она извинилась, что беспокоит его в такое время, но секретарь нетерпеливо прервал ее:
— Ладно, ладно, что там у вас?
Ей казалось, что она говорит совершенно спокойно и убедительно, с присущей ей последовательностью, не упуская ничего важного и одновременно не забывая о подробностях, которые ему тоже необходимо знать. Она но замечала, что голос ее звучит напряженно, что, рассказывая, она перескакивает с одного на другое, и, так как Коробин слушал ее, не прерывая, она все больше чувствовала его незримое присутствие и терялась перед его угрюмым, неизвестно что сулившим вниманием. Она представила себе, как он, насупясь, держит левой рукой трубку, а правой чертит карандашом на каком-нибудь клочке бумаги, углы рта опущены, глаза щурятся на свет.
— Ну так что же вас беспокоит? — словно не принимая в расчет ничего из того, о чем она рассказала, спросил Коробин.
— Я просто боюсь завтрашнего собрания, Сергей Яковлевич, говорю вам откровенно...
— Напрасно.—В голосе секретаря был уже тот холодок, который всегда действовал на нее успокаивающе.— Не нужно было позволять Дымшакову разводить демагогию. Но раз уж это случилось, у вас была возможность в конце бюро осудить его поведение, ведь коммунисты не поддержали его, чего же вы струсили? Учи вот вас, а толку никакого! Не впадайте в панику! Если Дымшаков все-таки выступит, подготовьте коммунистов, и пусть они дадут ему настоящий отпор. Как у него с трудоднями — он выработал положенный минимум?
— С этой стороны к нему не придраться — Дымшаков работает очень хорошо, и спорить с ним, Сергей Яковлевич, нелегко, уверяю вас...
— Вы поменьше уверяйте себя в собственной слабости! — наставительно-строго сказал Коробин, и Ксения поняла, что он начинает раздражаться.— Смешно, что все вы не можете сладить с одним дезорганизатором!
«Хотела бы я посмотреть, как бы это сделали вы!» — чуть не вырвалось у Ксении. Однако заявить так — значило открыто признать, что она не способна самостоятельно
выполнить поручение райкома. Чем дольше она говорила с секретарем, тем сильнее убеждалась в том, что Коробин или не понимает ее, или действует по грубому принципу: бросили тебя в речку — и давай плыви! Выберешься — сразу всему научишься, а потонешь — что ж, выходит, тебе не плавать! Немного поколебавшись, она решила быть откровенной до конца:
— А что мне делать, Сергей Яковлевич, если Аникей Ермолаевич вдруг не наберет нужного количества голосов?
— Никаких вдруг! — властно и жестко проговорил Коробин.— Мы вас для того и послали, чтобы этого не произошло. И я вам советую ни на минуту не забывать о том, что вы должны проводить линию райкома, а не заниматься личными переживаниями. Вот так. Желаю успеха!
Ксения стала возражать, но Коробин не отвечал. Она зачем-то подула в трубку, потрясла ее и, только, услышав тихое потрескивание, поняла, что их не прервали, а просто секретарь не захотел больше с нею разговаривать. Раньше он себе этого не позволял — был всегда строг, требователен, но терпеливо выслушивал и не отказывал в поддержке, а сегодня отмахнулся от всех ее тревог и сомнений, как будто она вместе с ним не озабочена тем, чтобы в Черемшанке все прошло хорошо. Неужели он не догадался, не почувствовал, что ей сейчас очень трудно?
После бесцельного блуждания по комнате Ксения не выдержала и, набросив на плечи пальто, вышла на улицу.
Над деревней безмолвствовала морозная звездная ночь. Было глухо, пустынно. В густой тьме нахохлились избы, в дремотном их тепле спали сейчас люди, которых завтра ей нужно было во что бы то ни стало убедить в том, что именно Лузгин, а не кто другой должен вести колхоз дальше.
Она чувствовала себя беспомощной и одинокой. Если бы рядом с ней был Иннокентий, ей, возможно, было бы легче, но как раз его-то меньше всего хотелось сейчас видеть.
...Прошло уже больше недели, как Ксения вернулась от него на рассвете и крадучись пробралась в свою комнатенку. Она налила тазик воды, натерлась до красноты мокрым полотенцем, переменила белье и быстро легла в постель.
Утром, встретясь с Иннокентием, Ксения вдруг почувствовала к нему глухую неприязнь. Против воли поднималось в душе что-то мутное, противное, и она не могла вынести присутствия человека, с которым стала близка,
А Иннокентий, ослепленный своим счастьем, ничего не, замечал: с губ его не сходила довольная улыбка, в нем было одновременно и что-то робкое, и торжествующее, и это тоже было неприятно Ксении. Хорошо хоть нашлась причина, которая позволяла ей хотя бы временно не встречаться с ним.
А может быть, снова виной всему был Мажаров, давший знать о себе спустя столько лет? Не было дня, чтобы Ксения не думала о нем. Она ни минуты не сомневалась, что им руководили только эгоистические и корыстные цели, когда он решил снизойти до работы в деревне. При той душевной открытости и симпатиях, которыми сейчас окружали людей, отправлявшихся па помощь сельскому хозяйству, было легко взметнуться па гребень мощной волны и сделать себе карьеру!
Мысль о том, что Мажаров сможет использовать в своих низких интересах светлый и чистый порыв людей, их доверие, лишала Ксению душевного покоя. Если Мажаро-ву ничего не стоило надругаться над ее чувством, то он без зазрения совести сможет надругаться и над чем-то неизмеримо большим!
В черном провале неба роились скопища звезд, скрип снега под ногами, казалось, был слышен по всей деревне, но, когда Ксения останавливалась, тишина давила, звенела в ушах. Она принималась снова ходить взад и вперед по улице, точно это могло освободить ее от неутихающей, исподволь сосущей тревоги — что ожидает ее завтра?
Доклад длился уже больше часа. В старую церковь, еще в тридцатые годы переделанную под клуб, только по большим праздникам отапливаемую железной печуркой, народу набилось до отказа — плотно сидели на деревянных скамейках, на корточках у стен, па подоконниках, стояли по углам, толпились в тамбуре. Скоро так надышали, что серые стены, крашенные масляной краской, запотели, хотя от каменных плит пола тянуло холодом. Редкие плакаты и лозунги в этом неприютном, похожем на подвал или погреб помещении выглядели чужеродно и странно и еще резче подчеркивали неприглядную запущенность клуба. Сцены не
было, и президиум расположился за длинным столом около стены, где когда-то находился алтарь, вход в который теперь был замурован кирпичами. Стоявшие посредине клуба колонны многим заслоняли президиум, и люди то и дело клонились в сторону, чтобы видеть председателя, совсем утонувшего в фанерной, обитой красной материей трибуне.
Когда Лузгину предоставили слово и он стал втискиваться в узкую для его грузной фигуры трибуну, раздался дружный хохот, и кто-то под общее веселье предложил стесать председателя с одного бока топориком.
Такое начало собрания расстроило Ксению, но, к ее удивлению, понравилось самому Лузгину. Он с минуту ворочался в тесном футляре трибуны, сдвинул ее с места, приподнялся, как бы надевая на себя, и все это под неумолчный смех и гогот, и Ксения догадалась, что он делает так нарочно, чтобы расшевелить всех и расположить к себе.
Но вот Лузгин прокашлялся, оттопырил свои мясистые губы, подождал, когда стихнет шум в клубе, и серьезно, уже без улыбки, принялся читать отпечатанный на машинке доклад.
И мгновенно смыло веселое оживление, погасли глаза, загустела тишина, и скоро почти на всех лицах появилось равнодушное, отсутствующее выражение, словно люди приступили к необходимой, но утомительно скучной обязанности.
Ксения была поражена этой внезапной переменой и не знала, чем ее объяснить: то ли усталостью людей, то ли их полным безразличием к тому, о чем монотонно, усыпляюще ровно и бесстрастно докладывал Лузгин. Он раскраснелся, с его выбритых щек катился пот, он то и дело тыкал комком носового платка в лицо и продолжал читать, часто сбиваясь на цифрах, произнося их невнятно, проглатывая.
Вчера, когда Ксения знакомилась с докладом, он не показался ей таким удручающе однообразным и безжизненным; так мог рассказать о жизни колхоза кладовщик, производящий переучет всего что имеется у него на складе, но не руководитель большого коллектива, где у каждого есть свой характер и свои мысли о хозяйстве. Да, но почему же в чтении доклад представлялся ей вполне разумным, правильным и не вызывал никаких сомнений? Неужели это произошло потому, что сегодня она слушала его на людях, вдумывалась во все цифры, замечала всякие ме-
лота, волновалась за исход собрания и каждое слово уже звучало для нее по-другому?
Ксения всматривалась в обветренные, напряженно-спокойные лица с каким-то иным, обновляюще острым любопытством, и они не казались ей, как час тому назад, равнодушно-отсутствующими — нет, каждое лицо жило своей жизнью, своей мыслью, отличалось своим выражением. Доклад был явно неудачный, но Ксения не испытывала сейчас ни горечи, ни досады, а скорее радовалась тому, что он помог ей по-новому взглянуть на все, что происходило на собрании, как бы глазами тех людей, что сидели в полусумрачном зале.
«Нет, Лузгииа все-таки уважают здесь как хозяина,— подумала она.— Иначе никто бы не заставил этих людей второй час подряд слушать нудный и никому не нужный перечень мероприятий и цифр».
В клубе было по-прежнему тихо, лишь изредка в задних рядах кого-то бил надсадный простудный кашель да звенел пробкой графина Егор Дымшаков, наливая себе очередной стакан воды. Пил он гулко, врастяжку, на виду у всего зала, и Лузгин то и дело косился на него.
Ксения была довольна, что Егора выбрали в президиум, он сидел на противоположном от нее конце стола, весь подобранный, непроницаемо спокойный. Он был для нее главной опасностью, от него можно было ждать всего. Пока он вел себя сдержанно, и Ксения не знала, хорошо это или плохо, но то, что он находился в президиуме, как бы налагало на него дополнительную ответственность и сковывало его бунтарскую силу. Кроме того, прошла целая ночь, и, конечно, на него не могло не повлиять то, что случилось вчера на бюро, когда его никто не поддержал. Это должно было заставить его кое о чем задуматься!
Рядом с Егором Дымшаковым, упираясь локтями в стол, ощупывая всех в зале колючими, недобрыми глазами, согнулся Никита Ворожнев. Сидел он неподвижно, грузно, и, хотя с Егором его как бы разделяла невидимая стена, было заметно, что он все время настороже и готов в любое мгновение предупредить дерзкую, разрушительную выходку Дымшакова. По другую сторону от Ворожнева хмуро щурился Федор Мрыхин, за ним робко сутулилась доярка Гневышева, как всегда молчаливая и замкнутая, между нею и Ксенией поместилась Екатерина Черкашина и, заслоняя ладонью глаза, чертила что-то на листе бумаги. Секретарствовал, как издавна было заведено, кладов-
щик Сыроваткин. Писать ему, пока Лузгин делал доклад, было нечего, но он для виду склонялся над столом, глубокомысленно задумывался и, оттопырив мизинец, что-то писал в толстую конторскую книгу. Около него, приткнувшись к краю стола, сидела, строго поджав губы, зоотехник Зябликова. Она была еще молода, но, преждевременно увянув, казалась высохшей, морщинистой старухой. С остроносого лица ее никогда не сходило выражение брезгливого недовольства.
Вести собрание поручили Прохору Цапкину — он восседал за столом президиума в распахнутом пиджаке, слепя глаза оранжево-яркой рубахой, сложив на груди руки, гордый сознанием возложенной на него почетной и важной обязанности. Стоило кому-нибудь завозиться, как он без всякой нужды звонил в колокольчик.
Видимо, он до тонкостей знал всю процедуру ведения общих собраний, потому что не успел Лузгин замолчать и выбраться из трибуны, как Цапкин поднялся над столом и картинно выбросил вперед руку.
— Граждане колхозники! Какие имеются суждения — откроем сразу прения или покажем свою принципиальность в вопросах!
«Вот шут гороховый! Он может все испортить своим ненужным краснобайством!—подумала Ксения.— И никто его не поправляет. Наверное, тут давно привыкли к его замысловатым оборотам».
Зал загудел негромко, но слитно, потом кто-то крикнул из задних рядов:
— Перекур давай! Терпенья нет!
Как бы испытывая свою председательскую волю и власть, Цапкин навел тишину, соблюдая все формальности, и, проголосовав за поступившее предложение, объявил перерыв. Лишь после его разрешения весь зал всколыхнулся, забурлил, и Ксения с невольным уважением посмотрела на Цапкина.
Члены президиума разбрелись кто куда. Один Дымшаков, не изменив позы, остался сидеть за столом, словно не замечая ничего вокруг. Что он желал этим показать, было непонятно. Неужели все еще упрямится и считает правым одного себя? Ксении на мгновение стало жаль его, одинокого, покинутого...
Когда все снова собрались, она насторожилась: в перерыв никто не записался выступать, и, несмотря на настойчивые просьбы Цапкина, ни один человек не вызывался начать прения. Даже вопросов и тех не задавали.
— Граждане колхозники! — посылая приветливые, улыбки в зал, говорил Цапкин.— Где же ваша сознательность, я спрашиваю? Мы сюда пришли не семечки щелкать, а навести критику и самокритику на высоком уровне. Я так понимаю. А получается вроде игра в молчанку — кто кого перемолчит!
Он явно терял свою недавнюю самоуверенность и чем-то напоминал человека, которому приходится плавать там, где вода доходит только до колен.
«Важно, чтобы кто-нибудь начал,—думала Ксения.— А там раскачаются, разойдутся».
Она не раз бывала па собраниях, которые разворачивались вот так же трудно. Нужно было проявить немалые усилия, чтобы сдвинуть их с мертвой точки, задеть интересы людей, вызвать на разговор. Однако сегодня время раскачки непростительно затягивалось, и Ксению уже начала пугать таившаяся в зале немая сила.
«Что же это такое? — лихорадочно соображала она, пытаясь найти объяснение тому безразличию, которое охватило всех.— Не может быть, чтобы они, все как один, стеснялись или робели, они же знают друг друга. Да и разве что-нибудь остановит человека, если ему есть что сказать? Нет, тут что-то другое! Неужели Дымшаков прав и они на самом доле кого-то боятся? Но кого?»
Она осмотрела президиум и остановила свой взгляд на Никите Ворожневе. Почему этот-то молчит? Ведь он горой стоит за председателя, даже его родственник. Или он начнет только в том случае, если кто-нибудь нападет на Лузгана?
«А что, если вдруг вообще никто не станет говорить? — с ужасом подумала Ксения.— Тогда действительно получится ерунда — люди собрались, а собрания не было. Ни один колхозник не выступил, не оценил ни работу правления, ни председателя».
Ксения попросила слова и поднялась.
— Я не понимаю, товарищи, вашей пассивности! В чем дело? Неужели ваши дела идут так прекрасно, что и разговаривать не о чем? Ведь не часто вы подводите годовые итоги и решаете, как вам жить и работать дальше!
Слушали ее внимательно, ей казалось, что она говорит горячо, убедительно, но, когда она кончила, зал ответил негромким, нарочитым покашливанием, словно людям было неловко за ее поведение. А затем снова все затянула прежняя зыбкая, обманная, как трясина, тишина. Цапкин уже не улыбался. Так и не сумев никого уговорить, он на-
конец не выдержал, вышел к трибуне, облокотился на нее и заговорил высоким, странно изменившимся голосом:
— Мировая обстановка, товарищи, на сегодняшний день дает себя знать, и тот, у кого в этой области имеется недопонимание вопроса, должон понять, что лагерь империализма не дремлет, хотя и трещит по всем швам!..
«Боже мой! — краснея от неловкости и стыда, думала Ксения.— Что он говорит? При чем тут мировая обстановка? И откуда он набрался всей этой премудрости?»
Но остановить Ципкипа казалось просто невозможным — будто перед тысячной толпой на площади, выбрасывая вперед руку, он поднимал кулак, как бы угрожая кому-то; сочный, высокого тембра голос его то поднимался над залом, то опускался до завораживающего шепота. Он свободно переходил от одной страны к другой, раскритиковал Организацию Объединенных Наций, в которой Америка до сих пор сколачивала угодное ей большинство, и скоро увел слушателей далеко от будничных артельных хлопот и дел. Так и не сказав ничего о жизни колхоза, он вернулся на свое место под одобрительные хлопки всего зала.
Теперь Ксения была бы рада всему, что могло хоть на какое-нибудь время отсрочить несуразный конец собрания, заполнить эту давящую тишину.
«Но что же делать? Что делать?» — думала она и в этот момент заметила робко вынырнувшую среди голов белую тонкую руку. Цапкин торжественно назвал фамилию какой-то женщины, и Ксения наклонилась к Черка-шиной.
— Кто такая?
— Это Агаша Пономарева... Я вам о ней как-то рассказывала, помните, ее еще по-уличному здесь прозывают — Отрава.
Женщина в белом платке неторопливо пробралась к президиуму, но на трибуну не встала, а остановилась перед столом, окидывая смелыми глазами притихший зал. Крупные оспины не портили ее смуглого обветренного лица, в каждом движении ее чувствовалась естественная свобода и простота, словно она и не стояла на виду у трехсот людей, выжидательно смотревших на нее. Вот она поднесла руку ко рту и двумя пальцами, как бы собирая в горсть губы, вытерла их. Ксения не раз наблюдала это чисто русское движение у матери и других крестьянок. Лицо Агаши, еще темное от летнего загара, резко выделенное белизной платка, дышало здоровьем и силой.
Цапкин предложил ей пройти к трибуне, но она отмахнулась.
— Ничего, я и отсюда скажу — слышней будет! — Голос ее звучал ровно и мягко, с той певучей плавностью, которой отличаются голоса многих сельских женщин.— Перво-наперво у меня слово к Аникею Ермолаевичу! — Она полуобернулась к председателю.— Скажите, как вы по работе меня считаете — справно я тружусь или, может, приневоливать меня приходится?
— Не знаю, как у других, а у меня претензий к тебе иету,— ответил Лузгин.
— Спасибо вам! — Агаша довольно кивнула.— А то я в прошлом году сказала кой-кому поперек, а меня ославили за то, что раза два па поле опоздала. Никита Ворожнев коршуном налетел, чуть не заклевал!
В зале засмеялись, и, словно подбодренная этим смехом, Агаша сказала:
— Когда я опоздала, он страсть как переживал. Будь его воля — кулаки бы в ход пустил. А что его баба второй год в поле глаз не кажет, ему горя мало! А она, милка, уж так растолстела, что в дверь не пролазит. Сзади двум мужикам не обнять, а одному уж и не берись — рук не хватит!
По залу, то стихая, то нарастая, катились волны смеха, но Агаша стояла без улыбки, сурово и непреклонно сжав губы.
«Вот не побоялась же она никого!—обрадованно думала Ксения.— Значит, Егор, как всегда, все преувеличил».
Она оглянулась на Дымшакова. Лицо его по-прежнему было непроницаемо, темно, как чугун, только неподвижные глаза будто ожиля немного, потеплели.
— А у Аникея нашего жена тоже больная и по болезни в колхозном ларьке на базаре сидит все лето,— продолжала Агаша, когда в зале стихло.— Кто за ней считает, может, она половину денег себе кладет?
— А ты бы, вместо того чтобы языком трепать, на фактах доказала! — крикнул весь багровый от злости Ворожнев,— Отрава, она отрава и есть!
— Не стесняйся, Никита, ты меня и не так еще костерил! — сдержанно ответила Агаша.— Я с Серафимой ездила как-то разок на рынок, насмотрелась — чуть не вырвало. Раньше про таких говорили, что за копейку воздух в церкви испортит. А Ефим Тырцев в ревкомиссии у нас ходит, какой резон ему с председателем ссору заводить?
У него у самого рыльце в пушку — его жена дома день-деньской отсиживается, словно на откорм ее держат!
Ксения не узнавала сидевших в зале людей — сковы-вавшее их оцепенение исчезло, они отвечали на каждое замечание Лгаши взрывом смеха, по рядам шел клокочущий гул, и, словно мод сильными порывами ветра, зал, как выколосившаясь рожь, то клонился и одну сторону, то вновь выпрямился, чтобы через минуту качнуться в другую,
Я, конечно, знаю — даром мне это не пройдет. Меня за мой язык не ныне завтра притянут и прижмут,— тихо, но упорно говорила Агаша.— Но и молчать больше невмоготу! Да и кого нам бояться в своем родном доме?
Что-то в ее манере держаться и говорить напоминало Дымшакова, но у нее была своя удаль, своя сила насмешки, и если вначале Ксения обрадовалась ее выступлению как разрядке, то теперь с тревогой прислушивалась к каждому ее слову.
— Нам, вдовам горьким, одна мука! —Агаша передохнула и, обведя разгоряченным взглядом весь президиум, досказала: — Мы на своем горбу весь колхоз тащим, а Аникей к нам относится хуже, чем к скоту. Слова хорошего не слышим ни от него, ни от бригадира, только и знают лаяться! За лошадью придешь — наплачешься, пока выклянчишь. За соломой на крышу — шкуру сдерут. А что мы — проклятые, что ли? Не хотим по-людски жить?
Стыла, как тонкий, готовый рухнуть ледок, тишина.
— А почему никто в районе за нас не заступится? Почему никто не даст по ноздрям тем, кто нас за людей не считает? — гневно спрашивала женщина.— Да потому, что сами мы молчим и дали жуликам в нашем колхозе полную полю-волюшку! Не грызи меня, Ворожнев, глазами — подавишься!
Зал вскрылся, как дождавшаяся своего срока река в половодье.
— Ве-ер-на-а!
— Дома себе под железо отгрохали!
-- Одни бабы робят, а мужики все в начальниках ходят, ручки в брючки — и посвистывают!
У них одна ласка — мат или штраф!
Зато перед районом они завсегда хорошие! Набили руку!
— Мастера глаза замазать и пыль пустить. На три яйца сядут, а говорят, что девять цыплят вывели...
— А пас одними посулами кормят! Три года сено обещают, и все обман!
Бросив писать протокол, вскочил среди гвалта и криков Сыроваткин — взъерошенный, рыжий, сам что-то орал до хрипоты, но его обозвали холуем и не стали слушать.
— Это оскорбление личности! — визжал кладовщик.
— Личность ты давно потерял! — неслось ему в ответ.— Одна морда осталась, и та мало битая!
Ксения несколько раз вставала, пытаясь унять разбушевавшийся зал, но голос ее, как щепку, относило клокочущим водоворотом. Она в отчаянии переводила взгляд с одного члена президиума на другого, моля о помощи, но чувствовала, что все растеряны не меньше и не знают, что делать. Только Егор Дымшаков, по-видимому, ничему не удивлялся. От его безучастности не осталось и следа, он был весь как па пружинах, вместе со всеми, не сдерживаясь, хохотал, запрокидывая голову, скаля белые зубы. Ксения поймала себя на том, что даже завидует той естественности и свободе, с какой ведет себя Дымшаков. Ее подхлестывала тревожная, мятущаяся мысль: «Но если народ против Лузгана, то что же делаю я, а вместе со мной и коммунисты колхоза? Должны ли мы пойти наперекор всем и во что бы то ни стало отстаивать старого председателя или в новой обстановке нужно поступать как-то иначе?»
Напрасно Прохор Цапкин тряс колокольчиком, булькающий звук его, как комариный писк, тонул в буреломе голосов и шума. Казалось, не было силы, способной привести людей в спокойное состояние. Но вот Ксения увидела, как поднял руку Дымшаков, и зал сразу подчинился этому простому, почти незаметному движению и стих.
— Я долго говорить не буду,— тихо сказал Егор и поднялся за столом, щурясь, как бы прицеливаясь.— Тут дело ясней ясного. Но все ж забывать нам не след, что и гнилой пень годами в земле сидит, потому что глубокие корешки пустил. То; о чем мы кричим, — это все снаружи, сверху, всем видать, а надо рыть до последнего корешка, чтоб и трухи не оставалось.
Он помолчал, отыскивая кого-то глазами в зале.
— А что наш пень крепко загнил — это я вам сейчас на примере покажу. Для начала я у всех, кто тут сидит, спрошу вот о чем — получал ли кто прошлой осенью солому на крышу или нынче весной для подстилки скотине?
— Не-ет! Скорее у курицы молока выпросишь! — отозвались из разных концов зала.
— Курица дура! — посмеиваясь, сказал Егор.— Она все больше от себя гребет, а наши радетели знай под себя, да так, что иной раз ни себе, ни людям ничего не достается! Бригадир тракторной бригады Молодцов случайно по здесь?
— Здесь! Бои степу подпирает!
— У моим к нему попрос — Егор подождал, пока бригадир выступит ни угла на свет.— Скажи, Алексей, перед народом — весной, когда пахать начали, много соломы было на пиле?
И но считал,— став сразу кирпично-красным, ответил Молодцов.— Но порядочно...
— Куда она делась?
— Сожгли, куда же ее,— словно не чувствуя расставленной ловушки и с охотой влезая в нее, сказал бригадир.— Она нам пахать мешала...
Собрание угрожающе загудело, но Дымшаков снова одним взмахом руки остановил шум.
— Значит, скорее ее можно было сжечь, чем людям раздать?
— А ты что за такой прокурор, чтобы всех пытать? — вскинулся Никита Ворожнев.— Кто тебе дал такое право?
Егор рассмеялся.
— Не торопись, Ворожнев, от прокурора тебе все одно по уйти. А пока расскажи, лучше народу, как ты с Молодцовым по приказу Аникея копны жег.
— Траву я жег, а не солому!
— Это когда же ты траву от соломы разучился отличать, а? Напомни ему, Молодцов! Ты. это делал, потому что считаешь — твоя хата с краю, лишь бы поскорее вспахать, и с рук, долой. А Ворожнев-то знал, что он нашу нужду ногами топчет. Отвечай: было так или нет?
— А что мне прятаться! — угрюмо отозвался Молодцов.— Что мне велели, то я и делал...
— А если б завтра тебе велели свой дом со всех углов поджечь? — крикнул кто-то из задних рядов.
— Не один я солому жег...— упавшим голосом оправдывался Молодцов.— Спервоначалу Никита под все копны петуха пустил... А я уж потом... Чтоб, значит, побыстрей горело,..
Стоголосо взревело собрание, все повскакивали с мест, кто-то стучал ногами, кто-то свистел, заложив пальцы в рот, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы за столом президиума, не прося слова, молча не поднялась бы Екатерина Черкашина. Упираясь кулаками в стол, грозно
насупившись, она стояла и до тех пор смотрела в зал, пока все не начали постепенно затихать.
«Неужели все погубит какая-то солома? — растерянно недоумевала Ксения.— Да и что можно сделать, если Луз-гин настроил против себя всех? Спасет ли его теперь своим авторитетом даже председатель сельского Совета, хотя ее и очень уважают? Да, нелегкую берет она на себя задачу!»
— Я думаю,— тихо и раздельно проговорила Черка-шина, и голос ее дрогнул, словно от нерешительности.— Я думаю, что Лузгин давно изжил себя как руководитель, изжил себя как коммунист и даже как человек...
«Да что они все —с ума посходили?» — глядя на взволнованное, полное отчаянной смелости лицо женщины, подумала Ксения, замирая от предчувствия чего-то еще более недоброго и страшного, чем она только что слышала.
— Что он со своими дружками руки загребущие запускал в артельный карман и ни с кем не считался — это лишь одна беда. А еще худшая беда, что он весь колхоз наш губит, под корень режет...
— Ты словами-то зря не кидалась бы, товарищ Черкашина! — посоветовал ей из рядов бухгалтер Шалымов.— Так ведь можно что угодно о человеке сказать... Правда — она фактики любит!
— Видишь ли, товарищ бухгалтер,— в тон ему спокойно и ровно ответила председатель Совета.— Если вас копнуть, то и факты найдутся. Но иной раз есть и такие подлые дела, что их документами не докажешь. А Лузгин плох тем, что колхоз в свою вотчину превратил, души людские разлагает, веру в колхоз убивает...
«О чем она говорит? И почему она не сказала этого вчера на бюро?» — опустив голову и ни на кого уже не глядя, подавленно думала Ксения.
— Могут спросить: а где ты, мол, раньше была? — как приговор звучал голос Черкашиной.— Что ж, прятаться не буду — скажу как есть. Лузгина ведь за что всегда ценили в районе? За то, что он слово держал, всегда первым о выполнении плана докладывал! А чего начальству еще требовать, если все планы выполняются? Ну и я тоже так тогда считала и уважение к нему имела, когда видела, что он об интересах государства в первую очередь болеет... А когда мы ему позволили все решать одному и он взял над всеми власть, тут он стал изнутри загнивать. Тогда уж и побаиваться его стали... Ну, а время не такое было, как нынче,—скажешь, да оглянешься! Пойди про-
тип Лузгииа, тебе и пришьют, что ты против государства выступаешь... А теперь, когда сама партия призвала, чтобы мы с такими людьми полный расчет произвели, довольно нам с ними нянчиться!
В зале было так тихо, словно все вдруг покинули его. В грохоте аплодисментов, что обрушились разом, не сразу наметили, как потянулись ввеерх смуглая рука доярки Гне-вышевой, И так как никто не обращал на нее внимания, Гневышева сама стала пробираться к трибуне, и в зале повисла мгновенная тишина.
Ксении было невдомек, почему появление на трибуне Гневышевой заставило всех сразу насторожиться и замолчать. Никто не помнил, чтобы она вообще когда-нибудь выступала на народе, за исключением тех редких торжественных моментов, когда ее приглашали в район для вручения очередной премии. Получив отрез на платье или костюм, она обычно тихо произносила: «Спасибо»,— кланялась почти в пояс, стоя лицом к залу, и, пунцовая от смущения, поскорее садилась па свое место. О ней пошла добрая слава — ещо в то годы, когда се Степан председа-тельствовал здесь, Авдотья не гнушалась никакой работой, трудилась наравне со всеми в полеводческой бригаде, затем на форме. После того как муж ее был осужден и пропал без вести, она чуть не с год ходила почерневшая и тихая. Горе сделало ее еще более замкнутой и скупой на улыбку и веселье, все силы теперь она отдавала работе и детям, которые тоже росли скромные, сдержанные, точно запятнанные той тенью, что когда-то легла на их отца.
— Хочу снять камень с души,— сипло выдохнула Авдотья и облизала пересохшие губы.— А там уж будь что будет...
«Как же я вчера ничего не поняла, ни в чем не разобралась? — думала Ксения, чувствуя себя затерянной и одинокой в этом дышащем одним дыханием зале.— Выходит, Я зря оттолкнула Дымшакова?»
— Вы только не торопите меня и не перебивайте, у меня и так голова кругом идет,— попросила Авдотья и немного помолчала, как бы собираясь с мыслями.— Ну вот... Раньше как было? Хожу за телками, за каждый отел переживаю, ночи не сплю... А как отелятся, беру всю группу па себя и начинаю доить, раздаивать помаленьку, приучать коров к себе. Все повадки их знаешь, к характеру приноравливаешься.., Что надоишь — все тебе в счет идет, мало ли, много ли — никто не отберет, что мои руки сделали...
Она говорила негромко, внешне как будто даже не волнуясь, но руки выдавали ее — они то беспокойно обшаривали трибуну, за которой она стояла, то тянулись к наброшенной на плечи серой клетчатой шали и теребили, комкали ее кисти, то вдруг крест-накрест ложились на грудь, словно ей нечем было дышать.
— А нынче одна срамота, а не работа! — В голосе ее прорвались нотки возмущения и обиды.— Ну никакого моего терпения больше нету!.. Что ведь удумали — сквозь землю надо провалиться!.. В мою группу к моим восьмерым коровам — я уж, все знают, который год их дою — приладили трех первотелок. Телки неплохие и молока дают не меньше, чем старые мои коровы, но их почему-то не велено за коров принимать...
— И чего ты.народ с толку сбиваешь, Авдотья Ники-форовна? — не выдержав, вскинулся над столом Никита Ворожнев.— Что ты, дитя малое, что ли? Не ведаешь, какой на это порядок есть? Походят в телках, сколь им положено, а потом их в коровы переведут. И чего ты тут размазываешь, к чему — непонятно даже!..
— Ты фермой заведуешь, где ж тебе понять! — не испугавшись наскока, ответила доярка.— Если так, то чего ж ты моих телок с самой весны, с февраля самого, как они отелились, в коровы не определяешь? Молчишь. Так я тебе скажу — для того и идешь на обман, чтоб себе вывеску красивую иметь. Ведь молоко от первотелок вы на восьмерых коров пишете!.. И заместо двенадцати килограммов, как есть по правде,— по районной газете я по целому пуду надаиваю от каждой моей буренки!..
По залу снова загулял раскатистый смех, то дробясь на звонкие голоса, то переходя в густой басовый ропот.
— Кого мажешь-то? Кого? — взвизгнул вдруг Аникей и забарабанил тупыми короткими пальцами до столу.— Не надейся, что от твоей грязи на нас брызги полетят! А если какой ошметок и попадет — у нас есть чем утереться! Или, может, ты скажешь, что мы работали для вывески, а ты сном-духом ничего не ведала, одной пустышкой питалась? А кто деньги за высокие надои получал? Или ты брезговала ими, обратно в колхозную кассу сдавала? Не жгут они тебе руки-то?
— Жгут, Аникей Ермолаевич! — стонуще, почти со всхлипом выговорила Авдотья и рванула со своих плеч шаль, точно она давила ее.— Ох как жгут! Сроду бы я и вашу дополнительную оплату не брала, и подарки ваши не получала!.. Надену вот на себя платье, что в премию
мне колхоз дал, и моченьки моей нет. За обман ведь оно подаренное! Ворованное! На кусочки бы изорвала, не то что!..
— Ты все же думай, что твой язык без костей мелет! — Ворожнев опять попытался остановить Гневышеву.— Не забывай, что и твой Степан не за геройство в тюрьму сел, а тебе можно бы и покороче язык высовывать!
Попрание ответило на эти слова новым взрывом возмущении:
- Закрой свое хлебало, Никишка! С кем ты себя рядом ставишь? С кем?
- Вошь ты но сравнению со Степаном! Вошь кусачая!
— Ишь завертелся, как под ним огонь развели! Авдотья потемнела в лице, но переждала шум и тихо досказала:
— Может, вы и одну меня в грязи вываляете,— кто знает!.. Грязи вам не занимать — сами в ней по уши сидите... Я, конечно, скрозь виноватая перед всеми, в чем и каюсь... Но больше я носить этот камень не буду! А ежели ты, Аникей, останешься опять нами командовать, то я тогда совсем уйду из доярок!..
— Хоть завтра уходи, слезы лить не станем! — вынырнул рыжим подсолнухом среди черных голов кладовщик Сыроваткин, но на него так зашикали из передних рядов, что он снова прилип к стулу.
— Я уйду — вам радости тоже не прибавится! — задыхаясь, выкрикнула Авдотья и, покинув трибуну, пошла к двери между расступившимися колхозниками. У самого порога она обернулась, сверкая полными слез глазами.— Окромя ведь того, что вы с первотелок молоко на других коров зачисляли, сколько молока вы на бумаге надоили, сколько на телят да на поросят списали — один Шалымов знает, да сроду не скажет!.. И не одна я из доярок со стыда горю — придет время, и у других совесть закричит!.. А что насчет Степана моего тут сказали, так я мать его детям и от него никогда не отрекалась и не отрекусь ни за 'что, хоть на куски меня режь!.. Для кого он, может, и последний человек, а что до меня — так я лучше его людей не встречала!..
Она шагнула не к выходу, а назад, в самую гущу собрания, вошла, растворилась в народе, как волна, выплеснувшаяся на сухой берег.
Ксения видела, как Авдотье жали руки, трясли за плечи, кричали что-то, словно каждому хотелось дотронуться до нее, согреть улыбкой, взглядом.
«Я должна что-то сделать сейчас! — лихорадочно соображала Ксения.— Я не имею права молчать! Но что мне сказать? Что?»
— У нас тут на собрании присутствует представитель районного комитета партия,— неожиданно услышала она властный голос Егора Дымшакова, и этот голос заставил ее приподняться за столом.— Пусть она после всего, что мы тут слышали, скажет — можно ли такого человека терпеть дальше на посту председателя? Есть ли у райкома свое мнение на этот счет?
«Я не должна ставить под удар авторитет райкома! — сказала себе Ксения и, упираясь сжатыми кулаками в стол, внимательно всмотрелась в насторожившиеся, за-стывшио лица.— Они ждут, что я отзовусь на их желание. И если я скажу им то, что они хотят, я не только спасу престиж райкома, но и сделаю его более авторитетным!»
— Районный комитет партии, товарищи колхозники, не собирается вам навязывать свою волю,— тихо проговорила она, сама не узнавая в душной, гулко бьющей в уши тишине своего измененного волнением голоса.—Мы можем вам порекомендовать того или иного председателя, по последнее слово здесь принадлежит вам, и только вам! Что яге касается лично товарища Лузгина Аникея Ермолаевича, то я должна сознаться, что райкому совершенно не были известны те возмутительные факты, которые вскрылись на сегодняшнем собрании, и я полагаю, что райком сделает из этого выводы и займется серьезной проверкой...
Неожиданно шквально обрушились аплодисменты, по спине Ксении пробежали щекочущие мурашки, и она вдруг почувствовала, что какая-то неведомая ей до сих пор сила словно приподняла ее, наполнила жгучей радостью. Но не успела Ксения досказать то, чего ждали жадно устремленные на нее требовательно горящие глаза, как за ее спиной кто-то закричал со сдавленной хрипотцой, по-дурному, как курица ночью... Ксения испуганно обернулась, еще ничего не понимая, и в ту же минуту увидела, что Аникей Лузгин судорожно скребет руками по столу. Вот он открыл рот, словно собираясь что-то сказать, попытался приподняться и встать, но вместо этого ухватился за край красной скатерти и потащил ее на себя вместе с графином. Не сразу догадались, что ему плохо, и, лишь когда полетел со стола графин и вдребезги раз-силен о каменные плиты, истошно завизжали бабы. У ко-
го-то на руках заплакал грудной ребенок, зашелся в крике. Никто не успел поддержать Лузгина, даже сидевшие рядом с ним, и он, захрипев, вдруг стал медленно сползать со стула и рухнул на пол...
Началась невероятная суматоха, все кричали и не знали, что нужно делать. Нашелся один Никита Ворож-нев. По-медвежьи грубо растолкав и расшвыряв сгрудившихся возле упавшего председателя людей, он перевернул его на спину, приподнял и рванул за ворот рубахи.
— А ну, живо все отсюда! — коротко приказал он.— Да окно раскройте — воздух дайте! Сыроваткин, слетай за медицинской сестрой! Чтоб одна нога здесь, другая там!.. Шалымов, пошли кого-нибудь за подводой или лучше сам беги!..
В луже воды из разбитого графина он смочил носовой платок, положил на лоб Аникею. Увидев стоявшего рядом Дымшакова, поднял на него мутные от злобы глаза:
— Добился своего? Можешь радоваться! Довел человека до смерти! По за него я и тебе жизни по дам... Ты еще за решетку сядешь по закону!..
Не отвечая, Дымшаков пристально смотрел на запрокинутое лицо Лузгина. Оно блестело от пота, но не было бледным, чуть отвалившаяся нижняя мясистая губа открывала плотно стиснутые желтые от табака зубы. Дышал Аникей ровно, как будто глубоко, крепко спал.
Заметив, как тревожно расхаживает по опустевшему клубу Ксения, вскидывая беспрестанно руки к вискам, Егор вдруг потерял интерес к лежащему на полу Лузги-ну и подошел к ней.
— Удивила ты меня сегодня, сродственница! И, не буду скрывать, порадовала,— тихо сказал он, трогая ее за рукав костюма.
— Как вы сейчас можете говорить об этом! — обидчиво ответила Ксения.— Нельзя же быть таким бессердечным! Неужели вы по понимаете, что мы наделали?
— Да перестань ты мятушиться, ничего мы с тобой не сделали,— все тем же настойчивым шепотом успокоил он ее.— Когда жулика ловят с поличным, а он на сердчишко окажется слабоват, то сам я от этого в обморок падать не буду. И тебе не советую. Смерти я Аникею не желаю, но прощать ему его воровские дела из-за того, что он на здоровье хлипок, тоже не собираюсь!..
— Да перестаньте хоть здесь-то, в этой обстановке, говорить так, прошу вас! — Ксения с хрустом ломала пальцы.—Если с ним что случится, я не прощу этого себе!
— Так ты уж лучше сразу кидайся на пол рядышком с ним — может, тебе и зачтется это потом,— жестко, сквозь зубы, выдавил Дымшаков и отошел от нее. Раскисла, ударилась в бабью истерику! А он-то думал, что племянница на самом деле прозрела. Один раз ноднялась на ноги и тут же опять на колени. Попробуй вот положись на таких!
Скоро в клуб вбежал Сыроваткин вместе с запыхавшейся медицинской сестрой. Она ловко, одним движением плеч сбросила надетое внакидку пальто, наклонилась к Аникею и, закатав рукав его рубахи, быстро сделала укол в бледную пухлую руку; Лузгин чуть поморщился от укола, невнятно пробормотал что-то, но в сознание не пришел — по-прежнему лежал с закрытыми глазами.
В дверях показался Шалымов с кнутом в руках, запорошенный пушистым снегом.
— Давай, мужики, которые покрепче! — скомандовал Ворожнев.—Да не хватайте как попало — человека понесем, а не бревно!
Он ничего не сказал взявшемуся помочь Дымшакову, но зато оттеснил плечом щуплого Сыроваткина.
— Ты-то хоть, Пашуня, не лез бы под такую тягу! Не по тебе она. В нем ведь без малого центнер весу будет.
— Ежели бы он мертвый был, тогда другое дело,— охотно пояснил кто-то из мужиков.— А живой он завсегда тяжельше...
— Ну ты, не каркай там! — огрызнулся Никита и махнул рукой.— Берись половчее, ребята!
Но Сыроваткин внял совету Ворожнева- только наполовину. Как только четверо мужчин, осторожно подняв Аникея за плечи и ноги, понесли его к выходу, кладовщик протиснулся между теми, кто шел сзади, и, хотя в том не было никакой нужды, стал поддерживать председателя за сапог.
— Заносите головой к передку! — распорядился Ворожнев.— Шалымов, ты что, не мог помягче настелить? Взаймы взял соломы-то?
— Торопился, недосмотрел,—оправдывался бухгалтер, Наконец Лузгана бережно уложили в широкие розвальни, и Никита сам принял в руки вожжи. Сыпал легкий снежок, около клуба еще толпились и глухо гудели. собравшиеся в кружок колхозники, где-то на другом краю Черемшанки горланили песню, задыхалась на холоде сиплая гармонь.
— Шалымов с Мрыхиным, садитесь в сани, доглядывайте за больным,— сказал Ворожнев.— Я поведу подводу. Прохор, ты тоже пойдешь с нами, поможешь в дом внести.
— А я куда? — с тоскливым заискиванием спросил Сыроваткин.
— Ты? — Никита немного подумал, потом мотнул головой.— Беги что есть духу, упреди Серафиму, а то как бы еще с ней не пришлось возиться...
Ничего не сказав на прощанье стоявшим около саней Дымшакову и Ксении, Ворожнев повернулся к ним спиной и тихо тронул вожжи.
Едва розвальни поравнялись с домом председателя, как из распахнутых настежь освещенных дверей выскочила простоволосая Серафима, чуть не сбила с ног Прохора Цапкина, завыла в голос.
— Да цыть ты! — прикрикнул на нее Ворожнев.— Что ты заголосила, как по покойнику?
Но Серафиму не урезонил его злой окрик, она лезла прямо к лежавшему без памяти мужу, цеплялась за полы тужурки, билась головой о его грудь.
— Да уймите вы ее, окаянную! — выходя из себя, приказал Ворожнев.— Я для чего тебя послал, Пашуня? С одной бабой не можешь сладить? Оглуши ее валерьянкой или еще какой отравой, но чтоб она из меня не тянула тут душу. У меня тоже нервы есть!
Серафиму силой оттащили от подводы, ввели в дом. Когда Аникея внесли в горенку и положили на кровать, она перестала плакать и начала неторопливо стягивать с него сапоги.
— Ну что ж, мужики, вам пора на покой,— отпуская всех, сказал Никита.— Я уж здесь один побуду, подежурю около брательника, пока доктор из района не приедет. Будем надеяться, что все обойдется, организма у него все ж не слабая.
Горенка опустела, и сразу стало слышно, как размеренно, успокаивающе постукивают ходики, поскрипывает ставней ветер.
Попросив Серафиму что-нибудь приготовить на ужин, Никита подошел к висевшему на стене черному ящику телефона и закрутил ручкой.
— Куда это ты надумал звонить, Никита? — услышал он вдруг голос Аникея и, словно обжегшись, выпустил ручку аппарата.
— Ну и напугал ты меня до смерти, брательник! — шумно вздохнув, признался Ворожнев.— Прямо душа ушла в пятки!
— Рано ты ее прячешь так далеко.— В голосе Аникея чувствовалась ласковая усмешка.— Подь сюда, хватит хоронить меня.
Вороягаев присел на край кровати и недоуменно уставился на улыбавшегося и хитро прищурившегося больного.
— Ну как, здорово я учудил? — спросил Аникей.
— Как учудил? — Никита часто заморгал ресницами.— Разве ты по-нарочному падал?
— Нет, поди, по-взаправдашнему! — Аникей хмыкнул в кулак.— Да что я, девка на выданье, чтоб ни с того ни с сего в обморок хлопаться?
— Ух ты, дьявол тебя забери! — вспотев от восхищения, ошеломленно протянул Никита.— Да как же ты это?
— Приспичит — и не такое сотворишь! — С лица Аникея сошла наигранная веселость, он помрачнел.— Надо будет — и кверху ногами станешь и закукарекаешь.
— Так ты же натуральным трупом лежал! — еще не придя в себя, восторженным шепотком продолжал Ворожнев.— Уж на что я на слезу скупой, а тут прямо чуть не заревел от перживания!.. Ну, думаю, завязывай теперь горе веревочкой... Постой! — хлопнув себя рукой по лбу, вспомнил он.— А графин-то ты, верно, нечаянно свалил?
— Зачем нечаянно? — сказал Аникей, которому, похоже, надоело неуместное любопытство.— Через графин тот мне, может, больше всего и поверили. Тут не только графин стащишь, но и всю посуду перебьешь, если понадобится. Дом свой подожжешь, лишь бы из другого огня выскочить... Эх, Никита, нашел о чем жалеть! Да надо будет, Мы завтра сто графинов купим почище этого. Боюсь, как бы нас самих теперь не стащили с колхозной скатерти да не разбили вдребезги!
— Гиблое дело! — согласился Ворожнев.— Одна передышка осталась — твоя болезнь. Но год же целый ты хворать не будешь, рано или поздно придется поправляться,
— Раньше смерти помирать не будем.— В лице Аникея появилось знакомое Ворожневу упрямое и властное выражение.— С утра запрягай Серого — пускай Мрыхин катит в район к Коробину и нагонит на него страху.
— А если он заупрямится?
- Мрыхин, что ль? Л с какого резону? На чьи деньги ом каждый раз опохмеляется? Неужто он думает, что если нас спалят, то его им божницу посадят и молиться будут?
Порядок! — Понимающе качнул головой Никита.— И случае чего я эту инструкцию ему втолкую...
Па обратном пути пусть захватит доктора,—распорядился Аникей.— Хотя, я думаю, Коробин сам догадает-ся кого-нибудь прислать. И еще вот что — чуть свет зови ко мне Шалымова и зоотехника.
Никита опасливо покосился на дверь, за которой гремела посудой Серафима, подмигнул.
— А твоей благоверной откроемся?
— Ни в коем разе! — сурово остановил его Лузгин.— Кроме нас двоих, никто не должеи... Баба что сито: ничто в ней не держится. Или не утерпит, или по глупости похвастается кому. Так что давай втихую...
Вперевалочку, по-утиному ступая, Серафима внесла в горенку сковородочку с яичницей, поставила на металлический кружок на столе.
— Очухался наш хозяин,— тихо сказал Никита.— Полегчало ему... Только ты не завизжи от радости, а то с тебя станет!
Жена робко подошла к кровати, погладила Аникея по лежавшей на одеяле руке, горестно завздыхала:
— Что же ты это, Аникеюшка, надумал? Изводишь себя для людей, а заместо благодарности...
— Ладно, не расстраивайся, Сима,— успокаивал ее Аникей.— Руби утром голову курице да вари понаваристее суп, чтоб мне поскорее на ноги встать, а там мы еще посмотрим, кто кого!
Утром его разбудил нудно зудевший на кухне, как осенняя муха о стекло, голос Зябликовой. Аникей быстро обмотал голову полотенцем, напустил на лицо страдающее выражение, тихо застонал.
— Что с тобой, Аникеюшка? — вбежав в горенку, испуганно зашептала Серафима.— Плохо тебе?
— Сей-час... нрой-дет,— словно с трудом ворочая языком, натужно постанывая, ответил Аникей и минуту полежал с закрытыми глазами.— Кто это там пришел?
— Фенька это, зоотехник. Да не к спеху, невелик начальник — может и потом прийти.
— Нет, давай ее сюда. Отпустило уже. Дело не терпит...
Зябликова вошла осторожно, оглядываясь, точно боялась кого-то разбудить, но, едва увидев лежащего в кровати председателя, по привычке затянула свое.
— Это что ж такое, Аникей Ермолаевич!' Захожу нынче чуть свет на ферму, и на тебе — одни сплошные безобразия.
Аникей хорошо зпал манеру зоотехника начинать любой разговор с жалобы на кого-нибудь — на заведующего фермой, на ветеринарного врача, па доярок. Лицо у нее при этом всегда было обиженное, недовольное, словно ей незаслуженное оскорбление нанесли. Сегодня Лузгин не дал ей выговориться, остановил в самом начале:
— Перестань ныть, Феня! Верю, что ты и за хозяйство болеешь, и с утра все обежала. Сядь вон на стул да послушай.
Зябликова послушно присела к столу, вынула из кармана жакетки блокнот и карандаш; худощавое, постное лицо ее застыло в напряженном внимании.
— Перво-наперво перетасуй обе фермы,—говорил, точно диктовал, Лузгин.— Тех первотелок, что получше, переведи в коров, и пускай они по всей форме числятся за доярками, а тех, что похуже,— загони на старые конюшни...
Рука с карандашом застыла в воздухе.
— Кто ж там за ними будет ходить, Аникей Ермолаевич? Молоко у них перегорит, они запустятся!
— Ну и пускай перегорает,— не глядя на зоотехника, сказал Аникей.— Что, жалость взяла?
— А как же! — Зябликова оторвалась от стола, приподнялась, но, скованная вязким взглядом председателя, снова медленно опустилась на стул.— Ун? больно телки у нас бравые, Аникей Ермолаевич, раздоятся, красавицы будут, а не коровы! Породные ведь...
— А кого тебе больше жалко — себя или телок? — неожиданно оборвал ее Аникей.— А если через день-два комиссия на голову свалится? Что ты тогда запоешь?
— Ох, погубите вы меня, Аникей Ермолаевич! — тихо всхлипнув, заговорила Зябликова, засморкалась в платок.— А как же документы-то? Первотелки же по всем книгам числятся, и стельность их отмечали, и отел.
— Это но твоя печаль! Бумага для того и существует, чтоб на ней писать что хочешь. Мы этих телок в бычки переведем и отправим па мясопоставки. И опять-таки бу-дем в выигрыше, Премия и тебе отвалится как пить дать!.,,
— Да зачем мне эта промин...
- Раньше вроде не отказывалась,— заметил Аникей С укором и тут же приободрил:—Не вешай нос, Феня! И по ходи ты как ненастный день, поласковее с людьми будь, а то ведь ты но улыбнешься сроду, всех только пилишь и пилишь... Хоть бы вон с моей Серафимы взяла пример, штукатурилась бы, румяна наводила, а то иной раз смотреть на тебя — тоска смертная. На ферме, гляди, молоко враз свертывается, когда ты туда приходишь.
Зябликова молчала, обиженно подясав губы, и Аникей решил, что он немного перестарался.
— Ну ступай, да не дуйся на меня, это я тебе как отец родной говорю, добра желаю!..
Следом за зоотехником явился бухгалтер Шалымов. Не спрашивая разрешения, разделся в горенке, шмякнул на стол раздувшийся, как подушка, портфель, вынул, из нагрудного кармана расческу, причесал перед зеркалом жидкие волосы, прикрывая розоватую лысину, продул расческу, сунул ее на место и только тогда придвинул к кровати стул и деловито, обстоятельно уселся.
— Что это портфель у тебя брюхатый стал? — спросил Аникей.— Кирпичей ты туда для весу наложил, что ли?
— Если будем топиться, то мои бухгалтерские книги и за кирпичи сойдут,— неулыбчиво пошутил Шалымов.— Вчера после бури забежал в контору, взял на хранение домой. «А вдруг, думаю, они кое-кому срочно понадобятся?»
— Хитер, цифроед! — крикнул Аникей и даже потер от удовольствия руки.— Серафима! Живо чаю нам давай! Да поднеси Прокофию покрепче чего...
— Никаких градусов! — сухо отрезал Шалымов и озабоченно добавил: — Вот когда ликвидируем, заткнем эту дырку — тогда можно и позволить себе. А сейчас и без того жарко... Дело не шуточное — может и вот так кончиться...— Он положил два разведенных пальца, указательный и средний, на два других так же растопыренных пальца крест-накрест и поднял эту комбинацию на уровень председательских глаз.— Угадал? Решетка. Мы их будем видеть, а они нас нет.
— Куда ясней.— Лузгин откинулся на подушку и некоторое время молчал.— По острому ножу ходим... Сколько тебе надо дней, чтобы все книги переписать и навести, полный ажур? Для начала наведем порядок в животноводстве, остальное потерпит...
— Дня три-четыре, если отрывать не станешь. Возьму счетовода на помощь, и засядем с утра пораньше. Зябли-кова под рукой пусть будет.
Они уже допивали чай и заканчивали все расчеты, когда на кухне послышалась какая-то возня и на пороге горенки вырос Никита Ворожиев.
— Нютка к тебе рвется,— подмигивая, сказал он.— А Серафима, известно, дает ей от ворот поворот.
— Нашли время цапаться! — Аникей в сердцах сплюнул.— Небось, если в тюрьму определят, ни одна холера не придет навестить.
— Не допускать, значит, ее до тебя?
— Это почему? Разве она нам не полезный человек? Тебя, Никита, не остановить, так ты всех взашей вытолкаешь. Нюшка с пустыми руками не прибежит. Кличь ее да уйми Серафиму...
Шалимов забрал свой портфель и тоже удалился, а минуты через две в горенку степенно вошла Нюшка. По случаю прискорбного события она оделась во все темное, но, несмотря на монашеский наряд и явное желание 'выглядеть озабоченной и приунывшей, полные живого лукавства глаза и нежные, подвижные ямочки на щеках выдавали ее истинное настроение.
— Всю ночь глаз из-за тебя не сомкнула,— проговорила она быстрым, горячим шепотом.— Как растянулся ты, я чуть сознанию не лишилась, спасибо, бабы поддержали, а то бы тоже не хуже тебя грохнулась...
— Будет тебе притворяться-то,— улыбнулся Аникей.— Иди сюда, садись рядом...
— А если Серафима твоя влетит? Прямо как бешеная бросается. Что ты ее держишь в доме, привязал бы лучше на улице — тогда бы уж никто к тебе не вошел. Во всей деревне злее собаки бы не было.
— Накинь вон крючок на дверь, и дело с концом,— посоветовал Аникей.— А то разве дадут отвести душу?
Нюшка так и сделала — закрыла дверь на крючок, развязала темный в синюю горошину платок, пустив по плечам волнистые льняные волосы, села на край кровати и, двигая бедрами, оттеснила Аникея к стене.
— Что у тебя болит-то?
— А черт его знает! — Аникей сокрушенно вздох-пул.— Вишь, как звездануло — и с копыт долой. Еще разок вот так прижмет, и поминай как звали...
Он гладил Нюшку ладонью по спине, все ближе сползая к ней, потом опустил руку на ее полную дрожкую грудь, но Нюшка строго спела к переносью топкие брови, убрала руку, словно это была по рука, а что-то неживое. - Раз больной, то и лежи, нечего шариться где не след, наставительно сказала она, тая улыбку на губах, готовая прыснуть от смеха.— И чего вы, мужики, такие неуемные — уж, кажись, от смерти в трех шагах побывал, ан нет, все ему неймется, с постного на скоромное тянет... - Потому и неймется, что, может, жить-то осталось пустяк какой,— ответил Аникей и, притянув Нюшку за плечи, жадно впился в ее мягкие податливые губы, долго не отрывался.— Эх, сбросить бы годков десять, закрутили бы мы с тобой, только пыль бы пошла столбом! Отдал бы Егорке Дымшакову всю власть, бери, даром не надо, и закатились бы куда-нибудь на Север...
— Это чего мы там не видали? — передернула плечами Нюшка.— И тут с тоски не знаешь, куда себя деть, а там и вовсе бы засохла...
— Ну да что об этом! — Аникей снова прилег на подушку.— Лучше скажи, что народ говорит?
— О тебе только и разговоры одни, о чем еще!
— Что хоть брешут? Жалеет кто или у всех бельмом на глазу? Да не финти, не подслащивай, говори как есть...
— Кто как, но больше всего надеются, что ты уж на свое место не вернешься, раз тебя так скрутило... Выйдет, мол, ему пенсия, а мы к Прасковье Васильевне попросимся.
— Еще бы! Она давно ждет вас, ночей не спит! Все глаза проглядела, калачей наготовила.— Аникей даже забыл на время, что он тяжело болен, распалялся без меры.— Нужен ей лишний хомут на шею, мало ей своей упряжки!..
— Все, дескать, дело в землю уперлось, что за нашим колхозом числится,— доложила последнее, что слышала, Нюшка.— А так бы она с радостью!
— Я гляжу, и ты в это сарафанное радио поверила,— заметил с огорчением Лузгин и укоризненно покачал головой.— Вроде умом тебя бог не обидел, а ты не разбираешься, жрешь, что дают. Снаружи-то оно, может, и так все выглядит, да подкладка у всего этого дела другая...
— Какая же подкладка — сатиновая или шелковая? — Нюшка насторожилась.
— Для кого как.— Аникей помедлил.— Не знаю, говорить тебе или не стоит, а то брякнешь потом, а я опять в ответе...
— Ну, если я у тебя из веры вышла, тогда чего мы на язык мозоли набиваем? — Нюшка обиделась и стала слезать с кровати, но Аникей удержал ее.
Уж кто-кто, а он превосходно знал, что больше всего на свете она любила всякие «секреты» и «тайны». Медом ее не корми, а шепни что-нибудь такое, о чем никто еще не ведает, и она будет счастлива. Однако Нюшка долго не могла носить в себе эти «секреты» и, сгорая от нетерпения, под страшными клятвами поведывала их кому попало.
— Ты пе серчай па меня,—насильно усаживая ее рядом, сказал Аникей.— Видела — за каждым шагом следят, каждое слово навыворот и против меня выпалит...
— Будь в надеже! — пообещала Нюшка и приложила руку к груди.— Тут умрет...
— Видишь ли,— понизил голос Лузгин и почти придвинулся к самому уху Нюшки.— Любушкина, конечно, давно нас хочет принять в свой колхоз, но она желает, чтобы люди на два этажа яшли...
— Ты давай не крути, я и так вся дрожу...
— Они как хозяева, скажем, будут получать по десятке за трудодень — раз они самую большую долю в пай вносят, а мы, как батраки да победнее, и за пять рублей должны спасибо сказать.
— Губа у них пе дура, а язык по лопатка, знает, где сладко! — Нюшка засмеялась.— Неужели мы на это пойдем?
— Так никто же ни сном ни духом не будет об этом ведать,— разъяснил Аникей.— Спервоначалу хотят меня с председателей убрать, потом вас туда пристегнут, а уж потом объявят, что почем. В курсе теперь?
— Ну дык! — фыркнула Нюшка и легко соскользнула с кровати. Ей уже хотелось поскорей поделиться с кем-нибудь этой новостью.— Пойду-ка я, у меня дома дел невпроворот.
— Не забывай меня!—попросил Аникей.— Потянет каким сквозняком — проинформируй. Намотала? Ну вот, смотри только не разматывайся почем зря...
— Будь в покое, где оставил, там и возьмешь.
— Да я-то что, свой язык жалей, а то теперь так могут прищемить, что потом и есть нечем будет...
Не успела выскочить Нюшка, как в горенку вбежала Серафима, начала хватать посуду со стола. Из рук ее выскользнула тарелка и разбилась об пол на мелкие осколки.
— Могла бы и потише, — сурово заметил Аникей.— У меня пока еще не магазин тут.
- А что у тебя тут, бесстыжие твои буркалы? Что? — Крикнула Серафима, подступая с мокрой тряпкой к кровати.-Дожила до такой срамоты! С полюбовницей на крючек закрылся, и я должна на часах стоять, блуд ваш сторожить?
— Серафима! — возвысил голос Аникей.— Не доводи меня до греха! Ты забыла, что у меня удар был?
— Да уж лучше бы ты подох, чем мне так мучиться!
— Может, недолго тебе осталось ждать, успеешь еще на кладбище оттащить, а пока в моем положении Нюшка мне позарез нужна. Не видишь?
— Вижу! Сперва ты в положении, а потом она...
Аникей позвал из кухни брательника, и Ворожнев, вытирая масленые губы, ухмыляясь, перешагнул через низкий порожек. Ни слова не говоря, он взял Серафиму за плечи и стал легонько подталкивать к двери. Выдворив невестку, он вернулся.
— С домашними да ручными мы легко сладим,— проговорил он,— а вот как быть с теми, кто на собрании вчера разорялся?
— Да, этих ни лаской, ни таской к себе не вернешь,— согласился Аникей.—А подобрать к ним ключи все же придется. Садись — поломаем голову вдвоем.
той памятной ночи, когда Ксения сама пришла к нему, Иннокентий Анохин каждое утро просыпался с таким чувством, словно его ожидал не обычный будничный день, а нескончаемый праздник. Вскакивая с постели, он раздвигал шторки на окнах, впуская в комнату солнце, в радостном нетерпении поторапливал сестру с завтраком, пил, обжигаясь, крепкий чай и выбегал на улицу.
Над белыми крышами районного городка клубились прозрачные голубоватые столбы дыма, тени от них зыбко струились по заснеженным скатам.
С наслаждением прислушиваясь к хрустящему, рассыпчато раздававшемуся под валенками снежку, Иннокентий вышагивал серединой улицы, улыбчиво кивая встречным знакомым. От пронзительной морозной свежести пощипывало ноздри, спирало дыхание, но Иннокентию такая ядреная погодка была по душе. Шел он словно не на работу, а спешил на свидание, с замиранием сердца представляя, как вызовет Ксению в коридор, возьмет в свои ладони ее всегда немного зябкие руки, а она будет застенчиво оглядываться и шептать: «Не надо, Кеша! Тут же кругом люди!»
Уже сидя в кабинете, захваченный потоком повседневной сутолоки, Иннокентий часто ловил себя на том, что, не замечая окружающих, начинает вполголоса напевать. Он тут же умолкал, по навязчивая, услышанная в кино или по радио песенка звучала в нем, не стихая, весь день.
Они жили с Ксенией еще порознь, но на этом настояла она, и он с большой неохотой подчинился. Ксения говорила, что не может до приезда родителей оставить младшую сестру Васену одну, однако Иннокентий понял ее по-своему — она, видимо, не хотела входить в его жизнь буднично, незаметно, без настоящей шумной свадьбы и участия в этом торжестве всех родных и близких и просто ждала, когда вернется в Черемшанку вся ее семья.
Анохин вначале огорчался, а потом даже в этой отсрочке нашел свою прелесть — он должен был ходить на свидания, провожать Ксению по ночной улице, жить ожиданием неизведанной новизны. Была и еще причина, заставлявшая его не настаивать: новый дом, где ему обещали дать квартиру, через неделю-другую заканчивали отделывать, и они могли сыграть свадьбу там, сразу отметив два радостных события.
Труднее всего Иннокентию было мириться с вынужденными отлучками Ксении в колхозы, куда она постоянно выезжала по заданиям Коробина. В последние дни Иннокентий не находил себе места, без конца звонил в Черемшанку и чувствовал себя таким одиноким и неприкаянным, что готов был забросить все свои дела и ехать в колхоз следом за нею.
Вот и сегодня, едва войдя в кабинет, он кинул на стол перчатки и, не раздеваясь, схватил трубку телефона, попросил срочно соединить его с правлением колхоза «Красный маяк».
Сейчас Ксения подойдет, как обычно, с подчеркнутой деловитостью: «Да, я слушаю»,— а когда услышит его голос, заговорит уже совсем по-другому, немного теряясь и как бы оправдываясь в чем-то перед ним. Словно боясь, что те, кто находится рядом с нею в комнате, могут разобрать, что он нашептывает ей в трубку, она опять повторит свой излюбленный довод: «Но надо, Кеша! Понимаешь?» И ему ничего но останется, как радостно засмеяться в ответ.
— Правление не отвечает,— сказала телефонистка.
— То есть как не отвечает?—удивился Анохин.— Не может быть, чтобы там в это время никого не было!
Иннокентий заставил телефонистку сделать еще один вызов и только тогда положил трубку.
«Уж не стряслось ли там чего?» —с привычной мнительностью подумал он. Пока не было никаких оснований для тревоги, но и одной этой мысли оказалось достаточно, чтобы замутить его. Но едва Анохин повесил на гвоздь в углу пальто, как зазвонил телефон.
«Ну наконец-то решилась сама позвонить»,— облегченно вздохнул он и рывком снял трубку.
— Ну где ты пропадаешь, Ксюша?
— Где она пропадает, это она вам потом объяснит,— услышал он напряженный, без тени усмешки, угрюмый голос Коробина.— А вас лично я попрошу немедленно
зайти ко мне.
В этом вызове таилось что-то неприятное и, может быть, даже опасное, иначе Коробин не стал бы так сухо разговаривать с ним. Не поздоровался, не пожелал доброго утра, прямо требовал к себе.
В своей работе Иннокентий придерживался железного правила — никогда не являться к начальству, предварительно не разузнав хотя бы в общих чертах, зачем его вызывают. Конечно, даже в этом случае не всегда и не все можно предугадать, но хотя бы относительная осведомленность все же часто выручала его. Но если неприятность сваливалась как снег на голову, тогда могли спасти только самообладание и выдержка. Самое важное в подобной ситуации — не сказать ничего лишнего, не поставить себя в позу оправдывающегося. Тогда хоть что ни говори — не
поможет!
В приемной первого секретаря Иннокентий мило и добродушно улыбнулся белокурой секретарше Вареньке.
— Похоже, что сам нынче не в настроении, а? С чего бы это, не знаешь?
— Какое-то ЧП в «Красном маяке»,— зашептала Варенька, испуганно косясь на обитую черным дерматином
дверь кабинета.— Недавно у него был Мрыхин, парторг колхоза, и с тех пор он ужас как психует!..
«Так я и знал»,— холодея, подумал Иннокентий, мысленно связывая в один узел и поездку Ксении на отчетно-выборное собрание, и молчание телефона, и краткий, как команда, .вызов Коробина, и ранний визит парторга. Но что таилось в этом узле, пока было загадкой.
— Ты хоть что-нибудь слышала? — наклоняясь к девушке и почти ложась грудью на стол, спросил Иннокентий.
— Он так кричал, что я просто забыла, как меня зовут,— ответила Варенька и толкнула Анохина в плечо.— Иди, иди, там, может быть, одного тебя и не хватает!
Набрав полную грудь воздуха, словно собираясь нырнуть, Анохин тихо открыл дверь и вошел с неторопливой степенностью.
В кабинете, кроме Коробина, сидели председатель райисполкома Синев, третий секретарь Вершинин и недавно прибывший Константин Мажаров, о котором Анохин еще не сумел составить ясного представления.
Когда Анохин вошел, все молча обернулись к нему, молча ответили на приветствие, и лишь один Коробин, глядя в разложенные перед ним бумаги, не поднял головы. С тех пор как Апохип знал его, он никогда еще не видел Коробина таким строгим и отчужденным.
— Кажется, все? — тихо поинтересовался Коробин, как только Иннокентий сел рядом с Вершининым за покрытый зеленой скатертью стол.— Вообще-то, товарищи, надо бы созвать срочное бюро, но мы не можем этого сделать — Бахолдин болен, двое в отъезде, поэтому, я думаю, вы не будете возражать, если мы просто в рабочем порядке обменяемся мнениями о том, что случилось.
Он оторвал взгляд от бумаг, по очереди внимательно оглядел всех, словно еще сомневаясь в том, что поступает правильно, и Анохин удивился и этому недоверчивому взгляду, и тому, как выглядел секретарь. Он будто похудел и постарел, устало горбился, супил брови, крутил в руках пачку цветных карандашей и, казалось, только огромным усилием воли сдерживался, чтобы не выплеснуть сразу то, что жгло его изнутри.
— А случилась, товарищи мои, весьма прискорбная история, за которую, если райком не сумеет выправить положение и навести должный порядок, нам придется отвечать перед областным комитетом партии... Полчаса тому назад у меня был парторг из «Краеного маяка» и расска-
зал о возмутительном поведении инструктора нашего райкома Яранцевой. Ей поручили провести там отчетно-выборное собрание, но она оказалась человеком, которому нельзя было доверять такое политически ответственное дело!..
Эта манера Коробина осуждать то, о чем другие еще не имели никакого понятия, всегда раздражала Анохина. Он собирался уже вежливо прорвать секретаря и попросить его рассказать о фактах, по его опередил сидевший напротив Константин Мажаров. Нетерпеливо теребя левой рукой спою рыжеватую с золотым отливом бородку, Мажарой поправил пальцем дужку сползавших очков и широко, с непонятным добродушием улыбнулся секретарю.
— А нельзя ли, Сергей Яковлевич, рассказать нам, что там все же произошло? Тогда бы мы, вероятно, поняли вас и быстрее помогли вам разобраться!
«Бог ты мой! О чем он говорит? — подумал Иннокентий и даже пожалел в душе молодого работника.— Неужели он на самом деле считает, что Коробин пригласил его сюда, желая узнать, что ои думает обо всем случившемся, и ждет от пего какой-то помощи? Сейчас он его так осадит, что этот младенец будет помнить всю жизнь».
Но с секретарем сегодня творилось что-то непонятное — он посмотрел на Мажарова отсутствующим взглядом, медленно поднялся, упираясь кулаками в стол, и продолжал, все более распаляясь:
— Это позор! Это пятно на всю нашу районную партийную организацию!—точно вколачивая гвозди, говорил он.— Подумать только! Ее послали туда, чтобы она проводила линию райкома и отстаивала интересы партии, интересы дела, а она, вместо того чтобы дать отпор всем нездоровым и демагогическим наскокам на председателя, которого мы с вами знаем не один год как рачительного хозяина, она — вы послушайте, послушайте! — самолично отвела рекомендованного райкомом председателя! — Он вышел из-за. стола и, почти пробежав по ковровой дорожке до двери и обратно, нервно досказал: — С Лузгиным был тяжелый сердечный припадок, его в бессознательном состоянии увезли домой.
«И зачем я только отпустил ее одну? — с тоскливым сожалением подумал Иннокентий.— А ведь предлагал поехать вместе, так нет, ей, видите ли, хочется быть самостоятельной!»
— Прошу вас, товарищи, высказать свои предложения,— останавливаясь посредине кабинета и складывая руки на груди, проговорил Коробин.— Тут двух мнений быть не может, весь вопрос в том, как нам побыстрее выправить положение, тюка вся эта история не дошла до обкома в искаженном виде.
Он обвел всех внимательным, изучающим взглядом и вернулся к столу. Все молчали.
«Нужно во что бы то ни стало ее выгородить,— вихрем пронеслось в голове Иннокентия.—Но как? Не могу же я в открытую пойти против Коровина и слепо защищать Ксению? Она переступила ту грань, которая ограничивает действия инструктора, и, если бы она даже не была виновата, ей не простят эту самостоятельность поведения».
Анохин обрадовался, когда первым слово попросил председатель райисполкома. Листая вишнево-темный томик сочинений Ленина, Сипев не спеша поднялся, сутуловатый, нескладный. Худощавое обветренное лицо его было полно сейчас стыдливой застенчивости. Минуты две в полной тишине слышался только сухой шелест страниц. Из оттопыренных карманов серой гимнастерки торчали какие-то бумажки, металлический наконечник ручки, желтый пластмассовый футляр для очков. Через некоторое время все содержимое карманов оказалось перед ним на столе, и он начал рыться в бумажках, близоруко щурясь и заметно волнуясь оттого, что все смотрят на него и ждут.
— Записал где-то номер страницы, и вот...— Он, извиняясь, пожал плечами.— Но не в том суть... Я хотел сказать только одно: не слишком ли мы, послушав одного парторга, торопимся делать выводы?
— Факты — упрямая вещь, Терентий Родионович,— жестко возразил Коробип.— Вы частенько любите повторять эти ленинские слова.
— И все-таки я бы на вашем месте послушал сначала Яранцеву,— отведя со лба мягкие, начинавшие седеть волосы, с тихой настойчивостью повторил Синев.— Она человек для нас не случайный, работник аппарата нашего райкома. Надо узнать, что ею руководило, когда она так поступила. Если я вас правильно понял, после этого злосчастного собрания вы ее еще не видели?
— Не видел и не желаю видеть! — Лицо Коровина стало наливаться кровью.— Меня, по совести, ее оправдания не интересуют. С меня вполне достаточно того, что она отказалась проводить в жизнь рекомендации райкома. И как я только мог довериться этому политически незрелому и, по существу, еще сырому человеку!
«Я не имею никакого права молчать, когда он так оскорбляет мою будущую жену!»—весь вспыхивая, возмутился Анохин, но снова заставил себя сдержаться, боясь, что не только не поможет Ксении, а еще больше навредит.
— По-вто-ря-ю! — раздельно и четко проговорил Коробип.—Мне совершенно безразлично, чем она руководствовалась в своем антипартийном поведении!- Она прекрасно сознавала, на что шла, и знала, что ей придется отвечать за свои поступки. Позавчера ночью Яранцева звонила мне, и я серьезно предупредил ее об ответственности. Что же касается аппарата, то можете считать, что с сегодняшнего дня она уже не является инструктором нашего райкома. Таких работников мы не будем держать у себя пи одной минуты.
Иннокентий сидел, сжав голову руками, понимая, что он уже не сумеет предотвратить несчастье. Что бы он сейчас ни сказал, Коробин, что называется, закусил удила. Это был тот же Сергей Яковлевич, с которым Иннокентий не раз ходил па охоту, па рыбалку, и вместе с тем это был уже другой человек. Еще никогда характер Коровина не проявлялся с такой властностью, и Анохин молчаливо признал его неоспоримое превосходство.
— Насколько мне известно, Алексей Макарович тоже не одобрял кандидатуру Лузгина,— сказал Синев и, громыхнув стулом, опять встал, словно стоя ему было легче спорить с Коровиным. Он укоряюще посмотрел на секретаря и добавил: — Мы не можем не считаться с мнением Бахолдина, тем более что если уж говорить но совести, то Лузгип давно...
— Извините, Терентий Родионович!—Прерывая пред-рика, Коробин поднял руку, нахмурился.— Мы сейчас обсуждаем не кандидатуру Лузгина, а то, как ее опорочили перед колхозниками. И главное — как нам выправить по-ложение. Я знаю, что Бахолдин в последнее время критически относился к председателю «Красного маяка», но я с ним не согласен. А сейчас за дела в районе будем отвечать мы с вами, Терентий Родионович, потому что Бахолдин подал официальное заявление об уходе.
«Вот почему сегодня он так уверен в себе!» — подумал Иннокентий.
— Что ж вы держите в секрете такие известия? — недовольно забубнил Синев.
— Видите ли,— Коробин немного замялся,— заявление Алексей Макарович подал недавно — вот товарищ
Мажаров подтвердит, это было при нем. Решения обкома еще нет, но я думаю, что это вопрос нескольких дней...
Стараясь ни на кого не смотреть, Иннокентий быстро рисовал на лежавшем перед ним листке квадратики, ромбики и другие фигурки, приделывал им руки и ноги, потом быстро заштриховывал этих уродцев. Он не сразу почувствовал на себе напряженный и пытливый взгляд Коровина, а поймав его, тут же отвел глаза. Этот настойчивый, как команда, взгляд как бы сказал ему: «Напрасно ты отмалчиваешься! Я хочу, чтобы ты встал и сказал, что ты обо всем этом думаешь. Все знают, что ты не посторонний человек для Яранцевой, и твоя позиция должна быть принципиальной. От этого зависит многое в твоем будущем».
Анохин уже почти решился взять слово, хотя и не совсем ясно представлял себе, что может сказать, но его опередил Вершинин. Коробип в этом трудном разговоре вообще, видимо, не брал в расчет его мнение, и, когда молодой секретарь стремительно вскинулся над столом — высокий, белокурый, розовощекий, непростительно юный среди этих серьезных, задумавшихся людей,— все невольно улыбнулись.
— Разрешите? — вежливо спросил он, но, не дождавшись ответа, слегка порозовев в скулах, заговорил торопливо, словно боялся, что его могут неожиданно прервать.—Видите ли... Я тоже говорил с Мрыхиным — встретил его, когда шел в райком, он рассказал, что на собрании вскрылись всякие злоупотребления — правда, он квалифицировал это несколько иначе, но. я его понял именно так!.. Я не возражаю насчет Яранцевой — она, безусловно, должна отвечать за свой поступок, но нельзя позволить, чтобы за этой скандальной историей как за дымовой завесой спрятались настоящие виновники, о которых шла речь на собрании... Я предлагаю создать комиссию, тщательным образом проверить все дела в Черемшанке...
Снисходительная улыбка, за минуту до этого смягчившая лицо Коровина, мгновенно сползла.
— Вершинина хлебом не корми, а дай ему возможность поразоблачать кого-нибудь! — проговорил секретарь, пытаясь умерить пыл молодого работника.— Но как вы ни рветесь сесть на своего конька, я сейчас не могу отпустить вас — вы мне нужны здесь. Да и вообще, вряд ли целесообразно затевать такую проверку!
— А почему? — неожиданно подал голос все время молчавший Мажаров.— По-моему, Сергей Яковлевич, это предложение вполне дельное. Нам все равно придется еще раз проводить в Черемшанке собрание, раз его не довели до конца. Мы во всем детально разберемся и к новому собранию придем более подготовленными. Если товарища Вершинина отпустить не можете, отпустите меня. Я с удовольствием возьмусь за это расследование, постараюсь взглянуть на факты свежими глазами и выяснить все до мелочей, даю вам слово.
Зта неожиданно пришедшая с двух сторон поддержка обрадовала Иннокентия, и, хотя он не был уверен, что Коровин согласится на создание комиссии, он наконец понял, что наступила его минута.
Он не спеша встал и, встречая настороженный взгляд секретаря, тихо сказал:
— Если вы не станете, Сергей Яковлевич, возражать против моей кандидатуры, то я тоже хотел бы принять участие в работе такой комиссии. Прошу понять меня правильно — мною движут только интересы дела!..
Лишь мгновением позже Анохин догадался, что, присоединив свой голос к голосам трех товарищей, он, сам того не подозревая, поставил Коровина в очень затруднительное положение, и теперь тот вынужден был или безрассудно настаивать на своем, или посчитаться с мнением тех, кого он пригласил для совета.
— Ну что ж, пусть будет по-вашему,— поколебавшись, согласился Коробин.— В конце концов, это может пойти всем на пользу. Так и решим: собрание в колхозе будем считать несостоявшимся. После проверки созовем его снова. На ближайшем бюро поставим персональные дела Яранцевой и Дымшакова — из-за него там и загорелся весь сыр-бор! Не возражаете? Тогда можете считать себя свободными.
Анохин не поднялся, когда все уходили из кабинета, молча продолжая вырисовывать на белом листе елочки и листочки. Когда дверь мягко захлопнулась, Коробин подошел к нему и опустил руку на его плечо.
— Обиделся?
Иннокентий счел за лучшее промолчать.
— Зря дуешься! — присаживаясь рядом и не снимая руки с его плеча, заговорил Коробин, понизив голос— Неужели ты не соображаешь, какая сложилась ситуация? До того как всех позвать к себе, я советовался с обкомом, и если хочешь знать — и там придерживаются того же мнения, что и мы.
— Я тебя не осуждаю,— тихо ответил Анохин.— Раз так нужно, поступай как знаешь.
— Дело ведь не в моих и не в твоих субъективных желаниях. Ну посуди сам: можем ли мы равнодушно проходить мимо таких фокусов? Нам доверили руководить большим хозяйством, направлять усилия всех людей к одной цели, а не плестись в хвосте тех, кто не хочет считаться с государственными интересами. Тогда зачем мы тут все сидим?
И, как бы смягчая свою прежнюю суровость и резкость, Коробин доверительно посоветовал:
— Ты поговори с Ксенией Корнеевиой по душам. Пусть она не зарывается и поймет, что мы обязаны ее наказать. Сейчас все зависит только от того, как она будет себя вести, понимаешь? Вот так...
Он встал, заскрипел бурками, прохаживаясь вдоль стола.
— Как тебе нравится наш доброволец?
— Как будто ничего...— с вялой неопределенностью ответил Иннокентий и вдруг вспылил: — Да какое мне дело до какого-то Мажарова, когда...
Он встал, собираясь выйти, по секретарь удержал его.
— Не кипятись, на, кури.— Нажав кнопку, он раскрыл портсигар с двумя рядами папирос, прижатых резинкой, тряхнул спичечным коробком.— Не будь кисейпой барышней!
Анохин уже больше месяца не курил — бросил по настоянию Ксении, но тут жадно затянулся.
— Я хочу, чтобы ты сам возглавил комиссию, к Ма-жарову нужно еще приглядеться... Как бы он там тоже не выкинул какой-нибудь номер.
— Может быть, мне вообще по стоит за это браться, а то еще потом придерутся!..
— Чепуха! Ты ходишь еще в женихах, да и не в Яранцевой тут дело, пойми ты! — Коробин не заметил, как, разминая, сломал папиросу, взял другую, тоже закурил.— Видишь ли, если она трезво признает свои ошибки, то мы найдем способ выручить ее — отделается легким испугом. Главная наша забота — это ни в чем не уступить дезорганизаторам и горлопанам, которые сорвали собрание в колхозе. Если мы хотим, чтобы с нами считались и признавали нас за руководителей района, мы обязаны твердо проводить свою линию. Вот в таком разрезе и действуй там, понял?
Ночью Иннокентий проснулся от хриплого, надсадного лая собаки. Утопив локоть в мягкую подушку, он приподнялся, подмываемый тревожным и вместе с тем радостным нетерпением. «Неужели Ксения? — подумал он, быстро вскакивая с кровати и набрасывая на плечи пальто.— Но ведь Джек не стал бы лаять!»
Собака лаяла все яростнее и злее и вдруг начала тихо поскуливать и ласкаться к кому-то.
Выйдя в сени, Иннокентий с минуту постоял, прислушиваясь к сочному похрустыванию снега, и вдруг со странной уверенностью почувствовал, что за дверью стоит не Ксения, а какой-то другой, неприятный для него человек.
Скупой свет ясной морозной ночи проникал сквозь заметенное снегом маленькое оконце, в нем остро и холодно мерцала одинокая звездочка.
Пораженный страшной догадкой, еще но желая верить ей до конца, Иннокентий немного помолчал и спросил спокойно и равнодушно, как бы перебарывая сонную зевоту:
— Кто там?
— Не бойся, открывай!.. Свои!
По спине Анохина прошел колючий озноб. Сомнений быть уже не могло, по он еще с минуту стоял, не в силах сладить с охватившим его волнением, потом взялся за обжигающую железную щеколду.
На крыльце стояла женщина, припорошенная спежной пылью, закутанная в темную шаль. Странно тревожили, даже пугали глаза, почти невидимые в глубокой щели между двумя платками, пеленавшими ее лоб.
— Не пойму что-то,— проговорил Иннокентий и вдруг притворно ахнул: —Елизавета, ты? Откуда?
— Сам знаешь,— устало отозвалась женщина и, не спрашивая разрешения, шагнула через порожек сеней.— Пришла вот к тебе, Кеша...
Застигнутый врасплох неожиданным приходом женщины, с которой он имел неосторожность завязать близкие отношения в пору своей холостяцкой жизни, Анохин подавленно молчал, хотя все в нем кипело от возмущения. Неужели она считает, что их случайная близость в прошлом дает ей право, не предупредив, вваливаться к нему
в дом и вести себя так, как будто она собирается остаться здесь навсегда? Нет, он должен прямо и недвусмысленно заявить ей: пусть ни на что не рассчитывает, он теперь семейный человек.
Обиженная затянувшимся молчанием Анохина, Лиза отстранилась от него.
— Надеюсь, не выгонишь?
— Что ты, Лиза! — вспомнив о вздорном характере Елизаветы, забормотал Анохин.,— Заходи, куда же ты на ночь глядя? У тебя, по-моему, и близких никого нет...
— Если не считать старика Бахолдина... Но к нему после всего, что со мной было, я не пойду. Такую мораль начнет читать — обратно в лагерь сбежишь!..
Она хрипло рассмеялась, и этот смех и слова ее покоробили Анохина. Он молча закрыл щеколду и, чтобы как-то замаскировать свою растерянность, проговорил с деланным удивлением:
— А Джек-то, Джек! Через три года узнал!..
— Три года и шесть месяцев,— спокойно поправила Лиза.
В комнате Иннокентий щелкнул выключателем, и зеленоватый абажур с длинными стеклянными подвесками весело и пестро разлиновал желтенькие в цветочках обои.
Лиза с подозрительным вниманием огляделась вокруг, стараясь обнаружить следы присутствия другой женщины — предмета нового увлечения ее Кеши. Но в комнате не было особых перемен — та же никелированная кровать, над нею знакомый коврик с белыми лебедями среди зеленых зарослей куги с темно-коричневыми бархатистыми початками, у стены массивный комод со стадом белых слоников, плетеная этажерка с книгами и над пей овальное зеркало.
Не раздеваясь, Лиза присела на стул. Она ехала в открытом кузове грузовой машины, и лицо ее, исхлестанное ветром, закоченевшее на морозе, сейчас горело. Ей было до боли трудно смотреть на свет — казалось, нестерпимый жар струился из глаз.
Иннокентий с ненужной суетливостью бегал по комнате, прикрыл одеялом постель, переложил на диване цветистые подушечки и, задернув шторки на окнах, опустился на колени перед посудным шкафчиком.
— Ты не хлопочи, Кеша...— сказала Лиза.— Я не хочу есть. Мы тут заезжали в чайную... Я, чтобы не околеть совсем, даже опрокинула полтораста граммов.
— Ну зачем же, мы вскипятим чайку, обогреемся...
Ласковый огонь разливался по всему ее телу, наваливалась на плечи теплая, отрадная тяжесть, и не было никаких сил противиться вязкой, клеившей веки дреме. Лиза лепиво стянула шаль, хотела развязать у подбородка узел платка, по скрюченные, онемевшие пальцы не слу-
шалиоь.
— Разрежь ножом, Кеша,- попросила опа.
— Жалко все-таки... Может, я развяжу? - Ерунда! Стоит ли жалеть, да еще такую рвань!
Сбросив наконец платок, она легко стряхнула с плеч грязный ватник, и Анохин с некоторым удивлением задержал на вей взгляд.
За три с лишним года, которые он не видел Лизу, она почти не изменилась, хотя жила, вероятно, не очень-то сладко. Она стояла перед ним в теплом вязаном свитере — такая же крепкая, налитая, с острыми по-девичьи грудями, у нее были густо-синие глаза с яркими белками, пухлые, чуть вывернутые, чувственные губы и недлинные свалявшиеся волосы цвета спелой соломы.
— Что рассматриваешь? — щурясь, спросила она.— Поизносила, потрепала меня жизнь?
— Не сказал бы. Похоже, ты не из заключения явилась, а с курорта...
— А я там жила неплохо! — довольная, что она не разонравилась Иннокентию, самовлюбленно и вызывающе проговорила Лиза и стала расчесывать перед зеркалом волосы.— В тюрьме противно было — теснота, вонь, ругань, а в лагерях все по-другому — чистота, радио. Я скоро устроилась машинисткой, и мне, по совести, даже завидовали. Как видишь,— она похлопала себя по бедрам,— я там не похудела и фигуру не испортила!
Все вызывало в Анохине внутренний протест — и ее жесты, и не сходившая с губ двусмысленная усмешка, но он терпеливо сносил ее выходки, лихорадочно думая о том, как бы освободиться от нее без скандала.
Оглядев заставленный снедью стол, сверкавшие на белоснежной скатерти тарелки, ножи и вилки, Лиза знобко повела плечами и посмотрела на свои руки.
— Неплохо бы смыть хотя бы первую грязь, а? У вас нет. горячей воды? А то как бы ты об меня не запачкался!
— Сейчас погляжу.
Анохин сходил на кухню и явился с мохнатым полотенцем через плечо.
— Тебе повезло. В печке полный чугун горячей воды. Лиза свистнула.
— Прекрасно! Тогда я помоюсь вся.
— Как хочешь,—сказал Анохин.— Таз и корыто за занавеской. Только потише, не разбуди сестру,
— Она же глухонемая...
— Неудобно все-таки.
— Раньше было все удобно и сестра не мешала! — сказала Лиза и многозначительно подмигнула Иннокентию. Она порылась в своем заплечном мешке и, достав сверток с бельем, вышла из комнаты.
Анохин отбросил ногой в угол мешок, брезгливо, двумя пальцами, приподнял грязный, залоснившийся ватник, положил его на мешок и выпрямился, озабоченно хмуря брови.
«Ну и везет мне как утопленнику! — подумал он, прислушиваясь к шорохам из кухни.— Хорошо хоть Ксения в отъезде! Но как мпе эту-то выпроводить, как?»
Из кухни уже доносился тихий плеск воды и голос Лизы, напевавшей что-то вполголоса. Потом она заговорила, и Анохин не сразу догадался, что Лиза зовет его к себе.
«Еще чего не хватало!» — зло и растерянно подумал он и сделал вид, что не слышит. Но Лиза продолжала звать все громче, и ему пришлось подчиниться. Мягко ступая в войлочных туфлях, он прошел мимо комнаты сестры, отгороженной от кухни небольшим коридорчиком, и осторожно потянул дверь.
Кровь бросилась ему в лицо. Лиза стояла голая в железном корыте и, повернувшись спиной к Анохину, терла мочалкой шею и руки. По ее мокрым розоватым плечам и бедрам текла мыльная вода, белоснежный ком пены скользил по атласной ложбинке спины.
Анохин отступил и хотел было уйти, по Лиза, придерживая одной рукой налитые груди, обернулась и расхохоталась ему прямо в лицо.
— Ты чего перепугался, Кеша? Ишь засовестился! Так я тебе и поверила, что тебе не хочется на меня такую поглядеть! Можешь сравнить — хуже не стала! Возьми-ка вот мочалку и потри мне спину, а то я сама не достану.
Весь пылая, он взял из ее рук мочалку и стал водить ею по скользкой спине. Лизы, с каждым движением теряя самообладание. На лбу его проступил пот, он весь дрожал от напряжения.
— Спасибо. А теперь, если не тяжело, облей меня, пожалуйста.
Отжав волосы, она закрутила их узлом на затылке, закинула руки за голову. Уже почти ничего не соображая, Иннокентий машинально зачерпнул воды из чугуна, вылил Лизе на спину и грудь и как очумелый выскочил из кухни.
— Вот дьявол... Вот холера! — задыхаясь, шептал он и все не мог успокоиться.
Он достал из шкафчика бутылку, дрожащей рукой налил полную рюмку, быстро выпил и, морщась, нюхая хлебную корочку, раздумчиво заключил:
— Хороша!
Однако он тут же подумал, что не имеет права рисковать своим будущим. Пора взять себя в руки, иначе можно потерять все, чего он с таким трудом добился за последнее время.
Лиза вернулась из кухни румяная, посвежевшая. Она надела клетчатую широкую юбку и алую шелковую кофточку, волосы перехватила голубенькой ленточкой. Ей всегда шли пестрые, яркие наряды, и то, что на других выглядело бы кричащим и грубым, казалось на ней естественным и простым. В густых бровях ее сверкали алмазные бисеринки воды, взгляд темно-синих глаз повлажнел, стал тягуче-ленивым, от шелковой кофточки, как от огня, падал на лицо розоватый отсвет.
— Вот теперь не грех и поцеловаться,— посмеиваясь, проговорила она.— Ну что ты, Кеша, так смотришь на меня, ровно не узнаешь. Или успел другую завести?
Блеск ее глаз ослепил Иннокентия, и он с ужасом почувствовал, что его тянет к Лизе. Прикоснувшись к ее губам, он отшатнулся. Лиза удивленно и насмешливо поглядела на него.
— Что это ты как будто не целуешься, а причащаешься? Или разучился, отвык? Вот как надо, дурачок ты этакий!
И не успел Анохин опомниться, как она крепко обхватила его за шею, навалилась на него грудью, и он с отчаянием подумал, что если сейчас подчинится ей, то уже навсегда свяжет себя с нею.
— Послушай,— сказал он, когда Лиза наконец дала ему передохнуть.— Может, мы сядем за стол, а?
— Ну, за стол так за стол.— Лиза притворно вздохнула и, не спуская с Иннокентия насмешливого взгляда, досказала: — Я думала, что ты на самом деле изголодался, а тебя, оказывается, только на чай потянуло!
Избегая смотреть ей в глаза, Анохин разлил вино, поднял мерцающую на свету рюмку.
— С возвращением тебя! Закусывай, не стесняйся, будь как дома...
— Будь как дома, но не забывай, что в гостях!
Лиза засмеялась, одну за другрй выпила три рюмки, быстро захмелела, глаза ее лихорадочно поблескивали. Поймав над столом руку Иннокентия, она потянула ее на себя.
— А ну-ка смотри сюда, слышь? — Хрипловатый голос ее окреп, палился силой.—Ты. со мной в жмурки-то не играй, Кеша! Я не банный лцст — насильно липнуть не буду... Мол, что было, то, сплыло, назад не воротишь, теперь с другой спутался, не мешайся! Я пойму, ты не думай, я тожо по святая, по я должна знать мой ты или чужой?
— Я принадлежу обществу,— серьезно, без улыбки сказал Анохин, совершенно не собираясь откровенничать перед полупьяной женщиной, которая завтра же сможет каждое сказанное им слово обратить против него.
— Ну, к обществу я тебя ревновать еще не ''научилась! — Лиза снова захохотала, запрокидывая голову.— Обнимайся со своим обществом, не жалко! Но если к тебе какая баба привязалась, скажи ей: пусть отвяжется, а не то я ей глаза выцарапаю! Я такая — свое без драки не отдам!
Она с силой обняла его за шею, хотела было повалить к себе па колени, по Анохин неловко освободился от ее цепких объятий.
— Ты как думаешь жить дальше-то?
— Вот еще чего не хватало! — с вызывающей беспечностью ответила Лиза.— Буду я себе голову ломать. А ты на что? Ты умный, хитрый — все за меня придумаешь.
— Я тебя всерьез спрашиваю! — Анохин, хмурясь, отодвинулся от нее.— За три года немало воды утекло...
Лиза сощурилась, как бы собираясь с мыслями.
— А к чему ты этот разговор сейчас затеял? Что, ночью других дел нету, что ли? Вот чудак!
— Нет, это ты чудачка! — уже выходя из себя, повысил голос Анохин.— Мы с тобой не на луне живем, а среди людей, и нельзя с этим не считаться!
— Ну ладно, давай выкладывай, какой червяк тебя сосет.— Лиза пренебрежительно махнула рукой и склонилась над столом.
Этот жест окончательно убедил Анохина, что с нею нужно говорить грубо, начистоту, не деликатничая, а то никогда не отделаешься от ее наглой навязчивости.
— Пойми, я сам живу не так, как раньше! Меня, возможно, скоро выдвинут в секретари райкома, и я не могу пренебрегать своей репутацией и нежиться с тобой.
— А что, разве секретари не спят с бабами? Я одного такого знала, что всем беспартийным фору даст. Ты воду-то не мути, договаривай.....
— Да не в этом дело! — Обескураженный ее откровенным цинизмом, Анохин даже растерялся па мгновение.— Не забывай, где ты была! И я должен тебе прямо сказать, чтобы ты на меня не рассчитывала!
Лиза с минуту смотрела на Иннокентия, потом уперлась обеими руками в стол и, кривя в хмельной улыбке губы, медленно поднялась.
— Ну, чего ты вскочила? Я с тобой честно говорю, как оно есть. Кой-кому, конечно, намекну, так что без работы не будешь. Сегодня переночуешь у меня, а там что-нибудь придумаем...
— Хватит, Кеша! А то меня от твоей доброты стошнит! Она стукнула кулаком по столу, и стоявшие вплотную две пустые рюмки жалобно звякнули.
— Хоть тебя и не стекольщик делал, а я тебя насквозь вижу! Боишься замараться? Хочешь перед всеми чистеньким быть? Ну валяй, валяй — может, что и получится!.. Только передо мной-то ты зачем наизнанку выворачиваешься? Разве я тебя не знаю?
Она вышла из-за стола, и не успел Анохин возразить . ей, как она уже стояла в грязном ватнике и куталась в темную шаль.
— Куда ты? Кто тебя гопит! Ведь гораздо честнее сказать все открыто, чем обманывать! Напрасно ты обижаешься,— говорил Анохин, радуясь втайне, что Лиза уходит, и опасаясь, что она может еще раздумать и остаться.
Лиза рванула к себе заплечный мешок, накинула на одну руку лямку и подняла па Анохина полные нескрываемого презрения глаза.
— Я тебе итого никогда но забуду, Иннокентий! — тихо сказала она и сделала судорожное движение к нему, словно собираясь дать пощечину, по, приблизясь, внезапно рассмеялась визгливо-нервическим смехом прямо в лицо.— Гляди не прогадай! Придет время — пожалеешь, да поздно будет: мы, бабы, народ злопамятный, ничего не забываем.
— А ты мне не грози! — меняясь в лице, проговорил Анохин.
— Что мне грозить! — все так же напористо и зло продолжала Лиза.— Я не прокурор! Но если тебя догода раздеть, то от твоей идейности, может, ничего и не останется!.. Когда она распахнула дверь, Иннокентий с каким-то безотчетным испугом крикнул:
— Лиза, вернись!
Разбуженная огнем, из соседней комнаты выбежала сестра Анохина — высокая, костлявая, большеглазая, с растрепанными по синему халатику жидкими косицами. Испуг на ее бледном длинном лице сменился выражением улыбчивой виноватости, какое бывает у глухонемых, когда они плохо понимают, что происходит. Потом она засмеялась — звонко, как ребенок, и, мыча что-то свое, застучала кулачком в сухую плоскую грудь, дернула Лизу за рукав и стала крутить перед ее лицом быстрыми пальцами.
— Узнала, Сонечка? Спасибо, милая! Спасибо! А Кешка вон твой не узнал — морду на сторону воротит!
Обняв глухонемую за плечи, Лиза заглянула ей в глаза, провела ладонью по щеке.
— Тебя-то он еще терпит, убогая ты моя? Скоро он и тебя из своей жизни выгонит. Да ты не плачь — авось на ком-нибудь и подавится.
Анохин слушал ее хулу, весь дрожа от бессильной ненависти. Глухонемая согласно кивала головой, улыбалась. Но когда Лиза, пожав ей руку, пошла к порогу, Соня кинулась следом за нею, жалобно взвизгивая, хватая за полу стеганки. Иннокентий в два прыжка догнал сестру и, грубо толкнув, отбросил ее к стене.
— Куда лезешь, полоумная! Не суйся не в свое дело!.. Глухонемая, морщась от боли, прижалась к стене и с ужасом смотрела на взбешенного брата. Губы ее беззвучно шевелились, в темных больших глазах стыл немой укор.
Телеграмму принес рано утром Сысоич. Он был густо запорошен снегом и до самых глаз закутан ворсистым заиндевелым шарфом. Глухо стуча промерзшими валенками, он не спеша размотал шарф, бережно содрал с реденькой сивой бороды кусочки льда.
— Ты, девка, не пужайся,— сказал он, глядя на Ксению слезящимися от ветра глазами, обнажая в улыбке бескровные десны.—А то вот однова был случай... Как раз том годе, когда у твоего отца корова пропала. - Какая корова?
— Да пестрая! Не помнишь, поди?.. Как сквозь землю провалилась, да и только... Уж и на цыган плохо подумали, хотели их тряхнуть, а она тут объявилась — забрела аж в другой район, верст за полсотни. И чего ее
черт туда занес!
— При чем тут корова? — начиная нервничать, нетерпеливо перебила Ксения.
— Экая ты, девка, беспонятная! — Сысоич затряс перед нею кулаком, в котором была зажата телеграмма.— В тот же день, как она заблудилась, я и забрел без особой нужды на почту. Мне почтарь и говорит: «Отнеси, дескать, телеграмму Нефеду Кривому, а то, мол, у нас письмоносцы все разошлись. Обрадуешь старика, он с радости, гляди, расщедрится и выпить поднесет...» Ну, Нефеда-то ты, надеюсь, не забыла?
— Да помню, я все помню!
Не выдержав, Ксения выхватила из рук Сысоича телеграмму и быстро прочитала небрежно набросанные на бланке слова: «Приедем вторник вещами встречай у нашего дома отец».
— Что же вы не могли раньше-то принести? — досадуя, спросила она.— Ведь телеграмма со вчерашнего дня
в райкоме лежит!
— А ты что, запамятовала, что у нашей секретарши, у Варюшки, не райком в голове, а Витька?
— Какой еще Витька?
— Да жених! Кончил фэзэо, три года штукатуром работает, денег зашибает поболе, гляди, нашего Коробина...
— Спасибо вам, дедушка,— сказала Ксения и засуетилась.— Наши вот уже едут... А я только что узнаю...
— Ты что ж, вроде и не рада?
— Нет, нет,— словно оправдываясь, сказала Ксения.— Просто я не ждала их так быстро, а дом-то наш... В нем же никто не жил столько лет!
— Эка невидаль! Повалит дым из трубы — тут тебе и жизнь пойдет. В своем доме и черт не страшен.
Проводив Сысоича до сеней, Ксения вернулась в ком-пату и снова перечитала телеграмму.
«Удивительный все-таки человек отец!—думала она, расхаживая из угла в угол и комкая в кулаке бланк.— То его никак по уговоришь, то сам срывается с насиженного
места в дикие холода, и вот, пожалуйста, устраивай их, когда я сама не знаю, где я буду теперь!»
Случись это до нашумевшего собрания, Ксения, конечно, была бы рада возвращению родных, но сейчас, когда в ее жизни все перепуталось, когда ее отстранили от работы и будущее виделось смутно, неопределенно, приезд отца, матери и братьев нежданно все усложнял. Ко всему прочему ей вообще не хотелось, чтобы они узнали обо всей этой скандальной истории с собранием в Черемшанке до тех пор, пока все не уладится. Это может так повлиять на отца, да и на братьев, что они, не долго думая, повернут обратно в город, и тогда возникнет новый скандал.
Как назло, не было рядом Васены — она разъезжала по колхозам, подыскивая себе подходящее место, все смотрела, привередничала, отказываясь остаться работать в родной Черемшанке. Ее, видите ли, не устраивало помещение бывшей церкви!
«Но что же я сижу, когда они, может быть, уже подъезжают к деревне? Надо хоть Иннокентия предупредить!» — подумала Ксения и, набросив на голову пуховый платок, рванула с вешалки шубу.
На крыльце ее обдало снежной пылью, запорошило глаза. Белые крыши курились поземкой, над ними метался косматый дым — ветер то вздыбливал его, то сбивал вниз, и он пластался по скатам сугробов, кипевших пенными гребнями.
Чуть наклонясь вперед, прикрывая локтем лицо, овеваемая свистящими вихрями, Ксения с трудом выбралась на дорогу. Здесь поземка неслась, как стремительный горный поток, сквозь нее тусклой сталью блестели отшлифованные санными полозьями колеи.
Ветер дул Ксении в спину, иногда грубо толкал ее, и тогда она клонилась, словно падала вниз, чтобы удержаться на ногах.
«Только бы Кеша оказался дома,— думала она.— И все будет хорошо».
После всего, что случилось с нею, она ни за что не пошла бы к нему в райком. Она не хотела ни с кем там встречаться, и не потому, что стыдилась чего-то, нет, скорее она обижалась на то, что люди, которых она считала верными товарищами, не могли оградить ее от обиды. Выгнали человека ни за что ни про что, и как будто так и надо! И все молчат, ни один не явится к секретарю и не потребует, чтобы он изменил свое постыдное решение. Если бы
Иннокентий не был ее женихом, он, конечно, давно бы защитил ее!
Каждый день Ксения ждала, что ее вызовут на бюро и разберутся во всем, и тогда — она была непоколебимо уверена в этом — справедливость восторжествует. Но Коро-бин, видимо, дожидался, когда завершит свою работу посланная в колхоз комиссия. Он словно нарочно, как бы мстя ей за непослушание, назначил председателем этой комиссии Иннокентия, чтобы сразу связать его по рукам и ногам и не дать Кегле возможности помочь ей. Не случайно ввел он в комиссию и быстро делающего свою карьеру
Мажарова.
Если бы у нее имелись -какие-нибудь факты, она, не колеблясь ни минуты, даже при теперешнем отношении к ней, пошла бы в райком и раскрыла бы всем глаза на Мажарова. Но, к сожалению, кроме интуитивного недоверия и убеждения, что Константин низкий корыстолюбец, у нее никаких доказательств не было. А кто в наше время станет верить каким-то подозрениям, не подкрепленным никакими фактами? Можно только оконфузиться, даже помочь Мажарову сильнее укрепиться. Но все равно она не оставит его в покое, пусть он не надеется и не думает, она будет бороться с ним до конца, пока не поймает его на двуличии, на подлости и не разоблачит перед всеми! Она не пойдет на сделку со своей совестью, чем бы ей ни грозила эта история в Черемшанке!
Задумавшись, Ксения чуть не упустила Анохина. Он вышел из калитки и зашагал в другую сторону.
— Инно-о-ке-е-нтий!
Ветер смял ее крик. Анохин уходил все дальше, не оборачиваясь, выпрямясь во весь рост,— он никогда не прятал лица от ветра. Ксения крикнула еще раз и побежала. Наконец, точно почувствовав, что его догоняют, Анохин оглянулся и остановился.
— Здравствуй, Кеша,— запыхавшись, выдохнула она и схватила его за руки, чтобы не упасть.— Когда ты из Черемшанки? Вчера? Сегодня? Ну, закончила комиссия
свою работу?
Глаза Иннокентия были полны незнакомой настороженности. Он смотрел на нее так, словно знал что-то, о чем не решался сказать ей.
— Формально там, по-моему, и делать было нечего! — Иннокентий спиной загородил Ксению от ветра.— Если бы не новенький, мы бы давно навели полный ажур, но он все дело портит...
— Я так и знала!
— Что ты знала?
— Да нет, это я так...— Она на мгновение растерялась.— Ты ведь говоришь про Мажарова? Да? Но что он может понять во всей этой истории, когда без году педелю работает у нас... И что ему нужно?
— Я и сам не пойму! — Анохин оглянулся по сторонам, хотя на улице не было ни души и вокруг крутила свои белесые смерчи вьюга.— Ты понимаешь, лезет в каждую щель, задает сотни вопросов, будто пришел в колхоз на экскурсию. Ненормальный какой-то! Он так вчера разозлил меня, что вечером я сбежал сюда, хочу посоветоваться с Коробимым, а то оп нам всю обедню сорвет...
— Но что оп там ищет?
— Вот и я его об этом спрашиваю, а он говорит, что хочет во всем разобраться до мелочей. Вчера, например, начал обход по избам.
— Что за обход?
— С целью изучения жизни колхозников. Сидит в каждой избе по часу, по два, пьет чай и рассуждает на самые различные темы... Прислали какого-то народника! Намучаемся мы с ним... И упрямый как бык! Я ему говорю: поедем вместе, поговорим обо всем в райкоме, а он в ответ, что лучшей инструкции, чем сама жизнь, он не знает. И черт меня угораздил согласиться войти в эту комиссию, да еще с таким помощником!
Ксения смотрела то на рассерженное лицо Иннокентия, гладко выбритое, красное от ветра, то на его блестящее темно-коричневое кожаное пальто, по которому скользили, не прилипая, сухие снежинки, и недоумевала -почему Иннокентий ничего не спросит о пей самоё Поинтересовался хотя бы, как она себя чувствует.
— Вот на, полюбуйся! — Ксения выхватила из кармана скомканную телеграмму.
— Н-да-а,— неопределенно промычал он.
— Что «да»? — начиная раздражаться, спросила Ксения.— Ведь ты же знаешь, что в нашем доме хоть волков трави!
— Но при чем тут я?—удивился Анохин.— Ты говоришь об этом так, как будто я в чем-то виноват перед тобою и перед твоими родственниками. И вообще я не понимаю, чего ты волнуешься? Они не маленькие, прекрасно знают, на что идут. Поживут с недельку-другую у родни, а тем временем приведут дом в порядок.
«Да, но я не для того пришла к нему, чтобы он разго-
варивал со мной как с девчонкой! — неприязненно подумала она.— Мог бы понять, что мне нелегко сейчас!»
— Давай так сделаем, Ксюша,— спокойно сказал Иннокентий.— Ты иди в Черемшанку, встречай там своих, а я попытаюсь связаться с правлением колхоза и выяснить, чем они смогут помочь вам в первую очередь. Мне помнится, ты как-то говорила, что твои братья большие мастера на все руки — это же здорово!
«Какое это имеет сейчас значение? — подумала Ксения, но не стала упрекать Иннокентия.— Неужели он забыл, что я уже целую неделю не работаю? Что мне стыдно показаться "на улице? За что меня так унизили?»
Иннокентий вообще вел себя сегодня как-то странно. Все время, пока говорил с нею, он поглядывал по сторонам, точно боялся, что их увидят вместе. Ну и что, если увидят? Разве они чужие друг другу? Или его беспокоит что-то другое? Тогда пусть скажет прямо, как положено мужчине, мужу наконец!
Его красивое лицо с туго натянутой на скулах румяной кожей, с застрявшими в густых бровях снежинками показалось ой отчужденно-суровым и недобрым.
— Все будет хорошо, только ты не волнуйся! — сказал вдруг Иннокентий и, задержав ее руку в варежке в своих ладонях, улыбнулся, показывая ровные фарфорово-
белыё зубы.
За эту улыбку она сразу простила ему все — и странную черствость, и непонимание — и устыдилась своих недавних мыслей. Ему тоже ведь нелегко во всей этой истории! Он оказался между двух огней, и выбраться из них, не опалив ни ее, ни себя, кажется, почти немыслимо.
Когда она, вобрав голову в плечи, зашагала дальше, Аноин точно спохватился и крикнул:
— Ксюша!
Они снова двинулась навстречу друг другу, борясь с на- летевшим вихрем. Снег вокруг кипел, забивая глаза. Покрыв их с ног до головы мучнистой пылью, вихрь умчался дальше, поднимая с дороги снежные тучи, ввинчиваясь белыми спиралями в воздух.
Подойдя вплотную к Ксении, почти касаясь ее своей грудью, Иннокентий заговорил, прерывисто дыша ей в лицо:
— Ты только не обижайся на меня, ладно?.. Я не нахожу себе места, думаю день и ночь, как нам выпутаться из этой беды, понимаешь? Я ни в чем тебя не виню, скорее виноват я сам, что не поехал тогда с тобой...
— При чем здесь ты? Я тоже не имела понятия, что делается в колхозе, и, если бы не собрание, я и теперь бы ходила с завязанными глазами. Ну что бы ты сделал? Стал бы кричать на людей, убеждать в том, что, несмотря
ни на что, они должны согласиться с райкомом? Так, что ли?
— Ну что сейчас об этом,— уклончиво ответил Иннокентий.— Важно тебя вызволить... И тут нужно действовать осторожно и обдуманно. Если даже поначалу тебе покажется, что с тобой поступают не совсем справедливо, ты не принимай близко к сердцу, прошу тебя! Ко-робин не может оставить твой поступок безнаказанным, не забывай, что над ним есть тоже рука. И если мы отнесемся к этому либерально, нас в обкоме так поправят, что всем не поздоровится.
В том, о чем с жаром говорил ей сейчас Иннокентий, были своя логика и правда. Ксения сама не раз убеждала иных коммунистов, когда персональные их дела разбирались на бюро, что они должны иметь мужество признать вину, и все-таки последние слова Иннокентия возмутили ее, и она, усмехнувшись, спросила:
— Значит, ты считаешь, что главное в этой истории, чтобы райком ни в чем не упрекнули? А то, что на самом деле случилось в колхозе, и то, правильно или неправильно сняли меня с работы и создали персональное дело, это тебя не заботит?
Анохин, казалось, не обратил внимания на ее раздражительность, весь поглощенный своими мыслями.
— Обдумай все и не говори на бюро ничего лишнего, не упрямься, когда зайдет речь о твоей ошибке, не выводи всех из терпения, и все будет в порядке!..
— Не понимаю! — Она уже начала волноваться.— Что значит в порядке? А колхоз? Или ты считаешь, что я поступила неверно, поверив людям и согласившись, что им нужно менять своего председателя?
— Я уверен, что ты вела себя честно.— Он снова стал спиной к ветру, чтобы легче было дышать.— Но как ты не можешь понять, что тебе нужно было учесть всю обстановку?
— Вот я как раз и учла обстановку! — Ксения невесело рассмеялась.— Но ты, видимо, хочешь сказать, что я прежде всего должна считаться с мнением секретаря, а не с мнением народа? Ты в этом пытаешься меня убедить?
— Не будем спорить,— миролюбиво предложил Иннокентий, которому, видно, было не по себе от этого разго-
вора.— Мы далеко зайдем, и кончится тем, что разругаемся. Этого еще не хватало!
— Ну хорошо! — Ксения больше не могла смотреть на него. Она смотрела в сторону, туда, где метался белый огонь вьюги.— Только ты напомни Коровину — пусть по тянет больше с моим делом! Я тожо не железная, у меня просто нет сил...
— Я сегодня же намокну Сергею Яковлевичу.— Ано-хип помолчал.-— Вечером ты придешь?
— Не знаю! —Ее вдруг обожгла злость.—Но и ты тожо но будь иа меня в обиде, Иннокентий, если я не окажусь на бюро такой паинькой, какой вам всем хочется. По-человечески подойдут и разберутся — пойму и даже признаю свои действительные ошибки. Но если станете наказывать меня для формы, чтобы только угодить самолюбию Коровина, я тогда молчать не буду...
Анохин сокрушенно вздохнул, пожал плечами, и они разошлись в разные стороны.
Ксения шла, думала обо всем, что ей сказал Иннокентий, и удивлялась тому, что спустя какие-то две-три минуты каждое его слово стало приобретать уже иной смысл и значение, чем в тот момент, когда она его слушала. Ей уже хотелось возражать ему, непримиримо спорить, а если потребуется, то и поссориться. Нет, она не должна соглашаться с тем, что противно ее совести и разуму! Только теперь она вспомнила, что он так и не ответил ей, как он относится к тому, что произошло в колхозе, считает он ее правой или нет.
Ксения месила тяжелый снег и продолжала мысленно отвечать Иннокентию. Когда она выбралась на окраину райгородка, идти стало немного легче. Здесь ветер дул ровнее и слизывал с дороги весь снег до самой ледяной
корки, легко и мягко подталкивая в спину. «Нет, я завтра же поговорю с Иннокентием недвусмысленно, начистоту, чтобы между нами не оставалось никаких недомолвок! — решила Ксения.— Не может быть, чтобы он осторожничал потому, что не хочет расстаться с тем, чем его поманили,— большим повышением. Ведь это подло и низко! Неужели он думает ценой беспринципности заработать себе высокое положение? Или он считает, что идет на все ради меня? Тогда он ничего не понимает ни во мне, ни в том, что происходит в колхозе... Или я не разбираюсь в Анохине, так же как в свое время не разобралась в другом человеке, который наплевал мне в душу. Но больше я дурочкой не буду. Не буду!»
Белесая муть застилала даль, и вся степь, полная заунывного посвиста, сухого шороха снега, двигалась вперед, как огромная льдина, и словно несла ее вместе с собой.
К полудню вьюга стихла, и в Черемшанке наступила мягкая затаенная тишь. Стал слышен лай собак, скрип колодцев, далеко разносились голоса ребятишек, затеявших игру в снежки. Сквозь поредевшие облака изредка проглядывало солнце, и тогда все вокруг — опушенные ветви деревьев в палисадах, украшенный белыми наконечниками снега штакетник, столбы, надвинувшие косматые снежные папахи,— все вспыхивало и переливалось мириадами радужных искр.
Взяв у соседей лопату, Ксения стала расчищать снег от крыльца к дороге. Она раскраснелась, к рукам и ногам ее прилило тепло, и все, что недавно угнетало ее, не казалось сейчас таким беспросветным.
Любуясь легким как пух снежком, сверкавшим на солнце, она бросала лопату за лопатой, по пояс продвигаясь в снежной траншее. Она так увлеклась работой, что не заметила остановившуюся наискосок грузовую машину, и, только услышав голоса, выпрямилась.
Соскочив с подножки, к ней уже бежал Роман, и не успела Ксения опомниться, как он подхватил ее на руки и закружился на одном месте.
— Пусти, Ромка! — с радостным испугом закричала она.— Очумел! Пусти!
Довольно посмеиваясь, брат опустил ее на снег, чуть оттолкнул от себя, вприщур оглядел зеленоватыми глазами.
— Вполне на уровне! — сказал он, показывая в нагловатой улыбке белые зубы.
— Ну, пошел молоть! — вспыхнув, проговорила Ксения.
— С тобой уж и пошутить нельзя? Эх ты, коза принципиальная! Скорей бы кто тебе рога обломал, чтобы хоть родных не бодала.
Сбив на затылок кубанку с малиновым верхом, он ошалело, по-разбойному свистнул и, проваливаясь глубоко в сугроб, полез к дому. Полы его дубленого полушубка распахнулись, но он словно не замечал ничего.
- Здорово, старина! — сказал он и похлопал рукой по ребристому углу сруба.— Сколько мы с тобой не виделись, а? Всю сознательную жизнь!
— Ромка! — сурово окликнул из машины отец.— А разгружать кто будет — чужой дядя?
— Экий бесчувственный и вредный народ! — Брат протяжно вздохнул и нехотя вернулся к машине.
Из кабины, кряхтя, вылез дед Иван в старой косматой дохе, которой, наверное, было столько же лет, сколько, и самому деду, и черных валенках и рыжем облезлом малахае.
- Здравствуй, внученька! Спаси тебя Христос!
Он обнял Ксению, троекратно расцеловался с нею и, щуря не по-стариковски живые, насмешливые бусины глаз под навесом лохматых седых бровей, проговорил с притворным вздохом:
— Нашему Роману все забава, все праздник! Патре-тик, вишь, его в газетке пропечатали, на всю область пошло, а может, и дальше. Вот он и раскукарекался, возгордился, спасу нет. А от работы у него головушка не разломится.
— Не зуди, дед! — с веселым добродушием отвечал Роман, подмигивая сестре.— А сам-то небось рад-радешенек, что я его на старости лет прославил. Не поверишь, Ксюша, ту газету, где про нас писали, он до дыр засмотрел, спать и то с нею ложился.
— Ладно тебе, пустобрех, смешки надо мной строить! Пробуксовав в сыпучем снегу, машина несколькими рывками продвинулась ближе к дому, стала между покосившимися воротными столбами. Перекинув через борт кузова ногу, Корней нащупал подошвой сапога колесо, легко спрыгнул и неторопливо подошел к дочери.
— Ну здравствуй, как ты тут? Васена еще разъезжает по деревням? — с угрюмой настороженностью, заглядывая ей в глаза, тихо спросил он и подставил для поцелуя щеку.— Мать просила привет тебе передать... Ну и Клавдия тоже...
— Что ж вы не все сразу?
— Обживемся, и они приедут, невелика тяга. Барахлишко кое-какое осталось, так его по крайности можно продать на толкучке, не тащить сюда.
Ксения не стала больше ни о чем расспрашивать отца, хотя чувствовала, что он чего-то не договаривает, и, в свою очередь, решила умолчать о своей беде. У него, наверное, и так не очень-то спокойно на душе.
— Сорвались сыны, как цыгане бездомные!.. Такого звона наделали, беда! — проговорил Корней и, повернувшись к машине, сердито закричал: — А ты, Никодим, что, особого приглашения дожидаешься?
Ксения только сейчас заметила сутуло горбившегося в глубине кузова старшего брата. Неторопливо выпрямившись, он застенчиво улыбнулся сестре, но не стал слезать на землю, чтобы поздороваться, а поднял руку и приветливо помахал — не в его привычке было проявлять открыто родственные чувства.
Все в Никодиме было крупным, богатырским — и голова в густой шапке темных волос, и мощный, широкий разворот плеч, и огромные руки, которым он, казалось, не находил моста и держал полусогнутыми, па весу, у самой груди, и толстые ноги под стать могучему туловищу. Никодим постоянно мучился оттого, что не мог достать в магазине по своим размерам одежду и обувь, ему приходилось шить на заказ даже трусы и майки. Стоило ему пренебречь размером, натянуть на свой литой торс тесную рубашку да чуть повести, шевельнуть плечами, как она трещала по швам.
Но, несмотря на внешнюю неуклюжесть и неповоротливость, работал брат всегда с завидной легкостью, как бы играючи, и, за что бы он ни брался, все спорилось в его умелых и умных руках. Вот и сейчас Никодим принялся сбрасывать на снег сухие звонкие доски, и Ксения невольно залюбовалась — в движениях его не было ничего суетливого, все рассчитано, скупо и одновременно ловко и быстро. Лицо Никодима с маленьким носом, маленьким ртом, с мелкими чертами, как-то не вязавшимися с его крупной головой и богатырским ростом, похоже, но выражало сейчас ничего, кроме усталого безразличия. Но по резкой, стиснутой бровями складке на переносице Ксения догадалась, что брат чем-то озабочен и, может быть, даже огорчен. Сейчас к нему не подступишься, надо дождаться, когда он сам захочет поделиться своей тревогой, а иначе отмолчится, и дело с концом.
— Погоди-ка, Никодим, бросать! — неожиданно остановил сына Корней, и все обернулись и посмотрели на отца.— Надо бы сперва дом поглядеть. Ромка, давай топор и клещи!
Сыновья молча согласились — крутой отцовский нраз им был хорошо известен, и теперь лишнее слово, сказанное поперек, могло привести к нежелательному исходу.
Прежде чем открыть дверь, отец присел на расчищенную от снега ступеньку покосившегося крыльца, свернул цигарку. Пальцы его с газетным клочком чуть дрожали, крупинки махорки сыпались на носок сапога, но он не подал и виду, что волнуется.
Закурив, он выдернул ржавые гвозди, отодрал три полусгнивших доски, вставил лезвие топора между косяком и дверью. Жалобно скрипнув, дверь легко подалась, и Корней, отбросив в сторону топор и клещи, первым шагнул в сумрак сеней. За ним, отстав на пять-шесть шагов, словно боясь помешать, тихо двинулись сыновья, Ксения и присмиревший почему-то дед Иван.
Видимо, каждый внутренне как-то готовился к этой минуте, каждый по-своему представлял, что он может увидеть здесь, в родном доме, но никто, наверное, не ожидал увидеть его таким разоренным, запущенным, с грудой кирпича на месте печки, с рассохшимися подоконниками, на которых белел снег, пыльными лохмотьями обоев, уцелевших только возле самого потолка.
— Вот люди! — не выдержав, первым заговорил Роман.— Перегородки и те утащили! Шарниры все сняли, шпингалеты содрали! Ох, дорого бы я дал, чтобы знать...
— А ты чего хотел, вояка? — сурово остановил его дед Иван.— Сами все бросили без присмотра, а теперь людей клянем. Они, выходит, виноваты?
— Значит, по-твоему, раз хозяева уехали, то можно у них все воровать, грабить? Ишь ты какой Иисус Христос! Да и он такие указания не давал, чтобы, значит, ближних раздевать догола, когда кому захочется.
— Да чего ты вцепился в старика? — Никодим нахмурился, задел брата плечом.— Нашел о чем жалеть! Экая беда — перегородку у него унесли. Значит, кому-то в эти годы она нужней была, чем нам с тобой. А шурупы не иначе ребятишки взяли — мастерят чего-нибудь.
Ткнув в угол красивых, капризно, по-женски, очерченных губ папиросу, Роман крутанул колесико зажигалки, высекая искру, и с холодной насмешливостью взглянул на брата.
— С тебя, Дым, последнюю рубаху снимать будут, ты и тогда благодарить станешь, а?
— Ну, если насильно потянут, я, положим, могу голову свернуть,— тихо сказал Никодим.— А если по-доброму да лишняя имеется, трястись над ней не буду, сам отдам. Ты что же, считал, что тебя тут с музыкой встречать будут
и пуховики к твоему приезду приготовят, чтоб мягче спалось и заботушка на ум не шла?
— Я дал слово—и вот я тут!—повысил голос Роман.— Я не жду, что пельмени сами в рот полетят! А вот чего ради, объясни, твоя Клавка примерзла в городе? Как в газете ее расписали, так она возгордилась — не подступи, искрит на расстоянии. А пришло время ехать — у нее и почка больная отыскалась, и селезенка не на месте, в пору всю твою Клавку заново переделывать!
— Ты не расходись больно,— посоветовал с той же неторопливостью старший брат.—Я ведь могу и двинуть за оскорбления, придется потом самого по частям собирать.
— Да будет вам, черти! — крикнул Корней и толкнул Никодима в плечо.— Нашли время для драки! Уймитесь, а то я не погляжу на то, какие вы большие!..
— Ты же, тятя, знаешь Ромку...
— Я кому сказал? — Отец бешено сверкнул глазами.
Сыновья потупились и не проронили больше ни слова.
Осмотрев весь дом и обойдя пришедшие в ветхость надворные постройки, Корней велел сыновьям разгружать машину. Ксения обрадованно бросилась помогать братьям, работавшим хмуро и сосредоточенно, принимала от них вещи и носила в чулан. Один дед Иван, притомившийся за дорогу, горбился в своей дохе на крылечке и только следил за всеми.
— Шел бы ты к Дымшаковым, тятя! — сказал ему Корней, но дед досадливо отмахнулся.— Не чужие они нам — родня, какая ни на есть. Анисья, никак, дочерью тебе приходится. Да и Егор с одного разу не проглотит.
— А я, паря, никого и не боюсь вовсе! — заморгал ресницами дед.— Дай родным воздухом надышаться. А наговориться с родней я успею, у меня теперь жизнь пойдет долгая. Да и, окромя Анисьи и внуков, у меня тут, поди, одногодки мои еще землю топчут, будет с кем язык почесать.
Через полчаса, когда разгрузили машину, Корней достал из кармана бумажник, отсчитал шоферу деньги. Тот быстро зажал их в кулак, сунул за пазуху телогрейки и, прикрутив на углах расхлябанные борта кузова толстой проволокой, нырнул в кабину, хлопнув дверцей.
— Вот чертов левак! — глядя вслед заколыхавшейся по снежным увалам машине, сказал Роман и презрительно сплюнул.— Даже доброго слова не сказал на прощанье... Конечно, я мог бы поставить вопрос перед райкомом или председателем колхоза, чтобы дали транспорт, но смерть не люблю просить.
— Ну ты у нас мужик широкий, куда там! — не вытерпел долго молчавший дед Иван.—Тебе ничего не стоит лишнюю сотню выкинуть, копейка у тебя в кармане не ночует.
— Нет, поди, стану я на нее молиться да в кучу сгребать по одной. Ненавижу тех, кто над деньгами как в лихорадке дрожит.
— Что же ты тогда ролики пожалел? — спросил Никодим.
— Ролики мне не жалко! — сказал Роман.— А обидно, что люди совесть всякую потеряли... И вообще, если уж говорить начистоту, я, конечно, не ждал, что тут, как мы приедем, музыка заиграет, но ты, сестренка, могла бы и смирить свою гордость, поговорить с преподобным Ани-кеем Лузгиным и прочим начальством: так, мол, и так — люди явятся сюда по зову партии, так нельзя ли хотя бы на первое время подбросить им дровец, чтобы не остыли их патриотические чувства? А то высадились как на необитаемый остров, честное слово!
— Председатель неделю назад заболел,— ответила Ксения, страшась, как бы брат не вынудил ее рассказать обо всем, что случилось в колхозе.
— Ну хорошо, Лузгин заболел,— не отступал Роман.— А разве больше некому приветствовать наш благородный почин? Если мне не изменяет память, то какой-то Коробин прислал нам поздравительную телеграмму. Гордимся, мол, и прочее такое!
— Хватит, Ромка, скулить, надоело! — сказал Никодим.— Чему ты удивляешься? И среди начальников трепачей вроде тебя немало.
— Да что вы на меня бросаетесь? — возмутился Роман, и смуглые щеки его ярко, по-девичьи заалели.— Несознательный вы народ, как я посмотрю! Я же для вас стараюсь, а вы все норовите побольней меня лягнуть.
— А кто всех уговорил, а потом меня, как старого смирного коня, взнуздал? — Корней потемнел в лице.— Не ты, балабон несчастный? Молчи уж лучше и не фыркай теперь.
— Да будет тебе, Корней, распалять себя,— стараясь загасить ссору, миролюбиво проговорил дед Иван.— Раз прибились к родному крову, надо не счеты сводить, а поскорей его ухаживать да под крышу забираться. Пускай они с Ксюшей двор чистят или вон крышу залатают, а мы с тобой поглядим, что в первый черед надо делать в доме...
Проводив глазами отца и деда, Роман, точно ища сочувствия у сестры, переглянулся с нею, вздохнул.
— Если он мне этим станет каждый день тыкать, не жизнь, а каторга будет.
Он схватил лопату и стал расшвыривать направо и налево большие пласты снега. Никодим смял на губах улыбку, взял сестру под руку и отвел в сторону, к воротам.
— Ромку нашего только разозлить — он всю деревню носом сроет.
Всматриваясь в лицо Ксении, Никодим спросил:
— А ты чего такая смурая, а?
— С чего ты взял? Наверно, устала...
— Ну смотри,— недоверчиво протянул брат.
В больших голубовато-серых глазах его светилась такая нежная и глубокая преданность, что Ксения не выдержала.
— Меня сняли с работы, Дым! Я не хотела сразу расстраивать отца, понимаешь?
— Сняли? За что? Что ты такое сделала?
— В общем, если по правде, то ни за что... Просто я тут наступила кое-кому на любимую мозоль. Я потом расскажу, история долгая.— Она вдруг прислонилась к Ни-кодиму и порывисто поцеловала его в щеку.— Ты не представляешь себе, как я рада, что вы приехали!..
Смущенный проявлением столь внезапной и непривычной ласки, брат пробормотал:
— Ясное дело, свои... Чего уж тут!.. Ты особо не трави себя — мы в обиду тебя не дадим.
Он покосился на свои огромные ручищи, медленно сжал их в кулаки. Ксения рассмеялась и оттолкнулась от него.
— Вот дурной! Да разве тут твои кулаки помогут? Нет, ты, Дым, сумасшедший...
Она не успела отсмеяться и вытереть брызнувшие из глаз слезы, как увидела сворачивавшую к дому новую грузовую машину. В кузове ее, держась за крышку кабины и хлопая по ней рукавицами, подпрыгивали и качались от толчков двое мужчин в полушубках.
«Молодец Кеша! — обрадованно подумала Ксения.— Постарался все-таки, прислал кого-то».
По проложенной в глубоком снегу колее машина прошла до старых столбов. Дверца кабины со стуком раскрылась, и Ксения обмерла: из машины неуклюже выбирался Константин Мажаров.
Он был в серых стеганых штанах, такой же теплой стеганке, новых серых валенках и пушистой шапке-ушанке, с каким-то нелепым ухарством надетой на самую макушку. Если бы Ксения не видела его тогда в ночном лесу, она ни за что не узнала бы Мажарова в этом одеянии. Золотистый клок бороды и очки, остро блестевшие стеклами, придавали ему несколько комический вид.
«Хорош! — с насмешливой неприязнью определила она, но тут же внутренне насторожилась.— А что ему здесь нужно?»
Она не собиралась щадить его и готова была ответить ему любой дерзостью, как только он заговорит.
— Поздравляю вас! — расплываясь в широкой улыбке, сказал Мажаров, и не успела Ксения спрятать руки в карман, как он сжал ее пальцы и затряс.— Я рад за вас. Дождались, значит, своих? Привез вот вам печника и столяра...
«Ну до чего же нахальный! — Выдернув свою руку из его теплой и сильной руки, Ксения резко сунула ее в карман.— Смотрит мне в глаза, улыбается, как будто и не было того разговора в лесу. Или он делает вид, что выше личных обид и мелких уколов самолюбия? Нет, ему сейчас же надо дать понять, что мы не нуждаемся в его благодеяниях».
— Надеюсь, не забудете пригласить меня на новоселье?
Он сам напрашивался на колкость, и Ксения уже собралась с духом, чтобы достойно ответить наглецу, но. Роман опередил ее. Воткнув в снег лопату, он вразвалочку подошел к Мажарову и тронул его за плечо.
— Это председатель колхоза прислал людей? — спросил Роман.— Значит, не такой уж Лузгин жмот, как нам расписывали, а? Или он после сентябрьского Пленума подобрел?
— Насчет его доброты или скаредности я, к сожалению, пока ничего не могу сказать...
— Понятно! — Роман засмеялся -звонко, раскатисто, запрокидывая голову.— Еще бы начал ты поносить свое начальство! Да ты не бойся, парень, мы тебя Аникею не выдадим.—Посмеиваясь, он дружески так хлопнул Мажарова по плечу, что тот даже пошатнулся, и, весело подмигивая, сказал: — Не оправдывайся! Я, братишка, все схва-
тываю на лету и бью без промаха. Ты экономически зависишь от Лузгина, а это значит, куда бы ты ни зарулил, все равно приведешь свою машину к его личности.
Ксения понимала, что брат ставит себя в смешное положение, но не решалась остановить эту самодовольную болтовню. А Мажарова, похоже, даже забавляло недоразумение, глаза его, за стеклами очков искрились от еле сдерживаемого смеха.
— Бери-ка, дружище, топор! — предложил Роман Ма-жарову, и тот с охотой подчинился его просьбе.— Помоги нам оторвать доски с окон, все равно тебе сейчас делать нечего.
Ксению бросило в жар, она сделала два шага навстречу брату, намереваясь предупредить его, по Роман понял ее по-своему.
— Ладно, сестренка, не моргай! Ничего лишнего я не скажу — твоей биографии не испорчу. Да и шофер парень свой, представит нас председателю в лучшем виде.
«Ну и черт с тобой! — с тайным злорадством решила Ксения.— Распускай свой павлиний хвост».
Она хотела было скрыться в дохм, но вопрос Никодима заставил ее насторожиться и застыть на крылечке.
— Ну как тут, жить можно? По совести только!
— Почему же нельзя? Здесь такие же работящие люди, как везде,— ответил Мажаров и, отбросив первую с легким скрежетом оторвавшуюся доску, добавил: — Если захотите жить получше, начинайте тогда все менять на новых"! лад. Ведь вы затем и вернулись домой. Теперь все зависит от вас самих...
— А ты тут ни при чем, что ли? — грубовато, с вызовом спросил Никодим,—Силен ты, мужик, если па одних приезжих надеешься!
Мажаров, не сдерживаясь, откровенно рассмеялся.
— Да нет, я с себя ответственности не снимаю. Я просто хотел сказать, чтоб вы особенно ни на кого не рассчитывали, а все, что по силам, брали бы на свои плечи.
— Вот это правильная идейная установка! — согласился Роман и, собрав в кучу несколько полусгнивших досок, выпрямился.— В общем, как говорится, никто не даст нам избавленья... Пиши, Дым, своей Клавдии, чтобы она долго не засиживалась.
— Клавдия — это жена? — поинтересовался Мажаров.
— Законная,— ответил за брата Роман.— Только у них сейчас разыгрывается ужасная драма в пяти частях...
— Ромка! — угрожающе предостерег Никодим и стук-пул топором по доске.
— Ладно, не рычи! Шуток не понимаешь, медведь.— Роман чуть потянулся, расправляя плечи.— Ты теперь человек, закабаленный бытом, не то что я. Куда хочу, туда и лечу. И никто меня с утра до ночи не пытает: когда придешь, да к кому заходил, да сколько выпил, да на какие деньги? Тоска смертная! И чего люди находят в семейной жизни, не понимаю.
— Ну, пошел раскручивать свой моток,— покачал головой Никодим.— Теперь не остановишь...
— Я ведь, знаешь, дружище, вначале на целину хотел махнуть,— не обратив внимания на замечание брата, продолжал Роман.— А потом поразмыслил, и дай, думаю, оставлю хорошую память в своей родной деревне. Чем плохо? Благородная инициатива семьи Яранцевых! Славная семья патриотов! Звучит, а?
— Звучит,— согласился Мажаров.
— Мы с братом куда хошь! — хвастливо заявил Роман.— И в слесаря, и в трактористы, и в самодеятельные артисты! Замечай — в рифму сказал, это у меня бывает. Я бы и стихи писал, если бы только захотел и начал тренироваться. А ты давно шоферишь?
— Да так, от случая к случаю...
— А на тракторе приходилось работать? — словно обрадовавшись чему-то, стал допытываться Роман.
— Когда-то практиковался...
Роман многозначительно хмыкнул и вдруг с душевной щедростью предложил:
— Слушай, парень! Ты мне по душе, и я не люблю разводить всякие чувства на десятой воде. Айда ко мне в тракторную бригаду! Соглашайся, и с тебя пол-литра.
— Ловко ты! — удивленно протянул Мажаров.— Еще ни одного дня в колхозе не работал, а уже бригаду набираешь.
— Имею, выходит, такие права. Такой уговор был в области, когда я заявил о своем желании. Так что не бойся, иди ко мне и не пожалеешь.
— Но в колхозе уже есть от МТС одна тракторная бригада, и как будто неплохая. И бригадир Молодцов вроде бы па месте.
— Что-то я о нем не слышал. Был бы орел, его далеко было бы видно. А на своем месте можно и штаны просидеть. А я так понимаю — уж если браться за дело, то чтобы по всей области гул шел. И, само собой, переходя-
щее знамя держать в своих надежных руках. Правильная постановка вопроса?
Ксения по-прежнему была в замешательстве, не зная, как прекратить глупое скоморошество Романа. Она уж хотела было войти в дом и сказать отцу, но Корней сам показался на крылечке вместе с печником, столяром и дедом Иваном.
— Товарищ уполномоченный! — позвал негромко печник.— Дело за материалом. Полтыщи кирпича, и завтра дым из трубы.
Мажаров обернулся, и Роман с Никодимом ошалело уставились на него.
«Так вам и надо, хвастунам!»—подумала Ксения.
— А как с рамами? — спросил Мажаров.
— Если бы одни рамы, тогда пустое,— ответил столяр.— Через три дня застекляй и живи. Тут подоконники сгнили, половицы надо кое-где менять. Поглядите сами, чтоб уж потом прижать нашего Аникея всем миром. А то даст несколько досок да скажет еще, что я украл половину.
Едва Мажаров скрылся в доме, увлекая за собой отца и деда, как Роман сорвался с места и подскочил к Ксении.
— Ты что же это, а?.. Мы что, мальчики тебе? Мальчики? Нарочно потеху себе устроила? Нарочно?
— А я тебе не моргала? Не моргала? — крикнула Ксения.— Да разве тебя остановишь, когда ты пыль в глаза пускаешь! Говори спасибо печнику, а то ты бы весь наизнанку вывернулся!
Никодим молча переводил взгляд с брата на сестру, потом неловко подогнулся в коленях, плюхнулся на ступеньку крыльца и затрясся от смеха.
— Ромка!.. В бригаду его!.. Пол-литра требовал!.. Ох, смертынька моя!..
По лицу его уже слезы катились, а он все продолжал колыхаться, пока брат не ткнул его кулаком в плечо.
— Закатился, младенец! Гляди, не начал бы тебя бить родимчик. Ты-то где был? Не рядом стоял?
— Я ему один только раз сказал, а ты-то ведь на всю катушку разматывался. Даже по плечу его хлопал...
— А главное — было бы перед кем душу раскрывать,— как бы мстя братьям за их непростительную развязность и доверчивость, сказала Ксения.— Нашли себе товарища, нечего сказать! Могли бы и узнать этого гуся.
Никодим перестал смеяться, Роман смотрел на нее, сжав губы.
— Это ведь Мажаров,— чувствуя вдруг, как занимаются огнем ее щеки, сказала Ксения.— Тот самый...
Но братья, казалось, и на этот раз ничего не поняли, и Ксения пожалела, что сказала им об этом человеке.
— Дошло! — повертев у виска пальцем, сказал наконец Роман.— Это тот принципиальный товарищ, который был когда-то твоей симпатией и дал потом деру от тебя?
— Перестань, Ромка! — Никодим грозно насупился и повернулся к сестре.— Значит, это он роет под тебя в райкомо?
— А что случилось? — нетерпеливо спросил Ромка.
— Погоди.— Никодим отмахнулся от него.— Что ж ты молчишь?
— Нет, дело тут не в нем.— Теперь она, сама того не желая, как бы оправдывала Мажарова перед братьями.— Впрочем, секретарь райкома ввел его в комиссию по проверке...
— Ах, вот как,— сказал Никодим.
«По надо было затопать этот разговор,— подумала она.— Я вижу, что они уже не верят ни одному моему слову. Ужасно глупо получилось. Ужасно!»
Она услышала вдруг смех Мажарова, беззаботный, открытый, увидела и его самого, выходящего из сеней под руку с дедом Иваном, и у нее потемнело в глазах. Как он смеет еще издеваться над нею в ее же доме?
— Почему вы, дедушка, все-таки решили вернуться в деревню? — спрашивал Мажаров, с нежностью глядя в морщинистое, в глубоких складках лицо старика.
— Известно,— приосаниваясь, накручивая на палец клок седой бороды, ответил дед Иван.— Раз партия нас попросила, отчего, думаем, не подсобить ей? Газеты-то ведь не для курева выписываем, а чтоб видеть, что к чему касается.
— Чудесно! — восхищенно говорил Мажаров и не отпускал от себя старика, словно надеялся услышать от него что-то необыкновенное.
— Всю бучу у нас младший поднял, всех сговорил,— словоохотливо делился дед.— Роман у нас — вихрь чистый! А старшин — другого резону человек: везде приживается, лишь бы земля была добрая. Как ветка от тополя— куда ее ни ткни, всюду примется и зацветет...
— Ладно тебе, старый! — хмурясь, остановил его Никодим.— Что-то ты нынче разговорился...
«И чем он их взял? — покусывая губы и стараясь не смотреть на Мажарова, думала Ксения.— Дедушка и тот начал к нему подлаживаться».
— Ну, а как ваше настроение? — Ксения не сразу поняла, что Мажаров обращается к ней. Видимо решив, что она не расслышала, он снова улыбнулся ей доверчивой и, как ей показалось, даже чуть покровительственной улыбкой.— Вы особенно не расстраивайтесь, Ксения Корнеев-на,— тихо сказал Константин.— В жизни еще и не такие бывают случаи.
Она сделала навстречу Мажарову робкое, просительное движение, пытаясь остановить его, но Мажаров, увлеченный, громко досказал то, что ему хотелось.
— Я уверен, что вас сняли с работы неправильно. Я могу сказать об этом где угодно... Мне кажется, что Коровина просто неверно информировали, иначе он бы...
Мажаров только теперь уловил неловкую тишину вокруг и с недоумением огляделся. Но все смотрели на Ксению, и он понял, что они впервые узнали от него об ее несчастье.
— Извините,— сказал он.— Я полагал...
Никто не обратил внимания на его запоздалое извинение.
— Ты что же молчала, дочка, а? — подходя к Ксении, недовольно спросил Корней. — От чужих людей узнаем...
— Я бы сказала, тятя, да пока говорить-то нечего! — Ксения с какой-то показной удалью тряхнула головой.— Бюро райкома мое дело еще не разбирало, а зачем раньше времени кричать? Работу я себе всегда найду. Ведь я училась на агронома, а не на инструктора.
— Ну конечно! Нашли о чем горевать! — опять горячо и ненужно вмешался Мажаров.— Да если хотите, мы сегодня же найдем вам настоящую работу. Но нужно прежде всего защитить свою честь коммуниста, отвести от себя...
— Товарищ Мажаров,— сухо проговорила Ксения.— Я попросила бы вас...
— А меня и не надо просить, я и так все сделаю! — поняв ее по-своему, быстро отозвался Мажаров.— Сейчас я найду шофера, он подбросит сюда кирпич, а я тотчас же пойду на склад — узнаю, какие там есть материалы. Все будет отлично, вот увидите. День-два, и вы почувствуете себя снова дома.
Он попрощался со всеми и пошел по свежей колее со двора, как ей казалось, гордый своим великодушием.
— Одну минуточку, товарищ Мажаров! — еще не соображая, зачем она это делает, крикнула Ксения.
Мажаров остановился и, подслеповато щурясь на солнце, подождал ее.
— Пройдемте немного,— прерывисто дыша, выговорила она.— Я должна кое-что сказать вам...
— Вы шагайте лучше справа,—предложил Мажаров.— Тут колем пошире, нам будет удобнее...
— Да? — сказала Ксения и перешла на правую сторону.
— Я слушаю вас,— сказал Мажаров, но не удержался, чтобы не обратить ее внимание на молодую березку в ближнем палисаде, всю усыпанную мерцающими на свету блестками.— Какое чудо, правда? Даже не верится, что так может быть...
— Да, это верно.— Она чувствовала, что, соглашаясь в чем-то с ним, невольно теряет то непримиримое и мстительное, что толкнуло ее начать разговор. Чтобы как-то воспротивиться своей слабости, она сказала: — Меня это не интересует. Мне сейчас не до березки!
— Я хорошо понимаю вас,— сказал Мажаров.— Я бы тоже на вашем месте...
— В том-то и дело, что вы ничего не понимаете и понять не хотите! — радуясь возвратившемуся раздражению, сказала она.— Кто вас просил защищать меня?
— Но позвольте! — останавливаясь и глядя на нее с неподдельным изумлением, воскликнул Мажаров.— Меня же назначили...
— Никто вас не назначал! — горячечно, как в бреду, продолжала Ксения.— Вы сами напросились... Ну бог с вами, работайте в своей комиссии, но не портите жизнь мне. Зачем этот маскарад с костюмом? Этот приезд в роли шофера?.. Вы думаете, я дурочка и не вижу, зачем вы все это делаете!
— Но меня же попросил помочь вам Иннокентий Павлович!.. И о каком маскараде вы говорите? У меня просто ничего теплого нет, и я так рад, что купил эти брюки и телогрейку.
Они не заметили, как остановились возле обледенелого, в белых наплывах колодца.
— Допустим, вы сделали все с благими намерениями! — все так же лихорадочно продолжала Ксения.— Но кто вас тянул за язык говорить, что меня уволили с работы? К чему вы заигрываете с нашей семьей? Чего вы, наконец, хотите от меня?
— Я? От вас? Да о чем вы говорите! — Лицо Мажаро-ва стало страдальчески тоскливым и растерянным.
— Не притворяйтесь наивным человеком! Или вы рассчитываете усыпить мою бдительность, да? Чтобы никто не помешал вам сделать свою карьеру!
— Это черт знает что такое! — не выдержав, возмутился Мажаров.— Я думал, что вы просто по какому-то недоразумению тогда в лесу наговорили всякой чепухи. А вы, оказывается, всерьез решили в чем-то разоблачать меня. Но в чем? Я приехал сюда, как многие сейчас едут в деревню,— так надо. Ваш дедушка и то это понимает. А вы вообразили что-то и нагромождаете одну нелепицу... на другую...
— Вас тут все станут ненавидеть, когда узнают, что вы из себя представляете! — с наслаждением глядя на багровое от смущения лицо Мажарова и радуясь тому, что сумела вывести его из себя,' ответила Ксения.
— Я не желаю больше с вами разговаривать! — тихо сказал Мажаров и, обойдя ее, как столб, зашагал прочь.
Вместо того чтобы вернуться к своему дому, Ксения пошла по целине узкого проулка, проваливаясь глубоко в снег, и упрямо лезла вперед, пока не очутилась за огородами, на берегу закованной в лед речки.
Здесь было тихо и пустынно, только у прибитой морозом рябинки прыгали на снегу какие-то пичуги и клевали красневшие на белизне грозди ягод.
Ксения подняла одну веточку, раскусила горьковато-терпкую ягоду и вдруг ощутила подступившую к горлу тошноту. На какое-то мгновение снег показался ей зеленым. Дурнота не проходила. Она выплюнула ягоду, подумала, что, наверно, ей тошнотно оттого, что она сегодня ничего не ела, но тут же ее пронзила острая, заставившая содрогнуться мысль: а что, если она беременна?
«Я не хочу, чтобы это было!.. Ни за что!—подумала она и вытерла проступивший на лбу холодный пот.— Надо сейчас же что-то делать! Сейчас же! Лучше умереть, чем это!»
Охваченная смятением и страхом, она быстро пошла назад, но, не дойдя до улицы, присела в проулке на торчащий из-под снега плетень. Она вдруг почувствовала себя слабой, у нее дрожали руки и ноги, от резкого блеска снега кружилась голова, тело бил озноб, а к горлу снова подкатывала тошнота.
Ксения сидела на плетне, сутуло сгорбившись, сунув озябшие руки в рукава шубки, перебирала в памяти всех родных, близких и знакомых людей и не находила никого, кому бы могла доверить свою тревогу, попросить житейского совета.
Ничего особого вроде и не было в том, что делал Корней,— доламывал основание русской печи, отбирал в одну кучу целые кирпичи, в другую половинки, но ему уже легче дышалось, и на душе не было так безотрадно и тягостно, как в те первые горькие минуты, когда он зошел в родной дом.
В работе Корней всегда забывался: руки делали то, что им было положено, а он как бы жил сам по себе, весь во власти неотвязных и смутных дум...
За что бы случайно ни цеплялся его взгляд, все отзывалось мимолетным воспоминанием, и перед глазами оживала словно вчера еще шумовшая здесь жизнь. Было удивительно, что все открывалось будто заново, хотя хранилось в памяти давным-давно,— и ввинченное в потолочную балку железное кольцо, на котором когда-то висела детская люлька, баюкавшая его ребятишек, и ржавый крюк, навечно вбитый в стену около порога еще в ту далекую пору, когда у Корнея была своя лошадь и на крюк зимой вешали сбрую, и проступивший даже сквозь пыль на потолке обгорелый кружок от керосиновой лампы, и облезлая, когда-то крашенная голубой краской полка в углу, куда в последние годы, сняв иконы, сыновья и дочери складывали свои учебники и тетради...
Казалось, какое ему дело до этих примет ушедшего времени? Но пока Корней суетился в красноватой пыли, сбивая молотком с кирпичей куски затвердевшего раствора, он не раз возвращался мыслями к той жизни, что когда-то шумела здесь, вспоминая всех своих детей — и живых, и тех, кто умер, и сложившего на войне голову старшего сына, первенца Николая...
Бросив стучать, Корней закрывая глаза, и уже иная явь обступала его — с развороченной печкой, тянущим сквозь окна ветерком. Но эта явь не отталкивала, как прежде, не пугала, а как бы даже ожесточала и придавала сил. Да что, в самом деле, безрукий он, что ли? Сам себе лиходей? Не на смех же людям вся его семья с таким громом прикатила сюда!
Нечего греха таить — решился он на такой немыслимый шаг нелегко.
...В тот памятный осенний вечер, когда Корней оставил у калитки дочь и побрел на станцию, он то распалял себя обидой и слепой злобой на сыновей, то думал о горьком своем одиночестве и близкой старости. Неужели он уже не властен остановить безрассудный порыв детей, еще вчера подчинявшихся ему во всем?
Иногда начинали маячить впереди огни встречной машины, лучи от ее фар то обшаривали низко нависшие над землей дымные облака, то метались по дальним косогорам, пронизывая резким светом ощетинившуюся бурую стерню. Когда свет касался дороги, черная грязь вспыхивала, как антрацит, блестели унизанные каплями голые придорожные кусты.
Один раз Корней обогнал бредущее стадо — медленно скользя и оступаясь, вышагивали коровы и телки, изредка посылая в темноту тоскливый рев, все шествие замыкали два пастуха в резиновых сапогах и коробившихся, как жесть, плащах. Они незлобиво покрикивали на коров, щелкали вхолостую бичами. Вслушиваясь в густые всхлипы грязи под ногами, Корней с удивлением вглядывался в не утихающую даже в этот поздний час жизнь па земле. Где-то в стороне, едва угадываемые, чернели деревушки — там спали наработавшиеся за день люди, по вот среди темени начинал мерцать один огонек, другой, третий — то ли там шла работа на току, то ли спешили что-то доковать в кузнице; проплыл над взбухшей пашней светлячок, сразу и не угадать было, что это, пока ухо не уловило в тиши ровный гул трактора — наверное, допахивали пары.
Близко, совсем рядом заурчала машина, и не успел Корней отступить к обочине и оглянуться, как она остановилась позади. Дверца «газика» со стуком распахнулась, в. в широком снопе света показался высокий крупноплечий человек.
— Корней Иванович? — негромко окликнул он.
— Он самый,— тихо ответил Корней.
— Ты даже не представляешь себе, как я рад, что вижу тебя.— Пробатов выхватил из кармана пальто сложенную газету и потряс ею.— А говорил, что ты в наших делах посторонний!
— Моей славы тут нету, Иван Фомич,— не принимая на себя то, что, видимо, приписывал ему секретарь обкома, ответил Корней.
— Не прибедняйся и не хитри, я же тебя знаю! — Пробатов добродушно рассмеялся.— Ты же видишь, что правда на стороне твоих детей, а они сердцем чуют, что. им надо сейчас делать... Да что ж мы стоим? Пойдем в машину!
Корней заупрямился было, но Пробатов подхватил его под руку, и через минуту Корней уже сидел в «газике» под брезентовой крышей, а «газик» бросало и встряхивало на ухабах.
— Что ж это ты надумал в ночь киселя хлебать? — снова заговорил Пробатов, едва машина выбралась на ровный участок дороги.
— Да так уж пришлось,— неопределенно ответил Корней.
— А я вот все думаю: что ты не досказал мне там; на мосту? — Пробатов полуобернулся, и по тому, как он, сжав губы, напряженно щурясь, ждал его ответа, Корней понял, что секретарь обкома придает какое-то особое значение этому разговору.
— Да досказ длинный, всего сразу не упомнишь — мало ли что па ум придет...
— Ну, начни хотя бы с того, почему ты опасаешься в деревню вернуться? Что тебя смущает? Только по полной правде.
— Была бы охота слушать, а правду почему не сказать.— Корней сам не знал, что заставило его не с глазу на глаз, а в присутствии еще двух человек, которых он видел впервые, открыться перед Пробатовым со всей прямотой.— Все еще не верится, Иван Фомич, что жизнь тут пойдет другая. Ведь все наперекосяк пошло, а как дальше будет, кто знает...
— Партия, Корней Иванович, больше не станет мириться с тем, чтобы ты жил плохо! — горячо отозвался Пробатов.— Но ты сам понимаешь, что хорошая жизнь не начинается вдруг, надо, чтобы и ты к этому руки приложил... Булки на деревьях не растут!
— Так-то оно так.— Корней не сдержал глубокого вздоха.— Но вот посуди, Иван Фомич... Я уже всякое видел и пережил за свои годы, и мне хочется, чтоб хоть под старость душа на место встала. Ну, вернусь я назад, начну тут ворочать, себя не жалеть, а кто мою старость здесь приветит? Кто? В городе сколь бы я ни получал, а тощая или жирная — набежит пенсия. На сыновей нынче какая надежда? Они сами мечутся как угорелые, себя не найдут... А я колхозу не сосчитать сколько сил отдал, и все... как в бочку без дна...
Пробатов слушал, не прерывая, сведя к переносью густые брови, изредка кивая — не то в знак согласия, не то отмечая что-то про себя.
— Мы об этом тоже думаем, Корней Иванович...— Пробатов помолчал.— Но не все сразу, дай срок — и это осилим. На первый случай, пока государство не возьмет это на себя, пенсией тебя должен обеспечить колхоз. А в Черемшанке такое возможно уже через год-два...
О чем только они не переговорили за долгий путь до города, и домой Корней возвратился почти умиротворенным. Семья встретила его настороженно и молчаливо — видимо, приготовилась к взрыву его возмущения. Но Корней не стал никого распекать, принял из рук жены стакан чая, поинтересовался, гдо младший сын. «Выступает где-то на собрании,— загадочно усмехаясь, пояснил Нико-дим.—Зовет всех поступить по-нашему!» Тогда Корней спросил напрямки: «А ты тоже думаешь, как Ромка, или у тебя свой резон? Только не напускай туману. Не в прятки играем, о всей жизни дело идет».
Похоже, вопрос отца взволновал Никодима, потому что он тут же закурил и, попыхивая папироской, признался: «У меня, тятя, душа никогда особо не лежала к городской жизни. Не то чтобы я город не любил, пет, тут вроде и веселее, и культуры побольше, а мне чего-то недостает... У нас в Черемшанке пошел на один край — и сразу тебе за огородами степь, пшеница шумит, переливается, в другой край прошагаешь — в горах лес дремучий, река как бешеная играет. Стоишь и надышаться не можешь — так вольготно и просторно кругом! Хочешь — ружье в руки и через час лезешь напролом через чащобу, за зверем охотишься, хочешь порыбалить — река, озеро. А тут я как стреноженный хожу, и не по мне все это, пе по характеру, видать...»
Корней почему-то ожидал услышать от старшего сына нечто другое, но то, о чем поведал Никодим, показалось ему убедительным. Корней и сам за несколько лет как-то не сумел прирасти к городу душой, вжиться в быстрый ход его жизни. «А как твоя Клавдия? — решил идти до конца Корней.— Ей, по-моему, городского воздуха хватает?» — «Куда иголка — туда и нитка!»—грубовато ответил Никодим. «Ну, а если она себя иголкой посчитает?» — не утерпел Корней. Никодим не поддержал его шутку, промолчал.
Однако Корней оказался прав — перед самым отъездом жена Никодима заупрямилась. Чего она в Черемшанке не
видала? Люди все норовят в городе пристроиться, а они с ума посходили, в самую глушь забиваются. Дудки, не на такую напали!
Корнея аж всего передернуло от слов невестки. Скажите пожалуйста, какая образованность, какая культура! Сроду газету в руках у нее по увидишь, только и знает, что бегать по магазинам за разными тряпками. А в комнате черт ногу сломит, печным беспорядок. Но когда Клавдию почти уломали и она согласилась ехать, он неожиданно решил хорошо, пусть они с матерью пока остаются. В конце концов неизвестно, что ждет их в деревне, и лишний осмотрительность не помешает. Сыновья без спора подчинились его решению, и Корней втайне позлорадство-вал: ага, выходит, не такие уж вы герои, какими желаете казаться. Ясно, так и завяжем узелок на память!..
...Какая-то возня под окнами оторвала Корнея от привычных мыслей, он поднялся с пола, отряхивая с коленей кирпичные крошки. По подоконнику зашарили быстрые, цепкие и красные от холода детские руки, потом показалась голова с нахлобученной на самые глаза шапкой-ушанкой, и через мгновение Дымшаков-младший уже в упор, пе мигая, смотрел на Корнея диковатыми глазами с яркими белками.
— Дядя Корней! — Широко открытым ртом парнишка жадно глотал воздух.— Мамка велела сказать, чтобы вы к нам шли скорей!
Васятка тут же бы исчез, если бы Корней не ухватил его за плечи и не втащил в дом.
— Слушай, парень, а когда мы с тобой последний раз виделись? И поздороваться бы с дядей не грех, а?
Полные щеки мальчугана облил вишнево-темный румянец, он потупился, но Корней приподнял за подбородок его голову.
— Забыл?
— Ага! — Лицо Васятки расплылось в улыбке, открывая темную щербинку в верхних зубах.— Тятька вон вас во дворе дожидается! А мамка пирогов напекла!
— Добро! — сказал Корней и, не снимая с плеча мальчика свою руку, задержал на нем внимательный взгляд: «Глаза отцовы, а смотрит, как Анисья!»
Выйдя на крыльцо, он удивился — весь двор, если можно было назвать двором заваленную снегом, неогороженную усадьбу, был полон народу: одни толпились около Ромки, громко и задорно вещавшего о чем-то; другие сгрудились возле Никодима, подпиравшего плечом ворот-
ный столб; третьи собрались вокруг деда Ивана — седобородые старики, его сверстники, стояли, опершись на суковатые палки, и, улыбаясь, согласно кивали ему. У самого крыльца митинговал Егор Дымшаков, убеждая в чем-то председателя сельсовета Черкашину; вокруг дома носились вездесущие ребятишки, которыми тут же стал верховодить Васятка.
«Скажи на милость, неужто решили собрание в моем доме сделать?» — подумал Корней, чувствуя, как горячо становится глазам и сердце начинает частить.
— С приездом тебя, Корней Иванович! — Заметив его, Екатерина Черкашипа двинулась навстречу.—Давно бы домой надо!
— Дорога ложка к каше! — посмеиваясь, подхватил Егор Дымшаков.— Л у нас каша сварилась крутая, не враз зачерпнешь. Ничего, в самый момент угодил, шурин!
Он по-медвежьи сжал Корнея в объятиях и, чего уж тот совсем не ждал, троекратно расцеловал — по всему было видать, зять искренне рад его возвращению.
— Аленка! — крикнул Дымшаков.— Тащи наш подарок!
К Егору подбежала худенькая голенастая девочка лет десяти, в валенках, с голыми коленками, и протянула отцу белый, свернутый в трубку лист бумаги. Дымшаков не спеша расправил его и показал всем красочный плакат: бородатый колхозник держал в протянутой руке рыхлые комья чернозема, земля крошилась и сыпалась у него меж пальцев-. На плакате было написано: «Земля любит работу и хорошую заботу!»
— Захожу нынче на почту, а там эти вот картинки продают по целковому за штуку,— сказал Егор под дружный и веселый говор сгрудившихся около крыльца людей.— Смотрит на меня этот мужик и вроде подмигивает. Откуда, думаю, мне эта личность знакома? А потом догадался — да это же вылитый Корней Яранцев, мой кровный шурин! Правда, похожий? . .
Дымшакову ответили сразу несколько голосов:
— Дешево отделался, Егорушка!
— Добра купил на рупь, а расхвастался на сотню, а то и поболе!
— Ты бы, Дымшак, из имущества ему что отвалил на обзаведение, плакат-то под себя не постелешь!
Дымшаков довольно покашливал в кулак, непонятно чему радуясь — тому ли, что мужики взяли его в оборот, то ли просто наступившей суматохе, которая всегда была ему по душе.
— Да что вы на меня навалились? — притворно рассердился он.— На новоселье, если он меня как сродственника позовет, я ему что-нибудь потяжелее принесу, а покуда пускам па спой патретик любуется... Ведь я не только ради личности его купил, мне слова пришлись по нраву. Даже земле одной работы не хватает, а требуется еще забота, ласка, а что ж тогда человеку?
За шумом и гвалтом никто не заметил, как на улице показалась подвода. Когда она свернула к дому и в просвет между покосившимися столбами просунулась заиндевелая лошадиная голова с низкой дугой, все стали расступаться. А раздавшись в стороны, увидели грузно шагавшего за широкими розвальнями Никиту Ворожнева. Подергивая вожжами, он правил прямо к крыльцу. Подъехал к самым ступенькам, где стояли Корней, Егор и Черка-шина.
— Принимай подарочек, хозяин! — громко возвестил Ворожнев и, строго оглядев толпившихся вокруг колхозников, добавил с нарочитой торжественностью: — Аникей Ермолаевич по болезни не мог тебя навестить, вот и послал меня: поезжай, дескать, Никита, поздравь от всей широкой нашей души и пожелай, чтобы пустил корешки по-гяубже в родной земле. А какая потребуется от колхоза подмога — отказу не будет! Человек в свою семью возвер-нулся, показал себя как патриот нашего района, потому ему должен быть полный почет и уважение! Правильно я, мужики, выражаюсь?
— Чего хорошего, а выражаться ты умеешь! — ответил кто-то.
— Можешь и по-овечьему жалиться, и по-волчьему выть,— каменея в скулах, сказал Дымшаков.— Только вот разобраться иной раз бывает невозможно, в каком обличье ты выступаешь.
— Ты, Дымшак, мне нервы не рви! — остановил его Ворожнев, и мохнатые гусеницы его черных бровей поползли навстречу друг другу, чтобы сцепиться на переносице.— Я ведь не к тебе вроде пожаловал, а к Корнею Ивановичу. Одного уложил в постель, теперь за другого решил приняться? Не забывай, что и до тебя очередь дойдет, райком за такие дела по головке гладить не будет. Или считает!,, что и на этот раз сухим из воды вылезешь?
- И и мокрый вылезу — мне не страшно!— с бесшабашной удалью отвечал Дымшаков.—А вот если ты даже чуть подмоченный выберешься, тебя цап-царап — и кошки съели!
Последние слова Егора потонули в оглушительном хохоте. Смеялись все — и старики, опиравшиеся па свои палки, и ребятишки, облепившие гроздями крыльцо, и обычно замкнутая Черкашина. Не смеялся один Ворожнев. Если бы он не боялся, что ему придется расплачиваться за каждый проступок перед Аникеем, он бросился бы на первого попавшегося. Но он смирил свой бешеный нрав, переждал, когда стихнет смех, и, не выказав обиды и растерянности, небрежно отмахнулся.
— Некогда мне с тобой лясы точить! У тебя на любой сказ своя затычка... Но все же я бы на твоем месте не забывал, что и острый топор на сук налетает.
— Да сук-то уж давно сгнил, тронь его — он и отвалится.
Не отвечая Егору, Ворожнев подошел к саням, разворошил охапку соломы, и Корней увидел двух похрюкивающих поросят. Они зарылись пятачками в солому, белые спинки, тесно прижавшиеся друг к другу, торчали из вороха, как два отшлифованных водой камня.
— Вот, Корней Иванович, бери на расплод! — Ворожнев схватил поросят за ноги и, истошно визжащих, поднео их к крыльцу.
— Да куда же я их дену? — Корней потерянно оглянулся на зятя, но тот не смотрел на него.— У самого пока нет крыши над головой, а тут еще о животине думай. Да и кормить их нечем...
— На первый случай дадим и корм! — пообещал Ворожнев, а так как Корней пятился от него, он сунул поросят в руки подоспевшим Роману и деду Ивану.
— И чего ты засовестился, Корней, как девка на выданье? — упрекнул сына дед Иван.— Люди к нам со всей душой, а мы ломаемся! Не ворованное же нам дарят, а колхозное...
Корней не знал, что и делать. Ему не нравилась и завязавшаяся перебранка, в чем-то еще непонятная ему, и то, как Егор походя обижал в его собственном доме Во-рожнева, который, судя по всему, вовсе не желал затевать ссоры, и, наконец, не по душе было и само подношение: что он, нищий, что ли, и просит у кого-то на погорелье? Нет, он не нуждается пи в каких подачках, если надо будет, и поросят может купить за свои деньги. Однако и отказываться было как-то неудобно: а вдруг и на самом деле обидишь кого-то ни за что ни про что!
— Это что ж, правление, что ли, решило выделить поросят? — опять подал свой зычный голос Дымшаков.— Или сам Аникей по доброте своей расщедрился?
— А тебе что, жалко стало? — Ворожнев засмеялся, как бы радуясь возможности уличить Дымшакова в мелочной жадности.— Боишься, что колхоз обеднеет, если хорошим людям поможет?
— С колхозом-то ничего не случится, даже если он и новый дом Корнею срубит,— спокойно, без улыбки проговорил Егор.— За полжизни шурин тут столько заработал, что одним домом и не расплатишься. Но все ж я бы на его месте, прежде чем что-нибудь брать от вас, спросил наперед: а по закону ли все оформили или, может, на самом деле ворованное сбываете?
— Да будет вам, мужики! — вмешался Корней, становясь между Ворожневым и зятем.— Хватит тебе, Егор, окаянная ты душа! Уймись хоть ради сродственников своих. И ты, Никита, не задирайся зря — тоже, виднб, без того, чтоб занозипу в душу не засадить, не можешь.
— Он первый полез на рожон! — насмешливо протянул Ворожнев.— Больно умным да смелым себя выставляет. Без пего мы и не знаем, как и протоколы писать. На, Дымшак, возьми и разуй глаза — вчера все члены правления на квартире у Аникея подписали, чтоб, значит, дать этих поросят Яранцевым.
Он выхватил из-за пазухи лист бумаги, вызывающе повертел им перед носом Дымшакова, но тот и здесь не поверил, взял, разгладил бумагу на колене и неторопливо и молча прочитал все от буквы до буквы.
— Хорошая примета! Кончилась лафа распоряжаться колхозным, как своим собственным.— Широко улыбаясь, он вернул Ворожневу протокол.— Первый раз остереглись и решили сделать все честь по чести. А раз так, шурин,— бери поросят! Их, по крайности, можно и не откармливать до центнера, одного сейчас на закуску пустим...
Он взял под общий смех одного поросенка из рук деда Ивана, сунул его, как березовый чурбак, под мышку и весело оглядел всех гомонивших во дворе.
— По случаю такого события, что нашего полку прибыло, приглашаю всех, кто не побрезгует моим угощением, в мою избу! Градусов на всех, конечно, не хватит, но зато сельпо недалеко — каждый может сбегать. Ну, айда! Анисья моя, наверное, все глаза проглядела...
Вряд ли в тот день в Черемшапке был другой такой счастливый человек, как Анисья. Встав чуть свет и замесив тесто, она принялась за большую уборку — скребла жестким трескучим голиком пол, мыла его до чистой воды, вытерла мокрой тряпкой лавки, стулья, посудный шкафчик, выхлопала на снегу половички, повесила на окна белые занавески. Когда взошло тесто, она, засучив по локоть рукава, присыпала голый стол мукой и начала разделывать шаньги, пирожки с капустой, булочки.
Первым прибежал из школы Васятка и, бросив на лавку сумку, полез к столу. Скоро он весь уже вымазался в муке, выпросил у матери кусок теста и стал вязать какой-то замысловатый крендель. Потом явилась более степенная Аленка, учившаяся в пятом классе, живо надела старенький передник и тоже взялась помогать Анисье. Пришедшего позже всех семиклассника Мишу мать послала за дровами.
Все спорилось в этот солнечный праздничный день, и Анисья, раскатывая тесто, не переставала чему-то улыбаться.
— Мам, а ты сегодня поешь,— сказала Аленка и вопрошающе посмотрела на мать.
— Да что ты? — Анисья и сама удивилась, обнаружив, что в самом деле тихо, вполголоса напевает.— Как же нам не петь, не веселиться, вся родня наша нынче приезжает!
— А меня сегодня Мария Павловна вызывала, пятерку поставила! — похвасталась Аленка.
— Это за что же она тебе? — спросила Анисья, глядя на зардевшееся, с лучистыми глазами лицо дочери.
— Она же у нас по литературе, мам! — как бы досадуя на забывчивость матери, пояснила Аленка.— А мы проходим сейчас «Мороз, Красный нос» Некрасова... «Читай, велит, наизусть, Дымшакова, и чтоб с чувством!..»
— Ну и что же ты? — продлевая и свое и дочерино удовольствие, живо подхватила Анисья, даже оставив на время стряпню.
— Как что? Я читала, как она велела... С чувством!..— сказала Аленка.— Вышла к доске, а Пашка ворожневский сидит на первой парте и сбивает, язык мне показывает.
— Вот озорник!
- А он, мам, знаешь что мне сказал позавчерась? — напомнил о себе Васятка.
Мать и дочь взглянули на него и безудержно рассмеялись: щеки, волосы, подбородок и даже нос Васятки были и муке.
— Твой, говорит, отец самый вредный во всей деревне,— не обращая внимания на их смех, продолжал Васятка.— У всех как бельмо на глазу! Я, мам, звезданул бы ему как следует, но не сладить мне с ним — он в пятом учится, а я всего-навсего в первом.
В избу вошел Миша, вывалил возле печки охапку дров. Он был старшим из детей и по характеру не походил ни на отца, ни на мать — тихий, сдержанный, не по годам серьезный.
— А что же ты Мише не сказал? — упрекнула брата Аленка.— Он бы ему за отца-то...
— Я ему сказал, да он не хочет с Пашкой драться. Ну, мол, руки еще об него марать!
Миша, несмотря на то что говорили о нем, стоял молча и чуть смущенно улыбался.
— И хорошо, сынок, что не дрался,— похвалила Анисья.— Кулаками правоту не докажешь!
— А я на переменке все ж ему ножку подставил,— торжествующе признался Васятка.— Задрыгал ногами!
И хотя то, что сделал младший сын, было нехорошо и надо бы выговорить ему за это, Анисья не вытерпела и рассмеялась.
— Ох, задира, достукаешься ты! Смотри потом не жалься, если уши нарвут! — Погрозив сыну, она снова обратилась к дочери: — Ну, так что ж ты читала?
— А вот что вчера учила.— Аленка опустила вдоль тела выпачканные в муке худенькие руки, лицо ее приняло задумчиво-строгое выражение, и немного нараспев, каким-то совсем недетским голосом она прочитала:
Есть женщины в русских селеньях С спокойною важностью лиц, С красивого силой в движеньях, С походкой, со взглядом цариц..,
Анисья снова перестала стряпать, слушала дочь сосредоточенно и серьезно, а когда Аленка кончила декламировать, благодарно улыбнулась ей и спросила:
— Что ж учительница?..
— «Молодец, говорит, Дымшакова! Ставлю тебе «пять». Передай привет твоей матери и твоему отцу — они у тебя очень хорошие люди...»
— Так и сказала? — вспыхнув до слез, проговорила Анисья и, наклонясь к дочери, поцеловала ее в лоб.— Умница ты моя! Гляди и дальше старайся.
— Да я, мам...
В счастливой суматохе Анисья хваталась то за одно, то за другое, беспрестанно следила за печкой — не пора ли загребать угли, изредка посматривала в окно — не идет ли Егор, который отправился разузнать, скоро ли приедут родные. Анисья строго наказала, чтобы он не куражился и в случае чего позвонил в район Ксении —- она-то уж все должна знать.
Но как ни заняты были руки, Анисья в мыслях давно приветила родных и уже мечтала о том, как в скором будущем, улучив свободную минуту, станет каждый день забегать к невестке, чтобы отвести с ней душу в родственном разговоре. С соседками Анисья жила неплохо, но все ж не станешь посвящать чужих людей в свои маленькие семейные горести и восторги. У любого своих забот полон рот. А близкий человек всегда будет рад твоему приходу и непритворно посочувствует, поможет советом и, если надо, поделится с тобой последним куском.
С женой Корнея, Пелагеей, у Анисьи были очень сердечные отношения, обе они потеряли в эту войну взрослых сыновей, своих, первенцев, и, сойдясь, вспоминая о них, могли тихонько поплакать...
После памятного бурного собрания Анисья стала примечать, что все в Черемшанке будто по-другому начали смотреть на. них. Нельзя сказать, чтобы люди раньше не уважали Егора, но прежде они как-то сторонились их семьи — верно, побаивались Аникея. А к тем, кто дружил с Дымшаковым, Лузгин вечно придирался, посылал на самые тяжелые работм, часто отказывал в простых просьбах. И вот с того собрания многих словно подменили: женщины у колодца часто задерживали Анисью, хвалили Егора: «Спасибо твоему мужику, что не побоялся и выдал Аникею сполна!» Соседки паведывались теперь чуть ли не каждый день — то чего-нибудь одолжить, то, наоборот, сами чем-то делились.
Никто в Черемшанке не верил, что Аникей Лузгин тяжело болен, говорили, что он представляется больным, чтобы вызвать жалость к себе, а одна доярка на ферме так и брякнула: «Болтают, что какой-то мозжечок у него с места сошел! Нельзя ли так сделать, чтобы он на свое место не вертался?»
Прибежавший с улицы Миша сказал, что к дому Яранцевых прошла грузовая машина, и Анисья уже не удерживала детей — они быстро оделись и умчались.
Она набрала полную тушилку крупных красных углей, остальные, помельче, загребла в загнетку, присыпала их золой, и из глубины печи в лицо ей повеяло душным суховеем, как в знойный августовский день. Подождав немного, она бросила горсть муки на серый от золы под и оттого, что мука не вспыхнула сразу огнем, а медленно почернела и задымилась, решила, что пора сажать тесто в печь. Булочки на черных железных противнях хорошо растрону-лись, и, задвинув их в печь, Анисья стала приводить в порядок стол.
Работая, она опять что-то напевала про себя и отвлекалась, только чтобы лишний разок взглянуть в окно. Она уже теряла терпение и сама была готова бежать звать милых гостей в дом, когда заметила тихо бредущую серединой улицы племянницу.
«Ну вот наконец-то!» — Анисья обрадовалась, сбросила грязный передник и хотела принарядиться, но задержалась у подоконника, удивленная какой-то странной походкой Ксении: она шла, точно ничего не видела перед собой.
«Так она и мимо дома может пройти»,— подумала Анисья.
Простоволосая, босая Анисья выскочила на крыльцо, крикнула:
— Ксюш, ты куда?
Племянница остановилась уже напротив чужого плетня, потом словно нехотя повернулась и пошла к калитке.
— Ну что паши, скоро они там? — нетерпеливо спросила Анисья.
Не отвечая, Ксения следом за нею вошла в избу и, не раздеваясь, присела на лавку.
— Да что ты чудная какая, Ксюш! Я тебя спрашиваю, а ты молчишь! — Анисья уже с тревогой всматривалась в бледное и какое-то одеревенелое лицо племянницы.— Егор-то мой там?
— Что? — Ксения глядела на нее, словно не узнавая.— Простите, тетя, я просто задумалась... Я оттуда уже давно...
— Да что с тобой? — Анисья села с нею рядом, положила руку ей на плечо.— Ты не заболела случаем?
— Нет, нет! — Ксения замотала головой.— Вы только никому не говорите, тетя... Я сама не знаю, что со мной... Но мне... даже жить не хочется.
— Да ты с ума сошла, девка! — с жалостной укоризной воскликнула Анисья и обняла племянницу за плечи.
А Ксения вдруг ткнулась ей лицом в колени и заплакала, давясь слезами...
— Будет тебе, будет! — потерянно бормотала Анисья, лаская горячими ладонями ее щеки, гладя по голове.— Вот глупая, вот глупая...
Она ни о чем больше не расспрашивала племянницу, а говорила лишь обычные слова участия, которые вроде и бессильны убедить человека и, однако, по-своему все же успокаивают, снимают первую тяжесть отчаяния.
«Все мы, бабы, видно, такие,— думала Анисья.— Храбримся, строжимся, пока нас за живое не возьмет. Я-то считала, что она и горюшка не знает, и плакать не умеет. Ведь в начальниках ходит, вон как с мужиками спорит, правей правого себя выставляет. И вот на тебе — ревет бабой, как и все мы, грешные. И слезы, поди, такие же соленые, как у всех... Верно, как ни тянись, а от себя не убежишь, не спрячешься!»
Услышав за окном возбужденные голоса и узнав среди общего гвалта зычный голос мужа, Анисья быстро отстранила от себя племянницу.
— Умойся живо, девонька, наши идут!.. Виду не показывай, веселись со всеми, и твою болячку как рукой снимет!
Ксения послушно кинулась к умывальнику, сполоснула холодной водой лицо, раскрыла свою сумочку, припудрилась перед зеркалом.
Сени загудели, от топота затряслись половицы, потом дверь рывком отворилась, и, став па пороге, Дымшаков торжественно возвестил:
— Принимай гостей, хозяйка!
— Ой, Егор!.. Куда же мы всех посадим-то? — Анисья заохала, увидев, что в сенях черным-черно от людей.
— А мы поднатужимся и ее, избу-то, плечами легонько раздвинем! — посмеиваясь, отвечал Дымшаков.— Не бойся, Анисья. Сколь влезут — все наши будут. В крайности, по очереди гостей пропустим!
«Во шальной!» — Анисья не умела сердиться на мужа, а сейчас просто было некогда: за минуту изба была полна людьми. Она-то думала, что все будет по-другому — придут отец, брат, племянники, она всех оглядит, порасспросит обо всем, а тут толком не смогла даже поздороваться с родными: отец, оттесненный нетерпеливыми, разбитными
соседями, и то еле добрался до нее, хотя, похоже, это нисколько его не огорчало, а скорее радовало.
— Здравствуй, доченька!.. Не обессудь, что мы к тебе всем табором, пак цыгане, ввалились...
Они обнялись, по-родственыому расцеловались. В иной обстановке Анисья непременно бы сладостно всплакнула, расчувствовалась, дм и отец бы после долгой разлуки ответно прослезился, но теперь на народе они оба вынуждены были держаться сдержанно и скромно. Анисья не успела ни о чем спросить отца, как Егор уже начал коман-довать.
Разлюбезная женушка!—закричал он, стараясь сипим голосом перекрыть общий шум.—Тащи на стол, что у нас ость! А чего не хватит, соседи принесут!
Анисье казалось, что не только сидеть, но и стоять всем будет негде, по гости скоро так разместились, что даже для нее осталось свободное местечко около Корнея.
— Что ж Пелагеюшку-то сразу не захватил? — прислонясь головой к плечу брата, тихо спросила она.
— Так уж получилось,— ответил Корней.— Враз все не сделаешь... Да и куды мы всей оравой — дом-то разорен!
— У нас бы пожили...
— Мы и так вас потесним вчетвером-то... Когда приведем все в порядок, тогда уж...
Анисья поняла, что Корнея что-то томит, беспокоит, но расспрашивать не стала. Может быть, ему тоже было не по душе, что Егор затеял эту гульбу, но приличие требовало, чтобы он терпеливо сносил все и даже радовался, потому что люди собрались, чтобы приветить его и отметить приезд его семьи.
Сама-то Анисья не скрывала, что безмерно счастлива и довольна, и, когда Егор разлил вино по стаканам, она настолько осмелела, что подхватила свой наполненный до краев стакан и поднялась прежде, чем это успел сделать ее муж.
—Не все тебе, Егор, оглушать всех своим голосом! — посмеиваясь, проговорила она.— Про равноправие шумишь, а в своей семье мне не больно ходу даешь. Неправда, скажешь? Не улыбайся, пожалуйста, ровно ты тут ни при чем. И позволь мне первой слово сказать — моя ведь родня вернулась в свое гнездышко, и сегодня больше мой праздник, чем твой. Дождалась я своих близких и всем рада радешенька — и тятеньке родному, и братцу, и племянникам, и Ксюше. Живите с добром и не уезжайте сро-
ду никогда, чтоб мне слез не лить!.. Ну и чтоб у всех у вас жизнь была хорошая, какой нам всем хочется!..
Но тут голос ее задрожал, и она, уже не стыдясь никого, опустилась на лавку, привалилась к груди брата и заплакала...
Проводив гостей, Корней и Егор долго стояли на крыльце. После выпитого вина и застольных разговоров Дымша-ков был возбужден, без конца дымил махрой, дышал шумно, отрывисто. Старая кожаная тужурка, надетая внакидку, все время сползала с его плеч, и он то и дело вздергивал ее рукой. Корней, как и положено в его возрасте, плотно запахнул пальто, застегнул на все пуговицы, надел шапку. К чему показывать свою удаль и делать вид, что тебе все нипочем?
За рощей садилось солнце, оно сочилось, как алая половинка рассечеппого арбуза, крапило розовыми брызгами сугробы, отсвечивало в слюдяной корочке обледенелого наста. Крутые дымки над заснеженными крышами багряно окрасились и стали похожи на диковинные цветы.
— Ядреную погодку привез ты нам, шурин! — попыхивая цигаркой, заметил Егор.— Полыхает прямо как на картине! Красотища!..
— Моя погода вашу непогодь не разгонит,— вяло отозвался Корней.— Надо же, такую бучу подняли! Правду ты даве сказал, что густую кашу сварили, мне сразу будто и невдомек, о чем это ты... А теперь вижу — на самом деле невпроворот, в рот не полезет.
— Ничего, проголодаешься — любой пище рад будешь,— упрямо и жестко стоял на своем Дымшаков.— Или ты по-прежнему считаешь, что лучше пусть подсасывает от голода, лишь бы тебя самого не трогали?
Тут бы Корнею сдержаться и промолчать — ведь заранее было известно, что зятя ни в чем не переспоришь, но язык оказался сильнее разума.
— Я еще не забыл, Егор, как в прошлый раз ты похвалялся... «Разведу, дескать, под ними огонь, попляшут они у меня!» Вот и развел, только плясать-то тебе самому при-
дется да моей дочери, которую ты в эту музыку втравил. Ну скажи, чего ты добился тем, что Аникея в постель уложил?
— Это мы еще посмотрим, заболел он или дуриком прикидывается. Люди зря болтать не станут. А Аникей — тот кого хоть разыграет. Ему бы в самый раз в театре выступить, а по и председателях ходить. Большой талант, можно сказать, нипочем пропадает!..
- Я за Аникея болеть не собираюсь, он и без моей помощи ни ноги встанет, а нот тебя с Ксенией притянут к ответу — это уж точно. С работы ее уже прогнали, да, мигнет, н еще чего припаяют...
Дымшаков бросил в снег окурок. Тужурка повисла на одном нлече, в полурасстегнутом вороте рубахи открылась его заросшая дремучим волосом грудь. Услышав последние слова шурина, он хотел было рывком скинуть тужурку и остаться в одной рубахе, но Корней строго крикнул:
— Да запахнись ты, Аника-воин! Ишь разгорелась барыня в холодной горнице!..
— Да уж не стану, как ты, дрожжи от страху продавать.— В хрипловатом голосе Егора появилась раздражительная, злая нота.— Ежели будем все вот так рассуждать, тогда Аникей нас одной соплей перешибет. Ну, мы раздуем еще огонек, и тогда уж Лузгину несдобровать!
— Ну и раздувай, если охота,— помолчав немного, тихо проговорил Корней.—Только меня, прошу, в эту свалку не тяни. Я сюда приехал не кулаками размахивать, а пожить в мире да спокое...
— Ловко Аникей тебе рот замазал! — Дымшаков издевательски рассмеялся.— Сунул двух поросят и сделал тебя смирней овечки.
Корней помрачнел и долго молчал, А когда начал говорить, в голосе его зазвучала не столько обида и упрек, сколько тягостное недоумение.
— Ну и натура у тебя, Егор... Не можешь ты, чтобы не укусить, да не просто, а норовишь побольней схватить, а то и с мясом вырвать. Ни стыда у человека, ни совести — один голый резон. И какая ржа тебя ест, не пойму. У меня ничего на ум не идет, еще землю под ногами нетвердо чую, а ты уж мне и цену определил, за которую меня с потрохами можно купить. Надо бы осерчать на тебя, а может, и в морду твою бесстыжую плюнуть, но мне пошто-то жалко тебя...
Дымшаков слушал, понуро опустив голову, не прерывая, словно и впрямь усовестился.
— Не принимай за обиду, шурин,— наконец с трудом разжав губы, попросил он.— Черт его знает, как с языка сорвалось... Помучился бы ты с мое, может, и не то бы еще сотворил!
Видно, нелегко далось ему это признание, но Корней, хотя и был отходчив, сейчас не принял слова Егора на полную веру.
— Ведь у другого сорвется — как комар ужалит, а у тебя — все равно что кирпичом по башке!
Махнув рукой, Корней тихо побрел со двора.
— Куда иге ты? — обеспокоенно крикнул вдогонку Егор.
Корнето пе хотелось отвечать этому задиристому и тяжелому человеку, по у калитки он все же задержался и, словно сжалившись, бросил:
— Пойду дом проведаю...
После прокуренной избы, гвалта, неутихающих споров у Корнея гудела голова, и опять в который раз одолевали, бередили его сомнения...
Давно ли он вот в такой же закатный час, неизвестно чего страшась и волнуясь, бежал к своему заброшенному дому, и тогда даже в мыслях у него не было, что через каких-то два месяца он оставит город и начнет прирастать душой к тому, от чего, казалось, оторвался навсегда... Когда он понял, что не сможет устоять против желания всей семьи, он больше всего беспокоился о том, как трудно будет обновить дом, подыскать всем работу по душе, обеспечить себя Хотя бы средним достатком. Ему и в голову не приходило, что эти заботы и тревоги покажутся зряшными рядом с тем, что происходило в Черемшан-ке. За один день навалилось такое, что не враз и разберешься!
Допустим, он по своей воле не влезет в драку, хватит с него, повоевал в своей жизни, но разве ему удастся удержать от этого сыновей и дочек, если они в общую смуту ввяжутся? А рано или поздно придется и самому стать на чью-то сторону.
Но что бы пи произошло, Корней никому не позволит командовать собой, никто не заставит его делать то, с чем он не будет согласен. А по крайности, станут уж очень приставать,— он никому зарок не давал! — смотается обратно в город, и вся недолга. Он не бычок, чтобы пасти его на привязи. А на заводе в работе никогда не отка-
жут — не в проходной, так в другом месте прилепится, не пропадет. Из ближнего проулка навстречу Корнею вышла целая ватага парней и девушек с гармонистом во главе. Он шагал в черном полушубке нараспашку, в сдвинутой на самую бровь кубанке и, склонив набок голову, безжалостно раздирал цветистые мохи гармони. Прямо перед ним, не сводя с пего влюбленных глаз, выплясывала девушка в фиолетовой плисовой жакетке, била каблучками в снег и пела с отчаянной пронзительностью:
Мой миленок тракторист, Я ему велела: «Запаши мою любовь, Чтоб сердце пе болело...»
«Кому что!» — Корней вздохнул, пропуская мимо себя шумную ватагу. Парни, как и гармонист, шли тоже нараспашку, словно щеголяли своей удалью, и не столько подпевали, сколько невпопад выкрикивали; девушки на таком морозе форсили в туфельках, тонких чулках и, словно боясь озябнуть, неустанно выбивали каблучками дробную чечетку.
«И никакая холера их не берет»,— подумал Корней. Он поймал себя на том, что по какой-то причине сердится на парней и девчат, как будто сам никогда не бродил по улицам, такой же разухабистый и неуемно-веселый. Конечно, он тогда не носил дорогих хромовых сапожек, а топал в лаптях, а когда отец купил ему на базаре грубо сшитые сапоги из яловой кожи, то надевал их только по праздникам, все остальное время сапоги висели на стене, густо смазанные дегтем. Пелагея тоже, хоть и ходила в невестах, не красовалась, как нынешние девушки, в крепдешиновых платьях, а была рада-радешенька простому ситцевому. Старались обходиться непокупным, все делали сами — ткали холст на одежду, выделывали мерлушки, плели лапти. Чтобы купить что-то, копили по денежке. Хлеба и того не всегда хватало до нового урожая; а уж о сахаре и всяких сладостях и говорить нечего — было в диковинку, как гостинец детям. А главное — все были темные, один-дна грамотея на всю Черемшанку.
«А чего ж мы, старые люди, иной раз начинаем хвалиться тем, что раньше было? — ловя себя на каком-то противоречии, думал Корней.— Что хорошего мы в той жизни видели? Да 'ничего! Потому, верно, и видится прежняя жизнь получше, что то была наша моло-
дость, а она всегда кажется краше, чем вся остальная жизнь!»
Для Корнея грамотная пора наступила не тогда, когда он ходил холостым по деревне и горланил под гармонь припевки, а много позже.
Будто озаренный мгновенной и яркой вспышкой огня, увидел Корней тот незабвенный день, когда он привел в Черемшанку со станции первый трактор. Всю машину, как только она вошла в улицу, забросали цветами, зелеными ветками, нарядили, как невесту к свадьбе. Кто-то прицепил на грудь Корнея красный кумачовый бант, воткнул в густой чуб белую ромашку, и, хотя Корней весь пропах керосином и копотью и был чумазый как черт, он сам себе в тот день казался красивым.
Будет умирать — не забудет, как кричали и плакали от радости люди, обнимали друг друга, как седобородые старики сдергивали перед ним шапки и трясли его руки. Толпа валом валила за машиной до самого полевого выгона. Изредка оглядываясь, Корней видел сквозь застилавшие глаза слезы цветистый кашемировый платок жены, своих ребятишек, что ни на шаг не отставали от трактора. Словно не он вел машину через эту ликующую толпу, а сами люди вынесли его на своих плечах к бурьянистому выгону, и Корней задохнулся от расхлестнувшегося перед ним простора.
О, как любил он гул и дрожь этой чудодейственной машины, как радовался своей власти над ней! Когда, опустив лемехи, он тронул ее с места, толпа притихла на мгновение, потом дрогнула, развалилась и вдруг ахнула одной мощной грудью: «Давай! Давай! Жми, Корнеюшка!» Он рывком двинул трактор, распарывая слепящими плугами вековую каменистую залежь, оставляя позади черную сырую волну чернозема...
И вот будто не было вовсе этого счастливого, праздничного дня в его жизни, и он снова брел куда-то наугад, полный неуверенности и томительного ожидания...
Солнце уже село, темные избы по-старушечьи кутались в сумеречные синие платки, мороз крепчал к ночи, пощипывая щеки, снег под валенками поскрипывал звучно, упружисто, как крахмал.
Корней не заметил, как оказался на краю знакомого оврага, и вкопанно остановился, пораженный тем, что в доме его, на другой стороне оврага, горит огонь.
«Что за дьявольщина! — Он протер кулаками глаза, но огонь не пропал.— Что бы это могло значить?»
Обогнув овраг, он заспешил к дому, но у крыльца остановился, услышав голос знакомого печника, видимо подгонявшего своего напарника.
— Ты все же пошевеливался бы, Петяша! Что ты как сонный?
— А кто нас неволит иочыо работать,— сердито забубнил в ответ молодой басок напарника.— Ребята вон песни играют, а мы тут колготись!
— Один вечер горло по подерешь — голосу не лишишься,— насмешливо урезонил печник.— Совесть надо знать... Люди ни на что не посмотрели и с места снялись, хотя в городе им но хуже жилось, а ты себя на несколько часов жалеешь, боишься, что руки отвалятся, если ночь поработаешь...
Корней стоял, потрясенный и тем, что услышал, и тем, что старый печник ради него решился работать ночью. Чем же он замешивает раствор? Кипятком? А не то раствор сразу остынет.
Вспомнив, что по дороге сюда он травил себя ненужными сомнениями и снова был готов смалодушничать, Корней испытал укор совести. Да, было, по-видимому, в приезде его семьи что-то такое, что превышало и шум, поднятый в газете, и стремление Романа показать себя о выгодной стороны перед всеми, что пришлось по душе всем черемшанцам и радовало их. Дело было не в том, что вернулся именно он, Корней Яранцев, ведь у него не имелось никаких особых заслуг перед земляками, они так же открыто и душевно радовались бы и другому, кто распростился бы с городом и возвратился домой. Он был невольным первым вестником доброй погоды, которую все давно ждали!..
Жадно дыша морозной свежестью, Корней пристально вглядывался в раскинувшуюся по обе стороны глубокого оврага улицу Черемшанки, прислушивался к каждому звуку: заржала где-то за деревней лошадь — видно, торопилась к скорому отдыху в теплой конюшне и корму; визжали и разноголосо гомонили ребятишки в овраге — по неутихающим взрывам смеха можно было догадаться, что, летая с крутой горки, они то и дело опрокидываются в снег; а на краю оврага темнела фигура какой-то женщины; строжась и повышая голос, она звала домой сына: «Коль-ка-а-а! Я кому сказала, чтоб сей минут был в избе, а? Вот придет отец, он те шкуру-то спустит, пострел ты этакий!»
«И чего стращает? — улыбаясь, думал Корней,— Если застынет мальчонка, сама же будет и руки ему оттирать, и на печку сунет, чтоб отогрелся!»
Все было отрадно и близко в этом знакомом с детства мире родной Черемшанки — и рассыпанные в сумраке огни, и смех детей в овраге, и полный ласковой тревожности голос матери, и хвойный запах дыма из труб, и даже показавшаяся над заиндевелыми макушками тополей светлая краюха месяца, такого неприметного и вроде ненужного в городе, среди ярких фонарей, и такого желанного и доброго здесь, среди заснеженных крыш и протянувшихся через улицу косых теней...
На душе у Корнея стало так ладно, так хорошо, как не бывало с давних пор.
Целыми днями Лузгин валялся в постелщ изнывая от тоски, безделья и неизвестности. Шла уже третья неделя, как его привезли с собрания, и, несмотря на то что его защищал сам секретарь райкома, Аникей никак не мог обрести былой уверенности. С каждым днем он становился все раздражительнее и злее, выходил из себя из-за любой мелочи и, снедаемый мнительностью, уже не верил никому и ничему, всех подозревая в измене и предательстве. Ему все время казалось, что от него что-то скрывают, и в голову лезла навязчивая мысль, что те, на кого он опирался, давно сговорились за его спиной и подло пожертвовали им ради своего спасения. Тогда наваливалась тяжелая, как удушье, злоба, и он орал на Серафиму, ругал ее последними словами за каждую мелкую оплошность — не так подала ложку, не туда села, не то сказала... и не успокаивался, пока не доводил жену до слез. После ее громкого плача в доме наступала гнетущая тишина. Отойдя, Аникей начинал жалеть Серафиму, упрекал себя за излишнюю жестокость и придирчивость, но сказать об этом жене не решался. Ничего с ней не сделается, с этой ломовой лошадью, она его самого еще переживет на много лет! А бабе без того, чтобы не пореветь, тоже нельзя, на то она и баба!
Под вечер аккуратно, как на службу, являлись Никита и бухгалтер и не спеша докладывали, что произошло в хозяйстве за день — повысились или упали удои, сколько вывезли на поля навоза, спорили, какой определить за год
трудодень, но Аникея, по совести, ничто не трогало и не интересовало. Он лишь жаждал слышать о том, что говорят между собой люди, как относятся к нему. Сочувствуют ли в связи с тяжелой болезнью? Отказались ли от него, отвернулись начисто или надеются, что он еще будет председателем? По Ворожнев и Шалымов ничего не знали об этом, потому что колхозники открыто сторонились их: стоило кому-нибудь из них полниться, и люди обрывали разговор.
Лузгин немного успокоился и даже обрадовался, когда узнал, что райком для проверки его работы назначил комиссию, и расценил это событие по-своему — Коробин хотел окончательно обелить председателя в глазах всех и заодно утвердить и отстоять правильность своей рекомендации. Не для того же райком назначает проверку, чтобы выносить сор из избы! Комиссия пороется в бухгалтерских книгах, снимет остатки в кладовых, осмотрит кое-что в хозяйстве, и тогда можно будет с чистой совестью назначать новое перевыборное собрание. Его, Лузгина, голыми руками не возьмешь, а от охулки он не похудеет!
Однако на этот раз проверка почему-то затягивалась, возглавлявший всю эту работу Иннокентий Анохин скоро уехал, оставив какого-то Мажарова, нового работника райкома, и никто толком не знал, что же будет дальше.
В эти дни Аникей стал примечать, что те, кто раньше, не выходя, торчал у него в избе или прибегал по первому его зову, стали навещать его как бы с неохотой... Правда, бригадиры и заведующие фермами отговаривались страшной занятостью, делами, но Лузгин не верил им — заняты они были и прежде, а пренебрегать его волей не смели. Что-то в этих отговорках и недомолвках было не до конца понятно Аникею, и сомнения и недоверие подтачивали и подмывали его, как дерево на берегу: сегодня оно, еще живое и зеленое, красуется, не зная, что его ждет, смотрится в бегущую мимо реку, ловит ветками ветер, а завтра треснет где-то в глубине последняя судорожная жила корня, что держала его на земле, дерево закачается и рухнет в поток... И скоро люди забудут даже, что оно здесь стояло...
А что, если только, он один не видит и не понимает, что опасность уже настигла его, а всем вокруг ясно, что он обречен?
Взять хотя бы ту же Нюшку! Уж на что преданная как собака, а и та что-то стала ловчить и сторониться! Раньше
навещала чуть не три раза в день, а теперь целую неделю не дозовешься, словно не может оторваться от веника, которым подметает пол в правлении колхоза!
Аникей истомил себя подозрениями и однажды поздно вечером не выдержал — отбросил одеяло и стал быстро натягивать нижнюю рубаху.
— Куда это ты? — забеспокоилась Серафима.
— Да тут...— Аникей и сам еще толком не знал, куда он пойдет.— Не могу я больше... Сил моих нет лежать в этой теплой могилке!
— А доктор что велел? — захлопотала Серафима.— На улице забуранило, света белого не видать...
— Это мне в самый раз,— надевая валенки, спокойно отвечал Лузгин,— Лучше даже: никто ие сглазит...
Но жену но так-то легко было урезонить.
— Отлегло чуть — и сразу к полюбовнице потянуло? — становясь у порога горенки и кладя руки на бедра, не отступала Серафима.— Ах ты, потаскун несчастный! Не пущу никуда! Не пущу!..
— Серафима! — возвысил голос Аникей.— Не выводи меня. Камень и тот от жары трескается... Слышь?
— А меня ты уж давно истолок в пыль, живого места нет! — беспорядочно размахивая руками, выкрикивала жена.
— У тебя, Серафима, всегда Девять гривен до рубля недоставало! — презрительно скривив губы, сказал Аникей.— Заладила как сорока: полюбовница да полюбовница! А что над нами такая туча собралась, ей и горя мало... На это у нее ума не наскребешь! Думал, под старость хоть умом разживешься, а теперь вижу — вся дурь, что смолоду скопилась в тебе, наружу еще ие вышла. Умрешь — и на том свете на всех хватит!..
Он оттолкнул ее от порога и, плотно запахнув полы полушубка, не слушая больше жалостных всхлипов жены, вышел из горенки.
Погода на улице и впрямь была как на заказ — мело так, что в трех шагах ничего не было видно. Не прошел Аникей и до ближнего проулка, как стал весь белый. Снег летел косо, большими мокрыми хлопьями, и Лузгин жадно дышал морозной свежестью. Заслышав чьи-то голоса, он спрятался за угол избы, переждал, пока люди пройдут. Напрягся до звона в ушах, желая узнать, о чем они говорят,— не о нем ли? — но не разобрал, донеслись какие-то обрывки слов.
Дверь в правлении оказалась открытой, в боковушке горел свет. Аникей, стараясь не шуметь, поднялся по ступенькам, прислушался: у Нюшки кто-то сидел, по голосу похоже — мужчина.
«Пока бабу гладишь, она твоя,— с горечью подумал Лузгин.— А отнял руку, она уже к другому ластится! Вот войду сейчас и смажу по роже, чтоб знала край да не
падала!»
Что-то мутное захлестывало душу, и не было сил уже противиться страстному желанию — ворваться вихрем в боковушку и застать Нюшку врасплох, чтобы она сгорела от стыда, страха и раскаяния. Аникей поднял кулак и ожесточенно застучал по крестовине окна.
За занавеской метнулась чья-то тень, дверь раскрылась, и Лузгин услышал голос Нюшки:
— Эй, кто там? Заходи!.. У нас не заперто!..
Аникей заколебался — может быть, повременить, не испытывать судьбу, мало ли кто у нее гостит, но перебороть себя не смог. Быстро прошагав полутемным коридором, сильно рванул па себя дверь.
То, что он увидел, заставило его чуть попятиться — за маленьким, заставленным едой столиком сидел совсем незнакомый молодой мужчина в очках и, теребя рыжевато-золотистую бородку, слушал Нюшку.
«Не иначе какой-нибудь уполномоченный,— испуганно отметил про себя Аникей.— И пришлют же, откопают где-то...»
— Вот не ждали вас, Аникей Ермолаевич! — подходя и улыбаясь, сказала Нюшка.— Раздевайтесь, гостем будете.
Приблизившись к нему вплотную, она вдруг перестала улыбаться, подняла на Лузгина строгие темные глаза и, нахмурившись, прижмурила левый глаз. Но Аникей счел это обычным бабьим притворством. Ишь почуяла, кошка, что придется кое в чем повиниться, вот и старается задобрить!
— Чего это у тебя пахнет, как в парикмахерской? — сбрасывая на руки Нюшки полушубок и поводя носом, спросил Лузгин.— Одеколон пролила?
— Зачем пролила? — Нюшка удивленно изогнула подведенные брови.— Сама побрызгала на себя, подушилась...
— С какой радости?
— А какая у одинокой вдовы может быть радость? Просто так надушилась, чтоб воздух кругом меня был хороший!
Мужчина, молча сидевший за столиком, усмехнулся, но не подумал встать и первым назвать себя.
«Гордый товарищ, видать,— начиная раздражаться, снова отметил Аникей.— Наверное, цену себе набивает, а цена ему, может, всего-навсего рупь с полтиной!»
— А ты, Аникей Ермолаевич, вроде после болезни круглее стал,— не унимаясь, несла свое Нюшка.— Есть мужики худющие — чего только не жрут, а пища в них не приживается, а ты себя хоть голодом моришь, а все такой же гладкий. С чего бы это?
— Ладно тебе,— остановил ее Лузгин.— Ты бы спервоначалу с гостем своим познакомила, а то вроде неловко получается. Мы с тобой языки точим, а товарищ скучает...
Но незнакомец не стал дожидаться, когда Нюшка представит его.
— Моя фамилия Мажаров,— не поднимаясь, проговорил он.— Вам, вероятно, известно, что в колхозе работает сейчас комиссия райкома. Так вот я из этой комиссии...
— Да... Я в курсе,— сказал Аникей, а про себя подумал: «Надо бы хуже, да нельзя! И какой леший погнал меня сюда? Не зря Нюшка делала мне строгие глаза».
Но отступать было уже поздно, и, присев к столику, Лузгин принял от Нюшки стакан чаю, машинально стал помешивать ложечкой.
— Ну и как проходят ваши мероприятия? — спросил он, еще не зная, как себя держать с этим незнакомым ревизором.— Может, у вас будут для меня какие указания?
Он хотел сразу польстить Мажарову, испрашивая у него совета, и одновременно узнать, насколько он может надеяться, что райком по-прежнему считает его здесь главным человеком.
— А что с вами было, товарищ Лузгин? Ведь вы тяжело заболели после собрания,— словно пренебрегая его вопросом, поинтересовался Мажаров.
— Удар.— Кисло сморщившись, Аникей приложил руку к сердцу.— Думал, и не встану совсем, так шарахнуло!..
— Зачем же вы поднялись с постели? Вам же, наверное, запретили это делать?
— Забота загрызла.— Аникей тяжко завздыхал.— Лежу в кровати, как дите спеленатое, и что делается в хозяйстве — не вижу. Хоть и докладывают бригадиры, а все ж, как говорится, доверяй, но проверяй... Верно я говорю?
Мажаров снова не ответил, даже не кивнул в знак согласия и дружеского участия. Он чем-то напоминал ему секретаря обкома Пробатова — такой же невозмутимо-вежливый, спокойный и загадочный. Попробуй вот подбери к такому человеку ключи!
— И долю вам еще копаться в наших кляузах? —сочувственно осведомился Лузгин, как бы сожалея, что Ма-жарову приходится заниматься столь неблаговидными делами. Пли вы уже сделали выводы?
— Да как будто сейчас все уже стало ясно,— ответил Мажаров и, отставив стакан, обернулся к хозяйке: — Большое спасибо вам, Анна Тимофеевна!
— Пейте, сколь войдет, воды нам не жалко! Не хватит — еще самоварчик поставлю! — сказала Нюшка и взглянула на гостя с игривой улыбкой.
«Вот холера! — подумал Аникей.— И тут не может, чтобы хвостом пе повилять! Да и он, видать, парень не промах — нашел подход к бабе, по имепи-отчеству называет. Она, поди, и забыла, когда ее последний раз так величали».
Все годы, пока Аникей находился у власти, он считал главным своим противником Егора Дымшакова, на собраниях боялся только его выступлений, всегда беспощадно насмешливых и злых. А жалобы, которые посылались на его действия в район и в область, частенько после проверки оказывались в ящике его письменного стола. Когда кто-нибудь из жалобщиков являлся к нему с просьбой, Аникей молча доставал из кармана ключ, открывал ящик. «Узнаешь, чей почерк? — спрашивал он, не скрывая своего торжества и довольства.— Зря, голова, чернила тратил! Но ежели еще будет охота — валяй пиши, не задумывайся, мы с радостью потом почитаем. Сюда ведь придет, нас не минует! А теперь очухайся и спроси себя, можешь ли ты после такой клеветы мне на глаза показываться да со своими просьбами лезть?»
Но человек, с которым Лузгин встретился сейчас и который представлял здесь райком, вел себя непонятно, и это заставило Аникея насторожиться. А что, если Коробин тоже решил освободиться от него? Скинут, как худой сапог с ноги, и поминай как звали! Прохудился, скажут, стоптался на один бок, заведем новую обувку, попрочнее, чтоб сырость разную не пропускала!
— Если, конечно, не секрет, то я бы хотел знать, как я должен дальше выполнять поставленные задачи? - пытаясь идти напролом и добиться ясности во что бы то ни стало, спросил Лузгин и решительно откинулся на спинку стула.
Мажаров посмотрел на него с веселым недоумением, словно Лузгин был стеклянный и он видел его насквозь, и от этого откровенно насмешливого взгляда Аникею стало не по себе.
— Мне кажется, все будет решать собрание, которое, я надеюсь, скоро можно будет продолжить, раз вы теперь в полном здравии...
Все было ясней ясного — его снова отдавали на волю Егора Дымшакова и тех, кто стоял за ним, и от одной этой вести Аникею стало тошно.
— Так,— тихо выдавил он и рывком поднялся, чуть ие опрокинув стакан с чаем.— Значит, всем вера, а мне нет? А что я всего себя колхозу отдал, вам этого мало? Не пройдет у вас этот номер, товарищ Мажаров!.. Я и не таких еще проверщиков встречал — тоже норовили наперед лошади забежать, а потом оказывались в хвосте!.. Навряд ли Коробин подпишется под вашей проверкой!.. За моей спиной, втихаря действовали?
— Действовали так, как подсказывала нам партийная совесть,— неожиданно твердо и сухо проговорил Мажаров и тоже встал.— Я обошел почти все избы и не встретил ни одного человека, который сказал бы о вас хоть одно доброе слово...
— И она в меня камень бросила? — Аникей смерил презрительным взглядом Нюшку и рассмеялся.— Она могла кое-что порассказать, она поближе всех меня знает!.. Обо мне, значит, сплетни собираете, а сами по бабам ходите?
— А ты бы потише разорялся-то, Аникей,— неожиданно, подходя к Лузгииу, сказала Нюшка.— Я к тебе не привязанная, чтоб с тобой вместе визятать...
— Так всегда ведут себя люди, которые не чувствуют своей правоты... Ну, я пойду, Анна Тимофеевна.— Мажаров поправил согнутым пальцем дужку очков и улыбнулся хозяйке доверчиво и добродушно.— Спасибо вам за беседу и за чай!..
— Партия все равно не будет разбрасываться ценными кадрами! — уже не сдерживаясь, кричал Аникей.— Рано собрался хоронить, товарищ Мажаров...
— Думаю, что я вам уже не товарищ... А партия — такое большое слово, что я на вашем месте приберег бы его для более важных минут своей жизни!..
— Значит, брезгуете мной? Наотрез отказываетесь говорить? Мы это тоже запомним и запишем!
Мажаров уходил, даже не подав руки на прощанье, словно не слыша его вопроса, но у порога вдруг обернулся, и Аникей поразился жесткому и гневному выражению его лица.
— Я полагаю, что комиссия может поручить побеседовать с вами районному прокурору...
Аникей по успел сообразить, что бы такое ответить, как дверь мягко захлопнулась.
— Продала меня, шкура? — заорал он, едва до него дошел смысл сказанных Мажаровым слов, и, подбежав к Нюшке, затряс ее за плечи.— Говори, стерва, что он у тебя выпытал? Говори!..
— Отпусти, Аникей! — Нюшка рванулась из его рук.— Опостылел ты мне!.. И не лезь ко мне с кулаками, не боюсь я тебя. Жену, вон свою стращай!
— Нет, ты мне скажи, о чем он тебя спрашивал? — не отступая от Нюшки, яростно твердил Аникей.
— Ничего он не выпытывал! Просто говорил, интересовался, что я думаю о всех делах в колхозе...
— Не ври! Разве ты можешь думать? Ты сроду-то ни о чем не думаешь, кроме тряпок да чтоб потискали тебя!..
Ни слова больше не говоря, Нюшка подошла к двери, распахнула ее.
— Уходи, Апикей...
— Ладно тебе дурить-то! — Лузгин замахал руками.— Не устраивай спектакль...
— Не уйдешь по-доброму — людей позову,— вся бледная, задыхаясь, выговорила Нюшка и, вскинув голову, смотрела на него, как на чужого, с непонятной ненавистью.
Константин шел по ночной метельной улице, глубоко, до бровей, надвинув шапку, и все шептал сквозь стиснутые зубы:
— Ах, негодяй!.. Нет, какой паразит!.. Если бы он не был связан с комиссией райкома и жил здесь сам по себе, он, не задумываясь, избил бы этого под-
лого человека, чем бы ему это ни грозило!.. Он даже представил, как яростно, с мстительным наслаждением он ударил бы по этим заплывшим свинячьим глазкам.
Стремительно шагая навстречу летящим мокрым хлопьям, Мажаров то сбивался с санного пути, то выбредал на твердую колею, перепоясанную белыми жгутами заносов, и никак не мог успокоиться, унять нервную дрожь. Снег залеплял стекла очков, редкие огоньки в избах проступали туманными пятнами, будто через промасленную бумагу, рукава и плечи покрывались снежными наростами, и стоило тряхнуть рукой, как они отваливались целыми пластами.
Подумать только, что такой ничтожный, неумный, но жадный, как амбарная крыса, человечишка сумел подняться над всеми в Черемшаикс и захватить безраздельную власть! Ведь до сих пор он чувствовал одну ответственность — ответственность перед начальством, перед теми, от кого зависела его карьера, по зато не испытывал ни малейшей ответственности перед людьми, которые выбрали его руководителем, и, несомненно, был убежден в том, что не он зависит от них, а они от него. Как это нелепо, чудовищно и дико, что ему верили больше, чем всем колхозникам в Черемшанке, что ему позволили разрастись, как страшному сорняку, и глушить здесь все лучшее, что партия годами могла воспитать в нашем человеке!
Разгорячась, Константин остановился наискосок от избы с ярко освещеными окнами и невольно загляделся па роившиеся в свете косматые пушинки. Ему вдруг расхотелось брести дальше в сырую мглу, и душу его затомило привычное желание — постучаться в это скованное стужей окошко, зайти в тепло, к незнакомым людям, и попроситься заночевать...
В последние дни с ним так бывало часто. Войдя в чужую избу, он покидал ее наутро, не только узнав многое от людей о колхозе и о них самих, но и словно став чем-то богаче и мудрее. Каждая изба была своим большим миром, и так как Мажаров всюду и во всем оставался самим собой, то люди с душевным откровением делились всеми своими горестями и радостями. В одной семье праздничным событием было письмо сына, который строил на великой рус- ской реке гигантскую гидростанцию, и через это письмо словно и вся семья становилась причастной к тому грандиозному, что свершалось за тысячи километров от родной деревни. Но и здесь, как ни странно, оказывались свои не-
довольные: среднему сыну, пожелавшему ехать на целину, Лузгин отказался выдать необходимые справки, и теперь парень клял его на чем свет стоит и работал в колхозе спустя рукава. В другой семье муж и жена жили в непонятной для всех ссоре, и Мажарову стоило немалых усилий выяснить истинную причину, вызвавшую глубокий раздор. Глава семьи поддерживал дружеские отношения с Дымшаковым, а Лузгин поэтому часто отказывался вовремя дать лошадь, чтобы привезти дров или соломы покрыть крышу. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы муж и жена, жившие долгие годы в мире и согласии, стали в чем-то упрекать друг друга, раздражаться по всякому пустяку и по-крупному ссориться. В третьей избе было четверо малышей, и мать этого шумного семейства вынуждена была сидеть с ними целыми днями, потому что Аникей почему-то упорствовал и, несмотря на неоднократные просьбы, не открывал детского сада. Жена не могла заработать ни одного трудодня, а глава многодетной семьи выбивался из сил, чтобы прокормить всех. В четвертой избе глава пьянствовал и дебоширил, избивал жену, и никто не мог остановить его и защитить бедную женщину. А че-ремшанский парторг Мрыхин сидел в своей комнатушке в правлении, перебирал бумаги, пришедшие из райкома, подшивал их в общую папку, принимал членские взносы и был глубоко убежден, что он добросовестно выполняет возложенные на него коммунистами обязанности.
Жизнь, в которую с головой окунулся в эти дни Константин, заставила его забыть о Ксении; рядом с тем, что он перевидал и перечувствовал, ее упреки и обиды выглядели по меньшей мера наивными и мелочными. Даже больше — все личное, что он еще недавно считал, самым важным и что неумолчно тревожило его совесть, куда-то отступало, стиралось, приобретало иной смысл, а то, что казалось не стоящим внимания, неожиданно становилось сущим, крупным и значительным, обретало остроту и настойчиво требовало немедленного разрешения.
— Эй, посторонись!
Мажаров машинально шагнул с дороги в сторону, сразу по колено проваливаясь в рыхлый сугроб, и мимо него, еле волоча тяжелые, груженные толстыми сучьями и хворостом салазки, прошла сгорбленная, заваленная снегом женщина.
— Постойте, я вам помогу! — крикнул он вслед.
Женщина не отозвалась, не остановилась, и тогда Константин, подбежав, ухватился за скользкую веревку и потянул, принимая на себя всю тяжесть. Женщина словно и не почувствовала облегчения, по-прежнему брела с покорной усталостью рядом.
— Передохните, я довезу сам.— Мажаров взял ее за плечо и отстранил.— Далеко живете?
Женщина с трудом распрямилась, вздохнула.
— Вон за тем прожогом... Да не стоит вам пачкаться...
— Ничего со мной не сделается! — сердито сказал Константин и решительно впрягся в салазки, накинув лямку на шею и пропустив оба конца под мышками.
Салазки словно примерзли к колеям дороги, и он сильно поднатужился, прежде чем удалось стронуть их с места.
Мажаров шагал, почти повисая на веревках, наклонясь вперед, рывком перетаскивал возок через метельные заносы. Женщина шла сзади и изредка подталкивала, когда салазки двигались в горку.
«Как же она одна тащила такую тяжесть? — недоумевал Константин.— Ведь ей за шестьдесят, не меньше».
Впереди кто-то щупал лучом карманного фонарика дорогу — неторопливо, словно искал что-то недавно здесь оброненное. Потом человек с фонариком остановился, видимо услышав скрип салазок, подождал, когда они поравняются с ним. Он был в добротном пальто, белых бурках, пушистой пыжиковой шапке и кожаных перчатках.
«Наверное, кто-нибудь из города,— подумал Мажаров, оглядывая незнакомца.— Приехал погостить и подышать свежим воздухом».
— Неужели вы везете дрова из самого леса? — удивился прохожий.
— Спросите вон ее,— не задерживаясь и проходя мимо, ответил Константин.— Я встретил ее недалеко..,.
— И она это везла одна? Нагрузила, как для лошади!.. На самом деле, ведь нелегко, а?
Мажаров вдруг разозлился:
— Послушайте, не задавайте дурацких вопросов! Вы что, с луны свалились? Если вам интересно, какой воз, беритесь за веревку и узнаете!..
— Вы сами-то здешний? — спросил прохожий, продолжая идти рядом.
— Как вам сказать... В общем, родился я тут, в Черем-шанке, потом был нездешним много лет, а сейчас можно. считать, что опять хочу стать здешним...
— Весьма туманно... А что вы здесь делаете?
— Вы же видите — вожу дрова!
Незнакомец больше пи о чем не спрашивал, и Мажаров был доволен — он но выносил праздного любопытства.
Они свернули к низко придавленной снегом темной избе, вошли через настежь открытые ворота во двор, и Мажаров подтащил салазки почти к ступенькам крыльца.
— Уж не знаю, как и благодарить вас,— сказала женщина.— Может, в избу войдете, обогреетесь?
— Охотно, если, конечно, не будем вам в тягость,— ответил случайный спутник Константина и поднялся за хозяйкой на крыльцо.
Мажарову волей-неволей из чувства вежливости пришлось согласиться и пойти следом за ним.
— Не стукнитесь только впотьмах,— распахивая дверь в сени, предупредила женщина.— Не везет у нас высоким — расшибаются о притолоку...
Осторожно ступая, они вошли за хозяйкой в избу и остановились у порога в теплой, пахнущей ржаным хлебом темноте. Через минуту глаза немного привыкли, да и сама темнота не казалась такой .густой, разбавленная призрачным отсветом летящего за окнами снега.
— Это я, старый... Живой ты еще тут? — спросила женщина, легко и свободно двигаясь в привычной обстановке избы.
— А куда я денусь? — весело отозвался откуда-то сверху, должно быть с печки, грубоватый мужской голос.— Черт от меня давно отказался, а богу я тоже, видать, не нужон. Покуда ты, дескать, не созрел, мне тебя звать нет
резону...
— Не богохульничай! — резко оборвала женщина.— Если бы сам чему-нибудь верил да детям веру передал, то нынче не валялся бы один-одинешенек на печке... Это раньше и бога боялись, и родителей почитали, а теперь не успеют опериться, и уж все им нипочем — никто им не указ, и сами не знают, чего хотят, на чем душа у них держится — не поймешь...
— Ладно, мать, не серчай,— вздохнув, сказал старик.— Поздно нам свою жизнь переиначивать — тот берег видать... Кого это ты привела?
— Засвечу огонь — сам разглядишь.— Женщина наконец нашарила на полке коробок, поднесла к фитилю горящую спичку. Сняв пальцами нагар, она подожгла фитиль и, подышав на стекло и протерев его клочком бумаги, вставила в жестяное гнездо.
— Мужик это мой,— кивая на печку, пояснила она.— Не может второй год на ноги ступить... Разве погнал бы меня бес в такую непогодь за дровами, если б он был здоровый? Я раньше и заботушки об этом не знала...
— А почему вам лошадь не дали съездить за дровами? — спросил незнакомец в бурках и нахмурился, словно от него зависело наказать или простить тех, кто не помог этим людям.
— А потому что мы излетние...
— Что это значит? — спросил Мажаров.
— А старые мы, из лет, выходит, своих давно вышли,— сказал старик и свесил ноги с печки в вязаных черных шерстяных носках.— В колхозе робить больше уже не можем... Жена, правда, иной раз ходит — картошку перебирать или еще что там, а я сижу, отмотал свое... А раз от нас нету пользы теперь, то какая же выгода Аникею нам лошадь давать? Он прямо из правления гонит старых-то, как побирушек каких, лучше уж не ходить, не просить, не кланяться, со стыда не гореть...
— А что у вас с ногами? — спросил Константин.— Что врачи говорят?
— Флебит называется! — с непонятной гордостью возвестил старик и качнул ногой.— Грязью, мол, надо лечить, на курорт ехать... Грязи у нас вроде и своей хватает, но та будто почище нашей считается, попользи-тельней!
— Что ж, разве колхозу не под силу было купить вам путевку? — присаживаясь к столу и записывая что-то в блокнот, поинтересовался незнакомец в бурках.
— Это Аникею-то? — Старик хрипло рассмеялся.— Да он скорее удавится, чем кого-нибудь из колхозников на курорт пошлет! Из всей деревни он один и ездит куда-то лечиться, хоть и здоров, как бугай артельный!..
— Не рви сердце, старый,— попросила жена и стала накрывать на стол.— Больно интересно городским людям про нашего Аникея слушать!
— Нет, почему же? — запротестовал незнакомец.— Продолжайте, пожалуйста...
— Годов пять тому будет, объявился у нас один гражданин, из газеты приезжал,— сказала женщина, расставляя на скатерти чашки.— Вот па том месте, где вы сидите, тоже сидел... Мы ему душу раскрываем, жалимся, а он знай строчит себе... Мы ту газету по видали, по люди сказывали— здорово он нашего Аникея пропечатал, с песком продрал! Ну, Аникей, не будь дурак, признал на себя всю вину, прошел сквозь самокритику и снова нас понужает в хвост и в гриву! Всем припомнил потом, кто с этим гражданином хоть одно слово говорил... Так что вы нас уж лучше в это дело не путайте, Христа ради!..
— В какое дело? — Незнакомец покраснел и спрятал блокнот в карман.— Не беспокойтесь, это я просто так, для себя...
Он встал, прошелся по избе, задумчиво потирая подбородок, поскрипывая бурками. Он был тяжеловесен в походке, широк в плечах, лицо ого с крупными чертами выглядело бы грубым, если бы но вызывающий контраст между гладкими, по-юношески розовыми щеками и седыми, словно сквозившими голубизной волосами, что придавало ему выражение удивительной живости и задора.
«Я где-то видел его. Но где?» — подумал Мажаров, мучительно напрягая память.
— Раз уж мы к вам в гости напросились, то давайте, хозяюшка, знакомиться по-пастоящему,— сказал человек в бурках и протянул руку женщине: — Моя фамилия Про-батов, зовут Иваном Фомичом...
«Так ведь это же секретарь обкома»,— вспыхивая до корней волос, подумал Константин и, не выдержав, громко рассмеялся.
— Вы уж извините, Иван Фомич, что я так с вами разговаривал!
— Ничего не поделаешь — попал, что называется, под горячую руку.
— Я тут работаю в комиссий от райкома, занимаюсь как раз делами этого деятеля, о котором идет речь... Моя фамилия Мажаров...
— В соседней деревне у нас три семьи Пробатовых жили,— словно размышляя вслух, проговорила женщина.— Может, вы кому-нибудь из них сродни приходи-, тесь?
— Да ты что это, мать, растешь такая беспонятная! — вскинулся на печке старик и затряс седой головой.— Это ж секретарь нашей области, сын Евдокии Павловны!
— й верно! — обрадованно подхватила хозяйка.— А мне и невдомек!.. Вижу, обличье-то вроде знакомое, а в ум никак не возьму. На мать уж больно похожие!.. Садитесь, чайком вас согрею.
— Не откажусь,— сказал Пробатов и оглянулся на Мажарова.— Не знаю только вот, как наш сердитый товарищ...
— На сердитых, Иван Фомич, воду возят,— опускаясь рядом с секретарем на лавку, сказал Константин.
— Не только воду,— в топ ему шутливо проговорил Пробатов,— но, как показала жизнь, и дрова...
— Слезай и ты, старый,— сказала хозяйка.— Вместе будем краснеть перед гостями...
— Это за что же? — удивился Пробатов.
— Да угощение-то у нас какое, сами видите — хлеб, картошка да вода,— с горечью пояснила женщина, и в скорбно сжатых губах ее проступила нежданная суровость.— Чай пьем с сахаром вприглядку... Бывает он у нас редко, по большим праздникам, да и то сроду по совести его не купишь, как, скажем, в городском магазину,— все норовят с хитростью продать... Сначала десяток яиц снеси, денег доложи, тогда помажут губы сладеньким!
— Это безобразие и беззаконие! — жестко сказал Пробатов и, снова вынув блокнот, стал записывать.— Выходит, хозяюшка, не вам надо перед нами краснеть...
Уцепившись за деревянный бортик печки, старик опустился на руках на пол, сунул под мышки костыли и проковылял к столу. Был он сухощав, жилист, смуглая кожа на шее иссечена частыми квадратиками морщин.
— Я про что хочу спросить, товарищ секретарь,— сказал он, присаживаясь напротив Пробатова.— Отчего так получается, что деревня живет беднее города, а за все платит дороже?.. Ну что ни возьми, любой товар или стру-мент какой — сперва натурой просят, а потом докладывай деньгами. Я так считаю, не по справедливости это будет, а?
— Я тоже так думаю,— сказал, помолчав немного, Пробатов.— Да и не один я, вся партия сейчас этим занимается... С налогами все исправили, теперь нужно в первую очередь повысить цену на хлеб, который государство покупает у колхозников. Дойдем до всего, отец, можешь надеяться — и товарами завалим все магазины, и сахару будет вволю...
Он говорил неторопливо, с мягкой раздумчивостью, то поглаживая колено, то вдруг вскидывая руку к голове и легким движением проводя по седым, тусклого алюминиевого блеска полосам.
— Не худо бы нам со старухой хорошей жизнью пожить напоследок,— сказал старик и, словно не желая упускать счастливый случай, сведший его с секретарем обкома, настойчиво попросил: — Вот помогли бы еще доброго хозяина подыскать для колхоза, все бы вам в ножки поклонились... Да и эту шайку вокруг Аникея надо порастол-кать, она ведь вся из тех самых поганых людей, что и на пожаре будут воровать!
— Вспомнил! — радостно крикнул Константин и изо всей силы затряс руку Пробатова.— Ну надо же так, а? Все время смотрю на вас, Иван Фомич, и гадаю, где же я вас видел? И вот как услышал про пожар, так и ударило меня в самое сердце!.. Я же знал вас, еще когда был мальчишкой... если бы не вы, меня, может быть, и на свете
не было!
— Вы скажете! — озадаченный, казалось, не столько самим признанием Мажарова, сколько внезапностью такого перехода в разговоре, пробормотал Пробатов.
— Честное слово! Сами сейчас увидите! — не отпуская пробатовской руки, горячо и сбивчиво говорил Константин.— Вы должны помнить моего отца — его убили, когда он повез из Черемшанки в район список членов первой артели... А позже вы вырвали меня совсем из другой семьи и отвезли в детский дом, к Алексею Макаровичу... Теперь вспомнили?
Секретарь обкома ответил не сразу. Он отстранился на мгновение от Мажарова, напряженно вглядываясь в его лицо, потом что-то дрогнуло в уголках его сжатых губ, в прищуренных глазах, в которые словно пробился сквозь светлые густые ресницы затаенный глубинный свет. Он улыбнулся с мечтательной ласковостью и все не отрывал глаз от Константина: будто шагнув из тех незабываемых лет, тот вернул его к далеким тревожным ночам, грозовым сполохам, к стонам набата.
— Да, да,— вздохнув, тихо проговорил Пробатов.— Разве кто забывает о своей юности?
В нем как будто ничего не сохранилось от того угрюмого и властного мужика, каким он запомнился Константину с детства,— жизнь немало поработала, филиграня его, и все же ничто не исчезало бесследно — так много оставалось в Пробатове от прежнего: в походке, в жестах, в голосе.
— А что стало с вашей матерью? Она с вами?
— К несчастью, нет.— Мажаров вздрогнул и опустил голову.— С тех пор как ее сослали, я никогда не видел ее.
— И не могли ее разыскать?
— Раньше не хотел, просто старался забыть о ней, а позже наводил кое-какие справки, но никаких следов ее не нашел... Наверное, она давно умерла...
— Мы тоже тогда дали маху и не вырвали ее из той страшной семьи,— вздохнув, признался Пробатов.—Мы были слишком непримиримы к тому, что мешало нам в прежней жизни, часто поэтому становились до жестокости принципиальными и все валили в одну кучу, не разбирая, мерили всех одной суровой меркой...
Они пили чай и говорили уже о другом, но Константин долго не мог поднять голову: что-то мешало ему это сделать с тем чувством свободы, которое он испытывал обычно.
Условившись с хозяйкой о том, что оп останется у них ночевать, Мажаров пошел проводить секретаря обкома. Метель стихла, в воздухе плавали редкие снежинки, небо бледнело, становилось выше, где-то за пухлыми облаками смутно угадывалась луна. Над деревней стояла глубокая тишина.
— И так вот везде, в какую избу ни зайдешь,— говорил Константин.— Я первое время даже немного растерялся, столько на меня свалилось всяких просьб, жалоб и просто недоуменных вопросов... Иногда мелочь, вроде пустяк, а из него вырастает целая проблема! И кто-то ведь должен все это решать, нельзя же оставлять людей без ответа, позволять накапливаться недовольству, раздражению... Это, конечно, трудно, но как мы можем не выслу
шать каждого, не понять, о чем он думает, чего хочет добиться в жизни, что ему мешает...
— Кто же должен, как не мы с вами,— сказал Пробатов.— Некоторым руководителям кажется, что если они провели собрапие, то уже завоевали все души... А на самом деле все гораздо сложнее! Люди ведь меняются медленнее, чем любые обстоятельства, сознание не поспевает за всеми переменами бытия... День ото дня жизнь здесь будет становиться лучше, но, чтобы люди стали нравственно выше, им необходимо нечто большее, чем одна сытость. Им, если хотите, даже мало уверенности, что они завтра будут жить богаче. Человек должен ощущать себя во всем человеком, чтобы никто не помыкал им, чтобы он чувствовал себя равным со всеми в труде, во всех своих правах. Это, и только это, даст нам возможность раскрыть в каждом те силы, которым пока, по-моему, нет даже названия, настолько они представляются мне необычными и прямо фантастическими!..
— Да, да,— словно отзываясь на собственные раздумья, подтвердил Мажаров.
— Это очень хорошо, что вы решили вернуться в деревню,— все более воодушевляясь, продолжал Пробатов.— Нам так сейчас не хватает людей, способных взяться за любую черновую работу! А то что получается — чуть заметим, что какой-то товарищ выделяется среди других, так мы его забираем в город, в аппарат и губим частенько человека, засушиваем, не дав ему как следует развернуться!.. Вот посудите сами...
И Пробатов стал рассказывать, как перед этой поездкой по районам он собирал работников обкома и был немало изумлен, когда на его призыв поехать в деревню и взять на свои плечи отстающие колхозы отозвались всего четыре человека.
— Мне было так горько, и стыдно, и даже противно слушать и видеть, как молодые, здоровые люди выдумывают одну причину за другой, лишь бы отвертеться всякими путями и остаться в городе... А ведь это коммунисты, которые считают себя вправе учить других партийным принципам, но не хотят отдавать себя делу партии целиком, безраздельно, отказываются, по существу, бороться за ее цели и идеалы!.. Я думаю, что из всех трудностей, что теперь стоят перед нами, это одна из самых больших — такое количество явных иждивенцев партии!..
— А знаете, Иван Фомич,— горячо подхватил Константин,— у вас много интересных мыслей, которыми вы
можете щедро поделиться со всеми... А то я вот сейчас вспомнил, как однажды читал одну вашу речь в газете и по той речи представил вас совсем другим!
— Что же, лучше или хуже? — с легкой усмешкой спросил Пробатов.— Договоривайте...
— А вы не обидитесь? — мучаясь тем, что он вынужден говорить такому настоящему и большому человеку какие-то обидные -слова, сказал Константин.— Дело не в том даже, лучше или хуже. Но когда я прочитал вашу речь, я подумал,— какой, должно быть, это неинтересный, лишенный всякой самобытности человек. Честное слово! Ведь ваша речь была голой информацией об области, она походила на десятки и сотни таких же безликих речей. Что вам, сказать, что ли, было не о чем? Вы же вон какой богатой души человек!..
— Однако вы разделали меня под орех! — Пробатов попытался рассмеяться, но смех его прозвучал натянуто.
— Вы только простите меня, Иван Фомич... Я совсем не хотел...
— Да что уж там.— Пробатов махнул рукой.— Сущую правду сказали!.. Мы так зацентрализовались, что часто не верим, что способны произнести свою пусть в чем-то неровную, но полную живых мыслей речь и... поручаем ее состряпать работникам аппарата, которые подчас и не болеют всеми этими вопросами! Вот так оно и выходит. Спасибо вам!
У мостика через закованную льдом Черемшанку они остановились.
— Я еще с недельку поживу в вашем районе, так что мы еще увидимся,— сказал Пробатов.— А вы доводите дело в этом колхозе до конца!
Они простились, и Константин, подняв воротник пальто, зашагал обратно. Как всегда после откровенного разговора, он пребывал в состоянии некоторого разочарования. Это случалось с ним и раньше, когда, высказав свои мысли, он не встречал взаимного душевного отклика, но с Пробатовым ведь все было иначе — они так быстро поняли друг друга! И вее же что-то -скребло его по сердцу...
«И откуда у меня эта зловредная привычка высказывать каждому все, что я о нем думаю? — досадовал Мажаров.— Как будто все люди страшно жаждут, чтобы им кто-то сказал об их недостатках и промахах! Но как могло случиться, что я, еще совсем зеленый в партийных делах человек, позволил себе учить партийным принципам и поведению секретаря обкома, да еще такого, как Пробатов?»
Но, несмотря на какую-то душевную неустроенность, продолжавшую тревожить его, он был счастлив, что жизнь снова сталкивала ого с чоловоком, который был для него больше, чом просто знакомый, чом секретарь обкома той области, где Константину предстояло работать. Словно одним своим появлением Пробатов разрубил узел всех его сомнений и выводил, как уже сделал однажды, в памятные годы детства,, к той земле обетованной, которую Мажарой страстно искал всю жизнь.


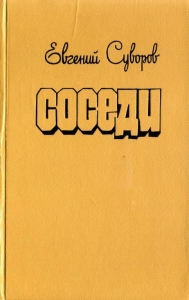
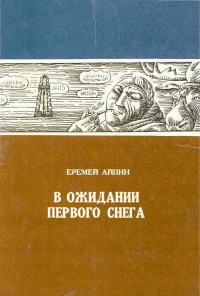
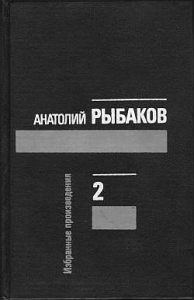
Комментарии к книге «Войди в каждый дом (книга 1)», Елизар Юрьевич Мальцев
Всего 0 комментариев