Алексей Николаевич Кулаковский
Хлеборез
Повесть
Перевод с белорусского Татьяны Горбачевой.
Знаете ли вы, что такое запасной полк в военных условиях? Вряд ли! Младшее поколение так наверняка не знает.
Я тоже не могу похвалиться, что знаю всё про запасные полки, хоть служил в двух таких: в кавалерийском до войны и в пехотном во время прошлой войны. Но, наверно, есть или в свое время были запасные полки и других родов войск: артиллерийские, танковые, инженерные...
Некоторые штришки остались в моей памяти о том запасном пехотном полку, что в начале сорок третьего стоял неподалеку от Камышина - там мне довелось немного послужить.
Большинство пехотинцев попало сюда из окружных госпиталей. А в тех госпиталях лечились бойцы после Сталинградской битвы. Если кому из них удавалось вернуться в строй, то до окончательного назначения и долечивания их посылали в запасной полк.
Таким образом попал сюда и я. Думал ли я когда об этом? Конечно, нет. Когда служил в армии, до войны, кое-что прикидывал о своем будущем: высшее педагогическое образование есть и в полковую школу послали. Если все пойдет на лад, то после школы могут направить и в высшее военное училище, тогда командирская служба может стать основной целью. А разве это хуже, чем быть учителем в сельской школе?
Другой путь, более реальный, - отслужить положенных два года и вернуться домой, в ту местечковую школу, откуда был призван в армию.
Не сбылось, однако, ни то, ни другое: началась война и всё перевернула, переиначила. А на фронте я уже не слишком и заглядывал в собственный завтрашний день, думал больше о том, как лучше выполнить приказ командования сегодня.
На довоенной армейской службе почему-то не очень принимали во внимание мое педагогическое образование, а во время войны, видимо, приняли, так как назначили меня на такую должность, где надо было уметь кое-что писать и переписывать, учитывать и рассчитывать, иногда приводить в порядок и отшлифовывать приказы комбата. Короче говоря, поручили мне выполнять обязанности старшего адъютанта при особом автобатальоне. В моем подчинении были три писаря во главе со старшим сержантом сверхсрочной службы, начальником ГСМ, по-нынешнему - заведующий складом горюче-смазочных материалов; повар полевой кухни, который привозил нам обеды, теперь уже хорошо не помню - откуда, и еще кто-то из подсобной службы. Кроме этого, на моей ответственности был огромный штабной сейф, где хранились книги учета личного состава, служебные дела командиров авторот, автовзводов и другие документы.
Беря меня в свой штаб, командир автобатальона, пожилой, медлительный в движениях капитан, который по возрасту уже давно мог бы быть майором, а то и подполковником, строго - иначе он не мог обращаться к подчиненным, - но с ноткой уважения сказал:
- Ты, Чарот, тоже не из молодых...
- Чаротный, - поправил я.
- Что значит Чаротный? Выдумал кто-то? Чарот! И проще и понятней! Что, ты отсрочкой пользовался?
- Несколько лет, пока учился.
- Какое образование имеешь?
- Пединститут.
- Весь, полностью?
- Весь, - подтвердил я.
- Ну, так... Ты мне подходишь!.. Только не очень нос кверху задирай оттого, что будешь тут грамотнее всех нас! Нам, брат, не хватило времени на эти педагогики... Зато мы в военном деле!.. А у тебя - только полковая школа. Старший сержант в тридцать лет!..
Капитан замолчал и отвел в сторону утомленные, глубоко запавшие глаза. Наверно, сам не очень гордился своими знаниями военного дела, так как чувствовал, что его золотая пора молодости, когда можно было и учиться, и надеяться на высокие ступени, давно миновала, прошла. И никакой силой теперь ее не вернешь, никакими стараниями не компенсируешь упущенное время.
На моем рапорте капитан что-то долго и вдумчиво писал, и по тому, как старательно он выводил буквы, как неуверенно и неловко шевелилась его рука с карандашом, который он держал всеми пятью пальцами, я понял, что грамотность не в дружбе с моим теперешним начальником.
- Если будешь хорошо справляться, - сказал капитан, - то аттестую на техника-интенданта и пошлю документы в штаб корпуса. На строевика ты не потянешь, для этого курсы надо закончить. А на интенданта потянешь!
Не знаю, как там я "тянул" в штабе автобата, стараться, конечно, старался, но через некоторое время капитан выполнил свое обещание - послал на меня аттестацию. Сегодня послал, а назавтра приехал в автобат Ярызка, уже готовый техник-интендант, краснощекий, белозубый, с неотмытыми от чернил пальцами на правой руке.
- У меня есть адъютант! - возразил комбат, выслушав рапорт новичка.
- Я прислан старшим адъютантом, - уточнил Ярызка. - Это значит начальником штаба особого батальона.
- Так у меня и есть такой, - не уступал капитан. - Вон он, - комбат показал на меня и на широкий крестьянский стол, за которым я сидел. Старший сержант, правда, но я послал аттестацию.
- У меня предписание! - уверенно сказал Ярызка, скрыв на момент белые широкие зубы.
Капитан вышел из нашего штабика, ничего не сказав, а Ярызка сделал шаг ко мне и, будто по готовому плану, предложил:
- Ты временно будешь у меня старшим писарем! Ладно?
- Тут есть старший писарь!
- Ничего, ничего!.. По отношению к тебе я являюсь старшим по званию, потому выполняй приказ!
Он обращался ко мне на "ты" с таким уверенным нажимом, будто имел дело с мальчишкой, хотя сам вряд ли был старше меня.
Вернулся комбат, и я подал ему рапорт о переводе в автороту сменным шофером.
- Права у тебя есть? - спросил капитан. И сам же ответил: - Если даже и нет, то подучишься! Я тебя понимаю, понимаю!..
Наши автороты доставляли боеприпасы на фронт. Машины иногда успевали возвратиться в течение суток на свою базу, а порой и не успевали. Бывало и так, что совсем не возвращались. В лучшем же случае приползали в часть искалеченные, чуть живые шоферы. Но редко бывали такие случаи: как правило гибли под бомбами и машины, и люди.
Почти каждый день выезжал я со своей ротой на фронт. Когда за рулем, когда рядом с водителем. Хорошо, что до войны на курсах Осоавиахима я научился водить грузовую автомашину марки ГАЗ-59. Поездки были чаще ночные, порой я изматывался страшно, но все равно чувствовал себя лучше, чем в подчинении у Ярызки.
Примерно через месяц комбат добился моего назначения замполитом автороты, но характер работы почти не изменился: как и прежде, я выезжал на фронт, подменял уставших или, что еще хуже, раненых шоферов, грузил мины и снаряды.
Летом сорок второго мы двигались из-под Барвенкова на Ростов. При форсировании Дона Ярызка потерял штабной сейф: может, не погрузил его в спешке, может, утопил в реке - этого я не знаю. В станице Вешенской Ярызку вызвал следователь военной прокуратуры, и после этого новый адъютант не появлялся в штабе батальона.
Вскоре перевели куда-то и нашего комбата. В последний раз мы встретились с ним на дороге за Вешенской: я в кабине грузовика, а он за рулем "газика". Я ехал на заправку, а он держал направление на Сталинград.
- Не хочешь на свое прежнее место? - спросил капитан, приостановившись напротив моей кабины, но не глуша мотора. - Могу закинуть слово!
- Не надо! - громко ответил я, так как мой мотор тоже был на газу.
- Правильно решил! - сказал капитан, но я едва услышал его голос. Потом он показал рукой вперед, на сталинградскую дорогу, и взял под козырек. Я понял: капитан прощается со мною, но что он говорит, разобрать не мог: гул моторов заглушал слова. Лицо у капитана было хмурым, глаза еще больше запали, хотя во всем его облике - ни признака страха. Мне подумалось, что Ярызкина небрежность, а может, и беспечность (мне писари говорили, что он часто забывал ключи от сейфа) отразились и на судьбе комбата. Наверно, посылали капитана не на повышение и не в резерв на отдых, хотя бы временный.
- Может, еще встретимся! - крикнул я капитану.
Но и он не услышал моих слов.
Вскоре я с машиною попал под минометный обстрел, был тяжело ранен и эвакуирован в один из камышинских полевых госпиталей. Пожилого капитана я больше никогда не встречал, но почему-то довольно часто вспоминал его. И теперь он мне помнится, хотя прошло с того времени около сорока лет.
Вернемся, однако, к пехотному запасному полку, куда попал я после госпиталя. Я знал, что это тыловой полк, что в сравнении с фронтовым тут намного больше людей, но ни штаба полка, ни других служб ни разу не видел, так как направили меня прямо в роту, которая размещалась в глухой, заброшенной деревне неподалеку от штаба. За все пребывание там я только один раз видел командира полка. Он завернул в нашу роту - это особенно мне запомнилось - в довольно замысловатой рессорной бричке, запряженной парой вороных жеребцов. (Где только взял такой шикарный выезд?) Бричка мчалась по неровной улице с громким скрежетом колес, залихватски гикал кучер, впереди поднимали пыль два верховых охранника. На кучерском месте сидел ездовой с длинным плетеным арапником и сыромятными вожжами в руках, за ним, на расстоянии руки, восседали майор и его адъютант. Следом, глотая пыль, подымаемую конями и колесами, неумело тряслись в седлах еще два верховых охранника.
Все, кто был в хатах, повыскакивали полюбоваться таким необычным зрелищем: если бы проехал легковой автомобиль, и то никто не обратил бы внимания.
Майор, пока сидел в бричке и слушал рапорт нашего командира роты, выглядел важным и очень внушительным, а когда слез - так и скрылся за ней, будто спрятался специально. Ноги у майора были не только слишком короткими, но и колесом выгнутыми посредине, поэтому внешность командира полка вызывала не только удивление, но и сочувствие.
"Если снять с него военную форму, - подумалось мне, - то он вообще был бы незаметным среди людей".
Немного компенсировали его рост ширина туловища и плотная, здоровая упитанность. Лицо майора гладкое, с двойным подбородком, тоже гладким. Живот, перетянутый широким желтым ремнем с блестящей пряжкой, выпирал из-под добротной диагоналевой гимнастерки.
Говорил майор с легкой картавинкой, с короткими остановками между предложениями, а порой и отдельными словами, но, видимо, обладал силой логики и убеждения. Наш командир роты, старший лейтенант Сухомятка, вначале краснел от его слов, а затем стал бледнеть и в изнеможении, будто под тяжелым грузом, обливаться потом. Я остановился неподалеку и сочувствовал своему ротному, однако же ничем не мог помочь - струйки пота, должно быть холодного, текли у него из-под козырька на лоб и на глаза, а от висков - на плоские длинные щеки и повисали на остром подбородке. Сухомятка страшно волновался из-за этого, но не мог не только вытереть, а даже смахнуть с лица пот, так как руки неподвижно и самоотверженно держал по швам.
- Много людей, вижу... болтается по улице! - грозно, повышенным тоном проговорил майор, потому и до моего слуха дошли эти слова.
- Обед у нас, товарищ майор, как раз время обеда!
- В подразделении есть распорядок дня?
- Есть, товарищ майор!
- Доложите!
Командир роты еще больше залился холодным потом и стал докладывать, что личный состав беспрерывно занимается боевой подготовкой, а нестроевики поставлены на срочную работу: никто в роте минуты свободной не имеет.
В это время я заметил, что майор повернул голову в мою сторону, и хотя солнце и теперь ослепляюще било ему в глаза, он все же пронзительно и придирчиво смотрел на меня. На всякий случай я принял стойку "смирно" и по примеру своего командира вытянул руки по швам.
- А этот старший сержант... Чем занят? - И вдруг ко мне лично: - Вы чем заняты?
Я без запинки отрапортовал, что прибыл в распоряжение командира роты для выполнения неотложных поручений.
- Каких? - спросил майор.
Командир роты опередил меня и доложил, что считает целесообразным использовать сержанта при штабе роты как человека с высшим образованием.
- А в маршевую роту... готовите людей? - с нажимом на каждом слове спросил майор.
- Хоть сегодня могу дать! - отрапортовал комроты. - Это основная моя задача!
- Так-так, - безразлично, будто для проформы подтвердил майор. - Там для всех есть вакансии: для нижнего образования, для высшего... И даже для академиков... - Его придирчивые, как мне казалось, въедливые глаза почему-то не отрывались от меня. Вот он стал меньше щуриться и поглядел на мои сапоги с юхтевыми голенищами, надраенными суконкой. Я ждал, что спросит у командира роты, откуда у пехотного сержанта такие сапоги? А командир сам не знает откуда. Увидел, что майор разглядывает мадьярскую сумку, которая висела у меня на плече. Это я уже сам сказал бы, если спросят: "Трофейная сумка!.. Подобрал на поле боя, когда возил снаряды на фронт!"
Потом майор отвернулся от меня, подхватил правой рукой нижний рубец своей гимнастерки, поднял, как подол, - иначе нельзя было залезть в карман брюк, - вынул пачку "Беломора", достал папиросу, сильно дунул в белый мундштук. Адъютант старательно захлопал по своим карманам, разыскивая спички. Подлетел к майору и зажег спичку. Она потухла. Зажег еще одну, прикрыл огонек ладонями и поднес к папиросе майора. Тот прикурил и не поблагодарил за услугу.
Наш командир роты застывшим, но все же любопытным взглядом следил за движениями майора, видимо, ждал, что тот предложит закурить и ему, доброжелательно протянет в его сторону раскрытую пачку "Беломора". Может, и не взял бы Сухомятка майоровой папироски, с благодарностью отказался бы, так как сам смолил солдатскую махру, но было бы оказано внимание. Да, видно, не свойственна майору такая догадливость: он снова засунул "Беломор" в глубокий карман своих просторных галифе. Попыхивая папироской, майор медленно, размеренными шагами двинулся по улице в направлении площадки, которую мы условно называли учебной. Тут у нас проходили построения и тут же возвышался самодельный турник. Адъютант, хоть некоторое время стоял и рядом с майором, сразу занял дистанцию - на два шага позади. Наш командир до смешного растерялся и не мог выбрать себе места: или шагать рядом с адъютантом и давать объяснения майору, хочешь не хочешь, в спину, или поравняться с ним? Но майор не подал знака, чтобы подчиненный приблизился. Только один раз сделал малозаметный полуоборот в сторону и кивнул, но не ротному, а своему адъютанту. Тот сразу подал знак ездовому и верховым охранникам, чтобы заняли свои места.
Подойдя ближе к турнику, майор вдруг сделал резкий спортсменский разворот и неожиданно для всех зашагал к перекладине. Не выпуская из зубов папиросы, резво взмахнул руками, схватился за перекладину и подтянулся папироса коснулась перекладины. Пыхнув дымом, самодовольно усмехнулся и, задрав вверх свой двойной, с глубокой выемкой подбородок, поднатужился, чтоб подтянуться еще раз и даже, может - у меня появилось такое ощущение, зацепиться этой выемкой за перекладину, если не хватит силы удержаться на руках.
Меня и теперь разбирает смех, когда вспоминаю, как коротконогий майор дрыгал коленками, пыхал дымом, силясь повторно подтянуться хотя бы вровень своего носа, и никак не мог: излишний вес тянул его вниз. Потом папироса выпала изо рта и некоторое время дымилась на песке. Адъютант несколько раз намеревался поднять окурок, но не осмеливался, майор так дрыгал и размахивал ногами, что недолго было получить удар по шее.
Наконец майор спрыгнул на папиросу сам и придавил ее сапогом. Раздраженно глянул на свои руки, перевел взгляд на командира роты и крикнул:
- Что это за спортснаряд? Жердь сучковатая, неотесанная!
- Обтешем, товарищ майор, - заверил наш командир роты, подбежав к турнику. - Ладонями отшлифуем! Завтра вводим повышенную программу физподготовки!
- А ну, давай сам! - приказал майор.
Командир роты послушно снял с плеча полевую сумку, бросил ее мне и легким подскоком взлетел на перекладину. Подтянулся раза три, спрыгнул и по-строевому повернулся к майору:
- Так точно! Шершавая перекладина! Ваше замечание будет учтено!
- Это приказ, а не замечание, - строго поправил майор.
- Будет исполнено!
Когда по знаку адъютанта параконка с верховым эскортом повернула в противоположную сторону от турника и подняла густую пыль на улице, наш командир повернулся ко мне и, подражая тону майора, приказал:
- А ну, давай теперь ты!
Когда-то в кавалерии я хорошо крутился на турнике. Но после госпиталя я еще ни разу не тренировался, поэтому сейчас не знал, сумею ли выполнить задачу или опозорюсь хуже майора. Тот взвалил всю вину на перекладину - у кого власть, тот виноват не бывает, - а мне же не показывать всем свой осколок в плече! Подтянулся я хоть и с большим усилием, но не хуже, чем командир роты, и по количеству приемов не отстал от него.
- Ну как? - спросил командир.
- Что, как?
- Ладони не ободрал?
- Перекладина гладкая! - доложил я.
- Почему гладкая?! - шутливо возмутился командир роты. - Разве не слышал, что сказал майор?
- Слышал, как вы подтвердили его слова!
- А ты бы не подтвердил?
Мы шли к ротному штабику, который размещался в обыкновенной крестьянской хате, на вид очень невзрачной, хуже других, но с тем преимуществом, что там жила только одна хозяйка. Сухомятка некоторое время молчал, будто озадаченный моим упреком. По служебной субординации он мог бы наброситься на меня: в армии не положено делать замечания старшим по званию и должности. "Может, еще и даст нагоняй?" - подумал я. В то же время я знал, что по натуре командир - человек не злой и не мстительный, восхищение властью еще не завладело им - не так давно пришел из запаса. До призыва Сухомятка работал где-то за Уралом главным агрономом МТС и временно имел бронь. Служба в запасном полку, да еще в такой роте, где до бога высоко, а до начальства далеко, полностью импонировала ему. Жизнь тут шла, как в колхозе: надо было заботиться, чтоб люди не голодали, имели жилье, чтобы не мерзли, когда начнутся осенние, а потом и зимние холода. Относительную дисциплину тут также нетрудно было поддерживать: кто из бойцов подленивался на разных хозяйственных и заготовительных работах, кто допускал какое-то своевольство, того - в маршевую роту и на передовую. А там - кто знает, что кого ждет.
Строевые занятия также предусматривались здесь в распорядке дня, но они проводились только с теми бойцами, которые в это время были свободны от срочных хозяйственных работ, в том числе и на колхозных полях. Сухомятка как бывший агроном правильно решил, что помощь местному колхозу - тоже боевая обязанность запасной роты.
А что же с турником, из-за которого чуть не получил нагоняй ротный командир? Перекладина действительно не была шершавой, и причину майоровой придирки мы поняли правильно - человек хотел оправдать свой срыв. А вот что не ладонями она была отглажена, а наждаком мастера, которому было поручено сделать турник, это также было известно. К турнику кое-когда подходил сам командир роты - после раздачи нарядов ему порой нечего было делать - да некоторые командиры взводов, свободные от строевых и хозяйственных обязанностей.
Уже возле самой штабной хатки командир роты сказал мне:
- Отрапортовал ты майору правильно!.. Хорошо отрапортовал! Я ожидал, что про сухостой скажешь, который на себе таскаем... Для этого я и вызвал тебя... Пойдешь снова в лес!.. Старшим команды!
Возле стареньких, но чисто подметенных ступенек Сухомятка остановился и, будто оправдываясь передо мною, стал доказывать:
- А что я должен делать? Жаловаться каждый день на трудности? Так кто любит эти жалобы? Пришлют другого, который будет молчать и тащить все на своей спине. А раззявит рот, то пришлют третьего, четвертого... А тот третий-четвертый замучит всех бойцов, чтоб только самого не отправили в маршевую роту. Тут десятижильиым надо быть или даже сам не знаю каким. Никакого транспорта в роте нет, ни коняги, ни колеса! Была одна кляча, так и ту старшина запарил, загонял.
- Вон же всю улицу запылила кавалькада!.. - заметил я, вспомнив клубы густой пыли, поднятой экскортом майора. - Шестерка жеребцов для одного!
- А попробуй заикнись! - подхватил командир роты. - Попробуй попроси!..
"А ты пробовал?" - хотелось мне спросить, но взяло верх убеждение, что, конечно же, не пробовал, вряд ли и думал об этом. Легче выстроить бойцов и приказать - одному взводу сюда, второму - туда!
- Так что ты еще сходи сегодня... - закруглил наш разговор Сухомятка. Сам понимаешь... Дрова нам нужны. Потом придумаем что-нибудь полегче для тебя.
* * *
Через некоторое время командир роты действительно придумал: назначил меня помощником старшины роты.
- Ты где ночуешь? - спросил, когда я по его вызову явился в штабную хату. И сам же ответил: - В казарме? - Очевидно, видел меня там.
Что это за казарма? Стоял на колхозном дворе пустой амбар, с широкими двойными дверями, с дощатым плотным полом - когда-то туда ссыпали посевной фонд. Мы прорезали там два окна, позатыкали дырки под стрехой и сделали двухъярусные нары. Спали там впритык, в тесноте - не в обиде. Умещались в амбаре два взвода. Остальные бойцы и командиры разместились по хатам и тоже в большинстве случаев спали где попало: на лавках, на сундуках, а то и прямо на полу, на разостланной соломе. Занимались под жилье также гумна и овины, где было сено или солома.
- Значит, в казарме? - переспросил командир роты. - Понятно. Ну, это далековато да и неудобно. Надо, чтоб ты всегда был под рукой. - Он строго глянул на старшину роты, который сидел на лавке возле стола и с кривой, недоброй усмешкой поглядывал на меня. Не дождавшись от него никакого ответа, добавил: - Теперь тут будешь ночевать! Понятно? - И показал пальцем на длинную лавку, стоявшую напротив той, на которой сидел старшина. Немного дальше, на лавке за столом, ютился писарь. Сбоку от этого писаря, в красном углу, тоже на лавке, но стоящей поперек, занял себе место еще один писарь, уже довольно пожилой человек в очках. Я понял, что они и спали на этих лавках, может, немного отставляя на ночь свой рабочий, он же и общий обеденный стол. Оба писаря оторвались от своих бумаг и тоже уставились на меня. В их глазах я невольно заметил не только любопытство, но и тревогу. И причина их тревоги была мне понятна.
Дело в том, что та лавка, которую командир роты отвел для меня, была уже тех, на которых днем сидели, а ночью спали писари. И еще - стояла она почти возле умывальника. Я сразу прикинул - если пожилой писарь ночью вытянет ноги, то упрется мне в голову. А может и вовсе спихнуть меня с лавки. Так писари, видимо, боялись, что я запротестую, и тогда командир роты может загнать к умывальнику любого из них.
Возле пустого и холодного припечка стояла моложавая, но очень исхудавшая, измученная женщина, наверно - хозяйка хаты. Командир роты обратился к ней:
- Вы не против, чтоб наш новый помстаршины ночевал на этой лавке? Только ночевал, так как днем у него не будет времени даже забежать сюда.
- Мне-то что?.. - как-то нервозно ответила женщина и оперлась сухой рукой о припечек. - Не я же тут хозяйка. Пускай спит, если уместится. Только подстелить у меня больше нечего.
- Подстелить? - будто переспросил командир роты. - Что нам подстилать или настилать? Шинель-горемыку! Она у нас и подстилка, и одеяло, и подушка все вместе! Еще и свисать будет с этой лавки.
- А что телочка тут у меня, вы же знаете, - добавила хозяйка. - Куда ее деть? В хлевушке тоже ваши спят.
- Выращивай, расти телочку! - похвалил командир роты. - Надо, чтоб у тебя коровка была! Никому она тут не мешает!
- Она больше под кроватью, как котенок, - заметил старшина роты. Я впервые услышал вблизи его голос и удивился, что он такой тонкий, будто женский, к тому же - гнусавый.
Хозяйка окинула хату вялым, равнодушным взглядом, увидела, что телушка лежит как раз под той лавкой, которую командир отводит мне, и простодушно пояснила:
- Она и возле умывальника порой любит полежать, хоть там и сыровато. Только под стол не лазает, так как их обувка дегтем пахнет. - Чуть заметным кивком она показала на писарей.
- Ну что вы, дегтем, - возразил старшина роты. - Вакса у нас есть!
- Еще хуже, чем деготь! - заметил командир роты и весело засмеялся. Оба писаря тоже засмеялись.
Я не оспаривал предложения командира насчет места моего ночлега, знал, что это приказ, а не предложение. Догадывался и о том, что если бы начал возражать, то старшина роты пустил бы в ход свои гнусавые насмешки: почему-то мне представлялось, что он способен на это. Писари поддержали бы его, а тогда командир роты обязательно настоял бы на своем. К тому же мне показалось, что в сравнении с моими казарменными условиями эта лавка возле умывальника, хоть и узкая и с телкой под ней, будет все же более комфортабельна. Там я спал на верхних нарах среди пожилых бойцов, которые ночью здорово зажимали меня и оба громко храпели на разные голоса. Несколько ночей я мучился, пока приноровился и стал сам так храпеть, что заглушал храп соседей.
* * *
Старшина роты, сверхсрочник по фамилии Заминалов, был человеком уже не молодым и, как я потом узнал, семейным, хотя это не помешало ему с первых дней размещения роты в этой деревне приглядеть себе молодуху и пристроиться к ней на постой. Неказистый с виду и маловат ростом, Заминалов имел все же довольно внушительный вид: ходил всегда чисто выбритый, аккуратный, подтянутый, носил комсоставский ремень, полевую сумку и даже портупею, которая по уставу не была ему положена. Лицо у него всегда свежее, щеки розовые, будто только вернулся с отдыха. Гимнастерка чистая и даже со складочкой на рукавах от недавнего глажения. И воротничок белый, накрахмаленный. Все знали, что содействовала этому его квартирная хозяйка, но в то время никто никого не упрекал за это - скорее могли позавидовать.
Хороший уход, удовлетворение одеждой и амуницией создавали и хорошее настроение: Заминалов никогда не был хмурым, всегда весело и хитровато улыбался, с бойцами, с писарями и даже с командирами разговаривал одним и тем же снисходительным, несколько насмешливым, будто недоверчивым тоном. Порой ни с того ни с сего вспоминал какую-нибудь старую песенку и начинал тихонько и гнусаво напевать ее. Любил декламировать популярное в то время:
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди...
Его тонкий, гнусавенький голосок звучал тогда с немалой долей лиризма и даже искренности.
На другой день после того, как я перебрался из казармы в штабную хату, Заминалов, как только вошел в штаб, обратился ко мне:
- Ну, как спалось на новом месте?
Я полушутливо ответил, что, наработавшись в лесу, заснешь хоть на голом полу.
- Храпел замстаршина! - вдруг заявил пожилой писарь, не отрываясь от своих бумаг. Я не услышал злобы в его голосе, но, когда глянул на одутловатые щеки писаря, понял, что человек не шутит, а действительно либо обижается на меня, либо предупреждает, чтобы я больше не храпел.
- И сильно храпел? - усмехнувшись, переспросил старшина.
- Очень! - подтвердил пожилой писарь.
- Так, может, и теленок испугался такого храпа, - пошутил старшина, - и не подошел к умывальнику?
Пожилой писарь не поднял головы на эти слова, а младший весело засмеялся и сказал:
- Теленок не испугался!.. Всю ночь пролежал под лавкой. И теперь там!
Заминалов, не утрачивая иронично-язвительной мины на своем чисто выбритом лице, сначала глянул на пестрого теленка, который, подогнув под себя ноги, лежал под лавкой, потом перевел взгляд на меня. Ткнув пальцем в сторону писарей, гнусовато, но довольно грозно промолвил:
- Вот я поставлю вас в наряд на доставку дров, тогда будете лучше спать и не услышите чужого храпа!
Пожилой писарь смолчал, а младший спокойно заметил:
- Ну и что? Хоть свежим воздухом подышим!
- Подышите! - подтвердил Заминалов и снова посмотрел на меня, будто ожидая поддержки.
Я ничего не сказал, однако сообразил, что старшина догадывается, как болят сегодня мои плечи и руки от того лесного воздуха: вчера мы не только пилили и рубили сухостой, но и носили дрова на себе в деревню.
Пришел в штаб командир роты. Не пришел, а прибежал, какой-то растерянный, помятый, будто спал в одежде. Даже полевые погоны на гимнастерке были мятые, переломанные в нескольких местах. Старшелейтенантские звездочки едва держались вдоль и посредине красной полоски. Некоторые уголки заметно отогнулись и торчали острием вверх. В сравнении со старшиной роты командир выглядел совсем не солидно, однако писари поднялись и стояли до того времени, пока он не догадался махнуть им рукой. А догадался не сразу - все еще забывал, что он военный, командир роты, а не главный агроном МТС. В первый момент ему показалось, что писари встали просто для того, чтобы распрямить спины.
- Хлеб у вас есть? - обратился он к старшине.
- Нету, - ответил тот довольно равнодушно и даже не тронулся с места, видимо, тоже почувствовал перед собою штатского человека.
- Чем будем кормить людей?
- А тем, - еще с большим спокойствием ответил старшина. - Кто припрятал что-то из вчерашнего пайка, тот поест, а кто не запасливый, тот похлебает теплого кулеша без хлеба.
- Как это без хлеба? - крикнул командир роты, да так крикнул, что оконные стекла зазвенели. Писари снова вскочили, а теленок испуганно выскочил из-под лавки и подался под кровать. Заминалов глянул исподлобья на командира и на всякий случай сдвинул каблуки добротных новых сапог, хоть и кирзовых, опустил по швам руки. Командир действительно был в степени такого возбуждения, которого я даже не подозревал в нем.
- Чтоб к обеду был хлеб! - сурово приказал он. - Ясно?
- Ясно, ясно, - ответил старшина. - Но на чем привезти?
- На самолете, - не снижал тона командир, - на паровозе, на себе... Думай, но чтоб люди без хлеба не оставались! Сам проверю!
- Что с ним случилось? - дивился старшина, когда Сухомятка вышел из хаты. - Наверно, оттуда позвонили, - и показал почему-то на потолок хаты, а не в ту сторону, где находился штаб полка. Примолк на минуту, задумался.
В этот момент кто-то постучал в окно. Уткнувшись носом в стекло, вглядывалась в хату плосколицая молодуха и кому-то подавала знаки рукой. Кому же это? Конечно, старшине - звала его на свидание.
Заминалов досадливо махнул ей рукою, а со мной заговорил ласково, вкрадчивым тоном:
- Ну, что будем делать? Транспорта нет никакого, а хлеб действительно нужен. - Помолчал, снова задумался. - Знаешь что? - тянул он, поглядывая на меня немного смущенно. - Ты иди в столовую и корми людей. Скажи там командирам взводов, если будут шуметь, что хлеб к обеду выдадим. Ты их покорми и сам позавтракаешь там: подмигни повару, чтоб с добавкой... А я тем временем соберу группу надежных хлопцев с рюкзаками. Пошлем в пекарню за хлебом. Тут недалеко, всего с десяток километров. Старшим пойдешь ты!
* * *
Что за столовая была в особой роте запасного полка? Это, как и казарма, временно приспособленное колхозное помещение, только не с соломенной крышей, а черепичной. Столов тут мало, а сесть так и вовсе не на что. Все ели стоя, как теперь на дипломатических приемах. Каждый из своего котелка и своей ложкой, что принес за голенищем сапога. В этом отношении прогадывал только я - у меня еще сохранились кавалерийские сапоги с узкими голенищами, и ложка, не то что деревянная, а даже тонкая, алюминиевая, туда не лезла.
Добрая половина бойцов, а может, и большинство, завтракала в то утро без хлеба. Ругались ли хлопцы, хлебая пустой кулеш? Конечно, ругались. Командиры взводов даже угрожали рапортами в штаб полка. Однако меня не задевали, так как еще не знали, что я назначен помстаршиною. Я никому не сказал об этом, прийдя в столовую, и поварам не подал никакого знака.
Когда все взводы позавтракали и разошлись, я робко подошел со своим котелком к раздавальщику. Тот презрительно махнул черпаком и, почти не глядя на меня, спросил:
- А еще позже нельзя было? Почему не со взводом?
- Я теперь при штабе роты.
- Писарь?
- Нет. Помстаршины. Следил, чтоб все позавтракали, потому сам не подходил.
- Пом-старшина-а! - насмешливо растянул повар. - Сказал бы тут всем, что ты помстаршина, когда люди завтракали без хлеба! Они бы устроили тебе завтрак! У самого хоть есть пайка?
- Нет, - честно признался я.
Повар подозрительно поглядел на мою мадьярскую сумку и добавил:
- Разделил бы с нами, тогда мы поделились бы своей порцией супа, которая пока что плавает на дне котла.
- У меня нет ни крошки, - повторил я. - Сегодня к обеду доставим хлеб.
- Откуда же это?
- Из пекарни.
- Пешком пойдете?
- Пешком.
- Тогда и к ужину не доставите!
Торопясь к штабной хатке, я с тревогой думал, что повар, очевидно, прав. Даже если и десяток километров до пекарни, как сказал старшина, то к обеду трудно будет вернуться с хлебом: неизвестно, сколько еще там придется прождать, пока выпишут буханки да выдадут. Старшина, наверно, приврал - у него имелась такая привычка. Сам он, конечно, не был там ни разу!
Однако надо идти, чтоб там ни было. Хоть маршевым шагом, хоть бегом, а хлеб доставить надо. Каково живется бойцам без хлеба, я знал по себе. Хорошо знал, может, даже лучше, чем те, что сегодня завтракали без хлеба. Им хоть кулеша налили по полной порции, а мне повар нацедил полчерпака.
На улице, возле штабной хаты, уже стояли в шеренге десятка два бойцов с пустыми рюкзаками за плечами. Около них важно пошагивал старшина роты и тонким, гнусавым голосом давал инструкции. Я на минуту заскочил в хату и взял свой рюкзак, чтоб не выделяться среди всех. И на лесозаготовках я никогда не выгадывал себе облегчения: пилил и рубил наравне со всеми, а потом тащил до деревни какую-нибудь сухую рогатину либо нес такое бревнышко, что через несколько шагов едва ноги переставлял - плечо немело от боли.
Заминалов объявил, а может, повторил при мне сказанное ранее, что я назначен старшим группы. Мне было приятно, что бойцы приязненно посмотрели на меня: тут были почти все те, что ходили со мной на лесозаготовки, и мы вместе потели от пилы, топора, да еще от тяжести. А может, приязнь эта подкреплялась тем, что идем сегодня не за дровами, а за хлебом. А с хлебом никакая дорога не будет тяжелой.
Мне самому так подумалось, когда надел на плечи рюкзак. Хоть и пусто в животе, хоть кишки и заиграют марш к полудню, но если в рюкзаке будет несколько буханок свежего хлеба, то даже и запахом его можно прожить.
Старшина уступил мне свое место возле шеренги бойцов, и я подал команду двигаться по маршруту. Заминалов прошел рядом со мною двора два по улице, потом бодро улыбнулся, тихонько, нараспев повторил свое "Жди меня, и я вернусь..." и остановился возле третьего двора. Я уже заметил, что тут жила его плосколицая молодуха.
Выйдя за деревню, я зашагал впереди своей группы и дал такой ход, как некогда на боевых пешеходных маршах: во всю ширину шага и во всю свою мочь. Через два-три километра у меня начали потеть плечи и под пустым рюкзаком. А что же будет с грузом? Но все равно, лишь бы заиметь тот груз! Сколько еще шагать до пекарни? Со слов старшины я помнил, что этот хлебный пункт находится в каких-то Верховичах. Однако, пропев "Жди меня...", он сказал, что пекарня в Безверховичах.
Где-то, как мне представлялось, посредине пути, встретился нам дедок на плохонькой повозке. Я остановил его и спросил, далеко ли до Верхович.
Дедок какое-то время молчал, думал, потом переспросил:
- Как вы сказали, Верховичи?
- А может, Безверховичи? - уточнил я.
Дед еще больше задумался.
- Не знаю я тут таких селений. Разве, может, где очень далеко? А тут вокруг я все деревни знаю.
- Так, может, слышали, - пошел я на откровенность, - где тут хлеб пекут для военных? Большая пекарня там должна быть.
- Так это в Вышковичах! - обрадованно сообщил дед. - В Вышковичах! Я оттуда еду, муку возил от нашего колхоза.
- А далеко еще до Вышкович?
- Да нет. Верст, может, десять отсюда... А может, двенадцать, не больше.
- Ого! - воскликнул кто-то из бойцов.
Мне тоже хотелось воскликнуть "ого!", но чем это помогло б? Я имел приказ доставить бойцам хлеб и должен выполнить этот приказ. Даже если бы и не имел приказа, то по обязанностям службы не мог бы оставить людей без хлеба.
За небольшой горкой была деревня - мы заметили это по выгону, по высоким посадкам, зеленые кроны которых виднелись даже из-за горки. Вышковичи это или нет? По расстоянию, по утомленности наших ног должна быть уже эта деревня, однако уверенности у нас не было. Вдруг один боец вырвался из группы, опередил меня и выбежал на горку. Постоял там с минуту, повел носом в сторону деревни, жадно втянул воздух и крикнул во все горло:
- Хлеб! Чую запах хлеба!..
Вскоре и я почувствовал близость хлебопекарни и уже не сомневался, что перед нами Вышковичи.
На зеленой, немного запыленной площадке возле пекарни мои хлопцы поснимали с плеч рюкзаки и легли на них: кто затылком, кто мокрыми от пота плечами. Я пошел искать кладовщика или какого другого распорядителя, чтоб отдать ему накладную на получение хлеба. Мне показали сарай, где должен быть склад.
- Подгоняй телегу! - приказал мне худой и потому кажущийся слишком высоким сержант. Я удивился, что он такой худой, будто заморенный, при такой службе, где хлеба хватает вдоволь: в сарае просто дух захватывало от сладкого и свежего хлебного запаха. Заметив мое замешательство, он сурово спросил:
- Слышал, что сказано?
- Слышал, - спокойно ответил я, хотя воинская жилка, которая уже установилась во мне, подталкивала сделать кладовщику замечание: "Почему так разговариваешь со старшим по званию?" Но сдержался, меня будто парализовал свежий запах хлеба. Вспомнилось, что уже не раз встречались мне военные, волей судьбы поставленные на склад, на кухню или какую другую каптерку. Постепенно у них вырабатывалась такая фанаберия и такое чувство собственной значимости, что даже и офицер для них ничего не значил. Пусть бы он попытался возразить или сделать замечание, то пошел бы со склада не с тем, что нужно, а то и вовсе с пустыми руками.
Вместо ответа на грубоватый, но хоть не безнадежный вопрос (ведь он мог сказать, что нет выпечки и делай что хочешь) я движением руки подозвал долговязого подойти к широким дверям сарая:
- Вот мой транспорт!
- Где? - не понял кладовщик.
- Отдыхает на рюкзаках. Пешком пришли.
- Понесете на себе? - удивился кладовщик.
- А что делать? В подразделении сегодня нет никакого транспорта!
Кладовщик задержался в дверях сарая, какое-то время глядел на лежавших бойцов, которые, очевидно, заснули под теплым солнцем, и будто обдумывал что-то, выяснял. Еще раз глянул на накладную, которую держал в руках, и, тяжело вздохнув, сказал:
- Голод не тетка! Давай будем отвешивать!
Впервые в жизни мне пришлось проследить, как кладовщик клал, а лушче сказать - бросал тяжелые гири на висячий подвесок и очень быстро подпирал рычаг. Еще не успевал я сообразить, где был перевес - на площадке с хлебом или на гирях, а он уже громко сообщал килограммы и отмечал их в блокноте. Потом шел за ширму, чтобы набрать новую порцию буханок - меня тронуло, что носил он хлеб охапками, как дрова, - а я за это время должен был разгрузить площадку весов.
Хлопцев не звал, чтоб помогали, жалел их будить. А между тем подумывал, что помогли бы не только носить и складывать буханки, а и следить за кладовщиком: кто знает, что это за человек и какие у него тут весы? Чувствовал, что дома придется перевешивать хлеб, так как командиры взводов потребуют каждый свою норму по количеству бойцов. И не дай бог, если кому из них не хватит!
- Давно с гражданки? - спросил у меня кладовщик, бросая на весы хлеб, снова как дрова, даже не нагибаясь.
- Давно, - ответил я. - Уже пятый год.
- Что делал на гражданке?
- Учительствовал.
Кладовщик поглядел на меня как-то криво и, как показалось мне, сердобольно усмехнулся.
- Загремишь в маршевую роту! - вдруг уверенно заявил он. - Попомнишь мои слова!
- Уже был на фронте, - заметил я на это. - И пойду снова, если пошлют.
- Обязательно пошлют! - подтвердил кладовщик. - В первую очередь. Вижу, что с хлебом ты не справишься.
- Почему так думаешь?
- Потому что хлеб усушку имеет. А у тебя будет еще и утруска, ведь твои молодцы с рюкзаками не удержатся, чтоб не отщипнуть корочку.
- Я надеюсь на своих хлопцев, а на усушку ты накинь немного.
- А мне кто накинет? С меня потребуют горячий вес.
Когда я раздавал буханки бойцам и они укладывали их в свои рюкзаки - по пять буханок на каждые плечи, кладовщик стоял на пороге сарая и со скучающим любопытством наблюдал за нашими хлопотами. Потом движением пальца приказал мне приблизиться к нему и почти шепотом, чтоб не услышали бойцы, сказал:
- Это ты к обеду берешься донести? - Поглядел на ручные часы и снова как-то криво, недобро усмехнулся. - И раздать к обеду?
- Завтракали без хлеба, - так же тихо сообщил я. - Разумеешь ситуацию?
- Дураки там в вашей роте, потому и ситуация. Разве нельзя было забрать свой хлеб вчера? Все роты забрали! И не на своем горбу, как ты!
Мне нечего было сказать, поэтому смолчал, а кладовщик почему-то не отходил от меня и, будто кого-то ожидая, поглядывал на свои часы.
- До обеда вы не донесете, - словно по каким-то приборам определил он. - Сколько уже времени осталось? Бегом бежать - не добежишь: самое дальнее от продпункта подразделение. Бойцов уморишь, и у самого живот подтянет. Бери - я дам тебе буханку хлеба на дорогу. На всех! Разделите, так хоть какое-то подкрепление будет.
* * *
Старшина роты встретил нас далеко от деревни. В запыленных сапогах, с вспотевшим лбом.
- Куда вы подевались? - накинулся он на все мое отделение, а главным образом на меня. - Ползете, как сонные мухи!.. А ну, бегом марш!
Я шел первым. По команде прибавил шаг, но уже из последних сил.
- Бегом! - закричал старшина тонко и пронзительно. Откуда и голос взялся?
Бежать с нагруженным рюкзаком за плечами я не мог. Знал, что и бойцы не смогут побежать. Тогда Заминалов подскочил ко мне и затряс кулаками:
- Ты знаешь, что рота обедала без хлеба?! Знаешь?!
- И завтракала, - добавил я. - Так кто виноват?
- Вот ты у меня поищешь виноватого, - пропищал старшина мне в самое ухо, и я невольно заметил, что голос у него совсем не тот, каким он напевает "Жди меня...". - Командир роты ждет возле штаба и все комвзводы!
"Потому ты и удрал оттуда, - подумал я. - Запылил начищенные сапоги".
- Вы хоть без хлеба, а пообедали! - вдруг послышался голос из строя. А у нас совсем курсак пустой!
- Ты, Мухамедов, помолчи со своим курсаком! - сбавил тон старшина. - Я уже слышал это!.. - И более сдержанно обратился ко мне: - Разве привала не делали?
- Какой там привал? - удивился я. - Маршевым шагом туда и назад. И там всего несколько минут потратили на погрузку.
- Так тут же рукой подать!
- А вы были там?
- Ну, допустим, сам не был, - признался Заминалов. - А твой предшественник, пока не загремел в маршевую роту, ездил туда почти каждый день.
- Ездил, - подчеркнул я. - Но не ходил пешком и не тащил груз на плечах. Продпункт намного дальше отсюда, чем вы думаете!
- Что, Верховичи? - заперечил старшина. - Погляди на карту!
- Не Верховичи, а Вышковичи, - уточнил я. - Вы даже не знаете, где находится пекарня.
Старшина не стал этого оспаривать и, наверно, не столько по необходимости, сколько для вида вынул из кармана брюк белый носовой платок, даже отглаженный, снял пилотку и начал старательно вытирать лоб, выпуклый и высокий оттого, что над ним уже не росли волосы. Использовав его паузу, я спросил:
- Вы, кстати, чувствуете разницу между маршевой ротой и штрафной?
- Почему ты так спрашиваешь? - удивился старшина. - Не только чувствую, а и по существу знаю.
- Я не только про вас лично... Почему все тут: "Загремел в маршевую... Докатился до маршевой..." Разве туда принудительно посылают? За проступки?
- А ты добровольно пойдешь?
- Пойду! Как же иначе? Мы строевые командиры, и наше место на фронте.
Заминалов тяжело вздохнул и чуть слышно промолвил:
- Кому-то надо и в тылу быть, резервы готовить.
В его голосе слышалась фальшь, он, наверно, и сам не верил, что он тут действительно готовит какие-то резервы.
Через несколько времени Заминалов затянул на свой лад привычное "Жди меня, и я вернусь...", но и тут его голос фальшивил. Оборвав песню, вдруг предложил:
- Тебе, вижу, тяжело... Дай мне одну буханку... А то и две.
Я не дал.
Когда мы вошли в деревню и уже приближались к штабной хате, Заминалов снова подал команду "Бегом марш!". Но это относилось уже не к нам, а к тем, что ждали возле штаба: пусть знают, какое старание проявляется!
С того двора, где квартировал старшина, видимо, услышав знакомый голос, вышла плосколицая молодица, подалась навстречу Заминалову.
- Иди в хату! - резко приказал старшина и взмахнул обеими руками, будто собираясь толкнуть женщину в плечи.
Командиры взводов со своими хлеборезами помогли снести хлеб в кладовку, которая была во дворе штабной хаты. Там на прилавке стояли небольшие, двухтарелковые весы, и тут же лежал большой, с широким блестящим лезвием нож. Я понял, что мне надо сейчас же пускать в ход эти приспособления и пользоваться ими умело и мужественно, иначе командиры взводов сами разберут хлеб. И тогда может выйти так, что кто-то из них возьмет лишнее, а кому-то не хватит.
Хлеборезом я никогда не был, даже если и доводилось когда-то в кавполку дежурить на кухне, то чистил там картошку, носил воду, дрова, а хлеба не резал: на это были штатные хлеборезы. С весами также не было у меня близкого знакомства, особенно с гирями, самых разных калибров и цветов, лежавших на прилавке.
Я взял в руки нож, еще хорошо не зная, что буду делать с ним. По какой-то невольной логике проверил пальцами острие лезвия. Потом взмахнул ножом перед собою, будто намереваясь не резать им хлеб, а рубить. И вдруг вспомнил, что когда-то мать моя даже слова "резать хлеб" вымолвить не могла и нам запрещала. "Кроить хлебушек", - говаривала она. "Откроить корочку".
- Ну, давай, хлеборез! - услышал я грозный выкрик из толпы комвзводов, стоявших возле кладовки.
Нож дрогнул у меня в руках, и на какой-то момент я почувствовал растерянность. Вдруг представилось, что перед дверью кладовки стоят не только командиры взводов и их помощники, а вся рота пришла сюда. Все те бойцы, которые сегодня завтракали без хлеба, обедали без хлеба! Командира роты нет, старшины нет!.. Они сбежали отсюда, взвалив всю вину на меня.
Ручка ножа почему-то становилась в моей руке горячей и мягкой. Что-то подобное случалось иногда на фронте перед атакой. Тогда нагревалось в руках оружие: винтовка или автомат. Но не мягчело. Наоборот - становилось еще тверже. Тогда я знал свою цель, свои обязанности...
- А что там резать?! - крикнул кто-то перед дверями. Угрозы тут было еще больше, чем в предыдущем выкрике. - Раздавай буханками, и всё! Я знаю, сколько буханок мне положено!
- Резать надо, товарищи! - послышался возле двери примирительный голос. - Хлеб получен строго по норме и по норме будет выдан, по строгому весу! Вот у меня список.
Я увидел, что на ступеньках кладовки протирает очки старший писарь роты и спокойно, совсем не спеша, поднимается в кладовку.
- Первый взвод! - повысив голос, выкрикнул писарь. Затем поднес к глазам список и уточнил: - Вам пятнадцать целых и три десятых килограмма. Подходите сюда, будем взвешивать!
- Какие там еще три десятых, - заперечил командир взвода. По голосу я узнал, что это он и подгонял меня. - Округляем, и выходит шестнадцать.
- Нет, товарищи! Строго по норме! - повторил писарь. - Только по норме!
Мы с ним начали накладывать буханки на круглую тарелку весов - гирь хватало на десять килограммов. Пожилой писарь очень умело ставил и снимал эти гири, где надо передвигал показатель граммов.
- Отрежьте полбуханки! - приказывал он мне. - Отрежьте четверть буханки! Сюда подбавьте только краюшку!
Я резал быстро, и даже писарь не догадался, что делал это впервые. Помня слова матери, не поднимал высоко нож, не колол острием в мякоть, а брал в руки буханку, прижимал ее, как когда-то мать, к своей груди и откраивал столько, сколько надо было на довесок.
Писарь все время стоял у весов.
- Еще только полтора килограмма! - наконец скомандовал он мне. - Для штабного довольствия!
- А у меня только вот... - растерянно промолвил я и показал полбуханки.
- Только всего?! - испуганно спросил писарь. - Значит, обвесили вас в пекарне! Я тут не мог ошибиться!
- А может, наши весы?.. Выверялись ли они?..
- Сам выверял, - уверенно промолвил писарь. - Весы правильные! Может, излишне правильные - это другое дело...
- Что же будем делать? - не слишком встревоженно спросил я.
В душе был доволен тем, что всем взводам хватило хлеба. А могла быть и большая недостача.
- Что делать? - переспросил писарь. - Командира роты и политрука обеспечим, а сами проживем без хлеба. Думаю, что завтра вы будете...
Писарь не дал точного определения моей деятельности, но нетрудно было догадаться, что он хотел сказать.
Идя в штабную хату, он приостановился возле двери, снял очки и начал старательно их протирать. Я с полбуханкой хлеба в руках стоял рядом.
- Вы раньше не имели дела с цифрами, с весами?.. С распределением, так сказать?
- Не имел.
- Я это чувствую... Хоть считаю вас человеком образованным и опытным... Не во всем, конечно. Человеку и не под силу знать всё. Особенно в сфере обеспечения. Я двадцать лет проработал в продмаге, а вот видите!.. С первого раза дал маху.
- Почему так? Взвешивалось у нас все точно.
- Потому и не хватило хлеба. - Писарь повел глазами на полбуханку, которую я держал в руке. - А еще же старшинихе надо дать.
- Какой старшинихе? - удивился я.
- Той женщине, у которой Заминалов квартирует. Торчит тут под окном. Не дай ей, так из зубов вырвет!
Я снова посмотрел на оставшийся хлеб, с болью в душе подумал, как его делить на троих. А писарь между тем заметил:
- У вашего предшественника не было недостачи. Ни разу! Зато - излишки были. А это тоже плохо.
"Откуда же излишки? - Это еще больше насторожило меня. - Может, в пекарне он умудрялся получать больше? Но там же долговязый кладовщик тоже своего не упустит".
Противно было обдумывать все это, никогда в жизни не сталкивался я с такими делами, но теперь обстоятельства вынуждали: знал, что завтра снова придется идти пешком за хлебом, снова надо будет делить его по взводам. Тут воинская обязанность, от нее не откажешься. Лежать в окопах, стрелять по врагу, идти в атаку - тоже не было привычным для меня. Однако если надо было, то делал все это. Теперь вот кажется, что легче было бы снова ринуться в атаку, чем разделить эту краюху хлеба, что держу в руке. Вздрагивает моя рука, немеют пальцы, кажется, что полбуханка постепенно тяжелеет и твердеет. Пальцы уже не ощущают мякоти. И я беру хлеб в другую руку. В этот момент ловлю себя на том, что жадно гляжу на хлеб и снова чую его манящий запах: хочется отломить корочку и бросить в рот. И не есть, не жевать, а держать во рту и сосать. Вряд ли есть на свете что-нибудь вкуснее, чем корочка от свежей душистой буханки!
Манит моя рука с хлебом и пожилого писаря. Я это замечаю и боюсь, что он вслух скажет о том, о чем я подумал. И что я ему отвечу? Возможно, что и он завтракал и обедал без хлеба.
Писарь отводит взгляд от хлеба и продолжает рассуждать:
- Оно, понимаете, как?.. Из практики знаю: вот возьми продукт с одних весов и переложи на другие... Может быть разница: в ту или другую сторону. А точного веса не будет. Чаще всего немного перетянет недостача. А если еще транспортировка! Тогда уж и усушка и утруска... При оптовых операциях это определенным образом учитывается. А у нас как? Скажешь бойцу, что его пайка утряслась и потому получает меньше? Что он тебе ответит?.. Значит, не скажешь! А что делать?
- Что? - повторил я.
Писарь замолчал, направился в хату и только уже в сенцах, в полутьме, когда можно было скрыть выражение лица, заговорчески прошептал:
- Надо понемногу недовешивать. Всем по какому-то грамму... Никто не заметит, а баланс сойдется. Поверьте моему опыту.
Мне было неприятно слушать такие советы, но связываться со старым писарем в сенях тоже было неловко, потому я взялся за ручку двери в хату. Писарь придержал мою руку и еще тише добавил:
- Ничего плохого вам не советую... Ваш предшественник делал так. Никто не догадывался, а меня не проведешь!.. Я заметил, что он подкладывал небольшой магнитик под чашу весов. Просчитался немного, погорел на излишках, но можно же...
Я не дослушал писаря и резко открыл дверь в хату.
* * *
На другой день стал собираться в дорогу сразу после раннего завтрака. Намеревался взять ту же группу бойцов, с которой ходил вчера, но старшина не дал. Он все время поглядывал на меня исподлобья, видно, обижен за вчерашнюю бесхлебицу, а его молодица так специально перехватила меня на улице и, растопырив руки, закричала:
- Вы что же, только о своем животе думаете?.. Человек сделал вам добро, а вы его куска хлеба лишили? Я до командира полка дойду!
Перед самым отходом в продпункт я забежал в штабную хату за рюкзаком и увидел, что писари сидят за столом перед чугунком картошки, сваренной в мундире. Дуют на горячие картофелины, перекатывают с руки на руку и едят не очищенной. На мой приход молодой писарь не обратил внимания, будто дверь и не открывалась, а пожилой свесил голову над столом и сделал вид, что очень занят очисткой картофелины и ему теперь не до меня.
- Может, и вы бы горяченькую? - предложила хозяйка, давая пойло теленку.
Молодой писарь поспешно вынул из чугунка три картофелины, положил их рядком возле себя и стал отчаянно дуть на пальцы, а пожилой как-то умышленно поперхнулся, глотая рассыпчатую картошку, и будто не слышал предложения хозяйки.
- Спасибо, - сказал я женщине. - Мне надо идти.
- Не забудьте про наш вчерашний разговор! - напомнил пожилой писарь, когда я уже открыл дверь.
"Не стыдно ему напоминать! Неужели сам он мог бы обвешивать? Вчера мне не верилось в это, а вот теперь, после его перхания от горячей картошки во рту, возникло сомнение. Что это? Проявление нечестности, уже привычной для него, или свойственная практичность человека, который всегда помнит, что своя рубашка ближе к телу? И первое и второе основывается на одном: меньше хлопот и забот. Обеспечить роту хлебом своевременно и в полной норме при теперешних обстоятельствах довольно сложно: надо думать, волноваться да тревожиться. Так зачем все это? Подложил под весы железку и живи спокойно, пока живется... А там война все спишет...
Зачем старшине роты и даже командиру ломать голову, где и как достать транспорт для перевозки хлеба? Потом еще отвечай за него: если это какая-то бракованная автомашина, то надо искать для нее шофера, дрожать за исправность, добывать, где хочешь, горючее и смазку. Если живое тягло - конь или вол, то их же надо кормить, ухаживать. И запрячь надо иметь во что.
А тут - почти никаких хлопот. Людей хватает! Отдал приказ приволочь из леса дров - приволокут! Приказал топать двадцать километров за хлебом потопают! И просто, и ответственности почти никакой!"
Такие мысли тревожили меня и раньше. И не в запасном полку, а на поле боя. Порой силой приказа посылался человек под огонь, хотя можно было обойтись и без этого. Но если обойтись, то надо было бы поволноваться и, возможно, самому приблизиться к опасности.
Невольно вспомнилось мне, как незадолго до моего ранения наш стрелковый взвод послали на разведку боем. В бинокль было видно, что вражеские пулеметы стоят на крыше одного большого здания, покрытого черепицей. Пустить туда один снаряд, и вся "стратегическая" задача была бы решена. Нет, шагом марш!..
Как только мы вышли на чистое поле и пробежали несколько шагов, вражеские пулеметчики открыли по нас шквальный огонь и сразу вывели из строя несколько человек, в том числе командира взвода. Остальные вжались в пашню и застыли, имитируя убитых. Как только кто осмеливался шевельнуться, на него градом сыпались пули: поле было пристреляно.
Я тогда был помкомвзвода и находился на левом фланге. На моем направлении чернел небольшой сарайчик с соломенной крышей. Он почти не мешал немцам брать нас на прицел - они сидели значительно выше этой постройки. Однако же чем ближе мы подползали к сарайчику, тем уменьшалась опасность. Под самой стеною немцы не видели нас, и тут я приказал окопаться тем, кто сумел доползти до углов строения.
Но очень мало доползло: пулеметчик Саша, молодой и на редкость красивый светловолосый парень, его второй номер Наташа, небольшого роста, не очень красивая дивчина. Все мы знали, что Саша для нее был дороже собственной жизни. Следом за ними пробрались к нашему хоть и очень ненадежному укрытию еще три бойца, в том числе низенький и толстенький узбек Рахмат.
Саша и Наташа сразу развернули пулемет и стали бить по врагу из-за угла сарайчика длинными и, как я заметил, довольно меткими очередями. На них была основная надежда, так как ни винтовок, ни ручных пулеметов при нас не было, а автоматным огнем с наших позиций нельзя было достать врага.
- Посылай за подмогой! - крикнул мне Саша, меняя ленту. - Немец подожжет сарай, и тогда хана! Снаряд нужен!
Молодой сержант Саша был опытным и смелым воином. Я понимал, что он подсказывает мне правильную команду, единственно возможную в этих условиях. Но как ее выполнить? Легко сказать - посылай за подмогой! Кого пошлешь, как пошлешь? Кто сумеет добраться под таким прицельным огнем? Язык не ворочается отдать такой приказ одному из моих соратников. Голос пропадал, как только намеревался раскрыть рот. Вот они, мои друзья, лежат неподалеку от меня, старательно окапываются возле противоположного угла строения. Их всего трое. Один уже немолодой человек, недавнего призыва. Достичь этого рубежа, где мы теперь, помог ему, наверно, счастливый случай, так как фигура у него крупная и даже в лежачем положении довольно заметная, как мишень. Послать его, это почти умышленно убить человека - враги сразу его заметят, как только отползет от сарая.
Другой боец - неопределенного возраста, худой, бледнолицый, с хронической хрипотой в груди - может не выдержать пластунского темпа и не доползет до штаба роты. Третий - Рахмат. Только на него можно было понадеяться в ту минуту: толстенький, верткий, малозаметный, но он не вызвался добровольно ползти в тыл.
- Посылай скорее! - снова услышал я резкую и громкую команду. Голос сразу показался мне даже незнакомым, на очень высоких и отчаянных нотах. Такого голоса я не слышал раньше, но теперь знал, что кричит Наташа - больше тут некому. Отчаяние в ее крике, возможно, мне послышалось, а пронзительный крик вызывался обстоятельствами - надо было перекричать пулемет.
Я подполз к Наташе, лег рядом и закричал в самое ухо:
- Тебе надо пробираться в тыл! Тебе!..
Кричу, а голоса своего не слышу - пулемет заглушает. Тревожусь, что и она не слышит, потому повторяю:
- По-пластунски проползешь!.. По пашне!.. Ты лучше всех доложишь обстановку, а я тут заменю тебя!
Сначала Наташа не отказывалась, но я заметил, как нервно задрожали ее руки, когда доставала из коробки последний шлейф пулеметной ленты. Потом решительно закачала головой. Она была уже без пилотки, с гладкой прической на прямой пробор и с тонкими, как у школьницы, косичками, собранными на затылке в небольшой узелок.
Саша тоже без пилотки, высокий гладкий лоб блестит от пота.
"Где же их пилотки?" На сколько можно оглядываюсь вокруг и снова слышу резкий голос Наташи:
- Не трать времени! Посылай Рахмата! Я не уйду отсюда!
- Она не уйдет! - повторил Саша.
Ни в ту минуту, ни потом мне было неясно, почему Саша не поддержал меня? Побоялся подставить девушку под прямой вражеский огонь или учитывал ее характер: не оставит друга в беде и ничем не принудишь ее сделать этого. Даже приказ может не выполнить.
А тем временем кто мог определить, где опаснее: там, по дороге в тыл, или тут, на линии огня? Если немцы подожгут строение, которое пока что прикрывает нас, то вряд ли уцелеем все мы.
- Рахмат! - во всю мощь своего голоса крикнул я.
В тот же миг боец оказался рядом.
- Пойдешь в тыл и доложишь командиру роты обстановку! Скажешь, чтоб срочно подал гаубицу! Ясно?
- Ясно! - ответил Рахмат и сразу же повернулся, чтоб взять курс на тот населенный пункт, откуда мы вышли в разведку.
- Назад можешь не возвращаться! - добавил я.
Рахмат ничего не ответил на это, может, даже и не услышал, так как в тот момент был уже далеко от меня.
Пока можно было, я следил за ним: доползет или нет? Будет нам помощь или нет?
Рахмат пополз живо и по такой борозде, что его почти не видно было. В начале пути ему помогал наш сарайчик, а на самом опасном, прицельном месте немецкие пулеметчики не сразу заметили посланца, так как Саша приглушил их своими почти беспрерывными очередями. Потом... У меня даже сердце похолодело: Рахмат выскочил из борозды и, пригнувшись, побежал, как заяц, виляя по сторонам. Вражеские пулеметчики открыли шквальный огонь. Пыль от пуль поднималась с пересохшей пашни, прикрывая Рахмата от меня и, возможно, от фашистских пулеметчиков. Однако я увидел, что Рахмат упал. Пополз дальше или не пополз? С дрожью в сердце я вглядывался в облачко серой пыли уже на подходе к нашей деревне...
Вдруг крик Наташи:
- Ракета!
Я оглянулся и увидел, даже услышал, что прямо на нас с ослепительным блеском и шипением спускается огненный колобок. Я живо схватил лопатку и отбил ракету в сторону, а бойцы засыпали ее землею. Все мы поняли, что это означает. На первый раз враг промахнулся, и огненная ракета не попала в соломенную крышу сарайчика. В следующий раз она попадет. И мы тогда не сможем засыпать ее землею: на крышу под вражескими пулями не влезешь и не успеешь влезть - сухая солома сразу займется пламенем.
Ракетой подожгли крышу или зажигательными пулями, этого я не разглядел, но неминуемая беда беспощадно надвигалась: крыша начала гореть и вскоре пламя так разбушевалось, что огненные клочья соломы стали падать на нас, на ствол пулемета, который и так был чуть не докрасна накален.
Пришлось временно изменить наши позиции.
Высокое пламя с дымом пока что прикрывало нас от врагов, но это же только на считанные минуты. Крыша вспыхнула, как порох, будто взлетела в воздух и оттуда стала быстро оседать черным пеплом и огненными клубками. Стропила также вскоре рухнули, и наше спасительное укрытие постепенно исчезало: вражеские пулеметчики били прямо по огню и некоторые пули уже достигали наши позиции. Это еще и оттого, что под огненный сруб, который еще немного и заслонил бы нас, мы не могли близко подползти, слишком было горячо.
- Патроны! - вдруг услышал я мощную команду Саши. Быстро подполз ко второму номеру:
- Почему не подаешь? Есть еще ленты?
Девушка молчала. На ее школьных косичках тихо остывали обугленные серовато-черные соломины. Я смахнул их рукою и почувствовал на пальцах теплую влажность...
- Подавай, Наташа! - ласково, но требовательно попросил пулеметчик.
Девушка не шевельнулась и не подала голоса. Я взял из ее рук ящик с пулеметными лентами, нащупал только одну.
- Вот патроны! - доложил Саше, но он не взял ленты, он уже держал руками осыпанную горячим пеплом голову Наташи и с отчаянным страхом оглядывал ее лицо, шею, маленькие и нежные уши. Всюду были подтеки крови, а раны будто нигде не было видно, наверно, она была под волосами.
- Есть санитар?
Сашин вопрос относился ко мне, хоть он и сам знал, что и санинструктор, который пошел со взводом, остался на пашне, и наша санитарка Лена, лучшая подруга Наташи, тоже где-то там.
Выхватив из кармана гимнастерки санитарный пакет, Саша подхватил девушку на руки и понес ближе к огненному заслону. Я лег на его место за пулеметный щит. Сдвинулся немного вбок от пристрелянного немцами места и, заложив новую ленту, дал короткую очередь. Только теперь заметил, когда хорошо вгляделся через прицел, что вражеские пулеметчики обстреливают нас из амбразур, пробитых в черепичной крыше. Если там у них и каменные стояки рядом, то враги недостижимы для нас. Затухнет, осядет пламя нашего сарайчика, и тогда они увидят, что нас тут всего четверо. Могут обойти с флангов, если вздумают взять в плен. Но и сверху мы для них - открытая мишень.
Надо все же беречь патроны.
Вдруг подскочил к пулемету Саша, оттолкнул меня и так нажал на гашетку, что чуть ли не половина ленты вылетела сразу.
- Как Наташа? - спросил я его, а ленту на момент придержал.
- Давай! - крикнул Саша. - До последнего давай!..
Я понял, что человек в отчаянии и даже не учитывает, что патронов у нас мало. Подал часть ленты и снова спросил про Наташу.
- Подай всю ленту! - вместо ответа приказал Саша. - А сам окапывайся! И глубже, глубже! Скажи хлопцам! Будем занимать круговую оборону.
Сашин голос дрожал, горько прерывался, но командирский тон не терялся. Говорил он правду: ничего другого не оставалось, как вкопаться в пашню и стоять до последнего. Вот только - с чем стоять? Пулеметная лента кончается, запаса нет. У Саши на поясе несколько ручных гранат, у меня в карманах две лимонки. Есть ли что у хлопцев, которые вкапываются теперь вглубь больше от жара близкого пламени, чем от вражеских пуль? Автоматы их вижу - торчат дула из ячеек. А что там у них на поясах или в карманах, мне и раньше не было видно.
Я подал Саше последние патроны, а сам только взялся за лопатку, как услышал, что кто-то очень легко, осторожно дотронулся до моего плеча. Я резко оглянулся:
- Рахмат! Дорогой!..
- Ваше задание выполнил! - едва проговорил боец и положил в изнеможении голову на засыпанную пеплом землю. Парня нельзя было узнать: на носу и на лбу - засохшая и присыпанная землею кровь, на плоских запотевших щеках тоже кровавые подтеки.
- Ты ранен? - тревожно спросил я. - Куда ранен?
Рахмат отрицательно покачал головой:
- Не ранен!.. Не может быть, чтобы ранен!.. Немного царапнулся...
- Кому доложил там?
- Командиру роты. Но он уже сам видел...
- Что он сказал?
- Побежал к пушкарям.
Вражеские пулеметчики усилили огонь, увидев, что горящее строение уже почти не заслоняет нас, крыша обрушилась, а стены обуглились. Пули пробивали сруб, вырывали оттуда уголья и с шипением впивались в пашню. Наш пулеметчик вдруг замолчал. Я повернулся к Саше и увидел, что его на прежнем месте нет. Парень рывком подался вперед, ближе к врагу, и с новой позиции, видимо более прицельной, дал длинную очередь.
- Короткими давай! - крикнул я в отчаянии, будто человек не знает, что надо беречь последние патроны. И, как бы в ответ на мой приказ, Сашин пулемет словно подавился чем-то твердым и заглох. Саша не шевелился.
- Неужели и его убили? - тихо и слабо промолвил, скорее простонал Рахмат. - Весь взвод наш положили... Весь взвод...
Я отчетливо услышал слова Рахмата... Он почти прошептал их, а мне показалось, что сказал громко, на все поле, чтоб слышали и те, что лежат теперь на пашне, если кто-то из них жив...
- Окопаться можешь? - спросил я и подал Рахмату свою лопатку.
- Разве это поможет?.. - послышалось сбоку.
Я не поверил, что это сказал Рахмат. И потом еще:
- Я в счастливый случай верил... Только в случай!.. А теперь...
- Что теперь? - спросил я. Кажется, и громко спросил, но голоса своего не услышал. Что-то заглушило мой голос, и в первый момент я даже не понял что? Заметил только, что Рахмат вдруг поднялся, сквозь посиневшее пламя перед нами глянул на вражеские пулеметные гнезда.
- Наш снаряд! - воскликнул радостно и обеими руками хлопнул себя по бедрам: пыль от его штанов чуть не забила мне нос.
- Ложись! - крикнул я и схватил его за ногу, повалил на землю.
- Не долетел немного, - уточнил Рахмат. - Но ничего! Теперь долетит!
Действительно, следующий снаряд наших артиллеристов угодил в черепичную крышу здания с вражескими пулеметчиками. Я и сам видел, как облако пыли поднялось над крышей, а потом из большой пробоины стал просачиваться дым, наверно, от взрывной смеси.
Саша вдруг выскочил из-под щитка пулемета и с гранатой в руке кинулся к вражескому зданию.
- За мной! - крикнул уже в отдалении и неизвестно кому - видимо, только нам с Рахматом.
Я обрадовался, что Саша жив, но сразу бежать за ним не счел нужным, так как уже видна была победа: враг прекратил огонь сразу после первого нашего снаряда.
Через некоторое время до меня стал доноситься знакомый голос командира роты:
- Вперед, вперед!..
Вскоре он добежал до нашего обгоревшего сарая, лег рядом со мною.
- Это ты?.. Чаротный?.. Командир взвода где?
- Там, где и весь взвод, - с горечью ответил я и оглянулся, надеясь, что увижу хоть кого-нибудь из тех, что неподвижно лежали на пашне: может, кто-то встал на зов командира роты и побежал за ним. Никто не встал. Никто не слышал его призыва...
- Война-а, - вздохнул командир роты.
- Но можно же было сразу выставить гаубицу?
- А кто знал, что так?.. - он запнулся, не найдя нужного слова, и как-то стихийно накинулся на меня: - Ты всегда... Я и раньше замечал эту твою склонность к панике... Слабость!..
- А это? - показал я на пулеметчицу Наташу, которая лежала возле обгоревшего сруба. Глаза ее были припорошены пеплом, и мне представлялось, что они глядят на нас грустно и укоризненно. Одна косичка расплелась и откинулась в сторону... Кончик ее обгорел... Я чувствовал острый запах подпаленных волос...
* * *
Второй поход за хлебом показался мне более упорядоченным, чем предыдущий. Мы раньше вышли, раньше вернулись. И дорога будто бы была короче. Разгрузились еще до обеда, и бойцы из моей хлебной группы, довольные, пошли в столовую.
Вскоре появился в кладовке пожилой писарь, принес свежую раскладку, и мы решили, пока взводных нет, развесить хлеб, чтоб потом выдать без задержки. Взяли первый взвод: одна горка буханок на весах, вторая... Потом одна дополнительная буханка к горке - много, без нее мало. Надо класть по полбуханки. Взял я хлеборезный нож, располовинил буханку и сразу услышал удивленный возглас писаря, а потом уяснил и сам, в чем тут дело: мякиш из буханки почти наполовину был выбран.
- Вы привал в дороге разрешали? - упрекнул меня писарь.
- Нет, что вы!.. Нигде не останавливались!
- Воды попить кого-нибудь отпускали?
Я вспомнил, что это было, но никто же не задерживался ни возле колодца, ни тем более, когда забегал в хату - нагонял строй в ту же минуту. Да и подумать грех, что кто-то из моей группы мог выдрать мякиш из чужой буханки.
- Давайте проверим весь хлеб! - предложил писарь.
Мы начали перекладывать буханки и прежде всего взвешивать их на руках. Нашли еще две буханки полегче. Приглядевшись, заметили на них малоприметные надрезы в нижней корке.
- Что будем делать? - спросил писарь, сняв очки и уставившись глубокими выцветшими глазами мне в лицо.
Я растерянно молчал. Это был такой гадкий и безжалостный "сюрприз" для меня, что я не знал, как на него реагировать, что делать, что сказать? Вдруг почти все мои хлопцы, с которыми я ходил за хлебом, начали представляться мне с набитыми мякишем ртами... Они шли и скрытно жевали... Давились, но жевали... Потому и молчали в строю, что жевали, жевали...
- Придется раскинуть недостачу на все взводы, - предложил писарь. - Ибо если недодадим одному взводу - будет ЧП, потянут в штаб полка. А так - на первый раз, может, и обойдется.
- Обмануть всех бойцов? - с возмущением переспросил я. - Чем же они виноваты?
- А кто виноват? Вы?
- Выходит, что я.
- Тогда отдавайте хлеб, верните недостачу! А где вы его возьмете?
- Соберутся командиры взводов, - начал я соображать, будто рассуждая сам с собою в поисках решения, - скажу им всю правду и покажу выеденные буханки.
- А что им до этого? Вам приказано доставить им хлеб, и вы должны выполнить приказ. А за невыполнение... Сами знаете.
- Отдам свою пайку, - начал я приводить аргументы. - Пообещаю, что верну съеденный в дороге хлеб...
- Получится, что вы сами его съели?..
* * *
Ночью действительно мне снилось, что я выдрал из свежей буханки мякиш и ел. Представлялось, что это мой мякиш, выданный мне на паек, и я сколько хочу, столько и ем. Вкусный мякиш, пахучий... Жую полным ртом, а он не уменьшается... Жую, глотаю, а он не глотается. И кажется - слышу, как жую. Наверно, все слышат, кто стоит возле меня... Они ждут, когда я дожую и выдам им хлеб.
- Хлеборез! - кричит кто-то возле кладовки. Я просыпаюсь, с болью в душе ощущаю, что никакого мякиша нет у меня в руках и во рту нет, а какое-то жевание я действительно слышу. Затаиваюсь и прислушиваюсь. Будто под моей лавкой кто-то что-то жует... Опускаю вниз руку и нащупываю мягкую и теплую шерсть телушки.
"Что она там жует? Наверно, хозяйка подложила чего-то на ночь... Пусть себе жует малышка..."
Очень захотелось есть самому: ни в обед, ни на ужин в столовую не ходил. Стыдно было показываться людям на глаза: кто поверит, что сегодня у хлебореза нет ни кусочка хлеба? Проще же так: людям недодал, а себя не обидел. Старшина Заминалов определенно так и думал, видно было по его глазам.
Сон в ту ночь оказался сильнее голода, и потому я вскоре заснул снова. Проснулся, как всегда, на рассвете, начал быстро собираться, чтобы сразу идти в пекарню, если не с бойцами, то одному. Даже лучше бы одному! И просить там кладовщика, а если надо будет, то и начальника пекарни, а то и еще кого-нибудь повыше... Просить от всей души, от сердца... Не отступать, пока не выпросишь, не вымолишь... Чего? Да всего того же, главного, что лежит на совести, что гнетет душу, омрачает, затемняет жизнь, - три буханки хлеба!
Протянул руку под лавку, чтобы взять свои сапоги, и снова нащупал мягкую шерсть телочки. Она не шевельнулась от моего прикосновения, наверно, спала, нажевавшись за ночь.
Писари тоже встали, молодой почему-то стал интересоваться, как я собираюсь и ищу под лавкой свои сапоги. А сегодня так и не под лавкой, а под теленком - писарь, наверно, знал об этом. Вытащил я свой сапог из-под теленка и еще не успел разглядеть его, как услышал громкий хохот молодого писаря.
- Чего ты? - удивленно спросил у него пожилой писарь, протирая очки. Сон смешной приснился?
- Не сон, а вон, - кивнул молодой на мой сапог, - теленку тоже жвачки не хватает!
Этот гладколицый самодовольный нестроевик хохотал во все горло, а у меня слезы на глаза набежали, когда увидел, что теленок сжевал голенище моего сапога. Да так сжевал, что за это место и взяться было нельзя развалилась кожа. Неужели и второй сапог такой? Вытащил, оглядел под несмолкаемый хохот писаря. Нет, другой сапог целый. Хватило теленку и одного голенища. Но мало радости: в одном сапоге не выйдешь!
- Замолчи ты! - крикнул на своего младшего напарника пожилой писарь. Совести у тебя нет. У человека горе, а ты!..
- Какое тут горе! - вдруг поджав губы, отчего лицо сразу стало злым, огрызнулся молодой писарь. - Вон без хлеба люди, так это горе! А тут... Подумаешь!.. Сапог теленок сжевал!.. Не съел же!
Пожилой писарь надел очки, подошел ко мне, взял в руки испорченный сапог и поднес к окну, которое уже заметно побелело и начало освещать писарский стол, заваленный разными папками и бумагами.
- Такого сапога теперь, пожалуй, нигде не найдешь, - уверенно сказал он, оглядев обувь и пощупав пальцами кожу. - Из дома еще, или как?
- В кавалерии выдали, - уточнил я.
- В кавалерии? - переспросил пожилой писарь. - Вы служили в кавалерии? Когда? До войны?
Я кивнул головой.
- О, там хорошо одевали, хорошо! Когда-то и брюки хромом обшивали.
Подошла хозяйка и тоже взяла в руки изжеванный сапог. Сморщилась горько, чуть не сквозь слезы заговорила, поглядывая под лавку, где лежал теленок:
- Ну кто мог подумать?.. Черт его надоумил... Разве я не кормлю его, не пою?.. Все же ночи там спал, под кроватью...
Хозяйка очень жалела своего теленка, но видно было, что теперь злилась на него и, наверно, побила бы, если бы он был хоть немного побольше. Меня тоже разбирала злость на эту бестолковую животину, но сдерживался из уважения к хозяйке, да и ничего же не сделаешь с глупым телком: разве он умышленно хотел нанести мне такой вред?
Между тем теленок будто чувствовал, что про него недобро говорят, вылез из-под лавки, стал напротив меня, широко расставив все четыре ноги, и глядел мне в лицо ласково и жалостливо. Ну как скажешь про него хоть одно плохое слово! Глядел на меня теленок и глядел молодой писарь. Он почему-то перестал хохотать: может, замечание пожилого напарника подействовало, а может, задело мозги и то, что я все-таки кавалерист и в противоположность ему, ограниченно годному, являюсь строевым командиром, хоть и после ранения. Для него это недостижимо. Невольно глянул я в его глаза, устремленные на меня, и в телячьи. И до волнения обожгла меня мысль, что в телячьих глазах больше искренности и доброты.
На улице было уже совсем светло, когда я вышел за ворота штабной хаты. С горечью поглядел на изжеванное голенище своего сапога. Оно уже не могло так гладко и плотно облегать ногу, как облегало раньше. Оно, правое, стало даже короче левого, потому что все сморщилось и осело.
Мне надо было срочно увидеть командира роты или хотя бы старшину, чтобы доложить им, что необходимо сейчас же идти в пекарню. Перед глазами докучливо вставал долговязый худой кладовщик, который всех своих клиентов называет на "ты", даже старших по званию. У него надо будет клянчить, просить... А что поделаешь?.. Где иначе достанешь хлеб?.. У кого?.. За что?.. Какой ценой? На все пошел бы, если бы зависело от самого!.. От собственного старания, домогания, даже подвига!.. Но хлеб есть только у долговязого кладовщика.
Снова, как и ночью, мне почудился запах свежего хлеба, снова все мое существо одолела забота о хлебе. И не для того, чтобы самому хоть попробовать его, так как уже забывался вкус хлеба, а чтобы сполна рассчитаться с теми, кому недодал на паек, снять свою вину перед ними. Рассчитаться и остаться чистым перед людьми... Смело глядеть каждому в глаза...
Из какого-то двора вдруг выскочила собака и пробежала по улице почти возле моих ног. Я отчетливо увидел, что у нее в зубах подгорелая корка хлеба, и по какому-то бессознательному рефлексу кинулся за ней. Собака помчалась наутек, а я, должно быть, долго бежал бы следом, если бы не встретился командир роты.
- Куда ты, Чаротный? Что с тобою?
- У нее хлеб! - механически промолвил я, останавливаясь. - Большая хлебная корка!..
Комроты подошел, молча подал руку:
- Голодаешь?.. Вижу, знаю... Себя моришь... И не виноват, тоже знаю!.. Так это я... А со всеми остальными как быть? Голова кругом идет...
Я доложил командиру о своем намерении сейчас же идти в пекарню, чтобы сегодня же погасить недостачу хлеба. Доложил также, что оставил у писаря рапорт о срочном направлении на фронт.
- С маршевой ротой? - переспросил Сухомятка.
- Да, с маршевой!
- Завтра приезжает представитель с Курской дуги, - безразлично глядя в землю, сообщил командир. - Из гвардейской дивизии. Но я тебя не включаю. Ты еще тут нужен.
- Прошу включить!
- Ты все обдумал?
- Все!
- Что-то я не помню, чтобы кто-либо просился туда добровольно.
- Если я первый, то тем лучше!
Сухомятка замолчал, тихо повернулся и пошел к штабной хатке, показав мне рукою, чтоб я шел рядом. Пройдя немного, заговорил:
- В душе я понимаю тебя... Строевой командир, старший сержант... Не тут твое место... Тем более в эдакой роли снабженца.
- Хлебореза, - уточнил я.
- Ну, хотя бы и так, - согласился Сухомятка. - Тут моя вина!.. Не нашел тебе соответствующего места во вверенном мне подразделении. Не все учел, продумал... А тут еще старшина такой шалопутный!
Вдруг он оживился, схватил меня за плечи и повернул лицом к себе:
- Слушай! Давай, знаешь, что сделаем?! Я назначу тебя старшиной роты, а Заминалов будет помощником. Пусть он хоть оторвется от своей зазнобы да покрутится, повертится насчет доставки хлеба. Посмотрим, как получится у него?..
- Не могу больше оставаться! - решительно заявил я. - А с хлебом тут всегда будет туго, пока нет транспорта. Голодный человек хуже собаки...
Старшина роты все же навязал мне группу бойцов с рюкзаками для доставки следующей выпечки хлеба. Поклялся, что удалось подобрать самых лучших, самых надежных, и назначил двух командиров отделений для непосредственного наблюдения за нагруженными рюкзаками.
- Все будет хорошо! - заверял старшина. - И ты свой рапорт забери назад. Успеешь еще стать гвардейцем!
Отказаться от группы я не мог, пошел с бойцами. Большинство из них были уже мне знакомы. Ни одному из них я ни разу не сказал плохого слова, ни в чем не попрекнул, однако почти все поглядывали на меня недружелюбно, будто бы таили какую-то обиду. Видимо, старшина их крепко накрутил.
"За что обижаетесь? - с горечью думал я. - Разве я ваш хлеб поедал? Хоть с какой-то малозаметной недостачей, но вы получили свои пайки. А я уже который день без хлеба... И не потому, что его нет или кто-то снял меня с довольствия!.. А просто из-за того, что кто-то из вас, может, и не из этой группы, съедал мою норму. И не скажу кто, не могу сказать!.. У всех у вас совестливые, умные лица, сурово и упрямо поджатые губы..."
Попытался я заговорить с хлопцами, но разговор не клеился. Вступали в разговор только командиры отделений, которые шли за хлебом впервые, остальные порой кивали головами, однако ртов для разговора не раскрывали.
"Чего же вы, хлопцы? - хотелось мне спросить. - Теперь же хлеба в рюкзаках нет! Вот если бы, идя назад, вы проявили такую выдержку!.."
Молчание в строю продолжалось и на обратном пути. Это устраивало меня, крепла надежда, что хлеба сегодня хватит на всех. Чтобы еще больше быть уверенным, я пошел на некоторую жесткость и запретил даже короткий привал, не разрешил также останавливаться у колодцев.
Развеску хлеба в кладовой сделал в присутствии командиров отделений. Двух килограммов все же не хватило.
Пришел пожилой писарь, с ним развесили еще раз. Действительно, есть недостача!
Что же это такое? Я же знал, что долговязый кладовщик принял во внимание мою искреннюю жалобу на постоянную недостачу и набавил немного на своих весах. Кроме того, дал пять буханок лично мне. Мои хлеборезные весы не могут так безобразно врать.
Снова пришлось оглядеть, ощупать каждую буханку. Тут с интересом и возмущением взялись помогать мне командиры отделений. И нашли две выеденные буханки. Внешне так умело замаскированные, что никакое зоркое око не заметит.
- Может, вы что-нибудь заметили? - спросил я у командиров отделений, уже не надеясь на свою наблюдательность.
- Нет, ничего не заметили.
Говорил я с людьми на этот раз без особой тревоги. И отчаяния в моем голосе не было. Что поделаешь? Наверно, есть в хлебной команде такие ловкачи, что не мне с ними справиться! Важно то, что теперь они не подрезали меня под корень, - своим собственным запасом я покрою недостачу и рассчитаюсь за прошлый вынужденный недовес. А что сам снова останусь без хлеба, так мне же не привыкать. Одно только мучило - как могли эти обжоры умудриться на глазах у людей выдрать из буханки мякиш и съесть его? Нигде же на этот раз не останавливались, никто никуда не отлучался из строя, никто, кажется, не вынимал хлеб из рюкзаков.
Это часто вспоминалось мне и позже и каждый раз оставалось загадкой.
Пообедав в столовой, я зашел в штабную хату, чтобы немного отдохнуть после "хлебного марша" и подготовиться к завтрашнему походу с маршевой ротой. Младший писарь поднес мне свернутый вдвое тетрадный листок бумаги.
- Что это? - спросил я, не беря в руки лист.
- Ваш рапорт насчет маршевой, - ответил писарь и сделал такую презрительную мину, что мне противно было глянуть ему в лицо. - Порвите, пока еще не зарегистрирован и не пущен в ход.
- Зарегистрируйте и пустите в ход! - резко ответил я. - Командир роты уже знает!
Рука писаря с листком в пальцах начала медленно, с испуганной дрожью опускаться, а лицо почему-то скривилось, глаза вылупились и круглыми диковатыми зрачками уставились на меня. Писарь не отходил.
- Может, действительно не стоит спешить, - подал голос пожилой штабист. - С хлебом у вас налаживается, а на фронте вы уже были. И кровь проливали. Пусть идут те, кто еще и не нюхал пороха. - Помолчав, он задумался, а потом тихо, будто про себя добавил:
- Тут, очевидно, и мы... Ваши соседи по ночлегу в чем-то виноваты... Чувствую это, а высказать не могу... Не получилась у нас единая семья, в одной хате. Хоть и причин для этого, кажется, не было.
- А телок? - вдруг спросил молодой писарь и в тот же момент, как клоун, сменил маску на лице, стал злым и язвительным. - Телок - основная причина!
- При чем тут телок? - неожиданно послышался возмущенный голос хозяйки (никто из нас и не знал, что в это время она стояла за печью и слышала наш разговор). - Телок, так он что?.. У него и разум телячий. А вот у тебя, Иван?..
"Умная и добросовестная женщина наша хозяйка! - с радостью подумалось мне. - Одно слово "Иван", и все стало на свои места. А могла бы не назвать молодого писаря... Никого не назвала - наверно, мы все ей одинаково надоели".
Молодой писарь не решился вступать в спор с хозяйкой, молча отошел от меня и положил мой рапорт в папку.
На другой день на рассвете, когда я собирался уходить в маршевую роту, хозяйка неслышно подошла к моей лавке, молча остановилась рядом, - я не сразу ее и заметил. Стояла с каким-то узелком в руках и сочувственно наблюдала, как я с большой осторожностью, чтоб не порвать окончательно, натягивал на правую ногу изжеванное теленком голенище своего сапога.
- Уже уходите? - грустно и, как мне показалось, даже с сожалением спросила женщина.
- Ухожу, - уверенно ответил я.
- Как же в такой обувке? - она глазами и чуть заметным движением руки показала на мой правый сапог.
- Да уж как-нибудь дойду, а там что-то найдется на замену.
- Так, может, тут заменим? - Она быстро развернула узелок и положила на лавку рядом со мною хорошие кожаные сапоги, густо смазанные жиром. Сама села тут же. - От моего остались. - продолжала горько и тяжело. - Мобилизовали в начале войны, и как получил там что-то казенное, то свои сапоги прислал домой. Давайте померяем!
- Спасибо вам! Пойду в своих, - отказался я. - Мужнины сапоги берегите, он еще сам вернется и сносит.
Женщина заплакала и прижала к лицу тряпочку, в которую до этого были завернуты сапоги.
- Не придет он уже, мой кормилец... Вон похоронка в ящике. - Она показала глазами на стол, на котором лежали разные казенные бумаги. Писари еще спали на своих лавках. А может, и не спали, но не шевелились и не подавали голоса. Глаза женщины были залиты слезами. Ничто так не волнует меня и не колет в сердце, как внезапные и искренние женские слезы. Потому, хоть и с боязнью, я посмотрел в глаза хозяйки. Может, впервые глянул, так как и она, как мне казалось, все это время, пока я ночевал на ее неудобной лавке, ни разу открыто не глянула на меня, а все будто отводила глаза либо смотрела куда-то в сторону. И невольно заметил теперь, что у женщины очень красивые глаза: светло-голубые, выразительные, чистые.
- Не отказывайтесь, - искренне просила она. - Вы же на фронт идете!..
Я отрицательно покачал головой.
Проснулся молодой писарь, поднял из-за стола голову. Хозяйка торопливо завернула в тряпочку сапоги и встала с лавки.
* * *
Командиром маршевой роты был очень молоденький лейтенант, наверно, только что с курсов. Очевидно, для того, чтобы выглядеть более внушительно при разговоре с подчиненными, иногда намного старше его самого, он как-то неестественно выпрямлялся и надувал губы, будто собирался затрубить. Из пехотной гвардейской дивизии, которая размещалась на Курской дуге, поблизости от станции Паныри, его прислали к нам в запасный полк, чтоб сформировать тут маршевую роту и привезти в один из полков этой дивизии.
- Вы тут хлеборезом были? - спросил молодой лейтенант, стоя боком ко мне и сурово надув губы.
- Очень недолго, - ответил я. - Всего несколько дней.
- А почему так? Почему сразу в маршевую?
- Я подал соответствующий рапорт.
- Что-нибудь случилось? Недостача?
- Нет. Все в порядке! Я с фронта сюда попал и хочу снова на фронт.
- Добровольно, значит? - Лейтенант немного повернулся ко мне, окинул взглядом с головы до ног. Губы его будто немного смягчились.
- Хотите, я назначу вас старшиной маршевой роты? Временно, конечно, на период нашего марша.
- Если вы спрашиваете о моем согласии, то скажу, что нет, - ответил я. - Пойду рядовым.
- Вы строевик? Кем на фронте были?
- Помкомвзвода.
- Будете тут командиром взвода! - придав голосу твердость, сказал молодой лейтенант. - Это - приказ!
Маршевая рота формировалась большей, чем обычная, боевая. Взвод также набирался большим. Когда собрались все новобранцы, мне пришлось построить первый взвод. Впервые за все свое пребывание в запасном полку я вспомнил про свой командирский голос, к которому меня приучали еще в кавалерии, и подал настоящую строевую команду. В глазах знакомых бойцов-хлебников заметил удивление: наверно, никто из них не думал, что хлеборез умеет командовать по правилам строевой службы. Во время хлебных и лесных походов я ни разу не подал строевой команды.
Бывшие хлебники глядели на меня несколько растерянно, а я на них проникновенно и с определенным интересом. Меня все время мучило, что мякишные выдиралы так и остались не выявленными. И как мне определить теперь, попал кто из них в мой маршевый взвод или ухитрился остаться на месте?
Я умышленно затянул стойку по команде "смирно", чтоб лучше разглядеть каждого бойца. Почему-то возникала и крепла надежда, что тут найду того, кто выдирал из буханки мякиш, все равно будто душу из моего тела. И если найду, то выгоню из строя: с таким человеком на фронт не пойду!
От моего подозрительного и, наверно, очень сурового взгляда некоторые бойцы опускали глаза, а некоторые смотрели на меня прямо и смело, даже довольно-таки нахально.
"Мякишники" тоже могут так глядеть", - подумалось мне. Это не простачки, не наивные обжоры! Наверно, была у них немалая практика запускать руку не только в хлебный мякиш...
Подошел молодой лейтенант, и я доложил ему о готовности взвода к маршу. Он ничего не ответил, а мне хотелось крикнуть ему в ухо, что надо поздороваться с бойцами и подать команду "вольно!". Вместо этого молодой лейтенант полез в свой планшет и вынул оттуда свернутую карту. Развернув ее, кивком головы подозвал меня.
- Вольно! - подал я команду взводу и приблизился к командиру.
- Вот маршрут! - тихо промолвил младший лейтенант и указательным пальцем стал водить по карте. - Запомните или лучше записать?
- Лучше запишу, - согласился я и торопливо расстегнул свою трофейную сумку.
- Вы пойдете в голове колонны! - приказал командир. - Мне положено замыкать.
На другой день нашего похода я почувствовал, что начинает болеть голова и мерзнуть ноги. Явление довольно знакомое, потому что раза два такое находило на меня до ранения. Сначала будто только слабость, легкий жар и небольшой озноб, а потом так затрясет, заколотит, что на ногах не устоишь. А вот в госпитале ни разу не было ни горячки, ни дрожи. Потому я смело отвечал врачам, когда спрашивали, чем болел: ничем!
- А все-таки? - начала один раз допытываться молодая фельдшерица, держа авторучку над большим разлинеенным листом. - А все-таки?.. Вы даже и насморком не болели?
На кончик пера ее авторучки набежала дрожащая капля чернил. Фельдшерица настойчиво глядела на меня, ожидая ответа, чтобы что-то записать на листе. А я следил за чернильной каплей, которая вот-вот упадет на бумагу.
- Так что? - повторила фельдшерица.
- Клякса! - невольно проговорил я.
- Какая клякса? - фельдшерица не догадывалась, так как не глядела на бумагу.
- Капля упадет, - уточнил я. - Пропадет ваша анкета.
- А-а!.. - спохватилась девушка, которая, несмотря на молодость, уже была лейтенантом медицинской службы. И форма на ней соответствующая, новенькая, хорошо подогнанная. Девушка покраснела, потому что не заметила предательскую каплю, схватила промокашку и уже больше не смотрела на меня.
- Так что? - с ноткой недоверия спросила она. - Так и оставим чистый лист?
- Ну, запишите хотя бы лихорадку, - предложил я.
Фельдшерица удивленно посмотрела на меня и еще больше покраснела, видно, от растерянности.
- Должно быть, лихорадка у меня была, - повторил я более определенно. Но это уже давно.
- Знобило вас? - неуверенно переспросила девушка. - Так, может, не лихорадка, а малярия?
- По-моему, лихорадка, - твердил я. - Трясло так, что зубы лязгали.
- Может, эпилепсия? - забеспокоилась девушка.
- Лихорадка, - сказал я твердо и уверенно.
Теперь, вспоминая давний эпизод, хотелось бы усмехнуться, но недоброе ощущение, что эта самая трясучка еще где-то таится у меня внутри, пугало и портило настроение. Я знал ее беспощадность и опасность. Ее нельзя переходить или перестоять на ногах, преодолеть за час или два. И приходит она, как великое зло и несчастье, в такое время, когда человеку и на минуту нельзя выбыть из строя, когда он находится на самом острие своей ответственности за большое дело. Пусть бы трясануло меня тогда, когда надо было идти на пекарню за хлебом! Пошел бы кто-то другой, скорее всего Заминалов, и тогда не одному мне пришлось бы мучиться за недостачу хлеба.
Теперь мой взвод идет головным... Идет на фронт. И кто знает, как там все будет? По словам командира маршевой роты, там со дня на день ждут наступления фашистской орды. А может, наши и опередят врага? Может, мой взвод прямо с марша бросят в бой. А я не в строю...
Хоть бы какое лекарство было при себе! Чем спасаться, как удержаться на ногах? С каждым километром мне становилось все хуже и хуже: я уже едва переставлял ноги. Казалось, что если бы упал вот тут на дороге, то уже и не встал бы. Весь свет туманился в глазах, бойцы взвода представлялись какими-то безликими метущимися существами.
На коротком привале у придорожной деревни я сел на скамейку возле сухого плетня и сразу свалился: трясучка охватила все тело, зубы стучали так, что даже на расстоянии было слышно.
Подошел командир роты.
- Что с вами? В чем дело? - Губы со светлым пушком под носом как всегда надуты, а в глазах тревога, юношеская растерянность. - И пот с вас льет... Я пришлю санинструктора.
...Мне тогда представилось, что пришла ко мне та самая фельдшерица, которая когда-то в госпитале заполняла мою историю болезни. Девушка вынула из санитарной сумки градусник, расстегнула мне гимнастерку.
Пока измерялась температура, молодой лейтенант болезненно морщил лоб, видимо, что-то обдумывал самостоятельно, не надеясь на помощь санинструктора. Мне показалось, что у него лоб очень большой и желтый, как спелая тыква.
Из потемневшей от времени хаты, стоявшей за плетнем и только двумя кустами георгинов заслонявшейся от улицы, вышла пожилая женщина в вязаной кофте, в теплом платке, но босая - ноги запыленные до самой юбки. Молча стала возле скамейки, сложив на груди руки...
Санинструктор вынула у меня из-под мышки градусник, подняла его, как свечку, выше головы и удивленно заморгала темными от усталости веками.
- Почти критическая... - шепнула командиру роты. - Я и не знаю, что это!..
- А что же тут знать? - вдруг отозвалась женщина в кофте. - Каждому видно, что трясучка это! Трясца!.. У нас тут все дворы перетрясло!.. Человека укрыть надо потеплее, одеялами, чтоб выпотел, выпарился... А потом еще есть средства... Наши, местные...
- Так, может, вы, тетечка, помогли бы нам? - обратилась к женщине санинструктор.
"Бабушка", - чуть слышно прошептал молодой лейтенант, но, поглядев на женщину повнимательнее, вслух не повторил. Лицо его посветлело, с губ исчезла надутость, а глаза искренне и открыто потеплели. С этой теплотой он начал глядеть на хозяйку хаты и ждать ее ответа.
- Как же не помочь человеку, если он в беде? - сказала хозяйка, не ожидая, чтоб ее просили, уговаривали. - Давайте перенесем его в сени, там у меня кровать в уголке.
Бабка или тетка, этого я и потом хорошо не выяснил, накрыла меня сначала кожухом, а поверх еще двумя, а может, и тремя одеялами. И вся эта одежда долго ходуном ходила на мне от дрожи. Командир роты затянул привал на сколько мог... Конечно, делать этого он не должен был, но, наверно, шел на риск. Знал, что оставить меня у чужих людей не имеет права, а сдать на руки медикам не было никакой возможности. Где они, эти медики?.. Где транспорт, чтоб отвезти больного в какой-нибудь госпиталь?.. Второй раз зашел в сени, когда мне уже стало немного легче. Сел на кровать рядом с санинструктором, надул губы - вероятно, собирался отдать какой-то приказ.
Слушайте! - заговорил он со мной тихо, но уверенно. - Обстановка складывается так, что я вынужден оставить вас тут... Другого выхода не вижу... Но приказ будет такой, чтоб вы самостоятельно явились на место назначения.
- Есть явиться на место назначения, - едва ворочая языком, повторил я. - Если можно, то запишите мне номер части.
- Запишу! - подхватил мою просьбу командир роты. - И сам распишусь... Поручусь сам!..
- А с теткой я договорилась, - добавила санинструктор.
Как только военные вышли из сеней, ко мне подошла хозяйка и тоже, сев на край кровати, ласково спросила:
- Ну что, солдатик, уже душно стало?
- Очень душно, - пожаловался я. - Может, снять с меня кожух или хоть одно одеяло?
- Нет, милый, ничего не будем снимать, - возразила сердобольная хозяйка. - А что потеешь, так это к лучшему... Колотить не будет... Жажда одолевает?
- Очень!.. Все внутри сохнет...
- Сейчас я тебе кислого молочка принесу... А потом травки заварю... Корицы... Лежи спокойно, как дома... Давно не был дома?
- Ой давно, тетя, очень давно!..
- Я, наверно, бабка тебе... Не тетя, - возразила хозяйка. - Тебе сколько годков?
- Да уж скоро три десятка наберется, - признался я. - Старый уже!..
- До старости-то еще далеко, - не согласилась хозяйка. - Но твой командир, видать, моложе?.. У тебя, наверно, броня была?
- Нет, я служил и до войны.
- Далеко матка твоя или кто из родных?
- Далеко отсюда... В Белоруссии...
И дальше я не мог говорить... Хотел скрыть от хозяйки, что мне вспомнилась мама, представилась родная хатка с такими же, как тут, сенцами... И неожиданная горькая тоска сжала мне дыхание. Женщина все же заметила это, сочувственно, с нежностью заговорила:
- Ты не тоскуй очень, не переживай!.. Я понимаю, что в одиночестве да еще больного берет за душу отчаяние. Но не доходи до этого... Держись!.. Тут для тебя тоже не чужие люди... Я не оставлю тебя, пока не поправишься...
Вскоре я заснул, и, видимо, крепко, потому как за последнее время плохо спалось мне в запасном полку и особенно в прошлую ночь в дороге. Проснулся я в испуге от сильного взрыва за стеною сеней. За той стеной, возле которой впритык стояла моя кровать. Сердце колотилось от неожиданной тревоги, от неизвестной причины, ибо дрожи и жара у меня уже не было. Что случилось? Неужели бомба упала неподалеку или вражий снаряд долетел? Прислушался, не слышно ли чего вокруг? Нет, всюду тихо, спокойно, и ранний летний рассвет бодрыми лучами, как бы животворными струйками, вливается в закрытые со всех сторон сени. Находит щели где-то под потолком и проникает сквозь темную занавеску окна. В углу поскрипывает сверчок. Он и до этого поскрипывал - я слышал его. Но неожиданного взрыва, видимо, и он испугался, на какое-то время замолк. Вскоре снова начал свою однообразную, но не скучную для меня песню.
"Очевидно, ничего плохого не случилось, если сверчок не затихал надолго. Обычно он чувствует тревогу и особенно близкую опасность".
Потом мне подумалось так: "Полежу еще немного, подожду, послушаю. Если взрыв не повторится, то, значит, что-то случайное произошло, местное. Если же снова громыхнет поблизости, то надо будет звать хозяйку и дознаваться, что тут происходит".
Открылась дверь со двора и впустила в сенцы целую волну свежего воздуха и яркий, широкий, как мне показалось, очень веселый и бодрый луч солнца. Я даже глаза зажмурил. А потом увидел, что в сени вошла хозяйка, как и раньше, босая, в вязаной кофте, но без платка, с собранными в большой седой пучок волосами. Это ее молодило и как-то сразу бросилось мне в глаза. А еще заинтересовало, что женщина, тихо приближаясь ко мне, виновато и стыдливо улыбалась и время от времени поглядывала на какие-то черепки, которые держала в обеих руках.
- Ну, как вы? - спросила, увидев, что я не сплю. После того как узнала, что я уже не так молод, перестала звать меня на "ты", хоть мне это и не очень импонировало: пусть бы звала, как и в первые часы, солдатиком, принимала меня, как молоденького.
- Что это бухнуло так сильно? - вместо ответа спросил я.
- Очень испугались?
- Не очень, но сильно вздрогнул... Может, бомба, может, еще что?..
- Да нет... - еще свободнее и веселей засмеялась женщина и выставила передо мною руки с черепками. - Все, слава богу, спокойно у нас... Тихо... Это я разбитым чугуном стукнула в вашу стенку, чтоб испугать вас. А когда человек испугается, то и трясучка отступит... Мы всех так лечим.
Хозяйка не скрывала своей довольной усмешки. По ее глазам я заметил, что она рада своей выдумке: чугун разбился здорово, получился довольно сильный неожиданный взрыв, который испугал больного, значит - теперь пойдет на поправку. А когда в ответ ей я благодарно улыбнулся, женщина залилась довольным смехом, подсела ко мне на кровать и со звонким бряцаньем высыпала себе на подол чугунные черепки.
А почему мне захотелось радостно улыбнуться? Во-первых, приятно было услышать, что вокруг все тихо и спокойно. А потом - интересная новость для меня, такой способ лечения...
Посмотрев на тяжелые осколки в подоле у хозяйки, я со смехом посочувствовал:
- Большой чугун разбили... Наверно, нужный?.. Жаль...
- Так он был уже треснутый... Отварил свое.
- Оплести его проволокой, то и еще бы варил.
- Где такой проволоки тонкой да гладкой теперь найдешь? - спокойно возразила хозяйка. - Только колючая всюду. Да и оплетать у нас никто не умеет.
Мне вспомнилось, как когда-то у нас дома даже старый глиняный горшочек не пропадал: если давал трещину, то отец просиживал над ним до рассвета и умело оплетенная посудина снова шла на припечек.
- Я и целого чугуна не пожалела бы для такого дела, - тем временем добавила женщина. - Еще... Пускай только стемнеет... Я пошепчу на воду и дам вам напиться... Это тоже помогает... Только если вы смеяться не будете.
- Не буду, - пообещал я.
Уже не первый раз мучил меня такой поганый приступ, и я знал, что он поколотит, помучает и пройдет, но не хотелось обижать женщину и отклонять ее искренние старания помочь мне.
- Вы, наверно, есть хотите? - заботливо спросила женщина, вставая с кровати.
Я немного подумал, представив, что я могу тут поесть, и сказал, что не тянет меня пока ни на какую еду.
- А если я вам блинчиков яичных напеку? У меня немного муки есть. Блинчиков, свеженьких, со сметанкою... А?
Этого я уже давно не пробовал. Даже при горячке теплые блинчики вряд ли бы показались невкусными. Да еще со сметанкою... Я промолчал.
На другой день рано утром оказалось, что мне и в самом деле стало намного лучше. Я встал с постели, вышел во двор, однако почувствовал, что ноги у меня как чужие.
- Куда это вы? - послышался из-за хаты голос хозяйки. - Еще рано вам вставать... Рано!.. Еще денька два... А тогда провожу!..
Женщина замолчала, опустила подол над мокрыми от росы ногами... Видимо, пропалывала что-то в огороде. Опустила и глаза с дрожащими веками: что-то взволновало ее. Я стоял, ждал, что еще скажет женщина. И она добавила:
- Как своих когда-то провожала... Всех проводила: сынков - сначала одного, потом другого... А вот недавно и старого своего... В обоз взяли... И одиночество, пустота теперь у меня... До того скучно становится, что плакать хочется... Страх какой-то одолевает, ужас... Раньше мух из хаты выгоняла... Летом... Как все люди... А теперь не выгоняю... На рассвете начинают гудеть, так мне веселей становится - все не одна в хате...
В день моего ухода хозяйка испекла яичную запеканку и еще горячую положила мне в рюкзак. В дороге я чувствовал ласковое тепло на спине. И не душное оно было, не изнуряющее... Запеканка была в том самом рюкзаке, в котором недавно я носил хлеб из военной пекарни. Та ноша утомляла, под конец дороги становилась удручающе тяжелой. И каждую минуту напоминала о том, что ни одной крошки от этой тяжести сам не получишь, так как при развешивании определенно снова кому-то хлеба не хватит.
Теперь я уже не хлеборез... Теперь у меня и ножа никакого нет, даже перочинного...
- Захочется есть в дороге, то отломите с краешка... - наказывала хозяйка. - Запеканка пухлая - я в тесто кислого молочка подмешала и немного соды.
Хозяйка проводила меня до конца улицы. Прощаясь, горько заплакала, закрыла лицо уголком белого платка.
- Может, будет возможность... Может, бог приведет...
Я понимал, что ее слезы и эти слова обращены не ко мне: думает она и тоскует по своим родным. Но и мне было как-то особенно тепло и умиленно на душе. Уже в который раз вспомнилось, что моя мать не могла проводить меня на фронт... Она и теперь не знает, где я и что со мною... К сожалению, и я ничего не знаю о ней...
- Может, будет возможность, может, бог приведет... - повторила женщина. И добавила: - Так не минуйте мой куток... Не забывайте старую, одинокую...
* * *
Полк уже вел бой, когда я заявился в его штаб.
- В первый батальон! - приказал помначштаба, даже не глянув на мои документы и не выслушав до конца мой рапорт. - Там расскажешь!
Но там и вовсе не было времени ни мне рассказывать, ни им выслушивать мое объяснение. Из батальона послали в роту, из роты - в тот взвод, который должен был вот-вот выползти на пополнение самой передовой линии. Там наседали вражеские танки.
- Сними рюкзак! - услышал я команду за своими ногами. Оглянулся, увидел, что за мною ползет молодой лейтенант, и на какой-то момент показалось, что будто тот самый, который был командиром маршевой роты. Только голос, кажется, не тот.
- По рюкзаку будут бить, - уточнил молодой лейтенант, наверно, командир взвода.
Приказ надо выполнять, но как его выполнить?! Не знает же командир, что в моем рюкзаке дорогая и заветная для меня поклажа - половина той запеканочки, которую испекла мне хозяйка. Будто материнский подарок... Будто материнская защита от всех бед и несчастий...
- В траншею слева! Марш! - подал взводный команду.
И я выполнил последний приказ.
В траншее несколько бойцов лежали в проходе и все в таких позах, что лица их я не видел. На одного нечаянно наступил, заваливаясь на дно траншеи, но он не подвинулся и ничего не сказал. В том небольшом отсеке, на который я посмотрел в первый момент, стоял возле бруствера только один боец и держал в руке связку гранат.
- Видишь? - спросил он, когда я стал рядом. - Снова прут!.. Будто знают, что у нас тут самый слабый участок.
- А что с хлопцами?.. Раненые или эдак используют передышку?
- Используют! - с обидой промолвил боец и отвернулся от меня. - Была тут когда передышка?.. Это тебе не в запасном полку!
- Откуда известно, что я из запасного?
- Рюкзак за плечами!.. С хлебом...
- Как ты догадался, что с хлебом?
- По запаху чую! Бери гранаты, связывай!.. Вон в нише!
С нашего тыла ударила артиллерия, снаряды начали рваться возле вражеских танков, и они будто приостановились. Боец отвел взгляд от поля боя и внимательней посмотрел на меня.
- Видать, не мне вам приказывать, - немного смутившись, сказал он, - а вы тут будете командовать. Наверно, за командира взвода присланы?
- Нет. За рядового, - ответил я. - Так что можешь приказывать, тебе виднее, что тут надо делать.
Боец еще раз окинул меня взглядом с ног до головы и недоверчиво спросил:
- За что вас в рядовые?
- Ни за что, - спокойно ответил я. - Трясучка схватила в дороге, так отстал от маршевой роты... Теперь пришел и сразу сюда.
- Подоспели вовремя, - тяжело вздохнул боец. - Вы один тут?
- Почему один? Целый взвод скатился в траншеи... Немного правей отсюда. А ваш командир где?
- Хорошо не знаю, - смутился боец. - Давно его не слышно, может, тут, свободной рукою боец показал на дно траншеи, - или раненый выбыл, не успел я заметить: все с гранатами стою. Пэтээровцев среди вас нет?
- Не видно было.
- И противотанковых гранат нет?
- Не видел. У меня нет. Их вообще, может, не выпускают.
- Выпускают! - возразил боец. - Я слышал от кого-то, когда в обороне тут стояли. Не с бутылками же идти на танки!..
- Связками будем, - не очень уверенно пообещал я. - Хорошо, что обычные гранаты есть.
- Ими надо только попасть под гусеницу, - уточнил боец. - Трудно нацелиться...
- А вот же лежит подбитый "тигр".
- Так и боец наш там лежит, - мрачно сообщил мой сосед. - Я бросил связку... Громыхнуло, заслонило все пылью и дымом, а танк идет - по скрежету слышим. Тогда Степан, напарник мой по пулемету, выскочил из траншеи и подполз под самую гусеницу...
Потом мы оба какое-то время не могли разговаривать: сосед мой сделал вид, что старательно вглядывается во вражеские танки, а я начал шарить глазами по тому месту, где погиб Степан. В глазах туманилось... Наверно, у нас обоих...
- Давно стоишь тут? - улучив момент, когда боец немного отвлекся от наблюдения, спросил я.
- С рассвета, - ответил сосед. Голос уже не тревожный, твердый. Сначала "юнкерсы" пикировали почти на самые окопы, а потом атаки танковые... Вот уже третья надвигается... Держимся потому, что наши сорокапятчики молодцы: много "тигров" и "пантер" подбили. Мы из пулеметов, а ближе и из автоматов живую силу ихнюю уничтожали. С гранатами шли только на тех, что прорывались и перли прямо на нас...
- Наши тут погибли от снарядов? - будто новичок на войне, спросил я.
- Били прямой наводкой, - пояснил боец. - Из пушек и из крупнокалиберных пулеметов. Почти весь бруствер разрушен. И пулеметы наши... Мой "максим", а у ребят "Дегтяревы" - тоже выведены из строя. Только гранат немного осталось... Хоть и засыпанные были... Откопали, когда ребят своих откапывали.
Я протянул руку в нишу и на ощупь определил, что гранат там еще много.
- А чем их связывать? - спросил я, хоть и понимал нелепость такого вопроса. "Связывай чем хочешь! - мог ответить мой сосед. - Мозгуй сам! Рви на полосы свой рюкзак!.."
Однако боец ничего не сказал. Он вынул из кармана штанов две веревочки, скрученные из поскони, и молча протянул их мне. Я быстро, без заминки, хотя делал это впервые, связал две связки ручных, противопехотных гранат, положил их на край бруствера, наиболее уцелевший.
- Свяжите побольше! - не то приказал, не то попросил боец и подал мне еще несколько веревочек. - Да постойте минутку за меня, пока можно. У меня уже ноги подкашиваются. - Он сел на желтый песок у стенки траншеи и вытянул ноги в желтоватых от песка кирзовых сапогах. Спиной прижался к стене траншеи и откинул голову, пилотка от этого надвинулась на глаза. Я заметил, что его веки сомкнулись раньше, чем закрылись пилоткой.
- Есть хочешь? - тихо спросил я.
Боец ничего не ответил и не подал никакого знака: ни отказа, ни согласия. Однако когда я поднес ему кусок запеканки - взял, сдвинул с глаз пилотку.
- Спасибо вам, - промолвил сдержанно, но видно было, что от души. - А себя не обидели?
Я выставил руку с таким же куском.
- Если успеем это съесть, - шутливо проговорил боец, - то еще повоюем!
- Успеем! - заверил я. - "Тигры" чего-то приглушились, боятся наших пушек.
Набив полный рот запеканкой, я положил остатки в нишу, рядом с гранатами, чтоб освободить руки для важной и неотложной работы - подготовки связок гранат. Перед тем как откусить еще раз, забыл подуть на кусок и сразу почувствовал на зубах песок. Однако вкус от этого не изменился.
Что важнее было в эту минуту для моего соседа - подкрепиться или поспать - трудно было определить. Мне казалось, что он жаждал и того и другого. Пилотка снова надвинулась на глаза, но свою долю запеканки он из рук не выпускал и откусывал от нее часто, будто боясь тратить время на разжевывание.
С вражеских позиций послышался раскатистый гром недалеких залпов, и снаряды прогудели над нашими головами. Потом залпы повторились, но мы уже не вслушивались в них, а с тревогой следили, на сколько можно было уловить на слух, где падают вражеские снаряды, не нащупали ли они наш передовой рубеж?
- По артиллерии бьют! - уверенно сказал мой сосед. - Наши сорокапятки хотят подавить. Значит, танки пойдут снова.
Говоря спокойно, боец с такой поспешностью доедал свой кусок, что меня охватила тревога и невольное ожидание чего-то очень опасного. В то же время хотелось снять с плеч свой рюкзак и выдать соседу добавку.
...Руки мои дрогнули от мощного близкого взрыва. Больно резануло в глаза песком, дыхание перехватило, будто заткнуло отравленной горечью. Протерев рукавом глаза, увидел у своих ног недоеденный кусок запеканки. "Мой это или соседа?" Вскоре почувствовал, что мой в руке. Глянул на соседа: он еще больше привалился к стене окопа и будто отдыхал. Отдыхал, но не жевал... Я кинулся к бойцу и заметил, что с его правого виска сочится кровь...
Мне хотелось бы рассказать по порядку, что дальше было с нами обоими, особенно с моим соседом, но, к сожалению, не могу этого вспомнить: вскоре я и сам был без сознания. Очнулся я в маленьком блиндажике, по всем углам заставленном телефонными аппаратами. По командам капитана, который там был, я понял, что это пункт связистов. Капитан беспрерывно держал возле уха трубку, принимал сообщения, приказы и сам приказывал, не бросая трубки: посылал своих связистов то туда, то сюда на исправление проводки. Заметив, что я очнулся, приказал:
- Не медли, сержант! Если можешь хоть немного шевелиться, то давай жми в медсанбат! Тут лощинкой проползешь!..
"А как я попал сюда?" - хотелось мне спросить у капитана. Он будто почувствовал это и сказал сам:
- Несли тебя санитары, контуженного. Да не донесли... Тут такое началось... И лучше не дожидаться ночи... Может быть еще хуже...
Я потянул к себе свой рюкзак, собираясь выполнить приказ капитана, но он вдруг остановил меня:
- Подожди! Автомат оставь тут! Нам потребуется! Винтовку возьми!.. Вон стоит у входа.
Винтовка показалась мне такой тяжелой, и чтобы вскинуть ее на плечо, нечего было и думать. Разве только волочить рядом с собою по траве.
Я так и сделал. Выбравшись из блиндажа, пополз по зеленой канавке, видимо, единственному пути сообщения для связистов. Винтовку, как жердину по воде, тащил за собою. Куда вела сухая канавка, не знал, только чувствовал, что куда-то дальше от передовой линии. Встретил связиста с катушкой телефонного провода за плечами. Прежде чем разминуться, спросил, куда ведет канавка.
- Куда ведет, туда и приползешь, если не прихлопнет миной! подозрительно отозвался связист. - А ты что, ранен?
- Рана, наверно, не тяжелая, - надеясь на сочувствие, ответил я. Левая рука не действует. А вот контузия... Едва очухался в вашем блиндаже.
- А-а, так это ты? - догадался связист. - Видел тебя!.. Рядом с офицерской каской лежал... Наши еще там?
- Были там... Но сколько времени ползу, не могу определить: в глазах желтизна и в голове страшно шумит.
- Ну ползи, ползи! - промолвил связист. - Там впереди - вода... Но остерегайся, не высовывайся!.. Прихлопнут сразу! Тут они прорвались в одном месте... Поставили пулеметы с фланга... Каска трофейная у тебя откуда?
- Не знаю. Должно быть, наши надели, когда потерял пилотку.
- Ну ползи, ползи!.. Хорошо, что головы не потерял!.. Патроны есть?
- Не могу проверить... Одна рука...
- Давай сюда!
Связист почти вырвал у меня винтовку, энергично лязгнул затвором:
- Есть обойма! Мало. Дать еще одну?
- Спасибо! - И засунул обойму в верхний карман гимнастерки и пополз дальше.
- Ну, держись! - крикнул связист вдогонку.
"Наверно, показался ему ненадежным, - подумалось мне. - Очень растерянный, нерешительный... Волосы потные, слипшиеся... И рюкзак за плечами, будто торба с пастушьим завтраком..."
Представил себя таким, и вдруг тяжко и противно стало на душе: "Может, и действительно мне только в кладовке стоять да хлеб развешивать. Будто и не воевал я раньше, не был под Барвенковом и под Ростовом, не занимал оборону возле домика Шолохова в Вешенской, не ранен в боях под Сталинградом".
Перебитое плечо стало болеть сильнее, может, от тревожных мыслей. Левая рука совсем отказывает, нельзя даже пальцами пошевелить. Вся нагрузка на правой: и перевязь винтовки, и подбородник немецкой каски. "Смогу ли стрелять одной рукой, если потребуется?"
Снял каску с руки и надел на голову. Маскировка? Для вражеского снайпера, может, и так: тут действительно уже могут быть и немцы. А для пушки или миномета - разбора нет: вражеская территория, и все. Низина насквозь перекопана снарядами.
Вот и тот ручеек впереди, про который говорил связист. Его надо переползти, а может, переплыть, не высовываясь на поверхность. Как переправлялся связист - его дело. Может, он и не лазил на ту сторону ручья. А может, это болотце, а не ручеек?
Когда я подполз совсем близко к воде, потянуло влаж ным холодком. На теплых бережках водоемчика ползали пчелы. Они находили тут какую-то поживу для себя. Если они пьют такую воду, то можно и мне... Потянул немного из-под кочки и ощутил во рту что-то теплое и мыльное... "Нет, не родник это!"
Переползать все равно надо. Рискнуть, перебежать берегом? Так пули, осколки от снарядов и мин не свищут. Видно, прорвались танки в наш фланг. Стоят на наших позициях и перерезают дорогу пулеметным и пушечным огнем. Чувствуется, что далековато стоят, так как "смолят" из всех видов оружия без особого прицела - снаряды рвутся по всей низине, разрывные пули крупнокалиберного пулемета трещат в сухой осоке и кустах лебеды по всей тыловой площади. Вражеские минометы также бьют издалека, перенеся огонь с наших позиций, иначе уже можно навредить своим. Ручейка минометчики не видят и пока что не нащупывают его. Если же хоть немного высунуться из этого единственного тут укрытия, то наводчики засекут и тогда не спасешься.
Надо как можно быстрее вырваться отсюда... И вперед, только вперед, хотя взрывы слышны и там. Попасть в плен страшнее, чем погибнуть. Прикрывшись своими пушками, могут ринуться сюда вражеские автоматчики, и тогда как отобьешься от них одной рукою и только с двумя обоймами.
...Всплеснула вода. Мне послышалось, что передо мною, но слуху своему не поверил: это, наверно, подо мною, когда перекидывал винтовку на плечи, чтоб не намочить затвор. Снова что-то плеснуло. Действительно, передо мною я поднял голову и посмотрел вперед. Этим же ручейком навстречу мне ковылял, пригнувшись, парень в нашей форме, но без всякого головного убора и без оружия. Кисть одной руки замотана каким-то тряпьем.
- Ложись! - очевидно, подчиняясь инстинкту самосохранения (боец демаскирует ровик), скомандовал я больше взмахом руки, чем голосом, и наставил на него винтовку. Тот послушно лег в лужу, только перевязанную руку держал над головою: то ли спасал ее от влаги, то ли подавал знак, что сдается в плен.
- Плыви сюда! - показал я дулом винтовки.
Парень начал старательно упираться свободной рукою в зеленый склон ручья и приближаться ко мне. Глаза его дико испуганно уставились на дуло моей винтовки, и безвольное, как бы парализованное тело будто само плыло к страшно темному и бесконечно глубокому придонью смертоносного ствола. Когда-то я слышал от людей, что, мертвея от глаз удава, кролик сам ползет навстречу своей гибели. Не случалось видеть такое, а вот теперь почему-то вспомнилось.
- Ты куда? - грозным шепотом спросил я у парня.
Его глаза вдруг взволнованно заморгали, и в них я уловил искру радости.
- Вы разве наш?.. Советский?..
- А ты чей?
- У вас каска немецкая... И карабин...
- У меня винтовка! Марш вперед! Передо мной!
- Так там уже немецкие автоматчики!..
- Марш! - прикрикнул я и погрозил винтовкой. - И не вздумай дрейфить!.. Пристрелю!..
Парень опустил перевязанную руку, шустро повернулся ко мне ногами и, опираясь локтями на беловатую от влаги поросль, стремительно пополз, почти поплыл туда, где, по его словам, шныряли вражеские автоматчики. Я едва поспевал за ним. Вода в ручье была теплая, и хоть ощущалась она только животом и коленями, все же увеличивала опасность: может, где яма впереди или невзорванная мина. На суше не всегда заметишь, а под водой и подавно.
Мною задержанный паникер, видимо, не думал об этом и загребал впереди во всю свою мощь и без всякой предосторожности. Конечно, у него было преимущество в том, что он уже разведал этот ручеек. Насчет вражеских автоматчиков впереди я верил и не верил. Если он меня принял за немца, то ему могло и до этого что-то померещиться: "у страха глаза велики".
Вдруг мой "пленник" остановился и, погрузив неперевязанную руку до самого локтя в воду, оглянулся на меня. В этот же момент будто над самым ухом громыхнуло сразу несколько взрывов. Еще не прошел звон в ушах, как взрывы повторились еще ближе, еще сильнее.
- Наши "катюши"! - крикнул мой пленник, и в его голосе я услышал неподдельную радость.
"Чего радуется? Эти снаряды могут упасть и на нас". Но мне и самому стало радостно. Хотелось ответить на бодрый вскрик соседа еще более ободряющими словами и простить ему, может, только мгновенную слабинку или растерянность, стало стыдно за излишнюю подозрительность. Ведь оба же мы почувствовали, что враг дальше не пройдет, что откатится назад со всеми своими "тиграми" и "пантерами". Одновременно почувствовали.
Зацепит ли нас снаряд, меня или его? Но, видимо, хватит одного и на двоих. Всего два осколка потребуется, чтоб остаться тут нам обоим. Остаться навечно. Тем более что по несколько осколков в нашем теле уже есть. Вражеских, конечно. А тут свищут возле ушей свои осколки и тоже угрожают смертью. Неужели и так можно умереть?..
Был случай в моем фронтовом прошлом, что вызывал я огонь артиллерии на вражеские позиции, которые находились совсем близко от нашей обороны. Дал точные координаты, а наводчик немного не рассчитал и ударил по нас самим. Помню, тогда я испугался, страшно было ждать смерти от своих снарядов. Теперь почему-то не страшно - крепнет уверенность, что свой снаряд не тронет своего человека, а будет уничтожать только врага.
Видимо, так же думает и мой спутник. Как солдат, наверно, не первого года службы, он понял, что надо как можно скорее выбраться из огневой зоны, и потому двинул по канавке так, что брызги начали подниматься от движения его рук. Уже и бинта на руке не было видно, наверно, стал грести и раненой рукой. Я с трудом поспевал за ним... И всем существом чувствовал, как содрогалась земля от взрывов наших снарядов...
"Братки наводчики! Немного подальше возьмите! Подальше! Вражеские танки за нами... Те, которые мы не смогли подбить!.."
* * *
Вторично потерял я сознание в медсанбате. Очевидно, вскоре после того, как меня туда доставили, - услышал, как сквозь сон, что кто-то нараспев сказал:
- Запа-а-сливый!.. Пиро-ожок в рюкзаке!.. - Голос женский, сочный, молодой.
- И винтовка при нем была, - добавил кто-то из мужчин. - Не только пирожок.
Когда раскрыл глаза, то сразу увидел перед собою поднятую вверх руку с мокрой перевязью - еще не успели сменить бинты. По этой руке узнал своего "пленника", он сидел на койке напротив. Заметив, что я удивленно и подозрительно гляжу на него, потянулся ко мне, наверно, собираясь что-то сказать, но в это время в дверях палаты послышался бойкий, почти детский голос:
- Иванов! На перевязку!
Потом такие же бойкие и частые шажки остановились возле моей кровати, и я увидел девчонку на вид действительно школьного возраста, но, возможно, немного постарше.
- Вы сами сможете идти, Иванов? - спросила она у моего соседа.
Тот смерил глазами худенькую, слабенькую фигуру, чуть ли не вдвое обернутую белым халатом, и ласково усмехнулся:
- А если не смогу, тогда что?
- Помогу! - уверенно сказала девчушка.
- Дойду, дойду! - уверил Иванов и встал с постели, видимо, умышленно выпрямился во весь рост, чтоб показать, что девушка ему и до подмышек не доросла, и сколько таких школьниц потребовалось бы, чтоб тащить его на носилках!
Вернулся Иванов с белой повязкой на шее, опущенной до живота, а в этой повязке лежала туго и гладко забинтованная рука. Парень прижимал руку к животу, плотно обтянутому свежей рубашкой, - а глядя на него сбоку, можно было подумать, что у человека заболел живот. На лице не замечалось страдания: наверно, рана была поверхностная, особой боли не причиняла, и рука его только щемила от йодовой прочистки.
Помутился у парня взгляд только тогда, когда он, опершись правым локтем на подушку, стал глядеть на меня. Смотрел настойчиво, долго не отводил глаз, будто пронизывал меня своим взором. Я пока не реагировал на это и не показывал вида, что чувствую его взгляд. Интуитивно догадался, что Иванову не по душе мое состояние. Возможно, слышал перед этим, что врачи шептались возле меня довольно тревожно и один из них безнадежно покачивал головой.
Этот шепот врачей над моей головой уже немного слышал и я, но не мог разобрать, кто где шепчет и о чем. А сосед вслушивался в слова врачей и, наверно, больше их хотел узнать мою судьбу. Если человек не проснется, то вместе с ним навечно канет в воду и все то, что недавно произошло в зеленой канавке.
И вот мы оба в одной палате.
Для меня вопрос, как я попал в госпиталь, пока что был густым темным туманом, как даже частично и то, что было до залпов "катюш". Только чувство радости сохранилось, оно и теперь еще в сознании: "Хоть и глухота в ушах от своих снарядов, лишь бы победа была завоевана!"
Иванов встает, садится возле задней спинки своей постели, ближе ко мне, и сочувственно спрашивает:
- Как себя чувствуете? - и не ждет ответа, а выясняет обстоятельства далее: - Вы узнаете меня? Конечно же, узнаете! А если сомневаетесь, то скажу сам, что я тот самый... Тот самый, на кого вы наставляли винтовку. Было такое несчастное умопомрачение у меня...
- А где моя винтовка теперь? - спросил я и своего голоса не услышал. Только в ушах что-то заскрипело, загудело.
- Я принес ее сюда, - спокойно сообщил Иванов. - И рюкзак тоже. Вы немного отстали от меня там в канаве. Вас засыпало при взрыве, а меня нет. Я вернулся в ту воронку, что появилась на том месте, где минуту назад были вы. А мог бы не вернуться... Как вы думаете?
- Если бы мог, то не вернулся бы, - заметил я.
- Действительно, - согласился Иванов. - Вернулся я и откопал вас, оглушенного... А потом и винтовку вашу нашел... И рюкзак... Только немецкую каску не искал. Лежу потом рядом с вами в воронке... Нащупал пульс и понадеялся на одно: оттянет контузию сыра мать-земля и вы будете жить. Слегка присыпал вас землею и сверху. И сам присыпался, чтобы какой шальной осколок не задел. Немного отдышался, потащил вас по канаве дальше, пока не встретились свои... Тяжеловато было с одной рукой: и винтовка, и рюкзак, и вы...
Ко мне подошел врач в сопровождении той же малолетней медсестры, и разговор с Ивановым прекратился.
- Вы из одной части? - спросил врач у Иванова и показал глазами на меня. Иванов потупился и молчал, а я ответил, что в последнем бою были вместе.
- О, так мы уже и разговариваем! - радостно промолвил врач. - И слышим все! Дайте-ка, дайте-ка ваш пульс!
Врач провел пальцами по моей оголенной руке - широкий рукав рубашки задрался кверху, - сразу нащупал пульс и довольно покивал головой.
- А как ваша рана? - спросил он. - Болит? - и, не ожидая моего ответа, обратился к медсестре: - Когда перевязывали?
Девушка смутилась, она меня не перевязывала, а Иванов сказал:
- Их в дороге перевязали, кровотечение было.
- Кровотечение? - переспросил врач. И приказал сестре: - Договоритесь с перевязочной и сейчас же отведите. Сами идти сможете? - обратился ко мне.
- Поможем! - сказал Иванов.
- Ну вот!.. И все будет хорошо! - уверенно сказал врач. - Молодцы вы оба! Надеюсь, что скоро будете догонять свою часть.
Врач бодро, широким строевым шагом направился к двери, а медсестра-школьница засеменила за ним.
Наша палата совсем маленькая, хоть и продолговатая, с одним узким окном, с которого снят проволочный переплет. Должно быть, раньше тут была какая-то кладовка. После обхода врача у нас стало так тихо, что мы слышали дыхание друг друга. В таких условиях даже с незнакомым заговоришь, если не спишь или не задыхаешься от боли. А тут удобный случай возобновить разговор с соседом, пока не пришли брать меня на перевязку. Не терпелось узнать, что парень чувствовал, когда поднимал руку перед немецкой каской? Но Иванов опередил меня, тихо промолвил:
- Спасибо вам... Большое спасибо!..
- За что? - удивился я.
- За то, что воевали вместе со мною в последнем бою. Так вы сказали врачу.
- Мы еще повоюем, - доброжелательно заверил я.
Иванов порывисто выставил обе руки к двери - там кто-то шлепал тапочками, и парень будто хотел придержать дверь, чтоб хоть с минуту не мешали, - заговорил шепотом, но отчаянно, с болью, с тревогой и, как мне показалось, искренне:
- Если бы вы знали, если бы поверили, как я этого хочу! Жизнь моя в том, чтоб на ваших глазах под пули и под снаряды!.. Чтобы вы убедились, что не изменник я и не трус... Не обожженный еще, не обстрелянный... Это правда! Меня из партизан мобилизовали. В партизаны я сам пошел, добровольно, хоть дома оставалась одна старая мать. Там не приходилось часто ходить в атаку, но на задания ходил и всегда выполнял приказ.
- И все ж таки почему?.. - напомнил я, дав парню понять, что недавнее происшествие осталось в моей памяти, а тем более в душе. - Тебе показалось, что нет другого выхода или паралич какой замутил мозги?.. Мне просто интересно, о чем ты думал, что ощущал в ту критическую минуту, когда поднял руки перед немецкой каской?
- Мне показалось, что вражеские пулеметчики окружили меня.
- Показалось или действительно дорога была перекрыта?
- Мелькали передо мною такие же каски, как и у вас.
- Так я же не немец, видишь! Может, и там были наши хлопцы. Немецкие каски теперь всюду валяются.
- Мне подумалось, что немцы.
- Ну а дальше?
- Сам не помню, что дальше. Наверно, страх одолел - страшно было погибнуть... Кинулся назад, а тут вы в немецкой каске... Черное дуло нацелено мне в переносье... Помню, что чем-то острым сильно, будто смертельно кольнуло меня в лоб. Как поднял руку, не могу вспомнить.
- А почему был без винтовки?
- Не дали мне, когда отправляли с передовой в тыл.
- Не может быть! Каждому, у кого есть силы эвакуироваться самостоятельно, разрешается иметь оружие.
- А мне сказали сдать винтовку - до медсанбата рукой подать.
- Может, бросил ее в канаве? Утопил?
Парень содрогнулся от такого, видимо, неожиданного для него вопроса, опустил голову, очевидно, чувствуя, что он очень логичен и ничем не докажешь теперь свою правду. Он отчаянно замотал головой, а вымолвил только после долгой, томительной паузы, как про себя:
- Не было у меня винтовки. Правду говорю...
- А если бы была?.. Выстрелил бы?
- В кого?
- Ну, известно в кого. В меня, например, когда я наставил на тебя дуло.
Парень смутился и в первый момент, очевидно, не знал, что сказать. Потом несмело спросил:
- А если бы вы были на моем месте?
- Выстрелил бы! - уверенно ответил я.
- Одной рукою?
- Одной.
- И погиб бы невинный человек...
Мой юный сосед задумался, не поднимал на меня глаз, будто стыдясь своих слов или ожидая такого упрека, от которого уже и подняться нельзя будет.
- Разговор идет о враге, - уточнил я.
- Понимаю, - слабо прошептал парень. Замолчал, боком лег на свою подушку и до ушей натянул одеяло. Мне не хотелось больше трогать его и расспрашивать дальше. Почему-то без излишних доказательств верилось, что юноша больше не растеряется в самых трудных обстоятельствах, а свою временную, возможно, случайную, слабость запомнит на всю жизнь.
Я уж стал вспоминать про свой рюкзак и порядочный кусок запеканки в нем, так как съестного нам почему-то не приносили: возможно, раздатчица умышленно миновала нашу палату, хотел спросить у соседа, где он оставил мой рюкзак, и в это время услышал голос будто из-под кровати - парень снова заговорил:
- Что сделали бы вы в тех критических обстоятельствах, я почему-то хорошо представляю. Немцы с флангов, немцы вокруг, а у вас винтовка в одной руке... Пять патронов в обойме, а запаса нет... Вам не дали запаса, так как не в атаку посылали, а в медсанбат. Четыре пули вы выпустили, а что делать с пятой?.. Гранат на поясе не было - сам убедился, когда тащил вас. Пятую пулю вы держите до последнего и верите, что победите... Крепко верите, хоть и с одной пулей... А я тогда потерял веру... На один миг расслабился и считай что погиб, хоть и живу пока.
- Не погиб, - возразил я.
- А зачем жить с такой червоточиной в душе?
- Мы еще повоюем! - повторил я сказанное раньше.
- Вы действительно верите в это?
- Конечно.
- Один вы знаете про мое умопомрачение, - говорил далее хлопец. - А мне представляется, что весь свет знает об этом. И главное тут - я сам хорошо знаю. Единственное мое спасение теперь представляется мне - снова очутиться в мокрой канаве с вашей винтовкой в одной руке, с одной последней пулей в обойме против сотни вражеских пуль, нацеленных мне в лоб, в голову, в грудь... И не утратить веры в победу, в жизнь...
- Ты не знаешь, где мой рюкзак? - перебил я размышления соседа. - Там в нем немного еды было.
- В вашей тумбочке, - охотно и с каким-то облегчением ответил Иванов. Я положил его туда. Достать?
- Попробую сам нагнуться, если не закружится голова.
- Зачем же вам!.. Я сейчас! - Резким взмахом руки Иванов откинул одеяло, быстро встал и босиком подошел к моей кровати. Дверцу тумбочки, похожей на ящичек, открыл, подцепив большим пальцем за металлическую скобу. Рюкзак с запеканкой подал мне и намерился шлепать к своей кровати, но я остановил его:
- Подожди, посиди немного со мной!
Иванов сел на белый табурет, а я начал одной рукой развязывать свой рюкзак. От него пахло луговой травой, торфом и уже какими-то лекарствами, заимствованными в тумбочке. Сырой узел крепко затянулся, и я одной рукой не мог его развязать. Парень помог мне. Рюкзак широко распахнулся, и оттуда запахло запеканкой. Хорошо запахло, свежо - не утратил искренний крестьянский подарок своего первородного качества за несколько фронтовых дней. У меня сразу зашевелилось в животе ощущение голода, вспомнилось, что уже давно ничего не было во рту, а мой сосед скромно отвел глаза от рюкзака, но от меня не укрылось, что его худой кадык начал жадно двигаться.
Прижав краешек запеканки подбородком, я разломил ее пополам. На шею и на раскрытую грудь посыпались крошки. Отдав половину соседу, а свою положив рядом на подушку, я стал собирать крошки, чтобы по нашему крестьянскому обычаю всыпать их в рот. И в этот момент ощутил пальцами, что одна крошка будто бы излишне сухая и твердая. Поднес к глазам и ужаснулся: это был осколок снаряда.
- Он же мог быть и в сердце, - со вкусом уминая запеканку, удивился Иванов. - И в легких мог быть... - Вдруг ойкнул и широко открыл рот, перестав жевать. Двумя пальцами полез в рот и вытащил оттуда еще один осколок, больше того, что упал мне на грудь. Положил железинку на ладонь. Долго и внимательно разглядывал осколочек, а жевать не переставал. И без осторожности, без недоверия к тому, что ел, а будто с еще большим уважением и почтением. Прожевав и проглотив один кусок запеканки, откусывал другой. Откусывал смело, уверенно, жевал так аппетитно и жадно, что казалось никакой осколок не выдержит, раскрошится у него в зубах.
Я ел более осторожно: вкусная запеканка памятна и дорога мне еще и тем, что приняла на себя мои осколки. Жевал не спеша и с большой теплотой вспоминая ту женщину, что испекла и подарила мне эту запеканку.


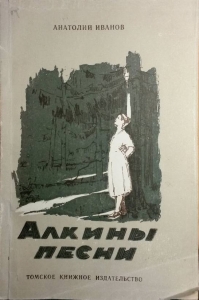



Комментарии к книге «Хлеборез», Алексей Николаевич Кулаковский
Всего 0 комментариев