Юрий Малецкий • Няня Маня
Марья Акимовна Телегина работала уборщицей на крытом рынке. В сорок пятом получила похоронку на мужа, начала выпивать. Голос охрип, и ругань тети Маши набрала злую силу. Раньше, как пойдут ее костерить, она тыр-пыр — и молчок. Теперь если кто заикнется, Марья Акимовна ему — такое, что язык проглотит. Так что никто с ней лаяться не заводился больше.
Тете Маше хватало на жизнь. Подметая рыночную гниль, в опилках мелочи насобираешь — дай Бог. Тем более еда даровая; хоть с порчинкой, зато по сезону. А то и вовсе красивые продукты приносила Марья Акимовна домой: сотовый мед, ногу коровью на студень, текучую вязкую хурму. Сгоняешь Ашотику за пивком — и несешь хурму домой. Молоток Ашотик, чего не услужить; фрукты растит путем, хотя и чурка. Но хурма хурмой, мандарины мандаринами, а больше все-то любила Марья Акимовна соленые грузди, нарезанные полосками, с луком и постным маслом, как делали у нее на родине, в мордовской деревне, давно.
На душе только было пусто, даже если досыта наругаться за день. Тогда тетя Маша шла домой, садилась с соседями играть в лото и очень радовалась, загребая «низ» — целых 16, а то и 20 копеек. Ей нравились остроумные выкрики вроде: «Бочонок!», или «Перевертыши!», или «Дедушка!»; каждый день ближе к вечеру она уже ждала этой привычной музыки, чтобы погреть душу.
Когда окончательно припирало, Марья Акимовна приводила домой мужика, в свою комнату на втором этаже, где потолок протекал и пол был неровный, зато кровать настоящая панцирная, с кружевным подзором. Копила на подзор тетя Маша месяца три, а ведь никогда не копила — страсть захотелось. Самая нарядная была у нее комната во всем этаже, и стены в порядке — заклеены цветным «Огоньком», дранку не видать. Даже на подоконнике имелось украшение: растение в горшке, ото всех болезней пользительный редкий цветок — алоэ. Чуть где схватит, отломишь зеленое острие, пожуешь, через «не могу», грибом запьешь — все проходит. А чудо-цветок сам зарастает нацело.
В пятьдесят третьем, когда тетю Машу уволили, стукнуло ей сорок восемь. За что ее — за пьянку или увидела не глядя что лишнее, точно тетя Маша не поняла. Уволили — значит уволили.
Квалификации у нее не было, но без работы сидеть она не сидела сроду. Сложив в сундук под кроватью облигации замечательного займа, нанялась Марья Акимовна домработницей в молодую семью Понаровских.
Пара была в общем состоятельная, хотя авторитета еще не имела, а все-таки: Лиля — зубной протезист, Семен — хормейстер. Тем более никак нельзя понять запрошенной тетей Машей цены: триста рублей и питание. Даровая цена, даже по тем временам; плюс шел самый разгар дела врачей-вредителей.
К этому времени мужики уже ушли из ее жизни. Не нужно, то и не хочется. А сердце пустовать не перестало и лото действовало все меньше.
Вот с головой ушла тетя Маша в новую работу — уборку, стирку, штопку. Обеды у нее выходили невкусные: не понимала она маленького огня, все ставила на самый большой, который шумит. Что тетя Маша единственно как следует готовила — это пельмени. Уберешь все — и раскатаешь тесто на стол. Нажимаешь на скалку с оттягом и чувствуешь — поддается тесто и плющится. Когда же наконец белое тесто ровно и тонко покрывало собой весь кухонный стол, Марья Акимовна брала большую рюмку с отбитой ножкой — и круть-круть-круть — разделяла мягкий прямоугольник на кружки и огорчалась, если какой кружок выходил щербатый. А потом защипывала с завитками, как раковины. Так она могла ворожить часами, лишь бы фаршу хватило и теста.
Вечером она выходила во двор и рассказывала соседкам, как живут молодые хозяева. Жизнь самой тети Маши так долго протекала рядом с помойкой, мухами, облепившими мокрые арбузные корки, бинтами и ватой со следами месячных циклов, что она не знала, почему об одних вещах можно рассказывать, а о других нет.
И когда Лиля закатывала очередную истерику, Марья Акимовна только удивлялась: какая сука соседская доносит все время? Зачем портить людям кровь?
Об одном Лиля строго-настрого наказывала молчать, да тетя Маша и сама бы ни гу-гу, хоть родному брату: как Лилечка иной раз зубы ставит на дому. Всяким разным, некоторых тетя Маша в лицо и по имени знала. Но молчала: посадят же хозяйку за частную работу.
Хотя так голова трещит, когда из кухне в тигельке золотые опилки плавятся, что сил нет как хочется пожаловаться на эту химию. У Лилечки и самой голова трещала, но не от дыма — от страха: сколько уже их брата, надомника, упекли с конфискацией. А у Понаровских и конфисковать-то — разве что Семино пальто-реглан да шапку из модной обезьяны.
По субботам легкая компания собиралась у Понаровских; тогда до Марьи Акимовны доносилось — «пика простенькая», «без двух», «раз в темную». Неуютные снова, хитрые, не то что в лото. Особенно: «Горбыль». Потом какой-нибудь чернявенький довольно выходил на кухню, наливал тете Маше в стакан коньяк. Вот дурево: бутылка красивая, а питье вонючее, как керосин. Обдирают моих, говорила она дома соседям. Этих обдерешь, отвечали ей хмуро. Все-таки приходила она домой по субботам — хорошо в двенадцать: хоть понюхать, какая бывает красивая жизнь.
Обращались с ней хозяева в общем хорошо, ремесленные все-таки люди. Особенно Сема — всегда нальет, а то и от тети Машиной не откажется. Уж у нее-то родная беленькая всегда есть тяпнуть с устатку. Так перепрячет — Лиля нипочем не найдет.
И — оба с ней на «ты».
А все равно на душе у тети Маши оставалось: похоже, как раньше когда-то мужик на панцирной сетке рядом скрипел, потный, крепкий, и грудь ласково жмет, словом, в порядке мужчина..., а, вот не муж, и все. Не муж, зарытый под Калининградом. Не муж. А что не так, когда все точно так,— она не знает.
В пятьдесят седьмом наши запустили спутник, утерли ненашим нос, молодцы. А соседи наслушались радио и говорят — Бога твоего, Акимовна, нет нигде ни хрена. Тетя Маша вслух — наотрез, а про себя думает — как же так? Выходит, и Бога уже для нее не осталось?
А в пятьдесят восьмом, в мае, сердечная пустота нарушилась. Расцвела Марья Акимовна, распустилась, как бутон. В пятьдесят восьмом Лиля родила. Инженерчиком будет, всхлипывала тетя Маша, глядя на маленького у тяжелой Лилиной груди. Инженерчиком, сказала она хриплым своим голосом, сидя во дворе золотым майским вечером.
Инженерчика назвали Витей; рос он громкий, впечатлительный. Странное дело, не болел ни свинкой, ни корью. Только разговаривал по ночам. Родители его любили очень, покупали кучу игрушек; будучи еще молодыми, себя не забывали. Витя игрушки ломал, просил вечерами не уходить. Не Лилины нервы сдали от угрозы конфискации, оставаться дома по вечерам пугало ее все больше. Сема же просто не мог без людей, застолья, хорового исполнения. Ребенок оставался на дети Машиной попечении. У нее своей жизни не было.
Любила она только Витю в целом мире. Мало ли что: они с ней на «ты». Она-то их на «вы» привыкла, хоть и смеются. Ребенок же — он и есть ребенок. А Витя, когда понял, что любят его по-собачьи, привык вымещать на ней всю тоску и обиду.
В три года «инженерчик» кричал, бил Марью Акимовну ножками и царапал ногтями. В десять лупил лыжной палкой. И сделалась тетя Маша на долгое время вполне и совершенно счастлива: с замужней поры полюбили ее впервые.
В конце шестьдесят первого, правда, с Марьей Акимовной был грех и душевный переполох: первый раз обиделась на правительство. Что такое «антипартийная группа», она не поняла, но кто своей крепкой рукой войну победил — знала очень хорошо. Пуще же всего обиделась за Ворошилова: всех главных она почитала, но Клима любила — ну совсем как живого.
Как узнала, что простили Клима, немного отошла тетя Маша от обиды. И сразу сама себя испугалась и — к батюшке. Батюшка их жил в ее же доме, только на первом этаже, куда удобства были подведены. Выслушал мирно, отпустил грех, а наперед вразумил: всякая власть от Бога. Ей-то не вразумления надо, а чтоб страх перестал; но кивала головой только тетя Маша, а сама три дня алоэ жевала, пока не успокоилась.
А Лиля с Семой не обиделись, нет; те сразу о каких-то родственниках в Черновцах, да кого за что и на сколько. Как ни любила их тетя Маша, все-таки понимала по-честному: случись что серьезное — на них надежда плохая. У них всегда одни свои в голове.
В шестьдесят третьем Лиля вошла в известность, купили Семену трофейный «оппель-кадет» цвета окрошки. «Инженерчик» считал уже до ста и писал «Ворошилов», а няня-то Маня аж на переднем сиденье катила за продуктами на крытый рынок, прямо перед лицами бывших товарок.
Вот в шестьдесят шестом сделал Сема хор, а в шестьдесят седьмом прогремел хор на всю Волгу коронной песней «Сверхсрочники-многостаночники»; в шестьдесят восьмом сделал Семен «Москвич-412». у Лили к тому времени зрение понизилось до минус одного: зубы внимания требуют. Зато жила спокойнее. На дому теперь принимала, только кто со своим золотом. Потому что послабка: надомников трогать перестали, кроме тех, кто золото скупал. Тех-то по-прежнему — с конфискацией.
Решили Вите внимание уделить и укатили с ним по Волге до Горького, а вернулись через восемь дней в плохом настроении. Шулера обчистили, объявила двору тетя Маша, а сама ждет, что объяснят ей, кто такие шулера. Но молчала скамейка, только переглядывалась.
За такие разговоры Лиля с тетей Машей два раза прощалась: не могла снести позора. Да что толку в хорошем имени, отработаешь смену на сделке, а потом еще и дома все снесешь, был бы обед готов и вымыт пол. И Марья Акимовна возвращалась: не из-за трехсот старыми (по-новому она не умела), из-за «инженерчика».
И чтобы было чего делать. Всего ведь ей — шестьдесят. Опять пельмени, опять паутина в углах. Все-таки вроде чисто, и даже домашние пельмени.
Человеческая жизнь. Указ о пьянстве после семи — да тьфу на него, когда Шурка и Клавка — соседки обе: одна за грузчиком замужем, другая — сама в отделе, где рис и чай. И когда водку стали улучшать, изо всех сортов одну «Экстру» сделали — тоже, объясняла Марья Акимовна, фактически тьфу. Выпей на пятьдесят грамм меньше, зато вкус красивый у дорогого вина. Фильтры, добавляла тетя Маша, поднимая палец.
Только Витя от рук отбивался все больше. Чувствовал он неотступную охоту себя показать и людям понравиться. И силу тоже чувствовал, а куда ее деть и как себя выразить — без понятия: интересов Бог не дал. Как друзья, так и он: то марки, то хоккей. Все по два месяца, и друзья у него на два месяца. За что ни возьмешься, все постепенно делается. А Вите позарез нужно было сразу и сполна силу проявить: неизрасходованная, распирала его она, и оттого он бесился. Как дал в школе жару — так и давал: не понимал, чего ради уроки делать. Пока еще мал был, так хоть пельмени лепил в помощь няне Мане. Тут хоть сразу результат в рот кладешь. А вырос — ничего, хоть плачь, даже за хлебом не сходит. Печальный парень.
До восьмого класса Витю терпели, потом терпение кончилось. Не вышло из него «инженерчика». Зато собой вышел — красив и рукой крепок. Пару раз побывал в отделении: за дворовую драку с арматурщиками и за оторванный у участкового Гуняева рукав. Рукав грозил серьезно обернуться, да, слава Богу, выручил капитан ОБХСС Медведев Е. А., бывший Женька Медведев, сын тети Машиной подружки. Шустришь, Акимовна, сказал, капитан. Тетя Маша не отвечала, только глядела на него и моргала. Кислой капустой к прочий рыночным кормила она трехлетнего капитана в сорок четвертом, выкормила дохляка; вот теперь и глядела. Ох, - шустришь, сказал капитан Медведев и отвел глаза. Вызволять поросенка ему была пара пустятов, материалов кое на кого хватало, но коли уж парень покатился... Тут протяни палец, руку откусят. В первый и последний раз, сказал капитан, оглядел Марью Акимовну, как на допросе, позвонил куда надо.
Семен Михайлович только-только «Жигули» купил, его город знал уже. Фамилию Понаровских позоришь, кричал он блудному сыну; плевать мне на фамилию, орал сын; Лиля плакала. Витя заснул и во сне бормотал и мычал, как в детстве, а Семен пил с Марьей Акимовной за ее золотое сердце — спасла от стыда. А Лиля лежала в постели и, надев очки, читала «Сердца трех»; любимая глупая книга ее успокаивала...
А девок своих Витя водил к няне Мане, где пол покат, зато панцирная кровать с подзорником. Тихонь и хабалок, в валенках и модных сапогах-чулках; ни кожи, ни рожи, на что польстился? Но молча жарила Марья Акимовна ему и евонной крале глазунью на прокисшей кухне, и за дверью никто не вякал, помня ее бывший голос и плохую судьбу. Тем более Семен Михайлович был соседям не чужой, подвозил иногда до магазина. Когда же ссорился «инженерчик» с няней Маней, она его выдавала; штукатурка летела с потолка от Семиных слов, Лиля пила корвалол, а Витя ругал ее, няню Маню, всякими словами.
Не ругалась та в ответ, как бывало на рынке, — Витя же, любимый; молча бежала домой, кутаясь в серый платок. А в день ее пенсии, 16-го, «инженерчик» протягивал руку за данью как ни в чем не бывало. Пили няни Манину беленькую, и опять сначала.
С начала до без конца такая мука.
Семену Михайловичу дали медаль Всероссийского лауреата, а грамотами хоть стены оклеивай. Совсем известным человеком стал. Семен в городе, как юбилейная дата — все ДК его нарасхват. Единственное что — поседел он и разучился весело пить, даже после удачного выступления; Лилия Моисеевна на дому теперь мало работала, болела правая, рабочая рука, и — только золото. Зрение у нее стало — 2,5, и спала с димедролом.
Вдруг изменилась погода; с неба закрытого волжского города, где если что и происходило, то — давно и неправда, пошел золотой дождь. Дождался Виктор своего часа, когда живешь с увлечением, как танцуешь; когда все сразу, одним ударом — темп, интерес, результат и авторитет. Сила, долго не находившая выражения, успокоилась и застыла в его матовых глазах.
В ванной он открыл женскую примерочную, в туалете — мужскую; а в изолированной Витиной комнате, 3 метра на 4, шел сам торг. Разворачивали синюю заморскую мешковину — штатскую, итальянскую, гонконгскую, говорили слова: «Левис», «Ранглер», «Суперрайфл».
Обмывали сделку «Русской» — Витя только чистую признавал — запивали няни Маниным грибом. Теперь на Марью Акимовну он себе кричать не позволял, знай только наливали ей все время. Тут-то она и почувствовала — не нужна больше; и в первый раз с «инженерчикова» рождения опять опустело сердце. А тетя Маша и уйти не могла уже домой без Семиной машины: ноги подкачали. Отложение солей, семьдесят лет все-таки. Глаза слезились после первой рюмки. Перешла на яблочное, там всего 16°.
Срок пришел — женился Витя. На крашеной блондинке женился, с голубыми глазами, в синих джинсах «Lее».
Срок пришел и облигациям тети Машиным пятидесятого года. Разменяла — там двести рублей. А у нее уже коленкор на саван закуплен, и питание даровое,-, чего ей еще в свои семьдесят. Отложила 50 на похороны, а 150 — бух на конверте на поднос в свадебной столовой, где приглашенных сто гостей, и все важный народ, а столько, как Акимовна, никто в конверт и близко не всунул. Качали тетю Машу, и прежде чем провозгласить единственный тост, который знала, в первый раз назвала она Лилю «ты». После чего подняла рюмку с пятью граммами водки и двадцатью — воды, крикнула-всхлипнула:
— За все за хорошее!
Молодые жили душа в душу, одевали друг-друга в синий цвет да желтый вельвет. Капитана Медведева дочку одели — не наглядишься.
Поутихли скандалы. Тишь не гладь, а поутихли. Одного теперь тетя Маня ждала, хотела «инженерчикова» сына понянчить. Ждала, не глядя, что жарит, что стирает. Запахли мыльным запахом пельмени; няня Маня ждала. Весь двор знал, все понимали.
Под пасху ее разбил паралич. Б больнице в палате на шестерых, тетя Маня лежала молча, глядя слезящимися глазами в белый сырой потолок. На третий день раскрыла правую половину рта и прохрипела: «Надо..надо... инженер..чику... машину куп...ить. Только... не желту...ю». «Маша, — заплакала сидевшая тут Лиля Моисеевна,— у тебя разве есть деньги?». «Есть. Семь...десят тыщ».
Велела ехать смотреть — над изголовьем слева, за «Огоньком». Так это велела, что Семен Михайлович и правда поехал, весь «Огонек» ободрал. А кроме дранки, ничего. «Были. Точ...но. Были». Повернул Марья Акимовна к стене и больше ничего не сказала. На четвертый день перестала чуствовать, как ее обихаживают, на шестой умерла. Хоронили ее Понаровские да Клавка с Шуркой, да батюшка с капитаном. Витя пил с неделю, пока не вернулся к делам, но и потом чувствовал — жить можно, а чего-то не хватает, вроде пальца на руке.
Клавка взяла на память подзорник, а Шурка — открытку, висевшую у покойной на видном месте, и горшок с алоэ. На открытке сфотографирован спутник, а на обороте написано: «Спасибо, мамаша, за заботу. Здоровье у меня в порядке, а Бога я, когда летал, не видел. С уважением, Юрий Гагарин».
Рисунок Н.Панасенко



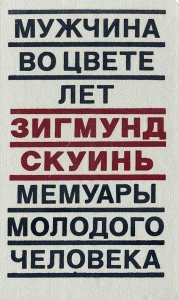


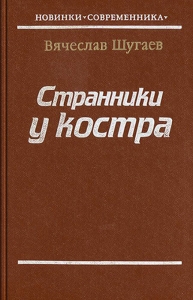
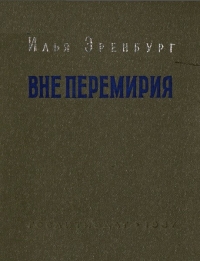
Комментарии к книге «Няня Маня», Юрий Иосифович Малецкий
Всего 0 комментариев