Критико-биографический очерк
I
Целое поколение советских писателей начинало свой творческий путь на полях гражданской войны, в гуще ожесточенной борьбы за установление Советской власти. Художники слова были в те годы и солдатами революции, и ее первыми агитаторами, первыми певцами героической эпохи. Валентин Петрович Катаев — типичный представитель этого поколения. Его творчество — неотделимая часть сложного, многообразного литературного процесса, начавшегося в дни революционного перелома от старого мира к миру социализма.
Писатель родился 28 января 1897 года в Одессе — богатом торгово-промышленном приморском городе, который являлся также крупным культурным центром на юге страны. Здесь был основан Новороссийский университет, вокруг которого группировались выдающиеся ученые — такие, как Мечников, Сеченов и др. На сцене оперного театра выступали с гастролями прославленные европейские актеры — Сальвини, Айра Олдридж. В городе издавалось множество журналов, где сотрудничали и местные литераторы, и столичные, часто бывавшие и подолгу жившие в Одессе. Среди них — Куприн, Бальмонт, Бунин и др.
Семья Валентина Катаева принадлежала к русской демократической интеллигенции. Отец — Петр Васильевич Катаев — был родом из Вятки. Окончив Новороссийский университет по историко-филологическому факультету, он стал учителем. Мать — Евгения Ивановна Бачей — принадлежала к полтавской мелкопоместной дворянской семье.
В доме Катаевых хорошо знали и высоко ценили классическую литературу XIX века. Оба будущих советских писателя — и Валентин Петрович, и его брат Евгений (Евгений Петров) — воспитывались на лучших образцах русского реализма, испытав могучее воздействие его великих представителей. Им рано открылись богатства родной литературы — и светлый, радостный талант Пушкина, и горький юмор Гоголя, чистота, ясность Никитина и Кольцова, трагическая лиричность Шевченко.
Многообразны и противоречивы были воздействия эпохи на молодого Катаева. Но было главное: демократические традиции семьи, которая отражала умонастроение русской трудовой интеллигенции с характерными для нее общественными идеалами — ненавистью к царизму и стремлением отдать все свои силы и знания обездоленному народу.
Писать и печататься Валентин Катаев начал рано. Первое его стихотворение — «Осень» — появилось в 1910 году, и с этого времени молодой поэт систематически публикуется в газетах: «Одесский вестник», «Одесский листок», «Южная мысль». Ранние стихи его представляли собой зарисовки с натуры, жанровые сценки, картины природы, овеянные лирическим настроением автора.
Вскоре Катаев сдружился с молодыми одесскими поэтами, среди которых заметное место уже занимал Эдуард Багрицкий. Они выпускали стихотворные альманахи: «Шелковые фонари», «Серебряные трубы», «Авто в облаках», «Седьмое покрывало». Катаев неизменно участвовал в вечерах «левых» поэтов, однако их увлечений модными декадентскими течениями не разделял.
В 1914 году произошли две литературные встречи, оказавшие решающее влияние на творческое развитие молодого писателя. Одна из них — встреча с Иваном Буниным. Хотя по возрасту и дружеским связям Катаев, естественно, принадлежал к поэтической «левой» молодежи Одессы, но традиции той среды, из которой юноша вышел, ее влияние, вкусы, идеалы — все это сближало его со старшим поколением писателей. Именно у Ивана Бунина он обучался реалистическому мастерству: «умению описывать вещи», «пластике слова, красочному виденью мира», а также «симфонизму» стиля; «Бунин учил меня видеть, слышать, нюхать, осязать, учил ритму прозы», — вспоминает В.Катаев.
Другая встреча навсегда связала писателя с Владимиром Маяковским.
В январе 1914 года в Одессе на сцене Русского театра состоялись два больших вечера московских футуристов. Новизной тематики, образностью, остротой, а главное, своим бунтарским духом резко выделились выступления Маяковского. Стихи его захватили молодого Катаева. «Футуристов, — вспоминает писатель, — я не понимал и не принимал. Но Маяковский понятен был чрезвычайно. Маяковский — ни на что не похоже... поразило новое виденье мира: урбанистичность его стихов, живопись, предвоенное ощущение действительности. Затем позднее — протест против мещанства, лавочников, торгашей, сытых буржуа»[1].
В поэзии Маяковского для молодого Катаева прозвучал бунтарский голос нового времени. Преклоняясь перед высоким мастерством художников критического реализма, молодой Катаев, как и многие из его сверстников, ощущал разрыв между современной ему литературой и движением истории.
Молодой русский капитализм уже хищно мечтал об империалистических захватах. Царская Россия стояла в преддверии чудовищной мировой бойни. Внутри страны все кипело и клокотало, в недрах народных бурно вызревала революция.
Дальнейшие судьбы сверстников Катаева, как и его самого, определила начавшаяся первая мировая война.
В 1915 году Валентин Катаев с гимназической скамьи ушел добровольцем на фронт. Сначала солдатом-артиллеристом, а затем прапорщиком он участвовал в ряде больших военных операции на Западном фронте, — в частности, под Сморгонью, затем — в конце войны — на румынском фронте. Был дважды ранен, один раз контужен и отравлен фосгеном.
Многие его фронтовые впечатления вошли в корреспонденции и очерки, в стихи и рассказы, которые печатались в одесских газетах, а также в еженедельниках Петербурга и Москвы.
Характерной чертой очерковых циклов Катаева в эти годы является глубокий интерес к солдату-фронтовику, крестьянину или рабочему, к человеку в серой шинели, о котором он пишет с глубоким пониманием и уважением («Письма оттуда», «Наши будни», «В Румынии»). Стихи военных лет передают боль юноши-поэта, видящего, как истерзана земля, как разрушаются города и селения («В Галиции», «Письмо», «Туман весенний стелется...» и др.).
В большинстве произведений этого периода еще нет отчетливого и осознанного протеста против преступной бессмысленности войны. Но зато, вразрез с общим духом буржуазной урапатриотической литературы, молодой писатель (а Валентину Катаеву тогда было лишь восемнадцать — девятнадцать лет) говорил открыто и без прикрас о том, что он сам видел и пережил.
Жизненные впечатления подводили художника к верным выводам. И надо было ему пройти сквозь жестокие испытания войны, чтобы оформилась, стала осознанной и закалилась его ненависть к лживому, буржуазному миру.
Октябрьская революция пришла на юг Российской империи в огне и буре гражданской войны. За установление власти Советов велась жесточайшая борьба с немецкими интервентами и продажной Центральной радой, а затем с соединенными силами Антанты и белогвардейского добровольческого войска.
После установления Советской власти в Одессе весной 1919 года было создано Бюро украинской печати (БУП). Здесь начали активно работать молодые поэты — Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Юрий Олеша. В среде одесской интеллигенции Иван Бунин стал знаменем ее реакционной части. Валентин Катаев оказался среди тех, кто безоговорочно и решительно перешел на сторону революции.
Летом 1919 года, когда началось крупное наступление деникинской армии, Катаев был призван в Красную Армию и участвовал в боях с белогвардейцами, командуя артиллерийской батареей под Лозовой; Эдуард Багрицкий отправляется в это же время на фронт с агитпоездом и находится в партизанском отряде ВЦИК.
После разгрома деникинщины в Одессе весной 1920 года возникла ЮгРОСТА — организация, соединявшая в себе и телеграфное агентство, и агитационно-пропагандистский отдел, клуб и театр, устные и стенные газеты. Во главе стоял поэт-комиссар Владимир Нарбут. В ведении ЮгРОСТА находились агитпоезда и агитпароходы, а также созданные на крупных железнодорожных станциях агитпункты и «газетные залы». По городу развешивались плакаты, «Окна сатиры», проводились лекции, читки «устных газет».
Вокруг ЮгРОСТА сложился боевой «коллектив поэтов», которые воспевали героику революции и оружием сатиры разили врагов. В коллектив этот входили: Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Илья Ильф, Семен Кирсанов и др. Знаменем для них был Маяковский. «В коллективе поэтов мы собирались по вечерам, после работы в ЮгРОСТА, где делали то же самое дело, что в это время делал в Москве Маяковский»[2], — вспоминает Катаев. Он заведовал «Окнами сатиры», писал острые сатирические стихи, фельетоны, рассказы. В 1921 году ЮгРОСТА переводят в Харьков.
Работу в РОСТА, объединившем писательскую молодежь, Валентин Катаев позднее оценил как подлинную «школу политического воспитания беспартийных поэтов».
В бурные годы гражданской войны родилась первая, романтическая, группа катаевских рассказов. Они печатались в газетах ЮгРОСТА, а позднее в журналах Москвы (1918 — 1923): «Опыт Кранца», «В осажденном городе», «Золотое перо» и др. В них уже явственно наметились основные тематические линии, характерные для всего последующего творчества писателя: утверждение величия пролетарской революции и отрицание старого общественного порядка, сметенного октябрем 1917 года. Романтический пафос соседствует здесь с сатирическим гротеском, ирония сплетается с лирической взволнованностью.
В ряде рассказов Катаев обращается к судьбам интеллигенции, поставленной перед решающим историческим выбором: остаться ли с миром прошлого или перейти в лагерь революции. В лирической новелле «Музыка» (1918) Катаев рисует портрет Ивана Бунина в образе Ивана Алексеевича — философа-эпикурейца, созерцателя жизни, наслаждающегося красотой материального мира. Оставаясь в пределах лишь психологической характеристики героя, Катаев не осуждает его, а, скорее, им любуется. Хотя и видит его оторванность от подлинной жизни. Революционная действительность вскоре потребовала от молодого писателя социальных, общественных оценок людей и событий. Именно потому в рассказе «Золотое перо» (1920) прозвучало страстное осуждение антинародной позиции, занятой частью старой интеллигенции. Герой его — академик Шевелев — раздраженно отгораживается от новой жизни народа, «тонким знатоком» которого некогда он слыл, не понимая и не принимая его революционности. В дни решающих схваток он отдает свое «золотое перо» белому лагерю. Но победоносного шествия революции не остановить тем, кто остался в лагере старого мира, — такова логика развития событий в рассказе.
Неодолимую мощь революции писатель стремится раскрыть и в «Записках о гражданской войне» (1922), где он обращается к документальному повествованию.
Другая группа ранних рассказов — «Бездельник Эдуард», «Железное кольцо», «Красивые штаны» и т.д. — представляет собой приподнятые лирико-иронические зарисовки быта писательской молодежи, сотрудников ЮгРОСТА в годы, когда, «окруженная врагами, испытывая каждую минуту новые и новые потрясения», республика ввела «суровый режим военного коммунизма». В центре их стоит поэт и романтик, влюбленный в Октябрьскую революцию. Он воевал, он испробовал немало работ, от «собственного корреспондента радиотелеграфного агентства до заведующего красноармейским клубом». Правда, герой этот часто воспринимал революционную действительность преломленной сквозь книжную романтику. Его «пышное воображение» рисовало доктора Фауста и Франсуа Вийона, «якобинский клуб и карманьолу». Но все же его неизменно тянуло от теней прошлого к простой и суровой реальности. Героя и его друзей наполняло ощущение силы и радости жизни, предчувствие новых исторических свершений.
А рядом с поэтом-романтиком возникал — прямо из жизни — столь же романтический образ матроса-большевика. На остром драматическом конфликте основан рассказ «В осажденном городе» (1920), где происходит столкновение представителей двух миров — белогвардейского поручика Гесса и матроса-подпольщика.
В матросе-большевике для молодого писателя воплощалась воля восставшего народа, воля коммунистов, которые умело, настойчиво, энергично направляли бурлящий поток истории в русло организованного революционного действия.
В «югростовских» рассказах Катаев намечает образ человека нового типа — деятеля, революционера. Но пока это были лишь эскизы, наброски, художественное решение пришло к писателю позднее. В 20-е годы побеждала в его творчестве сатирическая, разоблачительная тенденция.
II
В 1922 году Валентин Катаев переезжает в Москву. Плодотворным для него оказался период газетной работы в «Гудке», «Рабочей газете», «Труде», сотрудничество в сатирических журналах «Крокодил», «Смехач», «Чудак», «Бузотер», «Красный перец». Через руки писателя проходили бесчисленные корреспонденции с мест, по командировкам газет он ездил по стране, наблюдая перемены, происходившие в самых отдаленных ее уголках. Катаев активно участвовал в наступлении советских сатириков на все, что мешало успехам начавшегося восстановления народного хозяйства. В течение ряда лет он выступает в «Гудке» с фельетонами на международные и внутренние темы, подписывая их псевдонимами Оливер Твист, Митрофан Горчица, Старик Саббакин и др.
Фельетоны эти часто группировались в целые циклы, объединенные внутренней темой, охваченные широким замыслом. Таков сатирический цикл международных памфлетов «Форточка в Европу» (1926), явно перекликавшийся с «Маяковской галереей» (1923). Обратившись к проблемам повседневной жизни, В.Катаев опубликовал цикл басен «Метелкой по Москве» (1927).
В результате напряженной газетной работы над темами, которые рождала жизнь, возникла целая группа сатирических произведений Катаева: рассказы 20-х годов, повесть «Растратчики» (1926) и комедии — «Квадратура круга» (1928), «Миллион терзаний» (1931), «Дорога цветов» (1933). Все эти жанрово столь разнообразные произведения тесно связаны внутренним тематическим и стилевым единством; писатель осмеивает здесь попытки реставрации прошлого как в общественной жизни, так и в быту.
В рассказах 1924 — 1925 годов Катаев рисует целую галерею типов разнообразных приспособленцев, тех, что, по слову Маяковского, «наскоро оперенье переменив... засели во все учреждения». Простосердечен и ясен кассир Диабетов, который, не понимая существа исторических перемен, происшедших в стране, пытается механически к ним приспособиться. Добросовестно по шпаргалке он зубрит политграмоту: «Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафоллет...» и т.п. Комизм рассказа в том, что Диабетов производит на комиссию по чистке впечатление сумасшедшего: он отвечает на вопросы невпопад, вопреки всякому смыслу, добросовестно придерживаясь заученного порядка ответов. Но сам-то кассир весьма собой доволен. Он уверен, что вполне стоит на уровне требований эпохи («Выдержал»). К «механическим гражданам» типа Диабетова относится и поэт Ниагаров, который деятельно перелицовывает известное пушкинское стихотворение, «внося» в него «новую идеологию» и «современность». Он никак не может понять, почему его стихи в редакциях неизменно отвергают («Птичка божия»).
Значительно опаснее и агрессивнее другой тип приспособленцев, выведенный Катаевым в рассказах «Товарищ Пробкин», «Первомайская пасха», «Емельян Черноземный» и др. Их герои расчетливо маскируют свою истинную сущность, протаскивая под видом нового старые, собственнические идеалы и старые отношения между людьми.
Теме создания новых человеческих отношений, чистых, не запятнанных стяжательством, какой-либо выгодой, посвящена группа рассказов Катаева, относящихся к концу 20-х годов, таких, как «Ножи» (1926), «Вещи» (1929), «Ребенок» (1929) и др. Эта тема возникла впервые уже в одной из его ранних новелл — «Зимой» (1923), где писатель столкнул двух героев, выразителей антагонистических мировоззрений. Один из них — Иван Иванович — самодовольный мещанин нэповской формации. Валюта, «чистоган», вещи — вот что определяет для него смысл жизни и ценность человека. Ивану Ивановичу противостоит другой герой — «бедняк, бродяга», получивший крещение в огненной купели гражданской войны, романтик и гуманист. Герой этот не подходит под долларовую «единицу измерения». Он доказывает, что есть иные мерила человеческой ценности — талант, воля, труд.
Задуманный как веселая юмореска, маленький рассказ «Вещи» перерастает в глубокое сатирическое обобщение. Основную эмоциональную окраску повествованию придает не смех, а неподдельная грусть автора, его горькая жалость к героям, потому что это уже не самодовольные держатели валюты или люди типа Ивана Ивановича, не жадные предприниматели, подобно маленькому частнику с Чистых прудов («Ножи»), а трудовые люди, но и они заражены пороками старого мира, ибо слепо верят, что в вещах истинное счастье.
С глубокой печалью говорит писатель о худом, чахоточном Жоржике, об этом тихом, работящем человеке, на губах которого постоянно «играла слабая, виноватая, счастливая и какая-то ужасно милая улыбка». Он умирает, загубленный Шуркиной бессмысленной страстью «обзаводиться», приобретать вещи. С гротескной остротой в этом рассказе была раскрыта антигуманистичность собственнической психологии. Максим Горький, прочитав его, сказал молодому писателю: «Правильно, что показано въевшееся в человека старое. Бывает в больших формах, бывает в маленьких — здесь еще трагичнее».
Замысел повести «Растратчики» созрел зимой 1925 года, когда писатель по командировке «Рабочей газеты» приехал в г.Кашин Тверской губернии. «Рабочий городок, — вспоминает Катаев, — и вдруг здесь — растратчики». Повесть была закончена в 1926 году и вызвала большие споры в критике, но одновременно и принесла ее автору литературную известность не только на родине, но и за рубежом.
В центре «Растратчиков» Катаев поставил не воинствующего мещанина-собственника, как в ранних сатирических рассказах, а скромных представителей той самой «служилой интеллигенции», которую стремилась перетянуть в свой лагерь новая буржуазия. Его герои — главный бухгалтер некоего учреждения Филипп Степанович Прохоров и кассир Ванечка Клюквин — трудовые люди, любящие свое дело и верно ему служащие. И вот эти два совершенно не романтических героя оказываются втянутыми в круговорот роковых событий. Непонятная им самим сила, действующая помимо их воли, беспощадно швыряет их из приключения в приключение, из кутежа в кутеж, превращая их существование в страшную, чудовищную феерию.
Странствия растратчиков раскрывают перед читателем очаги старого быта, где гнездится прошлое, дряхлеющее, но еще злое и опасное. Это и нэповский трактир с запыленной елкой и лампочками, похожими «на облупленные куриные яйца», и «бестолковым шумом» переполненного зала. Это и деревенское гульбище в чадной избе с «веселыми и нетрезвыми сватьями и кумовьями», с обязательной гармоникой и «вонючим самогоном». Это и ленинградская гостиница «Гигиена», и некогда знаменитый фешенебельный Владимирский клуб.
Катаев показывает, что в глубине души у каждого из его героев имеется маленькая червоточинка, образованная идейным воздействием старого, собственнического мира. Поэтому они ищут свой жизненный идеал среди призраков прошлого, в воспоминаниях об уничтоженных революцией «верхах общества».
Сатирической кульминацией повествования являются сцены, показывающие, как растратчики неожиданно попадают в «высший свет» Российской империи. На киносъемки фильма «Николай Кровавый» собрали «настоящих бывших»: царских сановников и генералов, княгинь и баронесс. После съемок ловкий предприниматель — конферансье Жоржик образовал «арапский трест» для объегоривания любителей «великосветской жизни». И клич, с которым несутся к «бывшим» пьяненький бухгалтер Прохоров и кассир Ванечка Клюквин, — клич: «Даешь государя императора!» — разоблачает самое существо «изячной жизни», ее реакционного, реставраторского смысла.
Именно потому, что герои стремятся осуществить «идеал счастья», созданный тунеядцами, они так глубоко несчастны. Этому «идеалу» старого мира Валентин Катаев противопоставил простую, обыденную жизнь страны. Детали трудового быта, казалось бы, весьма прозаические, вносят в повесть ощущение ясности и чистоты повседневной действительности и тем самым оттеняют всю глубину падения растратчиков. После ресторанной, угарной ночи, проведенной в «высшем свете», бредет ранним утром кассир Ванечка Клюквин по Ленинграду. «Уже в отдалении где-то прогудели фабричные гудки. Проскрежетал первый трамвай, переполненный рабочими. Мастеровые с инструментами за спиной появились из-за угла...» И герою «стало вдруг непередаваемо стыдно».
С «Растратчиками» связано и начало драматургической деятельности Валентина Катаева. В 1927 году по предложению К.С.Станиславского молодой художник на основе повести написал пьесу «Растратчики». Это была одна из тех трех пьес, которыми МХАТ положил начало созданию советского репертуара. Кроме Катаева, театром были привлечены Леонид Леонов, написавший пьесу «Унтиловск», и Всеволод Иванов, создавший драматургическое представление «Бронепоезд 14-69». В прессе всех этих писателей шутливо окрестили: «Три кита первого МХАТ»[3].
Работа над спектаклем «Растратчики» началась в 1927 году. Театр прочитал пьесу по-своему и потянул молодого драматурга в сторону создания обличительного реалистического спектакля. Между тем Катаев стремился к разоблачению старого мира с помощью беспощадно иронического гротеска. «Я хотел написать по повести сатирическую феерию», — говорит писатель.
Спектакль был поставлен в 1928 году. Он не удался.
В том же году театр приступил к работе над новой пьесой Валентина Катаева — комедией-шуткой «Квадратура круга». К.С.Станиславский понял своеобразие драматургического дарования молодого писателя. Он высоко оценил умение Катаева владеть композицией, «жить одним ритмом со своими героями», подчеркивал, что «Катаев великолепный наблюдатель, острый, тонкий», и отмечал, как характернейшую особенность катаевского юмора, его глубокий гуманизм[4].
«Квадратура круга» была поставлена также в 1928 году и затем с огромным успехом шла не только в Художественном театре, но и по всей стране. В скором времени «Квадратура круга» перекочевала за пределы нашей родины и обошла все лучшие, и особенно левые и рабочие театры Европы. Успех пьесы был обусловлен ее остротой, жизнеутверждающим юмором и прозвучавшим в ней требованием борьбы за новые человеческие отношения.
Пьеса Катаева оказалась полемически направленной против многих современных ему произведений о молодежи, авторы которых сокрушались по поводу якобы «великого падения нравов». Писатель показывает своих героев простыми, добрыми и честными ребятами. Он выводит их в очень острый момент личной жизни, когда каждым из них совершена серьезная ошибка, заключен непродуманный брак. Но расходятся Тоня с Абрамом и Вася с Людмилочкой отнюдь не из-за падения нравов. Они не сумели построить семью. Герои Валентина Катаева по-старому жить уже не могут, а по-новому еще не умеют: новые отношения лишь только складываются в советском быту.
Комизм пьесы основан именно на этом реальном противоречия. Драматург показывает новый быт неустоявшимся и пестрым: в нем сплетаются остатки старых привычек и навыков со смешными левацкими крайностями, порожденными огульным отрицанием всего, что было прежде. По старинке, налаживая «канареечный уютик», вьет свое гнездышко с любимым Людмилочка. Она просто подражает старому. Отсюда все эти занавесочки и коврики, старомодные нежности, выраженные в сентиментально-мещанском стиле. Это и приводит к тому, что Вася бунтует против формы их отношений. Ошибка его, однако, в том, что он не видит ни нового человека, ни подлинных чувств, которые скрыты за шелухой старых слов и старых бытовых навыков. Людмилочка вовсе не мещанка и тоже стремится жить по-новому. Вполне справедливо на упреки Васи она отвечает: «Подумаешь, его засасывает мелкобуржуазное болото. А меня не засасывает? Кто говорил и то и се: и «будем, Людмилочка, вместе строить новую жизнь...» Где твое все, я тебя спрашиваю? — требовательно восклицает героиня. — Нет того чтобы научить чему-нибудь хорошему». И действительно, в их семейные отношения Вася не сумел внести это «свое» — новое, комсомольское начало.
Семейная жизнь Абрама и Тони представляет собой другую крайность. Она построена на полном отрицании всего, что было в старой семье, даже самых естественных вещей, таких, как необходимость починить одежду или сварить обед. Абрам, не выдержав голода и взбунтовавшись, кричит Тоне: «Хочу большой кусок мяса... хочу молока, хочу жиров... витаминов... Ты же все-таки моя жена, так я тебе заявляю совершенно конкретно: я хочу лопать...» Но Тоня непреклонно отметает его попытку вернуться к «устаревшим» формам быта. Отстаивая свою независимость, свое равноправие в семье, она твердо говорит мужу: «Я тебе не жена-рабыня, а свободная подруга в жизни и товарищ в работе». Драматург сочувствует ей в существе этого протеста против старой семьи, но осмеивает его «ультралевую», «сурово-аскетическую» форму, иронизирует над высокомерным отношением своих героев к «мелочам быта».
Катаев проявил себя мастером комедийного жанра, широко и умело использовав в «Квадратуре круга» комизм положений, ситуаций, в которые попадают герои. Это не только традиционный комизм недоразумений, веселых водевильных путаниц и ошибок, но также и комизм противоречия между сутью явлений и формой, в какой они выступают. В «Квадратуре круга» речевая характеристика построена на обнажении юмористического несоответствия между переживаниями, чувствами героев и теми словесными формулами, какими они пользуются, — старыми сентиментально-бытовыми у Людмилочки и Васи, ультрановыми, ультраделовыми, социально-экономическими у Тони и Абрама.
Две последующие комедии, написанные позднее, уже в начале 30-х годов, — «Миллион терзаний» (1931) и «Дорога цветов» (1933), — несомненно и по творческой манере, и тематически также примыкают к сатирическим произведениям Катаева. Издеваясь над различными проявлениями ненавистного художнику мещанства, В.Катаев утвердил на сцене новый по своему духу и направленности советский водевиль: острый, непримиримо обличающий мир собственников, их жизненные «идеалы», чувства, мысли, их быт.
Значение сатиры Валентина Катаева во второй половине 20-х годов в том, что оружие смеха художник неизменно направлял против буржуазно-реставрационных взглядов.
III
Роман «Время, вперед!» положил начало новому этапу в творчестве Катаева. Теперь в центре повествования встал главный герой эпохи — советский человек, труженик и созидатель, показанный уже не только в быту, но и в основных своих делах, в самом процессе строительства социализма.
В годы, когда формировался замысел романа, в стране начиналась величественная и суровая борьба за социалистическое переустройство народного хозяйства, всей народной жизни.
Партия и правительство всемерно помогали писателям включиться в социалистическое созидание. Центральные газеты и журналы систематически посылали литераторов на производство и в колхозы, организовывая выезды целых бригад на крупные новостройки.
В 1929 году «Литературная газета» вводит специальный отдел — «Писатели на фронте соцсоревнования». Журнал «30 дней» организует выезд писателей в образцовую сельскохозяйственную коммуну «Герольд». Результатом поездки явился очерк Катаева «Путешествие в страну будущего» (1929) и пьеса «Авангард» (1929), драматургический узел которой заключался в борьбе за создание сельскохозяйственной коммуны в столкновении с классовыми врагами. Творческие интересы писателя, однако, вели его на производство, в рабочую среду, его захватывали проблемы развертывающейся индустриализации страны, размах событий, героический их пафос.
Вместе с Демьяном Бедным, с которым его в эти годы связывала творческая дружба, Катаев в 1930 году побывал на Днепрострое, написав очерки для «30 дней», затем на Ростсельмаше и, наконец, у горы Магнитной на Урале.
Вся страна жила великими задачами, поставленными Коммунистической партией, жила этим и советская литература. В начале 1930 года Маяковским был написан «Марш времени». Катаев вспоминает о встрече с поэтом, когда тот прямо на улице, «в ритм своих стремительных шагов» прочел ему знаменитый марш: «Это было поэтическое выражение чувств, владевших советским народом, который, начиная великие свои пятилетки, делал первый могучий бросок в будущее»[5]. Стихотворение отвечало мыслям и глубочайшим переживаниям самого Катаева. «Я сказал, — вспоминает писатель, — чудесное название для романа — «Время, вперед!». Мы опережаем время нашими стройками, жизнью, развитием. Это вы правильно нашли.
Маяковский ответил:
— Вот вы и напишите. Я романов не пишу.
...Я попал в Магнитогорск. И увидел бригады, темпы. Романа еще не было, но я знал, что напишу «Время, вперед!»[6].
В Магнитогорск Катаев приехал как корреспондент «Рабочей газеты». Он принимал участие также и в работе газетных бригад «Экономической жизни», помогал переносить опыт магнитогорской стройки на другие предприятия.
Над романом Валентин Катаев работал около двух лет, опубликовав его к концу 1932 года. Это было одно из первых произведений о стройках пятилетки. В конце 1930 года появились документальный «Рассказ о великом плане» М.Ильина и роман Леонида Леонова «Соть», где речь шла о том, как под могучим натиском нового отступает таежная, кондовая Русь. Мариэтта Шагинян в феврале 1931 года закончила «Гидроцентраль» — роман об электрификации народного хозяйства Армении, изобразив на этом фоне ломку всех старых социальных и личных отношений, обрисовав судьбы героев, живущих уже в «новом атмосферном слое». А в 1932 году Константин Паустовский, обратившись к документальной прозе, в книге «Кара-Бугаз» рассказал о строительстве крупного промышленного комбината, о крушении вековечного косного быта кочевников, о том, как в пустыню ворвалась машинная техника, пришли новые люди — большевики. Роман «Энергия» Федора Гладкова, посвященный Днепрогэсу, в том же 1932 году говорил о днях и трудах партийного руководства на крупнейшем строительстве.
«Время, вперед!» — роман-хроника, как назвал его автор, — рисует всего лишь один день на строительстве огромного промышленного центра на Урале. Но в событиях этого дня встает героическая эпоха первой пятилетки.
Одна из существенных черт романа — острое чувство патриотизма, чувство гордости революционной родиной, пронизывающее всю книгу, от начала до конца.
Катаев показывает, что становление социализма происходит в кипении страстей, в ожесточенной борьбе нового со старым. В центре романа — образ строителя Маргулиеса, человека подлинно творческого размаха, новатора. Его столкновение с одним из руководителей стройки, инженером «академической закваски» Налбандовым, — это столкновение передового и консервативного направлений. Налбандов — против «рискованных экспериментов», против «варварской быстроты работы». Он ненавидит Маргулиеса за то, что «слишком смело и неуважительно ревизовали на шестом участке законы. Слишком нагло подвергали сомнению утверждения иностранных авторитетов и колебали традиции».
Переходя на скоростной метод работы, молодой инженер учитывает не только техническую сторону дела, но и внутреннее состояние людей, энтузиазм бригады. Налбандов способен лишь иронизировать: «Энтузиазм — быть может, это и очень красиво, но малонаучно». Для Маргулиеса — «понятие энтузиазма входило одним из элементов в понятие техники». Он видит не безликую массу рабочих, как Налбандов, а творческий коллектив, то есть богатство и разнообразие индивидуальностей.
На протяжении всего романа писатель показывает, как духовно обогащаются люди, объединенные коллективом. На шестом участке возникает соревнование бригад. Недавно сформированная бригада Ищенко прилагает все силы, чтобы подтянуться до уровня передовых. Наблюдая за бригадой Ермакова, Ищенко впервые начинает анализировать весь процесс бетонирования: подмечает ошибки, ищет слабые звенья и способы, какими их можно укрепить, — он мыслит.
И то, что находят Ищенко и его бригада, дает толчок дальнейшему подъему труда на всем строительном участке. Настил для бесперебойного подкатывания тачек помогает другому герою, Ханумову, внести новые усовершенствования в производственный процесс. Он не только замечает недостатки в конструкции бетономешалки, но и находит простой способ их исправления. Важнее, однако, иное: Ханумов добровольно отдает свою «находку», свой секрет сопернику Ищенко, когда тот ставит мировой рекорд. В этом поступке раскрывается внутренняя сила нового человека, его душевное богатство. Ханумов захвачен общей работой, «минутами он забывал, что это была не его бригада». Индивидуалистические соображения уже стали узки, как старая, не по росту, одежда для героя, который почувствовал себя членом созидающего коллектива.
Однако Катаев не только утверждает новый мир. Роман «Время, вперед!» ведет наступление, полемизирует, сатирически осмеивает все обветшавшее, отживающее, тормозящее поступательный ход истории. Лирико-романтическому образу юной Советской страны в романе противопоставлен сатирический образ старого мира, воплощенный в стране доллара.
Раскрывается эта тема в судьбе американского инженера Томаса Биксби, который в качестве специалиста приглашен в Советский Союз на строительство металлургического комбината. «Фома Егорович», как его дружески называют на участке, честный трудовой человек, представитель зарубежной служилой интеллигенции. Трагедия его в том, что он отравлен воззрениями и идеалами собственнического мира. Его жизненная задача — скопить двадцать тысяч долларов, открыть строительную контору, «положить первый камень будущего богатства...». Банковский кризис разрушает мечты Томаса Биксби, он теряет накопленные тяжким трудом деньги. Здесь терпит крах не только человек, но и порочный жизненный принцип.
Подобно ему, обмануты и обокрадены и те герои романа, которые, живя в Советской стране, все еще пытаются руководствоваться буржуазными жизненными принципами: так, Клава Корнеева бросает любимого человека и уезжает к нелюбимому, потому что мечтает о «роскошной жизни» на курорте, боится «пропустить такой исключительный случай». Катаев воплощает глупое, пошлое, мещанское счастье в сатирическом гротеске, аляповатой полотняной декорации, — мавританский замок «кондитерской белизны» и «малахитовые кипарисы», выстроенные «безукоризненным частоколом вдоль идеального канала», — которая служит фоном для снимков у провинциальных фотографов.
В романе «Время, вперед!» плодотворно соединились две струи раннего катаевского творчества — романтическая и сатирическая. Романтика утверждения молодого революционного мира утратила здесь тот несколько книжный характер, который был присущ югростовским рассказам, и обрела реальные жизненные черты. То же самое произошло и с катаевской сатирой. В романах и рассказах «гудковского» периода она зачастую принимала гротескно-гиперболические формы и переходила даже в сатирическую фантастику. Теперь писатель сатирически осмысляет, казалось бы, обыденные явления, детали повседневного быта и деятельности своих героев.
Волнующая поэтичность первых дней начавшегося социалистического строительства определила и новый для катаевского творчества лирико-романтический пейзаж. С его помощью писатель показывает действительный мир, окружающий героев, находящимся в непрерывном развитии, в процессе неисчислимых изменений. Пейзаж романа передает грандиозность масштабов того, что свершается на строительстве. «Все в дымах и смерчах, в бегущих пятнах света и тени, все в деревянных башнях и стенах, как Троя, — оно плыло, и курилось, и меркло, и снова плыло движущейся и вместе с тем стоящей на месте, немой панорамой!»
В романе возникает целый мир вещей, невиданно огромных, могучих: «Бежали и поворачивались облакам навстречу верхушки буровых вышек», «на горе рвали руду — летали пудовые осколки», «повсюду были железнодорожные переезды, семафоры, шлагбаумы, шипенье и пар». Вот в степи виднеется какой-то кубик или, скорее, цинковый ящик, поставленный торчком. А вблизи он «вдруг четверть степи закрыл и полнеба... Громаднейший элеватор... люди под ним ходят совсем крошечные». Все детали катаевского пейзажа в романе грандиозны, вещи, казалось бы, созданы руками великанов. Капиталист мистер Рай Руп, путешествующий по Советской стране в качестве туриста, невольно испытывает страх перед величием непонятного ему нового мира, зло и раздраженно восклицает: «Вавилон, Вавилон!»
Но советские люди спокойно властвуют над этим великолепным и грандиозным миром, который они сами деятельно создают.
Среди романов о социалистическом строительстве начала 30-х годов «Время, вперед!» Катаева занимает важное место. Художник-реалист нарисовал с исторической точностью портреты людей того времени и рассказал о их трудовом подвиге. Ведь обогнать время означало обогнать войну, которая уже нависла над Европой. В обращении Магнитогорского горкома ВКП(б) к рабочим в самом начале 1931 года говорилось: «Магнитогорский гигант, который мы строим, имеет огромное народнохозяйственное и оборонное значение для страны. От успешного окончания строительства Магнитогорского комбината в значительной степени зависит дальнейшее развертывание индустриализации, особенно таких районов, как Сибирь, Казахстан, Урал...»[7] Деловой и политический смысл призыва был предельно ясен: успеть индустриализовать крестьянскую Россию до того, как грянет военная буря. Валентин Катаев, взяв из жизни эту главную проблему первой пятилетки, сделал ее основой романа «Время, вперед!». Книга о Магнитогорске, о строительстве одного из первых гигантов социалистической индустрии, завершала целый период в художественном развитии писателя.
IV
За годы первой пятилетки Советский Союз превратился в могучее, передовое государство, способное противостоять любым историческим испытаниям. А тень войны уже наползала на мирные наши селения и города. В Германии в 1933 году к власти пришли фашисты. Летом 1936 года началась военная интервенция Германии и Италии против Испанской республики.
В условиях чрезвычайного обострения международной обстановки, усиления фашизма на Западе наша литература обратилась к разработке героико-патриотической темы.
Книги А.Толстого, С.Сергеева-Ценского раскрывали величие побед русского оружия, говорили о стойкости и мужестве русского народа в борьбе с иноземными захватчиками.
Советские писатели снова вглядывались в героические события гражданской войны, рисуя образы талантливых революционных полководцев, выдвинутых из недр самого народа. Об этом говорили романы А.Фадеева «Последний из удэге», Вс.Иванова «Пархоменко», А.Первенцева «Кочубей» и др.
Валентин Катаев разрабатывает особый раздел в общей героико-патриотической теме. Созданные им во второй половине 30-х годов повести «Белеет парус одинокий» (1936) и «Я, сын трудового народа...» (1937) пронизаны общим для них патриотическим пафосом, взволнованной любовью к родной земле, к ее простому трудовому человеку. Но самое главное, обе утверждают непобедимость нашей революции.
Первые подступы к созданию повести «Белеет парус одинокий» делались писателем еще в 20-е годы. В рассказах «Родион Жуков» и «Отец», написанных в 1925 году, художник настойчиво ищет подход к разрешению темы, ищет героев, которые могли бы стать носителями основной идеи будущей книги. В «Отце» писатель вновь обращается к бурным дням гражданской войны. Но революционная действительность служит здесь лишь внешним фоном, на котором развертывается «извечная» драма взаимоотношений двух поколений, отцов и детей.
Добрый, слабый, дряхлеющий отец, полный самозабвенной любви к юноше-сыну, охваченный вечной тревогой за его судьбу, и сын, полный жажды жизни, бездумно-эгоистически поглощенный собой, интересами молодости, где отцу уже не находится места. Лишь когда тот умирает, сын ощущает и всю горечь утраты, и всю свою бессознательную жестокость, и то, что его собственная молодость закончилась со смертью отца. Такова жизнь, как бы говорит писатель, — «удивительная, горькая и прекрасная, обыкновенная человеческая жизнь. Чудесная, ничем не заменимая жизнь!».
Но писатель и сам чувствовал, что жизнь эта была иной, она не ограничивалась домашним миром Синайских, который хотя и испытывал могучие толчки извне, но оставался в рассказе замкнутым и нерушимым. Выйти за пределы этого узколичного мира на простор больших исторических событий Катаев попробовал в рассказе «Родион Жуков».
Здесь в центре повествования художник поставил большевика-революционера. Но в обрисовке этого образа сказались еще недостатки, характерные для романтических героев ранних рассказов Валентина Катаева. Родион Жуков после подавления восстания на броненосце «Потемкин» предстает, по существу, романтическим бунтарем-одиночкой. И потому здесь закономерен трагический конец — гибель героя, от чего писатель отказался в повести «Белеет парус одинокий», где вновь появляется Родион Жуков.
В 1932 году Катаев вместе с Евгением Петровым и Ильей Ильфом был привлечен к работе в газете «Правда». Здесь он печатает рассказы («Сон» и др.), статьи и очерки на историко-революционные темы (о Фрунзе, о Музее В.И.Ленина) и множество фельетонов. Именно в «правдинский» период окончательно сформировался замысел новой повести.
«Белеет парус одинокий» рассказывает о событиях 1905 года. И тема революции в этой поэтичнейшей из книг советского художника неразрывно переплетается с темой юности, первого познания мира.
Двое маленьких героев повести — Гаврик Черноиваненко и Петя Бачей — очень быстро улавливают какое-то неблагополучие, неправильность в окружающей их жизни, и в чистых душах детей постепенно крепнет ненависть к страшному и порочному собственническому миру. Художник раскрывает, как органически и необходимо революция — эта поэзия действительной жизни — сочетается с глубоким стремлением юности к правде и добру.
Неясная вначале мечта мальчиков о подвигах, о героических деяниях постепенно кристаллизуется, находит себе опору в реальности. Так, видение броненосца «Потемкин» захватывает и волнует воображение Пети Бачея: «Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный броненосец на горизонте... Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далекий дымок». Символом революции входит в сознание мальчика образ героического корабля. А для Гаврика таким символом становится также и таинственный «комитет», к удивительным и опасным делам которого был причастен его старший брат Терентий. Случалось, и сам Гаврик с гордостью и тщанием выполнял поручения «комитетчиков».
Гаврику и Пете постепенно открывается неизбежность перемен. Революция необходима народу — с нею все лучшие люди, все, кого они уважают, любят: и ласковый Гавриков дедушка, этот подлинный труженик моря, и смелый, мужественный Терентий, и добрые, честные родные Пети. Катаев мастерски рисует процесс становления революционного сознания своих героев. Он поэтически раскрывает их внутренний мир, показывая, что наряду с забавными детскими поступками и мыслями у маленьких людей возникают серьезные и глубокие раздумья и переживания, что, как и взрослые, они способны на смелые, благородные дела. Каждый из них проходит через свои собственные испытания, получает жизненную закалку, внутренне мужает.
Живым воплощением силы и непобедимости революционного дела в новой повести является образ Родиона Жукова, матроса мятежного броненосца «Потемкин». Это уже не бунтарь-одиночка, как в рассказе, а большевик-»комитетчик», связанный с народом неразрывными узами. Он выражает дух революции наступающей, развивающейся. А трудности борьбы, неизбежно жестокой, требующей жертв, как раз и составляют ее реальную романтику.
Повесть полна оптимизма, веры в победу. Знаменательна сцена, когда Петя Бачей пробирается с грузом патронов в осажденный дом, где засели большевики-»комитетчики» и сражаются с превосходящими силами полиции и карателей-казаков. Дело идет к развязке. Но у «комитетчиков» нет и тони паники, настроения обреченности. И Терентий, и Родион Жуков, и другие участники схватки полны несокрушимой боевой энергии. У матроса «отчаянные, веселые» глаза «жарко блестели под побелевшими от извести колосистыми бровями. У него был вид человека, занятого какой-то очень трудной и, главное, очень спешной работой...». Маленькая боевая группа вынуждена отступить, когда против нее пускают в ход артиллерию. Но Петя понимает: борьба продолжается. Большевистский «комитет» жив. Организующая его воля ощущается повсюду: и в боевой рабочей маевке, и в величественной демонстрации, в которую превратились похороны старого рыбака Черноиваненко. В этих сценах писатель раскрывает мощь народного гнева, решимость трудовых людей — бороться и победить. «За нами не пропадет, — говорит Родион Жуков. — Все равно всю Россию подымем». Навстречу новым испытаниям идет большевик-матрос, и парус его шаланды вдали на горизонте невольно вызывает в памяти гордые слова лермонтовского стихотворения:
А он, мятежный, просит бури, Как будто в бурях есть покой!Обращение советского писателя именно к этому стихотворению не случайно. Лирико-героический образ мятежного паруса проходит через все повествование, подчеркивая его основной мотив — преемственность революционных традиций, вечно живых, развивающихся, непобедимых.
С темой революционно-патриотической были связаны и дальнейшие творческие замыслы художника. Он намеревался написать продолжение повести «Белеет парус одинокий», рассказать о новом подъеме рабочего движения. В конце 1937 года Катаев говорил: «Мечтаю засесть за роман «Хуторок в степи». Время действия 1910 — 1915 годы. Место — Одесса. Герои — мои старые приятели Петя и Гаврик. Материалы почти все собраны, но еще не совсем организованы. Думаю закончить «Хуторок в степи» осенью»[8].
Однако к осуществлению этого замысла писатель приступил только через семнадцать лет — в 1954 году. События огромной исторической важности отвлекли художника к иным темам.
В повести «Я, сын трудового народа...», опубликованной в ноябре 1937 года, явственно звучит тема обороны социалистической отчизны, тема родины. Борьба героев за простое человеческое счастье неизбежно приводит их к борьбе за общую долю народную, за победу революции. Иного пути нет — в этом убеждается солдат Семен Котко, украинский селянин. Октябрьская революция освободила его из окопов первой мировой войны, наделила землей. И принял эти перемены герой как установление правильного и справедливого жизненного порядка, еще не понимая, что завоеванное счастье надо защищать.
Беспощадная логика событий вскоре показывает герою повести всю глубину его ошибки. Старый, жестокий мир отнюдь не «замирился» с народом; он делает яростные попытки снова захватить власть над трудовыми людьми.
Повесть построена на резком контрасте между доброй, веселой, поэтической стихией народной жизни и всем тем гротескно-жестоким, уродливым, что несет с собой старый мир, вновь пытающийся возродиться к жизни. Лирично рисует Катаев быт украинского села, раскрывая его внутреннюю красоту. Возвращение Семена Котко к повседневному труду знаменует его включение в тот нормальный ход общенародного повседневного бытия, от которого он был оторван империалистической войной.
Но в простую, добрую жизнь села врываются силы реакции, всяческие гайдамаки, помещики, немецкие оккупанты. Историческое существование их иллюзорно. Однако герою повести вновь приходится взяться за оружие, стать солдатом и идти защищать и свой дом, и долю народную.
В дни, когда реакционные силы всего мира готовились к новому нападению на Советский Союз, повесть Валентина Катаева «Я, сын трудового народа...» прозвучала поэтической присягой на верность социалистическому отечеству.
В 1939 году гитлеровские войска ворвались в Польшу. Угроза фашистской оккупации нависла над Западной Украиной и Западной Белоруссией. Советское правительство выступило на защиту их населения, брошенного на произвол судьбы польским буржуазно-помещичьим правительством.
В качестве специального корреспондента «Правды» В.Катаев участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию и в цикле очерков рассказал о всем виденном и пережитом. Трудовые массы западных областей получили из рук Советской власти свободу и землю. И белорусский крестьянин на рубеже 40-х годов, подобно Семену Котко в 1918 году, готов был с оружием в руках защищать свое право владеть этой долгожданной землей.
Тема борьбы за власть Советов становится основной, ведущей темой зрелого периода в творчестве художника. Она определяет героическое звучание произведений, написанных им не только в канун войны, но и во время ее, и в послевоенный период.
V
В грозовые дни Великой Отечественной войны вся страна поднялась на борьбу с германским фашизмом. Сотни литераторов превратились в воинов Советской Армии, сделались ее строевыми командирами, бойцами народного ополчения, работниками низовой красноармейской печати и корреспондентами центральных газет. «Всегда и везде, — писал Валентин Катаев, — в самые трудные, в самые грозные, критические минуты советские писатели были с народом. Они делили с миллионами советских людей невзгоды и лишения трудных военных лет». И правдивый голос нашей литературы «не умолкал ни на один миг, гремел, призывая советских патриотов к победе, поднимал их на подвиг...»[9].
Во время войны Валентин Катаев — военный корреспондент «Правды» и «Красной звезды». Он выезжает на фронт, становится свидетелем и участником ряда крупных сражений: на Волоколамском направлении, подо Ржевом, на Орловско-Курской дуге. Вместе с Василием Гроссманом довелось Валентину Катаеву побывать и под Уманью, где он был свидетелем перехода через болота армии Конева. Писатель принимал участие в боях под Кодымой, под Яссами.
Годы войны были для Катаева периодом напряженной творческой работы. Он выступает с корреспонденциями и очерками, пишет рассказы, повести «Жена» (1943) и «Сын полка» (1945), публикует фельетоны в «Правде», в журнале «Крокодил».
В военной новеллистике писателя 1941 — 1942 годов — «Флаг», «Лейтенант», «Партизан», «Третий танк» и др. — и в тематически примыкающих к ней рассказах, написанных непосредственно после окончания войны, в 1946 — 1947 годах, — «Виадук», «Отче наш», «Новогодний рассказ» — явственно проступают две тематические струи. Героика выполнения революционно-патриотического долга — первая из тем военной прозы Катаева, вторая — тема человечности, справедливости и нравственного величия советского народа-воина.
В одной из послевоенных статей — «Великие слагаемые»[10] — Катаев говорит о своем понимании корней великой исторической победы, одержанной над врагом: «Мы победили потому, что нет таких жертв, которые не был бы готов принести каждый советский человек во имя нашей великой цели...» Победа «сложилась из тысяч больших и малых побед в тылу и на фронте», в основе которых лежала «великая нравственная сила простого советского человека... верного сына своей социалистической родины».
Герои его рассказов — и юноша-летчик («Лейтенант», 1942), и генерал, командующий операцией во время битвы за Орел, и девушка-радистка, и писатель, корреспондент военной газеты («Виадук», 1946), и бригада артистов, выступающая на переднем крае («Третий танк», 1942), — все они, но задумываясь и не колеблясь, выполняют свой патриотический долг, выполняют так же просто и естественно, как дышат воздухом родных полей, радуются ясному родному небу, как любят прекрасную свою землю.
Художник тонкими психологическими штрихами подчеркивает, что советский патриотизм не требует от его героев аскетического самоотречения, нет, он их органическая и глубоко человечная душевная потребность. В оккупированном городе, рискуя жизнью не только своей, но и ребенка, прячет раненого подпольщика героиня «Новогоднего рассказа» (1947). Ощущение прочной внутренней связи со своим народом наполняет сердце подпольщика радостью, придает ему новые силы для борьбы.
Поэтичный рассказ военных лет — «Флаг» (март, 1942) — повествует о героической защите маленького гранитного островка, осажденного врагом со всех сторон. Когда фашисты предлагают гарнизону сдаться, над крепостью взвивается гордый стяг. Противник, принявший его в предрассветном сумраке за символ капитуляции, вскоре убеждается, что «...флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным». В этих словах выражена основная идея не только рассказа, но и всей катаевской прозы 40-х годов.
В рассказах военных лет проявилось зрелое мастерство Катаева, в совершенстве владеющего трудной формой, которая требует не только отточенности всех деталей, но и глубины содержания при скупости и экономности композиции. Каждый рассказ Катаева занимает всего лишь несколько страниц, и построение его предельно просто. Движение сюжета основано на внутреннем драматизме повествования, в раскрытии которого существенную роль играют зачины и концовки. Они обычно образуют лирическое кольцевое обрамление, которое четко отграничивает вполне определенный кусок жизни, взятой в движении, подчеркивает лейтмотив повествования, его лирический подтекст. Так, гневом и горечью окрашены начало и концовка рассказа «Отче наш» (1946), рисующие одну и ту же картину раннего утра в оккупированном фашистами городе. В радиорупоре звучит бодрое пение петуха, затем нежный детский голос «с ангельскими интонациями» желает всем «доброго утра» и «не торопясь, проникновенно читает «Отче наш». Но именно в промежутке между двумя одинаковыми идиллическими утрами заключены трагические события, раскрывающие весь ужас фашистского «нового порядка». В городе идет охота на людей, «подлежащих уничтожению». Страшна и «обыденность» происходящего, и равнодушная деловитость, с которой действуют гитлеровцы.
Характерно, что в повествовании у зрелого Катаева нет чисто описательных, а следовательно, статичных деталей. Все они внутренне взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. Так, например, в рассказе «Флаг» подробности описания того утра, в которое защитники крепости дали последний бой врагу, воссоздают реальные условия предрассветных сумерек, когда только и могла произойти ошибка противника. Флаг на острове казался «совсем темным, почти черным». Рассвет усугубляет напряжение событий: малиновое солнце «повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо». Смена красок в этом пейзаже отнюдь не самоцель, не игра световых пятен, но выявление своеобразия реальных условий, в каких протекают события рассказа, — тех условий, которые в жизни всегда конкретны, не похожи друг на друга и, что самое главное, не безразличны для судеб людей.
Детали повествования у Катаева всегда точно и ясно определяют характер развертывающихся событий. Летняя гроза, описанная в рассказе «Виадук», когда «все окуталось темным и душным дымом ливня», а «предметы, люди и формы местности потеряли очертания — стали дымчато-серыми» и «стеклянные иглы ливня косо пробежали по колено в ручье, заставляя его кипеть и дымиться», — играет существенную роль в развитии сюжета, так как ставит под угрозу боевую операцию, связанную с необходимостью поджечь в поле сырую рожь.
Описания в прозе Катаева динамичны, они служат действию и не только в пределах того или иного эпизода, но помогают развитию всего сюжета в целом, создавая ту непрерывность внутреннего движения, какая характерна для его манеры повествования.
«Хорошая проза, — пишет Катаев, — должна гармонически сочетать элемент повествования с элементом изображения, причем ни один из этих элементов не должен занимать преимущественного положения. Именно в этом и заключается секрет удивительной прозы Пушкина и Чехова, у которых все мы должны учиться»[11]. Классические традиции русского реализма, воспринятые и творчески претворяемые советским писателем, явились прочной основой его мастерства.
С лирико-драматическими рассказами Катаева военных лет тесно связаны две его повести того же времени — «Жена» и «Сын полка».
Первая из них говорит о душевной стойкости советских людей, о той нравственной силе, что помогла им выстоять в дни тягчайших испытаний. Глубоко человечна трагедия молодой советской женщины, потерявшей в начале войны мужа. Картины предвоенной жизни нашей страны воссоздают в повести атмосферу простого человеческого счастья. С этими лирическими картинами резко контрастируют драматические эпизоды военного времени, рисующие неисчислимые страдания, какие принесло гитлеровское нашествие советскому народу. В самом сопоставлении этих двух сюжетных планов выражен протест художника против преступлений фашизма.
Повесть пронизана несокрушимой верой в победу над фашистскими захватчиками. «Они привыкли думать, что правда в силе! — восклицает герой Катаева. — Но, черт бы их побрал, они крепко заблуждаются. Не правда в силе, а сила в правде. А правда — наша; стало быть, и сила у нас». С этим убеждением герой идет в бой.
Другую сторону патриотического подвига советских людей воплощает Катаев в судьбе героини повести Нины Хрусталевой. Раскрывая мир ее переживаний, мыслей и чувств, художник рисует внутренний, «невидимый фронт борьбы советских людей с фашизмом». При мысли о том, что любимого человека «уже не существует на свете. Совсем не существует. Просто нет и больше не будет. Ни завтра, ни послезавтра — никогда», — Нину Хрусталеву охватывало неодолимое желание умереть. Но все же она выстояла в этой внутренней схватке с врагом. Катаев говорит о победе жизни над смертью, а «молодого мира» социализма над старым, обреченным на гибель миром прошлого.
Повесть «Жена» психологична, она построена на детальном анализе душевных переживаний героини. Но образ Нины Хрусталевой обрисован односторонне, лишь в сфере ее чувств, ее отношений с любимым человеком. Осталась в тени другая сторона ее жизни — труд на оборонном заводе. И потому образ этот не получился объемным, ему не дано было той полноты жизни, какая обычно присуща героям Валентина Катаева.
Широкая картина жизни военных лет нарисована в повести «Сын полка», хотя место действия тут и ограничено одной артиллерийской батареей. Герои раскрыты художником и в их внутренних переживаниях, и в основном деле их жизни — в тяжком воинском труде. Все они — подлинные умельцы, тонко знающие свое дело. О разведчиках Катаев говорит: «Никто не мог сравниться с ними в дерзости и в мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили». Охарактеризован в его боевом мастерстве и артиллерист-наводчик Ковалев: «Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. Бывают наводчики хорошие, способные. Бывают наводчики талантливые. Бывают — выдающиеся. Он был наводчик гениальный». Талантливым командиром — осторожным и отважным — выступает капитан Енакиев, один из поэтичнейших образов повести. Писателем большое место отведено рассказу о специфике труда всего боевого коллектива разведчиков, артиллеристов, командира батареи. И труд этот выступает в повести во множестве характерных деталей и художественных подробностей, составляющих основу катаевского мастерства.
Судьба пастушка Вани Солнцева, мальчугана, ставшего сыном: полка, — образное выражение внутренней идеи книги. В суровые дни боев, в разгар жесточайших схваток с врагом у солдат капитана Енакиева находится огромный запас нежности и любви к ребенку, обездоленному войной.
Взволнованное, горячее чувство отцовства разгорается в душах разведчиков и артиллеристов капитана Енакиева. Сначала оно проявляется в стремлении сберечь, защитить юную жизнь от гибели; затем возникает желание сделать ребенка счастливым, дать ему столько радости, сколько это возможно в обстановке непрекращающихся боев с фашистами. И наконец, советские воины осознают, что их высший долг перед «сыном полка» — это воспитать его смелым, отважным сыном родины, передать ему свое боевое мастерство.
В конце повести сам Ваня становится участником событий, которые требуют от него и большой нравственной силы, и подлинного героизма. Во время решающего наступления, когда советские войска с жестокими боями гонят фашистов за пределы Советской страны, батарее капитана Енакиева грозит гибель. В минуту смертельной опасности командир и названый отец пастушка отправляет Ваню в тыл. Но мальчик, поняв всю трагичность происходящего, отказывается покинуть батарею. Он полон глубокой любви и уважения к окружающим его людям, благородного стремления разделить с ними их судьбу и, подобно им, выполнить свой патриотический долг перед родиной. Гордость наполняет сердце капитана Енакиева, когда он «понял все, что происходило в душе этого маленького человека, его солдата и его сына». В суровые мгновенья смертельного боя Ваня Солнцев выдержал испытание и как советский воин, и как советский гражданин.
Произведения Валентина Катаева военных лет, полные взволнованного патриотического пафоса, были первыми откликами писателя на исторические события, приведшие к победе советского народа над фашизмом. Художник рассматривал ее как небывалую в истории, «самую большую победу сил мировой справедливости — добра, любви и правды — над самыми страшными, самыми черными силами мирового зла»[12]. Разработку этой величественной темы он продолжил и в послевоенный период — в романе «За власть Советов».
Послевоенные годы в творчестве Валентина Катаева ознаменовались активным участием в развернувшейся в те годы борьбе против «холодной войны», за мир во всем мире. Вместе с другими советскими художниками слова он выступал с острой, боевой публицистикой.
Поджигателям новой войны посвящены многие из катаевских статей и фельетонов конца 40-х годов: «Ионыч из Вашингтона», «Парижская сюита» (1947), «Идеи коммунизма нельзя убить» (1948), «Заморские басни и советская действительность» (1949) и др. В самом начале 50-х годов он пишет статьи в защиту известных французских писателей-коммунистов, подвергавшихся репрессиям за свои идейные убеждения: «Преступление и наказание», «Лилипуты бесчинствуют».
Важный раздел в послевоенной публицистике Катаева представляют такие статьи, как «Страна нашей души» (1947), «Тебе, родина!» (1948), «Сила нашего государства» (1949) и другие, в которых встает образ Страны Советов — миролюбивой, сильной, спокойно и деятельно залечивающей раны, нанесенные ей войной. Художник говорит о нелегком, но «вдохновенном труде восстановления», о мужестве советских людей, о их неиссякаемых созидательных силах: «Все, что разбито, уничтожено войной, мы на нашей земле возрождаем, возродим, и будет оно краше, лучше, богаче, чем было»[13].
Творческая и нравственная сила советского человека обусловлена, как подчеркивает художник, возникновением нового общественного строя: «Советская власть не только форма государства. Она также и моральная категория»[14].
Эти мысли Катаева нашли отражение в романе, замысел которого возник у него в самом конце войны, после двух поездок на родину. Первая из них относится к апрелю 1944 года, сразу же после освобождения Одессы от оккупации, вторая — к январю 1945 года, когда город герой праздновал свое стопятидесятилетие. Писатель встретился здесь с подпольщиками и партизанами, побывал в одесских катакомбах. Почти два с половиной года город находился под властью оккупантов, и все это время борьба не прекращалась. В городе активно действовали подпольные райкомы, ширилось партизанское движение. Одесские катакомбы дали убежище «множеству вооруженных партизанских отрядов, подпольных комитетов партии, диверсионных групп и просто одиночек».
Первоначально новый роман Валентина Катаева так и должен был называться «Катакомбы». Писатель задумал его как повествование, тематически и сюжетно связанное с повестью «Белеет парус одинокий», как рассказ о жизненном пути людей, принадлежащих к поколению, которое формировалось и мужало в эпоху двух революций — 1905 и 1917 годов.
В середине 1949 года он опубликовал первый вариант романа, названного «За власть Советов», который был подвергнут критике. Это заставило писателя заново переработать книгу.
Валентин Катаев привлек и изучил новые документальные материалы, которые стали доступны для ознакомления лишь в последующие годы, материалы, освещающие партизанское движение и деятельность одесского большевистского подполья. Писатель вновь выезжал в Одессу, встречался с участниками героических событий, изучал архивы Отечественной войны. На этой основе им был создан второй вариант романа, появившийся в 1951 году. В нем художник выдвинул на первый план сюжетные линии, связанные с показом боевых операций и всей массово-организаторской и пропагандистской деятельности подпольного райкома; ввел ряд новых персонажей и углубил образы главных героев произведения.
На страницах романа встает непокоренная, сражающаяся, героическая Одесса. С ее образом связан один из важных мотивов книги — мотив преемственности революционных традиций.
Писатель выводит три поколения борцов за власть Советов: Родион Жуков — старик матрос с броненосца «Потемкин», герой 1905 года; большевики Черноиваненко и Синичкин-Железный — участники гражданской войны и подпольщики в период фашистской оккупации Одессы; и, наконец, младшее поколение — пионер Петя Бачей, комсомолка Валентина Перепелицкая, которые получают свое боевое крещение в одесских катакомбах. Писатель дает в романе образ живой, на наших глазах созидаемой истории.
Глубоко под землей в катакомбах Черноиваненко и люди его отряда то и дело наталкиваются на следы своих предшественников, подпольщиков предоктябрьских лет. Попадаются то остатки костра и рядом чья-то истлевшая одежда, то израсходованные гильзы от пуль, то горка рассыпанного шрифта и «клочки желтой от времени бумаги», указывающие, что здесь в 1905 году была подпольная типография, а позднее работала «иностранная коллегия» — штаб революционного наступления на интервентов и деникинцев. «Какая страшная смертная борьба идет в мире вот уже двадцать пять лет. Четверть века!.. — говорит Черноиваненко своим товарищам. — ...четверть века капиталисты пытаются нас уничтожить, раздавить, загнать под землю... Но мы их били, бьем и будем бить...» Солдат революции, он твердо верит в победу.
Единство, сплоченность советских людей писатель рисует во множестве сцен — и героических и повседневно-бытовых, воплощает в многообразии мыслей и поступков своих героев. В начале романа, когда осажденная Одесса вступает в смертельный бой с наступающими фашистскими ордами, глазам рыбачки Матрены Терентьевны предстает героико-романтическая картина: грузовичок с матросами, «подпрыгивая на выбоинах и чуть не падая на поворотах... на полном газу летел в самое пекло боя...». Она увидела нескольких моряков, «накрест обмотанных пулеметными лентами, в шапках с бешено развевающимися лентами, с гранатами, поднятыми над головой. Один из матросов держал военно-морской флаг. Он летел над ними, не поспевая за движением, шелковым вихрем — что-то голубое, что-то белое, что-то красное, — треща, как пулемет, так что казалось — с грузовика бьет не один пулемет, а два... И все скрылось в удушливых облаках сражения». Флаг, опаленный огнем и обагренный кровью его защитников, отдает в руки мальчугана Пети Бачея тяжело раненный моряк. Сцена эта символична. Под гул канонады в пылающей степи Петя присягает умирающему матросу-большевику в верности боевому флагу родины. И мальчик, как и все советские люди, которые его окружают, и его отец, и Валя Перепелицкая с матерью, и старый ученый Африкан Африканович, и колхозница — комсомолка Наташа Щербаченкова, и старик сторож Яковлев, и скромные служащие Колесничуки, и многие другие герои романа, проносит сквозь жесточайшие испытания верность отчизне.
Наряду с лирико-героической линией в романе возникает и сатирическая, обличительная. «При гитлеровцах и румынских фашистах, — говорит художник, — происходило воскрешение старого мира, которое я всегда высмеивал», Катаев ясно видел и показал, что советский человек «не может дышать этим воздухом, жить в мире частнособственнических отношений». Характерны в этом плане овеянные юмором эпизоды, связанные с историей «комиссионного магазина» Колесничука. Скромный, честный советский патриот по поручению райкома ведет важную и опасную работу хозяина подпольной явки. Во имя дела он соглашается «коммерсовать» вместе с фашистскими спекулянтами вроде Ионеля Миря. Храбрый и стойкий человек, хороший конспиратор, Колесничук, однако, прогорает как коммерсант, не выдержав «кошмара частной торговли», построенной на всеобщем взаимообмане. «Нет, я не рожден для капитализма!» — думает он и испытывает подлинное счастье, попав из оккупированного города в странный, почти фантастический мир катакомб.
Да, фашисты ворвались в наши города и села, но стать здесь хозяевами им не удавалось. У города-героя была мужественная, непокоренная душа. И эту душу составляли простые советские люди, народ, который вел жестокую, непримиримую борьбу с захватчиками. Писатель показывает, как один из подпольщиков, старший Бачей, проходит по улицам оккупированной Одессы, зная, что он «частица этой неумирающей души». И потому он «с бесстрашной уверенностью шел через город, который безраздельно принадлежал ему. Здесь, на этой улице, в эту минуту он, и никто другой, был настоящим хозяином».
Те сцены романа, где речь идет о социалистическом государстве и его людях, окрашивает совершенно особая эмоциональная и стилевая струя. Героическая патетика сменяется глубоким лиризмом. Пейзажи нашей столицы, проходящие через все произведение, — Москвы мирной, солнечной, счастливой и Москвы военной, суровой, готовой к сокрушительному отпору, — глубоко символичны. Они неразрывно связаны с образом борющегося народа, народа глубоко мирного, но превращающегося в сурового воина, когда враг грозит отчизне.
Возвращаясь самолетом в Москву из освобожденной Одессы, Бачеи — отец и сын — пролетают над советской землей и видят, как среди развалин уже сейчас, не дожидаясь конца войны, подымаются леса строек. Радостной картиной начавшегося восстановления писатель заканчивает свой роман.
VI
В середине 50-х годов начался новый подъем литературного движения. После Второго съезда писателей возник ряд периодических изданий — журналы «Иностранная литература», «Москва», «Молодая гвардия», реорганизованная из альманаха «Дружба народов», и др. В феврале 1955 года была утверждена редколлегия журнала «Юность», редактором которого стал Валентин Катаев. Он возглавлял журнал вплоть до 27 января 1962 года. Здесь, в молодой редакции, художник вновь ощутил себя в той живой, деятельной писательской среде, какой была для него некогда среда югростовцев, «коллектива поэтов». Работал Катаев с авторами «Юности» без всяких скидок, не прощал ни идейной, ни стилистической неряшливости, спешки, учил их мастерству. Авторов посылали в «перспективные» поездки за материалом, поглядеть «своими глазами», что делается на заводах, на стройках, в республиках. На страницах журнала густо появлялись новые имена, ставшие всем известными. Но и сам Валентин Катаев по праву выступил автором «Юности» со своими новыми произведениями: «Хуторок в степи» (1956), «Зимний ветер» (1860).
Романы эти составили середину четырехтомной эпопеи — «Волны Черного моря», некогда начатой книгой «Белеет парус одинокий» и хронологически завершавшейся романом «Катакомбы» («За власть Советов»). Все эти произведения, взятые в их сюжетной последовательности, охватывают бурное сорокалетие: от первого штурма самодержавия — революции 1905 года, до разгрома германского фашизма в 1945 году. Связывает воедино все части эпопеи тема развивающейся непобедимой Октябрьской революции.
«Хуторок в степи» и «Зимний ветер» возвращают главных катаевских героев — Петю Бачея и Гаврика Черноиваненко в предоктябрьские годы и годы гражданской войны. Оба романа проникнуты глубоким чувством историзма. Тема надвигающегося Октября раскрывается здесь как тема прозрения рядового человека, как рождение в широчайших народных слоях воли к изменению мира. Об этом-то и говорит В.Катаев, рисуя судьбу семейства Бачей.
К концу 50-х годов в литературе разгорелись споры о том, как изображать рядового человека. Надо ли показывать его с точки зрения «глобальной» или следует изображать в пределах «карты-двухверстки»? Рисовать ли эпические образы, видеть ли в современнике движущую силу истории или говорить об индивидуальных судьбах — и не столько в их своеобразии, сколько в их «особности». Свое понимание образа героя — простого, рядового человека В.Катаев выразил в новых романах.
На фоне грандиозных исторических событий идет обыденная жизнь скромных трудовых людей с их маленькими радостями и большими заботами. Но революция беспощадно ворвалась в дом учителя Бачея. Сам того не ведая, Василий Петрович, отец Пети, вступает на путь борьбы. Написав доклад о творчестве Льва Толстого и прочитав его своим ученикам, он тем самым в глазах «властей предержащих» превратился в опасного бунтовщика («Хуторок в степи»). Бачея изгоняют из гимназии. Под ударами государственной машины он начинает понимать свое истинное положение в обществе — положение «интеллигентного раба».
Нет, «по характеру Василий Петрович не был ни героем, ни тем более мучеником. Он был просто добрым, интеллигентным человеком, мыслящим, порядочным...». Именно потому он и не смог превратиться в бессловесного, покорного слугу правящих классов. «В его представлении «сделка с совестью» являлась пределом морального падения», — говорит Катаев о своем герое. Разрыв со старым миром, с его уродливыми и несправедливыми порядками является для старшего Бачея жизненно необходимым: это единственная возможность «сохранить свою душу живую». Внутренние подземные толчки расшатывают спокойное некогда существование семьи Бачей. От революции нельзя укрыться в «частной жизни».
Катаев-художник умеет с большой психологической точностью выявить и показать различный уровень сознания своих героев. Критерием в оценке «человеческих качеств» героев для него неизменно служит степень их сознательного участия в историческом деянии народа.
Знаменателен внутренний спор прекраснодушного, либерального мечтателя Василия Петровича Бачея с трезвым тружеником революции Терентием Черноиваненко. Спасаясь от нищеты и полного разорения, семейство Бачей арендует хутор, мечтая обрабатывать землю и «кормиться своими руками». Василий Петрович видит в этом осуществление руссоистского идеала. Еще во время заграничного путешествия, попав в горную швейцарскую деревушку, он раздумывает: «Может быть, в этом и заключается настоящее человеческое счастье: жить на маленьком тихом клочке земли, в маленькой хижине, пасти коров, варить сыр, дышать целебным горным воздухом и не чувствовать себя рабом государства, религии, общества. Нет, наверно, был все-таки прав великий отшельник и мудрец Жан-Жак Руссо!»
Но жизнь развенчивает эти прекраснодушные иллюзии. Руссоизм Бачея терпит крах перед лицом спекулянтки, скупщицы мадам Стороженко, которая единолично, как монополистка, регулирует рыночные цены на фрукты и пытается за бесценок закупить весь урожай на хуторе. Спасает Бачеев только вмешательство Терентия Черноиваненко и помощь рабочих с Ближних Мельниц. В разговоре с Терентием старший Бачей, вспоминая все свои злоключения, со вздохом говорит: «С волками жить — по-волчьи выть». И на это Черноиваненко отвечает ему: «С волками надо не жить, а с волками надо бороться. А то они нас с вами съедят, только останутся рожки да ножки». Бачей ясно видит теперь, что его руссоистские мечтания не имеют никакой опоры в реальной действительности.
Герои повести — Петя Бачей и Гаврик Черноиваненко — воспитываются и мужают под прямым воздействием рабочей революционной среды. Жизненный путь Гаврика ясен: юношей он уже встал в ряды борющейся, подлинно революционной партии. В романе «Зимний ветер» герой этот находится среди тех, кто с оружием в руках устанавливает Советскую власть. В образе молодого большевика воплощена радость революционной борьбы, преодоления препятствий, уверенность в победе. Впереди его ждут многие испытания, но он придет на страницы романа «За власть Советов» закаленным и несокрушимо верным коммунизму бойцом, рядовым тружеником великой революции.
Сложнее путь Пети Бачея. В 1917 году, когда фронт трещит и разваливается, а Одессу переполняют части, которые уже бросили позиции и требуют возвращения по домам, — Петя Бачей еще не понимает, что уже началась новая война — война трудовых людей с эксплуататорским строем. Находясь в госпитале, он еще наслаждается ролью «раненого героя» или бежит на свидание, нарядившись в офицерскую форму, уже ненавистную солдатам-фронтовикам, — словом, совершает множество, казалось бы, таких обыденных поступков, которые, однако, в те накаленные дни грозили герою гибелью. Из этого «очарованного» состояния выходит он только под влиянием друзей с Ближних Мельниц, рабочих-революционеров, которые ясно понимают ход истории и увлекают за собой на борьбу и добрые, «вялые души».
Рисуя тревожный переломный период предгрозья и период первых революционных боев, художник говорит о возникновении нового типа «простого человека». Таков Терентий Черноиваненко — подпольщик-большевик. «Хотя его широкое, тронутое оспой лицо мастерового человека было по-прежнему простодушно-грубовато, но Петя почувствовал в нем гораздо больше твердости и внутренней независимости, чем раньше», — замечает писатель, связывая появление новых черт в облике старшего Черноиваненко с его другой, скрытой жизнью, с его партийной работой.
Герои — рабочие-большевики — приносят с собой в повествование особую атмосферу: в романе «Хуторок в степи» — нетерпеливое ожидание решающих схваток, страстное стремление померяться силой с врагом, а в книге «Зимний ветер» — радость прямого, непосредственного делания революции. Уже не в мечтах, не в ожидании, но осязая всю материальность этого неодолимо возникающего нового общества, герои Катаева, такие, как братья Терентий и Гаврик Черноиваненко, как Аким и Мотя Перепелицкие, Родион Жуков и многие другие люди рабочих окраин, начинают переделку привычных форм жизни.
В образах рабочих — революционеров-ленинцев воплощена писателем та жизнедеятельная сила коммунистических идей, которая захватывает и увлекает за собой разнообразнейшие народные слои.
VII
Начало 60-х годов в нашей литературе связано с появлением жанра лирико-документальных повестей. Таковы «Дневные звезды» Ольги Берггольц, «Владимирские проселки» и «Капля росы» Владимира Солоухина, «Ледовая книга» Юхана Смуула, «Страницы воспоминаний» Николая Тихонова и др. Все они объединены общими жанровыми признаками: острым интересом к документальности, к суровой правде исторического факта, к неповторимому его своеобразию, а также высоким лиризмом рассказа-»исповеди», взволнованного свидетельства о нашей эпохе ее современника.
Жанр повести-»исповеди» позволил, обращаясь к своеобразию «личной судьбы», передать своеобразие времени: буйный поток подлинных жизненных событий ворвался на страницы этих книг; в них зашумела, задвигалась толпа реальных героев — многоликая, многоголосая. Знаменательно, что именно усилением лирического начала отличаются все эти повести от документальных произведений предыдущих десятилетий. Личность рассказчика доминирует в этом жанре, придавая историческим событиям яркую эмоциональную окраску. Здесь открыто зазвучал голос не стороннего наблюдателя, а участника событий, того самого современника, который «за все в ответе».
Особое место среди лирико-документальных произведений 60-х годов заняли по праву три повести Валентина Катаева: «Маленькая железная дверь в стене» (1964), «Святой колодец» (1966) и «Трава забвения» (1967), охватывающие узловые события целой эпохи — от начала XX столетия по наши дни.
Замысел первой из повестей связан с поездками писателя во Францию — в 1958, 1960 и 1961 годах, во время которых он посетил памятные ленинские места, чтобы рассказать затем о Ленине в Париже, о ленинской партийной школе в Лонжюмо, откуда вышли будущие руководители и творцы Октябрьской революции. В.Катаев как бы приоткрывает «маленькую железную дверь» в эпоху, ушедшую уже в прошлое. В повести предстает сильная буржуазная Франция — разгромившая Парижскую коммуну и готовящаяся развязать первую мировую войну. Художник заставляет нас увидеть эту эпоху с позиции современников Ленина, вглядеться в нее и понять ее подлинные закономерности.
Характерные детали, реалии эпохи, социального быта в повести отнюдь не статичны, в них запечатлен драматизм внутренних противоречий времени. Да, в этом, казалось бы, таком прочном, устойчивом буржуазном мире, столь крепко слаженном, произошли коренные изменения. Уже становится очевидным безумие самой капиталистической системы.
Знаменателен остросатирический эпизод на площади Биржи, через которую, спеша по неотложным партийным делам, проходит Ленин. Художник рисует конец биржевого дня, когда дельцы уже торопливо разбегались, толкая встречных, на ходу бормоча извинения, «наскоро приподняв над вспотевшей, взъерошенной головой цилиндр или котелок», а «вооруженные швабрами и метелками сторожа в форменных тужурках с энергичной поспешностью вымотали бумажный мусор... Площадь напоминала поле битвы, откуда уже успели вынести убитых и раненых, остались лишь клочья амуниции...». Все резкие, контрастные подробности сцены, все, что видят на биржевой площади зоркие беспощадные ленинские глаза, окрашено чувством глубочайшего презрения к жестокому и ничтожному миру чистогана, непримиримым неприятием его. Сатирическим символом безумия лихорадочной погони за наживой становится делец, которого мы внезапно замечаем в толпе, среди фиакров и автомобилей: он «шел, ничего не видя перед собой, с остановившимися глазами, сжимая в руке биржевой бюллетень, и на его лице был написан ужас. Потухший мокрый окурок сигары торчал из его рта, и капля пота текла из-под цилиндра по лбу, по носу...». В образе этом олицетворен буржуазный мир, потерявший разум. И само грядущее смотрит глазами Ленина на мерзость прошлого, прах которого надо отряхнуть с своих ног.
Но есть и другой Париж — его знает и видит автор вслед за главным героем повести: это Париж Коммуны, мировых революционных битв. На фоне жанровых картин, пейзажей вечного города в повести все сильнее, все явственнее начинает звучать тема непобежденной революции. Все говорит о ней — и площадь Пантеона, похожая на пустынный каменный зал, откуда вынесли всю мебель и «забаррикадировали окна, готовясь к последнему штурму», и задорная политическая песенка, которую лихо насвистывают почтальоны, разбегаясь по всем кварталам города: «Привет, восставший класс! Теперь мы не пойдем вразброд...», и мощная толпа парижских пролетариев, в которой шагают и те, кто дрался на баррикадах Коммуны, и их сыновья — галльские лица, как бы «выточенные из крепкого дерева», с орлиными носами. А среди них художник видит Ленина — человека, который через несколько лет «возглавит первую в мире социалистическую революцию и, главное, доведет ее до полной, окончательной победы». Так в повести сплетаются прошедшее и будущее, две волны революции — расстрелянная, но не сломленная Коммуна и подымающаяся из недр истории, победоносная Октябрьская революция. Во множество каждодневных событий, в пестроте обыденности художник улавливает напряженный ритм времени, неотвратимое движение истории.
Валентин Катаев всегда стремится обнажить внутреннюю, быть может еще скрытую от современников, подлинную тенденцию, направление, в каком пойдет развитие событий. И здесь никогда не покидает его жизнелюбие, вера в победу творческих сил истории. Именно потому острая социальная характеристика, наступательно ироническая, неизменно соседствует у писателя с лирико-романтическими образами, сложными, многогранными, и всегда связующими воедино каждую из катаевских повестей, составляющими их глубинное течение.
К нашим дням обращается художник во второй повести. Глубокое внутреннее напряжение владеет лирическим героем «Святого колодца». Человек ложится на операцию, исход которой предугадать невозможно. Наступают для него тяжкие часы. Собрав все душевные силы, противостоит он грозящей ему гибели. И действие развертывается как полный энергии внутренний монолог, как цепь лирико-философских размышлений героя, а зачастую и открытая полемика с идейным противником. Но все это предстает не в виде публицистических рассуждений, а как поток ярких образов, подымающихся пз глубин сознания человека, реальных картин его жизни. И еще важная особенность повести — это не столько воспоминания о пережитом, сколько сегодняшние мысли, сегодняшние тревоги и радости современника, живущего в сложном, противоречивом мире.
Как всегда — и это характерно для творчества Катаева, — повесть ясно говорит о том, что любит и чего не принимает художник в сегодняшнем дне истории. Он раскрывает основной конфликт времени — непримиримое противоречие между добрым повседневным людским бытием и между тем нечеловеческим, бессмысленно-жестоким, разрушительным, чем все еще угрожают современному миру силы реакции.
Символична встреча героя повести с американскими солдатами, летящими через океан. Казалось бы, это просто «славные малые», добродушные парни. Буднично выглядят рядовые атомщики, что, «сделав или еще не успев сделать свое дело — летят с базы домой в отпуск». Но художник беспощадно обнажает истинную суть явления: атомщики враждебны простой человеческой жизни и сами уже обречены, они лишь призраки, не имеющие реального исторического бытия. Недаром один из солдат все время «прятал свое темное, как бы обуглившееся лицо между двух ладоней, приставленных к иллюминатору»: ведь атомный вихрь не пощадит и тех, кто даст ему начало. О том же свидетельствует и сатирический портрет «обыкновенного американского генерала», преисполненного ложной значимости. «Если бы не его большая генеральская фуражка с американским орлом и маленьким лакированным козырьком... его можно было бы принять за Врангеля, или Колчака, или еще какого-нибудь из контрреволюционных генералов времен интервенции». Как и у тех — «бывших», существование атомщика «высшего ранга» исторически иллюзорно.
Рассказчик в лирико-документальных повестях Катаева — один из ее многих персонажей: он живет вместе с ними общей жизнью, время от времени обретает реальный облик и появляется в толпе героев, как второстепенная фигура, попадая при этом то в грустные, то в смешные переделки. В то же время это — лирический герой, наш мыслящий современник, который стремится философски, идейно охватить процессы действительности, понять их, разобраться в самых сложных явлениях. Он задумывается над опытом прошлого и пристально вглядывается в будущее.
Странствия лирического героя по Америке — «незнакомому континенту» — окрашены грустью. Подобно сверхчувствительной антенне, улавливает герой тревожные сигналы в окружающей его духовной и материальной среде. Вещи здесь вытесняют личность, подчиняют ее себе. На родине героя сильны и определенны как привязанности, так и отталкивания людей. Справедливо или несправедливо, но герой одних любит, других отрицает. Глубоким лиризмом пронизаны картины, связанные с центральным образом повести, — картины нескончаемо долгих, трудных дорог. По героя не покидает ощущение, что рядом родные и близкие существа — его жена, дети, что он не одинок. Вместе с женой останавливаются они на рубеже дня и ночи: «Мы шли очень долго и молча, пока вдруг не очутились на площади, охваченной морозным туманом...» Предощущение возможной разлуки подсознательно воплощается у героя в романтическом образе холодного, почти космического простора пустого аэродрома. Но и в этой пустоте бьется для него живое, любящее сердце.
Совсем иные чувства испытывает лирический герой в заокеанской стране. Американский континент предстает как мир, где люди душевно разобщены. Об этом говорит герою и встреча со своей юностью, с женщиной, которую он некогда любил. «И вот мы опять, как тогда, стояли друг против друга — вот я и вот она, — одни-единственные и неповторимые во всем мире, посреди традиционного американского полуосвещенного холла, где в пустом кирпичном камине бушевало, каждый миг распадаясь на куски и вновь сливаясь, газовое пламя — искусственное и неживое, слишком белое...» Подобна этому искусственному пламени и судьба героини, которая, покинув революционную Россию, бежала на чужбину. Страшное одиночество души, разобщенность с окружающим миром — таков удел этой женщины, неспособной вслушаться в тревоги ни старой, ни новой родины: ведь глуха она к подземным взрывам в атомных ущельях Невады, столь явственно слышным герою.
И, оглядываясь назад на собственную долгую жизнь, герой понимает — было в ней главное: общая судьба со своим народом, с родной землей, с «единственной в мире, неповторимой, трижды благословенной страной моей души».
Сложность формы повести «Святой колодец» определяется большой философской и социальной емкостью ее образов. Частные судьбы отдельных людей, как бы случайно выхваченных из толпы, вырастают под пером художника до высоких обобщений. Рассказ об отдельных людях становится повествованием о судьбах мира; вглубь и вширь раздвигаются рамки маленькой лирической повести, она постепенно обретает эпический характер. «Возвращение» героя означает и победу жизни, и внутреннюю, духовную победу над угрозой атомной войны, над силами реакции. Нет, ничто не может сломить душу человека, которая стала частицей души народа, — говорит своей лирико-философской повестью советский художник.
Третья из лирико-документальных повестей Валентина Катаева — «Трава забвения» — обращается к разработке острейшей проблемы современного искусства, к проблеме — Художник и Революция. Две реальные исторические фигуры поставлены в центре повествования: Иван Бунин — художник, чья трагедия была в том, что он не понял и не принял Октябрьской революции, и Владимир Маяковский — ее трибун, глашатай, поэт, чье творчество принадлежит к искусству бунтарскому, новаторскому, «разносящему Октябрьский гул».
История внутреннего творческого становления лирического героя повести неразрывно связана с этими двумя столь антагонистическими образами людей нашей эпохи: «У них у обоих учился я видеть мир — у Бунина и у Маяковского... Но мир-то был разный».
Герой, пойдя на выучку к Бунину, познает секреты высокого мастерства. Но главный из них, высказанный художником-реалистом: «Наблюдайте окружающий вас мир и пишите», — несмотря на всю его ясность и простоту, как раз и вызывает драматический конфликт между мастером слова и его учеником.
Под влиянием старшего художника герою открывается «неисчерпаемый мир подлинной поэзии». Юноша взглянул на окружающую его действительность острыми, зоркими, даже беспощадными «глазами Бунина» и уловил главное: у него родилось «ощущение жизни как поэзии». Ощущение это завладело им целиком, «потому что я вдруг узнал, понял всей душой: вечное присутствие поэзии — в самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой момент могут превратиться в произведение искусства, стоит только внимательно в них всмотреться».
Однако именно верное следование бунинскому требованию: пристально, внимательно вглядываться в неповторимо-реальную поэзию жизни — и приводит молодого писателя к разрыву с Буниным. Вглядываясь в реальное движение жизни, юноша начинает улавливать, видеть и, наконец, понимать ту неотвратимо возникающую новизну истории, которая остается непонятой, а затем враждебной его учителю. Все изменяется вокруг с небывалой, грозной быстротой: меняются социальные отношения, люди, жизнь. Прошло, казалось бы, совсем немного времени, всего четыре года между двумя встречами учителя и его ученика, — но сменилась уже эпоха. «Четыре года, — говорит старший художник. — Война. Революция. Целая вечность». И лирическому герою повести, теперь фронтовику, немало повидавшему в окопах первой мировой войны, предстает «какой-то новый», «пугающий Бунин», «полностью и во всей глубине ощутивший распад всех связей», тот Бунин, который лишь в слепой и упрямой надежде, что еще возможен возврат к старому, остается в России, «охваченной страшной для него, беспощадной революцией». А лирический горой повести живет ритмами этой революции, радостно ощущая мощное движение времени. И Маяковский для него предстал выразителем новых чувств, новых мыслей небывалой эпохи.
Первые раскаты грядущей Октябрьской бури прозвучали для героя в страстном протесте Маяковского против империалистической бойни: «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия! И на площадь, мрачно очерченную чернью, багровой крови пролилась струя!..» Катаев вспоминает: «Эти строчки пронес я в душе своей через всю войну!» А позднее стихи Маяковского стали для целого поколения и для самого Катаева воплощением радостной силы, жизнелюбия и невиданной новизны Революции: «Ведь одна из моих любимейших вещей Маяковского — «Хорошо!», где в трагическом зареве уличных октябрьских костров так неповторимо-прекрасно «тонула Россия Блока»... заканчивается апофеозом «Жизнь прекрасна и удивительна».
Новизна революции, ломая все преграды, врывалась в искусство. Хотели того или не хотели иные художники, но время было сильнее литературных канонов, эстетских догматов, запретов. Острополемично вплетается в катаевское повествование драматическая история «девушки из совпартшколы», комсомолки, дочери революции. Сначала Клавдия Заремба — лишь объект литераторского наблюдения, безымянная босая девчонка, замеченная героем на берегу моря, девчонка с «дочерна загоревшими худыми ногами, до колен покрытыми перловой крупой еще не успевшего высохнуть морского песка». Но затем она постепенно и властно обретает свою особую жизнь. Герой то и дело сталкивается с нею на крутых поворотах времени. То когда она приходит с обыском в особняк, где живет Бунин: «Она стояла среди матросов и солдат, читая охранную грамоту, в распахнутом армейском полушубке и сибирском белом малахае», держа «в маленькой крепкой руке драгунскую винтовку», «а на темном лице лунно светились узкие, злые и в то же время волшебно-обольстительные глаза». То видит ее в «зале депеш» ЮгРОСТА, на литературных выступлениях «коллектива поэтов» и узнает, что она готовится поступить в Свердловский университет в Москве. То слышит о том, что Клавдия Заремба участвовала в раскрытии крупного контрреволюционного заговора, и молодому писателю открывается история трагической любви этой девушки к главе заговора — офицеру-белогвардейцу, любви, которая была принесена в жертву революционной родине. То встречает ее на лесах одной из крупнейших новостроек в годы первых пятилеток, то надолго, на целые десятилетия, теряет ее из виду, а затем получает письмо из Магнитогорска, где она доживает свои дни, оставшись, однако, все тем же цельным и сильным человеком. «Прощай, старый товарищ. Царапаю тебе потому, что больше никого не осталось из друзей того времени. Вряд ли переживу эту зиму, меня утешают, что я еще встану на ноги, но я чувствую правду. Я ее не боюсь. Привет тебе и братство, как мы говорили друг другу в то незабвенное время. А все-таки наша Революция победила!»
Драматической темой проходит через всю катаевскую повесть история Клавдии Зарембы. Она развивается рядом, постоянно переплетаясь с жизнью самого лирического героя и как бы делая этим обе судьбы стереоскопично-объемными, типическими, при всей их индивидуальной неповторимости.
Пристально вглядываясь в судьбу своей современницы, художник постепенно начинает понимать ее истинный глубинный смысл: это судьба, воплотившая великое время, его драматизм, его пафос.
Уроки мастерства давала художнику сама эпоха. Бунин учил некогда лирического героя мастерству слова, художественному видению мира: «Опишите воробья. Опишите девочку». «Но что же получилось? — спрашивает себя герой повести. — Я описал девочку, а она оказалась «девушкой из совпартшколы», героиней Революции. А Революции меня учил Маяковский. «Опишите Магнитогорск. Время, вперед!» И девушка из совпартшколы, вернувшись из Монголии, превратилась в бригадира бетонщиков и прошла по лесам Коксохима в кожаной старой куртке и выгоревшей на степном солнце красной косынке».
Нет, недостаточно для настоящего художника только описать, зарисовать то, что видишь: рассвет, девочку, прибрежную гальку, — думает лирический герой повести. Опасно, чтобы художественное творчество «перестало быть борьбой и превратилось в простую привычку изображать, в гимнастику воображения». Писатель обязан от поверхности явлений идти вглубь, исследовать противоречивые процессы действительности, чтобы понять движение истории.
Выразить свое время стремились два художника, стоявшие на рубеже новой эпохи, — Иван Бунин и Владимир Маяковский, и «оба взаимно исключали друг друга». Но именно в их духовном противоборстве, в их внутреннем непримиримом антагонизме и раскрывается для героя повести весь драматизм революционной эпохи, вся новизна великих перемен.
Писатель «по-Маяковски» воссоздает картины бурного бега истории, рассказывая о ломке всего старого уклада жизни и о радости строительства нового общества. И образ Маяковского как бы полностью сливается для него с той движущейся обновленной действительностью, с делом созидания, в котором участвовало все их поколение. «Магнитогорск стал для меня городом Маяковского, — говорит писатель, — и я нетерпеливо ждал свидания с первой, уже почти готовой, самой большой в мире домной, стремительно шагающей по строительной площадке в своем железном расстегнутом пальто, на голову выше всех остальных объектов, плывущих в облаках раскаленной степной пыли...»
Лирико-романтический образ поэта, так полно выразившего свое время, как бы оживает в реалиях эпохи, воплощается в них «весомо, грубо, зримо» и с новой силой входит в бытие страны. Так самой жизнью решается спор о «главной тайне поэзии». Она в неразрывной связи с судьбой революционного народа, с родиной.
Мастерство Катаева-художника проявляется как в сложности и остроте идейных конфликтов, определяющих внутреннее движение новых повестей, так и в богатстве, многоцветности того жизненного фона, на котором столь рельефно выступают образы его главных героев. В катаевских книгах предстает нам многоликая, многоголосая народная среда во всем пестром переплетении и взаимосвязях человеческих судеб. Вот писатель дает, казалось бы, беглую зарисовку добрых хозяек тех хат, куда на постой определяют югростовца Пчелкина, разъезжающего по деревням вербовать селькоров. Едва он переступал порог, как, «прижимая к груди поливенную миску с горкой голубого мака», уже спускалась с печи любопытная дивчина, золотистая от загара, как тыква-таракуцка, делая вид, что ничуть не интересуется «молоденьким цикавеньким уполномоченным», и пряча улыбку «телесно-розового ротика», у которого «прилипло к тугой пунцовой щеке белое огуречное семечко». Тут же возникают и образы старых крестьянок, умудренных жизнью, много претерпевших в бурные годы гражданской войны, но не растративших доброты, и материнской жалости, и душевного тепла. Хоть и считают они «журналиста» Пчелкина человеком «канцелярским», но по голубоватому его лицу и «наголо остриженной голове» легко догадываются, что переболел он сыпняком, а потому не жалеют для него «сытной деревенской еды»: «серого пшеничного калача», и «нарезанного кубиками» свиного сала, и кулеша, — еды, давно не виданной в губернском центре, «где люди жили по карточкам, имевшим, скорее, символическое значение, так как по ним почти ничего не выдавалось».
Даже беглая зарисовка у Катаева всегда освещает очень точно схваченное мгновение исторического развития, своеобразием которого художник увлечен. Так, он откровенно любуется, например, причудливой сценой столкновения грозного «красного попа», приехавшего в деревню из центра агитировать «за увеличение посевных площадей», — бывало и такое, — с «местным батюшкой», тихим старичком в «разношенных мужицких сапогах со следами засохшего навоза». С непередаваемым юмором рассказывает Катаев о том, как приезжий поп, возомнивший себя апостолом «с огненным мечом в руке», обличает в лице деревенского попика — «князей церкви». Но комизм сцены этой неразрывно сплетен с драматизмом последующих событий, с кулацким восстанием, предвестием чего служит тяжкое, угрожающее молчание прихожан в церкви: «В воздухе вдруг пролетело дуновение не дуновение, тень не тень», а «нечто до того страшное», что герой повести явственно ощутил надвинувшуюся смертельную опасность. Жизнерадостная тональность повествования у Катаева, его добрый юмор не препятствуют, но помогают художнику раскрывать реальную сложность, а подчас и драматизм человеческого существования. Однако «дуновение трагедии», которое временами ощущают его герои, не мешает им испытывать всю полноту и радость бытия. Мастерство Валентина Катаева как раз в том и заключается, что он всегда заставляет нас почувствовать — да, «жизнь прекрасна и удивительна».
Все три повести Валентина Катаева — и «Маленькая железная дверь в стене», и «Святой колодец», и «Трава забвения» — написаны в особой манере, позволяющей автору, оторвавшись от строго хронологического изложения событий, свободно передвигаться во времени, то заглядывая вперед, в будущее, то возвращаясь далеко в прошлое, чтобы остро столкнуть людей, факты, события, передать напряженнейшую динамику исторического процесса. Но эти внешне, казалось бы, столь свободные, «бессюжетные» повести, в действительности, как всегда у Катаева, обладают строгой, почти классической конструкцией. Все части повествования скрепляет развитие единой поэтической мысли. Лирический лейтмотив в первой повести — жизнерадостное предощущение уже грядущей победоносной революции; во второй — силы и мужества душевного противостояния лирического героя новым угрозам реакции, а в третьей — утверждение поэзии революционного искусства, которое никогда не порастет «травой забвения», вечно живое, яркое, новаторское.
Глубочайший лиризм, добрый и веселый юмор и наряду с этим беспощадный реализм видения действительности — характернейшие черты всего творчества В.Катаева. Определяются они присущим художнику историческим оптимизмом, умением видеть мир в движении, вскрывать новые пласты жизненных событий. Именно благодаря этому Катаев так щедро, так поэтично рисует яркость и многообразие реального мира и душевное богатство своих самых простых героев.
Не потому ли книги Валентина Катаева переведены на языки всех европейских и многих неевропейских народов и выдержали громадное количество изданий?
Произведения его всегда полны духовной энергии. А романтический их пафос обусловлен тем, что писатель-гуманист яркий талант свой целиком отдал поэтическому изображению нового мира, молодости, овеянной Октябрьскими бурями.
Л.Скорино
Рассказы
Весенний звон[15]
I
— Господи, как он вырос, совсем молодым человеком стал. Я тебя помню еще во-от таким малюсеньким. — При этом жест рукой, показывающий пол-аршина от полу. — В каком же ты теперь классе?
— Во втором.
— Такой малюсенький, а уже во втором классе!
Это все, что я о себе слышу от окружающих, и всегда возмущаюсь подобными разговорами. Меня сердит непоследовательность всех этих дядюшек, тетушек, Нин Николаевн и Ольг Эдуардовн, «друзей и знакомых», как пишется в похоронных объявлениях.
Если я «совсем молодой человек», то чего ж удивляться, что я во втором классе? А если я «такой малюсенький», то для чего же говорить, что я «молодой человек»?
Все это в высшей степени противно.
Сам о себе я имею определенное понятие, которое никак не совпадает с мнениями знакомых и родственников. Все они говорят, что я очень милый, симпатичный и развитой ребенок. Мне это льстит, и я готов этому верить, но в глубине души сидит что-то такое, что заставляет меня призадуматься: так ли это?
Подумав хорошенько, я прихожу к убеждению, что я самый что ни на есть обыкновенный второклассник. Учусь отвратительно, но твердо надеюсь на лучшее будущее и считаю свои двойки печальным недоразумением.
У меня есть товарищи: братья Шура и Ваня Горичи, реалист Женя Макаренко и сын дворника Пантелея — Гриша.
Мы все живем на одной из четырех улиц дачной местности «Отрада», связаны между собой узами тесной дружбы и называемся «отрадниками».
Главнейшее наше занятие это азартные игры — бумажки, спички, «ушки» и... разбой, потому что по временам нам кажется, что мы разбойники: бьем из рогаток стекла, дразним местного постового городового Индюком и крадем яблоки в мелочной лавке Каратинского. Разбоем в основном мы занимаемся поздней осенью, почти каждый день, и заключается это занятие в том, что после обеда мы всей ватагой — или, как у нас называется, «голотой» — идем к морю, лазим по пустым дачам, до тошноты курим дрянные горькие папиросы «Муза» — три копейки двадцать штук — и усиленно ищем подходящую жертву. От подходящей жертвы требуется, чтобы она была слабее нас и молчала, когда ее будут брать в плен и пытать.
Одним словом, время я провожу ярко, красочно и в третьей четверти имею четыре официальные двойки, не считая двух неофициальных, переделанных опытным второгодником Галкиным на тройки.
На страстной неделе все это отходит на задний план и растворяется в море новых наблюдений и впечатлений.
Каждый день утром и вечером я хожу в церковь, и каждый день я нахожу в ней что-то светлое, тихое и грустное. Особенно мне нравится церковь вечером. Длинная великопостная всенощная утомляет. Внимание слабеет, мысли расплываются. Хор поет однообразно, однотонно, и лица певчих сквозь голубые волокна ладана кажутся розовыми пятнами. К концу службы я сильно устаю, но усталость эта какая-то славная, приятная. В церковные окна кротко смотрит синий мартовский вечер. Когда же после всенощной я выхожу на воздух, меня охватывает крепкая свежесть весеннего воздуха. Пахнет мокрой землей, нераспустившейся сиренью и еще чем-то неуловимым, тонким, — вероятно, прошлогодними листьями. Я гляжу на чуткие, бледные звезды и на тонкий сери совсем молодого серебряного месяца, и мне становится стыдно, что я продавал старьевщику калоши и газеты, бил стекла и дразнил городового Индюком: хоть и городовой, а все-таки человек.
Я даю себе честное слово навсегда исправиться. И твердо верю, что исправлюсь, непременно исправлюсь.
Мои уличные друзья тоже как-то стушевались, исчезли из поля моего зрения; теперь я с ними почти не вижусь. А если с кем и придется встретиться, то разговариваем больше о предстоящем празднике и мирно мечтаем устроить на первый день крупную азартную игру «в тёпки на орехи».
II
Весна во всем. В палисаднике вскопали и засеяли травой газоны; дворник Пантелей починил подгнившую за зиму скворешню и привязал ее на высоком шесте к тополю. Генеральша из первого этажа развесила у себя на террасе салопы, от которых на всю «Отраду» пахнет нафталином и зеленым табаком. Тетя извлекла из-под диванов узкие вазончики с луковицами гиацинтов, посаженных после рождества. Луковицы пустили сильные зеленые стрелки, и теперь они тянулись к свету, наливались солнцем, и уже на них стали отчетливо заметны пестренькие, голубые, розовые и белые соцветия. Вазоны с гиацинтами выставили на подоконники, и они внесли в дом что-то весеннее, пасхальное.
Вечера светлы и тихи. По утрам заморозки. Днем длинные волокнистые облака тянутся над городом и уходят куда-то за море. В просветах между ними ласково смотрит неяркое весеннее небо. Ненадолго выглянет солнце, скользнет по крышам, блеснет в лужах, отбросив от домов легкие пепельные тени, и скроется; потом опять выглянет.
В городе шумно и возбужденно-весело. Стучат экипажи. Хрипят и кашляют автомобили, зеркальной зыбью начисто блестят вымытые и протертые витрины магазинов. Кричат газетчики. А кое-где на углах уже продают по гривеннику маленькие букетики нежных парниковых фиалок. Пахнет духами и морским туманом. Весь день гуляет тяжелый, опьяняющий ветерок и ласково закрывает людям ресницы.
Впервые ранняя весна имеет для меня столько нежной прелести: я первый раз в жизни влюблен.
О любви я имею вполне определенные понятия, неизвестно откуда залетевшие в мою буйную голову. Любить можно исключительно весной. Это основное. Затем «она» должна быть изящна и загадочна. Объясняться в любви можно, если хватит храбрости, на словах, желательно в старом запущенном саду. А если не хватит храбрости на словах, то письменно на розовой, надушенной бумаге. Если любовь отвергнута, «она» сразу из загадочной и единственной в мире превращается в самую обыкновенную дуру. «И как, как это меня угораздило влюбиться!» Свидания назначаются обязательно вечером и обязательно где-нибудь «на углу». Соперников мысленно вызывать на дуэль и убивать беспощадно, как собак. Вот и все.
III
Светлый облачный весенний день. Большие блестящие лужи подсохли. И на полянах, под каждым кустиком, под каждым деревцом весело зеленеет новая, молодая, необыкновенно яркая травка.
Нынче я причащался, и на душе у меня светло. За завтраком я пью черный кофе с халвой и ем просвирку, потом иду гулять и встречаюсь с Борей Стасиным. Боря Стасин — личность, на мой взгляд, оригинальная. Он учится в одном классе со мной и считается хорошим учеником. Он блондин с высоким лбом, наклоненным верхней своей частью вперед. Нос у него маленький, вздернутый. Глазки голубые, умные. Рот, как у окуня, углами вниз. Он вечно сутулится, вертит длинными худыми пальцами. И сосредоточенно морщится. А когда улыбается, показывает передний зуб, который вырос у него боком. Фуражку надвигает на лоб, так что сзади поля так же приподняты, как и спереди. К «отрадникам» не принадлежит по причине трезвого взгляда на жизнь. Реалист и скептик до мозга костей. Мечтает сделаться корабельным инженером и часто шляется в порт. Я его люблю и считаю лучшим другом.
— Ты куда?
— В порт. Там, говорят, новые миноносцы пришли, трехтрубные. А ты?
— Я на море.
— Зачем?
— Мечтать.
— Гм! Скажите, чего же ты это вздумал мечтать?
Мне трудно ему объяснить, почему именно я вздумал мечтать, а потому я неопределенно роняю:
— Так.
Боря хитро щурится и показывает передний зуб.
— Может, пойдешь со мной в порт?
— Не.
— Идем, интересно: трехтрубные.
Сердце мое полно любви и счастья. Хочется с кем-нибудь поделиться. Боря — самая подходящая жертва: будет молчать, слушать и соглашаться.
— Ну ладно. Идем.
Мы проходим по весенним улицам и разговариваем о пустяках. Язык у меня чешется нестерпимо, и страстно хочется рассказать ему все: что ее зовут Таней, что я влюблен, что мне грустно, но я не знаю, с чего начать.
Приходим в порт.
Пахнет машинным маслом, морской солью, устрицами, теплым железом, пенькой. По гранитной набережной рассыпаны янтарные, граненые кукурузные зерна. Стаи сизых голубей, мягко треща гибкими крыльями, садятся на мостовую, клюют зерна и пьют воду из синих луж.
— Скажи мне, Борис: что такое любовь? — начинаю я издалека.
— Любовь... гм... наверно, это такое чувство, — мямлит Борис неопределенно.
— А ты был когда-нибудь влюблен?
— Конечно, нет, — искренне негодует он. — С какой это радости! А что?
— Да так...
Минуту мы молчим и смотрим, как, плавно огибая маяк, выходит в открытое море пузатый угольщик «Ливерпуль».
— А знаешь, Боря, я влюблен.
— Да-а-а? — тянет Боря с видимым интересом. Он уже привык к подобным разговорам. — Ну и что же? Кто «она»?
— Таня К. Знаешь дачу Майораки? С этой дачи. Такая черненькая... загадочная.
— Так надо, брат, поскорее признаваться.
— Как-то не выходит... Страдаю, знаешь...
— Чего ж ты, чудак, страдаешь?
— Да так. Вообще. Грустно.
— И ты ее любишь?
— Люблю.
Боря насмешливо улыбается и ставит вопрос ребром:
— За что?
— Вот странный! Разве любят за что-нибудь? Хотя... у нее папа художник.
— А сколько ей лет?
— Одиннадцать и два месяца. Но она очень умная. Хочешь на нее посмотреть? Полезем вечером к ним на дачу и посмотрим в окна. Ладно?
— Чего еще? Лезь лучше сам.
— Дурак.
— От такового слышу. Чтобы брюки порвать и чтобы еще садовник шею налупил.
— Не боюсь я садовника. Вчера вечером лазил и брюки не порвал.
— Ну и что?
— Ничего. Стоял у нее под окном и мечтал.
— А она?
— Учила уроки.
— Ты ей нравишься?
— Кажется. Вообще-то я, конечно, успех имею... — Мне еще хочется прибавить «у женщин», но не решаюсь.
Борис смотрит искоса на меня. Я неуклюж, вихраст и черен.
— Да... пожалуй... — говорит он с видом оценщика. — Малость постричься, и тогда ничего. Можно. Ну что ж, желаю тебе успеха.
— Спасибо, тебе тоже.
IV
На праздники из института приезжает домой некто Магда Войницкая. Это добрый гений всех местных романов и сердечных увлечений. Нечто вроде свахи. Она очень хитра, дипломатична, как все институтки. Характером и лицом похожа на мальчика, лазит по деревьям и обожает кадетов. Устройством романов занимается исключительно из любви к искусству. Сразу же пронюхав, что я влюблен в Танечку, начинает деятельно и бескорыстно помогать. Я ее уважаю, но все-таки с ней надо держать себя осторожно.
— Здравствуйте, как поживаете?
Передо мной Магда. Физиономия у нее в высшей степени хитрая, в руках мешок.
— Здрасте. Ничего себе. Куда это вы с мешком?
— На море. Хочу набрать хорошей глины. Буду учить лепить... угадайте кого?
— Таню, — роняю я слово, которое уж три дня вертится у меня на языке.
— Да. Вы угадали. Таню. Именно ее.
Многозначительное «вы угадали» заставляет меня покраснеть и в замешательстве поднять с земли кусочек стекла.
— А вы куда?
— В церковь.
— Бросьте, пойдем лучше со мной. Будете помогать глину нести. О Тане поговорим.
Я опять нагибаюсь за стеклышком.
— Уж поздно, опоздаю.
— Пустяки. Успеете.
В церковь мне нужно, но я — тряпка. Через дачи мы идем к обрывам и наперегонки сбегаем по крутому спуску на берег. За городом садится солнце, и его алый, теплый свет мягко заливает косой парус рыбачьей шаланды и противоположный берег залива — Дофиновку. Штиль. Под берегом вода прозрачна, как стекло, сквозь нее отчетливо просвечивает дно, цветом своим похожее на черепаховый гребень. Бегу и думаю: «Недаром Магда сразу же потащила меня на море, наверное, хочет выведать, «за кем я страдаю». А может быть, сама Таня просила узнать. Неужели? Господи, как я счастлив!»
Магда выбирает из обрыва чистые крупные куски желтой глины и заводит разные дипломатические разговоры:
— Вы знаете, мы скоро ставим «Евгения Онегина»?
— Где?
— В жизни. Вы, конечно, будете играть Онегина, Надя — Ольгу, я — сами понимаете — няню.
— А Таня? — вырывается у меня.
— Ну, Таня и есть Таня, так сказать — Татьяна.
Я ужасно краснею.
— Вы, кажется, очень довольны, что Таня будет играть Таню? — спрашивает Магда, и лицо у нее сияет от удовольствия, что все так хорошо устраивается.
Танечку я люблю сильно, очень сильно, но мне неприятно, что Магда влезла в эту историю. «Какое ей дело?» — думаю я. Мне припоминается фраза, которую я однажды слышал в театре: «По какому праву вы лезете ко мне в душу своими грязными пальцами?»
Я представляю себе, как теперь Магда раструбит про нас с Таней по всей «Отраде». Является непреодолимое желание сказать ей что-нибудь такое, чтобы с ее дипломатической физиономии сползло выражение противного блаженства и ехидства. И совсем внезапно, по какому-то дикому вдохновению, я говорю:
— Знаете что, Магда... Только дайте честное слово, что никому не скажете.
— Честное благородное слово, не скажу, — быстро говорит Магда, и на лице у нее столько институтского любопытства, что любо-дорого.
— Так помните, дали честное слово.
— Могу, если хотите, перекреститься.
— Креститесь.
— Святой истинный.
Она размашисто, по-мужски крестится.
— Ну говорите скорее.
— Я влюблен в Надю.
— Для меня это ново! А Таня?
— Таня так. Для отвода глаз. Чтобы никто не догадался, что в Надю.
Эффект изумительный. Лицо у Магды становится глупым-преглупым, как будто с него большой губкой смыли все институтское сияние и ехидство. Я торжествую. Ведь это так романтично, отвергнуть чью-нибудь любовь. Через минуту Магда приходит в себя и пускает в ход последнее средство.
— Да, кстати. На дачу Майораки перебрался хорошенький реалист Витя Александров, — говорит она, делая наивные глаза и подчеркивая слово «хорошенький».
«Куда это она гнет? И почему именно хорошенький?» — с беспокойством думаю я и говорю небрежно:
— Знаю, он раньше жил в городе. Я с ним немного знаком.
— Так представьте, познакомился этот Витя с Таней.
— Ну и что?
— Ничего, познакомился и стал писать ей письма.
— Ну и что?
— И ничего.
— А она что?
— Конечно, сначала не отвечала, а потом ответила; он ей, в общем, понравился. Дайте честное слово, что никому не скажете.
— Честное слово.
— Помните же — дали честное слово. Вчера они до десяти часов вечера гуляли в саду, и Тане нагорело от мамы. Сегодня у них тоже свидание. Только имейте в виду: полное, абсолютное молчание. Черный гроб...
«Изменница, как ей не стыдно! — думаю я, и мне хочется плакать. — Теперь все пропало, все пропало». От внезапного горя я не думаю даже, что, может быть, и даже наверно, Магда обманывает или просто глупо шутит.
— Ах, у них свидание? Извините, а я-то здесь при чем? Зачем вы мне это говорите? — спрашиваю я дрожащим голосом.
V
В груди у меня закипает злоба против этого чистенького маменькиного сыночка Витьки. И все время, пока Магда роется в глине, я ревную, изобретая план мести. Но я слишком растерзан и уничтожен, чтобы придумать что-нибудь толковое. Кроме того, необходимо держать себя как ни в чем не бывало, — а это ужасно трудно. Собираю остатки душевных сил и пытаюсь завести с Магдой холодноватый, светский разговор. Но он не клеится. Возвращаемся домой молча, через дачу Майораки. Я хмуро несу мешок с глиной, из которой Танечка будет лепить своими розовыми пальчиками какой-нибудь вздор. Когда проходим мимо домика, где живет она, сердце у меня падает.
— Вы Витю моего не видели?
Оборачиваюсь — Витина мать. Она, в теплом пуховом платке, идет мелкими шажками по дорожке, улыбается.
— Ваш Витя курит, — хмуро говорю я, совершенно неожиданно для самого себя.
— Витя курит?
На лице у Витиной мамы появляется выражение ужаса.
— Мой Витя? Курит? Боже мой!
— Ага, — говорю я, — папиросы «Муза», двадцать штук три копейки.
— Придется его наказать, — говорит она, и в этих словах глубокое огорчение да, пожалуй, еще презрение ко мне.
— Вы что, с ума сошли? — щиплет меня за руку Магда.
Но я уже сломя голову бегу вон с дачи. «Скотина, доносчик, предатель, брехун, — стучит у меня в висках. — А все-таки ловко отомстил, так ему и надо, маменькину сыночку. Пусть не пишет письма, кому не надо».
VI
«Теперь все погибло, все кончено. Все меня будут презирать и ненавидеть. Я «юда», доносчик, скотина. Как теперь показаться на глаза «отрадникам»!»
О, чудище с зелеными глазами...
Ночью меня давит кошмар. В голову лезут всякие нелепости, ломит виски. Наутро — жар. Сижу дома. И в церковь на пасхальную заутреню меня решено по этому поводу не брать. В другое время я бы протестовал, но теперь все равно. Целый день давит мозг низость собственного поступка и ревность, ревность, ревность...
Даже кухня и приготовления к пасхальному столу не привлекают моего внимания.
Яйца красят... ну и пусть себе красят, только скатерти пачкают. Горки зеленые принесли с базара, ну, а я-то тут при чем? Не понимаю. Ах, Таня, Таня! Что ты со мной сделала, превратила меня в подлеца!
За обедом ложка валится у меня из рук.
— Что это ты ничего не ешь? Не дай бог, заболеть, может быть, собираешься, — говорит тетка и соображает, сколько будет хлопот, если я заболею как раз на пасху.
Вечер приближается медленно-медленно. Тень от противоположного дома переползает через улицу на нашу сторону, потом поднимается по стене. Косые, растянутые квадраты, что бросало яркое дневное солнце через окна на пол, теперь растянулись еще больше, переползли на обои, стали какого-то желатинового цвета. Почти стемнело, только закат красит в розовую краску трубы на соседнем доме; да, как жар, горят начищенной медью стекла чердачных люков.
На кухне стихает стук ножей и тарелок, но зато начинает пахнуть жареным поросенком.
Из прачечной приносят свежеиспеченные, пухлые, душистые куличи, бережно завернутые в салфетки. Разносится теплый аромат шафрана и цукатов. Тетка и кухарка нянчатся с куличами, как с новорожденными младенцами.
— Вот так пасочки! Как пух! Ей-богу! Еще лучше, чем в прошлом году, — говорит кухарка.
Со скуки ложусь спать рано. Засыпаю чутким нервным сном. Сквозь сон слышу, как наши собираются в церковь, как выходят на лестницу и в доме наступает тишина. Где-то внизу хлопает дверь. Глухие голоса.
Комната полна густой теплотой. Кротко теплится лампада и освещает оклады икон и часть потолка, через который тянется длинная тень от вербной пальмы. У нас в вербное воскресенье наряду с вербой в церквах раздают пальмовые ветки.
Опять засыпаю. Мне снятся темная влажная ночь, сады, пасхальные звезды, перезвон колоколов. Просыпаюсь. Глухо гудит соборный колокол, весело перезванивают в военном госпитале. Соскакиваю с теплой постели, шлепаю по полу, взбираюсь на подоконник и открываю форточку. Черное небо. Звезды. Сырой ветерок.
Заглядываю в столовую, где уже накрыт пасхальный стол и в темноте поблескивают рюмки.
Потом ложусь и опять засыпаю. Сквозь тревожный сон слышу, как хлопают внизу двери. Это наши возвращаются из церкви. В столовой веселые голоса и звон тарелок. Тихими шагами входит в комнату отец и подходит к моей постели.
— Спит... ну, Христос воскресе.
Он наклоняется надо мной, и я чувствую на своей теплой щеке его бороду, сырую от мартовской ночи. Притворяюсь спящим. Отец лезет в карман, достает крашеное деревянное яичко — «писанку» — и кладет мне под подушку. И я сплю до полудня крепким сном измученного человека.
VII
Первый день всякого большого праздника скучен.
К часу дня я умываюсь, надеваю неудобный новый форменный костюм, воротничок, который туго подпирает мою вихрастую голову. Как лунатик, иду на дачу Майораки.
День на редкость теплый и солнечный. В кармане отцовская писанка, а в писанке три рубля. Надеюсь встретиться с Таней, но сталкиваюсь лицом к лицу с Витей. Витя тоже в новом костюме, с ослепительными желтыми «реальными» пуговицами и тугим крахмальным воротником. Минуту мы оба молчим и мнемся. Нам обоим ужасно неловко.
— Христос воскресе! — говорит Витя.
— И тебе тоже. Воистину! — говорю я. — Слушай, ты знаком с Таней Каменской? Только честно?
— С какой Таней Каменской? Нет, не знаком. Я еще здесь никого не знаю.
— Врешь!
— Ей-богу. Хочешь, перекрещусь?
По глазам я вижу, что Витя не врет. Мне становится и стыдно и радостно. Сердце наполняет что-то теплое, праздничное и разбегается по всему моему существу живыми, звонкими струями.
— Прости меня.
— За что?
— За то, что я на тебя наюдил.
— А ты разве юдил?
— Юдил, что ты курил. Тебе, наверное, от мамы досталось?
— Досталось.
— И здорово?
— Порядочно. Но она меня сама застукала, когда я курил.
— Все равно. Прости меня.
— Ну вот... еще чего... я ничего... Мама своими глазами видела.
В эту минуту мне кажется, что Витя самый лучший человек в мире, и мне хочется сделать ему что-нибудь приятное.
— Откуда у тебя такая хорошая цепочка? — спрашиваю я. — От часов?
— Да, для часов. Папа мне вместе с часами из Америки привез.
— Сколько стоит?
— Два доллара.
— А кто твой папа?
— Писатель.
— Врешь.
— Ей-богу.
— Ннуу? Что же он пишет?
— Та разное.
— Скажите... — удивляюсь я. — Тебе что сегодня подарили?
— Пастельные карандаши. А тебе?
— Мне — три рубля. А сколько стоят карандаши?
— Двенадцать.
— Врешь...
— Ей-богу... Умеешь играть в шахматы?..
VIII
Потом, до самого обеда, я играю с Витей в шахматы. Витя меня каждый раз обыгрывает, но меня это не огорчает. Наоборот, даже приятно. Все-таки, что ни говорить, а я на него наюдил.
Возвращаюсь домой счастливый и голодный. Дома гости. За обедом в столовой солнечно, и дым от папирос легкими синеватыми волокнами переливается в золотых лучах, которые сильными снопами бьют в окна. Форточки открыты, и слышно, как на улице кричат мальчишки, чирикают воробьи и полнозвучно, нескладно перезванивают в церквах.
За обедом я наедаюсь шоколаду.
Часов в пять отправляюсь на полянку и в глубине души хочу увидеть Таню. Срываю в садике прутик сирени с зелеными, сочными почками, обкусываю на ходу горькую, весеннюю корочку и, захлопнув за собой калитку с жестянкой: «Вход старьевщикам воспрещен», замираю. На скамеечке, где обыкновенно ночью сидит дворник в тулупе, теперь устроилась Танюша и с ней еще какая-то белокурая девочка. Танюша в чем-то синеньком, в белом фартушке, и в косичках у нее бантики.
В желудке у меня становится пусто и холодно, как перед экзаменом.
— Таня... здравствуйте!
Танюша смотрит на меня не то удивленно, не то разочарованно.
— Здравствуйте, — вяло говорит она. — Познакомьтесь с моей подругой. Ольга.
Я неловко по очереди мну в потной руке две розовые душистые ручки и недоумеваю: «Чего это они такие... кислые?» И вдруг соображаю: «Ах, я дурак, дурак. Да ведь пасха. Нужно целоваться. Ничего не поделаешь».
— Ах да! — развязно восклицаю я. — Христос воскресе! Я и забыл.
У девочек лица расплываются в счастливые улыбки, и они, опустив ресницы и покраснев, говорят в один голос:
— Ах, нет, нет, что вы! Мы с мужчинами не христосуемся.
Пудовая гиря сваливается у меня с души. Все хорошо, но в любви самое паршивое это то, что надо целоваться.
...А колокола звонят, звонят, и кажется, что и завтра, и послезавтра, и через год — все время в воздухе над счастливой землей будет стоять светлый, утомительный, весенний звон.
Начало 1914 г.
Ружье[16]
I
Перед самым отъездом на войну штабс-капитан запаса Перченко взял на руки своего пятилетнего бутузика Шурку, крепко поцеловал его щечку, покрытую нежным пушком, как персик.
— Ну, будь умником, не капризничай, не раздражай мамочку и пиши мне почаще... А главное — не раздражай мамочку. Будешь послушным — привезу тебе с войны настоящую немецкую винтовку.
Отцовская ласка была для Шурки в редкость. Она разнежила его.
От коротко остриженных усов и бритого подбородка Шурке сделалось хорошо и щекотно. Он выпростал из-под отцовского рукава правую ручонку, нежно потрогал ремень и припал круглой головкой к погону.
— Верно привезешь?
— Что?
— Винтовку.
— А! Привезу, привезу, будь, братец, благонадежен.
На вокзале было очень шумно и многолюдно. Высоко под самым потолком ярко горели два электрических шара, и от каждого человека падало по две тени. Шурке это казалось необъяснимым и страшным. Пахло пирожками и перегретым железом. Хотелось спать. На перроне, у поезда, который стоял, освещенный неярким светом, как призрак, среди обычной публики толпилось много военных. И это тоже казалось страшным. Разговаривали вполголоса. В воздухе висел тяжелый, утомляющий гул.
Кто-то плакал.
Когда отец вошел в вагон, паровоз отрывочно свистнул. Потом отец в открытом окне. Мать взяла Шурку на руки и подошла к окну. Он крестил и целовал их то и дело, и Шурка почувствовал, что у отца мокрая щека. Это было тоже страшно, и хотелось уже не плакать, а кричать. Наконец вагоны дернуло, по очереди стукнулись друг о друга буфера, замелькали вагонные окна и лица, тягостно освещенные неправдоподобным светом.
II
На следующий день Шуркина жизнь потекла обычным порядком.
Так прошла осень.
Обыкновенно мать по целым дням шила, писала и ждала почтальона. Отец все не приезжал, но зато стали часто приходить от него письма. Два раза в неделю Шурка видел, как мать входила в комнату с письмом в руках, на ходу разрывая конверт шпилькой. Она быстро пробегала глазами мелко, неровно исписанные страницы и бормотала:
— Подвигаемся вперед... привыкли к отсутствию комфорта... много дела... пока все благополучно... целую тебя и мальчика... пишите... ага! — посылайте теплое белье...
Иногда к матери заходила соседка Гусева. Муж Гусевой был тоже на войне, и обе женщины проводили вечера в тихих разговорах и глубоких вздохах.
Шурка лежал в своей кроватке с полузакрытыми глазами, но сразу заснуть не мог. Он смотрел в угол, где перед иконой горела синяя лампадка. Сквозь щель неплотно запертых дверей просачивался свет и слышались ритмичные, ровные голоса. Слов Шурка не слыхал, но его баюкали однотонные повышения и понижения говора. Постепенно Шурка засыпал, и часто снилась ему война. Во сне она была странной и не такой страшной и интересной. Часто в ней, кроме папы, пушек, лошадей и разноцветных солдатиков, участвовали Шуркины уличные приятели: Колька, Горик и Митейка.
Изредка, когда Шурка капризничал, мать напоминала ему про немецкое ружье.
III
Прошла дождливая осень. Прошли мягкие снежные дни ранней зимы. Скучно прошли святки. К концу февраля по ночам стал дуть сильный сырой ветер. Выдалось два-три ослепительных солнечных дня с блестящими лужами, синим небом и звонкими воробьями.
И вдруг, внезапно, мать получила сильно запоздавшую телеграмму, а на другой день приехал отец. Он сильно изменился: загорел, обветрился, оброс незнакомой бородой и говорил грубым голосом.
В доме началась суета. Разговоры. Гости.
Незаметно промелькнули четыре дня, и отец опять исчез — как в воду канул, — а у Шурки возле кровати появились большая немецкая винтовка и лакированная каска.
Сначала Шурка возился с винтовкой дома. Он переворачивал стулья, устанавливал на них тяжелое ружье, что должно было изображать пушку, и громко кричал:
— А-а-а!.. Па-а-а!.. Пли!..
Потом бегал в кухню показывать винтовку Аннушке, которая смотрела на нее со скрытым ужасом.
Наконец однажды утром бес тщеславия легонько подтолкнул Шурку и посоветовал:
— А не вынести ли тебе винтовку во двор? А? Вот-то удивятся Колька, Горик и Митейка. Завидовать, чего доброго, будут! Хорошо!
Шурка надел рыженькое пальтишко, барашковую шапочку с наушниками, вязаные варежки и взял под мышку тяжелое ружье.
IV
Двор был по-утреннему пуст. Длинные холодные тени ложились от домов и деревьев на розоватый асфальт. Вода в жестянке, из которой пьют собаки, замерзла.
Во двор вошел отощавший за последнее время газетчик. Он торопился и держал под мышкой толстую кипу газет. Шурка перебежал ему дорогу, прицелился, щелкнул языком и закричал:
— А-а-а!.. П-а-а!.. Пли!..
Газетчик даже не обернулся и свернул в парадную дверь. Это было обидно.
Опять долго никто не появлялся. Начало пощипывать уши. Потом вышел гимназист четвертого класса Жоржик Бибин из третьего этажа. В руках он держал клеенчатую книгоноску и, судя по кислому заспанному лицу, опять не выучил уроков.
— А у меня есть немецкое ружье. Ага! — сказал Шурка издали, с деланным равнодушием.
Жоржик Бибин приостановился, заинтересовался.
— А ну-ка, покажь. Откуда у тебя? Батька привез с войны, а?
— Да. С войны. Батька.
Гимназист повертел винтовку в руках.
— А ну-ка, как это она у тебя стреляет? Ага. Так. Понятно.
Жорж прицелился и щелкнул.
— Ловко! Продаешь?
— Что, винтовку?
— Винтовку.
— Хитрый.
— Дурак, я тебе за нее рубль дам.
— Н-н-ну? Правда? Давай.
— Вот вернусь из гимназии, так получишь рубль. Смотри же. Никому не продавай без меня.
Для Шурки рубль — нечто очень большое, чрезвычайно значительное и почти недостижимое. Подумать только: звонкий, полновесный серебряный рубль. Сколько государственной мощи в его выпуклой чеканке. Шурка даже не представлял себе, какое количество вещей можно купить на один рубль. Его гипнотизировало само по себе слово «рубль». И стояло это слово в Шуркиной пятилетней головке рядом с такими же полновесными, значительными словами, как «верста», «бочка», «год», «море», «Россия».
Не что-нибудь, а целковый!
V
Затем немецким ружьем неожиданно заинтересовалась кухарка из второго этажа, возвращавшаяся с базара. Она поставила на пол корзину, из которой выглядывала плоская утиная голова.
— Ишь! Ка-акое ру-жье! Скажите, люди добрые!
— Да. Немецкое. Это папа с войны привез.
— С вой-ны-ы? Скажите! — вздохнула кухарка и добавила: — Теперь усех берут на войну. И сколько людей через ее погибае.
Вероятно, она вспомнила того низенького рябого солдата, который считался ее кавалером, потому что на минутку подняла глаза вверх, стерла указательным пальцем с серебряным кольцом слезу и сердито схватила с земли корзину.
Потом во двор заходил большой, хмурый городовой. Он долго и настойчиво звонил к дворнику и тоже заинтересовался немецкой винтовкой.
— Что это у тебя? Никак, огнестрельное оружие? А разрешение на ношение имеешь? — пошутил он. — А ну-ка, покажь. Ишь ты. Смотри пожалуйста, какая машинерия.
— Немецкое. Папа с войны привез.
— С войны, говоришь? А ну-ка, я раз стрельну.
Городовой с грозной шутливостью приложился, долго искал мишени и, наконец, прицелился в аспидно-сизого голубя, важно расхаживающего по карнизу. Подмигнул горничной, выглянувшей в окно четвертого этажа, и сказал:
— Пиф-паф! Уже убит.
В руках городового винтовка казалась совсем маленькой.
Потом ружьем интересовалось еще много народа: точильщик, стекольщик, посыльный и почтальон. Даже два каких-то приличных господина, проходивших через двор, с улыбкой переглянулись, и один из них, худой, с длинными волосами, сказал:
— Вот вы жалуетесь на отсутствие сюжетов. А разве это не сюжет? Фронтовая винтовка попала в тыл и ходит по рукам. Ась?
Смысла фразы Шурка не понял, но почувствовал, что сказано что-то важное, после чего винтовка стала еще дороже и вместе с тем страшней.
Слава понемногу кружила ему голову, и Шурка несколько раз в ответ на вопросы о винтовке к своей обычной фразе: «Немецкая. Папа с войны привез», неожиданно для самого себя прибавлял кое-что новое:
— Это что — винтовка! Вот папа мне еще лошадь привезет. А дома у меня еще есть немецкая каска. Ей-богу, святой истинный крест!
VI
Однако только тогда, когда во дворе появились Колька, Горик и Митейка, мальчик ясно понял, какой драгоценностью он обладает. К винтовке подходили, как к величайшей редкости. Как одолжения, просили дать ее потрогать и подержать в руках. К Шурке подлизывались. Сначала он давал винтовку в руки по первой просьбе. Потом стал позволять только потрогать. Потом стал ломаться.
— Шурик, Шурик, дай на минуточку винтовку. Я тут посмотрю одну штучку и сейчас отдам. А? — говорил сладеньким голосом Митейка.
— Нельзя.
— Почему нельзя?
— Потому что нельзя.
— Да почему?
— Да так.
— Да дай! Горику давал, а мне не хочешь?
— Нельзя, говорят! Не хочу!
— Да почему?
— Да так.
— Да дай...
— Не дам.
Потом дворовая компания играла в солдаты, и Шурка был командиром. Командиром его выбрали потому, что командиру не полагается винтовки. Потом из тачки соорудили крепость, играли в сыщика Пинкертона, устроили тир для стрельбы в цель. И во всех этих играх главную роль играла винтовка.
Когда же из гимназии вернулся Жоржик Бибин и сказал Шурке: «Ну, давай винтовку, вот тебе семьдесят копеек, а тридцать получишь завтра», — Шурка схватился обеими руками за ружье, предусмотрительно юркнул в подъезд и оттуда крикнул:
— А этого хочешь?
И показал гимназисту дулю.
— Тю, тю! — затюкали Колька, Горик и Митейка, сыпанув по асфальту в разные стороны, как горох.
— Нашел дурака! За рубль такую вещь! Настоящую винтовку! Немецкую, из которой убить даже можно! Х-орошую! Хи-трый...
День пролетел незаметно.
VII
Вечером Шурка с трудом заснул. Снилась ему война: папа, лошади, пушки, пестрые солдатики и винтовка — главнокомандующий. Несколько раз среди ночи он начинал что-то быстро и невнятно выкрикивать. Разбуженная мать подходила к нему, крестила и поправляла одеяло.
— Набегался, нашалился, а теперь вот...
А виновница всего этого, трофейная немецкая винтовка, косо и тяжело стояла в углу, царапая мушкой обои, как бы терпеливо дожидаясь своего часа.
Конец 1914 г.
Земляки[17]
— Меня бабы любят, — говорил больным молодцеватый солдат с ежовой головой. Он стоял посередине избы. Кроме него, больных было еще трое. Они лежали на нарах, покрытых сухой, трухлявой соломой. Двое равнодушно смотрели в потолок, а третий неподвижно лежал в углу, весь замотанный и закутанный по-бабьи в тряпье. Его знобило.
Зима была северная: хмурая и глубокая. Деревянные дачи и сосны, похожие на карандаши. Над станцией белые комья паровозного пара и косые тучи ворон. Товарные вагоны с красными крестами и штабеля пестрых березовых дров.
Больные изнемогали от скуки и безделья. Однако из бригадного околотка на батарею никто возвратиться не хотел, потому что там нужно было ходить в наряды, копать и могло убить. У одного из солдат был ревматизм. Другой лечил чирьи на ногах. У обмотанного начинался тиф. Солдат с ежовой головой был болен нехорошей болезнью.
— Меня бабы любят, — говорил он, не торопясь. — Думаете — брешу? Ей-богу, не брешу. А за что любят — черт их знает. Я с бабами понимаю обращение. Бабу, главное, нужно брать не нахальством, а обращением. Да. Потому не всякая баба уважает нахальство. Конечно, есть которые. Я за это ничего не говорю, однако — не усе. С хорошей бабой надо все честь честью. Она тебе — да, и ты ей — да. Она тебе — нет, и ты ей — нет. Это надо понимать. Да. Служил я на действительной службе в холуях у капитана Вирена. Самостоятельный был человек капитан Вирен. И служила в ихнем доме одна девка. Горничная. Хорошая была девка, чистая. Вполне барышня. И поведения ничего себе. Я думал спервоначала ее узять нахальством. Ничего не выходит. Тогда я повел иначе. Она — да, и я — да. Она — нет, и я — нет. В лизионы с ней, в театры с ней. Шоколаду ей, например, куплял. Вышло по-моему. Она туды-сюды — уже поздно. Каждую ночь к ней лазил. Что ни на есть каждую. Аж надоело. Ей-богу. Меня бабы любят — это что и говорить.
В комнату вошел фельдшер с термометром.
— А ты что, земляк? Все брешешь, как тебя бабы любят? — спросил он. — Бреши, бреши. Оно и видно, как тебя бабы любят. — И подмигнул. — Ишь наградили.
— Эх, бабы! — с деланной беспечностью сказал бывший денщик. — Будь они трижды прокляты. Через них у меня уся жизнь, может, испорчена.
Фельдшер стал трясти за плечо обмотанного.
— Землячок, спишь? Проснись, слышь. Температуру надо мерить. Ишь трясешься. Градусов сорок небось наберется.
— Попить бы... — тихо сказал больной.
— Вставь-ка себе термометр под мышку.
Больной покорно взял термометр и затих. Ему было жарко и нехорошо.
В избе стемнело. Фельдшер ушел и пришел с кружкой и керосиновой жестяной лампочкой без стекла. Лампочка горела красноватым, коптящим пламенем. Фельдшер поставил ее на печь, и сейчас же в окнах стало сине, а изба просветлела, но зато сделалось тесно и грязно.
— Что, плохо? — спросил фельдшер больного.
— Плохо.
— Надо доктору доложить.
Через полчаса привыкли к красному миганью лампочки, и стало опять скучно. Солдат с ревматизмом стал чесаться. Его кусали клопы.
— Черт! Кусаются, проклятые. Не люблю я через это Минской губернии, что в каждой халупе клопы.
Он суетливо стал на колени, вытащил из кармана стеганых ватных штанов засаленный коробок, зажег спичку и стал водить пламенем по стене.
— Опять жжешь клопов? — спросил солдат с чирьями.
— Ж-жгу, анафем. Закусали.
— Ты смотри халупу не подпали.
— Не бойсь.
Помолчали.
— Что и говорить, бабы меня любят, — сказал денщик. — А за что любят — неизвестно. Никакая против меня еще не устояла. Ей-богу. Вот я в прошлом годе был в отпуску, так от баб отбою не было. Солдатки. Скаженные женщины!
— Да, солдатки, это правда, — сказал выжигатель клопов. — Скаженные. Известное дело. Мужа дома нет.
— А что ж им смотреть, бабам-то! — сердито сказал солдат с чирьями. — Муж в окопах. Далеко. Без мужчины жить трудно! Эх, жизнь наша каторжная! Только если я узнаю, что моя жинка крутит, — убью. Ей-богу, убью!
— Ладно. Не убьешь, — сказал денщик. — Ты лучше послухай. Приезжаю я, значит, в отпуск. Все честь честью; конечно, загулял. От баб проходу нет. Только мне таких баб не надо. Мне надо, чтобы баба была молодая и ничего из себя, гладкая. А у нас, третья хата с краю, живет одна, до-обрая баба. Солдатка. Зовут Даша. Дарья, значит. Аккуратная баба. Хорошо. Я на нее. Ничего. Соблюдает себя, и никаких. Я нахальством пробовал — не поддается. Честь честью пробовал — не поддается. «Ну, думаю, подкачал Егор. А еще артиллерист!» Подъезжаю к ней и так и этак — ничего. Прогуливаюсь с ней кажин день — ничего. Говорю ей: приду до тебя спать. А она сидит белая, как печка. Хоть бы улыбнулась — ничего. Я уже думаю себе — надо сниматься с передков, тикать. И так люди с меня смеются. Так нет же. Пришла до меня сама, представьте. «Не могу, говорит, больше стерпеть без мужа». А сама плачет, потому что мужа два года дома нет. Я ее, конечно, нежно так поцелувал, за ручки ее беру, и то и сё. Жил с ней до самого отпуска, как с женой: приду к ней ночевать — она сейчас с меня сапожки снимет, аж дрожит вся. Чудно! Всюду ходила за мной, как той цюцик. Даже надоело. Тихая такая. Хорошая баба. И, главное, кто только к ней из хлопцев ни подъезжал — ничего. А против меня не устояла. Меня бабы любят, это да.
— А ты сам какой губернии? — подозрительно спросил солдат с чирьями.
— Херсонский, Ананьевского уезда. Что, земляками будем?
— Не. Я таврический.
— Да. Славная была баба Даша. Одно слово, чай с молоком. Как сейчас вспомнить — аж сумно делается.
Наступила довольно долгая тишина.
— А вы какого села будете? — вдруг спросил слабым голосом обмотанный.
Все обернулись к нему. Из темноты угла блестел только один его внимательный глаз.
— Мы из Николаевки, Ананьевского уезда. Что, земляками будем?
— Земляками, — ответил обмотанный. — Мы тоже николаевские.
— А! — удивился денщик. — Значит, Дашу-солдатку знаете?
— Знаю, — произнес слабый голос. — Жена она мне. Жена. Земляки, значит.
Сделалось так тихо, что стало слышно, как на позиции, верст за восемь, негромко стреляет пушка. Солдат с чирьями кашлянул.
— Испить бы, — прошептал обмотанный.
У него опять начинался озноб. Ему было холодно и тяжело. Хотелось ничего не видеть, не слышать и не чувствовать жара, который палил ему глаза и виски. Ему казалось, что нет ни войны, ни околотка, ни щетинистого солдата, что он у себя в избе и что все это ему только мерещится в страшном бреду.
Действующая армия, 1916.
Ночью[18]
Страх — ужасное ощущение, какое-то разложение души, какая-то судорога мысли и сердца, одно воспоминание о которой внушает тоскливый трепет.
МопассанI
Контузия и продолжительная голодовка давали себя чувствовать. Левая половина туловища ныла, и я не мог заснуть. Кроме того, было очень холодно. Тоненькая шинель едва прикрывала голову и туловище, а мокрые сапоги смешно торчали из соломы, озаренные слабым светом стынущих угольев.
Телефонист Блох спал рядом. Его худое лицо с горбатым носом почти касалось моего плеча. Во сне он бормотал что-то быстро и неразборчиво, и я чувствовал у себя на щеке его нечистое дыхание, пахнущее испорченными зубами и отрыжкой. От соломы, на которой мы спали, несло конским навозом.
Рядом с нами чернела телега беженцев. Распряженные волы неподвижно стояли поодаль и казались белыми пятнами. У телеги возле шатра стояло что-то худое и высокое. Не то человек, не то дерево. Изнутри шатер просвечивал. Там, вероятно, горела свеча, и оттуда доносился монотонный, причитающий женский голос. Я прислушался, но не мог разобрать ни одного отдельного слова. Причитали на каком-то незнакомом, очень музыкальном языке. Было похоже, что читают стихи из Корана или бесконечную, безысходно-грустную поэму. По временам голос на миг прерывался, но потом продолжал свои грустные переливы. Я прислушался еще. Теперь уже можно было разобрать отдельные слова:
О, мой мик, о, мой мик, Мой мик мо-ор! О-о-о... О, мой мик мо-ор, мо-ор! О, мой ми-ик, ми-ик!Голос ныл. Мне хотелось есть и спать. Но спать я не мог.
О, мой мик, мик, О, мой мик мо-ор!Худое и высокое, похожее на дерево, зашевелилось. Оказалось — человек. Он переступил с ноги на ногу и опять застыл. На той стороне лощины пылали красные костры беженцев. Туман светился вокруг них. Голос из шатра не утихал, и я никак не мог понять, что это значит. Непонятные слова заставляли меня странно волноваться.
О, мой мик, мик! О, мой мик мо-ор, мо-ор!«Что это значит — «мой мик мор?» — стал думать я и ничего не мог придумать. Мне стало страшно, и я не знал — отчего. Казалось, что пришел кто-то невидимый и неизбежный и стал позади меня. Захотелось завыть громко и по-звериному. Болела нога. «Memento mori», — почему-то подумал я. «Ах, мой мик мор!» Memento mori, memento mori... mor... мор... Умер... Я начал понимать — умер, умер... Кто-то умер. Кто-то умер, и над ним причитают. Вот откуда эта безотчетная, безысходная тоска! Я приподнялся, сел и просидел неподвижно очень долго, вероятно, целый час. Я трясся от лихорадки. Человек возле телеги опять зашевелился и подошел к костру. Он нагнулся к угольям, поднял тлеющую щепку, повертел ее перед собой и бросил обратно в жар. Для чего — неизвестно. И когда он наклонялся к огню, я отчетливо увидел его темное, нестарое лицо, красный кушак и высокую баранью шапку. Он посмотрел в мою сторону и увидел, что я не сплю. Постоял на месте и подошел ко мне. Было похоже, что он хочет заговорить. Но он с полминуты постоял, наклонясь надо мной, и пошел прочь в темноту. Через две минуты он вернулся с куском толстой ковровой материи и укутал мои ноги, и мне показалось, что он улыбается виноватой и жалкой улыбкой. Я хотел ему сказать что-нибудь хорошее, но не мог это выразить на его языке — по-румынски. Потом человек в бараньей шапке сел недалеко на камне. Ему, вероятно, было одному жутко. Почувствовав тепло, больная нога перестала ныть, и я почти тотчас заснул. Ночью я просыпался несколько раз и видел человека в бараньей шапке, слабый свет из палатки и слышал причитания женщины.
Когда я проснулся, было уже светло и солнечно. Вокруг все пестрело и шевелилось: овцы, люди, волы, собаки. Всюду дымились костры.
Блох стоял, повернувшись лицом к солнцу, искал под мышками и на шее вшей. Человек, который укрыл мне ноги ковром, рубил на куски только что зарезанного барана. Два мальчика и девочка в высоких белых барашковых шапках играли с козлом, привязанным к телеге. Из шатра неслось монотонное бормотание женщины. Я встал. Во рту был неприятный вкус жеваной резины.
— Абрам, слышали, как эта женщина причитала всю ночь? Я насилу заснул.
— Да. Что это такое?
— Наверно, над покойником.
У Блоха лицо отразило испуг и отчаяние. Казалось, он хотел закричать: «Какой покойник? Я не могу, я не хочу! Довольно с меня покойников!» Он спросил:
— Откуда?
— Наверно, ночью кто-нибудь умер.
Мы подошли к телеге и заглянули в шатер. Слабо горела тоненькая восковая свечка, вставленная в бутылку. Тощая женщина с отвисшими грудями и молодым, но по-восточному старообразным лицом сидела на земле. Она скрестила на животе худые коричневые руки и, мерно покачиваясь взад и вперед, пела вполголоса свою безысходную песню. Крупные слезы катились по ее грязным щекам. Возле нее лежало что-то маленькое и неподвижное, похожее на куклу. У самой свечки белел ситцевый детский чепчик и тонко золотилась прядь коротеньких волосиков.
Тогда я вспомнил, как вчера вечером опрокинулся воз беженцев.
II
Потом мы долго шли и точно не знали, по каким дорогам нужно идти, чтобы выйти к Дунаю. Изредка слышались пушечные выстрелы. Иногда мы наталкивались на деревни, полные беженцев, отставших солдат, обозов. То целыми сутками брели одни среди степей, на десятки верст, ровных, как лист бумаги. Мы голодали, и если где наталкивались на съестное, — набрасывались на него и пожирали. В деревнях мы шарили по дворам, стреляли в свиней из тяжелого солдатского револьвера и варили сало, но хлеба и соли у нас не было, и все время мучила изжога. От усталости и потрясения временами я ненавидел Блоха, и мне хотелось быть одному и плакать. Меня преследовали, как навязчивый кошмар, картины сытой, мирной и спокойной жизни. Часто мне казалось, что я ем в кондитерской пирожные и пью молоко, и в это мгновение я готов был дать отрубить себе левую руку за пирожное. Мне представлялось время, когда я был болен скарлатиной, выздоравливал и за мной ухаживал отец, читал вслух Куприна, играл «Месяцы» Чайковского, и я получал от одной гимназистки письма, которые казались тогда изумительно светлыми, нежными и дорогими.
...Наконец, мы пришли в жуткую деревню. В ней было пусто и страшно тихо. Жители уже успели выехать. Только шелудивые голодные собаки, похожие на волков, рыскали по дворам. Перед деревней окопалась наша пехота. Она ждала болгар. Серый день навис над белыми хатками с огромными медно-красными тыквами на соломенных крышах и железными решетками на окнах. Была осень. Мы выбрали себе недалеко от конца деревни домик, казавшийся лучше других, и решили в нем отдохнуть до следующего утра.
— Все равно — я дальше идти не могу, — сказал Блох.
Он натер себе пропотевшей портянкой ногу и еле двигался.
— Слава богу, что хоть до своей цепи добрались, — ответил я. — Батареи, наверное, недалеко. Версты две, не больше. Все равно раньше утра боя не будет. А утром успеем.
В хате все было перевернуто вверх дном. Столы опрокинуты, посуда побита. Треснувшая кадка с квашеными помидорами и перцем. Всюду пестрый хлам, лоскутья, спутанные разноцветные шерстяные нитки. Разлитый по полу рассол хлюпал под ногами. От него сильно пахло кислым и острым. Мы прошли в заднюю комнату, где было темно и чернел огромный очаг. Здесь Блох сбросил на пол телефонную станцию, которую все время таскал через плечо, сел на нее и сказал:
— Устал.
У него закрывались глаза.
— Ну, пойду на разведку, а вы кипятите воду для кофе, — сказал я и вышел.
Я обошел несколько грустных, разоренных хат, нашел деревянную ложку, бутылку с томатным соусом и поймал курицу в одном из дворов.
Трое румынских кавалеристов привязали коней к полуразобранному солдатами забору и варили что-то в котле, присев на корточки и протянув к огню озябшие лиловые руки. Я подошел к ним и сказал:
— Пына?[19]
Румыны повернули ко мне головы и поспешно ответили плачущими голосами:
— Ну эст пыне! Нуй![20]
Я вынул из кармана десять кусков сахару и сказал, делая знаки руками:
— Вы мне пына, я вам Захар. Захар! Ладно? Пын — захар!
Румыны жадно взглянули на сахар и закивали головами. «Вот черти», — подумал я. Они долго торговались. Несколько раз я прятал сахар в карман и делал вид, что ухожу. Они с беспокойством что-то кричали, и глаза у них тускнели. Я возвращался, и они опять оживали. Наконец, я выменял на десять кусков два больших галета, которые румыны извлекли из грязной бумажной упаковки с надписью: «Paine militara». Когда я уходил, они приложили руки к кепи. Я вернулся в избу, огонь в очаге уже ярко пылал. В котелке кипел кофе. Блох возился в соседней комнате, и у очага сидели какие-то румынские солдаты и разговаривали между собой. Из разговора этих румынских солдат я понял очень мало, но и этого было довольно, чтобы у меня потемнело в глазах. Блох сидел возле очага и прикуривал цигарку, скрученную из последней щепотки махорки. При свете огня ясно виднелись небритые щеки, горбатый нос, туго обтянутый кожей, и горло с кадыком.
— Послушайте, Блох, — сказал я ему шепотом, показывая глазами на румынских солдат, которые допивали кофе, — они только что говорили между собой, что деревня оставлена нашими войсками.
— Откуда вы знаете? — спросил он и побледнел.
— Кое-что понял... Подождите здесь. Я узнаю, в чем дело.
Я выбежал на улицу. Было почти совсем темно. Серое, мокрое небо стояло низко над крышами хат, сеялся мелкий дождь, ноги скользили по глинистой дороге. Вокруг было так тихо, что мне стало страшно. На окраине села, в окопах, не было ни души. Я остановился, затаил дыхание и слышал, как кровь стрекотала быстрыми звенящими толчками у меня в висках. Я огляделся по сторонам, и мне показалось, что в одном из дворов за скирдами стояли люди. Я закричал:
— Эй, кто там?..
Никто не отозвался.
В сравнении с этой огромной тишиной мой голос показался слабым, маленьким, испуганным. Скользя и делая усилия, чтобы не упасть, я бросился назад, и мне казалось, что за мной кто-то гонится.
— Это вы? — спросил нервным голосом из задней комнаты Блох, расслышав мои шаги в сенях. — Ну, что?
— Деревня оставлена. Собирайтесь, ради бога, скорей!
Я вошел в комнату. Румынские солдаты расположились на полу, и лица у них были спокойные и веселые. Они о чем-то оживленно разговаривали, изредка смеялись широким беззаботным смехом и подмигивали нам, подталкивая друг друга ногами. Говорили они, во всяком случае, не по-румынски, а на каком-то языке, похожем на русский.
— Это болгаре, — сказал Блох. — Румынскоподданные. Ну, я готов.
— Надо им сказать, чтобы они немедленно убирались отсюда, если не хотят попасть в плен. Через полчаса здесь будут болгарские разъезды!
Я подошел к толстому солдату с лицом, похожим на луну, и сказал:
— Слушай, братушка, уходите отсюда! Русские ушли. Сейчас сюда придут болгаре.
Он сделал непонимающее лицо и сказал жалобно по-румынски:
— Нушты русешты. Шты романешты?[21]
У меня кровь прилила к голове.
— Врешь ты, сволочь! — закричал я срывающимся голосом. — Я сам слышал, как ты говорил по-русски. Ты болгарин! Блох, давайте револьвер!
— Нет! Нет! Я не есть болгарин. Я румынский подданный. Зачем револьвер? Мы румыны. Ты — братушка.
Он поднялся, захихикал и похлопал меня по плечу.
— Ну, живее! Скажи своим, чтобы они сейчас же уходили! Слышишь?
— Не кричи, братушка. Не надо уходили. Болгара нет. Пойдем с нами коржи кушать.
— Какие там коржи? Где?
— А вот тут рядом. Хата. Там наших много, коржи пекут.
Было ясно, что солдаты хотят попасть в плен к своим.
— Ну, живее! Веди нас коржи кушать! — сказал я. — Блох, пошли! Держите кинжал наготове, дайте мне револьвер.
Каждая минута была дорога.
Блох дал мне револьвер, взвалил через плечо телефонную станцию и надел папаху. Румынские солдаты встали с пола.
— Ну, живо, живо! Идите вперед. Ведите нас.
Они перекинули за спины карабины и, нехотя двигая ногами и переглядываясь, пошли к двери. Мы пропустили их вперед, и я сказал Блоху вполголоса:
— Эта теплая компания, кажется, собирается сдаться в плен. Им прямой расчет. Ведь все болгаре.
— Да, — ответил Блох, задул свечу, вытащил ее из горлышка бутылки и спрятал в карман.
Наступил мрак.
Мы вышли. Ночь стояла черная, как тушь. С большим трудом можно было отличить небо от крыш и деревьев.
— Они убьют нас, — прошептал Блох мне на ухо.
— Черт с ним! — сказал я, и мне показалось ужасно диким и чужим это «черт с ним». Страха не было. Была какая-то необъяснимая уверенность в себе.
На секунду все остановились и прислушались, и всем почудился отдаленный конский топот. Скользя, пошли вперед. Где-то далеко, может быть за восемь верст, залаяла собака. Румынские солдаты о чем-то горячо шептались. Блеснула слабая полоска света. Вероятно, из окна хаты.
— Здесь! — сказал толстый болгарин.
— Ладно, ладно! Идите все вперед!
Солдаты потолкались у заскрипевшей калитки и неохотно вошли в хату. Среди них начинался ропот и послышалась ругань.
— Блох, оставайтесь здесь, у калитки. В случае чего — крикнете. Если я крикну, бегите ко мне.
Я вошел в хату. У ярко пылавшего очага расположились шесть румынских солдат. Часть из них была без мундиров. Некоторые курили. Один из них, засучив рукава выше локтей, месил в корыте желтоватое душистое тесто. На самом жару, в углях, на сковородке шкварчало и дымилось сытым, вкусным запахом свиное сало.
Они, очевидно, и не думали уходить. Они разговаривали между собой по-болгарски. Все это было подозрительно. Солдаты, которые привели меня сюда, побросали карабины на пол и расселись вокруг огня. И вдруг я себе ясно представил, что, может быть, через десять минут здесь будут болгарские разъезды. Я вспомнил про солдата, бежавшего из болгарского плена с отрезанным ухом и простреленной лопаткой, — он пришел к нам на батарею истощенный и душевнобольной от пережитого. Какая-то торопливая, нервная энергия нахлынула на меня, и я стал кричать на румынских солдат. Мне казалось, что они меня по-русски не понимают, и я начал подбирать французские фразы, как будто это было бы понятнее:
— Je suis volonteur russe! C'est la meme chose que officier! Mordieu![22] Сию минуту выходите все из хаты!
Румыны нерешительно оглянулись и стали делать вид, что поднимаются с места. Я подвинулся ближе к двери. Солдат, который месил тесто, улыбнулся, показал на лоханку и причмокнул губами. Я вынул из кобуры револьвер и посмотрел на свет барабан, есть ли патроны. Румыны повскакали с мест и стали быстро собираться. Лица у них сделались злыми, и кое-кто стал открыто ругаться.
— Скорее, скорее! Черт возьми!
Один за одним они проходили мимо меня к двери и выходили в ночь. Секунды тянулись бесконечно. Каждая приближала опасность. Наконец, вышел последний, а за ним и я. После огня приходилось пробираться ощупью, одной рукой касаясь стены, а другой балансируя. Кое-где стали заметны пятна людей, деревьев, крыш. Вдруг возле самого моего уха кто-то сказал негромко, испуганно и напряженно:
— Кто идет?
Это был Блох. И по голосу его я понял, что он перечувствовал один в темноте, пока я выгонял из избы румын.
— Я. Где румыны?
— Здесь. Идем. Ничего не слышно?
— Ничего... Как будто... топот!
Мы затаили дыхание. Где-то очень далеко залаяла собака.
— Мне страшно, Валя, — сказал Блох, в первый раз назвав меня по имени.
— Эй, сюда, румыны! — закричал я и испугался собственного голоса.
Два силуэта приближались к нам.
— А где остальные?
Остальных не было. И было бы безумием их искать.
III
Мы пошли вчетвером посередине мокрого, скользкого шляха, торопясь и поминутно касаясь руками земли, и все время позади, далеко лаяли собаки, и нам казалось, что слышится конский топот. Мои глаза привыкли к темноте, но я все-таки с трудом различал неровности дороги. Вдруг слева, из кучи мокрых деревьев, в нас ударил яркий сноп света. Светилось окно в чьем-то доме, и даже была видна горевшая полным пламенем лампа, стоявшая на подоконнике. Посреди черного сада, окружающего дом, слабо тлели уголья гаснущего костра. Костер был похож на одинокого светляка, горящего мертвым, неподвижным огоньком в страшном дремучем лесу.
— Там кто-то есть, — сказал я. — Нужно пойти посмотреть.
— А они? — спросил Блох, показывая головой на болгар.
— А черт с ними! Пускай удирают, все равно ничего не выйдет.
Блох нашарил калитку, и мы пошли прямо на огонь. У костра не было ни души, но казалось, что здесь только что были люди. На подоконнике открытого окна рядом с лампой лежала женская шляпа с черной вуалью, как будто бы только что снятая и положенная здесь.
Мы взбежали по скрипучим деревянным ступеням на террасу и вошли в незапертые двери. Комната была пуста, но в ней чувствовался тот неуловимый запах, по которому безошибочно угадывается присутствие человека. По стенам висели фотографии каких-то мужчин и женщин, засиженные мухами, и лубочные олеографии духовного содержания. Грубые размалеванные лица святых, окруженные ярко-желтыми нимбами, смотрели на нас жестко и безразлично. У стены стоял стол, покрытый чистой белой скатертью, и на нем лежали раскрытый латинский молитвенник, четки и черные перчатки.
Блох прошел в соседнюю комнату, и его шаги гулко отдавались в пустом доме. Там тоже никого не было. Мне стало страшно.
— Блох, идем отсюда!
Мы вышли в сени. В потолке зияла черная дыра — ход на чердак, но лестницы не было. Блох крикнул вверх:
— Эй, кто там?
Казалось, что его окрик влетел камнем в черную дыру, да там и остался. Дом молчал. Я почувствовал, что у меня шевелятся волосы на голове и неприятный холод щекочет кожу на ногах и спине. Не сказав друг другу ни слова, мы бросились бежать, цепляясь ногами за кусты и какие-то прутья.
Только далеко от дома мы пришли в себя. Мы тяжело дышали и обливались потом. Болгар не было. Когда мы подходили к перекрестку, совсем близко заржала лошадь, послышались храп и хруст удил, и чей-то мужской голос громко произнес какую-то фразу, но так быстро, что нельзя было понять, по-русски это или нет.
Мы застыли на месте.
Я хотел броситься в сторону, лечь на черную землю, затаить дыхание и ждать, но продолжал стоять неподвижно как дерево, чувствуя рядом с собой такую же неподвижную фигуру Блоха. На сером фоне неба один за другим появлялись силуэты всадников. Их было восемь или десять. И вдруг я неожиданно для себя закричал:
— Кто идет?
Блох не пошевелился. Всадники осадили лошадей, и голос из темноты крикнул:
— Кто идет?
Тогда Блох крикнул:
— Русские?
Голос из темноты ответил:
— Русские. А вы кто?
Мы подошли. Всадники были совсем близко. Я всем своим существом чувствовал, что опасность миновала, но все-таки где-то в глубине души шевелился страх: а вдруг болгары? И я дрожал.
— Ради бога, скажите, где наша пехота? — спросил Блох.
— Ушла, — ответил один из всадников. — Должно, отседова верстов пять-шесть.
— А сзади кто-нибудь есть?
— Никого. Мы последний разъезд. Мы все время были в соприкосновении с болгарскими авангардами. Тут ихних два эскадрона. А вы кто такие?
— Мы отставшие, — сказал Блох. — Артиллеристы. Он контужен. Последними ушли с наблюдательного пункта.
Голос сказал что-то неопределенное, вроде «ага». Кавалеристы минуту постояли и потом тихонько тронулись, сворачивая на большую дорогу.
— Подождите! — закричал им вслед Блох с отчаянием. — Может быть, у вас есть лишняя лошадь? Мы артиллеристы. Умеем ездить. Он контужен.
Кавалеристы опять позадержались, и тот же голос сказал:
— Лошадей нет. Идите в деревню Пантелеймон-Десус, отседова верстов восемь. Мы идем туда, там, должно, наши остановятся. Прямо по этой дороге.
Пока мы были с людьми, я был спокоен, но чувствовал, что, если эта последняя горсточка «своих» бросит нас, меня охватит тяжелое, черное отчаяние, и я уже почти осязал, как оно шевелится на дне моей души, подобно огромному угловатому камню. Внезапно мне представилось, что мы легко можем отстать от разъезда, потерять дорогу, заблудиться в этой чернильной темноте.
— Поезжайте шагом, чтобы мы не отстали... А то хоть пропадай.
— Держитесь прямо по дороге. Верстов восемь, — отозвался голос, и разъезд тихонько тронулся.
Мы пошли за ним крупным шагом, кусая со злости губы до крови, когда скользкая дорога и стоптанные сапоги заставляли нас падать, цепко хватаясь друг за друга пальцами дрожащих рук. Внезапно разъезд перешел с шага на рысь и скрылся в темноте. Мы ничего не успели подумать. Мы не сказали друг другу ни слова и все шли и шли, придавленные, напрягая последние силы, думая только о том, что, может быть, за селом дорога будет лучше. Возле некоторых домов воздух был насыщен запахом разлитого спирта, от которого кружилась голова и тошнило. Здесь, вероятно, уходящие солдаты громили погреба, выкатывали бочки, разбивали прямо посреди улицы прикладами. Земля была пропитана дрянной румынской водкой, от которой разило не то перцем, не то чесноком. Скоро мы вышли в поле. Дорога сделалась немного лучше, ровнее. Чутьем затравленного зверя угадывая направление, видя перед собой только черное поле и небо, которое было едва посветлее поля, мы шли изо всех сил. От быстроты и напряжения наши мозги, казалось, колотились о стенки черепа, и это причиняло тупую боль. Местность была совершенно ровная, и только в одном месте мы прошли мимо большой темной массы, вероятно — кургана. Блох начинал спотыкаться: у него потели ноги, и пот, въедаясь в язву, натертую сапогом, причинял ему страдания. Я чувствовал, что он отстает, но не уменьшал шага. Я слышал позади его нервные спотыкающиеся шаги и представлял себе его перекошенное горбоносое лицо, и это меня непонятно злило. Все ощущения и чувства перелились в эту глухую злость. Я тоже вспотел, и мое грязное тело, искусанное вшами, стало чесаться. Гонка продолжалась десять минут, а может быть, и час, потому что чернота ночи и однообразие ходьбы уничтожали понятие о времени.
Наконец, Блох не выдержал:
— Не спешите! Я не могу поспеть за вами.
— Можете! — отрезал я грубо.
— У меня ноги вспотели и адская боль, — сказал он жалобно.
— А почему у меня не вспотели?
Он вспыхнул:
— Вы не смеете меня бросать! Постойте!
— Никто вас не бросает. Идите быстрее.
— Я не могу.
— Можете.
И вдруг он разразился самой ужасной циничной бранью, осыпая меня упреками за то, что я хочу от него избавиться, бросить его на произвол судьбы. Он выкрикивал истеричным голосом:
— Я понимаю... Пока у меня был кофе, я вам был нужен... А теперь... конечно... Отдайте кофе! Вы хотите его взять себе.
Я вырвал из сумки жестянку с его кофе и бросил ему в лицо, но не попал. Жестянка пролетела мимо и упала с легким стуком куда-то в грязь. Я круто повернулся и пошел еще быстрее. Он заговорил упавшим голосом мне вслед:
— Хорошо, пусть я пропадаю... Пусть... Это на вашей совести...
Впереди блеснул огонек и погас. Я остановился. Как будто бы заржала лошадь и послышался тонкий свист. У меня упало сердце. Блох, подошедший сзади как призрак, уронил:
— Болгарский разъезд.
Мы долго стояли и потом тихо пошли, и нам все чудился тонкий свист и все казалось, что опять блеснет огонек.
IV
Я не знаю, сколько времени мы шли. Мне казалось, что я бесконечно пересекаю вокзальную площадь и что нет конца этой площади, и ощущение было до ужаса реально. Опять из темноты вынырнула темная масса — курган, и мы не знали, новый ли он или тот, мимо которого мы уже проходили. Было похоже, что мы кружим. Через некоторое время наши ослабевшие ноги почувствовали, что дорога спускается. Показались какие-то темные предметы: не то избы, не то стога, не то деревья. Блеснули яркие розовые столбы дыма от невидимых костров, и через десять минут мы входили в деревню.
— Земляки, какой части? — спросил Блох, когда мы проходили мимо одного костра.
Нам ответили номер какой-то незнакомой дивизии.
У другого костра то же самое.
И всё здесь были солдаты, отставшие от своих частей, оборванный, голодный сброд, который всегда плетется в хвосте разбитой, отступающей армии.
Мы подошли к большому костру, возле которого сидели и лежали беженцы. Сразу успокоились и почувствовали себя в безопасности, потому что вокруг были огни и много людей. Было, вероятно, уже часа три. Ноги наливались свинцом, веки смыкались, и хотелось прямо броситься на землю и спать. В стороне белела стена хаты. Было холодно. Мы пошли к ней. На пороге Блох вынул из кармана свечу, зажег ее и придавил щеколду. Дверь растворилась. Блох вошел в нее, держа свечу перед собой в вытянутой руке, и вдруг с криком бросился назад. Свеча прыгала у него в руке.
— Ради бога... Посмотрите, там...
Я подошел к двери и, не переступая порога, заглянул в сени. В сенях на глиняном полу лежал труп мужчины в крестьянской рубахе. Голова его, белая, как воск, касалась дверного косяка, на лбу темнело красное пятно, под глазами лежали синие тени, и грязные ноги, тоже восковые, раскинулись в стороны, показывая ногти больших пальцев. Возле него на полу лежали черные перчатки и женская шляпа с вуалью. Я захлопнул дверь и побежал за Блохом к костру. Старая морщинистая румынка увидела наши лица, поняла все и что-то стала объяснять, показывая на дверь дома. Мы ничего не понимали, а она делала большие глаза и старалась нам втолковать. Два слова, которые она произносила в сотне других, объяснили нам все: «Болгар... шпион».
На дворе было холодно. Мы забрались в амбар и легли прямо в теплый овес.
— Почему перчатки и шляпа? — спросил Блох шепотом.
Я не ответил. Мне было страшно и все мерещился труп. Потом мы начали засыпать, а наутро долго вытряхивали из своей одежды овес и опять шли.
Местность изменилась, стала волнистой и живописной. Я опять стал думать о доме, о родном городе и о море. Меня опять стали, как навязчивый кошмар, преследовать картины сытой, мирной жизни. Я представлял себе, как теперь хорошо кататься на лодке, ловить бычков или играть в теннис. Мне представлялись прогулки по загородным дачам, уже пустым и таинственным. В душе моей пели шорох сухих листьев, скрип гравия под ногами и нежный женский голос. Я представил себе почему-то с необычайной яркостью симфонический концерт в городском саду. Раковина для музыкантов блестит внутри мокрыми глянцевитыми пятнами от электрических фонарей. Фонари сверкают ослепительными звездами и освещают неподвижные зеленые акации, которые на фоне неба, черного, как тушь, похожи на декорации. Вокруг — сытые, веселые люди, которые только что наслаждались мороженым, а теперь будут наслаждаться музыкой. Оркестр начинает играть. Сильные, красивые звуки, то муаровые, то свирельные, сплетаются в почти осязаемый узор, и как будто ухо различает их цвета: красный, лиловый, голубой, хрустальный. Это Чайковский — «Двенадцатый год».
Какая красота!
— Не торопитесь! У меня болит нога, — сказал Блох.
Я посмотрел на его грязное, изможденное лицо, худую, залитую снизу грязью шинель и сказал:
— Какая ложь!
— Что ложь? — спросил Блох.
— Да все! — сказал я. — Вы слыхали «Двенадцатый год» Чайковского?
— Слыхал.
— Какая мерзость!
Меня душила злоба.
— Красота, красота!.. Неужели же и эту дрянь, вот все это — эти трупы, и вши, и грязь, и мерзость — через сто лет какой-нибудь Чайковский превратит в чудесную симфонию и назовет ее как-нибудь там... «Четырнадцатый год»... что ли! Какая ложь!
Блох молчал. У него был вид сосредоточенный, изумленный, усталый, голодный.
— Почему именно черные перчатки и шляпа? — спросил он. — Ничего не понимаю.
Передо мною встала картина этой ужасной ночи, и я сказал с тоской:
— Хоть бы скорее до Дуная.
V
Вероятно, до Дуная было близко, — потому-то в воздухе чувствовалась уже неуловимая речная сырость.
По дороге попадались желтые буки, с которых уже наполовину осыпались листья, устилавшие их подножья светящимися кучами.
Синий утренний туман клубился холодными кусками, но вокруг было светло и чувствовалось, что за туманом — солнце и день будет погожий.
Одесса, лазарет Красного Креста,
9 августа 1917 г.
Барабан[23]
I
На другой день после производства старших юнкеров в офицеры, когда в оркестре освободилось много мест, я сказал:
— Журавлев, возьмите меня в оркестр.
Юнкер Журавлев, старший в оркестре, здоровый и плотный, но похожий на желторотого птенца, посмотрел на меня с удивлением и спросил:
— На чем вы играете?
— На большом барабане, — твердо соврал я.
Журавлев знал, что я пишу стихи, и с игрой на барабане это у него не совмещалось. Он недоверчиво прищурился:
— А вы умеете?
— Умею.
Журавлев почесал у себя за ухом, потом пытливо посмотрел на меня. У меня не хватило нахальства выдержать его честный, открытый взгляд, и я опустил глаза. Тогда Журавлев сказал:
— Нет, Петров. Вы не умеете играть на барабане.
— Да что ж там уметь? Ну, бить колотушкой по этой самой, как ее... Тут, понимаете ли, для меня главное дело не барабан, а лишний час отпуска.
У нас в училище музыканты пользовались лишним часом отпуска. Этот довод подействовал, потому что Журавлев глубоко вздохнул, вытащил из кармана помятую бумажку и записал в нее мою фамилию, а против фамилии написал слово «барабан». А когда вечером мы сидели на койках друг против друга и снимали сапоги, Журавлев вдруг сделал испуганные глаза и сказал:
— Но слушайте, Петров, если вы только... это вам не стихи...
Я понял, что дело идет о барабане, и сказал:
— Не беспокойтесь.
Через пять минут я высунул голову из-под одеяла. Меня тревожил один вопрос.
— Журавлев, вы спите?
— Сплю, — ответил Журавлев сердитым и заспанным голосом.
— А скажите, я уже в это воскресенье могу записаться в отпуск на лишний час?
— Можете, — буркнул Журавлев из-под одеяла и, вероятно, сейчас же заснул.
Я же думал о той, ради которой пустился на такую рискованную авантюру с барабаном. Рискованную потому, что всю свою жизнь я потрогал всего один раз барабан руками. Это случилось когда-то на детском празднике, когда я пробрался к барабану, который всегда пленял меня своей солидностью и блеском, и щелкнул его по туго натянутому полупрозрачному глупому боку. А солдат с рыжими усами сердито сказал:
— Не трожь.
В тот же день для меня стало ясно, что скромная карьера коночного кондуктора, о которой я страстно мечтал в детстве и к которой усиленно готовился с трех лет, не выдерживает ни малейшей критики в сравнении с блестящей светской карьерой барабанщика. Я твердо решил, что когда вырасту большим, то сделаюсь барабанщиком, и, когда маленькие дети станут трогать мой барабан, я буду сердито кричать: «Не трожь!»
Казалось, моя детская мечта сбывается. Утром Журавлев опять пытливо посмотрел на меня и сказал:
— Не забывайте, Петров, что барабан ведет за собой весь оркестр.
Это было для меня новостью. Я был готов ко всему, но только не к этому. Дело представлялось мне гораздо проще: оркестр играет свое, а барабанщик между прочим содействует общему успеху. Так, по вдохновению. Однако я решил идти до конца и сказал Журавлеву:
— Надоели вы мне со своим барабаном. Не беспокойтесь. Я умею.
За завтраком Журавлев опять сказал:
— А может быть, вы, Петров, не умеете? Скажите лучше прямо.
— Да умею же, господи. Даже в оркестре играл. У нас в этом... в гимназии оркестр был. Так там. Ничего себе, знаете. Довольно приличный оркестр.
— А вы не врете?
Положительно Журавлев был фанатиком своего дела. Надо было видеть, с каким азартом вербовал он в оркестр корнетистов, басов и баритонов. Но все-таки он мне надоел.
Если бы не Зиночка, я сознался бы во всем. Но ради лишнего часа свидания с любимой женщиной человек способен на какую угодно глупость. Об этом можно бы написать целое сочинение, но это в мои планы не входит.
II
До этого времени жизнь моя была легка и сравнительно беззаботна. Утром, на лекциях тактики, фортификации и артиллерии, мне снились чудные золотые сны про офицерские бриджи, погоны с одной звездочкой. После завтрака, на строевых занятиях, я дышал здоровым зимним воздухом, а если рота выходила к морю и, проходя через город, пела песни, я тоже пел во весь голос. Голос у меня был сильный и похожий на вопль умирающего лебедя. Притом ни малейшего намека на слух. Поэтому, когда я особенно увлекался, прохожие останавливались и улыбались, а с товарищами от смеха делались истерики, и они переставали идти в ногу. Приходили мы в училище уставшие, голодные и прямо к обеду. Потом был вечер, и мы готовились к репетициям, а перед сном перед нами смутно возникал образ офицерских бриджей и золотых погон. И непременно кто-нибудь, засыпая, сообщал приятную новость:
— Господа, а вы знаете, если не считать завтрашнего дня и всех воскресений, то до производства остается пятьдесят дней.
Теперь мое существование было отравлено барабаном. Стоило мне о чем-нибудь замечтаться, как сейчас же совесть спрашивала с ехидным шипеньем: «А не известно ли вам, юнкер Петров, что барабан ведет за собой весь оркестр?» Увы, мне это было известно, и я страдал. Но когда оказалось, что в оркестре есть еще капельмейстер, я впал в черную меланхолию и картинно рисовал себе, как меня на первой же сыгровке выгонят из оркестра и оставят на месяц без отпуска.
На следующий день, перед обедом, когда все роты собрались в столовой, дежурный взводный объявил:
— Внимание! Получена телеграмма юнкеру второй роты Крынкину. В чайной комнате найдено двадцать копеек, полевой устав и салфетка. Получите у дежурного взводного. После подъема — певчим собраться на спевку, а музыкантам на сыгровку. — И, увидев дежурного офицера, заорал: — Батальон, смирно.
И, когда хором пели молитву, а потом обедали, у меня бродила мысль о самоубийстве. После обеда Журавлев сказал:
— Не забудьте, Петров, что после обеда сыгровка.
И странно: на душе у меня улеглось и стало спокойно, как перед боем. «Пропадать так пропадать», — подумал я и сам удивился своему хладнокровию.
III
Гвардия умирает, но не сдается. После знаменитого «подъема» я решительно взбежал на третий этаж в кладовку, где выдавали инструменты. Возле кладовки уже толпились юнкера-музыканты, и на лестнице гулко носились от стены к стене покрякивания тромбонов и змеиные трели флейт. Возле моего барабана стоял худой юнкер и в недоумении вертел в руках медные тарелки. Он старался придать своему лицу выражение небрежности — мол, не в первый раз, слава богу, приходится играть на этих самых тарелках. Я подошел к барабану, солидно ткнул его два раза в бок и спросил тощего юнкера:
— Вы не находите, юнкер, что барабан несколько слабо натянут?
Юнкер в свою очередь ткнул в барабан большим пальцем и сказал:
— До известной степени, хотя вообще...
Я вздохнул. Он тоже.
— А вы давно на тарелках играете?
— Собственно, давно. Я, знаете, в Тифлисе еще в симфоническом оркестре играл. Там у нас, в Тифлисе, эти самые тарелки серебряные были. Это чтобы для звука.
— Ага, а скажите, как нужно на барабане играть? — попробовал я осторожно позондировать почву. — Собственно, я знаю как, но я хотел знать ваше мнение. Именно, как у вас в Тифлисе в симфоническом оркестре производили самый звук?
— А колотушкой. Очень просто. Берете колотушку и вот так...
Он взял колотушку и несколько раз ударил наискось по коже.
Густой, упругий звук запрыгал по лестнице, как футбольный мяч. Юнкер положил колотушку и спросил:
— А вы разве что, не умеете?
— Умею, но, признаться, забыл: давно не играл.
Помолчали.
— А когда нужно бить? По счету какому-нибудь или как?
— Да, по счету. Когда играют марш, так под левую ногу: раз, два, раз, два. Ну, мы играем только марши, значит, под левую ногу все время. На тарелках, кажется, то же самое.
— А как вы думаете, нас на это воскресенье на лишний час отпустят?
— Я думаю — отпустят.
Я посмотрел на него, он на меня, и мы оба засмеялись. Я взял свой барабан с колотушкой, он тарелки, и мы сбежали за другими вниз. Надели шинели, фуражки и пошли через двор в манеж, где обыкновенно делают гимнастику и устраиваются сыгровки. В манеже было уже темно и холодно. Зажгли несколько лампочек. Расставили пюпитры вокруг. Я поставил барабан на козлы, и по спине у меня пробежала дрожь. Упражнялся косо бить колотушкой по ненавистному барабану, стараясь подражать тощему юнкеру. Журавлев посмотрел на меня внимательно и хотел что-то сказать, но не сказал, а вздохнул. Пришел капельмейстер. Журавлев скомандовал нам: «Смирно!» Капельмейстер был низенький толстый чех. Переваливался на кривых ножках, гордо носил чиновничьи погоны и фуражку блином. На щеке у него был большой красный нарост, похожий на сливу. Он сказал:
— Здравствуйте. Какой кольёд и вьетер. Чистое наказание. Ну, не будем время терять — и так поздно. Начинаем.
Он обежал всех музыкантов, нажимал на клапаны труб, перелистывал ноты, суетился и говорил:
— Поже мой, поже мой!..
Наконец, он успокоился и сказал:
Ну, откройте марш номер четырнадцать.
Зашелестели нотами. Трубы заблестели медью. Мой сосед воинственно помахал тарелками. Капельмейстер зловеще постучал карандашом по пюпитру.
— Фнимание. Три, четыре.
Он с таким азартом взмахнул рукой и топнул ногой, что не ударить колотушкой по барабану было невозможно. И я ударил. Загремели тарелки, заревели трубы на разные лады, как стадо слонов. Некстати провыла флейта.
— О, поже мой, что вы делаете? — завопил капельмейстер, инстинктивно хватаясь за свои музыкальные уши. — Ради пога, перестаньте.
— Отставить! — закричал Журавлев. В эту минуту он был велик.
Замолкли не сразу, а постепенно. Капельмейстер бросился на первого попавшегося ему на глаза. К несчастью, это был я.
— Што ви делаете? Разве можно так бить в парапан? Вы когда-нибудь раньше играли на парапане?
«Пропал», — подумал я и неуверенно соврал:
— Так точно, господин капельмейстер, играл.
— Где же вы играли?
— В этой... в пятой гимназии. Там у нас был свой оркестр.
— Что ви мне рассказываете всякий небилиц, ей-погу. Я уже двадцать пять лет в пятой гимназии капельмейстер. Ни разу вас там не видел.
Он оглядел публику большими сердитыми глазами и вдруг засмеялся.
— Хе-хе-хе!.. Ну, ничего. Научимся. Еще раз. Фнимание. Два, три, четыре.
Все засмеялись. Гроза прошла.
На этот раз вышло лучше. Капельмейстер орал на какого-то баса, но, боже мой, какое, однако, сложное искусство — играть на барабане! Вокруг ревут трубы, в левое ухо стреляет, как из пушки, бас, в правое гремят тарелки тощего юнкера, а тут изволь считай: «Раз, два, раз, два», и следи за рукой капельмейстера, которая свирепо рубит стонущий воздух.
Драма!
IV
Одним словом, когда я на следующей сыгровке появился с барабаном, юнкера весело заулыбались и даже кто-то скомандовал:
— Смирно!
Я поставил барабан на козлы и сказал:
— Дорогу чистому искусству!
Мы играли марши, и я все думал о том, что если на обыкновенном турецком барабане в жиденьком юнкерском оркестре так трудно играть и все время сбиваешься с такта, то какое счастье быть композитором, как, например, Скрябин, и написать «Прометея», где сложнейшая партитура. И думал я еще об участи всех барабанщиков. И моя душа плакала над их безобразной жизнью. Что может быть глупее игры на барабане? Играют марш — колоти себе по гулкой коже: «Раз, два, левой, левой». Играют «Боже, царя храни», а ты следи за корявой капельмейстерской рукой и старайся не сбиться с такта. Противно!
Мои сердечные дела шли на повышение. В воскресенье в отпуск я записывался до двенадцати часов ночи и в шесть мчался к ней. Стояла чудная, пушистая зима. Ветер сыпал снег. В улицах горели лиловые вечерние фонари.
— Звозчик!
Лошадка трусит по улицам, которые в снегу кажутся незнакомыми. Милая, как я ее люблю! Маленькая, черненькая, родимое пятнышко над верхней губой. За что я так страшно счастлив?
Дам извозчику рубль, пусть он тоже будет счастлив. Или лучше не стоит? Нет, лучше дам.
Присутствие женщины вносит в жизнь мужчины гармонию и теплоту. Впрочем, это к делу не относится. Даже не гармонию, а разлад. С одной стороны, я получал каждый четверг у дежурного взводного надушенный сиреневый конверт, а с другой стороны — семерка по тактике и двое суток «на даче»[24] за невнимание в строю. Теперь я играл на барабане с удовольствием. Мне было все равно, что мы играли. Лично для себя я играл лишний час отпуска.
Зима, как выражаются поэты, сдалась сырым туманам. Ветер повернул и из северного стал южным. Откуда-то налетели скворцы, облепили карнизы домов и так галдели, что болела голова. На сыгровку мы уже выходили без шинелей, и когда бежали по лужам через двор, то от ветра было трудно нести барабан. Ветер дул в лицо, продувал насквозь, было холодно и славно. Приближался выпуск и вместе с ним то угарно-пьяное настроение, которое бывает, когда мы кончаем гимназию или корпус — все равно.
V
И вдруг случилось нечто странное, непонятное и неожиданное. Сначала говорили намеками, по углам. Потом громче, за обедом, за завтраком. Сквозь толстые и глухие стены училища, не пропускавшие раньше к нам снаружи ни одного звука, ни одного луча, стали просачиваться обрывки каких-то слухов, настроений и новых слов. В стране творилось неизбежное и стихийное. Целый день мы ходили как потерянные; говорили, говорили и не могли наговориться досыта. Читали газеты, но еще ничего определенного не знали. Потом вечером, на лекции о пулемете, слушая с напряженным вниманием, как говорил штабс-капитан что-то про техническую возвратную пружину и приемник, мы ничего не понимали, потому что думали о другом. Вошел юнкер Дорошевский, взволнованный, даже не спросил разрешения войти. Он что-то сказал тем, которые сидели на задних скамейках. Шепот передался, как ветер по спелой ниве, и через минуту все знали, что царь отрекся от престола.
Перестали слушать, а только говорили. И казалось, что все здание училища заряжено, как лейденская банка, быстрыми и напряженными мыслями. Жизнь ворвалась к нам снаружи и забросала газетами, телеграммами и слухами. Вечером начальник училища собрал нас в среднем этаже и прочел два манифеста об отречении Николая и Михаила. Мы были так взволнованы, что никто не спал. Офицеры не знали, какими им быть. Ночью откуда-то передавали по телефону, чтобы мы были готовы к выходу с ружьями и боевыми патронами. Утром кто-то из четвертой роты прошел с красным бантом на груди. У нас в классном отделении шумели. Кто-то говорил, вспотевший и взволнованный:
— Товарищи, ну, как это здорово! Кто бы мог подумать, в три дня.
Потом стало известно, что в двенадцать часов будет манифестация войск. Вероятно, из нашего начальства никто ничего не знал, потому что нам ничего об этом не говорили.
А мы волновались.
— Товарищи! — гортанным голосом с придыханиями кричал князь Гардапхадзе, честный и глупый грузин. — Патроны надо взять у каптенармуса. Стрелять, может, будем.
Но над ним только смеялись, и он сердился.
— Бараньи головы, не понимают, стрелять будем!
Было сумбурно и весело. Без четверти двенадцать приказали строиться.
Без десяти двенадцать ко мне подбежал Журавлев с корнетом в руках и, задыхаясь, сказал:
— Идите наверх. Берите барабан. Будете играть. Будем играть.
— Ну, извините, я не умею.
— Это свинство, в такое время не уметь. Должны уметь.
— Я хочу с ружьем.
— И свинство. Кроме вас, никто не умеет. Поймите, что барабан ведет весь оркестр.
В голосе у него звенело отчаяние. «Ага», — самодовольно подумал я.
— Петров, вы будете идти впереди батальона.
— Но как же я буду нести? Что мы будем играть? Я оскандалюсь. Слушайте, но ведь это же экспромтом, — сказал я с отчаянием.
— Для вас это не в первый раз!
Я был убит. Надевал на меня барабан весь оркестр. Пригоняли ремень. Поощряли. Просили не унывать. Посмеивались. Я начал входить во вкус. В конце концов барабан ничем не хуже ружья. Даже лучше. С ружьем, правда, вид мужественный и боевой. Но зато барабан ведет за собой весь оркестр, как говорит Журавлев, а оркестр ведет за собой весь батальон. И, кроме того, не от оркестра ли зависит, чтобы шли в ногу и вдохновенно!
От оркестра!
VI
Все училище выстроилось на мостовой перед зданием. Оркестр на правом фланге. И я с барабаном через плечо. Вышел начальник училища. Его шинель была на красной подкладке и распахнута ветром. Он поздоровался с нами так:
— Здравствуйте, товарищи!
«Старая лисица», — подумали мы, но ответили ему все, как один человек. Четко прозвучали слова команды. Звякнули винтовки. И батальон, в строгой колонне, по отделениям, вытянулся по мокрой весенней улице. В перспективе солнечных домов пробежала толпа людей с красным флагом. Промчался тяжелый грузовой автомобиль. Сверкнули штыки. Послышалась музыка, крики, и стало понятно, что в улицах полно людей.
Было странно и необыкновенно. Прохожие были все серенькие, простые люди. И смотрели на нас с любопытством и удовольствием. А когда мы влились в бесконечный поток красных флагов, лиц, автомобилей, солнца, тающего снега, мальчишек, Журавлев сделал страшное лицо и сказал:
— Сейчас начинаем. Марш четырнадцатый. Только сразу, все вместе, господа.
Он подсчитал ногу, и мы грянули. Тощий юнкер оказался страшным революционером. Он вдохновенно гремел своими тарелками, и все невпопад. Солнце било ослепительными снопами из сияющей меди труб. И в трубах смешно и отчетливо отражалось синее небо, казавшееся в меди зеленым, дома, красные флаги и лица музыкантов. Улицы были запружены взволнованным народом. Войска тянулись беспрерывным потоком, и почти на каждом перекрестке приходилось выжидать, пока очистится дорога. Было бестолково и славно. Чем ближе мы подвигались к главным улицам, тем больше опьянял шум я рябило в глазах. Какие-то студенты махали нам шапками и кричали сиплыми молодыми голосами, стараясь перекричать других:
— Да здравствуют товарищи юнкера!
Мы проходили по сырым смрадным улицам, где ютится еврейская беднота, и наш оркестр, как мухи кусок сахара, облепляли грязные, нечесаные, каплоухие ребята. Старые седые евреи с пейсами снимали шапки, и беременные еврейки складывали руки на огромных животах, улыбались, и по щекам их катились слезы. Впереди меня шел батальонный командир, и я все время видел перед собой его вогнутую могучую спину и залитые грязью сапоги. Какая-то молодая еврейка, румяная и полногрудая, подобрав до колен юбку, побежала, разбрызгивая лужи, за нами, догнала батальонного командира, уцепилась за рукав шинели и, завизжав: «Уй, херувим», попыталась его поцеловать. Батальонный командир, не меняя шага, покосился на нее испуганно через пенсне и сделал отстраняющий жест рукой. Юнкера засмеялись, и я видел, как у еврейки блеснули глаза пьяным солнечным восторгом. Мы играли без конца марсельезу, и я уже не боялся, что собьюсь, и даже изредка говорил музыкантам:
— Не спешите. Реже.
Тощий юнкер сверкал своими тарелками и улыбался. Все были как на облаках.
В училище вернулись мы к обеду, уставшие от солнца, от воздуха и от толпы. После солнца и ярких красок в здании было прохладно, темно, пахло солдатским сукном и щами. Репетиция по администрации была отменена, и мы все время до ночи просидели у себя в классе и говорили. Говорили мы о близком выпуске, о свободе, о женщинах, о политике, и даже кто-то рассказывал анекдоты «для некурящих», и все смеялись. Мы были полны радости, и нервы у нас были взвинчены. А когда я ложился спать, Журавлев сказал:
— Вот видите, Петров, я же вам говорил, что барабан ведет за собой весь оркестр.
— А вы знаете, господа, что если не считать воскресений и завтрашнего дня, то до выпуска осталось две недели, — сказал кто-то мечтательно.
— Прекратите разговоры, — сердито сказал дневальный.
Я укрылся с головой и не мог сомкнуть глаз — до того много мыслей и впечатлений стучалось у меня в голове. Казалось, что голова от них распухла. Я решительно не мог заснуть.
— Журавлев, вы спите?
— Нет. Не могу.
— Слушайте, Журавлев, правда, я был великолепен сегодня с барабаном?
— Великолепны. Если бы по справедливости, то вам надо идти в воскресенье на два лишних часа в отпуск.
— Прекратите разговоры, — рявкнул дневальный.
«На что мне два лишних часа отпуска, — подумал я. — Зиночка?»
Но в эту минуту я меньше всего думал о ней.
Ночью мне снилась какая-то чепуха, похожая на бред, от которой болела голова. Утром Журавлев, натягивая сапоги и зевая во весь рот, сказал:
— Вот видите, Петров, я же вам говорил, что барабан ведет за собой весь оркестр. А вы не верили.
Потом вспомнил и добавил:
— Впрочем, я вам, кажется, это вчера говорил.
— А нам, господа, до выпуска, если не считать воскресений и завтрашнего дня, — две недели, — сказал кто-то.
— Ну, быстро застилать койки! — закричал дневальный. — А то сегодня дежурный поручик Лаврищин. Первое революционное офицерство, до сигнала пять минут.
1917
В воскресенье[25]
Писатель Воронов снял мягкую фетровую шляпу, вытер носовым платком вспотевший лоб и вошел в почтовую контору. В большой скучной комнате был беспорядок, — очевидно, только что кончили белить стены, и теперь грудастая, толстая баба, подоткнув юбку и шлепая босыми ногами, мыла пол. Сыро и прохладно пахло известью, мылом и сургучом. В мокрых досках пола, как в зеркалах, отражались раскрытые окошки, за которыми зеленела молодая листва и синело небо.
— Здравствуйте, Игнатий Иванович, — сказал Воронов, подходя к деревянной решетке.
За решеткой сидел чиновник с желтым лицом и прокуренными усами. Увидев писателя, он улыбнулся и, протягивая в окошечко руку за бандеролью, сказал:
— А, Николай Николаевич! Милости просим. Давненько к нам не заглядывали. Вам тут недавно было заказное письмо. Из редакции журнала «Вестник Европы». Получили-с?
— Получил, получил, — ответил Воронов, кладя шляпу на прилавок и садясь на стул возле окошечка. — Получил, как же. Мерси.
Он помолчал.
— Взгляните, Игнатий Иванович, какова весна-то! А? Начало апреля, а уже все зелено, все цветет. И солнце цветет, и море цветет... Ну, прямо волшебство какое-то, — сказал он, с удовольствием произнося слово «волшебство», не вполне обычное в почтовой конторе, — изумительная весна. И жарко. Вот, пока дошел к вам в контору, весь лоб вспотел. Ух! Ну, как живете-можете?
— Да ничего, спасибо. Вот видите, немножко приводимся в порядок к пасхе. А в общем, живем скучновато, тихо. Дачников еще нет, работы немного. А так ничего, слава богу. А вы как, Николай Николаевич? Романчик принесли, — покосился он на рукопись. — Опять небось в «Современный мир»?
— Увы, не роман. Так, пустяки: два рассказа в «Ниву».
— В «Ниву»-с? Пожалуйте-ка их сюда. Вам, конечно, заказной бандеролью?
— Заказной, заказной, — сказал писатель, подавая чиновнику пакет.
— Традиционно-с? — засмеялся чиновник.
— Традиционно-с, — подтвердил писатель.
Пока Игнатий Иванович взвешивал аккуратный пакет на весах, меняя на чашках ладные медные гирьки, приклеивал разноцветные марки с двуглавыми орлами и со стуком ставил печати, Воронов обмахивался платочком и, откинувшись на спинку стула, думал о том, что хорошо бы описать эту самую почтовую контору и бабу, которая, заголив белые икры, моет пол грифельно-серой тряпкой, и мокрый запах побелки, и приморскую весну, и чиновника Игнатия Ивановича, и яркие, горячие подоконники, по которым ползали слабые мухи.
— С вас сорок две копеечки, — сказал почтовый чиновник, — маловато-с. А в прошлый раз за роман пришлось вам заплатить полтора рубля с копейками. Солидный был роман. Внушительный.
Воронов улыбнулся.
— Порядочный получился.
— Получите расписочку, — сказал чиновник, протягивая в окошечко полоску квитанции.
— Спасибо. Вот вам полтинник.
— Давайте его сюда, полтинничек этот самый, мы его сейчас разменяем. Прошу получить сдачи восемь копеечек. Потрудитесь проверить.
— Ладно уж, — улыбнулся Воронов, ссыпая мелочь в кошелек и надевая затем шляпу. — Пойду себе потихоньку. До свиданья.
— До свиданья, Николай Николаевич. Захаживайте.
— Да вот скоро, наверное, новый роман принесу. Рубля на два. В Москву будем его посылать.
— Пошлем и в Москву, самым аккуратным образом.
— Ну, я пошел. До свиданья.
— Подождите, Николай Николаевич, — сказал вдруг чиновник. — Знакомы мы с вами уже бог знает сколько лет, уже, должно быть, десятка полтора ваших романов и повестей прошли через мои руки, знаю, что вы, так сказать, известный писатель и все такое, а, представьте, до сих пор ничего вашего не читал. Нельзя ли у вас попросить почитать что-нибудь вашего сочинения?
— А в самом деле, — рассмеялся писатель. — Ведь, в сущности говоря, мы уже старые знакомые. — Он задумался. — А знаете что? Приходите-ка вы ко мне как-нибудь в воскресенье. Пообедаете. Я вам дам что-нибудь из своих книг. У меня по воскресеньям собираются.
Воронову понравилась эта мысль, и он ее немного развил:
— В самом деле, приходите-ка. Не стесняйтесь. Я буду очень рад. Так давно знакомы, а встречаемся лишь при исполнении служебных обязанностей. Все будут очень рады. Так мы вас ждем. Часика в два, в три.
— Спасибо, зайду. Мне очень приятно. Зайду.
— Заходите. Ну, еще раз до свиданья.
Воронов вышел из конторы и, не торопясь, пошел домой по шоссе, вдоль цветущих и благоухающих садов, из-за которых временами появлялась белоснежная железная конструкция нового маяка с нижними опорами, выкрашенными суриком. Он лето и зиму жил на собственной даче над морем. По дороге он сдвинул велюровую шляпу на затылок, заложил за плечи трость, забросил на нее раскинутые руки и таким образом, отчасти напоминая распятие, стал обдумывать следующую главу нового романа, которая должна была происходить в ателье модного художника среди веселой богемы, и через десять минут забыл о почтовом чиновнике, который до самого воскресенья от восьми до двенадцати и от двух до шести аккуратно сидел у себя за деревянной решеткой, приклеивая марки, взвешивая на весах пакеты, писал квитанции, много курил, скучал и думал о Воронове. Ему очень хотелось посмотреть, как живет такой необыкновенный, даже несколько таинственный человек, как писатель, сочиняющий повести и романы, которые потом набираются в типографиях, печатаются и дорого продаются в книжных магазинах совсем чужим, посторонним людям.
В воскресенье Игнатий Иванович особенно старательно умылся, причесался, ярко расчистил сапоги и в два часа отправился к Воронову. Его встретила жена писателя, женщина, похожая на императрицу Екатерину Вторую, но в пенсне и с очень любезным лицом.
— Вы к Николаю Николаевичу? — спросила она, всматриваясь в Игнатия Ивановича. — Из почтового отделения, по делу?
— Никак нет, не по делу, а по любезному приглашению господина Воронова отобедать.
На один миг в глазах жены писателя мелькнуло изумление, но тут же она улыбнулась еще любезней.
— Ах, вот как! Очень рада. Я жена Николая Николаевича. Он сейчас у себя в кабинете. Пожалуйста, пройдите прямо через столовую в салон, а потом дверь направо.
Она протянула чиновнику красиво изогнутую руку, которую он осторожно пожал, боясь повредить, и хотел поцеловать, но не рискнул. Он прошел через довольно длинный коридор мимо вешалки, на которой висело множество пальто, макинтошей и шляп. В столовой было празднично — полно солнца, цветов в горшках и вазах, а стены салона были увешаны от пола до потолка разноцветными картинами в самых разнообразных, по большей части золоченых рамах и багетах. Из кабинета доносились громкие мужские голоса и смех. Чиновник переступил порог. Перед ним в синем табачном дыму стоял Воронов, держа руки в карманах свободного, артистического вестона, и горячо спорил с двумя господами, сидящими в чрезвычайно глубоких, пухлых креслах. Увидев Игнатия Ивановича, Воронов вынул руки из карманов, и у него в глазах тоже скользнуло нечто похожее на изумление, но он вспомнил, что сам пригласил почтового чиновника, и на его лице выразилось удовольствие.
— Ну, вот и прекрасно, что пришли! — воскликнул он, протягивая руку. — Пообедаете с нами. Позвольте вам представить, господа, это господин... Господин... Одним словом, Игнатий Иванович, из нашей местной почтовой конторы.
Игнатий Иванович стал здороваться с другими гостями. Один из них был низенький, толстенький, с монгольскими глазками и, здороваясь, пробормотал нечто неразборчивое, а другой — сухой, с орлиным носом, как бы заплаканными зоркими глазами и маленькой бородкой, одетый в английский полуспортивный пиджак с большими накладными карманами, — протягивая ему руку в белоснежном крахмальном манжете, отчетливо произнес свою фамилию:
— Карпов.
«Пресвятая богородица, — с восхищением подумал чиновник, — тот самый почетный академик по разряду изящной словесности Карпов! Вот это здорово!»
Он сел в уголке на мягкий пружинный пуфик и сказал Воронову:
— А у вас тут, знаете, как на картинной выставке.
Воронов снисходительно, но не без удовольствия улыбнулся:
— Все это картины моих друзей, художников. Вот, например, Карла Францевича. — И писатель показал на толстого человечка.
Почтовый чиновник приподнялся с пуфика и сказал, делая приятное лицо:
— Очень-с!
Между тем хозяин продолжал прерванный спор.
— Нет, Ося, — говорил он, обращаясь главным образом к почетному академику по разряду изящной словесности, — вся прелесть Тютчева не в том, что он писал просто и легко...
— Ну, положим, не просто и не легко...
— Подожди, я еще не закончил свою мысль. А в том, что в нем есть, понимаешь ли ты, этакий вес, груз, сила.
Ты скажешь, ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила.А, брат! Это не нам с тобой чета! Силища.
Карпов кисло улыбнулся, но кивнул красивой головой с сильно выдающимся затылком.
Они еще говорили долго и много о вещах, не совсем понятных Игнатию Ивановичу, но он слушал их, стараясь не пропустить ни одного слова, и наслаждался, что он сидит в этом просторном, красиво обставленном кабинете с огромными книжными шкафами и присутствует при беседе двух писателей и художника, из которых один был известен на всю Россию.
Приходили все новые и новые люди. В комнатах стало накурено сигарами, тесно, шумно. Разговоры шли о музыке, о журналах, о писателях, о социал-демократии, о художниках, артистах. Пришел лектор с популярной фамилией, вместе с ним баритон из городского театра. Все здоровались с почтовым чиновником, и у всех в глазах мелькало удивление. Но Игнатий Иванович этого не замечал. Стараясь занимать как можно меньше места и не быть назойливым, он с однообразной улыбкой переходил из комнаты в комнату, приближался к картинам, осторожно трогал пальцами рамки и холсты, покрытые слоями затвердевших красок, восхищался и смутно чувствовал себя тоже причастным к этому блестящему художественному миру, совершенно для него новому.
Потом очень долго обедали за длинным столом, на котором было расставлено много хрусталя и цветов. Все было на редкость вкусно и аппетитно, в особенности крошечные слоеные пирожки — сочные, жареные, золотистые, подававшиеся к бульону, на поверхности которого муарово плавал восхитительный навар, временами превращаясь в круглые золотые медали жира. Таких пирожков можно было съесть сто штук и хотеть еще. Но Игнатий Иванович стеснялся и ел мало, хотя и был голоден. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в простой черной юбке и еще более простой синей кофточке. Он первый раз в жизни сидел рядом с такой красивой, свежей, изящной женщиной. За столом, как всегда в таких случаях, было тесновато, и Игнатий Иванович боялся сделать лишнее движение, чтобы не толкнуть свою соседку локтем или не опрокинуть чего-нибудь на крахмальную скатерть. Но девушка не обращала на него внимания и лишь один раз сказала:
— Будьте добры, передайте мне салату.
Он передал и с умилением смотрел, как ее руки накладывали себе на тарелку деревянными ложкой и вилкой свежие листья, окропленные прованским маслом и лимонным соком.
Передавая соседке салат, Игнатий Иванович капнул на скатерть маслом и, боясь, чтобы его не уличили, стал с самым невинным видом наливать себе в стакан нарзан, хотя ему хотелось попробовать красного вина.
А потом перешли в салон, где было еще больше цветов и картин, чем в других комнатах, и там расселись по креслам, диванам, кушеткам и канапе. Хозяин дома долго просил ту самую девушку, которой Игнатий Иванович передавал салат, что-нибудь сыграть. Она сначала отказывалась, но когда ее стали просить хозяйка, а затем и все гости, согласилась и пошла к роялю, который стоял посреди комнаты, разнообразно отражая окна и море. Она раскрыла ноты, бегло осмотрела первую страницу и стала играть. Комната наполнилась звуками, заставлявшими звенеть разные мелкие вещи, расставленные по этажеркам. Чиновник смотрел в окно, и пока белые пальцы девушки бегали взад и вперед по клавишам, вызывая целую бурю звуков, ему казалось, что бледно-голубое море с парусом на горизонте, и зелень сада, и лиловые вечерние тени деревьев и кустов — все это так красиво не само по себе, а от музыки и что, когда музыка перестанет — все исчезнет: и море, и парус, и деревья.
Заметно вечерело, многие из гостей прощались и уходили. Игнатий Иванович чувствовал, что ему тоже пора домой, но никак не мог заставить себя встать. Он сидел, как очарованный. Мысли его разбегались, не привыкшие к музыке нервы звенели, как струны, сердце сладко, непонятно, вкрадчиво ныло; наконец он заставил себя встать и пошел отыскивать хозяина. Воронов снова стоял в кабинете, сунув руки в карманы вестона, и беседовал с высоким господином в новом длинном сюртуке с шелковыми лацканами и пуговицами, обшитыми шелком в мелкую шашечку. Судя по его строгому профессорскому лицу, разговор шел о вещах важных, серьезных.
— Я попрощаться, — сказал чиновник.
— Уже? Останьтесь. Выпейте с нами чаю.
— Никак нет-с. Пора.
— А то?
— Не могу-с. Мне надо.
— Ну, раз надо, то надо. На нет и суда нет. До свиданья. Спасибо, что заглянули.
Игнатий Иванович хотел уже было выйти из кабинета, но вспомнил, что Воронов обещал ему книжечку, и жалобно сказал:
— А книжечку? Вы давеча обещали. Нельзя ли?
— Ах да, книгу. Хорошо. Хотя вот что: сейчас не стоит искать, право, не помню, куда я засунул авторские. И — видите, у меня гости. Сделаем лучше так. Заходите как-нибудь на днях. Или через недельку, гм... хотя бы в воскресенье. Пообедаете у нас. А я к тому времени... Хорошо?
— Слушаюсь.
— Ну, всего вам доброго.
Проходя через столовую, почтовый чиновник столкнулся с почетным академиком и сказал ему:
— Я уже отбываю. Честь имею кланяться. Очень приятно, что довелось познакомиться с таким выдающимся человеком. Весьма.
— Тронут, — сказал почетный академик четко, как отпечатал. — Всего наилучшего.
Он протянул Игнатию Ивановичу свою длинную, породистую руку. Хозяйку дома чиновник не разыскал и, не попрощавшись с нею, вышел.
Солнце уже давно закатилось, и розовая заря погасла где-то далеко в степи, апрельское небо на западе все еще зеленовато светилось, на нем отчетливо рисовались кудрявые силуэты молодых акаций и ограды дач, а над морем блестел ясный, словно вымытый месяц, и от него в море до самого горизонта было тихо и сиренево. Почтовый чиновник был взволнован. Засыпая, он думал о Воронове, о его доме, о его гостях, картинах, цветах, рояле, маленьких слоеных пирожках, о знаменитом почетном академике по разряду изящной словесности. Ему стало жаль себя, своей бедности, робости. И сознание того, что этого изменить уже никак невозможно, что жизнь почти прошла, долгой ноющей болью отзывалось в сердце и не давало уснуть. Хотелось сочинять стихотворения про горькую долю.
На следующий день Игнатий Иванович опять, сидя у себя за решеткой, наклеивал марки, со стуком гасил их, взвешивал на весах заказную корреспонденцию и выдавал в окошечко квитанции.
1917
A+B в квадрате[26]
Который раз я уже останавливаюсь возле этой двери с приколотым к ней билетиком: «Звонок не звонит, просят стучать». Буквы крупные и неровные, слова лезут вверх. Должно быть, писала сама Верочка. Я снимаю с правой руки перчатку и звонко стучу. За дверью слышны голоса, но никто не отворяет. Подождав минуты две, я стучу еще раз. Американский замок щелкает, и дверь отворяется. Передо мною Верочка. Одной рукой она держится за дверную цепочку, в другой у нее стакан с перламутрово-мутной водой, откуда сильно пахнет валерьяновыми каплями. Она улыбается. Хорошенькие, немного оттопыренные, еще детские ушки розовеют из-под завитков черно-каштановых шелковистых волос. Видя ее изумленно-радостную, простодушную улыбку, невозможно самому не улыбнуться. Я сдержанно и снисходительно, как и подобает молодому офицеру-фронтовику, улыбаюсь и спрашиваю:
— К вам можно? Вы, кажется, чем-то заняты?
— Я? Нет. Да входите же, раздевайтесь.
Она снимает дверную цепочку и впускает ценя.
— Вы отвратительный, — говорит она, продолжая улыбаться сияющими глазами. — Вас повесить мало!
— Почему это?
— Сам сказал, что сегодня уезжает на фронт, а сам, оказывается, и не думал уезжать! Я вас ненавижу!
— Подождите, подождите, не все сразу, давайте разберемся хладнокровно, — говорю я, устраивая шинель на вешалку, прибитую так высоко, что с трудом можно дотянуться. Внутренне удивляюсь: как это Верочка умудряется вешать сюда свою шубку? Должно быть, подставляет стул.
Пока я стою перед зеркалом, заправляю гимнастерку, разглаживая впереди складки и затягивая скрипучий офицерский пояс, Верочка говорит, осторожно держа обеими руками на весу стакан и боясь разлить воду:
— Оставьте ваши шуточки. Они неуместны. Сегодня вы так легко не отделаетесь. Вы понимаете, что вы сделали со мной?
— А что?
— Сказали, что уезжаете, а я как последняя дура написала вам эту несчастную трогательную записку. Сожгите ее.
— Лучше умру!
— Перестаньте обманывать. Все равно я вам уже не верю. Вы не заслуживаете доверия.
Я делаю обиженное лицо.
— Значит, вы хотели, чтобы я уехал на фронт?
В ее глазах мелькает ужас.
— Нет! Что вы? Зачем это? Не надо!
— Что ж. Конечно. Я вас прекрасно понимаю. Пишете там всякие нежные слова: «дорогой, милый» и все прочее, а сами только и мечтаете, чтобы меня поскорее ухлопали.
Верочка страшно краснеет.
— Побойтесь бога!
Она всматривается в мое лицо и видит, что я улыбаюсь.
— Смеетесь?
— А что ж мне: плакать?
— Мерси. Сам говорит, что уезжает, а сам смеется. Кончено! Больше я ни одному вашему слову не поверю. Вот ни на столечко не поверю.
Она хочет показать четверть своего мизинчика с наполированным ноготком, но так как руки у нее заняты, то она беспомощно осматривается по сторонам.
— Ну уж ладно, хватит. Терпеть не могу этих объяснений в любви в передней, — говорю, делая серьезное лицо. — Что подумают друзья и знакомые?
— Слушайте, однако, у вас страшное самомнение. Вы не воображайте.
— Я не воображаю.
Верочка недоверчиво смотрит на меня и хочет погрозить пальцем, но мешает стакан, а взять его в одну руку как-то не догадывается.
— Нет, нет. Ни одному слову не верю, сам говорит «не воображаю», а у самого глаза так и блестят. Ну, скажите, отчего у вас так неприлично блестят глаза?
Чтобы скрыть предательский блеск глаз, я опускаю ресницы.
— От холода, — говорю я. — Почему это у вас пахнет, как в аптеке?
— С Лилькой истерика. Меня гоняли за валерьянкой. В общем — страшная драма.
Из-за двери слышится сердитый голос Верочкиной мамы:
— Вера, да скоро же ты наконец!
— Господи! — восклицает Верочка. — Они меня все хотят замучить.
Она хочет сделать руками энергичный жест, но вспоминает о стакане.
— Тьфу, пропасть, стакан этот. Не дает разговаривать. Я его, кажется, сейчас разобью, всем назло!
— Вера, да иди же ты скорей, Христа ради, — слышится из-за двери.
— Сейчас, — отвечает Верочка плаксиво, — не дают с человеком поговорить. Не умрет ваша Лилька без валерьянки. Пойдем, Павлик.
— Чего я там не видел? Лучше я посижу здесь на сундуке. Тихо, уютно. А там истерика, семейная драма. Удобно ли соваться?
Верочка делает страдальческие глаза:
— Госссподи! Идите, вам говорят. Просто к Лильке с фронта жених приехал, и она в своей комнате дает спектакль безумной страсти.
Я боком вхожу в столовую, где Верочкина мама накалывает на коленкоровый манекен с дамской грудью, но без зада, куски синей материи. Манекен шатается на своей единственной ноге. На столе разложены модные журналы, выкройки, кружева, насыпаны булавки. По всей комнате валяются походные офицерские вещи, — но всей вероятности, имущество Лилькиного жениха.
— В отпуск приехал? — шепотом спрашиваю я Верочку.
Она отрицательно мотает головой.
— Ранен? В командировке?
— Землячки выперли из батареи. Насилу ноги унес, — тихо сообщает Верочка. — На какой-то станции отобрали оружие. Ужас!
— Вот видите, а вы говорите — фронт.
— Это вы говорите. А я ничего не говорю.
— Кто пришел? Monsieur Петров? — спрашивает Верочкина мама, не оборачиваясь.
— Так точно.
Я ловлю ее маленькую сухую ручку, от которой тоже пахнет валерьянкой.
В соседней комнате слышится неопределенная возня, и томный, умирающий голос Лильки произносит сквозь нос, заросший полипами:
— Волотя, тайте же мне воты.
Появляется Верочка уже без стакана, так сказать, с развязанными руками, и, делая мне красноречивые жесты за спиной матери, говорит:
— Ну что ж, пошли?
— Куда это? — спрашивает строго maman.
— Гулять.
— В такое время?
— А что? Время самое подходящее.
— Не дерзи.
— Я не дерзю. То есть не держу.
— Попридержи свой язычок. Ты уроки сделала?
— Госссподи!
— Что госссподи? Госссподи сделала или госссподи не сделала?
— Ну сделала и сделала.
— А по моим наблюдениям, ты ничего не делала.
Верочка вспыхивает и вихрем летит куда-то в глубину квартиры и возвращается через две секунды, размахивая голубым дневником, откуда вылетает розовая промокашка с наклеенной картинкой: корзинка фиалок и два голубка — и долго зигзагами планирует по комнате. Верочка швыряет тетрадь на выкройки и быстро переворачивает страницы.
— Госсподи, вот люди! Не верят! На, смотри: вторник, двадцать второе ноября. Русский язык — повторить. История — повторить. Алгебра — не было преподавателя. Ну, и рукоделие. Убедилась? — И Верочка шумно захлопывает дневник.
— Ну иди, — говорит maman со вздохом. — Но когда же вы вернетесь?
— Через полчаса, — говорю я с легким полупоклоном.
— Не расписывайтесь за неграмотных, — говорит Верочка, обдавая меня презрительным взглядом. — То есть за грамотных. Лично я буду гулять, сколько захочу. А вы как знаете.
Я опять щелкаю шпорами и делаю полупоклон в сторону.
— Не извольте беспокоиться: через полчаса ровно будем дома.
— Посмотрим! — коротко бросает Верочка.
— Идите, — говорит maman, — только надень, Верочка, теплое пальто.
— Не хочу, мне не холодно.
— Тогда не пойдешь.
— Пойду.
— Или наденешь теплое пальто, или будешь сидеть дома.
— Но пойми же, мамочка, что это насилие над личностью.
— Как знаешь. Но я тебя не пущу.
Пожалуй, в виде протеста, Верочка осталась бы дома, но в окно виден противоположный корпус, весь белый от лунного света с синими, почти что черными, косыми тенями многочисленных балконов.
Ах, как сейчас волшебно на дворе!
Верочка покорно вздыхает и с видом жертвы, обреченной на заклание, всовывает руки в рукава легкой, душистой шубки, которую я ей подаю, нарочно становясь на носки, чтобы она помучилась.
— Скажите, разве это жизнь, а не прозябание? — говорит Верочка, глядя мне в лицо снизу вверх, когда мы спускаемся по лестнице, таинственно озаренной лунным светом. Я иронически смотрю на ее волосы, поднятые на затылке «а-ля директуар», и на легкие колечки волос на шее.
— Наоборот. В шубке вы будете прозябать гораздо меньше.
— Плохо.
— Что плохо?
— Острите плохо. За такие остроты вешают.
— Повесьте.
— Не могу.
— Почему?
— Жалко.
— Ага!
— А вы этим пользуетесь. Нечестно. Почему вы со мной не хотите говорить серьезно? Не удостаиваете? А то никак не разберешь, когда вы шутите, а когда нет.
— Хорошо.
— Что хорошо?
— Хорошо: будем говорить серьезно. Вы можете ответить мне на один вопрос? Только вполне откровенно.
— Могу, — еле дыша, говорит она и останавливается, повернув ко мне свою прелестную головку, прикрытую невесомым легким оренбургским платком. — Спрашивайте.
— Скажите мне...
— Что?
— Сколько будет А плюс В в квадрате?
Она ошеломлена.
— Вы что...
— Не знаете?
— Конечно, знаю. Но не скажу принципиально.
— Ладно. Поверим на слово. А в котором году был Первый Вселенский собор?
— В триста двадцать пятом, — бойко отвечает Верочка.
— Ага!
— Что ага?
— Говорю ага, — ехидно замечаю я. — Значит, вы только по алгебре принципиально не отвечаете?
— Больше с вами не разговариваю.
Молча мы выходим на улицу. Наши резкие черные тени быстро скользят по белому асфальту тротуара, как будто хотят убежать из-под наших ног. Я слушаю бренчанье своих шпор, и мне кажется, что и у Верочки тоже маленькие звонкие шпоры, и у очень редких прохожих шпоры, и даже у лошадей шпоры. Хотя мы вышли погулять, но почему-то спешим, как на пожар.
— Мы, собственно, куда так неудержимо стремимся? — спрашиваю я, продолжая быть ироничным.
— Увидите.
Мы выходим на шоссе, которое в чистом лунном свете похоже на полосу холста, затем сворачиваем в переулок и через незнакомые чужие дачи, крадучись, приближаемся к обрыву. Луна очень высока, стоит над самой головой, а потому море внизу по-ночному слепое и темное, но зато ярко светится лилейно-белая пена прибоя, который мерно вспыхивает под берегом.
— Теперь? — спрашиваю я.
— Вниз, — отвечает она.
Я беру ее под руку, и мы согласными шагами сходим по крутому спуску к морю. Для того чтобы дойти до самой воды, мы пробираемся по каким-то незнакомым тропинкам, пересеченным тенями голых деревьев и кустов дикой сирени, и я чувствую себя в ярком лунном свете как на экране кинематографа.
— Верочка, — нежно говорю я, прижимая ее руку к своему сердцу.
— Ну?
— Скажите мне одну вещь, только откровенно.
Мы останавливаемся.
— Ну? — неслышно говорит она, и ее голова в прозрачном оренбургском платке склоняется ко мне на плечо. — Ну?
— Сколько будет А плюс В в квадрате?
Она смотрит на меня некоторое время с изумлением.
— Отстаньте вы, ради бога, от меня!
— Уже отстал.
— Ну милый, ну хороший, ну какой хотите, не надо говорить об алгебре.
— Скверно, Верочка, — говорю я назидательным тоном. — Ученье свет, а неученье тьма.
— Перестаньте!
— Вы же сами просили меня быть серьезным.
— Несносный! Серьезным, но не в смысле алгебры. Давайте говорить о чем-нибудь серьезном другом.
— Давайте.
— Говорите.
— Я вас люблю.
— Вы опять шутите?
— Хорошие шуточки, когда я из-за вас третью ночь не сплю.
— Нет, нет. Закройте ваш фонтан. Я уже ни одному вашему слову не верю. Сказал, что едет на фронт, и так обманул.
— Сдался вам этот фронт! — тоскливо говорю я.
— Нет, вы скажите, почему не поехали?
— Ну, не поехал и не поехал. Медицинская комиссия не пустила. Еще не все осколки достали. Один остался. Самый маленький, незаметный, ехидный. А вам бы, видно, хотелось, чтобы меня поскорее отправили. Я вас вижу!
— Ничего вы не видите. А про осколочек врете.
— Верно. Вру. Но не вполне. Входное отверстие еще не зажило. Кровоточит.
— Поэтому вы так прихрамываете?
— Да.
— А я думала, для красоты, как Байрон.
— Верочка, — проникновенно говорю я. — Посудите сами: ну мог ли я уехать, получив вашу записку? Как тут уедешь?
Она с благодарностью смотрит на меня, но все-таки неуверенно спрашивает:
— Все это так, но почему же у вас в таком случае глаза блестят?
— От луны.
Мы проходим мимо пустой рыбачьей хижины с несколькими камнями на плоской крыше. Возле нее в ярком, но неверном лунном свете блестят вытащенные на берег шаланды. Я сажусь боком на борт одной из них и начинаю закуривать. Ветер задувает огонек. Пока я вожусь со спичками, Верочка, чуть приподняв шубку, идет на цыпочках к самой воде и наклоняется над ней, — должно быть, хочет потрогать, узнать, теплая или нет. Возвратившись, она садится рядом со мной. Ноги ее не вполне достают до песка, и она от нечего делать начинает ими болтать совсем по-детски. Минут пять мы молча смотрим в море. Прямо перед нами, недалеко от берега, лежит в воде большой темный камень. Когда через него перекатывается волна, он начинает светиться мокрым лунным блеском; потом он темнеет, а когда набегает новая волна, опять загорается, как большой кусок фосфора, который то всплывает на поверхность, то опускается на дно.
Издали сверху доносятся одинокие винтовочные выстрелы, напоминающие мне о фронте. Должно быть, это часовые у каких-нибудь складов пугают воров.
Вдруг Верочка делает большие глаза, дотрагивается до моего погона и говорит:
— А вы знаете, в прошлом году я чуть не утонула.
— У вас богатое прошлое.
— И меня бы теперь не было.
С моря ветер свежеет, но кажется, что холодно не от ветра, а от лунного света. Верочка глубоко засовывает руки в карманы шубки, ежится.
— Вам холодно? Идем домой, тем более что полчаса давно прошло.
— Можете идти. Я вас не держу.
— Но я обещал...
— Не следовало обещать. Во всяком случае, я никуда не пойду.
— Вот упрямое существо! В таком случае наденьте хоть мои перчатки.
— Мне не х... холодно, — отвечает Верочка, продолжая дрожать, и вид у нее такой, словно она чего-то ждет.
Я молча беру по очереди ее холодные, как лед, руки, вытаскиваю из карманов и надеваю на них свои меховые перчатки. Она вертит перед глазами свои руки, ставшие огромными.
— Как у великана. Не знаю теперь, куда их девать.
— Только не потеряйте. Вам бы их, собственно говоря, следовало эти перчатки привязать тесемочками.
— Госссподи! Да перестаньте вы наконец смотреть на меня, как на маленького ребенка. Уверяю вас, что я уже совсем взрослый человек. Вы меня только мало знаете. Дайте ваш стек.
Я закуриваю другую папиросу, вытащив ее из походного кожаного портсигара, висящего на тонком ремешке поверх шинели, а в это время она, вытянув мой стек перед глазами, усиленно смотрит вверх на луну и щурит то один глаз, то другой. Луна отражается синими огоньками в ее черепаховом гребне, на металлической рукоятке стека, на пуговицах шубки. Наконец она отдает мне стек и спрашивает:
— Послушайте, вы не можете мне сказать, почему если вытянуть стек на уровне носа, закрыть правый глаз и смотреть пристально на луну, то она будет с левой стороны, а если зажмурить левый глаз, то она будет с правой стороны?
Я долго смотрю на Верочку, и мне почему-то хочется ее поцеловать.
— Вы прелесть!
— Мерси. Почему это вы вдруг решили?
Сегодня она похожа на девушку с английской открытки.
— Так. В вас есть что-то в высшей степени великобританское.
— В каком смысле? — высокомерно спрашивает она.
— Во всяком.
— Мне кажется, вы ошибаетесь. Многие говорили, что я похожа на английскую головку. А Великобритания здесь ни при чем.
— Верочка, родная моя! Побойтесь бога. Ведь Англия это, в общем, то же самое, что Великобритания.
Но Верочка после моего фиктивного отъезда на фронт решительно мне не верит.
— Да, как же! Расскажите кому-нибудь другому. Англия это одно, а Великобритания — другое. Верно? Нет? А почему у вас глаза блестят?
Я молча улыбаюсь.
— Да что вы меня все время разыгрываете! Я отлично знаю, что Англия это Англия, а Великобритания совсем другое, где-то около Аляски.
— Ладно. Пускай будет возле Аляски. Ей же хуже. Хай буде федеративная республика.
— Что?
— Республика, говорю.
— Какая еще там республика?
— Федеративная.
— Не понимаю ваших намеков, — пожимает плечами Верочка. — Это вы просто начитались газет.
Мечтательно закинув голову, она смотрит на луну. Я бросаю окурок и давлю его сапогом.
— Пошли?
— Подождите, — говорит она, о чем-то упорно думая.
— О чем вы думаете?
— О вас.
— Именно?
Она смотрит на меня молчаливо и медленно проводит кончиком языка по губам.
— Татьяна то вздохнет, то охнет, перо дрожит в ее руке, облатка розовая сохнет на воспаленном языке, — говорю я.
Она не отвечает. Потом ее голова ложится ко мне на плечо, стек валится на песок, и я целую Верочку в губы — теплые, нежные, безвольные, солоноватые от моря, и сквозь них слышится холодок зубов. От Верочкиного лица свежо пахнет цветочным мылом, а от волос мускусом. Ее лицо прижимается к моему, и я чувствую у себя на щеке щекочущий трепет ее сухих ресниц. Наконец она освобождается из моих объятий, спрыгивает на песок, поправляет гребенки и говорит шепотом:
— Пойдем.
— Знаете... Посидим еще.
— Уже полчаса прошло, — лукаво говорит она.
Я вздыхаю, подбираю с песка отсыревший стек, беру Верочку под руку, и мы той же дорогой поднимаемся вверх. Она прижимается к моему плечу, изредка покашливает. Я курю. Некоторое время мы молчим. Наконец она произносит мое имя:
— Павлик...
— Что, дорогая?
— Скажите что-нибудь.
— Что прикажете вам сказать?
— Что-нибудь очень, очень хорошее.
— Серьезное?
— Конечно.
— Сколько будет А плюс В в квадрате?
— Госссподи, да отстаньте вы от меня с вашей алгеброй, — с тоской говорит Верочка.
И дымка любви, окутавшая нас на десять минут, тает.
— Итак, — говорю я, — значит, сегодня мы с вами видимся в последний раз. Завтра я еду.
— Пожалуйста, не врите. Никуда вы все равно не уедете. Я вам не верю.
Мы подходим к воротам. Полночь горит белым, ледяным пламенем. Вокруг пустота и страшная тишина. Мы как бы находимся в самом центре циклона, на мертвой точке. Где-то вокруг нас мчится ночь, полная смерти и ужаса. Но я ее совсем не ощущаю. Я ни о чем не думаю. У меня на сердце тихо, холодно, неподвижно, как у мертвого. А может быть, я и есть мертвец. Может быть, меня уже давно убили где-нибудь под Сморгонью или на Стоходе. Может быть, под Дорна-Второй.
Я звоню дворнику, и мы молчим. Верочка нерешительно смотрит на меня, в мое мертвое лицо и, видимо, хочет о чем-то спросить, но боится. Слышатся шаги дворника и звон ключей. Я кладу в грубую ладонь две синие марки по гривеннику каждая — двадцать копеек.
— Ну, Верочка, до свиданья. Давайте перчатки.
Она протягивает мне обе руки, я стаскиваю с них перчатки, нагревшиеся в середине, как птичьи гнезда, и целую по очереди маленькие нежные ладошки.
— Послушайте, — пересиливая нерешительность, спрашивает она, — это правда, что Великобритания и Англия одно и то же? Только не врите.
Я улыбаюсь и говорю с таким видом, будто хочу соврать:
— Конечно, правда.
Она глубоко вздыхает.
— Вот, ей-богу, что за человек: никогда не разберешь, когда вы смеетесь, а когда говорите правду. Это у вас смешалось, как соль с сахаром.
— И с перцем.
— Много о себе думаете. А в общем, вы заноза, и я вас терпеть не могу. Ну, родной, приходите же скорее.
— Если...
— Если что? — Ее лицо взволнованно. — Если что?
— Если не убьют...
1917
Человек с узлом[27]
Я в последний раз затянулся и бросил папиросу. Окурок ударился об землю, вспыхнул и рассыпался красными искрами. С моря подул ветер и погнал по земле угольки. Потом они один за другим погасли, и только последний, самый большой, все еще продолжал бежать, подпрыгивая по кочкам. Но скоро погас и он. Судя по звездам, до смены оставалось еще часа два.
Я был влюблен, и спать мне не хотелось, но бессонная ночь утомляла, и мысли уже потеряли свою плавность, остроту и приходили в голову, странно путаясь, обрываясь и меняясь. Мне хотелось, чтобы поскорее рассвело, кончилось дежурство и настал день. Мне поскорее хотелось увидеть ее. Моя любовь к ней была в том счастливом и лучшем периоде, когда уже не остается ни сомнений, ни колебаний, а только одна огромная нежность и томление. Мы еще не объяснились, но я медлил, и мне доставляло какое-то тяжелое наслаждение молчать и видеть, что с каждым днем ее глаза становятся все темнее и нежнее. Я боялся сказать ей это простое и обыкновенное слово «люблю» не потому, чтобы я сомневался в ней, и не потому, что моя любовь была понятна и без этого слова, а потому, что настоящее было так удивительно прекрасно в своей неопределенности, что становилось страшно одним словом нарушить его. Будущее могло быть сильнее, лучше, больше, но я знал и чувствовал, что нежнее и светлее настоящего оно быть не могло. Поэтому я молчал.
Послышались шаги, и в воротах дачи, где я караулил сарай с гвоздями, за противоположным деревянным забором, на звездном небе показалась фигура. Это был часовой соседнего поста Крейдич. Рядом с его головой и выше торчал большой острый нож японской винтовки.
Он кашлянул.
— Что, уже три часа есть? — спросил он.
— Не знаю. Должно быть, есть. Еще долго стоять. А что, надоело?
— Чего там надоело. Я так... Папироски не найдется?
Я сказал, что найдется, подошел через ворота и дорогу к забору и протянул коробку. Он выбрал папиросу, размял ее пальцами, вставил в усы и, сделав руки ковшиком, стал закуривать. Вспыхнувший огонек выхватил из темноты скуластое лицо, наморщенный лоб, клочковатые усы и черный деревенский картуз, надетый козырьком на ухо. Потом часовой потоптался на месте. Видно, ему было неловко уходить сейчас же после того, как он закурил мою папиросу.
— А у вас на посту все спокойно? — спросил я. — Никто не копает?
Вечером под тот сарай, который он охранял, кто-то пытался подкопаться и подкопал довольно глубокий ход.
— Слава богу, ничего, — ответил он. — Это только одна глупость. Что он там, вор, может узять? Ровным счетом ничего. Одно погнившее лазаретное белье. Да разве там ночью что-нибудь заметишь? Все чисто повозками заставлено.
— Теперь и белье деньги стоит, — сказал я рассудительно.
Он махнул рукой.
— Какие деньги! — И отошел, унося с собою в темноту красную точку папиросы.
Я поправил на плече ремень тяжелой и большой французской винтовки системы «Гра», но все-таки было неудобно, давило на ключицу и затекла рука.
Крупные осенние созвездия медленно и плавно передвигались. Пять огоньков Кассиопеи поднимались все выше и уже стояли над самой головой; Большая Медведица отходила вправо, опускалась и, поворачиваясь, почти клюнула своими тремя крайними и широко расставленными звездами в темную землю. Млечный Путь стал бледным, прозрачным и почти совсем невидимым. Юпитер поднялся высоко над морем и, подобно маленькой луне, отражался в воде серебристо-молочным длинным столбом от горизонта до самого берега. Деревья и трава стояли не шевелясь, черные и неподвижные. Электрическая лампочка над воротами горела под жестяным блюдечком красноватым, утомленным огнем. Стена дома, мотоциклет и земля, озаренная ею, казались какими-то не настоящими, мертвыми.
Я опять стал думать.
Теперь я уже думал не о своей любви и не о счастии, а о себе и о ней, и она представлялась мне такой, какой я видел ее несколько дней тому назад. Она тогда сидела рядом со мной на кургане в степи, прямо против заходящего солнца, за последней станцией дачного трамвая. На закате с моря по-осеннему дул сильный свежий ветер, и ей было холодно. Она обхватила обнаженными до локтей руками колени, наклонилась вперед и смотрела прищуренными глазами сквозь густые, перепутанные ресницы на солнце. Ветер трепал, как флаг, ее тонкую белую кофточку, фланелевую юбку, и шевелил завитками волос, падавших на затылок и уши из-под ловко повязанного шелкового лилового с коричневыми треугольниками платка. На ее загорелых руках совсем по-детски лоснились тонкие волосики. Очень низкое розовое, но еще лучистое солнце ласково и нежно золотило их. Ветер, скользя, свистел в сухих коричневых стеблях трав. Она сказала: «Смотрите, море как плюшевое. Кажется, что, если провести по нему пальцем против шерсти, останется такая полоска. Понимаете?» — «Понимаю», — ответил я рассеянно, думая о другом. Потом она сняла с головы платок и закрыла мне им лицо. Платок заполоскало на ветру, и сквозь его блестящий, сияющий шелк все было лилово и ярко: заходящее солнце, степь, пыль и игрушечный автомобиль, бегущий по шоссе. От платка очень тонко пахло чем-то хорошим и волнующим. Вероятно, ее волосами. «Чудесно», — сказал я. Она отняла платок от моего лица, и у меня в глазах еще долго плавали синие пятна с коричневыми треугольниками, а когда закрывал глаза, то — коричневые пятна с синими треугольниками...
Мне опять захотелось поскорее ее увидеть.
Ветер подул острей и холодней, ночь дрогнула всеми своими созвездиями и стала меняться в утро. Тусклее горела лампочка над воротами, мертвее становилась стена, озаренная ею. Мелкие звезды таяли, и оставались только самые большие и яркие. Под Юпитером, над тем местом, откуда поднялся и он сам, показалась новая большая холодная и ясная звезда, будто Юпитер вытащил ее за собою из моря на ниточке. От новой звезды в воде тоже встал молочно-серебристый столб. «Утренняя звезда», — подумал я, и вдруг мне захотелось спать. Ресницы отяжелели, сильно потянули вниз, по телу пробежала сладкая истома, и мысли спутались. Я подошел к мотоциклету и присел возле него на землю. Делая усилия, чтобы не уснуть, я еще смутно видел, как над морем светлела полоса, как море становилось темным и синим, как деревья начинали трепетать зеленеющими ветвями. Потом меня что-то сильно толкнуло, и мне показалось, что через мой мозг быстро и коротко продернули несколько красных звенящих шнурков. Я проснулся и услыхал отчаянные и тревожные свистки. «Должно быть, у Крейдича на посту что-нибудь», — подумал я и, схватив винтовку на отвес, бросился в ворота. Уже было розово и светло и пахло утренней пылью и росой. Кровь сильно прилила к рукам и голове, и ноги стали крепкими и быстрыми. Я выбежал за ворота и посмотрел вдоль улицы налево, туда, где был пост Крейдича. Там кончались дачи и начинался пологий глинистый обрыв. Никого не было, но зато послышался топот сапог и громкий голос Крейдича:
— Стой! Стой!
Я побежал к обрыву на крик. Над обрывом показалась низкая, оборванная и смешная фигура человека с огромным узлом. Человек вдавил голову в плечи и набок, ухватил огромный узел руками сверху, перед собой, и бежал что есть силы к спуску. За ним гнался Крейдич с винтовкой и кричал:
— Стой! Стой!
Человек с узлом добежал до обрыва и стал сбегать по спуску. Спуск шел шагах в двадцати пяти от меня, вор был так близко, что я ясно видел его напряженное, низколобое, грязное и тупое лицо.
— Стой! — закричал и я.
Он не повернул головы и продолжал бежать. Внезапно во мне что-то случилось. Кровь отлила от сердца к ногам, голова стала холодной, ледяной, и я почувствовал, что бледнею от ненависти к этому бегущему по-заячьи человеку.
— А, сволочь! — закричал я и вскинул винтовку.
Не торопясь, я посадил на мушку голову бегущего и стал рассчитывать, на сколько нужно взять вперед, чтобы не промахнуться. Какое-то новое жгучее чувство толкало меня в сердце! И я пьянел от этого чувства. Вор еще приблизился. «Готово», — подумал я, покрепче прижал ложе к плечу, надавил головой на него, чтобы выдержать толчок. Не спуская глаз с мушки и двигая винтовку так, чтобы бегущий человек не соскочил с нее, я спустил курок. Затвор тупо, металлически щелкнул, и в ту же секунду я вспомнил, что забыл, идя на пост, зарядить ружье. И когда я отнимал его от плеча, вор, должно быть, заметил меня, хотел повернуть, споткнулся и покатился вместе с узлом по земле. Я и Крейдич с двух сторон подбежали к нему и насели.
Потом на наши свистки сбежались караульные. Я помню, как вору скрутили за спину руки и как Крейдич ударил его два раза кулаком по скуластому землистому лицу и сказал:
— Ишь сукин сын! Ты будешь красть, а мы за тебя отвечай! Застрелить тебя надо, как собаку, вот что!
Я смотрел на его низкую оборванную фигуру, босые переминающиеся ноги с черными ногтями, на сморщенный лоб, сузившиеся от страха глаза, на лиловые от холода губы, и мне было как-то странно и не по себе. И я вдруг ясно представил себе, что было бы, если бы, идя на пост, я зарядил винтовку. Я бы, наверное, его убил. Он бы, наверное, тогда лежал ничком возле этого грязного узла с бельем, на затылке у него была бы маленькая черная дырочка, и на земле стыла лужа крови. Руки и ноги его постепенно бы бледнели, синели и становились холодными, твердыми... как у того солдата, который был убит на моих глазах в бою 11 июля 1917 года в Румынии под высотой 1001.
Солнце уже успело подняться, и море под ним горело розовым серебром. Сараи, сады, дачи были теплого телесного цвета, а на земле лежали длинные влажные холодные тени.
Я дрожал и не знал, отчего я дрожу: от холода или от чего другого.
1918
Музыка[28]
К пяти часам мама ждет гостей, а теперь еще только четыре, — значит, можно, если поторопиться, сходить к морю и выкупаться.
Иринка — существо маленькое, капризное, требующее к себе особенного внимания, а главное, еще не научившееся быстро ходить. Мама отлично знает, что если увяжется Иринка, то к пяти часам она не поспеет. А в пять — гости. Она говорит мне:
— Милый, вы у нас на даче свой человек, посидите с Иринкой часок, пока я выкупаюсь. Нянька занята на кухне. А я постараюсь вернуться поскорее.
Иринка сидит недалеко от террасы на корточках и усиленно зарывает Сережин карандаш в гравий. При этом она хитро, про себя улыбается — наверное, представляет Сережино удивление и огорчение, когда он хватится, где карандаш, а карандаша-то нету! С виду она так занята своей работой, что ничего вокруг не видит и не слышит, однако, после слов мамы, она срывается с места, забывая выбросить набитый в кулачки гравий. Лицо у нее кривится, рот становится четырехугольным, и в нем дрожит язычок. Крупные слезы бегут мутными ручейками по сторонам носика и собираются громадными каплями на подбородке.
— Мама! И я с тобой, и я с тобой! — кричит она, взбираясь по ступенькам на террасу, делая пухлыми, шоколадными от загара ножками неловкие движения и помогая себе в трудных местах руками, из которых во все стороны брызжет гравий. — Мама! И я! И я!
Она обхватывает материнские колени, прижимается лицом к юбке, которая так упоительно пахнет пенками от варенья, и быстро, упрямо топает ногами. Топает долго. При этом пухлая шея у нее надувается, и ниточка кораллов въедается в складку смуглой кожи под затылком.
— Вот несчастье, — говорит, вздыхая, мама. — Ну хорошо, и ты пойдешь. Беги за шляпой.
Иринка отнимает заплаканное лицо от юбки и, не отпуская руками материнских колен, смотрит, закинув голову вверх, туда, где очень высоко улыбается хорошо знакомое лицо.
— А ты меня не обманешь? А ты меня не оставишь? — быстро, со страхом спрашивает Иринка.
— Что ты, детка! Не беспокойся. Мама никогда не обманет свою доцю!
Иринка быстро бежит в комнаты, но оглядывается: не ушла ли мать. Кто их знает, этих больших, могущественных людей, которыми населен мир, — любят приврать.
— Вот несчастье! Может быть, вы ее как-нибудь уговорите? Прямо не знаю, что делать. С ней я никак не успею к пяти.
— Попробуем.
— Ну, ну.
Через минуту прибегает Иринка в беленькой пикейной шляпке, похожей на формочку для желе.
— А я думала, ты уже ушла, — говорит она взволнованно. — Ну, идем!
— Ирочка, может быть, ты с дядей посидишь? А? — умоляюще просит мама и нежно гладит ее по пухлой, тоже шоколадной от загара, руке.
Вместо ответа Иринка хватает ее за юбку и начинает топать ножками. Топает долго. Я чувствую, что наступает время действовать.
— Жаль, жаль, Иринка, что ты уходишь с мамой. А я тут как раз собираюсь рисовать. Вот, думаю, между прочим, нарисовать коровку и лошадку. А? Как ты смотришь на это дело?
— Хочу идти с мамой, — говорит она сердито.
— Иди, иди. Разве я хочу, чтобы ты согласилась? Совсем не хочу! Иди себе, иди! А я тут как раз слоника буду рисовать.
Она долго размышляет.
— А мне можно с тобой порисовать? — ласково и кокетливо спрашивает она, сияя голубыми поплакавшими глазами.
Я чувствую, что хитрости мои удаются.
— Ты, Иринка, маленькая. Тебе еще нельзя рисовать! Иди лучше с мамой купаться.
— Не хочу с мамой. Хочу с тобой рисовать, — говорит она повышенным тоном, и рот у нее становится четырехугольным.
— Ну, что ж, если тебе очень хочется рисовать, пожалуй, останься. Хотя лучше шла бы себе с мамой.
Иринка молча снимает со стриженой, мохнатой, будто плюшевой головы пикейную шляпку и вползает ко мне на колени. Поступок — вполне женский.
Иринкина мама награждает меня очаровательной улыбкой и уходит купаться. Вскоре мы с Иринкой уже рассматриваем большую книгу с картинками. Я медленно переворачиваю толстые страницы и спрашиваю:
— А это кто?
— Коровка, — отвечает Иринка, щуря глаза и улыбаясь от нежности к пестрой коровке в издании Кнебеля.
— А это?
— Не знаю.
— Как ты не знаешь? Вот еще! А кто мышей ловит?
— Киця? — полувопросительно говорит Иринка.
— Правильно, киця. Или, как принято говорить научно, кошка. А это?
— Онель.
— Как?
— Онель.
— Эх, Иринка, Иринка! Кто же из уважающих себя девиц говорит вместо олень — онель. Ну, повтори, о-л-е-н-ь.
— О... о... олень, — произносит она с трудом и сияет голубыми щелочками глаз.
Потом она вздыхает.
— А теперь нарисуй... садовника.
— Ладно. Садовника так садовника.
Я беру большой лист бумаги, ставлю X, прибавляю снизу ноги, сверху руки, круглую голову. На каждой руке добросовестно изображаю по пяти пальцев, отчего вся рука становится похожей на добрые грабли.
— Вот, получай садовника.
Она иронически щурится.
— А где же у него эти... ухи?
— Уши, а не ухи. Повтори.
— Ну, уши, а не ухи. А где?
— Сейчас.
Я пририсовываю уши.
— А где у него нос?
Я пририсовываю нос.
— А где у нею на носу... эти?
— Какие эти?
— Ну эти... мездри...
— Может быть, ноздри?
— Да, да. Ноздри!
Я рисую ноздри.
— А где леечка, чтобы цветочки поливать?
— Сейчас будет.
Я приделываю к одной грабле лейку.
— А где вода льется? — спрашивает Иринка, делая невероятно большие глаза.
Я рисую воду. Потом приходится рисовать еще и кран, из которого льется вода, и цветочки, и девочку, и куклу, и у куклы такую же точно ниточку кораллов, как у самой Иринки.
Жара. Солнце еще высоко. Сквозь густые листья деревьев лениво тянутся знойные нити, и на гравии под деревьями легко скользят и путаются яркие лиловые пятачки. Клонит ко сну.
— А меня дед не заберет? — вдруг испуганно спрашивает Иринка и прижимается ко мне.
— Какой такой дед?
— А который детей забирает.
— Кто это тебе сказал?
— Нянька.
— Ну, конечно, если ты веришь няньке, то нам с тобой не о чем и толковать. Нянька врет.
— И деда нет?
— Нет.
— И за кустом нет?
— Нет.
— Неправда, есть. Вон за тем кустиком стоит.
— Ладно. Пойдем посмотрим.
— Ой, я боюсь! А он заберет!
— Не бойся, я тебя в обиду не дам.
Я сажаю ее на плечо, крепко обнимаю, чтобы не упала, правой рукой за спину, а левой придерживаю кусты. Там никакого деда нет. Только пестрые, уже порядком подросшие цыплята неуклюже, как маленькие страусы, гоняются на длинных голенастых ногах за воробьями.
— Видишь! Нянька-то надула. Деда нет.
— Надула, — подтверждает Иринка.
Мы возвращаемся на террасу и опять садимся к столу. Я кладу голову на лист бумаги с нарисованными садовником, цветочками и девочкой. Иринка что-то долго бормочет про себя вполголоса, затем начинает мурлыкать песенку. Потом смолкает и через минуту начинает трясти меня обеими руками за голову:
— А ты не спи! Ты не смей спать!
— Ну, что случилось?
Я просыпаюсь.
— Ты заспал бумагу, — говорит Иринка. — А я что-то знаю! Ты умеешь нарисовать музыку?
— Музыку? Не умею.
— А я умею, а я умею! — быстро говорит она и начинает старательно рисовать на бумаге запутанные клубки и комочки. При этом она опять что-то про себя напевает. — Вот, — торжественно говорит она. — Это музыка! А ты не умеешь! Ага! Ты умеешь только рисовать садовника, и девочку, и куколку, а музыку не умеешь! Ага!
И по какой-то странной последовательности, щурясь, говорит:
— А нянька врет, что дед забирает детей в мешок. Деда нет.
Но тут слышится скрип калитки и шаги по гравию. Иринка прижимается ко мне, и я слышу, как у нее стучит сердце. Может быть, дед?
Я осторожно разбираю рукой ветки сирени, и мы вместе, Иринка и я, смотрим, кто там идет. Нет, это не дед. Это Иван Алексеевич. Частые кляксы лиственной тени косо и быстро бегут по его полотняной, ладно выглаженной толстовской блузе сверху вниз. На его поскрипывающих и похрустывающих столичных штиблетах желтый порошок цветущего бурьяна. В руках — толстая палка. Бородка приподнята. Пенсне заложено в боковой нагрудный карманчик. Гордый горбатый нос и внимательно прищуренные глаза.
Я знаю, Иван Алексеевич долго бродил по степи, по обрывам, любовался морем, купальщицами, пароходным дымом. Он, несомненно, заметил, что поверхность моря похожа на синюю шагрень, а подводные камни просвечивают сквозь воду, как черепаховый гребень. Все это прекрасно, но вдруг быстрый, звенящий, поющий, ноющий, грохочущий, стеклянный, скрежущий шум проносящегося за оградой трамвая наполняет сад. Иван Алексеевич останавливается. Зеркальный сухой блеск трамвайных стекол вспыхивает за пыльной изгородью туй, как магний, и летит по стволам через сад, пересчитывая весь его кудрявый инвентарь. И вослед ему долго ноет проволока.
Иван Алексеевич стоит и слушает. Лицо его крайне озабочено. Я знаю, о чем он думает. Он думает, на что похож этот длинный, музыкальный, такой типичный, но ни на что не похожий звук потревоженной трамвайной проволоки. На хроматическую гамму? Может быть. На виолончель? Возможно.
А впрочем, бог его знает!..
Зной сияет над садом.
1918
Опыт Кранца[29]
I
Некий молодой человек по фамилии Кранц, студент-математик, белокурый, коренастый малый с коротким, твердым немецким носом, костистым упрямым лбом и широко расставленными глазами, больше всего на свете любил чистую математику и от жизни ничего не ждал: ни хорошего, ни дурного. Любил он математику потому, что ее простая, сложная и точная философия очень хорошо подходила к его привычкам, взглядам на мир, и с нею ему было очень удобно жить на свете. Главную цель жизни он полагал в том, чтобы думать правильно, точно, логично и благодаря этому видеть мир таким, каким он был на самом деле, а не таким, каким его себе представляло большинство людей, не изучавших высшей математики, читавших романы и стихи, влюблявшихся в женщин и посещавших театры. Средством к достижению этой цели были те необходимые условия, в которых можно было бы спокойно думать: теплая комната, удобная одежда, обед, чай и папиросы. Кранц жил скромно и денег тратил мало: столько, сколько ему нужно было на комнату, еду, книги, письменные принадлежности, трамвай, прачку и папиросы. Одет он был всегда хорошо, однако не щеголевато, в синие диагоналевые брюки, аккуратно облегавшие его короткие, икрастые ноги, и в толстую черную форменную тужурку, слегка вытертую по швам, но хорошо сидевшую на его плотном туловище и широких плечах. Толстые отвороты этой тужурки были всегда тверды, хорошо разглажены и торчали, не сгибаясь, толстыми дубовыми углами. Кранц писал сочинение на медаль: вычисление орбиты кометы 1873 года. Работа была очень трудная, чисто теоретическая и интересная.
И ничто не нарушало извне покоя этой работы. За толстыми стенами загородного дома умирал осажденный город, этот последний буйный, огнистый и крикливый Вавилон. Солдаты четырех европейских держав маршировали по его нарядным улицам. Продавщицы цветов торговали на углах хризантемами, пышными и вычурными, как напудренные головы маркиз, и тонкий запах разложения неумолимо стоял над праздной толпой. Кафе еще были переполнены красивыми женщинами и офицерскими пальто, синий сигарный чад, смешанный с чадом дорогих духов и горячего кофе, волновал отуманенных, потерявшихся людей обещаньем необыкновенного какого-то счастья, но уже на конспиративных квартирах собирались суровые, твердые люди, в подпольных типографиях ручные станки тискали листки серой бумаги, полные какого-то странного, неодолимого значения, и откуда-то из таинственного центра приезжали руководители восстания. Красные войска все ближе и ближе подходили с трех сторон к городу, и уже половина безумцев, пьющих в кафе красное вино и нюхающих кокаин, играющих в карты и наслаждающихся любовью, заключающих сделки и подписывающих торговые договоры, была обречена. Но ничего не знал студент в своей квадратной светлой комнате. В ней стояла железная кровать, книжный шкаф и возле большого, ясного окна — письменный стол, покрытый алой промокательной бумагой, точно и плотно придавленной к доске кнопками. На столе были в порядке разложены письменные принадлежности, книги и листы, исписанные некрупным, экономным почерком. На подоконнике на четвертушке белой чистой бумаги была насыпана горка пахучего, золотистого табаку, и от него в комнате всегда стоял медовый запах. Возле стола на стене висела черная классная доска, вечно исчерченная белыми косыми колонками цифр, букв, знаков и мелкими пересекающимися эллипсами, окружностями, дугами и прямыми, высчитанными и вычисленными с огромной точностью. Была осень, и работа подходила к концу. С каждым днем Кранц все больше и больше постигал законы, по которым совершались движения звезд, планет, комет и целых миров. Думая об этом, он привык думать цифрами, формулами и дугами и жил в их точном, законном и гармоничном мире. Кранц думал над смыслом жизни. Дойдя способом логического мышления до того, что главная цель жизни человеческой есть необходимость правильно думать, а остальные все необходимости являются при этом неизменными и случайными, он решил, что это необходимо подтвердить опытом. И он придумал опыт, который состоял в том, что он, студент Кранц, должен был три вечера подряд ходить в карточный клуб, выиграть в азартную игру пятьдесят тысяч и, выиграв их, против соблазна совершенно не изменять своей жизни и продолжать тратить на себя столько же денег, сколько он тратил до сих пор, то есть на самое необходимое. Этот опыт должен был доказать ему две вещи: во-первых, что сила мысли и способность логически управлять ею должны победить силу случайного, но неизбежного мира воображенья тех людей, с которыми он будет играть, и, во-вторых, что тот неосязаемый мир, который неизбежно окружает мир физический и осязаемый, не имеет для него никакого значения и является в нем чисто случайным. Впрочем, точно Кранц не знал, в чем, собственно, является сила и необходимость этого опыта. Он чувствовал, что опыт имеет эту необходимость и силу. И в первый раз в жизни, сам не сознавая того, студент Кранц подчинился тому, к чему он пришел не путем строгого законного мышления, а путем чувства. Придумавши себе этот опыт, однажды вечером Кранц взял дома двести рублей, пошел в карточный клуб, походил четверть часа между игральными столами в зале, где играли в шмен-де-фер, подумал, подсел к одному из них и через час выиграл десять тысяч.
II
В тот же вечер молодой артист маленького веселого театра, по сцене Зосин, сидел в пустой общей уборной и разгримировывался. Окончив свой номер, он больше не был занят в тот вечер на сцене и мог уйти, а потому не торопился.
Зосин перед зеркалом снимал со своего лица грим Пьерро. Он густо смазывал вазелином краску, которая уже успела высохнуть на щеках, на лбу, вокруг рта и глаз и неприятно стягивала кожу. Из зеркала на него смотрели густые черные трагические брови, рот красный, как рана, синяки под глазами и мертвые щеки. Только уши, теплые, розовые и живые, не тронутые гримом, отделялись от белой краски щек.
Зосина лихорадило. На сцене было холодно, и от поднимаемых и переставляемых декораций, от занавеса и из зрительного зала дуло ветром. А за кулисами, в уборных, было крепко натоплено. Калориферы потрескивали от жару, пахло масляной краской, и к ним нельзя было притронуться. От этого кружилась голова. Зосин, смазав лицо вазелином, стал его протирать полотенцем, выставляя вперед разные части лица — то лоб, то глаз, то подбородок и шею. И, по мере того как сходил грим, обнаруживалось его настоящее лицо. Из-под черных нарисованных бровей выступали другие, тоже черные, но тонкие и коротенькие брови, на щеке стала видна большая коричневая родинка, и тонкий нос с горбинкой принял свою точную, настоящую, законную форму.
Протертое, очищенное лицо все сияло и блестело сухим блеском под огнем двух лампочек по сторонам зеркала. Зосин видел свое сияющее, блестящее лицо не только в зеркале, он видел и чувствовал его как бы вне зеркала и ощущал его форму и объем, обозначенные змейками лучистого блеска. Лучи исходили от глаз, от щек, от носа и бровей, они тянулись тонкими иглами к зеркалу, касались скользкой поверхности и уходили в глубь его, к лицу, отраженному в нем.
Кроме своего лица, Зосин видел в зеркале афишу, висевшую боком на стене за его спиною. Нижние края у нее осторожно шевелились, подворачивались и вздрагивали.
«Ага, — подумал Зосин про афишу, — ты думаешь, я тебя не вижу, и шевелишься у меня за спиной. А я тебя прекрасно вижу в зеркале. А ну-ка, ну-ка, еще малость, посмотрим».
И сейчас же испугался своих мыслей.
«Боже, ее — сквозняк, а я схожу с ума...» — подумал он опять.
Во рту у него было сухо и горячо, во всем теле — слабость, и волосам — болезненно щекотно. В соседней уборной слышались женские голоса и шорох платья. Эти голоса и шорох особенно резко звучали в мозгу Зосина и причиняли ему почти физическую боль. Глазам и ресницам было душно. Он оделся и вышел.
Когда он проходил в зрительный зал по коридору, где блестела каска пожарного, у входа на сцену Зосина обдало теплым благоухающим ветром, и мимо лица поплыл голубой газовый шарф. Танцовщица Клементьева, твердо ступая плоскими подошвами по доскам коридора, прошла на сцену. Она была почти обнажена. Ее ноги, обтянутые розовым трико, напрягались легко и свободно, и хорошо развитые икры, плечи и шея казались налитыми грубой и чувственной силой. За нею, опустив по-бычьи шею, шел ее партнер и любовник, тоже затянутый в розовое, безразличный, с нарисованными угольными ресницами. Клементьева была знаменитой балериной и развратной, продажной женщиной. Это знали все. Зосина волновали ее фигура, ее плавные, округленные руки, крепкие икры и то, что все знали и говорили о ее развратности и доступности. Увидав ее в коридоре, Зосин опять почувствовал то сильное и нервное состояние дрожи не только тела, но и души, которое может вызвать в человеке только чувственность.
Ощущая на щеках жар, Зосин смотрел из темноты зрительного зала на сцену. Музыка звучала страстно и откровенно, и невидимо-разноцветные звуки то беспрерывно лучисто струились снизу из освещенного оркестра, то рассыпались прозрачно стеклянными, длинными, томными волнами. Эти звуки всей своей страшной силой обнажали скрытые чувства и мучили, обещая то прекрасное, чего все равно не в состоянии были дать.
По сцене, в синем свете рампы и трепещущих и шипящих фиолетовых пятнах рефлектора, носилась Клементьева со своим любовником. Все их движения были точно и мягко овальны, разноцветны и казались составной и неотделимой частью музыки. Два прекрасных и порочных тела мужчины и женщины, беспрерывно, легко и быстро двигаясь, выражали в своих движениях и формах какую-то упорную и главную мысль. Эта мысль звучала в музыке, в высоком шипении фиолетовых пятен и в той натянутой тишине, которая стояла над сотнями людей, невидимых в темноте зрительного зала. Этой главной и смутной мыслью был полон и актер Зосин.
У него болела голова и после вчерашнего кокаина чувства были притуплены. На красивой, классической голове танцовщика сверкал синими блестками чешуйчатый шлем, синие звездочки беспрерывно вспыхивали в сумраке сцены, меняя места, сливаясь одна с другой и потухая. От этого Зосину казалось, что перед его глазами сыплются и переливаются синие стеклышки калейдоскопа. В сердце у него ныло...
Неправда, когда говорят, что смысл жизни и счастье — в книгах мудрых и великих людей; неправда, когда говорят, что высшее проявление человека на земле — искусство; неправда, что любовь — это самое святое и лучшее, что есть в душе у человека. Неправда, неправда. На земле есть только одно настоящее, неоспоримое и истинное счастье — счастье вкусно и много есть, одеваться в лучший и дорогой костюм, обуваться в лучшую и самую дорогую обувь, иметь золотой портсигар, шелковые носки и платки, бумажник красной кожи и столько денег, чтобы можно было исполнить все свои желания и иметь любовницей развратную, доступную и прекрасную женщину Клементьеву. Так чувствовал Зосин, смотря на танец и слушая музыку, и вместе с этим чувством в нем поднимались острые и что-то обещающие томление и горечь. Ему представлялось, что скоро, именно сейчас, нынче вечером должно случиться что-то очень важное и значительное, отчего все должно перемениться и сделаться таким, каким было нужно. Вместе с тем он знал, что этого не случится, потому что этого важного и значительного совсем не существует и потому что такое представление всегда и было и обманывало его на другой день после кокаина. И все-таки, повинуясь чувству, которое было сильнее, чем все его другие чувства, он пошел искать это важное и значительное. Это чувство было похоже на то, с каким он, шестнадцатилетним гимназистом, в туманные весенние вечера быстро и торопливо обходил темные и таинственные переулки, где по тротуарам ходили женщины.
Тогда ему было душно, глаза и волосы горели, во рту было сухо и жарко, и от странного и острого напряжения он шатался, как пьяный, издали принимая за женщин ночных сторожей и городовых.
Тогда ему хотелось полового сношения с женщиной, но он еще думал о какой-то другой, нежной, настоящей любви; желание женщины казалось ему страшным грехом, и он придумывал для себя оправдания, придумывал, что ищет какой-то необычайной встречи. Тогда он верил и не верил себе. С точно таким же чувством вышел он теперь из театра.
Шел дождь. Розовые фонари жидким золотом плескались в лужах, блестели на черном асфальте тротуаров и мутными, опустившимися планетами светились в улицах и между домов. Сквозь дождь проходили темные люди и блестели мокрыми плащами и зонтиками. Колеса извозчиков трещали по мостовой, и подковы высекали на мокром граните искры. Пели и со звоном сверкали трамваи. За ними с проводов сыпались голубые капли и с легким треском зажигались ослепительными звездами, и небо со всех сторон вспыхивало зарницами. Зосин шел по тем же таинственным и темным переулкам, по каким он ходил в юности, но ни одна женщина не подходила к нему, вероятно чувствуя своим особым верным чутьем, что у него нет денег. Зосину это было оскорбительно, и мысли о деньгах опять поднимались в нем и мучили его, и он бессознательно шел туда, где их было много, где они почти не имели цены, но где их страшная сила чувствовалась и говорила о себе во всем.
III
В клубе «Аркадия» к одиннадцати часам уже шла крупная игра. Клуб был небольшой, и попасть туда можно было всякому, но бывали в нем средней руки торговцы, актеры, шулера, и игра бывала крупная. Играли в шмен-де-фер. В нем было несколько больших квадратных комнат, и в каждой была своя собственная, отличная от других атмосфера. За каждым столом каждый вечер собирались одни и те же люди, говорились одни и те же слова, поговорки и было одно и то же настроение. Зосин вошел в ту комнату, где было свободнее, где можно было мазать и где он часто бывал.
В этой комнате было всегда народу больше, чем в других, и веселее. Входя в нее, он привык видеть одни и те же лица и спины. Прямо против двери был стол, за которым всегда сидел лицом ко входу толстый и красный артельщик, направо — куплетист Звездалов, налево — сыщик в сером костюме с острым носом и курчавой головой, а спиной к двери — девица Тамара, в черном платье и с поддельным жемчугом в толстых и больших ушах. На этот раз Тамары не было, а вместо нее Зосин увидел затылок и белокурую шевелюру. Незнакомый студент, широко расставивши короткие руки и упершись пальцами в лаковый край стола, пускал шары дыма и коротко говорил: «Триста. Довольно. Моя». По тому, как он говорил, и по лицам игроков было видно, что он занимает среди игроков особое положение.
— Мажешь? — спросил куплетист, увидев Зосина.
— Да, помажешь, — ответил Зосин, махнув рукой, — горим, брат. На папиросы нет денег.
Он пошел к столу и стал смотреть. Карты быстро и легко перелетали на зелени, ложились на сукно и собирались в хрустящие веера в руках игроков. Щеточки, мелки, пепельницы, белые цифры, недопитые стаканы смешивались с кучками бумажных денег. Из пепельниц к потолку поднимались крутящиеся, тугие и белые нитки. Сквозь табачный дым огни лампочек горели матово и четко, а лица и фигуры казались нарисованными густой мутной пастелью. Внизу, в ресторане, играл струнный оркестр, и от его фальшивых, страстно надорванных звуков Зосину все казалось, как в кинематографической картине: красивым, нетелесным и обещающим. Слова и фразы, произносимые разными голосами, отмечались у него в сознании, как будто бы он их не слышал в действительности, а читал в книге. «Пятьсот сорок... Забирайте. Дама просит. Король веселится. Да, держись, ты лопнул! Снимайте. Готово!.. Даю... В банке тысяча двести. Дайте тысячу. Получите. С вас четыреста шестьдесят». Оркестр играл разные вещи, и когда они менялись, менялись и впечатления Зосина. Ему казалось, в синем лунном свете сквозь мелькающий и трепещущий кустарник пробирается охотник с ружьем. Ветки кивают и бьют его по лицу... Белое шоссе, по шоссе летит облако пыли — автомобиль. За автомобилем издалека гонятся всадники... Автомобиль мгновенно вырастает, мелькая, заслоняет полотно и исчезает... Всадники мчатся... врастают, заслоняют полотно, скрываются. Женщина в белом, графиня у пруда... Вода разбегается черными живыми кольцами. Она бледна. Плывут лебеди. К ней безмолвно подходит мужчина в летнем костюме, панаме, в безукоризненных лаковых туфлях. Он склоняется к ее руке... Карточный клуб. Дым от папирос. Крупная игра. В мелькании ленты, мелькают руки, лица и карты. «Домбле. Ваша взяла! В банке четыре тысячи... Попрошу... Короли веселятся. Даю. Довольно. Ваша! Тысяча шестьсот, и мы квиты... Ваша дама просит, виноват... Пожалуйста. В банке шесть тысяч четыреста». Зосин видел, как лицо артельщика краснело, напрягалось все больше и больше, глаза становились маленькими, жалкими. Сыщик беспокойно поворачивался на месте, а куплетист стал хрипло насвистывать и жевать губами. Спина незнакомого студента не шевелилась, руки все так же твердо и определенно опирались о край стола. Возле него, справа, была куча бумажных денег. Он отнял от стола правую руку, как деревянную, согнул ее в локте и вытащил из бокового кармана потертый, но хороший желтый бумажник, аккуратно пересчитал деньги, сложил их в толстую пачку, и рука его опять деревянной лопаточкой опустилась в боковой карман. Артельщик волновался все больше и больше. Игра продолжалась. Теперь был поединок между студентом и артельщиком. Он играл на все свои деньги, а денег при нем было много. Вокруг стола собралась толпа. Артельщик от волнения проголодался, велел себе подать порцию телятины. Он тупо, не глядя на тарелку, шарил в ней вилкой, клал в рот большие куски, плохо их пережевывал, и левая щека у него была все время раздута от пищи, будто он держал за нею и поворачивал языком тугой резиновый мяч. Зосин стоял боком и смотрел на игру. Он волновался и, как это всегда бывает, страстно желал, чтобы поскорее выиграл кто-нибудь один. Так как все время выигрывал студент, то он ждал, чтобы выиграл именно он. Когда студенту не везло, он отходил от стола, нервно прохаживался по залам, крутился вокруг других столов и возвращался снова поскорее увидеть, что студент опять выигрывает. Он брал у куплетиста папиросы и жадно курил. В буфете товарищи угостили его коньяком, и голова у него, как у всех слабых и нервных людей, уже начинала сладко кружиться от дыма, людей, звуков и света и, главное, от кучи денег, которую он видел возле толстого диагоналевого локтя студента. Студент снял последний банк, пересчитал деньги, спрятал в толстый бумажник и опять, согнув руку твердым, деревянным углом, опустил лопаткой за толстые отвороты тужурки.
— Девять тысяч пятьсот всего, — сказал он, поднимаясь. — Довольно!
Торговец деланно улыбнулся и сказал:
— Вам везло. В последний раз вы побили девять рук. Может быть, разрешите отыграться в кредит?
— Играю только за наличные, — ответил студент. — Если угодно, завтра. Буду здесь в это же время.
Он повернулся и, не торопясь, часто ставя ноги, пошел в буфет, выпил стакан содовой воды, закурил толстую желтую папиросу и посмотрел на часы. Зосин пошел за ним и, когда он закуривал, сказал, сам не зная для чего и презирая себя.
— Виноват, коллега, вы хорошо сняли банк, теперь не мешало бы выпить. Согласитесь, крупный выигрыш...
Студент твердо посмотрел на него.
— Не пью.
— Извиняюсь. Очень жаль, в таком случае на что же вам деньги, так много?
— Решительно ни на что. Опыт. Сегодня я выиграл около десяти тысяч, завтра выиграю двадцать, послезавтра — пятьдесят, а они мне совершенно не нужны. Я их потом сожгу. Дело не в деньгах, потому что надо жить для того, чтобы думать. Да.
Студент говорил то, чего он вовсе не хотел сказать, чего не нужно было говорить этому совсем чужому человеку, но не мог удержать себя и говорил именно тем особым тоном, каким всегда говорят в клубах счастливые, много выигравшие игроки с бедными, не играющими, неизвестными молодыми людьми, которые их окружают. Глаза у него блестели, и на щеках выступил очень легкий румянец.
— Вы полагаете, что деньги не нужны, но позвольте... я бы, например... Эх!.. В таком случае подарите их мне, что вам стоит.
— И вам они тоже не нужны.
IV
Кранц сошел вниз, в ресторан, выпил там еще стакан кофе с пирожными и послушал музыку. И кофе, и пирожные, и музыка были ему чрезвычайно приятны, и он сладко думал, что заслужил их. Потом он пошел домой, а Зосин вышел вместе с ним. Голова у него кружилась, и весь он был полон того неудовлетворенного желания и томления, которое в нем вызывала Клементьева. Теперь, под хмелем, он опять и по-новому переживал те ощущения, какие он испытывал, сначала сидя у себя в уборной, а потом глядя из зрительного зала на синюю сцену, по которой мелькала она. Теперь ему почему-то казалось, что в то время, когда она танцевала и он думал о ней и желал ее, между ними установились какие-то отношения, что она, не видя и не зная его, чувствовала его влечение и отвечала на него каждым своим движением, блеском глаз, улыбкой красного рта. Он был уверен, что она теперь уже, не зная его, чувствовала его страсть, ждет его и будет принадлежать ему. Зосин думал, что после выигрыша студент поедет домой на извозчике, но Кранц пошел пешком. И вот, поддаваясь необъяснимому и сильному чувству, не соображая, для чего он это делает и что из этого может выйти, Зосин, пропустив студента вперед, пошел за ним. Его притягивали деньги. Дождь почти прошел, но немного моросило. Ночь была так же черна, только не вспыхивали зарницы трамваев, только огней было меньше и не так туманно. В улицах было пустынно. Зосин шел за Кранцем и думал так: «У него есть девять тысяч. Девять тысяч. Они ему не нужны. Если бы они были у меня, я бы купил себе чудесный костюм, хорошо бы ел, спокойно спал и взял бы себе хоть на два дня танцовщицу Клементьеву. Они ему не нужны, а для меня это было бы таким огромным, таким исключительным счастьем. Как все несправедливо на свете! Почему мне никогда не везет в карты, а ему везет, а главное, ему самому не важно, что везет, почему он не хотел их отдать мне? Ему все равно, — для меня это нужно и важно. Нужно так, чтобы эти деньги были у меня. Если он не хочет их отдать, нужно взять силой. Деньги всегда нужно брать силой. Я его убью». Эти мысли не поражали его, не волновали и казались обыкновенными. «Если я не умею взять деньги другим способом, нужно взять их этим. Именно этим, а не каким-нибудь другим. И я возьму. Если я не способен ни на что другое, я должен убить. А если я не способен даже на убийство, значит, я ничтожество и должен всегда жить, как ничтожество. Неправда, что есть совесть и какие-то законы, не разрешающие убить. Неправда, что это преступление. Неправда, неправда! У меня нет хорошего костюма, я не могу жить так, как хочу жить, я не могу иметь любовницей балерину Клементьеву потому, что у меня нет денег. Это правда. Это — настоящее. И я его убью. Сейчас я его не могу убить, потому что у меня нет револьвера, но я убью его завтра, если он опять выиграет. А если он выиграет, значит, на свете нет справедливости и, значит, я прав, а он виноват». В это время Зосин знал и чувствовал, что сможет убить студента и убьет его непременно. Студент жил далеко на окраине города, там, где были казармы, пустыри и дачи. Не замечая, что за ним кто-то идет, он шел, курил и тоже думал. Думал он коротко, ясно и скупо о том, что опыт его удается, должен удаться и непременно удастся. Он думал о вычислении орбиты кометы, думал цифрами, формулами, пересекающимися легкими я точными эллипсами, окружностями и бесконечными прямыми, и уважал себя. Когда он открывал ключом, внимательно согнув спину, калитку, а потом скрипнул ею, Зосин знал, как завтра все произойдет, так ясно, как будто бы это уже было. Фигура студента подошла к калитке, наклонилась с ключом, он сделал два шага вперед из тени ограды и выстрелил студенту в фуражку; студент, царапнув ключом калитку, мягко и тяжело сел и упал; он повернул его за плечи лицом вверх, расстегнул пальто, достал из-за твердых разглаженных отворотов тужурки кожаный бумажник, положил его в карман и пошел прочь, не торопясь и не волнуясь. На углу под розовым блеском фонаря ночной сторож в тулупе спросил его: «Где это стреляют?» — «Черт его знает... Теперь всюду стреляют», — ответил он и пошел мимо. Сторож подумал, постучал колотушкой и пошел гулять вдоль дач, и тень его все растягивалась в темноту. А потом все было так, как нужно: новый костюм, сытный обед, деньги и Клементьева.
V
Зосин вернулся домой и заснул на рассвете. Спал он тяжелым сном. Во сне он чувствовал, что не свободен, а связан какими-то непрерывными и неосязаемыми нитями с Клементьевой и неизвестным студентом. Он чувствовал, что вне их он уже существовать сам по себе не может, и что чем скорее все кончится, тем лучше. Кончиться должно было только выстрелом.
Клементьева тоже заснула на рассвете. Она спала на этот раз со своим любовником. С того самого момента, как она прошла по коридору за кулисами театра мимо Зосина, ею овладело томление. Она не знала и не могла знать, что это томление происходит от того, что о ней все время думал и ею любовался Зосин. Она танцевала поэтому особенно нервно и страстно, не понимая в себе этой страсти и увлекаясь ею. В эту ночь, на рассвете, балерине Клементьевой приснилось что-то чудесное и волнующее, чего она потом никак не могла ни вспомнить, ни забыть.
Студент Кранц заснул задолго до рассвета, сейчас же, как пришел домой. Ему ничего не снилось, а проснулся он от выстрела. Он открыл глаза, но все было ясно и тихо. В соседней комнате, в столовой, у хозяйки пили чай и стучали посудой, было поздно — десять часов. Он вспомнил про выигрыш и огляделся кругом. После дождливой ночи наступил безоблачный, яркий день. Солнце било, и окна и комната горели янтарным светом. В комнате все блестело, лучилось, и Кранцу казалось, что все полакировано желтым лаком.
VI
Вечером Кранц опять отправился в клуб играть. Зосин с револьвером пришел после него. Все было по-старому, только вместо проигравшегося куплетиста Звездалова справа сидел артиллерийский штабс-капитан с длинным измученным лицом, который все время легко перебирал карты длинными красивыми пальцами с большим аметистом, игравшим в золоте на мизинце. За вчерашний день Кранц вполне постиг технику игры и успел заметить слабые места партнеров, и он боялся того, что уже втянулся в общую атмосферу игры. По его расчетам, чтобы счастливо играть, надо было быть вне этой атмосферы, и он старался, играя, не считаться с тем, что ему говорили лица, жесты и глаза. Он только старался, когда везло, идти крупно, а когда не везло, идти мелко. Для этого нужна была очень большая выдержка. Она у него была. Кранц рассчитывал выиграть в этот вечер еще тысяч пять, но штабс-капитан принес с собой много денег, артельщик, желая отыграться, волновался, ел телятину и проигрывал тысячу за тысячей. И к часу ночи выигрыш студента Кранца перевалил за сорок тысяч. Это было для него самого неожиданностью, он еще тверже уперся рукой в край стола и так же спокойно, но немного отрывисто говорил: «Пять тысяч. Довольно. Моя». С каждой тысячей Зосину становилось все страшнее и страшнее. Захватывало дух, и в глазах рябило от денег, дыма, огней, лиц и карт, в ушах звенело от голосов, музыки, шарканья ног. Зосину становилось страшно не потому, что он должен был убить и ограбить студента, а потому, что он боялся, чтобы студент не проиграл всех своих тысяч. Когда Кранц начинал проигрывать, актер, как и в первый вечер, в волнении уходил бродить по комнатам, подсаживался к знакомым, курил чужие папиросы, пил коньяк, но не пьянел и возвращался назад, дрожа и потирая потной ладонью горящие щеки и волосы. Опять перед ним мелькали кинематографические фильмы, автомобили, всадники, синие лунные ночи. Он останавливался перед толстой спиной студента, смотрел на его белокурую шевелюру и розовый затылок и, напрягая всю свою волю, думал: «Ну, довольно же, встань. Забирай деньги и уходи. Слышишь, уходи, уходи».
К двум часам ночи к столу сошлись игроки из других комнат, и было тихо. Торговец бледнел, краснел и жевал телятину, не попадая вилкой в тарелку и сминая в потных руках карты. Ему опять не везло. Штабс-капитан был бледен, как салфетка. Сыщик блестел острыми глазами по сторонам и боялся встретиться с чьими-нибудь чужими глазами.
— В банке пятьдесят четыре тысячи, — сказал студент. — Дайте карту. Четыре тысячи. Даю. Довольно.
Он открыл карты.
— Ваша!..
Он задумался. Он знал, что если сейчас не встанет, не уйдет, то проиграет все. В сердце у него стало холодно. Он собрал все свои мысли в складку над переносицей и сказал:
— Довольно, снимаюсь.
И дрожащими пальцами собрал деньги в бумажник и встал.
— Разрешите отыграться, — прошептал артельщик.
— Завтра, — сказал студент, вышел в буфет и выпил стакан содовой воды, пахнущей гигроскопической ватой. Зосин пошел следом за ним. Кранц спустился вниз, в ресторан, и заказал ужин. «Великолепно, — подумал Зосин, — я как раз успею». Он вышел из клуба и пошел к дому, где жил студент. На окраинах, среди пустырей и дач, на шоссе было пустынно и страшно. Ночью ударил мороз, мокрая земля обледенела и была твердой, скользкой и блестящей, как черное стекло. Под каблуками на лужах трещал звездами лед. Дул северный ветер, и от него голые, блестящие ветки деревьев тяжело шатались, трещали и упруго свистели. Небо было чистое, черное, и яркие крупные созвездия дрожали и переливались от холода. Зосин отыскал дачу, где над калиткой горела мутным фосфором цифра 7. Он стал в тени у ограды и, ожидая, смотрел на розовое зарево, которое стояло в черном небе над городом. Зарево погасло, во всем городе погас свет, и звезды стали ярче. Зосин боялся, чтобы студент не приехал на извозчике. Стало холодно, ноги закоченели и стали деревянными, но актер не шевелился. «Я сейчас убью... я сейчас убью... А если нет, то навсегда останусь жалким, ничтожным и бедным актером театра миниатюр с грошовым жалованьем. Пятьдесят тысяч... Я должен убить, иначе я ни на что не годен. Иначе я трус». Далеко послышались звонкие и твердые частые шаги. Они отдавались где-то в стороне гулким четким эхом, и казалось, что идут двое. Зосин еще больше подобрался в тень и закусил губу. Кранц подошел к калитке, вынул ключ и, внимательно согнувшись, стал открывать калитку. Зосин не шевелился. Сейчас нужно выстрелить. И вдруг он почувствовал, что не может и не выстрелит. Он окаменел, и все в нем опустилось. Калитка заскрипела, студент вошел в нее, захлопнул изнутри, и его шаги растаяли на ветру. Зосин чувствовал, что бледнеет, и в темноте видел свое бледное лицо. Дрожа мелкой унизительной дрожью, он быстро пошел обратно. Ночной сторож в тулупе повернул к нему голову и, топая об землю валенками, спросил:
— Не знаете, который час?
— Черт его знает. Теперь всюду стреляют, — сказал Зосин и, дрожа, пошел дальше.
VII
Он провел ужасную, бессонную ночь. О презирал себя за трусость и с силой тер ладонью горячие виски. Он ненавидел студента и думал: «Он еще придет играть завтра, он выиграет, и я его непременно убью. Даю честное слово, что убью». Он стал на колени, поднял, как для присяги, два пальца над головой и прошептал, стиснув зубы клещами: «Клянусь всемогущим богом, что завтра я убью этого студента, а если не убью, то застрелюсь сам». Он знал, что эту клятву он исполнит, но все-таки не успокоился; ему в голову приходили какие-то странные мысли и представления, но не в форме образов или слов, а в форме каких-то мучительных сочетаний, как бы тяжелых, острых каменьев, которые сыпались, поднимались стенами, опять рассыпались и никак не могли войти и уместиться в какую-то необходимую тесную меру. Они были похожи на картины кубистов. У него начинался жар.
Студент Кранц тоже не мог уснуть: его сознание не вмещало того, что у него было пятьдесят тысяч. Ему представлялись цифры, формулы, эллипсы, сыпались карты, играла музыка, и он никак не мог остановить эти трудные, острые образы и начать думать холодно и точно, так, как и надо было думать человеку. Ему представлялась собственная квартира, жена, дети, удобный кабинет, книги, научная библиотека, поездка за границу, лучший табак. Он знал, что это все противоречит его представлению о жизни и человеке, но ничего не мог сделать и отдавался им. Завтра он пойдет в клуб, выиграет еще тридцать тысяч и сожжет их. Это будет непременно, обязательно, иначе быть не может. На одну минуту ему удалось только ясно и определенно сказать самому себе, что если он выиграл пятьдесят тысяч, значит, этого достаточно и ходить рисковать больше не следует, но сейчас же ему в голову пришло оправдание, что он был в клубе два вечера, а нужно было быть три.
Томление балерины Клементьевой не проходило, а становилось все острее, горше и непонятнее. Зосин опять перед клубом смотрел на ее танцы. Клементьевой стал противен любовник: когда она лежала вместе с ним в постели, ее трясло от отвращения. Он потянул ее к себе. Она выпрыгнула из кровати, подбежала к окну, села на подоконник за занавеску и, стуча зубами, изо всех сил прошептала: «Оставьте меня! Не прикасайтесь ко мне. Я вас ненавижу. Животное!»
С осунувшимся белым лицом и синими кругами под глазами, в нечищеных сапогах и грязной манишке Зосин ходил по комнатам клуба и грыз ногти. Воздух был тяжел и мутен, как в тягостном, неполном сне. Шея у Кранца была багровой, сыщика не было. Вместо него сидел бледный, черный человек с синими ресницами, удивленными глазами и красным ртом. Короткие пальцы студента дрожали, когда он сдавал и принимал карты. Он уже не спускал руку лопаткой за твердые отвороты своей тужурки. Возле него на столе валялись кучи денег, и эти кучи он карта за картой отдавал бледному господину.
— Виноват. Одиннадцать тысяч. Извольте. Ваше. Извольте.
— Виноват...
Представления о десятках и сотнях тысяч в формулах, жене, удобном кабинете и загранице сыпались у него в мозгу. Он курил папиросу за папиросой, он упрекал себя за то, что пришел играть в третий раз. Опыт его состоял в том, чтобы прийти в клуб три раза и выиграть пятьдесят тысяч. За два раза он выиграл их. Он не знал, нужно ли было приходить в третий раз. Он знал одно, что сейчас, сию минуту нужно было встать и уйти, но не мог сделать этого. Бледный человек с удивленными глазами был весел и спокоен, в углу его тонких красных губ была ироническая ямка. Он спокойно придвигал выигранные деньги к себе. Вокруг него стояли его друзья. То и дело он против всех обычаев и примет игроков давал им прямо из игры кучи бумажек и говорил: «Закажите внизу кабинет и ужин. На десять человек. Позвоните Тамаре Валентиновне. На шампанское. На автомобиль. Это отдайте в буфет, долг... Эти пять тысяч отдайте Иванову: я ему, кажется, должен...»
В два часа все было кончено. Кранц встал. В голове шумело. Пальцам было холодно. Он, как автомат, закрыл пустой бумажник и опустил его между хорошо разглаженными, твердыми углами тужурки. Лоб был красен, и на него налипли белокурые, потемневшие от пота пряди... Толпа расступилась. Кранц взял в рот папиросу, но спичек найти не мог. Перед его глазами в тяжелых потемках ничего не было, только в самой середине их горела красная точка. Стиснув в зубах папиросу, Зосин стоял перед Кранцем и злобно смотрел в его незрячие синие глаза без зрачков и белков.
— Позвольте прикурить! — сказал студент, делая шаг к Зосину.
Потом, в проходе через буфет и дальше — по лестнице, Кранца мотало. В ушах стоял оглушительный колокольный звон, и красными буквами гремела фраза, сказанная чьим-то знакомым и незнакомым голосом:
— Вы держите папиросу не тем концом.
VIII
А в это время на темных и глухих окраинах рабочие уже смазывали салом пулеметы, набивали ленты, выкапывали ящики с винтовками, назначали начальников участков, и новый день, обозначавшийся светлой полосой за черными фабричными трубами, был последним днем Вавилона.
1919
В осажденном городе[30]
Ни серые утюги французских броненосцев, кадивших угольной чернотой над заливом, ни веселые патрули английской морской пехоты, кидавшие футбольный мяч голенастыми лошадиными ногами на цветочных углах и вылощенных площадях, ни вялые тела рабочих, черными чучелами развешанные контрразведкой на железнодорожных мостах и фонарях предместий, — ничто не могло помочь. Город был обречен.
В великолепном стрекотании кино, упрямо повторявшем каждый вечер сияющее отражение некогда живших, в шелковом хрусте карточных вееров над ломберной зеленью клубов, в костяном шелке ночных выстрелов, похожих на щелк бильярдных шаров, и в щелке бильярдных шаров, похожих на выстрелы, осаждаемый с трех сторон красными город шел к гибели.
Напрасно детские голоса газетчиков с перекрестков пели победу, напрасно снопами синих молний слетали звуки радио с рей броненосца и козьи кофты французских лейтенантов уверенно торчали за столиками кафе и в зеркалах театральных вестибюлей. Все было кончено. Каждый день брюхатые пароходы огибали маяк, увозя на юг желтые чемоданы миллионеров и походные гинтеры генералов. Толпы обезумевших спекулянтов и ничего не понимавших проституток, неумело терявших в бегстве горностаевые палантины, наполняли порт и висли виноградом на трапах уходящих пароходов.
А те, кому суждено было остаться в городе, ничего не хотели знать, ни о чем не хотели думать. В переулках горели огни. Из погребов вместе с морским запахом пива неслась музыка. Ясный месяц высоко стоял над железными деревьями в самом зените, и звезда казалась слезой, упавшей с него и застывшей в густой синеве, не долетев до земли.
Молодой человек в штатском остановился возле одного из погребов, подумал и быстро сбежал по лестнице вниз, толкнув плечом поднимавшегося вверх пьяного матроса в кожаной куртке. Матрос посмотрел в лицо молодому человеку, потом остановился и следом за ним вернулся в погреб.
Подобно всем погребам портовых городов, погреб был похож на романтическую таверну. Крашенный белой масляной краской дощатый потолок блистал перевернутой корабельной палубой. Кофейный грек за прилавком был похож на капитана пиратского корабля. Мутные стены, холодные, запотевшие, пахли спиртом и камнем. Столики в нишах были покрыты зелеными мокрыми клеенками с черными черкесами на лошадях. Калильная лампа за прилавком пела высоким шумным голосом, озаряя фруктовую пестроту и салатную зелень.
Студент прошел в самый темный угол, сел за стол, пересчитал деньги и спросил бессарабского вина. И пока грудастая служанка, тыкая в стороны голыми локтями и стреляя подмазанными глазами, ходила за прилавок, он достал из бумажника аптечный пакетик, развернул его, разложил на столе и, аккуратно зачерпнув ногтем мизинца щепотку белого кристального порошку, с упоением поднес его к раздувшейся ноздре.
В то же время пьяный матрос с бледным актерским лицом и синей тенью под глазами внимательно и пытливо разглядывал молодого человека. Под тупой фаянсовый стук посуды в кабачке играла музыка. В углу, на помосте, за пианино с ободранной коленкоровой спиной, сидел лохматый юноша в косоворотке и консерваторской тужурке, и рядом с ним стоял слепой еврей в синих очках, и, уткнув скрипку в ключицу, а подбородок в скрипку, водил худыми, очень длинными пальцами мяукающий смычок. Гул голосов покрывал все.
— Маша, водки две стопки! — закричал матрос, не отводя темных глаз от лица студента.
И когда принесли водку, он твердой, несмотря на то что был пьян, словно каменной рукой налил из графина стакан. Потом он тяжело встал и подошел к студенту.
— Виноват, коллега, позвольте вам предложить. Водка. — И поставил перед студентом полный стакан. Студент вздрогнул, и табак, которым он набивал в эту минуту трубку, неловко посыпался между пальцами на мокрую зелень и черноту клеенки. В изумлении, стиснув в руках трубку, он смотрел на матроса. А матрос, ловко захватив из кармана зажигалку и на лету выстрелив ею, поднес дымное багровое пламя к лицу студента. Студент машинально закурил и улыбнулся.
— Вы очень любезны. — И вдруг зрачки у него расширились и темная тень упала на лоб. — Что вы так на меня смотрите?
— Выпейте, — сказал матрос.
И пока студент пил противную, плохую водку, чувствуя ее вес и качанье в стакане, матрос разглядывал крошки табаку на клеенке и бормотал: «Английский кепстен».
Выпив, студент почувствовал, что вокруг что-то начинается: не то убавилось света, не то прибавилось дыму, и все чудесно и неудержимо потекло мимо глаз. И уже ничто не было странным: ни то, что черкесы махали шашками, ни то, что чужой матрос смотрел внимательными глазами и дышал спиртом. Он достал еще порошку и понюхал. Аптекарская, апельсинная свежесть и холод захватили горло, и оно стало немым. Передние зубы замерзли и стали нечувствительными и деревянными, и вместе с тем все стало понятным, простым и до того несложным, что можно было нарисовать.
— Хотите? — спросил он матроса, протягивая порошок.
— А что это такое? — спросил матрос. — Не хочу.
— Как хотите.
И, чувствуя к матросу удивительную нежность, студент стал долго и обстоятельно, проверяя и стараясь говорить именно так, как он думал, рассказывать о своей невесте и о том, что, когда играет музыка, звуки кажутся то черными, то белыми; и о том, что жизнь очень сложная и страшная вещь и похожа на сказки Гофмана; и о том, что он больше жить не может и что его мучит прошлое.
— Вы только представьте, вы только подумайте, — говорил он, — я ничего не знаю, я ничего не понимаю. Но только то, что было, тот прекрасный, изумительный мир, который был раньше, навсегда и безвозвратно умер. То, что в городе голод, — не важно. То, что не во что одеться, — тоже не важно. Важно, что нет новых книг и нет новых журналов, нет сотни тех мелочей, из которых складывалась прошлая жизнь. Вы меня понимаете. Поймите. Представьте себе так: тысяча девятьсот одиннадцатый год. Зима. Пять часов вечера, и вы возвращаетесь домой. В темной столовой над крахмальной скатертью горит лампа. Сквозь густой белый колпак пламя кажется красной коронкой. За окном снег. Все синее, а здесь тепло и хорошо от натопленной печки. А на столе лежит только что принесенная почта. От туго сложенных, забандероленных газет пахнет сыростью и морозом, а от писем холодным яблочным клеем. О, какой длинный путь они совершили: из Москвы, из Вологды, из Вятки, к югу. И представляешь себе Россию, как шкуру огромного белого медведя, по которой во все стороны ползут поезда. Сугробы завалили полустанки. Фонари горят в заре, как елочные звезды. Возле проруби стоят игрушечные кустарные бабы с ведрами, а вагон мотает, и хочется спать, и фонарь, задернутый красной занавеской, стрекочет кузнечиком. Ах, всего этого нельзя рассказать. Об этом можно только написать стихи. Вот, хотите, я вам прочту... — И он суетливо полез в боковой карман, но вдруг побледнел: прямо против него, глядя в упор, протекали жестокие сумасшедшие глаза матроса.
— Продолжайте, продолжайте. Письма. Газеты. Медведь. А Колю кто расстрелял? Говори, контрразведчик. Стой, молчи.
Студент быстро встал и отвернулся, не в силах больше пошевелиться.
— Эй, играйте похоронный марш, даю десятку, — закричал матрос, покрывая шум. — Прошу всех встать. Вечная память тебе, Коля!
Кое-кто встал, кое-кто не услышал. Музыканты оборвали «Графа Люксембурга», пошептались и стали играть траурный марш Шопена. Матрос положил руку в карман. Студент был недвижим.
— Письма, газеты, шкуры, — кричал матрос, — почитай-ка, почитай-ка свои стихи. Молчи, негодяй! — И не успел студент повернуть голову от стенки, как матрос закричал во весь голос: — Товарищи, смотрите все, это поручик Гесс, контрразведчик, бейте его!
Студент закрыл глаза и в ту же секунду почувствовал, что с ним происходит что-то ужасное, непоправимое и все летит к черту.
Вторая пуля попала в стенку, и белая штукатурка посыпалась на черное пальто, лежащее на полу.
Сейчас же раздался женский крик, и на пол полетела посуда. А матрос, расталкивая локтями людей, бросился к лестнице и, быстро выдвигая по очереди то правое, то левое плечо, как по трапу, выбежал по ней на улицу в темноту, туда, где над домами стоял спустившийся месяц, краем своим касаясь черной трубы.
1920
Золотое перо[31]
Золотое перо академика, столь долго пролежавшее в изящном дорожном чемодане, не потеряло своей остроты. Зеленые глянцевитые строки ложились вслед его экономному бегу, направленному старой опытной рукой, и две страницы, скупо исписанные твердым почерком, известным всей России, трижды выправленные до последней запятой, сохли в левом углу бюро, придавленные лакированным пресс-папье. Шесть дней назад, после завтрака, академик заперся, снял серый пиджак, засучил рукава крахмальной рубашки, надел круглые большие очки, сделавшие его костяную орлиную голову похожей на голову совы, придвинул стопку отлично нарезанной бумаги и, скрутив длинными пергаментными пальцами толстую папироску из крепкого крымского табаку, написал первую строку повести о старом, умирающем князе.
С этой минуты он стал ледяным.
В кабинет не входил никто, кроме горничной, приносившей три раза в день кофе, и жены, менявшей воду в грубом кувшине, где стояла охапка хризантем. Обычный прием был отменен. Даже самых близких и значительных лиц не велено было принимать, и смуглый итальянский лейтенант в плаще, изысканный атташе при штабе добровольческого корпуса, отражавшего наступление красных в южном направлении, привезший господину Шевелеву привет и письмо от Габриеля д'Аннунцио, принужден был разочарованно возвратиться в мотор, передав пакет горничной.
Только два раза в день академик покидал кабинет — один раз в полдень, отправляясь на обязательную прогулку, а другой раз в семь часов — к общему столу. Эти привычки были неодолимы. Прогулка была поспешной и продолжалась полчаса. За это время академик доходил до центральной площади, спускался по главной улице на бульвар, зоркими, орлиными глазами обводил поверх пустынного мохнатого моря, огибал гранитный цоколь, где в некоем классическом порядке ниспадала мантия императрицы, проходил через мост и, минуя особняки, цветными витражами окон, гербами и чугунными воротами чудесно напоминавшими Флоренцию, возвращался домой.
Заходя по дороге в табачные лавки, покупая газеты и со вниманием останавливаясь возле кучек народа, наполнявшего скверы, господин Шевелев отдыхал от приятной, но утомительной работы творца.
По улицам цокали пролетки, грузовые автомобили сотрясали стекла и рамы витрин, колебались штыки офицерских патрулей и пели продавцы папирос. На каждом углу, обступив китайца, кидавшего шарики и ножи, стояли толпы зевак, и политические толки здесь легко переплетались со взрывами смеха. В коротком черном пальто, открывавшем по колено тонкие длинные ноги, обмотанный серым кашне и в черной толстовской ермолке, по краям которой выступали острые петлистые кончики пергаментных ушей, академик Шевелев мешался с народом, тонким знатоком которого он слыл, и разговаривал с незнакомыми людьми.
Он задавал вопросы и завинчивал народные словечки. Много было в этих беглых вопросах значительного и угрожающего, много в ответах было злости и хитрого яду, но ничего не замечал академик, занятый умирающим князем и шлифуя стиль складывающихся в уме фраз.
Он не замечал, что с каждым днем город становится все шумнее и тревожнее. С каждым днем в улицах прибавлялось оборванных прапорщиков и едущих с чемоданами штатских. С каждым днем хлеб становился дороже и, по мере его вздорожания, толки на площади и углах становились все более резкими и враждебными, а газетные статьи все более осторожными.
Он знать ничего не хотел и был спокоен. Вера его в добровольцев была непоколебимой. Только жена его, голубоглазая, худая, красивая и холодная молодая женщина, принимавшая в его отсутствие гостей, знала об истинном положении дел. Но она не смела об этом говорить. И если за обедом кто-нибудь намекал на опасность, господин Шевелев подымал над тарелкой злое пергаментное лицо с припухшими, словно заплаканными глазами и отрывисто говорил:
— Господа, я слишком уверен в неизбежном конце коммунизма, чтобы меня могли тронуть детские опасения. Не дальше как полчаса тому назад мне звонил генерал Трегубов и подтвердил, слышите ли — совершенно определено подтвердил, что нет ни малейших оснований опасаться чего бы то ни было.
— Но, Георгий... — возражала мягко жена, опуская голубые глаза и стараясь говорить как можно убедительней.
Господин Шевелев прерывал ее:
— Никакие возражения меня не смутят. Нет в мире такой армии, которая не испытывала бы временных неудач. Я даже допускаю чрезвычайно серьезные неуспехи, но это никак не должно менять общего положения дел. Для меня все ясно.
И с твердым, деревянным лицом он продолжал есть. Жена умоляюще и бессильно оглядывалась по сторонам, как бы ища помощи, и расстроенное ее лицо говорило: «Ну, что я могу сделать? Убедить его — выше моих сил!»
Однако с каждым днем положение добровольческого корпуса становилось хуже. Отступление, предпринятое высшим командованием по всем правилам французской и британской стратегии, катастрофически превращалось в бегство. Дисциплина падала. Отряды, измученные холодом и голодом, обнажали десятиверстные участки и уходили в леса и деревни к югу. Они грабили еврейские местечки и взрывали водокачки. Не только в победу, но и в возможность когда-нибудь остановиться никто не верил. Ежедневно выпускались суровые приказы, предписывавшие расстреливать дезертиров на месте. Но ничего не помогало. Командование было подавлено.
Одна за другой иностранные миссии покидали город.
Авторитета власти почти не существовало. Красные неуклонно смыкали кольцо вокруг города, и с каждым днем это кольцо все больше и больше походило на петлю.
А золотое перо академика все так же экономно укладывало отшлифованные строки, в которых говорилось о кончине старого князя, и старческие локти все так же твердо лежали на письменном столе. Ничто не нарушало тишины в этом большом светлом кабинете с ярко начищенным паркетом, портретами в овальных рамах и хризантемами.
Только однажды тишина была потрясена звоном шпор и скрипом лаковых сапог, когда генерал Трегубов, решительно настояв на необходимости аудиенции, вошел в кабинет. Разговор продолжался пять минут. В коротких, энергичных словах обрисовав истинное положение дел и еще раз подтвердив честным словом боевого генерала, что пока опасений за судьбу города нет, он лаконически и откровенно, с прелестной грубоватой простотой солдата, не раз глядевшего в глаза смерти, объявил, что авторитета власти не существует, но что и это можно было бы поправить в случае, если господин академик не откажет в любезности написать газетную статью. Конечно, он понимает, что высокое мастерство академика не должно опускаться до газетных статей, но, принимая во внимание, что жертвы требует оборона города, он надеется получить согласие господина Шевелева. Статья по возможности должна быть написана в самый короткий срок.
Косая резкая черта расколола лоб академика. Лицо стало темным. Он коротко и резко спросил:
— Если статья будет готова к одиннадцати часам завтрашнего утра, вас это устроит, генерал?
О, генерал не находил слов! Они крепко пожали друг другу руки, и больше увидеться им было не суждено.
Академик отложил в сторону рассказ об умирающем князе, запер дверь на ключ и не выходил из кабинета до утра. Всю ночь слова, пропитанные желчью и злостью, разгонисто, одно за другим, укладывались в косые строки. Зеленоватый табачный дым плотно стоял в комнате, и все кругом было усеяно пеплом и окурками. Утром статья была отослана в типографию и набрана, и академик мог вернуться к умирающему князю. Но вид белой бумаги и письменного стола, возбуждавший его раньше к работе, теперь был невыносим. Мысли, потерявшие ясность и систему, срывались, и еще более пожелтевшее, пергаментное лицо выглядело совсем старым. В этот день он писать не мог, а на другой день утром, когда газету с его статьей расклеивали на стенах и тумбах, послышались пушечные выстрелы. В предместьях стучал пулемет. В порту дымили уходящие суда. Смятенные толпы растерянно заполняли площади и перекрестки. Ординарцы на мохнатых лошадях, с сумками подъезжали к штабам. Телефонисты с удочками мотали провода. Шторы магазинов с грохотом падали. Канонада приближалась. Жена академика, сверкая испуганными голубыми глазами, беспомощно бросалась из комнаты в комнату, не зная, что предпринять. Каждую минуту звонил телефон — это взволнованные барышни путали номера.
— Георгий, это ужасно! Нам нужно уезжать! Что делать? Они убьют тебя!
Академик сидел в глубине дивана и, вцепившись костлявыми пальцами в колено, закусив губы, осунувшийся и совсем старый, зло и отрывисто повторял:
— Как знаешь, я никуда не поеду. Пусть меня застрелят в этой комнате.
Несколько знакомых, взволнованных и испуганных, забегали на минуту попрощаться, наговорили много непонятного и исчезли. Опять позвонил телефон. Жена подбежала и сорвала трубку.
— Да, да, слушаю. Дома.
И еще что-то быстро говорила, чего нельзя было понять.
— Георгий, кажется, все устраивается. Говорит Кениг. Он предлагает ехать с ним в Париж. Есть каюты на пароходе. Дает сколько угодно денег. Ради бога, поговори.
— Кениг? — Дворянское лицо академика стало брезгливым. Опять резкая косая черта разделила его темный лоб. Желчь кипела в нем, но наружно он был спокоен. Легкой походкой, поскрипывая начищенными башмаками, отражаясь в паркете, он подошел к трубке. — У телефона Шевелев. Я слушаю.
В середине, в глубине трубки завозились какие-то микроскопические звуки, похожие на шорохи и звуки граммофонной мембраны, когда иголку трогают пальцем. Чей-то отдаленный голосок торопливо и долго сыпал словами. Академик слушал внимательно, склонившись перед аппаратом, с вежливой и сухой улыбкой.
— Благодарю вас... К сожалению, из-за отсутствия денег я должен остаться. Что делать... Во всяком случае, очень вам благодарен. Нет. Я не могу изменить своего решения... Прощайте... Мне тоже очень жаль... Извините, пожалуйста... Тронут...
Он повесил трубку. Больше никто не приходил и никто не звонил. В доме было очень тихо, и стекла тонко стрекотали от канонады. К обеду тоже никто не пришел.
Пушечные выстрелы не прекращались. Теперь казалось, что они гремят внутри города. Сыпали пулеметы. Ревели пароходные гудки. Небо вспыхивало. Дымные голубые радиусы прожекторов описывали в черноте сияющие дуги. Току не было, и особняк тонул в темноте. А наутро все было кончено. Поверх театральных афиш и газет расклеивались приказы Революционного комитета. Разъезды чубатых оборванцев в картузах, украшенных красными лоскутьями, с лентами, вплетенными в гривы и уздечки добрых жеребцов, торопились по улицам, покрытым настом битого стекла, закрученными петлями трамвайных проводов. Голубоглазые москвичи в желтых полушубках и папахах, постукивая по вымерзшим тротуарам прикладами винтовок всех армий, окружали подозрительные дома, из которых ловкие матросы в кожаных куртках выводили наскоро переодетых контрразведчиков.
Мальчишки уже бегали с красными флажками и пели «Интернационал».
«Все кончено», — думал академик, сжимая костяными пальцами колено. Ему не хотелось ни бежать, ни скрываться. Его жена с распухшими, покрасневшими глазами стояла, упираясь плечом в стену, и смотрела в окно. Но на глухой аристократической улице было совершенно безлюдно.
Друг академика, хозяин дома, взволнованный и красный, с утра мотался по городу, прилагая все усилия, нажимая все пружины, чтобы спасти Шевелева. В три часа он, возбужденный, возвратился домой, размахивая бумагой, полученной в Революционном комитете. Это была охранная грамота на жизнь, свободу и личное имущество академика.
— Ну, дружище, ты спасен, — сказал он, входя в комнату.
Шевелев раздражительно махнул рукой. Ему было слишком ясно, что пощады не будет, хотя бы его жизнь для европейской литературы была дороже тысячи других. Он был слишком уверен в дикой жестокости красных, чью ненависть к аристократам мерил собственной к ним ненавистью.
Тем не менее охранная грамота была придавлена кнопками ко входной двери.
И вот в начале улицы появился отряд.
Академик подошел к окну. Он ясно видел этих веселых оборванных солдат с красными бантами и кожаные куртки матросов. Звуки грубых башмаков по замерзшему асфальту гулко и твердо отдавались в тонких голубоватых стеклах особняка. Отряд приближался. Матросы деловито читали номера домов, придерживая кожаные шнуры револьверов.
Шевелев подошел к двери. Он сжал кулаки и с поднятой головой и сверкающими глазами, готовый перегрызть горло каждому, кто переступит порог его комнаты, ждал конца. Жена лежала без чувств. Грубые удары прикладов потрясли входную дверь. Послышались крики:
— Эй, кто там, отворите, не то... Отворяйте дверь!
Горничная с меловым лицом простучала по лестнице высокими французскими каблучками. За ней спешил трясущийся хозяин, застегивая и расстегивая артистическую вельветовую куртку. Как сквозь сон, академик слышал стук отпираемой двери. В передней топтались чужие. Он слышал взволнованный, пискливый голос художника и даже различал отдельные слова: «Мандат. Революционный комитет. Академик. Писатель». И потом еще услышал слова, сказанные чьим-то московским веселым говором: «А, да ну его к чертям. Слышь, ребята, академик. Не велено трогать. Пойдем, братва».
Дверь захлопнулась, и академик видел проходивших под окнами солдат. Они курили. И опять в доме сделалось тихо. Шевелев подошел и сел на диван рядом с женой. Вместе со страшной усталостью сердце его наполняла непонятная горечь, как будто он только что возвратился с похорон очень близкого человека.
1920
Железное кольцо[32]
— Ребята, у кого махорка? Спасибо. Тьфу, на какой, однако, отвратительной бумаге печатаются наши стенные газеты. Еще стаканчик. Итак, я продолжаю:
Надоели доктору студенты, надоели пивные кружки, надоели тайные свидания, дуэли и голубые глаза красавиц, и отправился он с пуделем скитаться по свету.
По дорогам проходит Вечным жидом, по морям — Летучим голландцем, по городам — знатным путешественником. Много повидал доктор диковинных стран, людей и городов.
Он танцевал в Барселоне на свадьбе, охотился в Индии на слонов, в Нагасаки увлекался гейшами, а в Риме написал отличную новеллу в духе «Декамерона».
Все эти свои приключения он отлично помнил, потому что был бессмертен, но ко всему был равнодушен по этой же причине.
Много лет, а может быть, и веков, путешествовал доктор таким образом. И пудель путался у него под ногами, вертелся, клал лапы на грудь и язвительно лаял, причем вытягивал из оскаленной пасти и разворачивал красный язык, похожий на детского ярмарочного свистящего змея или на жало геральдического льва.
Много ли это или мало — вечность? Для человеческой короткой жизни — очень много; для жадного сердца — слишком мало; но для души, запроданной черту, год и вечность все равно — ничто.
Ничто не могло оживить доктора.
Лишь однажды он улыбнулся.
Это случилось на диком Эвксинском побережье в час равноденственного прибоя, среди брызг, ракушек, скал, где он встретился с неким мечтающим поэтом. Поэт стоял взволнованный, рыже-курчавый, в архалуке, размахивая отвинченным стволом охотничьего ружья, заменявшим ему, по-видимому, палку. Его лицо, повернутое в брызги и ветер, выражало волнение, и полные голубые глаза блестели слезами вдохновения.
— Тысячу сердечных извинений, — сказал доктор на безукоризненном французском языке и снял шляпу. — Тысячу извинений, что, не будучи вам представлен, я прервал уединение ваше и осмелился заговорить. Много лет, а может быть, и веков, скитаюсь я по свету. Много видел я человеческих лиц. Но такого вдохновенного, исполненного высокого смятения и блеска, как у вас, я не видал нигде. Уж не вы ли обладатель легендарного талисмана счастья?
— Милостивый государь, — ответил поэт, — я не знаю, кто вы и куда направляетесь, я не знаю, добрый гений или злой привел вас к нашим берегам. Однако ваше лицо мне знакомо; я не смею определить, где я встречал вас: во сне, наяву или в книге, но кто бы вы ни были — я приветствую вас, скитальца и мечтателя. Вы сказали — счастье? Кто знает, что такое счастье? Иные думают, что счастье — это золото, иные полагают его в молодости и любви; есть безумцы, считающие счастьем бессмертие и славу! Но, милостивый государь, счастлив ли я? Ежели этот ветер, и прибой, и свет, и тень, и говор волн — счастье, ежели паруса, уходящие на юг, — счастье, ежели природа человеческих страстей — счастье, ежели все, что переполняет бедную человеческую жизнь, — счастье, о, тогда я счастлив и благодарю небо за это несовершенное, горькое, прекрасное, обыкновенное человеческое счастье.
— Впервые я вижу истинного счастливца! — воскликнул доктор. — Но кто вы?
— Что в имени моем?
— Вы правы, — в раздумье заметил доктор. — В таком случае не можете ли вы сказать, где я сейчас нахожусь и нет ли здесь поблизости трактира, где бы я мог переночевать?
— Вы находитесь недалеко от нового города Одессы. Подымитесь по обрыву, и вы увидите его. Там вы найдете ресторацию, где можно получить славную бутылку кишиневского вина и сносный ужин.
— Прощайте, милостивый государь.
Доктор позвал пуделя и, отвесив поклон, стал уходить. Поэт смотрел ему вслед, тщетно стараясь припомнить это знакомое лицо. Вдруг доктор остановился.
— Милостивый государь, — с волнением сказал он, возвращаясь к поэту, — вероятно, мы с вами больше не встретимся, но наше короткое свидание было самым приятным в жизни, ибо впервые я увидел истинного счастливца. Примите же в память краткой встречи вот это кольцо. Оно сделано из грубого железа, и его украшает дешевый кусок бирюзы. Но на руке счастливца оно приобретает чудесную силу делать окружающее прекрасным и счастливым. Возьмите его. Я уверен, что от вас оно перейдет к достойному. Прощайте.
Тогда доктор исчез, а на пальце своем поэт увидел грубое железное кольцо с бирюзой.
И в тайной темноте ночи, наклонясь над тетрадью и рассеянно чертя на полях женскую ножку, поэт видел, как бирюза, вделанная в железо, наливалась необычным голубым светом. Этот же голубой свет наполнял средиземной водою ночное полукруглое окно. И золотые ножи свечей колебались легко и чисто, окруженные лазурным сиянием. Стихи, написанные в эту ночь, были прекрасны.
На следующий день госпожа Ризнич уезжала в Италию. Поэт в глухом сюртуке и цилиндре ожидал красавицу на пристани. Дул сильный ветер. Море было неспокойное, полное пены, но пленительное. Турецкие фелюги скрипели у набережной, раскачиваясь метрономами мачт. Матросы разных национальностей играли на свернутых канатах в карты. Слуги грузили дорожные сундуки и чемоданы супругов Ризнич в шлюпки. Корабль качался на рейде. Вдруг показалась карета. Рядом с ней скакал всадник. Карета остановилась. Дверца распахнулась, и маленькая ножка в сером шелковом чулке выставилась из нее, ища подножки. Слуги бросились к карете, и госпожа Ризнич, подобрав дорожные юбки, выпрыгнула на песок. За нею вылез ее толстый муж. Всадник соскочил с лошади и, бросив поводья слугам, подошел к поэту.
— Она уезжает, это ужасно, — сказал он.
— Она уезжает, — автоматически повторил поэт, — она уезжает.
— Счастливец, ты любим, — с горечью заметил первый.
— Друг Туманский, не завидуй. Сейчас она уплывет от нас прочь, и мы будем равны, и, может быть, мне будет больнее, чем тебе.
Госпожа Ризнич с мужем подошла к приятелям.
— О, коварство мужчин! — воскликнула она слишком весело. — Я еще не успела сесть на корабль, а у вас на руке новый талисман. Можно ли верить друзьям, говорящим о своей преданности?
Господин Ризнич учтиво улыбнулся, и только беглый взгляд поэта, полный любви и горечи, перехваченный таким же тайным взглядом красавицы, остался нежной памятью этого светского прощания.
Приставив к глазу зрительную трубку, превозмогая слезы, поэт видел приближенный круглыми стеклами корабль. У борта рядом с мужем стояла она и махала платочком. Поглощенный только ею, поэт не видел вчерашнего незнакомца с пуделем, прислонившегося к снастям среди ящиков и бочек с красными печатями. Ветер трепал его дорожный плащ и завивал бороду.
Склонясь от бокового ветра, корабль косо уходил вдаль. Скоро он почти скрылся из глаз.
— Пойдем, дружище. Она уже далеко. В кофейне усатого капитана уже, вероятно, собрались шахматные игроки, и томная Ифигения разносит на жестяном подносе чашечки бобового кофе и рахат-лукум. Пойдем же, я тебе расскажу забавную историю об одном странствующем чудаке с наружностью Фауста, подарившем мне это железное кольцо с бирюзой. Утри слезы, нас ждут чубуки, пойдем же.
И они пошли вверх по новой дороге, вырезанной в свежей глине обрыва.
Много времени прошло с тех пор, а небо над городом было все того же влажного голубого цвета, и сливы на рынке в августе покрыты все той же изумительной бирюзовой пылью. Значит, и до сей поры железное кольцо находится у кого-нибудь из местных жителей. Почти никто никогда не видел этого кольца, да и вряд ли многие знают о его существовании. Может быть, уезжая на север, поэт надел его, в память о мимолетной страсти, на пальчик Ифигении, может быть, оно попало в кованую шкатулку легендарной гречанки, некогда целовавшейся с Байроном и долго переходило из рода в род, пока не пропало в дыму десантов и в пылу реквизиции 1920 года.
Говорят, что один статский советник из управления по делам печати, весьма сильный в истории отечественной литературы, в 90-х годах прошлого века видел подобное кольцо на пальце незнакомого жуира, считавшего сдачу у окошечка кассы под каменными арками муниципального театра. Он ясно запомнил элегантную крылатку, широкие клетчатые панталоны, каштановые бакенбарды, очки и шапокляк. Газовые рожки трещали гибкими, твердыми веерами пламени над сетчатой рамой с афишей, напечатанной шоколадным грубым шрифтом. Статский советник бросился к господину, но ступил на апельсиновую корку, поскользнулся и чуть не упал, а когда он оправился, незнакомца уже не было, только в зеркальном стекле захлопнувшейся двери покачивались созвездия. Об этом происшествии была напечатана статейка в местном «Телеграфе», на чем дело и кончилось.
Искусства продолжали процветать в городе, а город, как и жители его, менялся. Летом он был завален грудами строительного материала, балками, рельсами, шашками, бочками портландского цемента, смолой и глиной. В порт прибывали все новые парусники, пакетботы и океанские пароходы.
Однажды моложавый бородатый человек в берете, в шотландском пледе, с бедекером в руке и пуделем шел из гавани на вокзал. Он был оглушен шелковым шелестом ссыпаемого зерна, пистолетными выстрелами железных балок, звонками конок, ругательствами и ослеплен известковым дымом, солнцем и необычайной яркостью неба.
Еще чувствуя под ногами качание палубы, он шел по боковым улицам и переулкам в сладкой тени виноградных акаций и низких приветливых домов. На пороге греческой кофейни, где под грубым полосатым тентом вторые помощники в расстегнутых кителях и купцы в фесках играли в нарды, стояла молодая гречанка. Она прислонилась к нагретому косяку двери и легко дремала, опустив ресницы. Косые резные тени акаций двигались вверх и вниз по ее полотняному платью, черной кружевной наколке и по скрещенным на груди узким пальцам.
— Mein Gott! — воскликнул незнакомец, посмотрев на нее.
Гречанка выпрямилась и открыла влажные глаза.
— Ифигения! — позвал из лавки мужской голос.
Она поправила наколку и быстро вошла внутрь. Незнакомец остановился, но пудель кинулся передними лапами ему на плечо, заглянул розоватыми злыми глазами в лицо и, распустив геральдический язык, язвительно залаял. Играющие в нарды лениво обернулись. В дверях кофейни стоял усатый грек. Незнакомец переложил из одной руки в другую бедекер, вздохнул и пошел неторопливо далее, ища тени, мимо бакалейных лавочек и киосков с содовой водой.
И еще прошло некоторое время, после чего произошло множество совершенно уже невероятных, но вполне достоверных событий, о которых смешно и говорить, потому что все мы так или иначе в них участвовали.
Все мы повидали порядочно чудес. Но, дорогие товарищи, клянусь классической балладой, никто из вас не видел того, что видел я. На днях я видел на базаре, в длинном ряду штаб-офицерских вдов и вылинявших графинь, распродающих остатки своего хлама, немолодую желтую гречанку в черной кружевной наколке и старом шелковом платье. Глаза у нее были припухшими от слез и припудрены скверной пудрой. Кроме того, она жадно курила ужасную вонючую скрутку махорки, обнажив янтарные, почерневшие зубы. Она просительно и отчаянно улыбалась. Меня взяло любопытство: что она может продавать, эта бывшая экзотическая красавица? Я подошел, расталкивая солдат и матросов, и посмотрел на коврик, разложенный перед ней. Там лежали серые клетчатые панталоны, складной цилиндр, подзорная труба и кружевной платочек. «Черт возьми, — пробурчал я, — здесь не хватает только железного кольца с бирюзой и каштановых бакенбард, тогда я бы, пожалуй, забрал весь этот товар оптом. Для старого романтика это может пригодиться!» И что же вы думаете? Старая ведьма, услыхав мое бормотанье, вся расцвела, закивала головой и быстро подняла кружевной платочек. Под ним лежали отличные каштановые бакенбарды, соединенные тесемкой. И тут же на костлявом пальце этой мумии я заметил железное кольцо с бирюзой. Но я ничего не успел сказать, потому что в эту минуту началась очередная базарная облава. Толпы торговцев и покупателей бросились в разные стороны, сталкиваясь и роняя пирожки и ботинки. Со всех сторон неслись отчаянные свистки милиционеров, и всадники эскадрона внутренней охраны республики скакали, как шахматные коньки, по опрокинутым квадратикам ларьков и стоек по диагонали через два в третий. Конечно, я не стал дожидаться и, как подобает старому, закоренелому дезертиру, поспешил скрыться, хотя мне и улыбнулась голубая перспектива завладеть легендарным кольцом. Однако я думаю, что не много проиграл в конце концов. Верно? Мы счастливы, молоды, бедны, как церковные крысы, — значит, в эти железные дни молодости над нами всегда будет влажная, высокая голубизна, и сливы на рынках будут всегда покрыты бирюзовой пылью. Впрочем, к черту бирюзовую пыль! Были бы только сливы, а украсть их при известной ловкости всегда можно.
— Да ты сегодня, старик, в ударе, хоть неточен в исторических фактах и слишком на себя клевещешь. Браво, пират!
— Граждане, — испуганно прошептал появившийся в дверях хозяин, — бога ради, потише. Вы, наверное, хотите, чтобы меня расстреляли. Вот и верь на слово порядочным людям, а еще называетесь поэтами. Нехорошо. Допивайте ваше вино и уходите, прошу вас.
— Успокойтесь, папаша. Сейчас мы уберемся отсюда. Друзья, сегодня нам перепало на троих четыре бутылки отличного сухого эриванского. В наши нищие дни это редкий случай. Три бутылки выпиты. Осталась еще одна. Выпьем за доктора Фауста! Подставляйте стаканы.
— Благодарю вас, господа. Ваше здоровье! — громко сказал внезапно появившийся человек с пледом и в берете, высоко поднял стакан и осушил его одним духом. Потом он бросил на стол железное кольцо и скрылся. Кольцо покатилось по мокрому столу, звеня о стаканы.
— Где он? Держите его! За ним! — закричали мы и вывалились на улицу.
Резкий зеленый свет весенних сумерек и желтая полоса зари полоснули бритвой по пьяным глазам. На улице было пусто. Синий силуэт собора твердо и сумрачно стоял в заре. Пахло свежим морем. Где-то с грозным шорохом падали закрываемые шторы. И в надвигавшейся ночи, в прорезывающихся, как молочные зубы, звездах мимо нас проплывал человек с пледом и пуделем.
— Ба! Ребята! Вот он!
Человек с пуделем шарахнулся в сторону и пустился бежать по пустынной улице, мимо нищих, разграбленных, опечатанных магазинов.
— Не горланьте, ребята. Выпили на грош, а шумите на рубль. Ну-ка, хором.
И все подхватили хором:
— До-брый путь, до но-вой встре-чи, док-тор!
Эхо понеслось по улицам.
— А где же кольцо?
Мы молча переглянулись. Его не было.
— Ну, друзья, делать нечего. Идемте в мою берлогу. У меня в светильнике есть еще часа на три бензина. А Стивенсон — прекрасный писатель для чтения в свободное время. Я хочу прочесть вам «Ночлег». Это замечательная история про одного бандита Франсуа Виллона. Итак — за мной!
Это было в третьем году республики.
1920
Сэр Генри и черт[33]
(Сыпной тиф)
Огненные папиросы ползали по перрону ракетами, рассыпая искры и взрываясь. В темноте толклись зеленые созвездия стрелок и в смятении кричали кондукторские канареечные свистки. Железо било в железо. Станции великолепными мельницами пролетали мимо окон на электрических крыльях. А меня мотало на койке, и вслед за ночью наступала опять ночь, и вслед за сном снился опять сон, но сколько было ночей и снов — я не знаю. Только один раз был день. Этот мгновенный день был моей бледной легкой рукой, которую я рассматривал на одеяле, желая найти розовую сыпь. Но одеяло было таким красным, а рука — такой белой, что, натрудив яркостью глаза, я опять переставал видеть день. На голове лежал тяжелый камень, то холодный, то горячий. Потом меня качало в автомобиле, и резкий сыпнотифозный запах дезинфекции смешивался с бензинным дымом. Углы, дождь, железные деревья и люди моего родного города, которого я не узнавал, вертелись и, раскачиваясь, обтекали валкий автомобиль. И в комнате, где не было ничего, кроме огромного белого потолка, страшно долго лилась в глаза из сверкающего крана единственная электрическая лампочка. Потом сильный и грубый татарин в халате, с бритой голубой головой, скрутив мою слабую шею, драл череп визжащей и лязгающей машинкой, и сквозь душный пар, подымавшийся над ванной, я видел, как падали и налипали на пол мертвые клочья выстриженных волос. И мне было смертельно грустно видеть их; как будто в этих падающих жалких клочьях шерсти по капле уходила моя жизнь. Меня опускали в кипяток и мыли, но воспаленная кожа не чувствовала жара и ноги продолжали оставаться твердыми, ледяными. Меня куда-то несли и качали. Потом все ушли и оставили меня одного бороться и гибнуть в этой разрушительной и непонятной работе, от которой весь я гудел, как динамо.
Тот изумительный осажденный город, о кабачках и огнях которого я так страстно думал три месяца, мотаясь в стальной башне бронепоезда, был где-то вокруг за стенами совсем близко. Сквозь гуденье крови, сквозь туман и жар я видел волшебные опаловые стекла, за которыми цвели удивительные зори и росли каменные городские сады. Там было пламенно-синее море, и розы, и смуглая девочка с японскими глазами играла на пианино перед черной лаковой доской, на которой росли две желтые хризантемы, два японских солнца, золотясь на раскрытых нотах, на крылах белоснежной цапли, собирающейся улететь из смуглых рук гейши. У входа в фешенебельные кабачки на плакатах кривлялись стилизованные короли и арлекины, и от изящнейших женщин пахло французскими духами. Во мраке кинематографов ослепительно били голубые прожектора и призрачная красота светилась и мелькала из белых экранов. Но все это, желанное, было недостижимо, за волшебными опаловыми стеклами. А все враждебное, невыносимое, ужасное было рядом со мною, совсем близко — во мне. Громадные пустынные степи и черное удушливое небо окружали меня. Вороны, распластав крылья, беззвучно летали косо по ветру. Вороные двуглавые орлы в казачьих фуражках, на сибирских лошадях с пиками дикими разъездами кружили в снегах возле меня. А я был беззащитен, а я лежал с оторванными ногами и должен был гибнуть. Никто не мог мне помочь. Ни смуглая влюбленная девчонка с хризантемами и в берете, смутно стоявшая у меня в головах, ни рука, наливавшая вино в белую кружку. Истекая кровью, я переползал страшные рвы и переплывал бурные реки. В высоких безнадежных глухих степях я отыскивал потайные ходы и все полз, полз и полз. Но станция, затерянная в снегах, все так же махала электрическими крыльями и все так же недостижимо пели уходящие в город поезда. Казаки гнались за мной по пятам. Они настигали меня, они били меня нагайками и отнимали у меня мешочек с золотыми обрезками, спрятанный на груди. Я валялся под конскими копытами и молил: «Не отнимайте моего богатства. Пожалейте меня. Я умираю». И самое ужасное было то, что бред для меня был такой же истиной, как и правда, и то, что не было боли. Страшная тоска сжимала в своем железном кулаке мое сердце так, что оно почти переставало биться, и тогда молотки начинали стучать в висках, динамо гудело все сильнее и сильнее, дышать было невозможно, но боли все не было и опаловые стекла горели все так же холодно и волшебно. О, если бы сделалась пронзительная, ужасная, отрадная боль! Она одна могла спасти меня от этих казаков, отнимавших мое золото, мое единственное богатство. Она одна могла разрядить это гудящее страшное напряжение, от которого вздувались во мне какие-то готовые лопнуть трубы. И в тот час, когда я, раздетый, ограбленный и замерзающий, лежал в снегах, ожидая гибели, шум работы, адское гуденье динамо и грохот осеклись и отрадная мертвая тишина стала расходиться от уха, подобно кругам от брошенного камня. И в самой середине, в ухе, в источнике этих кругов вкрадчиво запела тонкая высокая боль, красной струной вытянувшись к лампочке в потолке. Долго пела и колебалась эта струна, и чистая высокая боль возвращала меня к жизни. И когда волшебные стекла потускнели и сделались синими, а лампочка на потолке стала наливаться каленой краснотой железа, боль превратилась в молодого английского студента сэра Генри.
Я прекрасно видел его синий пиджак и белые отвороты рубашки, безукоризненный пробор и выдающийся подбородок, над которым равнодушно торчала трубочка, распространявшая тонкий аромат кепстена. Вместе с тем и сэр Генри и я были нераздельным единым живой боли, которая гнездилась у меня в ухе. И самое ухо стало раскрытым окном буфета искусственных минеральных вод, в глубине которого, мелькая, свистели ремни, шипели машины, тонко гудело динамо и горела лампочка. А сэр Генри сидел на подоконнике, свесив ноги в лиловых чулках, и, презрительно пуская мне в лицо голубые кольца дыма, заглядывая в толстую книгу, зубрил органическую химию. Вероятно, он готовился к экзамену. Его поведение показалось мне оскорбительным.
— Сэр, — сказал я, не вполне владея синтаксисом, — будучи мною самим, вам бы следовало быть более воспитанным. Я не переношу табачного дыма. Кроме того, прошу заметить, что англичане должны уважать русских.
— Хорошо, коллега, не волнуйтесь, — ответил сэр Генри в сторону. — Сейчас мы это все исправим. У вас ничего не болит?
— Конечно, болит, сэр. Ведь вы же и есть эта проклятая боль, которая, как крыса, копошится в моем ухе. Надеюсь, вам это должно быть известно лучше, чем мне.
— Ладно, сейчас увидим.
И не успел я ответить, как сэр Генри ловко соскочил с подоконника и, оказавшись в глубине буфета, стал что-то делать среди мельканий, шипенья и гуда. От его движений шум становился сильнее, машины одна за другой лопались, и боль красной нитью накручивалась на зубчатые колеса, заставляя меня стонать и молить о пощаде. Потом опять заблестела веселая летняя зелень, и чистенькие школьники в пелеринах и беретах с красными помпонами и карманами, набитыми жареными каштанами, высыпали на подстриженную лужайку и столпились у окна, где опять как ни в чем не бывало сидел сэр Генри с книгой.
— Дети, идите сюда! — кричал я. — Не слушайте сэра Генри. Он ничего не знает. Он сам мой ученик. Только я научу вас настоящему и прекрасному, только я спою вам песни, слышанные мною от ангелов. Я научу вас стрелять из настоящих пушек и кричать: «Прицел семьдесят пять, трубка семьдесят пять, первое — огонь!»
Но, вероятно, мой голос был неслышен и неубедителен, потому что школьники обступали англичанина все гуще, пока совсем не закрыли от моих глаз и его самого, и окно, и мелькание машин. Тяжелая обида навалилась на мое сердце. Детям были не нужны мои песни и пушки. Они любили органическую химию.
— Сэр Генри, берегитесь, — закричал я, стараясь перекричать шум. — Берегитесь, я сведу с вами счеты. Слышите ли, сэр Генри! — Но шум был сильней голоса. Тогда я закрыл глаза, чтобы не видеть всего этого, и, изнемогая от смертельной и совершенно незаслуженной обиды, стал ожидать, что случится дальше.
А дальше случилось вот что. От жары и духоты у меня в ухе завелись крысы — целое вонючее крысиное гнездо. Маленькие крысята возились и царапались, а большие крысы тяжело и мягко лежали на дне гнезда. Это было отвратительно. Я изнемогал от жары. Сколько времени возились у меня в ухе крысы, я не знал. Много раз волшебные стекла загорались и меркли. Лампочка на потолке много раз наливалась каленой краснотой, сияла, гасла, и косматая папаха, висящая над моим изголовьем, продолжала цвести такой же черной громадной хризантемой, распространяющей запах козла. А крысы все копошились и копошились, и с каждым часом их становилось все больше и больше.
И вдруг наступил конец мученьям. Послышались знакомые шаги и голос. Несомненно, это был сэр Генри, но, боже, как он постарел! Вероятно, мы не видались с ним лет десять. Теперь он уже не был изящным молодым джентльменом, обучающимся в Оксфорде. Это был поседелый в бурях суровый моряк — капитан разбойничьего брига. Его глиняное лицо, выжженное, как кирпич, тропическим солнцем, смотрело внимательно и приветливо, а черная трубка распространяла тот же знакомый запах кепстена. Все было забыто. Мы опять были друзьями.
— Как вы себя чувствуете, дружище? — спросил он, крепко пожимая мне руку.
— Спасибо, капитан, только меня очень мучают крысы. Они завелись вот здесь, представьте, в самом ухе. Кроме того, у меня казаки отняли золото, все мое богатство.
— Ладно, — сказал сэр Генри, улыбаясь.
Этот добряк с обветренным лицом вынул из-за пояса нож и мгновенно вырезал у меня из уха противное крысиное гнездо, влил в ухо теплой смолы и обвязал голову черным пиратским флагом так туго, что я не мог открыть рта. Боль перестала, и стало хорошо и отрадно.
— А теперь в дорогу, — сказал сэр Генри, и нас окружили пираты с брига.
Шумной толпой мы сбежали по наклонной широкой песчаной дороге к морю. Солнце, только что поднявшееся над горизонтом, било в глаза. Сверкающие ракушки и гравий, остро пахнущие солью и йодом, хрустели под высокими сапогами с раструбами.
Полосатые тенты кафе, где за мраморными столиками люди в белых панамах ели фруктовое мороженое, надувались парусами. И фотограф, изогнувшись перед треножником, моментально снимал бронзовую группу купальщиков, стоящих по колено в воде, на фоне сверкающей ряби. А там, в полумиле от берега, в пламенной синеве, плавал на якоре великолепный разбойничий бриг. «Король морей». Над узорной трехъярусной кормой с квадратными окошками вилась узкая лента вымпела, и белоснежные паруса, полные утреннего бриза, казались сияющими облаками. На утлых шлюпках мы отвалили от берега, и через пять минут «Король морей», рассекая широкой грудью синие свитки волн, увенчанных кудрявой пеной, отплыл к неизвестным берегам.
Пираты пили ром и курили трубки, сидя на бочках с порохом и ящиках с сухарями. Турецкие пистолеты торчали за поясами, и у ног лежали сваленные грудой кремневые мушкеты. Капитан сэр Генри стоял на рубке, вцепившись железными пальцами в поручни, и орлиными глазами смотрел вдаль. Ветер крепчал. Пены на волнах становилось все больше и больше. Облака набегали одно за другим на солнце. Огромное море поднималось темной синевой то справа, то слева, то над кормой, то над носом. И пока ветер свистал в снастях и трепал на средней, самой высокой мачте черный флаг с белой козлиной головой, пираты пели странные, уже когда-то слышанные мною песни, покрывая голосами где-то «органный гул океана».
Наступила ночь. Луна прыгала в черных тучах, волны с грохотом били в корабельные доски. Ванты скрипели, огни святого Эльма голубыми языками мерцали на реях, сэр Генри неподвижно стоял, раскачиваясь вместе с рубкой, на фоне черного неба, а голоса пиратов не смолкали, в тысячный раз повторяя:
Но где-то есть иные области, Луной мучительной томимы, Для высшей силы, высшей доблести Они навек недостижимы.И дружным криком заканчивали:
Пьянство и черт сделали свое дело! Пятнадцать человек на ящике мертвеца Иох-хох-ох, йох-ох-ох - И бутылка рому.Через три дня «Король морей» бросил якорь у берегов чудесного острова, имени которого я не знал. По упругому трапу мы сошли на песок.
Я в изумлении остановился. Такой прозрачности и чистоты я еще нигде не видел. Воздух как будто бы отсутствовал. Самые отдаленные предметы не теряли подлинности своих красок сквозь расстояние. Вода вокруг острова была изумительного фиолетового цвета, и дно просвечивало сквозь нее салатно-шелковой подкладкой. Огромные дубовые столбы, увенчанные медными птицами, были вбиты в дно у самого берега. На всем песчаном острове не было ни одного дерева. Посредине пестрел базар. Здесь под легким холстом навесов и под зонтиками были расставлены струганые дубовые столы. На столах кипели ослепительно начищенные самовары и осколками битого мрамора лежал сахар. Огромные золотые хлебы заставляли гнуться доски столов, и ярко-желтые лимоны горели в стеклянных банках. Хрустальный ключевой кипяток лился из самоварных кранов в прозрачные, как воздух, стаканы, но пар отсутствовал, и женщины в белых бретанских чепчиках делали бутерброды. Я был страшно голоден, но стоял в нерешительности перед чудесной снедью, не зная, в какой стране я нахожусь и можно ли что-нибудь купить за деньги, привезенные мною из Осажденного города.
Тогда, отделившись от толпы, ко мне подошел некий моложавый старик в деревянных башмаках и, почтительно сняв шляпу, сказал:
— Брат мой, если вы голодны, пейте чай и ешьте. Все, что вы видите, к вашим услугам.
— Благодарю вас, — ответил я, — но я нахожусь в затруднительном положении, потому что не знаю, действительны ли у вас деньги, привезенные из Осажденного города.
— Деньги? — удивился старик. — Я не знаю, о чем вы говорите. Если о тех бумажках и кружочках, которые так бережно носят на груди матросы с вашего брига, — то это не нужно. На нашем острове каждый голодный подходит к столам и ест столько, сколько ему нужно для утоления голода. А этого у нас и без того сколько угодно, — прибавил старик, презрительно показывая деревянным башмаком на песок.
«Это безумие!» — хотел воскликнуть я, но мой взгляд упал на песок острова, и я побледнел от счастья. Так вот зачем привез меня сюда добрый капитан Генри. Песок был из чистого золота.
Придя в себя от изумления, я взглянул на моложавого старика. Он был тоже бледен и, сдерживая волнение, смотрел на мои высокие запыленные сапоги.
— Брат мой, — начал он в смущении прерывающимся голосом. — Брат мой, простите мою дерзость, но не позволите ли вы взять с ваших сапог немного этой драгоценной земной пыли? У нас на острове ее совершенно нет, а ведь это очень редкая и драгоценная вещь...
— Ради бога! Возьмите сколько угодно, — забормотал я в смущении.
Сейчас же меня окружила толпа обитателей странного острова. Припав к моим ногам, мужчины и женщины с жадными лицами стали осторожно собирать с моих сапог пыль, дрожа и волнуясь, заворачивая ее в тонкую бумагу.
— О, дайте нам вашей пыли, — говорили они певучими голосами, в которых звучала смертельная тоска. — О, дайте нам вашей земной пыли, ведь на нашем проклятом острове нет ни единой пылинки, ни единой пылинки. Ах, как невыносимо скучно и пусто без пыли. Дайте нам хоть щепотку пыли из Осажденного города.
А я забыл голод и не мог отвести глаз от огромного количества золота, рассыпанного вокруг. Через минуту на моих сапогах не было ни одной пылинки. Тогда я сказал:
— А вы, позволите ли вы взять с собою немного песку с вашего Острова?
— О добрый друг, — раздались голоса обитателей Острова. — Берите нашего песку сколько угодно, и да будет с вами мир.
В этот миг прозвучал голос капитана Генри:
— Скорей собирайтесь, друзья, больше оставаться на берегу нельзя ни минуты. Сейчас начнется отлив, и мы рискуем посадить корабль на рифы.
Пираты с брига торопливо втаскивали на корабль мешки, набитые золотом. Паруса распускались. Белая круглая магнитная луна всплывала над морем.
Сэр Генри бросил мне мешок и сказал:
— Поторопитесь, дружище. Сейчас мы снимаемся. На первый раз этого вам хватит.
Сдирая с пальцев ногти, кусая губы, я стал набивать мешок золотым песком, и едва успел, надрываясь под непосильной ношей, шатаясь, взойти по трапу, как якорь подняли.
Страшная буря разыгралась в эту ночь в океане. Мачты валило. Порыв ветра сорвал у меня с головы пиратский флаг, и из уха хлынул зловонный гной, пахнущий крысиным гнездом.
Потом наступило небытие.
Потайной фонарь луны освещал темные живые тучи над Осажденным городом. В темноте средневековых переулков колебалось пламя стенных решетчатых фонарей. Тяжелые низкие ворота были плотно закрыты на засовы. За каждым углом прятались негодяи в широкополых шляпах, скрывая в складках плащей ножи и кастеты. Они подстерегали меня, желая ограбить. А я, перебегая от дома к дому, скрываясь в нишах незнакомых ворот, тащил в мешке золото из гавани на край города, к своему лучшему другу, чтобы он переплавил золотой песок в слитки и надежно припрятал его. Это был верный и преданный друг. Ему одному верил я среди предателей, негодяев и разбойников, кишевших вокруг меня, как бактерии какой-то невероятной болезни, еще более страшной, чем бубонная чума.
Опасным и тяжелым был этот далекий путь в предместье. Лишь незадолго до рассвета достиг я низких окон, плотно закрытых дубовыми ставнями с вырезанными на них сердцами. Над тяжелыми воротами висела подкова. Я постучал условным стуком, и меня впустили.
О, как постарел мой лучший друг! Теперь он был похож на алхимика. Вероятно, со дня нашей последней встречи прошло немало лет. Неужели и я стал таким же суровым и строгим?
Но каждая минута была на счету. «За дело», — сказал я, в двух словах объяснив другу все. Через озаренный низкой луной двор мы прошли в кузню, и до самого утра в кузне свистели мехи и гудел горн, в котором, багрово светясь, плавился песок с удивительного острова. Так как скоро в Осажденный город должны были вступить враги, то было решено расплавленному золоту придать форму спасательных кругов, выкрасить белой краской и, надписав на них «Король морей», подвесить к потолку кузни, чтобы неприятельские солдаты не отняли моего золота, моего единственного богатства.
С первыми лучами солнца все было готово. Блестя свежей краской, спасательные круги висели под закопченным потолком кузни, и слова «Король морей» звучали, как эпитафия.
Оставаться дольше было нельзя. Итак, мне суждено было расстаться со своим золотом. В последний раз посмотрев на него, я выбежал.
Уже вокруг стреляли пушки, скакали всадники и падали стрелки. Пуля, пропев пчелой, бегло ужалила меня в ухо, и я застонал. «Скорей, скорей в гавань, на борт «Короля морей». Капитан спасет меня от солдат, ворвавшихся в город. Он увезет меня на чудесный остров, где люди не знают пыли. Никто не посмеет тронуть меня, если на средней, самой высокой мачте будет трепетать черный флаг с белой козлиной головой».
Но было поздно. Пропало все — и золото, и капитан Генри, и чудесный остров.
Лампочка под потолком горела просто и понятно, как всякая электрическая лампочка в темную зимнюю ночь. В темноте окон вспыхивали и передвигались фосфорические полосы прожекторов. Стекла сотрясались и звенели от проезжавших на улице грузовиков.
Тишина жужжала в ушах, и тяжелое страшное ожиданье чего-то заставляло напрягаться все мои нервы.
Я в смятенье смотрел на полуоткрытую дверь и ждал того, кто должен был войти. О, если бы это был мой добрый старый капитан, сэр Генри! Он избавил бы меня от тяжести и напряжения, он увез бы меня на своем бриге на чудесный Остров Золотого Песка, по пламенной синеве моря.
И вот в коридоре зазвучали шаги. Я с трудом поднял голову с подушки. Дверь распахнулась, и в палату вошел деловой походкой черт. Это был очень приличный, приятный черт в черном сюртуке и белых манжетах. Он улыбался. Ужас охватил меня.
— Сэр Генри! Сэр Генри, сюда, на помощь! — закричал я и выстрелил в черта из кольта, с которым не расставался никогда: ни наяву, ни в бреду. Черт ловко увернулся от пули и обратился доктором.
...В палату ворвалась сиделка...
Вокруг меня и в меня хлынул звон, грохот и смятенье. И чей-то знакомый и незнакомый, страшно далекий и маленький (как за стеной) голос сказал то ужасное, короткое и единственное слово, смысл которого для меня был темен, но совершенно и навсегда непоправим.
1920
Бездельник Эдуард[34]
I. Боги жаждут
История женитьбы моего приятеля Эдуарда Точкина столь же проста, сколь и забавна. Мне кажется, о ней стоит кое-что рассказать.
Но уж если рассказывать, так рассказывать, не боясь преувеличений и метафор — в духе того чудесного, романтического времени.
Он был страшно беден, этот долговязый поэт, попавший в переделку неожиданных событий. Страшный лентяй, плут и авантюрист, он был достойным учеником своего легендарного учителя, славного мэтра Артюра Рембо. И хотя ему не суждено было торговать неграми, он не без успеха занимался другими делишками в том же духе.
Октябрь нашей революции пришелся ему по вкусу. Он воскресил в своем пышном воображении романтические тени Демулена, Робеспьера и Марата, столики Пале-Рояля, якобинский клуб и карманьолу, — словом, для него это были «Боги жаждут». Вообще мы все тогда бредили Франсом. Целый день он проводил на улице или в греческих кофейнях, кривых аквариумах, наполненных голубой водой табачного дыма. Звук пулемета приводил его в восторг. Начальники Красной гвардии вселяли в его сердце подобострастную зависть своими офицерскими рейтузами и полированными ящиками маузеров, висевших на круглых задах. В каждом коренастом матросе Черноморского флота с оспенным лицом, отлично и грубо сработанным из орехового дерева рашпилем и долотом, он видел необыкновенного какого-то вождя, особенно если этот матрос пролетит мимо, растянувшись на заплеванном крыле реквизированного грузовика, с выставленным вперед бушпритом карабина.
Город, пропитанный резкими колониальными запахами, город, видевший на своих площадях оккупационные войска более чем шести европейских держав, город трескучих десантов и кинематографических переворотов, контрразведок, тайных типографий и взорванных железнодорожных мостов был его стихией.
И только иногда по вечерам, при нищем пламени керосиновой лампочки, в ледяной кухне, он писал, слюня карандаш, поверх торговых записей отца, в засаленной, как колода кучерских карт, общей тетради романтические стихи о революции отличным пятистопным ямбом, с цезурой на второй стопе.
II. Эдуард хотел есть
Однако революция, начавшаяся столь возвышенно, привела с собой суровые дни испытаний, борьбы и голода. Окруженная врагами, испытывая каждую минуту новые и новые потрясения, республика, не имея возможности заботиться о мирных гражданах, отдавала все свои силы армии. Суровый режим военного коммунизма, несмотря на всю тяжесть, был неизбежен.
На третий год республики, однажды ночью, в последний раз пыльные радиусы французских прожекторов обвели военное небо и в последний раз морские пушки показали красные языки городу, в который входили советские авангарды. Ночь, простроченная во всех направлениях пулеметами, была поднята на неожиданные ножи, и наутро выброшенные из гавани пароходы эмигрантов погружались на горизонте в мешанину синевы неба и моря дымящейся кучей шлака.
В том же году отец поэта умер от астмы и огорчения. Бедный старик не мог примириться с потерей лавочки. Проплакав о муже надлежащее количество дней и ночей, мадам Точкина прежде всего приняла меры, чтобы оградить свое скромное имущество от покушений Эдуарда, так как, воспользовавшись первыми днями траура, он уже успел кое-что распродать старьевщикам.
Прежде всего она заперла в сундук серебряные ложки и подсвечники, медный тазик и беличью ротонду, эту почтенную фамильную драгоценность. Ключ от сундука она повесила между тощих грудей. Таким образом, Эдуард, строивший свое дальнейшее благополучие именно на этой беличьей ротонде, временно, до смерти матери, остался без почвы и принужден был, чтобы не умереть с голоду, поступить на службу. В самое короткое время он перепробовал изрядное количество профессий — от собственного военного корреспондента радиотелеграфного агентства до заведующего красноармейским клубом. Но отовсюду его выгнали, так как ни на какую работу он не годился. Он умел лишь писать великолепные стихи. Но они-то как раз никому и не были нужны.
Дома ничего съестного не водилось, так как мадам Точкина столовалась у родственников. Эдуард голодал. Это не был традиционный студенческий голод, то есть сколько угодно чаю, булок и вареной колбасы, о котором так любили писать русские романисты 80-х годов. Это не был голод нищих и калек. Нет, это был безнадежный, абсолютный голод, от которого кружилась голова и слабели ноги.
Съесть полфунта колючего хлеба было для него счастьем, а посидеть в теплой комнате — невероятным, сказочным сном.
III. Но он не унывал
Между тем валила зима. Ветер свистал в обледенелых обломках дач. Косматое сине-зеленое море ходило и раскачивалось тяжелыми горбами, разбиваясь вдребезги о волнолом и вскипая пеной, которая летала чайками над голыми эстакадами и хоботами подъемных кранов. Население окраин рубило по ночам деревья, выкорчевывало лимонные твердые корни акаций, ломало дачи и заборы, срывало ставни и лестницы. И громадные осенние созвездья, раздуваемые ледяным вихрем, пылали и переворачивались в железном небе.
В ту пору Эдуард ходил в коротеньком летнем пальто, в альпийских солдатских башмаках, пряча красный слезящийся нос в наставленный воротник и легонький белый шарф. Он носил брезентовые штаны, грубые, как цинк, и свистящие, как ножи доброй деревенской кухарки, когда она точит их друг о друга, готовясь резать поросенка.
Он говорил:
— Ничего, старуха долго не протянет, и тогда я заживу на славу. Ведь беличья ротонда чего-нибудь да стоит на базаре.
Если ему удавалось обмануть бдительного часового и кассиршу, он проникал в красноармейскую чайную и с жадностью пил мыльный кипяток из ржавой консервной кружки с рваными краями, осторожно прижимая языком к нёбу полученную вместе с куском мокрого хлеба безвкусную стеклянную конфетку. По вечерам он до самого закрытия сидел в читальне красноармейского клуба, наслаждался бесплатной теплотой и Киплингом. Он беззаботно измышлял самые невероятные комбинации, чтобы достать хоть немного еды. Я мог бы рассказать о том, как он обольстил девицу, подающую обед в коммунальной столовой, чтобы получить лишнюю порцию каши, или о том, как он проник в контрреволюционное подполье, где в течение двух недель тянул таинственные деньги с пылкого, но слишком глупого капитана, вскоре, конечно, расстрелянного.
Однако, несмотря на все эти бедствия, он не унывал. Напротив, он был неизменно весел. Его чудовищная фантазия «пирата и варвара» беспрерывно работала, фабрикуя остроты и эпиграммы, которые немедленно подхватывались и повторялись всеми. И добрый буржуазный бог, вынужденный под влиянием коммунистической пропаганды эмигрировать за границу и жить за счет английского короля, великолепный, кудластый и справедливый старик, тот самый, что и «птичку кормит в поле, и росой поит цветок», изредка посылал бродяге-романтику ангела-хранителя. Иногда этот ангел-хранитель являлся в виде академического пайка, иногда он принимал форму доброго духа — художника или поэта.
И вот однажды...
IV. Надеюсь, ты не откажешься от...
Встреча приятелей произошла на базаре, возле крытых рынков, похожих на закопченный швейцарский вокзал, в зернистой толпе покупающих и продающих, смеющихся, умоляющих, кричащих, сдавленных, голодных и сытых людей. Там отощавшие генералы с бледными, но благородными лицами подсовывали прохожим трогательные несессеры и ридикюли, там лиловые от холода босяки летали, распятые на полотняных крестах рубах, там выдергивались из толпы голенища и головки краденых сапогов, стреляли в глаза обручальные кольца и монограммы и везде тасовались и раздавались колоды бумажных денег.
На сей раз ангелом-хранителем оказался молодой лирик, — автор флорентийских поэм, — стяжавший себе завидную популярность у городских барышень, друг Эдуарда. Он озабоченно продавал юбку английского шевиота, еще пахнувшую духами и смутно напоминавшую щелканье крокетных шаров и дачный скрип гамаков.
Эдуард держал в окостенелых руках черную раму отцовского портрета.
Они столкнулись плечом к плечу над потертой спиной близорукого прокурора, искавшего потерянное пенсне.
— А, старик! — воскликнул Эдуард. — Давно я тебя не видел. Где тебя носили черти?
— Полковник, я женюсь, — чопорно отвечал лирик.
— Прекрасно! Я вижу, вы бойко распродаете имущество своей невесты. Мрачное зрелище. Советую скорей закончить эту гнусную операцию, и поспешим в «Золотой якорь», где, как вам известно, водится белый хлеб и отличный китайский чай.
— Извините, сэр! Я не могу этого сделать. На мне лежат обязанности. Я, как единственная опора семьи...
— Паршивая опора, — буркнул романтик.
— Вот что, старик, — после некоторого молчания сказал лирик, — приходи сегодня в семь часов вечера. Я думаю, ты не откажешься от доброго старого кофе и коржиков с повидлом, которые так чудесно приготовляет моя... подруга. Идет? Я живу у нее.
— О маркиз!.. Могу ли я...
И через пять минут Эдуард узнал, что его приятель сошелся с прелестной девятнадцатилетней шатенкой, что у шатенки есть сестра, которая служит в очень выгодном продовольственном учреждении, что в комнате стоит железная печь, что жизнь прекрасна и что у очаровательных сестер есть еще очень много непроданных вещей.
Он узнал все.
V. Боже! А вещей-то! Вещей!
Эдуард не заставил себя ждать. Ровно в семь часов вечера — или даже немного раньше — он впервые переступил порог этого теплого рая, где от накаленных суставов железной печки исходил упоительный зной. Он держал под мышкой створку дубовой двери.
Он сказал:
— Коржики уже готовы? Если у вас не хватает дров, предлагаю эту сосенку, срубленную в соседнем лесу.
С этими словами романтик положил дверную створку на стул.
Согласитесь, что это было для первого визита довольно галантно.
Его высокий рост, мрачная «наружность убийцы», капелька под носом и брезентовые штаны произвели довольно большое впечатление на дам. Покуда он разматывал шарф, сопя носом и деловито разглядывая обстановку, молодые женщины рассматривали его кукольными глазами, полными суеверного страха. Одна из них, скромно зачесанная, толстенькая, с розовыми ушками, похожая на большую маленькую девочку в пенсне, мыла посуду, а другая, пылающая у плиты лиловыми и белыми кусками бального платья, со смуглыми обнаженными руками и завитками распущенных волос, всем своим видом выражала то сложное чувство первого сближения, гордости, счастья, скромности и нежности, которое позволяло с полной уверенностью считать именно ее счастливой подругой лирика.
Сам лирик сидел у окна в кресле, в глубине комнаты, заставленной до отказа множеством разнообразных вещей. Здесь был туалетный столик в чистеньком крахмальном кринолинчике из ситца, и важная швейная машина, и занавески, и гипсовые тарелки с английскими головками, и стулья, и шкафы, и пальто на вешалках, хрусталики, флакончики, пилочки и полосатые шляпные картонки, перевернутые и озаренные зеркалами. Посредине гудел синей рваной короной примус, и от этого, а также от никелевой кровати и от общей загроможденности вся комната отчасти напоминала велосипедную мастерскую.
«Боже, а вещей-то, вещей! — подумал романтик. — За сто лет не перепродашь всего этого добра. Это тебе, брат, не беличья ротонда».
Он был представлен сестрам. Отвыкший от светских манер, сперва он чрезвычайно стеснялся. Привычка сопеть носом, которую он не замечал в другое время, теперь приводила его в замешательство и заставляла держаться преувеличенно развязно. В отчаянии он напускал на себя мрачный пафос и, отдуваясь после каждой фразы, возбужденно лгал о своем путешествии в Персию и о страстных соловьях Гафиза.
Впрочем, поспевший кофе восстановил равновесие и положил основание прочной дружбы...
После кофе мужчины закурили пайковые папиросы. Симочка подсела на клеенчатый диван к своему лирику, и они долго полулежали, опутанные голубоватым табачным дымом. Наступал вечер. Окна просинели. Эдуард сидел в глубоком кресле, протянув тощие ноги к печке, и красные глянцевитые огонечки отражались в его глазах. Старшая сестра Лида скоблила сковородку. Она была хозяйкой комнаты. Потом она запалила бензиновый светильник. Четыре ярких коготка рванулись над тонкой трубкой, воткнутой в пробку горчичной баночки. Всю комнату оплело тончайшей смугло-золотой паутиной. Скреблась мышь. Из кухни тянуло ледяной цвелью.
Посидев полчаса, романтик нехотя поднялся. О, как ему не хотелось уходить на улицу, в темноту и холод! Его не удерживали. Вслед за ним в переднюю выбежала Лида и сунула ему в карман пачку папирос.
— Пожалте ручку, — сказал Эдуард.
Она протянула руку, которую романтик неловко клюнул.
— До свиданья, приходите к нам еще! — закричала она, наклоняясь над перилами.
— Спасибо, графиня! — буркнул романтик.
VI. Эдя, останьтесь, Эдя, не глупите!..
На следующий день романтик пришел опять. На этот раз он принес спинку венского стула. Он сказал:
— Вот. Еще одна сосенка. Топливо, знаете ли...
На этот раз он был чисто выбрит и очень любезен. Он необыкновенно острил, читал стихи, рыча и стреляя слюной, рассказывал забавные истории и подражал птицам. По временам его серые глаза задумчиво останавливались на разных вещах, и тогда казалось, что его занимает некая очень настойчивая главная мысль.
Пили кофе, курили и сидели при свете бензинки.
Романтик смотрел на Лиду серыми глазами, и эта толстенькая розовая девочка в пенсне, серьезная и озабоченная, у которой над туалетным столиком висел большой портрет покойного мужа, с материнской нежностью смотрела на голодного поэта, подавала ему папиросы и пришила пуговицу к пальто. С приближением вечера здоровье романтика быстро надломилось. Сначала он стал кашлять. Потом заявил, что у него жар. Потом схватился за голову и умолк. На все вопросы он мычал. Потом он посмотрел вокруг оловянными, страдающими глазами и потребовал аспирина. Через десять минут он нетвердо встал, сделал, шатаясь, два шага и заявил, что уходит. Его стали отговаривать от такого безумия. Он же упрямо натягивал пальто.
— Старик! — сказал лирик. — Ты сошел с ума! Оставайся ночевать. Мы тебя как-нибудь устроим.
— Глупости! Я не хочу вас стеснять.
— Эдя, что вы! Останьтесь, — сказала Симочка.
— Нет, нет, я пойду... Я как-нибудь доберусь. Хотя, вероятно, я в дороге упаду.
— Эдя, останьтесь, Эдя, не глупите! — умоляюще просила Лида, крутя пустой рукав его наполовину одетого пальтишка.
— Нет, нет! Я ни за что не останусь! Напрасно вы меня просите. Кроме того, куда же вы меня положите?
Его уговорили, ему обещали устроить постель на трех стульях за шкафом. Оставшись, романтик повеселел и почувствовал себя лучше. Долго еще все разговаривали, а потом начали укладываться. Лирик с подругой легли на клеенчатый диван. Это был верный друг, не так давно вынесший на себе сладкую тяжесть их сближенья. Лида легла на свою, слишком широкую для одного, кровать, пружинный матрас которой еще очень хорошо помнил грузный вес военного врача. Свет был потушен. Стесняясь друг друга и шепчась, все стали раздеваться. Послышался стук сбрасываемых башмаков, шелест юбок и шорох тел, закутывающихся в одеяла. Потом наступила тишина, и в этой тишине и темноте еще долго беззвучными мотыльками порхали, кружились те еле слышные звуки поцелуев и объятий, которые всегда окружают сон начинающих любовников. Лида долго ворочалась на своей слишком широкой постели, и пружины матраса иронически позванивали и хрустели под ней. Эдуард грубо гремел стульями за шкафом и ворчал:
— Пр-р-рохвостово ложе...
Печь погасла. Февральская ночь тянулась долго. С каждой минутой в комнате делалось все холодней. Синеньким светом наливалась комната, полная шорохов и вещей. Теплее всех было лирику с подругой.
На другой день, проснувшись в полдень, лирик был поражен странным, но трогательным зрелищем. Эдуард, плотно закутанный в голубое стеганое одеяло, мирно спал на широкой докторской постели, сопя во сне. Лиды не было; как видно, она ушла на службу.
— Вставай, вставай! — удивленно закричал лирик. — Как ты сюда попал, старик?
— М... м... — промычал Эдуард, переворачиваясь. — В чем дело? Уже пили кофе?
— Ты как сюда попал? Вставай! Уже двенадцать часов.
— Чего ты вопишь? В чем, с-с-собственно, дело? Лидочка на службе, а я перебрался к ней на ложе, так сказать. Н-не по-ни-маю.
— Вставай. Не собираешься же ты оставаться здесь всю жизнь.
Эдуард неопределенно зевнул. Конечно, он не собирался остаться здесь всю жизнь, но покуда он еще немножко полежит. Он еще очень плохо себя чувствует. У него, вероятно, жар, и вообще он просит оставить его в покое. Пока. А потом будет видно.
Лирик стал молча одеваться. Кофе, сваренное Симочкой, Эдуард потребовал в постель. Ему дали. Затем он потребовал книг. Ему дали книги. Затем Симочка отправилась на базар продавать очередную простыню, чтобы накормить своего лирика обедом. Лирик взялся за карандаш. Эдуард читал. В четыре часа вернулась Лида. Она была розовая, и глаза ее смущенно косили. Прежде всего она взглянула на свою постель.
— Эдинька, — сказала она. — Вы уже проснулись? Вам удобно?
— Как рыбе об лед.
— Хотите, я сварю вам каши?
Эдуард сделал кислое лицо.
— Знаете, — буркнул Эдуард, — знаете, кашка, конечно, вещь хорошая, но у меня такая болезнь: я не ем жидкой пищи. Органически.
— Что же вы едите?
— Брынзу, — кратко ответил Эдуард.
— Но ведь брынзы нет, за ней надо идти в лавочку.
— А вы, Лидочка, пойдите.
И, сделав милую гримасу, которая должна была изобразить капризного младенца, Эдуард, этот «старый пират», просюсюкал:
— Эдя не хочет кашки. Эдя хочет брынзу.
Лида покорно надела темный вязаный платочек и пошла в лавочку. Лирик и Симочка переглянулись. Эдуард хладнокровно читал.
За обедом все долго молчали. Наконец Симочка, у которой от удивления перестали закрываться глаза, тихо, но настойчиво сказала Лиде:
— Лида, что это значит?
Лида ничего не отвечала. Эдуард читал.
VII. Ты и на Лиду так кричишь?
Излишне прибавлять, что с этого дня Эдуард плотно осел и пустил прочные корни в гостеприимной почве.
Первые три дня он совершенно не вставал с докторской постели, с утра до ночи читал романы Стивенсона, отрываясь от чтения лишь для еды.
Он вознаграждал себя за долгие лишения.
В конце четвертого дня в комнату вбежала худая дама с бледным, значительным, как бы вечно повернутым в профиль птичьим лицом. Она быстро отыскала припухшим глазком Эдуарда и быстро заговорила тем хлопотливым, индюшечьим языком, которым говорят почти все пожилые матери в нашем городе:
— Эдя, ты здесь, Эдя? Почему ты здесь? Почему ты не являешься третий день домой? Что это значит? Ты, наверно, ничего не кушал? Тебе здесь что-нибудь дают кушать?
Мадам Точкина опытным взглядом обвела комнату и остановилась на Лиде. Почему она не остановилась на Симочке? Почему она не остановилась на лирике? У нее был хороший нюх, у этой старой мамы.
— Вы даете Эде молоко? Эде нужно питаться. Он совсем больной человек. Что он сегодня кушал?
— Брынзу, — робко ответила Лида.
Мадам Точкина немного успокоилась, но все-таки ворчливо заметила:
— А молока он не пил? Ему надо молоко. Эдя тебе надо молоко. Вот я принесла тебе молоко, Эдя! — Она вынула из рыжей муфты бутылку зеленого молока. — Это молоко, Эдя, для тебя. Никому его не давай. Конечно, я знаю, каждому хочется молока. Эдя, ты добрый, товарищи всегда пользуются твоей добротой. Ты готов с себя последнюю рубашку снять. Но это молоко ты никому не давай. Это молоко исключительно для тебя. Слышишь?
И мадам Точкина строго посмотрела на Лиду.
— Имейте в виду, что молоко должен пить один Эдя. Слышите?
— Слышу, — виновато ответила Лида.
— Уй, мама! Ты мне уже надоела, — свирепо закричал Эдуард.
— Какой сердитый, подумаешь, — ласково сказала Эдина мама. — Ты и на Лиду так кричишь? Хе-хе!
На прощанье она потрепала Лиду по щеке.
— Какая вы молоденькая! Так вы же берегите Эдю. Эдя хрупкий. Он совсем как его покойный отец.
Затем Эдина мама и Лида поцеловались. Это был вполне исторический момент.
Так началась семейная жизнь моего друга Эдуарда Точкина, первого мастера южнорусской романтической школы, ученика Артюра Рембо, бродяги, лентяя и авантюриста, как он любил сам себя называть, явно преувеличивая как свои достоинства, так и недостатки.
VIII. Лидуся, киця, брось службу!
Он таки настоял на своем. Он заставил ее бросить службу. Конечно, он не требовал и не приказывал. Для этого он был вначале слишком осторожен. Он просил. Он отрывал от страниц Стивенсона свои серые героические глаза и молил. Наконец, он ласково похлопал подругу по плечу и скривил в улыбку свой большой беззубый рот (собственно, выбит был у него лишь один передний зуб, но никто с первого взгляда не мог определить, один ли у него зуб вообще или только одного зуба не хватает). Он говорил:
— Лидуся, киця, девочка... Брось службу!
— Что ты, Эдинька? — испуганно воскликнула Лида, кося сквозь пенсне черными глазками. — Что же мы будем тогда есть? Ведь мы умрем с голоду.
— Лидуся! Обезьянка! Ну, я тебя прошу. Мы не пропадем.
— Да что ты, Эдинька! Подумай сам. Ты ведь у меня умный.
Но не такой был человек Эдуард Точкин, чтобы дать себя уговорить женщине. Он деловито сопел.
— Я уже все обдумал.
При этом он втаскивал на тощие колени тяжеловатую подругу, ласково чесал у нее за ухом и мечтательно говорил:
— Слушай, синичка... Ты бросишь службу и будешь заниматься хозяйством. Ты будешь жить исключительно для своего маленького капризного мальчика. Не правда ли, это будет чудесно? Во-первых, ты будешь гладить мне брюки. Во-вторых, готовить обед. В-третьих, ходить на базар. А я буду работать: мужчина всегда должен работать. Конечно, покуда найдется работа, можно будет продать кое-что из вещей. — Он обводил комнату опытным взглядом и продолжал: — Но ты, трясогузочка, не беспокойся! Так будет только первое время. Впоследствии я буду зарабатывать столько, что нам вполне хватит на сытую жизнь. По утрам мы будем пить кофе с сахарином (надо быть экономными). К обеду ты будешь жарить на постном масле уйму картошки. И, конечно, надо будет покупать брынзу. Без брынзы я не могу. Максимум четверть фунта — этого с меня хватит...
Он развертывал перед ней упоительные картины семейной жизни. Рассказывал о своих друзьях, таких же, как и он, бродягах, авантюристах-художниках, поэтах и просто шутниках, и о том, как они будут угощать их чаем с пирожками.
Неизвестно, что влияло на нее больше: его красноречие или варварские нежности. Она сдавалась, слабо протестуя:
— Эдинька, но чем же ты займешься? Где ты достанешь работу? А без нее мы обязательно умрем с голоду.
— Уй, Лидуся, какая ты глупая! Клянусь тебе честью, что мы голодать не будем. Подойди на улице к любому мальчишке-папироснику и спроси: «Скажи мне, мальчик, голодал ли когда-нибудь Эдуард Точкин?» — и мальчик тебе ответит: «Нет, Эдуард Точкин никогда не голодал». Я напишу поэму белым ямбом о трактире, о еде, о судьбе поэта и о многих хороших вещах, а это чего-нибудь да стоит. Наконец, я буду работать по агитации. Я буду, черт возьми, заведовать клубом — гарантированных два фунта хлеба в день и каждый месяц красноармейский паек.
Пауза.
— Ну, Лидуся, брось службу. Обезьянка, не упрямься.
Лида сдалась.
Она бросила службу и с героической покорностью начала распродажу вещей.
IX. Эдуард расцвел пышным цветом, но...
Затем Эдуард завел свои порядки. Он требовал, чтобы ему не мешали читать, не мешали спать, не мешали думать и не мешали курить. Он стал капризен и невыносим в общежитии. Он отравлял жизнь лирика и Симочки. Но так как комната принадлежала Лиде и так как совершенно потерявшая голову Лида заботилась о спокойствии своего Эдика с усердием, достойным лучшего применения, лирик и Симочка быстро увяли и во избежание ссор принуждены были переселиться в другое место.
Затем Эдуард заявил, что у него «лицемания» и что он вообще никого не может видеть.
После этого Эдуард расцвел пышным цветом.
Ни о какой работе, конечно, не было и речи.
Лида самоотверженно носила на базар свои тряпки, гладила брезентовые штаны, стирала, стряпала, читала вслух Стивенсона и с каждым днем все больше влюблялась в своего повелителя.
Эдуард принимал это как должное. Он был твердо уверен, что добрый романтический бог вознаграждает его за все испытания и трудности прежней нищей жизни. Он был почти безмятежно счастлив. Однако некий червь медленно, но упорно точил его сердце. Беда приближалась.
Первые признаки катастрофы были так неуловимы и ничтожны, что человек, не посвященный во все тайны психики этого чудака, не обратил бы на них ни малейшего внимания. Но друзья, знавшие Эдуарда как свои пять пальцев, заранее ужасались.
Бедняги! Они и не предполагали размеров беды. Это было поистине нечто стихийное.
Началось с того, что однажды Эдуард, надев халат и туфли покойного доктора, подошел к окну. Вид у него был крайне озабоченный. Он долго простоял у окна, с очаровательной нежностью следя за возней воробьев и за лётом грузных ворон. При этом он посвистывал.
На другой день, не говоря ни слова, он сходил домой к матери и принес оттуда «Жизнь животных» Брэма. Весь вечер он провел в сосредоточенном чтении.
Затем как-то вскоре он сказал Лиде:
— Лидуся, птичка моя! Дрозд мой! Красноголовая славка!
Тогда она, покраснев и ласково косясь, взяла его, как большую добрую собаку, за уши и, прижавшись к его худой щеке, сказала:
— Эдинька, мальчик мой! Разве я такая уродка, что похожа на птицу? Я ведь толстенькая. Или ты меня уже разлюбил?
— Ах, Лидочка, ты ничего не понимаешь. Молчи лучше. Нет ничего на свете приятнее птиц. Когда мы разбогатеем, мы купим себе много клеток и птиц. Не правда ли, это будет превосходно?
И с угрожающим жаром и красноречием, брызгая слюной, божась и клянясь всеми своими органами и предками, он начал описывать прелести птиц. Он говорил о том, как поет дрозд, что любит кушать красноголовая славка, каков нрав у пожилого щегла и как мила молоденькая синица. Он рассказал уйму анекдотов из жизни чижей и сорок, уверяя, что бывают скворцы, знающие назубок таблицу умножения. Он утверждал, что без птиц жизнь человека теряет соль и значение. Он подражал птицам, свистал, верещал, хлопал воображаемыми крыльями, чистил клювом перья, даже как бы делал попытки летать.
Растроганная его волнением, Лида смотрела на него влюбленными глазами и гладила ему голову.
— Эдинька, какой ты смешной мальчик! Неужели ты до такой степени любишь птиц? А я этого не знала. Ну, хорошо, вот мы продадим мое старенькое серое платье (помнишь, то, с черной вышивкой), и я куплю тебе птичку. Хочешь, Эдинька?
— Уй, Лидочка! Ты у меня гений чистой красоты. Обязательно купи птичку. Эдя хочет птичку.
— Мальчик мой!
С этого дня Эдуард стал поговаривать о птичке.
И вот однажды серенькое платье с черной вышивкой было продано. В комнате появилась отличная клетка с птицей. Что это была за птица, определить было невозможно. Вид у нее был чрезвычайно затасканный и пощипанный. Кроме того, у нее был наполовину выдран хвост. Ни слуха, ни голоса у этой мрачной птицы не было. Звук, который она производила, царапая клювом по решетке, был отвратителен. Но Эдуард ею восхищался. Он утверждал, что это какая-то очень редкая разновидность дрозда. Он наливал противной птице воду, подсыпал конопляного семени, подмигивал ей, свистал, просовывал за решетку палец и любовно постукивал по свирепому грязному клюву.
— Подождите, она скоро запоет. Я буду не я, если она не запоет. Уж я-то отлично разбираюсь в птицах.
— Эдинька, — говорила Лида смущенно, — может, было бы лучше купить канарейку? Она бы у нас пела.
Эдуард немедленно впадал в ярость. Он брызгал слюной и шипел:
— Уй, Лида! Не раздражай меня. Ты ничего не понимаешь в птицах. Что может быть гнуснее канарейки? Канарейка — самая мещанская птица. Уж я-то знаю, что говорю. А это очень редкий экземпляр дрозда.
Лида умолкла.
X. Он поступил на службу
Вскоре Эдуард поступил на службу в ЮгРОСТА. Она оказалась единственным учреждением республики, где его чудовищная фантазия могла найти применение.
Первые его шаги на новом поприще были неописуемы.
Сначала его назначили стихотворным фельетонистом стенной газеты.
Граждане, имевшие удовольствие жить в период второго и третьего года республики на юге, вероятно, хорошо знают, что такое стенная газета ЮгРОСТА. Распространяться о ней нет никакой надобности. Граждане же, не имевшие удовольствия провести вышеупомянутые два года на юге, так, вероятно, до конца дней своих и не узнают, что такое стенная газета ЮгРОСТА, потому что еще не родился на божий свет мастер, способный описать эту не поддающуюся описанию газету.
Так вот, Эдуард попал в нее фельетонистом.
Прежде всего, придя в редакцию, он деловито осмотрелся и потянул носом, отчего двум машинисткам сделалось дурно, а третья написала заявление в комслуж. Затем он общительно подмигнул секретарю, очень вежливому молодому человеку, скрывавшемуся от воинской повинности, и, скрутив огромную папиросу из секретарского же табаку, мрачно заявил:
— Короста — болезнь накожная, а югроста — настенная.
После чего его немедленно перевели в отдел изобразительной агитации.
В отделе изобразительной агитации Эдуард пробыл четыре дня. В первый день он стащил из мастерской стул и несколько кусков фанеры. Во второй день болел астмой. В третий подошел к плакату, приготовленному к отправке на агитпункт, и, замазав не особенно острую, но очень честную надпись, написал новое четверостишие, придуманное мгновенно:
Буржуазия ласкала Пролетария всегда, Миловала, целовала, На деревьях ве-ша-ла.На четвертый день он объяснился с заведующим отделом, потребовал аванс и отдыхал на лаврах. Денег ему не дали, так как в учреждении их вообще не было, но зато на пятый день назначили в устную газету.
Одним словом, через две недели заведующий ЮгРОСТА, гроза машинисток, кричал на весь кабинет, дергаясь в судорогах:
— Выдайте ему жалованье за две недели вперед, и пусть он убирается к свиньям! Он меня замучил! Дальше так продолжаться не может.
Сложив голубые бумажки в красивую, но не слишком толстую пачку, Эдуард подмигнул розовому кассиру и деловито отправился домой, обдумывая различные, весьма важные вопросы.
XI. Затем начались птицы
— Вот, — коротко сказал Эдуард, швырнув деньги на стол и сейчас же спрятав их обратно.
Лида восторженно ахнула.
После этого Эдуард занялся покупкой птиц.
Со всех сторон приятели, поклонники его поэтической школы, эти простодушные ребята, которые готовы были раскроить друг другу череп из-за неправильно поставленной цезуры, несли к нему птичьи клетки. Клетки были самых разнообразных качеств, форм, величин и материалов.
Среди них были и кокетливые бамбуковые клетки из числа тех, что висят в низеньких гостиных старших механиков и капитанов дальнего плавания, вывезенные из Японии вместе с черной шелковой ширмой с хризантемами и лаковой шкатулкой для папирос.
Были и безвкусные металлические клетки обер-офицерских вдов и купеческие — громадные, с небольшой дом, клетки очень сложной архитектуры, с мезонинчиками, балкончиками, внутренними камерами, автоматическими жердочками и щегольскими кормушками.
Наконец, были и честные охотничьи клетки для перепелов, с сетчатым верхом, грубые, деревянные и темные, как прокопченная столовая в староанглийском феодальном стиле.
Один чересчур усердный юноша вместо клетки принес небольшой аквариум, что натолкнуло романтика на мысль завести себе, кроме птиц, также рыб и водоросли.
Затем началась покупка птиц.
Ежедневно с утра Эдуард брал пустую клетку и отправлялся на какой-то отдаленный базарчик, который называл «охотницким рядом». По его словам, там можно было купить или выменять любую птицу северных широт. Там у него были таинственные знакомства, сохранившиеся с того счастливого времени, когда вместо школы он отправлялся на дикий берег моря, расставив птицеловную сеть и растянувшись на животе под кустом пожелтевшей сирени, в сухой заросли полыни и слюдяных бессмертников, коварно подсвистывал глупым чижам, цепко держась за предательскую веревку. Стайки птиц пересыпались бусами с куста на куст. Легкий пух и воздушные клочья репейника летали над ломким хворостом бурьяна, а с моря тянулись молочные прохладные космы первого тумана.
Возбужденный голодом и воспоминаниями, Эдуард возвращался домой к обеду, принося с собой птиц.
Лида чистила клетки, насыпала корм, вбивала в стенку гвозди и восхищалась птицами.
На взгляд непосвященного, птицы были ужасны. Они были грязны, растрепаны, запуганы, прожорливы и совершенно безмолвны. У многих из них были выщипаны хвосты и перебиты лапки.
Но на все иронические замечания друзей по поводу птиц Эдуард отвечал яростным рычаньем:
— Молчите, ослы! Вы ничего не понимаете. Это очень редкие экземпляры. Вот, например, та, серая, видите, на жердочке: это редкий экземпляр малиновки. У нее, правда, немножечко сломана лапка и чуть-чуть выщипан хвостик, но посмотрите, какие у нее умные глазки. Клянусь памятью моего покойного отца, плюньте мне в глаза, если через два дня она не запоет. Вы никогда не слышали пения малиновки?
И он начинал свистать, улюлюкать и крутить головой.
Однако проходила неделя, а редкий экземпляр малиновки по-прежнему оставался безмолвным, но очень прожорливым.
Вскоре все стены были сплошь увешаны редкими и даже редчайшими экземплярами птиц.
Причем все птицы были похожи друг на дружку, как заключенные одной камеры. Во всяком случае, никаких существенных различий между ними не было, хотя все они носили различные многообещающие названия: дрозды, красноголовые славки, щеглы, снегири, зяблики, чижи...
В комнату было жутко войти. Треск клювов и крыльев оглушал непривычное ухо. Перья и пух летали посреди комнаты на манер тех летних вихрей, которые вдруг подымаются при совершенном безветрии на хуторских птичьих дворах.
Сор, шелуха конопляного семени, брызги и камешки сыпались из клеток на пол.
Кроме того, в углу стояла детская ванна, в которой, высунув из воды глянцевитый арбузный щиток и верблюжью мордочку, шевелилась и любопытно жмурилась черепаха.
Эдуард сидел в ковровых туфлях за книгой под большим портретом сердитого военного врача.
Иногда он подымал глаза на портрет и, почтительно приложив к губам указательный палец, шепотом произносил:
— Канцлер!
Лида смущенно косилась на птиц, и на ее бесхарактерном детском личике обозначались еле уловимые складки беспокойства и тайного раздражения. Оно накапливалось вокруг толстенького ребяческого носика.
XII. Скоро «они» съедят швейную машину
Птицы упорно не пели, но исправно жрали. Лида терпеливо молчала. Эдуард мечтал о новых и новых экземплярах. Дела пошли совсем плохо. Доходов не было никаких, а птицы уничтожали громадное количество дорогой пищи. Они не довольствовались хлебными крошками или остатками ячной каши. Им требовались муравьиные яйца, конопляное и канареечное семя и какие-то очень дорогие мучные черви, без которых, по словам Эдуарда, они никогда не смогут запеть.
Почти все деньги приходилось тратить на птиц. Лида пыталась возражать. Эдуард был неумолим. Он требовал, чтобы Лида продавала последние тряпки. Комната по мере наполнения птицами все больше и больше освобождалась от вещей. Наконец, непроданной осталась одна швейная машинка.
— Лидуся! Ты знаешь, отчего не поет красноголовая славка? Она не поет, потому что ей надо побольше мучных червей. Продай швейную машинку, и мы покормим птичек.
— Эдинька, ты с ума сошел! Мы сами не едим! Мы скоро умрем с голоду.
— Не говори глупостей, Лидочка! Мне достаточно четверти фунта брынзы в день. Лишь бы пели наши птички.
Лида дергала бровью. А когда Эдуард уходил на рынок за птичьим кормом, она звала к себе соседку и горько жаловалась на птиц.
— Милая, мы скоро совсем умрем с голоду! — грустно говорила Лида, обнимая соседку. — Птицы нас разорят. Они съели все. Они съели мое серенькое платье с черной вышивкой. Они съели летнее пальто. Они съели простыни и наволочки. Скоро они съедят швейную машинку, и тогда наступит конец. Эдя ничего не хочет слушать. Он совершенно сошел с ума... О, как я ненавижу этих отвратительных птиц!..
Соседка сочувственно качала головой, думая о своих невзгодах, а маленькая соседкина дочка, трехлетняя кукла с громадным красным бантом на макушке, подбиралась к клеткам и, боязливо озираясь, грозила птицам пальчиком:
— Гадкие птички. Птички бяки. Птички съели селенькое патице.
Потом ее личико освещалось невыразимой нежностью, и, подойдя к ванне, она, сияя от счастья и умиления, называла черепаху купахой.
А морщинки вокруг Лидочкиного носа становились все решительнее.
XIII. Зловещая глава, в которой Лида главным образом молчит
— Это, Лидочка, дрозд, — сказал Эдуард, внося в комнату клетку с большой некрасивой птицей, похожей на недоделанную курицу. — Ты не думай, что это какая-нибудь простая птица. Это очень редкий экземпляр. Клянусь покойным отцом, через два дня она запоет на славу. Уж я-то хорошо разбираюсь в этих вещах. Правда, ему нужно покупать побольше мучных червей, но зато ты себе не можешь представить, как он запоет! Это будет нечто небывалое. Продай наволочку.
Лида молчала.
— Смотри, смотри, Лидочка! — внезапно воскликнул Эдуард. — Смотри, он сразу же сел на жердочку. А это верный признак, что он будет долго жить и впоследствии отлично запоет. Поверь мне. Уж я-то отлично разбираюсь в этих вещах.
Пауза.
— Продай наволочку.
— Хорошо, — с ледяной покорностью сказала Лида.
Вечером, напившись ячменного кофе без хлеба и сахару, супруги улеглись на солидную докторскую кровать, которая неодобрительно и зловеще позванивала всеми своими пружинами.
— Эдинька, — кротко, но твердо сказала Лида, подсовывая одеяло под романтика, — Эдинька, дальше так продолжаться не может. Мы умрем с голоду. Птицы нас окончательно разорили. Мучные черви стоят гораздо дороже, чем сама мука. Конопляное семя нужно искать по всему рынку и тратить безумные деньги. Эдинька... Может быть, уж довольно птичек? Что ты на это скажешь? Мы оставим один какой-нибудь экземпляр, самый редкий... Ведь, правду сказать, они уж и не такие замечательные, эти птички. Конечно, все они очень редкие экземпляры, но все-таки...
— Я слышать не хочу эти глупости, — сердито буркнул Эдуард. — Скоро они запоют. Я в этом уверен. Редкий экземпляр малиновки уже сегодня собирался запеть. Я это прочел по его глазам.
— Эдинька! Умоляю тебя. Завтра нам уже совсем нечего есть. И нечего продать.
— Как нечего продать? А швейная машина? Или ты думаешь, что за нее ничего не дадут? И зеркало на туалетном столе чего-нибудь да стоит.
— Эдя! Что ты говоришь! — ужаснулась она. — Если мы продадим машинку, как же я сошью тебе брюки и рубаху? Ведь на тебе все рваное. Тебя надо одеть. А то ты у меня ходишь как нищий.
Эдуард задумался.
— Знаешь, Лидочка, я придумал. Завтра ты продашь зеркало. Мы купим птичкам корму и сами поедим немного. Авось мы продержимся недельку. За это время ты мне сошьешь из своего зимнего пальто брюки и куртку (ведь все равно дело идет к лету). А потом можно будет продать машинку. Не правда ли, девочка? Сознавайся же, плутовка, что у тебя муж умница.
Лидочка молчала.
Эдуард перевернулся на другой бок и засопел.
— Эдя, ты настаиваешь на этом?
— Конечно, глупенькая! Кроме того, не сегодня-завтра умрет моя мать (это я хорошо знаю). Старуха долго не протянет, для меня это ясно. Тогда у нас сразу понравятся дела. Ведь беличья ротонда и медный тазик на улице не валяются. Что ты об этом думаешь, обезьянка?
Лида молчала.
Она в темноте что-то твердо обдумывала.
Потом она сказала таким тихим, таким кротким и таким настойчивым голосом, что на минуту птицы перестали возиться, и слышно было, как где-то на улице прошумел автомобиль из губчека:
— Значит, ты настаиваешь на этом?
— Конечно, глупенькая! Уж верь мне, я отлично знаю, что говорю. Верь мне.
Романтик уснул.
Лида молчала. Всю ночь она пролежала с открытыми глазами. А когда в окне посветлело и заря стала наливаться вишней, она осторожно, чтобы не разбудить мужа, выбралась из постели и, шлепая босыми ногами, закусив губы, направилась к птичьим клеткам.
XIV. Не знаю, что и подумать
На следующий день, встретившись с друзьями на бульваре, где уже начиналось весеннее гулянье, Эдуард огорченно говорил:
— Друзья, с моими птицами происходят необъяснимые вещи. Сегодня ночью сдохло два очень редких экземпляра. Я решительно не понимаю, почему это случилось. Кормил я их хорошо. Уход за ними был самый внимательный. Абсолютно не понимаю. Между прочим, сдох тот самый дрозд, который вчера сел на жердочку. Уж этого я никак не могу понять. Я твердо знаю, что если птица в новой клетке сейчас же садится на жердочку, значит, она будет долго жить и отлично петь.
Эдуард смущенно крутил головой.
Но на друзей таинственная смерть птиц не произвела никакого впечатления. Они были заняты другим.
На всех столбах и заборах был расклеен новый декрет. Возле пестрых листов бандерольной бумаги толпились горожане. Они напирали друг на друга, наступали на ноги, сбивали шапки. Коммерческие южане, в течение двух лет лишенные права покупать и продавать, сжатые железной дисциплиной военного коммунизма, теперь заполняли перекрестки и площади, парки, бульвары и переулки, на все лады обсуждая неожиданный декрет.
Первые ласточки новой экономической политики, которая не носила еще в ту пору клички «нэп», вили первые гнездышки под стеклянными сводами крытых рынков. Санкционированные свыше штаб-офицерские вдовы бойко продавали пирожные и брабантские кружева, не страшась молниеносных облав и эскадронов внутренней охраны республики. Шторы магазинов, некогда падавшие со свистом и грохотом, кое-где стали уже приподниматься, как забрала рыцарей, окончивших смертельный поединок, и громады разноцветных, опьяняющих, чудовищных, невероятных тортов, ромовых баб, колбас, хлебов и бисквитов ударили из-за салонных стекол великолепно отшлифованных витрин в проголодавшиеся глаза обывателей, пределом мечтаний которых в течение двух лет был честный бублик в корзине уличной девчонки. Библейский еврей, склонявший пейсы над лотком с папиросами при слабом свете полночного решетчатого фонарика, последний раз показался в гулком мраке совершенно безлюдной улицы, и утром по бульвару прошла первая женщина в котиковом саке с букетиком парниковых огуречных фиалок.
Дома Эдуарда ждали новые неприятности. За время его отсутствия погибли еще две птицы. Одна удавилась сама, застряв головкой между прутьями решетки. Другая была съедена кошкой, которая в отсутствие Лиды умудрилась открыть лапкой дверцу клетки.
Эдуард был сражен. Лида молчала.
На другой день погибла еще одна птица. На третий еще.
— Можно подумать, что злой дух вселился в мой дом, — говорил Эдуард друзьям. — Почему гибнут птицы? Для меня это совершенно непонятно. Уж я-то отлично изучил все болезни птиц, и, клянусь классической балладой, ни одна из них не была больна.
В несколько дней у Эдуарда издохли почти все птицы. Романтик был настолько потрясен, что даже перестал об этом говорить. Он только нежно ласкался к Лиде.
— Лидочка, погибли наши птички. А ведь они могли так чудесно запеть! Я уверен, что все бы они запели. Тебе, Лидуся, жалко птичек?
— Конечно, жалко, — говорила Лида, и на ее детские глазки наворачивались блестящие сквозь пенсне слезы. — Очень жалко, но что же делать?
Она брала Эдуарда за грязные уши и покрывала тепленькими маленькими поцелуями его небритое, страшно худое лицо. Точно застегивала кнопочки. Она говорила:
— Ничего, Эдинька! Скоро наши дела поправятся. Тогда мы заведем себе новых птичек.
XV. Последняя птичка
Потом мне надо было на все лето уехать из города, и я отправился к Эдуарду попрощаться.
Поравнявшись с его высоким окном, которое уже было открыто, я увидел полную женскую руку, державшую клетку. Другая рука отворила дверцу, и большая нелепая птица, попрыгав на пороге, взмахнула отвыкшими от движения крыльями и неловко, боком, полетела в синеву, цепляясь за ветки акаций, уже зеленевших мелким горошком молодой листвы.
Я вошел в комнату. Лида одна стояла у окна, и глаза ее были полны слез. Она смутилась.
— Вы знаете, у нас опять несчастье. Только что улетела Эдина последняя любимая птичка. Я шила. Вдруг клетка отворилась — фррр, — и не успела я вскочить с места, как — до свиданья! Редкий экземпляр красноголовой славки улетел в окно. Как она умудрилась открыть дверцу, не понимаю?
Она опустила глаза.
Я молчал.
Тогда она сказала:
— Знаете... Конечно, это очень жаль, но все-таки лучше, что птички пропали. Иначе мы бы сами погибли. Все-таки осталась швейная машинка, и вы увидите осенью, каким франтом будет выглядеть Эдинька.
Скоро пришел Эдуард. Его не особенно огорчила потеря последней птицы. Он молча снял со стены ненужные клетки и отнес на чердак.
— У тебя хорошая баба, — сказал я, пожимая ему на прощанье руку.
— Ничего, старик! Осенью у меня опять будет много птиц. Новая политика. Дела поправятся. Вот увидишь.
— Ладно, прощай!
Осенью я вернулся. Эдуард жил плохо. Люди вокруг продавали, покупали, богатели и толстели. Но Эдуард, этот неисправимый мечтатель, лентяй и авантюрист в душе, и при новой экономической политике не мог себе найти применения. Пожалуй, теперь ему было хуже, чем раньше. Он уже служил в каком-то военном госпитале в качестве заведующего библиотекой. Он жил на полуразрушенной даче, у моря, в каморке об одном окне...
На стене не хватало лишь доброго хомута, чтобы эта комнатенка ничем не отличалась от кучерской у малоземельного помещика.
В комнате не было ничего, кроме железной кровати, печки и комода. Швейная машина была продана. Эдуард был одет в чистенькую рубашечку и детские брючки, сшитые из старой Лидочкиной юбки. Кокетливый дешевенький галстучек висел у него на тощей шее. Он имел нелепый, куцый вид и сам напоминал некую тонконогую дикую птицу с раскрытым клювом.
Лида ходила босиком, по-бабьи повязанная полинявшим красным платком.
— Ну, старик! — торжественно сказал Эдуард. — Ты видишь сам: дела мои поправились. Я аккуратно получаю паек и живу прекрасно.
Бедняга, он до сих пор мерил жизнь железным аршином военного коммунизма!
— Скоро у меня опять заведутся птицы. Теперь я их сам буду ловить. Недавно я достал превосходную западню. У моря появилось много щеглов. Я знаю место, где их уйма. Пойдем.
Он достал из-под кровати клетку, и мы пошли.
— Клянусь покойным отцом, плюнешь мне в глаза, если через полчаса у меня не будет полной клетки птиц.
Он повесил западню на ветку дикой сирени. Мы пришли на берег.
В ожидании, пока поймается птица, мы пошли бродить по берегу, у теплой густой воды, пахнущей йодом, песком и тиной. Чайки и паруса белели легкими запятыми в далекой голубизне воздуха и моря. Мшистые столбы купальни ходили и раскачивались длинными глянцевитыми отражениями в плоской, почти неподвижной ряби.
Среди разговора Эдуард вдруг дернулся.
— Старик, пора! Клянусь честью, птицы, наверное, уже поймались. Я-то знаю, как их ловить.
Мы быстро пошли к клетке.
Куст находился на прежнем месте, но клетки не было.
Эдуард растерянно осмотрелся и вдруг зарычал от бешенства. Он приложил ладонь к глазам и страшно выругался. Я посмотрел вдаль. Там, мелькая по верблюжьим горбам берега и по синеве моря, улепетывал мальчишка. Он размахивал клеткой, напоминая ветряную мельницу. Эдуард сделал прыжок, но, вспомнив про свою астму, унаследованную от отца, махнул рукой.
— Черт возьми, — сказал он с мрачной улыбкой, — клянусь беличьей ротондой старухи, этот мальчишка далеко пойдет!
Он медленно поплелся домой.
Я шел следом за ним, корчась от приступов хохота.
Я вдыхал свежий морской воздух, защищая ладонью глаза от стеклянного осеннего солнца, оплетавшего сияющей паутиной пыльные, тяжелые сады.
В густой чаще их уже сквозили лимонные пятна акаций и коралловые — кленов.
1920
Прапорщик[35]
Прапорщик Чабан, малый двадцати трех лет, тихий и недалекий, с васильковыми глазами, темно-русыми волосами и белыми девичьими руками, — типичный студент, — в свое время, во время войны с немцами, был храбрым и выносливым солдатом. Под Минском он взрывал со своим взводом горны и получил жестокую контузию правой стороны тела. Под Барановичами его переехал зарядный ящик, в Одессе, в госпитале, где он лечился, у него сделалась чесотка. За это все он имел два Георгиевских креста, шашку с анненским темляком и надписью: «За храбрость».
В девятнадцатом году он был мобилизован. Это случилось весной. У него не спросили, хочет ли он воевать, и не спросили, сочувствует ли он добровольцам. Он должен был хотеть воевать и сочувствовать армейскому генералу с жандармской бородкой, портреты которого, перевитые георгиевскими лентами и украшенные скрещенными пушками, красовались всюду. Прапорщика только спросили на пункте, где он желает служить, и, узнавши, что ему все равно, записали на бронепоезд и назначили телефонистом. Сначала бронепоезд стоял в ремонте в железнодорожном депо, и прапорщик Чабан через два дня на третий был начальником караула, охранявшего поезд. Часовыми у него были недоучившиеся юнкера, малолетние кадеты и вольноопределяющиеся в длинных артиллерийских шинелях с красными погонами.
Подвешенные на громадных цепях к закопченному стеклянному потолку тысячепудовые бронированные вагоны, похожие на танки, смотрели в разные стороны открытыми черными люками, из которых, как из открытых ртов повешенных, торчали набрякшие языки пулеметов. Среди страшного железного грохота, совершенно оглушавшего непривычное ухо, в запахе раскаленного железа и в синем чаду каменного угля плавали острые многоконечные звезды фонарей. Рабочие, оголенные по пояс, с телами, блестевшими от сала и копоти, как у негров, возились у горнов, у станков, бегали с громадными тяжелыми молотами, клепали, ругались, мочили воспаленные головы под краном и курили махорку. Каменные сердитые лица их, полные злобы и презрения, мелькали в рассеянном свете фонарей и вселяли в сердце Чабана странную, непонятную тревогу. После того как командир бронепоезда, молодой полковник воздушного флота, джентльмен с английским пробором, трубочкой и белым крестиком на синей гимнастерке, приказал усилить караулы и поставил в известность господ офицеров бронепоезда, что с рабочими нужно быть крайне осторожными и что подпольные коммунисты могут взорвать бронепоезд, прапорщику Чабану стало еще страшнее обходить по ночам стоявших, как игрушечные солдатики, с винтовками часовых. С ремонтом бронепоезда страшно торопились и работали двадцать четыре часа в сутки, в две смены. Ежедневно откуда-то привозили новые английские пулеметы, дальномеры и охладители. Постоянно к воротам мастерских подъезжал великолепный блестящий синий лимузин, и группы генералов в сопровождении английских лейтенантов и французских капитанов, громко и весело разговаривая на разных языках, осматривали работы.
Прапорщик Чабан не понимал, что делалось вокруг. Он не знал, почему рабочие хотят взорвать бронепоезд и почему начальство хочет, чтобы этот бронепоезд был поскорее готов. Он не знал, почему красные дерутся с белыми и почему вся Россия разделилась на две части — на большевиков и на небольшевиков. Правда, офицеры бронепоезда, с которыми помещался Чабан в вагоне, постоянно говорили о том, что до тех пор, пока коммунисты будут у власти, Россия не перестанет бедствовать. Но почему это должно было быть именно так — никто не объяснял, и Чабан, который привык дома, у себя в Умани, к простым и несложным разговорам о погоде, об университете и об охоте, был чужим в среде этих капитанов, поручиков и юнкеров.
В последнее время рабочих стали торопить еще больше и чаще стал наезжать автомобиль с генералами. Газеты писали о победах и о бегстве красных. Но в городе становилось все тревожнее, и уже были случаи, когда на окраинах убивали добровольческих офицеров. И вот однажды бронепоезд был готов, поставлен на рельсы и составлен. В тот же день полковнику принесли предписание из штаба, после чего он сейчас же запретил отлучку в город. А через день, уже вполне готовый и вооруженный, подцепленный к длинному воинскому эшелону, бронепоезд стоял у рампы, готовый к отходу. Офицеры, кадеты и юнкера грузили в вагоны пледы и хорошие чемоданы, заплаканные дамы и изящные девицы окружали выкрашенные в защитный цвет стальные коробки бронепоезда. Часовые рисовались ружьями на башне, и командир первого орудия, с походной сумкой и биноклем через плечо, деловито бегал, наблюдая за проводкой телефонного провода. На рампе готовились служить молебен, и попы надевали ризы. Потом пели певчие, раздавали горящие свечи, шептались адъютанты генерала, приехавшего в лимузине. А после молебна командиру вручили новенькую, блестящую икону святого Николая, и генерал говорил речь. Говорил он о том, что красные враги сильны, что требуется напряжение всех военных сил для того, чтобы их сломить. Говорил он об Учредительном собрании и о том, что именем главнокомандующего всеми вооруженными силами юга он приказывает пленных расстреливать на месте. При этом у него дрожали седые подусники.
Во время молебна Чабан крестился, во время речи генерала стоял навытяжку, а после речи вместе с другими кричал «ура».
А перед самым отходом поезда, гуляя по полотну, он встретился со своим старым гимназическим товарищем, фамилию которого забыл, но лицо которого хорошо помнил. Они поздоровались.
— Здорово, старик, — сказал Чабан, разглядывая легонькое пальтишко и небритое лицо приятеля. — Сколько лет, сколько зим, что ты здесь делаешь?
Приятель улыбнулся славной студенческой улыбкой.
— Работаю в железнодорожном госпитале. А ты что, добровольцем заделался?
— Мобилизовали.
— Ага. Что ж, вы этим поездом думаете раздавить Советскую Россию? В Москве завтракать собираетесь, нет?
— Что у тебя за странный тон? — Чабан понизил голос и оглянулся. — Ты что, может быть, коммунист?
— А ты контрразведчик?
— Нет.
— Да, коммунист.
Приятели помолчали, а потом Чабан сказал:
— Вообще все это очень странно. Вот генерал только что говорил речь, чтобы расстреливать пленных и что коммунисты — наши самые злые враги, а я с тобой вместе учился, и мы вместе на казну ходили и вместе старые книги продавали. А ты теперь коммунист, а я доброволец, и, значит, я тебя должен убивать, а ты должен меня при первом удобном случае в Чека посадить. Ничего не понимаю. Объясни мне, пожалуйста.
Но приятель Чабана только усмехнулся и махнул рукой. А на прощанье сказал:
— Объяснять тебе долго, а вот пойдешь в бой, и когда будешь из пушки стрелять, так хорошенько подумай, в кого стреляешь. Авось своих старых солдат человек восемь уцокаешь на месте.
И ушел. А Чабан возвратился на бронепоезд, где уже все было готово к отправлению. И до самого отхода рассматривал, недоумевая, румяных и воинственных мальчиков-вольноопределяющихся.
Эшелон гнали всю ночь. Ветер резал по крышам, и в щели теплушек хлестал дождь. Лошади, гремя подковами по доскам, шарахались от блеска фонарей, стрелявших в глаза с полустанков. Начальник какого-то узла, задержавший поезд на три минуты, был расстрелян, и труп его был брошен в канаву. Никто не знал, по какой дороге гонят и почему так торопятся. Только в штабном вагоне, где толстые железнодорожные свечи в тяжелых медных подсвечниках прыгали по широкому ломберному столу, полковник в синей гимнастерке, положивший локти на расчерченную трехверстку и беспрерывно набивавший трубку, знал, в чем дело. Но лицо его было невозмутимо. Он быстро пробегал припухшими глазами телеграммы, которые ему подавал на каждой станции адъютант, покусывал кончик желтого карандаша и прихлебывал чай из мотающегося стакана.
Перед рассветом на каком-то полустанке пахла черная земля, похожая на кору дуба, пели жаворонки и зеленели озими. Бабы продавали в крынках молоко, и девочки, замотанные, как куклы, подымали к окнам вагона корзины с плациндами и пачки с махоркой, похожей на навоз. Потом поезд гнали дальше, и к полудню, задыхаясь, как загнанная лошадь, визжащий, гремящий, потный, красный, он влетел на станцию, где почему-то долго стоял, и опять никто не знал, почему он долго стоит и когда он тронется дальше. На станции и вокруг станции было пустынно, страшно тихо, незаметно было ни шума и движения вагонов, ни маневрирования поездов. Команда подождала пять минут, потом десять, потом час... и постепенно стала расходиться по путям, по стрелкам в железнодорожный поселок. Вокруг становилось все тише и тише, и полковник вышел из вагона и прошел в телеграфную контору, где долго просидел за телеграфным аппаратом, собственноручно что-то выстукивал и внимательно прочитывал ленту, длинной белой стружкой выползавшую из колеса. Потом он быстро встал и, выйдя на перрон, гаркнул: «Прислуга, по местам!» — и велел отцепить бронепоезд от эшелона.
И только теперь все услышали те звуки, на которые никто раньше не обращал внимания и от которых вокруг было очень тихо. Это было легкое, звонкое и странное погромыхивание, похожее на удары пара, быстро вырывающегося из клапана. Через минуту поручик с биноклем кошкой карабкался на семафор, рвя перчатки и цепляясь шпорами за ступеньки лестницы. Потом произошел какой-то переполох, и капитан, командир поезда, вывел из железнодорожного поселка белого и черного машиниста. Он держал револьвер, направленный в его затылок, и кричал: «Дезертир, сволочь, расстрелять!» — и в следующую секунду спереди, оттуда, где слышались странные звуки, вылетело что-то невидимое, легкое и чуждое тому, что было вокруг.
Обдало ветром, резнуло, свистнуло, и прапорщик Чабан, надевавший штаны за полотном, видел, как из станционной крыши повалил черный дым и полетели щепки. За первой гранатой просвистали вторая и третья. Пехотинцы, приехавшие эшелоном, рассыпались в цепь. Лошади кавалеристов падали и ломали ноги. Казачий взвод, выехавший с правого фланга, был смят. Сотни людей, бегавших взад и вперед перед вагонами, под вагонами и за вагонами, кричали на разные голоса, и на станции стоял пчелиный гул, но тех, которые наступали, еще не было видно, и от этого было еще страшнее.
— Телефонисты! Провод на пункт! Телефонисты! Прапорщик Чабан, черт вас возьми! — кричал чей-то безумный голос.
Но прапорщика Чабана, этого храброго офицера, видевшего смерть не один раз в глаза, охватил непонятный и неодолимый ужас. Бежать, бежать как можно скорей куда-нибудь подальше от боя. И он побежал. Ноги, не привыкшие к бегу, вязли в черной вспаханной земле. Свежий ветер свистал в ушах. Позади гремели разрывы и кричали поезда. А прапорщик Чабан бежал, напрягая все силы, и легкие готовы были лопнуть от воздуха, который напирал в раскрытый рот. Через десять минут он увидел себя одиноким в поле, на бугре. Слева была станция с мелькающими игрушечными вагонами, движением, окутанная дымом. Справа лежало ровное, спокойное и светлое весеннее поле с голубыми кремлями облаков, птицами и солнцем. Редкие перелески светились лисьим мохом. Ярко блистало дно разбитой бутылки. А впереди по шахматным доскам полей, как рассыпанные бусы, катились цепи наступавшей пехоты. Там были пушки, разбрасывавшие белые облачки дыма, казачьи разъезды, мигавшие звездами на кончиках пик. Шальная пуля ударилась в землю у его ног, и долго в его ушах стояло пчелиное пенье. А сзади два казака, привстав на стременах, кричали страшными голосами и махали прикладами. Тогда прапорщик Чабан вытащил револьвер, поднял левую руку и выстрелил в нее, в мякоть, повыше локтя. Выстрел обжег гимнастерку, и рукав смок. Но боли он не почувствовал. Он бросил револьвер и побежал назад, прижимая раненую руку к боку и чувствуя рану так, как будто бы кто его ударил по мускулу железной палкой. Он бежал, но продолжал оставаться на месте, в самом центре карусели, где все сильнее и сильнее начинали кружиться лошади, домики, облака и перелески.
Когда он очнулся, поезд мотало, в глаза стреляли фонари полустанков, золотые шмели искр тучами неслись мимо вагона, ящики со шрапнелями стукались друг о друга и гремели, человек в белом халате с черными блестящими перчатками, еле держась на расставленных ногах, выжимал над лоханкой грязную тряпку, из которой текла бурая красноватая жидкость. Вокруг стонали люди. Их были десятки, сотни... Их было очень много. Рука горела, ныло плечо, и казалось, что эта боль, жар текли из сердца. И сердце от этого становилось все слабее и падало. Радужные стрекозы, треща стеклянными крыльями, наполняли темноту. И только резкая желтая полоса заката, как бритва, резала глаза.
Громадный красный солдат в зеленом крылатом шлеме с пятиугольной звездой пожимал руку рабочему в белом фартуке с молотом. Тяжелая цепь, разорванная пополам, лежала у их ног. Шафранное солнце вставало лучами-стрелами, выглядывало из-за них что-то, чего никак нельзя было уразуметь, но только было похоже на написанное, на голос студента в легком пальто, идущего по рельсам от водокачки. Да и солдат смахивал на него своим почти юношеским, грубо нарисованным лицом.
А может быть, впрочем, это так казалось.
И прапорщик Чабан никак не мог понять, где он это видел: во сне ли, на станции, или наяву. Но он уже знал, что именно это правда, это — настоящее.
Вокруг пахло эфиром...
1921
Отец[36]
«Батько! Где ты? Слышишь ли ты все это?»
«Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины...
Н.В.ГогольI
В тюремной ночной духоте и тьме, в спиртовом запахе дынных корок, по стенам возились клопы. Два окна, переплетенные грубым железом, запирали ночь, всю осыпанную свежими звездами. Ветер и сполохи бежали по ним.
Клопы ссыпали с потолка и стен известковую пыль, ссыпались сами в солому, и эта чуть слышная возня покалывала во тьме как бы игольчатым газом над мнимым стаканом сельтерской воды.
В окне, озаренный дуговым жуком, стоял добела розовый косяк соседнего корпуса. Под виселицей фонаря, среди черноты, на полотняной яркой земле качалась многоугольная тень часового.
Ночь была черна. Люди в переполненных камерах спали. По железным галереям и лестничкам похаживали сонные надзиратели с ключами. Из клетчатых дверей слышался хрип, храп, кашель, стон и чесанье.
Тюрьма стояла посреди огородов и выходила крестом на все четыре стороны света.
В начале апреля, в один из тех прекрасных и теплых дней, когда море особенно сине, а молодые листья особенно зелены, в тюрьму привели громадную партию арестованных. Сперва их вели по широким опустевшим улицам города, где еще месяц тому назад расхаживали офицерские патрули и дефилировали отряды британской морской пехоты, затем, окруженные пулеметами и чубатыми всадниками на деревенских лошадях с вплетенными в гривы красными лентами, они миновали Чумку и кладбище, и, наконец, их покуда разместили на опрятном зеленом тюремном дворике. Среди приведенных в тюрьму людей был некто Петр Иванович Синайский, молодой человек в офицерской тужурке с артиллерийскими петлицами и в студенческой фуражке.
И пошла тюремная жизнь.
Ежедневно, опускаясь, как в трюм, на прогулку, Петр Иванович видел восток. Там, поверх красных крыш женского отделения, поверх лужаек и черешен, поверх высокой небритой стены и огородов, была степь. Воздух заносил оттуда в зной зонтики одуванчиков и запах бурьяна — в дождь. Иногда, если надзиратель был добр, из высокого окошечка одиночки, где сумасшедший живописец с утра до вечера рисовал углем на стене революционный плакат, Синайский видел клочок юга. Там были беговые дорожки, поросшие молочаем трибуны и заколоченные конюшни. В солнечные дни за ними тек голубой кисельный воздух, полный бабочек-капустниц и отражавший невидимое море. На север выходила его камера, и север он видел всегда. Там было шоссе и кладбище, где в тени пыльных акаций, черемухи и шелковицы где-то стоял белый крест над могилой его матери.
Но запада не видел никто. Запад был за той самой крайней вертикальной чертой кирпича, которую можно было увидеть, просунув голову между прутьями решетки и скосив глаза. Там были тюремные ворота. Там, в степную пыль, садилось красное солнце.
Возле кухни часто били в кусок рельса. Громыхая по перилам мисками, дежурные сбегали вниз за ужином. Через двор проходило попарно несколько арестованных. Они очень медленно несли на гнущихся палках луженые чаны с пищей и были похожи на качающихся иудеев, несущих из земли Ханаанской чудовищные грозди винограда.
В камере начинали ужинать. Спекулянты-мыловары в чистых нижних сорочках «гейша» с воротами, обшитыми тесьмой, и соломенными картузами на плешивых затылках снимали со стен плетеные корзинки и занимали край потного прожженного деревянного стола. Им присылали всё. У них был прекрасный белый хлеб и крупная соль, в которую они макали крутые яйца. У них было коровье масло, сахарный песок и настоящий китайский чай. У них были серебряные ложки, стаканы и полотенца. Они жили коммуной. Старший из них, тучный еврей с багрово выбритыми щеками и английскими усиками, засучивал до локтей рукава и короткими волосатыми пальцами неторопливо и чистоплотно делил между своими хлеб и курицу.
Другие подсаживались к мискам с розовой свекловичной похлебкой и вынимали из карманов деревянные ложки и остатки утреннего пайка — ржаного колючего хлеба.
Староста камеры бросал в потное ведро с кипятком щепотку морковного чая.
Некоторые, укрывшись с головой английскими шинелями и сильно зажмурившись, лежали на тюфяках, незаметно засунув руку под липкую бязевую рубаху. Им не хотелось есть.
И вечер, зажженный огарком в горлышке черной бутылки, оплывал лазурью и золотом стеарина на вялые корки, на желтый понос дынных внутренностей, распластанных на столе. Нерешительная звездочка обозначалась на своем обычном месте, в правой верхней клетке окна. Негромко разговаривая, евреи ложились спать в своем чисто обметенном углу на дерюжные соломенные тюфяки. Они густо сыпали вокруг себя, под себя и на себя нафталин, отодвигали подушки в белоснежных наволочках от стен, натирали подмышки керосином и чем-то вонючим прыскали из пульверизатора во тьму на соседей.
В дальней камере слабо пели хором.
На потолке сияли два светлейших решетчатых косяка. Мимо двери, звеня ключами, плыл красный огонек папиросы. Сверху, как с минарета, заунывно пел кавказский голос:
— Товарыш надзыратэл, я балной! Товарыш надзыратэл, я балной!
Но в ответ была тишина. Огарок гас. В камере становилось черно и бело пополам. Люди, укрывшись с головой, как солдаты, кашляли и спали. Хрипели и спали. Чесались и спали. В спиртовом запахе дынных корок по стенам возились клопы.
Тогда к тюфяку Синайского осторожно подползал полковник, начальник карательного отряда. Петр Иванович узнавал его по белому свитеру, делавшему его похожим на сморщенного лысого бэби. Он останавливался возле Синайского на четвереньках и всматривался в его лицо. Убедившись, что он не спит, полковник садился на корточки и шамкающим шепотом, таким самым, каким шамкают водевильные старички, говорил:
— В пятнадцатом году под Краснополем, винтили, когда я командовал батальоном, в мой блиндаж попал восьмидюймовый фугас. У меня просто, без разговоров, потемнело в глазах, и я очнулся только через два часа в дивизионном лазарете. Оказалось — бедро. Но если бы не бедро, а представьте себе... вообще... то я бы ничего, значит, более бы не почувствовал, винтили... Как вы полагаете, Петр Иванович, э?
Сдержанно кряхтя, он шарил по оттопырившимся карманам своих штанов и вдруг, виновато улыбаясь, просил табачку и бумажки. Он экономно и аккуратно скручивал папиросу, сладко зализывал ее, как конверт, и зажигал ужасную серную спичку. Она вспыхивала кипящей голубой капелькой и, разгораясь все синей и синей, освещала беззубый рот полковника и его слегка дрожащие, словно сделанные из синего аптекарского стекла, полупрозрачные руки. Не вынеся острого серного запаха, полковник чихал, как новорожденный. Наконец, загоралось дерево, и он жадно затягивался. Тогда, продолжая стоять на коленях и держа в одной руке догорающую спичку, полковник доставал из кармана жестяной портсигар, любовно постукивал по нему пальцем и значительно подмигивал.
— Там есть у меня, — говорил он, — одна заветная папироска, но я ее берегу... месяц... Когда меня будут выводить... винтили... Как вы полагаете, Петр Иванович, э?
Но в ответ была тишина, и он отползал в свой угол.
— Товарыш надзыратэл, я балной! — с безнадежной тоской повторял сверху кавказский голос. — Я балной, я балной, я бал-ной!
Голос утихал. Огонек папиросы проплывал мимо двери снаружи. Синайский подходил к раскрытому окну, привычно брался руками за прохладные прутья решетки и клал подросшую бороду на каменный подоконник, где сушились хлебные корки и косо стояли стаканы, сделанные из бутылок.
Было так тихо, что с далекого вокзала слышались вспышки пара и слабые кондукторские свистки. Над городом стояла полная тьма. Электрическая станция не работала. В домах не было света. Только один громадный бессонный дом посредине пустого и черного города, вероятно, насквозь светился в этот страшный час всеми своими частыми окнами. Там, в подвалах, трудно, туго и высоко гудело динамо — единственный работающий в городе электромотор. И сколько Петр Иванович ни всматривался в черноту ночи, усиленную светом дугового фонаря, ничего не мог различить, кроме смутной белизны кладбища.
А ночь уже заводила свои звездные часы граненым ключиком частого сентябрьского сверчка. В окне стоял холод. И в эту ночь, с субботы на воскресенье, незадолго до рассвета, Петр Иванович опять (в который раз!) думал о своей удивительной, горькой и прекрасной, обыкновенной человеческой жизни.
II
Жизнь его, начавшаяся (в воспоминаньях так чудесно) громадной церковной папертью, выбеленной гробовым газом фонарей за черным страшным окном, и голосом мамы, в котором, тысячу раз знакомый, блестел кремнистый путь и звезда говорила со звездою, эта жизнь с каждым своим часом наполнялась новым, все новым значением.
Сначала в ней был темнобородый высокий отец в парусиновой, ладно выглаженной блузе, подпоясанной узким ремешком, в пенсне со шнурком и шариком и мать с дорогим, как японская чашка, раскосым лицом.
Некогда, очень давно, через эту жизнь протекла каменистая река — быстрый Днестр — с колесным пароходиком, каждый день пылающим аккуратно в десять часов вечера посредине реки, за крокетной площадкой, ракетным дымом.
— Кука прелесть пуруход, — сказал Петя, по-своему повторяя материнские слова.
А потом через эту жизнь переплыл белый гроб матери — пышный торт с зубчатой бумагой, весь заваленный фарфоровым бормотаньем венков, генеральскими лентами, газетными буквами на них и курчавыми стружками разноцветных (розовых) гиацинтов.
Мамина зализанная мертвая голова продавила нарочную подушку. Она была коричневая, худая, обтянутая барабанной кожей. Она чуть улыбалась оскалом зубов. На ореховом лбу бинтом лежала святая бумажка. Губы, перепачканные черникой лекарств, были полуоткрыты; из улыбающегося уголка рта текла кремовая пенка гною: разложение. Отец, Иван Петрович, безучастно качался в качалке.
Петя влез к нему на колени и очень близко увидел его заплаканные, малиновые, удивительные, без пенсне, собачьи глаза. Отец был в длинном сюртуке. Он положил большую узловатую руку на Петину голову и поерошил шевелюру.
Похоронные ризы священников коробились горбами. Черная старушка раздавала свечи. Лаковые полы и закапанные воском комнатные растения пахли ладаном. Высокий лепной лоб отца был холоднее склепа.
В пролете лестницы гроб едва не уронили, косо поворачивая над головами друзей и знакомых. На улице его вдвинули в колесницу, как пластинку в кассету фотографического аппарата.
Отец в пальто с лиловой бархаткой на воротнике, но без шляпы, держал Петю за руку, не зная, что делать: помогать ли вдвигать гроб или креститься; и не с кем было посоветоваться.
Дуняша, сбежавшая вниз в чем была, натягивала на ноги мальчика забытые дома гамаши. Она плакала. Ветер шевелил вокруг железного гребешка ее простые волосы. Слепая лошадь кивнула кивером. Колесница покачнулась всем своим пышным верхом и скрипнула; за нею скрипнули колеса карет, и певчие ладно запели.
— Надень шапку, Петрушка, — сказал отец, грея и гладя на ходу руку сына. — Ты маленький, тебе можно.
Но Пете нравилось держать свою синюю матросскую шапку за искусанную скрученную резинку, растянутую и завязанную многими узлами.
За городом, за Чумной горой, по железнодорожному мосту над колесницей свистнул паровик. Колесница въехала в открытые ворота кладбища. Широкая аллея вела к церкви. Три колокола: тонкий, потолще и совсем тоненький — звонили не в тон и не торопясь, один после другого, и этот звон был так уныл, что ни могильный полевой ветер, ни свежесть марта, ни жесткий мирт вербного воскресенья — ничто не могло рассеять ужасающей скуки, охватившей мальчика.
Но когда гроб на канатах опустили в свежевырезанную узкую могилу, где почва переходила сверху вниз диаграммой, от сухой травы чернозема до рыжей глянцевой глины, и когда отец сказал Пете бросить на гроб ком, и когда глина обильно, как из кувшина, посыпалась на крышку, он понял, что закапывают не гроб, а маму. С отвращением и ужасом он отвернулся от могилы и, прижавшись лицом к пальто отца, хлынул обильными теплыми слезами. Матросская шапка болталась на резинке, которую он сжимал в мокром кулачке. А резинку эту в последний раз пришивала мама за месяц до этого дня.
Эта его жизнь, где перебывало еще столько людей, вещей и событий, к зрелым годам совершенно переполнилась. Но кладбище уже никогда не выходило из нее. Дважды в год, в сочельник, в день маминого ангела, и на страстной неделе, в день ее смерти, отец служил на могиле панихиду. Полевой кладбищенский ветер шевелил его длинные семинарские волосы. В склепе, слева, горела вишневая лампадка. Справа, на пустом участке, в рыжей траве валялась консервная жестянка и стоял любопытный мальчик без картуза. Священник в белой и черной ризе, как фокусник, кидал во все стороны на цепочке кадило. И кадило, сквозь серебряные зубы, тлело и дышало малиновыми угольками, лиловыми клубами ладана. Прямой, как солдат, дьячок в летнем пальто, благолепно полузакрыв глаза, заострив нос и опустив русые усы, быстро пел и читал и снова пел. Руки его были сцеплены на животе, и большие пальцы быстро крутились один вокруг другого.
Отец становился на колени, кланялся до самой могилы, и глаза его, мелкие от слез, были красны и удивительны без пенсне. Два серебряных рубля переходили в сердечном, потрясающем рукопожатии из отцовской застенчивой руки в размашистую руку священника, снимавшего через голову епитрахиль.
Отец и сын возвращались в город на извозчике по той дороге, где стояла тюрьма с высокими стенами, флюгерами, крылатой трубой центрального отопления и маленькими окошками.
По шоссе конвоиры с голубыми револьверными шнурами и шашками наголо вели арестантов.
Тюрьма была видна с кладбища. Кладбище было видно из тюрьмы. Так в жизни сходились концы с концами, в этой удивительной, горькой и прекрасной, обыкновенной человеческой жизни.
Чудесная, ничем не заменимая жизнь!..
III
Каждое воскресенье и каждую среду, в солнце и в дождь, по шоссе мимо кладбищенской стены тащился по щиколотку в пыли или грязи старик Синайский. За шесть месяцев он не пропустил ни разу. Сын ждал его с раннего утра, высоко держась за переплет решетки.
Он появлялся вдруг, слегка волоча ноги, из-за стены богадельни, среди прочих людей, несущих передачу. Пожилой, в старомодной соломенной шляпе с вылинявшей лентой и в парусиновой двубортной куртке с перламутровыми пуговицами, он останавливался на валу возле пыльной акации и задирал вверх реденькую седоватую бородку. В руках у него болталась веревочная кошелка. Вся его фигура выражала тревогу. На таком расстоянии Петр Иванович не мог разобрать лица отца, но он слишком хорошо знал его, чтобы не чувствовать его во всех подробностях.
Конечно, рот отца был полуоткрыт и нижняя челюсть немного отвисала, показывая несколько гнилых корешков. Тупой язык лежал между ними коротко и неподвижно, как у немого. Просительно улыбаясь, он смотрел через пенсне на окно сына.
Что он мог рассмотреть на таком расстоянии? Окон было слишком много, и слишком много платков и рук махало из них на волю. Но едва Петр Иванович успевал вскочить на узенький косой подоконник, похожий на каменный аналой, и взмахнуть своей студенческой фуражкой, как отец суетливо приподымал шляпу, раскланивался, расшаркивался, кивал головой, подымал и спускал кошелку и затем торопливо, но уже бодро шел дальше к тюремным воротам, не отрывая от сына глаз и спотыкаясь о камни.
Он видел, что его сын жив, и больше ему ничего не нужно было в жизни. А сын выставлял лицо между прутьями и следил за отцом до самого того крайнего места дороги, которое можно было поймать углом скошенного глаза.
Успокоенный видом отца, Синайский нетерпеливо ожидал передачи. Наконец ее приносили. Среди множества баулов, горшков, саквояжей и корзин он сразу, как верного друга, узнавал свою веревочную кошелку. Она была такой тощей, что он без труда протаскивал ее прямо из рук передатчика сквозь решетку, не дожидаясь, пока надзиратель откроет дверь. Синайский быстро отрывал пришпиленную к ней записочку, написанную изумительным бисерным почерком отца, и читал: «1 пара белья, хлеб, табак, 10 огурцов, молюсь за тебя, 5 помидоров, был ли у следователя? 4 куска сахару. Папа». Это была его наивная хитрость, так как ничего, кроме списка посылаемого, сообщать в записке не разрешалось. Однажды на обороте бумажки страшно мелкими, но разборчивыми буковками отец отважился приписать: «Если тебя освободят, а меня не будет дома — ключ лежит под ковриком».
Сын вытряхивал содержимое кошелки на тюфяк и разворачивал сверток с бельем. Оно было сырое и серое, очевидно стиранное плохим мылом в холодной воде. Кое-где в швах невыглаженной рубахи оставалась шелуха вшей. Вероятно, накануне отец сам, сопя, стирал его в белой эмалированной миске с обитым дном, поминутно роняя пенсне и тяжело полуоткрыв рот.
IV
На рассвете мимо тюрьмы прошел легкий недолгий дождь. Утро стояло прохладным, туманным. Тюремный день начался обычно — кипятком и хлебом. Уже кое-кто появился на шоссе с передачей, и дама, стоя перед тюрьмой посреди мокрого огорода, кричала кому-то вверх и махала зонтиком. Старосты назначали передатчиков, когда из города по шоссе промчался мотоцикл, подпрыгивая по колеям и стреляя, как пулемет.
— Остановился возле тюрьмы! — закричал безумный голос сверху.
Тюрьма готовилась к передаче — голоса никто не услышал. Звенели цепи открываемых камер. Передатчики сбегали вниз, и лестницы гудели под их босыми ногами.
Но полковник сосредоточенно пощупал свой карман и пересел с тюфяка к столу.
Синайского вызвали вниз с вещами. Окруженный отсутствующими глазами, он взял под мышку башмаки, засунутые под тюфяк, надел фуражку, вышел босиком из камеры и стал плавно, как в лифте, спускаться по лестничке вниз. Спускаясь, Синайский еще сверху увидел коменданта. Он сидел верхом на перилах нижней лестнички, одной рукой натаскивая на колено длинное голенище скрипучего хромового сапога, а в другой держа бумагу с голубой треугольной печатью. На нем были алые галифе с серебряным гусарским басоном. Черная легкая рубашка, перетянутая в талии кавказским ремешком с простым набором, топорщилась на спине пузырем. Из-под лопнувшего козырька малиновой фуражки, сдвинутой на затылок, висела темно-русая челка. Смуглое ореховое лицо с подкожной зеленью было прекрасно, и открытые глаза большой синевы с легким нетерпением смотрели на толстую пыльную морщину, сделавшуюся на носке сапога от постоянного упора в стремя. Он проплыл туманно, как ангел. Внизу Синайский поспешно обулся. Вместе с прочими его вывели в каменный дворик перед коваными громадными нюрнбергскими воротами.
Почему-то на крыльце был венский стул, и бетон вокруг него был заплеван виноградной кожицей. Из решетчатого окна мельком выглянуло испуганное женское лицо. Вероятно, машинистка. Но это было не важно.
Самое важное, самое главное было впереди, за коваными воротами. Толстая калитка отворилась. В будке стояли бородатый дворник с ключами и начальник тюрьмы. Синайский почувствовал близость огромной мокрой земли. Он увидел вблизи деревья, камни и трамвайную станцию.
Люди стояли кучками на высоком придорожном валу, заросшем мокрым бурьяном и лозой. Стараясь разглядеть, кого ведут, они поднимались на носки и бежали в отдалении, вытянув шеи. Женщины путались в юбках и спотыкались. Но Синайский не заметил среди них отца. Он обычно приходил позже.
Уже тюрьма стояла позади опрятным кирпичным домом. За удаляющейся стеной часто и звонко били в рельсу. Окна камер казались совсем маленькими квадратиками, полными мелких, почти невидимых рук и лиц.
У Синайского вспотели ноги. Они скользили и хлюпали в слишком больших солдатских башмаках. Жажда жгла горло. Икры, отвыкшие от ходьбы, ныли, как у тифозного: вяло и судорожно. Приторная тошнота сводила челюсти.
Вокруг была чудесная плодородная земля, полная недавнего дождя. Купы мокрой зелени, уже тронутые осенней желтизной, переполняли кладбище и свешивались из-за его очень длинного серого забора.
Малиновая фуражка коменданта высоко и медленно плыла в туманном, синеватом, как бы мыльном воздухе.
Они почти поравнялись с кладбищенскими воротами. Ворота были открыты. Петр Иванович увидел, как во сне, широкую аллею, косо ведущую к церкви. По аллее, спотыкаясь, бежал старик Синайский в черном пальто. Одной рукой он придерживал пенсне, в другой болталась кошелка. Реденькая борода была задрана кверху. Он вовремя добежал до ворот и остановился. Еще не видя сына, он поднялся на цыпочки и с тревогой вглядывался вперед. Лицо его было бумажным.
«Папа», — хотел крикнуть Синайский, — «папа», но вдруг почувствовал бессильный ужасный стыд перед отцом, и равнодушие и отвращение к нему, и жалость к себе, и страх, что он его заметит, и страх, что не заметит и пойдет к тюрьме, и ужас, что не увидит его в окне тюрьмы. Голос изменил ему. Клапан закрыл горло. Он продолжал шагать, глядя прямо перед собой, уже ничего не видя, кроме белизны своих окоченевших щек, и ничего не чувствуя, кроме постыдно распластанной студенческой фуражки на голове. Вдруг Петр Иванович почувствовал, что отец увидел его фуражку. Он посмотрел вбок. Старик Синайский торопливой рысью бежал по обочине шоссе, вдоль конвоя, просительно улыбаясь, глядя сыну в глаза и раскланиваясь.
— Петруша... Петруша... — приговаривал он, почти крича, и улыбался, не понимая, что происходит, и задыхался, понимая. — Петруша, — лепетал он, — тут вот табачок, табачок вот...
Спотыкаясь на бегу, он совал конвойному кошелку и с отчаянной лаской шепеляво приговаривал:
— Табачок нельзя ли сыну?.. Ведь сыну... Ведь табачок...
— Не подступай, — закричал конвойный, — не подступай, старик!
Отец растерянно остановился. На его мелких плохих глазах стояли слезы недоумения, и не с кем было посоветоваться.
«Не надо», — с отвращением прошептал Петр Иванович про себя, стараясь не смотреть на отца. Тогда отец с отчаянием бросился за лошадью конвойного, забежал спереди и припал к стремени. Лошадь шарахнулась. Отец отлетел в сторону. Соломенная шляпа покатилась в лужу. Кошелка упала. Старик поскользнулся в луже и шлепнулся на четвереньки, а потом на бок, широко расставив руки и роняя пенсне. Люди набежали на него.
Над головой по железнодорожному мосту свистнул паровик, обдавая паром и грохотом.
V
И ничего не стало вокруг Петра Ивановича: ни отца, ни соседей, ни конвоя, ни ледяного небывалого ветра, хлынувшего по рукам с северо-востока, ни обморочной черноты горизонта, севшего на обращенные вверх приклады, ни Чумки, проплывшей наоборот, в отрубях водопоя, ни тарахтения неожиданной мостовой у сенных весов — только белизна окоченевших щек, только гипсовый слепок лица, только невесомая легкость тела, с невероятным трудом преодолевающая громадный вес башмаков. Потерявши время и пространство, он шел впереди себя, вне себя, подле себя, залетая вперед и возвращаясь — сначала мимо опрокинутых ларьков рынка, среди катящихся помидоров и гирь, а потом по улице, пустой, как на рассвете.
Улица надвигалась улиткой, надвигалась всем своим каменным гулом, всей новизной своих красных вывесок и запертых ворот.
Но одни ворота открылись. Часовые отошли. Красный флаг трепало над стеклянной дверью комендатуры.
— Заводи во двор!
Вместе с другими, но как бы впереди себя, Синайский вошел во двор. Входя, он не обернулся. Ему не надо было оборачиваться. Он знал, что отец не мог не стоять на другой стороне улицы, против ворот. Он знал, что колени и руки отца были испачканы и на щеках присохли кляксы грязи. Он знал, что отец не нашел пенсне и шляпы и с непокрытой головой, как нищий, бежал, спотыкаясь и кланяясь, до самых этих ворот. Он чувствовал за спиной его заплаканные, малиновые, удивительные без пенсне, собачьи глаза. Он чувствовал его дрожь и отчаяние, но это уже было не важно и не нужно.
Ветер раздувал на клумбе пионы и бушевал в лимонной листве акаций.
Его ввели в комнату с безумно исписанными обоями. Стекла содрогались от грохота выезжавшего со двора грузовика. По стеклам летали вялые ветви. Жажда выжгла горло, как глину, и в сумрачной кухне Синайский пил воду губами из крана, обливая грудь и захлебываясь. В медном кране, отражаясь, горела лампочка слабого накала, неутолимая, как жажда. Мимо окон, весь в румянце от невидимой зари, прошел часовой.
Комиссар вошел в комнату и велел идти. Синайский прошел коридором и стал подыматься по мраморной лестнице с клеткой лифта, окоченевшей между двумя этажами, не смея оборачиваться и чувствуя за спиной у себя повелевающий пистолет. Они проходили сквозь коридоры пустых квартир, поворачивая вправо и влево, опускались по громыхающим железным лестничкам черных ходов, снова подымались, и бой шагов башмачным гулом стоял в раковинах кухонь и писсуарах.
Кружа в лабиринте коридоров и лестниц, они подымались все выше и выше. Встречные окна мелькали, как барограф, показывая высоту. Ветреное небо страстно вырастало над слуховыми люками и голубятнями. Крыши города опускались вниз и, опускаясь, рябили в глазах черепичной сплошью, пунцовым стыдом зари.
В пятом этаже комиссар пропустил Синайского в кабинет следователя и остановился за дверью. Посредине огромной комнаты стоял письменный стол. На столе горела зеленая лампа. Следователь сидел в кресле. Половина его сонного лица была освещена лампой, половина зарей. Он посмотрел на Петра Ивановича привычно и придвинул початую четвертку табаку.
Петр Иванович зашатался от шума, хлынувшего в голову, и от крови, переполнившей сердце. В глазах посинело, затем все ослепительно зажглось, и страшно захотелось курить. Он сел на стул и дрожащими пальцами стал сворачивать папиросу, просыпая табак и рвя бумагу. Следователь щелкнул зажигалкой и подал ему багровое пламя. Синайской жадно затянулся.
— Если есть, — сказал он, задыхаясь, — если есть...
Следователь вяло вышел из комнаты. Его глаза были сонными. Он долго не возвращался. Недосказанные слова спирали Петру Ивановичу горло. Он выкурил папиросу и скрутил другую. В полной тишине где-то внизу, в подвалах, трудно, туго и высоко, как совесть, гудело динамо, единственный работающий в городе электромотор, и весь дом прислушивался, содрогаясь, к его непрерывной работе.
Синайский встал и во весь рост увидел окно. Темный ветер катил за стеклами по крышам крымские яблоки облаков. Розовая чернота смерти надвигалась на глаза.
«Так вот оно как», — подумал Петр Иванович, стоя посередине комнаты, среди оцепеневших вдруг окон, запертый коварно остановившимися облаками. «Так вот оно как», — думал он, не в силах сдвинуться с места и уже ничего не видя, кроме гипсовой маски своего лица, и ничего не слыша, кроме шагов и движения за дверью. Шаги и шум приближались, вырастали до неизмеримых пределов, и снова удалялись, и снова приближались, а он продолжал стоять в третьей позиции, не смея сдвинуть носков и зная, что, пока он их не сдвинул, ручка двери не повернется. Но на голом, ярко освещенном полу валялись клочки бумаги и окурки. Он знал, что, пока они валяются, ручка может повернуться, и надо их поскорее убрать. Но убрать их, не сдвинув носков, было невозможно. И оставить их на полу было невозможно. И Петр Иванович, выжидая, когда шум удалялся, быстро хватал бумажку, кидал в плевательницу и с бьющимся сердцем, как ни в чем не бывало, ставил ноги в безопасную позицию. Но шум накатывал снова. Неубранные бумажки белели на голом полу, как улики. Ручка готова была повернуться. Но грохот удалялся, и Петр Иванович, как вор, торопясь и задыхаясь, убирал с полу бумажки. Вот осталась всего одна. Маленький треугольный клочочек. Он лежал в самом дальнем углу, на самом видном месте. Надо было успеть, надо было перебежать комнату. От этого зависело все. Петр Иванович бросился за бумажкой. Но грохот настиг его с поличным. Ручка дрогнула. Он зажал бумажку в кулаке и, обливаясь потом, как ни в чем не бывало, замер на бегу в безопасной позиции, но не удержался, и носки разъехались. Ручка поворачивалась. Отчаянная жажда жизни охватила его в это мгновение между поворотом ручки и движением двери. «Ах, если бы можно было сжаться до точки, исчезнуть, испариться! Закрыть глаза и растаять! Сгинуть! Превратиться в бумажку! Превратиться в отца, — подумал Петр Иванович в это мгновение, — в самом деле, отчего бы не превратиться в отца! Та же фамилия! Та же кровь. Та же самая жизнь. Только моя — начало, а его — конец. А небось не согласился бы поменяться участью с сыном! Проклятая стариковская жадность — цепляться за жизнь. Оплакивать сына, и жить, и дышать, и ходить по урокам. Слышишь, отец! Так где же твоя хваленая отцовская любовь! Где же твое хваленое отцовское горе?!»
Открылась дверь.
Следователь вошел с жестяным чайником и налил себе кружку чаю.
— Если есть... — хрипло сказал Петр Иванович, но следователь внимательно смотрел на него снизу вверх рогатыми глазами и, не торопясь, выдвинул ящик стола. Он опустил в него руку с голубым якорем и взял какой-то предмет. С вялой тщательностью он долго переводил взгляд с этого предмета на Синайского, задумчиво сличая и удивляясь, опять сличая, и вдруг лицо его стало железным, скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком так, что подпрыгнул чайник.
— В камэу! — крикнул он косноязычно, обнаружив прилипшую к языку стеклянную конфетку, и потянулся к кружке.
«Если есть...» — хотел вымолвить Петр Иванович, но горло стало глиняным. Он, шатаясь, вышел из комнаты.
И все.
Так просто и так понятно. «Да и быть этого иначе не могло. Разве могла произойти такая ужасная, непоправимая ошибка? — подумал Синайский. — Нет, не бывает в таких делах ошибок».
VI
Успокоившийся, освобожденный и ослабевший, он вернулся в камеру и лег в свой угол на тужурку. И, засыпая, сквозь счастливый приступ неодолимого сна он слышал некоторое время за ставнями холостую работу мотора и слабые, еле уловимые выстрелы, через десять секунд каждый. Он насчитал их что-то восемь и заснул.
Поздним вечером следующего дня Синайского освободили. За спиной горел насквозь высверленный электричеством бессонный, как совесть, дом.
Только теперь он увидел, какова была погода. Неожиданный резкий ветер жег уши. Обледенелая улица, начисто выметенная и отполированная норд-остом, была черна и безлюдна. Углы переулков свистали за спиной в два пальца. Железное небо, просверленное звездами, ехало по крышам, как броневик. Никогда еще Петр Иванович не видел таким свой родной город. Он был нов и страшен. Как жили и что делали люди в этих замерзших слепых домах без воды и хлеба? В этих домах с плотно закрытыми ставнями квартир и опущенными шторами магазинов?
Скользя по льду, преодолевая ветер, Петр Иванович миновал улицу, где жил в детстве. Тут некогда была на углу аптека. В ее непомерных окнах некогда стояли стеклянные шары, полные малинового и синего пламени, полные яда, полные ламп и рефлекторов, ломивших детские глаза. Некогда в этой аптеке покупали для мамы лекарство, и отсюда сестра из общины приносила кислородные подушки, которые храпели, как умирающие, у маминых почерневших губ. И сейчас эта аптека стояла на старом месте. Но темно было в ее окнах, и только где-то в глубине за кассой чадил невидимый ночник, крутя вокруг головы Сократа большую ненужную тень. Да старик еврей, похожий на Шейлока, продавец рассыпных папирос, мерз на ступеньках со своим лотком, слабо озаренным решетчатым средневековым фонариком.
Таков был город. Но это была свобода, это была жизнь.
Чем ближе он подходил к своему родному дому, тем учащеннее и труднее колотилось сердце, тем нетерпеливее горели щеки. Руки сами собой разлетались по сторонам, как крылья, и Петр Иванович не взбежал, а взлетел, задыхаясь, по родной темной лестнице на четвертый этаж.
Перед дверью он нащупал коврик и пошарил под ним в пыли. Ключика не было. Он толкнул дверь. Она открылась. Он вошел в темную переднюю. Вешалка направо, зеркало налево. Он протянул руку налево. Пальцы уперлись в стекло, и легкий водянистый свет закачался под пальцами. Правильно — зеркало. Но где отец, в которой комнате? Он затаил дыхание. Справа под дверью светилось. Тут Петр Иванович осторожно и нежно открыл дверь. На подоконнике чадила плошка. Ветер дул из оконных щелей в слабое пламя. Тени вещей толпились до потолка в тяжелой стариковской вони и тесноте неузнаваемой комнаты. Отец в одном белье, с открытыми глазами лежал ничком на постели, поверх одеяла, трудно подвернув под себя руки и вытянув красную шею. Он весь дрожал мелкой, ровной, непрерывной дрожью, судорожно сопя и со свистом выдыхая воздух из полуоткрытого, разинутого, забитого набухшим языком рта.
— Папа, — тихо позвал сын.
Отец вскочил, как от удара, и, дико озираясь, заметался на постели.
— Что такое? Что? — в ужасе крикнул он быстрым шепотом и взмахнул широкими рукавами рубахи. — Что, что такое?
Он опустил босые ноги на пол и увидел сына.
— Что? Бог с тобой... Что такое? — пролепетал он, не понимая, и вдруг понял. Счастье, страх за это невероятное счастье, благодарность и слезы хлынули по его родному лицу.
Весь дрожа и поддерживая дрожащей рукой подштанники, он пошел к сыну, шлепая по полу и волоча тесемки.
— Господь с тобою... Господь с тобою... — бормотал он, поспешно крестясь и крестя сына и снова крестясь в забытьи и счастье. Он схватил его обеими руками за голову, поднял ее и поцеловал мокрыми стариковскими губами в губы. Потом прижал свою голову к его груди и, обхватив сыновние плечи, замер, бормоча и всхлипывая: — Петруша, ну вот, сынок... Христос с тобой... Ну, вот видишь... Христос с тобой... Петруша, ведь...
А сын держал в объятиях вялое, почти невесомое старческое тело отца и видел сверху дорогую всклокоченную голову — дорогое, седое, поредевшее, разоренное гнездо.
Как могло это случиться, что он, большой и сильный отец, который некогда нянчил сына и водил его за руку гулять, который крестил его на ночь и на цыпочках выходил из комнаты, который купал его и ласково ерошил мокрую шевелюру, теперь маленький и тщедушный, едва доставая ему до плеча, плачет на груди у сына, как бессильный ребенок, как сын на груди у отца? Так думал Петр Иванович, гладя отцовскую узкую спину, целуя отца в поредевшую макушку, полную перхоти, и невыносимая жалость сжимала его сердце, полное раскаяния, благодарности и любви.
Вдруг отец очнулся. Он всплеснул руками и затоптался, засуетился возле сына.
— Что же это я, — сказал он, — ведь чайку бы надо... Сбегать бы вниз... У нас, видишь ли, куб во дворе... Сейчас, сейчас... Да что я, право?.. Ведь еще не остыл... Хлебца бы...
Он забегал по комнате, шаря по стульям, засеменил, захлопотал. Он быстро надел штаны и стал близоруко соваться по углам, приподнимая газеты и натыкаясь на вещи.
— Где это он, чайник? — бормотал он. — Сейчас сбегаю вниз за кипяточком. Без пенсне, знаешь ли, как без рук. Буквально ничего не вижу. Сейчас, сейчас... Ты погоди! Ды ты приляг... Ай-яй-яй!.. Сахарку ни кусочка, скандал! Какой скандал! Погоди, может быть, у соседей?.. У нас ведь, Петруша, соседи. По ордерам, знаешь ли. Такие милые все люди, предупредительные. Все советские служащие, видишь ли... И хлеба, может быть, у них добуду...
Торопясь, чтобы поскорее вернуться к сыну, чтобы не потерять его как-нибудь, он побежал к соседям. Очевидно, соседи знали все. В соседней комнате засуетились. «Самовар», — сказал кто-то басом. Потом захлопали двери, и через две минуты отец уже вносил в комнату тяжелый чайник, обжигая пальцы и приседая на ходу.
Они напились чаю с сахаром и хлебом.
В комнате стояла всего одна кровать. Другая была на чердаке. Отец ни за что не хотел спать на кровати и постлал себе на полу.
Он уложил сына в постель, подоткнул одеяло, укутал, как некогда, ноги, поцеловал в лоб, неумело скрутил папиросу, подал огня и перекрестился. А сам, сгорбившись, сел в изголовье и, нежно перебирая жесткие, шесть месяцев не стриженные волосы сына, шептал:
— Спи, сынок. Христос с тобой. Спи спокойно. У тебя жарок. Поспи.
И долго не мог отец отвести от сына своих покрасневших, плохих без пенсне глаз.
А у сына точно начинался легкий жарок. Он наполнял глазные впадины, волок по ресницам сусально смуглую паутину ночника, сладко ломил кости. Яркий червячок фитилька, потрескивая над блюдцем, блаженно плавал в домашней тишине. И, засыпая под отцовской ладонью, Петр Иванович вспомнил, как в детстве в этой же квартире, но в другой комнате, он болел скарлатиной и выздоравливал.
VII
Вечером у его постели на стуле горел стакан крепкой малины. Лампада наполняла угол сусальным жаром образов. Громадная тень пальмовой ветки легко и сладко лежала на полутемном потолке. Позади (он не видел, но знал) за письменным столом сидел, исправляя тетрадки, отец. Там была низкая сумрачная зелень абажура. Этот вечер был замечательным вечером в Петиной жизни. Ему принесли письмо. Большой белый легкий конверт, заклеенный синей облаткой. И были в этом письме написаны необыкновенные слова. Из письма выпала гвоздика. Все вокруг мальчика пропахло ее сильным перечным запахом. Он положил ее, вялую и почти черную, под подушку, но письма спрятать не мог. Он должен был каждую минуту смотреть на него и трогать. Во всей квартире, кроме отца и сына, не было ни души. Внизу под ними, в гулких недрах этого нового, одинокого в снегах, бетонного кооперативного дома, наигрывали на рояле. Петя попросил отца сыграть «Месяцы» Чайковского.
— Погоди, — сказал отец, — вот исправлю тетрадку.
В пустой кухне из крана в раковину капала вода, да так, будто кто прохаживался в кухне редкими шажками. Отец отодвинул стул. Он положил свою большую холодную руку на Петин теплый лоб и рассеянно и нежно перебрал пальцами взмокшие его волосы.
— Ну сынок, так что же бы тебе сыграть?
Он снял пенсне и потянулся весь в своем стареньком сереньком милом люстриновом пиджачке, где по теплым карманам — Петя знал — уютно слежалось множество бумажек, карандашиков, графиков, крошек и носовых платков.
Петя закрыл глаза и слышал, как отец прошел в столовую. Там завизжало вывинчиваемое сиденье табуретки. Он открыл крышку и медленно заиграл. С добросовестной внимательностью близорукого человека, примеряясь к нотам и клавишам, он медленно и аккуратно брал знакомые ноты. Вероятно, он играл плохо. Но тайная удивительная прелесть была в его игре. Он играл «Белые ночи». Петя видел эту смутную зелень Фонтанки, никогда не виданной им, он ощущал, как предчувствие любви, свежесть этого откуда-то из льдов вылетающего мая. Вероятно, играя, отец думал о покойной маме. Потом он измерил Пете температуру, и мальчик немного заснул.
Когда он проснулся, лампа уже была потушена, только тень от пальмовой ветки широко и сладко лежала над ним на освещенном лампадой потолке.
Отец в нижнем белье стоял на коленях на коврике перед грановитым углом и молился. С добросовестной внимательностью очень близорукого человека он прикладывал пальцы ко лбу, плечам и груди. Он аккуратно укладывал темную, волохатую голову на коврик. Петя был уверен, что он молится за покойную маму и за него. Боясь его смутить, он закрыл глаза и притворился спящим, но долго еще не мог уснуть.
Темный запах гвоздики стоял вокруг него и в нем непреодолимым обещанием любви и счастья.
И, засыпая, Петя думал, противясь этому вялому и сильному запаху: «Нет, никого на свете я все-таки не люблю так сильно, как папу. Я буду его любить всегда. Никогда я не сделаю ему никакой неприятности, никогда не подумаю о нем дурно. Вот я выздоровлю, и мы вместе пойдем гулять. А в старости я буду ему верной опорой».
Но, засыпая тогда, в детстве, Петр Иванович лгал и ему и себе. И, засыпая теперь, он вспомнил, что в марте, едва встав с постели, он тайком от отца надел в передней пальто, показавшееся ему слишком тяжелым. Толстая фуражка была тоже тяжела и велика. Она глубоко села на коротко остриженную голову, надвинувшись на похудевшие уши. Глаза отразились в обморочном зеркале наклонной чернотой. Петя на цыпочках вышел и захлопнул за собой торжествующую дверь. Гром американского замка зарядил мраморный пролет четырехэтажным эхом. Ослабевшие мускулы ног с трудом держали слишком тяжелое и вялое тело, и, опускаясь по лестнице, Пете трудно было в легком головокружении сохранить равновесие.
Барышня, гимназистка, ожидала его на даче над морем. Она стояла, наклонив против ветра форменную фетровую шляпу с салатным бантом. Барышне было пятнадцать лет, и она еще носила шляпу на резинке, черневшей по нежной щеке возле уха. Деревья дико и точно стояли вокруг на облачном перламутровом небе, проявлявшем местами непростительную голубизну.
Они долго смотрели прямо перед собой на море. Море было большое, пустое, туманное.
В голых прутьях, среди крупных почек и прошлогодних листьев, ссорились воробьи. Свежо и горьковато пахло сиреневой корочкой. На скамье были вырезаны почерневшие от дождей буквы.
Гимназистка сняла шляпу и повесила ее на столбик. Она вынула из муфты зеркальце и, ловко набрав полон рот шпилек, отколола обкрученную вокруг головы косу; волосы медленно раскрутились, их было очень много. Они были каштанового цвета с рыжими пушистыми кончиками. Барышня тряхнула освобожденной головой и неожиданно похорошела. Петя взял ее похолодевшую нежную руку.
А отец, обманутый сыном, в это время прошелся, вероятно скучая, по пустой квартире, потянулася весь в своем сереньком пиджачке и, вздохнув, сел к столу исправлять тетрадки.
Так, засыпая в домашней тишине при нищем пламени плошки, дыша безопасным воздухом родного дома, Петр Иванович вспомнил свое счастливое отрочество, свою милую юность. И, засыпая, он видел теперь наяву отца. Отец в одном белье стоял на коленях возле его кровати и молился.
И, засыпая, Петр Иванович думал так: «Некогда в детстве в этой же квартире, но в другой комнате, выздоравливая и засыпая, я думал: «Нет, никого на свете я не люблю так сильно, как папу. Я буду любить его всегда, никогда я не сделаю ему зла, никогда я не подумаю о нем дурно, а в старости я буду ему верной опорой», — так думал я, засыпая в детстве, и, засыпая, забывал это, и любил других сильнее его, и обманывал его, и делал ему зло, и думал о нем дурно. Я обещался в старости быть ему верной опорой, но, засыпая, забывал это и мучил его страхом за мою жизнь, мучил письмами с фронта, мучил ранами и лазаретами. И, мучая, я прозевал его старость, не утешил его, не помог, не успокоил, не приласкал. И вот он, седой и покорный старик, мой отец, молится за меня, благодарит за меня на коленях, и машет широким рукавом среди нищенской тьмы, и приклоняет поредевшую свою волохатую голову на пол. Нет, не должно этого быть, не будет этого! Теперь все пойдет по-другому, заживем мы вместе душа в душу, — думал Петр Иванович теперь, как и в детстве, засыпая в слезах, — и я буду любить его больше всех, и жалеть его, и кормить, и буду ему верной опорой».
VIII
Но случилось все по-иному, случилось так, как должно было случиться.
На другой день, переодетый во все чистое и заплатанное отцом, Петр Иванович в последний раз увидел в смуглом зеркале коммунальной парикмахерской свое обросшее шерстью, шесть месяцев не бритое лицо декабриста. Черные клочья курчавых волос валились из-под визжащей машинки в грязную простыню, и от них стежками секундной стрелки расползались насекомые. Проворно вывихнутая бритва снимала со щек кошачий мех бакенбардов и рвала рыжую бороду, оголяя из-под белой пены худой подбородок. Молодое, чистое, черноглазое лицо с голыми ушами чуждо и радостно посмотрело на Петра Ивановича из зеркала. Он отряхнулся и вышел на улицу. Все было чуждо и радостно в его родном неузнаваемом городе. Белоснежные облака, голубые с одного боку, летели одно за другим над городом в синем студеном небе с севера на юг. Свежие тени их пятнали обожженные утренником цветники на дачах, где стояли красноармейские батареи, пятнали вокзальную площадь и братскую могилу с плугом вместо памятника, пятнали платки и палатки рынка, пятнали красные вывески учреждений, пятнали плакаты, пятнали лотки папиросников, пятнали портфели и порталы особняков, из-за которых ветер вдруг выносил в глаза фиолетовое море, заплатанное облаками и солнцем.
Город двигался, работал и жил непонятной жизнью, чуждой и радостной. Петр Иванович еще был одиночкой вне этого общего движения и работы, но уже чувствовал, что вне этого оставаться невозможно. Что-то нужно сделать, как-то немедленно поступить, зацепиться за что-то и быть втянутым в эту чуждую и радостную жизнь, кипевшую в городе вокруг вывески «Биржа труда» над порталом приморского особняка.
Некогда, решив ехать добровольцем на фронт, Петр Синайский с бьющимся сердцем, полный счастья и мальчишеской гордости, взбегал по лестнице в канцелярию воинского начальника. «Вот я войду сейчас в кабинет воинского начальника, — думал он, размахивая руками и прыгая через ступеньку, — вот я войду сейчас и скажу ему: «Полковник, в то время когда тысячи людей умирают на войне за родину, я не могу оставаться в тылу. Прошу немедленно отправить меня добровольцем на фронт!» И он, старый боевой полковник с седыми усами, встанет из-за стола и растроганно воскликнет, протягивая мне руку: «Вы храбрый юноша. Нам нужны такие солдаты. Спасибо». И, строго обратившись к адъютанту и посетителям, хлопочущим, чтобы остаться в тылу, прибавит: «Вот достойный молодой человек. Ставлю вам его в пример, господа. Сегодня же вечером с первым эшелоном он будет отправлен на передовые позиции. А вам, молодой человек, желаю вернуться георгиевским кавалером, и да хранит вас бог!» Но громадная очередь стояла в темном коридоре у кабинета полковника. Ничего нельзя было добиться. Писаря нагло шныряли мимо хлопочущих вдов с аттестатами. Оглушительно щелкали машинки. Десятки доблестных молодых людей так же, как и Петр, желающих добровольцами отправиться на фронт, неумело ломились за какую-то решетку, прямо в штемпеля и печати, в табачные пальцы гарнизонных крыс, потея и потрясая зауряд-почерками прошений и справок о благонадежности. Тут же в путанице Петр потерял свою одиночную доблесть ж впервые понял, что в жизни не бывает ни одиночек-героев, ни одиночек-желаний, ни даже одиночек-фамилий: какой-то высокий, в семинарской шинели, с прошением в руках оказался по фамилии тоже Синайским, но Феодор, подобно прочим желающий ехать на фронт. Растерявшийся Петр записался в очередь, получил номерок, написал на подоконнике прошение и долго потом потел и томился у липовой липкой решетки, дожидаясь, пока его вызовут, исказивши фамилию. С той поры он уже никогда не стоял особняком. Что бы он ни делал, ни желал и ни чувствовал, чувствовали, желали и делали все остальные: в тылу и на батарее, на наблюдательном пункте и под обстрелом, получая посылки и писавши письма химическим карандашом на зарядном ящике.
Некогда в канцелярии воинского начальника, потерявшись среди людей, во всем подобных ему, Петр Иванович впервые почувствовал себя частью чуждой, но радостной жизни, за которой не пропадешь, которая зацепит зубцом, как машина, втянет, все устроит само собой и вынесет вместе с другими куда надо.
Так и теперь, очутившись на бирже труда, в толпе подобных себе людей, перед сосновыми перилами канцелярии, он перестал быть одиночкой. Сложная, непонятная с первого взгляда машина биржи, работающая, как видно, на полном ходу, зацепила его среди прочих, втянула, взяла в оборот, потащила к труду из комнаты в комнату, велела заполнить на подоконнике анкету, велела запомнить номер, пугнула «начканцем» и «профсоюзом», показала мельком в конце коридора «Комслуж», где за столом, как за прилавком, некто в пиджаке развешивал хлеб и керосин, и вдруг, сама собой, даже в лицо не взглянув, вынесла вместе с другими служить по специальности — в статбюро губземотдела.
Между тем валила зима. Небывало жестокая железная зима девятьсот двадцать первого года.
Подобно кораблю, оснащенному стужей, город плыл без воды и угля в ледяном ветре, в тумане, окруженный с трех сторон одичавшим морем. По всему побережью бушевали штормы. Волны швабрами били в слепой маяк, ошарашивали гулом, шаровали песком и пемзой валуны волнолома, гейзерами взрывались у голых пристаней, обдавая градом обледенелые элеваторы и пакгаузы. Подобно кораблю, город преодолевал дни, как волны. Ночи были непреодолимы. А по утрам, в тот час, когда город был еще гол и звонок, а небо серо и беспризорно, люди становились длинными хвостами у распределителей и чайных, дрожа от холода и мечтая о жестяной кружке ячменного кипятку с безвкусной стеклянной конфеткой, выданной сонной девушкой на куске хлеба, мокрого, как замазка. Нищая жизнь была полна забот о пайке и печке.
Петр Иванович уже давно не жил с отцом. Ему, молодому, было скучно и холодно в маленькой отцовской комнатке на четвертом этаже под крышей, где по чердакам гуляли сквозняки, где вода замерзала в тарелке на подоконнике и затхло воняло стариком. Ему дали по ордеру комнату в центре, в буржуйской квартире, в первом этаже, где была вода и ковры. Он поставил у себя железную печку и по вечерам топил ее хозяйской мебелью. Хорошее дерево горело сухо и легко. Железная труба дрожала и гудела сильной тягой. На дамском письменном столе блистал светильник. Это не было жалкое блюдце с постным маслом, в котором кис ватный фитиль и плавал маленький языческий огонек. Нет, это был яркий усовершенствованный бензинный светильник — стеклянная баночка из-под горчицы с высокой металлической трубкой, вставленной в пробку. Четыре ярких коготка вырывались с четырех сторон из запаянного конца трубки, и вся комната так сияла, что можно было читать. И так сиял пайковый досиня белый колотый сахар, похожий на куски разбитого варваром мрамора, что чайник подпрыгивал на печке от радости и вскипал коричневой пеной ячменного кофе. И так сиял и лучился камышовый пушок на детских руках барышни, приходившей к Петру Ивановичу иногда со службы погреться и похозяйничать, что комнатный воздух сам собой золотел теплотой первобытного рая, и девичьи пуховые пахучие варежки нежились на бандерольной бумаге газеты, возле сахара, как кролики.
IX
Однажды вечером к Петру Ивановичу пришел отец. На нем была солдатская сломанная фуражка, вытертое зеленое пальто и худые сапоги с чужой ноги. Потирая отмороженные уши морковными опухшими руками и доброжелательно разглядывая комнату, он неловко затоптался возле сына, приговаривая:
— Вот, видишь ли, как у тебя хорошо, Петруша. Печечка горит. Вот и устроился, слава богу. А я, знаешь ли, прямо из техникума — иду мимо, дай, думаю, зайду посмотрю, как сынок живет.
Он благожелательно посмотрел на барышню.
— Так-то, Петруша, — сказал он и вдруг сконфуженно заторопился. — Ну вот, посмотрел и пойду. Я ведь на минуточку. Пойду себе и завалюсь на боковую.
— Ды ты посиди, обогрейся, — сказал Петр Иванович, подавая ему стул. — Куда тебе? Раздевайся. У меня тут тепло. Кофе пьем. Давай свое пальтишко.
— Что ты, что ты! — испугался отец. — Я в пальто. Привычка, знаешь ли. Всюду холодище. В техникуме все в пальто сидят. А дома вода стынет. Печки ведь, знаешь, нет. В пальто и сплю. Печку бы раздобыть, да где уж... Печка теперь не по средствам, да и дрова, знаешь ли, кусаются. Уж я в пальто...
Он испуганно хватался за пуговицы, не расстегнулись ли, и, стыдясь своей грязной рубахи и того, что под пальто уже не было пиджака, щупал крючок на горле.
— А вот кофейком, пожалуй, побалуюсь. От кофейка не откажусь. Холодище на улице, знаешь ли, ужасный. Ветер с ног валит. Буквально идти невозможно. Озяб, знаешь ли, без перчаток.
Отец, как был, в фуражке сел на стул посредине комнаты и, поджав под сиденье ноги, уже не мог оторваться от докрасна раскалившейся трубы печки. Его слабая челюсть отвисла, седая редкая бороденка сквозила старческой желтизной, под красным пористым носом висела капелька, роса блестела на бровях. Щеки обмякли, и серебряная отросшая щеточка волос терла на затылке воротник.
Сын прошелся по комнате, нетерпеливо поглядывая на закипающий кофе, и подсел к отцу.
— Ну, старик, так как же ты живешь? — весело воскликнул он, чувствуя неловкость и стараясь ее побороть весельем.
Отец грустно и серьезно посмотрел на сына и утер под носом.
— То-то вот и есть, что старик, — сказал он, вздохнув, и вдруг ласково и беспомощно улыбнулся, — то-то и есть, сынок, что старик. По-стариковски и живу. Правильнее выразиться, существую. Скриплю, знаешь ли, скриплю... Поскриплю еще годик-два, а там пора и честь знать. Молодое растет, старое старится. Да и чего, в самом деле, небо коптить? Сына вот вырастил. Есть кому глаза закрыть.
— Ну, папа, что это ты, в самом деле, затеял за разговоры! — воскликнул Петр Иванович. — Давай лучше кофий пить. — И он подмигнул барышне.
— И то верно, сынок, — согласился отец и, приняв из рук барышни кружку, припал к ней лилово-розовыми мокрыми губами, обжигаясь и дуя.
Сын придвинул ему сахар.
— Ай-яй-яй! — в восторге сказал он, увидев сахар. — Сахарку-то у тебя сколько! Ишь ты какой — колотый! Его и не укусишь. Зубов, знаешь ли, нету, чтобы вприкуску пить. Больше вприглядку пью кипяточек. Внакладку, знаешь ли, и не по карману.
— Ды ты клади, не стесняйся.
Отец близоруко выбрал кусочек поменьше и бросил в кружку.
— Гляди, разорю твое хозяйство, — сказал он, повеселев над кружкой. — На таких беззубых гостей, как я, и не напасешься.
С этими словами он принялся жадно хлебать густую горячую жижу, по которой плавала рыжая пена жженого ячменя.
— Вот так, видишь ли, и прозябаю, — говорил он, прихлебывая и поглядывая на сына счастливыми глазами, — бегаю в техникум, на уроки, обедаю в общественной столовой. Настоишься, знаешь ли, в очереди, намерзнешься, аппетиты разыгрываются. Спасибо ученикам. Не в очередь пропускают. Милые такие все. Предупредительные. «Вы уж, пожалуйста, Иван Петрович, товарищ Синайский, проходите вперед. Мы не возражаем. Нас много, а вы один». Такие, право, отзывчивые. До слез доводят, веришь ли. Лишний талончик, бывает, сунут. «Ешьте, говорят, товарищ Синайский, на здоровье». Набьешься сухой кашкой, да и домой. Идти только далеко. Ноги не несут. Сядешь на полпути где-нибудь на тумбочку и отдыхаешь. Скриплю, сынок, скриплю... Без перчаток, знаешь ли, пальцы отморозил. Да и сил прежних нет. Взберешься на четвертый этаж, еле дышишь. Завалишься спать, так до утра и пролежишь. Холодно. Окна кое-как заклеил, да все-таки дует, видишь ли. Печку бы поставить. Особенно холодно по утрам. Спасибо соседям, кипяток дают. Милые люди такие, отзывчивые. Бывает, Петруша, что и сил нет встать с постели. Никуда не гожусь. На покой пора. Ведь седьмой десяток пошел, шутка ли! Так-то оно. Чувствую, что свалюсь в один прекрасный день — сил не хватит. Ну да ничего. Не станет сил работать, возьму под мышку одеяльце и пойду себе потихонечку к Дарьюшке. Она ведь не чужая, не прогонит своего дядю. Неоднократно звала к себе жить. У них на Чумке благодать. Тишина. Глушь. И к мамочке, знаешь ли, ближе.
Отец разболтался у огня и вдруг, пугливо взглянув на сына и барышню, что-то уж очень заторопился:
— Ну, сынок, до свиданья. Пойду себе полегонечку. Без перчаток, знаешь ли, пальцы зябнут. Башлыка нет. Башлык теперь не по карману. Ну, до свиданья, до свиданья, сынок. До свиданья, барышня.
И в темной передней, уже не стесняясь постороннего, отец прижался к сыну и зашептал снизу вверх:
— Женился бы ты, Петруша! А? На внучат посмотреть хочется... перед смертью... Хорошо у тебя, — прибавил он, подымая низенький воротник и засовывая руки в рукава, — тепло и низко. Подыматься не надо. А я шел, знаешь, из техникума и дай, думаю, зайду проведать. Без перчаток, знаешь ли, пальцы ух как зябнут. Перчатки бы мне соорудить как-нибудь. Дарьюшка связать обещала. Печку бы поставить! А? Ну, до свиданья, до свиданья, не простудись, милый. Христос с тобой.
И отец, согретый и оживший, выскочил в ледяной черный подъезд, так и не сказав сыну, зачем он пришел. А пришел он затем, чтобы попроситься жить вместе с сыном в теплой и низкой комнате, попросить перчатки и немного хлеба.
Петр Иванович с нетерпением возвратился в комнату и поспешно задул светильник.
X
С трех сторон вокруг города бушевало ледяное одичавшее море. С четвертой надвигались уезды. Они расположились на подступах к рынкам и вокзалам, раскинулись тылом сытых диких деревень, полных домотканых коричневых сукон, муки и масла. Банды чубатых атаманов рыскали по перелескам и шляхам. Тютюнник свистал, гукая своих удальцов по горбам Подолии. Ангел развинчивал рельсы и крыл поезда из пулеметов. Заболотный залег в камышах за Балтой, не пропуская ни конного, ни пешего. Сам батько Махно на мохнатых своих лошадях переходил у Тирасполя замерзший Днестр, и его тачанки тарахтели контрабандой по мраморным приднестровским дорогам под самым носом у особых отделов и кордонов. В селах играли свадьбы и гуляли. Бараньи шапки летели в землю, и кованные железом сапоги дезертиров вытаптывали такие забористые переборы, что белые свитки дивчат сами собой распахивались черным барашком, руки сами собой упирались в бока, и разноцветные ленты и мониста стеклярусом карусели мчались в пьяных глазах гармониста. Губернские инструктора тряслись по уездным ярам из волости в волость на селянских подводах, добытых по наряду. Красные флажки сельсовета кренились от ветра над камышовыми крышами и журавлями колодцев. Красная звезда Марс студеным вихрем приближалась по ночам к земле, и каменные поля, не прикрытые снегом, лежали, черны и неподвижны, под небом, изглоданным холодом.
Так прошла зима, и в начале марта Петра Ивановича послали на две недели в уезд инструктировать Оргасев. Уже он ставил на козлы извозчика свой походный офицерский сундучок, как вдруг увидел отца. Отец торопливо бежал по улице в своем зеленом пальтишке, валясь вперед и волоча ноги. Увидев сына, отец остановился.
— Как же это ты так? — сказал он, подходя, и обидчиво и тревожно погладил его рукав. — Оказывается, едешь в уезд, а я ничего и не знаю. Посторонние люди сказали. Как же это? Сообщил бы, по крайней мере, отцу. Попрощаться ведь надо. Ведь отец я тебе. Хоть и стар, а помог бы уложиться, сундучок бы понес на вокзал. Как же так?
— На две недели всего, — сказал сын и вдруг ужаснулся перемене, которая произошла в отце. На его руках были большие красные шерстяные варежки. Шея и уши были закутаны гарусной шалью, из которой выглядывали дряблые, бабьи, белые, несмотря на холод, щечки, бессильно размякший рот и слезящиеся, какие-то вывернутые, словно вырезанные в опухшем лице, глаза, лишенные ресниц и оттянутые углами вниз. Весь он, закутанный и маленький, с подворачивающимися ногами и суетливыми руками, был похож на дряхлую вятскую старуху.
Сгорбившись, отец засеменил к извозчику и, кряхтя, стал устраивать сундучок.
— Как же это так, — бормотал он умоляюще, то и дело бросаясь от ремешков сундучка к сыну, чтобы погладить его по плечу, — как же это ты едешь? Ведь в уездах разбой. Не ездил бы ты, Петруша! А? Право, не ездил бы. Ведь убьют. Убьют ведь. Как бог свят. Да и чего тебе ездить: того и гляди, дожди начнутся, простудишься, чего доброго. Банды там орудуют. Не ездил бы, право, не ездил бы. Плюнул бы. Вот газеты пишут, что Заболотный разбойничает, — говорил он, подсаживая сына и забегая с другой стороны, чтобы сесть самому.
Он уселся рядом и, нежно поддерживая сына за талию, как даму, прижался своей обмотанной головой к его рукаву.
— А я, знаешь ли, специально притащился, чтобы попрощаться, — лепетал он по дороге на вокзал. — Ведь сын ты мне. Как же не проводить сынка-то! Притащился, с Чумки притащился. Я, знаешь ли, теперь совсем почти к Дарьюшке перебрался. К мамочкиной могилке поближе. Она мне, Дарьюшка-то, посмотри, какие перчатки связала, — такая добрая. Кормит меня, старика, чайком поит, даже неловко, право. А ты бы все-таки, сынок, не ездил. Плюнь, ей-богу. Ну, чего там хорошего в уезде? Опасностям только себя подвергать. Не езди, милый, не надо. Не улетай из гнезда.
И уже на вокзале, перед выходом на платформу, таща обеими руками тяжелый сундучок, приседая от тяжести, пока сын доставал билет, он все продолжал со слезами на глазах уговаривать.
— Не езди. Не надо. Остался бы... Эх, ведь какой недобрый. Не слушаешься отца. Папка худого не посоветует, — говорил он с покорным отчаянием, — остался бы, право. Я тебе сундучок обратно снесу лучше всякого носильщика. Экономия, знаешь ли, а? Экой ты какой недобрый. — И, увидев, что они уже подошли к двери, вдруг тяжело опустил сундучок, порывисто и поспешно бросился сыну на шею, с последней удивительной стариковской силой нагнул обеими руками его голову и прижался жадными губами к его губам, щекоча его подбородок мокрой своей бородой и ненаглядно засматривая в глаза грустными слезящимися своими глазами.
Толпа с трудом оторвала отца от сына и разъединила их. Петр Иванович подхватил сундучок и вышел на перрон. Отыскивая свой вагон, он мельком в последний раз увидел в дверях отца, который пробивался к нему, оттираемый людьми все дальше и дальше от двери, оплывал и крестил его издали красной своей варежкой.
Чинная пустота и одиночество перрона охватили Петра Ивановича, и он уже не мог отделаться от них ни в унылом сумраке вагона, вымытого карболкой, ни потом, под хмурыми мартовскими тучами, мотаясь по уездным дорогам из села в село, окруженный ядовитой зеленью озимых, широко и медленно поворачивающихся вокруг телеги до самого опасного горизонта.
XI
Восемь суток, занятый делами и дорогой, он не думал об отце. В ночь на девятые он ему приснился. Петр Иванович ночевал на соломе под овчиной в хате на краю глухого села и вдруг глубокой ночью проснулся от внезапного холода, хлынувшего по ногам и по лицу из сеней. Он приподнялся с полу. Дверь в сени была раскрыта настежь. Другая дверь из сеней во двор была тоже открыта, и оттуда со двора в хату лился ключевой родниковый воздух. Был тот мертвый и смутный час между первыми и вторыми петухами, когда ни один звук не нарушает безмолвия ночи. В косяке открытых дверей виднелась крыша хлева, и низко над ней в лютом черном небе пылали, переливались и дрожали Стожары. В дверях появилась фигура входящего со двора хозяина. Весь осыпанный яркими голубиными звездами, в накинутом на плечи кожухе, босой и сонный, он нес нечто, прижимая обеими руками к груди. Щелкнула щеколда, и звезды захлопнулись. Теперь в потеплевшей тьме послышалось нежное младенческое блеяние. Хозяин осторожно переступил через Петра Ивановича, склонился и стал, бормоча, сгребать солому, укладывая нечто возле самой его головы. Петр Иванович выпростал из-под овчины руки и коснулся пальцами курчавого и живого. Оно заблеяло. «Це новорожденные ягнятки, — сказал хозяин, заметив, что инструктор проснулся, — нехай сплят у хати. У хлеву померзнут. Нехай соби сплят». Хозяин почесался и залез на печку. Петр Иванович еще раз потрогал ягнят и нащупал костяные копытца твердых ножек и точеные мордочки шахматных коньков, торчащие из курчавой сухой шерсти. Он взял их, маленьких и тяжеленьких, себе под овчину, укрылся с головой и, дыша нежной животной теплотой, крепко уснул. И тут ему приснился отец. Он приснился красивым, темнобородым и молодым, похожим на Чехова, каким он и был некогда, в новом сюртуке и в пенсне со шнурком и шариком. Молчаливый и бледный, он снился сыну, наплывая, как сквозь увеличительное стекло, наплывая и расплываясь, настойчиво присутствуя во сне, и все никак не мог наплыть и отосниться. Он снился ему долго и горько, и сын проснулся в слезах. Хозяйка топила печь. Светало.
Охваченный тревогой перед непоправимой утратой, Петр Иванович бросил работу и поскакал в уезд. Там на его имя лежала телеграмма. Ему не нужно было ее читать. Мучимый попеременно то надеждой, то отчаянием неизвестности и неточности телеграммы, он провел длиннейшую бессонную ночь на еловых ветках, перед раскаленной колонкой в теплушке, среди солдат и мешочников, и вечером следующего дня, не доезжая до главного вокзала, на разъезде у Чумки, выскочил из слишком медленного товарного состава прямо против водопроводной станции. Домик, где жила Дарья, стоял под откосом. Окна были освещены. Петр Иванович добежал до крыльца и позвонил. Бледный одиннадцатилетний мальчик, остриженный ежиком, открыл ему дверь. Петр Иванович узнал его. Это был Дарьин приемыш. Он серьезно и вежливо шаркнул ногой, пропуская его в прихожую.
— Дядя Петя приехал, — смущенно сказал он в приоткрытую дверь столовой.
— Что случилось? — спросил Петр Иванович.
— Ничего, ничего, — торопливо проговорил мальчик, успокоительно улыбаясь и розовея до корней волос, — идите в столовую, вам тетя Даша все расскажет.
Петр Иванович увидел на вешалке отцовскую фуражку, гарусный шарф и вошел в столовую. Все семейство сидело за чайным столом, но отца среди них не было. Дарья уже стояла, приготовившись к появлению двоюродного брата, и, едва он вошел, она быстро положила недошитый чепчик на стол и, строго взглянув на мужа-инженера, подошла, переваливаясь, к Петру Ивановичу.
— Ну, — сказала она, решительно и быстро крестясь, — ну, Петр, нет больше в живых твоего отца. Он умер, и вчера его похоронили.
Сказав самое трудное, она с облегчением села на стул и еще раз перекрестилась.
— Мы тебя ждали еще вчера на похороны. Он скончался третьего дня, в семь часов двадцать минут вечера, через пять часов после нашей телеграммы, не приходя в сознание, на этом диване. — Она показала рукой на кожаный диван, опять перекрестилась. — Чаю хочешь?
Не в состоянии выговорить ни слова, Петр Иванович отрицательно мотнул головой.
— Ну, как хочешь, — сказала она, значительно взглянув на седую стриженую старуху гостью, — может быть, устал и хочешь прилечь?
Он опять покачал головой.
— Расскажи мне, Дарьюшка, все по порядку, — наконец, выговорил он, удивляясь, что голос его звучит так, как будто бы ничего не случилось.
Она строго, с полным сознанием своего долга и ответственности перед двоюродным братом за последние дни его отца, взяла его под руку и повела в холодную гостиную.
— Садись и слушай, — сказала она, усаживаясь в кресло и усаживая его напротив. — Твой отец умер легко и просто, так, как дай бог умереть каждому, третьего дня, в семь часов двадцать минут вечера.
Дарья вытерла глаза платком и, собравшись с мыслями, тщательно и подробно, словно делала отчет, в котором нельзя пропустить ни одной мелочи, рассказала Петру Ивановичу все то, что знала о последних днях, о смерти и похоронах его отца.
XII
Отец умер (это она повторила, как нечто имеющее первостепенное значение и документально важное) третьего дня, в семь часов двадцать минут вечера, не приходя в сознание от удара, который случился около часу этого же дня. За несколько дней до своей смерти старик Синайский, оказывается, стал курить. Никогда в жизни не курил и вдруг стал. В день смерти он скрутил себе козью ножку и пошел в кухню. Там он присел к печке, чтобы открыть заслонку, и вдруг упал. Ничего не подозревая, Дарья с кухаркой стали его подымать. За последнее время у него было вообще какое-то расстройство в ногах, и он часто падал, так что это падение их не удивило. Однако оказалось, что на этот раз поднять его очень трудно. Он лежал ничком возле печки, на серебряных лишаях дубовой коры, неловко подвернув под себя правую руку и конвульсивно дергая левой. В бессознательном состоянии его перенесли на диван в столовую и немедленно послали за доктором и на телеграф. Весь дрожа ровной мелкой и непрерывной дрожью, он продолжал лежать, не меняя положения, ничком, с подвернутой рукой, лицом к спинке дивана. Глаза его, застланные голубоватой пленкой, закатились, в горле тяжело хрипело, и левая рука судорожно подергивалась, словно желая смахнуть и стереть с диванной кожи какую-то точку, назойливо мешавшую глазам. Доктор констатировал удар на почве артериосклероза и сказал, что часы его жизни сочтены. После пяти часов вечера хрип в горле сделался сильнее, конвульсии руки резче, в семь часов наступило успокоение, и в семь часов двадцать минут, не приходя в сознание, он перестал дышать.
Петр Иванович сидел неподвижно и спокойно, ужасаясь своему спокойствию и в то же время понимая, что ничего нельзя предпринять, что все уже сделано, а нужно только сидеть и слушать отчет.
Дарья вытерла покрасневший нос и перекрестилась.
— Ничего не поделаешь, — сказала она, глубоко, по совести вздохнув, — если говорить правду, это к лучшему. Годом позже, годом раньше. И так дядя всех пережил. Братьев своих пережил, и маму твою пережил, и сослуживцев. Думаешь, легко всех пережить?
— Как его хоронили? — спросил Петр Иванович чужим голосом. — Каков он был в гробу?
Дарья оживилась с поспешностью женщины, забывшей рассказать самое главное, к чему она имела непосредственное отношение и что было делом ее рук.
— Все было так, как дядя этого желал при жизни, — сказала она торжественно. — Он лежал в простом деревянном гробу, с кипарисовым крестиком в пальцах, по чину омытый, в своем сюртучке и белом белье. В гробу, представь себе, дядя выглядел на десять лет моложе, красивый такой, понимаешь, даже элегантный, — такой самый, как, помнишь, когда собирался вечером на лекцию. Его отпевало шесть священников — все его семинарские ученики. Было два хора. Ведь ты знаешь, как дядя любил церковное пение. До самой могилы гроб несли на руках. Пришла масса народу. Откуда только взялись, не знаю. Свечи. Ладан. Так торжественно все, понимаешь. И вот теперь он лежит на том самом месте, где всегда мечтал лежать, — между могилками матери и жены.
Дарья задумалась, перебирая, не забыла ли она еще чего, и, перебравши, возвратилась к началу.
— Ты себе не можешь представить, — зашептала она, — как дядя вдруг подался в последнее время. Как-то сразу. Ужас прямо. Представь себе, дряхлый-предряхлый старик. Стал заговариваться. Путаться. Все про покойную мамочку вспоминал, все о тебе беспокоился. Буквально места себе не находил. «Да вы, дяденька, главное, не волнуйтесь», — я ему, а он мне: «Да как же мне, говорит, Дашенька, не волноваться, когда там, в уезде, разбой, да и только! Ведь убьют, Дашенька, Петрушу. Не переживу я этого». И, можешь себе представить, все время он как-то стыдился, что живет на чужих хлебах. Чтоб рубаху свою дать постирать кому-нибудь, боже сохрани! И не заикайся. Сердиться начинал. Сам, понимаешь, все себе стирал. Заберется раненько утречком, чтоб никому не мешать, в ванну, засучит рукава и все постирает, выкрутит, развесит. «Ты меня, говорит, прости, Дарьюшка. Стесняю я тебя. На твоих хлебах живу, а у тебя своя семья. Вот ребеночек скоро будет. Двоюродный внучек...» — Сияющими от слез глазами Дарья вскользь посмотрела на свой большой живот и вытерла щеки платком. — Деятельный какой был старик. Неугомонный! Все-то он сам, все сам. «Ты, говорит, Дашенька, не стесняйся, — если что нужно сделать, я сделаю. Хоть и совсем стал развалиной, а все-таки на рынок сходить смогу, свинок могу покормить». Мы, знаешь ли, свиней откармливаем понемножку. Время теперь тяжелое. Знаешь, за день до дядиной смерти какой с ним случай произошел? Послала я его на рынок выменять одеяло на муку. Пошел он и по дороге потерял одеяло. Как это произошло, не знаю. Я ведь тебе говорила, что в последнее время у него были какие-то расстройства организма. Может быть, присел по дороге отдохнуть и заснул, а одеяло-то и утащили. Мало ли что. Словом, приходит дядя домой, а на нем лица нет. Но молчит, ничего не говорит. Лег на диван и весь трясется. «Что с вами, дядя?» — спрашиваю, а он отвернулся к спинке дивана и молчит. Вдруг вскочил, подбежал ко мне, в лицо заглядывает, а у самого на глазах слезы. «Дашенька, — говорит, а сам трясется, — Христа ради, Дарьюшка, прости меня». Тут я сообразила все. «Что такое, дядя, спрашиваю, одеяло потеряли?» — «Потерял, Дарьюшка, ох, потерял». А сам плачет: «Ох, Дарьюшка, не знаю, что и делать теперь. Не пойму, как это случилось. А одеяла теперь другого такого не купишь. Не по средствам. Прости меня, Дарьюшка, ради Христа, прости». И руку хватает, поцеловать хочет. «Да что вы, дядя, кричу, пустяки, дядя». — «Нет, говорит, Дашенька, нет, не пустяки это, у тебя сердце золотое, одеяло — это не пустяки. Ведь сколько на него можно было муки наменять. Целый месяц кормиться. Ты меня напрасно уговариваешь». И трясется весь, и у самого слезы на носу. Никак его не могли успокоить. Все время дядя хватался за фуражку бежать искать это самое злополучное одеяло. И так эта история на него подействовала, что ты себе представить не можешь. Тут, понятно, не в одеяле дело. Дядя вдруг почувствовал свою дряхлость, непригодность к жизни и бессилие. Ты ведь хорошо знаешь дядин характер. Не мог он жить в бездеятельности. Не мог примириться со старостью. Всю жизнь бился, бился, с урока на урок, работал, как ломовая лошадь, и вот надорвался. Не выдержал.
Дарья сидела прямо и неподвижно, уже не стараясь вытереть мокрое лицо, и видела сквозь выпуклые слезы Петра, который, слегка приподнявшись с места, крепко ухватился пальцами за ручки кресла.
Из столовой слышался осторожный звон ложечек.
То ли прислушиваясь к этому легкому стеклянному звону, то ли прислушиваясь к нежному биению и толчкам ребенка, которого она носила в себе, Дарья медленно очнулась и вся вдруг рассиялась.
— Утром в день его смерти у нас как раз начала пороситься свинья, — сказала она, улыбаясь своей женской, зрелой, несколько даже юмористической, материнской улыбкой, — в доме, понятно, поднялась беготня. Еще бы, какое событие! Все волнуются, не знают, что делать. Чуть ли не за ветеринаром посылают. А дядя, можешь себе представить, ходит и всех успокаивает: «Вы, говорит, главное, не беспокойте роженицу. Оставьте ее в покое. Предоставьте все природе». Итак, понимаешь, убежденно это говорит. «Ты, говорит, Дарьюшка, главное, не мешай ей. Поверь, что у нее есть инстинкт. Не препятствуй природе. Главное, не препятствуй природе». Ужасно типично для дяди! И до самого своего удара все ходил по комнатам и повторял: «Предоставьте природе делать свое дело. Предоставьте природе». Это, собственно, и были его последние слова.
Дарья опять прислушалась к чему-то и, усмехнувшись, повторила:
— Предоставьте природе... Удивительный человек...
XIII
Идти в город было поздно, и всю эту ночь Петр Иванович пролежал в кухне на расставленных для него дачных козлах, с раскрытыми во тьму глазами. Неожиданная и непредполагаемая новизна сиротства всю ночь окружала его в этой теплой темной кухне запахом дубовой коры и стынущей вьюшки. За окном, среди деревьев, низко над шпалами прошел, покачиваясь, фонарик. Там, за насыпью, за решетчатым броневым мостом, лежало кладбище, где между старыми могилами мамы и бабушки теперь был новый рыжий рассыпчатый холмик.
Рано утром Петр Иванович ушел в город, взяв с собой немногие вещи, оставшиеся после отца и бывшие еще так недавно его составной частью, — зеленое пальтишко, сапоги, сальную подушку без наволочки, веревочную кошелку, профсоюзный билет рабпроса да продовольственную карточку с талонами, срезанными по март месяц. Эти вещи были легки и не нужны.
Невысокое солнце сильно било в ресницы. Облака вздувались рубахами в пустынном и свежем небе. Отруби сыпались с лошадиных морд в жадную синьку чугунного водопоя. По склонам Чумной горы в зелени сохли мокрые желтые цветы одуванчика, похожие на пасхальных цыплят. Площадь пылила прессованным сеном.
Мимо всего этого Петр Иванович шел с узлом, как выписавшийся из больницы, удивляясь по дороге пустоте и свежести жизни.
Отцовская комната была беспощадно освещена солнцем. Он бросил узел на пол и пошел за старьевщиками. Пока они вполголоса совещались и деликатно раскладывали мешки, стараясь не потревожить его задумчивости, Петр Иванович в последний раз осмотрел все эти родные старенькие вещи, среди которых жил и которыми дышал отец, среди которых вырос и он сам.
Над неубранной кроватью висел мамин увеличенный портрет, тот самый, на котором мама была епархиалкой, в темном переднике и круглом крахмальном воротничке с дорогим, как японская чашка, раскосым лицом.
На письменном столе стояла деревянная длинная лакированная шкатулка, полная запонок, перышек, катушек, кнопок, пуговиц и множества тех мелких и не имеющих названия предметов, среди которых так интересно бывало в детстве вдруг найти какую-нибудь давным-давно забытую, считавшуюся потерянной вещь — кусочек серы или синенький киевский крестик.
Тут были застекленные рыжие фотографические группы в черных узеньких рамках, сваленные в угол вместе с заношенными желтыми воротничками и эмалированной обитой миской, где на дне присох кусочек ужасного мыла и лежал частый гребень, забитый перхотью и седыми волосами.
Тут были аптечные склянки, коробочки, корки хлеба и стенные часы, те самые стенные часы, которые каждое воскресенье заводил отец, став на стул и роняя пенсне, и которые каждый месяц тщательно купал в керосине. Но больше всего тут было книг. Они смугло золотели кожаными тиснеными корешками «Истории Государства Российского», источенного червями, они голубели Пушкиным и багровели Гоголем, они плотно слежались компактными томами Тургенева в издании Стасюлевича, они бурели Боборыкиным и коробились Горбуновым, они, перевязанные туго-натуго бечевками и шпагатом, наполняли комнату классическими стопками разных пропорций и положений, и только зеленая бронза Брокгауза и Ефрона опрятно сияла за пыльным зеркальным стеклом книжного шкафа.
— Что продается? — спросил один из старьевщиков.
— Все, — сказал Петр Иванович с нетерпением и боком присел на подоконник, закусив губу.
Старьевщики переглянулись и немедленно открыли шкаф. Ловко и вежливо, с небрежным деловым любопытством они выбрасывали из него тряпье, смотрели на свет, сортировали, снова кидали на пол и увязывали в грязные отцовские простыни. Перед Петром Ивановичем мелькнула, раскинув рукава, парусиновая тужурка с перламутровыми пуговицами, потом зеленое пальто, распятое на свет перед окном. Худые сапоги полетели в мешок, уже до краев набитый барахлом. Двое старьевщиков стаскивали с кровати пружинный матрас. Откуда-то вылетел и раскрылся желтый, тщательно хранимый исторический номер газеты с манифестом 17 октября; путеводитель по Италии распахнулся лазурной своей обложкой с чайкой и пароходом; загрохотал, кинутый в миску, шахматный ящик; корзина заскрипела, переполненная Брокгаузом; столб солнечного света ударил в оконный переплет сквозь крутящийся прах; в пустом пролете лестницы летал страшный гул выносимого гардероба; спиральная пружина часов горизонтально трепетала, звенела и ныла в стеклянном легком ящике, как сердце.
Громадные пласты прошлого откалывались и грохотали, сползая вниз по ступеням и заряжая лестницу громом четырехэтажного эха. Ящики пустели, как жизнь. Голоса, уже ничем не спираемые, летали по комнате, воя и оглушая. Шаги гремели, как брошенные штанги, пистолетными выстрелами. Клочья писем и карточек устилали пустой пол. На полу лежали иконы. Все было кончено. Петр Иванович спрятал деньги в карман, повесил на дверь замок, отдал ключ в домком и через неделю уехал на север.
XIV
Сначала, пересчитав по дороге стыки и стрелки, поезд по светлым рельсам неторопливо обогнул мешки и брезенты пакгаузов. Потом он пересчитал вспышками блеска стекла блокпостов и железнодорожных особнячков. Потом у шлагбаума обварил поднятую оглоблями лошадь. Потом побежал плоской решеткой длинных вагонных теней по крыше Дарьиного домика, лежащей почти вровень с кремнистым полотном пути, зажегся на террасе звездой самовара, замелькал во дворе по розовым поросятам.
Паровик свистнул, загремев по мосту. Петр Иванович выскочил на площадку. Кладбище неслось вниз под откосом с непомерно растущей быстротой. Взмыленные деревья в смертельной сече рубились с крестами. И не мог Петр Иванович в движении, уносившем его, в последний раз отыскать среди них ни разу не виденную им могилу.
А пригороды сами собой раздавались перед шибко стучащим локомотивом. Тюрьма поворачивалась и уплывала в отдалении среди вечерних огородов. Фабричные трубы и водокачки, пробитые снарядами гражданской войны, как флейты, стремительно валились на сторону. Мостик между площадками ходил ходуном и ползал, пополам разъезжаясь под подошвами.
Ночь летела из распахнувшегося чернозема, и Петр Иванович встречал ее, как новую жизнь, обнаженной грудью и похолодевшим лицом. Тучи ярких шмелей проносились в невидимом дыму паровоза над непокрытой его головой. Черная ночь, как ломоть ржаного хлеба, взятого в дорогу, на совесть посыпанная крупной солью, была тепла и полезна.
XV
И небо, как незабываемое отцовское лицо, обливалось над сыном горючими, теплыми и радостными звездами.
1922—1925
Рыжие крестики[37]
Жизнь Натальи Ивановны, начавшаяся (в воспоминаниях так чудесно) щелканьем крокетных шаров, зеркальной зеленью дикого винограда, щедро и ядовито отраженного в паркете и самоваре, жизнь, полная мошкары, льнувшей к стеклянным колпакам дачных свечей, и шиповника, благоухающего теплым вареньем, эта очаровательная жизнь через сорок лет стала сухой и невыносимой. Постаревшее, но не утратившее нежности сердце, опустошенное войной и революцией, не могло примириться с бесконечными утратами и одиночеством. И, почувствовав, что в жизни уже больше ничего не случится ни хорошего, ни дурного, Наталья Ивановна поняла, что жить дальше нельзя. Тогда она решилась умереть и со спокойной аккуратностью стала готовиться к смерти. Она надела лучшее, что у нее было, — шерстяное платье, гладко зачесала сухие, легкие волосы, убралась, перебрала и сожгла в железной печке бумаги и оглядела свою чистую скучную комнатку воспитательницы детского дома. Потом она высыпала порошок в рюмку и стала быстро размешивать искусанным кончиком ручки, следя, как он, линяя, синит воду. Потом она зажмурилась, мелко закрестилась и, быстро открыв глаза, увидела у самого своего локтя письмо, выпавшее, вероятно, из бумаг и не замеченное раньше. Это был узкий конверт серой английской бумаги, заклеенный синей институтской облаткой и надписанный рукою самой Натальи Ивановны, судя по крупному и неверному почерку, года двадцать три тому назад, когда ей было семнадцать. Письмо было адресовано тому студенту, соседу по именью, с которым она двадцать три года тому назад однажды в майский дождь поцеловалась и о котором уже ничего не помнила, кроме того, что он ходил в шелковой вышитой малороссийской рубашке. С волнением необъяснимого любопытства она коснулась этого некогда написанного, но не отосланного письма и быстро разорвала конверт шпилькой.
«Родной, ненаглядный мой! — прочитала она. — Я до сих пор не могу прийти в себя. Неужели же мы любили друг друга? Да, это так, дорогой! Никогда не забуду я той темной ночи с дождем, когда вы сказали мне «люблю». Кажется, с той минуты прошло целых сто лет, а ведь на самом деле это было вчера, подумайте — вчера. Ведь это вчера ночью дул ветер, и пахла сирень, и собирался дождь.
Это было только вчера, поймите. Я не ложилась спать, а волосы у меня еще мокрые от дождя, хоть выжми. Господи, как я счастлива! Нет, это даже написать нельзя. Такое счастье бывает только раз в жизни, и больше никогда, никогда не может повториться такая ночь. Что будет потом? Я знаю — будущее может быть сильнее, ярче, но лучше, нежнее, выше оно быть не может. Это был взлет... Взлет, достигший высшего предела. Милый, поймите, это никогда, никогда не повторится. Вы видели когда-нибудь, как ребята кидают, кто выше, камни? Камень сначала стрелой несется вверх, потом лёт становится все медленнее, медленнее, и, наконец, камень достигает самой высокой точки... На мгновенье кажется, что он остановился... Но только на мгновенье... Потом он переворачивается и начинается падение. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, и, наконец, он, шурша и выдирая листья из деревьев, падает на траву или на крышу... Милый, не сердитесь на меня. Я знаю, что я вам делаю больно, но так надо... Поймите — вчера наша любовь достигла своей самой высокой точки. Выше ей подняться уже нельзя. Я это чувствую и знаю. Вы помните, вы меня взяли за руку, и наши губы... Уже сверкали молнии и на голову падали первые капли дождя... Этой ночи уже больше никогда не повториться. Это был взлет, на мгновенье мы остановились на этой самой высшей точке, и это мгновение казалось вечностью. Потом — вы помните? — хлынул ливень, мы бросились к дому, и вы меня проводили до самого крыльца. Измокшая и счастливая, я взошла к себе в комнату и не могла уснуть до утра. Милый...»
На этом месте на строчки налипло несколько сухих рыжих крестиков сирени, вокруг которых темнели пятна в потеки чернил и воды! И эти несколько сухих лепестков так живо напомнили Наталье Ивановне все. Она вспомнила беглый и прохладный поцелуй у крыльца и беглые зеркальные молнии, от которых повсюду зажигался сиреневый глянец. В прихожей ослепительно дрогнуло и сдвинулось от двойной вспышки окно, и мокрый, раскрытый зонтик, оставленный кем-то сушиться, упруго подпрыгнул, сдернутый с места подолом легкого Наташиного платья. В полной тьме она взошла к себе в комнату, протягивая, как слепая, руки и ощупывая знакомые вещи. В комнате стоял очень сильный и горький миндальный запах сирени, смешанный с запахом дождя. Она протянула руку к столу и коснулась пальцами чего-то мокрого, пышного и тяжелого. Оно мягко повалилось на стол, упал с легким звоном флакон духов, и легкой, быстрой струйкой полилась со стола на пол вода. В эту же секунду зажглась молния, и Наташа увидела опрокинутый букет сирени, разлитую воду и свое бледное, красивое, черноглазое лицо в зеркале. Потом она зажгла свечу, слабо озарившую тьму золотым и синим острием, и долго сидела перед зеркалом, выжимая намокшие, отяжелевшие косы.
Наталья Ивановна вздохнула, улыбнулась и стала читать дальше.
«...Милый, родной, я люблю вас. Люблю больше всего на свете. Во имя этой любви я умоляю вас, я требую от вас, чтобы вы уезжали отсюда как можно скорее. Я знаю, что вам будет больно, мне и самой больно, простите меня, ненаглядный, но это необходимо. Мы не должны больше с вами встречаться. Ведь вы чуткий. Вы меня поймете. Пусть наша любовь, взлетев на страшную высоту, останется там навсегда и никогда не падает вниз, на землю. Никогда, никогда!.. Я это твердо решила, а мне ведь это стоило многих слез и колебаний. Простите меня, любимый. Сохраняйте меня в памяти такой, какой я была в эту чудесную ночь. Не ищите со мной встреч, мое решенье неизменно. Дай бог вам счастья и радости в жизни. Я люблю вас, молюсь за вас и целую ваши глаза. Простите, ваша Н.».
Серая английская бумага дрогнула в сухой и тонкой руке Натальи Ивановны. С удивительной ясностью вспомнила она себя впервые влюбленной, семнадцатилетней барышней, вспомнила щелканье крокетных шаров, мошкару над колпаками дачных свечей. Она вспомнила свой первый девичий роман, начавшийся этим тургеневским письмом, так и оставшимся неотосланным; потом вспомнила свою любовь к мужу, смерть ребенка, расстрел брата, голод... Вся ее счастливая, трудная, изумительная, невыносимая и обыкновенная человеческая жизнь представилась ей щедрым, зеркальным отражением дикого винограда в стеклах и паркете, шумом ливня, запахом сирени, и частые слезы закапали на порыжелые строчки этого неотосланного письма. И она поняла, что в жизни равны и счастье, и горе, и любовь, и смерть, что нет в жизни ни взлетов, ни падений. Она поняла, что умирать ей не надо. А слезы все капали и капали, расплываясь по чернилам сиреневыми, бледными звездами, похожими на засохшие крестики цветов, кое-где прилипших к серой бумаге.
1922
Огонь[38]
I
У коммуниста Ерохина сгорела жена Катя.
Она сидела с бутылкой бензина в руках перед железной печкой на японской шкатулке, стараясь разжечь сырые щепки. Тянуло плохо. Обильные темные волосы, перепутанные с белым, холодным дымом, щекотали и горчили глаза. Плача и смеясь и удерживая пальцами падающие с затылка шпильки, Катя терла серьезные брови об острые колени, тесно обтянутые юбкой. Бутылка вспыхнула мгновенно. Столб рванувшегося пламени возник с такой быстротой, точно поднялся не от пола, но упал с потолка. Подхваченные взрывом, покрытые искрами волосы стали над головой вздутым веером рыжих страусовых перьев. В трубе загудело, она раскалилась. Проворный огонь побежал снизу вверх по занавескам. Воздух комнаты был уничтожен в один миг. Под напором жара полопались стекла. Соседи едва успели потушить одеялами пожар и сорвать с Кати горящее платье. В карете Скорой помощи ее, еще живую, отвезли в лечебницу. В это время Ерохин был на службе.
Через полчаса он ворвался в вестибюль лечебницы. На лестнице его пыталась удержать сиделка. Бессмысленно улыбаясь, Ерохин отстранил ее мокрым рукавом короткого полушубка.
— Позвольте! — закричал он визгливым голосом. — Позвольте!
И, не дожидаясь ответа, как был, в покрытых грязью сапогах и мокрой белой папахе, тесно перетянутый ремнем с колечком, Ерохин проворно взбежал наверх, оставляя на чистых мраморных ступенях ужасные следы. Инстинктивно и безошибочно он нашел палату, где была его жена, и сквозь полуоткрытую дверь увидел доктора в белом халате, который в поднятой руке держал шприц. У решетчатой спины белой кровати стояла, нагнувшись, сестра милосердия. Две сиделки крепко держали, прижимая к постели, нечто туго забинтованное и длинное. От куска ваты, лежащего на лаковом полу под кроватью, шел такой сильный запах эфира, что у Ерохина потемнело в глазах. В следующую минуту доктор вышел из палаты, прикрыл за собой дверь и сердито взял Ерохина за плечо.
— Я — муж, — сказал Ерохин поспешно. — Вы можете сказать мне всю правду... я настаиваю на этом... Пустите меня к ней, пожалуйста.
И, говоря это, он покорно пошел за доктором по сияющему коридору.
— Успокойтесь, она жива, — сказал доктор. — Только что мы ей впрыснули морфий. Очень тяжелый случай. А пустить вас к ней пока я не могу; просто не имею права. У нее сильные боли. Необходим полнейший покой. Извините.
Ерохин снял папаху, остановился перед доктором и, улыбаясь, сказал:
— Доктор, извините, я, может быть, чересчур назойлив... Но вы понимаете, я так встревожен... У меня такое состояние... Войдите в мое положение... Скажите, это не очень опасно, то есть я понимаю, что это опасно... но она будет жить? Не скрывайте от меня ничего, пожалуйста.
И он опять покорно пошел за доктором, отражаясь в масляной краске стен и белых и голубых кафелях пола и считая перламутровые пуговички на спине докторского халата.
Доктор привел его в дежурную комнату, где на стенах висели проволочные лубки для рук и ног, усадил на черный клеенчатый диван и обстоятельно изложил все то, что он считал необходимым и возможным изложить взволнованному мужу о состоянии жены, положение которой было безнадежным. Он объяснил, что в том случае, если более одной трети верхних покровов человеческого тела получили ожоги, то в медицине почти не бывало примеров, чтобы субъект выжил, но что в данном случае еще трудно определить точно, какая часть покровов поражена, и потому преждевременно делать выводы. Однако при первом беглом осмотре пациентки он нашел значительную часть покровов пораженной, так что ни за что ручаться нельзя. Во всяком случае, будут приняты все меры. И потом...
Доктор еще хотел сказать то, что всегда привык говорить в таких случаях, то есть о бессилии науки и о чуде, но посмотрел в упрямые, умные, пегие, как у козла, злые глаза Ерохина, вздохнул и больше ничего не сказал.
Тогда Ерохин, потупившись, расстегнул пояс, снял полушубок и негромко сказал, что никуда из лечебницы не уйдет и будет возле жены до конца. Доктор пожал плечами. Затем Ерохину принесли халат, и, уже в халате, он ходил вниз говорить по телефону. Он позвонил в агитпроп, сухо рассказал о своем несчастии, извинился и просил, чтобы ему продлили срок сдачи статьи, которую он писал для антирелигиозного сборника.
Входя в первый раз к жене, Ерохин столкнулся на пороге с сиделкой, которая выносила из палаты кафельное ведро. Ерохин мельком заглянул в него. Там в буро-красноватой воде, среди мокнущих тампонов и обрезков марли, плавали обожженные, изуродованные темные пряди волос. «Катины волосы», — подумал Ерохин и вдруг со всей невыносимой ясностью в первый раз почувствовал ужас того, что происходит.
Через пять дней она умерла.
II
Отвыкший от свежего воздуха, утомленный пятью бессонными ночами, грязный и нечесаный, небритый, почти отупевший от несчастья, которого он еще не понял, Ерохин с непокрытой головой шел по рыхлому, коричневому, как халва, снегу, через город, за гробом жены. Черное с белыми спицами колесо медленно катилось почти на уровне его плеча. Кроме этого колеса и дрожащего кончика красной ленты неизвестно кем положенного венка, он ничего не видел вокруг и шел, ни о чем не думая и почти засыпая на ходу. Прохожие останавливались, с любопытством глядя на сонного, одинокого человека, без попа и певчих идущего за гробом. Некоторые крестились.
На кладбище гулял синий ветер. Могильщики опустили гроб на полотенцах в могилу. Ерохину дали в руки ком мерзлой земли. Он бросил его на крышку гроба, услышал гулкий стук, отвернулся и прикусил изо всей силы рыжий отросший ус. Могильщики плюнули в ладони и взялись за лопаты. Он еще раз подошел к могиле, заглянул в нее сухими глазами и пошел прочь.
Силы почти оставили его. Он шел совершенно машинально, еле передвигая ноги, опустошенный и неживой. Все чувства, казалось, умерли в нем. И только одно непонятное, угнетающее, неутолимое чувство вины перед покойной женой, чувство отчаянной и нежной жалости к ней совершенно овладело им; он шел через город, как лунатик, ничего не видя и не слыша вокруг себя.
Он очень любил ее. Ей было не более девятнадцати лет. Когда они сошлись, ей только исполнилось семнадцать. Они прожили вместе два счастливейших года — 1920-й и 1921-й. Для него она, не задумываясь, порвала с родовитой семьей, которая не могла примириться с выбором младшей дочери, и ушла из дома. Прелестно воспитанная, немного наивная, изнеженная и красивая, она следовала за любимым мужем всюду и скромно делила его суровую, деятельную жизнь. Быть может, иногда слишком суровую для ее воспитания и привычек. Однако она никогда ни на что не жаловалась и умела подчиняться необходимости. Вместе с тем она не была похожа на тех мужественных женщин, подруг коммунистов, которые в походах носили мужское платье, ездили верхом, участвовали в сражениях, а на мирной работе — посещали собрания, голосовали, занимали ответственные должности и были записаны в партию. Отказавшись от семьи, привычек, от религии, от дома, заменив все это одним — любовью, она продолжала оставаться той же прелестной, влюбленной в своего мужа молодой женщиной, живущей любовью и для любви. Переезжая с места на место, они наконец приехали в этот город. Гражданская война кончилась. Ерохин получил назначение в агитпроп комитета партии для ведения антирелигиозной пропаганды. Это как нельзя больше соответствовало его склонности и способностям. В свое время блестяще окончивший духовную академию, изощренный во всех тонкостях церковной диалектики, детально изучивший всеобщую историю религиозных культов, обладая вместе с тем острым и отрицательным умом прирожденного атеиста, Ерохин бесповоротно и навсегда порвал с церковью. Наступившая революция сделала его революционером. После Октября он вступил в партию большевиков и был преданным, исполнительным и страстным ее бойцом.
Здесь, в этом большом южном городе, окруженном монастырями, в религиозном центре нескольких губернии Ерохина ожидала напряженная и ответственная работа; он отдался ей со всей своей сдержанной и упрямой страстностью. Его резкие антирелигиозные брошюры, написанные немного цветистым и риторическим языком, тем не менее имели очень большое влияние на крестьян. Это сделало Ерохина злейшим врагом церкви. Священники произносили с амвона проповеди, направленные против него, и предавали его анафеме. Старухи считали его антихристом. В течение короткого времени он стал притчей во языцех. Его знали все. Религиозные диспуты, на которых Ерохин резался с попами, привлекали небывалое количество слушателей. Привыкший к атмосфере вражды и недоверия, наружно хладнокровный и даже флегматичный, он, не торопясь, произносил свои очень хорошо построенные, убийственные речи, полные умного издевательства и тонкого знания дела. Он не был слишком хорошим оратором. Говоря высоким фальцетом, переходившим зачастую в блеяние, слегка заикаясь, но никогда не путаясь, в белой своей папахе, засунув руки в карманы, он слонялся по эстраде, как по болоту, осмотрительно ступая на невидимые кочки своими длинными ногами в болотных сапогах. Он внимательно всматривался в лица дерзкими глазами, ловил малейшее движение порицания или одобрения, на каждое замечание с места немедленно отвечая как бы вскользь, через плечо, репликой, меткой и короткой, как выстрел. Его трудно было поставить в тупик. На текст он отвечал текстом, против цитаты выставлял цитату, грубое замечание отражал ядовитой шуткой, заставлявшей нередко врагов смеяться против собственной воли. Казалось, без малейшего напряжения он выходил победителем из самых ожесточенных прений. И только дома, раздевшись и с жадностью поедая ужин, разогретый женой, Ерохин вытирал вспотевший лоб и, тяжело дыша, с глубокой улыбкой отдыха прикрывал покрасневшие веки. Катя убирала со стола и, готовясь ко сну, заплетала косы, а он, расхаживая в гимнастерке с расстегнутым воротом по комнате, возбужденно рассказывал ей о диспуте. Надев чепчик, чтобы не щекотать мужа во сне, Катя ложилась в постель. Он укутывал ее одеялом, заботливо подтыкая с боков, и покрывал ноги полушубком. Затем он садился к столу и начинал писать брошюру, стараясь не скрипеть стулом и не сопеть, чтобы не разбудить ее. Но она не спала. Сонная и теплая, положив руки ковшиком под пунцовую щеку, Катя лежала с полуоткрытыми глазами и сквозь ресницы смотрела на его сутулую спину, на его движущуюся руку, на зеленый абажур лампы, терпеливо ожидая, когда он кончит и придет спать.
Теперь ее больше не было в живых.
III
Ерохин шел, весь во власти несправедливого, но неистребимого чувства вины перед умершей женой; ему казалось, что он слишком мало давал ей, в то время как она отдала ему все, что недостаточно дорожил ею, недостаточно любил ее, что все было недостаточным в их отношениях перед той полнотой, которая была бы, если бы она не умерла. Но она умерла. Он жалел ее и себя и шел, ничего не видя вокруг, поглощенный ошеломительной новизной своего горя.
Между тем погода была так прелестна, как только может быть прелестной на юге в конце февраля, во время первой оттепели, в одиннадцать часов утра. Дул тяжеловатый ветерок. Ручьи несли солому. На дровнях по ростепели везли с реки громадные глыбы зеленовато-стеклянного льда, горевшего на солнце географическим огнем северного сияния. И небо поразительной свежести стояло над куполами церквей, тронутое кое-где легчайшею рябью облачности, словно ангельским оперением.
Вдруг он услышал враждебные голоса, произносившие его имя. Он очнулся и заметил, что проходит мимо церкви. Две старухи в темных великопостных платках торопливо поднимались по лестнице, проталкиваясь сквозь строй калек к паперти. Они разговаривали между собой. До него долетело еще несколько слов: «...сгорела... покарал... жена...» Старухи вошли в церковь. Ерохин круто повернулся и последовал за ними, машинально расталкивая локтями нищих. В церкви было совершенно полно; часть людей стояла на паперти. Он снял папаху и продвинулся ко вторым дверям.
Десять лет он не бывал в церкви. Забытый холод и сумрак коснулись его волос. Сквозь боковые створки открытых посредине дверей, сквозь неровное стекло, огражденное медными прутьями, он увидел внутренность храма: большой, темный воздух, пробитый и рассеченный клубящимися балками солнечного света, падающими из-под купола, увидел переплетение теса и тени — весь этот строительный синий мусор, оцепеневший хаос литургии. Он увидел почти черную массу молящихся и разноцветную россыпь лампад и свечей, гнездящихся во мраке. Глазами первого христианина, после долгих лет переступившего порог забытого языческого храма, с холодным любопытством превосходства рассматривал Ерохин стекло и позолоту паникадил, куски слабо освещенной живописи, хоругви и плиты стен.
Судя по всему, литургия уже окончилась, но народ не расходился. Хор молчал. В храме стояла подавляющая тишина. Ерохин подвинулся еще немного и остановился в дверях. Он знал эту тишину. Это была длительная, искусно затянутая пауза между двумя периодами проповеди, пауза, которая, вися на волоске, каждое мгновение готова была обрушиться на головы столбами дыма и грохота.
— И что же мы видим? — вдруг раздался среди этой тишины негромкий, как вздох, но все усиливающийся голос незримого священника. Но по голосу Ерохин узнал его. Говорил один из непримиримейших врагов его — отец Григорий Смирнов. — И что же мы видим? Бог, всемогущий господь бог явил нам чудо. Он покарал безбожника. Огненный столб упал с неба и превратил в пепел его жилище и его сожительницу. Но всеблагий господь, неисповедимо читающий в сердцах наших, даровал жизнь самому грешнику. И да скажет смирившийся грешник, подобно благоразумному разбойнику, припав к подножию креста: «Помяни мя, господи, во царствии твоем...» И может быть, ответит он: «Истинно, истинно говорю тебе: днесь со мною будеши в раю».
Все взоры, казалось, обратились в этот миг на Ерохина и узнали его. Он почувствовал едкий запах ладана. Этот запах вдруг показался ему похожим на запах эфира в палате, где умирала жена. «Неправда, — хотел он закричать, — неправда, это бензин. Это...» — но у него посинело в глазах. Ерохин пошатнулся, страшным усилием воли преодолел обморок, надел папаху и со злостью вырвался на свежий воздух. Некоторые из стоящих на паперти действительно узнали его. Произошло небольшое движение. Но он уже бежал по улице, кусая усы и спотыкаясь.
IV
Впоследствии Ерохин рассказывал, что эти минуты в церкви были самыми ужасными из тех, какие он испытал за все время, пока не примирился окончательно со смертью жены. Конечно, это не был мучительный стыд раскаяния. Нет, это была жгучая обида, слишком грубое, жестокое и нелепое публичное оскорбление самого сокровенного, самого человеческого, самого дорогого ему чувства — памяти и любви к покойной жене, которая не была ни в чем виновата.
Сжимая кулаки, он готов был броситься назад в церковь и заставить замолчать проповедника. Ерохин вошел в парикмахерскую и попросил себя побрить, постричь и вымыть голову шампунем. С помолодевшим после бритья, осунувшимся лицом, трогая пальцем подрезанную по-английски щеточку усов, благоухая одеколоном, Ерохин вошел в свою комнату, где он не был шесть суток. Кое-как прибранная соседями, темная от копоти, опустошенная, она сохраняла свежие следы катастрофы. Ежась от озноба и холода, стоящего в комнате, Ерохин заперся на ключ и оставался там до позднего вечера, не зажигая огня, в полной тишине, не нарушаемой ни одним звуком. Соседи уже начинали тревожиться. Однако в начале десятого замок щелкнул. Торопясь, чтобы никого не встретить в коридоре или на лестнице, Ерохин спустился вниз и вышел на улицу. Он медленно побрел по ней, ежась и кашляя и потирая на груди руки. Он долго шел, пересек весь город и наконец остановился перед мещанским деревянным домиком, стоящим на горе, на перекрестке двух переулков, круто спускавшихся к реке.
В окнах горел слабый свет. Ерохин поднялся по скрипучим, обледенелым ступеням на крыльцо и зажег спичку. При фиалковом ее огне он увидел тусклую медную дощечку и прочитал: «Отец Григорий Иоаннович Смирнов». Ерохин дернул за кривую проволоку. Одновременно со звуком дилинькнувшего колокольчика за дверью, обитой войлоком и клеенкой, глухо заворчала и тявкнула собака. Потом громыхнуло ведро и со стуком упал железный крюк. Дверь приоткрылась.
— Кто там? — спросил в щель суровый голос.
Не отвечая, Ерохин открыл дверь и шагнул в темные сени. Фигура открывшего отступила. Ерохин закрыл дверь, нашарил впотьмах крюк и опустил его в петлю.
— Не узнаю, — произнес суровый голос и дрогнул, — не узнаю...
Ерохин тщательно вытер ноги о подвернувшийся половик. Они оба, один наступая, другой отступая, молча двигались через сени, пока не попали в освещенную лампадой комнату. Тут они ясно увидели друг друга. Зажав в кулаке острый наперсный крест, прижимая его к плоской груди, как кинжал, священник смотрел на Ерохина глазами, полными ужаса, судорожно ища позади себя опоры и не находя ее. А Ерохин, косо улыбаясь и осторожно похрустывая косточками пальцев, прошелся по комнате, осмотрительно ступая по узкому половичку, как по мостику. Казалось, он не замечал священника, весь погруженный в какие-то свои, одному ему интересные мысли.
— Я кликну... — проговорил отец Григорий высыхающим голосом и задохся. — Я кликну... людей...
Кулак, сжимавший крест, задрожал у него на груди.
— Не то, — задумчиво и почти мягко сказал Ерохин, махнув рукой, — не то. Не беспокойтесь!
Отец Григорий отступил на шаг, и тут его рука нашла позади опору — ребро стола. Он прочно ухватился за него.
— Тогда зачем пришли? — сурово спросил он, и вдруг ему показалось, что он понял. Сила возвращенной власти поднялась в нем, и священник выпрямился во весь свой небольшой, тщедушный рост. — Не ко мне, не ко мне, — сказал он, повышая торжественный, торжествующий голос, треснувший от волнения. — Аз есмь недостойный иерей. Не ко мне... нет... нет...
Отец Григорий поднял руку, словно отгораживаясь и отстраняясь.
— Нет, не ко мне... К нему, к нему!
Широкий, подвернутый рукав рясы обнажил худую, бледную кисть, протянутую в угол. Там, в божнице, перед темным, почти черным золотом икон светилась лампадка.
— К нему, к нему! — продолжал говорить отец Григорий, задыхаясь теперь и понижая голос до шепота. — К нему!
Его тощие, бескровные щеки, точно исхлестанные кнутом и зарубцевавшиеся вокруг рта, мертво белели при нищем свете лампадки. Ерохин вскользь на ходу взглянул на божницу и опять сделал рукой, точно отмахиваясь.
— Не то, Григорий Иванович, не то. Это мы лучше оставим.
Он сел на стул возле голландской печки, жадно положил ладони на ее неровную и горячую, как пирог, поверхность и понурился.
— Тогда зачем же? — сухо спросил священник.
Ерохин молчал. Казалось, что он спит. Из сеней вышла длинная собака и легла у его ног. В комнате было тепло и духовито, но все-таки Ерохин продолжал дрожать мелкой, едва заметной дрожью. Священник заправил и зажег лампу, поставил ее на стол, а сам уселся в кресло и принялся, насупившись, ждать. Наконец Ерохин очнулся. Он поднял голову и красными от утомления глазами осмотрелся.
— Извините, — сказал он в раздумье, — я вас, вероятно, потревожил. Впрочем, я могу и уйти. Я ведь безо всякого повода. Просто так, посидеть. Нужно же мне было куда-нибудь пойти?
— Так, так, — сказал отец Григорий, одобрительно кивая головой и вдруг вскинув короткую подвижную, как пиявка, бровь, — в гости, значит, к врагу. Так, что ли?
Ерохин кивнул головой и улыбнулся.
— К идеологическому противнику. Привычка.
Отец Григорий снова закивал головой.
— Так, так. Понимаю. Для морального удовлетворения? Диспут? Извольте.
Но Ерохин уже не слушал его, погрузившись в раздумье. Его лицо стало печальным.
— Вы меня давеча обидели, — тихо сказал он. — Впрочем, не будем об этом говорить, я не за этим. Я сам иногда... Но как вы могли так оскорбить ее? За что? Почему? Постойте... Не надо ничего говорить... Я все понимаю...
Ерохин снова задумался, потом встал и заходил по комнате своей осмотрительной охотничьей походкой.
— Сегодня утром я ее отвез на кладбище. Она умирала пять суток. Вы знаете, что это такое — умирать пять суток от ожогов? Она заживо гнила. Последние дни ей уже нельзя было делать перевязок, потому что вместе с бинтом отрывались целые полосы гниющего мяса. Представляете себе эту боль? И она терпела. Терпела, чтоб не мучить меня. Она еще думала, что не умрет, а у меня уже в это время кружилась голова и тошнило от ужасного зловония ее гниющего тела, которого ничем нельзя было заглушить. Вся забинтованная, как кукла, она заставляла меня иногда наклоняться к ней и смотреть в глаза. Тогда она говорила: «Ты знаешь, Митя, мне кажется, что я поправлюсь. Медленно, но все-таки поправлюсь. Скажи мне только честно, ты не разлюбишь меня? Ведь без волос я стала форменным уродом. Впрочем, ты не беспокойся, они скоро отрастут. Через год я уже буду завиваться». Иногда, не в силах вытерпеть боли, она начинала плакать горячо и обильно, как ребенок. Я не мог выносить этого плача. Я убегал в дежурную комнату, ложился на диван, закрывал глаза, и меня начинал трясти озноб. Тело мое горело, как от ожогов, — грудь, руки, ноги, живот, — те самые места, которые были обожжены у нее. Я расцарапывал их ногтями до крови. Я готов был содрать с себя кожу, лишь бы ей стало легче. Вот посмотрите.
Ерохин быстро расстегнул ворот гимнастерки и открыл грудь, всю обожженную, расцарапанную, покрытую малиновыми ранами.
— Вот. Вы видите пальцы. То же на ногах и на животе...
Отец Григорий в сильнейшем волнении вскочил с кресла.
— Господи, — воскликнул он, обращаясь лицом к божнице, и медленно перекрестился, — господи, в неизреченной своей мудрости ты являешь грешнику второе чудо! Господи! Да ведь это же стигматы!
И, словно бы в этом слове было нечто неотразимо страшное, он повторил в упоении:
— Стигматы! Стигматы!
Ерохин быстро застегнул ворот и заправил в кушак гимнастерку.
— Ерунда. Крапивная лихорадка. Уртикария — по-латыни, — сказал он через плечо, и глаза его стали остры и упрямы, как у козла. — Обычное явление. На нервной почве. Мне объяснил доктор. Оставим это.
— Стигматы, стигматы, — продолжал, как в бреду, шептать священник, крестясь, — господи, стигматы... Смири душу его!
Но Ерохин уже опять не слушал его. Криво и вместе с тем нежно улыбаясь своим мыслям, он достал пз кармана небольшой сверток и бережно положил на стол возле лампы.
— Вот, — сказал он, — вот все, что от нее осталось. Посмотрите.
Он развернул бумагу. Там лежало несколько шпилек, коричневая ленточка, сафьяновая записная книжечка с золотым обрезом и маленькая глянцевая фотографическая карточка из числа тех, какие были в моде перед революцией. На этой карточке Катя была снята гимназисткой: в белой пелерине, обшитой кружевами, в форменной шляпе с гербом и бантом, по-детски курносая и веселая.
— Это когда ей было пятнадцать лет, — сказал Ерохин, — теперь ей девятнадцать.
Он осторожно перебрал вещи и, улыбаясь, взял записную книжечку.
— Это я подарил ей за две недели до несчастья. Она хотела вести дневник, но успела, конечно, сделать только одну запись. Посмотрите, какой смешной почерк: «12-го февраля. День моего рождения. Начинаю дневник в зап. кн., которую мне подарил Дмитрий. Не забыть, когда будут деньги: 1) купить Дмитрию новые черные брюки-галифе: он все время мечтает; 2) купить для меня лично 1/2 фунта шоколадн. халвы; 3) не знаю еще что». Больше ничего не написано. Теперь ее нет. Она умерла. И вот все, что от нее осталось. Вы понимаете это?
Ерохин положил на ладонь пакет, как бы взвешивая его слишком ничтожный вес, и вдруг спазма закрыла клапаном его горло и перехватила дыхание. По крылу носа полезла слеза.
— Вот что от нее осталось, — с трудом выговорил он горловым высоким альтом, единственно для того, чтобы не разрыдаться. — Вот... и вы утверждаете, что это ваш бог... бог?
Ерохин изо всех сил стиснул кулаки, его глаза налились кровью и слезами, на лбу вздулась голубая ветка.
— Я б за него копейки не дал! — крикнул он страшным оглушительным голосом. — Копейки б не дал! Понимаете? Копейки!
Он бросился вон из комнаты.
— Опомнитесь, опомнитесь, — смущенно бормотал отец Григорий, выбегая следом за ним в сени и прижимая к груди крест, — побойтесь бога. Не кощунствуйте. Покайтесь. Смиритесь перед чудом.
— Ложь. Никакого чуда. Неосторожность. Бензин, — отрывисто и быстро говорил Ерохин. Ему казалось, что чем скорей он будет говорить, тем скорее найдет в потемках дверной крюк. Он задыхался. — Огонь... Переход материи... из одного состояния в другое... Взрыв... Техническая отсталость... Пережиток... Перейдем на электричество. Будем бороться. Погодите... Победим природу... Победим смерть... Тогда от вашего черного бога... косточек не останется... Да, косточек... Да...
Он нашарил крюк, громыхнул им и вырвался на улицу. Ледяной ветер с реки поцеловал его в лоб. Слезы, так долго и трудно собиравшиеся в нем, слезы, освободиться от которых он, может быть, бессознательно пришел сюда, наконец поднялись и перешли предел. Совсем просто, обильно и тепло они лились из его глаз, пока все не вылились. Идти было далеко. Когда он пришел домой, лицо уже высохло, только мех полушубка возле подбородка был мокр и солон.
V
Придя к себе в комнату, Ерохин включил штепсельную лампу, повесил полушубок на спинку стула, сел к столу и вынул из ящика рукопись неоконченной брошюры. Он внимательно дважды перечел ее и стал писать дальше. Сквозь разбитые и плохо заклеенные стекла в комнату проникал ночной холод. Но Ерохин не ощущал его. Он работал неторопливо, осмотрительно, тщательно подбирая слова и выражения, чтобы все было просто и понятно, по привычке стараясь не скрипеть стулом и не сопеть.
Ерохин написал две с половиной страницы, и его стало долить ко сну. Он едва доплелся до постели, лег, не раздеваясь, и тотчас заснул. Но и во сне, наступившем мгновенно, как беспамятство, но и во сне, похожем на бред, на камень, Ерохин продолжал настойчиво думать, сочиняя прерванную сном брошюру. И ему снилось, даже не снилось, а думалось, как-то совершенно отдельно от сна и вместе с тем во сне, — ему думалось, что он, преодолевая сон, продолжает сидеть за письменным столом и пишет, стараясь не скрипеть стулом и не сопеть, чтобы не разбудить уснувшую жену. И пишет он, начиная новую главу о небе и об ангелах, так:
«Попы говорят нам: небо, ангелы, бог. Они утверждают, что небо, то яркое голубое небо, которое в безоблачные дни как бы полупрозрачным колпаком покрывает землю, населено некими живыми крылатыми существами, называемыми ангелами. И будто бы среди этих ангелов, среди райских кущ, на золотом троне сидит сам господь Саваоф. Темные, необразованные люди верят им. Но рассмотрим, так ли это на самом деле?
Что такое небо? Является ли оно действительно таким твердым и синим, как нам кажется. Ученые профессора доказали, что наша земля окружена плотным слоем воздуха, которым мы дышим, то есть атмосферой. Слой атмосферы очень велик, но не бесконечен. Он простирается вверх на многие десятки и даже сотни верст, но потом кончается. Дальше идет почти пустота, так называемое безвоздушное пространство. Солнечные лучи пролетают со сказочной быстротой через эту пустоту и, наконец, достигают верхних слоев атмосферы. Тут они преломляются, как бы сквозь кривое стекло хаты, а снизу, с земли, верхние слои атмосферы кажутся нам в солнечные дни плотными и как бы окрашенными в нежнейший голубой цвет. Это и есть так называемое небо.
Представьте себе, что мы начинаем подниматься с земли вверх к этому прекрасному голубому, плотному на вид небу...»
Тут Ерохин увидел во сне, что действительно теряет вес и начинает легко подниматься над столом. Обожженный, расковерканный потолок расступается, открывая яркое небо.
«...над нами лазурная, бездонная глубина, — продолжал писать Ерохин, летя во сне, — мы летим. Вот вверху мелькнуло нечто белое, полупрозрачное! Уж не ангел ли? Но нет! Мы поднимаемся все выше и выше, и вот уже поравнялись с этим белым. Это легкое, почти незаметное перистое облачко. Мимо. Мы поднимаемся еще выше. Солнце становится ярче. Воздух холоднее. Уже трудно дышать. Но выше, выше! Солнце разрастается над нашей головой. Оно уже покрыло полнеба. А само небо выцвело, побелело. Нет следа его голубого прекрасного цвета. Оно холодно. Оно обжигает стужей. Мы в верхних слоях атмосферы. Больше нечем дышать, кровь стучит в висках. Ах!.. Но выше, выше. Может быть, там дальше мы встретим ангелов и бога? Но нет. Их нет и там. Ледяной холод и черный непроницаемый мрак безвоздушного пространства окружает нас. И громадный, холодный, багровый, без лучей и света, непомерный диск солнца как бы стремительно опускается на нас из этого жуткого ледяного пространства вечной ночи».
VI
Где же ангелы? Где же бог? Их нет и здесь. Все — темная, поповская ложь. Холод. Лед. Молчание. Огонь. Смерть...
1922
Восемьдесят пять[39]
Пшевецкий снял ферзя и, трижды подняв и опустив скупые желтые глаза от доски к лицу противника, неторопливо понес фигуру к правому углу. Синеватый шелковый дымок папиросы быстро закрутился над повисшей рукой и растаял, слизанный ветерком, листавшим на подоконнике книжку.
В раскрытом окне кабинета колебался кисельный запах лип, дружно и сильно цветущих в этот ранний час по всем бульварам Москвы. Индусские чалмы Василия Блаженного, дикие и полосатые, тонко высмугленные зарей, хорошо стояли на розовом небе. Голоса петухов плавились в наплывавшем благовесте.
Партнер Пшевецкого, Бобров, курил, подперев небольшим прочным кулаком ореховую с подкожной зеленью щеку. Он посмотрел мимо царской бороденки Пшевецкого на прекрасные фрески итальянской стены, где висел карабин и отсвечивала сусальная надпись, намалеванная грубой кистью: «Смерть контрреволюции». Красные и тонкие (в линейку) губы были сжаты. Пальцами левой руки он постукивал по краю роскошного письменного стола. Пшевецкий еще раз мелькнул глазами по прекрасному лицу Боброва и стал медленно приближать фигуру к доске, расчетливо затягивая движения и проверяя ход. Наконец, решившись, он осторожно опустил ферзя на доску, как печатку, и притиснул к месту.
— Так-с, — сказал он, любуясь ходом. — Теперь ты!
Бобров небрежно взглянул на игру и сейчас же, не меняя позы, пошел пешкой, потом сдвинул брови над прямым носом, тряхнул головой и смешал фигуры.
— Сдаюсь. Ты меня замучил!
— Так-то, брат; я это предвидел, когда ты еще сдавал коня. Нельзя же так рискованно играть, милый.
— Риск — благородное дело. Моя специальность...
— Да. Ты у нас удалец. Только не в шахматах, — проворчал довольно Пшевецкий, — только не в шахматах.
Он встал, хрустнул пальцами и прошелся, разминаясь и зевая, по комнате. Бобров взял трубку полевого телефона.
— Комендатура. Машину.
— Да, — сказал Пшевецкий, останавливаясь перед ним, — так-то. Надо играть серьезнее. Впрочем, трудно быть хорошим шахматистом в двадцать три года. Тебе ведь двадцать три?
— Ничего подобного, двадцать девять. Неужели на вид...
— Ну да, говори!
— Уверяю тебя.
— Не верю.
— Уверяю тебя, посмотри паспорт.
— Липа!
— Разговаривай! Настоящий дворянин. Можешь взглянуть. Я ведь дворянин — ха-ха!
Бобров вынул из портфеля паспорт. На улице внизу провыла сирена мотора, и стекла тонко дрогнули.
— Любопытно взглянуть, — сказал Пшевецкий, раскрывая паспорт. — Да, ты прав: черным по белому. «Паспортная книжка номер восемьдесят пять, выданная потомственному дворянину Николаю Николаевичу Боброву». Так... «Родился седьмого марта тысяча восемьсот восемьдесят девятого года». Правильно. Странно. Ты выглядишь значительно моложе. Да. В таком возрасте, любезнейший, надо играть умнее.
Он положил паспорт на стол.
— Ты куда?
— В двенадцатый, там скверно пахнет.
— Вали, вали. Вечером партия?
— Есть. Коли что — звони в двенадцатый.
Бобров подошел к двери.
— Да, вот еще что, — сказал Пшевецкий, аккуратно укладывая фигуры в ящичек и подымая бровь над припухшим скупым глазом. — Вот еще что. Там, в подвале, только что окончили одиночки, пойдешь вниз — взгляни.
— Ладно, взгляну.
Бобров вышел. И как только он вышел, Пшевецкий стал неузнаваем: глаза его выцвели до белизны, тощая шея натужилась железными жилами, и резкие желваки заиграли на угодничьих скулах. Он схватил телефонную трубку и худым, с чернильной вдавлиной пальцем дважды нажал пуговку, и дважды где-то в ящике гнусаво пропел петушок. Пшевецкий вызывал коменданта.
А в это время Бобров сбежал по лестнице вниз, в комендатуру, останавливаясь на площадках, чтобы натянуть щегольской хромовый сапог или выправить синюю рубаху, смявшуюся под ременным кушаком.
Комендант положил трубку.
— Одиночки готовы? Я хочу посмотреть, — сказал Бобров.
Комендант надел фуражку, часовой стукнул прикладом, и они пошли. В полном безмолвии они проходили через гулкие кухни, спускались по ржавым лестницам, где каждый этаж желтел утомленной лампочкой, они осторожно обходили темные лужи нефти, радужной кровью отливавшие на черной земле задних дворов, среди железных бочек и ящиков. Они спустились по холодным ступеням и вошли в темный, сырой коридор.
— Здесь дьявольски холодно, — очень громко сказ-Бобров, передергиваясь и входя в первую одиночку.
Никто не ответил, но вместо ответа дверь за ним сильно захлопнулась и дважды щелкнул замок.
— Эй, что за глупые шутки! — крикнул Бобров.
Никто не ответил.
— Черт возьми, отоприте!
За дверью стукнул приклад. Бобров изо всех сил ударил кулаком в доску. Беглым блеском фотографического затвора блеснул глазок волчка, и у самого своего носа Бобров увидел оскалившееся лицо солдата.
— Я тебе приказываю — отопри! Ты знаешь, кто я такой!
Глаз волчка померк. Бобров схватился за парабеллум, но сейчас же вспомнил, что оставил его в кабинете Пшевецкого. «Что это значит?» — подумал он, и у него закружилась голова.
Громадная непоправимая беда разделила жизнь пополам, захлебнувшись толстой дверью. По один бок ее, этой двери, кружилась безвыходным волчком и гудела темнота и тишина, а по другой бок был мир и солнце. Там площадь поворачивалась под шинами моторов, увлекая каруселью зеленых лошадей над латинским портиком Большого театра. Там цвели по бульварам липы. И девушки, всегда провожавшие его глазами, полными сладкого ужаса и восторга, так же (и без него) лущили семечки, прикрывая ладонями розовые ротики. Он всегда нравился женщинам, этот широкоплечий, отлично сложенный человек с синими мозаичными глазами и полированным пеналом маузера, так изящно и спокойно подскакивающий на твердых подушках великокняжеского автомобиля. Он был страшен налетчикам, хорошо знавшим деревянную прочность его небольшого кулака, и офицерам, не выдерживающим на допросах его взгляда. «А здесь? Что же это такое?» — думал он, куря и бросая, обхаживая камеру в три путаных шага, поворачиваясь, выгибаясь и мучаясь. Он знал, что это могло быть доносом, ошибкой, наконец... шуткой. Но это должно было распутаться. Немедленно, сию минуту... сию секунду... Дальше это продолжаться не могло... Но это продолжалось, и время, оставаясь неподвижным, неслось, свистя и захлебываясь. И ужасней всего и унизительней было неведение, то неведение, которое знает все, но не желает знать, а потому не знает, все помнит до самых тайных глубин, но глушит память и мчится, захлебываясь, во тьме.
Сколько времени прошло, он не знал. День ли, миг ли? Щелкал фотографический затвор волчка, смотрел пронзительный глаз.
Звучали грубые башмаки по коридору. Он пытался уснуть. Он ложился, не боясь испачкаться, на каменный пол, подкладывал под голову локоть, и сейчас же ему чудилось, что его куда-то несет к черту, раскачивая и поворачивая на весу. И только раз он, измученный, забылся. Тогда заскрипело во тьме еловое колесо, заныла туго захлестнутая кисть руки, вытянутая накручивающимся канатом, захрустели ребра, и истощенное угодничье лицо с царской бороденкой в иноческой скуфье заглянуло в глаза. «Что ж ты молчишь, соколик?» — сказал ласковый, ужасный голос, и вдруг разорвалась бомба, спицами полетели лаковые клочья черной губернаторской кареты, лошади, издыхая, забились в перепутанной упряжи, и человек, бросивший бомбу, побежал в переулок, вдавливая голову в плечи и мотаясь на бегу.
Бобров вскочил. Гремя прикладами и ключами, пришедшие отпирали одиночку. В коридоре горела лампочка слабого накала. И, увидав себя окруженным многими вооруженными, Бобров понял, что это — конец. Его повели. Он знал, что уже ничего не поможет. Он уже видел себя введенным в пустой гараж, где одна стена истыкана черной оспой, и совершенно точно осязал на затылке то место, куда ударит первая пуля. Отяжелевшая кровь налила дубовые ноги, и легкая громадная пустота звенела и реяла вверху. Его вывели из подвала во двор, в ночь, где ноги бессильно скользили по черной земле, напитанной нефтью. А вверху, в пролете двух многоэтажных океанских корпусов, в сладкой синеве висело созвездие.
Однако он ошибся. Минуя слишком хорошо знакомый гараж, его повели по слишком хорошо знакомой лестнице вверх. Тогда он понял, что еще не конец, что еще можно будет говорить. И, переступая порог кабинета Пшевецкого, он зашатался от шума, хлынувшего в голову, и от крови, переполнившей сердце. В глазах посинело, затем ослепительно все зажглось, и страшно захотелось есть.
Пшевецкий неподвижно сидел за столом, опустив глаза в бумаги. Старомодное пенсне в роговой оправе чересчур резко чернело на его бескровном, измученном, постаревшем лице.
— Что такое? В чем дело? — спросил Бобров с напряженным весельем.
Пшевецкий дружески и мучительно улыбнулся.
— Чепуха, — сказал он, дергая плечом, и подал руку. — Садись. Поговорим.
Бобров сел к маленькому столику меж окон. Раньше этого столика здесь не было.
— Допрос?
— Небольшой.
— В чем дело?
Пшевецкий, не глядя на Боброва, подал ему две бумаги. Бобров взял. Одна новая, с голубым штампом, на машинке:
«Оттуда. Пшевецкому. В. секретно.
При сем препровождаем на ваше распоряжение документ гр. Зельцмана, секретного агента Н-го охранного отделения, с пометкой начальника отделения о выдаче оному паспорта на имя дворянина Николая Николаевича Боброва за № 85».
Легкая испарина тронула виски Боброва. В правом верхнем углу бумажки, поперек, красными чернилами была бисерная пометка: «Гр. Зельцман, провокатор, активный член партии с.-р., выдал Н-ому охр. отд. участников покушения на Л-го губернатора. По сведениям, находится на службе во вверенном вам учреждении».
Другая — большой, вытертый на сгибах, ветхий годовой мещанский паспорт на имя Зельцмана, с размашистой синей резолюцией через всю бумагу: «Выдать дворянский паспорт на имя Николая Николаевича Боброва».
— Расстрел? — коротко спросил Бобров.
Он не отпирался, не старался вывернуться. Он видел, что дело детально разработано и все равно ничем не поможешь.
— Глупости, — сказал Пшевецкий. — Древняя история. Мало ли что с кем когда-то было. Нам хорошие работники нужны. Отстоим.
Бобров слабо улыбнулся. Он хорошо знал здешние порядки.
— Писать?
Пшевецкий ставил вопросы мягко. Бобров отвечал просто. Разговор имел вид дружеского и серьезного. Затем Бобров подвинул к себе бумагу и стал писать. Пшевецкий охаживал его, заглядывая то через одно, то через другое плечо в показание, и, поправляя пенсне, делал короткие, не важные поправки, толкая в бумагу тощим пальцем с чернильной вдавлиной. Бобров быстро и красиво писал, стараясь как можно скорее кончить и не делать помарок.
— И вообще ты не беспокойся, обойдется, яйца выеденного не стоит, — бормотал между тем Пшевецкий, теребя свою царскую бородку и подымая бровь над скупым, мясным от бессонной ночи глазом. Лицо его сводило от невероятного и сдерживаемого страдания. — Пиши, пиши...
Когда Бобров кончил писать, уже был рассвет. Пели петухи, пахли липы, и окно было налито зеленоватой, свежей водой зари.
— Подписывай, — сказал, торопясь, Пшевецкий, — и сыграем партию.
Он захватил со стола пресс-папье и осторожно промокнул подпись, будто ставил печать. И, промокая, он навалился на спину Боброва и потрепал по плечу, дыша в ухо теплым, густо пахнущим дыханием.
Затем лицо его стало железным. Он ловко, как во сне, вытянул показанье из-под пальцев Боброва, другой рукой быстро убрал со столика оставшуюся бумагу, ручку, чернильницу и, твердо посмотрев на конвоира, стоявшего у двери, стал возиться, устанавливая шахматную партию. Бобров мечтательно курил, устало глядя в окно на приливавший рассвет, и зевал.
Стоявший у двери сделал два шага вперед и выстрелил Боброву в затылок.
Пшевецкий быстро повернулся плечом, с силой закрыл глаза, будто стреляли в него, будто он желал пропустить мимо себя брызги мозга и крови, и подошел к телефону. Из прокушенной нижней губы его выступила капелька крови. Пороховой дым тонкими ниточками вытягивался в окно, смешиваясь с кисельным запахом лип. И трижды в ящичке телефона, в глубине, пропел петушок.
Пшевецкий вызвал коменданта.
1923
Зимой[40]
I
Я просил ее:
— Не уезжай.
Я говорил:
— Ты мне нужна каждую минуту, а видимся мы с тобой несколько часов в сутки. Сегодня совсем мало — полчаса. Мокрые пальцы серых детских перчаток; слабое пожатие руки; холодная, твердая, хорошая щека; ласковое слово — и ваших нет. До завтра — до свидания.
На Никитской скрипит снег. Светящиеся часы похожи на восходящую полную луну. В темноте по Москве развешаны белые, розовые, голубоватые яйца фонарей.
И под фонарем я закуриваю.
Спички задувает ветер. Игольчатый воздух танцует и покалывает ресницы. Мундштук папиросы, на минуту вынутый изо рта, твердеет и леденеет.
Сколько дней мы с ней знакомы? Кажется, пять.
Пять затяжек папиросы. И между каждой затяжкой память о ней твердеет, леденеет, и страшно подумать, что вдруг завтра ее уже нельзя будет отогреть губами.
Сколько ночей я не спал? Кажется, четыре. Я совсем болен. Несомненно, это простуда, и больше ничего. Кашель, жар, озноб. И простудился я на Патриарших прудах, возле десятого дерева с краю, если считать от грелки, откуда выбегают косые конькобежцы. Меня продуло парадным ветром оркестра, этой медной отдышкой труб, тарелок и барабана. Это случилось вчера.
II
Нечаянно (уверяю вас) я попал на Патриаршие пруды к десятому дереву, считая от грелки.
Собственно, было время обеда. Но эта благородная традиция, к сожалению, не всегда выполнима, особенно если в кармане пусто, а в ресторане не дают в долг.
Но это не важно.
Важно, что не было папирос.
Впрочем, и это не так уж важно.
Важно, что до восьми часов осталось ровно — четыре. Четыре часа без еды, табаку и любви. Это — нечто ужасное!
От нечего делать я смотрел на лед, опираясь, конечно, о десятое дерево с краю, если считать и т.д.
Вдруг сзади:
— А, поэт мечтает! Здравствуйте.
Вы знаете, что самое забавное на свете? Бешеный брат или жених в Киеве? Нет, дорогая тетя. Самое забавное на свете — это почтенный и всеми уважаемый издатель, прогуливающийся между четырьмя-пятью часами на Патриарших прудах, вокруг катка.
Он до половины осыпан снегом. Он розов и смущен. Очевидно, он гуляет очень долго. Дома его ждут добродетельная жена, хорошие дети и славный суп, который стынет на кухне. Но он гуляет. Под мышкой у него нет портфеля. А это очень знаменательно. Он явно смущен.
— Дорогой издатель, и вы здесь. Без оттисков, без корректур, без портфеля, без синего карандаша? Уж не сочиняете ли вы стихи? У вас такой лирический вид.
Он слегка рассержен. Он объясняет: портфель, корректуры, цензура, синий карандаш — это небольшой эпизод. Случайность и недоразумение. Сущность же его — лирика, сложные фонетические конструкции, стихотворная композиция. Он говорит:
— Эти пруды мне напоминают лес. Это мне необходимо для новой поэмы.
Старой его поэмы я, впрочем, тоже не знаю.
— Да. Слышите, как звучит оркестр? Вы не находите, что медь плачет о погибшей молодости и счастье? (Это говорю я.)
— Вы так думаете? — важно и строго отвечает он. — Молодой человек, заметьте себе, что медь никогда не плачет. Медь торжествует.
Я рассеянно:
— Торжествует? Возможно. — И в упор: — Дайте двадцать. Я не обедал.
Он морщится. Неужели нехороший автор не может найти более подходящей обстановки для своей бестактной просьбы?
Он ласково:
— Десять.
Я твердо:
— Двадцать... Я бы попросил.
У него последняя надежда:
— Десять. У меня крупные.
— Разменяйте. Двадцать.
Он разводит пухлыми ручками:
— Негде.
Я оживаю.
— Глупости. Мальчик! Коробку лучших папирос. Сдачу с пятидесяти. Тридцать — господину, остальные мне. Есть?
Самая последняя надежда издателя: может быть, не найдется сдачи. Нашлось.
— И коробку спичек. Мерси (это издателю). При случае лирические стихи о любви, о катке и о Елене. В четверг. Великолепно. Напишу. Так вы уверяете, что медь торжествует? Правильно. Она торжествует. Я с вами согласен.
Он грустно:
— Пожалуй, вы правы: она плачет.
— Как угодно. Вам на юго-восток? До свидания. Мне на северо-запад.
Он грустно удаляется. Домой? О нет! Боязливо оглянувшись, он возвращается обратно. И медленно бредет в толпе зевак, любующихся фалангами конькобежцев, которые массовыми кренами в свист полосуют морозный круг. С грустью он констатирует, что медь действительно плачет, и плачет именно о погибшей молодости и счастье.
Пусть меня повесят, если у него не назначено здесь свиданье!
III
Ага, хорошие папиросы! Одна, две, три, пять. Курить на морозе вредно. Согласен. А целоваться на морозе не вредно? А два часа стоять у крыльца в крещенском крещендо морозного треска и смотреть в чернильные глаза, это не вредно? А идти домой в расстегнутом пальто — не вредно? Наконец, разорвать рукав о колючую проволоку возле десятого дерева с краю, если... Это не вредно?
Я совершенно болен.
От Никитских ворот к почтамту надо идти по Тверскому бульвару, по Тверской, через Кузнецкий. Это если не самый короткий, то зато самый милый путь.
Какой же дьявол завел меня на Патриаршие проклятые пруды в этот мертвый, ночной московский час? Поют вторые петухи. Прохожу мимо десятого дерева с краю, мимо единственной в мире колючей проволоки.
Эй, кто там стоит, прислонясь к грубому стволу? Никто не смеет стоять возле этого дерева. Это дерево — мое. Возле него она сказала мне: «Люблю». За последние пять лет никто не говорил мне ночью, в снегу, возле колючей проволоки, у черного ствола дерева «люблю». Мне кричали «стой», меня расстреливали, раздевали, били рукояткой револьвера... Но «люблю»...
Или это мой двойник? Он поворачивает ко мне лицо. Ба, да это издатель! Он очень грустен. Он шепчет:
— Медь не торжествует. Медь плачет о погибшей молодости. О, мои двадцать рублей! О, моя добродетельная жена и мои умные дети!
И слезы текут по его голубым щекам.
Он исчез. Он пропал без следа. Никого нет возле десятого дерева с краю.
IV
Мне надо лечиться.
Против окон аптеки на площади Революции — та же игольчатая возня воздуха и зипун извозчика. Дверь раскалывается и со скрипом переворачивается. Сон. Свет. Полки. Прилавки. Склянки. Фаянс. Весы. Сонный аптекарь.
— Будьте любезны, гражданин, чего-нибудь от кашля. И еще эту коробочку лепешек. И еще бутылочку йоду... и ваты, будьте добры. Благодарю вас. Получите. А это помогает? Благодарю вас. Поднять воротник? Спасибо. Взять извозчика? Чепуха. Я влюблен и пойду пешком.
Дверь раскалывается и со скрипом переворачивается, но зато карманы набиты противоядиями. Против окон, против синих и красных бутылей, против нестерпимых линз, полных разного огня, — та же игольчатая возня воздуха и зипун извозчика. И ночная извозчичья московская формула:
— Я вас катаю?
— Нет, дорогая тетя. На этот раз вы меня не катаете.
Теперь пустяки: Столешников, Петровка, Кузнецкий, Мясницкая и Чистые пруды. (Не Патриаршие, а Чистые, Чистые, Чистые.)
Мыльников переулок. Над воротами знакомая фосфорная цифра. В окне — голубой свет, значит, сегодня нюхают кокаин. Я не буду нюхать. Мне надо лечиться от простуды и любви.
Вот: стопа бумаги, прекрасные чернила, портсигар, спички, стакан воды, коробка лепешек, капли, вата, йод.
Жалкое противоядие.
Попробую. Кладу на язык конфету «Эйкалипто-ментол». Против кашля. Холод наполняет рот, грудь, сердце.
В соседней комнате две женщины читают «Двенадцать» Блока по-французски. Милая Москва. Она еще любит революцию и помнит Блока. Но дверь моя заперта. Я тверд.
V
«Эйкалипто-ментол». Смешная игра в спокойствие и холод.
Она — уезжает.
Она не может не уехать. Дома ее ждут. Ждут родные, ждут словари, ждет мальчик, обещавший застрелиться, если она не приедет. Но самое главное — у нее уже есть билет, это твердый, картонный четырехугольник с дырочкой посередине. Он прострелен навылет, он обречен. Никакая сила не может сделать его недействительным.
В последний раз она сняла шубку с милым детским мехом на воротнике и обшлагах. В последний раз ее синие глаза отразились в моем холостом зеркале и сделали его смуглым. В последний раз она сидела у меня на коленях в сереньком мохнатом свитере, и в последний раз я целовал ее полное горло, закинув голову и видя закопченный потолок со штукатуркой, отщелканной октябрьскими пулями.
— Не уезжай, — говорил я, валя в ноги извозчика плед. — Не уезжай, подумай. Я расскажу тебе о чудесных днях революции, нищеты и героизма. Я расскажу тебе о своем отце, который умер от голода в двадцатом году. Я расскажу тебе о том, как у меня в комнате варили самогон, и о том, как жизнь сгорала в спиртовом пламени февральских снегов, доходивших до нижних стекол. Не уезжай. Мне нужна хорошая жена и добрый друг. Я устал. Не уезжай.
Но вьюга била в глаза. Ветер сек розгой щеки. Переулки, сталкиваясь, вырывались белыми вихрями, и трамваи, эти ярко освещенные парикмахерские на колесах, вступали в перестрелку с батареями кино и автомобилей.
— Не отпускай меня, — говорила она, и снег налипал на ее ресницы. — Зачем ты отпускаешь меня? Что я буду без тебя делать?
Но вокзал уже грозил циферблатом, поезда уже кричали в метели, и бляхи носильщиков гремели номерами, как щиты героев. Билет был прострелен навылет, и никакая сила в мире не могла заставить его выжить.
— Зачем ты меня отпускаешь? — спросила она на площадке вагона, когда уже дважды прозвонил колокол. — Увези меня отсюда к себе. Я не могу без тебя жить. Ты потеряешь меня.
Я молчал. Я знал, почему ее отпускаю. Мне нужна была любовь на всю жизнь. Или — к черту! На меньшое я был не согласен. Весной она приедет, и уже все время мы будем вместе. Проклятая жадность. Все или ничего. Мир или цели. Я привык думать картонными законами плакатов и других законов не знал и не хотел знать. Я еще мерил жизнь железным аршином девятнадцатого года. А уже электрические витрины салон-вагона под шумок стрелок проскользили по моим слезам, и красные фонари последнего вагона укачали на вышедших из ремонта рессорах последнее слово, сказанное ею.
VI
Я не буду курить трубки, не буду пить вина с друзьями, не буду торопиться по Кузнецкому в девять часов вечера за котиковым саком золотоволосой красавицы.
Что же мне делать? Жизнь незаполнима.
Остается одно развлечение — ее брат.
Он гораздо старше меня, он писатель, у него хорошая жена и строгие взгляды на жизнь. Он не любит революции, не любит потрясений, не любит нищеты и героизма. Но у него — синие глаза. Правда, они только вечером синие или когда он сердится. Но они синие, с чернильными зрачками. Этого достаточно для того, чтобы я приходил к нему вечером и садился на диван против зеленого абажура лампы, висящей над писательским письменным столом.
— Иван Иванович, я люблю вашу сестру.
Он подымает кверху ножницы, которыми вырезывает из газеты одобрительную о себе рецензию.
— Вы, конечно, шутите?
— Нет, я не шучу. Я ее люблю.
— Увольте меня, пожалуйста, от подобных разговоров. Я не люблю глупых шуток.
— Я люблю вашу сестру. Я не могу без нее жить.
Он с нескрываемым любопытством:
— Нет, вы это серьезно?
— Серьезно.
— Да вы что, с ума сошли, что ли?
— Да, сошел. Я люблю вашу сестру. Я на ней женюсь.
Электрический разряд. Грохот и смятение. Вырезка и ножницы падают на стол. Самовар начинает тонко петь. Синие глаза круглеют до отказа. Жестом благородного отца он хватается за голову и начинает бегать по комнате, садясь на встречные стулья.
— Что! Что-о? Что-о-о? Жениться? Вы? На моей сестре? Да вы что, в уме? Тася, дай ему воды. Дайте-ка я попробую ваш пульс, голубчик; вам, вероятно, нездоровится!
Он немного успокаивается.
— Нет, это даже смешно. До того глупо, что смешно.
— А почему бы и нет?
— Почему? Да вы что — ребенок! Нет, вы это нарочно?
— Серьезно.
— Ах, серьезно! Так я вам скажу тоже серьезно. Вы это бросьте. Бросьте и бросьте. Ах, я дурак. Как я допустил? Как я мог это допустить? Вот, не угодно ли...
И он начинает опять бегать по комнате, садясь на все стулья. Он не может себе простить этого рокового знакомства. Зачем он позвал меня к себе в сочельник? Ну да. Он один во всем и виноват. Вот здесь, в этом углу, стояла елочка, вот тут, на диване, сидела она, сестра, приехавшая на праздники в первый раз в Москву. Вот там стоял я и читал стихи. Затем опера. «Гугеноты» и скверный состав. Но кто ж мог предвидеть несчастье? Боже, боже! Вся вина в многочисленных глазах благородного семейства падает исключительно на него.
Он долго всматривается в меня и вдруг опять впадает в отчаяние:
— Что? Жениться? О, господи! Вы? На ней? Что я наделал, что я наделал! Надеюсь, по крайней мере, что хоть она...
— Она меня любит.
Он падает в кресло.
— У меня нет больше сестры! Делайте как знаете!
Я даю ему успокоиться. Я мягко:
— Иван Иванович, но в чем же дело? Почему? Ради бога, объясните. Может быть, вы подозреваете меня в каких-нибудь недостойных поступках и тайных пороках? Уверяю вас, что это недоразумение. Я честный и нравственный человек.
— Сохрани бог. Я уверен в ваших качествах, но говорю вам, как друг: бросьте. Ничего из этого не выйдет.
— Я люблю ее.
Он кисло и жиденько смеется:
— Вы опять свое? Да поймите же: вам нельзя на ней жениться.
— Почему же?
Он в бессилье машет руками. Он не понимает, как это я не могу постигнуть такой элементарной вещи. Он собирается с силами и начинает объяснять. Ей нужно учиться, у нее университет, книги, профессора. У нее, наконец, жених. У жениха дом. Особняк. Она избалована. Я в ней ошибаюсь. Она пошутила. Наконец — родственники. Что скажут родственники? Она, и вдруг выходит замуж за поэта. За бедняка, за бродягу, за... за!.. Он не находит слов. Это нечто чудовищное. Нет, нет! Этого не может быть! Этого не будет! Бросьте, бросьте и бросьте.
Он несколько раз начинает истерически хохотать, несколько раз умолкает и несколько раз ищет спички, которые у него в руке.
И только серый домашний глаз его жены внимательно и сочувственно смотрит на меня из-за самовара. Я же упрямо повторяю:
— Я люблю ее.
В сущности, я говорю не ему. Я говорю так, чтобы меня услыхала она за тысячу верст. Кроме того, так забавно, когда он сердится, этот, в сущности, добрый человек и неплохой писатель.
VII
Тогда он разражается великолепным фельетоном о долларе. Это его коронный номер.
— Молодой человек, молодой человек. (Это он мне. Совсем как издатель о меди, которая торжествует.) Ах, молодой человек. Знаете ли вы, что такое доллар?
— Нет, дорогая тетя, тебя я не знаю. Что такое доллар? Я его никогда не видел.
— То-то. Доллар — это, батенька, все. Я преклоняюсь перед долларом. Я влюблен в доллар. Пять долларов — один фунт стерлингов. Вот. Это единица измерения человеческого права на существование. Вы знаете, как живут люди в Америке? Отель. Миллион этажей. Номера. В каждом номере — три крана. В одном — кипяток, в другом — вода ледяная, в третьем — комнатная. Возле каждой постели — ночной столик, и на каждом столике... Ну, как вы думаете — что?
— Самоучитель танцев.
Он презрительно морщится. Когда говорит о его величестве долларе, моя шутка глупа, фельетонна и неуместна.
— Нет. На ночном столике, батенька, Биб-ли-я. На каждом. Да-с. Заметьте себе — Библия. Затем вас по лифту передают прямо на подземную станцию метрополитена и через пять минут вас в лифте же подымают на другом конце города, за пятьдесят верст, на сороковой этаж. Так, что вы даже никакого Нью-Йорка и не видите. Вот. Это, ба-тень-ка, называется доллар. О, я преклоняюсь перед ним.
И неожиданно:
— А вы? Что у вас есть? У вас есть лакей? Нет! У вас есть одеяло?
Я:
— Нет.
— Чем же вы укрываетесь?
— Пальто.
— Как же вы смеете жениться?
Дальше вопрос:
— Вы пьете утром кофе?
— Чай. Иногда.
— Дома?
— В трактире.
— Сколько у вас пар обуви?
— Одна.
— Какая?
— А вот — эта.
— Эта? Разве это обувь! Сколько у вас дюжин белья?
— Две рубахи и две пары кальсон. Солдатские.
Он сардонически смеется.
— Так вот, батенька. Я вам сейчас списочек составлю. А когда у вас все по списочку будет, тогда мы с вами поговорим о женитьбе. Но, конечно, не на моей сестре, это вы бросьте. А вообще. Где мой бювар?
Он хватает ручку и начинает быстро писать на узенькой бумажке рецепт моего права на любовь. Он похож на доктора. Две дюжины белья. Три пары обуви (одна лаковая), одеяло, плед. Три костюма, Собрание сочинений Мольера, дюжина мыла, замшевые перчатки, бритва, носки и т.д. и т.д. и Библия.
— Два года минимум. Вот-с выполните этот списочек, и тогда мы с вами поговорим.
Да, еще одна вещь. Он совсем и забыл. Золото, золото. Золотые десятки. Это самое главное. О, я преклоняюсь перед золотом. Купите себе, ну, скажем, десять десяток. Тогда с вами можно будет поговорить даже... о сестре.
Он уверен, что это невыполнимо.
Бедняга. Он мечтает об Америке и долларе. Мысленно он делает замечания лакею во фраке и ездит на моторе. Мысленно он пользуется тремя сортами воды и читает на ночь Библию. У него в кармане чековая книжка Лионского кредита и громадная утренняя газета с миллионным тиражом.
Но в действительности в комнате два стула, потолок немного протекает, жена спит на худой походной кровати, вентиляция испорчена, соседка слева торгует самогоном, а сосед справа играет на гармонике и не платит в жилищное товарищество за квартиру. Отопление работает плохо. Доходы маленькие.
Но этот мечтатель живет в чудесном мире долларов и комфорта.
Я беру списочек и аккуратно кладу в боковой карман.
— Хорошо. В двадцатом году я умирал от голоду в Харькове, в городском саду. На мне были парусиновые штаны и бязевая рубаха. Больше у меня ничего не было. Столовые по случаю праздников были закрыты на два дня. У меня звенело в ушах и темнело в глазах. Я не унывал. Я любил эту голодную и героическую пору военного коммунизма, любил устные газеты и митинги. Я верил в будущее. Вот список, я это сделаю. Посмотрим, кто из нас американец. У меня нет ничего, но у меня будет все.
— Вот. Это я понимаю. Это умно.
— А у вас никогда ничего не будет.
— Это мы увидим.
Конечно, он ни на грош не верит в меня. Посмотрим.
— Только не забудьте золото. Десять десяток.
VIII
Прежде всего система. Календарь на стену (посмотрим, кто у нас американец!). Сотня конвертов на стол. Марки под чернильный прибор. Папка рукописей за пять лет — на пол. Маленькие рассказы — направо. Большие — налево. Стихи — в сторону. Шесть — больших, десять — маленьких и тридцать — лирических стихов. Валюта.
Пиво к черту. Оно мешает работать. Расписки, издатели, чеки. Прежде всего и после всего — деньги. Редакция и пачка хороших папирос. Фельетон должен быть блестящим — за это больше платят. Вечером письмо, ответ и двадцать минут нежности. Больше я не могу себе позволить. Потому — работа. Глаза болят, спина ноет, стиль выше среднего, выдумка — слаба, сжатость — максимум, компановка — уверенная. Валюта.
Черточка, черточка, черточка... Башмаки, костюмы, белье, галстуки с грохотом вылетают из списка, и перекрещенные, прожитые дни прыгают пз клеток календаря, как люди из окон горящего дома. Шкала моего права на счастье растет по Фаренгейту.
Деньги и вещи. Вещи и рассказы. «Распишитесь в получении», и неразборчивый почерк на листиках арифметической бумаги: «У меня в комнате холодно, и поставили железную печку. Зачем ты меня отпустил, я не могу без тебя жить!»
Три недели писем, денег, работы, вещей и жара.
У меня есть все. Мне не хватает золота. Но золото никогда не зарабатывают. Для этого есть казино.
Беленький шарик с сухим треском ринулся по краю деревянного бассейна по красным и черным цифрам, отскакивая от неожиданных шипов и стреляя в блеске никелевых ручек, скрещенных над вращающимся центром. У крупье бритый подбородок и насмешливые, наглые глаза. Все зеленое поле, разбитое на аллеи, клумбы, грядки и дорожки, похоже на хорошо распланированный английский сад. Разноцветные фишки, лопаточки и деньги — детские игрушки. Бодлеровская старушка лихорадочно записывает в книжечку цифры и высчитывает оборочками губ формулу удачи. У меня ставка на «чет». Выпадает «чет». Удваиваю и ставлю на вторую дюжину. Выиграл. Трансверсаль. Выиграл. Долго везти не может, и все в жизни имеет конец. Я это знаю. В последний раз. На цифру. Не помню, на какую. Но золото у меня должно быть: десять десяток. Сегодня. Плещет бассейн рулетки, и пощелкивает шарик. Стоп. Моя цифра выиграла. Этого достаточно. У меня в руках куча денег и фишек. До свидания, джентльмены. Бодлеровская старушка вбивает в меня глаза-гвозди, но касса охотно обменивает всю эту бумажную и костяную рухлядь на десять золотых полновесных, блестящих монет. Производственная программа выполнена.
Иван Иванович в ужасе и в восторге, когда он видит мой новый костюм и лаковые башмаки, но золото приводит его в состояние бреда.
Он не находит слов.
— Да, да. Я вижу. Вы далеко пойдете.
— Не пойду, а поеду. До свидания.
Он убит. Он сверкает синими глазами.
Конечно, я поеду. Немедленно. Только сначала надо телеграмму. Извозчик, почтамт.
Расчет точен, но ответа нет. Учитываю небольшое опоздание. Ответа нет. Учитываю большое опоздание. Ответа нет. Учитываю ответ почтой, но его нет. Легкое опоздание — нет. Большое опоздание — нет.
«У меня в комнате холодно, и поставили железную печку».
Побеждает тот, кто сжигает флот первым. Кстати, о печке.
Несколько щепок, два березовых полена, вчерашняя газета и календарь, который три недели медленно выгорал клетками окон и обугленных цифр, мгновенно заворачивается огненной стружкой и летит пепельной невесомой бабочкой над раскаленными полосатыми дровами к черту.
Подождем еще. Два дня — ответа нет.
Хорошо.
— Алло. Это вы, Нэлли? Я хочу вас видеть. Где и когда?
Потом: розовое утро, голубой снег, дым, дворники, бьющие лед, легкая тошнота похмелья и черный кофе с лимоном. Но тяжесть золота в боковом кармане приводит в отчаяние.
«У меня в комнате холодно, и поставили железную печку».
IX
Все или ничего. Я еду.
В чемодан летят желтые башмаки, одеколон, белье, блокнот, туфли и последние журналы. Билет прострелен навылет. Метель, и второй звонок. Сутки, и шесть часов бездействия.
— Я ищу твой вагон. Тебе с вечерней почтой два письма.
Это — друг. Он привез письма на моторе.
— Спасибо.
Одно розовое, другое узкое и серое. Оба от нее. Читать — бесполезно.
— Когда ты вернешься?
Мне не нужно даже вскрывать их.
— Через четыре дня.
Третий звонок — и сутки валятся в тундру окон ледниковым периодом шишек и елок. «Я уже писала тебе, что у меня в комнате поставили железную печку. Завтра я пойду к своему профессору и попрошу, чтобы он как следует побранил за то, что месяц не была у него. Дорогой мальчик. Чудесная зимняя сказка окончилась. Работа, работа и работа... Не сердись на меня. Может быть, я уже не люблю тебя. Я ничего не знаю».
Зато я знаю все.
Сказавший: не знаю, сказал: не люблю. Раненого — пристрелили, колебание — смерть. Значит — это конец. Писать больше не о чем, но инерция продолжается и жить надо. Мысли должны быть приведены в систему. Хаос взрыва, перемешавший воздух с бессонницей и мысль со звуком в путанице громадного напора, стал пустотой. Пустота требует заполнения. И после взрыва, после стыка писем и станций, бронированного Брянска и бестолковых стрелок, после мыслей, стукающих буферами друг в друга, осталась одна, совершенно прозрачная, горьковатая капля в реснице. Она разломила глаз и страничку блокнота, где судорожно перечеркивались неподходящие слова, которые были еще недостаточно лживыми, чтобы сделаться формулой.
Итак, пальцы, нажимавшие на карандаш и затем затягивавшие ремни портпледа, вытянулись в нерешительности. Сутки ловко обернулись вокруг них и, отбросив двадцать четыре тысячи совершенно ненужных деталей (среди них: глупые наименования станций, вокзал, извозчик, номер в гостинице, спички...), коснулись звонка.
Быстрые шаги за дверью. «Кто там?» Путаница «ты» и «вы», запах цветочного мыла и мускуса, и все — чужое.
— Раздевайся. Когда ты приехал?
Запутавшиеся пальцы борются с выключателем. Лампочка дает осечки. Серенький свитер, узел волос, один поворот голоса, другой поворот, блестящий и очень близкий полный глаз, поднятая рука, ноготь, горло, беглый поцелуй — десяток любительских фотографий на память при вспышках магния. Моментально и навсегда.
X
Так вот она, ее комната. Печка, которую недавно поставили, железная, низенькая и слишком простая. Но она страшнее батареи.
— Ну, как вы живете? Рассказывайте. (Это я.)
Быть спокойным труднее, чем набить трубку. Кроме того, потерялись спички.
В окне стоит бесстрастный, скупой киевский полдень.
Под окном аккуратный письменный стол. На словарях — пыль. Возле чернильницы — компас. Стрелки безвозмездно разъясняют приезжим: север и юг. Фраза: «Вам на юго-восток. А мне на северо-запад», переменившись во времени и пространстве, приняла материальные формы и компасом легла на стол. Ибо иначе не входит и не выходит из мира. Все было, есть и будет.
Я рассматриваю ее при ровном дневном свете. У нее немного плоское лицо каменной бабы, подбородок, выведенный ровным овалом, короткий, упрямый нос, выпуклые серые глаза с чернильной синевой посередине и обиженные губы. Она хорошо сложена, и ноги у нее маленькие. Волосы счесаны с затылка вверх и закручены взрослым узлом. А в общем вся она чудный недомерок, который так тяжело терять.
Она говорит о сбивчивом прошлом, которое не повторится.
Я:
— Да, прошлого нет. Нет настоящего, и нет будущего. Есть вечное, и оно всегда. Но оно меняется. Вчера это шутка у десятого дерева на Патриарших прудах о северо-востоке и юго-западе; сегодня — это компас на вашем столе с отклонением в тридцать градусов, а завтра — это красные флаги на полюсах.
Север и юг вечны.
Она подбрасывает в печку поленце.
Недаром я так боялся этой проклятой печки, о которой знал лишь из письма. Написавший — печка, написал — огонь, уничтожающий написанное. Вчера — это цитата, сегодня — календарь, закручивающийся огненной стружкой в Москве, в Мыльниковой переулке, в кирпичной грубой печке, а завтра — железная печка в Киеве.
— Кстати, о печке. Вот ваши письма.
Их четыре, они всегда со мной. Два — любимые, старые. Два — новые, в цветных отвратительных конвертах, лживые и колеблющиеся. Кроме того, случайная записка и вязаная перчатка с левой ее руки, которую я клал к себе под подушку, ложась спать.
— Возьмите свои игрушки и отдайте мне мои.
Она, не глядя, вытягивает ящик стола.
Заслонка открывается, как затвор гаубицы, и глотает пачки заряда, огонь гудит в колене трубы. Она опускает ресницы.
Ну, вот и все.
— А теперь ты покажешь мне город. Ведь ты знаешь толк в этих исторических вещах. Даты и стили — твоя стихия.
(Какая пустота.)
— Мы поедем в пещеры.
У нее новая бархатная шапочка. Лучше, чем та, которая была в Москве, но она чужая. Лошадь рвет с места в карьер, меховая полсть привязывает нас друг к другу. Мелкая пороша налипает на ее ресницы, отчего лицо делается розовым и милым.
(Вот это уже лишнее!)
Начинаются достопримечательности.
— Вот дом, где живет мой жених.
— Этот? Хороший дом. Он мне не мешает.
— Золотые ворота. Они относятся...
Садик, горка и на ней развалины, перетянутые крестообразными скрепами. Золотые ворота — это я уже когда-то видел и слышал. Да, ведь я был в детстве в Киеве!
— К тринадцатому или четырнадцатому веку. История их...
Тогда была жара, у меня шла из носу кровь и папа вез меня на пароход. Я держал в поднятой кверху руке ключ, и голова у меня была задрана, но углом глаза я поймал эти крестообразные скрепы.
— История их названия до сих пор не выяснена. Одни утверждают...
И слова «золотые ворота», сказанные отцом, навсегда сочетались с засохшей под носом кровью, любопытством и соломенным зноем какого-то купола, скользнувшего по полям шляпы.
— Это церковь пятнадцатого века...
Я — коротко:
— Взорвать!
Она смотрит на меня сбоку, сквозь порошу.
— Это музей, в котором...
— Все равно — взорвать!
Она улыбается.
— А что же не взорвать?
— Эту колючую проволоку в память «той» можно не взрывать. Этот сад, например, можно не взрывать. Летом в нем хорошо продавать мороженое.
— А еще что не взрывать?
— Еще на спине у извозчика, видите, шарик. Он висит на одной ниточке. Так близко. Его — пришить.
Лошадь кидает назад скрипучую дорогу, и колокольни лавры выходят навстречу белыми тихими монахами в ржавых скуфейках.
В пустоте и тишине монастырского двора по залежам снега монах, похожий на озорного солдата в поддевке и сапогах, провел нас к ближним пещерам. И ту картину Страшного суда, которая была написана на стене в сенях, у входа в пещеру против балконной двери, я тоже видел в детстве. В экземе и струпьях фресок трубили трубы грубо написанных архангелов и свиные рыла чертей лезли из тьмы.
Две тоненькие свечечки, купленные ею, загорелись сусальными червячками, опускаясь в дыру, где воздух был тяжел и неподвижен.
XI
Все равно ничего не выйдет. Вне Москвы у нас нет никаких отношений, вне Москвы нет России и нет любви. Она — расчетливая, скупая и трусливая язычница. Она боится за себя и за меня, когда я за спиной у монаха трясу завернутую в алую тряпку легкую голову подозрительного угодника. Она делает мне умоляющие глаза, в которых горят сусальные червячки. Потом она покупает просфорки и дает мне. При этом она ходит на цыпочках и говорит шепотом.
Между прочим, церкви Печерской лавры завалены тьмой и византийским кудрявым золотом винограда. Шаги трещат плевками по плитам, а мне не страшно и хочется обедать.
Из дома монастырских служб два монаха выносят деревянную кровать. Их переселяют. Над дверью прибита вывеска красноармейской части и висит красный флаг. В стенах колоколен среди углов и архитектурных деталей темнеют свежеоштукатуренные пробоины партизанских снарядов, обведенные красной краской. Это — единственная память гражданской войны и оконченной революции. Это напоминает общелканные октябрьскими пулями карнизы моей комнаты в Москве.
Тиха украинская ночь. Синь снег. Высок тополь возле белой колокольни собора. Кудряв и заносчив припавший на окорока конь Богдана Хмельницкого, стрельнувшего в редкие звезды павлиньими перышками ямщицкой шапки. Подражание фальконеттовскому всаднику. Хорошо начищен оперный месяц над площадью.
— Прощай. Я тебя не люблю.
— Прощай.
— Тебе на юго-запад, мне на северо-восток.
Снег скрипит под расходящимися шагами.
XII
Меня ждет Москва. Я не люблю и не хочу знать твоей Византии: мне нужно бороться, а не молиться. Мои предки с верховья Волги; может быть, они были ушкуйниками. А я разночинец, у меня нет быта и правил, нет семьи, нет ничего, кроме молодости, закаленной дочерна в пламени великого пятилетия. И я хочу быть американцем не меньше, чем Иван Иванович.
Так почему же я не могу заснуть? В номере тепло, пусто и темно. Где-то бьют часы и капает в ведро вода. Жар наполняет пульс короткими толчками. В пальцах и в ладонях двойное ощущение пуда и булавочной головки. Табак горек. Пустота незаполнима. И опять я припоминаю, что в детстве я лежал жаркой летней ночью в номере монастырской гостиницы. В темноте висел комар. В ладонях боролся пуд с булавочной головкой. Где-то пистолетной пружиной звонили часы, и по коридору торопились шаги монахов. Папа давал мне пить кислый монастырский квас, который пахнул кипарисом и олеографией. Мне было страшно. Кровать скрипела. Грубо написанные трубы Страшного суда, глиняные ноги архангелов, свиные рыла чертей и черные грешники наполняли углы, и лихорадка волокла по ресницам комариную паутину. Тогда я боялся бога и смерти.
Разве я знал тогда, что опять повторится в жизни, в Киеве, в темном номере эта борьба пустоты, пуда и булавочной головки.
После бессонной ночи, после безжалостного вокзала вагон-ресторан особенно удивителен и покоен. В нем великолепные окна. За салонными стеклами бежит белизна зимы, сливающаяся с белоснежными скатертями столиков. Рессоры легкими трамплинами бьют в подошвы, но это не мешает читать Франса, у которого на все непонятные вещи есть мудрая улыбка. Подогретое красное вино туманит голову, белизна скатерти и снега становится резче, и становятся понятнее фраки лакеев.
За завтраком у меня милый сосед, представитель какой-то американской фирмы. Он русский. Одет отлично, явно интеллигентен, энергичен. Мы едем с ним в одном купе.
— Трудно себе представить, что это русская дорога, — говорит он, пошатываясь на стуле и наклоняя ко мне пробор. — Вы помните, что было? Сыпной тиф, разобранные пути, десять верст в час... Теплушки... Давка, мешочники, крушения — ужас.
— Да, да. Товарный вагон, и в дверях человек в синих галифе с маузером.
— Что ни говорите, а Россия удивительная страна и русские удивительный народ. Я часто бываю за границей. Нас там боятся, честное слово.
Еще бутылка красного вина, и он рассказывает мне о своей жене, о своей несчастной жизни и о своей скрипке, на которой он играет не дома, а только в путешествиях.
Потом вечер, прибавляющий вина, жара и грусти.
Лампочка в купе наполняется желтым светом. Сосед наигрывает под сурдинку нечто жалостное, но мало убедительное. Жар прибывает. Вагон покачивает. Соседи укладываются спать. Пустота незаполнима. Пуд борется с булавочной головкой, сознание уходит, красное одеяло режет глаза, свежеотремонтированный вагон начинает пахнуть тем сложным запахом краски, клопов, железа и электричества, каким несколько лет тому назад пахнул вагон, в котором меня везли, больного сыпняком, с бронепоезда в тыл. Вода, которую мне кто-то с неразборчивым лицом подает в зеленой кружке, тепла и противна, как брюшной тиф. Силы иссякли, и сутки поворачиваются вокруг меня колесом, на котором медленно зажигаются и медленно гаснут вперемежку окно и лампочка. Ночь. Поезд стоит. Кто-то из другого мира говорит: «На мосту крушенье. Сейчас будем переходить в другой поезд через мост».
Значит, без перебоя, без провала, спокойно все-таки в России нельзя.
Мои вещи забирают, я с трудом выхожу из вагона. Ночь, вьюга, снег. Много людей, и все куда-то идут с вещами. Холодно, страшно и хочется лечь спать в снег. На мосту горят костры. Они напоминают фронт, бронепоезд, солдат и нищие, счастливые дни военного коммунизма. Они так же неповторимы, как неповторима любовь. А разве любовь неповторима? Нет! Ничто не входит и не выходит из мира. Все было, есть и будет.
Завтра я буду в Москве. От прошлого у меня есть еще золотые монеты. С ними расправиться нетрудно. Ледяной фужер шампанского в «Ампире» и рысак в капоре, скалящий острые зубы и косящий ревнивый глаз, как злая красавица времен Директории.
— К цыганам. Пади. А там мы посмотрим.
Рысак рвет с места в карьер, морозная пыль окружает зипун возницы облаком игольчатой возни воздуха. Фонари рушатся. Пустота незаполнима.
Иван Иванович, не беспокойтесь, опасность пока миновала. Вашему семейству не угрожает разгром. Спите спокойно, мечтайте о долларе, а в свободное от этих занятий время американизируйтесь.
Кстати, у вас уже починили крышу?
Только, пожалуйста, не учите меня больше жить.
Отныне я буду жить сам.
Завтра я загляну к вам часиков в семь.
Мне хочется посмотреть в ваши синеватые глаза при вечернем освещении. Ваша сестра? Благодарю вас, она чувствует себя превосходно, много работает и выглядит свежо.
И еще хочется при встрече сообщить издателю, что медь в равной степени по очереди и торжествует, и плачет о погибшей молодости. Как и всё в мире, впрочем.
1923
Родион жуков[41]
I
Вольный картузик обязательно не налазит на обширную, ежом стриженную голову, и козырек обязательно съезжает со лба на сторону, куда-нибудь поближе к уху; штаны, хотя бы и закатанные по-рыбацки выше колен, топорщатся добрым флотским сукном, и запылившиеся тесемки исподних болтаются вдоль крутых, как булыжник, икр; ситцевая рубаха с васильковыми стеклянными пуговичками, аккуратно заправленная в брюки, облегает широкую грудь и надувается на спине пузырем...
Одним словом, какое бы барахло ни напялил на себя матрос Черноморской эскадры, как бы ни прикидывался вольным, куда бы ни отводил свои карие глаза с опаленными топкой ресницами — ничто не поможет. Все равно каждый встречный-поперечный увидит, что это не простой батрак из немецкой экономии, не рыбалка, шатающийся ради праздника из своего камышового куреня на баштан к девкам, не бродячий цыган, охотник до чужих лошадей и дынь...
И рябой урядник, прыгающий в клубах белой, как мука, пыли на кожаных подушках рессорной немецкой брички, поравнявшись на проселке с таким человеком, обязательно высунет из холщового капюшона свое страшно глупое лицо с кукурузными усами, поправит под пылевиком шашку и, чихая на солнце, тревожно подумает:
«А не нравится мне этот человек! Не забрать ли милого друга с собой да не поворотить ли обратно в волость?»
Но лошади, отбиваясь свистящими хвостами от слепней, бегут шибкой полевой рысью — только что разбежались как следует! Перепелки шныряют по жнивью, воздух лениво обтекает горизонт, и в его горячем течении плывут, колеблясь стеклянной зыбью, стебли трав, обкошенные могилы, копны и полынь, растущая на межах. А там, смотришь, впереди уже завиднелись над зеленью испаряющиеся коллодием черепичные крыши экономий, мачта кордона, беседка над обрывом и яркое, как синька, отрадное море. Куда уж тут останавливаться и с полдороги возвращаться обратно! Самое время теперь купаться, и к помещику сегодня зван на праздник. Досадно не быть.
Да и подозрительный человек остался далеко позади. Может, его уже и вовсе нет на дороге. Может, он свернул по своей нужде в кукурузу, присел над серой, туго полопавшейся землей среди толстых, узловатых палок и смотрит, вытянув шею, на кочанчики, плотно обвернутые в жесткие острые листья, из которых не пробиваются юные русые волосы, а зеленые металлические мухи стоят над ним звенящим роем. Поди ищи его. «А, да ну его! — думает урядник, пряча лицо поглубже в капюшон. — Мало ли их тут шатается по-над границей всяких флотских, беглых, которые... Авось бог милует... Нехай гуляет, пока не повесят».
И катится пыль колесами по проселку; слабый ветерок относит ее вместе с дилиньканьем колокольчика в сторону, как кисею, и, словно сквозь шелковое сито, сквозь воздух она оседает тончайшим порошком на морщинах флотских штанов (от пыли они делаются бархатные), на ячменных бровях и на чуть курчавых, опаленных знаменитым огнем ресницах вышедшего из кукурузы, с ремешком на шее, человека.
II
В числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потемкин» на румынский берег, был Родион Жуков. Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля. С первой минуты восстания, той самой минуты, когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда послышались первые ружейные залпы и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда Матюшенко, коренастый и ладный, словно отлитый из бронзы, с треском отодрал дверь адмиральской каюты, — с той самой минуты Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов — в легком тумане, в восторге, в жару — до тех пор, пока не пришлось сдаваться.
Никогда до сих пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля, широка и горька.
Непривычно красив и бел показался Родиону Жукову город Констанца. Множество всякого интересного народу вышло на пристань встречать, как героев, русских моряков. Тут были лодочники в полосатых тельниках под пиджаками, и таможенные чиновники в пелеринах, застегнутых на груди пряжками в виде львиных голов, и хозяева турецких бригантин в фесках, и господа с биноклями, и дамы в узких жакетах с буфами на рукавах, и множество прочего городского люда. Нарядные зонтики и соломенные шляпы двигались по зеленой синеве глубокого, неспокойного моря. Шлюпки подскакивали на крутых волнах, терлись скрипучими уключинами о дикий камень набережной и с плеском ухали вниз, в пахнущий бычками мрак.
Полицейские оттесняли от матросов напиравшую толпу. Офицеры то и дело прикладывали пальцы в лимонных перчатках к расшитым золотыми ветками околышам кепи и извинялись перед дамами. Дамы махали платочками. Толпа кричала «ура».
Среди сочувствия, шума и общего любопытства, стесняясь и разминая широкие плечи под тяжестью своих угловатых ладных сундучков, прошли матросы через пристань и вступили на мостовую города. И потом на казарменном дворе фотограф с ужасно черными бакенбардами раздвинул длинную гармонику своего аппарата и, сунув напомаженную, завитую голову под темное сукно, как одноглазое чудовище о пяти ногах (две свои, три деревянные), гремя и блистая медными винтами, полез, скрипя, на матросов...
И двадцать с лишним лет прошло с тех пор.
Где только не побывала эта лиловая, глянцевая фотография-группа, наклеенная на грубый картон, разукрашенная затейливыми штемпелями и медалями с парижской выставки! Долгое время выгорала она на солнце в витрине констанцского фотографа под холщовой маркизой с розовыми фестонами, была она затем отпечатана во французском иллюстрированном журнале и перепечатана в американском; купленная на память, лежала она не в одном сундучке под чистой голландкой с синим воротником и бритвой в дешевом футляре на самом дне, оклеенном обоями, и в сумрачной канцелярии одесского охранного отделения на столе подле полукруглого окна ее тщательно подшивал захудалый делопроизводитель с янтарными от табака ногтями, а потом, на докладе, полковник в коротком мундире, распространявшем запах штиглицевского сукна и одеколона, скользя по ней вываренными рыбьими глазами и показывая мизинцем, спрашивал филера: «Этого знаешь? А этого, который сидит без фуражки, кто таков? Не Жуков?..»
Да мало ли...
Но прошло двадцать лет, двадцать таких лет, что, пожалуй, впору и сотне. Повалились с аптек золоченые деревянные орлы, ворвался народ через арку главного штаба в Зимний дворец, пробежал по лаковым царским покоям, вырвал из рамы царский портрет, а самого царя увезли матросы на тройках в Сибирь, в тайгу, туда, где до сих пор лишь волки выли да звенели кандалы каторжан. Поднялась метель, лес встал стеной, завыл, заскрипел, застрелял — то ли сучьями застрелял, то ли чем другим — только царя и видели!
И теперь эта фотография, вытертая и пожелтевшая с годами, висит под стеклом на почетной стене музейного зала, в дворянском красивом доме в Москве. Подходят к ней разгоревшиеся с морозу экскурсанты — девушки и юноши в заштопанных, видавших виды шинельках, — постоят минутку, поглядят с любопытством и спешат дальше по залам, отражаясь всей своей молодой бедностью в стеклах витрин и расчищенных паркетов. Да, если правду сказать, мало интересного в этой неподвижной группе. На фоне белой стены с тремя решетчатыми окнами стоят, сидят и полулежат на земле в четыре ряда люди, русские матросы. Некоторые из них еще в военной форме, некоторые уже переоделись в вольное. Сбоку видны румынские офицеры в высоких кепи и белых кителях с незнакомыми медалями. Однако, как ни ищи, Родиона Жукова среди них нет. Только и всего. Мертвый кусок картона, выгоревший отпечаток некогда жившего, документ истории. Молодость жадна и тороплива. Подавай ей поскорей прокламации, метательные снаряды, станки подпольных типографий. Молодость любит дело, вещь... Чтоб можно было потрогать руками, убедиться. А фотография — это что!
А ведь двадцать лет тому назад, в румынском городе Констанца, в конце июня, после обеда, на казарменном дворе росли калачики и крученые панычи. С моря задувал летний ветер, крепкий и соленый, как огуречный рассол. В нем полоскались матросские воротники и ленты. У конюшни по брюхо в бурьяне стоял грязный надменный козел. Натянув мохнатую веревку и раздув верблюжьи свои ноздри, он неподвижно смотрел на толпу снимающихся людей и на фотографа. И пока фотограф щелкал деревянной рамой кассеты и наводил объектив, через двор вперевалку прошла молодая старообразная румынка в подоткнутой юбке и выплеснула из корыта помои. Козел злобно шарахнулся в сторону, тряхнул бородой и снова изумленно окаменел. Мыльная вода вздулась среди прибитых землей стеблей, зашипела радужными пузырями и тотчас стала с шорохом сохнуть. Фотограф присел и, подняв левую руку, правой быстро снял с объектива крышечку. Из порта вытек густой пароходный гудок. Матросы неестественно замерли.
А Родион Жуков в это время находился за конюшней и, упершись в дикий камень стены, смотрел в море. «Потемкин» стоял совсем близко от пристани. Среди фелюг и грузовых пароходов, окруженный яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером «Елизаветой» он был бесполезно велик, трехтрубен и сер. Белый андреевский флаг, косо перекрещенный голубым крестом, все еще висел, как конверт, высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями. Пусто было на палубах и мостиках броненосца, лишь кое-где торчала прикладом вверх винтовка румынского часового. Но вот флаг дрогнул, опал и коротенькими скачками стал опускаться. Обеими руками снял тогда Родион фуражку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко упали в пыль, как оранжево-черные деревенские цветы чернобривцы.
— Что, моряк, каешься? — раздался вдруг у самого Родионова плеча веселый голос.
Родион поднял голову и увидел знакомого минного машиниста. Он стоял, широко расставив короткие ноги, ухватившись горячими руками за тесемку ворота. Его рябое некрасивое лицо с медвежьими глазами было сведено курносой судорогой. Кадык двигался по горлу так трудно и туго, словно он подавился железным яблоком и задыхается от того железного яблока — не может проглотить.
— Что, землячок дорогой, с тюрьмой своей прощаешься? Слезы горькие проливаешь? Драгоценному царскому флагу кланяешься?
— Жалко все-таки, Степан Андреич, линейного корабля, — тихо ответил Родион Жуков.
Тут минный машинист ударил изо всей мочи фуражкой о землю и закричал:
— Зря, товарищи, на берег высаживались, зря сдавались!
А уж вокруг него собралось несколько матросов.
— Просто срам! Орудия двенадцатидюймовые, боевых патронов — как тех дынь несчетных в погребе, наводчики один в одного. Зря Кошубу не послушались! Кошуба правильно говорил: кондукторов — паршивых шкур — за борт, потопить «Георгия Победоносца», идти в Одессу высаживать десант! Весь бы гарнизон подняли! Все бы Чернов море! Эх, Кошуба, Кошуба, было б тебя послушаться... А такая ерунда получилась!
И увидели матросы то, чего никогда до сих пор не видели: минный машинист заплакал.
— Прощай, товарищ Дорофей Кошуба, — проговорил он, — прощай, линейный корабль «Князь Потемкин Таврический», прощай, пропащая воля... — поклонился в пояс, и будто в ответ на его поклон над кораблем развернулся цветистый румынский флаг.
Тогда матрос надел измятую, покрытую пылью фуражку, и вдруг слезы мгновенно высохли на его рябых щеках. Словно вспыхнули — лоб побледнел.
— Ладно, — сказал он сквозь зубы, — ладно, не один Кошуба на свете. За нами не пропадет. Всю Россию подымем. Всех помещиков сожжем. Верно говорю, Жуков?
Он страшно заругался в Христа-бога-мать, поворотился спиной и пошел, пошатываясь, через бурьян в казарму, расставив широкие рукава, тесно застегнутые пуговичками у самых стиснутых кулаков.
В последний раз поклонился Родион Жуков своему кораблю и вместе с другими матросами печально возвратился во двор.
III
Только два прапорщика, все кондуктора да еще с ними человек тридцать команды продали товарищей — остались в Констанце, дожидаясь прибытия русской эскадры, чтобы сдаться на милость адмирала. О них нечего и говорить.
Остальные матросы поделили между собой по-братски судовую казну, — каждому вышло рублей по двадцать, — распродали румынским франтам на галстуки георгиевские ленты с фуражек, получили у префекта документы, купили на базаре вольное платье и разошлись навсегда по белу свету кто куда. Многие попали в такие страны, о которых раньше никогда и не слыхивали, — в Канаду, в Америку, в Швейцарию... Те же, которые осталась в Румынии, поступили на заводы, на рудники, пошли на полевые работы.
Вместе с двумя своими земляками, тоже нерубайскими, Тарасом Попиенко и Ваней Ковалевым, Родион Жуков нанялся в батраки к русскому поселенцу-сектанту в большое скучное и богатое село, неподалеку от города Тульчи. За два года службы во флоте матросские спины и руки порядочно отвыкли от полевой работы. Однако время подошло самое горячее, а чужой хлеб даром есть не приходится.
Поскидали земляки башмаки, завернули рукава выше локтей, поплевали на ладони, и такая пошла работа, что только золотая полова пыльным столбом встала от земли до самого выгоревшего степного неба. Целый месяц они вставали задолго до зари и выезжали в поле. Весь день возили хлеб и молотили, а ко двору возвращались после захода солнца, когда уже за погребом, в потемках, под навесом ярко пылала печь, стреляла в пламени сухая маисовая ботва и стряпуха, окруженная огненным паром, помешивала палкой варево, отворачиваясь от горького дыма и утирая подолом глаза.
Тотчас после ужина матросы укладывались посредине двора и крепко, без снов и дум, засыпали под теплым, молочным от звезд небом.
Так прошел самый горячий мужицкий месяц июль, а в начале августа, когда обмолотили хлеб и уже начали возить с баштанов арбузы и дыни, однажды ночью Родион Жуков без причины проснулся и сквозь сон, еще не сошедший с ресниц, увидел Ковалева. Он стоял неподвижно среди двора. Родион приподнялся на локте. Ковалев не шевелился.
— Ваня, ты что? — спросил Жуков сонно.
Нежно и неслышно переступая босыми ногами по холодеющей земле, Ковалев подошел к Родиону, присел у его плеча на корточки и заглянул в лицо. Милая продолговатая голова Ковалева сразу заслонила собой полнеба великолепных звезд.
— Лягай, Ваня, спи, — прошептал Жуков, — не думай.
Но Ковалев загадочно манил его и легонько тащил за рукав. Родион встал и пошел. Они остановились посреди двора.
— Бачь, — сказал Ковалев, — погреб, бачь — веялка.
— Ну, бачу.
— А звезды, те три звезды, что так низко стоят над самым степом, бачишь?
— Бачу, — еле слышно вымолвил Родион.
— Так они же те самые звезды и есть! — воскликнул Ковалев в восторге, хлопая себя по штанам. — Те самые звезды, что из наших окошек видать каждое лето!
И, обнаружив под темными усиками свои белые, как известь, зубы, он залился беззвучным, счастливым детским смехом.
И точно: между погребом и веялкой очень далеко горели три звезды, словно валялись в степи уголья гаснущего цыганского костра.
— Покурим, чтоб дома не журились.
Родион крякнул, достал из-за пазухи мешочек с крупным сухим румынским тютюном, скрутил папиросу, брызнул из кресала красными искрами и стал курить.
Была самая середина ночи. Собаки уже перестали брехать, а петухи еще не начинали петь. По всему большому селу, словно акации, шел со степи, от этих звезд, ровный теплый серебристый воздух. На крышах плетеных клунь, на погребе, на длинной завалинке под решетчатыми окнами хаты — всюду, где повыше, тяжело и прочно, как глиняные, лежали круглые большие тыквы.
— Слушай, Родион, — снова зашептал Ковалев, — а вот так, чуешь, правей веялки, идет наша улица, а далее стоит церковь. А в церкви на спаса пахнет чернобривцами и мятой, стоят в церкви люди, а найкраще всех среди людей — дивчата; рукава у них шиты розочками, в косах богато разноцветных лент, на шейках бусы и монисты, а в ручках своих держат они невозможно красивые букеты. Родя, чуешь? Аж пить захотелось.
Ковалев вдруг воровато и весело оглянулся, точно желая сказать нечто важное, но не сказал, а вместо этого затанцевал с ноги на ногу. Громадными бесшумными ногами он бросился к погребу и через минуту вернулся, тяжело дыша.
— Сейчас напьемся, Родион. Принимай снаряд!
Родион протянул руки, и холодная с погреба дыня хлопнулась в его ладони с налету всей своей зрелой тяжестью, как продолговатый звонкий орудийный снаряд. Товарищи присели на завалинке, и пока Ковалев отколупывал ногтем тугой ножик на цепочке, Родион Жуков, положив дыню на колени и гладя ее, смотрел не мигая прямо перед собой во тьму. И уже не видел Родион ни знакомых звезд, ни своей хаты, ни веселого праздника спаса, когда вокруг церкви так сильно и радостно пахнет дегтем, маком и медом; не видел ни расшитых рукавов, ни лент, ни карих глаз, ни свечей. Черным морем обступила Родиона черная чужая земля; звезды сгустились, разгорелись и легли перед глазами низкими огнями портового города. Зашумел город, загорелись эстакады в порту, побежали люди, путаясь в бунтующем огне, длинными рельсами грянули железные ружейные залпы; качнулся двор корабельной палубой, зашипел над головой ослепительным рубчатым стеклом прожектор — медный литавр, — побежал светлый круг по волнистому берегу, вспыхивая, как мел, побледневшими углами домов, стеклами окон, бегущими солдатами, красными лоскутьями, зарядными ящиками, лафетами.
И увидел себя Родион потом днем в орудийной башне. Наводчик припал глазом к дальномеру. Башня поворачивается сама собой, наводя на город насквозь пустое, сияющее внутри зеркальными нарезами дуло. Стоп. Как раз точка в точку против купола театра, похожего на раковину. Там, среди невиданной роскоши, за зеленым сукном, осанистый генерал держит военный совет против мятежников. В башне канителится жидкий телефонный звонок. Электрический подъемник с медленным лязгом выносит из погреба снаряд — он качается на цепях — прямо в руки Родиона. Снаряд тяжел и холоден, но сильны матросские руки. «Башенный огонь!» В тот же миг зазвенело в ушах, точно ударило что снаружи в башенную броню, как в бубен. Вспыхнул огонь, и обварило запахом жареного гребня. Дрогнул рейд во всю ширь. Закачались на рейде шлюпки. Железная полоса легла между броненосцем и городом. Перелет. Разгорелись руки у Родиона. Опять телефон. А второй снаряд сам из подъемника в руки лезет. Доконаем генерала, погоди! «Башенное, огонь!» И вторая полоса легла поперек бухты. Снова перелет. Ничего, авось в третий раз не подкачаем. Снарядов небось хватит. Полны ими погреба. Легче дыни показался Родиону третий снаряд. Только бы пустить его поскорее, только бы дым поскорей повалил из купола. А там пойдет писать губерния! Но что-то не звонит телефон... Поумирали там, к чертовой матери, все наверху, что ли?.. Башня словно сама собой поворачивается обратно: «Отбой!» — и снаряд, выскользнув из Родионовых пальцев, опускается обратно в люк, медленно погромыхивая цепями подъемника. «Да что же это такое? Эх, продали, продали волю, чертовы шкуры. Сдрейфили! Уж если бить, так бить до конца! Чтобы камня на камне не осталось!»
Очнулся Родион — точно сто лет прошло, а на самом деле прошла всего одна короткая минута. Ковалев успел отколупнуть свой ножик и, вытащив из оцепеневших рук Родиона дыню, ловко, одним кривым движением взрезал ее впродоль, раскрыл, как писанку, и выхлестнул внутренности. В темноте сильно и душисто запахло спелой кандалупкой. Ковалев протянул Родиону скибку.
— Добрая дыня. У хозяина купляли, сами выбирали. Кушайте на здоровьечко.
Он слабо забелел зубами, вдруг выронил ножик и, как невеста, положил свою голову на плечо Родиона.
— Скучаю я, Родион. Аж душа болит. Хочу до дому.
— А ты не брешешь?
— Ей-богу, не брешу. Скучаю.
— До Дуная шаг, — сказал тогда, тихо усмехаясь, Жуков, — через Дунай — два. До дому — три. Пойдешь со мной, Ваня?
Ковалев закрыл лицо руками, зажмурился и быстро затряс головой:
— Ни... Не пойду...
Он погладил Родиона по плечу и застенчиво прошептал:
— Боюсь, Родя, под суд идти. На каторгу присудят.
— Тогда добре, — еще тише усмехнулся Жуков, — тогда добре. Тараса я знаю, Тарас не пойдет. У Тараса баба дома хуже ведьмы...
Он прислушался. Тарас с присвистом храпел посреди двора, лицом в землю.
— Пойду один.
IV
Бывает голова тяжелая, неподвижная: клонит ее ко сну, к темной земле, а какая это земля, своя ли, чужая ли — все равно... Такой не добудишься. Бывает милая, веселая, лукавая голова, но услышит она песню про загубленную волю, увидит родные звезды над чужой степью — задумается вдруг, упадет в бессилии на плечо товарища. Словом, не голова, а головушка. Бывает голова крепкая, шишковатая, ежом стриженная, лоб низок, да широк; затылок крут; шея крепка — не согнется. Западет в такую голову мысль — колом не вышибешь. Вспыхнет огонь, опалит кончики ресниц несносным жаром корабельных топок, завоет осипший, разорванный морским ветром человеческий голос — и конец. Пиши пропало. Уж не голова это, а стальной снаряд, начиненный порохом. А порох такая вещь, что лежит, лежит, да уж когда-нибудь непременно выпалит — на то и выдуман. И нет ей больше покоя. Незаметно тлеет фитиль. И летит она, снедаемая огнем, напропалую.
Через несколько дней Родион Жуков переправился через гирло Дуная, возле Вилкова, на русскую сторону.
План у него был такой: добраться степью вдоль берега моря до Аккермана, оттуда на барже или на пароходе в Одессу; из Одессы до села Нерубайского рукой подать, а там как выйдет... Одно только знал Родион наверняка, что к прошлому для него возврата нет, что прежняя его жизнь, подневольная матросская жизнь на царском корабле и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками среди жестких розовых и желтых мальв, — отрезана от него навсегда. Теперь — либо на каторгу, либо — скрываться, поднять среди своих восстание, жечь помещиков, идти в город, в комитет.
По дороге Родион рассчитывал узнать от людей, что делается в России: скоро ли мир с японцами, есть ли где восстание, что слышно о «Потемкине», не дает ли царь воли?
Но села и экономии ему приходилось обходить степью, а в степи встречались люди, которые ничего не знали. Проходили в пыли отар черные, седые, глухие от старости чабаны. Проезжали подводы, полные желтых степных огурцов; прямо на них, вытянувшись во весь рост животом вниз, дрыхли, подпрыгивая, хлопцы. Переваливалась на высоких колесах, громыхая ведром, бочка. Веснушчатый мальчик в немецкой соломенной шляпе сидел на ней верхом и нахлестывал горячими кожаными вожжами потную кобылу; из туго забитого чоба все-таки просачивалась вода; крупные капли падали на дорогу, сворачивались и катились в пыли, как пилюли. Далеко от дороги, нагнувшись в ряд, стояли бабы в сборчатых юбках и копали картошку. Завидев Родиона, они бросали работать и, приложив ладони к глазам, долго и равнодушно смотрели ему вслед. Они ничего не знали.
Иногда дорога подходила к самому берегу и тянулась вдоль страшно высокого, отвесного обрыва. Тогда Родиона обдавало ветром (а в степи между тем было совсем тихо и жарко), окатывало холодным шумом шторма, ослепляло снегом и содой бушующей пены, резало глаза синей зеленью горизонта. Родион подходил к самому краю обрыва и, чувствуя головокружение, заглядывал вниз. Там, на многие мили, ярко белел на солнце блестящий песок, поминутно заливаемый прибоем. Взбаламученные волны волокли и крутили вдоль берега по гравию блестящее черное тело дохлого дельфина. Там лежали килем вверх длинные просмоленные баркасы, сохли на шестах невода, и рыбалка, обливаясь, пил воду из плоского бочонка, задрав голову и слегка согнув колени; он увидел Родиона, замахал руками и закричал что-то, может быть очень важное. Но тонкий водяной туман стоял во всю громадную высоту обрыва, пушечное эхо звенело бронзой в оглушенном воздухе, а ветер, захлебываясь, свистал в ушах, как в насквозь пустом орудийном дуле. «Гай, гай, гай!» — только и долетело до Родиона снизу. И снова дорога поворачивала в безлюдную степь, отливавшую фиолетовой слюдой бессмертников, в тишину, в зной. А ночью, когда начинались звезды и сверчки заводили свою хрустальную музыку, во тьме загорался костер, и Родион шел на него без дороги — пятками по колючкам — напрямик, через темную степь к людям. Люди молча сидели вокруг казанка и ужинали. Родион вырастал у костра такой громадной тенью, точно головою своею она упиралась в звезды. Люди ничуть не удивлялись и, не расспрашивая его ни о чем, протягивали ему ложку. Родион садился с ними и, обжигаясь, ел горький от дыма кулеш, а поев, вытирал ложку об траву. «Лягайте с нами», — говорили люди. Родион ложился, раскинув руки, среди чужих, молчаливых людей, среди чужой, молчаливой, древней степи. «А как слышно про волю?» — спрашивал вдруг среди ночи Родион. «Кто его знает? Болтают люди, что около Балабановки опять Котовский пожег экономию... А может, и не Котовский... А может, и брешут. Кто его знает? Мы по степу ходим». На рассвете, разбуженный холодом, Родион осторожно, чтобы не потревожить людей, вставал и снова шел, неся на лице ночную сырость.
И еще меньше, чем в Румынии, знал Родион о том, что делается в России, — и шел наугад, одиноко и тревожно, как слепой, без устали, лишь бы поскорее дойти до Днестровского лимана.
Однажды ранним утром дорога вновь свернула к обрывам, и Родион увидел вдалеке мачту кордона, черепичные крыши и беседку над морем. Солнце, вероятно, только что встало, но его не было видно за утренними облаками, холодно и нежно просвечивающими, как раковины. Море после шторма стало шелковым. Мертвая зыбь длинными морщинами лежала вдоль холодного берега, слабо отражая и катя на своем глянце зарю. Нанесенные вчерашним штормом мели отчетливо и кропотливо рябили, едва покрытые водой. На них, по колено в воде, ходили только голые голубые мальчишки. Они наклонялись, искали руками по дну, колотили по воде палками и кричали. Вдруг один из них вытащил широкую серебристо-розовую рыбу. Она отчаянно рванулась и забилась. Из разорванных цепкими пальцами жабр, пурпурных, как петушиный гребень, потекла кровь, распускаясь в воде мутными пионами. «Ло-ви-и-и!» — закричал мальчик и, размахнувшись, забросил рыбу на берег. Две белоголовые девочки стояли, наклонясь над ивовой корзиной, с ужасом и восторгом разглядывая жирных окровавленных рыб, сгибавшихся в сильных судорогах и сбивавших с себя крупную прозрачную чешую.
Тогда Родион заметил, что по мелям двигаются целые стада этих рыб. Они натыкались на мальчишек, проходя меж ногами, неуклюже изворачивались и зарывались в песок. Сверху, очень увеличенные выпуклой водой, они походили на темные тени мин, медленно идущих по дну.
— Слепые рыбы! Слепые рыбы! — заорало несколько мальчиков в гимназических фуражках с гербами, пробегая мимо Родиона. Стаскивая через головы на бегу матросские рубашки, они бросились со всех ног вниз по вырезанному в глине спуску и, кинув одежду на песок, бухнулись в воду.
Слепые рыбы... Родион уже слышал о них. Иногда во время сильных штормов ветер загоняет из гирла Дуная в море громадные стада карпов. Речные рыбы, попадая в соленую воду, слепнут и чумеют. Морское течение несет их, оглушенных штормом, вдоль чужого берега все дальше и дальше за много десятков миль от тихой родной воды. Шторм утихает, и они, умирающие, обессиленные и ничего не видящие в непонятной тяжелой среде, тупо и медленно раздувая жабры, передвигаются стаями, натыкаясь на берег, на мели и на ноги пришедших за ними людей. О них рассказал Родиону лодочник-контрабандист, когда они сидели в сырых камышах Дуная, дожидаясь, пока проедет дозорный катер. Теперь Родион увидел их.
V
Он спустился на берег, разделся и вошел в море. По колено в ледяной, стеклянной воде, от которой ломило ноги, качаемый зыбью, Родион дошел до мели и заглянул в воду. Темная большая рыба толкнулась в его ногу. Родион схватил ее за туловище. Она выскользнула из пальцев, юркнула вбок и, брызнув плавниками, пропала в замутившемся песке. Родион оступился, приподнятый волной, и окунулся с головой в воду. Его ожгло холодом. Сквозь крепкую соль, стоящую на глазах, он увидел рыбу, которая, раздув жабры, плыла, высунув из воды рот ноликом. «Брешешь», — сказал Родион, задыхаясь, и схватил ее за голову. Рыба забилась, рванула хвостом и вновь ушла вниз. Родион ударил ладонью по воде. Мимо него, тяжело вырывая колени из воды, проскакал голый мальчик, нагнулся, вытащил рыбу и забросил ее на берег. Родиона разобрала досада, и он принялся бегать по мели и бегал до тех пор, пока не выбросил на берег двух карпов. Тогда он вышел на песок и, стуча зубами, стал одеваться.
Между тем берег наполнялся. Дачники и дачницы то и дело появлялись на спуске. Бородатые мужчины в чесучовых рубахах, подпоясанных шелковыми шнурами с кисточками, шлепали парусиновыми туфлями по мягкой, цвета сухого какао, пыли. Они прижимали к груди толстые книги. Дамы в пенсне вели за руки голеньких, коричневых от загара детей. Отличные девушки с шеями и руками, гораздо более темными, чем их белые платья, размахивали на весу своими соломенными шляпами, похожими на цветочные корзины в лентах. Веселые восклицания и шум стояли над морем. Море поголубело. Небо прочистилось. Ярко заблестело солнце. Все великолепно сдвинулось.
Одевшийся, не обсохнув, весь мокрый под одеждой, Родион взял своих рыб и поспешил подняться наверх в степь.
— Матрос — в штаны натрес! — закричал озорной мальчишка в ситцевой рубахе с выбитыми передними зубами, кубарем скатываясь вниз мимо Родиона.
Родион прибавил шагу. Его губы полиловели, колени дрожали, пальцы были белы — он весь ежился от непривычной свежести ледяного долгого купанья. Ветер окатил его холодом в последний раз на верху подъема. Он пошел в степь, стараясь обойти дачи. В степи уже было жарко, но, несмотря на это, Родион продолжал дрожать. Глазам было неприятно горячо, ресницам щекотно. «Чертовы рыбы», — проговорил он, не попадая зубом на зуб. Перед ним показалась дача. Он обошел ее огородом и наткнулся на другую. За живой изгородью сирени и туки виднелся молодой сад. Родион разобрал руками терпкие ветки с шишечками и увидел ряды фруктовых деревьев, обмазанных известью. Между ними шла дорожка, усыпанная смоленской крупой зеленоватых лиманных ракушек. На дорожке лежал клетчатый мяч. Дальше он увидел надутое, как парус, полосатое полотно террасы, ступени, клумбу бело-желтых лилий, похожих на узко нарезанные крутые яйца среди них — лаковые детские игрушки и человека в черной косоворотке, лежащего в гамаке.
— Видите, в чем тут штука, — говорил человек, размахивая газетой, — отчасти я с вами согласен. С одной стороны, мы стоим перед несомненно отрадным фактом пробуждения от тысячелетнего сна народных масс, которые почувствовали наконец на своей шее гнет самодержавия и произвола; перед фактом, так сказать, освободительного движения наиболее передовой части пролетариата и крестьянства и так далее. С этим я вполне согласен и, как революционер, готов приветствовать с этой точки зрения наступившую — подчеркиваю, наступившую, — революцию, но... — Он быстро поворотился в гамаке всем своим дородным телом, отчего гамак заскрипел, показал кремовую щеку с большой шоколадной родинкой и, строго сняв пенсне, посмотрел на своего собеседника. Его собеседник стоял на ступеньках террасы и, держа в руке стакан радужного молока, прищурившись, ел кусок калача с медом, мажа губы и близоруко роняя крошки на неопрятную бороду. — Но, доктор, я, как марксист, с другой стороны, — подчеркиваю, с другой стороны, — я никак не могу согласиться...
Ветка хрустнула под ногой Родиона. Господни в гамаке прервал свою речь и увидел его. Родион стоял в кустах, не смея сдвинуться с места. Господин строго кашлянул, прерванный на самом важном месте посторонним звуком, увидел в руках у Родиона рыб и, кисло сморщившись, замахал руками.
— На кухню, голубчик, неси их на кухню. Все утро нет от этих рыб отбою. Ступай, братец, на кухню. Кухарка купит. Ступай. Ну-с...
Родион вышел из кустов на огород и услышал за собой громкий голос господина:
— Ну-с, подчеркиваю, с другой стороны, я никак не могу согласиться, ни-ка-ак не могу согласиться...
Родион пошел по огороду. В глазах плыли ситцевые пятна. Озноб не проходил, хотя тело уже высохло. В голове надоедливо повторялся голос господина: «Никак не могу согласиться, никак не могу согласиться, никак не могу согласиться...» Пройдя в конец огорода, Родион уперся в кухню. Она стояла на отлете в бурьяне. Из трубы шел дым. На пороге сидела окровавленная кухарка и чистила рыбу. С трудом продираясь через бурьян, осыпающий его штаны желтой пылью цветений, Родион подошел к женщине.
Но она вдруг насторожилась, швырнула недочищенного карпа в синюю эмалированную миску, вытерла руки об фартук, вскочила и, поправляя в волосах железный гребень, побежала через двор. Посередине двора возле цистерны, образуя круг, стояли праздные люди. Нарядные няньки и дети, разодетые ради воскресенья, спешили туда с разных сторон. Из средины круга неслись в высшей степени странные, ни с чем не схожие звуки, отдаленно напоминающие не то собачье тявканье, не то шипящий визг круглого точила. Родион подошел к толпе и из-за спин и голов увидел нечто необычайное. Худой бритый человек с очень длинным нерусским носом и маленькими голубыми глазами, одетый в грязное парусиновое пальто с клапаном, стоял на коленях, сосредоточенно наклоняясь к невиданной небольшой машинке. В ней с хрипом крутился толстый, как бы костяной, валик. Из машинки торчала узкая, не очень длинная медная труба, похожая на рупор. Шипящие, визгливые звуки с терпеливым трудом выдирались из нее, захлебываясь и наскакивая один на другой. Родион продвинулся плечом вперед, прислушался — и вдруг окаменел. Несомненно, эти звуки были не что иное, как очень маленький визгливый и хриплый торопливый человеческий голос, неразборчиво говоривший что-то сквозь рупорное шипение, как сквозь искры точильного камня. Едва Родион, прислушавшись, разобрал несколько слов, как шипение усилилось, загрохотало, и человек остановил машинку. Он порылся в мешке и вставил другой валик.
— Марш «Тоска по родине», — сказал он, потея, и закрутил ручку.
Тут послышались крошечные рулады игрушечного духового оркестра, и Родион явственно разобрал мотив и пыхтящие такты марша.
Там! там-там!
Там-там! там-там! там-там!
— Я уез-жаю в даль-ний путь! Же-най-и-де-ти-до-ма-ждуть! — с удивлением пропела кухарка и слегка притопнула босой ногой. На нее цыкнули. — Нечистая сила, — сказала она очарованно и задом пошла к кухне, притопывая и приседая.
Родион пошел следом за ней и предложил рыб. Кухарка взяла заснувших карпов за жабры, попробовала на вес, подозрительно посмотрела на Родиона против солнца и спросила:
— А ты с какого куреня?
Родион махнул рукой.
— Не треба, — злобно сказала кухарка, возвращая рыбу. — Гуляй, откуда пришел. Нечистая сила. Каторжан!
Родион снова вышел на огород. Он бросил липких карпов в картофель на горячую землю и почувствовал головокружение. Оно, казалось ему, наплывало со двора лающими звуками тошнотворного марша; звуки эти все усиливались; они гремели уже литаврами и тромбонами в самых Родионовых глохнущих ушах, так что мозгам становилось больно от назойливого их такта; весь воздух вокруг горел нежной и вместе с тем непереносимо громкой музыкой полудня. «Я уезжаю в дальний путь, жена и дети дома ждуть...» — пело вокруг него хором на разные голоса. Он прошел за половником и попал на гарман. Длинные и высокие скирды соломы со всех сторон обкладывали дачу. На гладко убитой земле лежал гранитный рубчатый камень и стояла новенькая лакированная красная косилка с золотой иностранной надписью. Отшлифованные, обглоданные работой деревянные ее грабли блестели в воздухе, как крылья ветряных мельниц. На гармане было пусто. Родион сел в железное седло покачнувшейся косилки, и его стошнило. Он утерся рукавом, пошел и лег в тень, облокотясь головой о колючую скирду. Где-то на даче плотно щелкали крокетные шары, отдаваясь в висках револьверными выстрелами. За половником показались белые платки любопытных баб. Преодолевая болезнь, Родион встал, пошел в степь и попал на дорогу. Ничего не видя вокруг, он пошел по ней и прошел версты полторы. Вдруг раздалось дилиньканье колокольчика, и мимо Родиона пронеслось облако белой, как мука, пыли. Он посторонился и увидел лишь потрескавшееся кожаное крыло брички, капюшон, кукурузные усы и красный нос. В тоске Родион свернул с проселка, залез в кукурузу и пошел без дороги в сторону. Дойдя до могилы, он лег в полынь и, дрожа, пролежал в беспамятстве до ночи.
VI
Уже степь была в свежей росе и небо в звездах, когда Родион очнулся. Ему очень хотелось пить. Он сорвал ветку полыни и стал сосать полную росы седую кисть. Но роса была горькая и горела во рту. Тогда Родион вспомнил Дунай — огромную темную массу мутной воды, отражавшую пресные звезды. Он вспомнил до тошноты острый зеленый запах тростника, щелкающий и скребущий ракушкой язык лягушек, болотную теплоту речного дна и вдруг понял, что заболел оттого, что пил дунайскую воду.
Голова по-прежнему была тяжела и слаба, живот ныл нежной сосущей болью. Охваченный тошнотой одиночества и жажды, не зная, как выйти на дорогу и куда по ней идти, как выпутаться из полыни и жара, Родион встал, с трудом преодолевая вес своего больного тела, и побрел наугад через степь. В тихом и совершенно чистом воздухе явственно слышалась струнная музыка. Звуки скрипки, флейты и контрабаса весело летели по степи. «Не иначе как свадьба», — подумал Родион, покорно идя на музыку. Он спотыкался и почти ничего не видел вокруг от обморочной темноты, пятнавшей глаза. Музыка становилась все отчетливее. Родион пробился сквозь кукурузу и внезапно очутился у задней стены хлева. Он услышал кислую свиную вонь, чавканье навозной жижи под копытцами и тяжелую давку трущихся боками животных. Где-то по бревнам переступали лошади и сквозь сон болтали индюки. Родион обошел скотный двор и увидел издали с незнакомого бока знакомый сад. Он был теперь полон света, движения и музыки. Бумажные фонари, готовые легко и жарко воспламениться изнутри, висели между деревьями молодого сада. По дорожкам двигались высокие тени людей. Дикий виноград просвечивал прозрачной зеленью меж переплетов террас и беседок. Родион пробрался к цистерне и приподнял тяжелое, холодное ведро. Вода сильно качнулась, ведро вырвалось из ослабевших рук и, воя, полетело в колодец, увлекая за собой гремящую цепь и наполняя бетон цистерны воющим гулом раскрутившегося ворота. Железная ручка наотмашь ударила Родиона в плечо и отбросила в сторону.
— А ну, кто там балуется у цистерны! — закричал из темноты мужской голос. — А ну, нарву уши.
Родион бросился за кухню, на огород и, остановившись, перевел дух. Пятка наступила на нечто холодное и скользкое. Родион нагнулся и увидел смутно белевшего дохлого карпа.
— Чертовы рыбы, — сказал он с отвращением и обошел дачу справа.
Перед ним открылся обрыв. Большая луна только что взошла над морем. Она еще была на четверть закрыта обрывом. Длинные травы совершенно отчетливо чернели на ее несветящемся красном диске. Родион подошел к самому обрыву, сел в траву и свесил вниз ноги. Он услышал редкий шум ночного прибоя, качающийся и пересыпающий ракушками. Степь ныла, как ушибленная ключица, и в помраченных глазах ночи плавало багровое пятно.
Родион в отчаянии опустил голову и вдруг совсем близко услышал благородный волнистый голос, который запел:
Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас мрачно гнетут...Это была та самая песня, с которой «Потемкин», как призрак, вырастал у охваченных огнем берегов и, как призрак, трижды проходил сквозь враждебную цепь кораблей, мимо наведенных на него пушек. Это была песня Матюшенки и Кошубы, песня судового совета, которая железом ложилась поперек рейдов; песня, пригибавшая к морю штормовые тучи и трепавшая над башней двенадцатидюймовых орудий флаг со словами славы: «Свобода, Равенство и Братство». Она вернула Родиону помраченное сознание. Сильный и приятный баритон продолжал петь:
На бой кровавый, святой и правый, Марш, марш вперед, рабочий народ...Родион ухватился руками за траву. Совсем близко от него, вдоль обрыва, шли, обнявшись, двое: высокий студент в белом кителе, с длинными волосами, закинутыми наверх и открывавшими прекрасный костистый лоб, и девушка в светлом платье. Их плечи были прикрыты одним плащом. Они поравнялись с Родионом.
На бой кровавый, святой и правый,тихо и высоко повторил женский голос.
Родион встал перед ними во весь рост.
— Ах! — слабо воскликнула девушка и подняла белые руки к вискам.
Студент остановился и отступил. Луна, поднявшаяся довольно высоко и побледневшая, ярко осветила лицо матроса. Измученное тифом, оно было ужасно. Девушка вырвалась из плаща и побежала, поспешно мелькая белым платьем, к даче.
— Черт знает что, — пробормотал студент и, волоча плащ, быстро пошел назад, нагоняя барышню широкими шагами. — Шляются по ночам подозрительные типы, — проговорил он издали уже грозно. Родион услыхал усердные шаги. Два удаляющихся светлых пятна соединились и пропали, покрытые черным. Раздался легкий смех девушки, волнистый голос мужчины пропел негромко:
Вчера я видел вас во сне И полным счастьем наслаждался.Родион вырвал с корнем пучок травы и бросил его под ноги. Он сильно глотнул свежего морского воздуха и пошел к даче.
Невероятно яркие кусты и деревья, насквозь озаренные мышьяковым дымом зеленого бенгальского огня, удушливо вспухали во всю ширину сада. В беседке ужинали. Родион увидел стеклянные колпаки свечей, винные пробки, оловянные капсюли, груши, гусеницу на рукаве кителя, локоть и кремовую щеку.
— Господа, земский начальник ничего не пьет, — сказал сквозь звон посуды громкий бас. — Земский, выпей водки!
Чья-то рука подхватила падающую бутылку.
Четыре ракеты выползли, шипя, из гущи бенгальского дыма и с трудом пошли в гору.
— Дети, дети, на крокетную площадку! — закричал грудной женский голос.
Мимо Родиона пробежала длинноногая девочка в розовом платье. Задевая головой фонари, он пробрался на ощупь сквозь сад и увидел крокетную площадку. Посредине стояла дама с высоким бюстом и хлопала в ладоши: «Дети, стройтесь в пары». «Шествие, шествие!» — закричали удивительно разодетые дети, прыгая в оранжевом дыму римских свечей. «Россия, вперед», — сказала дама, выводя из толпы большую краснощекую девочку в сарафане и кокошнике. У девочки в руках лежал сноп ржи. «Верка, не загорись!» — завизжал мальчик в желтой фуражке, одетый японцем. «Молчи, макака, япошка несчастный!» Закачались бумажные перья, и серебряный шлем рыцаря блеснул каленой лунной синевой, и такой синевой блеснула в кадке под яблоней темная вода, в которой плавало надгрызенное яблоко. Невидимый оркестр заиграл марш. Кто-то пробежал с фонарем, задев Родиона локтем. «Господа, пожалуйте на площадку! — невероятно громко закричал знакомый бас. — Что же вы, господа! Земский, пойдем смотреть шествие!» Гости и слуги окружили детей. Родион вырвался из яркого чада и, очумелый, пошел, шатаясь, задами под деревьями, как слепая рыба среди подводных растений, то и дело попадая на песчаные мели лунного света. На заднем дворе, между конюшнями, гуляли батраки, пришедшие поздравлять хозяина с хорошим урожаем. На сосновом столе, вынесенном на воздух, стояли бочонок пива, два штофа зеленой водки, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки. Захмелевший гармонист в расстегнутой рубахе, расставив ноги, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники. Два парня с равнодушными лицами и несгибающимися туловищами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. Несколько батрачек в новых платках с грубыми щеками, блестящими от помидорного сока, вяло притопывали неудобными козловыми башмаками. Сам помещик в дворянской фуражке с белым верхом и в чесучовом сюртуке, скрипящем мелкими морщинами вокруг его небольшого тела, стоял, улыбаясь, у стола. В крупной руке он держал на весу стакан водки. Совершенно нетрезвый мужик, спотыкаясь, бегал вокруг него и, подмигивая кухарке, выговаривал сильно заплетающимся языком:
— Господину Андрею Андреевичу — слава, хозяину нашему, господину помещику — слава!
Родион обошел весь двор. В аллее мимо него, шелестя бумажными нарядами и обдав душистым ветром, с шумом пробежали дети. Цыганка била в бубен. Маленький казак, в фуражке набекрень, хлестал кнутом кривляющегося, как обезьяна, японца. Рыцарь блистал голубым серебром лат, девушка в кокошнике, хохоча, волокла сноп. Карлик с привязанной бородой размахивал бомбой.
За половником, по колено в бурьяне, шатался страшно пьяный батрак с диким белым лицом. Он лупил кулаком в мазаную стену и кричал:
— Три рубля пятьдесят копеек! Подавись, чтоб тебя от моих денег разнесло! Три рубля пятьдесят копеек!
Родион вышел на баштан и споткнулся о дыню. Он нагнулся и сорвал ее. Она была тепла и тяжела. Пить! Луна стояла высоко над скирдами, сухо обложившими с трех сторон экономию. Наискось через зеленое небо проползла ракета. В лунном свете Родион увидел вокруг себя, на земле, множество поздних дозревающих дынь. Багровый дым бенгальских огней, блистательный и трескучий чад фейерверка, крутившегося и стрелявшего над дачей, шагающие, как на ходулях, тени людей — все это мятежом встало перед глазами Родиона. Тяжелая дыня лежала у него на руках, как снаряд. «Башенное, огонь!» — загремело в ушах Родиона, и в этот миг в небе вспыхнула и выстрелила ракета. Он стиснул в ладонях дыню. Ладони зажглись. Пить! Родион полез в карман за ножом и нашарил спички. «Башенное, огонь, башенное, огонь!» — било в Родионовы уши, как в бубен. «Продали, продали волю, чертовы шкуры! Не послушались Дорофея Кошубы!» Родион вдребезги разбил дыню об землю и вытащил из кармана коробок. Ровным ветром тянуло со степи, через гарман, на дачу. Перепрыгивая через дыни, Родион добежал до первой скирды и сунулся в солому. Легкий сухой жар тронул его лицо, и в эту минуту он вспомнил непереносимый огонь корабельных топок, добела раскаленные колосники, обливающуюся вонючим кипятком машину и полосатые куски разрубленных шлюпок, корчащиеся в топке и обжигающие пламенем кончики ресниц...
И потом, идя без дороги через степь, спотыкаясь на межах, обдирая ноги о жнивья, плутая и задыхаясь от жажды, Родиону всю ночь снилось, что он плывет без конца и края, пересекая темное море, незримо проходит сквозь цепи враждебных эскадр, рубит шлюпки, стреляет, и розовое зарево за ним казалось ему заревом сожженного артиллерией города.
Он шел всю ночь, а на рассвете залез в виноградник и до вечера пролежал без сознания в сухом, одуряющем зное пустого шалаша, среди пыльных гроздей и бирюзовых от купороса листьев. Вечером он встал и опять пошел, уже ничего не видя перед собой и ничего не думая, а в полночь пришел, увязая по колено в песке, в Аккерман. Он обошел пустынные улицы, наткнулся на казачий разъезд и поспешно свернул к лиману.
На темном берегу, над зеленой от лунного света водой, над баржами и дубками стояла древняя турецкая крепость. Лунный свет косо лежал в узких амбразурах. Над зубчатыми башнями беззвучно кружились ночные птицы. Родион перебрался через дикий, заросший будяком вал, на котором лежала, блестя тусклой медью, щербатая пушка, и вошел в крепость. Посреди крепостного двора стояла черная, древняя, полусгнившая виселица. Под ней густо росла полынь. Родион лег в ее роскошную холодную росу и впал в беспамятство.
И не знал Родион того, что где-то, между Бухарестом и Одессой, над степью низко пела и ныла телеграфная проволока, белая стружка, извиваясь, выползала из медного колеса постукивающего Морзе; полковник, благоухая, говорил в телефон; кухарка стояла перед столом в канцелярии земского начальника и давала показания; и усатый человек в черном пиджаке и парусиновом картузе, приехавший из Одессы в Аккерман со вчерашним пароходом, храпел на лавке пароходной конторки, положив под голову летнее пальто.
Проснувшись утром, Родион сходил на базар и выпил кувшин молока. Его тут же стошнило. Он пошел на пристань и лег на горячую рогожу в тени тюков забитых в доски молотилок и аккуратно обшитых парусиной круглых корзин с персиками и виноградом. Изнемогая от тошнотворного блеска желтой воды, горящей оловом на солнце во всю громадную ширину Днестровского лимана, оглушенный рокотом вагонеток, шелковым шелестом ссыпаемого по желобам зерна, визгом и стуком паровых лебедок грузящегося парохода, бранью ломовиков, очумелый от душной мучной пыли, неподвижно стоящей в горячем воздухе, Родион не видел усатого человека, который дважды прошелся мимо него, равнодушно засунув руки в карманы.
Около трех часов дня Родион на последний полтинник купил билет третьего класса до Одессы и взошел на пароход.
VII
Пароход отошел от Аккермана в четыре и пришел в Одессу в десять.
Хлопотливо взбивая лопастями колес кофейную воду, он весело пробежал сначала вдоль скучных берегов лимана, обгоняя парусники и баржи. Потом обогнул Каролино-Бугас — песчаный, горючий мыс, возле которого грузно сидел в воде свинцовый монитор. Пограничные солдаты Бугасского кордона с зелеными погонами стирали у берега белье, подробно освещенные солнцем. Впереди, резко отделяясь от желтой воды лимана, лежала черно-синяя полоса мохнатого моря. Едва пароход, минуя качающиеся буйки и шаланды, вошел в нее, как его сразу подхватила качка, обдало водяной пылью крепкого морского ветра. Мрачные клубы сажи, обильно повалившие из сипящих труб косыми коричневыми полосами, легли на парусиновый тент кормовой палубы. Машина задышала тяжелей. Кузов заскрипел тяжелым грузом корзин.
Белоснежная пена, взбиваемая под кожухами колес, волнисто бежала вдоль берегов. Официант во фраке, хватаясь за поручни белыми нитяными перчатками, пронес на палубу из буфета дымящуюся бутылку лимонада. Четыре слепых еврея в котелках и синих очках ударили в смычки. Чья-то соломенная шляпа уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены. Бессарабские помещики играли в карты в каюте второго класса, то темневшей, то светлевшей от волн, заливавших иллюминаторы. Усатый человек в летнем пальто с поднятым воротником и парусиновой фуражке, тесно натянутой на самые уши, перегнувшись за борт, равнодушно плевал в темно-зеленую воду, бегущую по легкой тени парохода.
Но ничего этого не видел Родион. В тяжелом бреду он лежал внизу среди скрипящего багажа и мучающихся от качки евреев, на грязном полу, в узком проходе между кухней и машинным отделением, откуда через отдушины шел горячий воздух, насыщенный запахом нагретого железа, кипятка и масла.
Когда он очнулся, уже был вечер и пароход подходил к городу. В синем промежутке, между бочками и ящиками, Родион увидел красный поворачивающийся глаз маяка, острые звезды портовых фонарей над гофрированными крышами пакгаузов и контор, топовые огни пароходов, зеленые и малиновые сигналы дубков.
Над головой, по верхней палубе, с грохотом пробежали матросы. Пристань навалилась на пароход. Пассажиры стеснились у сходней. Родион хотел встать, но не смог. Человек в летнем пальто подошел и взял его под локти. Родион с трудом встал и, шатаясь, пошел к сходням.
Ноющий визг конок, тарахтенье дрожек по дробной мостовой, хлопание подков, высекающих беглые искры, гул ночной толпы — вся эта головокружительная музыка хлынула в уши Родиона и оглушила его. Он, шатаясь, сошел по сходням на пристань, и сейчас же к нему подошли двое.
— Жуков? — спросил один из них.
— Он самый, — весело ответил человек в летнем пальто.
Родиона крепко взяли под руки и посадили на извозчика.
Чувствуя сквозь жар и бред, что с ним происходит очень неладное, теряя сознание и валясь на плечи спутников, Родион в последний раз увидел великолепный блеск крутящегося, как фейерверк, города, услышал музыку, играющую на бульваре вальс... В последний раз перед ним вспух багровый чад бенгальского огня, пробежали дети в невиданных нарядах, выстрелила ракета, повалил из соломы белый дым, люди заметались среди фонариков на даче, охваченные с трех сторон пламенем, загремел набат. «Башенное, огонь!» — ударило в уши, как в бубен... Кошуба побежал с перекошенным лицом по забытому трапу... и Родион перестал видеть.
— Пошел, — сказал усатый человек, стоя на подножке извозчика и нежно поддерживая вялое, тяжелое от обморока и в то же время как бы опустошенное тело Родиона.
— Знаешь, куда?
Извозчик молча кивнул клеенчатой шляпой, хлестнул лошадь и повез мимо обгорелой и изуродованной эстакады, мимо будок, где персы в нестерпимо ярком свете калильных ламп обмахивали прекрасные крымские фрукты шумящими бумажными султанами, мимо публичных домов, в город...
1925
Ножи[42]
Воскресная прогулка по бульвару — замечательный способ в полной мере определить человека.
Пашка Кукушкин начал воскресную прогулку по Чистым прудам в шесть часов вечера. Прежде всего он зашел в открытый павильон Моссельпрома и выпил бутылку пива. Это сразу определило его правильный подход к жизни и умеренность.
Затем он купил у бабы два стаканчика каленых подсолнухов и пошел, не торопясь, по главной аллее. По дороге пристала цыганка.
— Красивый, молодой, дай по руке погадаю, скажу тебе всю правду, за кем страдаешь, скажу и что у тебя на сердце, скажу, все тебе скажу, ничего не утаю, и десять копеек за все удовольствие старой цыганке подаришь. Погадаю, хорошо будет, не погадаю, жалеть будешь.
Пашка подумал и сказал:
— Гаданье по руке, тетка, это — предрассудок и ерунда, однако получай гривенник и можешь гадать — все равно набрешешь.
Цыганка спрятала гривенник в пеструю юбку и показала черные зубы.
— Будет тебе, молодой человек, приятная встреча, будет тебе через эту встречу тоска на сердце, поперек дороги тебе стоит пожилой мужчина, ничего не бойся, бойся, молодец, ножа, будет тебе от ножа большая неприятность, не бойся друзей, бойся врагов, и зеленый попугай тебе в жизни счастье принесет. Гуляй себе на здоровье.
Цыганка выпятила тощий живот и важно поплыла прочь, шаркая по земле коричневыми пятками.
«Интересно, сука, брешет», — подумал Пашка и отправился дальше.
По дороге он изведал по очереди все наслаждения, какие предлагала ему жизнь: сначала взвесился на шатких весах — вышло четыре нуда пятнадцать фунтов; через некоторое время, присев от натуги на корточки, попробовал силу и дожал дрожащую стрелку силомера до «сильного мужчины»; погуляв еще немного, испытал нервы электричеством — взялся руками за медные палочки, по суставам брызнули и застреляли мурашки, суставы как бы наполнились сельтерской водой, ладони прилипли к меди, — однако нервы оказались крепкими.
Наконец, он сел на стул перед висящей на дереве декорацией, с видом московского Кремля у Каменного моста, положил ногу на ногу, сделал зверское лицо и снялся в таком виде. Получив через десять минут мокрую карточку, Пашка долго, с солидным удовольствием разглядывал себя — клетчатая кепка, хорошо знакомый нос, клеш, рубашка «апаш» с воротником навыпуск, пиджак — все честь честью, очень понравилось, даже как-то не совсем верилось, что это он сам и так прекрасен.
— Ничего себе, — сказал он, аккуратно свертывая липкий снимок в трубочку, и подошел к лодочным мосткам.
Для того чтобы окончательно исчерпать весь запас воскресных удовольствий, ему осталось найти подходящих девчонок и покататься с ними в лодке. Однако случилось как-то так, что на лодочке он кататься не стал, а пошел дальше и шел до тех пор, пока не дошел до неизвестного ему балаганчика. В широко открытых дверях толпился народ. Слышалось металлическое звяканье и хохот.
— Чего такое? — спросил Пашка у малорослого красноармейца, трущегося у входа.
— Кольца кидают, потеха. Который накинет — самовар может выиграть.
Пашка с любопытством заглянул через головы в балаган, ярко освещенный внутри лампами. Вся задняя его стена была затянута кумачом. На полках, устроенных в три ряда, торчали воткнутые ножи. Между ножами были разложены заманчивые призы. На нижней полке — коробки конфет и печений, на средней — будильники, кастрюли, кепки, а на верхней, под самым потолком, в полутьме — совершенно уже соблазнительные вещи: две балалайки, тульский самовар, хромовые вытяжные сапоги, толстовка, итальянская гармонь, стенные часы с кукушкой и граммофон. На который нож кольцо накинешь — ту вещь и получаешь. А накинуть почти невозможно — ножи очень шаткие. Кольца отскакивают. Интересно.
Работая локтями, Пашка протерся в балаган. За прилавком старичок в серебряных очках продавал кольца — четвертак сорок штук. Красный парень со взмокшим чубом, дико улыбаясь, дошвыривал последний пяток колец. Пиджак его развевался. Железные кольца вылетали из грубых его пальцев и, стукаясь об ножи, со звоном валились в подвешенный снизу мешок. Зеваки хохотали. Парень багровел. Задетые кольцами ножи упруго гудели и, туманно дрожа, расширялись воронкой.
— Тьфу, будь они трижды прокляты, те ножи и те кольца! — воскликнул наконец парень. — Полтора рубля просадил зря, хоть бы печенье Бабаева взял, — и сконфуженно выбрался из толпы.
— Тут в прошлое воскресенье один сапоги выиграл, — сказал мальчик в заплатанных штанах, — на десять рублей кидал.
— А ну-ка, разрешите, — произнес Пашка, вплотную придвигаясь к стойке, — интересно, как это будет.
Старичок подал ему кольца.
— Значит, — спросил Пашка обстоятельно, — если на нижний нож накину, то конфеты Бабаева можно получить?
— Можно, — сказал старичок равнодушно.
— А повыше, то и будильник?
Старичок кивнул головой.
— Интересно. Хо-хо. А если самовар, то надо небось под самый потолок целить?
— Да ты печенье-то возьми сначала, трепаться потом будешь, — сказали ему из толпы нетерпеливо. — Валяй! Не задерживай!
Пашка положил на прилавок снимок, раздвинул напиравшую публику локтями, облокотился, нацелился, но тут вдруг рука его дрогнула, кольцо вырвалось из пальцев, боком упало на пол и покатилось. Пашка похолодел. Возле полок, сбоку, сидела на стуле, аккуратно сложив на коленях ручки, нарядная девушка такой красоты, что у Пашки помутилось в глазах. Девушка быстро встала со стула, поймала кольцо, подала его, не глядя, и улыбнулась вдруг легонько в сторону самым краешком ротика — и тут Пашка погиб.
— Ну-ка! Что же ты, парень? Валяй сымай самовар! Крой! — кричали за спиной любопытные.
Пашка очнулся и принялся швырять кольца одно за другим, ничего вокруг не видя, кроме опущенных ресниц девушки и ротика, лопнувшего поперек, как черешня. Когда он расшвырял все сорок колец, она собрала их и молча положила на прилавок, однако на этот раз не улыбнулась, а только приподняла на Пашку серые глаза и поправила русую прядку, выбившуюся возле уха. Пашка выложил другой четвертак. Кольца неуклюже летели одно за другим. Зеваки хохотали, напирали в спину. Ножи гудели, как пчелы. Старичок равнодушно чесал скрюченным пальцем нос.
Просадив целковый и не накинув ни одного кольца, Пашка потерянно выбился из толпы на бульвар и пошел под липами, вдоль розовой от заката воды. Над прудом стоял еле заметный туман. Свежий холодок шел по рукам. Кинематограф «Колизей» столбами огней отражался в нежной воде. Не одна пара стриженых девчонок с зелеными и синими гребешками в волосах, обнявшись, пробегала мимо Пашки, оборачиваясь на него с хохотом и притворно толкаясь, — больно, мол, хорош мальчик! — однако Пашка шел, не обращая на них внимания, и задумчиво пел:
Цыганка гадала, цыганка гадала, Цы-ы-ган-ка га-да-ла, за ручку бра-ла...За ночь он влюбился окончательно и бесповоротно.
Целый месяц каждое воскресенье ходил Пашка в балаган кидать кольца. Половину получки извел таким образом на ветер. В отпуск не поехал, пропустил черед, стал совсем чумной. Девушка по-прежнему, опустив глаза, подавала ему кольца. Улыбалась иногда, про себя будто. А иногда, увидав Пашку врасплох в толпе, вдруг вся шла румянцем, таким темным, что казалось, плечи и те сквозь тонкий маркизет начинали просвечивать смуглыми персиками. Как ни старался Пашка, все никак не мог улучить минуточки поговорить с девушкой по душам: то народ мешает, то старик вредными глазами посматривает через очки, нос скрюченным пальцем чешет, словно грозит Пашке — не подходи, мол, не про тебя девка, проваливай. Один раз все-таки Пашке удалось кое-как поговорить. Народа было мало, а старичок как раз побежал с хворостиной за балаган гонять беспризорных.
— Наше вам, — сказал Пашка, и в сердце у него захолонуло. — Как вас звать?
— Людмилой, — быстро и жарко шепнула девушка. — Я вас хорошо знаю, вы тут свою фотографию на стойке как-то позабыли, а я спрятала, прямо влюбилась — до того хороша.
Девушка сунула пальцы за воротник и показала у ключицы углышек смятой карточки. Повела глазами и зарделась пунцовым цветом.
— А вас как звать?
— Пашкой. Не хотите ли сходить в театр «Колизей» — интересная программа демонстрируется: «Женщина с миллиардами», первая серия.
— Нельзя, папаша следит.
— А вы помимо.
— Боже сохрани. Уйдешь, домой обратно не пустят. А мамаша — того хуже, — мамаша на Сухаревом рынке на свое имя ларек держит. Страсть до чего строгие родители, до смешного ужасно. Мы на Сретенке живем, в Просвирином переулке, отсюда невдалеке. Дом номер два, во дворе, от ворот налево.
— Как же будет, Людмилочка?
— А так же и будет. Скорей кидайте кольца, папаша идет.
Едва Пашка начал кидать кольца, как явился папаша с хворостиной. На дочку зверем смотрит. Так ни с чем и ушел Пашка. А на следующее воскресенье явился — глядит, балаганчик заколочен. На вывеске значится: «Американское практическое бросание колец 40 шту. 25 ко.». Тут же по голубому полю выписан зеленый попугай с розовым хвостом — в клюве держит кольцо, а ветер несет с дерева мимо попугая желтые липовые листья, заметает ими со всех сторон балаган, цветники помяты, и вокруг ни души, — осень.
Тогда вспомнил Пашка слова гадалки: «Поперек дороги тебе стоит пожилой мужчина... будет тебе от него большая неприятность... зеленый попугай тебе в жизни счастье принесет...» — и такая тоска и такая досада на дуру цыганку взяла, что невозможно описать. Пашка погрозил попугаю кулаком и пошел, обдуваемый со всех сторон сквозным ветром, через поредевший, пустынный бульвар куда глаза глядят. Вышел на Сретенку, попал в Просвирин переулок. День пасмурный, звонкий, осенний. Против хилой церковки — зеленое с белым — действительно дом номер два. Пашка вошел во двор и своротил налево, а куда дальше идти — неизвестно. Тут заиграла посреди двора шарманка, на шарманке сидит зеленый попугай с розовым хвостом и смотрит на Пашку круглым нахальным глазом с замшевыми веками. Вскоре во втором этаже открылась форточка, из форточки высунулась нежная ручка и кинула во двор пятак, завернутый в бумажку. Сквозь двойную раму, над ватным валиком, посыпанным стриженым гарусом, среди кисейных занавесок и фикусов Пашка увидел Людмилу. Она радостно глядела на него, прижимаясь яркой щекой к стеклу, делала знаки пальчиками, разводила руками, качала головой, манила — и ничего нельзя было понять, чего она хочет. Пашка тоже стал объяснять руками — выходи, мол, плюнь на родителей, жить без тебя не могу! Но тут Людмилочку загородила толстая усатая женщина в турецкой шали, захлопнула форточку и погрозила Пашке пальцем.
Пашка поплелся домой, промучился две недели, мотался по ночам, как вор, в Просвирином переулке, пугая прохожих, извелся совсем, а на третью неделю, в воскресенье, вычистил брюки и пиджак спитым чаем, надел розовый галстук, наваксил штиблеты и пошел прямо к черту на рога — делать предложение руки и сердца. Дверь ему отомкнула сама Людмилочка, — увидела, ахнула, за сердце ручкой хватилась, но Пашка мимо нее прошел прямо в горницу, где родители после обедни пили чай с молоком, и сказал:
— Приятного аппетита. Извините, папаша, и вы, мамаша, извините, но только без Людмилочки мне не жизнь. Как увидел, так и пропал. Делайте что хотите, а я тут весь перед вами — квалифицированный слесарь во шестому разряду, плюс нагрузка, хлебного вина не потребляю, член партии с двадцать третьего года, алиментов никому не выплачиваю, так что и с этой стороны все чисто.
— Никакой я вам не папаша! — закричал старичок неправдоподобным голосом. — И моя супруга вам не мамаша! Забудьте это!
— И что это еще за мода под окнами во дворе шарманку слушать и врываться к посторонним людям в квартиры, — поддержала басом супруга. — Оставьте это при себе. Скажите пожалуйста! И не таких женихов видали; подумаешь, шестой разряд! Да за Людмилочку в прошлом году один управдом с Мясницкой улицы сватался, и то отказала. Выйдите, гражданин, из квартиры. А девку на замок — тоже хороша. Нам никаких тут слесарей не надобно, особенно партийных.
— Я с одного практического бросания колец вырабатываю до тысячи рублей чистых в сезон, — запальчиво заметил папаша. — Да на четыреста рублей призов имею. Людмилочке нужен муж с капиталом для расширения дела. Одним словом, до свиданья.
— Так не отдадите? — спросил Пашка отчаянным голосом.
— Не отдадим, — пискнул папаша.
— Хорошо же, — сказал Пашка грозно, — раз вам требуется зять с капиталом для расширения дела, тогда сеанс окончен. Будете меня помнить. Я над вами такое сделаю... Прощай, Людмилочка, не сдавайся, жди.
А Людмилочка сидела в прихожей на сундуке и ломала руки.
Плотно сжав челюсти, Пашка вышел на улицу, отправился на Сухаревский рынок и купил острый кухонный нож. Пришел домой и заперся на крючок. Зима пришла и ушла. С Чистых прудов на дровнях вывезли лед. Пашка аккуратно ходил на работу, ни одного часа не прогулял, а по ночам сидел дома на крючке, и соседи слышали у него в комнате тихий звон, — на гитаре, что ли, учился играть, неизвестно. Тронулась река. Солнце начало припекать, позеленели, распушились деревья, на Чистые пруды привезли на подводах лодки. Фотографы развесили в аллеях свои кремли и лунные ночи. По вечерам на бульварах началось гулянье.
Каждое воскресенье Пашка аккуратно выходил на Чистые пруды посмотреть, не открылся ли балаган. Он был закрыт. Зеленый попугай с розовым хвостом сидел на побелевшем от непогоды голубом поле и держал в клюве кольцо, а над ним висели свежие ветви липы. Пашка был худ и мрачен. В одно прекрасное воскресенье он пришел, и балаган был открыт. В дверях толпились зеваки. Внутри ярко горели лампы. Слышался металлический звон и хохот.
Пашка раздвинул плечами толпу и вежливо подошел к стойке. Крутые скулы подпирали каленые его глаза. Людмилочка подбирала кольца. Едва он вошел, румянец схлынул с ее лица, она стала насквозь прозрачна, глаза потемнели, а ротик сделался еще вишневей. Папаша поправил очки и подался немного назад.
— Разрешите, товарищи, — угрюмо произнес Пашка, отстраняя плечом кидавшего кольца парня, и, не глядя на старика, кивнул девушке.
Как неживая, она подала ему кольца. Он коснулся ее холодных пальцев и бросил на прилавок трешку.
— Ты бы, товарищ, тачку нанял самовары возить, — хихикнули сзади.
Пашка, не оборачиваясь, взял кольцо и небрежно его кинул. Нож даже не дрогнул. Раздался краткий звяк. Кольцо было накинуто, не задев ножа. Старичок торопливо почесал нос и с опаской положил перед Пашкой коробку конфет фабрики Бабаева. Пашка отодвинул ее в сторону и, отодвигая, как бы невзначай пустил второе кольцо. Так же легко и коротко оно село на другой нож. И не успел старичок досеменить до полки, чтобы подать вторую коробку, как Пашка плоско метнул вслед ему одно за другим три новых кольца, и они легко, почти беззвучно, сели на три новых ножа. Народ смолк.
Старик обратил к Пашке маленькое свое лицо и заморгал глазками. Темная капля пота сползла по его лбу, как клоп. Штаны его стали мешковаты и слегка осели. Пашка стоял нога на ногу, облокотясь о прилавок, и позванивал горстью колец.
— Так как же будет, папаша, с Людмилочкой? — негромко спросил он и равнодушно осмотрелся по сторонам.
— Не отдам, — сказал папаша тихим дискантом.
— Не отдадите? — сказал Пашка сонно. — Хорошо. Эй, малый, сбегай к Покровским воротам за тачкой, получишь самовар. Посторонитесь, папаша, чуток.
Лицо Пашки сделалось чугунным. На лбу вздулась вена. Он легко взмахнул напряженной рукой. Из его пальцев бегло полетели молнии. Ножи жужжали, застигнутые кольцами врасплох. Толпа выла, грохотала, росла. Народ бежал к балагану со всех сторон. Пашка почти не глядел в цель. Его глаза рассеянно блуждали. Он был страшен. Ни одно кольцо не упало в мешок. Через пять минут все было кончено. Пашка вытер лоб рукавом. Толпа расступилась. Возле балагана стояла тачка.
— Грузи, — сказал Пашка.
— Что же это теперь будет? — с трудом выговорил старичок и затоптался возле полок.
— А ничего не будет. Покидаю все барахло в пруд — и дело с концом.
— Да как же это так, граждане, — застонал старик по-бабьи. — Ведь одного товара, граждане, на сорок червонцев, не считая предприятия.
— А мне наплевать, хоть на сто. Мое барахло. Я его не украл, честно выиграл. Есть свидетели. Всю зиму практиковался, сна решился. Что хочу теперь, то и сделаю. Хочу — себе возьму, хочу — в пруд покидаю.
— Правильно! — закричали в толпе с упоением. — Хоть под присягу! Только, слышь, граммофон все-таки не кидай.
Добровольцы из публики быстро нагрузили тачку доверху.
— Вези, — сказал Пашка.
— Куды же это? — захныкал старичок. — Мне теперь с такими делами, граждане, хоть домой не ворочайся... Неужто утопишь?
— Утоплю, — сказал Пашка. — Вези на мостки.
— Хоть бога бы ты постеснялся.
— Бог — это пережиток темного ума, папаша. Все равно как зеленый попугай. А все дело — во! — и покрутил мускулистой рукой.
Окруженная живым кольцом напирающих людей, тачка тронулась и, въехав на лодочные мостки, остановилась. Пашка снял сверху хромовые сапоги и бросил их в воду. Толпа ахнула.
— Постой! — чужим голосом крикнул старичок, кидаясь к тачке. — Не кидай.
Тогда Пашка положил сверху на вещи свою могучую руку и, опустив глаза, тихо сказал:
— В последний раз говорю, папаша, по-честному. Пускай все люди будут свидетелями. Отдайте девку и забирайте обратно барахло. На сто шагов больше к балагану не подойду, а так все равно по ветру пущу все ваше предприятие. Нету мне без Людмилочки жизни.
— Бери! — крикнул старик и махнул рукой. — Тьфу! Забирай!
— Людмилочка! — вымолвил Пашка и отступил от тачки, побледнев.
Она стояла подле него, застенчиво закрывшись от людей рукавом. Даже ручки ее были розовы от стыдливого румянца.
— Сеанс окончен, граждане, можете разойтись, — сказал Пашка и так осторожно взял девушку под локоть, словно он был фарфоровый.
По всему бульвару в этот час пахло черемухой. Черемуха была повсюду — в волосах и в воде. Невысоко над липами в густом фиолетовом небе стоял месяц, острый как нож. И его молодой свет, отражаясь в пруду, множился и дробился обручальным золотом текучих живых колец.
А вы говорите, что в наши дни невозможны сильные страсти. Очень даже возможны.
1926
Раб[43]
Синие мартовские ветры со свистом штурмовали город. Круглые облака клубились пушечным дымом. Стаи грачей рассыпались шрапнелью по щетине приморских парков, и били в бронированные крыши особняков. Зима умирала, но не сдавалась. Собирая последние резервы, она бросалась в контратаку, и снова падала, и снова подымалась, каждый свой шаг укрепляя колючим норд-остом. Она дико глодала углы и деревья, она налетала сухим снегом, она бронировала лужи, но все было напрасно.
Игорь Кутайсов, куря и грызя нечистые ногти, быстро ходил по городу, как по комнате, запертой снаружи на ключ.
Непомерное, пылающее, потерявшее форму солнце лежало в узких амбразурах улиц, выходящих в западные предместья, сплошь охваченные тревожным пожаром.
С трех сторон на город шли красные. С четвертой наступало море. Город был обречен.
Серые утюги британских броненосцев низко сидели в стальной от дыма воде залива, среди еще нерастаявших, взбухших, как пробка, льдин. Синие молнии радио слетали с изящных мачт крейсеров.
Десантные войска четырех империалистических держав поддерживали истощенные отряды добровольцев, отбившихся от красных.
Игорь Кутайсов еще не вполне оправился после сыпного тифа. Ноги его, обутые в грубые английские башмаки, ныли; опустошенные мускулы были почти бессильны; красный свет западного солнца нестерпимо резал глаза; руки тряслись от слабости.
Но мучительней слабости, мучительней шума в ушах, мучительней тошнотворного, сосущего сердце голода было ощущение неутолимого одиночества и смертельной собачьей тоски. Нет, не теперь. Она началась давно, эта тоска. Она началась задолго до того дня, когда санитары вынесли Кутайсова на носилках из вагона и вдвинули в покачнувшийся автомобиль. По улицам маршировали патрули британской морской пехоты. Матросы — с кирпично-красными лицами, в синих беретах, с трубками в желтых зубах — на ходу кидали лошадиными голенастыми ногами футбольный мяч. Через чугунные мосты шли обозы греков. Ослы и мулы, навьюченные бурдюками, мешками с гороховой мукой, бочками, лоханками и оружием, выставляя напоказ любопытным свои плюшевые лохматые уши, мелко цокали копытцами по асфальту моста. Унылые греческие солдаты с оливковыми и кофейными лицами путались возле них в слишком длинных, зеленых, как гороховая мука, английских шинелях, с трудом вынося тяжесть старомодных винтовок системы «Гра».
Длинный штабной автомобиль вытянулся в струнку мимо Кутайсова, обдав его ветром, — и на какую-то незначительную часть секунды в сознании Кутайсова запечатлелся во всех своих подробностях седой английский полковник в солдатском френче, надменно подпрыгивающий на подушках машины.
Кутайсов дошел до памятника Екатерине, где, окруженный любопытными, стоял броневик, и повернул назад. Пошел снег и через пять минут кончился. С моря дунул ветер, затем встал туман. Они дружно пожирали снег, унося его белыми тугими облаками в море. На расчищенном, великолепно отполированном голубом небе, на востоке опять появился белый, как пушинка, месяц.
Красное солнце снова лежало на западе в узких амбразурах улиц.
Двуколки зуавов, решетчатые и качающиеся, похожие на дачные мальпосты, удивляя своими необыкновенно громадными колесами, вышиной в саженный рост шагавших рядом сенегальских стрелков, проплыли в перспективе багрово озаренной улицы. Тени спиц вертелись гигантскими балками, расталкивая косой воздух во всю длину затопленной солнцем улицы. Черный пот горел на выпуклых лбах рабов.
Кутайсов пошел обратно. Месяц белел над броневиками, ясный, как ноготь. На перекрестке стояли зеленые сундуки цветочниц. В синих мисках плавали фиалки. От них нежно пахло парниковыми огурцами. Возле столов уличных валютных менял, заваленных живописными грудами фунтов, долларов и акцептованных чеков, кричали маклеры в котелках. Два потока праздных, раздушенных и хорошо одетых людей протекали друг мимо друга, мимо Кутайсова и мимо цветов и денег.
Французский лейтенант в козьей кофте, серебристым мехом наружу, вежливо отодвинул Кутайсова плечом. Зеркальная сабля русского офицера скользнула по его башмаку. Кутайсов увидел себя в уличном зеркале и ужаснулся — рваная английская шинель, зеленые обмотки, косматая черная папаха, рыжеватая борода, розовые веки. «Ну, вот и все», — пусто подумал он и пошел обратно. Броневика не было. Его место заняли синие, свисшие до самой земли, облака. Возле английской вербовочной конторы стоял часовой с винтовкой прикладом вверх.
«Она у меня давно, — писал Кутайсов немного позже про свою тоску матери в Орел. — Два месяца наш бронепоезд метался между Жмеринкой и Киевом. Трижды мы пытались прорваться на Бердичев. Дорогая мамочка, если б ты знала, как я устал. Ты себе не можешь представить, что это за ужас — дежурить ночью с биноклем у глаз на первой башне, когда бронепоезд, гремя по стыкам и содрогаясь, прет по незнакомым рельсам к черту на рога. Вокруг ветер — ветер, тьма, ночь. Снег засыпает папаху, сапоги худые, и ноги — совершенно деревянные от стужи. Вокруг никого. Только и видишь собственные глаза, жутко увеличенные черными стеклами бинокля; будто пристально смотришь сам себе в душу — ни зги в душе, ничего, пустота, мрак... Потом сыпной тиф. Но, бога ради, ты не волнуйся, родная моя мамуся. Я уже почти поправился. Только еще немного дрожат руки и дьявольский аппетит. Зато какие чудесные, какие замечательные сны снились мне в тифу. Ах, мамочка! Если бы ты знала, что это были за сны! Цветные, словно сделанные из церковных стекол. Зеленые лужайки, розовые фламинго, какой-то остров, где люди живут как братья, какая-то счастливая страна будущего — воздушные сиреневые мосты, воздушные стеклянные вокзалы, ключевая вода, совершенно прозрачная, как горный воздух... Нет, в письме не опишешь этого. Авось скоро увидимся — тогда расскажу тебе все. Сейчас я в глубоком тылу. С добровольческой армией покончил. Довольно. Только что записался волонтером к англичанам. Подписал контракт, получил обмундирование... Обещают многое, — а я так стосковался по культурной, спокойной жизни, по хорошим журналам, по театру, по свободе, по тебе, дорогая моя мамуся. Надеюсь, скоро, скоро свидимся... А впрочем, против кого я воюю? Ничего, ничего не знаю... Эта мысль не дает мне покоя. Это она — моя собачья тоска, это она — моя бессонная совесть».
Кутайсов писал это письмо химическим карандашом, наклонясь над мокрой клеенкой столика в кабачке за бутылкой кислого бессарабского вина. Исступленно играла музыка. Каменные стены подвала пахли спиртом. Плыли огни калильных ламп. Кутайсов не окончил письма и вышел на улицу. Голова кружилась. Была ночь. Во тьме выли пароходные сирены. Стекла фонарей стрекотали от проезжающих грузовиков. Голова горела, ресницам было больно от жара. Табак был горек. В городе происходило нечто страшное. Цепи фонарей шли кругом. Длинные полосы прожекторов вставали над городом и передвигались, скрещиваясь, как фосфорические стрелки сошедших с ума часов. Стреляли пушки. В предместьях сыпали пулеметы. Люди натыкались на деревья. Шторы магазинов с грохотом падали. Мальчишки-газетчики размахивали крыльями экстренных телеграмм.
Кутайсов побежал на запад. Его остановил английский патруль. Зажегся электрический фонарик, Кутайсов протянул отпускную бумагу вербовочного пункта. Его окружили и повели. Канонада усиливалась. С трех сторон небо над городом преображалось от двойных вспышек — точно по городу гигантскими шагами ходил стекольщик, неся на плече вспыхивающую свою раму. На вербовочном пункте английский офицер велел Кутайсову сдать оружие. Кутайсов положил на скучный канцелярский стол револьвер и патроны. Во дворе строился батальон территориальной пехоты. Патрули приводили под конвоем завербованных, задержанных в разных частях города. На рассвете их отвели в форт, где обезумевшие люди уже штурмовали сходни, и посадили на пароход, в трюм, а к люкам трюма поставили часовых.
«Что это значит?» — подумал Кутайсов, садясь на ящик. В трюме было почти темно. Мраморный свет отраженного моря снизу вверх струился из иллюминаторов по бледной обшивке.
А в это время в городе уже все было кончено. Поверх плакатов Освага с изображениями чудовищного, ярко-красного Троцкого, сидящего верхом на поломанных крестах Кремля, расклеивались приказы Революционного комитета. Чубатые оборванцы Котовского в картузах козырьками на сторону, с алыми лентами, вплетенными в гриву и уздечки добрых херсонских жеребцов, со свистом и украинскими песнями неслись по улицам, покрытым налетом битого стекла и закрученными петлями сорванных трамвайных проводов. Голубоглазые москвичи в желтых полушубках и добротных мерлушковых папахах, постукивая по вымерзшим тротуарам прикладами винтовок всех армий мира, окружали подозрительные дома, из которых черноморцы-матросы выводили переодетых офицеров. Мальчики бегали на окраинах с красными флажками и пели «Интернационал».
В трюме было шестьдесят пленных и одна арестованная лампочка, запаянная в металлическую решетку. Пароход задрожал — наверху, на баке, заработала моторная лебедка. Зубчатый хруст якорной цепи пополз по наружной обшивке, а по иллюминатору потекла грязно-зеленая вода.
— Куда нас везут? — в пространство, неизвестно к кому обращаясь, сказал Кутайсов.
Пленные молчали, занятые собой. Лампочка стала медленно накаливаться малиновым светом. В городе стреляли. В трюм вошли английский офицер и русский переводчик... Офицер встал в профиль и сказал несколько слов. Переводчик перевел. В первое мгновенье Кутайсов не понял сказанного. Он только слушал слова. Смысл дошел позже. Работа моторной лебедки прекратилась, но пароход не перестал дрожать. Над головой, по палубе, пробежало несколько человек. По борту свежо и радостно бежала вода. Несколько человек снаружи встали с ящиков и снова сели. Кутайсов бросился к люку. Только теперь он понял смысл слов офицера. Офицер тем временем повернулся и вышел, а за ним — и переводчик. В дверях люка, освещенный сверху, стоял сенегалец с винтовкой наперевес.
— В Аравию!.. — задыхаясь закричал Кутайсов. — Вы слышали?.. Нас везут... Мерзавцы... Как рабов!..
Волонтеры молчали. Кутайсов сделался страшен. Он ощущал во всех подробностях, до последнего мускула, мгновенно перестроившееся свое лицо, напряженное сверх предела. Он вырвал из рук сенегальца винтовку и бросился, скользя по обитым сточенной медью ступенькам, вверх. Ветер окатил его, как из ведра. Затвор незнакомой системы не поддавался усилиям его посиневшей ладони. Пароход круто огибал маяк. Офицер стоял, слегка расставив ноги в желтых крагах, лицом к Кутайсову. Кутайсов увидел страшно близко твердый нос с царапинкой возле хрящика и полные льда и тумана голубовато-серые глаза англичанина. Панорама уходящего рейда, усеянного дымящимися судами, и города, вспыхивающего выстрелами и стеклами изнемогающих от утреннего солнца домов, поворачиваясь, плыла позади этих неподвижных глаз. Затвор не поддавался. Ладонь обливалась потом. Тогда Кутайсов для чего-то изо всех сил воткнул винтовку ножом в палубу. Глаза англичанина стали немного уже. Теперь позади них плыл, уходя назад и в сторону, голубой берег Пересыпи и конусообразные крыши белых нефтяных цистерн. Еще не стаявшие льды лежали, греясь на солнце, как белые медведи.
— Я не раб! — закричал Кутайсов и задохнулся от страсти и волнения.
С трех сторон на Кутайсова бежали, обнажив коровьи зубы, сенегальцы. Черный пот горел на их выпуклых лбах рабов.
— Моя кровь не нефть! — изо всех сил заорал Кутайсов, так, что в горле у него оборвалось и осипло. Смертная черная тоска поднялась в нем. На солнце мигнул каким-то металлическим углом приклад. И в этот миг, последний миг, в который Кутайсов видел родную уходящую землю, два орудийных выстрела один за другим потрясли воду и легли поперек рейда. Кутайсову показалось, что это англичанин выстрелил углами своих глаз. Крейсер, стоявший за волнорезом, оделся белым. Вслед за тем из цистерны повалил рыжий дым. Рыбачья шаланда, разбивая плоским дном черно-зеленые волны, под полным ветром прошла мимо парохода, широко кланяясь заплатанным, как рубаха, парусом. Босой парень стоял, подпрыгивая, на баке и, размахивая фуражкой, кричал против ветра отчаянным голосом:
— Вата блин! А-а-амба!.. До сви-данья!
Свежий бриз трепал его волосы. Над головой Кутайсова быстро пронеслись чайки, как разорванное в клочья письмо. Сенегалец ударил его в грудь прикладом. Кутайсов полетел по трапу обратно в трюм. На губах его стало солоно. Красная лампочка завертелась во тьме огненным колесом и застыла над головой пятном, напоминавшим боль.
1927
Гора[44]
Автомобиль, уже покрытый белой крымской пылью, вынес нас из Ялты. Узкое шоссе — настолько узкое, что на нем трудно было разъехаться двум машинам, — круто свернуло влево назад и, не успев как следует выправиться, бросилось вправо вперед, неуклонно восходя в гору. Погода была сомнительна. Утром в горах шел дождь. Водопад Учансу, еще вчера казавшийся издали сухой, светлой трещиной среди беспокойного нагромождения камня, теперь падал, и тек, и снова падал, и тянул канительную сказку о том, что, мол, по усам текло, а в рот не попало. Высокий уровень серого моря по мере нашего подъема не только не падал, но, наоборот, все повышался, отмечая свою высоту на кривой горного склона белыми зазубринами верхнего и нижнего шоссе.
За подъемом последовал такой же крутой, извилистый спуск; затем снова подъем. Справа, слева, сзади передвигались, меняя топографию, горбы, плоскогорья и долины, кудряво поросшие кустарником, густо напудренным вблизи шоссе меловой пылью. Впереди поднимался горный хребет, весь в мелкой мерлушке растительности. Мы должны были его преодолеть.
Иногда дорога подходила вплотную к круглому боку горы и, огибая его, мчалась в свисте свисающей сверху лозы, в полете слабой тени, в мельканье точильного камня, в то время как под правыми колесами машины медленно плыла, падая глубоко вниз, как в обморок, кудрявая пустота котловины, насыщенной синевой. Там белели игрушечные улицы, кипарисики и дома Ялты; на рейде качались сложившие оружие яхты; серый мол лежал поперек моря; подошва горы отражалась почти черной зеленью под сваями поплавков; вокруг маяка в воздухе плавали чайки, и короткая радуга перпендикулярно висела, как арбузная корка, выше земли и ниже горы, упираясь бенгальским зелено-бело-красным дымом в плоскую крышу дворца эмира бухарского.
До Ливадии мимо нас пронеслось назад множество встречных машин. Они возникали вдруг, из-за резких поворотов, каменели на какую-то часть секунды рядом с нами во всех своих подробностях и, отброшенные назад, туманно отставали в облаке оставленного нами чада. Нас не обогнал никто.
Море синело на ветру. Ветер рвал шляпу. Мне пришлось ее снять и положить в ноги. Жаркий воздух радиатора подхватил волосы, высушил их мгновенно, вздул, распушил, поднял дыбом. Вздернутая движением моя голова, казалось, висела на летящих волосах, как на парашюте. Укрывшись от ветра за спиной шофера, мне удалось, ломая спички, зажечь папиросу, но она с быстротой порохового шнура сгорела дотла и взорвалась, прежде чем я успел дважды затянуться. Я бросил опустошенный окурок на ветер и не успел рассмотреть, что с ним стало: возможно, что он сделался спутником Земли и остался туманно висеть за поворотом, над неподвижными рогами волов, запряженных в длинную татарскую мажару с круглым полотняным верхом, возле вделанной в стену львиной головы, из пасти которой вытекала в раковину неподвижная вода. Потом пошел лес. Стволы сосен закрутились за передними стеклами машины, как карандаши, циркулирующие за прилавком писчебумажного магазина. Кочковатая дорога, пересеченная корнями, то и дело, казалось, заходила в тупик чащи, из которого нет выхода. Однако как-то так все обходилось, и, повернув в неожиданную сторону, она выносила нас ярусом выше, поверх вершины, ранее казавшейся недоступной. Все более и более ярчавшее море шло в голову с нами, не опускаясь, и катер, огибающий Ай-Тодор, уже казался заводной мухой, ползущей по самому извилистому носу мыса. Море было необыкновенно велико. Даже небо в сравнении с ним бледнело, переливаясь через горный хребет холодным дымом зависти, и падало, как пульс.
Воздух чем выше, тем становился туманнее, ветренее и холоднее, в то время как внизу, там, куда еще не дошла синяя тень Ай-Петри, подробно горели теплые краски крымского послеобеда. Туман обстигал нас со всех сторон. В последний раз я увидел внизу прекрасную зелено-синюю панораму Южного берега Крыма, обнаженную высотой, по крайней мере, на семьдесят километров. Теперь вдоль моря одновременно были видны и Алупка, и Массандра, и Ялта, и Никитский сад, и Гурзуф со своей знаменитой горой Медведь, которая отсюда казалась не больше маленькой ушастой мышки, лакающей из блюдца голубовато-морщинистое молоко залива. Холодный воздух посвистывал в ушах, обдавая резким запахом папоротника и шишек. Туман отхлынул и скрыл от глаз все то, что осталось сзади внизу. Спереди, вверху на некоторое время появился скалистый зуб Ай-Петри. В грифельных его трещинах и пломбах гнездились карликовые сосны и коралловый дубняк. Подъем, вырубленный в скалах, стал более диким и пологим. Мотор затараторил среди сыплющегося градом эха. Исхлестанные ветром щеки горели напропалую, как рябина, и студеный туман не в силах был потушить их трезвого жара.
Шерстяное автомобильное пальто, казавшееся внизу неуместно теплым, потеряло теплоту и вес. Воздух проникал в легкие рукава и вздувал их пузырями. Я туго затянул на запястьях ремешки рукавов и пожалел о перчатках.
— Последний поворот, — сказал шофер, и дорога круто поворотилась под давлением его тяжелых больших перчаток с раструбами, спокойно лежащих на рулевом колесе. Он нажал подошвой рычаг. Изо всех щелей полез вонючий дым. Стрелка манометра дрогнула. Машина полезла еще вверх, едва не срываясь задними колесами за край обрыва, где был врыт в землю каменный столб. Штук шесть камешков скатилось из-под шин в пропасть. На повороте, уткнувшись в кучу щебня, ручками вверх, стояла тачка. Автомобиль с хрипом и хрустом въехал на плоскогорье и остановился. Это была голая и плоская вершина горы Шишко.
Тут находилась метеорологическая обсерватория. Несколько низких одноэтажных построек больничной белизны и скромности, соединенных между собою крытыми галереями, стояло как-то особняком и боком, преграждая дорогу нашему автомобилю. Дальше, на самую вершину Ай-Петри, следовало идти три версты пешком. Это было невозможно. Потрясающий ветер, гладкий и сплошной, как гряда воды, выпукло опрокидывающаяся по ребру шлюза, тянул в упор туманом, окутывал стужей, глодал уши, валил с ног. Шофер закрыл дымящийся радиатор войлоком.
Мы вылезли из машины и побежали, не чувствуя под собою омертвевших ног, к длинной татарской хибарке, построенной против обсерватории, у самой дороги, поперек ветра. Большие круглые камни, как сыры, наваленные на плоскую ее кровлю, ледяная мгла вокруг и мокрая от тумана, жесткая, скользкая трава, редко растущая из кварца, превращали хижину в швейцарское шале.
Общество разделилось. Часть осталась у хижины и боролась с дверью. Часть двинулась вперед. Я примкнул ко вторым. Стихийно руководимые воздухом, мы слепо шли вперед, преодолевая выпуклый подъем как бы намагниченного холма. Ветер крепчал. Чтобы не упасть, мы взялись за руки и цепью пробивались к неизвестной для меня цели. Минутами мы были туго спеленаты в коленях полами плащей и макинтошей. Минутами воздух вдруг раздувал их, как оболочки монгольфьеров. Отскакивали вырванные с мясом пуговицы, шарфы щелкали вокруг головы, как вымпела, шляпы вырывались из окоченевших рук, и грудь распирало от ворвавшегося в легкие серого ветра.
И вот тут-то, когда казалось, что даже сама земля, обессиленная бредовым вихрем, и та начинает терять власть над нашим весом, мы увидели перед собой цель. Это был гранитный глобус. Он свинцово синел среди несущейся вокруг мглы, как некий трофей осады, как некая бомба, утвержденная на кубическом цоколе у портика музея и заклейменная знаменитой датой. Мы добежали до глобуса и, скользя подошвами по глянцу первой ступени, сочли своим долгом похлопать ладонью поверхность большого шершавого шара, скупо разграфленного географической сеткой. Я прочел мельком слова: «С.Петербург, Париж, Пулково, Лондон...» Делать больше было нечего. Место земли, на которой мы стояли, вероятно, пересекал меридиан. Воображаемая цель подъема была достигнута. Отдых заслужен. Правда, была еще одна цель, иная, высшая точка Ай-Петри, но вокруг сгущалась мгла, и было бессмысленно идти напролом еще три версты для того только, чтобы почувствовать себя всего на пятьдесят метров выше достигнутой нами с таким трудом точки.
— Похоже на газовую атаку... не правда ли? — захлебываясь в ветре, закричал мне на ухо, как глухому, Степан Васильевич, — или нет... На Перекоп. Не правда ли, похоже на Перекоп?
Всю дорогу он не произнес ни слова. Его темные брови были прямолинейно сдвинуты, словно запирали суровое молодое лицо на задвижку. Теперь вдруг оно открылось: я услышал хрипловатый, сорванный ветром голос и увидел близко от себя страстные, карие с сумасшедшинкой глаза. Я ответил, но ответ мой опоздал, — лицо Степана Васильевича снова замкнулось.
Мы вернулись назад и напились в хижине черного турецкого кофе с каймаком. Посередине комнаты в сумерках трещала раскаленная докрасна железная печка. Длинная охотничья собака лежала под столом на хворосте, положив морду меж передних лап. Хозяин нашего пансиона, тучный мужчина с бабьим голосом, бывший граф, торговал у охотника-туземца дичь и обещал дамам к ужину замечательных перепелок. Шофер вышел из хижины и стал заводить мотор. Но прежде чем садиться, инженер предложил осмотреть обсерваторию. Мы согласились. Профессор N, заведующий обсерваторией, сутулый, высокий, рыжеусый человек с проседью, в золотых очках и синей ситцевой рубахе, встретил нас в сенях и косолапо повел показывать свое метеорологическое хозяйство. Самодовольно и застенчиво улыбаясь в дикие усы, каждым движением изобличая неловкость отвыкшего от общества человека, он любовно и вместе с тем несколько небрежно объяснил нам свои приборы. Некоторые из них были замечательны по точности и простоте. Например, инструмент для определения числа солнечных часов на каждый день. Я не знаю, для какой надобности, но это было гениально просто. Над крышей на высоком шесте был установлен литой стеклянный шарик; на некотором расстоянии вокруг него помещена синяя бумажная лента, разграфленная по числу дневных часов. И это все. Солнечные лучи, проходя сквозь стекло, падали на бумагу огненной точкой фокуса и прожигали в ней дырочку, солнце двигалось, шло, проходило положенный ему путь, огненная точка неукоснительно двигалась по синей ленте и оставляла на ней прожженную черту — условную длину безоблачного крымского дня, от восхода до заката; но едва туча закрывала солнце, как стеклянный шарик переставал прожигать ленту, и лента от такого-то до такого-то деления оставалась непрожженной. Профессор вынул из ящика простого, некрашеного соснового стола пачку синих лент — пачку синих, прожженных, прожитых крымских дней — и, похлопав по ним большой умной ладонью, усмехнулся в дикие свои усы.
— Вот они, крымские денечки, — сказал он и стал нежно, как любовные письма, перебирать синие ленты. Иные из них он вынимал из пачки и разглядывал сквозь очки, приговаривая: — А ну-ка, посмотрим, какова была погодка шестого июля? Ни одного облачка — сплошная выгоревшая черта. Зато, прошу взглянуть, десятого августа до половины примерно четвертого было пасмурно, а потом все-таки разгулялась... Разгуля-алась! Вот оно как.
И профессор вдруг начинал содрогаться от добродушного, какого-то родительского смеха. Он неуклюже ходил по своей большой белой лаборатории, показывая барометры, барографы, спиртовые термометры сверхъестественной чувствительности и прочие статьи своего ученого инвентаря.
Пепельный дым дождевой тучи стлался снаружи по гнущимся от ветра стеклам. Рамы дрожали. Воздух ломился в окна и пробовал болты. Степан Васильевич стоял у подоконника и рассматривал ящики со слоистыми образцами почвы; по его суровому лицу, как неотступная мысль, текла тьма надвигающегося вечера. Инженер из Донбасса спросил об искусственном дожде. Профессор сходил в соседнюю комнату и вернулся, любовно неся в руках большую, легчайшую, герметически закупоренную колбу с краном.
— В эту банку, милые товарищи, я сажаю тучи, — сказал он почти весело. — Каким образом? Очень просто. Сначала выкачиваю воздух, затем помещаю банку в туман (который есть не что иное, как туча), открываю кран, и через секунду у меня в плену ровно кубический метр этой самой прекрасной дождевой тучи; тут мы ее, матушку, тащим в лабораторию и начинаем потрошить как лягушку.
И он начал рассказывать нам о тучах, об их природе, о форме и диаметре капель, о влажности, о насыщенности электричеством, о количестве ионов и о многих других не менее интересных вещах. Он говорил о них несколько небрежно, как вежливый хозяин говорит о надоевших, засидевшихся знакомых, он знал всю их не очень таинственную подноготную, он разоблачал их, тактично издевался над ними, он хорошо знал цену их кудрявой внешности, скрывающей пустоватое содержание, пожалуй, даже он пугал их, обещал в один прекрасный день разрядить при помощи наэлектризованного песка, сброшенного с аэроплана, и пустить по ветру искусственным дождем вниз, на сухие мужичьи поля.
Во дворе затараторил автомобиль.
Четыре огня катодного радиоприемника все ярче и ярче, по мере наступления тьмы, пульсировали в дальнем углу лаборатории. Черные молнии диаграмм и барометрических записей окружали профессора, как счастливого Прометея. И лысая голова Ленина, так неожиданно уместная именно в этой белой комнате, застенчиво щурясь, почти высовывалась из простой еловой рамы, с любопытством и восторгом наблюдая и пытливо оценивая делающуюся здесь работу.
Мы вышли во мглу. Автомобиль с зажженными фонарями тронулся на тормозах вниз. Помощник шофера почти лежал на подножке, вглядываясь в дорогу. Жидкий свет ацетилена, едва пробиваясь сквозь молочную, безвыходную тьму, круто спускался по обрывистому кустарнику, ведя за собой, как на поводу, машину. Было темно и холодно. Но чем ниже, тем становилось светлее и мягче. Туман и ветер уходили вверх: они уже едва касались наших шляп. Крым, лежащий глубоко внизу, прояснился вдруг, как смуглый персик, бережно освобожденный из шелковистой бумаги. Вечернее море занимало полмира; лимонная луна широко, но еще слабо золотила его васильковое поле. Райская теплота земли, полная запахов трав и деревьев, — голубая теплота остывающих мысов подымалась вместе с уровнем моря по сказочно растущим стволам неузнаваемого леса, она обступала сухой паутиной папоротника, зажигалась электрическими каплями светляков; ее проносили мимо нас на войлочных шляпах экскурсанты, идущие с молодыми песнями в гору, чтобы с вершины Ай-Петри увидеть восход солнца, о ней гремел невидимый в чаще поток, ее славили стеклянным бульканьем перепела.
В Ливадии часто и чисто били в колокола к ужину. Уже была синяя ночь. Триста ювелирных огней Ялты, высверленные в подошве горы, горели перед ними, и столько же огней отражалось в море, плюс тридцать изумрудных и рубиновых сигналов турецких фелюг, плюс семь великолепных вздвоенных огней входящего в порт парохода «Ленин», из которых два топаза были топовые, плюс фотографически-красное окошечко мигающего маяка. Теплая густая пыль висела на черных кипарисах вокруг кинофабрики, охваченной нестерпимыми прожекторами ночной съемки.
Стало почти жарко. Степан Васильевич распахнул пальто. Я увидел на его груди два ордена Красного Знамени. Он наклонился ко мне. Его лицо было все еще замкнуто. Мы катили вдоль моря. По набережной шла тесная толпа. В тирах вспыхивали синие язычки монтекристо и рушились мишени. Разноцветные сиропы, воспламеняя жажду, горели в распахнутых буфетах. Ночные бабочки кружились над грудами прекрасных фруктов в местных магазинах.
— Как вы думаете, — сказал Степан Васильевич, — оттуда в хорошую погоду видать Перекоп? — Он кивнул головой назад.
Я обернулся и не успел ответить. Лицо его вдруг открылось.
— Это профессор выпускает из банки свои тучи, — сказал он.
Темные горы стояли за нами, мерцая зарницами золотых очков. С их хребта сползали тучи. Одна за другой они отрывались, как льдины, и плыли по ясному небу, почти достигая безукоризненной луны. Наконец, они достигли ее и обступили со всех сторон ледовитым океаном.
Перед витриной аптекарского магазина стояли люди, тревожно наблюдая падение барометра.
Угол моря еще был яркого розово-зелено-синего цвета серебряной шоколадной бумаги. По мерцающему его полю длинной тенью прошла моторная лодка. Луна зашла за тучу. Небо стало мраморным... Море померкло. Я посмотрел в лицо Степана Васильевича. Оно было замкнуто и темно, как море.
Машина остановилась.
1927
Актер[45]
У дверей трактирчика стоял длинный автомобиль с погашенными фарами. Из открытых настежь окон слышался хриплый голос певца. Звуки гитары и смех сопровождали каждый куплет. Я вошел и увидел картину, поразившую меня бесподобной своей живописностью. Посредине комнаты пел и представлял человек.
Это не был профессионал, бродячий комедиант и бездельник из породы тех, что, сладко закатив глаза, поют под гитару «Санта Лючия» на палубе неаполитанского пароходика, бегущего по купоросовой воде из Сорренто на Капри, а потом, фатовато играя коралловыми брелоками, обходят иностранцев, собирая в пропотевшую барсалину бумажные лиры. Это был веселый любитель, шофер по профессии, бескорыстный остряк, душа общества, комик-эксцентрик и импровизатор.
Он стоял посредине комнаты с большой гитарой в руках, слегка пьяный, возбужденный в равной степени вермутом и успехом, юмористически подмигивая зрителям. Поверх брюк на нем весьма условно болталась наспех сымпровизированная зеленая юбка. К носу была каким-то образом пристроена винная пробка.
— Смотрите, смотрите, он показывает попа, — закричал мокрый от пота и слез незнакомый человек и, схватив меня за плечо, вдруг затрясся в приступе гомерического смеха. — Смотрите... Мадонна... Можно сойти с ума... смотрите, какая каналья этот поп... Он исповедует хорошенькую синьорину... и у него... смотрите... у него... ха-ха-ха...
Он сделал фривольный жест и, окончательно уже истощив способность смеяться, затопал в бессилии ногами.
За цинковым прилавком бара качался от хохота хозяин. Столы были отодвинуты к стенам.
Зеленая юбка, изображавшая сутану, то и дело падала, и актер стыдливо ее подхватывал. В то же мгновение он ронял пробковый нос. Он подымал к небу лицемерные глаза и гнусавил нечто божественное под хриплый аккомпанемент гитары. Я никогда не видел ничего смешнее и злее.
Поздние посетители с дешевыми соломенными шляпами на затылках валились праздничными галстуками в мокрые клеенки столов. Они колотили, корчась, друг друга в спины загорелыми кулаками, рыдали от смеха, опрокидывая локтями плетенки кьянти: вино текло на пол. Это была самая благодарная аудитория в мире. Некоторых посетителей я узнал. Один из них был каменщик-поденщик, починяющий против нашей виллы шоссе. Ежедневно с шести часов утра и до восьми вечера он сидел в проволочных решетчатых очках, с молотком в руках, в белоснежной пыли над кучкой щебня. Другой был рыбак, застенчивый юноша с нежным лицом и прекрасным голосом.
Даже стены и те, казалось, были мокры от пота и слез, и электрическая лампочка провинциального багрово-оранжевого накала ходуном ходила под потолком, каждую минуту готовая, не выдержав смеха, брызнуть и рассыпаться всеми своими мушиными точками прямо на очаровательную головку молодой матери, дочери трактирщика и доброй католички, конечно, которая сидела, качаясь, на табурете с плетеным сиденьем и плакала от смеха над своим уснувшим ребенком. Потом шофер изображал толстого англичанина, пьяницу и обжору, пожиравшего горы растащюты с помидорами.
Я выбрался на совершенно черное шоссе, под замечательные итальянские созвездия и, улыбаясь, побрел домой. На половине дороги меня нагнал автомобиль.
— Алло! — закричал мне шофер. — Вы не встречали по дороге карабинеров? — и затормозил машину.
— Нет, — сказал я.
— Дурак хозяин, — пробормотал шофер, возясь с рычагами (я узнал его — это был импровизатор). — Дурак хозяин! Всюду ему мерещится полиция... старый осел... А ревидерчи, синьор!
Нестерпимый свет фар полоснул по глазам, вырвал из тьмы зеленые жалюзи чьей-то виллы, макушку пальмы, кусок каменного забора, сплошь поросшего ярчайшими анилиновыми цветами, — всю эту ночную итальянскую бутафорию, — затем упал на шоссе: оно стало меловым. Синенький, пульсирующий электрический огонек вспыхнул над коленями шофера, и автомобиль, обогнув горку щебня, скрылся за поворотом шоссе, словно ушел за кулисы.
Рапалло, 1927
Море[46]
Было не более пяти часов утра. Солнце только что взошло. Поеживаясь от утреннего холода, молодые люди прошли через совершенно пустой, еще синий от ночных теней город и спустились по гранитной лестнице в порт. Голуби на молу клевали кукурузные зерна. На площадке яхт-клуба холодно горела на солнце серебряная шоколадная бумажка. Широкий свежий ветер дул с моря, разводя темно-лиловую зыбь, тронутую резким глянцем. В гавани спали высокие пароходы. На бакенах сидели отяжелевшие от росы чайки. Под эстакадами, за пакгаузами, среди неподвижных вагонов, на путях и стрелках еще гнездилась ночь. Она неподвижно смотрела обессиленными огнями электрических лампочек.
Яхта сонно покачивалась у мола. Канат то натягивался, то опускался, плашмя ложась на воду, и снова подымался, скрипя, и тогда во всю его длину вырастала салатная борода водорослей, с которой стеклярусом сбегали капли. Яхта терлась боком о другую яхту. Мачта качалась с безразличием метронома. Свернутый парус, мокрый от ночного дождя, лежал вдоль палубы, служа грузным противовесом легкой мачтовой верхушки. Вся яхта казалась издали безукоризненным инструментом, скрытый секрет которого обещал чудеса.
Пока молодые люди, пробравшись на яхту по хлюпающим шлюпкам, ставили паруса и травили якорь, море успело трижды измениться. Из темного и неспокойного оно сперва стало вдруг совершенно зеркальным, затем из зеркального превратилось в ультрафиолетовое и, наконец, как бы не выдержав дикой ярости своей поверхности, распалось, раздробилось на множество тонов и оттенков — от шершаво-голубого до малахитового — и закипело под быстро поднимающимся солнцем мириадами пирамидально сыплющихся в воду никелированных гвоздиков.
Опираясь на протянутые ладони друзей, девушки взошли на сырую палубу. Руки их, оголенные до локтей, были покрыты гусиной кожей. Волосы, ловко завязанные цветными платками, выбились на вспыхнувших висках.
— Берегитесь!
Они едва успели присесть на корточки и нагнуться. Тронутый ветром грот грузно перешел на пол-аршина от палубы слева направо, открыв море и закрыв город, где, вспыхивая стеклами, словно делая моментальные снимки при магнии, проскрежетал первый трамвай. Сильно запахло рыбой и смолой. От солнца заломило глаза. Вода, булькая, побежала по борту. Яхт-клуб повернулся, салютуя люками. Медная пушечка возле командорской мачты поплыла назад. Неловко, боком, словно уносимая течением, яхта по тихой воде вышла за волнорез. Тут ее подхватил свежий ветер, она слегка наклонилась. Волнорез, видимый доселе с внутренней своей стороны, стал виден с наружной. На беспорядочно наваленных и позеленевших от тины кессонах сидел, свесив ноги в море, рыбак. Прикрыв глаза от сильного солнца ладонью, он удил бычков.
— Бог помощь! — закричал один из молодых людей.
Рыбак замахал рукой, но ветер не донес его ответа: ветер дул в другую сторону. Совсем близко возник толстый белый бок маяка с колоколом и лестничкой, незаметными издали. Кобальтовые крупные волны прыгали у его подножья. Яхта нырнула, накренилась туже и пошла шибче. Воздух открытого моря окатил мельчайшими брызгами, почти дунул туманом.
Благословенная минута Для истинного моряка! Свежеет бриз, и яхта круто Обходит конус маяка. Захватывает дух от крена, Шумит от ветра в голове, И жемчугами льется пена По маслянистой синеве...Яхта вышла в открытое море и взяла курс вдоль берега на юго-восток. Город и порт уплывали из глаз. Приближался полдень и вместе с ним — штиль. Парус сделался вялым. Одна из девушек опустила руку в воду. Вода была тепла. Она еле-еле бежала сквозь растопыренные пальцы парными упругими струями. Море блаженно испарялось. Стеклянный воздух колебался вдали, искажая горизонт. Морило от зноя. Молодые люди развернули просаленные пакеты и разложили на горячих досках палубы еду, купленную накануне в гастрономическом магазине. Вода во фляжках была тепла и пахла дубом. Шкурка от колбасы, брошенная за борт, закачалась на волне, но почти не поплыла назад, и все долго смотрели, как она тонула, переходя из одного водяного пласта в другой, меняя окраску, пока, наконец, не пропала в зеленой пучине, куда отвесно сверху вниз уходили мутные снопы света, между тем как рябое отражение моря во всех подробностях своей зеркальной фактуры текло снизу вверх по сморщенному экрану заштилевшего паруса. Налетела чайка и почти из рук вырвала кривым, как пинцет, клювом кусочек хлеба. Коралловые лапки на мгновение повисли над палубой. Птица пропала. Через минуту в отдалении раздался ее печальный крик. В бинокль был хорошо виден песчаный берег, засмоленные днища шаланд, сети, развешанные для просушки на составленных в козлы веслах, черные тела купальщиков, зонтики. Красная сланцевая глина берега недвижно отражалась в воде. Несколько яхт, вышедших вслед за «Чайкой» из порта, маялись на горизонте, тщетно ловя всеми своими распущенными парусами малейшее дуновение ветра. Штиль стлался белыми тропинками по гладкому, как пол, морю.
Тем временем небо на севере, за Пересыпью, сделалось грифельного цвета. Появившиеся во множестве чайки рассыпались на нем белоснежными корнями и литерами бегло решаемой алгебраической задачи. Море позеленело. Солнце подернулось полупрозрачным пухом. С севера потянуло пахучей свежестью поля. Паруса наполнились. Все бросились к штокам и стали их крепить. Девушки поспешили в каюту, где было душно, тесно и пахло кожей, как в башмаке. От Пересыпи к морю быстро шла гроза. Полосы дождя соединили небо и землю, настигая вахту. Ливень сбежал с побережья в море. Гром ударил, как выстрел из пушки. Чугунный шар покатился по мрамору. Шум гулко потряс подводную глубину. Шквал летел за шквалом, кроя зелень моря дробовыми пятнами. Заиграли барашки. Уйти от шквала было невозможно. Буря и дождь с силой ударили в паруса. Яхта неслась, черпая бортом пену. Плохо закрепленный шкот сорвался с утки, и кливер чуть не унесло в море. Он захлопал вокруг мачты. Один из молодых людей пополз по палубе, поймал его угол и, рискуя каждую минуту свалиться за борт, почти повис, поднятый парусом над бушпритом. Пока общими усилиями крепили кливершкот, шквалы, следуя беспрерывно друг за другом, достигли небывалой силы. Треть палубы была под водой. Две трети высоко поднялись ребром над бьющими в киль волнами. Ветер беспрерывно менялся, и яхта, едва успевая за ним менять галсы, неслась, как взмыленный белый конь, вычерчивая во взволнованной сапфировой воде крутые круги и восьмерки. Ялик, страшно натянутый буксиром, мотался за кормой, как скорлупка, почти вырываемый из бешеной пены. Буря продолжалась два часа. За это время яхта сделала узлов четырнадцать вдоль берега. Прочие яхты рассеялись, разбрелись по всему морю, и туманные их паруса возникали то там, то здесь. Дождь прошел. Ветер стал ровней. Небо очистилось. Свернутые тучи темным жгутом легли на горизонте. Солнце зажглось. Крупная, сильная зыбь шла высокими, прозрачными грядами купоросового цвета с медным отливом. Паруса высохли. Девушки вышли из каюты.
Через час яхта, лавируя и обманывая все еще очень сильный ветер, вошла в бухточку и бросила якорь. Тут было очень тихо. Рыбаки возле шалаша варили уху. Убрав паруса, компания переправилась в ялике на берег. Руки, натертые солеными шкотами до мозолей, горели. Спины, незаметно опаленные сквозь тонкие рубашки солнцем, чесались. Приятно было напиться у рыбаков мутного чаю из душистых прибрежных трав, сваренного в котелке; недурно было закурить отсыревшую в кармане коричневую керченскую папироску, потом уснуть под мерный плеск прибоя и, проснувшись, вдруг увидеть море и мир вновь преображенными. Солнце садилось в невидимой с берега степи. Зубчатая тень обрыва уже достигала сиреневой волнистой линии воды — этого тончайшего, точнейшего, как на лучшей лоцманской карте, контура отлично отлитографированного моря. Маленький корабль боком пересекал почти условную границу суши и воды. Молодые люди выкупались. После ливня море было теплым и сладким, как молоко. В нем приятно и легко было плавать. Положив на головы одежду, они достигли яхты вплавь. Сквозь абсолютно прозрачную воду можно было рассмотреть не только длинный и узкий киль яхты, но даже на глубине десяти метров под ним волнистый песок дна, по которому ползали маленькие тени рыбок. Теплый и огнистый июльский вечер сеял над морем розовую свою пыль, и тонкий волос паутины летал в воздухе и льнул к лицу, как в сентябре.
Ввиду штиля некоторое время яхту пришлось вести на буксире. Ночь наступила быстро. Едва первая звезда появилась в зените, равновесие штиля дрогнуло, и воздух широко и плавно нажал на парус. Вскоре все небо было осыпано созвездиями. Иные из них светились так ярко, что отражались в совершенно черном море. Острие мачты чертило пунктир по карте звездного неба. Девушка опустила руку в воду. Из пальцев ее брызнули искры, будто сквозь них пропустили электрический ток. Море фосфорилось. За яликом распускались две мерцающие борозды. Паруса сверху донизу были озарены бледно-голубым пламенем потревоженных инфузорий. Ветер был слаб. Плыть — далеко. Торопиться — некуда. Море разгорелось. Полночь выпускала по всем направлениям из темных своих ульев светящихся пчел-метеоритов. Рука девушки, обтекаемая свеченьем, скользила в воде. Рука одного из молодых людей опустилась рядом с ней в море и вспыхнула. Два фаянсовых лица, почти касаясь друг друга, плыли во тьме, насыщенной фосфором, меж двух отражаемых друг в друге миров...
Коснуться рук твоих не смею, А ты любима и близка. В воде, как золотые змеи, Скользят огни Кассиопеи И проплывают облака. Коснуться берега не смеет, Плеща, полночная волна. Как море, сердце пламенеет, И в сердце — ты отражена.Красный фонарь маяка, поворачиваясь, то вспыхивал, то гас. При его фотографическом свете, медленно-медленно, как негатив в глянцевой ванночке, проявлялась ночь. Сперва парус был светлее неба. Потом небо стало светлее паруса. Море, как вираж-фиксаж, разъедало опущенные в него пальцы. С берега донесся запах петунии и ночной красавицы. Звезды утратили лучистость. Небо отделилось от моря. Море стало темней неба. Яхта обогнула маяк и вошла в порт. Пока убирали паруса и отдавали якорь, началось утро. Стал пробирать холод. Небо на востоке над морем окрасилось в черешневый цвет. Молодые люди, хлюпая по шлюпкам, перебирались на мол. Вещи приобрели утраченные краски. Они были прекрасны. Под ногами еще ходила валкая палуба, голова кружилась, хотелось спать. Яхта сонно покачивалась у мола. Канат со скрипом то ложился плашмя на воду спать, то, как бы одумавшись, подымался. Под воротами пакгауза горела обессиленная ночным свечением лампочка.
1928
Вещи[47]
Жоржик и Шурка вступили в законный брак по страстной взаимной любви в мае месяце. Погода была прекрасная. Торопливо выслушав не слишком длинную поздравительную речь заведующего столом браков, молодые вышли из загса на улицу.
— Теперь куда ж? — спросил долговязый, узкогрудый и смирный Жоржик, искоса взглянув на Шурку.
Она прижалась к нему, большая, красивая, горячая, как печь, щекотнула его ухо веточкой черемухи, вставленной в жидкие волосы, и, страстно раздув нос, шепнула:
— На Сухаревку. Вещи покупать. Куда ж?
— Обзаводиться, стало быть, — глупо улыбаясь, сказал он, поправил на макушке люстриновую кепку с пуговкой, и они пошли.
На Сухаревке гулял пыльный ветер. Прозрачные шарфы тошнотворных анилиновых цветов струились над ларьками в сухом, шелковом воздухе. В музыкальном ряду, перебивая друг друга, порнографическими голосами кричали граммофоны. Кривое солнце ртутно покачивалось в колеблющемся от ветра зеркале. Зловещие ткани и дикой красоты вещи окружили молодых.
На щеках у Шурки выступил разливной румянец. Лоб отсырел. Черемуха выпала из растрепавшихся волос. Глаза стали круглые и пегие. Она схватила Жоржика пылающей рукой за локоть и, закусив толстые потрескавшиеся губы, потащила по рынку.
— Сперва одеяла... — сказала она, задыхаясь, — одеяла сперва...
Оглушенные воплями продавцов, они быстро купили два стеганых, страшно тяжелых, толстых, квадратных одеяла, слишком широких, но недостаточно длинных. Одно — пронзительно-кирпичное, другое — погребально-лиловое.
— Калоши теперь, — пробормотала она, обдавая мужа горячим дыханием. — На красной подкладке... С буквами... Чтобы не сперли...
Они купили калоши. Две пары. На малиновой подкладке. Мужские и дамские. С буквами.
Шуркины глаза подернулись сизой пленкой.
— Полотенце теперь... с петухами... — почти простонала она, кладя голову на плечо мужа.
Кроме полотенца с петухами, были куплены также четыре пододеяльника, будильник, отрез бумазеи, волнистое зеркало, коврик с тигром, два красивых стула, сплошь утыканных гвоздями с медными шляпками, и несколько мотков шерсти.
Хотели еще купить железную кровать с шарами и кое-что другое, но не хватило денег.
Они пришли домой, нагруженные вещами. Жоржик нес стулья, подбородком поддерживая скатанные одеяла. Мокрый чуб налип на побелевший лоб. Испарина покрывала разрисованные тонким румянцем щеки. Под глазами лежали фиолетовые тени. Полуоткрытый рот обнажал нездоровые зубы.
Придя в холодную комнату, он блаженно скинул кепку и трудно закашлялся. Она бросила вещи на его холостую постель, оглядела комнату и, в припадке девичьей стыдливости, легонько хлопнула его своей большой, грубой ладонью меж лопаток.
— Ну, ты, не очень тут у меня кашляй, — притворно сердито крикнула она, — а то, гляди, я из тебя живо чахотку выколочу!.. Определенный факт! — и потерлась тугой щекой об его костлявое плечо.
Вечером пришли гости и был свадебный пир. Гости с уважением осмотрели и потрогали новые вещи, похвалили, чинно выпили две бутылки водки, закусили пирогами, потанцевали под гармонику и вскоре разошлись. Все честь по чести. Даже соседи удивлялись на такую вполне приличную свадьбу, без поножовщины.
По уходе гостей Шурка и Жоржик еще раз полюбовались вещами, затем она аккуратно прикрыла новые стулья газетами, прочее, в том числе и одеяла, уложила в сундук, сверху устроила, буквами вверх, калоши и замкнула на замок.
Среди ночи Шурка проснулась и, мучимая тайными желаниями, разбудила мужа.
— Слышишь, Жоржик... Ну, Жоржик-жа!.. — зашептала она, жарко дыша ему в ключицу. — Проснись! Зря, знаешь, канареечное одеяло не взяли. Канареечное куда интереснее было. Определенный факт. Канареечное надо было брать. И калоши тоже не на той подкладке взяли. Не угадали... На серой подкладке надо было брать. Куда интереснее, как на красной. И кровать с шарами бы... Не рассчитали...
Утром, снарядив и отправив мужа на работу, Шурка, дрожа от нетерпения, побежала в кухню делиться своими брачными впечатлениями с домашними хозяйками. Поговорив для приличия минут пять о слабом здоровье своего супруга, Шурка повела домашних хозяек к себе в комнату, открыла сундук и показала вещи. Вынув одеяла, она со свистом вздохнула:
— Зря все же канареечное не взяли... Не угадали канареечное купить. Эх!.. Не сообразили... И часы с боем... Не сообразили.
И глаза ее стали круглые и пегие.
Все хозяйки очень хвалили вещи, а жена профессора, сердобольная старушка, кроме того, прибавила:
— Все это прекрасно, но только супруг у вас, Шура, весьма нехорошо кашляет. Нам через стену все слышно. Вы бы на это обратили внимание. А то, знаете...
— Ничего, не подохнет, — нарочито грубо огрызнулась Шурка. — А коли подохнет, туда ему и дорога. Нового сыщу.
Но сердце ее вдруг пронизал острый холод.
— Кормить буду. Каклетами. Пускай жрет! — тихо сказала она и страшно надулась.
Супруги насилу дождались следующей получки. Не теряя времени, они отправились на Сухаревку и купили канареечное одеяло. Кроме канареечного одеяла, были приобретены многие другие необходимые в хозяйстве прекрасные вещи: часы с боем, два отреза бобрика, скрипучая тумбочка в стиле модерн для цветов, мужские и дамские калоши на серой подкладке, шесть метров ватина, непревзойденной красоты большая гипсовая собака-копилка, испещренная черными и золотыми кляксами, байковый платок и кованый сундук лягушачьей расцветки с музыкальным замком.
Придя домой, Шурка аккуратно уложила новые вещи в новый сундук. Музыкальный замок сыграл хроматическую гамму.
Ночью она проснулась и, положив жаркую щеку на потный, холодный лоб мужа, тихонько сказала:
— Жоржик! Ты спишь? Перестань дрыхнуть! Жоржик-жа! Слышишь?.. Там было одно голубенькое. Зря не взяли. Интересное одеяло, безусловно. Вроде атласное.
— Не сообразили, — тревожно прошептал Жоржик спросонья.
Как-то в середине лета Шурка пришла на кухню чрезвычайно веселая.
— Мой-то, — сказала она, разжигая примус, — в отпуск уходит. Всем дали по две недели, а ему — как слабогрудому — полтора месяца, не сойти мне с этого места! С компенсацией. Железную кровать с шарами сейчас пойдем покупать. Определенно.
— Я бы вам посоветовала поместить его лучше в хороший санаторий, — многозначительно заметила профессорская старушка, подставляя под кран решето с дымящейся картошкой. — А то, знаете, поздно будет.
— Ровно ничего с ним не произойдет! — нарочито грубо крикнула Шурка, тыкая в стороны булкообразными локтями. — Я ему тут устрою лучше всякой санатории. Нажарю каклет — пускай жрет, сколько хочет!
Но в душе у нее опять похолодело.
К вечеру они привезли с Сухаревой тачку, нагруженную вещами. Шурка шла за тачкой и как зачарованная рассматривала свое воспаленное лицо, круто отраженное в красивых никелевых шарах новой железной кровати. Жоржик, тяжело дыша, едва поспевал за ней, острым подбородком прижимая к груди небесно-голубое одеяло. Изредка он кашлял. По вдавленному его виску ползла темная капля пота.
Ночью она проснулась. Ей не давали спать разные мысли.
— Жоржик, Жоржик-жа, — быстро зашептала она, — там еще одно осталось, бурдовое... Слышь... зря не взяли... Ох, до чего же оно было интересное!.. Все бурдовое-бурдовое, а подкладка не бурдовая, а в розочку. Интересное одеяло...
В последний раз Жоржика видели утром в будний день поздней осенью. Он косолапо шел по нашему переулку, уткнув длинный, прозрачный, как бы парафиновый нос в наставленный воротник потертой кожаной куртки.
Острые колени его выдавались вперед, и широкий клеш мотался вокруг длинных и костлявых ног. Кепочка сидела на затылке. Чуб висел поперек лба, сырой и темный.
Он шел, покачиваясь, осторожно обходя лужу, боясь промочить худые ботинки, и на бледных его губах играла слабая, виноватая, счастливая и какая-то ужасно милая улыбка.
Затем он слег. Приходил участковый врач. Шурка бегала получать из страхкассы пособие. На Сухаревку пришлось идти одной. Она принесла бордовое одеяло и спрятала его в сундук.
Вскоре Жоржику стало хуже. Выпал первый снег, сырой ноябрьский снег. Воздух туманно посинел. Профессорша пошепталась с мужем, и вскоре пришел знакомый доктор. Он осмотрел больного и вышел на кухню мыть руки сулемовым мылом. Шурка стояла заплаканная, вся в чаду, опухшая от слез и жарила на примусе большие черные котлеты с луком.
— Вы с ума сошли! — всплеснула руками профессорша. — Что вы делаете? Вы его убиваете. Разве ему можно есть котлеты, да еще с луком?
— Можно, — сказал доктор сухо, стряхивая в раковину воду с белых своих пальцев.
— Что ему от каклет сделается? — тревожно закричала Шурка, утирая рукавом лицо. — Вот и товарищ доктер подтверждает.
Вечером приходил санитар в ситцевом халате и дезинфицировал общую уборную. В коридоре зловеще запахло карболкой. Ночью Шурка проснулась. Неизъяснимая тоска сосала ей сердце.
— Жоржик! — сказала она нетерпеливым шепотом. — Жоржик! Ну, Жоржик-жа! Проснися! Проснися, я тебе говорю! Жоржик-жа-а-а!..
Жоржик не отвечал. Он был уже совсем холодный. Тогда она спрыгнула на пол и, топая босыми ногами, выбежала в коридор. Был третий час ночи, но в квартире никто не спал. Шурка подбежала к профессорской двери и упала.
— Готов! Готов! — кричала она, холодея от ужаса. — Готов! Истинный бог, готов! Кончился. Жо-о-ор-жы-ы-ык, ой, гражданочка!..
Она стала причитать. Из дверей выглядывали соседи.
Синие зимние звезды, ломаемые морозом, трещали и фосфорились за черными окнами.
Утром кот Мурзик подошел к открытой Шуркиной двери, остановился на пороге, заглянул в комнату, и вдруг вся шерсть его стала дыбом. Он зашипел и попятился назад. А Шурка сидела посреди кухни на прожженном, сальном табурете и, обливаясь слезами, злобно, по-детски обиженно говорила домашним хозяйкам:
— Говорила ему: на, жри каклеты! Не хотел. Вон их сколько осталось! Куды ж мне их теперь девать?.. И на кого же ты меня покинул, нехороший ты какой Жор-жы-ы-ык! От меня ушел, и меня с собою не хотел взять, и каклет моих не хотел жрать... Жор-жы-ы-ык!
И она зарыдала.
Через три дня возле нашего дома остановилась площадка, запряженная серой лошадью в белой сетке.
Парадные двери открыли настежь. Всю квартиру прохватил ледяной, свежий сквозняк. Пахнуло острым духом сосны, и Жоржика унесли.
Когда по Жоржику справляли поминки, Шурка была потрясающе весела. Она, не закусывая, выпила полстакана хлебного вина, раскраснелась, слезы полились по ее упругим щекам, и она, притопнув ногой, закричала с надрывом:
— Эй, кто там! Входи веселиться, кто хошь. Всех пущу, только Жоржика одного не пущу! Не схотел он каклет моих жрать, не схотел...
И она ничком упала на кованый сундук лягушачьей раскраски и стала биться головой о музыкальный его замок.
Потом в квартире стало по-прежнему чинно и прилично. Шурка опять поступила в прислуги. Много мужчин приходило к ней в течение зимы свататься, но она всем отказывала. Она ждала тихого и нежного, а эти все были нахальные и льстились на большое приданое.
К концу зимы она сильно похудела, стала носить черное шерстяное платье и сделалась еще интереснее.
У нас во дворе работал в гараже один шофер — Ваня. Был он тих, нежен и задумчив. Он сох от любви к Шурке. В мае месяце она влюбилась в него тоже.
Погода была прекрасная. Терпеливо выслушав не слишком длинную поздравительную речь заведующего столом браков, молодые вышли из загса на улицу.
— Теперь куда ж? — застенчиво спросил долговязый и смирный Ваня, искоса взглянув на Шурку.
Она прижалась к нему, щекотнула его ухо веточкой одуряющей черемухи, вставленной в жидкие волосы, и, раздув ноздри, шепнула:
— На Сухаревку. Вещи покупать. Куда ж?..
И глаза ее вдруг стали круглые и пегие.
1929
Ребенок[48]
I
На работе у гражданина Книгге Полечка каталась как сыр в масле. Не каждой девушке так повезет. Был Людвиг Яковлевич старый холостяк, зарабатывал порядочно, дома не обедал и жалованье платил аккуратно.
Нанялась к нему Полечка приходящей: убирать комнаты и варить ячменный кофе, — чаю Людвиг Яковлевич не употреблял, — прослужила таким образом месяца два, потом поругалась со старухой, у которой снимала угол на Зацепе, пришла утром вытирать рояль с заплаканными глазами, среди дня нечаянно раскокала блюдце с розочками, еще пуще расстроилась и ночевать домой к подлой старухе вовсе не поехала.
Когда же Людвиг Яковлевич в половине первого ночи возвратился домой, Полечка спала в передней на сундуке, поджав колени. Ее козловые башмаки аккуратно стояли на полу. В них были воткнуты чулки и круглые резиновые подвязки. Людвиг Яковлевич увидел маленькую босую ногу, выглянувшую из-под сползающей шубки, деликатно потушил в передней свет и на цыпочках проследовал в спальню. Он с одышкой разделся, лег в постель и долгое время хрустел пружинами.
У Людвига Яковлевича была большая комната, надвое разгороженная тесовой, оштукатуренной и оклеенной обоями перегородкой, так что собственно комнат было как бы две, хотя и одна. Впрочем, дверей между комнатами не было, а сообщались они между собой отверстием вроде арки, занавешенной ковром пронзительного колорита. Большая комната считалась спальней и кабинетом, меньшая, проходная, была вроде столовой. В эту комнату, на диван, с течением времени Полечка незаметно перебралась с сундука, обжилась помаленьку, приколола даже в углу к обоям две поздравительные открытки: свинью с незабудками и даму на велосипеде, а на зацепскую старуху окончательно наплевала.
К Полечкиному переселению Людвиг Яковлевич отнесся деликатно. Он как бы не заметил его вовсе. А Полечка, переселившись, тотчас завела дружбу с тетей Машей, пожилой татаркой из номера 31-го, которая вполне заменила ей вредную старуху с Зацепы. К ней Полечка бегала по двадцать раз в день, с прочими же прислугами не водилась, на местного дворового красавца, парикмахера Макса (он же Максим Петрович), не обращала ни малейшего внимания, несмотря на всякие его приставания, потому что, прямо надо сказать, была из благородных: ее папа состоял в уездных священниках.
II
С некоторых пор Людвиг Яковлевич, известный доселе своей бережливостью, стал, возвращаясь домой из консерватории, где он преподавал по классу гобоя, захаживать в парикмахерскую. Если же принять в расчет его более чем средний возраст, а также и то обстоятельство, что до сих пор в течение многих лет брился он исключительно дома безопасной бритвой «Жиллет», то этот факт надо отнести к числу знаменательных. Дома так не оборудуешь своей внешности, как в парикмахерской, где над разгоряченной головой клиента плавает восхитительный май, где ножницы, порхая над ухом, щебечут, как ласточки, где брызжет на ресницы теплый и терпкий дождик и пульверизатор в руке парикмахера Макса вдруг распускается на глазах у всех кустом персидской сирени, разжигая сердца сумасшедшим запахом. Короче говоря, из парикмахерской гражданин Книгге выходил помолодевшим лет на десять, так что ему смело можно было дать никак не больше сорока трех.
В хорошем драповом пальто на серой белке, с каракулевым воротником, глухо застегнутый на все пуговицы, мордастый, красный, несколько тучный, в беличьей четвероухой шапке, завязанной на макушке тесемочками, в мелких калошах, замечательно приятно скрипя по молодому снежку, Людвиг Яковлевич, не торопясь, шел, неся и распространяя вокруг себя свежие запахи.
Начисто выскобленный и в меру напудренный его подбородок немецкой складки, сизоватый и раздвоенный, как плод, нежно лежал на шелковом кашне. К верхней пуговице его пальто был привешен галантный пакетик с леденцами.
Покуда он проходил, морщась, через пустой двор, мимо мусорного ящика, где рыжие глухие крысы, большие, как кошки, поедали требуху, выброшенную из колбасной, тетя Маша, увидев его сквозь глазок, продутый в обмерзшем стекле, ворчливо говорила Полечке:
— Твой идет. Леденцы несет. Бежи калоши сымать.
— Ну его вместе с его леденцами! — притворно огрызалась девушка, отворачивалась, пунцовая, к зеркалу и наспех взбивала над маленькими ушами русые кудряшки. Затем, накинув на волосы платок и прикусив, как ягодку, нижнюю губку, кидалась вниз по лестнице с таким видом, точно в доме лопнула водопроводная сеть.
А уж Людвиг Яковлевич, поднявшись на второй этаж, с бисером на турецких бровях, стоял подле двери, оббивая снег с калош, и наотмашь колотил себя перчатками через плечо и по шее, красной и шершавой, как раковая скорлупа.
— Позвольте, Людвиг Яковлевич, я вас обколочу, — чуть дыша с бегу, говорила Полечка и, округлив фиалковые глаза, принимала из рук хозяина футляр с инструментом.
— Мерси, — произносил он с нежной одышкой, — я сам, — и отпирал дверь американским ключиком.
III
Ежедневно повторялось одно и то же. Возвратившись домой, он входил в спальню. Она робко оставалась в столовой, готовая к услугам. Их разделял ковер. Она слышала, как он раздевается, и проворными пальцами напускала на лоб кудряшки. Он подходил к двери, стыдливо пряча за ковром егерские кальсоны, из которых торчал не вполне приличный язычок зефировой сорочки, и просовывал ей штиблеты, покрытые розовым порошком калош. Она протягивала за ними дрогнувшие руки, со стороны можно было подумать, что одновременное прикосновение к штиблетам грозит смертью. Он отдергивал свои волосатые пальцы прежде, чем ее пальчики с остренькими ноготками подхватывали штиблеты. Штиблеты со стуком падали. Он и она произносили «ах». Она хватала штиблеты за шнурки и стремительно уносилась. Дьявольский запах гуталина распространялся в коридоре. Из дверей выглядывал сосед. Сапожная щетка, как черная кошка, трещала, осыпанная гальваническими искрами. Быстро надев домашние панталоны и фуфайку, он выходил в столовую. Окончив чистку скорее, чем это можно было предполагать, она тоже входила в столовую и застигала его врасплох: он торопливо высыпал на блюдечко леденцы. Она и он произносили «ох». Зардевшись, она бросалась, обдавая его гуталиновым ветром, за ковер, в спальню, и там некоторое время вертела в руках штиблеты, стоя не дыша посредине комнаты. Лаковое отражение окошка вертелось вместе со штиблетами в ее руках. Белые локти, летая, отражались в лаковой крышке рояля. Вся комната вертелась вокруг образцово настроенного инструмента, хором всех своих струн повторявшего «ох-ох». Он стоял по ту сторону ковра с мешочком леденцов, полуопрокинутым над блюдцем. Падение леденца могло вызвать землетрясение.
Вечером он брал маленький чемоданчик и клал в карман свежий носовой платок. Привстав на цыпочки, она подавала ему пальто.
— Кушайте, пожалуйста, леденцы, Поля, — произносил он глухим голосом, — не стесняйтесь, — и, не глядя на нее, уходил в театр дирижировать опереткой.
Полечка бежала наверх и, уткнувшись носом в татаркин бок, тихонько визжала, нюхая теплую бумазею, напитанную сытными кухонными запахами.
— Леденцами небось кормил, — ворчала татарка, — смотри!..
Когда Людвиг Яковлевич возвращался, Полечка уже лежала на диване, с головой завернувшись в лоскутное одеяло, похожее на арлекина. Он осторожно проходил мимо, стараясь в темноте не наступить на Полечкины башмаки, и слышал посапывание: девушка притворялась, что спит. Он входил на цыпочках в спальню. Она слушала с замиранием сердца, как он раздевается. Он осторожно ложился в постель и не мог заснуть, вслушиваясь вдыхание прислуги. Тогда он тоже начинал притворяться, что спит. Ему совестно было храпеть, и он выпускал воздух через нос с таким деликатным жужжанием, точно в каждой его волосатой ноздре запуталось по небольшой мухе. Потом оба горестно засыпали.
Утром они неловко избегали друг друга. Он внимательно и томно умывался. Она топила печку, хлопая заслонкой и бросая на паркет дрова. Морозный свет ярко и грозно горел на докрасна вытертых щеках Людвига Яковлевича, в то время как нежное лицо присевшей у печки Полечки было до корней волос охвачено льющимся пламенем лопающейся березы.
IV
Однажды после обеда раздался длинный звонок. Девушка открыла дверь, и в прихожую быстро вошла шикарная дама в выхухолевом пальто.
— Людвиг Яковлевич дома? — спросила она грубым с мороза голосом и быстро зашевелила прижатыми к груди пальцами, силясь освободить небольшую озябшую руку из закрутившегося ремешка сумочки. — Ах, боже мой! (Тут рука выпуталась, рванулась, из-под локтя упали на пол ноты.) Пока сюда доберешься, с ума можно сойти. Я внизу наступила на какую-то кошку, и невозможно дышать. Что, у вас тут соседи на нутряном сале жарят, что ли? Поднимите же, милочка, ноты, вы, кажется, не слепая...
Людвиг Яковлевич сунулся было в прихожую в фуфайке, из-под которой непристойно висели спущенные подтяжки, но, увидев даму, сконфузился и тотчас скрылся, а дама, помахав ему ручкой, достала из сумки рубль и, плаксиво закусив обмерзшие губы, нетерпеливо затопала на Полечку ботами:
— Что же вы стоите, голубушка, как дура? Вы просто какая-то ненормальная! Сбегайте же наконец, отпустите извозчика! Извозчик, кажется, тоже человек.
Хотя Полечка и не привыкла к столь грубому обращению, однако накинула платок и, с достоинством моргнув глазами, пошла отпускать извозчика, а когда воротилась, увидела Людвига Яковлевича в туго застегнутом бархатном пиджаке: он стоял на одном колене, как рыцарь, и, пыхтя, стаскивал с дамочки боты. Затем они удалились в комнаты, а Полечке было сказано не входить, не мешать заниматься, а чтобы сидела в прихожей и сторожила выхухолевое пальто. Полечка села на сундук, под выхухолевое пальто, сгорбилась, потрогала подкладку — крепдешиновая в мелкую розочку, — страшно надулась и показала ботикам, сидевшим на полу, как зайцы, кукиш.
Тут загремел рояль и послышался бессовестный голос дамы, которая, не стесняясь соседей, запела очень громко, с подхлестыванием:
Мужчины все одной породы, Для ни-и-их красотка — перл природы, Всегда, везде они, увы, исполнить рады наш Кап-риз! Таков, таков мужчин, мужчин, мужчин Де-виз...На этом месте музыка вдруг замолкла, и яростный крик Людвига Яковлевича потряс перегородки квартиры:
— Стоп! Ничего подобного! Мы имеем одну октаву выше, вы поете одну октаву ниже. Слюшайте... — И он закричал высочайшим фальцетом, от которого Полечку мороз подрал по коже: — «Таков, таков мужчин, мужчин, мужчин девиз!» Де-виз! Верхнее си — де-виз! А вы поете нижнее ля — де-виз! Где ваш слух? Вам, наверное, медведь наступил на ухо.
— Вы просто какой-то ненормальный! — огрызнулась дама. — Кажется, у меня голос не резиновый.
— Так вам надо служить в прачечной, а не в оперетте. Я не могу для вас переделывать весь клавирцуг на одну октаву ниже.
И начался скандал. Она умоляла переделать. Он клялся, что не допустит надругательства над гармонией. Она грозилась месткомом. Он кричал, что в месткоме сидят сапожники, а не музыканты. Она плакала. Он стучал кулаком по крышке инструмента. Потом раздавались грозные аккорды, и бессовестный голос пел: «Таков, таков мужчин, мужчин, мужчин девиз!..» — «Девиз!» — исступленно ревел Людвиг Яковлевич. А Полечка сидела на сундуке и в ужасе болтала ногами. Впрочем, ничего ужасного не произошло, и через час Людвиг Яковлевич и дама как ни в чем не бывало вышли в прихожую. Только у Людвига Яковлевича усы были чрезмерно взбиты и почти совсем закрывали набитые волосами ноздри, а дама морщила густо напудренный носик, похожий на кукушечье яйцо. Полечка подала ей боты и манто. Дама сунула Людвигу Яковлевичу в усы коренастую ладошку, захватила под мышку сумочку и вдруг, точно в первый раз, увидела Полечку.
— Посмотрите, какую он завел себе курочку, — сказала она и помахала перед носом маэстро перчаткой. — Старый распутник!
— У вас эспри маль турнэ, — пробормотал Людвиг Яковлевич, открывая дверь, — я люблю ее все равно как родную дочь.
— Расскажите вы ей... — пропела дама, подмигивая, и вдруг, сделав грозное лицо, слегка ткнула его нотами под низ живота.
Людвиг Яковлевич крякнул и согнулся пополам. Дама захохотала. Дверь захлопнулась, она исчезла. В прихожей интеллигентно пахло лайковыми перчатками и горькими духами.
— Бой-баба, — заметил Людвиг Яковлевич, не глядя на Полечку, — настоящая примадонна. Вам непременно нужно ее видеть в оперетте.
«Не нуждаюсь!» — подумала Полечка, поджав ротик.
Вскоре после этого Людвиг Яковлевич дал девушке записку, и она отправилась в театр. Администратор прочитал бумажку и поспешно высунул из окошка напомаженную голову с большими розовыми ушами.
— Нет, какова курочка! — сладостно воскликнул он, вытягивая сизые губы. — Ай, маэстро, одобряю, — и загнул Полечке приставное место в четвертом ряду партера.
Крепко сжав в потной руке носовой платок и портмоне, девушка поднялась по мраморной лестнице и вошла в зрительный зал. Шум публики и беглые фиоритуры настраиваемых инструментов стеснили ей дыхание. Смущенная скрипом новых туфель, которые жали ноги, она присела на кончик своего кресла и быстро облизала высохшие губы. Волнистый голос валторны побежал вверх по складкам дрогнувшего занавеса. Полечка ощутила сильную краску на висках и под глазами... И вдруг над оркестром, как черт из волшебной шкатулки, появился Людвиг Яковлевич. Он взмахнул фалдами перед вспыхнувшим пультом и обернулся к залу. Она ахнула. На нем был фрак. Она никогда не видела его во фраке. Его громадная грудь, облитая крахмалом, была развернута, как лира. Высокий крахмальный воротничок подпирал державную голову дирижера. Черные усы были зверски закручены. Лампочки померкли рядом с нечеловеческой красотой Людвига Яковлевича. Он постучал палочкой. Зал погрузился в обморок. Грянул оркестр, и Полечкина судьба решилась.
Когда она вернулась домой, его еще не было. Она, дрожа, разделась и легла в постель. Вскоре пришел он и, как всегда, пройдя к себе в комнату, тоже разделся и лег. Некоторое время они оба, затаив дыхание, прислушивались к движению друг друга. Наконец, влюбленная девушка потеряла всякое терпенье и надежду на предприимчивость своего хозяина. Она довольно громко вздохнула и как бы во сне пробормотала: «Ах, господи, господи!» — «Вы, кажется, что-то сказали, Полечка?» — тотчас произнес он шепотом. Она в ужасе зажмурилась и прикусила уголок наволочки. Несколько минут он вслушивался в тишину, таявшую вокруг его напряженного уха. «Вы, кажется, что-то сказали?» — еще тише повторил он, приподнимаясь на локте. Притворщица жалобно застонала. Тогда он, не в силах больше бороться с желанием и забыв всякую рассудительность, прокрался, натыкаясь на мебель, к дивану, где лежала служанка, и нетвердой рукой провел по одеялу. Девушка снова испустила болезненный вздох. «Что с вами?.. Вам нехорошо?.. Что с вами?» — деревянно бормотал он, присаживаясь к ней на постель, и погладил озябшими пальцами круглое плечо, выпроставшееся из-под одеяла. Плечо было покрыто сорочкой, но сквозь грубую ткань Людвиг Яковлевич почувствовал его сильный и нежный жар. «Ох, боже мой!» — томно, дрожа, простонала готовая на все девушка и положила пылающую щечку на грудь своего возлюбленного. Но тут вдруг старому дураку, который, как видно, основательно отвык от дружбы с молоденькими девушками, пришла в голову дикая мысль, что у Полечки в самом деле сильный жар и что она разговаривает в бреду. Не медля ни минуты, он зажег свет и, постучав в стену, разбудил соседа, прося у него валерьяновых капель. Встревоженный сосед, закутанный в одеяло, тотчас явился с пузырьком в руке и, сонно вздыхая, бросил деликатный взгляд на испуганную, растрепанную Полечку и на Людвига Яковлевича в подштанниках. Затем он многозначительно удалился, напоминая оскорбленного римлянина. Людвиг Яковлевич накапал в стакан валерьянки, и бедной девушке ничего не оставалось делать, как выпить противное лекарство.
— Спите спокойно, дитя мое! — со вздохом сказал Людвиг Яковлевич, удаляясь к себе. — И непременно приобретите калоши, а то схватите крупозное воспаление легких.
Он потушил свет, а Полечка уткнулась носом в подушку и долго плакала злыми слезами, кусая наволочку и отрыгивая валерьянку.
V
Таким образом прошла зима, а дело не подвинулось ни на шаг к обоюдно желанному концу. Но вот в одну прекрасную майскую ночь, возвращаясь навеселе домой с открытия летнего сада, Людвиг Яковлевич внезапно ощутил в себе сильнейший прилив предприимчивости. Сдвинув со лба черную плюшевую шляпу и мысленно рисуя разжигающие воображение картины, он, как кот, подобрался к постели девушки и, страстно кряхтя, опустился подле нее на колени.
— Полечка, вы спите? — нетерпеливо зашептал он и, уронив впотьмах пенсне, протянул руки, чтобы как можно скорее обнять девушку. Однако постель была пуста. «Гуляет с подругами», — печально подумал маэстро и поплелся в свою холостую спальню. Он открыл окно, сел на подоконник и, проклиная прежнюю робость, решил во что бы то ни стало дождаться возвращения девушки. С вокзала долетали страстные гудки переговаривающихся между собой паровиков. Понемногу светало. Наконец, Людвиг Яковлевич клюнул носом, распустил по-стариковски губы и заснул. Между тем дверь, ведущая со двора в парикмахерскую, приоткрылась, и из нее проворно выскользнула Полечка. Она тревожно оглянулась по сторонам, присела на ступеньку рядом со скребком и быстро разулась: ее измучили слишком тесные туфельки. Торопливо поправив волосы, растрепавшиеся вокруг малиновых щек, и подтянув зубами разорванную на груди кофточку, Полечка схватила под мышку туфли и на цыпочках побежала через серый двор, злобно шикая на кошек, блудливо шнырявших под ногами. Она поднялась к тете Маше и, молча сев в уголок на табуретку, принялась зашивать на себе лифчик.
— У, бесстыдница, — заворчала татарка, оглядывая ее распухшие губы и поцарапанный подбородок, — с парикмахером всю ночь трепалась... Смотри...
— Пускай он провалится хоть к черту! — грубо крикнула Полечка, с треском перекусывая нитку, уткнулась головой в плиту и заплакала. — Не нуждаюсь я в этом парикмахере.
С этого дня она совсем отбилась от рук: стала плохо убирать, колотила посуду, огрызалась, днем ходила нечесаная, заплаканная, по ночам пропадала. Как-то среди лета, чистя Людвигу Яковлевичу штиблеты, она почувствовала себя дурно, ее стошнило. Вскоре она потребовала расчет, собрала вещи и, поджав побледневшие губы, съехала неизвестно куда. Людвиг Яковлевич до того огорчился, что перестал умываться и по целым дням ходил, шаркая туфлями, взад и вперед по неубранным комнатам. Дойдет до дивана, посмотрит через пенсне на пустую стену, где еще совсем недавно висели две открытки: дама на велосипеде и свинья с незабудками, постоит, подует в усы и пойдет обратно к роялю, откроет крышку, сыграет несколько тактов из Лунной сонаты Бетховена и снова с недоумением возвращается к дивану.
В доме же по поводу Полечки стали ходить самые разнообразные слухи, о которых Людвиг Яковлевич даже не подозревал. Сводились эти слухи к одному: он принудил прислугу к сожительству, законным образом этого сожительства в загсе не зарегистрировал; она от него забеременела; он ее бессовестно бросил; она теперь где-то такое скрывает свой позор и в конце февраля собирается рожать ребенка, а покуда торгует в Замоскворечье папиросами. Хотя все это были только одни догадки, Людвиг Яковлевич вдруг сделался центром общего внимания и презрения. Едва он появлялся во дворе, как тотчас изо всех окон высовывались зловещие, раскаленные примусами лица домашних хозяек, слышались колкие замечания; озорные дети, бросая игру в «рай», начинали хором петь: «Немец, перец, колбаса, украл девку без хвоста», и нетрезвый водопроводчик, не скидая фуражки, нарочито нахальным голосом кричал:
— Здравия желаю, гражданин свободной профессии! — и подмигивал нянькам глазом, тяжелым, как пломба.
Таким образом прошла осень, и снова наступил зимний сезон.
VI
Тем временем парикмахер Макс сидел в каморке у зловредной старухи на Зацепе и пил чай вприкуску. Он неторопливо дул в большое сизое блюдце, поднятое на трех пальцах до уровня солдатского подбородка, и обстоятельно говорил обидчивым тенором:
— Заходил, значит, я сегодня в консерваторию. Понятно? В консерваторию заходил. Имел там разговор с одним человечком. Да. Получил от него разные справки. От человечка...
— Кушайте, Максим Петрович, — сказала старуха, кланяясь.
— Не перебивайте. Я еще не выпил, — неторопливо заметил парикмахер Макс, глядя перед собой немигающими прозрачными глазами. — Выпью. Понятно? Справки разные получил. От человека. Заходил опять же в театр. В оперетку. Разговаривал там с ихним швейцаром, который при театре. Получил от швейцара справки. Справки получил. Прошу вас, налейте. Теперь что же получается? Считайте. В консерватории сто десять рублей пятьдесят копеек в месяц да в театре сто сорок пять рублей в месяц. Сложите. Сколько выходит? Выходит двести пятьдесят пять рублей пятьдесят копеек. Теперь — третья часть сколько выходит? Делите на три. Восемьдесят пять рублей с копейками.
Парикмахер Макс холодно посмотрел на Полечку, сидевшую против него со сложенными под платком на животе руками, и не спеша повторил высоким голосом:
— С копейками. Ежемесячно. Понятно?
— Бог с вами, Максим Петрович, какие вы глупости несете! — сердито крикнула Полечка, и ее подурневшее лицо стало цвета готовой прорасти картофелины. — Ну вас к черту на самом деле! Разве это ж мысленно получать такие алименты с порядочного гражданина, который, в общем, не виноват?
— По судам его затаскаем! — сказала старуха с извилистым носом.
— Не перебивайте, — вежливо заметил Макс старухе, и на лысоватых его висках, над короткими ушами, выступили голубые жилы. — Не прерывайте. Восемьдесят пять рублей в месяц на земле не валяются. Понятно? Не валяются. И вы, Поля, ничего не можете ко мне иметь, поскольку я вас не оставил на улице, а наоборот, как порядочный человек, на свой счет поддерживаю. Понятно? Поскольку не оставил на улице. И не расстраивайтесь. Можете сказать спасибо. Своего счастья не видит.
VII
Как-то после обеда, в конце апреля, Людвиг Яковлевич услышал шум уличного скандала. Он подошел к окну и увидел Полечку. Она неловко стояла посередине двора, удивительно похорошевшая, свежая, окруженная любопытными, и утирала глаза платочком. У нее на руке лежало нечто завернутое в голубое одеяльце. Старуха с извилистым носом топталась возле Полечки и громко скандалила, обращаясь к окнам, из которых уже густо выглядывали любопытные физиономии.
Невдалеке стояли: нетрезвый водопроводчик, тетя Маша, парикмахер Макс в халате и с оселком в руке, делегатка от домашних работниц союза Нарпит в красной косынке, тот самый сосед, который давал валерьянку, и великое множество всяких иных товарищей и граждан, число коих с каждой минутой увеличивалось.
— Это вы, Полечка? — закричал в сильнейшем волнении Людвиг Яковлевич, торопливо распахнув окно. — Что с вами, дитя мое, кто вас обидел?
Тут все лица, сколько их было, радостно обернулись к Людвигу Яковлевичу, а старуха с извилистым носом даже хлопнула себя от восторга по сборчатым юбкам.
— Вот этот самый, — заголосила она пронзительно, — этот самый кобёл и есть! Полюбуйтесь, граждане, на кобла. Морду какую отъел, скажи на милость! Что же это, гражданин, — как с девушкой заниматься, так на это вы способный, а как своего достигли, так хвостиком прикрылись и до свиданьичка: ступай, мол, на все четыре стороны. И пущай ребеночек с голоду пухнет, а на содержанье платить третью часть — на это вы не способны. Кобёл и есть кобёл. Много вас, таких коблов, развелось нынче...
Не веря своим ушам, Людвиг Яковлевич схватился дрогнувшими руками за подоконник, почувствовал вялость в животе, побагровел и, не слыша за шумом в ушах собственного голоса, крикнул вниз:
— Вы сами кобёл! От кобла слышу...
— А, так ты еще ругаться на старуху способный! Смотрите, граждане, какой кобёл нашелся. А я, может быть, ее родная тетя! Может быть, я за свое двоюродное дитя тебя, кобла, по судам затаскаю!.. Граждане, будьте все свидетелями. Будьте свидетельницей, товарищ делегатка, и вы, гражданин парикмахер, будьте свидетелем, и вы, гражданин, сосед этого кобла.
Публика зашумела. Полечка стояла ни жива ни мертва среди общего скандала с ребенком в руках, а Людвиг Яковлевич с холодной росой под глазами отшатнулся в комнату, слабо прихлопнул за собой окошко, лег, ничего не видя вокруг, на постель и закрыл голову подушкой.
На следующий день ему принесли повестку. Людвиг Яковлевич тотчас надел на скользкий нос пенсне и пошел к тому самому соседу, который давал валерьяновые капли. Прижимая к сильно бьющемуся сердцу повестку, Людвиг Яковлевич обстоятельно изложил соседу суть этого беспримерного дела, воскликнул: «А я ее еще любил все равно как родную дочь!» — и в старомодно-изысканных выражениях пригласил его, как благородного и глубоко интеллигентного человека, быть с его стороны свидетелем. Глубоко интеллигентный сосед, стараясь не глядеть на Людвига Яковлевича, поскреб макушку, накрутил на палец русый чуб и смущенно объяснил, что он уже вызван свидетелем со стороны истца, но будет говорить на суде чистую правду, только то, что он видел.
Людвиг Яковлевич церемонно раскланялся и поехал в театр к председателю месткома. Председатель месткома, тот самый администратор с розовыми ушами, который давал Полечке контрамарку, выслушал с озабоченным лицом маэстро и, когда тот окончил, грустно выпятив нижнюю губу, заметил:
— Попался, который кусался.
— Клянусь честью, — сказал с жаром Людвиг Яковлевич, — я любил ее, как родное дитя.
— Расскажите вы ей, цветы мои... — пропел администратор. — Кто хочет любить, тот должен платить!
Однако он поощрительно погладил маэстро по рукаву и обещал обязательно приехать на суд и дать о нем, в качестве уполномоченного от профсоюза, самую лучшую общественно-политическую характеристику.
Маэстро церемонно раскланялся и, чувствуя, как у него бессильно прыгают щеки, отправился восвояси.
VIII
Ночь перед судом Людвиг Яковлевич провел очень дурно: совсем не спал, а только курил и думал. Думал, впрочем, не о предстоящем позоре, а об одинокой своей жизни, о наступающей старости. Он явился на суд аккуратно подстриженный, выбритый и слегка бледный. Он судился в первый раз в жизни. В поисках зала, где должен был состояться его процесс, он мыкался по заслякоченным лестницам и вымытым карболкой коридорам, натыкаясь в ненастной утренней темноте на дымящиеся урны и на скучных людей.
Едва Людвиг Яковлевич, сняв шляпу, вошел на цыпочках в зал, как тотчас к нему обратилось множество знакомых и незнакомых лиц. Поднялся смутный говор. Женщина-судья цыкнула на публику. Людвиг Яковлевич присел на скамейку. Прямо перед ним торчали каракулевый воротник и русый затылок Макса. Рядом с парикмахером сидел водопроводчик с пластырем на серой шее и тайно ел соленый огурец. Далее виднелись рукавастая кофта зацепской старухи, розовые уши администратора, шевелюра того самого соседа, который давал валерьянку, и косынка делегатки от домашних работниц.
Возле судейского стола, у деревянных перил, стояли стриженный бобриком молодой человек с черными усиками, баба с ребенком на руках и свидетели. Молодой человек то и дело поглядывал на публику и, криво улыбаясь, говорил, вертя ногой в новой калоше:
— Я, конечно, не могу знать, товарищ судья, с кем совокуплялась гражданка Тимофеева. Лично я с гражданкой Тимофеевой не совокуплялся.
— Ах, не совокуплялси! — заголосила баба, быстро утирая нос одеялом ребенка. — Ты со мной не общалси-и? А с кем же ты общалси? Откеда же ребеночек, если ты не общалси-и-и?..
Людвиг Яковлевич в ужасе закрыл глаза и очнулся лишь после того, как с молодого человека присудили пятнадцать рублей в месяц и секретарь суда стал быстро окликать всех вызванных по делу гражданина Книгге.
Услышав свою фамилию, Людвиг Яковлевич произнес чужим голосом: «Есть», подошел к столу и вдруг совсем близко от себя увидел аккуратную Полечкину жакетку. Старуха с извилистым носом хлопотливо подталкивала девушку к решетке, бросая на Людвига Яковлевича грубые взгляды. Из прохода между скамьями надвигались свидетели. Людвиг Яковлевич увидел напряженно сдавленные желтые виски и прозрачные глаза парикмахера Макса.
Судья тряхнула седыми, коротко остриженными волосами, оправила на себе зеленую вязаную кофту, неряшливо осыпанную папиросной золой, мельком взглянула в дело и устремила на Людвига Яковлевича скучный, ничего не выражающий взор.
— Признаете? — спросила она очень утомленно.
— Вот этот самый кобёл и есть, — дробно заговорила старуха, перебивая судью. — Нешто такой признает? Держи карман! Кобёл и есть кобёл. Как с трудящейся девушки надсмеяться — на это они способные, товарищ народная судья, а как давать на содержание ребенка, так на это они неспособные. И соседи все, как один, могут доказать определенный факт, и товарищ делегатка пущай удостоверит...
— Помолчите, а то велю удалить, — поморщилась судья. — Так что же вы можете сказать, гражданин Книгге?
Людвиг Яковлевич посмотрел на Полечку. Она стояла пунцовая от стыда, соблазнительная, заплаканная, — полон рот слез, — опустив голову, и дрожащими пальчиками поправляла соску, вылезшую из маленького кораллового ротика ребенка.
Сердце Людвига Яковлевича дрогнуло.
— Я любил ее все равно как родную дочь, — сняв пенсне, сказал он дрожащим голосом и аккуратно вытер сырую щеку большим чистым носовым платком.
— Помолчите минутку. Это пролетарскому суду знать не интересно. Вы отвечайте на вопрос: признаете или не признаете?
— Признаю, — сказал Людвиг Яковлевич, замирая.
— А раз признаете, зачем же так некрасиво поступили? Довольно стыдно! А еще интеллигентный человек. Разве можно девушку с ребенком на руках выбрасывать на улицу.
— Я ее не выбрасывал, — сказал Людвиг Яковлевич, — я ее всегда любил все равно как родную дочь. И сейчас люблю.
— Помолчите. Вы отвечайте пролетарскому суду прямо: будете содержать ребенка или не будете? Будете с ней жить или не будете?
— Буду, — сказал Людвиг Яковлевич, прикладывая руку к сердцу. — Буду и никогда от этого не отказывался.
Старуха с извилистым носом всплеснула руками и быстро взглянула на парикмахера.
— Так-с. А вы, гражданка? — спросила судья Полечку.
— Я не отказываюсь, — прошептала одними губами девушка, опустив ресницы, отяжеленные крупными каплями слез.
— Я извиняюсь! — хрипло воскликнул парикмахер Макс, и уши его стали мраморными. — Граждане судьи... Я извиняюсь...
— Помолчите! — махнула на него карандашом судья. — Так в чем же дело, я не понимаю, если никто не отказывается?.. Все ясно. Ну, поссорились, ну, помирились. Нельзя в самом деле из-за каждого пустяка в народный суд бегать. Милые бранятся, только тешатся. Помирились, и ладно. И чтоб я вас больше здесь не видела! Анисимов, прекращай дело, оглашай постановление!.. До свиданья! Следующие!
Людвиг Яковлевич нежно и вежливо взял Полечку под руку. Они не торопясь прошли мимо окоченевших свидетелей и вышли из зала.
Через некоторое время к воротам дома, где жил Людвиг Яковлевич, подъехал извозчик. На высоком сиденье пролетки, как на троне, помещались Людвиг Яковлевич и Полечка, с двух сторон поддерживая полосатый матрас, поставленный стоймя.
1929
На полях романа[49]
I
...Человек высокого роста спустил ногу со ступеньки. Вагон стоял в голове. Платформа сильно уехала назад. Дурно зашнурованный башмак не достал до земли. Человек подкинул спиной швейцарский мешок, сказал: «Гоп!» — и прыгнул на землю.
«Как Подколесин», — тотчас подумал он и юмористически хмыкнул.
В детстве, рассматривая сочинения Гоголя, видел картинку: над землей, вдоль окна, висел в воздухе согнутый в три погибели господин в узких клетчатых панталонах со штрипками, с завитым хохолком над гусиной головой. Некто Подколесин. С тех пор, прыгая с высокого, каждый раз обязательно вспоминал Подколесина. Это осталось на всю жизнь.
А жизнь была длинная и непростая.
Огни станции хотя были и далеко, но блестели прямо в глаза и мешали видеть. Он расставил руки и, думая о страшной власти памяти над жизнью, пошел раскорякой сквозь темноту, как сквозь туннель.
Его ждали. Он поравнялся с будкой, заваленной виноградом и арбузами. Фруктовый свет упал на белую бородку и клетчатую от морщин щеку. Его окликнули:
— Товарищ Мусатов?
— Я самый, — ответил он хорошо выработанным басом старого партийного работника. Он остановился, вглядываясь в людей, стоящих за светом. Их было довольно много.
— Черт возьми! — молодцевато воскликнул Мусатов. — Я приехал сюда в некотором роде частным образом, а вы мне такую помпу закатываете! Совершенно зря... Ну, кто из вас товарищ Юхов, признавайтесь?
Юхов выдался плечом из тесной кучки и пожал крупную руку.
— А я вас сразу по портретам признал, — сказал он, разглядывая вциковский флажок на груди гостя. — Долго у нас пробудете?
— Денька два-три.
Подталкиваемый со всех сторон дружескими плечами, хмыкая и разминаясь, Мусатов прошел через вокзал.
— Ну, это вы, положим, бросьте, — бубнил на ходу Юхов и вдруг сразу перешел на «ты», — даже не думай. Раньше недели тебя не выпустим. Арестуем.
— Я лицо неприкосновенное, — нарочно надменно сказал Мусатов в нос, выставляя обширную грудь и раскатываясь на букве «р».
— Ничего! Мы твое имя носим. Что захотим, то с тобой и сделаем. Хоть в Политбюро жалуйся.
Мусатов остановился на лестнице, надел пенсне и косо посмотрел на Юхова.
— Вот как?
Юхов ему понравился.
Вокруг было несколько источников света. Фонарь у вокзала. Два неярких окна в домике напротив. И очень далеко и высоко, над лесами строящегося элеватора — голая звезда пятисотсвечовой лампы. От каждого предмета ложились радиусом несколько теней различной длины и силы. Но всюду присутствовал постоянный, почти незаметный, волшебный свет. Он, как зелье, примешивался ко всему.
— Ладно, — сказал Мусатов, задумчиво поворачивая лицо вверх. — Ладно, Юхов. Ты меня не пугай. Я ворона стреляная.
Все засмеялись.
По местному времени было часов одиннадцать. Маленькая рябая луна стояла в самой середине мраморного неба.
В доме для приезжих Мусатову была приготовлена отдельная комната.
Оставшись один, он поставил на табурет возле кровати керосиновую лампочку.
В подштанниках и пенсне он лег под сыроватое тканьёвое одеяло и с удовольствием взял из мешка загнутую книгу. Свежая и на вид пухлая подушка захрустела под головой и уколола соломой. Страницу «Анны Карениной» закрыл острый угол подушки. Мусатов примял его плечом и стал читать. Без этого он не мог заснуть.
Собственно, он не читал. Читать он перестал давно. Он перечитывал.
У него было несколько любимых книг, заменявших ему всю остальную литературу. Каждую из этих книг он знал, как самого себя.
Он не только следовал за персонажами и присутствовал при событиях. Очень часто — чаще всего — персонажи следовали за ним, а события совершались только с его ведома и согласия. Если же персонажи вдруг выходили из повиновения и события начинали совершаться вопреки его воле, Мусатов тотчас применял самые решительные меры.
Он круто клал большой палец с твердым старческим ногтем на восставшую страницу и прикрывал книгу. Этим он, во-первых, мгновенно пресекал принявшее дурной оборот действие и снимал с себя всякую ответственность за дальнейшее. Во-вторых, он выигрывал время для передышки и освобождал воображение от образов с тем, чтобы на свежую голову спорить с автором.
Спор возникал немедленно.
А большой палец между тем оставался заложником и осведомителем, с двух сторон сжатым непокорными страницами.
С авторами Мусатов был в очень коротких отношениях. Они приходили к нему запросто, как старые сослуживцы, и оставляли в прихожей калоши.
Он относился к ним различно.
Например, Гоголя высоко ставил как мастера, но терпеть не мог как человека. В жизни Гоголь был действительно неприятнейшая личность. Высокопарный, придирчивый, под парик засунуты для теплоты печатные бумажки — не то листы «Жития святых», не то газетные пасквили. В ушах — йодистая вата. Черт знает! Не человек, а чучело человека. Даже непонятно, как он мог с такой наружностью написать «Старосветских помещиков».
Спорил он мерзко. Рта не давал открыть собеседнику. Фыркал, крутил носом, перебивал, касался личностей. Все время прибегал к метафорам и объяснялся витиеватыми словесными ребусами. Кроме того, был ханжа и мистик и грозился чертями и геенной.
Нет, совершенно правильно поступил с ним Белинский. Славно отделал!
В этом отношении Шекспир был куда приятнее Гоголя, хотя по части метафор и ребусов превосходил Николая Васильевича. Особенно в подлиннике, на своем ужасном староанглийском языке. Шекспир охотно соглашался со всеми доводами Мусатова. Он легко шел на уступки. Если Мусатов требовал другого оборота событий, Шекспир тотчас предлагал любое продолжение на выбор. Мусатов выбирал. Возникала новая сцена. Действие развивалось в другом направлении. И вдруг Мусатов, к ужасу своему, замечал, что попался. Хитрый Шекспир незаметно приводил персонажи в то самое положение, из которого их пытался вывести Мусатов.
Мусатов требовал новых перемен. «Как вам будет угодно», — покладисто соглашался Шекспир.
Со щегольством шахматного виртуоза он поворачивал действие, как доску, предлагая меняться цветами. Он отдавал противнику свою почти выигранную партию и брался продолжать почти проигранную Мусатова.
Но сколько бы раз клетчатая доска событий ни поворачивалась, Шекспир всегда в конце концов добивался победы. Король Мусатова был заперт на заранее назначенной клетке.
При звуке труб рок вмешивался в трагедию. Мертвый герой падал в бережно подставленную ладонь.
За давностью событий Мусатов легко мирился с поражением.
И темнобородый Шекспир в белом отложном воротнике со шнурками — бархатный Шекспир чандосского портрета — таинственно, как смерть, выходил в туфлях из комнаты, унося в еловой шкатулке окостеневшие персонажи своих белых и черных фигур, королей, королев, зубчатых башен, офицеров, коней и солдат, перемешанных катастрофой.
II
Больше всего Мусатов любил спорить с Толстым.
Их миры, мир Толстого и мир Мусатова, не были разделены прозрачной, но непроницаемой стеной времени. Они легко смешивались, как две соседние области с разным государственным строем, не имеющие естественных границ.
Очень часто идеи Мусатова преждевременно и слабо рождались в уме толстовских персонажей, а толстовские персонажи, в свою очередь, иногда заходили в местность Мусатова.
Прокурор Катюши Масловой однажды обвинял самого Мусатова и упек его как личность политически неблагонадежную в места весьма отдаленные.
Левин страстно спорил с братом о коммунизме, бился над рационализацией сельского хозяйства, каялся, хотел жениться на крестьянке и делал отчаянные, но бесплодные усилия найти абсолютную правду и изменить жизнь.
А левинские мужики, вышедшие косить по росе, легко могли, заблудившись во времени и пространстве, забрести в район сплошной коллективизации и лихо выкосить обобществленный луг сельскохозяйственной артели имени товарища Мусатова.
Мусатов расходился с Толстым во всем. Но было одно общее: сознание необходимости переделать мир. Впрочем, это сейчас же превращалось в резкое противоречие.
Сердясь и волнуясь, Толстой доказывал, что сначала каждый человек должен переделать себя, а мир вследствие этого переделается сам. Мусатов холодно и непоколебимо настаивал на обратном порядке.
Сначала — мир, потом — человек.
Письмо Юхова пришло в Кремль.
Юхов приглашал Мусатова посмотреть сельскохозяйственную артель, носящую имя Мусатова.
Лично Юхова Мусатов не знал, но много слышал о его замечательной работе. В сущности, если отбросить подробности, Юхов на своем участке переделывал мир. И переделывал здорово.
Мусатов никогда ничему не верил на слово. Надо было съездить и убедиться. Несколько дней он употребил на устройство свободной недели для поездки.
По ночам он воевал с Толстым.
За окном под белой аркой горели газовые фонари.
Борьбу начинал Толстой.
Но сила и опыт были на стороне Мусатова. Толстой говорил, а Мусатов делал.
На этот раз он с особенным удовольствием чувствовал в Толстом великого, но слабого противника.
Осторожно и тщательно снимая с романа один за другим покровы, он сделал открытие, что «Анна Каренина» — роман о землеустройстве и надо быть слепым, чтобы не видеть этого.
Роман жил двойной жизнью. Поверх блестяще написанного салонного жанра с любовным сюжетом выступали суровые контуры социальной драмы.
Менялись цвета. Менялся рисунок. Воображение заселяло знакомую местность разоблаченными дворянами. Воображение сталкивало их, создавало новые события. Обнажалась основа, грубая, как топографическая карта.
Мусатов не мог оставить разоблачений, не доведя их до конца. Надо было ехать. План поездки сложился так: сначала в Харьков, а затем — на юг с пересадками — в юховское хозяйство.
Харьков лежал в стороне, но Мусатов желал хоть часть расстояния сделать воздухом. Из всех возможных путей он всегда выбирал самый новый. Ради этого он решился на крюк. Впрочем, он ничего не терял. Удлиняя дорогу, он сокращал время.
Он заложил страницу письмом Юхова — как бы оставляя во враждебном стане своего человека — и сунул книгу в мешок.
Пассажирский самолет вылетел из Москвы точно по расписанию в четыре часа, на рассвете. В девять часов утра того же дня, пролетев над двумя республиками, самолет опустился в Харькове.
Мусатов летел в первый раз. Полет привел его в восторг, однако не удивил. Удивление — оборотная сторона созерцания, а он никогда не был созерцателем. Техника состояла у него на службе. Переделывая мир, он научился предвидеть. Его воля подчинялась воображению, но это было научное воображение коммуниста, всегда обращенное в будущее. Когда же будущее становилось настоящим, оно восхищало, но уж никак не могло удивить.
У ворот аэропорта стоял часовой. Моросило. Светало. Предъявив билет, Мусатов вскарабкался по лесенке и с любопытством влез в косую дверь самолета. Летчик и бортмеханик сидели высоко впереди, как кучера диккенсовского дилижанса.
Теперь в представлении Мусатова это был Уэтгемпширский луг.
Дрожали ромашки, прижатые воздухом к земле.
Работающий мотор переменил тон. Мир оглох. Зрение тотчас приняло на себя обязанность утраченного слуха.
За окошком поехал туман.
Задрав ноги, Мусатов упал в низкое и глубокое кресло. Был еще какой-то широкий пояс с тяжелой, как телефонная трубка, пряжкой. Его невозможно было застегнуть.
В кабине из восьми мест одно, рядом, оставалось свободным. Мусатов кинул на него мешок. Таким образом, Толстой оказался его ближайшим соседом.
Три нитки воды чиркнули пунктиром по маленькому стеклу. Первая — вертикально. Вторая — наклонно. Третья — горизонтально.
Мусатов рукавом протер окно. Туманный горизонт находился на своем постоянном уровне, но земля оказалась необычайно вместительной. Она вобрала в себя такое количество предметов, что им пришлось невероятно сжаться и резко переменить ракурс для того, чтобы поместиться в заколдованном кругу.
Подробная, хорошо раскрашенная и освещенная солнцем модель Московского района разрослась до пределов рельефной карты области. Она передвигалась на удивление медленно.
Однако уже ехали над Тулой.
Пожалуй, в бинокль можно было бы увидеть розовые столбы Ясной Поляны.
Кстати, о Толстом.
Потеря слуха не могла помешать Мусатову обмениваться с ним мыслями. Читать было трудно. Ночной спор продолжался.
Толстого мучили внутренние противоречия. Его тактика была слишком сложной для прямого и широкого нападения. Он чересчур хитрил и сам путался в своих хитростях.
Самолет падал в ямы. Сердце теряло вес и повисало в воздухе, не поспевая за падающим телом. Оно повисло между небом и землей, как пустое яйцо.
Толстой с силой втискивал маленькие кулачки за ремешок пояса.
Шла борьба за власть между бытием и сознанием. Сознание мерцало, и гасло, и меняло цвета. Бытие стояло вокруг прочной средой пространства и времени, смешанных в полете.
Толстой никак не мог справиться со своими персонажами. В самые решительные минуты они вдруг вырывались из рук и начинали действовать вопреки его намерениям. Они грубо выходили из повиновения, но он, верный своим нравственным правилам, не смел применить к ним насилия.
Мусатов косо улыбался. (Его брови остро топорщились, как креветки.) Улыбаясь, он посматривал в окошко. Самолет набирал высоту. Толстой горячился. Персонажи действовали сами по себе. Это было ужасно. Они вносили замешательство в тщательно приготовленную систему доводов.
Роман, написанный автором в темпе пятидесяти верст в час Николаевской железной дороги, не мог выдержать скорости ста восьмидесяти километров в час пассажирского самолета советской конструкции «К-5», распознавательный знак «250» — линии Укрвоздухпути.
Роман трещал и разъезжался по всем швам.
Между тем в окне, под громоздкой крышей крыла, подпертой балкой фермы, творились замечательные дела. Как бы отражая борьбу непримиримых мировоззрений, русская земля наглядно меняла свое тысячелетнее лицо.
Участки полей устилали переделываемый мир.
Единоличный сектор рябил узенькими полосками рядна, потертым шитьем разрезанных на мелкие части дворянских мундиров, рябил посконными латочками, вставочками, заштопанными дырочками, полосатым ситчиком межей.
Обобществленные поля простирались обширными цельными новыми выкройками черной диагонали вспаханной трактором целины, простирались суровой холстиной жнивья и большими енотовыми воротниками несжатых еще ржей.
Толстой еще только приглядывался к человеку, не зная, с какого бока за него взяться, чтобы устыдить его и уговорить исправиться, а Мусатов уже проворно и хватко кроил землю, и перепуганные толстовские персонажи бегали, как зайцы, по меняющейся земле, вырывались из старческих пальцев и делали совсем не то, что должны были делать по мысли автора.
Теперь, в последние минуты полета, поглядывая в окошко на ландшафт, по которому с механической точностью передвигалась маленькая стрелка — тень самолета, — Мусатов с наслаждением разоблачал подлинный их смысл, не давая измученному тошнотой противнику пощады и передышки.
Уже внизу повертывался плотным скоплением серых кристаллов харьковский Дворец промышленности.
Впервые за четыре часа полета смолк мотор. Удивительнейшая тишина настала в мире.
Незаметно произошло нечто необъяснимое. В правом окошке пропала земля. Ее место заняло опрокинутое небо — громадное пустое пространство, осторожно тронутое ангельской рябью облаков. Оно могущественно притягивало к себе, как круглая поверхность синей планеты. Между тем левое окно сплошь закрыла земля. Она нежно прильнула к нему всеми своими возвращенными подробностями: растянутым кругом бегов, жарко блистающими стеклами длинного автобуса, между прочим — розовым озером химического завода, затем лесами строящихся корпусов, известью, щебнем, заборами, зеленью.
Так, прежде чем перейти от общего к частностям, самолет занесся доской качели, поменял местами землю и небо (вишню и скамейку), сделал круг, выпрямился и пошел на посадку.
III
Остальную часть дороги Мусатов проехал потихонечку в поезде.
Это было не так интересно, но менее утомительно. Праздничное напряжение полета сменилось ленивыми буднями с вагонной грязцой, с кипяточком, с колбасной кожурой на сапоге соседа. Привычные железнодорожные подробности освободили мозг от слишком настойчивых обобщений полета. Всю дорогу Мусатов отдыхал и бездельничал. Казалось, он совсем забыл про неоконченный спор с Толстым. Однако мысль его незаметно продолжала работать, решая интереснейшие вопросы о странном поведении толстовских персонажей.
Возмутительно, например, вел себя Вронский.
Пустой, ограниченный светский офицер, он был помещен в роман не без задней мысли послужить отталкивающим примером животного начала в человеке. Совершенно неожиданно, несмотря на все свои постыдные недостатки, он оказался до такой степени симпатичным и приятным человеком, что даже старый большевик Мусатов и тот при взгляде на него не в силах был удержаться от улыбки удовольствия.
В то же время ищущий социальной справедливости Левин — честный, нравственный, горячий и весьма неглупый персонаж, специально предназначенный в пику Вронскому, — вдруг становился личностью настолько неприятной, что ни о каком ущемлении Вронского и речи не могло быть. Наоборот — от соседства с Левиным Вронский только выигрывал.
В чем же дело?
В былые времена это ставило Мусатова в тупик. Особенно смущал Стива Облонский.
Бездельник, обжора, паразит, либеральничающий бюрократ, белая кость — таких расстреливать надо... И расстреливали, — а поди ж ты! — до чего симпатичен и мил!
Но с течением времени Мусатов начал понемногу проникать в тайну толстовского стиля. Теперь ему казалось, что он постиг его совершенно.
Едва он доехал до места, залез под одеяло и взял к себе книгу, спор загорелся с новой силой. Надо было наконец раз и навсегда разоблачить всякие тайны.
Толстой тотчас вошел, маленький, чистый, в мышиной блузе великолепного материала и обширного покроя, поскрипывая удобными козловыми башмаками на резинках. Он был немного сконфужен.
Мусатов обрушился на него, не дав опомниться. Он сразу прижал его к стенке.
«А ну-ка, Лев Николаевич, постойте. Я, конечно, вас чрезвычайно ценю и уважаю, вы — классик. Мы вас издаем. Но — извините... С вашими персонажами происходит нечто странное. Положительные получаются неприятными, отрицательные — очаровательными, жалко расставаться. И ведь нельзя сказать, чтобы тенденции у вас были слишком худые. Наоборот. Коренную тенденцию вашу я принимаю. Вы, конечно, настаиваете на своей общечеловеческой объективности. Но позвольте вам заметить, что именно эта объективность вас и подкосила.
Вы хотите встать над человечеством, в то время как даже еще не вышли из пределов своего класса. Выйти из пределов класса нельзя, не желая уничтожить этого класса. А уничтожать вы ничего и никого не хотите. Ваше происхождение диктует вам вкусы и мысли, хотя вам кажется это невероятным и невозможным.
Вы желаете быть объективным и начинаете хитрить с самим собой.
Выдумав истину, что над ближним нельзя совершать насилия, вы совершаете насилие над самим собой. Вы берете себя за горло. Вы любите Левина. Левин — это вы. Вам кажется, что Левин — это хорошо. Но вам стыдно быть субъективным и тенденциозным. Тогда вы берете бедного Левина и приписываете ему массу неприятных черт, чтобы сохранить так называемую правду. Вы наделяете Левина пошлой ревностью, наивностью, мелкопоместной грубостью, доморощенной философией. Вы не знаете меры, так как мера это и есть не что иное, как ненавистная вам тенденция. Вы черните Левина до тех пор, пока он не становится тошнотворным. Тогда вам кажется, что вы сохранили объективность и остались беспристрастным.
С Вронским вы поступаете наоборот. Вы его не любите. Он вам органически чужд и враждебен. К Вронскому вы пристрастны. Но вам стыдно своего пристрастия. Вы желаете быть беспристрастным. Вы берете плохого Вронского и наделяете его кучей очаровательных черт, как бы желая загладить свое дурное к нему отношение. Вы украшаете его чудесными сплошными зубами, чистоплотностью, щедростью, добротой. Вы снова теряете чувство меры. Вы ударяете по самым слабым струнам русского сердца. Вронский у вас жертвует семье погибшего сцепщика двести рублей; Вронский отдает свое отцовское имение брату, женатому на дочери революционера; Вронский ради любви отказывается от блестящей придворной карьеры.
Как справедливый отец, вы боитесь обделить нелюбимого сына и пересаливаете.
Вам нужно, чтобы Вронский упал с лошади на скачках. Без этого трудно обойтись роману. Но паденье Вронского может повредить его репутации хорошего наездника и сделать его смешным. Боже сохрани! Вы ни за что не дадите его в обиду. Ваша справедливость не имеет пределов. Тотчас же после падения вы замечаете, что не один Вронский, а больше половины скакавших офицеров свалилось и что сам государь был недоволен скачками. Репутация Вронского спасена.
Вы украшаете Вронского до тех пор, пока он не становится самым симпатичным, самым человечным персонажем романа. Этим вы разрушаете все ваши хитросплетения и попадаете в собственные сети.
Попробуйте, уберите все эти приятные качества Вронского.
Сделайте его скупым, с редкими желтыми зубами, скверным наездником, плохим товарищем. Попробуйте, я вас умоляю!
Вряд ли тогда Анна влюбится в него. И роман погиб.
Ваш роман держится на ложно понятой общечеловечности. Имейте мужество опуститься на классовую точку зрения. Но вы боитесь этого, потому что это приведет всю вашу мирную семейную философию к катастрофе. А катастроф, любезный Лев Николаевич, вы боитесь больше всего на свете.
Нам с вами не по пути, хотя мы вас и глубоко уважаем и издаем в Госиздате. Мы люди дела. Прощайте».
Толстой вынул большой свежий носовой платок, заботливо положенный еще в середине прошлого века добрейшей Софьей Андреевной в круглый карман его охотничьей блузы, и потер седые брови.
В окно легко ударила горсть редкого дождя.
Мусатов задул лампу и заснул в превосходном настроении.
IV
Несколько дней тут шел дождь. Мусатов привез с собой хорошую погоду.
Холодноватый, прозрачный ветер кропотливо пробирал под сваями синюю воду. Река широко отражала редкие быстрые облака, розовые с одного бока и голубые — с другого.
Переехали мост. Юхов сидел рядом с шофером, повернувшись к Мусатову боком.
Проворный ветер трепал русый чуб, выбившийся из-под козырька кепи. Щеточка давно не стриженных волос лежала на вытертом воротнике худого пальто.
Юхов сильно щурился, быстро поглядывал то в степь, то на Мусатова.
Солнце и воздух быстро — почти на глазах — сушили землю. День обещал быть прекрасным. Видимо, это радовало Юхова. Хотя трудно было прочесть радость на его мускулистом, худом, молодом, крепко собранном военном лице, побитом полевым ветром и высушенном соломенным зноем молотьбы.
— Сколько тебе лет, Юхов?
— Тридцать один.
— На империалистической был?
— Не был. До моего года не дошло.
— А в Красной?
Юхов поправил на жилистой шее серый свитер. Он коротко рассказал свою биографию.
Он родился в семье деревенского бедняка. В юности работал в батраках. Кинул деревню. Ушел на завод. Таскал уголь. Потом — гражданская война. Дрался в Красной. Научился грамоте. Вступил в партию. Кончил гражданскую войну командиром. Демобилизовался. Был послан партией в комвуз. Учился там. Прошлой осенью во время «колхозных перегибов» бросил учебу и поехал в деревню.
Он задумчиво посмотрел на Мусатова и усмехнулся.
— Прошлой осенью немного перегнули. Это правда. Теперь закрепляемся.
Этими словами Юхов окончил свой рассказ и, быстро оглядев, будто пощупав глазами, высыхающую степь, хозяйственно прищурился на стеклянное сентябрьское солнце.
Дорога становилась все лучше. Сперва она шла вязкая и песчаная, обсаженная по сторонам мелкорослым ивняком, потом выбилась на твердый, хорошо накатанный грунт, усыпанный колосьями пшеницы, упавшей с возов.
Мусатов молчал. Он вообразил:
Дует ледяной ветер. Хлещет мелкий дождь. Дороги размокли. Ни пройти по ним, ни проехать. Прижатый бабами к плетню, стоит в мокром осеннем пальто с поднятым воротником Юхов. На ботинки его налипла солома и пудовая грязь. Бабы орут. Кончик развязавшегося ботиночного шнурка со сплющенным наконечником вбит ногами в черную, как деготь, почву. Вокруг никого.
Степь. Дождь. Мгла.
— Н-да-с! Перегнули.
Автомобиль круто свернул в сторону. Запрыгал по кочкам.
— А, чтоб вас, черти!..
Две зазевавшиеся бабы чуть-чуть не угодили под машину. Они шли по дороге с базара, не обращая внимания на сигналы. Они держали за концы длинную палку. На палку была надета корзина. Бабы были под хмельком и пели песни. Возникновение машины привело их в состояние столбняка. Потом наступила минута суетливой и бестолковой деятельности. Они суетливо сбежали с середины дороги в разные стороны, но палки не выпускали и долго с воплями тащили ее каждая к себе, преграждая путь шлагбаумом, на котором вертелась корзинка. Из нее сыпалась на дорогу всевозможная бабья чушь и дребедень. Этой бабьей гимнастике не предвиделось конца. Пробурчав себе под нос нечто энергичное, но, к счастью, неразборчивое, шофер круто обогнул юмористическую группу и ловко вывел машину на прямую. И, когда машина была уже далеко, бабы с визгом, враз, как по команде, бросили на дорогу и палку и корзинку и нырнули в кусты, откуда еще долго раздавались весьма нелестные прилагательные по адресу Юхова и Мусатова.
Впереди показались деревья большого хутора. Серебристо-зеленые, туманные, нежно освещенные солнцем, они бросали на пожелтевший, вялый луг ясную, почти розовую утреннюю тень.
— Тут в прошлом году осенью старика убили, — внезапно произнес шофер, показывая потертым локтем кожаной куртки на придорожную канаву, поросшую дерезой. — Кулаки убили. Они в сельсовет метили проскочить. Против них никто выступить не решался. Боялись разоблачать. А старик был бедняк. Не побоялся. И разоблачил. На сходе. Их, конечно, в сельсовет провалили. А старик, не дожидаясь конца схода, домой пошел. Они схватились: где старик? Нет старика. Поехали за ним. И вот тут, у самого хутора, нагнали. Конечно, они его не стали ругать. Наоборот. Мы, говорят, на тебя не сердимся. Пускай. Что, говорят, было, то было. Черт с ним. Заходи до нас в гости, помиримся. Старик зашел к ним. Отчего же? Пускай! Они ему стакан водки наливают. Старик выпил. Они ему сразу другой стакан. Пей! Старик видит, что они просто-таки хотят его споить, и потихонечку, потихонечку выбрался из хаты и пошел по дороге домой. Те вдруг спохватились: где старик? Нет старика. Ну, тут они бросили всякую осторожность. Стали погоню запрягать. Люди видели, как они торопились. Запрягли лошадей и помчались за стариком. А старик, конечно, далеко не смог уйти. Где же ему? Вот тут, на этой самой дороге, они его и настигли. Они с собой топор взяли. Потом суд был. Они даже не скрывались. Дома сидели. Объясняли на суде, что пьяные, ничего не помнят. Плакали, каялись, в ногах валялись. Обоим — высшая мера.
«Эх, Лев Николаевич, Лев Николаевич, это вам не «Хозяин и работник»!»
Мусатов молодцевато, с юмором, выставил грудь.
— Мусатовский... Ишь ты... Во-на!
Машина проехала по тенистым улицам хутора. На палках плетней торчали глиняные головы кувшинов.
— Н-да-с, — произнес Мусатов.
— В этом самом хуторе дело было, — сказал Юхов.
— Колхозный хутор?
— Нет, единоличный. Он к «мусатовскому» не относится. Мы до «мусатовского» еще не доехали. Наши земли подальше.
Он скрывал, но ему было приятно.
Вокруг летело и поворачивалось обширное, оголенное недавней жатвой поле, без единой межи.
V
— Мусатовская земля пошла, — сказал председатель, — обобществленный клин.
Виднелись еще не свезенные копны. Они лежали на ежовой поверхности жнивья золотистыми, слегка почерневшими от непогоды караваями. Кое-где у их подошв изумительным изумрудом горела зелень. Мусатов залюбовался чистотою и яркостью проросшей пшеницы.
Но лицо Юхова вдруг все сошлось тугими мускулами. Он беспокойно задвигался на своем месте. Его прищуренные глаза впились в прельстившую Мусатова зелень с такой остротой и подозрительной ненавистью, точно зелень эта была ядовита.
— А ну-ка, застопори на минутку, — вдруг сказал он шоферу, не в силах более бороться с мыслью, овладевшей им, и с этими словами, не дожидаясь, пока машина остановится, выскочил и побежал по жнивью к копне.
Он ворошил ее ногой, погружал руку в солому, растирал на ладони колос, дул в мякину, подносил зерно к глазам. Он вернулся в машину хмурый, твердый, решительный, но все же успокоенный.
— В чем дело? — спросил шофер. — Гниет?
Юхов с досадой передвинул кепку со лба на затылок.
— Гнить пока не гниет. А все-таки запаздываем с возкой. Запаздываем. Кабы не дожди, давно бы свезли все и обмолотили. Можно ехать.
Кривя большой энергичный рот, Юхов всматривался в даль, где над колючим горизонтом покачивались пышные вороха везомого на волах хлеба.
Обогнали длинный поезд качающихся арб. Мальчик с кнутом вел первую арбу, понукая волов. Пестрые бабы смеялись, показывая с двухэтажной высоты шуршащего пшеничного дома белые зубы и коричневые пятки.
— Медленно возите! — крикнул им Юхов.
Немного подальше бригада человек в сорок убирала свой участок. Передаваемые с вил на вилы слоеные пласты хлеба так и летали над поднятыми вверх руками и над старорежимными казачьими фуражками с линялыми околышами. Поле вокруг было уже совсем опустошено, и сиротливой слюдой блестела на солнце паутина.
— Медленно возите, — пробормотал Юхов про себя и неторопливо передвинул кепку с затылка на лоб. Ему не сиделось на месте. Далеко справа показались длинные скирды. Желтыми дирижаблями лежали они в ряд, друг подле друга. Пыльное облако молотьбы сухо стояло над ними, поднимаясь к небу.
Юхов приложил руку к глазам.
— Дубовские молотят. Заедем?
— Нет, лучше сперва в правление, — сказал Мусатов.
— Как хотите.
Скрывая неудовольствие, Юхов равнодушно поправил на горле свитер.
Скирды приближались. Стал виден синий керосиновый чад двигателя. Маленькие бабы с вилами ходили на верхушке скирды. Тени хлеба, подаваемого в невидимую молотилку, летели по туче половы, пробитой косыми, движущимися балками солнечного света.
Юхов не выдержал напускного равнодушия.
— Может, заедем? Посмотришь, как у нас организован труд. А?
Пропустить случай проверить работу бригады — это было выше его сил.
— Поверни-ка на минуточку, — не дожидаясь согласия Мусатова, шепнул он шоферу и, по своему обыкновению, до остановки поставил сапог на алюминиевую вафлю автомобильной подножки.
Мусатов вылез, кряхтя, вслед за ним. Он с наслаждением разминал ноги. Он поймал Юхова за локоть и, вспоминая ночной спор с Толстым, сказал весело:
— Ах ты, Левин этакий!
Мусатов любил озадачить человека.
Ну-ка? Что скажет?
Юхов засмеялся и махнул рукой.
— Какой там Левин!
Мусатов поднял брови:
— Да ты про какого Левина думаешь?
— Про того самого, что и ты. Про толстовского. Из «Анны...» как ее... «Карениной». Не так ли?
— Э, да ты, я вижу, знаток классической литературы. Толстого читаешь.
— А почему бы и нет? Государственное издательство печатает, а мы покупаем. Очень просто. Только я, брат, не Левин. Ничего похожего. У него что? Шестьсот десятин, не больше. Мелочь. У меня четырнадцать тысяч га твоего имени.
Юхов широко показал головой в степь.
— Вот и посчитай. Хозяйство!
— Да. Одним словом, «Хозяин и работник».
— Точно так, — сказал Юхов. — Он же хозяин, он же и работник.
— Лихо! — засмеялся Мусатов, медленно подталкивая локтем Льва Николаевича...
Навстречу им с записной книжкой в руке бежал парень в ватном пиджаке, подпоясанном ремешком. Под пиджаком виднелась голубая ситцевая рубаха. Мелкая полова белела на его молодых бровях и ресницах.
Это был бригадир...
1930
Сон[50]
Сон есть треть человеческой жизни. Однако наукой до сих пор не установлено, что такое сон. В старом энциклопедическом словаре было написано:
«Относительно ближайшей причины наступления этого состояния можно высказать только предположения».
Я готов был закрыть толстый том, так как больше ничего положительного о сне не нашел. Но в это время я заметил в соседней колонке несколько прелестных строчек, посвященных сну:
«Сон искусством аллегорически изображается в виде человеческой фигуры с крыльями бабочки за плечами и маковым цветком в руке».
Наивная, но прекрасная метафора тронула мое воображение.
Мне хочется рассказать один поразительный случай сна, достойный сохраниться в истории.
Тридцатого июля 1919 года расстроенные части Красной Армии очистили Царицын и начали отступать на север. Отступление это продолжалось сорок пять дней. Единственной боеспособной силой, находившейся в распоряжении командования, был корпус Семена Михайловича Буденного в количестве пяти с половиной тысяч сабель. По сравнению с силами неприятеля количество это казалось ничтожным.
Однако, выполняя боевой приказ, Буденный прикрывал тыл отступающей армии, принимая на себя все удары противника.
Можно сказать, это был один бой, растянувшийся на десятки дней и ночей. Во время коротких передышек нельзя было ни поесть как следует, ни гаснуть, ни умыться, ни расседлать коней.
Лето стояло необычайно знойное. Бои происходили на сравнительно узком пространстве — между Волгой и Доном. Однако бойцы нередко по целым суткам оставались без воды. Боевая обстановка не позволяла отклониться от принятого направления и потерять хотя бы полчаса для того, чтобы отойти на несколько верст к колодцам.
Вода была дороже хлеба. Время — дороже воды.
Однажды, в начале отступления, им пришлось в течение трех суток выдержать двадцать атак.
Двадцать!
В беспрерывных атаках бойцы сорвали голос. Рубясь, они не в состоянии были извлечь из пересохшего горла ни одного звука.
Страшная картина: кавалерийская атака, схватка, рубка, поднятые сабли, исковерканные, облитые грязным потом лица — и ни одного звука...
Вскоре к мукам жажды, немоты, голода и зноя прибавилась еще новая — мука борьбы с непреодолимым сном.
Ординарец, прискакавший в пыли с донесением, свалился с седла и заснул у ног своей лошади.
Атака кончилась.
Бойцы едва держались в седлах. Не было больше никакой возможности бороться со сном.
Наступал вечер.
Сон заводил глаза. Веки были как намагниченные. Глаза закрывались. Сердце, налитое кровью, тяжелой и неподвижной, как ртуть, затихало медленно, и вместе с ним останавливались и вдруг падали отяжелевшие руки, разжимались пальцы, мотались головы, съезжали на лоб фуражки.
Полуобморочная синева летней ночи медленно опускалась на пять с половиной тысяч бойцов, качающихся в седлах, как маятники.
Командиры полков подъехали к Буденному. Они ждали распоряжения.
— Спать всем, — сказал Буденный, нажимая на слово «всем», — приказываю всем отдыхать.
— Товарищ начальник... А как же... А сторожевые охранения? А заставы?
— Всем, всем...
— А кто же?.. Товарищ начальник, а кто же будет...
— Буду я, — сказал Буденный, отворачивая левый рукав и поднося к глазам часы на черном кожаном браслете.
Он мельком взглянул на циферблат, начинавший уже светиться в наступающих сумерках дымным фосфором цифр и стрелок.
— Всем спать, всем, без исключения, всему корпусу, — весело повышая голос, сказал он. — Дается ровно двести сорок минут на отдых.
Он не сказал четыре часа. Четыре часа — это было слишком мало. Он сказал: двести сорок минут. Он дал максимум того, что мог дать в такой обстановке.
— И ни о чем больше не беспокойтесь, — прибавил он. — Я буду охранять бойцов. Лично. На свою ответственность. Двести сорок минут, и ни секунды больше. Сигнал к подъему — стреляю из револьвера.
Он похлопал по ящику маузера, который всегда висел у него на бедре, и осторожно тронул шпорой потемневший от пота бок своего рыжего донского коня Казбека.
Один человек охранял сон целого корпуса. И этот один человек — командир корпуса. Чудовищное нарушение воинского устава. Но другого выхода не было. Один — за всех, и все — за одного. Таков железный закон революции.
Пять с половиной тысяч бойцов, как один, повалились в роскошную траву балки.
У некоторых еще хватило сил расседлать и стреножить коней, после чего они заснули, положив седла под голову.
Остальные упали к ногам нерасседланных лошадей и, не выпуская из рук поводьев, погрузились в сон, похожий на внезапную смерть.
Эта балка, усеянная спящими, имела вид поля битвы, в которой погибли все.
Буденный медленно поехал вокруг лагеря. За ним следовал его ординарец, семнадцатилетний Гриша Ковалев. Этот смуглый мальчишка еле держался в седле; он клевал носом, делая страшные усилия поднять голову, тяжелую, как свинцовая бульба.
Так они ездили вокруг лагеря, круг за кругом, командир корпуса и его ординарец — два бодрствующих среди пяти с половиной тысяч спящих.
В ту пору Семен Михайлович был значительно моложе, чем теперь. Он был сух, скуласт, очень черен, с густыми и длинными усами на почти оранжевом от загара, чернобровом крестьянском лице.
Объезжая лагерь, он иногда, при свете взошедшей луны, узнавал своих бойцов и, узнавая их, усмехался в усы нежной усмешкой отца, наклонившегося над люлькой спящего сына.
Вот Гриша Вальдман, рыжеусый гигант, навзничь упавший в траву, как дуб, пораженный молнией, с седлом под запрокинутой головой и с маузером в пудовом кулаке, разжать который невозможно даже во сне. Его грудь широка и вместительна, как ящик. Она поднята к звездам и ровно подымается и опускается, в такт богатырскому храпу, от которого качается вокруг бурьян. Другая богатырская рука прикрыла теплую землю, — поди попробуй отними у Гриши Вальдмана эту землю!
Вот спит как убитый Иван Беленький, донской казак, с чубом на глазах, и под боком у него не острая казачья шашка, а меч, старинный громадный меч, реквизированный в доме помещика, любителя старинного оружия. Сотни лет висел тот меч без дела на персидском ковре дворянского кабинета. А теперь забрал его себе донской казак Иван Беленький, наточил как следует быть и орудует им в боях против белых. Ни у кого во всем корпусе нет таких длинных и сильных рук, как у Ивана Беленького. И был такой случай. Пошел как-то Иван Беленький в богатый хутор за фуражом для своей лошади. Просит продать сена. Хозяйка говорит:
— Нету. Одна копна только и осталась.
— Да мне немного, — говорит жалобно Иван Беленький, — мне только коняку своего покормить, одну только охапочку.
— Ну что же, — говорит хозяйка, — одну охапочку, пожалуй, возьми.
— Спасибо, хозяйка.
Подошел Иван Беленький, донской казак, к копне сена, да и взял ее всю в одну охапку. Ахнула хозяйка: сроду не видала она таких длинных рук. Однако делать нечего. А Иван Беленький крякнул и понес копну к себе в лагерь. Что с ним по дороге случилось, неизвестно, только вдруг прибегает он без сена в лагерь ни жив ни мертв. Руки трясутся, зуб на зуб не попадает. Ничего сказать не может...
— Что с тобой, Ваня?
— Ох... и не спрашивайте. До того я перепугался... ну его к черту!..
Остолбенели и бойцы: что же это за штука такая, если самый неустрашимый боец Ваня Беленький испугался?..
А он стоит и прийти в себя не может.
— Ну его к черту!.. Напугал меня проклятый дезинтер, чтобы ему сгореть на том свете!
— Да что такое? Кто такой?
— Да говорю ж — дезинтер... Как я взял тое проклятое сено, чтоб оно сгорело, как понес, а оно в середке как затрепыхается... туды его в душу, дезинтер проклятый!
Оказалось, в сене прятался дезертир. Его вместе с копной и понес Иван Беленький. По дороге дезертир затрепыхался в сене, как мышь, выскочил и чуть до смерти не напугал неустрашимого бойца Беленького.
Ну и смеху было!
И опять нежно и мужественно усмехнулся Буденный, осторожно проезжая над головой бойца своего Ивана Беленького, над его острым мечом, зеркально отразившим полную голубую луну.
Шла ночь. Передвигались над головой звездные часы степной ночи. Скоро время будить бойцов.
Вдруг Казбек остановился и поднял уши. Буденный прислушался. Буденный поправил свою защитную фуражку, подпаленную с одного бока огнями походных костров.
По верху балки пробиралось несколько всадников. Одна за другой их тени закрывали луну. Буденный замер. Всадники спустились в лагерь. Ехавший впереди остановил коня и нагнулся к одному из бойцов, который, немного не доспав до положенного срока, уже переобувался перед сумрачно рдеющим костром. У всадника в руке была папироса. Он хотел прикурить.
— Эй, — сказал всадник, — какой станицы? Подай огня!
— А ты кто такой?
— Не видишь?
Всадник наклонил к бойцу плечо. Полковничий погон блеснул при свете луны. Все ясно. Офицерский разъезд наехал впотьмах на красноармейскую стоянку и принял ее за своих. Значит, белые близко. Терять время нечего. Буденный осторожно выехал из темноты и поднял маузер. В предрассветной тишине хлопнул выстрел. Полковник упал. Бойцы вскочили. Офицерский разъезд был схвачен.
— По коням! — закричал Буденный.
Через минуту пять с половиной тысяч бойцов уже были верхом. А еще через минуту вдали в первых лучах степного росистого солнца встала пыль приближавшейся кавалерии белых. Семен Михайлович приказал разворачиваться. Заговорили три батареи четвертого конно-артиллерийского дивизиона. Начался бой.
...Вспоминая об этом эпизоде, Семен Михайлович сказал однажды, задумчиво улыбаясь:
— Да. Пять с половиной тысяч бойцов, как один человек, спали вповалку на земле. Вот стоял храп так храп! Аж бурьян качался от храпу!
Он прищурился на карту, висевшую на стене, и с особенным удовольствием повторил:
— Аж бурьян качался!
Мы сидели в кабинете Буденного в Реввоенсовете. За окном шел деловитый московский снежок.
Я представил себе замечательную картину. Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь. Буденный на своем Казбеке. И за ним, в приступе неодолимого сна, трясется чубатый смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече.
1933
Сюрприз[51]
Театр. Это слово связано с самыми ранними впечатлениями детства. Еще была жива мама. Значит, мне было не больше пяти лет. Но я думаю — года три, четыре.
Отец и мать были «страстные театралы».
Мама укладывала меня спать, уже одетая для театра, в высокой шляпе с орлиным пером и в вуали с черными пушками. На ней были рукава с буфами и длинные, по локоть, лайковые перчатки.
Папа, отгибая фалду до новизны вычищенного сюртука на шелковой подкладке, вкладывал в карман старинное портмоне и вчетверо сложенный, горячо и блестяще выутюженный носовой платок.
Они по очереди целовали меня в голову.
Я знал, что они уходят в театр, то есть в некое таинственное, но праздничное место, где происходит событие, имеющее блистательное название — спектакль.
Слово «спектакль» было из того же таинственного и парадного мира, что и слово «бинокль», эта, в сущности, очень нехитрая и потертая машинка в полужестком стареньком футлярчике с деревянным дном, которую мама опускала в свой муаровый мешочек, обшитый черными блестками, где, я знал, лежат еще другие странные вещи: флакон с «солью», ничего общего не имеющей с солью столовой, и «карандаш» против мигрени, ничего общего не имеющий с тем красно-синим карандашом, которым папа исправлял тетради.
Как уходили папа и мама на спектакль, я уже не видел. Я тотчас засыпал. Последнее, что я замечал, это папу и маму уже в пальто возле ситцевого туалетного столика, перед зеркалом на желтой деревянной подкладке, где мама чистила щеткой лиловую бархатку на воротнике папиного пальто и папину шляпу, черную широкополую шляпу вольнодумца, такую точно, какую лет через тридцать я видел на голове Максима Горького в Неаполе.
Отгороженный от всего мира белой гарусной сеткой своей маленькой кроватки с синей эмалевой иконкой святого Валентина, подвешенной на спинке, я засыпал в сладком нетерпении.
Дело в том, что, возвращаясь из театра, папа и мама всегда приносили мне сюрприз.
Слово «сюрприз» так же связано для меня с театром, как «спектакль» и «бинокль».
Я специально вывешивал на спинку кровати свой длинный шерстяной чулок, и утром в нем каким-то таинственным образом оказывался «сюрприз». Чаще всего это была большая шоколадная бомба в серебряной бумаге, легкий, пустой шар, в котором, собственно, и болтался самый «сюрприз» — колечко или сережка, завернутые в цветную бумажку.
Появление бомбы в чулке производило на меня впечатление чуда. Вечером был чулок: пустой, плоский, совершенно неинтересный чулок. А утром вдруг в нем уже висел большой шар. Я просовывал в чулок руку и извлекал сюрприз.
Как он туда попал? И когда?
Вот только папа и мама собирались уходить, — и бац! — уже утро, они еще спят, а «оно» уже там!
Я прекрасно понимал, что ночью они возвращались из театра и клали сюрприз в чулок.
Но что такое эта таинственная штука — ночь? Вечер — это еще понятно: лампа в столовой, бьют часы, в блюдце сладкого чая совершенно отчетливо отражается, качаясь, яркий абажур, даже шар с дробью над ним, неодолимый сон заводит глаза, и нет никаких сил держать их открытыми, и несут на плече в кроватку, стаскивают башмачки на пуговицах... Но что такое «ночь»? Я никогда ее не видел. Я всегда спал крепко, и ночь для меня проносилась, как секунда. Закрыл глаза и открыл глаза. Вот тебе и ночь прошла!
Сколько раз я старался не спать, дожидаясь того непостижимого мига, когда пустой чулок вдруг наполняется сюрпризом.
Однажды даже проснулся среди ночи. Что же я увидел?
Я увидел пустую, страшную комнату, коричневые букеты обоев и красный желатиновый ночник на ореховом комоде. «Их» не было. Я потрогал чулок. Он был пуст. Я еле дотянулся щечкой до подушки, и тут же настало утро.
Я торопливо вскочил.
«Они» уже лежали в своих кроватях. Они спали. Но мне показалось, что у мамы приоткрыт один — узкий, блестящий, черный, любопытный — глаз. Отец во сне улыбался и даже как будто пофыркивал, сдерживая смех.
В страшном беспокойстве я потянулся к чулку. «Оно» было там. Чудеса! Когда они успели?
Я извлек из чулка большую легкую бомбу и, даже не имея терпения как следует содрать серебряную бумагу, сломал ее. В середине, среди шоколадных обломков, я обнаружил завернутую в бумагу латунную свинку с колечком на спине.
Тотчас я весь измазался мягким театральным шоколадом.
Однажды мама и папа собрались раньше обыкновенного. Я услышал новое слово — «лекция». Они шли на лекцию. Это скудное слово «лекция» сразу же мне не понравилось.
Утром в чулке я не нашел шоколадной бомбы. В чулке болтались два английских галетика. Я их сразу узнал. Это были галетики из нашего буфета.
Отец и мать сконфуженно спали.
Я сделал вид, что очень обрадован галетами, которых терпеть не мог. Я их съел с горьким чувством разочарования, и пресные крошки сыпались в мою теплую постельку.
Но до сих пор я обожаю театр, имеющий для меня теплый вкус шоколада, и ненавижу лекции — пресные и сухие, как старые галеты.
1934
Театр[52]
В первый раз я попал в театр, когда мне было лет восемь. Разумеется, это был дневной спектакль. Почему-то отец выбрал некий дешевый, второразрядный «Новый театр», известный тем, что раз в год обязательно горел, потом долго стоял посередине скучной торговой площади, заброшенный, обугленный, обнесенный временным забором, пока его, наконец, опять не ремонтировали. После каждого ремонта он становился все хуже и беднее. Он имел вид убогий, совсем не театральный, — скорее, какой-то манеж.
Мы пошли однажды серым и холодным утром в этот театр.
Внутри он оказался еще беднее, чем снаружи.
У нас были билеты на галерку, и наши места оказались на деревянных длинных скамьях, где-то совсем сбоку. Сверху я смотрел в полупустой и слабо освещенный газом, полный дневных теней зрительный зал, узкий и глубокий, как ящик. Меня взволновала противоестественная смесь вечернего и дневного освещения. Вечернего — в зале, дневного — в холодном и грязном фойе, из окон которого виднелось серое небо и давно не крашенные крыши.
Спектакль был сборный. Я смутно помню один акт из оперетки «Гейша». Какие-то зеленые кусты, кудряво вырезанные из крашеного картона и симметрично расставленные на обширном неопрятном дощатом полу сцены. В зеленых кулисах, среди ветвей полотняных деревьев, наклеенных на сетки, толпились, прячась от публики, актеры в костюмах и пожарные в касках, мундирах, с топориками в руках.
Была какая-то «фанза». Со сцены, едва только подняли занавес, стало дуть ужасно пыльным, холодным ветром.
Ходили, подняв вверх указательные пальцы, и приседали друг перед другом китайские мандарины с косами, танцевали гейши с длинными шпильками в черных лакированных прическах.
Отец очень беспокоился за мою нравственность и нервно поерзывал в своем вычищенном бензином сюртучке рядом со мной на неудобной боковой лавке. Беспокоился он совершенно напрасно. Я ничего не понимал, да ничего неприличного, вероятно, и не было. Было только холодно, неудобно и скучно.
В следующем отделении показали модный танец «серпантин».
На сцену явилась дама в белых одеждах, с длинными крыльями — продолжением рук.
Сделали темноту и белую женщину стали освещать волшебным фонарем. Она подняла, распустила свои руки-крылья и стала ими двигать. Это была огромная бабочка, волшебно меняющаяся в цвете.
Синий, зеленый, желтый, фиолетовый, алый — все желатиновые цвета волшебного фонаря проходили по трепещущей, веющей материи фосфорических крыльев.
А в темноте на пианино в это время наяривали модный вальс «Дунайские волны».
Но настоящий театр — театр-сюрприз, театр-шоколад — был совсем другой.
Это был знаменитый одесский городской театр. Синяя раковина его крыши издали виднелась в теплом дыму вечернего города, как бы венчая его венцом оперного искусства.
Заранее покупал отец билеты. Чаще всего он покупал их у барышников, то есть у тех странных, в высшей степени таинственных и даже несколько преступных личностей в каракулевых шапочках, надвинутых на неистово сверкающие глаза, которые прогуливались как ни в чем не бывало среди аркад и гранитных скульптур фасада.
Билеты лежали, вчетверо сложенные, в каком-то боковом отделении потертого отцовского портмоне, в том самом заветном отделении, где лежали пожелтелые и на сгибах истлевшие странные бумажки, очень-очень необходимые, — не дай бог потерять, — носившие всеобъемлющее наименование — «квитанции».
Театральные билеты, несомненно, принадлежали к семейству квитанций, — эти тонкие, разноцветные бумажки с купонами, штемпелями и марками ведомства императрицы Марии Федоровны, где был изображен зобатый пеликан, питающий своих птенцов, высунувших алчные клювы из гнезда, знаменующего собой официальную нищету сиротства.
Театр был — совершенно очевидно — выдающимся явлением: к нему имела прямое отношение сама Мария Федоровна. Я готов был представить ее печальную и роскошно одетую, собственноручно наклеивающую свои царственные марки на билеты, которые без этих марок были недействительны.
Ужасное слово — «недействительны».
Это слово страшной угрозой висело над всем непрочным существованием тоненьких, почти прозрачных театральных билетов.
Без марок императрицы они были недействительны. Без контрольных купонов они были недействительны. Без числа, месяца и года они были недействительны. На другой день после спектакля они были тоже недействительны, хотя дирекция и оставляла за собой право заменять в случае болезни исполнителя один спектакль другим.
Дирекция была неумолима. Несомненно, к дирекции имела отношение старая царица.
О, эта поездка в театр!
Туда — на конке; оттуда — на извозчике, который ломил ввиду позднего часа чудовищные деньги — шесть гривен, хотя конец был не очень большой. (Обычные шестьдесят копеек в применении к ночному извозчику превращались в пахнущие кожей и лошадью «шесть гривен».)
В нижнем полукруглом фойе, по стенам, над черными дырочками рожков, трещали на сквозняке маленькие веера газа. Они были желто-красные, с черными основаниями, почему и напоминали лепестки мака.
Впрочем, может быть, газ я видел где-то в другом месте, потому что самый зрительный зал в воспоминаниях моих всегда сиял электричеством.
Мы с папой поднимались по каменной мрачной и холодной до озноба лестнице во второй ярус. Это уже было под крышей.
Зрительный зал являлся перед моими глазами румяными музами и выпуклыми амурами слишком близкого потолка.
Знаменитая золотая люстра, гордость одесского муниципалитета, висела перед нами так близко, что казалось, ее можно потрогать рукой.
Это была опрокинутая романовская корона, окруженная тремя концентрическими нитками матового царственного жемчуга, изливавшего яркий теплый, золотистый бальный свет.
Внизу, на головокружительной глубине, шумело, и шаркало, и разговаривало сотнями голосов то чудесное, вишнево-бархатно-красное, в высшей степени праздничное и парадное, что называлось «партер».
По бокам, загибаясь, шли ярусы; матовые фероньеры электрических ламп, как страусовые яйца, горели во лбу лож. Ложи были, как головы, увенчаны вишневыми бархатными тюрбанами драпри, говорившими моему нежному детскому воображению языком «Тысячи и одной ночи», языком прекрасного Аладдина, натирающего песком волшебную лампу в пещере, заваленной грудами драгоценных камней, крупных, как фрукты.
Но самое прекрасное и самое таинственное это был занавес.
В детстве я никогда не видел театрального занавеса вблизи и прямо перед собой. Он всегда находился где-то внизу и сбоку от меня. Он косо стоял, непостижимо громадный, парчово-золотистой стеной, роскошной картиной в гипсовой золоченой раме театрального портала, где парадной итальянской кистью нежно и благородно была написана прелестная сцена из «Руслана и Людмилы».
Людмила лежит на возвышенье, в беспорядке падают складки девичьей постели, и Руслан, с каштановой бородкой, молодой и прекрасный, в сафьяновых сапожках, поднялся по ступеням и наклонился над спящей красавицей.
Еще мгновение, и Людмила проснется и сядет на своем высоком ложе; кажется, ее глаза начинают открываться.
Но уже собираются музыканты; в оркестре — движенье. Льются хроматические гаммы, дисгармонично фиоритуры настраиваемых инструментов. Все эти звуки как бы поднимаются вверх вдоль яркой картины. Они колышут ее. Дисгармоничный шум оркестра усиливается, доходит до какофонии. Он волнует. Он мучает, заставляет изнемогать от нетерпения. С трудом выдерживают нервы. Становится и холодно и жарко.
Отец вынимает из чехла бинокль, и в его маленьких черных стеклах, как в иллюминаторах, во всех подробностях бусинками лампочек отражается крошечная коронка люстры.
Тогда над оркестром грузно поднимается старый, согбенный, мертвенно-лысый человек во фраке. Прибик! Его фамилия — Прибик. Он стучит тонкой палочкой по пульту. Этот стук — тоже «прибик, прибик». Анархия оркестра умолкает. Диктатор подавил беспорядки звуков.
Жемчужинки зрительного зала гаснут в стеклах бинокля.
Теперь Руслан и Людмила царят над всем миром, бесстыдно озаренные рампой снизу.
И у выходных дверей, у запасных выходов, плотно и тщательно запертых седыми капельдинерами в феодальных ливреях, с аксельбантами и в белых чулках, горят прямоугольники фонарей красного таинственного фотографического света.
В эту минуту сердце леденеет. Этот миг — как обморок, как смерть...
И еще помню театр. Тоже городской. Чествование «героев Чемульпо». 1905 или 1906 год. Концерт. И мы какими-то судьбами в ложе первого яруса. Я — в матросской курточке, аккуратно подстриженный, с чистеньким платочком в кармане.
Много военных, моряков, блеск, бальные платья, голые локти дам, длинные лайковые перчатки, крошечные перламутровые бинокли с золотыми ручками, как лорнеты.
Посредине громадной, со всех сторон открытой сцены, перед румяной раковидной суфлерской будкой стоит высокая худая женщина — дама! — с выставленной вперед грудью, в лиловом платье. Пена шлейфа лежит у ее ног. У нее голые руки, в руках — ноты. Вся она — как русалка в сверкающей чешуе блесток. Прическа валиком, и над прической — диадема, как у царицы.
Это знаменитая исполнительница цыганских романсов г-жа Тамара.
Она нервно поет:
Вчера вас видела во сне И полным счастьем наслаждалась. Ах, если б можно было мне, Я б никогда не просыпалась!(Конечно, «щастиэм» вместо «счастьем» и «манэ» вместо «мне».)
Но — общий восторг, крики «браво», «бис», и подают из оркестра корзины цветов. Г-жа Тамара, сверкая длинными серьгами, наклоняется к цветам и осторожно вынимает из них письма. (Как странно!) Она прикладывает письма к бюсту.
А в антракте с какого-то алебастрового мостика я смотрю вниз, положив подбородок на холодные перильца. Подо мной, по фойе бельэтажа, бежит толпа. На спинах толпы сидят верхом матросы — нижние чины. У них в руках шапки с новенькими черно-оранжевыми георгиевскими лентами. Им, как видно, неудобно, стыдно, страшно. Их подбрасывают в воздух. Они взлетают раскоряками, висят над вздернутыми манжетами, над растопыренными пальцами. Мотаются синие воротники «голанок», вьются ленты. Голые шеи толсты, темны, круглы. Болтаются новенькие Георгиевские крестики четвертой степени. И гром духового оркестра. Матросские головы наголо острижены под машинку, под нуль; они — голубые, как летом у писателя Новикова-Прибоя.
А ведь это были, быть может, те самые матросы, которые через десять — двенадцать лет с наслаждением палили по Зимнему и орудовали в Румчероде.
...А в роскошном и очень дорогом театральном буфете, на стойке с крахмальными салфетками, привязанными к серебряным кольцам, — коробки шоколадных конфет, вазы с апельсинами и грушами, сифоны, тарелки, выложенные крошечными круглыми бутербродами с паюсной икрой, острой и блестящей, как вакса (двадцать копеек штука), бутерброды побольше, с половиной крутого яйца и анчоусом (десять копеек штука), рюмочки водки и в высоких мельхиоровых вазах с султанами крашеного ковыля их раструбов — серебряные шоколадные бомбы с сюрпризами.
И все это — ужасно дорого, недоступно.
Туманно-синие зеркала сверхъестественной вышины. Непонятно, где движется толпа: в глубине зеркал или в глубине фойе. И вкус сельтерской воды с недостаточно сладким сиропом, бьющей в нос и щиплющей: нежный детский язык; вкус углекислого газа, гальванический вкус свинцового сифонного патрона...
1934
Встреча[53]
Однажды летом 1913 года произошло событие, оказавшее влияние на всю мою дальнейшую жизнь. В копеечной газете «Маленькие одесские новости» появилась заметка, приглашавшая всех молодых поэтов пожаловать к шести часам вечера в помещение местного литературно-артистического клуба. Этот клуб попросту назывался «литературка».
Меня охватило сильнейшее волнение.
Я не знал, как мне быть: идти или не идти?
Я писал и даже иногда печатал в местных газетах стихи. Это так. Но каждый ли пишущий и печатающий стихи имеет право называться поэтом?
Мне едва минуло шестнадцать лет. Но что такое шестнадцать лет: детство, отрочество, юность? Имею ли я право называться «молодым»? Может быть, я еще не дорос до этого, а может быть, уже перерос? Неизвестно. И разве есть у нас в городе такое количество молодых поэтов, что их нужно сзывать через газету?
Затем — это загадочное и в высшей степени официальное «пожаловать»?! Рядом с «пожаловать» наименование «молодой поэт» звучало как-то вроде «губернский секретарь» или «помощник присяжного поверенного».
Наконец, с какой целью «пожаловать»?
Но самое главное — учащимся средних учебных заведений было строжайше запрещено посещать какие бы то ни было клубы, в особенности такие «красные», как наша «литературка». В ней, правда, политикой занимались мало, а главным образом играли по ночам в карты и пили удельное вино сотрудники местных прогрессивных изданий и врачи с хорошей практикой, но почему-то «литературка» имела у одесских мещан репутацию рассадника крамолы, а в глазах черносотенного гимназического начальства представлялась по меньшей мере якобинским клубом.
Гимназист шестого класса казенной гимназии тайком подымается по лестнице якобинского клуба!
Попечитель учебного округа, горбатый карлик с золотыми очками на рачьих глазах, действительный статский советник Смольянинов мог сойти с ума от одной этой мысли.
Все же я решился.
Я снял форменный пояс — потрескавшийся ремень с зазубренной в боях мельхиоровой бляхой; я выломал из веточек латунного герба «О. 5 Г.» заглавные буквы своей альма-матер, одесской пятой гимназии; я скрутил в толстую трубу общую тетрадь в зернистом переплете, на котором были выскоблены перочинным ножичком якорь и сердце, пронзенные стрелой.
В эту тетрадь были аккуратно вклеены синдетиконом немногочисленные вырезки бесплатно напечатанных стихотворений и отроческим почерком переписана только что законченная «Зимняя поэма», где размером некрасовского «Рыцаря на час» я почему-то пространно живописал охоту на зайцев, о которой не имел ни малейшего представления и с трудом бы отличил зайца от кролика. Подробности же охоты я заимствовал из хвастливых рассказов некоторых своих гимназических товарищей, грубых сыновей степных новороссийских помещиков.
Я жил на окраине.
Для того чтобы попасть в «литературку», мне пришлось пересечь город, измученный и оглушенный послеобеденным зноем.
Это было последнее довоенное лето, последний зной отрочества, последние краски Одессы — города Дерибаса, Ланжерона, Ришелье.
Над витринами магазинов были опущены полосатые парусиновые тенты. За пыльными стеклами витрин выгорали выставленные напоказ кожаные портмоне, зефировые рубашки, подтяжки, бумажные манжеты — вся та скучная галантерейная заваль, покупатели которой сидели на фонтанах и лиманах по горло в теплом бульоне июльского моря.
В порту визжали тормоза товарных вагонов, сонно стукались тарелки буферов, тоненько посвистывали паровички-»кукушки», лебедки издавали звук — «тирли-тирли-тирли...».
В гавани стояли иностранные пароходы. Бронзовый дюк де Ришелье с бомбой в цоколе простирал античную руку к голубому морю, покрытому светлыми дорожками штиля.
Фруктовые лавки бульвара ломились под тяжестью бананов, ананасов, кокосов. В маленьких бочонках, покрытых брусками сияющего искусственного льда, плотно лежали серые бородавчатые раковины остендских устриц.
Дышали зноем фисташковые пятнистые стволы платанов «Пале-Рояля». Ни души не было под аркадой знаменитого городского театра, окруженного чугунно-синими скульптурами гениев и муз.
В этот невыносимо знойный вечер я прощался со своим отрочеством. В этот вечер — еще не зная этого — я выбрал себе дорогу и уже шел по улицам, как иностранец, удивляясь достопримечательностям и красотам неповторимого города, переставшего быть для меня родным.
Этот вечер остался в моей памяти как цветная открытка за стеклами стереоскопа, как раскрашенный вид, где голубое, безоблачно-глянцевое небо переходит к горизонту в желто-розовые литографические зерна зари, где на углу неподвижно сидит на козлах понурый русский извозчик в слишком синем кафтане и в слишком блестящей клеенчатой шляпе, где спицы дрожек цвета ярчайшей киновари, где чугунно синеет раковинообразный купол городского театра и сверхъестественно зелен газон перед этим театром, великолепный, роскошно выстриженный газон — чудо садоводства, с винно-красными бегониями и прочими декоративными растениями, выложенными в виде герба города и царских вензелей, с купами махровых цветов, расставленных посредине, как бархатная мебель мещанской гостиной, обшитая свекольно-алыми шерстяными и шелковыми кистями, помпонами, бахромой, — и все это в виду лакового моря с яхтой и чайкой и пузырем воздушного шара над горизонтом.
Я поднялся по лестнице, покрытой красной дорожкой. Швейцар в тужурке с галунами посмотрел на мою фуражку с выломленным гербом, на общую тетрадь в руках и пропустил меня.
Я вошел в большую комнату с задернутыми шторами. С улицы доносились знойные звонки трамваев (трамвая еще был для Одессы новинкой: он начал ходить с одиннадцатого года).
Сквозь шерстяные, как бы тлеющие, шторы проникал смуглый свет раскаленных угольев.
В клубной приемной напряженно сидели на мягкой мебели очень молодые люди. Их было человек тридцать. Привыкнув к сумраку, я мог рассмотреть их подробно. Это были юноши школьного возраста, подобно мне, неуклюже скрывающие, что они гимназисты и реалисты. Форменные пуговицы их курточек были обернуты материей, пояса сняты, из фуражек, которые они мяли в крупных руках подростков, выломаны гербы. Впрочем, были и студенты, но совсем молоденькие, первокурсники, хотя уже в белых студенческих кителях, но еще в черных гимназических брюках.
Никто друг с другом не разговаривал. Посматривали друг на друга искоса, с дурно скрытым, ревнивым любопытством тайных соперников, с напускным равнодушием, с чувством мучительной неловкости.
Словом, это было сборище вундеркиндов, потеющих перед запертой дверью славы.
Впрочем, эта дверь была заперта неплотно. Довольно часто она приоткрывалась, и в нее боком входил клубный официант, неся на подносе полбутылки красного вина.
Там находились посвященные. Это они держали в своих руках наши судьбы. Но кто «они» — мы понятия не имели. Лишь тогда, когда дверь приоткрывалась, пропуская красное вино, мы успевали рассмотреть в гранатовом полусвете другой комнаты столик, за которым сидел некто с тускло-продолговатой мордой лошади, в пенсне, и вокруг него несколько прочих.
Время тянулось мучительно долго. Мы изнемогали от нетерпения и неизвестности. Среди нас уже стали рождаться догадки, возникать слухи. Оказалось несколько осведомленных. Шепотом было произнесено слово «Пильский». Этот Петр Пильский, развязный и ловкий одесский фельетонист и законодатель литературных вкусов, собрал нас сюда. Он будет сейчас выслушивать нас и отбирать. Куда «отбирать»? С какой целью? Черт его знает! И раз будут «отбирать» — значит, кого-то отберут, а кого-то не отберут. Это было страшно, как перед экзаменом. Я не мог больше вынести одиночества.
Я вскочил со стула и подошел к окну. На подоконнике сидел юноша в форменной куртке с отрезанными пуговицами.
— Вы гимназист? — спросил я его.
— Я реалист, — мрачно ответил он. — Из реального Жуковского, — и заносчиво шмыгнул носом, как бы показывая, что ему на все решительно наплевать с высокого дерева.
Мне не стоило большого труда определить его «сорт». В то время мы были дьявольски наблюдательны. Сверстники узнавали друг друга, еще не пожав руки и не перейдя на «ты».
Он говорил специальным плебейским, так называемым «жлобским» голосом. Это было небрежное смягчение шипящих, это было «е» вместо «о». Каждое слово произносилось с величайшим отвращением, как бы между двух плевков через плечо. Так говорили уличные мальчишки, заимствующие манеры у биндюжников, матросов и тех великовозрастных бездельников, которыми кишел одесский порт. Это был высший шик в районе Дюковского сада, Молдаванки, Александровского парка.
Некогда в этом Александровском парке, висящем над трубами и мачтами порта, отцы города с педагогической целью ознакомить население с отечественной географией придумали соорудить небольшой пруд в форме Черного моря. В точном соответствии с картой выкопали калошеобразную яму. Подошва определяла Анатолийское побережье, носок — Константинополь, задник — Батум и верхний вырез — Крым. Впрочем, на этом общеобразовательная затея и кончилась. Хрупкий бюджет муниципалитета, подорванный темными махинациями городского головы, не выдержал дальнейших трат. «Черное море» так и осталось на вечные времена необлицованным и сухим. Но она нашла себе применение, эта унылая педагогическая яма. Ее облюбовали для своих буйных развлечений переростки соседних улиц, бесшабашные отпрыски дворников, помощников капитанов, мелких лавочников, акцизных чиновников.
Яма стала клубом приморского района, штабом казаков и разбойников, ареной французской борьбы, пристанищем длинноруких второгодников, колизеем гладиаторов, рубившихся бляхами, игорным притоном, где до самозабвения резались в «тепки на возилки» и в «ушки».
И если сама яма давно уже осыпалась и потеряла малейшее подобие Черного моря, то ее завсегдатаи прочно сохранили за собой прозвище «черноморцев».
Черноморцы!
Это был свободный народ, автономная республика, равноправно входившая в федерацию других одесских мальчишеских республик — новорыбников, отрадников, дюковских, слободских...
Разделенные территориально, эти веселые народы исповедовали единую великую хартию мальчишеских вольностей, что не мешало им вести между собой короткие, но бурные войны, пуская в ход палки, рогатки и камни. Для посвященного невозможно было спутать, например, черноморца с дюковцем.
— Вы — черноморец? — спросил я своего нового знакомого.
— А то нет? — ответил он вопросом на вопрос, что было вполне в характере черноморцев, и буркнул: — А вы отрадник?
— Отрадник. Вы пишете стихи?
— А вы нет?
Знакомство укрепилось. Черноморцы и отрадники в данный момент находились в военном союзе против новорыбников.
Потом, среди прочих соискателей, мы сидели рядом на стульях перед небольшой эстрадой, куда, вызываемые по списку один за другим, выходили молодые поэты и читали свои стихи.
Курьезный парад молодых подражателей, взволнованных, вспотевших, полных то чрезмерного заемного пафоса, то беспредельной грусти, совершенно неоправданной ни летами, ни цветущим состоянием здоровья!
В их петушиных голосах звучало искаженное эхо всей русской поэзии, от Пушкина до Игоря Северянина, с явным преобладанием Апухтина и Надсона.
Мы слушали стихи своих соперников, злорадно переглядываясь, и ядовито хихикали в кулак всякий раз, когда строфа была особенно отвратительна. Мы следили друг за другом исподтишка, как бы взаимно испытывая литературные вкусы, а так как они в большинстве случаев совпадали, то мы внутренне сближались все больше и больше, поощрительно друг другу улыбались и уже чувствовали себя как бы в молчаливом заговоре против всех.
Между тем каждого окончившего читать просили удалиться в соседнюю комнату и запереть за собой дверь.
Тогда Пильский, который не переставая тянул из зеленой рюмки удельное, вздергивал свое лошадиное лицо, интеллигентно взнузданное черной уздечкой пенсне, и не вполне твердым голосом ставил претендента на баллотировку.
О, в какое волнение приходило тогда наше маленькое учредительное собрание! С какой поспешной яростью поднимались испачканные чернилами руки, отвергая кандидата, и с какой нерешительностью и неохотой — принимая!
Томный студент, подручный Пильского, лениво подсчитывал голоса, и после этого сам мэтр произносил свой окончательный приговор.
Дверь отворялась. Крупно глотая слюну и растерянно улыбаясь, входил кандидат, сжимая в потных руках уже бесполезную тетрадь. Он останавливался у стола для того, чтобы услышать свою участь.
Принятому предлагали занять место в президиуме, и он садился на стул, заложив ногу за ногу, с гордостью новоизбранного бессмертного.
Отвергнутый вынужден был, спотыкаясь, слезть с эстрады и возвратиться на свое прежнее место, где ему уже нечего было ждать и не на что надеяться, вкусив всю горечь высокомерных усмешек и ободрительных замечаний.
Вскоре был вызван некий Эдуард Багрицкий.
Я поспешил злорадно фыркнуть, чтобы показать соседу свое отношение к этому безвкусному псевдониму. Я не сомневался в его сочувствии. Каково же было мое удивление, когда он вдруг поднялся с места, засопел, метнул в мою сторону заносчивый, но в то же время как бы извиняющийся взгляд и решительно вспрыгнул на эстраду.
Он согнул руки, положил сжатые кулаки на живот, как борец, показывающий мускулатуру, стал боком, натужился, вскинул голову и, задыхаясь, прорычал:
— «Корсар»!
Он прочел небольшую поэму в духе «Капитанов». В то время я еще не имел понятия о Гумилеве, и вся эта экзотическая бутафория, освещенная бенгальскими огнями молодого темперамента и подлинного таланта, произвела на меня подавляющее впечатление силы и новизны. Он читал превосходно и наизусть. Может быть, он слишком рычал и задыхался. Но я тотчас простил ему и пафос и псевдоним. Во всяком случае, я до сих пор помню некоторые строфы:
Нам с башен рыдали церковные звоны, Для нас поднимали узорчатый флаг, А мы заряжали, смеясь, мушкетоны И воздух чертили ударами шпаг!Казалось, что он действительно наносит с пеной на искривленных губах страшные удары шпагой.
Еще в середине были какие-то
...тихие ритмы, как шелесты роз...И заканчивалось все это так:
Когда погибал знаменитый «Титаник», Тогда твой мираж трепетал в небесах! Летучий голландец! Чарующий странник! Чрез вечность летишь ты на всех парусах!Успех бы так велик, что тут же Эдуарду Багрицкому объявили о принятии, и он, не сходя с эстрады, занял место в президиуме.
Через пять минут рядом с ним сидел и я. Из всех претендентов только мы двое были избавлены от унизительной процедуры и приняты без баллотировки.
Это нас сблизило еще больше.
Я сказал — приняты. Но куда?
Впоследствии это выяснилось. Петр Пильский открыл прекрасный способ зарабатывать деньги. Он выбрал группу «молодых поэтов» и возил нас все лето по увеселительным садам и дачным театрам, по всем этим одесским «ланжеронам», «фонтанам» и «лиманам», где мы, неуклюже переодетые в штатские костюмы с чужого плеча, нараспев читали свои стихи изнемогающим от скуки дачникам.
Сам же Пильский, циничный, пьяный, произносил вступительное слово о нашем творчестве, отчаянно перевирая не только названия наших произведений, но даже фамилии наши. Денег он нам, разумеется, не платил, а выдавал только на трамвай, и то не всегда.
Очень часто нам приходилось возвращаться домой ночью, пешком, при пыльном свете степной луны, вдоль моря, среди хрустального звона сверчков и далекого собачьего лая.
Так началась наша дружба на всю жизнь.
Мы вышли вдвоем из «литературки». На соборной колокольне было одиннадцать. В небе вспыхивала и гасла рубиновая реклама «Какао Кадбури». Под наркотической луной висела гигантская калоша акционерного общества «Треугольник». Одесса горела крашеными разноцветными лампочками «иллюзионов» — так назывались у нас кинематографы, и вся напоминала большой шикарный иллюзион.
Молодые, безвестные, очень одинокие среди фланеров с папиросами «Сальве» в зубах — южных франтов в желтых ботинках и панамах, наполняющих жарким шарканьем подошв улицы центра, — мы долго шлялись по городу, провожая друг друга, и читали, читали стихи, которые казались нам в эту ночь замечательными.
1934—1935
Черный хлеб[54]
По какому-то чрезвычайному случаю закрыли на несколько дней столовую.
Помню знойное лето в Харькове. Знаменитый год поволжского голода и день смерти Блока.
Мы третьи сутки ничего не ели. У нас не было в городе ни родных, ни знакомых, у которых можно было бы, не краснея, попросить кусок хлеба или ложку холодной, пресной каши без масла.
Конечно, нам случалось голодать и раньше. Но так долго — впервые.
Между тем на базарах уже появилось сколько угодно пищи. Но от этого нам было ничуть не легче. Наоборот. Не имея денег, чтобы купить, и вещей, чтобы продать, ослабевшие и почти легкие от голода, мы слонялись по выжженному городу, старательно обходя базар. Нам было бы легче съесть полную столовую ложку сахарного песку пополам с солью, чем пройти по августовскому великолепию украинского рынка, среди пирамид лакированных помидоров, мраморных досок сала, чудовищных пшеничных калачей, низок табачных листьев, распространявших на солнце аромат алжирских фиников.
Мы жили в большой гостинице, превращенной в общежитие. Солнце жгло полотняную штору пустого, гулкого номера, в котором не осталось ни одной вещи, годной для продажи. Не говоря уже о простынях, наволочках, одеялах и даже наперниках, мы умудрились пустить в ход тиковые тюфяки. Мы выпотрошили из них морскую траву, в течение нескольких дней небольшими порциями выбрасывали ее в окно, а оболочки спрятали под рубаху, в припарку, и, благополучно пройдя мимо дежурного коменданта, снесли на базар.
Внизу, возле единственного входа, нас караулил нищий, старик папиросник. Мы брали у него в долг папиросы. Он никогда не напоминал нам о долге. С деликатностью, разрывавшей сердце, он наклонялся к своему фанерному ящику и, делая вид, что не замечает нас, перебирал трясущимися руками самодельные папиросы, сложенные десятками, пятками и тройками и аккуратно перевязанные шпагатиком. Мы старались проходить мимо него как можно незаметней. В конце концов приходить и уходить стало для нас пыткой. Мы старались выбираться из гостиницы на рассвете, а возвращаться в полночь. Но иногда его согнутая тень стояла в вестибюле и в полночь.
В один из этих дней мы до вечера пролежали на выжженной траве городского сада под преждевременно свернувшимися листьями сирени. Как некрасив и беден был этот черствый сад, весь в пыли и каком-то особом мелком соре, при малейшем ветерке летевшем в глаза! Щепотка табаку могла заглушить голод и сделать нас счастливыми, но никто не бросал окурков. Мы теряли сознание.
Однако мы совсем не чувствовали себя нищими.
Понятие «нищета» имеет привкус унижения и безнадежности. Это никак не подходило к нашему здоровью, молодости и общественному положению. Мы были члены профессионального союза, работники ЮгРОСТА, поэты революции, агитаторы. Редкий митинг обходился без нашего выступления, и наши четверостишия были написаны на всех плакатах города.
Чудесное, неповторимое время!
С гордостью и жаром занимали мы ту вакансию, которая сейчас некоторым кажется опасной.
Маленький портрет Блока в черной типографской рамке выгорал на витрине радиотелеграфного агентства. За два дня белый отложной воротник поэта стал желтым. Сухая пыль времени покрыла длинное утомленное лицо с прекрасными курчавыми волосами. Крупные губы, распухшие от жажды, просили пить.
Это была первая мирная смерть. Может быть, поэтому она показалась такой ужасной. Вместе с Блоком уходила часть нашей молодости. В жизни образовалась пустота. Такие пустоты, лишенные звезд, бывают в мировом пространстве. Они называются угольными ямами.
Ночью в открытом окне зияла угольная яма неба. От слабости мы не могли спать. Мы лежали голые, сырые от пота, на горбатых матрасах, прислушиваясь сквозь нежный шум в ушах к звукам и шорохам ночи. Хрустели пружины матрасов. Рассыхаясь, стрелял пустой гардероб. По коридору со звоном прошел кавалерист. И до рассвета голодные сверчки катали и грызли голубую звезду, валявшуюся на подоконнике.
Настало утро, знойное, как полдень. Соседняя церковь трясла всеми своими колоколами, звонками и бубенчиками, как расписная застоявшаяся тройка. Тошнило от этого бесцеремонного праздничного трезвона. Идти было некуда и не для чего. Мы лежали с закрытыми глазами. Уже не хотелось ни есть, ни курить. Ничего не хотелось. После полудня солнце ворвалось в номер. Воздух кипел. Лень было опустить штору. Во двор приходила шарманка. С тошнотворной отдышкой побежали ангельские звуки, извлеченные дрожащей рукой из буковых свистулек. Площадная певица закричала развратным голосом.
Такое положение не могло продолжаться вечно. Однако оно продолжалось. Говорят, что факиры обходятся без пищи по сорок дней. В конце концов это даже становилось смешно. Любопытно, чем все это кончится? А кончилось совсем просто: по коридору пробежали деревянные сандалии, дверь с треском распахнулась, на пороге стоял Арнольд. Он тяжело дышал.
Ах, дорогой Арноша, друг нашей замечательной молодости, неутомимый одесский комсомолец, наш первый политический комиссар и организатор наших устных выступлений! Партия доверила тебе судьбу двух молодых беспартийных поэтов. Партия сказала тебе: береги их, они способные ребята, они нам пригодятся, научи их выступать на митингах и на устных газетах, сделай из них людей.
Ты стал нашим руководителем и другом. Ты доверял нам. Мы не обманули тебя. А ты не обманул партию.
С утра до вечера ты возил нас по заводам, клубам, красноармейским частям, агитпунктам, школам и санаториям. Хриплыми, сорванными голосами читали мы свои стихи. А ты в это время стоял за кулисами, сложив на животе руки, усыпанные желтыми веснушками, и полузакрыв от удовольствия глаза. И если мы имели успех, ты радостно подходил к нам, одобрительно тер нам спины осторожной дружеской рукой и нетерпеливо подталкивал к выходу, чтобы мы не опоздали на следующее выступление. Ты хозяйственно усаживал нас в линейку или автомобиль, а сам всегда вскакивал уже на ходу и мчался стоя, в английской врангелевской фуражке на затылке, потный, рыжий, с потрескавшимися губами, в расстегнутой куртке, под которой виднелась вечная сатиновая рубашка ремесленника, подпоясанная тоненьким ремешком. Таким ты врезался в мою память навсегда. Где ты сейчас, дорогой Арноша? В каком политотделе?.. Помнишь ли ты знойный день в Харькове, когда ты ворвался к нам в номер, крича еще с порога:
— Ребята, скорей! Машина внизу! Три выступления!
Мы тотчас вскочили. В те времена за выступления платили продуктами. Судьба посылала нам оливковую ветвь. Машина рванула. Площадь вывернулась перчаткой. Ветер поднял волосы.
Первое выступление было в красноармейской части. Мы читали в столовой. Только что кончился обед. На столах еще лежали корки и ложки. Наевшиеся мухи сухо жужжали под выгоревшими флажками. Ах, если бы мы приехали часом раньше! Красноармейцы хлопали нам и просили приезжать еще. Начальник клуба сердечно благодарил. Он обещал завтра же выписать нам полный полумесячный красноармейский паек. Мы помчались дальше.
Следующее выступление должно было состояться в богатом железнодорожном доме отдыха. Это было совершенно верное дело. Нигде так сытно не накормят, как у железнодорожников, да еще в доме отдыха, где всегда есть много еды. Однако судьба издевалась над нами. Бедняга Арнольд перепутал день выступления. Нас, оказывается, ждали вчера. В полуциркульной зале прекрасного дворянского загородного особняка, сидя в белом шелковом кресле, вышитом лилиями Бурбонов, седовласый старец, со всех сторон обложенный бутербродами с повидлом и творогом, читал лекцию по истории рынков древнего Леванта. Мы вышли на цыпочках.
Чад автомобильной смеси, которой в то время заправляли машины, был нестерпим. От него можно было упасть в обморок. Укачивало. Тошнило. Мир состоял из ярких до рези предметов, обведенных грубой лиловой краской.
В синем саду коммунальников играл оркестр. Толстые лилии аккуратно торчали из серых, чересчур черных клумб, обставленных изразцами. Теплая сырость вечерней поливки и гипсовые фигуры говорили о близости золотого века. Нарядная молодежь, терпеливо дожидавшаяся наступления темноты и начала кинематографа, охотно выслушала наши произведения. Мы имели успех. Арнольд ласково растирал за кулисами наши горячие спины, похлопывал по плечам и толкал к выходу.
Заходило солнце. Кирпичные стены, окружавшие сад, горели вверху, как свежевыскобленная морковь.
Завклубом, назойливо мелькавший в саду все время, пока мы читали, теперь провалился. Мы подождали его минут двадцать и поплелись к выходу, провожаемые любопытными взглядами девушек и до слез печальными тактами вальса.
На сегодня все было кончено.
— Товарищи, куда же вы? Одну минуточку...
Весьма возможно, что уже начиналась галлюцинация. За нами бежал заведующий клубом, размахивая ведомостью.
— Вам тут причитается... За выступление... Вы меня, ради бога, простите... По два фунта хлеба, по полтора фунта сахара и по восьмушке табаку... Так что вы на меня, ради бога, не обижайтесь, но вам придется пройти со мной в кладовую... Это совсем недалеко...
Мы охотно простили этому милому молодому чудаку в чистенькой толстовочке и аккуратных деревяшках на босу ногу все неполадки его организации. Бодрым шагом шли мы за ним по улицам, до головокружения представляя себе хлеб, который сейчас получим: его вкус, цвет, запах, вес. Он уже лежал у нас в желудке.
Но вот и двор. Лестница вниз. Подвал. Прилавок. Весы. Полки.
— Товарищ Сердюк, будьте такие ласковые, отпустите товарищам артистам, что полагается по ведомости.
Облитая керосином лампочка освещала вышитую рубашку товарища Сердюка, его аккуратно зачесанные височки, небольшие стальные очки, серебряную бородку — все эти незначительные подробности маленького, медлительного аккуратиста-украинца, отбрасывавшего от себя на своды подземелья грандиозную тень заговорщика-революционера.
С медлительностью, приводившей нас в отчаяние, он всесторонне освидетельствовал ведомость, после чего с тяжелым вздохом положил на прилавок четвертку табаку и тщательно разрезал ее хлебным ножом на две совершенно равные части. Затем он так же тщательно отвесил две порции сыроватого сахарного песку и добросовестно завернул каждую порцию в лист бумаги, вырванный из какого-то дореволюционного судебного дела. Затем, хорошенько очистив ручки от сахарного песка, он взял с прилавка керосиновую лампочку и понес вдоль полок бьющееся сердечко пламени. Возвратившись назад, он сказал:
— За хлебом можете прийти завтра. Или же, если вам почему-либо неудобно приходить завтра, то могу вам выдать вместо причитающегося по ведомости хлеба соответствующее количество сахарного песку. Выбирайте, милости просим.
По нашим расчетам было около шести часов. Мы еще могли поспеть на базар до его закрытия. Можно было обменять сахар на хлеб. Мы схватили кульки и бросились вон. Ох! Как мы лупили! Мы пробежали три версты в каких-нибудь пятнадцать минут. Мы обливались потом, черным от пыли и горячим от солнца. Нам казалось, что мы выдыхаем пламя. Напрасно! Мы не имели представления о времени. Было уже около семи. Единственный милиционер одиноко брел по выжженной пустыне закрытого базара.
Мы посмотрели друг на друга и, поджав губы, бодро усмехнулись.
Не торопясь, мы пошли по городу, жадно набивая рот сахаром, приторным до обморока. В первый раз за все эти три дня мы вдруг ощутили приближение к самой настоящей нищете.
Затем внезапно в природе этого слишком затянувшегося дня произошло явление, равное падению метеорита.
На нас из-за угла крупными скачками несся брус поразительно хорошо выпеченного ржаного хлеба величиной с палку искусственного льда. Его с трудом держал под мышкой запарившийся паренек — шофер, с молодым, блаженно-испуганным лицом счастливчика и балагура. Вероятно, удачи преследовали его всю жизнь, как влюбленные дивчата. Они задаривали его с ног до головы новым обмундированием: кожаной фуражкой, кожаным костюмом и жирными юфтовыми сапогами до колен. Как видно, он только что получил недельный паек хлеба и мчался на базар поскорее его продать.
Мы успели схватить его за локоть.
— Товарищ, базар уже закрыт. Абсолютно ни одного человека. Меняете хлеб?
Он остановился с разбегу как вкопанный и посмотрел на нас обалделыми глазами бесшабашной русской синевы.
— Можно! — сказал он, не переводя духа. — А на что менять-то?
— На сахар.
— На кой шут мне ваш сахар!
Он подкинул коленкой хлеб, подобрал его покрепче под мышку и уже собирался идти дальше, как вдруг ему пришла мысль: а и вправду, чем черт не шутит, не поменять ли хлеб на сахар? Потом в свою очередь сахар можно будет продать или обменять на что-нибудь другое, а это другое — еще на что-нибудь совсем другое, а там еще что-нибудь подвернется!.. Собственно, ему решительно не нужно было ни продавать этот хлеб, ни менять. Но, как видно, его терзал хлопотливый бес мелкой торговли, еще довольно живучий в то время.
— Сахару-то у вас много? — деловито спросил он.
Мы показали ему кульки.
— Нам бы фунтика два хлеба.
— Ну-у? — сказал он разочарованно и даже как бы несколько оскорбленно за то, что мы осмелились равнять «наш паршивый сахар до его прекрасного хлеба». — Ну-у, овчинка выделки не стоит! Буду я отрезать два фунта: только цельную вещь испортишь! Нет уж...
Он посмотрел укоризненно, тряхнул конопляными кудрями и побежал дальше, но вдруг остановился, обернулся, еще раз посмотрел на нас пристально, очень сознательно, как будто увидел нас впервые, и, стыдливо став боком, вытащил из недр своих блестящих кожаных штанов на байковой подкладке большой складной нож с цепочкой.
Он отрезал от хлеба большой кусок, фунта в три, молча отдал его нам и быстро пошел прочь.
— Товарищ! — закричали мы. — Вы забыли caxap!
Он с досадой махнул рукой и, не обернувшись, скрылся так же быстро, как и возник.
Мы посмотрели друг на друга и вдруг увидели себя как бы со стороны.
Лохматые, обросшие десятидневной бородой и усами, покрытые грубым загаром, черноусые, в мешочных штанах и серых бязевых рубахах с клеймом автобазы, почти босые, выглядевшие на двадцать лет старше, чем на самом деле, мы стояли посреди чужого города, как два бандуриста, как два пророка, покрытых черствой пылью веков.
Мы спустились к реке и сели под мостом, по которому гремели трамваи.
Почти высохшая река резко блестела в глаза широким разлужьем, отражавшим белое заходящее солнце. В воде лежала дохлая корова, подобная деревянной ложке.
Тут на травке мы и съели наш чудесный хлеб.
Мы ели его не торопясь, с непокрытой головой, как крестьяне, бережно собирая в горсть вкусные крошки, смоченные соленым потом, струившимся с наших лиц.
1935
Цветы[55]
Это был веселый праздничный обед. Товарищи вспоминали «минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». За окнами шумела октябрьская Москва. Вдруг хозяйка дома вышла из-за стола и вернулась к гостям, держа на руках шестимесячную девочку в длинном голубом байковом платьице с круглым воротничком. Девочка сидела на ладони, живо поворачивая во все стороны головку, овальную, как дынька. Темные подсолнушки ее маленьких глаз весело смотрели во все стороны. Иногда ее ротик смешно растягивался, обнажая полоску беззубых десен, и она кричала:
— Дяй, дяй, дяй!
Отец с нежностью посмотрел на свое семейство и сказал:
— Эта небольшая девица, признаюсь вам, причинила мне своим рождением непомерную радость. Но также принесла и немалое беспокойство.
— А чем беспокойство? — поинтересовались гости. — Расскажи.
— Расскажу, — ответил счастливый отец и рассказал следующее:
— ...Я остался один. Надо мною звучно щелкали часы.
Апрельский рассвет, крепко настоянный на черносмородинной почке, светился в зеленоватом штофе крыльца.
Большая стеклянная дверь, куда увели мою жену, была плотно заперта. За зтой страшной белой дверью горело электричество. Там еще продолжалась ночь, непонятная и тревожная ночь родильного дома, полная некой бодрой и таинственной деятельности.
Паля папиросу за папиросой, я ходил под лестницей, не в состоянии найти себе место. Взошло солнце. Я понял это по мраморному столбику лестницы, ставшему вдруг телесно-розовым.
Прошло еще сколько-то времени. Явилась сестра, вручила мне вещи жены: пальто, туфли, платье, белье. Я стоял в растерянности под лестницей, поддерживая подбородком узел.
— Ну? — сказала сестра, одобрительно улыбаясь.
— Все? — спросил я.
— Все.
— Можно идти?
— Идите и ложитесь спать.
За мною щелкнул замок. Что же теперь делать? Как быть? Я был гораздо беспомощней и беззащитней, чем жена. Я прошел по Москве, прижимая к пальто вещи, не потерявшие еще ее теплоты. Редкие прохожие обращали на меня внимание. Некоторые уступали мне дорогу.
Я вернулся домой. В квартире было пусто и ярко освещено, как ночью. «Забыли потушить свет», — подумал я, лег на диван и вдруг заснул мертвым сном.
Я вскочил, думая, что проспал часов десять. Но продолжалось утро. Я спал не больше часу. Бросился к телефону и холодными пальцами набрал родильный дом. Сонный, тихий, еле слышный голос сказал мне, что она еще не родила.
— А можно надеяться — когда? — спросил я.
— Вам позвонят.
— Вы наверное знаете, что еще нет?
— Наверное.
— А, простите, вы не можете сказать — когда можно надеяться?
Там опустили трубку. Я прилег на минуточку вздремнуть и проснулся от телефонного звонка. Было часов пять вечера. Значит, я спал часов восемь подряд. Электричество продолжало гореть над головой, но Кремль за окном был ярко и розово освещен заходящим солнцем. Я не поверил, когда услышал тот же сонный, тихий, еле слышный голос, сообщавший, что у меня родилась дочь и жена чувствует себя прекрасно.
И тут меня охватила лихорадочная деятельность. Наскоро умывшись, я вышел из дома. Прежде всего я бросился в цветочный магазин. О, этот план у меня уже был готов давно: на все деньги — цветов и завалить всю квартиру! Пускай моя дочь (нет, каковы слова — «моя дочь»! Как это волшебно звучит!), пускай же моя дочь лежит в своей маленькой кроватке среди цветов, как сказочный мальчик с пальчик в атласной чашечке розы!
Душный оранжерейный воздух цветочного магазина окружил меня теплыми запахами вазонов и дождя. Я стоял в джунглях папоротников, цитрусов, пальм, анемонов, парниковой сирени. В глиняных кувшинах на гибких, высоких стеблях, покрытых коралловыми зубцами шипов, качались жаркие розы. С поспешной жадностью я стал выбирать корзины и букеты. Продавщица — маленькая московская модница с русой гривкой, падающей из-под белого берета на половину цветущего лица, — смотрела на меня с безграничным изумлением и страхом.
— У вас есть дети? — спросил я с живостью.
— Я — девушка! — с достоинством ответила она и: поджала губы.
— Вот видите. Значит, вам это не может быть понятно. А у меня есть дочь. Довольно взрослая. Ей уже часа три-четыре. И я хочу, чтобы она вошла в жизнь, как в цветущий: сад. Вам это понятно?
— Отчего же непонятно? Понятно. Сегодня родилась.
— Верно! Она сегодня родилась, и я хочу, чтобы завтра она уже лежала в своей маленькой кроватке среди всех этих цветов, как мальчик с пальчик в атласной чашечке розы.
— Ну, это навряд ли. Раньше чем дней через семь-восемь домой не попадет. У них в родильных домах такие ужасные правила. У меня сестра в прошлом году родила двойняшек, так, имейте в виду, попала домой только на десятый день.
Этого я и не предвидел. Я был убит. Я вышел из магазина пошатываясь. Шутка сказать: семь-восемь дней! А я? Что буду делать я в продолжение этих ужасных семи-восьми дней? Впрочем, дела у меня нашлись. Днем я томился у телефона, дожидаясь звонка «оттуда». Звонок раздавался, и я слышал слабый голос жены, которая спрашивала, как я себя чувствую и не забываю ли я есть на ночь простоквашу.
— А ты, ты как себя чувствуешь? — кричал я в горячую трубку. — Как наша дочка?
— Наша дочка ничего. Спит.
— А какая она?
— Маленькая.
— Я понимаю, что маленькая. А симпатичная?
— Очень. Лучше всех. Я ее ужасно люблю.
— Я ее тоже очень люблю. Но все-таки какая она?
— Какой ты чудак! Я ж тебе объясняю — маленькая. Симпатичная. Лучше всех. Она сегодня чихнула.
— Насморк? — испуганно кричал я.
— Да нет. Какой ты чудак! Просто чихнула. На всю палату. И вообще она высокомерная.
— Как высокомерная?
— Обыкновенно как. Высокомерная. Ты — чудак, ничего не понимаешь. У нее высокомерное выражение.
Но тут в телефоне начиналось щелканье и нетерпеливый стук. Вмешивались чужие голоса. Это другие отцы торопились услышать подробности о своих детях. А я поспешно кричал:
— Приезжай скорей! Поцелуй нашу высокомерную дочь! Ты не узнаешь комнату, она вся будет в цветах. Наше высокомерное дитя будет лежать в своей маленькой кроватке, как мальчик с пальчик в атласной чашеч...
Я выходил на улицу. Я бродил мимо магазинов, останавливаясь возле витрин с детскими вещами и игрушками. С непредвиденной нежностью рассматривал я кукол и лошадок, капоры, распашонки, одеяльца, мячи, аэропланы и парашюты. Рано утром я сидел в садике против Моссовета, ведя с няньками обстоятельные дискуссии о воспитании детей. Между тем Москва на моих глазах украшалась. Зеленые гирлянды тянули вдоль фасадов. В витринах появились пейзажи и натюрморты. Красные полотнища пересекали улицы. Узкие флаги трепетали над станциями метро. Площади крутились, как карусели, в ярких лентах, зелени, цветах, плакатах.
И вот наступил желанный день. Я мчался на такси в родильный дом за женой и дочкой. Но по дороге я должен был заехать в цветочный магазин для того, чтобы послать домой на все наличные деньги цветов. Но боже мой, что случилось? Магазин был пуст. Голые полки и стопки вазонов. Спутанные мотки рафии.
— Цветы?.. — задыхаясь, сказал я.
Маленькая модница в белом берете посмотрела на меня с сожалением и развела розовыми руками:
— Все.
Я бросился в другой магазин. Оттуда двое вспотевших комсомольцев вытаскивали последнюю пальму.
— Цветы! — почти крикнул я.
— Все.
В течение получаса я объездил все цветочные магазины города. Они были начисто опустошены.
Это было невероятно.
— За город! На Клязьму! Куда-нибудь!
Шофер посмотрел на меня с сожалением:
— Навряд ли, товарищ, где-нибудь достанете. Сами понимаете...
Я ничего не понимал. Прямо-таки как нарочно. И именно в такой день! Я велел ехать в родильный дом. Слезы выступили у меня на глазах, когда я увидел похудевшую жену с оживленно блестящими глазами, которая протянула мне нечто завернутое в голубое вязаное одеяльце. Я стал целовать милые, худые руки, в то же время пытаясь заглянуть в одеяльце.
— Тише. Ты с ума сошел, — сказала жена. — Она спит. Она простудится. Дома посмотришь.
Мы поехали домой. По дороге я все же приподнял край одеяльца и увидел беленький нос величиной не больше горошины. Бережно прижимая к груди «нашу дочку», жена вошла в квартиру и остановилась в недоумении.
— А цветы?
В комнате не было ни одного цветка.
— Все, — горестно заметил я.
Жена огорчилась, но, посмотрев на календарь, улыбнулась.
— Ну, ясно. Ничего. Обойдемся и без цветов.
И все же меня огорчало: в доме не было ни одного цветка. Я не спал почты всю ночь и забылся лишь к утру. Мне снилось, что моя дочь уже большая, что она уже парашютистка, химичка, учительница, певица, шофер, цветочница. Я проснулся от звуков множества оркестров, от криков, от песен, от грохота громкоговорителей.
— С Первым мая! — сказала жена.
Она стояла с «нашей девочкой» на руках и смотрела в окно.
Мимо дома шли веселые колонны, двигались букеты, пальмы, корзины роз, папоротники...
Солнце сверкало на золотых куполах Кремля.
Вся Москва была похожа на огромный праздничный букет, и маленькая девочка — «наша дочь», самый: маленький и самый новый человек нашего нового, веселого, изумительного мира, — лежала в самой середине этой громадной корзины цветов на руках своей мамы, как мальчик с пальчик в чашечке атласной розы.
И большие, шумные пчелы самолетов кружились над первомайской розой Москвы, охраняя ее веселый, праздничный отдых...
1936
Под Сморгонью[56]
Под Верденом погиб батальон французской пехоты. Он двигался ходом сообщения, наткнулся на неприятельскую минную галерею и был взорван. Из обвалившейся земли торчало лишь несколько штыков. Впоследствии французы превратили эту ужасную братскую могилу в памятник: залили ее бетоном и сделали надпись. Из бетона, среди венков с полинявшими трехцветными лентами, косо торчали кончики заржавленных штыков.
Думая об этом, я всегда вспоминаю другой случай, у нас на Западном фронте в 1916 году.
Батарея стояла на позиции под Сморгонью, слева от той самой знаменитой дороги Минск — Вильно, по которой отступала из России армия Наполеона. Дорога эта хорошо известна по картине Верещагина. На ней изображена лютая зима, полосатый столб и аллея траурных берез. У нас же под Сморгонью в ту пору была весна — конец свежего белорусского мая. С батареи мы видели длинный ряд старинных кутузовских берез, ставших за сто лет гораздо толще и выше. Кое-где порванные и расщепленные неприятельскими снарядами, они радовали чистотой, молодостью зелени.
Вторую неделю на фронте было затишье. Воспользовавшись им, мы очень хорошо замаскировали орудия молодым ельником, выкопали дорожки, обложили их камешками, возле блиндажей вбили в землю скамеечки и столики, на которых нарисовали шашечные клетки, — словом, превратили нашу батарею в прелестный уголок. Затем мы вымылись, пришили пуговицы, починили амуницию. Хорошенько вычистили травой бачки и миски и, наконец, разложив под ведрами костры из можжевельника, стали всей батареей кипятить белье. А прокипятив и накрепко выкрутив, не сразу стали развешивать его, чтобы неприятельская воздушная разведка не обнаружила нашу батарею. На этот счет мы были достаточно опытны. Мы терпеливо дождались, когда последний самолет противника, окруженный вскакивающими значками шрапнели, скрылся в глубине неприятельского расположения. Было отлично известно, что сегодня неприятельские аэропланы летать уже больше не будут. Поэтому мы спокойно раскинули все наши белые подштанники и рубахи по ельнику маскировки. В ожидании, когда белье высохнет, батарея отдыхала и развлекалась.
Телефонисты пошли всей командой в поле играть в городки, или «скракли», как они у нас назывались по-польски.
Канонир Власов, пожилой белобрысый солдат со скопческим лицом, владелец единственной на всю батарею бритвы, открыл возле своего блиндажа цирюльню и уже мылил холодным помазком жесткий подбородок своего взводного командира, старшего фейерверкера Бондарчука, мужика по службе строгого, но тщеславного, любившего, чтобы ему услужали.
Коротконогий разведчик по фамилии Ворона, пришедший из обоза первого разряда, где помещалась команда разведчиков, повидаться со своим земляком Прокошей Колыхаевым, плясал под балалайку и ходил на руках в кругу молчаливо обступивших его зрителей.
Вольноопределяющийся Самсонов, голубоглазый юноша с Георгиевским крестом, волоча за рукав шинель, шел под березы читать роман Федора Сологуба «Мелкий бес».
Звероподобный, но добрый, как дитя, чалдон Горбунов, только что научившийся грамоте, со страшной медлительностью, жарко сопя и вслух произнося слова по слогам, писал письмо в Тобольскую губернию дорогой супруге своей Варваре Денисовне. Щербатый рот его был весь лиловый от химического карандаша.
Согнув потные плечи с суконными погонами, Горбунов трудился над уголышком тонконогого столика, за которым два орудийных фейерверкера пятого и шестого орудий с молчаливой яростью с треском бились в дамки.
Один лишь подпрапорщик Чигринский, георгиевский кавалер всех четырех степеней, считал ниже своего звания принимать участие в солдатских развлечениях, хотя ему и очень хотелось. Он только что пришел на батарею из своего особого блиндажика, устроенного между батареей и офицерской квартирой.
Чигринский притворно озабоченно расхаживал вдоль орудий, хмурился, подравнивая ребром шафранной руки старомодные усы — черные, с сединой, сальные. Но скука одолевала его. Он не выдержал отчужденности. Заложив по-генеральски руки за спину, несколько выставив живот, на котором аккуратно лежал хороший офицерский пояс с колечками, он остановился возле третьего орудия, где собралась компания, наиболее достойная его общества, в том числе несколько бомбардир-наводчиков, два взводных, три орудийных начальника и дежурный по батарее, младший фейерверкер Лепко, весельчак и балагур.
Лепко рассказывал анекдоты. Заметив подпрапорщика, он на полуслове спрыгнул с крыши блиндажа, выложенной дерном, стукнул шпорами и приложил руку к козырьку заломленной фуражки.
— Анекдоты рассказываете? — сказал Чигринский со снисходительной насмешкой.
— Так точно, господин подпрапорщик! — доложил Лепко.
— Ты рассказываешь?
— Так точно, господин подпрапорщик, я!
— Ну, так можешь не стоять. Садись, продолжай. И я тоже где-нибудь около вас посижу, устроюсь. Послушаю ваши глупости.
Солдаты почтительно подвинулись и дали место начальнику.
— Про что же ты анекдот рассказываешь? — спросил подпрапорщик, оправляя на бедрах гимнастерку превосходного сукна.
— Он рассказывает, Капитон Иванович, — сказал дискантом кузнец, канонир Улиер, бессарабский цыган с громадной синей бородой, — он рассказывает анекдот про то, как он сам в рай попал.
— Это что-то для меня новое. Послушаю. Докладывай, Лепко. Начинай сначала.
Лепко блеснул карими глазами, воровато мигнул слушателям:
— Только, господин подпрапорщик, вы потом до меня ничего не имейте и не обижайтесь.
— Это почему?
— Потому, что тама, в этом анекдоте, есть за вас, господин подпрапорщик. Такой анекдот и ничего кроме.
— Хорошо. Пускай. Я позволяю.
Лепко вскочил на крышу блиндажа, устроил шашку между ногами, сбил фуражку еще более на ухо, облизал губы и с места в карьер начал резким, бабьим голосом:
— Пошел я, значится, в очередь дежурить на наблюдательный пункт, и тама вдруг налетает неприятельский снаряд, и меня в один счет тем неприятельским снарядом убивает на месте. Вот, значится, меня убивает на месте, и в сей же секунд подхватывают меня два ангела под руки, несут на небо и становят против самых райских врат. Ну, конечно, сейчас же выходит апостол Петр и спрашивает: «Что такое за шум, кто пришел?» Я ему говорю: «Так и так, сего числа убитый на наблюдательном пункте младший фейерверкер шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, первой батареи Лепко явился до вас в рай». Он на меня посмотрел со всех сторон и говорит: «Иди обратно: мы таких, как ты, мурлов в рай не принимаем». — «Что это за такое — «мурлов»? Как это может быть, что вы не принимаете? Новое дело! Не имеете права! Когда я шел на действительную службу, нам батюшка говорил, что тот солдат, который службу свою аккуратно справлял, до своего непосредственного начальства имел уважение и потом погиб в доблестном бою за веру, царя и отечество, — тот солдат безусловно сразу принимается до вас в рай. Какой может быть вопрос?» А он меня все-таки не хотит пускать и говорит: «Я ничего не знаю. Я пойду сейчас доложу господу богу. Пусть, как он скажет». Хорошо. Вот апостол Петр пошел до бога, возвращается назад и говорит: «Можно. Господь бог говорит, что если который солдат действительно службу свою аккуратно сполнял, до своего непосредственного начальства имел уважение и потом погиб в доблестном бою за веру, царя и отечество, тот солдат безусловно сразу принимается до нас в рай. Заходи, пес с тобой! Только сапоги вытри, а то у нас чисто». Я, значится, вытер сапоги об траву и захожу в рай. Ну, конечно, какой из себя рай, известно: безусловно чисто. Сметья под ногами нет. А под ногами есть то самое синее небо, которое, если посмотреть от нас, с батареи, то приходится вверху. А оттуда обратно — как раз внизу. Такая вещь.
При этих словах Лепко посмотрел вверх. Следом за ним посмотрели задумчиво вверх и все остальные. Голубой купол майского неба накрывал землю. Солнце садилось за неприятельским расположением. Огненная пыль висела в воздухе. И сквозь эту слепящую пыль нежно светлела на горизонте рыбья косточка — развалины сморгоньского костела.
Ух, как памятен мне этот майский полесский вечер!
— Начал я, значится, ходить по раю, — продолжал Лепко, бросив озорной взгляд на подпрапорщика. — Гуляю час, гуляю два, гуляю три. Вокруг ходят разные прозрачные ангелы. Ничего. Только вдруг захотелось мне страшно ужасно кушать. Ничего нет смешного. А как вы думаете? С самой смерти ничего не ел. Вижу: идет мимо меня какой-то ихний архангел с огненным тесаком, — видать, дежурный по раю, — чи Гавриил, чи Михаил.
— Если с тесаком, значит, Михаил, — сказал дискантом цыган Улиер.
— Нехай Михаил. Вот я ему и говорю: «Слушайте: у вас тут какую-нибудь порцию выдают? Бо я сильно-таки голодный». А он мне говорит: «Что вы, что вы! Какой вы необразованный солдат! Тут у нас не земля, а рай, и никто не кушает, потому что вокруг — вы видите? — одни только бесплотные духи, то же самое сказать — прозрачные». — «Ну, я там не знаю, что за бесплотные духи. Очень может быть. Только я лично хочу кушать. Не могу терпеть». — «Не полагается». — Как это «не полагается»? Ничего не знаю. Веди меня до господа бога». — «Хорошо». Приходим мы до самого ихнего бога. Ну, конечно, какой из себя бог — известно: сидит на таком вроде троне, и вокруг него кущи. «Что такое за шум? — спрашивает. — В чем дело?» Я ему говорю: «Так и так, не дают кушать, в чем дело?» А этот самый чи Михаил, чи Гавриил ему докладает: «Это есть тот самый младший фейерверкер Лепко с первой батареи шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, который в доблестном бою пострадал за веру, царя и отечество». Бог спрашивает: «Солдат справный?» Я ему отвечаю: «А как же? Я службу свою аккуратно по уставу сполнял, до своего непосредственного начальства всегда имел уважение. Даже господин подпрапорщик могут подтвердить. А если вы мне не будете давать какую-нибудь пищу, тогда я лучше ухожу из вашего рая. Ну его к черту с таким делом!» Бог подумал-подумал и говорит: «Раз солдат справный, службу по уставу сполнял, до своего непосредственного начальства имел уважение, за веру, царя и отечество пострадал в доблестном бою, тогда ничего не попишешь. Дайте ему кушать». Тут дали мне полный бачок жареного мяса, полбуханки белого хлеба и кипарисовую ложку.
Пошел я себе в сторону, сел под райским кустиком и как следовает быть пообедал, а потом лег спать. Только я лег спать, как этот меня будит, чи Гавриил, чи Михаил: «Эй, солдат! Вставай! У нас в раю спать не полагается. У нас в раю находятся бесплотные духи. Они никогда не спят». — «А ну вас всех к черту! Веди меня до бога». Обратно приходим до бога. «Что такое за шум? — говорит. — В чем дело?» — «Солдат спать хочет!..»
Лепко рассказал, как бог подумал-подумал и позволил ему спать. Потом, выспавшись, Лепко захотелось курить, и как архангел не позволил, и как опять ходили до бога, и как бог, обратно, подумал-подумал и велел выдать восьмушку махорки «Тройка», газету «Русское слово» и две коробки спичек Лапшина: «Нехай курит, чтоб дома не журились».
Лепко рассказывал подробно, обстоятельно, не торопясь, изредка сплевывая и крутя на груди револьверный шнур свекольного цвета.
Чигринский хмурился, хмурился.
— А где же тут за меня? — наконец спросил он с напускной небрежностью. — Что-то я этого не замечаю.
— За вас сейчас будет, Капитон Иванович, — быстро сказал Лепко. — Это есть анекдот довольно длинный, часа на полтора. Вот, значится, выкурил я две хорошие скрутки из махорки «Тройка» и газеты «Русское слово» и вдруг замечаю, что мне сильно необходимо до ветру. Побежал я по раю искать, где это находится. Бегаю, бегаю и ничего такого не вижу. Ну что тут делать? Подходит до меня этот самый чи Михаил, чи Гавриил: «Ты чего, солдат, бегаешь?» — «До ветру хочу». Он даже рассердился: «Да ты что: с ума спятил? Здесь все-таки рай, а не бог знает что!» А я прямо-таки чуть не плачу: «Веди меня скорее до бога». Приходим. «Что такое за шум?» Архангел докладает: так и так. Бог подумал-подумал и говорит: «Нельзя». — «Как это «нельзя»?! — кричу я. — Как это может быть «нельзя», когда я уже больше не имею возможности?! Что такое, на самом деле! Кушать даете, а до ветру не разрешаете! Тогда пустите меня назад, в часть!» Бог, обратно, подумал-подумал и говорит: «Раз солдат справный и пострадал за веру, царя и отечество в доблестном бою, тогда, поскольку мы ему действительно давали кушать, ничего не попишешь. Можно. Только отведите его подальше». Отвел меня архангел на сто шагов в сторону, выбрал тихое место за райскими деревцами, вынул свой огненный тесак и вырезал в небе аккуратный такой кружок. Небо там, знаете, синее, твердое, вроде стеклянное или, лучше сказать, фарфоровое. «Валяй», — говорит. А я посмотрел вниз, на землю и отвечаю: «Слушайте, извиняйте, но здесь я не могу. Вырежьте мне очко в другом месте». — «Почему такое?» — «А вот смотрите». Архангел посмотрел вниз, а внизу, аккурат под нами, как раз самая наша батарея и скамеечка, и на скамеечке как раз вы сидите, Капитон Иванович. «Видите?» — спрашиваю архангела. «Ну, вижу, говорит. Так в чем дело?» — «Не могу я позволить себе такое свинство над господином подпрапорщиком. Господин подпрапорщик всегда меня любил, в наряды меня не в очередь не посылал и сказал, что на той недоле меня непременно в отпуск отпустит, домой на побывку». А этот, чи Гавриил, чи Михаил, махнул только рукой и говорит: «Ничего. Валяй. Не стесняйся. Все равно не отпустит. Брешет».
И едва успел Лепко произнести последние слова своей длинной сказки, как воздух страшно рвануло и четыре взрыва, как четыре черных земляных столба, медленно выросли впереди батареи.
Спотыкаясь, падая и срывая на бегу с елок белье, бежали батарейцы к своим блиндажам.
Вдалеке ударили четыре слабых орудийных выстрела, и почти в ту же секунду бурей налетели четыре новых восьмидюймовых снаряда и разорвались позади, обдав батарею ливнем черной земли.
Следующие четыре снаряда разорвались на самой линейке. Вверх полетели щепки, куски дерна, елки, ведра, рубахи. Но мы уже сидели на нарах в блиндажах, с ужасом прислушиваясь к потрясающему свисту неприятельских снарядов, бушевавших вверху. Стены шатаясь, ползли. Ручьи сухой пыли бежали по стенам. Куски земли завалили маленькие окошечки. В блиндажах стоял удушливый зеленоватый сумрак. Мы молчали, подавленные. Мы боялись взглянуть друг на друга, боялись пошевельнуться. Нам казалось, что малейшее движение может навлечь мгновенную смерть. Вместе с тем мы понимали, что случилось. Случилась очень простая вещь.
Мы остерегались неприятельских самолетов, но совершенно забыли о змейковых аэростатах. Одна такая «колбаса», выставленная неприятелем за Сморгонью и незаметная в огненной пыли заката, обнаружила нашу батарею, увешанную бельем.
Я не знаю, какая сила в мире могла нас спасти!
Свыше сорока минут восьмидюймовая батарея противника на совершенно точном прицеле буквально уничтожала нас с методичностью сверхчеловеческой, зверской.
Несколько сот десятипудовых снарядов превратили нашу батарею, наш прелестный уголок с шашечными столиками, скамеечками, клумбами и дорожками, в совершенно черное, волнистое, вспаханное поле.
В могильном сумраке блиндажа нам казалось, что прошло несколько суток.
И вот, когда мы уже думали, что этому аду никогда не будет конца, вдруг наступила полная, глубокая, блаженная, ангельская тишина. Мы подождали пять минут, десять минут и, наконец, осторожно, один за другим, стали выбираться из земли наверх.
Резкая оранжевая полоса зари плыла в глазах.
Мы были почти совсем глухие. Мир вокруг нас плыл в нестерпимой тишине. Но вот звуки стали возвращаться. С густым жужжанием пролетел майский жук.
Свежий ветерок уносил вонь жженого гребня, выползавшую из горячих воронок, покрывавших все пространство батареи. Сильно потянуло холодным, эфирным запахом листьев и хвои. Тогда мы стали выяснять потери, но оказалось, что потерь нет. Не было не только убитых или раненых, не было даже контуженых. Были только оглушенные, но они приходили в себя. Ни один снаряд не попал в блиндаж с людьми или в орудие. Два снаряда попали в блиндаж телефонистов, но он был пуст: телефонисты, игравшие в «скракли» далеко в поле, не успели добежать до своего блиндажа и укрылись в чужом. Блиндаж телефонистов был совершенно разбит, но на поломанной потолочной балке каким-то чудом висела совершенно не тронутая взрывами целенькая керосиновая лампа под круглым жестяным абажуром — гордость независимых и богатых телефонистов.
Некоторое время мы не знали, что делать, и в нерешительности сидели на земле, вытирая рукавами потные лица с черными носами и ушами.
Вдруг дежурный по батарее, младший фейерверкер Лепко, вскочил, поправил фуражку, обернулся и закричал:
— Встать, смирно!
Он увидел командира бригады. Генерал-майор Алешин шел в сопровождении адъютанта по исковерканной земле к батарее. Генерал оставил свой кабриолет на шоссе. С шоссе батарея, вероятно, казалась полностью уничтоженной. Его лицо было белее мела, губы тряслись. Он спотыкался, иногда скрываясь в земле по грудь, иногда поднимаясь на насыпь так, что были видны целиком его хромовые сапоги с маленькими шпорами.
Когда он приблизился на должное расстояние, младший фейерверкер Лепко, с рукой под козырек, стремительно ринулся к нему, как вкопанный остановился за четыре шага, стукнул большими медными шпорами, отбросил левую руку ковшиком назад, выставил грудь настолько, насколько вобрал живот, и лихим, отрывистым бабьим голосом крикнул так, что в далеком лесу отозвалось эхо:
— Ваше превосходительство! Первая батарея шестьдесят четвертой вверенной вам бригады. Дежурный по батарее — младший фейерверкер Лепко. Во время дежурства никаких происшествий не случилось.
И отскочил в сторону, пропуская генерала.
Генерал хотел поздороваться, взял под козырек, запнулся, посмотрел на нас — черных и страшных, — и вдруг слезы хлынули по его старческому белому лицу. Он махнул рукой и, спотыкаясь, пошел назад, а за ним на высоких драгунских ногах шел, сутуло качаясь, адъютант подпоручик Шредер.
А мы начали откапывать орудия.
1939
На даче[57]
Перед рассветом мы проснулись от знакомого звука. Мы прислушались. Окно было тщательно заделано темным одеялом. Для того чтобы лучше слышать, я потушил лампочку, отогнул край одеяла и посмотрел на щель. Зрение помогло слуху. Я увидел сонные сосны подмосковной дачи. В сером небе дрожал розовый Марс. Звук, разбудивший нас, определился. Не могло быть сомнений: воздушная тревога. Хроматическая гамма сирены, настойчивая и угрожающая. Теперь к ней присоединился непрерывный крик паровоза на ближайшей станции. Раздались гудки фабрики. Окрестности кричали.
Мы быстро оделись и побежали к детям. Жена взяла девочку, а я мальчика. Мы завернули их в одеяла и спустились вниз по лестнице, освещенной синей лампочкой. Мы спускались торопливо, но осторожно. Я чувствовал сквозь одеяло теплоту спящего ребенка. Вдруг он проснулся и посмотрел на меня глазками, свежо и весело блеснувшими при свете синей лампочки. Он ничего не понимал. Он думал, что я с ним играю в его любимую игру — «в маленьких». Эта игра заключалась в том, что я брал его на руки и качал, как грудного, в то время как это был уже вполне сознательный трехлетний человек, с довольно большим запасом слов и твердой походкой. Ему нравилось чувствовать себя грудным.
Он спрашивал:
— Папа, я маленький, да?
Я отвечал:
— Да. Ты совсем крошечный. Ты еще не умеешь говорить, ходить и есть с ложки. Ты еще сосешь соску.
Это его безумно смешило, и он улыбался нежной и томной улыбкой, именно так, как, по его понятию, должен был улыбаться грудной младенец.
Теперь, когда мы спускались по лестнице, он проснулся. Ему пришло в голову, что я нарочно вынул его ночью из постели, чтобы поиграть.
Он сказал, хватая меня руками за щеки:
— Папа, я маленький? Да? Я еще сосу соску?
— Да, да, — поспешно сказал я, прислушиваясь к отдаленным взрывам.
Девочка Женя сидела на руках у жены и смотрела понимающими глазами. Она была старшая. Ей было пять лет.
Мы принесли детей в темную столовую и положили их на диван. Жена закрывала их руками, как наседка закрывает своих цыплят крыльями.
Вокруг стреляли зенитки. Сотни зениток. Дача тряслась. В небе бегали розовые звезды разрывов. Среди них был неподвижен только Марс. Осколки сыпались, свистя и сбивая ветки. Осколки стучали по крыше. Лучи прожекторов метались среди сосен, как пальцы слепого, щупающие темное лицо убийцы. На безумной высоте шел воздушный бой. И среди стремительного жужжания ночных истребителей, среди хлопанья шрапнелей, среди фейерверка трассирующих пуль ухо напряженно ловило характерный, зловещий звук немецкого бомбардировщика, пробирающегося к Москве, — осторожный рокот, похожий на полосканье горла.
Мальчик, видя, что с ним не играют, заснул.
В течение нескольких часов, пока продолжалась воздушная тревога, девочка смотрела немигающими глазами то на меня, то на мать.
Потом заснула и она.
А днем я сидел у открытого окна и смотрел в сад. Дорожки были усыпаны срезанными ветками. Среди них валялись зубчатые осколки снарядов. Равнодушное небо — синее, с белыми круглыми облаками — плыло над лесом, отсыпающимся после ночного потрясения.
Тогда я увидел свою девочку. Она шла по дорожке, по сбитым веткам и по зубчатым осколкам, бережно неся в руках большую обезьяну, тщательно одетую в пальто и валенки Павлика, о головой, закутанной в нянькин платок. Она была матерью, обезьяна была ее любимым сыном. Она нежно говорила вполголоса, нежно укачивала сына:
— Ничего, сынка, не бойся. Тебя не убьют. Тебя, может быть, ранят осколком. Спи спокойно. Это не фугаски, это зенитки...
Вдруг над самой крышей раздался оглушительный шум моторов.
Девочка посмотрела вверх. Лицо ее исказилось ужасом. Оно застыло в страшной гримасе. Оно стало как маска. Уши страшно покраснели. Она выронила из рук обезьяну и закричала взрослым голосом, от которого волосы зашевелились у меня на голове.
Я выскочил в окно и бросился к ней.
В этот же миг очень низко, почти задевая трубы, обдавая грохотом моторов и горячим ветром, над нами пролетела машина, в четыре раза большая, чем наша дача. Это был наш транспортный самолет.
Я присел перед девочкой на корточки и обнял ее, успокаивая:
— Ах ты, моя глупенькая, ах ты, моя маленькая, не бойся!
Но она уже была совершенно спокойна. Она с любопытством следила своими светлыми, немного зелеными глазами простого котенка за удаляющимся самолетом.
Наконец она сказала:
— Я уже не боюсь, папочка. Я думала, что это едет война, — а это наш — четырехмоторный «СССР».
1941
Третий танк[58]
Утром три танка пошли в атаку. Это была разведка боем.
Немцы построили на подступах к деревне длинный снежный вал. Они укрепились за ним. Задача танков заключалась в том, чтобы прорваться за этот вал, выявить огневые точки, минометные батареи, побывать в деревне, посмотреть, что там делается, и вернуться назад.
Когда кончилась артиллерийская подготовка, три танка, на ходу сбросив с себя наваленные на них елочки, выскочили с трех сторон рощицы и, ныряя, помчались вперед по снежному полю, блестевшему на солнце, как соляное озеро. Солнце еле светилось в тучах, и блеск снега был тускл.
С выставленными вперед пушками танки шли, подымая за собой крутую волну снежной пыли. Грубо вымазанные грязными белилами под цвет зимы, они сливались с окружающим пейзажем и скоро растворились в нем, пропали из глаз.
В ту же минуту высоко в воздухе раздался захлебывающийся свист, и в рощице, откуда только что выехали танки, с отвратительным кряканьем и треском стали рваться тяжелые немецкие мины. Исковерканные стволы осин, ветки, щепки, куски коры полетели во все стороны. В один миг снег в роще покрылся паутиной упавших сучьев. Но немцы опоздали. Роща была пуста. Немцы яростно воевали с деревьями.
А в это время танки уже подходили к снежному валу.
В стереотрубу было видно, как крайний левый танк с ходу врезался в снежную стену и остановился, не пробив ее. Облако снега взорвалось и опало. Танк попятился. В стене рельефно обнаружился глубокий отпечаток его лобовой части, рубчатые оттиски гусениц. Из-за вала затюкали противотанковые ружья. Послышались короткие, сухие очереди автоматов. Танк попятился еще, остановился и на предельной скорости рванулся вперед и снова ударился изо всех сил в снежную стену. На этот раз часть стены поползла. Она ползла перед танком, как гора снега перед плугом снегоочистителя. Танк остановился и попятился. Он снова отдохнул, затем набрал скорость и теперь, окруженный снежным вихрем и синим дымом, ворвался в пролом и исчез в нем.
Звуки беспорядочной стрельбы из автоматов показали, что немцы растерялись. Еще через минуту мы увидели, как они бегут. Они бежали в белых балахонах, падая и оставаясь неподвижно лежать в снегу. В пролом снежного вала вбегали один за другим наши стрелки. Некоторые из них, наиболее горячие и нетерпеливые, не желая дожидаться своей очереди, карабкались на вал и спрыгивали с него, упираясь одной рукой в снежные кирпичи, а другую, с автоматом, подняв высоко вверх. В белых кофтах и широких белых штанах, в белых капюшонах, по-мавритански завязанных на лбу, с лицами, которые среди белого снега казались почти черными, они сыпались на головы немцев.
Так началась эта разведка боем, этот небольшой будничный эпизод, настолько обычный, что в армии о нем даже не все знали.
Жизнь на переднем крае в этот день шла своим чередом. Саперы ремонтировали снежные дороги, «раздолбленные» машинами и повозками. Связисты тянули провода. Наблюдатели сидели в своих окопчиках, не отрываясь от биноклей. На грузовиках везли красные, замерзшие туши. Дымились кухни. У минометных батарей складывали ящики с минами, укрывая их ветками хвои. Возле цистерн заправлялись горючим и маслом автомашины. На командных пунктах — в блиндажах — совещались командиры. Телефонисты, лежа на еловых ветках возле маленьких железных печек, в которых потрескивал валежник, прижавшись ухом к трубке полевого телефона, проверяли линию:
— Орел? Проверяет Тула. Рязань? Проверяет Тула. Витебск? Проверяет Тула. Сталинград? Проверяет Тула...
В этот день на передний край, к танкистам, приехала бригада артистов. Артисты приехали на небольшом грузовике. Они спрыгивали один за другим с грузовика и топали валенками по снегу, покрытому валежником. Их было шестеро: трое мужчин и три женщины. С грузовика сбросили их мешки с костюмами, затем осторожно поставили на пенек ящик с баяном.
Артисты не проявляли никакого любопытства к окружающему. Их даже не волновал тот факт, что они находятся на переднем крае и что время от времени в лесу раздается взрыв немецкой мины. Они привыкли к этому. Возможно, что это был их трехсотый или четырехсотый концерт на передовой линии.
Они деловито стали спускаться в глубокий блиндаж, чтобы там переодеться в свои театральные костюмы. В блиндаже горько пахло еловым дымом. Дым ел глаза. Слабо горела маленькая электрическая лампочка. Привыкнув к потемкам, они стали переодеваться. Девушки надели пестрые платья и платки для частушек. Конферансье натянул на себя щегольской светлый коверкотовый костюм с красным платочком в боковом кармане и лаковые туфли. Гармонист — великолепный музыкант, ученик консерватории — вынул из ящика свой баян и, разминая худые пальцы, прошелся по перламутровым пуговичкам.
Между тем на переднем крае не все было благополучно. Разведка боем кончилась. Два танка вернулись. Третий не вернулся. Его ждали. Ждали часа три. Его не было. Послали разведку. Разведка вернулась и доложила, что танк обнаружить не удалось. Он как в воду канул. Когда танк долго не возвращается и не дает о себе знать, дело плохо. Война есть война. Третий танк подождали еще час. Его не было. По переднему краю пронеслась печальная весть: третий танк не вернулся.
Скрывая от себя беспокойство и печаль, бойцы заполнили блиндаж, предназначенный для спектакля. Это был обширный блиндаж: в нем могло поместиться человек тридцать. Но в него набилось сорок восемь. В этом подземном театре, выложенном хвоей, состоялся концерт. Здесь было все: и «Турецкий марш» Моцарта, виртуозно исполненный на баяне, и увертюра к опере «Кармен» в том же исполнении, и прелестный рассказ Михаила Шолохова о бабах, проучивших своих своенравных мужей, и музыкальная народная украинская сценка, и частушки, и белорусские песни, и шутки конферансье, который, ко всеобщему удовольствию, объявил себя не конферансье, а дневальным. И многое другое. Я никогда не видал более благодарной и более горячей аудитории. От хохота земля сыпалась по стенам и шуршала в еловых ветках.
Концерт иногда прерывался приходом дежурного, вызывавшего кого-нибудь из зрителей по делам службы.
Во время концерта несколько раз по залу проносился шепот — вопрос и ответ:
— Третий танк не возвращался?
— Не возвращался.
— Значит, пропал.
— Видать, пропал. Плохо.
Концерт кончился. Артисты торопливо переоделись и поспешно стали садиться в грузовик. Им нужно было сегодня дать еще два концерта: один у стрелков, другой у артиллеристов.
Командир танковой бригады пошел на командный пункт и написал донесение о том, что третий танк не вернулся.
Тогда из своего маленького блиндажика высунулся телефонист и, жмурясь от дневного света, закричал:
— Вертается третий танк!
Через некоторое время в лесу послышался хруст веток и тяжелое пыхтенье. Между двух елок просунулось грязно-белое туловище танка. Просунулось и остановилось. Со стуком открылся стальной люк. Четыре танкиста в черно-синих комбинезонах вылезли из танка и стали закидывать его ветками. Их лица были в копоти, в поту, почти черные; только глаза глядели живо, весело, хотя и утомленно. Четыре танкиста — четыре молодых парня, почти мальчишки — подошли к грузовику, на котором сидели артисты. Они подошли к грузовику потому, что у грузовика стояло начальство. Командир танка стал по уставу и, не торопясь, отрапортовал:
— Третий танк вернулся из разведки. Пробыли в бою пять с половиной часов. Лазили по тылам. Уничтожили три блиндажа, две противотанковые пушки, тяжелую минометную батарею (замечаете, что она уже вас не беспокоит?) и положили штук до двадцати двух фрицев. Было довольно-таки жарко. Немножко у нас поцарапали башню. Потерь среди экипажа нет. Все в порядочке. Обедать хочется.
Он заметил артистов.
— А это что, артисты?
— Точно.
— Уже исполняли?
— Исполняли.
— Эх, ты!
Командир танка сокрушенно покрутил головой в кожаном шлеме и сказал, обращаясь к своему экипажу:
— Выходит, не угадали. Поздно приехали.
— Точно, — сказал экипаж уныло.
Они немного помялись, потоптались на месте и вздохнули.
— Жалко. Ну, да ничего не поделаешь. Ладно. Очень даже обидно.
Тогда, не говоря ни слова, артисты стали спрыгивать один за другим с грузовика, трое мужчин и три девушки. С грузовика сбросили их мешки с костюмами, затем осторожно поставили на пенек ящик с баяном. Через пять минут в подземном театре состоялся второй концерт. «Зрительный зал» оказался более вместительным, чем можно было предполагать. Теперь в нем уже сидело, лежало и стояло не сорок восемь зрителей, а пятьдесят два.
Гармонист тронул перламутровые пуговки, восхитительные звуки Моцарта наполнили блиндаж.
1942
Флаг[59]
Несколько шиферных крыш виднелось в глубине острова. Над ними подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо.
Безлюдным казался каменистый берег. Море на сотни миль вокруг казалось пустынным. Но это было не так.
Иногда далеко в море показывался слабый силуэт военного корабля или транспорта. И в ту же минуту бесшумно и легко, как во сне, как в сказке, отходила в сторону одна из гранитных глыб, открывая пещеру. Снизу в пещере плавно поднимались три дальнобойных орудия. Они поднимались выше уровня моря, выдвигались вперед и останавливались. Три ствола чудовищной длины сами собой поворачивались, следуя за неприятельским кораблем, как за магнитом. На толстых стальных срезах, в концентрических желобах блестело тугое зеленое масло.
В казематах, выдолбленных глубоко в скале, помещались небольшой гарнизон форта и все его хозяйство. В тесной нише, отделенной от кубрика фанерной перегородкой, жили начальник гарнизона форта и его комиссар.
Они сидели на койках, вделанных в стену. Их разделял столик. На столике горела электрическая лампочка. Она отражалась беглыми молниями в диске вентилятора. Сухой ветер шевелил ведомости. Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты. Это была карта моря. Только что командиру доложили, что в квадрате номер восемь замечен вражеский эсминец. Командир кивнул головой.
Простыни слепящего оранжевого огня вылетели из орудий. Три залпа подряд потрясли воду и камень. Воздух туго ударил в уши. С шумом чугунного шара, пущенного по мрамору, снаряды уходили один за другим вдаль. А через несколько мгновений эхо принесло по воде весть о том, что они разорвались.
Командир и комиссар молча смотрели друг на друга. Все было понятно без слов: остров со всех сторон обложен; коммуникации порваны; больше месяца горсточка храбрецов защищает осажденный форт от беспрерывных атак с моря и воздуха; бомбы с яростным постоянством бьют в скалы; торпедные катера и десантные шлюпки шныряют вокруг; враг хочет взять остров штурмом. Но гранитные скалы стоят непоколебимо; тогда враг отступает далеко в море; собравшись с силами и перестроившись, он снова бросается на штурм; он ищет слабое место и не находит его.
Но время шло.
Боеприпасов и продовольствия становилось все меньше. Погреба пустели. Часами командир и комиссар просиживали над ведомостями. Они комбинировали, сокращали. Они пытались оттянуть страшную минуту. Но разрядка приближалась. И вот она наступила.
— Ну? — сказал наконец комиссар.
— Вот тебе и ну, — сказал командир. — Все.
— Тогда пиши.
Командир, не торопясь, открыл вахтенный журнал, посмотрел на часы и записал аккуратным почерком: «20 октября. Сегодня с утра вели огонь из всех орудий. В 17 часов 45 минут произведен последний залп. Снарядов больше нет. Запас продовольствия на одни сутки».
Он закрыл журнал — эту толстую бухгалтерскую книгу, прошнурованную и скрепленную сургучной печатью, подержал его некоторое время на ладони, как бы определяя его вес, и положил на полку.
— Такие-то дела, комиссар, — сказал он без улыбки.
В дверь постучали.
— Войдите.
Дежурный в глянцевитом плаще, с которого текла вода, вошел в комнату. Он положил на стол небольшой алюминиевый цилиндрик.
— Вымпел?
— Точно.
— Кем сброшен?
— Немецким истребителем.
Командир отвинтил крышку, засунул в цилиндр два пальца и вытащил бумагу, свернутую трубкой. Он прочитал ее и нахмурился. На пергаментном листке крупным, очень разборчивым почерком, зелеными ализариновыми чернилами было написано следующее:
«Господин коммандантий совецки флот и батареи. Вы есть окружени зовсех старой. Вы не имеете больше боевых припаси и продукты. Во избегания напрасни кровопролити предлагаю Вам капитулирование. Условия: весь гарнизон форта зовместно коммандантий и комадиры оставляют батареи форта полный сохранность и порядок и без оружия идут на площадь возле кирха — там сдаваться. Ровно 6.00 часов по среднеевропейски время на вершина кирхе должен есть быть иметь выставить бели флаг. За это я обещаю вам подарить жизнь. Противни случай смерть. Здавайтесь.
Командир немецки десант контр-адмирал фон Эвершарп».Командир протянул условия капитуляции комиссару. Комиссар прочел и сказал дежурному:
— Хорошо. Идите.
Дежурный вышел.
— Они хотят видеть флаг на кирхе, — сказал командир задумчиво.
— Да, — сказал комиссар.
— Они его увидят, — сказал командир, надевая шинель. — Большой флаг на кирхе. Как ты думаешь, комиссар, они заметят его? Надо, чтоб они его непременно заметили. Надо, чтоб он был как можно больше. Мы успеем?
— У нас есть время, — сказал комиссар, отыскивая фуражку. — Впереди ночь. Мы не опоздаем. Мы успеем его сшить. Ребята поработают. Он будет громадный. За это я тебе ручаюсь.
Они обнялись и поцеловались в губы, командир и комиссар. Они поцеловались крепко, по-мужски, чувствуя на губах грубый вкус обветренной, горькой кожи. Они поцеловались первый раз в жизни. Они торопились. Они знали, что времени для этого больше никогда не будет.
Комиссар вошел в кубрик и приподнял с тумбочки бюст Ленина. Он вытащил из-под него плюшевую малиновую салфетку. Затем он встал на табурет и снял со стены кумачовую полосу с лозунгом.
Всю ночь гарнизон форта шил флаг, громадный флаг, который едва помещался на полу кубрика. Его шили большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках.
Незадолго до рассвета флаг размером, по крайней мере, в шесть простынь был готов.
Тогда моряки в последний раз побрились, надели чистые рубахи и один за другим, с автоматами на шее и карманами, набитыми патронами, стали выходить по трапу наверх.
На рассвете в каюту фон Эвершарпа постучался вахтенный начальник. Фон Эвершарп не спал. Он лежал одетый на койке. Он подошел к туалетному столу, посмотрел на себя в зеркало, вытер мешки под глазами одеколоном. Лишь после этого он разрешил вахтенному начальнику войти. Вахтенный начальник был взволнован. Он с трудом сдерживал дыханье, поднимая для приветствия руку.
— Флаг на кирхе? — отрывисто спросил фон Эвершарп, играя витой слоновой кости рукояткой кинжала.
— Так точно. Они сдаются.
— Хорошо, — сказал фон Эвершарп. — Вы принесли мне превосходную весть. Я вас не забуду. Отлично. Свистать всех наверх.
Через минуту он стоял, расставив ноги, на боевой рубке. Только что рассвело. Это был темный, ветреный рассвет поздней осени. В бинокль фон Эвершарп увидел на горизонте маленький гранитный остров. Он лежал среди серого, некрасивого моря. Угловатые волны с диким однообразием повторяли форму прибрежных скал. Море казалось высеченным из гранита.
Над силуэтом рыбачьего поселка подымался узкий треугольник кирхи с черным прямым крестом, врезанным в пасмурное небо. Большой флаг развевался на шпиле. В утренних сумерках он был совсем темный, почти черный.
— Бедняги, — сказал фон Эвершарп, — им, вероятно, пришлось отдать все свои простыни, чтобы сшить такой большой белый флаг. Ничего не поделаешь. Капитуляция имеет свои неудобства.
Он отдал приказ.
Флотилия десантных шлюпок и торпедных катеров направилась к острову. Остров вырастал, приближался. Теперь уже простым глазом можно было рассмотреть кучку моряков, стоявших на площади возле кирхи.
В этот миг показалось малиновое солнце. Оно повисло между небом и водой, верхним краем уйдя в длинную дымчатую тучу, а нижним касаясь зубчатого моря. Угрюмый свет озарил остров. Флаг на кирхе стал красным, как раскаленное железо.
— Черт возьми, это красиво, — сказал фон Эвершарп, — солнце хорошо подшутило над большевиками. Оно выкрасило белый флаг в красный цвет. Но сейчас мы опять заставим его побледнеть.
Ветер гнал крупную зыбь. Волны били в скалы. Отражая удары, скалы звенели, как бронза. Тонкий звон дрожал в воздухе, насыщенном водяной пылью. Волны отступали в море, обнажая мокрые валуны. Собравшись с силами и перестроившись, они снова бросались на приступ. Они искали слабое место. Они врывались в узкие, извилистые промоины. Они просачивались в глубокие трещины. Вода булькала, стеклянно журчала, шипела. И вдруг, со всего маху ударившись в незримую преграду, с пушечным выстрелом вылетала обратно, взрываясь целым гейзером кипящей розовой пыли.
Десантные шлюпки выбросились на берег. По грудь в пенистой воде, держа над головой автоматы, прыгая по валунам, скользя, падая и снова подымаясь, бежали немцы к форту. Вот они уже на скале. Вот они уже спускаются в открытые люки батарей.
Фон Эвершарп стоял, вцепившись пальцами в поручни боевой рубки. Он не отрывал глаз от берега. Он был восхищен. Его лицо подергивали судороги.
— Вперед, мальчики, вперед!
И вдруг подземный взрыв чудовищной силы потряс остров. Из люков полетели вверх окровавленные клочья одежды и человеческого тела. Скалы наползали одна на другую, раскалывались. Их корежило, поднимало на поверхность из глубины, из недр острова, и с поверхности спихивало в открывшиеся провалы, где грудами обожженного металла лежали механизмы взорванных орудий.
Морщина землетрясения прошла по острову.
— Они взрывают батареи! — крикнул фон Эвершарп. — Они нарушили условия капитуляции! Мерзавцы!
В эту минуту солнце медленно вошло в тучу. Туча поглотила его. Красный свет, мрачно озарявший остров и море, померк. Все вокруг стало монотонного гранитного цвета. Все, кроме флага на кирхе. Фон Эвершарп подумал, что он сходит с ума. Вопреки всем законам физики, громадный флаг на кирхе продолжал оставаться красным. На сером фоне пейзажа его цвет стал еще интенсивней. Он резал глаза. Тогда фон Эвершарп понял все. Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным. Фон Эвершарп забыл, с кем он воюет. Это не был оптический обман. Не солнце обмануло фон Эвершарпа. Он обманул сам себя.
Фон Эвершарп отдал новое приказание.
Эскадрильи бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей поднялись в воздух. Торпедные катеры, эсминцы я десантные шлюпки со всех сторон ринулись на остров. По мокрым скалам карабкались новые цепи десантников. Парашютисты падали на крыши рыбачьего поселка, как тюльпаны. Взрывы рвали воздух в клочья.
И посреди этого ада, окопавшись под контрфорсами кирхи, тридцать советских моряков выставили свои автоматы и пулеметы на все четыре стороны света — на юг, на восток, на север и на запад. Никто из них в этот страшный последний час не думал о жизни. Вопрос о жизни был решен. Они знали, что умрут. Но, умирая, они хотели уничтожить как можно больше врагов. В этом состояла боевая задача. И они выполнили ее до конца. Они стреляли точно и аккуратно. Ни один выстрел не пропал даром. Ни одна граната не была брошена зря. Сотни немецких трупов лежали на подступах к кирхе.
Но силы были слишком неравны.
Осыпаемые осколками кирпича и штукатурки, выбитыми разрывными пулями из стен кирхи, с лицами, черными от копоти, залитыми потом и кровью, затыкая раны ватой, вырванной из подкладки бушлатов, тридцать советских моряков падали один за другим, продолжая стрелять до последнего вздоха.
Над ними развевался громадный красный флаг, сшитый большими матросскими иголками и суровыми матросскими нитками из кусков самой разнообразной красной материи, из всего, что нашлось подходящего в матросских сундучках. Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек, даже трусов. Алый коленкоровый переплет первого тома «Истории гражданской войны» был также вшит в эту огненную мозаику.
На головокружительной высоте, среди движущихся туч, он развевался, струился, горел, как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сражения вперед, к победе.
1942
Отче наш[60]
— Я хочу спать. Мне холодно.
— Господи! Я тоже хочу спать. Одевайся. И хватит капризничать. Довольно. Надевай шарф. Надевай шапку. Надевай валенки. Где варежки? Стой смирно. Не вертись.
Когда мальчик был одет, она взяла его за руку, и они вышли из дома. Мальчик еще не вполне проснулся. Ему было четыре года. Он ежился и шатался на ходу. Только что начало светать. На дворе стоял синий морозный туман. Мать потуже затянула шарф на шее мальчика, поправила воротник и поцеловала сонное, капризное лицо сына.
Сухие стебли дикого винограда, висевшие на деревянных галереях с выбитыми стеклами, казались сахарными от инея. Было двадцать пять градусов мороза. Изо рта валил густой пар. Двор был залит обледеневшими помоями.
— Мама, куда мы идем?
— Я тебе сказала: гулять.
— А зачем ты взяла чемоданчик?
— Потому что так надо. И молчи. Не разговаривай. Закрой рот. Простудишься. Видишь, какой мороз. Лучше смотри под ноги, а то поскользнешься.
У ворот стоял дворник в тулупе, в белом фартуке, с бляхой на груди. Она, не глядя, прошла мимо дворника. Он молча закрыл за ними калитку и заложил ее большим железным крюком. Они пошли по улице, снегу не было. Всюду были только лед и иней. А там, где не было инея и льда, там был гладкий камень или земля твердая и гладкая, как камень. Они шли под голыми черными акациями, упруго потрескивающими на морозе.
Мать и сын были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые валенки и пестрые шерстяные варежки. Только у матери на голове клетчатый платок, а у сына круглая обезьянья шапочка с наушниками. На улице было пусто. Когда они дошли до перекрестка, в рупоре уличного громкоговорителя так громко щелкнуло, что женщина вздрогнула. Но тут же она догадалась, что это начинается утренняя радиопередача. Она началась, как обычно, пеньем петуха. Чрезмерно громкий голос петуха музыкально проревел на всю улицу, возвещая начало нового дня. Мальчик посмотрел вверх на ящик громкоговорителя.
— Мамочка, это петушок?
— Да, детка.
— Ему там не холодно?
— Нет. Ему там не холодно. И не вертись. Смотри под ноги.
Затем в рупоре опять щелкнуло, завозилось, и нежный детский голос трижды произнес с ангельскими интонациями:
— С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!
Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочитал по-румынски молитву:
— Отче наш, иже еси на небесех. Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя...
На углу женщина повернулась от ветра и, увлекая за собой мальчика, почти побежала по переулку, словно ее преследовал этот слишком громкий и слишком нежный голос. Скоро голос смолк. Молитва окончилась. Ветер дул с моря по ледяным коридорам улиц. Впереди, окруженный багровым туманом, горел костер, возле которого грелся немецкий патруль. Женщина повернулась и пошла в другую сторону. Мальчик бежал рядом с ней, топая маленькими бежевыми валенками. Его щеки раскраснелись, как клюква. Под носом висела замерзшая капелька.
— Мама, мы уже гуляем? — спросил мальчик.
— Да, уже гуляем.
— Я не люблю гулять так быстро.
— Потерпи.
Они прошли через проходной двор и вышли на другую улицу. Уже рассвело. Сквозь голубые и синие облака пара и инея хрупко просвечивала розоватая заря. Она была такая холодная, что от ее розового цвета сводило челюсти, как от оскомины. На улице показалось несколько прохожих. Они шли в одном направлении. Почти все несли с собой вещи. Некоторые везли вещи, толкая перед собой тележки, или тащили за собой нагруженные салазки, которые царапали полозьями голую мостовую.
В это утро со всех концов города медленно тащились в одном направлении, как муравьи, люди с ношей. Это были евреи, которые направлялись в гетто. Гетто было устроено на Пересыпи, в той скучной, низменной части города, где на уровне моря стояли обгоревшие нефтяные цистерны, похожие на палатки бродячих цирков. Несколько грязных кварталов окружили двумя рядами ржавой колючей проволоки и оставили один вход, как в мышеловку. Евреи шли по улицам, спускавшимся на Пересыпь. Они шли под железнодорожными мостами. Они скользили по обледеневшим тротуарам. Среди них попадались старики, которые не могли идти, и больные сыпным тифом. Их несли на носилках. Некоторые падали и оставались лежать на месте, прислонившись спиной к фонарю или обняв руками уличную чугунную тумбу. Их никто не сопровождал. Они шли сами, без всякого конвоя. Они знали, что тот, кто останется дома, будет расстрелян. Поэтому они шли сами. За укрывательство еврея также полагался расстрел. За одного спрятанного еврея подлежали расстрелу на месте все жильцы квартиры без исключения. Евреи двигались в гетто со всего города по крутым спускам, под железнодорожными мостами, толкая перед собой тачки и ведя за руку закутанных детей. Среди домов и деревьев, покрытых инеем, они шли один за другим, как муравьи. Они шли мимо запертых дверей и ворот, мимо дымных костров, у которых грелись немецкие и румынские солдаты. Солдаты не обращали на евреев внимания и грелись, притоптывая сапогами и растирая себе рукавицами уши.
Мороз был ужасный. Мороз был велик даже для северного города. Но для Одессы он был просто чудовищный. Такие морозы случаются в Одессе раз в тридцать лет. В клубах густого синего, голубого и зеленого пара слабо просвечивал маленький кружок солнца. На мостовой лежали твердые воробьи, убитые на лету морозом. Море замерзло до самого горизонта. Оно было белое. Оттуда дул ветер.
Женщина была похожа на русскую. Мальчик тоже был похож на русского. У мальчика отец был русский. Но это ничего не значило. Мать была еврейка. Они должны были идти в гетто. Отец у мальчика был офицер Красной Армии. Женщина порвала свой паспорт и выбросила его утром в обледенелую уборную. Она вышла из дома с сыном, рассчитывая до тех пор ходить по городу, пока это все не уляжется. Она думала как-нибудь перебиться. Идти в гетто было безумием. Это означало верную смерть. И вот она стала ходить с мальчиком по городу, стараясь избегать наиболее людных улиц. Сначала мальчик, думая, что они гуляют, молчал. Но скоро он стал капризничать.
— Мама, зачем мы все время ходим?
— Мы гуляем.
— Так быстро никогда не гуляют. Я устал.
— Потерпи, маленький. Я тоже устала. Но ведь я не капризничаю.
Она заметила, что идет действительно слишком быстро, почти бежит, как будто бы за ней гонятся. Она заставила себя идти медленней. Мальчик посмотрел на нее и не узнал. Он с ужасом увидел распухший искусанный рот, прядь волос, поседевших от мороза, которая некрасиво выбивалась из-под платка, и неподвижные, стеклянные глаза с резкими зрачками. Такие глаза он видел у игрушечных животных. Она смотрела на сына и не видела его. Сжимая маленькую ручку, она тащила мальчика за собой. Мальчику стало страшно. Он заплакал.
— Я хочу домой. Я хочу пипи.
Она поспешно отвела его за афишную тумбу, заклеенную немецкими приказами. Пока она его расстегивала и застегивала, прикрывая от ветра, мальчик продолжал плакать, дрожа от холода. Потом, когда они пошли дальше, он сказал, что хочет есть. Она повела его в молочную, но так как там завтракали два румынских полицейских в широких шубах с собачьими воротниками, а у нее не было документов и она боялась, что их арестуют и отправят в гетто, она сделала вид, что по ошибке попала не в тот магазин. Она извинилась и поспешно захлопнула дверь с колокольчиком. Мальчик бежал за ней, ничего не понимая, и плакал. В другой молочной никого не было. Они с облегчением переступили порог с прибитой подковой. Там она купила мальчику бутылочку кефира и бублик. Пока закутанный мальчик, сидя на высоком стуле, пил кефир, который он очень любил, и жевал бублик, она продолжала лихорадочно думать: что же делать дальше? Она ничего не могла придумать. Но в молочной топилась железная печка, и можно было согреться. Женщине показалось, что хозяйка молочной смотрит на нее слишком внимательно. Она стала торопливо расплачиваться. Хозяйка тревожно посмотрела в окно и предложила женщине еще немного посидеть возле печки. Печка была раскалена. Она была почти вишневого цвета, немного темнее. По ней бегали искорки. Жара разморила мальчика. Его глаза слипались. Но женщина заторопилась. Она поблагодарила хозяйку и сказала, что торопится. Все-таки они просидели здесь почти час. Сонный и сытый мальчик с трудом держался на ногах. Она потрясла его за плечи, поправила ему воротник и легонько подтолкнула к двери. Он споткнулся о подкову, прибитую к порогу. Мальчик подал ей ручку, и она опять повела его по улице. Здесь росли старые платаны. Они пошли мимо пятнистых платанов с нежной, заиндевевшей корой.
— Я хочу спать, — сказал мальчик, жмурясь от ледяного ветра.
Она сделала вид, что не слышит. Она поняла, что их положение отчаянное. У них почти не было знакомых в городе. Она приехала сюда за два месяца до войны и застряла. Она была совершенно одинока.
— У меня замерзли коленки, — сказал мальчик, хныкая.
Она отвела его в сторону и растерла ему колени. Он успокоился. Вдруг она вспомнила, что в городе у нее все-таки есть одна знакомая семья. Они познакомились на теплоходе «Грузия» по дороге из Новороссийска в Одессу. Потом они несколько раз встречались. Это были молодожены Павловские, он — доцент университета, она — только что окончила строительный техникум. Ее звали Вера. Обе женщины очень понравились друг другу и успели подружиться, пока теплоход шел из Новороссийска в Одессу. Раза два они побывали друг у друга в гостях. Мужчины тоже подружились. Однажды они даже вместе напились. Однажды все вместе — они с мужьями — ходили на футбольный матч Харьков — Одесса. Павловские болели за Одессу. Она с мужем болела за Харьков. Одесса выиграла. Боже мой, что делалось на зтом громадном, новом стадионе над морем! Крики, вопли, драка, пыль столбом. Они тогда даже чуть не поссорились. Но теперь об этом приятно было вспомнить. Павловского в городе не было. Павловский был в Красной Армии. Но Вера застряла, не успела эвакуироваться. Недавно она видела Веру на Александровском рынке, и они даже немного поговорили. Но на рынке долго задерживаться было небезопасно. Немцы почти каждый день устраивали облавы. Женщины не поговорили и пяти минут. С тех пор спи не встречались. Но, вероятно, Вера была в городе. Куда же ей было деться? Павловские были русские. Можно было попытаться переждать у Веры. В крайнем случае можно было оставить мальчика. Павловские жили довольно далеко, на Пироговской, угол Французского бульвара. Женщина повернула.
— Мама, куда мы идем? Домой?
— Нет, маленький, мы идем в гости.
— А к кому?
— Ты тетю Веру Павловскую помнишь? Мы идем в гости к тете Вере Павловской.
— Хорошо, — сказал мальчик, успокоившись. Он любил ходить в гости. Он повеселел.
Они перешли через Строгановский мост над улицей, которая вела в порт. Улица называлась Карантинный Спуск. Внизу стояли скучные прямоугольные дома из песочного камня. Некоторые из них были превращены в груды щебня. Некоторые обгорели. В конце спуска вырисовывались круглые арки другого моста. За арками виднелись угловатые развалины порта. Еще дальше, поверх обгорелых, провалившихся крыш лежало белое море, замерзшее до горизонта. На самом горизонте густо синела полоса незамерзшей воды. Во льду, вокруг белых развалин знаменитого одесского маяка, стояло несколько румынских транспортов, выкрашенных свинцово-серой краской. Вдалеке, налево, на горе, сквозь клубы розоватого и нежно-голубого пара, над городом синел купол городского театра, похожий на раковину. Решетка Строгановского моста состояла из длинного ряда высоких железных пик. Пики были резко черные. Внизу, по Карантинному Спуску, поднимались люди с ведрами. Вода выплескивалась из ведер и замерзала на мостовой, блестя, как стекло, при мутноватом свете розового солнца. Все вместе это было очень красиво. В конце концов можно было отсидеться у Павловской, а там будет видно.
Они шли очень долго. Мальчик устал, но не капризничал. Он торопливо топал маленькими бежевыми валенками, едва поспевая за матерью. Ему хотелось поскорее прийти в гости. Он любил ходить в гости. По дороге мать несколько раз растирала ему побелевшие щечки. Возле дома, где жили Павловские, на тротуаре горел костер и грелись солдаты. Дом был большой, в несколько корпусов. Ворота были заперты на цепь. Здесь шла облава. У всех входивших и выходивших проверяли документы. Делая вид, что она торопится, женщина прошла мимо ворот. На нее никто не обратил внимания. Мальчик опять стал капризничать. Тогда она взяла его на руки и побежала, топая ногами по синим плиткам лавы, из которых был сложен тротуар. Мальчик успокоился. Она опять стала колесить по городу. Ей казалось, что она слишком часто появляется в одних и тех же местах и что на нее начали уже обращать внимание. Тогда ей пришла мысль, что можно несколько часов провести в кинематографе. Сеансы начинались рано, так как позже восьми часов появляться на улице запрещалось под страхом смерти.
Она чувствовала тошноту и головокружение в душном, вонючем зале, набитом солдатней и проститутками, которых, так же как и ее, мороз загнал сюда с улицы. Но, по крайней мере, здесь было тепло и здесь можно было сидеть. Она распустила у мальчика на шее шарф, и мальчик сейчас же заснул, обхватив обеими руками ее руку выше локтя. Она просидела, не выходя из зала, подряд два сеанса, с трудом понимая, что происходит на экране. Вероятно, это была военная хроника, а потом комедия или что-нибудь в этом роде: она не могла уловить нить. Все путалось. То весь экран занимала голова хорошенькой девушки с белокурыми рожками, которая прижималась щекой к плоской груди высокого мужчины без головы, и они в два голоса пели под музыку песенку, то эта же девушка садилась в низенький спортивный автомобиль, то взлетали черные фонтаны взрывов — один, два, три, четыре подряд — с жестяным грохотом, как будто бы одним махом раздирали кровельное железо на длинные полосы — одна, две, три, четыре полосы, — и градом падали черные куски земли, стуча по жестяному барабану, и по вспаханной снарядами земле ползли танки с траурными крестами, скрежеща и ныряя и выбрасывая из длинных пушек еще более длинные языки огня и крутящиеся струи белого дыма.
Немецкий солдат в подшитых валенках и русской меховой шапке-ушанке тяжело навалился на плечо женщины и большим нечистым пальцем щекотал мальчику шею, стараясь его разбудить. От него пахло чесноком и спиртом-сырцом. Он все время дружелюбно хохотал, бессмысленно повторяя:
— Не спи, бубе. Не спи, бубе.
Бубе по-немецки значило мальчик. Мальчик не просыпался, а только вертел головой и хныкал во сне. Тогда немец положил тяжелую голову на плечо женщине и, обняв ее одной рукой, стал другой рукой мять лицо мальчика. Женщина молчала, боясь рассердить солдата. Она боялась, что он потребует у нее документы. От немца пахло, кроме того, еще и копченой рыбой. Ее тошнило. Она делала страшные усилия, чтобы не вспылить и не сделать скандала. Она уговаривала себя быть спокойной. В конце концов немец не делал ничего особенно плохого. Просто хам. Вполне приличный немец. Можно потерпеть. Впрочем, скоро немец заснул у нее на плече. Она сидела не двигаясь. Немец был очень тяжелый. Хорошо, что он спал.
Девушка с белокурыми рожками опять передвигалась по экрану, и вместе с ней через весь зал передвигался длинный пучок белых и черных лучей. И с железным грохотом взлетали черные фонтаны, и ползли танки, и немецкие батальоны маршировали по пескам пустыни, и на Эйфелеву башню поднимался громадный фашистский флаг, и Гитлер с острым носиком и дамским подбородком лаял с экрана, отставив дамский зад, выкатив глаза и очень быстро закрывая и открывая рот. Он так быстро закрывал и открывал рот, что звук немного опаздывал: ав, ав, ав, ав...
Солдаты в темноте щупали девок, и девки визжали. Было чересчур жарко, душно, пахло чесноком, копченой скумбрией, спиртом-сырцом, потом, румынскими духами «шануар». Но все же здесь было лучше, чем на морозе. Женщина немного отдохнула. Мальчик выспался. Однако последний сеанс кончился, и пришлось опять выйти на улицу. Она взяла мальчика за руку, и они пошли. В городе было совершенно темно. Только плотный морозный пар клубился среди затемненных домов. От него слипались ресницы. На улицах горели дымные костры, почти задушенные морозом. Иногда где-то раздавались одиночные выстрелы. По улицам ходили патрули. Был девятый час. Она взяла на руки отяжелевшего от сна ребенка и побежала, почти теряя сознание от одной только мысли, что их может остановить патруль. Она выбирала самые глухие переулки. Платаны и акации, покрытые инеем, стояли вдоль улицы, как привидения. Город был пуст и темен. Иногда во тьме открывалась дверь, и вместе с яркой полосой света, вдруг освещавшей замерзшие у подъезда автомобили, из бадеги на миг вырывался страстный, пронзительный визг скрипки. Женщина благополучно добежала до парка культуры и отдыха имени Шевченко. Громадный парк тянулся вдоль моря. Здесь было глухо и тихо. Особенно тихо было внизу, под обрывом, над замерзшим до горизонта морем. Над морем стояла тишина, плотная, как стена. Несколько крупных звезд играло над белыми ветвями деревьев. По звездам скользил голубой луч прожектора.
Она пошла по широкой асфальтовой дороге. Слева был тот самый стадион, где они вместе смотрели матч Одесса — Харьков. За обломками стадиона было море. В темноте его не было видно, но его сразу можно было угадать по тишине. Справа тянулся парк. Широкая асфальтовая дорога мерцала при свете звезд, как наждачная бумага. Женщина шла и узнавала породы деревьев. Здесь были катальпы с длинными стрючками, висящими почти до земли, как веревки. Здесь были пирамидальные акации, платаны, туйи, уксусные деревья. Покрытые густым инеем, они сливались вместе и висели над самой землей, как облака; она перевела дух и уже более медленно пошла вдоль нескончаемо длинного ряда пустых скамеек. Впрочем, на одной скамейке кто-то сидел. Она прошла мимо с бьющимся сердцем. Черная фигура, склонившаяся головой на спинку скамьи, не пошевелилась. Женщина заметила, что человек был наполовину покрыт инеем, как дерево. Над черным куполом обсерватории, который возвышался среди белых облаков сада, дрожали граненые звезды Большой Медведицы. Здесь было очень тихо и совсем не страшно. Может быть, не страшно потому, что женщина слишком устала.
А на следующее утро, когда еще не вполне рассвело, по городу ездили грузовики, подбиравшие трупы замерзших ночью людей. Один грузовик медленно проехал по широкой асфальтовой дороге в парке культуры и отдыха имени Шевченко. Грузовик остановился два раза. Один раз он остановился возле скамейки, где сидел замерзший старик. Другой раз он остановился возле скамейки, где сидела женщина с мальчиком. Она держала его за руку. Они сидели рядом. Они были одеты почти одинаково. На них были довольно хорошие шубки из искусственной обезьяны, бежевые валенки и пестрые шерстяные варежки. Они сидели, как живые, только их лица, за ночь обросшие инеем, были совершенно белы и пушисты, и на ресницах висела ледяная бахрома. Когда солдаты их подняли, они не разогнулись. Солдаты раскачали и бросили в грузовик женщину с подогнутыми ногами. Она стукнулась о старика, как деревянная. Потом солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся о женщину, как деревянный, и даже немного подскочил.
Когда грузовик отъезжал, в рупоре уличного громкоговорителя пропел петух, возвещая начало нового дня. Затем нежный детский голос произнес с ангельскими интонациями:
— С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!
Потом тот же голос, не торопясь, очень проникновенно прочел по-румынски молитву господню:
— Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя твое, да приидет царствие твое...
1946
Виадук[61]
Девушка, нагнувшись, вышла из маленькой палатки, которую я сначала не заметил, так как она была завалена дубовыми ветками с засохшими листьями. Вокруг не было ни одного дерева. Как видно, эти дубовые ветки нарубили в другом месте и уже довольно долго возили с собой для маскировки. Девушка расстелила на траве старую дивизионную газету. На газету она поставила эмалированную миску вареной гусятины. Она постояла, подумала и затем принесла два черных ржаных сухаря. Потом она опять ушла в палатку и заставила за собой вход ветками. Генерал некоторое время задумчиво смотрел на гусятину. Он был в промасленном танкистском комбинезоне, туго стянутом поясом. Одна штанина задралась над пыльным солдатским сапогом. Летняя фуражечка с защитной звездой криво сидела на его круглой крепкой голове с подбритыми седыми висками. В общем, он был немного похож на шофера.
— Клава, — сказал генерал с упреком.
— Что? — послышалось из палатки.
— А огурцов разве нету?
— Огурцы есть.
— Так дай нам огурцов.
Девушка вышла из палатки и положила на газету три больших желтых огурца.
— А соль? — сказал генерал.
— Сейчас.
Она сходила в палатку и принесла серой кристаллической соли. У нее было худое лицо с тонкими губами. Ей не шел полувоенный костюм, неловко сшитый доморощенным военным портным из бумажного габардина серо-стального цвета. Синий берет сидел на голове слишком высоко и плоско, как крышечка. Она высыпала соль на газету, с неудовольствием посмотрела на меня, помолчала, подумала, пожала плечом и опять ушла в палатку, заставив за собой вход ветками. Генерал взял огурец, разломил его, обмакнул в соль, но не съел, а положил на газету.
— Клава! — крикнул он сердито.
— Ну?
— А еще что у нас есть?
— Ничего больше нет.
Генерал шумно вздохнул.
— А шоколад?
Девушка долго молчала.
— Чего ж ты там молчишь? — сказал генерал. — Я спрашиваю: а шоколад? Что-нибудь осталось?
— Осталось.
— Сколько?
— Полплитки.
— Так, господи боже мой, давай его сюда.
— Хорошо.
— Кошмарная женщина, — сказал генерал. — Впрочем, — прибавил он добродушно, — тылы отстают, продуктов кот наплакал, сидим главным образом на сухарях, а кормить меня она все же чем-нибудь обязана. Приходится рассчитывать.
Она вышла из палатки, поджав губы, и положила рядом с огурцами половину громадной, очень толстой плитки жирного серого шоколада.
— Замечательный шоколад, — сказал генерал. — Изготовлен Наркомпищепромом специально для армии. Невероятно вкусный, а главное, питательный. Только некрасивый. И оформление скучное. До войны мы бы с вами на такой шоколад и не посмотрели. А сейчас — будьте здоровы. Сливки, масло, сахар. Калории и витамины. Незаменимая вещь в наступлении. Прошу вас гусятины. Только извините — ни ножей, ни вилок. Вся сервировка погибла.
Я сел на траву против генерала. Мы вытянули ноги. Это был внутренний склон балки недалеко от Орла, еще занятого немцами. Бой шел за Орел. Балка насквозь простреливалась и просматривалась немцами.
— К сожалению, вчера бомбой разбило мою генеральскую кухню, — сказал генерал огорченно, — так что...
— Пожалуйста, — сказал я.
— Нет, вы не знаете. Это была очень хорошая генеральская походная кухня. Замечательная, единственная на всю нашу танковую армию. Ни у кого из генералов не было такой кухни. Я специально приобрел сервиз на двенадцать человек. У меня часто обедали. Я мог накормить двенадцать гостей. О поваре я уже не говорю. Ослепительный повар. Он готовил, как в лучшем ресторане. Все погибло. Эх, чудесный был сервиз.
Генерал взял в руку квадратный кусок гусятины, жесткой, с шерстью, вероятно спешно сваренной на костре, долго его рассматривал со всех сторон. Потом положил обратно в миску и тоскливо крикнул:
— Клава!
— Я тут, — ответила девушка.
— Ну? — с упреком сказал генерал и сделал томительную паузу.
— Сейчас, — сказала девушка.
Она долго шуршала соломой в палатке. Наконец, зашуршав сухими дубовыми листьями, она появилась с кружкой и мутной бутылкой, заткнутой деревяшкой. Генерал взял бутылку и посмотрел на свет. Водки было на четверть. Он поболтал бутылкой и вытащил зубами пробку. В это время подошла девушка-радистка и подала генералу несколько листков, сплошь исписанных пятизначными цифрами. Генерал быстро прочитал шифровку и сердито покраснел. Он встал и обратился ко мне:
— У вас оружие есть?
— Есть, — сказал я, также вставая.
— Покажите.
Я показал генералу свой пистолет. Генерал повертел его в руках и презрительно поморщился.
— «Бреветтато». Итальянский. Откуда вы достали эту дрянь? А патроны есть?
— Патронов нету.
— Я так и знал. Можете его выбросить. Лейтенант, при первом удобном случае достаньте писателю приличный пистолет.
— Слушаюсь.
Лейтенант был очень вежливый молодой человек с утомленными глазами и сдержанным, тихим голосом. Он сидел рядом с нами в «виллисе» и боролся с дремотой. У него были прямые, красивые брови способного человека. Вероятно, он был хороший сын и аккуратно писал матери. Пока генерал читал шифровку, девушка-радистка с тонким, прекрасным лицом и выпуклым блестящим лбом, над которым косо торчала высокая пилотка, несколько раз взглянула на лейтенанта. Он тоже несколько раз взглянул на нее. Выражение лица девушки было вопросительное. Он взглядом успокаивал ее. Но ни он, ни она ни разу не улыбнулись.
— А теперь поедем, — сказал генерал.
Мы сели в «виллис». Генерал сел рядом с шофером. Я сел сзади рядом с лейтенантом. «Виллис» был нагружен множеством разных вещей и оружием, которое мешало сидеть. Генерал холодно посмотрел на миску с гусятиной.
— Клава, убери гусятину.
Девушка быстро вышла из палатки, надевая серый макинтош. Один рукав надела быстро, а с другим надо было бороться. Наконец она надела пальто и полезла в «виллис». Генерал нахмурился.
— Ты куда?
— А ты куда? — сказала она почти грубо, и глаза ее сверкнули. Она густо покраснела.
— Клава, ты же знаешь... — начал генерал мягко. Но она не дала ему договорить. У нее раздулись ноздри.
— Куда ты, туда и я, — быстро заговорила она. — Тебя убьют, а я буду здесь сидеть как дура? Если убьют, то пусть убьют вместе. Я без тебя не собираюсь жить. Все. Поехали.
Она втиснулась между мною и адъютантом и резким рывком запахнула макинтош на коленях. Сидеть стало совсем неудобно.
— Поехали! — сказал генерал, махнув рукой.
— Куда, товарищ генерал? — сказал водитель.
— На правый фланг. К виадуку.
«Виллис» рванулся, и мы помчались по дну лощины, подпрыгивая по камням и заезжая иногда на крутой бок лощины, так что казалось машина вот-вот опрокинется. На повороте лейтенант оглянулся. Девушка-радистка стояла возле палатки, тоненькая и стройная, с волнистыми каштановыми волосами, падающими из-под высокой щегольской пилотки на щеку. Нас ужасно тряхнуло на повороте. Девушка скрылась из глаз. Мы держались за борта машины. Нас валяло и стукало друг о друга. Мы сидели со стиснутыми зубами.
Дорогой лейтенант успел объяснить обстановку. Как выяснилось, в центре ничего не вышло: дно речки оказалось чересчур мягкое. Наши танки не могли пройти. Ожидать, пока саперы построят мост, не было времени, так как по приказу командования вся танковая армия должна была перейти на тот берег и взять Золотарево не позже 23.00, а переправа находилась под сильным воздействием немецкой артиллерии. Тогда генерал решил внезапно ударить на правом фланге, провести бригаду моторизованной пехоты через туннель под железнодорожным виадуком, выйти немцам в тыл, разгромить немецкие батареи и дать возможность саперам беспрепятственно навести мост.
Когда мы, наконец, примчались к виадуку, то прежде всего увидели корову, которая лежала в ручье. Ручей был мелкий. Корова все время пыталась встать и все время падала обратно в ручей. Я понял, что она ранена. Вода ниже ее по течению была розовая от крови. Розовые струи текли по гальке и скрывались в темной трубе тоннеля. Корова тяжело ревела. Возле нее беспорядочно суетился деревенский мальчик в рубахе навыпуск. Он бегал по воде туда и назад и тащил корову за веревку. А корова все время пыталась встать на передние ноги и все время падала обратно в ручей. Она клала морду боком и смотрела в небо огромным глазом, полным страдания. Один рог у нее был сломан. К другому — привязана веревка.
Машина уткнулась в очень высокую железнодорожную насыпь и косо остановилась. Мы тотчас выскочили из машины в разные стороны. Мы сделали это с такой быстротой, будто хотели опередить кого-то, действующего еще быстрее нас. Низко над балкой, по которой мы только что промчались, прыгая и виляя между обломками камней, появился густой комок отвратительно грязного дыма. Потом в небе выскочило еще несколько таких же тошнотворно мрачных дымков. По балке хлестнуло шрапнелью. Вода в ручье покрылась белыми пузырями. Но нас уже на балке не было. Мы стояли, прижавшись к входу в трубу туннеля, облицованного снаружи плитами дикого камня. В туннеле должно было находиться боевое охранение: два станковых пулемета и расчет противотанкового ружья.
Три солдата входили в трубу туннеля по лодыжку в воде, таща ящики с патронами. Они старались держаться как можно ближе к стене. Но это было почти невозможно. Туннель был набит людьми, животными, домашними вещами и мешками с продуктами. Оказалось, что сюда сбежалась целая деревня, спасаясь от авиации. Невдалеке, над лощиной, догорали избы. Несколько коров уже было убито пулями, которые изредка с визгом влетали в туннель. Туши животных лежали в туннеле поперек ручья и мешали ходить пулеметчикам. Обезумевшие старухи стояли молчаливо и неподвижно, держась руками за мешки с мукой, сложенные на сундуки. Виднелось несколько деревянных кроватей, цинковое корыто, матрас. В темноте зеркально-резко блестел круглый выход из туннеля, на треть забаррикадированный камнями. Черная масса людей стояла неподвижно, прижавшись спиной к стенам. По камню стен струилась вода. По ту сторону очень крутой и очень высокой железнодорожной насыпи во ржи сидели немцы. Между нами и немцами было семьдесят пять метров. По опасному дефиле лощины, вдоль ручья, один за другим, согнувшись, бежали солдаты моторизованной пехоты, вызванной генералом по радио из резерва. Они старались как можно скорее добежать до входа в туннель. Увидев, что туннель забит, они в нерешительности расходились вправо и влево вдоль насыпи и останавливались. Вскоре их накопилась целая рота с ручными пулеметами, противотанковыми ружьями, автоматами. Они сидели, лежали или стояли, прислонясь к косой стене насыпи. В пятнистых плащ-палатках и в маскировочных сетях с пучками травы, накинутых на пасмурные шлемы, они почти сливались с землею насыпи. Они были похожи на рыбаков, покрытых тиной. По ту сторону насыпи во ржи сидели немцы. Рожь была высокая, плотная, частая. Она не просматривалась. Немцев было не много, но их не было видно. Несколько невидимых немецких снайперов, не торопясь, стреляли по каждому человеку, который показывался над железнодорожным полотном. Немецкие мины перелетали через насыпь и разрывались на склонах лощины. Но возле туннеля было мертвое пространство. Мы стояли в этом мертвом пространстве. Здесь, на маленьком пятачке, уже скопилось человек полтораста солдат и офицеров, готовых к атаке. Две санитарки, прибежавшие с ротой моторизованной пехоты, стояли с сумками у входа в трубу туннеля, прислонившись спиной к каменной облицовке. Создавалось такое впечатление, что никто ничего не делает и никакого боя вокруг нет. Между тем пули не переставая взвизгивали и щелкали по щебню, и отбитые камешки рикошетом вылетали из туннеля.
Генерал отошел подальше и стал подниматься по железнодорожной насыпи. Он поднимался с напряжением, упираясь руками в колено. Его ноги все время скользили, срывались. Трава была сырая и скользкая. Из-под каблуков скатывались вниз камешки. Он подымался косо, по диагонали. За ним следовал адъютант. Когда они добрались до железнодорожного полотна, они легли, стараясь, чтобы их головы не возвышались над рельсами. Генерал осторожно выставил над рельсами свой небольшой перископ. Адъютант разложил возле генерала карту. Они стали, не торопясь, ориентировать карту на местности, делая на ней отметки карандашом. В некоторых местах вверх по насыпи косо карабкались солдаты с автоматами на шее. Добравшись до железнодорожного полотна, они некоторое время лежали плашмя, спрятав головы, а потом быстро вскакивали и, согнувшись, кидались через рельсы и скрывались. Очевидно, они скатывались по ту сторону и где-то там накоплялись. В это время немецкие пули начали визжать особенно часто, и особенно часто разрывались на склонах лощины немецкие мины, раскидывая вокруг себя пучки вырванной травы и земли. Один солдат задержался наверху дольше других, а потом стал спускаться обратно. Он подошел к девушкам-санитаркам, держа перед собой вытянутую руку. Это был высокий, молодой, красивый парень со шлемом на затылке. Ремешок шлема крепко стягивал квадратный подбородок. Плащ-палатка была откинута за спину. Она грубо шуршала. Он протянул девушке дрожащую руку с ярко окровавленным пальцем. Палец был перебит пулей. С него капала кровь. Девушка полезла в сумку и быстро забинтовала ему руку. Он не уходил.
— Ну, чего ж ты стоишь? — сказала она. — Все!
Он осторожно обнял ее забинтованной рукой за плечи и заглянул ей в глаза.
— Галя, — сказал он ласковым голосом с глубокими басовыми оттенками очень молодого мужчины.
Очевидно, они были хорошо знакомы, а может быть, и любили друг друга.
— Ну, — сказала она, подымая к нему свое широкое, курносое лицо с зеркальными глазами.
— Галичка, я тебя очень прошу, будь товарищем, дай пару индивидуальных пакетов. Я свои истратил на Сергея.
— Никак не могу. У меня у самой всего шесть штук в сумке осталось.
— Дай, золото, чтоб мне потом не пришлось зря ползать взад-назад! По нашей дружбе.
— Ну, посуди сам, как же тебе могу дать, когда у меня у самой шесть?
— А ты дай два.
— Как же! Тебе два. Другому два. Потом еще кто-нибудь увидит, что я тебе даю, и себе потребует.
— Никто не увидит, — прошептал он ей на ухо.
Она жарко покраснела и быстро сунула ему в руку два индивидуальных пакета.
— Только никому не говори. И — ша! Все. Иди.
Она воровато оглянулась, и вдруг лицо ее вспыхнуло еще жарче. Рядом с ней стоял другой солдат с протянутой рукой. У него было унылое и вместе с тем лукавое лицо и нос, запачканный землей.
— А мне?
— Ну, так я и знала. Одному дай. Другому дай. А я с чем останусь? Мне людей надо перевязывать. Иди себе.
Но он продолжал стоять с неподвижно протянутой рукой. Она плюнула и положила ему в руку индивидуальный пакет.
— И чтоб я вас здесь больше не видела. Ну? Кому я говорю? Идите, воюйте. Нечего здесь...
Они подтолкнули друг друга локтями, подмигнули и пошли, грубо шурша плащ-палатками, в туннель, шлепая по воде сапогами. Высоко над головой, в голубом просвете, меж трех тяжелых движущихся облаков, показался маленький немецкий корректировщик. Он неторопливо кружился, делая восьмерки. Потом он улетел. Все замерли, ожидая артиллерийского налета. Общее душевное напряжение дошло до предела. Клава озабоченно посмотрела вверх, потом в направлении противника. Она вытерла рукавом пальто пот, выступивший у нее на лбу. На ее худых щеках заиграл легкий румянец. Она села на землю, прислонившись к колесу «виллиса». Все звуки, которые слышались вокруг, — легкое чирикание пуль, тоненькое посвистывание мин, отдаленный грохот бомбовых ударов, автоматные очереди, рев коров, — все эти звуки как бы отошли на задний план, как бы вышли из зоны нашего внимания, очистив место тишине, на фоне которой мы должны были уловить зловещее дуновение издали приближающеюся первого немецкого снаряда. Но в это время вдруг разразилась короткая июльская гроза. Все окуталось темным и душным дымом ливня. Предметы, люди и формы местности потеряли очертания — стали дымчато-серыми. Стеклянные иглы ливня косо пробежали по колено в ручье, заставляя его кипеть и дымиться. С пироксилиновым треском на голову посыпались сухие ящики грома. При сернисто-едком блеске молнии мы увидели, как генерал и адъютант вскочили на ноги, перемахнули через рельсы и скрылись по ту сторону насыпи. Вслед за ними на ту сторону стала быстро перебираться и наша моторизованная пехота.
— Ох, батюшки, — сказала Клава, прижав руки к сердцу.
Она вскочила и побежала в трубу туннеля. Через минуту она вышла оттуда, гоня перед собой корову. Корова бежала тяжелой, неуклюжей рысью, и ливень вдребезги разбивался об ее сразу потемневшую шкуру. Клава бежала за коровой, придерживая у подбородка накинутое на голову пальто. Ее узкие губы были яростно сжаты. На лицо падали мокрые пряди волос. Она шлепала кирзовыми сапогами по бурному ручью. За ней две суетливые старухи с белыми от ужаса глазами тащили из трубы туннеля сундук.
— Ну, что же вы? — крикнула Клава, пробегая мимо меня, и сердито дернула плечом.
Я понял и побежал в туннель. Пока все вокруг было окутано темным дымом обложного ливня, следовало эвакуировать туннель. Я схватил за повод двух лошадей, жавшихся к стене, и выбежал вместе с ними из туннеля. Люди сразу поняли, что от них требуется. Я никак не предполагал, что в туннеле может поместиться столько народу. Только они все бросились бежать, гоня перед собой скотину и таща свои мешки и пожитки. Оказалось, что у них есть и тележки. Они выкатывали на тележках сундуки, жестяные корыта, кровати, матрасы. Они крестились при каждом ударе грома, и при вспышках молнии у баб на руках блестели серебряные обручальные кольца. Толпа пробежала по лощине и скрылась в глубине за поворотом. Ливень продолжался, но теперь в его душную среду, как из распахнутых ворот, ворвался очищенный грозой сильный, свежий и роскошный запах на сотни километров цветущей гречихи, поспевшей ржи, ромашки, чернозема, укропа. И две девушки-санитарки, с наслаждением подставив головы под ливень, мыли волосы дождевой водой, которая щедро лилась на них с неба. Они мыли волосы мылом. Мыльная пена, взбитая на кудрявых волосах, текла по веселым, раскрасневшимся лицам. Они выжимали волосы, полоскали их, снова мылили и снова полоскали под теплыми потоками июльского ливня. Они были очень рады, что им так хорошо удалось воспользоваться случаем помыть голову. Они мыли друг другу волосы, и я слышал, как они между собой разговаривали, перебивая друг друга и хохоча.
— Покрепче, Галичка, покрепче, — говорила одна, — не стесняйся. Дери, отдирай.
— Я и так деру изо всех сил.
— А ну-ка еще намыль.
— Я и так мылю.
— Мыль, не жалей. По крайней мере, будем наконец с чистыми волосами.
— Ух, какая мягкая водичка!
— Красота!
Они мыли друг другу головы земляничным мылом, и вокруг них стоял благоухающий запах теплой и свежей земляники, который смешивался с горьким, медовым запахом гречихи.
— Катя, ты уже себе платье в военторге по ордеру взяла?
— Взяла.
— А я еще не успела. Хорошее платье?
— Ничего себе. Голубенькое, вискозное. Очень приличное.
— Надо сбегать, а то расхватают.
— А ты не зевай.
Мыльная пена падала в ручей, и ее уносило течением в трубу туннеля.
В это время с насыпи, сгорбившись, сбежал генерал, скользя и разъезжаясь сапогами по мокрой траве. Он перепрыгнул через ручей и протянул мне какой-то ярко-красный, глянцевитый предмет, похожий на печень.
— Возьмите, — быстро сказал он.
— Что это?
— Пистолет, который я приказал для вас достать лейтенанту.
И он сунул мне в руку маленький пистолет в кобуре, сплошь залитой кровью.
— С убитого немца? — спросил я.
— Нет. Это пистолет лейтенанта.
— Что случилось? — закричала Клава, подбегая к нам.
— Ничего не случилось, — сказал генерал сумрачно.
Он некоторое время молчал. Дождь стекал по его черному от копоти лицу. Он снял фуражку и вытер серую голову платком. Потом он надел фуражку.
— Лейтенант убит, — сказал он.
Клава всплеснула руками.
— Возьмите, — сказал генерал решительно. — Выполощите кобуру в ручье, а свой «бреветтато» выкиньте.
Я некоторое время стоял, не зная, что делать, и держал перед собой окровавленную кобуру с пистолетом лейтенанта. Все это было, как во сне. Потом я вынул из кобуры маленький, ладный, чистенький, хорошо смазанный маузер и выполоскал кобуру в ручье.
Дождь прекратился так же внезапно, как начался. Выглянуло очень горячее и очень резкое солнце. Сразу стало жарко. От вымокших солдат валил пар. Из туннеля, согнувшись, вышел маленький офицер в плащ-палатке. Это был командир батальона моторизованной пехоты. Ему было жарко. С плащ-палатки текла вода, и плащ-палатка дымилась на солнце. Жаркие, зеркальные отражения уже низкого солнца били в глаза из ручья и луж. Маленький офицер в грязных сапогах с автоматом на шее подошел к генералу и остановился, ожидая приказаний. Из-под его шлема по вискам струился мутный пот.
— Ну? — сказал генерал, хмурясь. — Выбили?
— Никак нет. Невозможно подойти. Они сидят во ржи. Их не видно. А они стреляют на выбор.
Генерал еще больше нахмурился. Он послюнил указательный палец и поднял его вверх, желая определить направление ветра. Генерал был весь мокрый. Его комбинезон почернел. От спины шел пар.
— Подожгите рожь! — резко сказал он.
— Пробовал. Не горит. Сырая.
— Сырая! — сказал генерал раздраженно.
Он некоторое время всматривался в лицо командира батальона, который стоял перед ним навытяжку с автоматом на шее, в темной от дождя плащ-палатке, дымящейся на жарком, сухом солнце. Потом генерал вынул из большого нагрудного кармана свернутую, как салфетка, карту и показал карандашом рубеж, который должен был занять батальон, выбив немцев из ржи перед виадуком. У командира батальона был насморк. Он несколько раз судорожно потянул носом. У него были утомленные глаза, окруженные сетью суховатых морщин, и маленькие подстриженные усики.
— Пошлите за телом лейтенанта грузовик, — сказал генерал.
— Слушаюсь, — сказал командир батальона.
Генерал стоял, сильно жмурясь от солнца.
— А бензином вы не пробовали? — вдруг спросил он и снова стал всматриваться в серое лицо командира батальона.
— Бензином не пробовал.
— Напрасно. Идите. Подожгите. Я вам обещаю орден Отечественной войны первой степени. Я вам его надену на грудь лично на поле боя. Вы знаете, что я держу свое слово. До свидания, желаю успеха. Действуйте. Не забудьте грузовик.
Генерал протянул командиру батальона руку. Командир козырнул и скрылся в туннеле. Через несколько минут к виадуку, подпрыгивая, примчался грузовик, из которого на землю сбросили четыре железные бочки. Их тотчас вкатили в туннель. Я выбросил «бреветтато» в ручей и надел на пояс пистолет лейтенанта, такой же ладный, маленький и надежный, каким был и его хозяин. По ту сторону железнодорожной насыпи дружно застучали пулеметы и послышалось несколько взрывов ручных гранат. Мы заглянули в туннель и, как в подзорную трубу, увидели стену помятой, поломанной ржи, по кромке которой бушевали красно-черные языки пламени. Ветер гнал огонь на немцев. Огонь с чудовищной быстротой пожирал рожь. В клубах черного, серого, белого дыма метались с поднятыми руками серо-зеленые фигурки немцев. Мы услышали звук сотен голосов, нестройно закричавших «ура», и все смешалось в дыму и пламени.
— Поехали, — сказал генерал, пряча в нагрудный карман карту и сверток с орденами лейтенанта.
Мы сели в «виллис» и помчались. Теперь машину вел сам генерал. Рядом с ним, кутаясь в пальто, пристроилась Клава. Шофер сел рядом со мной, а рядом с шофером сел незнакомый мне лейтенант, которому генерал велел ехать с нами, так что опять сидеть было неудобно. Генерал вел машину с отчаянной скоростью. Опять приходилось изо всех сил держаться за борта машины. Нас опять валило и стукало друг о друга. Мы сидели со стиснутыми зубами. Когда мы приехали к тому месту, откуда выехали, как это ни странно, был уже вечер и в небе стояла бледная, мутноватая луна. Но она еще не отбрасывала теней. Генерал резко остановил машину возле своей палатки. Миска с гусятиной стояла на своем месте, но вокруг нее земля была разворочена авиабомбами. Оказалось, что, пока мы были в отлучке, на штаб корпуса дважды налетала немецкая авиация. К счастью, потерь не было. Миска гусятины была вся засыпана черной, рыхлой землей.
— Клава, — сказал генерал, когда мы выскочили из машины. — У нас что-нибудь есть?
— Нету, — сказала Клава.
— А сосиски?
— Сосиски есть.
— Так дай же нам, ей-богу, хоть сосисок.
Она ушла в палатку и вернулась с банкой американских сосисок, которые уже давно всем осточертели. Она стала открывать жестянку немецким тесаком. Пока она открывала жестянку, генерал стряхивал с дивизионной газеты землю. Несколько штабных девушек подбежали ко мне.
— Вы там были? Это правда? Неужели?
Я показал им пистолет лейтенанта с кобурой, пробитой пулей. Они обернулись. Я увидел девушку-радистку, которая стояла в отдалении, худенькая, стройная, в острой пилотке, из-под которой на очень белую щеку падала волнистая прядь каштановых волос. Она некоторое время стояла молча, потом так же молча повернулась и, сгорбившись, ушла.
Генерал вынул зубами пробку и налил немного водки в кружку. Он задумался, а потом одним духом, не закусывая, выпил.
— Ты, Клавдия, не расстраивайся, — сказал он мягко, поймав девушку за руку и стиснув ее пальцы своей темной крепкой рукой.
Она вытерла рукавом лицо.
Мимо нас один за другим ползли, переваливаясь, танки, торопясь до наступления темноты перейти речку через мост, который беспрепятственно заканчивали саперы.
1946
Новогодний рассказ[62]
...Тогда я выскочил из ниши и быстро повернул за угол. Они меня не заметили, хотя прошли в двух шагах. Я даже почувствовал их запах, очень типичный запах румынской казармы и какого-то жира, вероятно, ворвани, которым они обычно смазывают свои сапоги зимой. Кажется, они считали, что ворвань предохраняет от холода или что-то в этом роде. Я ненавидел этот запах, который меня преследовал всюду. Меня от него тошнило. Было градусов пятнадцать ниже нуля при сильном норд-осте. Но я не чувствовал холода. Меня прошиб горячий пот. Сердце колотилось.
По роду своей службы и по своей человеческой природе я не трус. Но меня ужасала мысль опять попасть к ним в руки, после того как я так здорово от них ушел. Это было бы просто глупо. У меня была надежная явка. Она находилась в противоположном конце города. Там я мог отсидеться. Мне нужно было пересечь город. Я решил идти напролом через центр. Инстинкт и опыт подсказывали мне, что это самое безопасное. Риск, правда, был громадный. Но вы сами понимаете, что в нашем деле без риска не обойдешься. Нужно только иметь крепкие нервы. Нервы у меня были крепкие. Расчет состоял в том, что человек, который совершенно открыто идет ночью по городу, объявленному на осадном положении, меньше всего может возбудить подозрение. Раз человек идет так открыто и так спокойно, значит, он «имеет право». Я знал по опыту, что патрули редко останавливают такого человека.
Я шел четким, военным шагом. Эхо шагов громко отражалось, как бы отскакивало от черных фасадов, почти сливавшихся со звездным небом, по которому со свистом проносился ледяной норд-ост. Внешне я очень подходил для роли человека, который «имеет право». На мне был короткий романовский полушубок, крепко подпоясанный широким ремнем, кубанка и почти новые румынские офицерские сапоги. Всего этого, конечно, нельзя было рассмотреть в темноте, но при слабо льющемся свете звезд мой силуэт должен был внушать полное доверие любому патрулю. Мне не хватало шпор, и я возмещал их отсутствие громкими четкими звуками строевого шага. Каждый шаг причинял мне адскую боль, так как чужие сапоги были не совсем ладно скроены и грубый шов между голенищами и головкой до такой степени натер подъем правой ноги, что я готов был кричать. Мне казалось, что мясо на ноге протерто до кости. Иногда мне хотелось плюнуть на все, сесть на тротуар и снять сапог. О, какое бы это было блаженство! Мне приходилось собирать всю свою волю, чтобы заставить себя идти дальше. И я шел, шел. Я даже не мог позволить себе роскошь идти медленно, ступая не на всю подошву больной ноги, а лишь на носок. Тогда бы у меня была жалкая, хромающая походка, и я бы уже не был человеком, «имеющим право».
Кроме того, когда я выпрыгнул из грузовика, перескочил через кладбищенскую ограду и потом бежал, виляя, между крестов и памятников, по мне открыли пальбу, и одна пуля зацепила левую руку немного пониже плеча. Тогда я не обратил на это внимания и почти не почувствовал боли. Я тогда почувствовал лишь небольшой удар и ожог. Но теперь плечо начинало сильно болеть. Оно опухло, горело, сочилось. Весь рукав сорочки был мокрым. И мне уже трудно было размахивать рукой на ходу. Я заложил ее за пояс. Кроме того, я несколько дней не ел, не умывался, не брился, не раздевался. Это все создавало во мне тягостное ощущение физической нечистоплотности и подавленности, с которыми я боролся, собирая все свои душевные силы.
Вероятно, у меня начинался жар, так как в голове мутно шумело, и я почувствовал повыше ключицы быстрое стрекотание пульса. Наступил момент, когда мне стало так плохо, что я готов был забраться в развалины первого попавшегося дома, лечь среди скрученных железных балок и кусков известняка и уткнуться лицом в битое стекло, так нежно и так соблазнительно мерцавшее при голубом свете звезд. Но в тот же миг я заставил себя еще тверже ударить подошвой в тротуар и в такт шагов громко, на всю улицу засвистел мотив из оперетты «Граф Люксембург», совершенно не отвечавший моим вкусам, но в высшей степени свойственный тому человеку, в которого я превратился в эту ледяную, смертельно опасную полночь. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне кажется совершенно невероятным, каким образом мне удалось пройти почти через весь город и ни разу не быть остановленным ни одним патрулем. А этих патрулей на моем пути попадалось, по крайней мере, три, и ни один не задержал меня. Я прошел мимо них, стуча сапогами и свистя из «Графа Люксембурга», так легко и просто, как будто бы на мне была шапка-невидимка.
Одна мысль, одно чувство владело мною: сознание ответственности перед родиной, которая доверила мне жизнь нескольких десятков своих лучших, храбрейших сынов — членов моей подпольной организации, — связь с Москвой, адреса, явки, — одним словом, все то, что помогало победе, в особенности сейчас, в дни решительного перелома на всех фронтах. Минутами я даже переставал чувствовать тяжесть своего измученного тела, переставал чувствовать боль, и меня как бы весло на крыльях сквозь развалины этого страшного мертвого города, иногда встававшие на моем пути, как беспорядочное скопление черных декораций, осыпанных воспаленными звездами.
Я помню громадный сквер в центре города. Тонкие деревья, согнутые в дугу, дрожали от норд-оста. Помню широкую асфальтовую дорожку, проложенную по диагонали через этот сквер, помню высокий черный памятник Воронцову в плаще, седом от инея. Узкая фигура Воронцова, как бы слабо начертанная мелом на фоне звездного неба, проплыла мимо меня в воздухе, как прозрачный призрак. Я прошел по диагонали через весь сквер и снова стал переходить из улицы в улицу. В тех местах, где были разрушенные дома, становилось немного светлее. Светлее было и на перекрестках. Там было больше звезд.
Я подходил к какому-то перекрестку, когда увидел перед собой на углу две человеческие фигуры. Они как раз в ту минуту закуривали. Маленький огонек зажигалки среди кромешной тьмы показался мне большим, как костер. При его свете я хорошо рассмотрел этих двух. Я сразу понял, кто это такие. Это, несомненно, были два агента, совершающие свой тайный ночной обход. Они всегда ходят попарно. На перекрестке они разделяются: один идет по одной улице, другой — по другой. Таким образом, они обходят квартал и снова встречаются на перекрестке. Человек, попавшийся на их пути, никуда не может уйти от них, если бы даже он и повернул назад. Они обменялись несколькими словами и разошлись. Один свернул за угол, а другой пошел прямо на меня. Я уже слышал стук его сапог и запах ворвани. Его силуэт по очереди закрывал выбеленные стволы акаций. Несомненно, он тоже видел меня. Встреча была неизбежна. Переходить на другую сторону улицы не стоило: он все равно остановил бы меня. А у меня не было никакого оружия. Ах, если бы у меня был хотя бы простой перочинный нож! Сейчас он подойдет ко мне вплотную, осветит фонариком и потребует ночной пропуск. Тогда я сделал единственное, что мог сделать. Не меняя шага и продолжая свистеть из «Графа Люксембурга», я круто повернул и подошел к первым попавшимся воротам.
Я попытался открыть их, но они были заперты. Тогда я взялся за толстую проволоку звонка и несколько раз дернул за нее. Проволока зашуршала, завизжала, раскачивая где-то в глубине двора колокольчик, и через несколько мгновений колокольчик раскачался и зазвенел. Я никогда не забуду резкий, неровный звук этого медного, валдайского колокольчика. В мертвой тишине мертвого города он показался мне громким, как набат. Я еще раз нетерпеливо дернул за проволоку, и в эту минуту меня осветили фонариком.
— Документы, — негромко сказал простуженный голос по-русски, но с омерзительным румынским акцентом.
Я не видел человека. Я видел только свет фонарика, бившего мне в лицо, я чувствовал запах ворвани. Теперь у меня оставался только один выход. Я собрал все свои силы, развернулся и наугад ударил в темноту кулаком. К счастью, я не промахнулся. Я был так разъярен, что не почувствовал ни малейшей боли, хотя мой кулак изо всех сил ударился в его костлявую скулу. Я в темноте схватил его за плечи, нашел его горло и, преодолевая боль раненой левой руки, обеими руками задушил его. Колокольчик в глубине двора еще не перестал качаться и побрякивал. Я взял труп сзади под мышки и поволок к лестнице, которая вела с улицы в подвал и столкнул его вниз. Надо было торопиться. Я опять нетерпеливо позвонил. На этот раз в глубине двора послышались тяжелые шаркающие шаги. Я почувствовал что-то под ногами. Это была, по-видимому, «его» шапка. Я поднял шапку и швырнул вслед за ним в подвал. Это была такая же кубанка, как и у меня. От нее тоже пахло ворванью. Меня чуть не стошнило. В эту минуту ворота открылись. С тем же не покидавшим меня ни на один миг чувством человека, для которого нет и не может быть никаких препятствий, я, громко свистя из «Графа Люксембурга», прошел мимо дворника во двор. Впрочем, я не знаю, был ли это дворник или дворничиха. Я, не останавливаясь, как призрак, прошел мимо какой-то маленькой, согбенной, что-то старчески бормочущей фигуры, закутанной в тулуп и позванивавшей связкой больших ключей. Я услышал за собой тягостный кашель и такой горестный, такой глубокий, скрипучий вздох, что у меня сердце перевернулось от жалости к этому неизвестному мне человеку, которого я даже не успел рассмотреть. Но мне почудилось, что все горе растерзанного и лишенного души города выразилось в этом тягостном, скрипучем кашле и вздохе.
Совершенно не обдумывая своих поступков, я прошел строевым шагом через весь двор, обогнув обледеневший фонтан с каменной пирамидой посредине и с чугунной цаплей на этой ноздреватой пирамиде. Корпус четырехэтажного дома находился в глубине двора. При слабо льющемся свете звезд со своими слепыми, черными окнами он показался мне мертвым, угрожающе страшным и вместе с тем почему-то до ужаса знакомым, хотя я мог бы поклясться, что никогда здесь не был.
Единственная наружная дверь вела в дом. Она была открыта. Она резко чернела. Я поднялся по трем обледеневшим ступеням и вошел в лестничную клетку. Входя, я слышал, как дворник, гремя ключами, запирал ворота.
В лестничной клетке было совершенно темно. Я протянул руку в сторону и нащупал косяк какой-то двери. Я провел рукой по рваной клеенке и натолкнулся на почтовый ящик. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я постучал кулаком в дверь. Я постучал не робко, но и не требовательно. Я постучал так, как стучат знакомые. И тотчас дверь открылась. Можно было подумать, что меня ждут.
— Прошу вас, — сказал женский голос из темноты. — Извините, у нас темно, опять нет тока. Пойдемте. Не ударьтесь.
Она закрыла дверь на ключ и на цепочку, взяла меня за рукав и повела по темному коридору, сильно пахнущему дезинфекцией. В глубине слабо светилась полуоткрытая дверь.
— Я была уверена, что вы уже не придете. Я не знала, что у вас есть ночной пропуск. И все-таки вас ждала, ждала, — шепотом говорила женщина. — Она только что заснула. Она весь день страшно металась. Я думала, что сойду с ума. Я клала ей на голову лед. Я правильно поступила?
Мы вошли в маленькую, страшно холодную комнату, показавшуюся мне черной от копоти. На обеденном столе без скатерти в блюдечке с маслом горел фитиль, скрученный из ваты. Маленький язычок пламени колебался над обгорелым краем блюдца, шатая на стенах громадные тени стульев и решетки кровати. Стены смугло искрились, как бы посыпанные бертолетовой солью. Я понял, что стены заиндевели.
Женщина взяла блюдечко с огоньком и подняла его над кроватью. Тени на стенах переместились, и стены заискрились еще волшебней. Женщина была в валенках, в пальто, в платке. Ее лица почти не было видно. Торчал только заострившийся нос. Но, судя по голосу, это была молодая женщина.
На кровати, укрытая горой шуб, лежала на спине девочка лет тринадцати с очень нежным, очень прозрачным и вместе с тем воспаленным лицом, с потрескавшимися губами, казавшимися совсем черными, с остановившимися, ничего не видящими светлыми глазами за решетками слипшихся ресниц. На ее лбу лежал свисший на сторону пузырь со льдом. Она стонала и быстро разговаривала в бреду, двигая мучительно сжатыми бровями и дико озираясь по сторонам. Женщина поправила на голове девочки пузырь со льдом и обратила ко мне глаза, полные слез.
— Вы видите? — сказала она шепотом и вдруг впервые увидела меня.
Ее глаза расширились. Она вскрикнула. Ее рука с блюдечком задрожала.
— Кто вы такой? — закричала она в ужасе. — Что вам здесь надо?
И в тот же миг я увидел в углу комнаты свое отражение в узком туалетном зеркале, туманном от холода. Страшный, небритый, с красными, воспаленными глазами, с расцарапанным лицом, с засохшей кровью на пальцах левой руки, в грязном полушубке и с кубанкой, надвинутой на лоб, я сам показался себе страшным. А она стояла передо мной, дрожа всем телом, и продолжала кричать, повторяя:
— Что вам здесь надо? Кто вы такой?
Я совершенно не представлял себе, куда я попал и что надо теперь делать. Я только твердо знал, что если она не перестанет кричать, то разбудит весь дом, и тогда я наверняка погиб. И я в первый и, по всей вероятности, в последний раз в жизни растерялся. В самом деле, что можно было сделать? Я почувствовал, как силы оставляют меня.
Для того чтобы не потерять сознания, я схватился за стол и сел на первый попавшийся стул. Я снял шапку, положил руки на стол, положил голову на руки и, теряя сознание, успел только пробормотать:
— Простите. Я сейчас уйду. Только, ради бога, не кричите, я вас очень прошу.
И я потерял сознание. Я потерял сознание всего лишь на несколько секунд. Это был очень короткий обморок. Но когда он прошел, голова моя была так тяжела, что я все никак не мог поднять ее от стола. Женщина уже не кричала. Я слышал недалеко от себя ее тихое дыхание. Наконец я поднял голову. Она сидела против меня за столом, охватив руками спинку высокого резного стула. Светильник стоял на столе между нами. Она смотрела на меня широко раскрытыми, но уже не испуганными и не удивленными глазами. Это были прекрасные глаза, большие, светло-зеленые, сероватого оттенка, блестящие молодо и нежно. У больной девочки были точно такие же глаза. Но это не были мать и дочь. Женщина казалась слишком молодой, чтобы иметь такую большую дочь. Я не сомневался, что это сестры. Старшая сестра продолжала молча смотреть на меня, двигая сжатыми бровями точно так же, как двигала младшая. Очевидно, в ней происходила усиленная умственная работа. Тонкие, широко и красиво разлетевшиеся брови придавали ее лицу выражение решительного спокойствия. Она была бы красавица, если бы не горестно сжатый бесформенный рот и две слишком резкие черты, соединяющий крылья носа с углами искусанных губ. Наши глаза встретились. Ее лицо медленно побледнело. Я думаю, что в эту минуту она совершенно отчетливо поняла, кто я такой, почему я здесь и что ей грозит, если меня найдут в ее квартире. Она видела перед собой смерть.
— Простите. Я сейчас уйду, — сказал я.
Она замахала руками и отрицательно затрясла головой. В ее глазах мелькнул страх. Я понял, что она напугалась не того, что может случиться с ней, а того, что я могу уйти. Она выбежала из комнаты, и я услышал стук каких-то запоров. По-видимому, она запирала дверь на дополнительные крючки. Когда она вернулась, она приложила палец к губам и некоторое время стояла передо мной, прислушиваясь к тому, что делается в доме. Но в доме было тихо. Подобие улыбки скользнуло по ее маленьким, бесформенным, искусанным губам.
Я незаметно вытянул под столом ноги, хотелось снять тесный сапог, чтобы хоть немного облегчить жгучую немыслимую боль. Мне казалось, что вся нога распухла. Она горела, как раскаленная.
Женщина подошла ко мне вплотную и озабоченно заглянула мне в лицо. Я совсем перестал владеть собой. Правда, я еще не стонал, но уже был близок к этому.
— Вам больно? — прошептала она.
Я кивнул головой.
— Что?
— Нога.
— Вы ранены?
— Натер. Я не могу снять сапог.
— Давайте сюда.
Она села передо мной на корточки и взялась за мой сапог. Мне было стыдно, но я уже не имел сил сопротивляться. Я только кряхтел. У нее были маленькие нежные руки с пальцами, очень тонкими на концах. Я заметил ее ноготки со следами облезшего красного лака. Наверное, она очень давно не делала себе маникюра. Она прикусила губы и тянула изо всех сил тесный сапог, который никак не поддавался. Она обливалась потом. Все-таки она его в конце концов стащила. Я ужаснулся, увидев портянку, которую она развернула двумя пальцами, — грязную, окровавленную тряпку с черными восковыми отпечатками пятки и пальцев. Она с отвращением бросила ее в угол. Но я почувствовал, что это отвращение не относилось ко мне, оно относилось к чему-то другому. Рана на ноге была довольно глубокая, но не такая страшная, как я себе представлял. Как только сняли сапог, рана перестала болеть. Я почувствовал блаженство. Но в ту же минуту новая боль заставила меня застонать. Это была раненая рука, о которой я почти забыл. Я не мог ею двинуть. Женщина внимательно осмотрела меня с ног до головы и показала глазами на рукав моего полушубка, который был разорван пулей пониже плеча.
— А это? — сказала она.
— Пуля, — сказал я.
Она покачала головой.
— А еще?
— Больше нет.
— Хорошо, — шепотом сказала она. — Сидите.
И она снова вышла из комнаты. Она вышла легкими, бесшумными шагами. Меня одолевал сильный жар, меня начало знобить, я едва соображал, что происходит вокруг.
Я потерял власть над временем. Время то неслось с невероятной быстротой, то вдруг останавливалось, и в этих бесконечно тягостных паузах остановившегося времени я слышал быстрое, неразборчивое бормотание больной девочки, ее вскрики, шорох шуб, которые она пыталась сбросить с себя в беспамятстве. Я почувствовал, что больше не в состоянии сидеть. Я боялся, что потеряю сознание и упаду. С трудом снял с себя полушубок, бросил его на пол к стене и лег. Она несколько раз приходила и выходила. Она что-то делала в комнате. Я несколько раз впадал в забытье.
Один раз я очнулся от резкого каменноугольного дыма. Она сидела на корточках перед маленькой печуркой, зажигала в печурке бумагу и сыпала на нее сверху мелкий каменный уголь. Уголь не зажигался. Тогда она, закусив губу, колола на полу кухонным ножом пенал. Это был именно пенал. Я хорошо запомнил его. Он был с переводной картинкой на крышке. Это, наверное, был пенал больной девочки. Я видел, как горели лучины, наколотые из пенала, а потом печка загудела. Волшебный зной распространялся по комнате. Искрящиеся стены потемнели. Коленчатая труба стала сумрачно-вишневого цвета, и по ней бегали золотые искорки.
Я помню, как женщина раздевала меня и как она лила йод на пулевую рану. Мне было стыдно своего ужасающего белья, но я не мог сопротивляться. Потом она поставила на пол эмалированную миску с нагретой водой и заставила поставить в нее ногу. Стоя на коленях и уронив на лицо каштановые волосы, она мыла мою ногу, и я чувствовал блаженство от прикосновения к воспаленной ноге душистой мыльной пены. Она принесла откуда-то пару мужского белья, синий шевиотовый костюм, от которого пахло нафталином, старые, еще довольно хорошие штиблеты. Она заставила меня переодеться. Теперь я сидел на маленькой скамеечке за раскаленной печкой и меня одолевал сон. Ах, если бы вы знали, какое это было блаженство! Она поставила передо мной на стул бритвенный прибор и зеркальце. Она заставила меня побриться. Я кое-как побрился, и она вытерла своими маленькими горячими руками мое лицо одеколоном. Она припудрила мое лицо. Это было очень хорошо, так как пудра скрыла царапины на щеках. Плавным движением руки она велела мне отвернуться. Я отвернулся. Она стала что-то делать за моей спиной. Я насторожился. Я осторожно посмотрел в мутное зеркало туалетного стола.
Комната отразилась почти целиком. Я увидел ее. Она ходила по комнате, роясь в углах и отыскивая какие-то вещи. Она двигалась по комнате плавно, неторопливо, но безостановочно, как бы кружась в непонятном для меня ритме, похожем на медлительное кружение крупного снега. Иногда в ее руках появлялось что-то цветное, пестрое, легкое, воздушное. Она открыла зеркальный шкаф. Вся комната двинулась и поплыла в зеркале. Я видел, как она зашла за то движущееся зеркало и теперь стояла за зеркалом. Она стала невидимой. Вместо нее была качающаяся комната, оплетенная золотистой паутинкой ночника. Она там, за зеркалом, что-то делала. Я увидел ее голую руку, которая выбросила из-за зеркала пальто, платок и валенки. Иногда ее обе руки подымались над зеркалом, две прекрасные нежные кисти, смугло освещенные ночником. Это продолжалось очень долго, я не переставая наблюдал за ее скрытыми, невидимыми движениями. Стукнули каблучки туфель. Тогда я понял, что она переодевается. Я успокоился и перестал следить за ней.
Меня разбудил воздушный шорох платья, летавшего по комнате. Она ходила по комнате в легком пестром, праздничном платье, с оголенными руками, с волнистыми, разлетающимися каштановыми волосами. В туфельках на высоких каблуках она казалась более рослой, стройной. Жаркий душистый ветер веял по комнате от ее развевающегося платья. А я опять сидел на скамеечке за печкой и следил за тем, как она набрасывала на стол чистую скатерть с украинской вышивкой. Потом в ее руках появились маленькие елочные свечи — тоненькие огарочки какой-то давней елки, вероятно хранившиеся на память в нижнем ящике гардероба. Она зажигала их и, накапав цветного парафина, прилепляла к подоконнику, к туалетному столу, к буфету. Скоро золотистые ряды огоньков, учетверенные двумя зеркалами, мягко затеплились, наполняя комнату елочным сиянием.
Она села на корточки перед буфетом и достала с нижней полки блюдо холодной жареной рыбы. Рыбы было совсем мало: два или три кусочка. Но по той важности, сияющей скромности, с которой она пригласила меня к столу, я понял, что это не просто ужин, а ужин, связанный с каким-то далеким-далеким, чудесным, праздничным воспоминанием. Мы сели друг против друга и стали есть. Мне было совестно, но я ничего не мог поделать со своим аппетитом. Я не ел три дня. Стараясь не торопиться, я жевал рыбу, показавшуюся мне лучшей рыбой в мире. А она совсем почти не ела. Она смотрела на меня сияющими глазами, по-видимому наслаждаясь тем, что впервые за все эти черные годы сидит за одним столом со своим человеком и ужинает. Потом она поставила на стол два бокала и с грустной улыбкой наполнила их водой из глиняного кувшина. Она отдала мне всю еду, которая была в ее некогда зажиточном, а теперь обнищавшем доме, но она не могла предложить мне вина.
Она подняла бокал и сказала:
— С Новым годом.
Я с недоумением посмотрел на нее. Она улыбнулась мне своей открытой, сияющей и вместе с тем бесконечно печальной улыбкой.
— С Новым годом, — повторила она. — Вы разве не знаете, что сегодня Новый год?
И я вдруг понял значение этих маленьких елочных свечек, наполнявших комнату своим ясным, живым трепетом, я понял значение этого воздушного, пестрого, праздничного платья, от которого веяло женским запахом духов «Красная Москва», я понял блеск этих прекрасных глаз, в которых как бы отражались какие-то другие, радостные, сияющие огни прошлого и будущего... И мою душу впервые за столько лет охватило такой нежностью, таким теплом.
— С Новым годом, — сказал я.
Мы подняли бокалы, глядя друг другу в глаза, выпили холодную воду, которая при блеске свечей показалась мне золотистой, как шампанское.
Девочка вдруг встрепенулась, сделала попытку вскочить. Ее глаза расширились, и она очень тоненьким и очень слабым голоском испуганно закричала:
— Маруся! Елка загорелась! Туши, туши! Горит вата! Пожар!
Женщина подбежала к сестре и стала ее успокаивать. Пока она возилась с пузырем, меняя в нем лед, я положил руки на стол, положил на них голову и заснул.
Вероятно, я спал долго. Когда я проснулся, женщина сидела против меня, положив острый подбородок на стиснутые, переплетенные пальцы рук и плакала. Она плакала совершенно беззвучно. Слезы бежали по ее лицу, и мне казалось, что в каждой слезе отражается чистый теплый огонек свечечки. Все лицо ее блестело текучими огоньками и сияло, как догорающая елка. Вдруг она подошла к окну, занавешенному одеялом, и прислушалась. Я тоже прислушался. Я услышал звук отпираемых ворот и кашель дворника.
— Вам нужно идти, — сказала она, — уже утро.
Она проводила меня до дверей.
— С Новым годом, — сказал я, поцеловав ее нежную руку и вышел.
Ворота уже были открыты. Но было еще темно, как ночью. Аквамариновая звезда, все это время стоявшая высоко в небе над фонтаном с цаплей, тронулась вместе со мной и вывела меня на улицу. Ветра уже не было. Немного таяло, как это часто бывает в новогоднюю ночь на юге. Чуть-чуть светало. Водянисто звонил церковный колокол. И вновь великая сила, владевшая моей душой все эти годы, подхватила меня и, как на крыльях, понесла сквозь сумрачный, полуразрушенный город, осыпанный умирающими звездами.
Но теперь этот город уже не казался мне лишенным души.
1947
Проклятый ветер[63]
Пете тогда было лет девять, и все случилось как в тяжелом, омерзительном сне, когда ужасы следуют один за другим, подчиняясь какой-то мрачной, неумолимой логике, совершенно независимой от доброй воли и хороших намерений человека.
Все началось с того, что Петя не пошел в гимназию, а вместо этого, засунув ранец за дрова, пошел на море. На гимназическом языке это называется пойти «на казну».
Он, конечно, понимал, что это большое преступление. Но он не сомневался, что его с радостью простят, когда увидят, сколько он наловил бычков.
Он был уверен, что принесет домой сотню больших, превосходных бычков. Он предвкушал триумф.
Кстати, во всем был виноват негодяй Колесничук.
Колесничук божился, крестился на церковь и ел землю, что знает на Среднем Фонтане место, где ловятся необыкновенные, сказочные бычки. Их можно легко и просто наловить две или даже три сотни. Их надо ловить обязательно в то время, когда дует особенный, чрезвычайно редкий ветер, который Колесничук называл загадочно «горищий-константинопольский».
В это утро под Петиными окнами появился негодяй Колесничук и стал делать знаки. По его красному, возбужденному лицу Петя сразу понял, что именно сегодня наконец задул «горищий-константинопольский».
Петя обжегся горячим чаем, выскочил во двор, засунул ранец за дрова, и они пошли, бодро шагая в ногу, на Средний Фонтан.
Действительно, дул «горищий-константинопольский», крепкий, довольно холодный ветер, и над взволнованным морем быстро шли — гряда за грядой — серые осенние тучи.
Мальчики сняли башмаки, подвернули штаны выше колен и по камешкам, над которыми пенилась сердитая вода, перебрались на скалы. Тут они, не теряя золотого времени, приготовили «куконы», для того чтобы нанизывать бычков, размотали с фанерных дощечек самоловы, наживили их сырым мясом, которое вынул из грязного носового платка Колесничук, и забросили со скалы в открытое море.
«Горищий-константинопольский», который должен был, по словам Колесничука, всячески содействовать улову, не только не содействовал, но, напротив, мешал, как мог. Он развел такую волну, что самоловы поминутно сносило и путало. Их все время приходилось распутывать. Мутные волны, полные тины, весьма напоминающие зеленый борщ, со всех сторон, как-то беспорядочно, били в скалу и окатывали мальчиков с ног до головы, как из ушата.
Они с трудом удерживались на скользком камне, цепляясь озябшими пальцами за трещины. Это было мученье.
Разумеется, они не поймали ни одного бычка. Но они не хотели сдаваться. С упорством отчаяния они продолжали распутывать проклятые самоловы, наживлять и снова забрасывать. Проклятый «горищий-константинопольский» крутил и раздувал леску, вырывал из воды пустые крючки и норовил всадить их в глаз или в ухо. И вдруг новые Петины башмаки, стоявшие на скале, — превосходные новенькие штиблеты, только что приобретенные в магазине Яковенко, легко скользнули и, как во сне, канули в воду. Канули вместе со своими новенькими гвоздиками, союзками, рантами, крючками, зелеными ушками и шнурками. Они булькнули и канули в пучину, покрытые омерзительно-зеленой волной.
Ледяной пот прошиб Петю. Ему показалось, что вокруг него обрушилась вселенная. Он жалобно улыбнулся и полез за ботинками в мутную воду, в глубине души понимая, что это дело безнадежное. Большая волна сердито покрыла его до пояса, и Петя стал карабкаться назад, но в это время его новая фуражка медленно сползла с головы и упала в воду.
— Хватай! — закричал Колесничук.
Но фуражка уже качалась на гребне волны, медленно наполняясь пенистой водой, — превосходная, совершенно новенькая фуражка с новеньким гербом, черным лаковым козырьком и красной муаровой лентой на дне, купленная лишь вчера в магазине Гураяника.
Фуражка медленно наполнялась водой и долго не тонула, но «горищий-константинопольский» относил ее все дальше и дальше в море. Она чрезвычайно медленно тонула, постепенно переходя из одного водяного слоя в другой, покачиваясь, уплывая и краснея своей муаровой лентой с золотым вензелем фирмы.
Отчаяние и бурная жажда деятельности охватили Петю, он быстро, дрожащими руками снял с себя гимназическую курточку и снова сделал попытку влезть в воду. Он просто прыгнул со скалы, но сразу же окунулся с головой в воду и не нашел дна, и Колесничук поймал его за руку и, пыхтя, вытащил обратно на скалу.
Но пока он его вытаскивал, Петина курточка медленно съехала со скалы, а следом за курточкой и пояс.
Скрученный пояс канул в воду так же быстро и безнадежно, как и башмаки, зато серая суконная курточка, совершенно новая, со светлыми блестящими пуговицами, твердым, еще не успевшим обмяться воротником и шелковой вешалкой с надписью «Бр. Ландесман», раскинув рукава, медленно поплыла вслед за фуражкой, увлекаемая в открытое море «горищим-константинопольским».
Тогда Жорка Колесничук схватил Петю за лодыжки и крикнул:
— Держи куртку!
Петя лег на скалу, свесился над водой и протянул руки к курточке. Она была еще совсем близко. Он даже почти схватил ее за рукав, но рукав как-то неосязаемо — как во сне! — скользнул по растопыренным пальцам мальчика, и волна отодвинула курточку еще немного дальше в море. Петя вытянулся изо всех сил, пытаясь снова схватить погружающийся рукав, но, вследствие закона преломления лучей в воде, обманулся и вместо рукава схватил длинную скользкую плеть морских водорослей.
А курточка, бледно мерцая светлыми пуговицами, причудливо преломлявшимися сквозь толстый слой мутно-зеленой воды, все уплывала и уплывала, теряя очертания, увлекаемая в открытое море беспощадным «горищим-константинопольским». Скоро ее не стало видно. Она набралась воды и затонула вслед за фуражкой.
Только теперь Петя понял весь ужас того, что произошло. Его лицо сморщилось, уши засветились, как красные фонарики, и он заревел самым жалким образом, как приготовишка.
— Ничего, — смущенно утешал его Колесничук, одной рукой крепко держа свои ботинки, а другой придерживая фуражку. — Ничего, Петька, не дрейфь. Если будут спрашивать, скажи, что потерял.
Самое возмутительное было это «если».
— Дурак, — произнес Петя, всхлипывая. — «Если» будут спрашивать! А то нет!
И он зарыдал, кусая губы и с ненавистью смотря широко открытыми глазами в разыгравшееся море, которое бесшабашно играло волнами и обдавало лицо брызгами, такими же солеными, горькими, как и его слезы.
— Скажи, что потерял, — тупо бормотал Колесничук, сам понимая, что говорит чепуху.
— Что потерял? — яростно закричал Петя.
— Ну... фуражку потерял, — сказал Колесничук.
— Фуражку! А пояс?
— Ну... и пояс.
— А ботинки?
— То же самое и ботинки... Скажи — потерял.
— А курточку? Сказать, что и курточку потерял? Да! Осел!
Петя сделал попытку ядовито улыбнуться, но вдруг совершенно ясно представил себе подлинные размеры постигшей его катастрофы — новые ботинки от Яковенко, новую фаружку и пояс от Бр.Гураяник, новую курточку от Бр.Ландесман, не говоря уже о пропущенных уроках, и с беспощадной ясностью понял, что он погиб. Погиб окончательно и бесповоротно.
Жить при таких обстоятельствах было невозможно. Оставалось одно — умереть. И он лег на мокрую скалу лицом к проклятому ветру, дрожа от холода и нетерпеливо ожидая воспаления легких.
С большим трудом Колесничуку удалось уговорить Петю идти домой. Он не обладал даром красноречия и все время повторял одно и то же:
— Ну, Петька, уже идем, а то дома будут беспокоиться.
Наконец он уговорил Петю, и они пошли домой.
Петя шел с красным, опухшим от слез, замурзанным лицом, — босой, без фуражки и без курточки, в нижней сорочке и подтяжках. В этих новых голубых, очень глупых подтяжках было что-то особенно унизительное.
Казалось, нет предела Петиному отчаянию. Но, видно, так уж устроено человеческое сердце, что оно не может вечно пребывать в отчаянии. Оно ищет утешения и находит его. По дороге домой Петя нашел утешение в виде ужа, которого мальчики поймали в небольшом болотце возле бетонной сточной трубы, под обрывом Среднего Фонтана. Собственно, ужа поймал Жорка Колесничук, но Петя выпросил его себе. Он так жалобно его просил, что Колесничук не мог отказать.
Петя с торжеством взял ужа за хвост и в один миг забыл весь ужас своего положения. Его душа ликовала. Принести домой живого ужа! Мальчик предвкушал триумф. Почему-то ему казалось, что настоящий живой уж приведет домашних в такой восторг, что всем остальным никто даже и не поинтересуется.
Конечно, фуражка, ботинки, пояс и курточка — это очень неприятно. Но что же делать! Ловля змей имеет свои отрицательные стороны. Впрочем, чего стоят все эти жалкие вещи в сравнении с ужом!
Несомненно, несомненно, все будут в восторге — и Павлик, и тетя, и папа. В особенности будет в восторге папа. Он часто говорил Пете словами Пушкина, что Петя «ленив и не любопытен». Так нет же! Пусть теперь знает, на что способен его сын.
Петя скромно подойдет к папе, положит ужа на письменный стол и скажет с достоинством, опустив глаза:
— Вот ты, папа, всегда говоришь, что я ленив и не любопытен, что я не интересуюсь естественной историей, а вот же, однако, я поймал ужа. И теперь я его буду воспитывать и изучать. Видишь?
И растроганный отец, совершенно не обращая внимания на отсутствие фуражки, пояса, ботинок и курточки, растроганно обнимет своего любознательного сына-естествоиспытателя.
Однако все вышло совсем не так.
Едва мальчики поднялись по обрыву наверх, как увидели Василия Петровича, который с тревожным лицом бежал по переулку. Было видно, что он уже давно бегает по дачам и приморским переулкам, разыскивая пропавшего Петю.
Только сейчас Петя с удивлением заметил, что дело идет к вечеру и в будке с арбузами и каштанами уже зажгли керосиновую лампочку.
— Негодяй, — сказал отец, бегло оглядев Петю. — Я все знаю.
— Папа, не кричи, — с достоинством сказал Петя. — Вот ты всегда говоришь, что я не интересуюсь уроками, а я поймал ужа. Посмотри. Ага!
Мальчик торжественно протянул к самому лицу Василия Петровича ужа, и глаза его засияли скромной гордостью.
— Видишь, папа, ты всегда говоришь...
— Сию же минуту выбрось эту мерзость! — взвизгнул отец и вырвал из рук Пети ужа.
Он дернул пресмыкающееся с такой силой, что оно разорвалось пополам. Затем отец взял мальчика обеими руками за плечи и стал трясти. Он его тряс и приговаривал:
— Где ботинки? Где пояс? Где курточка? Где фуражка?
— Ну, я уже пошел, — сказал Колесничук и, неловко раскланявшись, отправился восвояси, ковыряя носками ботинок землю.
А Василий Петрович все тряс Петю. Пенсне съехало с его вспотевшего носа и качалось на шнурке, как маятник. А он все продолжал, сжав зубы и выставив вперед бороду, трясти сына-естествоиспытателя, как грушу...
1948
Вечная слава[64]
В последних числах декабря 1941 года в одной из бухт на восточном берегу Крыма был высажен маленький десант моряков Черноморского флота. Он выбил превосходящие силы немцев из деревни, отогнал их в горы и в течение нескольких суток удерживал берег. Однако разыгравшийся небывалый шторм задержал высадку подкреплений, и все двадцать пять моряков пали смертью храбрых.
Эта трагедия произошла на том самом чудесном песчаном пляже, который составляет главную прелесть побережья и привлекает сюда каждое лето истинных любителей хорошего морского купанья.
Природа вокруг скупая, бедная. Что-то библейское, древнее есть в сухом гористом пейзаже. Растительности мало. Солнце, ветер. Но зато какой легкий воздух, какая чистая вода в заливе, какой песок, какое пламенное сине-зеленое море!
Когда вы сюда приедете, вам прежде всего покажут местные достопримечательности, и в первую очередь дом поэта Востокова, который, собственно, и открыл этот прелестный уголок.
Сам Востоков давно умер, забыт. Его стихи помнят лишь немногие любители. В энциклопедическом словаре Аполлинарию Востокову посвящено несколько строк: поэт-декадент, сторонник теории искусства для искусства и прочее. До революции он пользовался некоторой известностью, даже славой. По моде того времени поэт искал уединения и построил себе на диком берегу, где участки земли стоили буквально гроши, небольшой двухэтажный дом из местного камня с полукруглым фасадом вроде алтаря, с четырьмя узкими окнами, выходящими строго на восток, что должно было еще больше напоминать базилику. Впрочем, дом напоминал не столько базилику, сколько караимскую синагогу. Здесь Аполлинарий Востоков и жил круглый год в полное свое удовольствие, за исключением тех редких случаев, когда ему удавалось, скопив немного денег, месяца на два съездить в Париж. Там, надев фрак и цилиндр, взбив круглую каштановую бороду а-ля Жан Ришпен, он сидел по целым дням в кафе «Клозери де лила» за рюмкой абсента, обсуждая с французскими декадентами вопросы нового искусства. Возвратившись домой, в Крым, он, как Моисей, сошедший с горы, проповедовал своим ученикам и поклонникам последние литературные моды Монпарнаса.
В его доме всегда гостило множество приезжих, имеющих то или другое отношение к искусству, среди них непременно одна или две знаменитости. Их привлекали сюда море, хорошее купанье, дикая природа, дешевизна, легкий стиль жизни, любопытное общество, а главное — оригинальная личность самого Аполлинария Востокова. Сняв парижский фрак, он ходил по окрестностям в греческой тунике по колено и сандалиях на босу ногу. С головой Зевса и туловищем медведя, он был не только радушным хозяином, но также и учителем, арбитрум элеганцирум, неким оракулом, изрекавшим самые новейшие парижские истины; он был душой общества, законодателем вкусов. Больше того, он был местным божеством. Можно было подумать, что вся природа вокруг не больше чем создание его воображения. Он давал имена бухтам и скалам. Он свел с ума множество бездельников — среди них даже одного профессора, — которые с утра до вечера ползали по пляжу, собирая обточенные прибоем камешки, названные Востоковым странными именами: «фернампиксы», «слезки», «полинезийцы», «собаки». Изредка попадавшиеся камешки с дыркой он назвал «куриный бог». Их стали вешать на шею, как амулеты. Он создал легенду, что именно в местной бухте высадились аргонавты, искатели золотого руна, и даже показывал остатки мифического корабля — кусок старого дерева с бронзовым гвоздем. Он завел себе лодку с красным парусом. Этот красный парус в густой синеве круглого залива сообщал пейзажу нечто напоминающее Древнюю Элладу. В довершение всего сама природа как бы признала над собой верховную власть Аполлинария Востокова, изваяв для потомства удивительно похожий его профиль — высокий лоб, медвежий нос и бороду, — вырубленный на ребре разрушенного кратера погасшего вулкана, замыкающего с одной стороны великолепное лукоморье.
В мире происходили войны, революции. Востоков не принимал в них участия. Он продолжал жить в своем воображаемом мире, будучи уверен, что ему удалось на своем небольшом клочке земли возродить золотой век.
Он умер уже при Советской власти, до конца своих дней оставаясь все тем же неисправимым чудаком, для которого мир был не больше чем порождением его фантазии. Его похоронили согласно его желанию на вершине одного из холмов, откуда открывается поистине изумительный вид на весь залив и окрестности. На могиле нет ни креста, ни надгробной плиты, только рядом устроено подобие дивана, вырубленного в скале. Таким образом, появилась еще одна местная достопримечательность — «Могила Востокова», место отличных прогулок. На могилу Востокова принято вместо цветов класть наиболее редкие камешки с пляжа.
За могилой ухаживает вдова покойного поэта Ольга Ивановна, теперь уже старушка. Каждый год накануне дня смерти Востокова она непременно приходит на могилу и ночует на каменном диванчике под летними звездами. Она встречает восход солнца и затем возвращается домой. Ольга Ивановна свято чтит память Востокова и совершенно искренне считает его одним из самых выдающихся русских поэтов. Она хранит его кабинет в полной неприкосновенности, устроила из него нечто вроде музея и охотно показывает его избранным. В доме всегда живет несколько бестолковых старушек, поклонниц Востокова, которые помогают Ольге Ивановне поддерживать легенду о необыкновенной личности поэта и об его вечной славе.
Ольга Ивановна — очень отзывчивая, добрая женщина, вечно помогает кому-нибудь, любит детей, и дети ее любят. По профессии она врач и кончила когда-то медицинский институт, но профессией своей не занимается уже давно, с тех пор как соединила свою жизнь с Востоковым. Она полюбила его всей своей чистой и цельной душой, а полюбив, полностью и без остатка была поглощена его личностью, растворилась в ней. Она полюбила его стихи, его мысли, привыкла смотреть на мир его глазами. Одним словом, с ней случилось то же, что с одной чистой сердцем, милой русской женщиной из чеховского рассказа, которой так нежно восхищался сердитый старик Лев Толстой. Подобно Душечке, Ольга Ивановна потеряла себя и все время жила как во сне, даже после смерти мужа.
И лишь однажды, в штормовую декабрьскую ночь, она ненадолго очнулась и вдруг увидела мир своими собственными глазами, раскрывшимися от ужаса.
Нас познакомили, и Ольга Ивановна согласилась показать мне кабинет Востокова, который, кстати сказать, был также весьма недурным художником-пейзажистом. Я увидел то, что, собственно, и предполагал увидеть. Это была большая, в два света комната с деревянными антресолями в виде галереи и внутренней лестницей, обставленной в духе мастерской большого художника, где грубые предметы мастерства — подрамник, этюдники, мольберт, деревенские кувшины для кистей и мостахинов — сочетаются с произведениями изысканного искусства и разными редкостями. Много бронзы, восточных тканей, книг в парчовых переплетах, фотографий с автографами, автопортретов и пейзажей хозяина.
Но главной достопримечательностью кабинета была голова какой-то египетской богини — копия, вывезенная Востоковым из Александрии. Эта огромная голова смотрела прямо на вас сонными глазами, в какой бы точке вы ни находились. И через минуту или две казалось, что в мастерской больше нет ничего, кроме этого раскрашенного лица с тонкой, скользящей «улыбкой Джоконды», как поспешила заметить Ольга Ивановна, вероятно повторяя слова самого Востокова. Водя меня по мастерской, она с воодушевлением, как хорошо заученный урок, рассказывала о жизни и творчестве поэта, немного нараспев, девичьим голосом читала его стихи, а я слушал ее рассеянно, так как все это было мне уже давным-давно знакомо. Я смотрел на эту маленькую седую женщину, подстриженную, как мальчик, под гребенку, с загрубевшим от солнца морщинистым личиком, седыми усиками и синими наивными глазами, и продолжал недоумевать: что общего может быть между нею и всем этим вздором?
Наконец, мы поднялись вверх, наружу и очутились на полусгнившей площадке солярия. В ярком небе носились ласточки, лепившие гнезда под стрехой черепичной крыши. Солнце и ветер царили над миром. Мы сели на покосившуюся лавочку, накаленную солнцем. Я заметил недалеко от пляжа, покрытого загорелыми телами, среди зарослей дикой маслины памятник-обелиск, на который раньше не обратил внимания. Ольга Ивановна сказала, что это братская могила моряков-десантников. Так как Ольга Ивановна во время немецкой оккупации не успела уехать и оставалась в Крыму, мы, естественно, заговорили об этих страшных годах, — в частности, о неудачном морском десанте. Ее глаза засветились давно пережитым ужасом, и она, как бы очнувшись от сна, рассказала мне то немногое, что она видела и в чем принимала участие.
Как высаживались моряки, она не знает. Была мрачная ночь. Дул ледяной норд-ост. В море начинался шторм. Дом дрожал. По приказу немецкого коменданта после наступления темноты местные жители не имели права выходить наружу. Одна в темном нетопленом доме, Ольга Ивановна, как обычно, коротала эту бесконечно длинную декабрьскую ночь на турецком диване в мастерской, завернувшись в старый вытертый плед Востокова. При свете ночника она пыталась читать «Восстание ангелов» Анатоля Франса в подлиннике. Перед рассветом она забылась, и вдруг ее разбудила сильная стрельба под окном. Сквозь грохот шторма Ольга Ивановна услышала крики на пляже и даже уловила слова русской команды. Она осторожно отогнула маскировочную штору и увидела в окне мельканье электрических фонариков. Тогда она поняла, что это десант. Стрельба продолжалась, но теперь уже где-то в другом месте, дальше от дома.
Когда рассвело, Ольга Ивановна, дрожа от холода и страха, выглянула из дома. Буря вырвала из ее рук трясущуюся дверь и распахнула настежь. Штормовой прибой волок по обледеневшему берегу разбитую десантную шлюпку. На пляже в беспорядке валялось несколько пустых ящиков из-под боеприпасов и окровавленный труп немецкого солдата, уже успевший обледенеть. Множество тяжелых следов, пробивших ледяную корку пляжа, виднелось на изуродованном песке. Следы вели в сад и дальше. Но в саду уже никого не было. Лишь поломанные кусты тамариска показывали направление, в котором действовал десант. Теперь уже бой шел в деревне, откуда моряки выбивали немецкий гарнизон.
В саду свистели шальные пули. Шторм неистовствовал. Горы стонали. За могилой Востокова вспухали тучи черного дыма. Это горел дальний город. Норд-ост приносил оттуда грохот взрывов, потрясавших окрестности.
Ольга Ивановна бросилась обратно в дом, с трудом заперла за собой дверь и несколько суток — она не помнит сколько — провела одна, прислушиваясь к звукам боя, которые то приближались, то удалялись, то надолго смолкали, то вдруг начинались с новой силой. А шторм продолжал бушевать еще злее. Брызги, замерзая на лету, как крупная дробь, секли стены дома и выбивали стекла.
На вторую или третью ночь Ольга Ивановна вдруг почувствовала, что в ходе боя произошел какой-то зловещий перелом: с гор по деревне ударили немецкие пушки, а затем ручные гранаты стали рваться в саду.
И все повторилось, как в первую ночь, но только в обратном порядке.
Когда автоматы застрочили на пляже, Ольга Ивановна поняла, что моряки отступают. Видимо, их осталось совсем мало. Их огонь становился все слабее и реже. Это была агония. Внезапно раздался резкий стук в дверь. Стучали прикладом. Ольга Ивановна легла на диван и закутала голову пледом, чтобы больше ничего не слышать, ни о чем не знать. Стук повторился. Тогда она, повинуясь непреодолимому чувству, более сильному, чем страх, взяла со стола ночник. Дрожа с ног до головы, она открыла наружную дверь и увидела моряка в расстегнутом бушлате. Он проворно вошел в дом, говоря на ходу:
— А ну, гражданка, давайте собирайтесь в какое-нибудь укрытие. Куда у вас тут выходят окна? Мы сейчас будем занимать огневую позицию.
Вдруг он пошатнулся, чуть не упал на Ольгу Ивановну, но сделал усилие, удержался на ногах и, еле шевеля побелевшими губами, проговорил:
— Надо перевязаться.
Ольга Ивановна привела его в мастерскую и посадила на диван. Сняв с него автомат, она осмотрела его. Он был ранен в грудь навылет, под левую ключицу. Пуля пробила плечевой сустав. Пока Ольга Ивановна, наложив тампоны на выходное и входное отверстия, накрест, через грудь и шею, крепко перевязывала матроса маленькими ловкими руками, он сидел, стиснув зубы, и мычал от боли. Помятая осколками каска свалилась с его стриженной под машинку головы, и на лбу блестел холодный нот, хотя все его по-юношески худощавое тело дрожало и пылало, как печка. Он казался в беспамятстве.
Но едва Ольга Ивановна окончила перевязку и начала осторожно укладывать моряка на диван, как он вскочил на ноги и стал прислушиваться к стрельбе, которая все еще продолжала доноситься с пляжа. Теперь огонь вел всего лишь один пулемет короткими, часто прерывающимися очередями, аритмично стуча, как сердце умирающего. Наконец, замолчал совсем.
Моряк левой рукой поправил на втянутом животе пряжку с якорем и подобрал с пола автомат.
— Всех побили, один я остался, — сказал он голосом, осипшим от боли.
И тут он вдруг обратил внимание на музейное убранство комнаты и на голову египетской царицы. Загадочно улыбающееся лицо с подкрашенными щеками выступало из темноты. При шатающемся свете ночника оно смотрело в упор длинными глазами.
— Никак, у вас тут музей, — с уважением сказал моряк. — Что же вы меня не предупредили? А я было тут огневую точку наметил. Могли бы в бою что-нибудь покарябать. Извините. Пойду.
И он пошел, трудно передвигая ноги в резиновых сапогах. В дверях он остановился, как бы в последний раз в жизни желая посмотреть на мир, из которого уходил.
В этот миг Ольга Ивановна очнулась от сна, в котором пребывала всю жизнь.
Она увидела скуластое лицо моряка, его маленькие, темные, как изюминки, почти детские глаза, искусанный от боли рот, плоскую юношескую грудь, обтянутую мокрой тельняшкой под распахнутым брезентовым бушлатом, окровавленный бинт, и в ее душе вдруг с невероятной силой вспыхнуло и рванулось никогда еще не испытанное ею материнское чувство. Ведь это мог быть ее сын или внук — черноглазый мальчик, истекающий кровью. Ольга Ивановна бросилась к нему, обхватила руками и, бормоча: «Мальчик, мальчик мой!» — стала уговаривать остаться. Она хотела его спасти. Она обещала спрятать его в погреб, выходить, вылечить, выкормить. Она клялась, что никто ничего не узнает. Она шептала, что идти «туда» бесполезно, что все уже кончено и он только напрасно погибнет. Наконец, она требовала, как врач, чтобы он остался.
Моряк осторожно освободился от ее объятий, поправил левой рукой каску. С неодобрительной, строгой и вместе с тем насмешливо-ласковой улыбкой он сказал:
— Эх, мамаша, разве от войны спрячешься? Нам это не положено.
Затем он вышел из дома — она слышала его тяжелые шаги в резиновых сапогах по звенящей гальке, — лег за пулемет только что убитого товарища, исправил перекос ленты и через несколько минут сам был убит — последний из двадцати пяти моряков десанта.
Рассказывая это, Ольга Ивановна смотрела на меня широко открытыми синими глазами, из которых катились слезы. С пляжа доносились голоса купальщиков. Под нами с шорохом раскачивались ветви розовой акации, покрытые одновременно и цветами, и витыми стручками семян. На дорожке звенела галька под ногами бегающих детей. Раздавались редкие удары теннисного мяча. Покрытый пылью автобус вез курортников с пляжа.
Памятник погибшим морякам представляет обычного типа цементный обелиск. Он окружен якорной цепью, повешенной между четырьмя яйцевидными корпусами мин, распиленных пополам.
На обелиске имеется надпись: «Вечная слава героям — 25-ти морякам Ч.Ф., павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».
К подножию этого памятника вечной славы свободные и независимые советские люди приносят пучки бессмертников или же венки, свитые из колосьев пшеницы, веток душистой полыни, цветущих каперцов, дикой мальвы.
1953
Порт[65]
I
Странное зрелище представлял собою порт. Это было тягостное, необъяснимое соединение неподвижности и движения, шума и тишины. Но неподвижность и тишина как-то поглощали, таинственно скрадывали всякий шум и всякое движение. Медленно, тяжко катились товарные вагоны. Дискантом вскрикивали маневренные паровики. Стукались тарелки буферов, и музыкальный их звук убегал вдоль состава, как бы все уменьшаясь и уменьшаясь в перспективе. Мостовая дрожала от громадных грузовиков. Слышался ноющий звон где-то далеко брошенного и подскочившего рельса. Слышались людские голоса, кричавшие хором: «Вира помалу!» — и слабенькое, сонное «тирли-тирли» пароходной лебедки. Но все эти звуки казались так малы, так случайны среди подавляющей тишины, такой же громадной, как и самый порт.
Иногда среди развалин пакгаузов, на молах, чистых и пустынных, как тюремные дворы, показывались люди. Они медленно шли гуськом, неся на плечах длинное бревно или с усилием катя площадку, груженную бутом. Их сопровождал румынский солдат, в рогатой пилотке, со старым карабином за плечом, в грязных обмотках и сыромятных постолах — какой-нибудь мужик из Добруджи, с черными, небритыми щеками и таким унылым носом, что даже на расстоянии было видно, что ему смертельно скучно и стыдно.
Но даже и это движение, возникавшее то здесь, то там, в разных частях порта, не могло разрушить впечатления общего оцепенения и неподвижности, царивших над всей громадной территорией порта. Порт казался заколдованным. А сентябрьский день знойно сиял, солнце с беспощадным равнодушием калило смуглый, лобастый булыжник, по которому, воркуя, ходили аспидные портовые голуби и клевали коралловыми носиками кукурузные зерна.
Грязная зеленая вода, покрытая радужными пятнами нефти, почти незаметно подымалась и опускалась у пирсов, шевеля тину на сваях оторочек, обросших мидиями. Солнечные лучи золотистыми струнами уходили в сумрачную светло-зеленую глубину, косо пронизывая молочный абажур медузы с синими волнующимися краями. Зеркальные отражения моря жаркими жилками струились по бортам румынских пароходов, отчего казалось, что они как бы сделаны из живого мрамора. Крепко, солоно пахло гниющими водорослями, креветками, машинным маслом. Чайки кружились на неподвижно раскинутых косых крыльях, иногда хватая на лету с воды дохлую рыбку. Но и они не могли разрушить впечатления неподвижности — так плавны были их движения, медлительные, как во сне.
И только за волноломом, где густо синела чистая темная полоса открытого моря, издали казавшегося неподвижным, угадывалось вечное, неутомимое движение воздуха и волн.
«Оперативный простор!» — подумал Стрельбицкий, вместе с другими мобилизованными гражданами сбрасывая с плеча длинное бревно, которое с круглым, вкусным звуком ударилось о горячий булыжник и подскочило. Это было двадцатое бревно, которое они перенесли со склада на Платоновский мол, и прораб сказал:
— Перекур!
После каждого двадцатого бревна он говорил: «Перекур!» — и мобилизованные садились отдыхать, свесив ноги с высокой стенки и молча разглядывая сквозь слой воды розовую лапу старого якоря, вросшего в дно и покрытого мелкими ракушками. Часовой садился рядом и тоже смотрел на якорь, время от времени сплевывая в воду и с деланным равнодушием ожидая, когда начнут скручивать цигарки и предложат ему тоже закурить.
Отдыхали минут пятнадцать — двадцать, а то и все полчаса, и Стрельбицкий заметил, что прораб не очень торопится, хотя вид имеет чрезвычайно деловой, озабоченный. Он все время считал бревна, подписывал, приложив бумагу к развалинам стены пакгауза, какие-то документы, бегал по фронту работ — маленький, суетливый, в открытой рубашке «апаш», желтых туфлях и твердой соломенной шляпе, сдвинутой с потного лба на затылок.
Впрочем, если на молу появлялось портовое начальство — а начальство появлялось довольно часто: два элегантных брюнета в ультрамариновых пиджаках и кремовых теннисных брюках, с рулонами чертежей в руках и разноцветными карандашами в наружных карманах, а с ними офицер капитании, еще более элегантный и еще более черный, со шпорами на ботинках, множеством орденских ленточек и в громадной фуражке, расшитой золотом, — прораб замечал их издали и сейчас же начинал кричать страшным голосом:
— Встать! Построиться! Шагом арш! — и при этом так размахивал пачкой документов, что некоторые накладные вырывались из его рук и улетали, а он ловил их и продолжал кричать страшным голосом: — К чертовой матери с такой работой! Бездельники! Лодыри! Привыкли только митинговать! А в «Куртя Марциала», на Слободку, не хотите? Живо отправлю!
После этого он рысью бежал к начальству и бойко докладывал по-румынски о движении работы на своем строительном участке.
На этом строительном участке, как понял Стрельбицкий, занимались восстановлением так называемых оторочек — деревянных причалов, построенных впереди каменной стенки набережной и разрушенных бомбежками во время обороны города. Работа несложная. Несколько артелей носили со склада бревна. Бригада плотников делала сваи, которые забивали в дно на месте старых, разбомбленных. Такелажники крепили их железными скобами и настилали вдоль каменной стенки пол из дюймовых досок, которые тут же и строгали. Рядом в котлах варилась смола, которой покрывали сваи. Немного поодаль, на самом краю мола, возвышался копер для забивки свай в дно.
Народу на строительном участке работало много — человек полтораста, разбитых на артели. Сначала Стрельбицкого неприятно поразил образцовый порядок, царящий на участке. Строительные материалы были аккуратно сложены кучками и штабелями по всему фронту работ. Всюду были расставлены специальные вешки с номерами, отмечавшими каждую кучку и каждый штабель. Даже старые, разбитые и обгорелые сваи, вытащенные из воды, не бросали кое-как, а относили в отдаление и там складывали в большом порядке возле вешки со специальным номером.
«Ах, сукин сын! — с ненавистью подумал Стрельбицкий о производителе работ. — Небось при нашей власти ты так не старался. А теперь землю носом роешь, чтобы выслужиться перед этими гадами! Ну погоди, мы еще с тобой посчитаемся!»
Но через некоторое время, присмотревшись к работе строительного участка, Стрельбицкий заметил, что, несмотря на столь блестящую организацию фронта работ — а вернее сказать, именно вследствие этой блестящей организации, — работа шла на редкость канительно и бестолково. Так, например, для того чтобы бревно превратить в сваю, его нужно было сначала перенести метров за двести к пильщикам, а потом обратно метров за двести к плотникам, а от плотников еще метров за полтораста к месту, где варилась смола, откуда сваю — опять же на руках — следовало нести метров на четыреста к копру. Что же касается копра, то после каждой сваи его нужно было передвигать вручную, что занимало очень много времени. Впрочем, копер работал как-то странно: чугунная баба почему-то поднималась не на полную высоту, веревка часто срывалась, баба падала в воду, и ее долго приходилось вытаскивать, для чего вызывали водолазов.
Люди, работавшие артелями на строительном участке, мало походили на портовиков, каких обычно привык видеть в одесском порту Стрельбицкий. В общем, по внешнему виду это был какой-то сброд, скорее напоминавший обитателей дореволюционных ночлежек, чем советских рабочих. По-видимому, их нанимали прямо у ворот. Впрочем, попадались люди и другого типа — опрятно одетые советские граждане, в принудительном порядке присланные в порт биржей труда через полицию. Среди них Стрельбицкий заметил несколько человек явно интеллигентных, по-видимому школьных учителей или даже профессоров. Один из них — пожилой, в очках — был, несмотря на жару, в черном летнем пальто, белом пиджаке и с зонтиком, который вместе с кошелкой с помидорами лежал в сторонке, на мостовой пирса, — по всей вероятности, профессор, не пожелавший сотрудничать с оккупантами и в наказание за это отправленный в порт.
II
Когда наступило время обеда и производитель работ, обмахивая вспотевшее лицо соломенной шляпой, велел шабашить, Стрельбицкий подошел к нему и попросил разрешения отлучиться на несколько минут — повидать знакомого сторожа. Производитель работ с ног до головы осмотрел Стрельбицкого. Стрельбицкий старался держаться скромно и говорил почтительно, с теми мягкими, сдержанными черноморскими интонациями старого одесского грузчика, которые внушали собеседнику чувство уважения. Он и впрямь напоминал сейчас старого, прирожденного одесского грузчика: громадный, голый по пояс, с мешком на плечах, со скульптурно вылепленной мускулатурой, в подвернутых выгоревших штанах и тапочках на босу ногу; бритая блестящая голова, темные брови с капельками пота, сумрачный взгляд и челюсть, выдающаяся под ушами, как подкова. Может быть, могла показаться странной неестественно белая, не успевшая загореть кожа. Но не исключено, что человек просто сидел в тюрьме и недавно выпущен.
— Ну, и что ж тебе от меня надо? — довольно грубо сказал производитель работ.
— Разрешите отлучиться на четверть часика, — повторил как можно почтительнее Стрельбицкий, стараясь не смотреть на веснушчатое личико прораба с подбритыми рыжими усишками и пестрым носиком.
— Ты зачем сюда явился? Работать или валять дурака? — закричал производитель работ, и глаза его забегали. — Если работать — так надо работать, а если хочешь гулять — так иди на Дерибасовскую! А еще лучше сразу иди на Слободку, в «Куртя Марциала», — там тебе покажут, как заниматься саботажем! Ну, чего ж ты стоишь над моей душой? Ты кто — дезертир Красной Армии?
Стрельбицкий неопределенно пожал своими саженными плечами.
— Я так и думал, — сказал производитель работ. — Посылают всяких босяков, а я за них должен отвечать! Вот, можешь полюбоваться, — он протянул руку в сторону обедающих рабочих, — какое золото! Разве с ними что-нибудь построишь? Уже целый год строим. А с кого голову будут снимать? С меня будут голову снимать!
Он еще раз как бы вскользь посмотрел на Стрельбицкого. Глаза их на один миг встретились, и Стрельбицкому показалось, что в глазах производителя работ вдруг мелькнула какая-то странная искра понимания.
— Куда ж тебе надо отлучиться? — спросил он.
— Тут в порту у меня один знакомый человек работает. Хочу пойти пошукать, може, гдесь найду.
— Как фамилия человека?
— Яковлев.
— Есть тут у нас один Яковлев, верно. Сторож склада номер шесть. Он тебе кто — сват, брат?
— Кум, — опустив голову, ответил Стрельбицкий, ковыряя ногой булыжник. Тонким чутьем подпольщика он уже начинал понимать, что между ним и производителем работ идет какая-то скрытая игра, в которой за каждым сказанным словом должен угадываться другой, тайный смысл. — Разрешите, я схожу.
— Ладно, иди. Но смотри у меня, не лодырничать! — сказал производитель работ, грозя ему пальцем. — Постой: я сейчас напишу служебную записку, чтобы тебя не задержали. А еще лучше — возьми на плечо сваю и, если спросят, скажи, что производитель работ послал переменить бракованную сваю. И не шататься по территории порта!
Стрельбицкий завалил на плечо сваю и пошел отыскивать склад номер шесть, испытывая странную уверенность, что приказание прораба не шататься по территории порта означает именно разрешение шататься со сваей на плече по всей территории порта, если это ему надо. Склад номер шесть Стрельбицкий нашел без труда и сразу увидел Яковлева. Вернее сказать, он его сразу узнал по некоторым заранее условленным признакам, так как до этого дня никогда с ним не встречался. Сторож Яковлев сидел на каменном фундаменте пакгауза, в коротком облезлом кожухе без рукавов, надетом прямо на голое тело. Прислонив к стене свою берданку, он как раз в это время посыпал солью из тряпочки янтарный кочан вареной шпонки, собираясь обедать. Стрельбицкий узнал его именно по кожуху с обрезанными рукавами.
— Хлеб-соль! — сказал Стрельбицкий, опуская на землю сваю.
— Спасибо. Проходи! — сурово сказал сторож. — Останавливаться строго воспрещается.
— Вы, часом, будете не Яковлев?
— Ну — Яковлев. А что надо?
— Кланяется вам Софья Петровна...
— Седайте, — сказал Яковлев, тотчас вытирая место рядом с собой полой кожуха. — Пшонки не угодно?
Стрельбицкий сел.
— Не откажусь.
Яковлев разломил длинный упругий кочан, посолил и подал Стрельбицкому лучшую, «молодую» половину:
— Кушайте, прошу вас.
Стрельбицкий проголодался. Он с удовольствием взялся за твердоватый кочан, сгрызая зубами крепкие, как бы даже деревянные, но вместе с тем сочные, сладковатые граненые зерна кукурузы. Половинка кочана, протянутая ему на черной ладони, сказала Стрельбицкому гораздо больше, чем могла сказать любая условная фраза. Некоторое время они молча жевали, как люди, давным-давно знакомые друг с другом. Жгучее солнце стояло почти над головой, и их слитая тень лежала на сияющей мостовой, резкая и густая, как разлитые фиолетовые чернила.
— Так вы говорите, — кланяется Софья Петровна? — наконец сказал Яковлев, бросая голубям огрызок своего кочана.
— Ага, — кивнул головой Стрельбицкий, все еще продолжая жевать.
— А я скорей всего ожидал, что Гавриил Семенович передает привет, — тонко прищурившись, заметил Яковлев.
— Это само собой, — ответил Стрельбицкий, строго посмотрев на простодушное, сильно попорченное оспой синеглазое лицо старика.
— А вы сами кто будете? — сказал Яковлев. — Что-то мне ваша личность как будто знакомая. Вы, случайно, не работали лет шесть до войны в исполкоме нашего Воднотранспортного района?
— Это не важно, — сказал Стрельбицкий.
— Ну, так я вас знаю, — улыбнулся старик. — Сперва не признал, а теперь вижу, что это действительно вы. Платон Иванович Стрельбицкий, верно?
Стрельбицкий нахмурился.
— Ничего, — добродушно продолжал Яковлев. — Это не имеет... Нехай это будете не вы, товарищ Стрельбицкий! А мы вас уже давно поджидаем. Днями меня вызывал один хороший человек к себе, в «Жорж», и попросил кое-что подготовить для вас.
В это время в сопровождении офицера мимо прошел взвод румынских солдат, — по-видимому, смена караулов. Стрельбицкий сделал движение отодвинуться от Яковлева и вскочить, но старик потянул его за руку вниз:
— Сидите, сидите! Нехай себе проходят. Вы думаете, они что-нибудь соображают?
Вяло и не в счет шаркая башмаками по мостовой, солдаты прошли мимо и скрылись за углом.
— Ни черта они не соображают, — с презрением сказал Яковлев. — До тех пор, конечно, пока мы им хорошенько не наступим на хвост, — тогда они станут кое-что соображать. Завоеватели! — прибавил он и сердито плюнул. — Так слухайте, — сказал старик, успокоившись, — наших людей тут работает до двадцати человек. Я говорю, конечно, только за тех, которые находятся на учете в организации товарища Черноиваненко и с кем у меня установлена прямая связь. Видать, есть еще порядочно людей из других отрядов, но с ними связи пока что не имеется. Ввиду того, что товарищ Черноиваненко нацеливает нас в первую очередь на срыв перевозок, я передал людям боевой приказ, и они все под разными предлогами постарались перевестись в артели грузчиков, а также на перешивку железнодорожной колеи.
— Правильно, — сказал Стрельбицкий.
— Так что вы их всех можете найти либо на Нефтяном пирсе, где сейчас аккурат идет перешивка колеи, либо где-нибудь среди грузчиков на Потаповском или Андросовском молу. Там, по-моему, уже работают двое ваших. Одного я даже лично знаю: Леонид Миронович Цимбал. А другой — вроде Серафим Иванович Туляков, но не ручаюсь. Может быть, и не он. По всему видать, что товарищ Черноиваненко таки крепко взялся за порт. Теперь дело должно пойти на полный ход... А вы где устроились, Платон Иванович? Как я вижу по вашей свае — на строительном участке по восстановлению оторочек Платоновского мола? Только знаете, что я вам скажу? Вы туда напрасно подключились. Там дело идет своим порядком. Крепко поставлено! — Яковлев округлил свои синие наивные глаза и усмехнулся. — Не могу вам сказать, какая именно организация там работает, потому что сам не знаю. Но думаю, что это непременно люди товарища Дружинина. Я за ними уже наблюдаю десятый месяц, а они до сих пор топчутся на одном месте. Нет, это не иначе как работа Дружинина! Такого красивого саботажа я уже давно не видел. Это вам Лимонов посоветовал носить сваю?
— Кто это — Лимонов?
— А как же, их производитель работ — Лимонов. Толковый человек! Понимает, что к чему. Для вас эта свая все равно как пропуск. Раз несете на плече сваю, значит, идете по делу. Можете с ней ходить по всей территории — вас никто не остановит. Вы обратили внимание, какую он у себя на участке устроил рационализацию? Как орудует, а? И главное, под самым носом у капитании. Отчаянный мужичок! Никак все же не пойму, как он действует: от Дружинина или сам по себе.
— Вы думаете? — спросил Стрельбицкий.
— Да, безусловно! Десять месяцев восстанавливают — и до сих пор восстановили, дай бог, какие-нибудь пятнадцать погонных метров. Герой!
И Стрельбицкий вдруг совершенно ясно понял значение всех действий шумного производителя работ: его грубых окриков, его «перекуров», его стремительной беготни по фронту работ, наконец, выражения его красного, потного лица — решительного до отчаяния и вместе с тем тайно испуганного, как у человека, который бежит по узкой доске над пропастью, сам ужасаясь своей дерзости.
III
— Теперь слушайте еще одну вещь, — сказал Яковлев, немного понизив голос. — Сегодня ночью из Констанцы пришел ихний пароход «Фердинанд» с боеприпасами для фронта. Ко мне утречком специально по этому поводу забегала Марья Трофимовна Савицкая, машинистка из управления порта, — вы, наверное, знаете, — тоже наш человек, состоит на учете у товарища Черноиваненко. Пароход будет разгружаться у Потаповского мола, а потом пойдет в Карантинную гавань на погрузку зерном. На разгрузке вряд ли можно что-нибудь сделать, поскольку Марья Трофимовна узнала, что перегрузка боеприпасов с парохода в вагоны будет производиться солдатами, а на погрузку зерна надо срочно перебросить наших людей. Какие будут ваши приказания?
— Надо вызвать стрелочников с Потаповского мола. Кто у нас там на учете? — быстро сказал Стрельбицкий.
— Там у нас всего один стрелочник, — старик Журбаенко. Я его уже вызвал на семь вечера, он как раз в шесть сменяется.
— Хорошо. Я с ним поговорю. А сколько у нас на учете вагонных слесарей?
— Вагонных слесарей как раз хватает. Четыре человека — Макогонов, Вербицкий, Ежов и Опанасенко.
— И все на учете?
— Все на учете: Макогонов и Ежов — через меня, а Вербицкий и Опанасенко — через товарища Синичкина-Железного, это его кадры.
— А между собой они связаны?
— Связаны. Опять же через меня.
— Хорошо. Вызовите кого-нибудь из них после семи. Я дам задание. Когда боеприпасы перегрузят в вагоны и сформируют состав, надо отметить несколько вагонов как «больные». Не все, а именно несколько. Вагона два-три, не больше, чтобы не было подозрений. Пусть их отцепят, а потом мы посмотрим... Какие боеприпасы, Марья Трофимовна не говорила?
— Авиабомбы, винтовочные патроны, динамит.
Стрельбицкий наморщил лоб, вспоминая расположение железнодорожных путей между Потаповским молом и Нефтяным пирсом, а затем сказал:
— Если удастся их загнать в тупик Нефтяной гавани, а потом отпустить корень стрелки и направить в тупик маневренный паровоз на полном ходу, а тут еще рядом нефть, бензин, — то ой-ой-ой!
— Да, это вещь! — подтвердил Яковлев.
— Это надо продумать. Так или иначе, вызовите ко мне кого-нибудь из слесарей после семи. Я буду ночевать в порту.
— А чего же! Ночуют все, кому не лень. Особенно у кого утренняя смена. Попросите Лимонова. Лимонов вам разрешит. У Лимонова глаза хорошо видят.
— Стало быть, действуйте! — сказал Стрельбицкий.
— Слушаюсь, — по-солдатски ответил Яковлев и встал.
— Главное, давайте стрелочника и слесаря... Ну, я пошел.
Стрельбицкий поправил мешок и взвалил на плечо сваю.
— Счастливо! — сказал Яковлев. — А я себе трошки еще посижу. Посторожу награбленное имущество.
Он невесело улыбнулся своими по-детски синими глазами.
— Между прочим, что вы сторожите? — спросил Стрельбицкий.
— Хлеб. Пшеницу. Десять тысяч пудов краденой украинской пшеницы. Я ее добре охраняю, только бог дождика не дает.
— А что?
— А то, что у меня специально забиты все водосточные трубы, так что вода, вместо того чтобы литься с крыши на двор, льется через крышу внутрь сарая, на краденую пшеницу, — сказал Яковлев с такой злобой, что на глазах у него даже выступили слезы, и он вытер их полой своего нищенского кожуха. — Уже, наверное, все зерно сгнило. Охраняю на совесть. — И, заметив, что Стрельбицкий покосился на бочку с белым морским песком, стоящую у стены пакгауза, прибавил: — Вы думаете, это песочек от зажигалок? Может быть, и так. Только ко мне за этим песочком каждый день приходят добрые люди — по три, по четыре человека, — чтобы всегда его иметь при себе в кармане на случай, если захочется немножко подсыпать в буксу. Выдающийся песочек! Манка. От него буксы горят, как свечки. Может быть, захватите на всякий случай?
И, на всякий случай насыпав в карманы выдающегося песочка, Стрельбицкий пошел назад, на свой строительный участок, где, размахивая накладными и квитанциями, носился производитель Лимонов, крича страшным голосом:
— К чертовой матери с такой работой! Саботажники! Лодыри! Большевики!
IV
В соответствии со своим характером Леонид Цимбал действовал без заранее обдуманного плана, по внезапному вдохновению.
— Слушайте, домнуле, я, конечно, очень извиняюсь... — сказал он, подходя вразвалку к транспортному агенту, который бегающими глазами следил за разгрузкой трамвайных рельсов и столбов, привезенных на грузовиках из города в порт.
Это был помятый господин в капитанской фуражке блином, с беспорядочной бородой, в кривом старомодном пенсне на мокром носу, в белых пропотевших туфлях, — по-видимому, бывший одессит, может быть, даже какой-нибудь домовладелец, бежавший после революции в Бессарабию и теперь, как знаток русской жизни, выпросивший себе в губернаторстве Транснистрия местечко агента секции эксплуатации одесского порта. На его старом желчном лице резкими чертами было написано неистребимое чувство оскорбленного достоинства двадцатипятилетней давности. Леонид Цимбал подошел к нему сбоку. Внезапно увидев перед собой матросскую тельняшку, согнутые руки с могучими бицепсами, сверкающее лицо, покрытое горячим потом, агент инстинктивно отшатнулся и даже слегка закрылся рукой, как бы опасаясь, что ему сейчас дадут в ухо. Но, заметив, что подошедший грузчик был Кухаренко (под этой фамилией нанялся в порт Леонид Цимбал), агент успокоился и, сделав вид, что поправляет пенсне, вопросительно посмотрел на Леню.
— Имею до вас пару слов, — таинственно сказал Леонид Цимбал и, с почтительной ловкостью подхватив транспортного агента под локоть, осторожно, хотя и довольно настойчиво повел его за угол пакгауза.
Это могло показаться слишком большой вольностью со стороны простого грузчика по отношению к своему начальнику. Но, во-первых, это вполне соответствовало базарным нравам, царившим в порту во время оккупации. Во-вторых, Леонид Цимбал, строго говоря, не был простым грузчиком: он успел уже сделать, карьеру, выдвинуться и стать грузчиком выдающимся, а также создать себе репутацию человека «частной инициативы», что всячески поощрялось румынскими властями. Едва он попал на территорию порта и осмотрелся, как тотчас понял, что все работы здесь производятся в основном из-под палки, людьми случайными, неопытными, частью мобилизованными через полицию, частью принужденными добровольно искать черной работы, чтобы не умереть с голоду, частью небольшой группой военнопленных — людей, высохших от постоянного недоедания, больных, оборванных, бессильных, которые ничего делать не могли, а только ходили гуськом туда и назад под конвоем одного или двух черных, небритых румынских солдат в расстегнутых мундирах. Никакой организации портовых работ не было, если не считать того, что все рабочие были кое-как разбиты на артели.
Эти артели то и дело перегонялись с места на место, от одного хозяина к другому. А хозяев в порту оказалось множество. Было румынское управление порта и его секция эксплуатации, был представитель немецкого военного командования, был уполномоченный румынской армии по транспорту, были доверенные лица различных торгово-промышленных фирм, заводов, предприятий, наконец, множество комиссионеров и государственных чиновников. Все они были заинтересованы в скорейшем вывозе награбленного советского имущества. Была, кроме того, так называемая «водолазная секция», которая занималась подъемом с морского дна затопленных во время эвакуации катеров, автомобилей и других ценных предметов. Вся эта вытащенная со дна моря рухлядь тут же, в порту, продавалась любителям легкой наживы, нахлынувшим, как саранча, из Румынии, и поспешно грузилась на поезда и пароходы. А так как почти все портовые механизмы бездействовали и работы производились примитивно, вручную, то на рабочую силу, в особенности на хороших грузчиков, был очень большой спрос. Их буквально рвали на части, переманивали и перекупали друг у друга.
Артели грузчиков сделались предметом борьбы между ведомствами, управлениями и отдельными грузоотправителями-спекулянтами. Разумеется, при этом весьма широко процветали взятки. Все это в очень слабой степени напоминало работу громадного, первоклассного порта, каковым всегда считалась Одесса, а, скорее всего, походило на какую-то странную барахолку. Леонид Цимбал сразу сообразил, что подобную обстановку с успехом можно использовать для выполнения боевой задачи, поставленной перед ним Стрельбицким.
Цимбал решил выдвинуться и для начала зарекомендовал себя как опытный, высококвалифицированный грузчик. Для него это было нетрудно. Природа не обидела его здоровьем и силой. Он неутомимо таскал на спине восьмипудовые ящики, вместе с Туляковым и Свиридовым катал товарные вагоны, упираясь головой и могучими руками в стенку, легко ворочал, подложив лом, громадные тюки и кипы. Причем все это он делал скоро, весело, сверкая воспламененным лицом, по которому струился жаркий пот, и беспрерывно острил, отпуская во все стороны шутки-прибаутки, иногда весьма двусмысленного свойства. Он настолько резко отличался от всех остальных грузчиков — медлительных, слабосильных, угрюмых, — что его сразу заметили.
Мелкое портовое начальство не только благоволило к Цимбалу, но даже несколько перед ним заискивало, так как все же он был до известной степени источником его заработка: оно получало от грузоотправителей взятки за то, что направляло к ним эту выгодную, работоспособную артель, в которой, кроме самого Цимбала, работали также Туляков и Свиридов — люди тоже физически сильные, старательные.
Очень скоро Цимбал-Кухаренко сделался старостой и понемногу перетянул к себе из других артелей тех грузчиков, о которых знал, что они состоят на учете у Черноиваненко. В этом ему сильно помогала старенькая, незаметная, необыкновенно работоспособная машинистка из управления порта Марья Трофимовна Савицкая, печатавшая артельные списки портовых рабочих и незаметно, по приказу Стрельбицкого, переставлявшая при этом фамилии грузчиков. Таким образом, артель Цимбала в значительной части состояла из своих людей.
Продолжая бодро развивать «частную инициативу», Леонид Цимбал организовал свое хозяйство по всем правилам дореволюционных артелей. Даже завел собственную стряпуху. На роль этой традиционной артельной стряпухи — с помощью той же Савицкой — в список зачислили Лидию Ивановну, которая до этого работала в качестве портовой уборщицы. Она имела право свободного выхода в город на базар, что облегчало связь с катакомбами.
Одновременно с этим Леонид Цимбал пользовался всяким удобным случаем, чтобы «создать невыносимые условия для врага». Он ни на минуту не забывал этого главного закона своей жизни. Пользуясь репутацией человека «частной инициативы», преданного оккупационным властям, Леонид Цимбал, а также и прочие грузчики его образцовой артели могли довольно свободно передвигаться по территории порта, беспрепятственно ходить по железнодорожным путям и между составами. Это давало им возможность при всяком удобном случае наносить ущерб транспорту. Они незаметно разбрасывали железные колючки: обрезали в товарных составах тормозные шланги; проделывали в полу вагонов дырки, так что по дороге постепенно высыпалось все зерно; разбрасывали и расклеивали на стенах пакгаузов сводки Совинформбюро и листовки, обращенные к портовым рабочим, которые приносила из катакомб Лидия Ивановна в корзине, под мешочками крупы и под помидорами.
Постоянно то там, то здесь на территории порта можно было видеть поднятый на домкрате грузовик и замученного шофера, который вот уже третий раз за день принужден был менять баллон, проколотый железной колючкой, неизвестно откуда взявшейся. Постоянно слышались тревожные свистки сцепщиков, обнаруживших обрезанные шланги. Иногда, без всякой видимой причины, сходили с рельсов маневровые паровозы, на многие часы останавливая железнодорожное движение в порту. То и дело горели буксы. Грузы завозились не туда, куда следовало, разгружались, потом опять нагружались, перегружались... Агенты сигуранцы и капитании сбились с ног, слоняясь по путям и обыскивая все закоулки огромного порта. Но все было тщетно. Действовали люди хорошо организованные, опытные.
А тем временем Леонид Цимбал — человек «частной инициативы», — сверкая неистовыми глазами, продолжал вдохновенно выслуживаться перед румынским начальством и делать карьеру. Он дошел до того, что стал в обеденный перерыв устраивать коллективные чтения местных румынских газет, выходивших на русском языке. В глазах властей он стал чем-то вроде добровольного пропагандиста идей «нового порядка» в Транснистрии. Впрочем, его пропаганда носила весьма двусмысленный характер.
Читая с преувеличенным пафосом победные реляции ставки фюрера, Леонид Цимбал так подвывал, так играл своим подвижным лицом, по которому с поразительной быстротой пробегали все оттенки самодовольной глупости и тупого высокомерия, что немецкая сводка как-то незаметно получала совершенно обратный смысл. Читая телеграммы из-за границы, он с необыкновенной тонкостью выбирал и подчеркивал интонациями именно те, в которых проскальзывали сведения, неблагоприятные для гитлеровской Германии, а из хроники читал главным образом заметки о действиях подпольщиков, о военно-полевых судах, казнях, штрафах и налогах.
Иногда, глубокомысленно комментируя какую-нибудь политическую статью доморощенного одесского теоретика из приезжих белоэмигрантов, Леонид Цимбал вдруг назидательно, профессорским тоном начинал восхвалять капитализм, затем впадал в ложный пафос, приводил убийственные примеры выгоды для человечества частной собственности, путался, смущался и, наконец, чмокнув толстыми губами, совершенно неожиданно заканчивал свою речь каким-нибудь неопределенным восклицанием вроде: «Одним словом, не будем говорить! О чем говорить, когда не о чем говорить!» И грузчики кряхтели и почесывали под мышками.
А иногда, если поблизости не было никого подозрительного, он просто, с непостижимой дерзостью, приложив газету «Молва» к самому носу, вдруг начинал громко и быстро читать наизусть последнюю сводку Совинформбюро, принесенную Лидией Ивановной из катакомб, или рассказывать о приказе № 55.
Таким образом, к тому времени, когда закончилась выгрузка боеприпасов и пароход «Фердинанд» был переведен с Потаповского мола в Карантинную гавань под погрузку зерном, артель Леонида Цимбала-Кухаренко была вполне подготовлена к действиям крупного масштаба. Оставалось добиться, чтобы именно ее поставили на погрузку «Фердинанда».
V
— Слушайте, домнуле, — сказал Леонид Цимбал, заведя агента за угол пакгауза и делая большие, удивленные глаза, — в чем дело?
— А что?
— Пардон, это я вас спрашиваю: а что?
— Кухаренко, я не выношу, когда со мной говорят загадками! — строго сказал агент. — И потом, перестаньте меня держать за локоть. Оставьте эти ваши босяцкие замашки!
— Я извиняюсь! — воскликнул Леонид Цимбал, отскакивая на почтительное расстояние. — Пережитки социализма.
Он сложил руки на животе и долго смотрел на агента, горестно кивая головой.
— Домнуле агент! — наконец сказал он с глубокой грустью. — Мне на вас больно смотреть. Больно, а главное — обидно. Посмотрите вокруг... — Цимбал сделал широкий, обобщающий жест руками.
Агент тревожно посмотрел вокруг, но, по-видимому, ничего особенно не заметил.
— Нет-нет, домнуле, вы плохо смотрите. Посмотрите хорошенько, — настойчиво сказал Леня. — Тут же деньги валяются прямо-таки на земле! Их хватает каждый, кому не лень. Я не понимаю, чего вы зеваете? Стойте! Молчите! Ничего мне не говорите! Дайте сначала я скажу, — поспешно продолжал Леня, заметив, что агент собирается возражать. — Не будем спорить! Я знаю, домнуле агент, что вы человек честный, принципиальный, интеллигентный, пострадавший от Советской власти, — одним словом, как говорится, «еще с прежнего времени», и я абсолютно не намекаю на какие-нибудь взятки или тому подобные грязные махинации. Это — боже меня упаси! Короче говоря, я, конечно, очень извиняюсь за некрасивое выражение, но вы не хабарник. И за это мы, грузчики Практической гавани, вас ценим и уважаем. Вы для нас любимый начальник, все равно что родной отец, папа. Вы со мной согласны?
Тут Леонид Цимбал сильно покривил душой. «Домнуле агент» был в высшей степени «хабарник», и это ни для кого не составляло тайны. Но внутреннее чутье подсказало Цимбалу, что, имея дело с заведомым жуликом, выгоднее всего делать вид, что считаешь его благороднейшим человеком: жулики это любят.
— Мне больно видеть, — с жаром продолжал Леонид Цимбал, не давая себя перебить, — что вы пропускаете такие богатые возможности. Другой бы на вашем месте — какой-нибудь мелкий румынский арап из Констанцы — уже давно построил бы себе в Аркадии шикарную дачу или в крайнем случае положил в банк пару-другую тысяч рейхсмарок. Вы со мной согласны?
Глаза агента еще более забегали под кривым пенсне, желтые зубы оскалились, и он сказал глуховатым голосом:
— Что же вы мне предлагаете?
— Вот! Наконец я слышу настоящие мужские слова! — воскликнул Леонид Цимбал с восхищением. — Хотите иметь шикарную дачу в Аркадии? Тогда идите сюда!
И он снова подхватил агента под локоть, потащил его еще дальше и, наконец, почтительно впихнул в пролом какой-то ракушечной стены, разрушенной взрывом. Они очутились среди развалин, поросших бурьяном, из-под которого блестело на солнце битое стекло. Жирные осенние мухи жужжали и ползали по листьям паслена. Испытывая сильнейшее желание взять агента руками за индюшечью шею, стукнуть головой о камни и придушить на месте, Леонид Цимбал заставил себя сделать преданное лицо и сказал, воровато оглянувшись:
— Будем говорить как джентльмен с джентльменом. Есть шанс крупно подработать. Пароход «Фердинанд». Зафрахтован румынским интендантством под перевозку двух тысяч тонн зерна из Одессы в Констанцу. Срочная погрузка. Ну? Вы поняли мою мысль?
Глаза Леонида Цимбала сверкали вдохновением. Агент, кряхтя, вытирал носовым платком мокрый нос, и на лице его было написано крайнее умственное напряжение.
— Нет, я вижу, что вы не поняли моей мысли, — огорченно вздохнул Леонид Цимбал. — Вдумайтесь в эти слова: «Две тысячи тонн» и «Срочная погрузка». Теперь вам понятно? Еще не понятно? Не какая-нибудь погрузка, а срочная. Подчеркиваю! Почему срочная? Потому, что румынское интендантство заинтересовано как можно скорее перекачать зерно из Одессы в Констанцу, на свои, румынские склады. Вы меня спросите: почему? Я вам отвечу: потому, что румынское интендантство боится, что нагрянет немецкое интендантство и перехватит у него из-под носа две тысячи тонн советского зерна. Теперь вам ясно? Румынское интендантство готово носом землю рыть, лишь бы в самом срочном порядке погрузить зерно. Никаких денег не пожалеет! Улавливаете мою мысль?
— Ну, ну! — нетерпеливо сказал агент, перебирая ногами, как лошадь, почуявшая запах овса. — И что же дальше?
— Домнуле! Вы меня удивляете! — воскликнул Цимбал-Кухаренко. — Вы дитя! Идите в управление порта и проявляйте частную инициативу. Пока еще не поздно, берите подряд на погрузку «Фердинанда». Дайте им гарантию, что вы беретесь произвести всю операцию одной моей артелью за трое суток, и берите с них аккордно по четыре марки с тонны за срочность. Они дадут! А если будут торговаться, уступайте за три марки с тонны — и пусть подавятся. Подписывайте любую неустойку. Я вам отвечаю за своих орлов! — При слове «я» Цимбал с такой силой ударил кулаком в свою выпуклую, могучую грудь, обтянутую пропотевшей тельняшкой, что агент даже слегка вздрогнул. — Я вам отвечаю! В крайнем случае я еще подберу себе в артель десяток-другой могучих мальчиков. И погрузка будет закончена в три дня, как из пушки! Дважды четыре — восемь и три нуля, итого восемь тысяч марок. Тысяча марок артели, остальное — вам. Семь тысяч оккупационных марок! Вас это устраивает?
Агент дрожащей рукой вытер под воротником кителя вспотевшую шею. Он пронзительно посмотрел в глаза Леонида Цимбала и севшим голосом сказал:
— Пятьсот!
— Чего пятьсот!
— Пятьсот марок — вам, остальное — мне.
Леонид Цимбал отступил на шаг и всплеснул руками:
— Домнуле агент, побойтесь бога!
— А риск? Кто рискует — вы или я?.. Кто подписывает неустойку? Вы или я? Я рискую. Я подписываю.
Душа Цимбала-Кухаренко ликовала. Он едва сдерживался, чтобы как-нибудь случайно не выдать своей радости. Он так боялся, что дело вдруг сорвется! Он готов был даже приплатить «домнуле агенту» сто марок из кассы подпольного райкома, лишь бы поставить свою артель на погрузку «Фердинанда». Но он понимал, что, по всем законам капитализма, при заключении сделки необходимо торговаться — торговаться жестоко, неутомимо, выжимая каждую лишнюю копейку. В противном случае это может показаться подозрительным. Кроме того, он чувствовал, что его упорство еще сильнее разожжет агента. А самостоятельно, минуя агента, он ничего не мог предпринять. Артель не имела права распоряжаться своим трудом. Она не являлась юридическим лицом и была лишена права заключать соглашения с грузоотправителями. Все делалось через агентов и посредников. Так называемая «частная инициатива», о которой так много кричали румынские газеты, по существу, была привилегией хозяев, но не работников. Для рабочих она была пустой приманкой; они даже не могли без обязательных посредников продавать свою работу. Они были связаны по рукам и по ногам. Они были в полном смысле слова рабами. Ух, как ненавидел и презирал Леонид Цимбал этого человека в старорежимной капитанской фуражке, с кривым старорежимным пенсне на потном носу, с беспокойно бегающими, жадными глазами, этого белогвардейца, агента, посредника, который почему-то имел право присвоить себе труд целой артели грузчиков и считал это вполне естественным! Леонид покраснел от негодования. Но он взял себя в руки и, продолжая смотреть на «домнуле агента» отчаянными, умоляющими глазами, стал торговаться:
— Домнуле агент, войдите в положение людей! Дайте им тоже что-нибудь заработать.
— Пятьсот, и ни пфеннига больше.
— Ну, хорошо. Пусть будет восемьсот.
— Пятьсот! А если не хотите, я себе найду другую артель.
— Домнуле агент! Вы же знаете, какая работа! Имейте совесть! Ну, хорошо. Пусть будет семьсот пятьдесят.
— Шестьсот.
— Домнуле агент!
— Слушайте, Кухаренко, перестаньте меня называть домнуле. Какой я вам домнуле? Я русский дворянин!
— Я извиняюсь, господин дворянин! Пусть будет семьсот.
— Шестьсот!
— Крайняя цена семьсот!
Леонид Цимбал сделал вид, что уходит. «Господин агент» схватил его за руку:
— Шестьсот пятьдесят!
— Не пойдет.
— Тогда я буду искать себе другую артель.
Теперь агент сделал вид, что уходит, и Леонид Цимбал испуганно схватил его за полу кителя. Они приходили и уходили. Они хлопали друг друга по руке. Они охрипли. Пот катился по их лицам. Были минута, когда Леонид Цимбал вдруг так жгуче возненавидел агента, что чуть было действительно не плюнул на все и не ушел. Но, вспомнив о советском зерне, которое грабители собирались вывезти из города, преодолел себя и продолжал постыдный торг. Он чувствовал, что агент уже распалился.
— Господин агент! — в десятый раз повторял Леонид Цимбал. — Вдумайтесь в эту круглую сумму — семь тысяч триста марок. Шикарная дача в Аркадии. Неужели вас это не устраивает?
Наконец они в последний раз ударили по рукам:
— Шестьсот пятьдесят!
Сделка была совершена.
— И смотрите, господин агент, — сказал Леонид Цимбал, — надо торопиться. А то какой-нибудь румынский жук забежит вперед, даст в управлении порта хабара, и тогда — здравствуйте, я ваша тетя!
Но он напрасно истратил этот последний заряд. «Господин агент» был уже «готов». Его воображение распалилось до крайней степени. Придерживая фуражку, он уже несся мелкими, семенящими шагами в контору секции эксплуатации, каждый раз при мысли о возможном конкуренте спотыкаясь и роняя с носа свое кривое пенсне на черной ленте.
А вечером в артели Леонида Цимбала от человека к человеку пролетело сказанное шепотом слово «зонтик».
VI
Пароход «Царь Фердинанд» стоял у стены пристани, против элеватора. Снаружи элеватор был цел. Но внутри он представлял беспорядочное нагромождение испорченных и сломанных механизмов: транспортерных лент, сбрасывающих тележек, отпускных весов, веялок, триеров и прочего. Награбленное в пригородных колхозах и поспешно свезенное в этот бездействующий элеватор, нерассортированное и неочищенное зерно сваливалось куда и как попало. Оно лежало в мешках, загромождая конвейеры нижнего этажа, и заполняло бункера, и было свалено громадными кучами прямо на полу в разных этажах, и по ним бегали жирные амбарные крысы — рыжие, глухие, с чешуйчатыми облезлыми хвостами.
Зерно не взвешивалось, и румынские интенданты предполагали, что его здесь скопилось несколько тысяч тонн.
Когда Леонид Цимбал в сопровождении «домнуле агента» и двух румынских интендантов вошел в элеватор, он почувствовал такую острую боль, как будто бы его полоснули ножом по сердцу. То и дело спотыкаясь о части сломанных механизмов, они молча обошли весь элеватор снизу доверху, и агент спросил:
— Ну, Кухаренко, как? Справитесь?
— Будьте уверены! — бодро ответил Цимбал, и щеки его сжались, как от оскомины.
— Имейте в виду: десять тысяч неустойки! Если подведете — мне будет плохо, но и вам тоже будет плохо. Вам будет гораздо хуже, чем мне. Вы у меня тогда все до одного попадете в «Куртя Марциала» и уж оттуда живыми не выйдете! Я ни с чем не посчитаюсь.
— Так, так... — строго закивали головами интенданты, поняв из всего разговора лишь хорошо известные им слова «Куртя Марциала», и многозначительно похлопали по новеньким желтым кобурам пистолетов.
— Будет! — воскликнул Леонид Цимбал. — Даже, может быть, еще скорее! Как из пушки!
Разумеется, он прекрасно понимал, что при полном отсутствии исправных механизмов произвести погрузку двух тысяч тонн вручную за три дня — вещь абсолютно невозможная. Но так как жажда легкой наживы уже полностью овладела «домнуле агентом» и интендантами, которым была обещана доля прибыли, то они уже ничего не соображали, а только нетерпеливо топтались на месте, желая как можно скорее начать погрузку. Что же касается Леонида Цимбала, то вся его задача состояла в том, чтобы устроить при погрузке «зонтик» и этим спасти как можно больше недогруженного зерна.
Пока агент и интенданты обмеривали рулеткой трюмы парохода «Царь Фердинанд» и записывали в акт количество кубометров, Цимбал успел сбегать к своим ребятам, которые в ожидании начала погрузки сидели на солнышке под стеной элеватора. Здесь Цимбал провел нечто вроде производственной летучки. Он разбил людей на две группы. Одна группа должна была работать на элеваторе, подавая зерно в трюм парохода через спусковые трубы, другая — находиться в самом трюме и следить за тем, чтобы засыпка производилась равномерно. В первую группу Цимбал назначил людей, в которых он не был вполне уверен, во вторую же — исключительно «своих», то есть именно тех, которые и должны были сделать «зонтик».
Для того чтобы создать некоторое впечатление механизации погрузки, Цимбал велел поставить между крыльцом элеватора и пароходом несколько старых ленточных транспортеров, приспособленных для работы вручную, их крутили несколько наиболее выносливых грузчиков. Остальные члены элеваторной группы насыпали зерно на ленты транспортеров, пользуясь спусковыми трубами или просто из мешков, а также ведрами и лопатами.
Давно уже в одесском порту не видели такой оживленной погрузки. В тучах амбарной пыли, пробитой косыми крутящимися столбами солнечного света, падавшего из верхних окон, бегали с мешками на плечах и с лопатами обнаженные по пояс грузчики, наваливая в бункера грязное, непроветренное зерно. Пшеница ползла по лентам транспортеров между элеватором и пароходом и сыпалась в открытый люк темного, глубокого трюма, слабо освещенного переносной лампочкой в проволочной сетке. На дне трюма под струей зерна копошилось несколько человеческих фигур. Это были сам Цимбал, Туляков, Свиридов и два самых надежных грузчика из числа состоящих на учете у Черноиваненко. Трюм был глубок, и сверху их фигуры казались совсем маленькими. Они принимали зерно, распределяя его большими фанерными лопатами ровным слоем по дну трюма. Так, во всяком случае, могло показаться каждому, кто бы захотел заглянуть в трюм сверху. Впрочем, мало кто заглядывал в трюм. Раза два заглянул третий помощник капитана, которому по должности полагалось наблюдать за погрузкой. Затем в квадратном люке, на фоне синего неба, показалась приплюснутая капитанская фуражка «домнуле агента», и сверху послышался его пропитой баритон с начальственными интонациями:
— Эй, там, в трюме! Кухаренко, как дела?
— Дела идут, контора пишет! — бодро откликнулся Цимбал.
— Сколько уже насыпали? Метр будет?
— Ну, это вы много захотели, домнуле агент! Сантиметров тридцать.
— Так мало? — тревожно закричал сверху агент.
— Это не мало. На такую большую площадь это далеко не мало, — ответил Цимбал.
— Смотрите, Кухаренко! Если вы меня зарежете...
— Как из пушки! — крикнул Цимбал, не расслышав, и снова взялся за лопату.
Агент махнул рукой и, быстро мелькая пропотевшими туфлями, побежал по сходням на пристань — подгонять элеваторную бригаду. Весь осыпанный амбарной пылью, со старой мякиной в бороде, красный, возбужденный, то и дело вытирая грязным платком свой почерневший пробковый нос, он хлопал грузчиков по голым спинам, заискивающе приговаривая:
— Братцы, не подкачайте! Братцы, нажмите! С горки на горку, барин даст на водку! — И уже совсем ни к селу ни к городу, видимо окончательно желая подольститься к пролетариату, неуверенно воскликнул: — Даешь Варшаву!
Он зубами развязывал мешки и несколько раз сам, кряхтя и кашляя, брался за лопату или помогал крутить ручку транспортера.
В это время бригада трюмщиков торопливо занялась своим главным делом — устройством «зонтика». В трюме каждого парохода, превращенного во время войны в транспорт, имеются приспособления для перевозки солдат. Это доски и специальные подпорки, из которых в случае необходимости легко можно сложить два или три яруса нар, вроде того как это делается в товарных вагонах. Пока двое трюмщиков, стоя под люком, откуда продолжала все время сыпаться струя пшеницы, делали вид, что усиленно разравнивают зерно, остальные быстро стали составлять из досок второй ярус нар. Когда нары были готовы, они застелили проход между ними досками, предназначенными для первого яруса, и покрыли помост брезентом, так что в трюме оказался как бы второй пол, поднятый метра на три. Теперь трюмщики стояли на этом втором полу. Зерно продолжало сыпаться, покрывая пол. Они стояли с лопатами по щиколотку в пшенице, и никто бы не сказал, что под ними — три метра пустоты. Было такое впечатление, что трюм уже наполовину насыпан зерном. Так что когда через некоторое время агент снова заглянул в трюм, чтобы проверить, как идут дела, он не поверил своим глазам: две трети трюма уже было заполнено, и, по колено в зерне, совсем недалеко от люка стоял, гордо опираясь на лопату, Леонид Цимбал, и темный пот струился по его вдохновенному лицу.
— Ну, что вы теперь скажете, домнуле агент?
— Кухаренко, вы гений! — закричал агент.
— Не будем спорить! — с достоинством ответил Цимбал.
Он с трудом переводил дыхание. Его могучая грудь тяжело поднималась и опускалась, ноги и руки дрожали. Туляков и Свиридов, со штанами, подвернутыми выше колен, обнаженные по пояс, с рубахами, закрученными на голове в виде чалмы, закрыв глаза, сидели на зерне, прислонившись спиной к дощатой стене трюма. Остальные двое лежали лицом вниз, как убитые. Они до сих пор еще не могли прийти в себя после того страшного напряжения, с которым за несколько минут сложили из тяжелых досок второй пол.
Успех дела решала быстрота. Они торопливо выкапывали двухдюймовые доски из-под слоя зерна, волокли, поднимали, поддерживая плечами и головой. В полутьме, в тучах амбарной пыли, доски срывались с подпорок, сталкивались, падали. Их нужно было тотчас поднимать и снова вдвигать в пазы, забитые мусором. Доски были нумерованы, но в темноте невозможно было рассмотреть номера. Доски плохо складывались. Подпорки валились. Не было гвоздей, чтобы их наскоро приколотить. Свиридову прищемило пальцы, и он делал страшные усилия, чтобы не закричать. На Туликова упала подпорка и ободрала ему бок. То и дело они получали ушибы, но не чувствовали боли, подобно тому как раненые не чувствуют боли в первый момент ранения. Это было похоже на короткий ночной штурм, когда первая линия занята и немедленно нужно закрепляться, накатывая на разбитые перекрытия блиндажей новые бревна, забивая новые подпорки.
Это и вправду был маленький бой за спасение нескольких сот тонн советского зерна. Каждую минуту кто-нибудь из врагов мог заглянуть сверху в трюм, увидеть, что они делают, и тогда это была бы верная гибель. Поэтому они напрягали все свои силы, не чувствуя ни усталости, ни боли, как в бою. Теперь же, когда все было сделано, они отдыхали после нечеловеческого напряжения этого короткого, но бурного аврала, отнявшего у них все физические и душевные силы. Сверху на них продолжала сыпаться слабая струя зерна, но под ними была пустота «зонтика».
Теперь можно было с чистой совестью пошабашить, поужинать. По узкому вертикальному трапу они вылезли один за другим из трюма.
VII
Уже стемнело. Наверху, на красном фоне заката, длинным черным силуэтом тянулась панорама города — деревья Приморского бульвара, полукруглая колоннада бывшего Воронцовского дворца, купол городского театра, маленький памятник дюку де Ришелье над Потемкинской лестницей, в сияющем, огненном пролете между двумя старинными угловыми зданиями с полуциркульными фасадами. С моря, с востока, надвигалась ночь — пепельно-синяя, чистая, с большим розоватым облаком, слабо отражавшим широкое зарево степного заката и еще более слабо отражавшимся в заштилевшем море.
Леонид Цимбал прошел в элеватор и велел шабашить. «Домнуле агент» бежал за ним рысью, похлопывая рукой по его горячей, мокрой спине.
— Кухаренко, вы молодец! Я вами доволен. Я дам о вас самый лучший отзыв в секцию эксплуатации... и в капитанию, — прибавил он, многозначительно поднимая брови. — Только я вас убедительно прошу, Кухаренко, не снижайте темпов. Темпов у меня не снижайте! Имейте в виду, что загружено пока всего лишь три четверти первого трюма, а впереди имеется еще второй. Так что вы не очень-то кейфуйте. Не подведите!
— Надо же людям покушать и малость отдохнуть.
— А я разве возражаю? Кушайте и отдыхайте. Немножко покушайте, немножко отдохните — и опять за работу.
— Не беспокойтесь, домнуле агент! Все будет в порядке.
— Слушайте, Кухаренко, как же мне не беспокоиться, когда над моей головой висит неустойка...
— А дача в Аркадии? — спросил, прищурясь, Леонид Цимбал.
— А неустойка? — так же прищурясь, спросил агент.
— Неустойки не будет.
— А если?
— Если я говорю «не будет», значит, не будет. Вы же сами видите, какую мы вам выдаем работу. Не будем спорить!
Но «домнуле агент» не унимался:
— Слушайте, Кухаренко, так вы думаете, что к утру первый трюм будет готов?
— Как из пушки!
— И сейчас же начнете второй?
— И сейчас же начнем второй.
— А когда сделаете второй?
— Послезавтра утром.
— Это наверное?
— Как из пушки!
— Ну-ну! — сказал с облегчением агент и погладил Цимбала-Кухаренко по спине. — Дай боже! С горки на горку, барин даст на водку! — И он многозначительно подмигнул: — Вы еще меня не знаете: за мной не пропадет. Только жмите на совесть. И мне будет хорошо, и вам будет хорошо. А если подведете, то и мне будет плохо, но и вам, Кухаренко, будет плохо. Вы меня поняли?
— Я вас понял, — раздраженно сказал Цимбал. — Я вас таки очень хорошо понял!
Он с трудом сдерживал раздражение. О, как ему был противен этот жадный, суетливый человек, паразит, присосавшийся к их труду! Если бы не чувство глубокого внутреннего удовлетворения, не тайная радость, смягчавшая его закипавшую злость, может быть, Леонид Цимбал не удержался бы и дал ему наотмашь по шее, чтобы он не приставал. Но вместо этого он остановился, посмотрел в переносицу агента странно неподвижными глазами и вежливо процедил сквозь зубы:
— Домнуле агент, перестаньте нервничать. Вы устали, идите отдыхать.
Вероятно, в голосе Цимбала послышалось что-то такое, от чего агент вдруг ощутил неприятный холодок внизу живота. Но он сделал вид, что ничего не заметил. В конце концов не имело смысла ссориться с человеком, от которого зависело его обогащение. Семь тысяч марок на земле не валяются. Ради них можно и потерпеть. Пусть только сделает в срок погрузку! А потом можно поговорить другим тоном. И «домнуле агент» отправился в город, в кафе «Румыния», рассчитывая там повидаться с маклерами и позондировать почву насчет покупки дачи.
Часов в двенадцать ночи Леонид Цимбал разбудил своих людей, спавших в элеваторе на мешках, и они стали продолжать погрузку. Когда на рассвете из города вернулся агент, то первый трюм был уже готов и началась погрузка зерна во второй.
— Прошу прощения, что мы начали второй трюм без вас, — почтительно сказал Леонид Цимбал, играя глазами. — Не хотелось терять драгоценного времени. Вы не возражаете?
Агент заглянул в люк и ахнул: трюм был наполнен зерном уже приблизительно на треть.
— Ну, Кухаренко! — закричал агент. — Это нечто, знаете ли, так сказать...
Он не нашел слов и описал в воздухе восьмерку раскаленной сигарой, с которой явился из города. От него довольно сильно пахло дузиком — греческой анисовой водкой, — под глазами висели темные мешки, но неряшливая борода гордо торчала вперед и на лице было написано то выражение снисходительного высокомерия, которое, по его понятию, являлось верным признаком процветающего коммерсанта и дачевладельца румынской провинции Транснистрии.
Из темно-синего, почти черного моря показалось солнце — брызнуло резкими, холодными лучами. Подул утренний порывистый ветер. Начался день, который должен был принести «домнуле агенту» хороший барыш.
VIII
Тем временем на товарной станции Одесса-порт произошло следующее.
При формировании литерного состава с боеприпасами для Восточного фронта оказалось четыре неисправных вагона. Слесаря, производившие осмотр состава, тотчас наклеили на вагоны бланки с надписью «больной» и доложили об этом составителю поезда. Составитель побежал к немецкому военному коменданту. Офицер строга выслушал составителя, глядя на его брови белыми глазами, затем серьезно сказал: «Зо!» — и поправил на голове большую твердую фуражку. Офицер встал из-за стола и, опираясь на алюминиевую трость — одна нога у него была искусственная, и он, видимо, еще к ней не вполне привык, — пошел к составу. Здесь он увидел двух вагонных слесарей в темных, замасленных куртках, с паклей в руках. «Эти?» — спросил офицер у составителя поезда и, не дожидаясь ответа, вдруг задергался всем своим худым, развинченным телом. Он странно вскрикнул высоким горловым голосом и дрожащей рукой вырвал из черной кобуры пистолет «вальтер». Но офицер не выстрелил, хотя его худые пальцы судорожно бегали, отыскивая спусковой крючок.
Комендант не выстрелил потому, что увидел на стенке вагона белый листок бумаги с надписью «больной». Таким образом, он как бы оказался перед лицом факта, официально оформленного, засвидетельствованного специальным документом. И это поставило его в тупик и спасло людей. Люди поступили правильно, точно по инструкции: обнаружив неисправность вагонов, они немедленно доложили об этом по начальству и наклеили на «больные» вагоны соответствующие бланки.
Комендант не доверял ни одному русскому. Он готов был всех их перестрелять одного за другим. Ему еще слишком памятна была зима под Москвой, где он оставил свою отмороженную ногу. Но в конце концов эти двое действительно не сделали ничего дурного. Они поступили как полагается. Наконец, если всех русских перестреляешь, то кто же будет работать на железной дороге? С этим приходится считаться. Хорошо еще, что они вовремя обнаружили неисправность. Веселенькая история, если бы вагоны с динамитом сломались где-нибудь на перегоне и произошло крушение. Жуткое дело! Пускай, мерзавцы, пока живут...
Продолжая держать пистолет в руке, комендант, постукивая протезом, обошел состав, останавливаясь перед каждым «больным» вагоном и читая наклейку. Все было правильно, точно по форме. Комендант стал успокаиваться. Тело его постепенно перестало дергаться. О том же, что, может быть, вагоны вовсе и не «больные», ему даже и в голову не приходило: слишком хорошо, аккуратно и своевременно они были оформлены. Злого умысла не было. Если бы был злой умысел, их бы никак не оформили, скрыли их дефекты, отправили в путь и они где-нибудь на перегоне взорвались бы вместе со всем эшелоном. Еще слава богу, что так не случилось!
На двух вагонах причиной неисправности были показаны засорившиеся буксы, на двух других — треснувшие бандажи. Все это было весьма обычно.
Посмотрев на часы, комендант установил, что до отправки эшелона точно по графику остается еще час десять минут. Офицер велел отцепить «больные» вагоны, переформировать состав и предупредил составителя поезда, что в случае опоздания хотя бы на две минуты он будет повешен на водокачке. Затем комендант повертел в руках свой «вальтер» и выстрелил в землю. Пуля ударилась в рельс, дала рикошет и, звонко крутясь, улетела в сторону. Он выстрелил потому, что имел принцип не обнажать оружие зря, а уж если обнажил, то непременно пускать его в дело.
Спрятав пистолет в кобуру, комендант отправился обратно в свой кабинет и на специальном желтом бланке составил акт о переформировании литерного состава с боеприпасами ввиду обнаруженных неисправных четырех товарных вагонов за такими-то номерами. Затем солдат в каске принес ему в алюминиевых судках обед и постелил на письменный стол салфетку; комендант пообедал и выпил чашку черного кофе из термоса, налив в него немного австрийского «фольксрома», затем выкурил сигару.
Все это он делал не торопясь и стараясь не смотреть в окно, мимо которого туда и назад катался маневровый паровоз, передвигая вагоны. Но ровно через час десять минут комендант снова вышел на линию и увидел, что состав уже переформирован. Тогда он дал сигнал к отправлению, солдаты в касках вскочили на подножки открытых платформ с авиабомбами в длинных решетчатых ящиках, и литерный состав, тяжело погромыхивая на стыках, ушел на восток.
Когда полотно освободилось, комендант увидел вдалеке пирс Нефтяной гавани, синюю полосу открытого моря, румынский танкер с низкой трубой сзади и четыре «больных» вагона с белыми наклейками, поставленных в тупике в конце пирса. Вся эта картина показалась коменданту такой красивой, а главное — исполненной такого строгого порядка, что он, искоса взглянув сверху на свою серую грудь с Железным крестом и ленточкой медали «За зимнюю кампанию», сказал про себя со строгим чувством заслуженного удовлетворения: «Зо!»
И вдруг в этот самый миг в стройной, приятной картине произошел какой-то беспорядок. Сначала он его скорее почувствовал, чем увидел. Все было по-прежнему: ярко-синее море, строгая прямая линия серого пирса, веселенькие красные вагоны с белыми наклейками, будочка стрелочника, два сияющих перламутровых облака над ее железной крышей, бензиновые цистерны, похожие на ярмарочные карусели в брезентовых чехлах, маленький маневровый паровозик, толкающий перед собой две открытые площадки с какими-то бревнами. Все это было ярко освещено солнцем, красиво, но ко всему этому примешивалось чувство какого-то странного, очень тревожного беспорядка. Вместо того чтобы прокатиться мимо будочки стрелочника, площадки с бревнами вдруг стали плавно заворачивать в тупик. Комендант увидел, как из домика выбежала маленькая фигурка человека и бросилась в сторону. Раздался крик часового и сейчас же за ним выстрел, потом другой. Теперь маневровый паровоз, выбрасывая из трубы сильные клубы дыма, полным ходом толкал площадки с бревнами прямо на стоящие в тупике веселенькие красные вагончики. На полном ходу с паровоза соскочил высокий человек и побежал, но откуда-то раздался выстрел, человек споткнулся, потом вскочил, побежал, упал, и в то же мгновение комендант с ужасом понял, что происходит нечто чудовищное и непоправимое, как во сне...
Над пирсом Нефтяной гавани, в сияющем небе, низко висело плотное черное облако взрыва, освещенное снизу бушующим пламенем. Это горел бензин, и в огне продолжали взрываться одна за другой цистерны, постепенно окутывая все вокруг тяжелым, непроницаемо-душным дымом.
1957
Дорогой, милый дедушка[66]
— А что сейчас будет?
— А ты прочти.
— Я не могу.
— Скандал! Такая большая девочка и до сих пор не научилась читать. Ты же знаешь буквы?
— Знаю.
— Ну, так что там написано на экране? Какая первая буква?
— Три.
— «Три» не буква, а цифра. А это буквы. Понятно тебе?
— Понятно.
— Теперь говори, какая это буква?
— Забыла.
— Вот тебе и раз! Это же буква не простая, а буква твоей мамы.
— Ж?
— Это когда твоя мама была такая же маленькая, как ты. А теперь у нее другая буква. Ну?
— Е? Евгения?
— Верно. А потом какая буква?
— В.
— Молодец. Дальше?
— Г.
— Умница. Потом?
— Опять три. Нет, нет! Опять Е.
— Верно. Дальше.
— Дальше Н, потом И, потом еще раз И, но только со скобочкой наверху. Да, деда?
— Абсолютно верно. А все вместе? Только не сразу, а сначала подумай хорошенько. И не ерзай, а сиди смирно. Ну, складывай буквы.
— Не могу!
— Пой.
— Петь?
— Ну да. Пой красиво и музыкально.
— Ев-ге-ний.
— Молодец! Дальше.
— Дальше буква О. Москва. Да, деда?
— Москва здесь ни при чем. Ты не гадай и не хитри, а читай по буквам.
— О. Н. Е. Г. И. Н.
— А вместе?
— Евгений Онегин.
— Гениальный ребенок!
— Деда, а что наверху написано маленькими буквами, я не могу разобрать.
— Написано «Чайковский».
— Корней Иванович?
— Слава богу, нет.
— А какой?
— Петр Ильич.
— А он что?
— Он, вообрази себе, композитор.
— Это сейчас его показывают на экране?
— Его.
— Какой красивый, с бородой! А это кто сейчас появился? Его дочка?
— Не думаю.
— А кто?
— Истолковательница.
— А почему у нее такие сердитые мездри?
— Не мездри, а ноздри. Сколько раз я тебе говорил. Пора знать. И сиди спокойно, не вертись. Не мешай слушать.
— Что слушать? Как она истолковывает? А когда начнется самый этот Евгений Онегин?
— Уже начинается.
— А это что показывают?
— Оркестр.
— А почему там так много пустых стульев? У музыкантов грипп? Как скучно! Может быть, перекинемся на вторую программу? Вдруг там «Спокойной ночи, малыши»? А то здесь все равно ничего не видно, а только немножко слышно.
— Молчи. Сейчас все увидим. Вот уже видно.
— Это на даче? А чего они делают?
— Варят варенье.
— Какое?
— Вишневое.
— С косточками?
— Без.
— А косточки?
— Вынули шпильками.
— И выбросили?
— Да.
— В оркестр?
— Молчи. Не мешай.
— А еще что они делают?
— Поют.
— Про львов?
— При чем здесь львы! Поют совсем про другое.
— Нет, про львов. «Слыхали львы, слыхали львы». Деда!
— Что?
— А львы слыхали?
— Не имею понятия.
— А если слыхали, что тогда? Они сюда не придут?
— Кто?
— Львы.
— Не придут. Здесь не цирк.
— А что?
— Опера.
— Львы в оперу не приходят?
— Редко. В самом крайнем случае.
— А что это за две другие женщины пришли?
— Две сестры.
— Как их зовут?
— Толстенькую Оля, а черненькую Таня.
— А третья сестра где?
— Нету. Только две.
— А мама ходила на троих.
— То совсем другое.
— Цирк?
— Нет, драма.
— Кто эти, которые варенье варили?
— Мама и няня.
— Такие молоденькие?
— Каких бог послал. И молчи. Хоть на минутку закрой рот.
— А Ольга богатая?
— Почему ты решила?
— Красиво одета. С оборочками. А Татьяна, наверное, бедная, да, деда?
— Не скажи! Тоже довольно зажиточная.
— Как интересно. Одна беленькая, другая черненькая, одна резвушка, а другая грустненькая. Деда, я видела, как резвушка пробовала пальцем варенье, а та, другая, Татьяна, все время понарошку книжку учила, наверно, арифметику. Смотри, деда, уже пришли народные песни и пляски, давай лучше перекинемся на вторую.
— Подожди, сейчас будет интересно.
— Придет какой-нибудь мужчина?
— Не исключено.
— Пришел! Пришел! Смотри, деда: идет в пелерине. Деда, это кто? Хайкин?
— Здравствуйте! Откуда взяла?
— Объявляли, что будет Хайкин.
— Так дирижировать же, а не по гостям ходить.
— А этого, который пришел, как звать?
— Ленский.
— А я думала, Пушкин. Точно так же одет, как Пушкин.
— Нет, не Пушкин.
— А почему же у него тогда пелеринка?
— Потому что потому, оканчивается на у. И не мешай мне слушать.
— А он хороший?
— Отличный.
— А он кто?
— Поэт.
— Он муж этой резвушки Ольги?
— Пока еще жених.
— А это лучше или хуже?
— Смотря кому.
— Деда, смотри! Еще какой-то с Ленским пришел. Хайкин?
— При чем тут Хайкин? Хайкин — дирижер.
— А этот?
— Помещик.
— Я не понимаю, про чего ты говоришь?
— И не надо тебе понимать.
— А он кто — Пушкин?
— Почему Пушкин?
— В пелеринке. И голова кудрявенькая.
— Нет, не Пушкин.
— А как его зовут?
— Евгений Онегин.
— А вот и нет! Это Арбенин.
— Что за чушь!
— Арбенин, Арбенин! Я его знаю. Он вчера тут по телевизору уже сходил с ума, когда отравил мороженым свою Нинку.
— Да нет. То было совсем другое. То была драма.
— А это?
— Опера.
— Какая?
— «Евгений Онегин».
— А он хороший?
— Так себе. Типичный представитель разочарованного дворянства.
— А Татьяне он хороший?
— Отличный. Лучше не надо. Видишь, она даже с ним пошла гулять подальше от дома.
— А он кто? Поэт, как Ленский?
— Нет.
— Значит, про зайчиков?
— Не понимаю.
— Ну как же, деда! Ленский ведь поэт, значит, пишет стихи, а этот Евгений Онегин — про зайчиков.
— Ничего не понимаю. Про каких зайчиков?
— Ну, про заек.
— Ах, прозаик! Так бы ты сразу и сказала. Нет, он не прозаик.
— А про чего?
— Про ничего. Ты мне уже, моя милая, надоела хуже горькой редьки. Смотри лучше на экран.
— Татьяна уже в него влюбилась?
— Похоже на то.
— Деда, а потом она бросится в воду?
— Ерунду говоришь.
— Нет, не ерунду. Я сама видела. Только тогда она была дочка мельника.
— Ладно тебе болтать. Слава богу, уже антракт.
— А что будет потом?
— Сцена письма.
— Диктовка?
— Еще хуже. Сочинение. Молчи. Начинается.
— Так быстро?
— А чего тянуть кота за хвост. Раз-раз — и готово!
— Что она делает? Легла спать?
— С нянькой разговаривает.
— По-русски?
— Конечно.
— Я чего-то ничего не разбираю. Про чего они разговаривают?
— Преимущественно про любовь. Нянька говорит, что любовь — это одни глупости и что пусть лучше ложится спать.
— А она что?
— Ты же видишь, выпроводила няньку и пишет письмо Евгению Онегину.
— А что поет?
— Разное. Поет, например, «я вам пишу, чего же боле».
— Признается ему?
— Признается. Ну, в чем дело? Чего ты вдруг завертелась, как на сковородке?
— У меня живот заболел!
— Это, наверно, от переживаний.
— Знаешь что, деда?
— Что?
— Мне надо поскорее в туалет.
— Так чего ж ты? Чеши!
— А ты мне потом расскажешь, что было?
— Обязательно.
— Уже, деда.
— Ручки вымыла?
— Вымыла. Ну, что без меня было?
— Ничего, пишет.
— Уже адрес надписывает? А потом побежит бросать в ящик?
— Нет, нянькин внук понесет.
— Прямо к этому Онегину?
— В собственные руки.
— А он прочитает?
— Тут же.
— И что? Не захочет с ней жениться?
— Это мы потом узнаем.
— Как интересно!
— Кончилось. Перерыв.
— Смотри, деда, опять показалась эта с цепочкой, истолковательница. Что она говорит?
— Говорит, что Чайковский терпеть не мог, когда маленькие дети все время ерзают по креслам и портят импортную мебель.
— Это он про меня?
— А про кого же еще?
— А потом что будет?
— Объяснение Онегина с Татьяной.
— Он не захочет с ней жениться?
— Вот уже начинается, и мы сейчас все узнаем. Что ж ты закрыла глаза?
— Я боюсь!
— Чего?
— Что он сейчас придет и не захочет жениться.
— Уже пришел.
— Что он ей поет?
— Поет, чтоб не отпиралась.
— А она отпирается?
— Нет, не отпирается.
— Вот дура! Надо, чтоб отпиралась! А теперь что он ей говорит?
— Говорит, что, в общем, ее не любит.
— А она?
— Сидит как убитая.
— Из ружья?
— Нет, морально.
— Бедненькая. Уже кончилось? Можно открыть глаза?
— Открывай. Занавес.
— А потом что будет?
— Потом, милая моя, будет крепкий, здоровый сон маленькой девочки в своей уютной кроватке.
— Милый, дорогой дедушка! Самый любимый! Не отправляй меня спать! Еще совсем немножко. Я хочу только узнать, что будет потом.
— Будет бал у Лариных.
— У этих двух — у Тани и Оли? И он тоже приедет, этот противный Евгений?
— Обязательно. Тише. Начинается.
— Это бал?
— Самый настоящий. Видишь, танцуют.
— Хайкин дирижирует?
— Да.
— Это что, Первое мая?
— Нет, именины Татьяны.
— А почему этот Евгений Онегин танцует не с ней, а с ее сестрой, резвушкой?
— Чтобы отомстить Ленскому.
— А что Ленский?
— Известно что, нервничает.
— А Татьяна?
— Тоже нервничает.
— Я б лучше назло этому Онегину пригласила танцевать этого Ленского. Верно, дедушка?
— Верно. Вообще ты у нас молодец. Но, конечно...
— Знаю, знаю. Против овец. Да, деда?
— И перестань наконец ерзать. А главное, не ломай обстановку. Чего ты буйствуешь?
— Я боюсь.
— Чего же ты боишься?
— Сейчас они подерутся!
— Не подерутся.
— А что будет?
— Будет небольшой семейный скандальчик.
— Какой?
— Дуэль.
— Чего это — дуэль?
— Очень просто. Бах, и готово!
Из пулемета?
— Из миномета.
— А это хуже или лучше?
— Закрой рот, бога ради!
— А про чего он теперь поет?
— Поет про то, что набезобразничал в чужом доме, и просит прощения.
— А ему что говорят?
— Говорят, что, дескать, ничего, бывает.
— А Евгений Онегин что?
— Уехал домой.
— На электричке?
— На лошади.
— Как в цирке?
— Вот именно.
— А Ольга что?
— Ломает руки.
— Кому?
— Себе.
— А что их матерь?
— Упала в обморок.
— А обморок это что — такое кресло, да?
— Молчи. Не крутись. Смотри, ты от волнения вся извертелась. Успокойся. Вот уже, кстати, и кончилось.
— А что потом?
— Ты же знаешь, что бывает потом.
— Суп с котом?
— Вот именно. А теперь безо всяких разговоров марш спать.
— Так ведь еще же не кончилось.
— Для тебя кончилось. Иди спать. Сейчас же!
— Не хочу!
— Ого! Как ты смеешь так дерзко разговаривать со своим любимым дедушкой?
— Дорогой, милый дедушка, разреши мне еще немножечко. Я непременно хочу увидеть, как они стрельнут друг в дружку.
— Откуда ты знаешь, что будут стреляться?
— Ты же сам сказал, что будет эта... как ее звать... Когда стреляют друг в дружку!
— Дуэль.
— Вот-вот.
— Категорически!
— Ну, дорогой! Ну, милый! Самый, самый любимый! Дедулечка!
— Ишь ты, какая хитрая. Знаешь подход к своему деду. Ну, ладно. Еще десять минут. Самые последние. Только сиди абсолютно спокойно. Начинается.
— О, мельница! А где же мельник? Деда, он уже превратился в ворона?
— Мельник из другой оперы.
— Мы уже ее смотрели?
— Тысячу раз.
— Это когда князь женился с другой, а дочка мельника бросилась в воду, превратилась в русалку и выродила себе маленькую русалочку, верно, деда?
— Приблизительно. И закрой рот хоть на одну минутку, а то нет никаких сил!
— А про чего он поет? Про змей?
— Про каких там еще змей?
— Про удавов. То слыхали какие-то львы, а теперь какие-то удавы удалились. Деда, куда они удалились?
— Ты меня сведешь с ума! Вовсе не удавы, а «куда, куда вы удалились, весны моей златые дни». Значит, не удавы, а златые дни удалились. Ясно тебе?
— Ясно. А куда они все-таки удалились?
— Понятия не имею. Сиди и не ерзай! Имей в виду, если будешь портить мебель, я сейчас же перекинусь на вторую программу.
— Дедушка, не надо! Умоляю тебя. Там, наверно, сейчас показывают этот... дикий бред.
— Что ты городишь? Какой бред?
— Дикий. На диком бреде.
— Так не бреде, а бреге.
— А что это такое — бреге?
— На берегу, значит.
— По-французски?
— По-церковнославянски.
— Все равно, лучше будем смотреть про расстрел.
— Про что?
— Про... ну, этот... расстрел.
— Не расстрел, а дуэль.
— Ну да, дуэль.
— Ладно.
— А где у них пулеметы?
— Не пулеметы, а пистолеты. Сейчас принесут. Вот уже принесли.
— Один заряженный, а другой пустой, да, деда?
— Ничего подобного, все по-честному. У обоих заряжено.
— Минами?
— Пулями.
— И они стрельнут пулями друг в дружку? А если один опоздает стрельнуть?
— Тогда ему труба.
— На трубе будут играть? Дорогой, милый дедушка, спрячь меня, я боюсь... Боюсь...
— Перестань визжать и не лезь под стол!
— Боюсь... Боюсь... Они сейчас громко стрельнут. Я лучше закрою глаза и заткну уши. Дедушка, уже стрельнули?
— Стрельнули. Вылезай!
— Кто кого убил?
— Онегин Ленского.
— Насовсем?
— Абсолютно. Чего ж ты плачешь, дурочка?
— Мне жалко этого, Ольгиного. Лежит на полу. Дураки, дураки, дураки. Не хочу больше смотреть эту противную постановку.
— И правильно. Иди лучше спать. У тебя и так глаза слипаются.
— А что будет дальше? Татьяна утопится?
— Не утопится.
— А что же?
— Я тебе завтра утром все расскажу. А теперь скажи «спокойной ночи» и ступай баиньки.
— Спокойной ночи, дорогой, милый дедушка. Спокойной вам ночи, приятного сна, желаем вам видеть козла и осла...
— Козла и осла не надо. Не тяни кота за хвост. Закругляйся.
— Осла до полночи, козла до утра...
— Иди, иди...
— А завтра утром расскажешь, что потом было?
— Непременно.
— Дедушка, уже завтра. Можно к тебе?
— Во-первых, сначала надо вежливо постучать в дверь, а потом что?.. Знаешь, что надо потом?
— Знаю, знаю. Надо сказать: с добрым утром, дорогой, милый дедушка. А теперь скажи, что потом было? Она утопилась?
— Нет, не утопилась.
— А что?
— Вышла замуж за генерала.
— А генерал старый?
— Так себе. Не первой свежести.
— Глупышка! Я бы ни за что не женилась со стариком.
— Почему?
— Потому, что у старика уже есть жена. А я хочу жениться с молоденьким, кудрявеньким, хорошеньким.
— Зачем же тебе непременно понадобился кудрявенький и хорошенький?
— Чтобы не стыдно было с ним идти по улице.
1965
Сорренто[67]
Сидя боком на почерневшей мраморной балюстраде, — а может быть, и не мраморной, — он неодобрительно посматривал вдаль, на треуголку Везувия со жгутом тяжелого сернистого дыма, повисшего над Неаполем, и рассказывал:
— Жил-был в ныне уже ликвидированной Российской империи некий богатый-пребогатый купец по фамилии Хлудов Василий, и было у него, как в сказке, три сына. Старший — Артамон — умный был детина, средний — Степан — был и так и сяк, а младший — Никита — нельзя сказать, чтобы вовсе был дурак, но невероятнейший балбес, пьяница и скандалист, типичный недоросль из богатых купеческих сынков, так что почтенной фирме Хлудовых был от него один только срам, наносивший большой ущерб торговому реноме. Что тут делать? Вот наконец призвал старик Хлудов к себе Никиту и говорит: «Образумься! Эдак дальше, друг мой, продолжаться не может. Посмотри на своих братьев Артамона и Степана: они уже давно перебесились, бросили все эти художества, вошли в дело и по мере своих сил способствуют процветанию фирмы. Пора и тебе перебеситься. Поезжай за границу, на людей посмотри и себя покажи, поучись там коммерции, войди в общество, завяжи солидные деловые связи, знакомства. Одним словом, соверши вояж, как это сделали в свое время твои братья. Посети, например, классическую страну торгово-промышленного капитала Англию. Недаром же поется у нас: «Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину, а наш русский мужик, коль работать невмочь, он затянет родную дубину». Так вот, рекомендую тебе самым серьезным образом, не будь дубиной! Возьми в конторе денег, сколько потребуется, чтобы перед англичанами лицом в грязь не ударить, и плыви в Лондон».
Не стал Никита Хлудов спорить с батюшкой, взял в конторе приличную сумму денег и тем же часом отбыл в столицу Великобритании, а по приезде туда, еще не вполне отрезвившись после пароходного буфета, пошел пройтись по Лондону и, конечно, первым делом расспросил прохожих, где у них здесь местные жители утоляют жажду. А узнавши, что это совершается в так называемых барах, отправился в один из них и заказал себе выпивку. Ему подали на донышке виски и бутылочку содовой воды. Содовой водой он пренебрег, а виски одним махом опрокинул в рот и спросил еще порцию. Хозяин бара поставил ему еще. Потом еще, и еще, и несколько раз еще, так что вскоре на цинковой стойке перед Хлудовым-младшим образовалась целая выставка нетронутых бутылочек содовой. Заметив, что столь воробьиные дозы его не берут, Хлудов-младший дал понять, что желал бы продолжать более естественными порциями. Хозяин предложил ему на выбор разнообразную посуду, и Хлудов-младший указал на фужер самого крупного калибра, из которого обычно джентльмены пьют минеральные воды. Хозяин удивился, но все-таки налил полный фужер чистейшего шотландского виски «Белая лошадь». Хлудов-младший выпил до дна и попросил повторить.
Между тем — изволите ли видеть — слух об иностранце, который пьет неразбавленное виски из больших фужеров, с быстротой молнии распространился по всему Лондону, и в бар хлынула толпа любопытных. После десятого фужера хозяин сообщил собравшейся публике и представителям печати, что за все время четырехсотлетнего существования заведения это лишь третий случай подобного рода. Затем он торжественно обратился к Хлудову-младшему с просьбой в память сего знаменательного события оставить свой автограф. С этими словами он дал Хлудову-младшему понюхать нашатырного спирта, немного потер ему уши толченым льдом с солью и вручил вилку.
Хлудов-младший собрался с силами и, не теряя способности держаться сравнительно вертикально, под приветственные клики лондонских граждан нацарапал на цинковом прилавке бара хотя и не без труда, но вполне разборчиво слова «Никита Хлудов».
— Вы третий за всю историю нашего заведения, совершивший подобный подвиг, — сказал хозяин бара, — поэтому по традиции я не возьму с вас ни одного пенса. Выпивка за счет заведения.
— А кто же первые двое? — поинтересовался Хлудов-младший.
— Вы можете прочесть их имена здесь, — ответил хозяин бара, сняв с прилавка дощечку, под которой хранились исторические автографы, и Хлудов-младший не без труда разобрал две подписи, нацарапанные вилкой на русском языке: «Хлудов Артамон» и «Хлудов Степан».
Он некоторое время молчал, наслаждаясь эффектом рассказа, а затем своим окающим назидательным баском, полным скрытого юмора, с чувством, с толком, с расстановкой начал рассказывать новую историю:
— А вот несколько из другой оперы. Некогда существовал в нашем городе постовой городовой по фамилии Васильев, человек пожилой, но замечательный тем, что ловко умел спасать людей. Напрактиковался. Как увидит сверху, с бульвара, со своего поста, что кто-нибудь тонет, так сейчас же бежит вниз, бросается в Волгу и спасает. Верите ли — семнадцать человек спас. Знаменитость на весь город. Шаляпин в своем роде. А ведь, заметьте себе: самый простой, незаметный, необразованный городовой. Бывают же такие явления!
Однажды он спас единственного сына местного богача-миллионщика. Уж как был рад папаша, ни словами сказать, ни пером описать! Помилуйте: единственный сын, наследник, утешение в старости, надежда фирмы, продолжатель рода! Велел купец позвать к себе спасителя и говорит ему: ты, говорит, сам не знаешь, какое для меня благодеяние сотворил. За это я хочу тебя наградить по-царски. Ничего для тебя не пожалею. Хотя бы половину капитала. Требуй чего хочешь. Все для тебя сделаю.
— Покорнейше благодарю, — говорит, — ваше степенство, ничего мне от вас не надо, так как я спас вашего сынка не корысти ради, а по совести, а окажите мне великую милость, помогите, чтобы исполнилась заветная мечта всей моей жизни.
— В чем же твоя мечта? — спрашивает купец.
— Не знаю только, в силах ли вы, ваше степенство...
— Я все в силах! Говори.
— Хочу поступить в гимназию.
— Помилуй! — вскричал купец и даже засмеялся от крайнего удивления. — В гимназию, братец ты мой, маленьких детей принимают, ну, в крайнем случае молодых людей, а тебе ведь небось лет сорок.
— Сорок два-с, ваше степенство.
— Ну вот видишь. Как же ты будешь на одной парте с малышами сидеть? Кроме того, ты, так сказать, городовой, полицейский чин, какая же может быть для тебя гимназия? Тебя туда ни под каким видом не примут. Даже если я весь учебный округ подмажу и самому господину министру дам хабара. Нет, брат, это решительно невозможно, даже при моей силе. Проси чего-нибудь другого.
— Ничего мне другого не надо. Хочу в гимназию.
И только.
Уж как с ним купец ни бился, ничего не мог поделать. Уперся городовой на своем — и баста. Это, говорит, моя единственная мечта жизни.
Вы подумайте, дорогие товарищи: простой, обыкновенный городовой, а в гимназию захотел на старости лет! Вот ведь какие случаи с русским человеком бывают. Не что-нибудь, а мечта-с!
Он прослезился, вытер носовым платком глаза, откашлялся, сплюнул мокроту в специальную карманную черепаховую коробочку, защелкнул ее аккуратно и спрятал в карман. Затем вставил в длинный мундштук египетскую сигарету, вынув ее ногтем из зеленой пачки, закурил и стал глядеть в пыльный сад, который спускался несколькими террасами к серокаменному вулканическому берегу мглистого Неаполитанского залива, охваченного зноем.
Мы ждали продолжения, но он молчал.
— Ну, а что же потом?
— Вы про что? — спросил он с недоумением.
— Про этого городового.
— Ах, про Васильева. Да что же потом? Ничего. Утонул.
— Как утонул?! — воскликнули мы в один голос.
— Очень просто. Спасал восемнадцатого человека и утонул.
Слово «утонул» он произнес очень отчетливо и вкусно, с круглым ударением на «о», с двумя глубокими гласными «у» по краям, которые как бы вдруг окрасили все это влажное слово зелено-голубым цветом таинственных водяных недр, — и сейчас же, помахав перед лицом рукой, как бы желая разогнать вместе с синеватым дымком египетского табака досадные мысли, спросил:
— Между прочим, я вам никогда не рассказывал, как на Нижегородской ярмарке наши купцы поспорили с английскими?
— Нет, не рассказывали. Расскажите.
— Могу. Так вот, стало быть, поспорили наши русские купцы с англичанами, чьи приказчики — наши или английские — могут больше выпить. Заключили, знаете ли, грандиознейшее пари. Засим зафрахтовали пассажирский пароход, нагрузили его всеми видами крепких напитков и соответствующих закусок, отрядили две команды испытаннейших приказчиков — одну команду английскую, а другую русскую — и велели плыть на этом пароходе от Нижнего до Астрахани и все время пить. Кто кого перепьет и споит, та нация и выиграла. Как видите, условия простые и ясные. Вот пароход отправился вниз по матушке по Волге, а русские и английские купцы засели в отдельном кабинете лучшего ярмарочного ресторана и ждут телеграмм о ходе соревнования, которые обе команды должны были посылать с каждой пристани. Через некоторое время пришли первые телеграммы — от наших и от ихних — примерно одинакового содержания. Русская депеша гласила: «Уповаем на господа бога, идет водка под соленые огурчики и жигулевское пиво, под моченый горошек и ржаные сухарики, уже выпили море, англичане не отстают, миновали Чебоксары, Казань, отваливаем в Симбирск. С уважением и надеждой артель русских приказчиков-патриотов». Через несколько дней прибыла вторая телеграмма, из Саратова: «Водку и пиво порешили под чистую, перешли на мадеру и херес, держимся стойко, англичане молодцы, не отстают. Русские служащие». Еще через недельку депеша гласила: «Проследовали Камышин, с божьей помощью кончили мадеру, херес, коньяк и прочее подобное, мы ни в одном глазу, голова свежая, только ноги, англичане малость приуныли, однако идут с нами наравне, ноздря в ноздрю, и не отстают, но мы надеемся. Российские». Следующая телеграмма пришла из Царицына: «Только что кончили легкие виноградные вина и шампанское, держимся во славу русского оружия, англичане молодцы, однако еле поспевают, благодетели, не сомневайтесь, не подведем, надеемся на ликеры. Православные».
Затем наступила томительная многодневная пауза, после чего в отдельный кабинет пришла всего одна телеграмма, от русской команды:
«Между Царицыном и Астраханью положили английских на зеленом шартрезе. Славяне».
Мы все засмеялись, а он, как опытный рассказчик, даже бровью не повел. Было это лет сорок тому назад, в Сорренто. Помню его небольшое скуластое лицо и артистические руки, оранжевые от постоянного итальянского загара, его кукурузно-желтые усы, нависшие над хорошо выскобленным солдатским подбородком, и ежик шафранных, еще совсем не седых волос над узким скульптурным лбом. Он был в темно-голубой элегантной рубашке с длинным ультрамариновым галстуком самого высшего качества, который красиво лежал на его несколько впалой груди.
Худой, сутулый, сухой, с носом буревестника и пытливыми невеселыми голубыми глазами, устремленными вдаль.
А пиджак висел на спинке соломенного стула: превосходно сшитая вещь из первоклассного английского материала. Пиджак этот Алексей Максимович с гордостью любил называть:
— Гранитовый!
1965
Сказки
Дудочка и кувшинчик[68]
Поспела в лесу земляника.
Взял папа кружку, взяла мама чашку, девочка Женя взяла кувшинчик, а маленькому Павлику дали блюдечко.
Пришли они в лес и стали собирать ягоду: кто раньше наберет.
Выбрала мама Жене полянку получше и говорит:
— Вот тебе, дочка, отличное местечко. Здесь очень много земляники. Ходи собирай.
Женя вытерла кувшинчик лопухом и стала ходить.
Ходила-ходила, смотрела-смотрела, ничего не нашла и вернулась с пустым кувшинчиком.
Видит — у всех земляника. У папы четверть кружки. У мамы полчашки. А у маленького Павлика на блюдечке две ягоды.
— Мама, а мама, почему у всех у вас есть, а у меня ничего нету? Ты мне, наверное, выбрала самую плохую полянку.
— А ты хорошенько искала?
— Хорошенько. Там ни одной ягоды, одни только листики.
— А под листики ты заглядывала?
— Не заглядывала.
— Вот видишь! Надо заглядывать.
— А почему Павлик не заглядывает?
— Павлик маленький. Он сам ростом с землянику, ему и заглядывать не надо, а ты уже девочка довольно высокая.
А папа говорит:
— Ягодки — они хитрые. Они всегда от людей прячутся. Их нужно уметь доставать. Гляди, как я делаю.
Тут папа присел, нагнулся к самой земле, заглянул под листики и стал искать ягодку за ягодкой, приговаривая:
— Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится.
— Хорошо, — сказала Женя. — Спасибо, папочка. Буду так делать.
Пошла Женя на свою полянку, присела на корточки, нагнулась к самой земле и заглянула под листики. А под листиками ягод видимо-невидимо. Глаза разбегаются. Стала Женя рвать ягоды и в кувшинчик бросать. Рвет и приговаривает:
— Одну ягоду беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещится.
Однако скоро Жене надоело сидеть на корточках.
«Хватит с меня, — думает. — Я уж и так, наверное, много набрала».
Встала Женя на ноги и заглянула в кувшинчик. А там всего четыре ягоды.
Совсем мало! Опять надо на корточки садиться. Ничего не поделаешь.
Села Женя опять на корточки, стала рвать ягоды, приговаривать:
— Одну ягоду беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещится.
Заглянула Женя в кувшинчик, а там всего-навсего восемь ягодок — даже дно еще не закрыто.
«Ну, думает, так собирать мне совсем не нравится. Все время нагибайся да нагибайся. Пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго, и устать можно. Лучше я пойду поищу себе другую полянку».
Пошла Женя по лесу искать такую полянку, где земляника не прячется под листиками, а сама на глаза лезет и в кувшинчик просится.
Ходила-ходила, полянки такой не нашла, устала и села на пенек отдыхать. Сидит, от нечего делать ягоды из кувшинчика вынимает и в рот кладет. Съела все восемь ягод, заглянула в пустой кувшинчик и думает: «Что же теперь делать? Хоть бы мне кто-нибудь помог!»
Только она это подумала, как мох зашевелился, мурава раздвинулась, и из-под пенька вылез небольшой крепкий старичок: пальто белое, борода сизая, шляпа бархатная и поперек шляпы сухая травинка.
— Здравствуй, девочка, — говорит.
— Здравствуй, дяденька.
— Я не дяденька, а дедушка. Аль не узнала? Я старик-боровик, коренной лесовик, главный начальник над всеми грибами и ягодами. О чем вздыхаешь? Кто тебя обидел?
— Обидели меня, дедушка, ягоды.
— Не знаю. Они у меня смирные. Как же они тебя обидели?
— Не хотят на глаза показываться, под листики прячутся. Сверху ничего не видно. Нагибайся да нагибайся. Пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго, и устать можно.
Погладил старик-боровик, коренной лесовик свою сизую бороду, усмехнулся в усы и говорит:
— Сущие пустяки! У меня для этого есть специальная дудочка. Как только она заиграет, так сейчас же все ягоды из-под листиков и покажутся.
Вынул старик-боровик, коренной лесовик из кармана дудочку и говорит:
— Играй, дудочка.
Дудочка сама собой заиграла, и, как только она заиграла, отовсюду из-под листиков выглянули ягоды.
— Перестань, дудочка.
Дудочка перестала, и ягодки спрятались.
Обрадовалась Женя.
— Дедушка, дедушка, подари мне эту дудочку!
— Подарить не могу. А давай меняться: я тебе дам дудочку, а ты мне кувшинчик: он мне очень поправился.
— Хорошо. С большим удовольствием.
Отдала Женя старику-боровику, коренному лесовику кувшинчик, взяла у него дудочку и поскорей побежала на свою полянку. Прибежала, стала посередине, говорит:
— Играй, дудочка.
Дудочка заиграла, и в тот же миг все листики на полянке зашевелились, стали поворачиваться, как будто бы на них подул ветер.
Сначала из-под листиков выглянули самые молодые любопытные ягодки, еще совсем зеленые. За ними высунули головки ягоды постарше — одна щечка розовая, другая белая. Потом выглянули ягоды вполне зрелые — крупные и красные. И, наконец, с самого низу показались ягоды-старики, почти черные, мокрые, душистые, покрытые желтыми семечками.
И скоро вся полянка вокруг Жени оказалась усыпанной ягодами, которые ярко горели на солнце и тянулись к дудочке.
— Играй, дудочка, играй! — закричала Женя. — Играй быстрей!
Дудочка заиграла быстрей, и ягод высыпало еще больше — так много, что под ними совсем не стало видно листиков.
Но Женя не унималась:
— Играй, дудочка, играй! Играй еще быстрей.
Дудочка заиграла еще быстрей, и весь лес наполнился таким приятным проворным звоном, точно это был не лес, а музыкальный ящик.
Пчелы перестали сталкивать бабочку с цветка; бабочка захлопнула крылья, как книгу; птенцы малиновки выглянули из своего легкого гнезда, которое качалось в ветках бузины, и в восхищении разинули желтые рты; грибы поднимались на цыпочки, чтобы не проронить ни одного звука, и даже старая лупоглазая стрекоза, известная своим сварливым характером, остановилась в воздухе, до глубины души восхищенная чудной музыкой.
«Вот теперь-то я начну собирать!» — подумала Женя и уже было протянула руку к самой большой и самой красной ягоде, как вдруг вспомнила, что обменяла кувшинчик на дудочку и ей теперь некуда класть землянику.
— У, глупая дудка! — сердито закричала девочка. — Мне ягоды некуда класть, а ты разыгралась. Замолчи сейчас же!
Побежала Женя назад к старику-боровику, коренному лесовику и говорит:
— Дедушка, а дедушка, отдай назад мой кувшинчик! Мне ягоды некуда собирать.
— Хорошо, — отвечает старик-боровик, коренной лесовик, — я тебе отдам твой кувшинчик, только ты отдай назад мою дудочку.
Отдала Женя старику-боровику, коренному лесовику его дудочку, взяла свой кувшинчик и поскорее побежала обратно на полянку.
Прибежала, а там уже ни одной ягодки не видно — одни только листики. Вот несчастье! Дудочка есть — кувшинчика не хватает. Как тут быть?
Подумала Женя, подумала и решила опять идти к старику-боровику, коренному лесовику за дудочкой.
Приходит и говорит:
— Дедушка, а дедушка, дай мне опять дудочку!
— Хорошо. Только ты дай мне опять кувшинчик.
— Не дам. Мне самой кувшинчик нужен, чтобы ягоды в него класть.
— Ну, так я тебе не дам дудочку.
Женя взмолилась:
— Дедушка, а дедушка, как же я буду собирать ягоды в свой кувшинчик, когда они без твоей дудочки все под листиками сидят и на глаза не показываются? Мне непременно нужно и кувшинчик и дудочку.
— Ишь ты, какая хитрая девочка! Подавай ей и дудочку и кувшинчик! Обойдешься и без дудочки, одним кувшинчиком.
— Не обойдусь, дедушка.
— А как же другие-то люди обходятся?
— Другие люди к самой земле пригинаются, под листики сбоку заглядывают, да и берут ягоду за ягодой. Одну ягоду берут, на другую смотрят, третью замечают, а четвертая мерещится. Так собирать мне совсем не нравится. Нагибайся да нагибайся. Пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго, и устать можно.
— Ах, вот как! — сказал старик-боровик, коренной лесовик и до того рассердился, что борода у него вместо сизой стала черная-пречерная. — Ах, вот как! Да ты, оказывается, просто лентяйка! Забирай свой кувшинчик и уходи отсюда! Не будет тебе никакой дудочки!
С этими словами старик-боровик, коренной лесовик топнул ногой и провалился под пенек.
Женя посмотрела на свой пустой кувшинчик, вспомнила, что ее дожидаются папа, мама и маленький Павлик, поскорей побежала на свою полянку, присела на корточки, заглянула под листики и стала проворно брать ягоду за ягодой.
Одну берет, на другую смотрит, третью замечает, а четвертая мерещится...
Скоро Женя набрала полный кувшинчик и вернулась к папе, маме и маленькому Павлику.
— Вот умница, — сказал Жене папа, — полный кувшинчик принесла. Небось устала?
— Ничего, папочка. Мне кувшинчик помогал.
И пошли все домой — папа с полной кружкой, мама с полной чашкой, Женя с полным кувшинчиком, а маленький Павлик с полным блюдечком.
А про дудочку Женя никому ничего не сказала.
1940
Цветик-семицветик[69]
Жила девочка Женя. Однажды послала ее мама в магазин за баранками. Купила Женя семь баранок: две баранки с тмином для папы, две баранки с маком для мамы, две баранки с сахаром для себя и одну маленькую розовую баранку для братика Павлика. Взяла Женя связку баранок и отправилась домой. Идет, по сторонам зевает, вывески читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака да все баранки одну за другой и съела: сначала съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали что-то чересчур легкие. Обернулась, да уж поздно. Мочалка болтается пустая, а собака последнюю, розовую Павликову бараночку доедает, облизывается.
— Ах, вредная собака! — закричала Женя и бросилась ее догонять.
Бежала, бежала, собаку не догнала, только сама заблудилась. Видит — место совсем незнакомое. Больших домов нет, а стоят маленькие домики. Испугалась Женя и заплакала. Вдруг откуда ни возьмись старушка.
— Девочка, девочка, почему ты плачешь?
Женя старушке все и рассказала.
Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик и говорит:
— Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет, но зато растет у меня в садике один цветок, называется «цветик-семицветик», он все может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь зевать по сторонам. Я тебе подарю цветик-семицветик, он все устроит.
С этими словами старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок вроде ромашки. У него было семь прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой.
— Этот цветик, — сказала старушка, — не простой. Он может исполнить все, что ты захочешь. Для этого надо только оторвать один из лепестков, бросить его и сказать:
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли — Быть по-моему вели.Вели, чтобы сделалось то-то или то-то. И это тотчас сделается.
Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик и попросить старушку, чтобы та проводила ее до ближнего милиционера, но ни садика, ни старушки как не бывало. Что делать? Женя уже собиралась, по своему обыкновению, заплакать, даже нос наморщила, как гармошку, да вдруг вспомнила про заветный цветок.
— А ну-ка, посмотрим, что это за цветик-семицветик!
Женя поскорее оторвала желтый лепесток, кинула его и сказала:
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли — Быть по-моему вели.Вели, чтобы я была дома с баранками!
Не успела она это сказать, как в тот же миг очутилась дома, а в руках — связка баранок!
Женя отдала маме баранки, а сама про себя думает: «Это и вправду замечательный цветок, его непременно надо поставить в самую красивую вазочку!»
Женя была совсем небольшая девочка, поэтому она влезла на стул и потянулась за любимой маминой вазочкой, которая стояла на самой верхней полке. В это время, как на грех, за окном пролетали вороны. Жене, понятно, тотчас захотелось узнать совершенно точно, сколько ворон — семь или восемь. Она открыла рот и стала считать, загибая пальцы, а вазочка полетела вниз и — бац! — раскололась на мелкие кусочки.
— Ты опять что-то разбила, тяпа! Растяпа! — закричала мама из кухни. — Не мою ли самую любимую вазочку?
— Нет, нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось! — закричала Женя, а сама поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала:
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли — Быть по-моему вели.Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая!
Не успела она это сказать, как черепки сами собою поползли друг к другу и стали срастаться.
Мама прибежала из кухни — глядь, а ее любимая вазочка как ни в чем не бывало стоит на своем месте. Мама на всякий случай погрозила Жене пальцем и послала ее гулять во двор.
Пришла Женя во двор, а там мальчики играют в папанинцев: сидят на старых досках, и в песок воткнута палка.
— Мальчики, мальчики, примите меня поиграть!
— Чего захотела! Не видишь — это Северный полюс? Мы девчонок на Северный полюс не берем.
— Какой же это Северный полюс, когда это одни доски?
— Не доски, а льдины. Уходи, не мешай! У нас как раз сильное сжатие.
— Значит, не принимаете?
— Не принимаем. Уходи!
— И не нужно. Я и без вас на Северном полюсе сейчас буду. Только не на таком, как ваш, а на всамделишном. А вам — кошкин хвост!
Женя отошла в сторонку, под ворота, достала заветный цветик-семицветик, оторвала синий лепесток, кинула и сказала:
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли - Быть по-моему вели!Вели, чтоб я сейчас же была на Северном полюсе!
Не успела она это сказать, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, солнце пропало, сделалась страшная ночь, земля закружилась под ногами, как волчок.
Женя, как была в летнем платьице, с голыми ногами, одна-одинешенька оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто градусов!
— Ай, мамочка, замерзаю! — закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же превратились в сосульки и повисли на носу, как на водосточной трубе.
А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей и прямехонько к девочке, один другого страшней: первый — нервный, второй — злой, третий — в берете, четвертый — потертый, пятый — помятый, шестой — рябой, седьмой — самый большой.
Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зеленый лепесток, кинула и закричала что есть мочи:
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли - Быть по-моему вели.Вели, чтоб я сейчас же очутилась опять на нашем дворе!
И в тот же миг она очутилась опять во дворе. А мальчики на нее смотрят и смеются:
— Ну, где же твой Северный полюс?
— Я там была.
— Мы не видели. Докажи!
— Смотрите — у меня еще висит сосулька.
— Это не сосулька, а кошкин хвост! Что, взяла?
Женя обиделась и решила больше с мальчишками не водиться, а пошла на другой двор водиться с девочками. Пришла, видит — у девочек разные игрушки. У кого коляска, у кого мячик, у кого прыгалка, у кого трехколесный велосипед, а у одной — большая говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в кукольных калошках. Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали желтые, как у козы.
«Ну, думает, я вам сейчас покажу, у кого игрушки!»
Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала:
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли - Быть по-моему вели.Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои!
И в тот же миг откуда ни возьмись со всех сторон повалили к Жене игрушки.
Первыми, конечно, прибежали куклы, громко хлопая глазами и пища без передышки: «папа-мама», «папа-мама». Женя сначала очень обрадовалась, но кукол оказалось так много, что они сразу заполнили весь двор, переулок, две улицы и половину площади. Невозможно было сделать шагу, чтобы не наступить на куклу. Вокруг, представляете себе, какой шум могут поднять пять миллионов говорящих кукол? А их было никак не меньше. И то это были только московские куклы. А куклы из Ленинграда, Харькова, Киева, Львова и других советских городов еще не успели добежать и галдели, как попугаи, по всем дорогам Советского Союза. Женя даже слегка испугалась. Но это было только начало. За куклами сами собой покатились мячики, шарики, самокаты, трехколесные велосипеды, тракторы, автомобили, танки, танкетки, пушки. Прыгалки ползли по земле, как ужи, путаясь под ногами и заставляя нервных кукол пищать еще громче. По воздуху летели миллионы игрушечных самолетов, дирижаблей, планеров. С неба, как тюльпаны, сыпались ватные парашютисты, повисая на телефонных проводах и деревьях. Движение в городе остановилось. Постовые милиционеры влезли на фонари и не знали, что им делать.
— Довольно, довольно! — в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. — Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек. Я пошутила. Я боюсь...
Но не тут-то было! Игрушки все валили и валили. Кончились советские, начались американские.
Уже весь город был завален до самых крыш игрушками.
Женя по лестнице — игрушки за ней. Женя на балкон — игрушки за ней. Женя на чердак — игрушки за ней. Женя выскочила на крышу, поскорее оторвала фиолетовый лепесток, кинула и быстро сказала:
Лети, лети, лепесток, Через запад на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли - Быть по-моему вели.Вели, чтоб игрушки поскорей убирались обратно в магазины.
И тотчас все игрушки исчезли.
Посмотрела Женя на свой цветик-семицветик и видит, что остался всего один лепесток.
— Вот так штука! Шесть лепестков, оказывается, потратила — и никакого удовольствия. Ну, ничего. Вперед буду умнее.
Пошла она на улицу, идет и думает:
«Чего бы мне еще все-таки велеть? Велю-ка я себе, пожалуй, два кило «мишек». Нет, лучше два кило «прозрачных». Или нет... Лучше сделаю так: велю полкило «мишек», полкило «прозрачных», сто граммов халвы, сто граммов орехов и еще, куда ни шло, одну розовую баранку для Павлика. А что толку? Ну допустим, все это я велю и съем. И ничего не останется. Нет, велю я себе лучше трехколесный велосипед. Хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Еще, чего доброго, мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят! Нет. Лучше я себе велю билет в кино или в цирк. Там все-таки весело. А может быть, велеть лучше новые сандалеты? Тоже не хуже цирка. Хотя, по правде сказать, какой толк в новых сандалетах?! Можно велеть чего-нибудь еще гораздо лучше. Главное, не надо торопиться».
Рассуждая таким образом, Женя вдруг увидела превосходного мальчика, который сидел на лавочке у ворот. У него были большие синие глаза, веселые, но смирные. Мальчик был очень симпатичный, — сразу видно, что не драчун, — и Жене захотелось с ним познакомиться. Девочка без всякого страха подошла к нему так близко, что в каждом его зрачке очень ясно увидела свое лицо с двумя косичками, разложенными по плечам.
— Мальчик, мальчик, как тебя зовут?
— Витя. А тебя как?
— Женя. Давай играть в салки?
— Не могу. Я хромой.
И Женя увидела его ногу в уродливом башмаке на очень толстой подошве.
— Как жалко! — сказала Женя. — Ты мне очень понравился, и я бы с большим удовольствием побегала с тобой.
— Ты мне тоже очень правишься, и я бы тоже с большим удовольствием побегал с тобой, но, к сожалению, это невозможно. Ничего не поделаешь. Это на всю жизнь.
— Ах, какие пустяки ты говоришь, мальчик! — воскликнула Женя и вынула из кармана свой заветный цветик-семицветик. — Гляди!
С этими словами девочка бережно оторвала последний голубой лепесток, на минутку прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья:
Лети, лети, лепесток, Через запад, на восток, Через север, через юг, Возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли — Быть по-моему вели.Вели, чтобы Витя был здоров!
И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, стал играть с Женей в салки и бегал так хорошо, что девочка не могла его догнать, как ни старалась.
1940
Голубок[70]
С утра лил дождь. Дул сильный ветер. Высокие сосны раскачивались во все стороны, стукаясь сухими ветками. В лесу было сумрачно. Холодная вода стояла в траве по щиколотку.
Женю и Павлика не пустили гулять. Они целый день сидели в комнате и скучали. Вдруг слышат: гуль-гуль-гуль.
Дети высунулись в окно, посмотрели вверх и увидели под застрехой голубка. Как видно, он отстал от своей стаи, заблудился в лесу, вымок и спрятался от непогоды под застреху.
Это был очень красивый голубок, весь белый, в пуховых штанишках, с розовыми глазами.
Он ходил взад-вперед по выступу дома, проворно вертел головкой, чистил клювом мокрые перышки и сам с собой разговаривал:
— Гуль-гуль-гуль.
Женя и Павлик очень обрадовались и стали кричать голубку:
— Здравствуй, гуленька! Бедненький гуленька! Иди к нам в комнату, гуленька! Мы дадим тебе кашки!
Голубок вежливо отвечал:
— Гуль-гуль-гуль.
Но из-под застрехи не выходил, — наверное, боялся.
Тут дождь пошел еще сильнее, сверкнула молния, загремел гром. Пришла мама, закрыла окно и велела детям есть простоквашу, а потом ложиться спать.
— Мамочка, — сказала Женя, — мы хотим немножечко поиграть с голубком.
— Да, мы хотели немножечко поиграть с голубком, — сказал вслед Павлик, который всегда повторял Женины слова.
Но мама сказала:
— Сегодня уже поздно. Надо ложиться спать. И гуленька пусть ложится спать. А завтра встанете пораньше, будет хорошая погода, и целый день будете играть с гуленькой.
Дети съели простоквашу, улеглись, но долго еще не могли заснуть. Они лежали, шепотом разговаривая про гуленьку, как они с ним будут играть завтра.
— Завтра я его буду пеленать, — сказала Женя.
— Нет, я его буду завтра запрягать, — сказал Павлик.
— Нет, я его буду купать!
— Нет, я его буду возить!
— Нет, я его буду учить!
Пришла мама и сказала:
— Довольно болтать. Спите.
Женя и Павлик повернулись на другой бок и быстро уснули, чтобы скорее было завтра.
Назавтра они проснулись рано. Дождя не было. Ветра не было. Сосны не шевелились. В лесу дымилось солнце. В траве играла роса. Женя и Павлик поскорее оделись, умылись и высунулись в окно посмотреть на своего голубка. Но голубка не было. Тогда дети побежали в сад. Искали в саду, искали — нет гуленьки.
— Вы чего здесь ищете? — спросил папа из окна.
— Мы, папочка, голубка своего ищем, гуленьку.
— К сожалению, вашего гуленьку ночью, пока вы спали, съела сова, — сказал папа и показал детям на лужайке под березой совсем небольшую кучку белого пуха и нежных перьев, — словно кто снежку посыпал.
Заплакали Женя и Павлик, да делать нечего.
А сова тем временем сидела на чердаке у деда Корнея и облизывалась.
Вот тебе и гуленька!
1940
Жемчужина[71]
В Черном море, у берега Аркадии, жила прелестная рыбка, молодая султанка по имени Каролина. Все жители подводного царства восхищались ее красотой. Когда она была еще совсем малюткой и по целым дням носилась вместе с другими мальками и водяными блошками подле берега, подымая в воде целые вихри песка и пугая раков-отшельников, которые в страхе прятались в свои домики, похожие на кувшинчики, уже и тогда она обращала на себя внимание веселым нравом, резвостью и приятной наружностью. Действительно, это был прелестный ребенок.
Когда Каролина подросла и превратилась в молодую рыбку с прозрачным золотистым хвостиком, коралловыми перышками, маленьким ротиком и большими изумрудными глазами, то увидели, что она просто красавица.
Правда, некоторые ее подруги утверждали, что она немного ветреная девушка. Но, я думаю, они говорили это скорее из зависти.
У Каролины не было отбоя от женихов. Стоило посмотреть на нее один раз, чтобы сейчас же влюбиться.
Два морских конька, только что окончившие кавалерийское училище, чуть не подрались у нее под окном. Но Каролина быстро их помирила, сказав, что любит их обоих совершенно одинаково, как братьев, и пока ни за кого замуж не собирается.
Бычок по имени Леандр, начинающий поэт, известный среди ценителей поэзии своим тонким лирическим дарованием, посылал Каролине триолеты, которые писал на маленьких перламутровых раковинах, и в шкатулке у молодой красавицы этих раковин оказалась целая куча.
А пожилой электрический скат Антонио, знаменитый зубной врач и хирург с огромной практикой, который пломбировал и точил зубы всем местным дельфинам, каждый день присылал Каролине богатые подарки, а по воскресеньям являлся сам и делал ей предложение.
Было множество и других женихов, но так как они ничем выдающимся не отличались, то всех их перечислять было бы долго и неинтересно.
И всем женихам прекрасная Каролина с ласковой улыбкой говорила так:
— Благодарю вас за честь, которую вы мне оказываете своим предложением, но, право же, я еще никого не люблю и пока не собираюсь замуж. Я еще слишком молода. Не скрою, вы мне нравитесь, но дайте мне немножко погулять на свободе. Приходите через год, и тогда я вам дам ответ.
И женихи удалялись, еще сильнее очарованные ее красотой и обходительным обращением, правда, немного огорченные, но вместе с тем не теряя надежды через год получить ее согласие.
Однажды, собираясь на бал, Каролина рассматривала себя в зеркале и вдруг заметила на боку, под плавником, крошечный прыщик, величиной с песчинку.
Каролина не придала ему никакого значения, припудрила его и поехала на бал.
Но через несколько дней она заметила, что прыщик вырос и стал с горчичное зерно. Хотя он не причинял ей никакого беспокойства, но Каролина встревожилась.
Не теряя времени, она отправилась к своей дальней родственнице, старой камбале Фаине. Старуха по целым дням лежала на дне, зарывшись в песок, никого не принимала, и ходили слухи, что она колдунья.
Камбала Фаина надела черепаховые очки и долго рассматривала горошину, выросшую под плавником Каролины.
— Милая племянница, — наконец сказала она торжественно, — можешь не беспокоиться. Тебе не угрожает никакая опасность. Наоборот, тебе привалило большое счастье. Это зернышко у тебя под плавником есть не что иное, как маленькая жемчужина изумительной формы и необыкновенного качества.
— Как — жемчужина?! — воскликнула Каролина в крайнем удивлении. — Но ведь нам говорили в школе, что жемчуг рождается в раковинах.
— Это верно, — сказала старая камбала, — обычно жемчуг рождается из песчинки в раковине. Но бывают исключения. В одной из моих старых волшебных книг написано, что иногда жемчуг рождается и под плавниками у рыбы. В таком случае жемчужина с течением времени вырастает необыкновенно крупная, совершенно круглая, изумительная по красоте. Подобные рыбьи жемчужины ценятся у ювелира баснословно дорого. Одна штучка обычно представляет собой целое состояние. Правда, это бывает очень редко — однажды в сто или двести лет, потому что рыба, у которой вырастает жемчужина, должна быть редкая по красоте и уму, а такие рыбы попадаются не часто.
— О, в таком случае это несомненно жемчужина! — радостно воскликнула Каролина и поплыла домой, осторожно прижав плавник, чтобы как-нибудь случайно не повредить драгоценного зерна.
С этого дня характер Каролины изменился. Она стала пропускать балы, неохотно танцевала и всячески избегала общества своих молоденьких подруг, которые любили побегать и порезвиться. Она стала молчалива, задумчива.
— Что с тобой, Каролиночка? — с тревогой спрашивали подруги. — Уж не больна ли ты?
Но Каролина получила хорошее воспитание и не хотела обижать своих подруг, сказав им, что для нее, избранницы судьбы и счастливой обладательницы бесценной жемчужины, их общество уже не представляет никакого интереса.
Поэтому она вежливо отвечала:
— Нет, благодарю вас, я чувствую себя превосходно.
И на ее прелестном маленьком ротике появлялась таинственная высокомерная улыбка.
Она полюбила одиночество. Оставаясь одна, она обыкновенно вынимала из своей шкатулки зеркало и долго рассматривала свою жемчужину, которая стала уже с небольшую горошину.
— Ах, как медленно растет моя жемчужина! — говорила про себя Каролина. — Впрочем, чем медленней она растет, тем лучшего качества она будет и тем больше я получу за нее денег у ювелира, когда она вырастет с лесной или, еще лучше, с грецкий орех. И тогда я стану самой богатой рыбкой в мире. Пусть растет! Я никуда не спешу. У меня впереди еще целая жизнь.
И когда через год к ней пришли за ответом два морских конька, она, посмотрев на их уже несколько поношенные мундиры, весело рассмеялась и сказала:
— Ах, нет, друзья мои! Не будем больше поднимать этот вопрос. Я никогда не выйду замуж ни за одного из вас. Прощайте.
— Но, может быть, вы, прекрасная Каролина, — сказал один из коньков, — по крайней мере, скажете нам на прощанье, что вы будете любить нас, как братьев. Это хоть немного облегчит наше горе.
— Увы, — сказала Каролина, — я вам не могу обещать даже этого.
— Но почему же? — воскликнули морские коньки.
— Потому, что вы для меня слишком бедны. Это очень жаль. Но, к сожалению, ничего не поделаешь. Такова жизнь.
— Но ведь каждый из нас готов заплатить за ваше богатство своей жизнью! — снова воскликнули коньки.
— К сожалению, мое богатство так велико, что заплатить за него не хватит не только двух ваших жизней, но и жизней всех морских коньков, окончивших вместе с вами кавалерийское училище, — сказала Каролина со вздохом, и на ее ротике появилась таинственная улыбка.
— Тогда мы знаем, что нам остается делать. Прощайте, жестокая Каролина! — сказали коньки и тотчас отправились на войну, где в первом же сражении показали чудеса храбрости, а во втором — были убиты.
То же самое ответила Каролина и остальным своим женихам.
Бычок Леандр зарыдал, сказал, что его жизнь навсегда разбита, и обещал покончить с собой, выбросившись на берег. Однако обещанья своего не исполнил, но вместо этого поломал все раковины с подлинниками триолетов, посвященных жестокой Каролине, а затем поступил фельетонистом в газету, где в очень ядовитых стихах стал бичевать нравы высшего общества, а также высмеивать порядки подводных железных дорог, что быстро принесло ему громкую славу и большие деньги.
Что же касается электрического ската Антонио, то он сухо поклонился и сказал:
— Как угодно, сударыня. Не хотите — не надо. Но имейте в виду, я вам этого никогда не прощу.
И с достоинством удалился на заседание хирургического общества, где был почетным председателем.
Время шло. Все подруги Каролины давно повыходили замуж. Многие из них уже имели детей. А Каролина продолжала ходить в девушках и отказывать женихам, которые все еще не переводились, так как Каролина была по-прежнему прекрасна.
— Милая! Что же это будет? — в ужасе говорили подруги. — Ты рискуешь остаться старой девой!
— Ничего, — отвечала Каролина, — я выйду замуж тогда, когда найду достойного.
— Да, но время идет! Ты стареешь. Потом будет слишком поздно.
— Для меня никогда не будет поздно, — говорила Каролина, и на ее губах появлялась знакомая улыбка.
И по-прежнему, оставаясь одна, она разглядывала в зеркале свою жемчужину, которая выросла до размера лесного ореха и уже настолько мешала плавнику двигаться, что Каролине приходилось плавать несколько боком, все время забирая влево, что было не совсем изящно.
Мало-помалу почти все женихи от нее отстали, и только иногда являлись свататься провинциалы из Дофиновки, куда еще не дошли слухи о ее странной недоступности.
Конечно, она уже не была так молода и прекрасна, как раньше, но все же еще могла нравиться. Однако она продолжала ждать, с каждым днем чувствуя, что делается все богаче и богаче. Ее жемчужина уже стала величиной с большой грецкий орех и все еще не переставала расти, так что было жалко продавать ее раньше времени.
К этому времени Каролина совершенно перестала бывать в своем прежнем обществе. Она либо сидела дома одна, рассматривая свою жемчужину, либо проводила время у камбалы Фаины, в обществе пожилых замкнутых устриц, обросших морской травой, и старичков-крабов с лысыми черепами, покрытыми моллюсками. С ними было хотя и скучновато, но можно было сколько угодно молчать, сидя неподвижно на старых консервных жестянках, много лет тому назад выброшенных сюда с берега, и никто не заставлял бегать в горелки или танцевать.
Таким образом прошло еще несколько лет, и Каролина не заметила, как она превратилась в старушку.
Зато ее жемчужина стала приближаться уже к небольшому яблоку и была так тяжела, что пожилая красавица с трудом двигалась.
Но прежняя улыбка не сходила с ее губ.
Однажды она возвращалась домой от своей тетушки и села передохнуть на скамеечке в городском сквере, под тенью густых водорослей. Вдруг она увидела, как возле мраморного подъезда лучшего в городе отеля «Морская звезда» остановился блестящий автомобиль, из которого выскочил молодой дельфин такой красоты, что у Каролины потемнело в глазах.
Его маленькие острые зубки сверкали, как самый чистый, самый белый жемчуг, совершенно круглые, неподвижные глаза светились молодо и глупо, как дымчатые топазы, а тугое, блестящее тело отливало всеми оттенками синего цвета, начиная с режущего глаза ультрамарина и кончая серовато-голубым, таким мягким и нежным, каким бывает Адриатическое море в марте, через час после заката солнца.
— Это он! — воскликнула Каролина и бросилась за молодым дельфином, который уже успел войти в дом.
Но дорогу ей преградил швейцар — старый и необыкновенно колючий морской еж.
— Что вам угодно, сударыня?
— Мне необходимо видеть этого молодого дельфина! — сдерживая волнение, сказала султанка.
— Не думаю, чтобы его светлость мог вас принять.
— Его светлость?
— Да, сударыня, ибо это принц Эгейский, прибывший сюда всего лишь на несколько часов по весьма важному личному делу. Он приехал сюда жениться и сейчас же после свадьбы отбывает со своей молодой супругой обратно на родину.
— Ну, это мы еще посмотрим, — сказала Каролина, дрожа всем телом. — На ком он женится?
— Вы, сударыня, вероятно, приехали из Дофиновки или давно уже не бывали в обществе. Об этом говорят все. Его высочество женится на мадемуазель Кризолите, старшей дочери мадам Абажур.
— Как! — в сильнейшем волнении воскликнула Каролина. — Он женится на Кризолите? На этой отвратительной холодной медузе?
— Совершенно верно, сударыня.
— Не может быть! Я не понимаю, что он в ней нашел! Ведь в ней же ровно ничего нет: ни молодости, ни красоты, ни души, ни сердца. Достаточно посмотреть сквозь нее на солнце, чтобы убедиться, что она совершенно пуста, как банка, из которой вылили простоквашу.
— Вы правы, сударыня, но дело в том, что принц Эгейский, несмотря на свою молодость и красоту, недавно окончательно промотался, так что ему остается либо поступить на службу, чего он в силу высокого происхождения никогда себе не позволит, либо жениться на богатой, хотя и отвратительной медузе и взять за ней в приданое сто тысяч.
— Как! Всего только сто тысяч?
— Это большие деньги, сударыня, — серьезно сказал морской еж, — особенно если принять во внимание, что у его высочества нет другого выбора и что его высочество...
Но Каролина не стала дальше слушать болтовню. Она оттолкнула ежа с дороги и хоть при этом сильно укололась, но не обратила на это никакого внимания.
У людей есть такое представление, что у рыб холодная кровь. Это не всегда справедливо. У Каролины кровь оказалась горячая, как кипяток. В тот миг, когда она появилась на пороге салона, принц Эгейский надевал перед зеркалом белые лайковые перчатки. Его красота поразила Каролину еще сильнее, чем в первый раз.
При виде пожилой взволнованной султанки в топазовых фосфорических глазах молодого дельфина мелькнуло изумление. Но Каролина не дала ему произнести ни одного слова.
— Ваше высочество! — сказала она, протягивая к небу с мольбою один плавник, так как другой был уже давно парализован жемчужиной. — Я ждала вас всю жизнь. И вот вы пришли. Я знаю, в обществе не принято, чтобы молоденькая девушка делала первый шаг. Но я его делаю потому, что вы прекрасны, и потому, что я люблю вас.
— Но, сударыня...
— Нет, нет, — продолжала Каролина с жаром, — не говорите мне ничего, пока вы меня не выслушаете. Я знаю все. Я богата. Я не просто богата, а я сказочно богата. Я обладаю сокровищем, равного которому нет в мире. Любой ювелир может дать за него столько денег, что по сравнению с ними жалкое приданое вашей пустой, ничтожной и молодой Кризолиты покажется соринкой. И это сокровище я кладу к вашим ногам. Оно сделает нас самыми богатыми и самыми счастливыми рыбами во всей вселенной. Теперь говорите.
— Гм... — сказал молодой дельфин, который был большим негодяем, и топазовые глаза его алчно сверкнули. — Но я бы хотел увидеть ваше сокровище...
— Оно перед вами, ваше высочество, — сказала Каролина и показала принцу Эгейскому жемчужину, сняв с нее платок, которым она ее всегда покрывала с тех пор, как жемчужина перестала помещаться под плавником.
Дельфин бросил равнодушный взгляд на драгоценность и сказал холодно:
— Видите ли, сударыня, я не большой знаток в жемчугах. В тех морях, откуда я родом, жемчуг не водится. Поэтому я бы предпочел увидеть что-нибудь более для себя привычное. Гм... Например, просто деньги.
— О, ничего не может быть проще! — весело воскликнула Каролина. — Я сейчас схожу к ювелиру и принесу вам корзину денег. Три корзины. Сколько хотите.
— Мне кажется, что было бы довольно и четырех корзин, — сказал молодой дельфин, — но дело в том, что я боюсь, как бы все это не слишком затянулось. Через час я должен быть в церкви.
— Ровно через час я буду здесь.
— Прекрасно, — сказал дельфин, вынимая из жилетного кармана золотые часы. — Сейчас без четверти три. Если вас не будет без четверти четыре, то я принужден буду, как мне это ни грустно, ехать в церковь и жениться.
Можете себе представить, как мчалась влюбленная Каролина к ювелиру!
То и дело она спотыкалась, падала, присаживалась отдохнуть. Ее старое сердце громко стучало в старой груди. Она так тяжело дышала, как будто ее вынули из воды и бросили на песок. Но ей казалось, что она летит на крыльях.
— Я принесла вам редчайшую вещь, — сказала она, подходя к прилавку ювелира. — Она стоит таких денег, которых у вас даже может и не оказаться в наличности. Но это не имеет значения. Мне нужны пустяки — всего лишь четыре корзины денег. А остальные деньги, сколько бы их ни было, можете оставить у себя. Только, ради бога, поскорее!
Ювелир был старый, опытный краб, привыкший никогда ничему не удивляться. Он вставил в глаз трубку и сказал:
— Присядьте, мадам. Четыре корзины денег у меня, конечно, всегда найдется. Но прежде чем говорить о деньгах, разрешите мне взглянуть на вещь.
И Каролина показала ему жемчужину.
Старый краб долго ее рассматривал со всех сторон, то снимая, то опять надевая свое стеклышко. Наконец, он закончил осмотр и сказал:
— Вы правы, сударыня. Это очень, очень большая редкость. Но вы напрасно обратились с этой вещью ко мне. Вам надо было обратиться в какой-нибудь музей или кунсткамеру. Это редчайшая по величине бородавка. А бородавок, к сожалению, наша фирма не покупает.
— Этого не может быть! — воскликнула Каролина, почти теряя сознание. — Это жемчужина. Разве вы не видите? Это самая большая жемчужина в мире!
— Увы, мадам, вы ошибаетесь. Это не жемчужина, а бородавка. К сожалению, я это слишком хорошо знаю. У моей покойной супруги на правой клешне была точно такая же бородавка, только, разумеется, меньших размеров. Она выросла оттого, что на клешню попала песчинка, а моя покойная супруга своевременно не обратила на это внимания. Конечно, бородавка продолжала бы расти и до сих пор, если бы моя супруга по неосторожности не попала в сачок к мальчику, который ловил креветок. Кроме того, вам должно быть известно, сударыня, что жемчуг рождается на внутренних створках особых раковин, которые так и называются «жемчужницы». Но я никогда не слышал, чтобы жемчуг рождался под плавником у рыбы, хотя и такой прекрасной, как вы, сударыня...
— Но моя тетушка сама, собственными глазами читала в старинной волшебной книге! — начала Каролина голосом, дрожащим, как струна, от горя, отчаяния и ревности, которые разрывали ее сердце.
— Ах, мадам, не следует особенно доверять старинным, а тем более волшебным книгам. Если бы все, что пишется в старинных и волшебных книгах, было правда, то жить было бы гораздо легче и веселее. Но, я вижу, вы плачете?
Когда красавец Дельфин вышел со своей молодой женой медузой Кризолитой из церкви, на паперти среди других нищих рыб стояла Каролина — старая, сгорбленная, со слезами на некогда прекрасных глазах.
Кризолита узнала ее и шепнула своему мужу:
— Обратите, ваше высочество, внимание на эту бедную женщину. Когда-то она была очень красива. Мы с ней учились в одной школе. Она имела большой успех в обществе.
1945
Пень[72]
В лесу стоял большой старый пень. Пришла бабушка с сумкой, поклонилась пню и пошла дальше. Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. Пришел старик с мешочком, кряхтя, поклонился пню и побрел дальше.
Весь день приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше.
Возгордился старый пень и говорит деревьям:
— Видите, даже люди и те мне кланяются. Пришла бабушка — поклонилась, пришли девочки — поклонились, пришел старик — поклонился. Ни один человек не прошел мимо меня, не поклонившись. Стало быть, я здесь в лесу у вас самый главный. И вы тоже мне кланяйтесь.
Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой и грустной осенней красоте.
Рассердился старый пень и ну кричать:
— Кланяйтесь мне! Я ваш царь!
Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, села на молодую березу, ронявшую по одному свои золотые зубчатые листочки, и весело защебетала:
— Ишь как расшумелся на весь лес! Помолчи! Ничего ты не царь, а обыкновенный старый пень. И люди вовсе не тебе кланяются, а ищут возле тебя опенки. Да и тех не находят. Давно уже все обобрали.
1945
* * *
Беседа с В.П.Катаевым, 7 июня 1948 г.
(обратно)* * *
«Литературная газета» от 12 апреля 1947 г.
(обратно)* * *
Журнал «30 дней», 1927, № 7, стр. 90.
(обратно)* * *
И.Горчаков. Работа К.С.Станиславского над советской пьесой. — В кн. «Вопросы режиссуры», Сб. статей, «Искусство», М. 1954, стр. 98-111.
(обратно)* * *
«Литературная газета» от 22 ноября 1947 г.
(обратно)* * *
Беседа с В.П.Катаевым, 27 июня 1948 г.
(обратно)* * *
«Магнитогорский рабочий» от 29 апреля 1931 г.
(обратно)* * *
«Литературная газета» от 31 декабря 1937 г.
(обратно)* * *
«Московский большевик» от 25 июня 1947 г.
(обратно)* * *
«Правда» от 9 мая 1948 г.
(обратно)* * *
«Литературная газета» от 15 октября 1952 г.
(обратно)* * *
«Правда» от 9 мая 1948 г.
(обратно)* * *
«Литературная газета» от 5 мая 1948 г.
(обратно)* * *
«Литературная газета» от 5 ноября 1947 г.
(обратно)* * *
Хлеб? (румынск.)
(обратно)* * *
Нет хлеба! Нет! (румынск.)
(обратно)* * *
Не знаю по-русски. Знаешь по-румынски? (румынск.)
(обратно)* * *
Я русский доброволец! Это все равно что офицер! Черт побери! (франц.)
(обратно)* * *
Под арестом. (Прим. автора.)
(обратно)* * *
Весенний звон. — Впервые опубликован в журнале «Весь мир», 1916, апрель, № 15.
(обратно)* * *
Ружье. — Впервые с подзаголовком «Посвящаю дворовой детворе» опубликован в журнале «Весь мир», 1915, сентябрь, № 39.
(обратно)* * *
Земляки. — Впервые опубликован в мае 1918 года одесским иллюстрированным еженедельником «Южный огонек», № 3. Журнал этот выходил с апреля по август 1918 года (всего появилось 16 номеров). Валентин Катаев вел здесь театральный отдел. В «Южном огоньке» печатались также Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, Зинаида Шишова, Аделина Адалис и Георгий Шенгели.
Рассказ связан с фронтовыми наблюдениями и записями, которые вел молодой Катаев в боевой обстановке. В письме из действующей армии от 20 февраля 1916 года он сообщал: «...все, что может для меня пригодиться в будущем, я записываю и собираю». И далее: «Тем у меня очень много, типов и характеров — уйма. Выводов, мыслей, штрихов, положений сколько угодно» (ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 1, ед. хр. 28).
(обратно)* * *
Ночью. — Написан Катаевым в 1917 году в госпитале, где он лежал раненый после летнего бесславного наступления, организованного правительством Керенского. «Через три-четыре часа после начала сражения это был совершенный ад, — вспоминает В.Катаев. — Мне повезло, ранило одним из первых. Я был офицером связи по координации пехотной и артиллерийской деятельности. Дивизия понесла страшные потери» [Беседа от 21 апреля 1964 г.]. Автором рассказ был послан в журнал «Весь мир», но его запретила цензура Временного правительства. Рассказ появился в печати спустя семнадцать лет, в 1934 году, в декабрьском номере журнала «30 дней».
(обратно)* * *
Барабан. — Впервые с подзаголовком «Записки юнкера, революционный рассказ» опубликован в августе 1917 года в журнале «Весь мир», № 32. «Рассказы «Барабан» и «Сюрприз» — автобиографичны»[Беседа от 27 июня 1948 г.], — свидетельствует писатель. С декабря 1916 по апрель 1917 года Катаев находился в Одесском пехотном училище, где его застала Февральская революция. Это же училище вскоре после Катаева окончил в том же 1917 году и столь же ускоренным выпуском другой молодой литератор — Лев Славин. Рассказ отражает настроения этой молодежи.
(обратно)* * *
В воскресенье. — Впервые напечатан в газете «Одесский листок» летом 1917 года.
(обратно)* * *
А + В в квадрате. — Напечатан впервые в газете «Одесский листок» от 25 декабря 1917 года.
(обратно)* * *
Человек с узлом. — Впервые опубликован в одесском литературно-художественном еженедельнике «Огоньки», № 23, в середине октября 1918 года. Рассказ имел эпиграф: «Посвящаю Ив.Бунину». Редактором «Огоньков» был сатирик Б.Д.Флиг («Незнакомец»). Журнал выходил с мая 1918 по март 1919 года. Здесь сотрудничали Э.Багрицкий, Ю.Олеша, 3.Шишова, В.Инбер, А.Грин, С.Городецкий, а также И.Бунин.
(обратно)* * *
Музыка. — Впервые под названием «Иринка» появился в журнале «Огоньки», № 7 (40), в середине февраля 1919 года.
(обратно)* * *
Опыт Кранца. — Первоначальный вариант под названием «В обреченном городе» опубликован в 1922 году в январском номере журнала «Новый мир».
Журнал этот был предшественником теперешнего «Нового мира». Просуществовал он недолго. Вышло всего два номера. Валентин Катаев рассказывает: «Выпускали его в противовес нэповским журналам», которых возникло уже немало — «Рупор», «Москва», «Русский вестник» и др. «Новый мир» был изданием кооперативным: «Центросоюз плюс частные лица выпускали этот журнал». Но редакторов сюда назначили партийных: руководили «Новым миром» писатели-коммунисты В.Нарбут, В.Бахметьев, А.Серафимович. «Так начиналась борьба с нэпом в печати». Валентина Катаева сделали ответственным секретарем редакции: «Я стал там работать. Отсюда и пошли мои литературные связи... Познакомился с лефовцами»[Беседа от 14 апреля 1962 г.].
Рассказ был отредактирован А.Серафимовичем. Валентин Катаев вспоминает, что писатель упрекнул его в одностороннем, условно-романтическом изображении жизни Одессы в годы острой классовой борьбы. Не удовлетворило строгого редактора и завершение рассказа. Катаев обрывал его словами: «Вы держите папиросу не тем концом». А.Серафимович предложил закончить рассказ иначе и сам дописал последнюю фразу: «А в это время на темных и глухих окраинах рабочие уже смазывали салом пулеметы, набивали ленты, выкапывали ящики с винтовками, назначали начальников участков, и новый день, обозначавшийся светлой полосой за черными фабричными трубами, был последним днем Вавилона».
(обратно)* * *
В осажденном городе. — Впервые появился в журнале «Новый мир», 1922, № 1. В июле того же года перепечатан в литературном приложении к сменовеховской газете «Накануне», выходившей в Берлине. Редактировал приложение А.Н.Толстой. Рассказ был выпущен отдельной книжкой в издании Френкеля к 1923 году, в серии «Маленькая библиотека».
(обратно)* * *
Золотое перо. — Впервые напечатан в харьковской газете «Коммунист» от 2 октября 1921 года. В это время на страницах местной прессы развернулась острая дискуссия о роли художника в революции. Участник одесского подполья С.Ингулов в цикле статей «Люди революции», печатавшихся в газете «Коммунист» с 27 сентября по 2 октября 1921 года, призывал писателей рассказать о людях и событиях революционной эпохи. Полемически выступил поэт Георгий Шенгели (статья «Почему?» в однодневной газете харьковского УкРОСТА «Новый мир», 5 октября 1921 г.). Своим рассказом В.Катаев занял партийную позицию. «Золотое перо» был перепечатан в московском журнале «Красная нива», 1923, 17 июня, № 24.
(обратно)* * *
Железное кольцо. — Впервые с подзаголовком «Рассказ мрачного романтика» напечатан в литературном приложении к газете «Накануне» от 27 мая 1923 года.
(обратно)* * *
Сэр Генри и черт. — Принадлежит к сатирико-фантастическим рассказам В.Катаева. Впервые опубликован в журнале «Москва», 1922, № 7, где была напечатана «Баллада о гвоздях» молодого Николая Тихонова, принесшая ее автору широкую известность. Журнал «Москва» являлся кооперативным изданием. Вышло всего семь номеров.
(обратно)* * *
Бездельник Эдуард. — Опубликован впервые в сборнике рассказов того же названия (ГИЗ, М. 1925).
Первоначально замысел писателя был значительно шире. Валентин Катаев задумал создать романтическую повесть «Похождения трех бездельников» — о поколении мечтателей, прошедшем грозовые испытания гражданской войны. Первые ее главы печатались в 1923 году в литературном приложении в газете «Накануне»: «Женитьба Эдуарда» — 14 января 1923 года, «Птицы поэта» — 11 февраля 1923 года. В повесть должна была войти и глава, позднее превратившаяся в самостоятельный рассказ «Зимой» («Медь, которая торжествовала»).
(обратно)* * *
Прапорщик. — Впервые под названием «Самострел» вышел в харьковском журнале «Грядущий мир», 1922, № 1.
(обратно)* * *
Отец. — Отрывок под заглавием «Смерть мамы» (тема № 1 из повести «Отец») был опубликован в «Литературной России» (кн. 1, изд-во «Новые вехи», 1924). «Подготовил к изданию новую книгу рассказов, сборник стихов «Первое, огонь» и работаю над повестью «Отец», — писал В.Катаев 11 февраля 1924 года в своей автобиографии. Второй отрывок — «Смерть отца» — напечатан в августовском номере журнала «30 дней» в 1927 году. Третий — «Дома» (глава из романа «Судьба героя») — появился в «Вечерней Москве» 27 августа 1927 года. Полностью «Отец» впервые опубликован был в январском номере журнала «Красная новь» за 1928 год. Рассказ принес молодому писателю известность. «Солидное печатание началось с рассказа «Отец», — вспоминает Валентин Катаев. — Работал над ним долго. С 1922 до 1925 года. Тщательно писал этот рассказ»[Беседа от 20 июня 1948 г.].
(обратно)* * *
Рыжие крестики. — Опубликован в газете «Накануне», литературное приложение от 20 августа 1922 года.
(обратно)* * *
Огонь. — Впервые, с посвящением Всеволоду Иванову, был напечатан в сборнике повестей и рассказов Катаева «Растратчики» (изд-во «Прибой», Л. 1927).
(обратно)* * *
Восемьдесят пять. — Впервые, с пояснительной сноской «Из эпохи гражданской войны и борьбы с контрреволюцией», опубликован в Калуге, в журнале «Корабль», 1922, ноябрь, № 5 — 6. Литературно-художественный двухнедельник «Корабль» начал выходить с 1 октября 1922 года при редакции калужской газеты «Коммуна». Здесь печатались В.Брюсов, Б.Пастернак, А.Неверов, Б.Пильняк, В.Хлебников, В.Каменский, А.Чичерин и многие другие.
(обратно)* * *
Зимой. — Впервые под названием «Печатный лист о себе» (глава из повести «Похождения трех бездельников») опубликован в литературном приложении к газете «Накануне» от 15 апреля 1923 года. Под названием «Медь, которая торжествовала» вошел в сборник рассказов Катаева «Сэр Генри и черт» (Книгоиздательство писателей в Берлине, 1923). Под настоящим названием вышел в сборнике «Отец» (ЗИФ, М. 1928) и позже публиковался в различных сборниках писателя.
(обратно)* * *
Родион Жуков. — Напечатан впервые в июльском номере журнала «Красная новь» за 1926 год. Вошел в книгу «Новые рассказы» (изд-во «Гудок», М. 1926), затем в сборник «Отец» (ЗИФ, 1928), а в конце того же года появился отдельным изданием в Жургазобъединении в библиотечке «Огонек».
(обратно)* * *
Ножи. — Впервые опубликован в журнале «Красная нива», 1926, № 43. Затем вошел в состав книги «Новые рассказы» (изд-во «Гудок», 1926), через год напечатан в сборнике «Растратчики» (изд-во «Прибой»). В книжном обозрении «Нового мира» (1927, № 9) рассказ был отмечен положительно. Рецензия указывала, что новый сборник отразил творческий путь писателя — путь «зигзагов, экспериментов, исканий. Путь непрестанной и упорной «пробы пера». Сначала Катаев писал «простые бытовые рассказы» («Музыка», «Барабан», «Земляки»), затем «повернул в сторону фантасмагории («Сэр Генри и черт», «Железное кольцо»)». Но рассказ «Ножи» выделяется на этом фоне «свежестью, большим, хорошим чувством, тщательной обработкой».
На основе рассказа Катаевым был позднее создан веселый водевиль, музыку к которому написал И.Дунаевский.
(обратно)* * *
Раб. — Впервые появился в журнале «Красная пива», 1927, сентябрь, № 37.
(обратно)* * *
Гора. — Опубликован впервые в августовском номере журнала «Новый мир», 1927.
(обратно)* * *
Актер. — Напечатан в журнале «Современный театр», 1927, № 1.
(обратно)* * *
Море. — Впервые опубликован в журнале «30 дней», 1928, № 7. Восьмистишие, включенное в текст рассказа, является одним из ранних стихотворений В.Катаева и называется «На Чайке». Впервые было напечатано в одесском литературном еженедельнике «Жизнь», 1918, июль, № 7. Журнал этот существовал с июня по декабрь 1918 года. Всего вышло 28 номеров.
(обратно)* * *
Вещи. — Впервые под названием «Жоржик и вещи», с подзаголовком «Из летописей нашего переулка», опубликован в журнале «Чудак», № 2, в январе 1929 года. Вошел в одноименные сборники (ГИЗ, М. 1930, и б-ка «Крокодил», изд-во «Правда», М. 1936).
(обратно)* * *
Ребенок. — Напечатан впервые в журнале «30 дней», 1929, № 2. Редакция журнала сопроводила публикацию рассказа следующей характеристикой: «Темой новеллы Валентина Катаева является на первый взгляд незначительный бытовой факт. Но это трагикомическое происшествие рассказано с такой тонкой иронией и наблюдательностью, что типы новеллы вызывают не только живое внимание и интерес читателя, но и заставляют задуматься над некоторыми явлениями нашей повседневности».
(обратно)* * *
На полях романа. — Опубликован в сентябрьской книге журнала «Красная новь» за 1931 год. Затем отдельным изданием вместе с рассказом «Ножи» в библиотечке «Огонек» в 1932 и 1933 годах.
(обратно)* * *
Сон. — Впервые с подзаголовком «Эпизод о Буденном» появился на страницах газеты «Правда» от 24 февраля 1935 года.
(обратно)* * *
Сюрприз. — Напечатан в журнале «30 дней», 1935, № 2.
(обратно)* * *
Театр. — Отрывок из рассказа с подзаголовком «Из воспоминаний детства» публиковался в «Литературной газете» от 31 декабря 1934 года. Полностью рассказ напечатан в декабрьской книге журнала «Красная новь» за 1935 год.
(обратно)* * *
Встреча. — Впервые опубликован в журнале «Красная новь», 1935, № 12, вместе с рассказом «Театр». Затем вошел в альманах «Эдуард Багрицкий», выпущенный под редакцией Владимира Нарбута в Москве в 1936 году (изд-во «Советский писатель») в связи со второй годовщиной смерти поэта.
(обратно)* * *
Черный хлеб. — Впервые напечатан в журнале «Красная новь», 1936, № 1. В основу легли воспоминания писателя о «незабываемом, героическом, молодом времени» работы в ЮгРОСТА в 1920 — 1921 годы. В.Катаев вспоминал: «Свистит буйный ветер революции. Холодно. Голодно. Коченеют руки. И вместе с тем как работалось!.. Еле в отмороженных руках держишь карандаш... Бумага рвется... и тем не менее... у редактора на столе — фельетон. Да не какой-нибудь, а огненный, страстный, ударный! Как динамитный патрон» («Гудок», 1926, 7 ноября).
(обратно)* * *
Цветы. — Опубликован в газете «Правда», 1936, 6 ноября.
(обратно)* * *
Под Сморгонью. — Напечатан в журнале «Крокодил», 1939, декабрь, № 35 — 36. Принадлежит к группе рассказов о первой мировой войне. В основе его материал военных корреспонденции В.Катаева за 1916 год, появлявшихся в одесской газете «Южная мысль». Так, например, солдаты-батарейцы носят свои подлинные фамилии — Улиер, Колыхаев, Власов, — и перекочевали они в рассказ из фронтового цикла «Наши будни». Улиер и Колыхаев действуют в очерке «Солдаты учатся грамоте» (20 апреля 1916 г.), Власов — в очерке «В резерве» (26 апреля 1916 г.), а сибиряк Горбунов выведен в большом числе корреспонденции: «Беспокойные дни», «Солдаты — народ сообразительный» (14 июня 1916 г.) и др.
(обратно)* * *
На даче. — Напечатан в журнале «Огонек», 1941, 23 ноября, № 35.
(обратно)* * *
Третий танк. — С подзаголовком «Из фронтовых зарисовок» напечатан в газете «Правда» от 23 марта 1942 года. В том же году в «Правде» публиковался и ряд других записей военных лет, таких, как «Партизан» (17 октября), «Лейтенант» (19 октября), «Фотографическая карточка» (20 октября) и др.
(обратно)* * *
Флаг. — Впервые с подзаголовком «Из фронтовой жизни» появился в газете «Правда» от 19 марта 1942 года. Входил в многочисленные сборники рассказов В.Катаева. Переведен в ряде зарубежных стран, в том числе на Кубе, где в образе несдающегося революционного острова кубинцы увидели воплощение собственной героической борьбы (газета «La Bandera». Куба, 1963).
(обратно)* * *
Отче наш. — Впервые вышел в журнале «Огонек», 1946, март, № 12. Рассказ был задуман еще в 1944 году. Валентин Катаев говорит: «Я был в Одессе. Историю эту мне рассказали. Года полтора носил ее в себе. Я вообще пишу не сразу, для темы обязателен большой инкубаторный период. Чем он меньше, тем мне труднее писать. Это относится и к теме, и к образу, и к сравнению. Приступил к рассказу лишь в конце 1945 года»[Беседа от 20 июня 1948 г.]. Рассказ входил в состав ряда сборников.
(обратно)* * *
Виадук. — Напечатан впервые в журнале «Огонек», 1946, май, № 19. Входил в сборники рассказов В.Катаева.
(обратно)* * *
Новогодний рассказ. — Опубликован в «Литературной газете» от 31 декабря 1947 года.
(обратно)* * *
Проклятый ветер. — Являлся частью 78-й главы «Горищий-Константинопольский» из первого варианта романа Катаева «За власть Советов», изданного в 1949 году. В последующие второй и третий варианты этого произведения автором не включался. Как самостоятельный рассказ под настоящим названием был опубликован в IV томе Собрания сочинений (Гослитиздат, М. 1951).
(обратно)* * *
Вечная слава. — Напечатан в журнале «Огонек», 1954, 24 января, № 4.
(обратно)* * *
Порт. — Рассказ этот представляет собой один из эпизодов романа «За власть Советов» («Катакомбы»), был опубликован в тексте второго его варианта (Детгиз, М. 1951). При подготовке третьего варианта для тетралогии «Волны Черного моря» в 1957 году автор изъял из романа главы XII, XIII, XXII, XXIII, XXIV, составляющие этот эпизод, и превратил их в самостоятельное произведение, повествующее о героической борьбе одесских подпольщиков в порту в годы фашистской оккупации.
(обратно)* * *
Дорогой, милый дедушка. — Появился впервые в «Неделе», литературном приложении к газете «Известия», от 11 — 17 апреля 1965 года, № 16.
(обратно)* * *
Сорренто. — Опубликован в журнале «Юность», 1966, № 6.
(обратно)* * *
Дудочка и кувшинчик. — Впервые появилась на страницах «Литературной газеты», 1940, 28 июля. Затем включалась в различные сборники Валентина Катаева.
(обратно)* * *
Цветик-семицветик. — Впервые напечатана в «Литературной газете», 1940, 10 февраля. Посвящена писателю Б.Левину, погибшему в финскую кампанию 1940 года. Валентин Катаев говорит: «Написал сказку «Цветик-семицветик», думая о том, как надо жалеть людей. Написал, узнав, что умер светлый и талантливый человек — Борис Левин»[Беседа от 20 июня 1948 г.]. Неоднократно сказка издавалась Детгизом и другими детскими издательствами страны. Входила в многочисленные сборники рассказов и повестей писателя.
(обратно)* * *
Голубок. — Впервые напечатана в майском номере журнала «Мурзилка» в 1949 году.
(обратно)* * *
Жемчужина. — Опубликована в журнале «Огонек», 1945, 4 ноября, № 44.
(обратно)* * *
Пень. — Сказка напечатана на страницах журнала «Крокодил», 1945, 10 декабря, № 38.
(обратно)

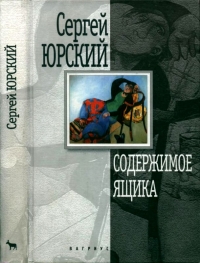
Комментарии к книге «Собрание сочинений в девяти томах. Том 1. Рассказы и сказки.», Валентин Петрович Катаев
Всего 0 комментариев