Лев Абрамович Кассиль
Историческая победа советской науки — запуск первых искусственных спутников Земли — овеяла новой славой всемирно известное имя великого русского изобретателя и ученого Константина Эдуардовича Циолковского. Ведь ракеты, доставившие спутники на орбиты, воплотили в себе идеи и технические принципы, гениально открытые и разработанные Циолковским еще в конце прошлого столетия.
В этой книге писатель Лев Кассиль, лично знавший К. Э. Циолковского при жизни, бывавший у него в Калуге, переписывавшийся с ним, дает живой литературный портрет знаменитого ученого, рассказывает о своих встречах с ним, о его удивительной жизни и замечательных изобретениях, впервые открывших для человечества «путь к звездам».
Попутно автор делится своими воспоминаниями об освоении нашей наукой стратосферы, изучение которой Циолковский считал первым шагом на пути в космос.
ЧЕЛОВЕК, ШАГНУВШИЙ К ЗВЕЗДАМ
Туда, в серебро межпланетного льда,
Сквозь вьюгу, сквозь время, сквозь гибель, туда!
Мы мчимся. И лучшего жребия нет нам,
Чем стать человечеством междупланетным.
П. АнтокольскийВ НОЧЬ НА 5-е
Внезапная тишина объяла эфир.
Только что из-за тюлевого экрана приемника слышалась приглушенная музыка, которая не мешала мне работать, а моим домашним, давно уже улегшимся, — спать крепким сном. И вдруг все стихло…
Я взглянул на часы. Нет, еще не время замолкать московскому радио, да и не прозвучали гимн и пожелание доброй ночи, которые по традиции замыкают день в нашем эфире.
В чем дело?! Я покрутил ручку приемника, попробовал его на разных диапазонах. Нет, приемник работал. Хорошо были слышны какие-то далекие заграничные станции. Над Западной Европой звучали голоса дикторов, передававших вечерние сообщения. Где-то томно квакали саксофоны. Там танцевали, обменивались новостями, рекламировали какие-то шарики от пота. А наши радиостанции почему-то вдруг дружно смолкли.
Мне стало чуточку не по себе. Что означает это странное молчание? Казалось, будто весь эфир над нашей страной чего-то ждет.
Я сидел за своим столом, поглядывая то на притихший приемник, в котором струился легкий шорох пространства, внезапно ставшего безмолвным, то в окно. Там, за окном, было беззвездное небо, закрытое тучами, которым придавал бронзовый отлив еще не полностью погашенный на ночь свет Москвы. И горела в небе ярко и недреманно лишь одна большая красная звезда, видная из окна моей комнаты, — кремлевская звезда, одна из пяти.
Все было знакомым, обычным для этого ночного часа. Столица уже затихала, лишь легонько урча запоздавшими машинами да чиркая по мокрым проводам над улицами искрящими дугами троллейбусов, спешивших на покой.
Все было обычным. Необычной была лишь тишина в эфире.
И вдруг приемник ожил.
— Передаем сообщение ТАСС, — услышал я.
В комнате раздался голос диктора, голос негромкий, как мне показалось, сдерживавший нетерпеливое желание скорее сообщить нам что-то чрезвычайно важное. И я услышал весть о том, что осуществлено одно из самых дерзновенных стремлений человечества, и день, который только что кончился в Москве, был первым днем новой космической эры для нас, жителей Земли.
— …создан первый в мире искусственный спутник Земли, — читал диктор, — четвертого октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника…
— …В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли…
— …Над районом города Москвы пятого октября 1957 года спутник пройдет дважды — в один час сорок шесть минут ночи и в шесть часов сорок две минуты утра по московскому времени…
— …В России еще в конце девятнадцатого века трудами выдающегося ученого К. Э. Циолковского была впервые научно обоснована возможность осуществления космических полетов при помощи ракет…
— …Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям, и, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный и сознательный труд людей нового социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества.
Он явно волновался, читавший нам и всему миру это сообщение. Слишком непривычно было все, о чем говорилось. Ведь речь шла о наших современниках, обретших теперь реальную возможность увидеть в своих рядах человека, который первым отправится в межпланетное путешествие.
Ничто не изменилось за окном. Все так же стелились слегка подсвеченные огнями октябрьские тучи, и, вероятно, все так же горела та красная звезда, что видна из моего окна, но мне казалось, что она запылала еще ярче, словно ее накалил свет великой гордости за наш народ-звездоносец — гордости, переполнившей, должно быть, в эту минуту сердце каждого, кто слышал историческое сообщение.
А где-то там, за тучами, закрывшими звездное небо над столицей, невообразимо высоко, в неведомой глухомани космоса стремил свой полет первый искусственный спутник нашей планеты. Впервые создание человеческих рук, несомое силами, которые постиг и расчислил человеческий гений, поднялось в мировое пространство, стало предметом космическим, движущимся, как и другие космические тела, по законам движения небесных тел.
В древней русской былине, одной из самых горьких в жизнерадостном эпосе народа, поведано о богатыре Святогоре — великане, что возомнил, будто он в силах поднять переметную суму, в которой была сокрыта «тяга земная». Никому не удавалось вскинуть ее, кроме Микулы Селяниновича — сына самой земли-матушки, наделенного всей ее мощью. И когда Святогор-великан, нигде не находивший применения своей неизбывной силе, попробовал поднять суму с «тягой земной», ушел он по колени в землю, лопнули от натуги жилы в богатырском теле, и нашел тут Святогор смерть свою, а маленькая переметная сума так и осталась на месте,
Давно уже мечтал человек справиться с этой «тягой земной», то есть вырваться из пут земного притяжения, одолеть неколебимую власть тяготения Земли… И вот впервые совершен подвиг, который был не по плечу самому Святогору. Ведь там, внутри запущенного почти уже в звездные края спутника, предметы ничего не весят: центробежная сила уравновешивает земное тяготение. Новая маленькая луна, сработанная людьми нашей страны, запущена со скоростью, достаточной для того, чтобы какое-то довольно продолжительное время самостоятельно вращаться вокруг нашей планеты.
Я долго не мог заснуть в ту памятную ночь. Будил домашних, звонил друзьям, поднимал их своим поздним звонком… Но никто не обижался. Я знал, кому можно звонить среди ночи, будя такой вестью, Звонили и мне. Нам, беспокойному племени мечтателей, в эту ночь не спалось.
И, созваниваясь, поздравляя друг друга со свершенным дерзанием, с осуществлением одного из величайших мечтаний людей, мы все вспоминали о человеке, чья мечта, чей гений и мудрая догадка сделали возможным то, что произошло в ночь на пятое октября 1957 года.
В ГЛУШЬ ВСЕЛЕННОЙ
Скарлатина — зуд, бред, жаркий звон в ушах и потом — тишина. Толстый кокон тишины обмотал голову десятилетнего Кости. Звуки еле-еле пробивались через эту немую толщу. Мир, казалось, отступил, мир ушел страшно далеко. Его многозвучный грохот стих до шороха. Мальчик очутился, словно Робинзон, на островке в великом и таком до ужаса тихом океане, на островке необитаемом, омываемом безмолвием, никогда не посещаемом звуками. И Костя понял, что он оглох.
«Я как бы отупел, ошалел, — вспоминал он впоследствии, — постоянно получал насмешки и обидные замечания. Способности мои ослабевали. Я как бы погрузился в темноту. Учиться в школе я не мог, учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки. Но постепенно мой ум находил другой источник идей — в книгах…»
Кто знает, может быть, благодаря этой глухоте Костя и стал дружить со звездами. Ему было легче разглядеть звезды, чем расслышать товарищей. И Луна, скажем, была для него немногим более беззвучной, чем Земля. А недосягаемая таинственная глушь темного неба, глушь вселенной, не подавляла, не пугала его своей черной немотой: звездные миры казались оглохшему мальчику не такими уж далекими в этом вообще нерасслышимом, отступившем от него мире. Тогда впервые, должно быть, шевельнулась в Костиной голове совсем еще туманная мысль. Она окрепла в тишине многих последующих лет, превратилась в ошеломительную догадку, созрела, питаемая приобретенным позднее точным знанием, и выросла в замечательную научно-техническую идею, которая теперь сделала Константина Эдуардовича Циолковского знаменитым по всей нашей планете и, твердо верится, когда-нибудь занесет его имя в просторы вселенной, на все планеты, где только сможет обитать существо, наделенное мыслью.
СПИСОК МЕЧТАНИЙ
У каждого человека, как и у всего человечества, есть свой список заветных мечтаний. Величайшую, казалось, самую несбыточную мечту о справедливом переустройстве жизни мы первыми осуществили в нашей стране: на полях списка исторических мечтаний у раздела «Социализм» мы уже поставили отметку о выполнении. И ничто на свете не сможет поколебать нашу уверенность в том, что недалека пора, когда сбудутся один за другим все самые смелые помыслы человечества.
Завоевать межпланетные пространства, проникнуть в иные миры — одно из давнишних мечтаний обитателей земного шара. В самом деле, неужели человек обречен довольствоваться лишь одной крупинкой мироздания — маленькой Землей? Фантасты бередили самолюбие обитателей нашей планеты. Ученые искали способов достичь звездных миров или по крайней мере Луны. В отважных умах рождались различные догадки, то научные, то фантастические. Так, веселый гасконский поэт XVII века Сирано де Бержерак выдумал целых семь способов полета на Луну один другого удивительнее. Он, например, предлагал, как пишет Эдмонд Ростан, «сесть на железный круг и, взяв большой магнит, забросить вверх его высоко, пока не будет видеть око: он за собой железо приманит. Вот средство верное. А лишь он вас притянет, схватить его быстрей и вверх опять… Так поднимать он бесконечно станет».
Или, заметив, что от Луны зависят приливы и отливы, рекомендовал: «В тот час, когда волна морская всей силой тянется к Луне», выкупаться, лечь на берегу и ждать, пока сама Луна не притянет вас к себе.
Но один из советов Бержерака был не так уж далек от истины. Это способ номер три: «…Устроивши сперва кобылку на стальных пружинах, усесться на нее и, порохом взорвав, вмиг очутиться в голубых равнинах».
Жюль Верн послал своих выдуманных героев на Луну в пушечном ядре. Герберт Уэллс заставил своего героя изобрести особое вещество, не пропускающее будто бы земного притяжения. Окружив этим веществом («кэворитом») летательный аппарат, герой Уэллса покинул Землю и устремился к Луне, открыв для этого «кэворитовые» заслонки на той стороне своего снаряда, которая была обращена к древнему спутнику Земли.
Были выдуманы романистами и еще разные способы космических полетов, но…
УЧЕНЫЕ НЕ СОГЛАШАЮТСЯ…
Да, наука опровергала все эти остроумные выдумки фантастов. Ученые с сомнением покачивали седыми головами, вооружались очками и цифрами и доказывали, что, например, в пушечном снаряде человеку лететь никак нельзя: ядро вылетит из пушки сразу с огромной скоростью, необходимой для совершения дальнейшего полета, толчок будет столь ужасен, что никакие матрацы, пружины или ванны со специальной жидкостью, амортизирующей удар, не спасут пассажиров. Собственный вес расплющит их в момент выстрела. И затем, ну хорошо, допустим, этого каким-то чудом не случится и вы долетите до Луны. А обратно?.. Кто вами выстрелит?
Так же расправилась наука и с «кэворитом» Уэллса. Законы физики напомнили, что если бы даже и можно было найти вещество, «заслоняющее» тело от притяжения Земли, то, чтобы задвинуть такую заслонку, понадобилось бы затратить столько же энергии, сколько требуется, чтобы вынести тело за пределы земного тяготения, то есть забросить его на такое расстояние от нашей планеты, где сила ее притяжения равна нулю. Иначе это противоречило бы одному из основных законов природы — закону сохранения энергии. А кроме того, над таким веществом, способным «заслонять» тела от тяготения Земли, образовался бы в атмосфере вихревой колодец, в котором воздух, не удерживаемый земным притяжением, стал бы уходить в космическое пространство и вся атмосфера бы «вытекла» через такую воздушную шахту.
Что же, значит, человечество навсегда приковано к Земле и надо оставить все попытки оторваться от нее?
Аэроплан? Но он может летать, лишь опираясь на воздух, черпая в его сопротивлении подъемную силу. Пропеллер не потянет аппарат в безвоздушном межпланетье, так как будет вертеться впустую. Воздушный шар? Дирижабль? Но ведь они тоже плывут только в атмосфере, несомые газами, более легкими, чем окружающий воздух. В пустоте они не могут держаться.
Ученые качали головами, терли очки, но выхода не видели.
ПУТЬ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ КАЛУГУ
Но вот единственная возможность выхода человека во вселенную была найдена. Она была найдена у нас в России в 1883 году скромным учителем города Боровска, переехавшим через несколько лет в Калугу.
С тех пор путь человечества к звездам лежит через Калугу. Мир давно признал это.
Когда-то городок на Оке был отмечен в истории пребыванием в нем в дни смуты храброго вождя повстанцев — свободолюбивого Болотникова и самозванца, наделенного прозвищем «Тушинский вор».
Позже Калуга была известна как место последнего водворения низложенных владетельных особ. Однако не низложенным самодержцам, не самозванцам, а гениальному самоучке обязана Калуга своей мировой славой.
В Калужском доме-музее Циолковского хранится, как сообщает Б. Воробьев — автор одной из книг о знаменитом ученом, курьезная старинная литография. Удивительное совпадение! На литографии, изданной в 40-х годах XIX века в Москве или Петербурге, изображена как раз Калуга, над которой летит фантастического обличья аппарат. И надпись под литографией гласит: «Возвращение воздухоплавательной машины из Бомбея через Калугу в Лондон». В центре литографии на фоне старой Калуги изображен пьяный мужик. Жена теребит его за бороду, чтобы разбудить, и показывает на небо, в котором летит диковинное сооружение, несколько смахивающее на аэроплан.
Эта комическая литография в какой-то мере оказалась пророческой. Именно Калуга стала первой в мире столицей для ракетостроителей и будущих звездоплавателей. Именно отсюда идет путь в мировое пространство. И открыл этот путь удивительный человек, великий ученый, в которого по прошествии многих лет вырос глухой провинциальный мальчик Костя, когда-то мечтавший в тишине о звездах.
В 1932 году я ездил поздравлять его с семидесятипятилетним юбилеем, который отмечали первыми земляки звездоплавателя.
На моем пригласительном билете рядом с привычными лозунгами об овладении техникой было напечатано скромным, но степенным шрифтом: «Завоюем стратосферу и межпланетные пространства».
И когда я засыпал в вагоне, мне казалось, что Калуга — это только передаточная станция, а там, за Калугой, начинается уже вселенная, как за рейдом — открытое море.
Я даже был слегка разочарован, проснувшись на следующее утро: проводник, разбудив меня, не объявил: «Станция Марс, кому пересадка на астероиды — выходите»… Нет. Он потянул меня за ногу и сказал безразличным голосом:
— Вставайтя. Калуга.
БРУТ № 81
Выйдя на перрон калужского вокзала, я был еще более разочарован. Сонный ландшафт районного города простирался перед нами. Но в книжном киоске я увидел на видном месте книжку «Звездный мир». Правда, обложка ее наводила мысль скорее на корь, чем на Млечный Путь, но все-таки, значит, в городе думали о звездах. Потом, стоя в очереди на автобус, я слышал, как разбитной молодой колхозник читал вслух сегодняшний выпуск местной газеты.
— Пионер… межпланетных… сообщений, — читал он отрывисто, но не сбиваясь.
Когда я спрашивал, где же живет великий человек, к которому я приехал, мне сообщали адрес не только с большой охотой, но и с нескрываемой гордостью, с явным удовольствием. Меня брали под руку. Выводили на дорогу. Называли номер дома, улицу и напутственно устремляли палец вдаль.
Только один старичок, этакий трухлявый сморчок, вросший в собственную бороду, значительно поправил чесучовый картузик.
— А-а… небесный кустарь? — сказал он пренебрежительно. — Затрудняюсь вам назвать точно… где-то там, у Оки, на Коровинской.
Тихие калужские улицы носили тогда звучные названия. Бывшая Коровинская, переименованная в проспект Брута, кое-как продержавшись два-три квартала по-городскому, быстро никла затем к Оке. Тут была тишина почти уже межпланетная… Ее нарушали лишь гуси. Их не-го-го-дующая вереница, валко извиваясь, пересекала улицу. Песчаные дорожки вокруг дома № 81 были испещрены звездчатыми гусиными следами.
«Брут № 81» — так надписаны на всех языках мира конверты, проштемпелеванные калужской почтой и ныне хранящиеся в музее. И я тоже остановился возле дома № 81 по проспекту Брута.
Маленький сельский домик. Курица шарахнулась с крыльца, когда я приблизился. Над калиткой ржавый герб страхового общества, кажется, «Саламандра», а над ним — более свежая дощечка с советским гербом и фамилией хозяина, расположенной по обе стороны эмблемы: «Циол — советский герб — ковский». Хотя я заранее знал это, меня все же охватывает некоторое волнение. Здесь живет Циолковский — изобретатель стратоплана и звездолета. Человек великих предугаданий, научный прорицатель великих технических открытий. Человек, имя которого поразило мое воображение еще в детстве. Здесь живет Константин Эдуардович Циолковский — «пионер межпланетных сообщений», как сказано о нем в сегодняшней калужской газете.
И, стоя над Окой, я припомнил всю замечательную многотрудную жизнь обитателя этого скромного домика.
ЗЕМНОЙ ПУТЬ ЗВЕЗДОПЛАВАТЕЛЯ
Прежде чем вывести людей на дорогу к звездам, Циолковскому пришлось пройти тяжелый путь по земле.
Отец его — скромный лесничий, неудачник-изобретатель — не мог обеспечить нуждающемуся в особых условиях полуоглохшему сыну классическое образование. Но Костя Циолковский самостоятельно прошел физику и математику. Совсем еще мальчиком он изучал всевозможные технические открытия. Когда ему было четырнадцать лет, он уже склеил из бумаги аэростат и наполнил его дымом. Потом он увлекся мечтой построить аппарат, летающий при помощи машущих крыльев.
Вскоре мальчик с головой ушел в изобретательство. Строил токарные станки, мастерил модели летающих машин, а ведь тогда еще в помине не было аэропланов.
Пятнадцати лет Циолковский задумал создать большой управляемый воздушный шар с металлической оболочкой. С этих пор он уже не расставался с мечтой о металлическом аэростате и горячо принялся за вычисления. В то же время Костю стали занимать мечты о полете человека в космические, межзвездные просторы. Сначала он думал, что здесь нужно использовать центробежную силу, но вскоре понял, что избрал неверный путь. Тогда он серьезно взялся за физику и математику и к девятнадцати годам уже хорошо овладел этими науками.
Пройдя без всякой посторонней помощи полный курс школы, он сдал все необходимые экзамены и сделался учителем математики и физики. Сорок лет Константин Эдуардович учительствовал добросовестно и самоотверженно. Но в то же время он не зачеркивал своего списка мечтаний. Он продолжал учиться и изобретать. Он работал неутомимо, он искал настойчиво, он был усидчив и стоек. Неудачи не заставляли его бросать начатое. Трудясь одиноко в захолустье, лишенный постоянных связей с миром науки, он частенько открывал истины, которые уже давно были известны ученым. Так он открыл ряд законов астрономии и физики, хотя и запоздало, но совершенно самостоятельно. Однако Константин Эдуардович не смущался, он не опускал рук. Он усердно работал над своими открытиями и в конце концов добился своего.
ЧЕЛОВЕК, ОБОГНАВШИЙ ВРЕМЯ
В то время люди лишь мечтали об управляемых аэростатах.
В младенчестве своем воздухоплавание подчинялось капризам воздушных потоков: аэростаты двигались туда, куда ветер дует… И вот молодой ученый, работая самостоятельно в глухой российской провинции, дал чертежи и научно обоснованные расчеты цельнометаллического управляемого аэростата.
Это был совершенно замечательный проект! Весь дирижабль строится из волнистой стали. Распорки не нужны, прочная и упругая оболочка не нуждается в каркасе, в скелете, который так тяжелит жесткие дирижабли типа «цеппелин». При помощи стягивающих тросов и подогрева во время полетов можно менять величину, объем и самую форму дирижабля. Поэтому такой дирижабль может подниматься и опускаться, не освобождаясь от груза (балласта) и не выпуская драгоценного газа.
По проекту Циолковского такой дирижабль должен был иметь длину 300 метров. По размерам он превосходил самый большой океанский пакетбот. Он мог бы поднять в небо шестьсот человек.
Правда, практически дирижабли такого типа уже не были использованы в воздухоплавании. Бурное развитие авиации, стремительный рост скоростей, грузоподъемности и дальности полета «аппаратов тяжелее воздуха», то есть самолетов, а затем становившееся все более широким применение вертолетов, способных неподвижно «висеть» в воздухе и обходиться без специальных дорожек для взлета и посадок, — все это вытеснило громоздкие, дорогие, трудноуправляемые и, по сравнению с самолётами, медлительные дирижабли… Но если говорить о теории воздухоплавания, то мысль Циолковского значительно опередила технические идеи своего времени.
Так же было и с аэропланом. Еще не было работ Сантос Дюмона и Адера, еще не взлетел самолет братьев Райт, а Циолковский уже за восемь лет до них разработал теорию и схему аэроплана — летающего, самодвижущегося аппарата тяжелее воздуха. И, что еще поразительнее, только после четверти века авиационной практики самолет смог приобрести тот вид, те формы, которые тогда сразу были угаданы Циолковским. Он изобрел стратоплан, быстроходный самолет для полетов в высших слоях атмосферы, в стратосфере, написал десятки философских книг, выпускал увлекательные фантастические повести и сделал много открытий (часто, как мы уже говорили, запоздалых) в области физики и естествознания.
В гениальной научной дальнозоркости Циолковского была и известная трагедия его. Он с удивительной прозорливостью и отчетливостью первым схватывал идеи, истины, научно-технические задачи, встававшие еще далеко за горизонтами века. Однако, «не вовремя родившись», оказавшись современником глухой поры в истории России, он как бы и жил вне времени. В одних своих открытиях он отставал от современников, тратя силы на доказательства уже доказанного, в других же уходил слишком далеко, разрабатывая и предлагая проекты, бывшие для тогдашней техники еще недосягаемыми. Не встречая подлинной поддержки в обществе, он не мог разрабатывать своих открытий постепенно, в последовательном их освоении. И другие люди по праву завладевали порой славой его изобретений.
Но неоспоримым предвестником будущего явился он в деле открытия вселенной для человечества.
ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ
«Сила отдачи — вот что освободит нас от земного плена», — решил, наконец, Циолковский. И впервые в истории он предложил для полета в мировое пространство ракету.
Каждый, кто хоть раз в жизни стрелял из ружья или пистолета, знает: в момент выстрела оружие толкает стреляющего в плечо или в руку. Это действует сила отдачи. Газы, образовавшиеся при выстреле, ищут выхода из тесного дула. С одного, открытого, конца они вырвались, выслав пулю в намеченную мишень, но другой конец ствола закрыт, и, упершись в этот глухой конец, газы толкают оружие назад. Это особенно хорошо и наглядно видно при выстреле из артиллерийского орудия: оно резко откатывается в сторону, противоположную направлению выстрела.
Так движется и ракета. В ней сгорает топливо. Газы, образующиеся при его сгорании, давят изнутри на стенки ракеты. В нижнем конце ракеты имеется отверстие, через которое они свободно выходят наружу. Зато там, где газы не имеют выхода, в передней, верхней части ракеты, они с большой силой упираются в стенки, и ракета летит вперед и вверх.
Мысль использовать силу длительной отдачи для движения по земле манила еще Ньютона. Он построил тележку и поставил на нее котел. Вода кипела в котле, вода рождала пар, и пар вырывался сильной струей в одну сторону. Ньютон рассчитывал, что сила отдачи толкнет тележку в другую сторону и она покатится. Но тележка не сдвинулась с места. Сила отдачи паровой струи, скорость истечения ее была слишком незначительна, чтобы сдвинуть с места тяжелую тележку.
Революционер-народоволец Кибальчич, чьей работы снаряд разорвал царя Александра Второго, самоотверженно трудился в тюрьме, уже в самый канун своей казни, над проектом аппарата, двигающегося благодаря отдаче постоянных взрывов. С подлинным благоговением перед мужеством этой дерзновенной мысли, не покидавшей смертника, читаешь заявление Кибальчича, переданное им 23 марта 1881 года тюремным властям:
«Находясь в заключении, за несколько дней до своей смерти я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении. Если же моя идея после тщательного обсуждения учеными-специалистами будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью».
Он оставил чертежи и обстоятельные записи, но царское правительство запретило даже вспоминать о его работе. Изобретение Кибальчича до самой революции 1917 года лежало взаперти в запечатанном конверте, в секретных архивах жандармского управления.
Но совершенно независимо от Кибальчича, самостоятельно и впервые в истории науки Константин Эдуардович Циолковский предложил использовать ракету для космических полетов.
Он подробно и тщательно продумал свое гениальное открытие. Ракета не нуждается в опоре на окружающую среду. Она может лететь в безвоздушном пространстве с еще большим успехом, чем в атмосфере, так как там нет сопротивления воздуха.
Циолковский разработал схему межпланетного корабля. Это — огромная ракета. Сзади через сопло вырываются продукты сгорания топлива. Там же расположены рули. Поворачивая их и подставляя под струю газа разные плоскости, можно менять направление полета.
В передней части ракеты оборудованы каюты для пассажиров и экипажа. Здесь же находятся приборы управления ракетного корабля, аппараты, дающие кислород для дыхания, и разные измерительные приборы и инструменты.
В такой ракете пассажирам не грозит гибелью смертельный толчок, который неизбежен при вылете из жерла орудия жюльверновского ядра. Ракета может взлетать плавно, постепенно разгоняясь и в конце концов достигая чудовищной, теоретически почти беспредельной быстроты.
Не нуждаясь в посторонней помощи, ракетный разведчик вселенной, посетив Луну или какую-нибудь другую планету, может снова быть поднят силой отдачи и самостоятельно преодолеть путь для возвращения на родную землю.
И в 1903 году в журнале «Научное обозрение» появилась историческая статья Циолковского, само название которой говорит за себя: «Исследование мировых пространств реактивными приборами»[1]. Этой статьей было положено начало совершенно новой отрасли науки, которая уже спустя несколько десятилетий стала называться космической навигацией.
Так Циолковский открыл для человечества путь к звездам.
СУДЬБА ГЕНИЯ
Великое открытие калужского звездоплавателя сделало его теперь известным всем ученым мира, изучающим воздухоплавание и реактивное движение. Теоретики и строители ракет во всех странах и по сей день считают Циолковского своим единственным учителем и первооткрывателем в области использования человеком принципов ракетного полета.
«Вы зажгли свет, — писал Циолковскому известный германский ученый, специалист по ракетам Г. Оберт, — и мы будем работать, пока величайшая мечта человечества не осуществится…»
Ракеты конца двадцатых — начала тридцатых годов, во многом построенные по идеям и принципам Циолковского, первыми посещали сравнительно не очень высокие слои стратосферы, конечно, без людей. Реактивные двигатели постепенно утверждались в своих правах наравне с двигателем внутреннего сгорания, вращающим винт, и там, где требовалась очень большая скорость, реактивные самолеты стали вытеснять самолеты с пропеллером.
Нельзя, невозможно простить тупому, бездушному и невежественному российскому самодержавию его отношения к гениальному калужанину. Оно не только не оказывало никакой поддержки Циолковскому, оно отказывалось по-серьезному рассматривать и тем более материально поддерживать его замечательные, далеко опережавшие даже самую передовую заграничную технику проекты… Власти вставляли палки в колеса «межпланетных колесниц» Циолковского. Фантазер, дилетант, кустарь, утопист — вот ярлыки, которые навешивались представителями официальной науки на его славное имя. Царское правительство и соседи-обыватели с одинаковой опаской поглядывали на смелого ученого:
«Что это он там сочиняет? Что-с? На звезды собирается? Простите, а как же бог?..»
Космос портил аппетит обывателю и лишал его спокойствия, привычной земной устойчивости. Невежде-мещанину страшно было даже думать, что там, внизу, под его кроватью, под полом, где-то ужасно внизу бушует слой стиснутой расплавленной магмы, а над головой кишат мириады миров… Тьфу, тьфу! Не к ночи будь помянут этот опасный чудак из Калуги! Он вызывает нежелательные мысли в населении.
Тщетно обращался Константин Эдуардович Циолковский со своими ценнейшими предложениями к гражданским и военным властям. Власти были глухи ко всем открытиям ученого. И эта глухота была для Циолковского еще страшнее, чем та, что поразила его самого в детстве.
Газета «Русское слово», любившая поговорить в либеральном духе о талантах и самородках, таящихся в недрах народных, объявила сбор средств для осуществления изобретений Циолковского. Было собрано несколько сот рублей, но газета так и не удосужилась перевести деньги Циолковскому, списав их по какой-то другой расходной статье.
Ученый, мыслитель, гениальный изобретатель должен был прозябать в нужде, в захолустье и безвестности, не имея средств и инструментов. До всего ему нужно было доходить своим умом, все мастерить и добывать своими руками.
С отчаяния Циолковский в 1911 году поместил наивное объявление в выпущенной им брошюрке «Защита аэронавта»:
«Мною изобретена металлическая оболочка для дирижабля. Патент получен. Предлагаю лицам и обществам построить для опыта металлическую оболочку небольших размеров. Готов оказывать всяческое содействие. У меня есть модель в два метра длины, но этого мало. В случае очевидной удачи готов уступить недорого один или несколько патентов. Если бы кто нашел покупателя на патенты, я бы отдал ему двадцать пять процентов с вырученной суммы, а сам на эти деньги принялся бы за постройку».
Это прозвучало как вопль о помощи в пустыне. Никто не откликнулся…
ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТИЯ
Но разве тогдашняя Россия была сплошной безлюдной пустыней для науки? Да нет, конечно! Русскую науку и тогда двигали вперед могучие умы великих ученых, снискавших мировое признание. И они, со своей стороны, стремились, как могли, поддержать удивительного калужского изобретателя. Им интересовалась Софья Ковалевская, и только застенчивость Циолковского помешала ему познакомиться со знаменитой женщиной-ученым. Его труды были одобрены Столетовым, Жуковским, Менделеевым. Да и ставшая впоследствии исторической статья Циолковского о полете в мировое пространство на ракете была напечатана в уже названном нами журнале, который поддерживала передовая общественная мысль России. На страницах журнала, предоставившего место идеям Циолковского, печатались Ленин, Плеханов, Засулич. И сама статья об исследовании мирового пространства реактивными приборами была помещена по соседству со статьей Менделеева, чем очень гордился всю жизнь Циолковский.
Но ученые в старой России не имели реальных возможностей помочь своему высокоталантливому собрату, бьющемуся с косностью в провинциальной Калуге. Наука в то время не обладала такими материальными возможностями, чтобы на свои средства, без поддержки, в которой отказывали ученым невежественные царские власти, осуществить проекты Циолковского. Не удалось ему даже напечатать вторую часть статьи об исследовании мировых пространств. Журнал оказался на подозрении у полиции и был закрыт.
Бесконечные обиды, тяжелые лишения, атмосфера непризнания горько угнетали Циолковского. Иногда наступали в его жизни периоды какого-то ожесточения, когда ученый терял веру в помощь прогрессивных сил общества. В такие периоды Циолковский замыкался в себе, избегал общения с людьми. Насколько он был травмирован и потрясен отсутствием реальной поддержки общества в его трудах, можно судить хотя бы по тому, что в тот день, когда в Калугу прилетел на своем «фармане» один из первых русских летчиков, знаменитый Уточкин, Циолковский даже не пошел взглянуть на него. А ведь сам он, задолго до полета первого аэроплана разработавший его принципы, еще ни разу не видел настоящего самолета.
«Горе и гений»[2] — так назвал Циолковский маленькую восьмистраничную брошюру, выпущенную им незадолго до революционного переворота в нашей стране. Горе и гений! — в этих словах выражено все, что чувствовал и переживал в те годы Циолковский.
«Только установление нового строя в общественной жизни человечества уничтожит горе и даст возможность человеческому гению беспрепятственно развернуть во всей широте свою работу», — писал он.
И то, о чем мечтал ученый как о делах далекого будущего, свершилось гораздо раньше, чем он мог предполагать.
В октябре 1917 года в Калуге, как и во всей стране, совсем другие люди взяли по воле народа власть в свои трудовые руки. Изобретения Циолковского стали заботой, гордостью и достоянием государства. Ученый познал радость всенародного признания; в жизнь его, полную страданий, горечи и обид, вошло заслуженное утешение. Это позволило ему пережить тяжкие удары, которые продолжала наносить судьба, никогда не баловавшая Константина Эдуардовича. Он терял одного за другим дорогих ему людей. Еще ранее, в 1902 году, в состоянии душевного упадка покончил с собой его сын Игнатий, а теперь спустя лишь два года после Октябрьского переворота, когда перед ученым открывались совершенно новые возможности для работы, тяжелая болезнь унесла младшего сына Ивана — верного, трудолюбивого помощника отца. Потом заболела туберкулезом младшая дочь Аня. Она скончалась вскоре после замужества, оставив грудного ребенка. Через год, не дожив до сорока лет, умер в глухом степном селе учительствовавший там старший сын Циолковского Александр.
Но ученый нашел в себе силы выстоять под этими страшными ударами. Он теперь уже не чувствовал себя одиноким путником, идущим по найденной им ощупью новой дороге через глухую пустыню. Нет, он был уже не одинок. Его избрали членом Социалистической (впоследствии переименованной в Коммунистическую) Академии. Советское правительство назначило ему персональную пенсию; помимо академического пайка, он получал пособие от комиссии по улучшению быта ученых. Это дало возможность Циолковскому оставить, наконец, педагогическую работу, которая была для него единственным средством существования в течение сорока лет. Теперь Константин Эдуардович мог посвятить себя целиком науке, исследованиям, изобретательству, открытиям.
Теперь у него уже было много последователей, энтузиастов его дела. Повсюду создавались группы изучения реактивного движения. Правительство отпустило деньги на постройку моделей и производство опытов, а затем был создан специальный институт реактивных двигателей.
Металлический бескаркасный дирижабль был реально включен в план советского дирижаблестроения[3]. И как будто цельнометаллическое по самому своему звучанию имя Циолковского стало хорошо известно во всех концах Страны Советов. Так революция открыла путь для открытий Циолковского.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Признаюсь, что, погостив в Калуге у Константина Эдуардовича, куда я впервые приехал в 1932 году, я сам поставил отметинку «сбылось» у одного из сокровеннейших своих желаний. Еще с детства я слышал о нем как о межпланетном Колумбе и давно мечтал встретиться с Циолковским — властителем моих мальчишеских дум.
Итак, мы остановились с вами у входа в дом № 81 по улице Брута.
…В тесной горенке не спеша кончают обед. Из-за стола поднимается навстречу мне высокий застенчивый старик. Он двигает громадные шлепанцы-пантуфли. Все в нем исполнено радушия и мягкого внимания. Большие, совсем детские глаза, отвыкшие удивляться, но еще сохранившие ласковую пристальность любопытства, разглядывают вошедшего.
— Циолковский, — коротко говорит он.
Его медленный, как бы мерцающий голос мучительно слаб, он доходит словно очень издалека.
— А мы только что пообедали… Чем же угостить вас? Щец не желаете ли? Ну вот хоть яблочко возьмите. А вы молчите, молчите! Я все равно эдак ничего ровнехонько не слышу. Поэтому не старайтесь, не расслышу. Идемте ко мне наверх. Вот возьму там трубу, тогда и потолкуем, тогда и представитесь. Пожалуйста.
Он показывает мне худой рукой куда-то в сторону и вверх. Пропускает меня вперед. И вот я карабкаюсь по головоломно крутой лесенке, о которой, впрочем, уже до меня написано гораздо больше строк, чем насчитывается ступенек на ней.
На мансарде, в небольшой выбеленной светелке, царят книги и рукописи. Золототисненный массив энциклопедий, стопки сочинений Чехова, Мамина-Сибиряка, Ибсена.
За окошком обмелевшая Ока тужится протолкнуть плот через свое пересохшее горло.
Циолковский совсем не так дряхл, как это мне показалось с первого взгляда. Как легко он взлетел по крутой лесенке к себе в рабочую комнату! Он деятелен и смешлив, он усаживает меня, без усилий пододвигает себе большое кресло, устраивается в нем и затем вооружается огромной, почти метровой длины жестяной трубой в виде воронки с длинным узким горлышком. В раструбе воронки я вижу паутинку.
Эта труба — целый слуховой телескоп — направлена на собеседника, то есть на меня.
— Самодельная, — поясняет Циолковский, заметив, с каким интересом я разглядываю его слуховой телескоп, — из простой жести, еще при царе… за пятнадцать копеек. Вот как… И больше ничего… Отлично! Все слышу. И не кричите! Кричать совершенно не следует. Не хуже вас слышу. Ну-с, теперь рассказывайте, кто вы такой, откуда?.. Вот вам листок — запишите мне на память. А то я стал что-то плохо имена помнить. Только прошу, не фантазируйте буквами. Как следует пишите. Звание, как вам угодно — можете не писать. Я чинами не интересуюсь.
«КОГДА МЫ ПОЛЕТИМ НА ЛУНУ?»
— Так вы, видно, кое-что почитывали из моего, — говорит вскоре Циолковский, которому я поспешил рассказать о том, как еще в детстве искал в журналах и книгах все, что связано так или иначе с его работой. — Смотрите, пожалуйста, не ожидал! Большею частью являются молодые люди, которые от кого-то что-то слыхали про меня, а читать меня самого им некогда. А вот вы, оказывается, кое-что читали. Приятно. Не скрою. Верю… Ну, теперь можете спрашивать о чем хотите. Раз разбираетесь, охотно отвечу.
Он отнимает трубу от уха, поворачивается ко мне в фас, внимательно вглядывается, потом снова наставляет на меня трубу и припадает к ней ухом.
— Прошу.
— Константин Эдуардович, как вы думаете, скоро я отправлюсь специальным корреспондентом на Луну?
Циолковский хохочет. Он смеется удивительно легко и заразительно, радуясь, видимо, самому ощущению веселого.
— Не-ет! Это не так скоро, совсем не так скоро. Много лет. Много лет. Сначала еще пусть стратосферу завоюют. Стратосфера — вот куда нам надо. Стратосфера — это первый важный шаг по пути во вселенную.
В комнату заходит на минуту гостящий в этот день у Циолковского его поверенный в Москве. Расслышав последние слова ученого, он с ходу врубается в разговор:
— Комсомол наш уж определенно полетит… Ракета сделала огромные успехи.
— Ой, не полетит еще, — говорит Циолковский, лукаво поглядывая на своего поверенного. И труба ходит от одного собеседника к другому. — Ну, ну, ладно, полетит. Не буду вас охлаждать… Увлечение необходимо в деле. И кто знает, впрочем… Может быть, и очень скоро. Мало ли что казалось недостижимым, а ведь достигли. И больше ничего!
Он уже не первый раз произносит это «и больше ничего». Должно быть, его любимая формула, выражающая категорическое утвердительное суждение о сделанном.
— Да, да! Освоят стратосферу, а потом, возможно, и дальше. И доберутся. И больше ничего!.. Вот дирижабль мой, тот может сейчас уже лететь. Дело за постройкой. Вполне осуществимо. А все тянут. Вот второе задание мое не выполнено. Обещали начать давно, да все комитеты, инстанции. Очень уж много. Ибсен вот зло сказал. Только вы не передавайте, а то еще обидятся… «Когда черт захочет, чтобы ничего не вышло, он внушит мысль — учредить комитет». И больше ничего. К сожалению, иногда и решишь в сердцах, что Ибсен-то прав. Я человек смирный, но как же тут не обижаться? Ведь это нужно СССР, и человечеству нужно, значит. Вот таким вниманием меня самого окружают. Чувствую все время, что не один, что прислушиваются к тебе. Забот, кутерьмы, хлопот обо мне сколько! А лучше бы не обо мне, а о деле, о дирижабле бы. А то мне, право, совестно… Юбилей, кутерьма. К чему это? Земляки мои, калужане, — милый народ, они мне таких почестей хотели наделать… В Москву меня собирались отправить, на вокзал с музыкой провожать, как какую-нибудь почетную депутацию. Ну, что такое, к чему? Не за что меня так. И на Луну еще никто не отправился… За что же? Вот видите, и вам беспокойство — из Москвы сюда ехать. Да нет! — замечая, что я хочу что-то возразить, он мотает головой и машет перед моим лицом раструбом жестяного «телескопа». — Да нет, я не скромничаю. Я, может быть, сам-то о себе очень высокого мнения, но другие-то почему должны быть убеждены? Так сказать, вещественных доказательств пока мало добыто. И больше ничего…
Разговор касается философских работ Циолковского. Судя по письмам, которые он ворохами рассыпает передо мной, у него немало пылких последователей, и он несколько задет тем, что я позволяю себе не во всем с ним соглашаться по части некоторых философских высказываний.
— Нет, я яростный материалист, монист. Только материя — и больше ничего!
Он обладает даром чрезвычайно ясно, просто и красноречиво высказывать свои мысли. У него огромные познания, легко, без всякого напряжения пересыпает он свою неторопливую речь фактами из жизни Галилея, Либиха, Гумбольдта… Но в его воззрениях, в представлениях о природе, как идеальном сочетании радости, разума и истины, много наивного.
— Да-с, и все-таки я убежденнейший материалист! — восклицает он, когда я робко решаюсь упрекнуть его в некотором идеализме. — К религии у меня определенное отношение: когда-то это было попыткой мудреца объяснить мир, а потом власть имущие постарались использовать это в своих интересах. Библия? Сотворение мира?.. Ну, слушайте, это же детский лепет!.. В одном Млечном Пути два миллиарда планет. А он в шесть дней! Чепуха! А все-таки обезьяна и этого бы не выдумала, — неожиданно заканчивает он.
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Об астронавтике, о звездоплавании он говорит с повелительной простотой, которая всегда неотделима от истинного величия идей. Он никак не фантастичен. Все время — расчеты, цифры, законы. Это знание без самонадеянности. Это уверенность без бахвальства.
Его последние работы посвящены устройству межпланетных человеческих поселений.
Нет, Циолковский не зовет людей переселиться в будущем на какую-нибудь другую планету.
— Я вообще никогда не старался отвлечь человечество от Земли, — говорит он сердито. — Пока и на Земле, как мы видим, можно многое улучшить в жизни. А если уж переселяться в будущем, то на астероиды! Или на искусственные межпланетные станции, заброшенные в пространство ракетами. Вот там не будет земных тягот. Притяжения нет. Климат можно устроить какой вам хочется! Солнечную энергию можно использовать в таком объеме, какой нам еще не снится. И доменные печи она заменит и все двигатели, а материалы можно будет доставлять ракетами с Земли. Или зачалить астероид какой-нибудь ближний и произвести его разработку. Там металлов сколько угодно.
И он рисует увлекательную картину. Люди «пасут» в межпланетном пространстве стада астероидов и по мере надобности «доят» их. У меня начинает слегка кружиться голова…
В крохотной мастерской Циолковского на простом верстаке дозревают на солнышке яблоки.
Тут же в светелке помещается склад изданий всех его трудов; на полках размещены книжки, которые он раздаривает гостям и корреспондентам. В углу навалены диковинной формы ладьи, самодельные, странного абриса фигуры, словно тела, прибывшие из иного мира. Все это сделано из жести руками самого ученого. Прислоненная к стенке, стоит вертикально модель дирижабля из гофрированной волнистой стали, которую я прежде уже не раз видел на фотографиях в журналах.
— Прообразы? — почтительно спрашиваю я.
— Карикатуры, — сердито отвечает Циолковский, — это лишь карикатуры. Вы бы там кто-нибудь сказали бы в Москве, что дело с дирижаблем надо поторопить… Да ведь некогда, понимаю. На Земле достаточно дела, и дела-то все неотложные!.. А тут еще воздушные и межпланетные… Я и не собираюсь отрывать людей от дела, от Земли.
ПРОПУСК ВО ВСЕЛЕННУЮ
— Дедушка! — закричала, взбежав по лесенке, внучка Константина Эдуардовича. — Тебя там какой-то старичок спрашивает.
В светелку поднялся щупленький подвижной старикан в старомодных запыленных штиблетах. В руке вместе с кепкой он держал томик издания «Академии».
Труба взяла старичка на прицел.
— Товарищ Циолковский, — закричал тот, борясь с волнением, комком застрявшим в его горле, как плот на окском перекате за окном, и наклоняясь к трубе. Лицо его сразу промокло. — Я пять километров протопал потому, что давно уже издали уважал очень сильно вашу научную личность. Вы плохо слышите, а я потерял зрение на старой работе, но все-таки читаю, вот видите — Виктор Гюго. — Сделав решительно ударение на «ю», он протянул Циолковскому руку с книгой. — Виктор Гюго. Ах, если бы вы читали только, как он остроумничает насчет старой буржуазии! Я читаю все про французскую революцию. Вы меня можете спрашивать. Первая революция была в 1789 году… Потом были еще кое-какие. Но всюду злые люди мешали. А у нас, слава богу, совершилось, хотя на другой почве.
— Голубчик! — спросил немного растерянный Циолковский. — Что же вы хотите, чтобы я вам сделал?
— Вам семьдесят пять, — опять закричал старичок, — а мне шестьдесят девять! Три царя, три революции. Хватит, можно и умирать. Но я еще хочу попасть на ваш юбилей. Я хочу сам услышать про все… И старуха моя хочет. И Аркаша и Лиза хотят. Это мои дети, они учатся в партийной школе. Но им тоже не досталось билетов.
— Хорошо, голубчик, я вам напишу записочку, — сказал растроганный Циолковский. — Только я не знаю, удобно это, писать пропуск на собственный юбилей, а? Как по-вашему?
— Что значит? При чем тут неудобно? Пишите: Михаил Семенович Белоковский. Да нет! Не одному!.. На четырех человек! Мы же с вами считали: жена, Аркаша, Лиза, не говоря уж обо мне.
И Циолковский торжественно, своим угловатым почерком написал на листке, вырванном из тетрадки:
«Прошу пропустить четырех человек».
Потом он посмотрел на просителя, на меня, подумал секунду и, должно быть, для большей убедительности крупно приписал в скобках: «партийных».
МЕЖПЛАНЕТНЫЙ ПОРТ КАЛУГА
Днем еще на предприятиях и в школах велись беседы и собрания, посвященные его юбилею. На заводе НКПС рабочие объявили о создании специальных бригад имени Циолковского. Школьники четвертой ФЗС единогласно приняли предложение одного пионера организовать кружки по технике, поднять качество учебы, укрепить работу Осоавиахима и МОПРа.
Земляки звездоплавателя сумели, видно, использовать его семидесятипятилетний юбилей в самых «земных» целях.
Железнодорожники обещали налаживать сообщение пока на земле, колхозники боролись за дальнейшее овладение техническими знаниями, красноармейцы сообщали, что с новой энергией обязуются освоить военную технику. И хоть порою это звучало наивно, но тут в общем сказывался наш стиль и навык — даже самые низовые работы равнять по высочайшей идее, и наоборот — с далеких высот будущего наносить верную его проекцию на нашу сегодняшнюю Землю.
А на калужский телеграф прибывали все новые и новые приветствия от земляков и иноземных друзей звездоплавателя: из Ленинграда, из Москвы, Харькова, Одессы, Германии, Франции, Испании…
Вечером калужские рабочие и колхозники, аэронавты, дирижаблестроители и специалисты из института реактивных двигателей, приехавшие из Москвы, а с ними и местные научные работники до отказа заполнили клуб железнодорожников.
Занавес пошел вверх величественно, как аэростат.
Все в зале встали, горячо и любовно аплодируя. На авансцене в большом кресле у стола сидел Циолковский. Толстый, пахнувший нафталином драп праздничного пальто подпирал его со всех сторон. Погода в тот день была прохладная, и юбиляр решил поберечься. Поэтому он так и сидел в пальто, наглухо застегнутом, и на голове его торжественно стоял очень высокий старомодный котелок.
Земляки рьяно хлопали.
Циолковский встал. Он подошел к рампе, снял котелок и стал медленно махать им, далеко заводя вытянутую руку вверх за голову. Так машут встречающим с палубы корабля, хотя бы и межпланетного…
В этот вечер в калужском железнодорожном клубе слушали лекцию о звездоплавании, о законах Земли и неба, о солнечной энергии, о жизни и труде скромного калужанина, имя которого звучит ныне везде, где начинается разговор о безграничном могуществе человеческого разума, проникающего во вселенную.
Слушали красноармейцы и железнодорожники. Слушал старичок Белоковский с женой, Аркашей и Лизой.
И когда какой-то малыш-непоседа шмыгнул по проходу зала, на него добродушно зашикали:
— Эть, звездолет!
А потом, все так же не снимая пальто, лишь расстегнутое чьей-то заботливой рукой, Константин Эдуардович снова подошел к краю сцены.
И зал мгновенно затих, негромкий голос доносился до самых задних рядов.
— Спасибо вам, что вы поверили… Ведь все, о чем тут сегодня так щедро говорилось, все, что мне тут приписывали милые люди, все это еще пока принимается лишь на веру. На Луну-то еще никто не слетал, правда?.. Но вы верите, вы поверили. А вот раньше никто не верил. Спасибо вам, что вы так поверили. Я сам верю, что вы не обманулись, что задуманное будет выполнено и человека ничто не остановит на его великом пути…
— …Мне было бы совсем неловко, что вам из-за меня сегодня пришлось столько хлопотать. Ведь ничего такого существенного я вам еще не дал. Это все дело будущего. Но вот я себя чем утешаю. Тем, что из многих детей, которых я учил сорок лет, когда работал в школе, выросли хорошие люди. И я им помогал как мог. И они, многие из них, полюбили науку и кое-что узнали. Вот за это, как всякого учителя, который работал с душой, меня можно и чествовать. Вот за это я вашу благодарность принимаю.
Расходились из клуба очень поздно и, выходя, глядели как-то совсем по-новому на звезды.
— Великий старик! — сказал кто-то в темноте. — Возможное дело, и достигнем…
Прошел, обгоняя нас, парень е баяном. Он разворачивал мехи, заводя руку на полный замах, и пел на всю улицу:
Эх, дербень, дербень Калуга, Прощай, милая подруга, Вы глядитя на луну, Как туда я сигану.А луна и правда, словно нарочно, выскочила из-за края крыши, круглая, дразнящая, как мишень-тарелочка. Люди смотрели на нее, точно герои фантастического романа, вернувшиеся на последней его странице домой из межпланетного путешествия. И думалось: вон там, у этого светлого пятнышка, мы когда-нибудь поставим памятник Циолковскому.
Это будет завтра. А пока — в стратосферу! Это дело сегодняшнее.
В ТРОПОСФЕРЕ
Сияющим утром 30 сентября 1933 года я стоял на московском аэродроме у самой гондолы готового вот-вот покинуть землю советского стратостата и вспоминал Циолковского.
— Пусть сначала стратосферу завоюют, — говорил он мне год назад, — это будет первый и важнейший шаг по пути человечества во вселенную. В стратосферу, в стратосферу нам нужно!
Две недели, предшествовавшие старту, мы, писатели и журналисты, «прикомандированные» к стратостату, были буквально мучениками. Нас шутя окрестили «страстотерпцами стратостата». Еженощное посещение аэродрома вошло уже в наш быт. Обычное человеческое приветствие в обращении к нам было заменено однообразной вопрошающей формулой:
— Ну как? Летит?.. Нет? Эх, вы!
А что, спрашивается, могли поделать с проклятой погодой мы, тихие работники тропосферы, обитатели нижних, придонных слоев воздушного океана? Проклятая погода! Она обложила Москву мрачными тучами и две недели не снимала осады. Метеорологическое бюро вычерчивало невеселые кривые изотерм и изобар, опутывая густой их сетью огромную область на карте. Они спеленали стратостат и храбрых стратонавтов по рукам и ногам. Огромное число наших и зарубежных ученых ждало старта первого советского стратостата. Мы ждали старта, ждала вся страна, ждал весь мир.
Но руководители полета терпеливо ждали соответствующей атмосферной обстановки, чтобы какая-нибудь капризная выходка погоды не испортила полета и не снизила достижений нашего первого стратостата.
Мы просиживали часами у готовой вот-вот покинуть землю гондолы. Она лежала на нашей будничной земле, как чужеродное, уже постороннее для нее тело. Она должна была лететь, черт возьми! Но погода прижимала ее к земле.
Мы с горя еще и еще раз лазали в гондолу, в этот глянцевитый шар из кольчугалюминия, заключенный в теплонепроницаемую обкладку. Мы уже изучили внутри нее все до мелочей, но все-таки каждый раз с затаенным волнением, подобно начитанным мальчикам, взирали на этот сложный мир умных вещей, кажущийся знакомым по Уэллсу и Жюлю Верну, Алексею Толстому, Эдгару По и Циолковскому.
Мудрая система аппаратов величайшей точности и сложнейшего действия, научный такелаж корабля занебесья окружал нас. А поодаль лежали обычно антиподы по назначению: уже приготовленные к старту баллоны с водородом и балластные мешочки с дробью. В первых была сконденсирована подъемная сила стратостата. В мешочках, как в переметной суме Микулы Селяниновича, таилась «тяга земная».
30 CЕНТЯБРЯ
Ночь на 30 сентября предъявила нам все свои созвездия, и в каждом из них все, от Альфы до Омеги, сулило, наконец, «исполнение желаний».
Немедленно началась на аэродроме подготовка к старту.
Газ давали из больших резиновых газгольдеров.
Ночной туман стелился над землей, но небо было чисто, предвещая прекрасный день, удачный старт.
Оболочка вздувалась пока еще огромным полушарием. Поспешая за ней, как бы раздувалось рассветом небо.
Два небольших воздушных шара с подвешенными скамеечками-качелями, на которых сидело по человеку, двигались в воздухе вокруг исполинской, ставшей уже бокалообразной оболочки стратостата. Шары витали над стратостатом, порхали вокруг него, скользили на привязи вдоль его боков, и слышно было, как терлись друг о друга упругие шелковистые оболочки. Люди были так малы в сравнении с громадой стратостата, что глаз просто скидывал их со счетов, почти не замечая. В синеющем рассветном небе, в кометных хвостах прожекторов вращались летучие шары, осиянные фиолетовыми лучами. Где-то внизу в нерастаявшем тумане копошились крохотные фигурки людей. Чудовищная махина оболочки медленно, неуклонно вздувалась над слоем мглы и росла, росла, словно выпертая из недр земли какими-то титаническими силами, похожая на громадный протуберанец, ударивший в небо и застывший… Это было зрелище захватывающего, почти космического величия.
Отпущенная на длину стропов, оболочка стратостата высилась больше чем на 75 метров. Она была так непомерно высока, что верхушка и человек с шаром на ней осветились солнцем задолго до того, как первый луч светила коснулся нас, стоявших на поле внизу.
Сначала засиял нежным розовым светом серебристый раздутый купол оболочки. Потом розовая глазурь, как с верхушки кулича, стала растекаться по складкам, спускаясь все ниже и ниже. Туман оползал с небосклона, и в великолепном ясном утре стратостат возник над зеленым полем, необъятно громадный, ликующий, похожий на сказочной величины восклицательный знак, в «точке» под которым легко умещались трое людей. Красная звезда и буквы «СССР» и «USSR» горели на лазурной сферической поверхности, как на огромном глобусе. Небо было открыто для полета в высоты, куда еще ни разу не поднимался человек.
Последняя густая волна утреннего тумана, накатившись на аэродром, ненадолго закрыла поле и вот уже схлынула… Метеорологи приносят последнюю сводку погоды. Кривые разомкнулись. Прогнозы полны оптимизма. Командир идет в гондолу. Он жмет на ходу руки, прощаясь. Жужжат киноаппараты. Красноармейцы с трудом удерживают в руках гондолу, укрощая рвение стратостата.
Опломбированы метеорологические приборы на гондоле.
— Внимание! Полная тишина на старте!
— Провожающие, выходи! — шутит кто-то из команды. Люди, проверявшие скрепления стропов гондолы, соскочили на землю.
Внутри остались трое: Прокофьев, Годунов, Бирнбаум. Трое советских людей, трое представителей человечества, летящих в неведомое, может быть, три атланта нашей эры, которым суждено своими плечами поднять небо повыше.
Командир старта приказал всем, кроме тех, кто держал гондолу, отойти от нее. В последний раз похлопав ладонью манящий глянец, мы отошли.
Была тишина. Воздух, крепкий воздух земной поверхности вбирался внутрь гондолы. Там, наверху, в случае если полет затянется, каждый кубометр воздуха будет дорог, как дорог глоток пресной воды среди океана соленой.
Была тишина, какая бывает перед началом большого, серьезного научного опыта.
Вдруг мы почувствовали себя в центре огромного мира. Мир следил за этими тремя людьми, ждал и надеялся.
Как у Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко, во все концы света». Слово «история», никем не произнесенное, подслушал в себе каждый. И в то же время вдруг люди в гондоле стали всем нам очень близкими, родными, их было страшно отпускать. Они, живые, теплые, уйдут сейчас в ледяные высоты, наши товарищи по работе, наши братья по Земле.
В эту минуту все мыслилось в каких-то огромных масштабах. «Жизнь — есть форма существования белковых тел», — вспомнилась нам почему-то энгельсовская формула… Ах, черт, какая замечательная форма, какое превосходное тело — человек! Вот ему было отпущено на жизнь два измерения на плоскости, а он лезет смело отвоевывать у природы третье — вверх.
— Отдать гондолу! — пронеслось над полем. Красноармейцы разом отпустили… Они отбежали в сторону.
И стратостат тотчас быстро, плавно, неукоснительно пошел вверх.
— В полете! — крикнул командир старта.
— Есть в полете! — звучно ответил сверху командир улетающего стратостата.
Ура!.. Он улетал, улетал, он уходил вверх, весь серебристый, легкий, но непреклонно спокойный и напористый.
Великолепное небо принимало его.
— Уф, две недели ждали мы этого часа, — произнес кто-то.
— Ничего, человечество ждало тысячелетия, — ответили ему.
…Какой это был необыкновенный день — 30 сентября 1933 года. Один из тех дней, которые входят преданием в века. С одного конца Москвы вылетел в занебесье первый советский стратостат, а с другого — в тот же час вступила в город героическая колонна автомобилей Кара-Кумского пробега, советских автомобилей, преодолевших невероятные трудности и совершивших победное шествие по лесам, болотам, степям и пустыням. Это был день великих стартов и славных финишей, день преодоления необлетанных пустынь неба и нехоженых троп земли.
Мы возвращались в город с аэродрома. Москва стояла, задравши голову. Высовывались из окон кондукторши автобусов, притормозив машины, глядели в небо шоферы, стояли пешеходы на тротуарах, дети, прыгая на асфальте, кричали:
— Трататат летит, трататат!..
Москва жила в этот день на улицах. Нельзя было усидеть в комнате, невозможно было отвести глаз от сверкающей серебристой икринки, повиснувшей на невиданной высоте в московском синем небе. И оттуда, с высоты, на которой еще никогда не бывала ни одна живая душа, звучала на весь мир ошеломляющая весть,
— Алло, алло! Говорит Марс, говорит Марс! (Вот какие позывные взял себе стратостат!) Мы дошли до высоты 19 километров… Потолок! Мы достигли потолка! Сейчас пойдем на посадку. Передайте наш рапорт с высоты 19 километров.
В этот день не один я думал о Циолковском. Его имя беспрерывно повторялось в разговорах, хотя он не был как будто бы прямым участником сегодняшнего полета, на несколько километров поднявшего потолок познаваемого мира.
Девятнадцать километров! Мировой рекорд! Это в то время казалось потрясающим и грандиозным. И действительно было таким по сравнению со всеми предыдущими полетами человека. И это, конечно, было совсем еще малым перед теми огромными, беспредельными высотами, к которым мы тогда лишь начинали поход, победно продолжаемый сегодня нашими стремящимися в космос ракетами.
И первым, кто устремил туда, вверх, полет своего гения, был Циолковский.
— А Циолковскому сообщили? — интересовались люди в тот день. — Вот обрадуется старик?
В восемь вечера мне прочитали по телефону только что полученную из Калуги телеграмму:
«От радости захлопал в ладоши. Ура, «СССР»! К. Циолковский».
СЫН НАШЕЙ ЗЕМЛИ
Сын Земли, он умер на нашей планете.
Межпланетные корабли угаданной им конструкции еще не покинули Землю с человеком. Но уже недалеко время, когда по открытому Циолковским пути двинутся люди в даль вселенной и с благоговением, с великой признательностью помянут наши будущие «космонавты» его имя, когда заостренные древки наших знамен мы воткнем в Луну или в дряхлеющую почву Марса. Он завещал нам дело всей своей жизни, и мы вправе наследовать весь неисчерпаемый фонд его идей.
Но если где-нибудь, кроме нашего шара, есть еще во вселенной пульсирующий комочек сердцеобразной теплоты, если есть еще где-нибудь хотя бы извилинка человекоподобного пылающего студня — и они, будет время, содрогнутся над повестью этой трагической жизни, лишь на самом склоне своем озаренной радостью.
Родиться с чудесной душой и пронзительным умом, но беспомощным… Самому стать ученым, пророком, открывающим новые пути человечеству, и всю жизнь прожить в полубезвестности, в провинциальной глухомани, видя, как человечество путаными дорогами, независимо уже от тебя, догадками и ощупью пробирается к тем техническим истинам, которые давно были разработаны и указаны тобой…
Это страшная трагедия человека и гения, вероятно, одна из последних подобных драм на той стороне планеты, где мы живем.
Трудно представить себе уже сегодня, что это могло быть так недавно.
И невольно вспоминаешь еще одного великого мудреца и ученого, которого революция выхватила из безвестности, сделав его имя одним из самых прославленных в нашей стране, — Мичурин! Бананы в Тамбове в то время выводились с таким же трудом, с каким разглядывались планеты в Калуге. Всякий инакомыслящий человек, пытавшийся жить и чувствовать не так, как его ленивые соседи, считался чудаком, «тронутым».
Каким несокрушимым упорством, какой верой в свою правоту надо было обладать такому одиночке, чтобы не быть расплющенным об эту глухую страшную стену непонимания. Циолковский сохранял в себе эту изумительную и целомудренную веру в человека, восторженное преклонение перед силой человеческого ума, огромное, почти ребяческое любопытство ко всему новому.
Он рассказывал мне, что сперва относился к большевикам с пытливым удивлением. Они казались ему людьми, явившимися с другой планеты, чем-то вроде марсиан, пришедших завоевывать Землю. Он не мог к ним прислушиваться и проклинал свою глухоту, но, внимательно присматриваясь, ворчливо спорил, бранил в глаза и искренне восхищался за глаза. Я помню, как к нему однажды приехал в гости молодой московский писатель. Циолковский сперва стал прощупывать его по своей привычке. Наговорил нарочно колкостей.
— Вот вы, как всякий молодой коммунист, конечно, не согласитесь со мной, — сказал задорно Циолковский.
Писатель прервал его:
— Я, Константин Эдуардович, между прочим, как раз беспартийный, но это мне нисколько не мешает очень близко принимать к сердцу все то, что вы говорите.
Циолковский, смущенный, замахал руками и весело рассмеялся:
— Так вы не коммунист? А я-то старался… Очень люблю вот так подразнить этих молодых… Не любят критики. А так ведь, если между нами начистоту говорить, какие они все-таки молодцы и смельчаки! Прямо в ладоши захлопаешь, честное слово! И больше ничего! Вы только, пожалуйста, не очень расписывайте, а то скажут: приспосабливаюсь, подлизываюсь.
Привыкший за долгую жизнь к окружению холодных, непонимающих, тупых людей, он ревниво интересовался тем, что о нем говорят эти новые, заново перестраивающие планету люди, и был ребячливо обидчив. Раз при мне на собрании один из представителей местной власти, не желая тревожить Константина Эдуардовича, которого окружили собеседники, вежливо поклонился ему издали.
— А вы руки почему не подаете? — полуозорничая, полусерьезно вопросил Циолковский. — Вы знаете, в старое время за это… Ну, а мы живем в более культурное — время. Так что я просто обижусь. И больше ничего. Что? Беспокоить не хотели? Что же вы, уж совсем развалиной меня считаете, так, что ли? Нет, еще погодите, давайте сюда руку.
И, совсем по-молодому расхохотавшись, крепко пожал руку смущенному товарищу своей худой, но сильной и гибкой рукой.
Всюду ворчливо подчеркивая, что чинами он не интересуется, и искренне ненавидя всякие старые отличия, он с гордостью носил орден Трудового Красного Знамени и даже преподнесенный ему почетный значок Осоавиахима называл не иначе как «орден Осоавиахима».
ЗАВЕЩАНИЕ НАМ
Он работал без устали, поражая своей работоспособностью даже молодых, отвечал сам всем своим многочисленным корреспондентам… Я тоже имел счастье переписываться с ним. Как он обрадовался, когда мы задумали было выпускать в Москве детский научно-фантастический журнал под названием «Ракета»!
— «Привет, «Ракета»! Дорогое слово!» — сейчас же откликнулся он, едва я сообщил ему о нашем проекте.
Он работал и в последние месяцы, уже зная, что по улице Циолковского в Калуге пробирается смерть.
Еще 24 июля 1935 года он писал мне:
«Милый Л. А.! Я вам скажу правду о своей болезни… Болезнь пищеварительного канала шла, прогрессивно увеличиваясь, и теперь дошла, кажется, до своего апогея. Дальше последует улучшение или конец. Но вы знаете, что я конца не боюсь. Его нет. Есть только преобразование материи и жизнь в иной форме… Только жалко оставить, не закончив, множество начатых работ. Во все время болезни я не лежал в постели и работал по утрам без пропусков и выходных дней. Теперь порядочно исхудал и ослабел для прогулок. Надо ездить, но на велосипеде уже не могу. Не оставляю надежды на выздоровление. Ваш Циолковский».
Сумев сохранить до последних дней какую-то неистлевающую молодую радость жизни, Циолковский действительно с поражающим спокойствием относился к своему близкому концу.
«Умрет лишь мое сознание, — писал он мне, — а я, признаться, уж не так его ценю. Вы знаете, это как в театре, где идет пьеса… И вот все зрители, забыв о своих личных делах, подчиняются замыслу автора. Все находятся во власти пьесы, разделяют мысли и чувства героев. А потом опустится занавес, вспышка света, и театр погружается в темноту. И все сразу разошлись кто куда и каждый по своим собственным делам. Вот так и атомы в нашем теле. И больше ничего…»
И он никак не соглашался, когда его упрекали в наивном механистическом материализме и непонимании сущности диалектики.
Он не дожил до наших дней, когда советская наука, следуя его провидениям, опираясь на его технические предложения об использовании ракеты для изучения космического пространства, осуществила одно из самых важных его мечтаний — запустила первый искусственный спутник Земли. Но умирал он с удивительным мужеством, весь полный забот о величественном будущем нашей Родины. Когда Циолковский уже знал, что завтрашний или послезавтрашний день принесет ему смерть, все мы, вся наша страна и весь мир, прочли потрясающий документ, написанный им. Это было полное величия и драматизма завещание старого звездоплавателя. «С последним искренним приветом» передавал умирающий ученый дело своей жизни, все свои труды Родине и Коммунистической партии. Циолковский умирал в уверенности, что земляки по одной шестой части планеты с успехом закончат труды всей его жизни и будут свято хранить завещанное им.
Мозг Циолковского угас, но сияние его идей долго еще будет светить человеку на пути в космос. Его дерзновенным именем мы назовем межпланетные корабли, звездные магистрали, может быть, новые человеческие поселения или шахты на астероидах.
И снова я вижу его стоящим с «котелком» в поднятой руке, но это уже не встреча, а прощание. Траурная ночь, словно знамя, склонилась над Калугой. Падающая сентябрьская звезда покатилась, как слеза. На планете Земле умер человек Циолковский.
…А как бы он обрадовался утром 5 октября 1957 года, услышав, что мечта его жизни уже осуществляется и вокруг Земли несется первая маленькая искусственная луна, выведенная на орбиту предсказанной им ракетой.
Наверное, прислал бы в ответ на это сообщение телеграмму, как тогда, в день победы стратостата: «От радости захлопал в ладоши. Ура, СССР!».
УТРО ПРЕДНАЧЕРТАНИЙ
К чему стекается толпами наш народ; Бегут без памяти, разинув каждый рот. На кровли и на верх заборов возлетают И с нетерпением чего-то ожидают. Народная молва гласила в мире так: Что выйдет из-за туч небесный вскоре знак, Новорожденная появится планета, Которая у нас прибавит много света.Эти мало кому известные стихи стихотворца XVIII века М. Д. Чулкова вспомнились мне наутро после той ночи, когда радио разнесло весть о запуске первого искусственного спутника нашей планеты… Они звучали сейчас как забавное пророчество. Да, вокруг Земли завертелась созданная человеческими руками маленькая планета, и весь мир, восхищенно закинув кверху голову, с замиранием сердца прислушивался, как к самой чарующей музыке, к сигналам «бип-бип-бип» и «рон-рон-рон-рон», несшимся из пространства, уже космического.
Не успел мир прийти в себя от изумления и восторга, как вышел на орбиту и помчался вокруг Земли в еще большем отдалении от нее второй советский спутник. И аппараты ученых записали кардиограмму живого сердца, бившегося там, где никогда еще ничего живого не было. А затем, через несколько месяцев, был запущен третий советский спутник — теперь уже мощная летающая лаборатория.
И снова вспоминали мы Циолковского, но хотелось думать уже не о прошлом, а о будущем, которое так приблизила к нам во всем его ослепительном величии наша наука.
Замечательный поэт нашей эпохи Владимир Маяковский с известной опаской относился к воспоминаниям.
— Только не вечер воспоминаний, — говаривал он. — Давайте уж лучше сорганизуем вечер предвкушений или утро предначертаний. Куда интереснее и важнее!
Пожалуй, никогда так много и так убежденно не говорили мы о будущем, как на исходе 1957 года. Нет, дело было не в новогодних гаданиях. Мы не гадаем ни на кофейной, ни на звездной гуще. И мало кто верит в наше время предсказаниям ворожей. Не очень-то реальны и прорицания пророков. Мы, советские люди, за сорок лет слышали столько зловещих пророчеств, что сбудься хотя бы одно из них — так нас бы уж давно и на свете не было…
Но пытливая наука уверенно смотрит в будущее. Величайшим ученым был вождь Октября, основатель социалистического строя в нашей стране Владимир Ильич Ленин. И гениальные предначертания его, по которым развивается наше государство и закладываются основы новой жизни в странах, освобожденных от капиталистического гнета, всегда были строгонаучны. В них сочеталась точность истинного знания с неколебимой верой в исполинские силы освобожденного народа.
Неодолимое движение вперед и бурно растущее могущество социалистической науки объясняются тем, что в стране, где все принадлежит самому народу, дерзания ума находят свое продолжение и воплощение в творческом энтузиазме миллионов людей, во вдохновенном труде рабочего и колхозника, в искусстве инженера, в подвиге моряка и летчика.
Обо всем этом мы говорили вскоре после запуска второго советского спутника Земли в одном из переполненных молодежью и школьниками залов Москвы, где в конце 1957 года был устроен утренник, который назывался «Заглянем в будущее». И это было подлинным «утром предвкушений». Выступали изобретатели, известные ученые. Один из них имел скромное официальное звание: «Член комиссии по межпланетным сообщениям Академии наук СССР».
И как тихо ни произнес я, имевший честь председательствовать на этом утреннике, такое звание ученого, представляя его зрительному залу, все равно нельзя было не расслышать, как гремит в этих словах эхо необозримого будущего.
Да, благодаря поразительному успеху советских ученых, инженеров, конструкторов, рабочих, осуществивших один из проектов Циолковского, человечество в конце 1957 года совершило в своем культурном развитии исполинский прыжок в космос, в будущее.
Весной 1958 года калужане вместе с приехавшими из Москвы представителями советской науки открыли памятник своему великому земляку.
Теперь в калужское небо устремлен своим острием многометровый обелиск в виде ракеты, готовой к старту. А внизу, у ракеты-обелиска, узнаешь незабываемую худощавую и легкую фигуру человека, гений которого позволил людям сделать первый шаг к звездам.
И, вспоминая дни встреч с Циолковским и старт первого советского стратостата, поднявшего «потолок мира», ныне столь головокружительно высоко вознесенный нашими спутниками, я отыскал дома свой старый блокнот и перечитал строки, которые записал когда-то 30 сентября 1933 года, стоя на московском аэродроме.
«…Я убежден теперь, я знаю — мы с вами доживем, увидим. Настанет день… Когда спустится вернувшийся на землю после первого своего полета корабль еще не совсем угаданной сегодня конструкции, выйдет усталый, взволнованный человек, человек нашей страны, и протянет нам щепотку слежавшейся пыли.
— Вот! — скажет он. — Возьмите! — скажет он.
— Что же? Земля, как земля! — крикнут ему.
И он тихо ответит:
— Нет, это щепотка луны…»
Примечания
1
-ip.org/bibl/dorev-knigi/ciolkovskiy/issl-03st.html
(обратно)2
-ip.org/bibl/fant/tsiolk/gore_i_geniy.html
(обратно)3
Как уже говорилось (см. стр. 14), дирижабль Циолковского не был практически освоен, так как успехи авиации сняли с повестки дня вопрос о дирижаблестроении вообще. Кончалась эра воздухоплавания (если не говорить об аэростатах противовоздушной обороны, шарах-зондах и стратостатах).
(обратно)

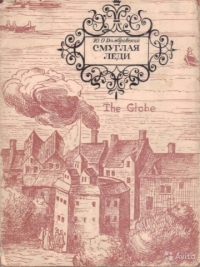
Комментарии к книге «Человек, шагнувший к звездам», Лев Абрамович Кассиль
Всего 0 комментариев