Юность 7(230), июль 1974 г.
Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячник Союза Писателей СССР
Лена. И.Шевандронова.
Геннадий Михасенко Милый Эп (Рисунки В. Жутовского)
Галя Юхно, Боря Дмитриев,
Гена Афонин и Вадик Денисов –
это вам, в память нашей юности.
Автор.Глава первая
Светлана Петровна вызвала меня неожиданно. А я был не из тех, кого по английскому языку можно вызывать неожиданно. По математике, физике или химии — пожалуйста, но по английскому — ни в коем случае. Железная тройка, полученная на прошлой неделе, вроде бы обеспечивала мне полмесячную передышку, и вот тебе!..
Я хотел было отказаться сразу, но Август Шулин, мой сосед, испуганно вытолкнул меня из-за стола, и я, как порядочный пошел к доске, кивками прося подсказывать. И сразу кто-то зашипел, рупором прижав ладони ко рту или в свернутую трубкой тетрадку, кто-то беззвучно корчил рожи, надеясь, что я все прочту по губам. Вовка Еловый живо зашевелил пальцами, но пальцами хорошо изображать римские цифры, а не латинские буквы. Васька Забровский, как наш комсорг, что-то быстро чиркнул на бумажке и свесил ее вниз, сбоку стола, но я ничего не рассмотрел. Только Мишка Зеф действовал открыто. Развалясь на задней парте, он выдавал по буквам: эс, эйч, и… Я нащупал в кармане пиджака свой давний талисманчик — бочонок от лото с номером 81, — прислушивался, но… русский-то шепот попробуй разбери от доски, а тут — английский. Дважды ляпнув невпопад, я поморщился, закусил губу и смолк. Я сдался. Но класс держался до последнего патрона: шипел, булькал и хрипел, как радиоприемник на коротких волнах.
Светлана Петровна терпела, терпела, потом устало вздохнула и сказала по-русски:
— Ну, хватит. Бесполезны ваши старания. Кажется, дня три не открывали учебника, так ведь, Эпов?
— Нет, два дня! — ответил я по-английски (Эти-то слова я знал хорошо!), не уходя от доски лишь потому, что надеялся на прощение.
— Ну два, какая разница… Это мелочная честность, Эпов. Так что я вынуждена поставить вам двойку.
— Спасибо! — сказал я, кивнул Светлане Петровне, ее оранжевому платью, рыжеватой прическе, округлому животу — всему сразу и отправился на место, перехватив удивленный взгляд учительницы: до сих пор я за двойки не благодарил. Но тут во мне что-то дернулось, сработало какое-то реле. Двойка? Очень хорошо! Прекрасно!
Класс ожил.
— Светлана Петровна, задайте ему еще вопросик!
— Ну, Светла-ана Петровна!
— Эп все знает, только он рассеянный.
— Его надо в темноте спрашивать.
— Да он с Чарли Чаплиным переписывается!
Я обычно поддерживал эти веселые атаки, когда кто-нибудь горел, но сейчас мне все было безразлично. Не садясь, я сунул учебник с тетрадкой в папку, «задернул» молнию и двинулся к выходу, легко и свободно.
— Эп, стой! — выкрикнул Шулин.
За спиной была тишина.
У дверей я обернулся и, глянув прямо во все еще удивленные глаза Светланы Петровны, затененные рыжими клубами прически, любезно проговорил:
— Гуд-байте! — и, уже выходя и при этом кого-то толкнув дверью, добавил сквозь зубы: — Спинста! — что означало «старая дева», так мы прозвали Светлану Петровну.
В коридоре никого не было, кроме незнакомой девчонки, которая держалась за дверную ручку, желая, видно, заглянуть в наш класс. В ярко-красных брюках, в синей куртке и с вязаной красной шапочкой под мышкой, вся в блестках свежерастаявших снежинок, она недобро глянула на меня. Уловив в ней какое-то сходство со Светланой Петровной, я ей брякнул:
— Гуд бай!
— Бай-бай! — не моргнув глазом, ответила она.
И я пошел прочь.
Я не хотел обижать Светлану Петровну, хоть и был на нее зол. Не знаю, чья умная голова изобрела это нелепое прозвище «спинста», совсем не подходившее нашей молодой, замужней и даже уже беременной учительнице, но было в нем что-то холодное и пронзительное, как моя неприязнь к этому чужому языку, поэтому я с удовольствием ввернул его. Что за дикость — вызывать человека, зная наверняка, что он не готов! Это же педагогическое хулиганство! Охота за черепами! И не много надо ума, чтобы даже отпетого отличника застать врасплох. По-моему, талант преподавателя обратно пропорционален количеству поставленных им двоек!.. Эта вдруг найденная точная психологическая формула, как-то мгновенно принизившая всех учителей, обрадовала меня, и я чуть не засвистел, чувствуя, как лицо мое победоносно сияет. Но когда я спустился в вестибюль, тетя Поля, дежурная, спросила:
— Плакал, что ли?
— Кто — я?.. С чего бы!
— Да уж не знаю, чего вы срываетесь посреди уроков вот с такими глазами! — Она показала кулак, вздохнула и отвернулась, точно не желая иметь со мной никакого дела, но тут же встрепенулась опять. — Кого требуют-то?
Маленькая и пухлая, она сидела на стуле у двери в раздевалку и не выдавала пальто без того, чтобы не разузнать, что случилось. Тетя Поля расспрашивала даже тех, кто являлся с бумажкой от учителя.
Я не был опытным в этих делах, но желание исчезнуть, испариться из школы так вдохновило меня, что я глазом не моргнув выпалил:
— Отца.
— Значит, отец у вас голова, — сказала тетя Поля и без дальнейших вопросов пропустила меня, рассуждая сама с собой: — Это хорошо, что отец, — рука крепше. И выдрать и приласкать — все крепше. А что она, мать-то, кроме как пилить. Уж по себе знаю. Вон какие, а я все пилю… Плюнул, поди, в кого? — спросила она, когда я вынырнул из-под перекладины, застегивая плащ.
— Нет.
— Бесстыдник. Отцам делать нечего, только с вами нянчиться! Резинкой стрелял?
— И это нет, тетя Поля.
— Бесстыдник!.. Чего же ты вытворил?
Мне вдруг захотелось признаться, что ничегошеньки я не вытворил, что это со мной вытворили, но, увидев озабоченную физиономию тети Поли, коротко сказал:
— Обозвал учительницу.
Всплеснув руками, тетя Поля охнула:
— Сбесился ты, что ли!.. Да кто же это учителей обзывает, головушка твоя задубенная? Ведь учитель для вас — все, непутевые вы черти!
— Гуд-байте, тетя Поля!
— Веди, веди отца! Веди, бесстыдник! Фамилия-то как?
— Эпов.
— Чей?
Но я, мимоходом глянув в большое вестибюльное зеркало на свою долговязую, нескладную фигуру в берете, уже выскочил на крыльцо. Хлопок двери отрезал меня сразу и от ворчаний тети Поли, и от сонливой духоты, и от всех-всех невзгод школьной жизни.
А на дворе что делалось! Ходуном ходила густая снежная мишура. Она шаталась, скручивалась, дергалась, то с шуршанием захлестывая ступеньки, то сползая с них. А шел уже май. В тени палисадников, домов и под пластами мусора дотаивали последние островки сугробов.
У крыльца, полузаштрихованный метелью, звонко постреливал мотоцикл. За рулем, подгазовывая, сидел Толик-Ява, из девятого «Б», в красном шлеме и в очках, ждал кого-то. Странно, идут занятия, друзья в классе, а он раскатывает, да еще возле школы. Получил права — так гоняй на пустыре, если радость распирает, а хамить-то зачем?.. Хотя и я не лучше!
Я нырнул в снеговорот и захлебнулся. Хорошо! Очень кстати эта заваруха для нейтрализации моего кислого настроения, а что оно кислое, коню понятно, как говорит Шулин.
«Все! — зло думал я, спотыкаясь о желваки застывшей грязи и дробя каблуками лед пустых луж. — Решено! Сегодня объяснюсь с родичами! Хватит морочить людям голову!»
Еще в конце седьмого класса на меня стала накатываться какая-то необъяснимая тоска. Нет-нет да и накатится, прямо на уроке. Уплывают куда-то учебники, лица друзей, доска, растворяются и замирают звуки — я вроде слепну и глохну.
Летом мы с отцом пересекли на машине Западную Сибирь и объездили все русские старинные города: Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, Ростов Великий — волшебные места; потом я поработал на детской технической станции и развеялся, забыл свои тревоги. Но едва начались занятия в школе, опять затосковал, представив, что не проболей я во втором классе целых полгода, я бы учился уже в девятом, почти в десятом, последнем! Дальше — больше. К Новому году понахватал троек и даже двоек столько, сколько не наскрести за все прежние семь лет. «Ты что, Эп, спятил?» — удивлялся комсорг Васька Забровский. «В чем дело, Аскольд?» — хмуро спрашивали дома. «Опомнись, Эпов!» — в панике восклицали учителя. На новогодние каникулы Шулин пригласил меня в свою деревню. Я поехал. Я любил деревню. Мои бабушка и дедушка по отцу жили в селе, и я класса до пятого каждое лето гостил у них, но потом как-то охладел, а тут обрадовался. Шулинская деревушка Черемшанка мне понравилась. Она стояла в лесу, и мы с Авгой стреляли зайцев прямо за огородами, а за рябчиками и глухарями бегали на лыжах к Лебяжьему болоту. Неделя промелькнула одним днем, и возвращался я в город с холодным предчувствием близкой беды. И точно. На меня сразу же навалилась хандра. Но тут я вдруг понял, в чем дело; оказывается, мне надоела школа. Надоело играть маленького, надоела суета, классные собрания с разговорами в три короба, надоела дорога в школу, даже Август Шулин, ставший за каникулы моим первым другом, опостыливал мне в школьных стенах. Понял я это, и мигом блеснула идея: бежать, дотягивать восьмой класс и бежать без оглядки. Куда — я не знал, но идея эта так подхлестнула меня, что я, ко всеобщему удовольствию, выправил за полмесяца все отметки и на рысях понесся к финишу, лишь по английскому продолжал болтаться между двойкой и тройкой.
И вот тебе — бах! — новая пара. Это уже попахивало двойкой за четверть, а то и за год… Но сейчас все вчерашние и завтрашние заботы утонули в одном ощущении: вырываюсь… И чем дальше отходил я от школы, тем вольнее и радостнее чувствовал себя, как будто постепенно освобождался от влияния какого-то тягостного магнитного поля. Даже снег, похожий на поток силовых линий, начал редеть и ослабевать.
Подняв куцый воротничок плаща и втянув голову в плечи, я свернул в сквер, малолюдный и тихий. Покачивались сомкнутые в верху голые ветки, просеивался сквозь них снег и падал обессиленно и сонно. Словно убаюканный, я закрыл глаза, заранее прикинув, что шагов двадцать пять могу пройти слепо, ни с кем не столкнувшись. Раз, два, три… Услышав мое заявление, мама тотчас же с серьезной вроде бы озабоченностью полезет в свою сумку за стетоскопом, чтобы проверить мое здоровье, как всегда делала, если я хватал через край… Восемь, девять… Отец глянет тревожно, точно уловит неожиданный треск в отлаженном механизме, и в глазах его, как в осциллографах, вспыхнут проверочные огоньки… Хотя отцу сейчас не до меня: его как главного инженера замотала следственная комиссия из-за цокольных панелей новой гостиницы, в которых нашли что-то не то… Я сбился со счета и, вдруг почувствовав, что сейчас наткнусь на какое-то препятствие, открыл глаза.
Это были две девчонки. Запорошенные снегом, прижавшись головами к транзистору, они шли бок о бок, нереально симметричные, как сиамские близнецы. В транзисторе сипло и прерывисто булькала «Лайла» Тома Джонса, и девчонки легкими шлепками то и дело взбадривали приемник. «Перепаяйте контакты или приходите ко мне слушать Тома Джонса!» — сказал я мысленно, не спуская с них телепатического взгляда, но они проплыли, даже не покосившись на меня. Конечно, что им в моей тощей, длинной фигуре! Им Аполлонов подавай!
Однажды я спросил у отца, каким он рос — хилым или здоровым. Отец ответил: доходягой, у бабушки глаза не просыхали, все думала, что помрет; другие мели все подряд, только подноси, а его рвало и от лука в супе, и от сала в яичнице, и от пенки в киселе. И у меня это пройдет, уверил отец, душа вот созреет, и тело включится. Эта философия несколько утешала меня, и я даже порой представлял себя гадким утенком, который вот-вот превратится в лебедя, но всякий раз подчеркнутое безразличие ко мне девчонок мучительно задевало меня. И я тогда остро завидовал классическому торсу Мишки Зефа и его умению смело-грубовато обходиться с девчонками. Сейчас бы он не проскользнул, как я, бледной тенью мимо этих сиамских близнячек, он бы раскинул навстречу им руки, сморозил бы какую-нибудь чушь и, глядишь, слово за слово, познакомился бы. Но я и в компаниях терялся в таких случаях, а чтобы один — простите! Гори они синим огнем, эти гордячки!
Сквер кончился, и на меня опять накинулась метель.
Глава вторая
На бетонной площадке против нашего подъезда стоял зеленый «УАЗик» — отцовский. Значит, он дома! Уйти, сбежать! Сейчас проскочу мимо и двором — на соседнюю улицу.
— Здорово, Аскольд! — приветливо крикнул дядя Гриша, папин шофер, высовываясь из кабины.
— Здрасьте! — испугано ответил я.
— Как оно?
— Хорошо! — И свернул к подъезду.
Все нынче против меня. Даже дядя Гриша, всякую свободную минутку глотавший журнальные детективы, тут оказался без журнала.
Слева — лестница вверх, справа — вниз, в подвал. Нырнуть, что ли, туда? Посижу полчасика, погреюсь, да помыслю заодно. Гениальные это люди, строители, — подвал изобрели! Сколько тут было устроено засад, сколько пережито и развеяно страхов, сколько раз нас тут ловили разъяренные владельцы кладовок!.. Восторгаясь подвальной темнотой, теплом и запахом прокисшей капусты, я между тем бешеными прыжками летел наверх.
Открывая дверь своим ключом, я услышал телефонный звонок и бас моего робота Мебиуса:
— Квартира Эповых, минуточку!.. Квартира…
— Аскольд, возьми трубку! — крикнул из кухни отец. — Если меня, скажи выезжаю.
А вдруг из школы? Вдруг Светлана Петровна пожаловалась нашей классной Нине Юрьевне?.. У меня в желудке мигом образовался кусок льда. Я осторожно поднял трубку.
— Да… Да-да… Дома… Его сын… Робот… Самодельный, конечно. Нет, не очень сложно… Еще говорит, что никого нет… Да, сейчас выезжает… До свидания. — Я облегченно опустил трубку. В кухне звякнул стакан, громыхнул стул, и в прихожей потемнело — отец собой перекрыл кухонный коридорчик, через который только и пробивался в прихожую свет. Мама тоже была крупной, лишь от меня освещенность не менялась, точно я был прозрачным. Я щелкнул выключателем и сделал счастливую физиономию, как и положено пай-мальчику при виде родителей. Но родители и не глянули на меня. Они были сосредоточенно-хмуры. Отец подал маме пальто, на миг задумался и стал одеваться сам.
«Уже знает!» — опять похолодел я.
— Отца-то в тюрьму садят! — вдруг сказала мама.
— Как в тюрьму?
— А вот так! — и четырьмя скрещенными пальцами мама изобразила решетку.
— Правда, пап? — ужаснулся я.
— Правда, — ответил он, выпрастывая бороду из шарфа. — Не сию минуту, конечно, но… Дядька, с которым ты только что беседовал, это секретарь прокурора. Следствие закончилось. Получилось, что я виноват. Вот такая, брат, кирилломефодика! — Отец надел черный берет и только тут посмотрел на меня.
— Ты же говорил, что не виноват!
— И сейчас говорю. Только это надо доказать, а это не просто доказывается. Но у меня еще есть шансы, вот! — Он снял с полки толстую папку и взвесил ее на ладони.
Мать с отцом вышли.
Я замер, с болезненной тревогой прислушиваясь к затихающим на лестнице шагам, потом не раздеваясь, шмыгнул в кухню и прижался щекой к стеклу. За окном кипела метель: снежные вихри, летевшие вдоль стены вверх, сшибались с вихрями, падающими с карниза, и уносились куда-то вбок, прочь от дома… Жизнь взрослых казалась мне навсегда решенной и устроенной, с уже отгремевшими потрясениями, которые еще ждут нас, поэтому известие о тюрьме ошеломило меня… Класса до седьмого я не отделял себя от родителей, и дом наш наполнялся для меня счастьем, когда мать с отцом являлись с работы. Я летел к порогу, услыша долгожданное шебаршение ключа в замочной скважине, и если не кидался на шею, то приплясывал и скулил от восторга, как щенок, просидевший весь день взаперти. Теперь я не бросался к порогу, а просто молча радовался, что вот они возвращаются, что сейчас будем ужинать и только бы поменьше суетливо-дежурных расспросов, а о главном я сам расскажу. Лишь изредка, в особые моменты, меня пронизывала прежняя, слепая тяга к родителям, и я на час-другой становился пятиклассником, как вот сейчас…
Я задумчиво опустился на стул. Дзинькнул звонок, и в прихожей появился Авга Шулин в клетчатой кепке и в серой, похожей на телогрейку куртке, из которой давно вырос.
— Эп, ты один? — шепнул он.
— Один.
На цыпочках, чтобы меньше следить, Авга прокрался в кухню, жадно, но мельком оглядел неубранный стол и, дернув подбородком, вопросительно-тревожно уставился на меня глазами, ноздрями, ртом и ушами — всем, чем нужно. Полтора года жизни в городе ни капельки не изменили Авгу — та же кепка, та же куртка и та же простоватая физиономия. Первое время я считал Шулина старательным деревенским тупицей и даже издевательски прозвал его графом. Он не обиделся на кличку. Он вообще ни на что не обижался — удивительный человек, он все принимал с улыбкой, мол, сыпьте-сыпьте, я потом разберусь. По закону Ньютона действие равно противодействию, и на него никто не обижался, а вернее, его просто не замечали. Я лишь тогда обратил на Авгу внимание, когда он однажды на «графа» ответил мне с усмешкой: «Какой я граф — графин! Кринка!» В этом были и внезапная искренность, и смелость, и проблеск ума. Не каждый отважится дать себе такую оценку. Я стал с ним больше общаться, и скоро мне понравились и его простоватая физиономия, и забавные словечки, и наивные мысли. А в этом году мы сели за один стол и подружились окончательно.
— Ты почему рано? — спросил я. — Или тоже?..
— Ну что ты! — возразил Шулин. — Спинста отпустила. Вызвала еще двух, начала объяснять, побледнела и — ступайте, говорит!
Меня это насторожило. Ведь ей нельзя волноваться! Я поднялся, пощупал кастрюлю и чайник и, хоть они были еще горячие, включил конфорки.
Авга продолжал смотреть на меня вопрошающе, ожидая каких-то разъяснений. Я понимал, что для него, который — тоже, кстати, удивительная штука! — трепетал перед учителями, у которого при виде директора подкашивались ноги и для которого даже наш комсорг Васька Забровский, или просто Забор, был властью, для него мой сегодняшний финт оказался неожиданным, потому что я не числился в анархистах.
— Шум был? — спросил я.
— Не было.
— Слава богу.
— А чего ты бзыкнул?
— Да так.
— Так не бывает. Так и чирей не садится.
— Граф, какой чирей?!
— Обыкновенный… Неужели ты из-за двойки? Из-за каждой двойки бзыкать — лучше в школу не ходить!
— А я и не пойду!
— Не пойду… Я бы тоже не ходил, да не могу — обречен учиться. Тридцать первого августа меня родили, а первого сентября уже отправили в школу.
— А я вот не пойду!
— Хм!
— Вот тебе и «хм»! — То, что я наконец выговорился, взбодрило меня. — Раздевайся! Обедать будем!.. И мой повесь. — Я кинул Авге свой плащ и стал подновлять стол.
Шулин жил у тетки с дядькой, жил впроголодь, боясь объесть их, как он сам однажды признался мне. К большим праздникам ему приходили десятирублевые переводы и посылки с салом, сушеными грибами и с лиственничной серой. Серу Авга сразу отдавал Ваське Забровскому. Васька честно делил ее и весь класс с неделю празднично работал челюстями. Дней пять после посылки Шулин отъедался, а потом опять подтягивал ремень, хотя со стороны родственников я не разу не заметил ни косого взгляда, ни обидного намека. Скорее наоборот, они вздули бы Авгу, узнай об этом. Я не сбивал друга с его чем-то и мне привлекательного принципа, но при любой возможности подкармливал Шулина.
— Садись, — сказал я, ставя на стол дымящуюся тарелку щей с мясным айсбергом.
— А-а! — крякнул Авга, потирая ладони.
— Ешь! — Я и себе налил.
Уже сунув ложку в щи, Авга замер и опять, подняв на меня полные недоумения глаза, спросил:
— Ты это серьезно, Эп?
— Абсолютно.
— А как же все-таки школа?
— Что школа? Ты ешь давай!.. Школа как трамвай: я спрыгнул, а он дальше пошел! — бодро ответил я.
— А что делать будешь? Отцу на шею сядешь?
— Балда ты, граф! Работать буду!
— Ага, в рабочие, значит, подашься! Интересно девки пляшут! Я в интеллигенты пру, а ты наоборот, как будто я тебя выдавливаю.
— Никто меня не выдавливает, — со вздохом сказал я. — А, собственно, чем плох рабочий класс?
— Рабочий класс не плох, — отозвался Шулин. — Плохо то, что я ни черта не понимаю!.. Если бы…
Звякнул телефон. Робот Мебиус загробно откликнулся. Я ринулся в прихожую, с жаром думая, что звонит Светлана Петровна — отошла и возжелала отомстить обидчику. Но это был Мишка Зеф. Он снисходительно-весело поздравил меня с моральной победой над Спинстой и велел так держать. Я буркнул «брось ты», опустил трубку и переключил тумблер на «out».(Здесь «нет дома» (англ.).)
— Забор? — спросил Авга.
— Зеф, — сказал я и передал разговор.
— Харю надо бить за такие поздравления! — зло выговорил Шулин, отодвигая пустую тарелку. — Победа!.. Ты ведь не завтра собираешься бросить школу. Восьмой-то все равно надо дотягивать, тем более что осталось с гулькин нос.
— Конечно.
— Ну и вот! Поэтому тебе надо исправлять двойку, а теперь попробуй исправь!
— Ты думаешь, она слышала, как я обозвал ее?
— Еще бы! Я вон где сижу и то слышал!
— Черт! Да еще беременна!
— Двойки ставить они не беременны! — проворчал Авга, принимаясь за чай.
Некоторое время раздавалось только наше прихлебывание. Шулин щурился от чайных паров и шевелил бровями. Я думал о том, как действительно встречу завтра Светлану Петровну. Даже если я сегодня все вызубрю, что очень сомнительно, то и это не спасет меня от стыда.
Шлепками по дну стакана Авга выгнал в рот ягоды смородинного варенья и сказал:
— И все-таки, Эп, я не пойму.
— Чего?
— Мать у тебя врач, отец инженер, вон какая шишка. Все у вас есть. Учись да поплевывай в потолок, а ты куда-то вбок, как этот… — У Шулина было универсальное сравнение «как этот», а кто — домысливай. — У меня ни фига нет, а я жму! На меня и батя с кулаком кидался, кричал, что сено косить некому, и дядька сейчас пилит, мол, куда я, бестолочь, лезу. А я лезу!.. Нет, Эп, я не хвастаю, а рассуждаю!.. Ты вот хихикаешь и называешь меня графом, а будь сейчас старое время, дореволюционное, сам графом был бы! И без хиханек! Ездил бы к нам в Черемшанку охотиться, а я бы, мужичишко, на тебя зайцев выгонял, мол, стреляйте, вашество!
Я усмехнулся:
— Пострелять я бы не против! А вот насчет моего графства ты, Авгунек, маленько загнул. Один мой дед батрачил в деревне, а второй вкалывал на каком-то паршивом заводике, так что суди, какой бы из меня граф получился!
— По дедам нечего судить. Теперь надо судить по отцам, — возразил Шулин и задумчиво повертев стакан и лизнув сладкий край, добавил: — А вообще-то сейчас и по отцам много не насудишь. Возьми вон моего!.. Только по себе!.. И у тебя, например, все данные для графа! — заключил он.
— А у тебя какие данные?
— Я пока не разобрался, но постараюсь быть и мужиком и графом.
— Ишь ты!.. Ну, во-первых, признаюсь, если уж на то пошло, я еще ничего не решил, кроме ухода из школы, раз! Во-вторых… во-вторых пропустим, а в-третьих, самое интересное, что именно таких рассуждений я и жду от родителей!
— А разве они еще не знают?
— Нет.
— А Забор?
— Причем тут Забор?.. Ты первый!
— Ах, во-он как! — воскликнул Авга. — Значит, слепой в баню торопится, а баня не топится!
— Растоплю! Сегодня хотел, да не выйдет, — сказал я, вспомнив семейные неприятности.
— А что во-вторых? — спросил Шулин.
— Во-вторых, ты Спиноза!
— Кто?
— Философ!
— А что, неправильно рассуждаю? — возмутился Шулин. — Вот ты мечешься, а я жизнь свою уже до половины рассчитал! Да-да! … Удрать из деревни — раз! Удрал. Закончить десятилетку в городе — два! Заканчиваю! Поступить на охотоведа или на геолога — три! И поступлю — кровь из носа! Пусть тятьки и дядьки с колунами бегают и шумят — я вылезу!
— Молодец!
— А чего улыбаешься?
— Да так.
Авге нравилось говорить, что он удрал из деревни. Но ведь удрать, значит, от плохого и без оглядки, а Шулин, по-моему, спит и во сне видит свою Черемшанку. И чуть в разговоре коснешься деревни, он вздрагивает, как стрелка компаса близ магнита. Как-то мы ходили за его посылкой, так Авга раз пять подносил ее к носу и затяжно принюхивался — родные запахи. Так что едва ли это сладкое бегство.
И я спросил:
— А не зря ли ты удрал?
— Не зря. Для меня попасть в институт — это все равно что на Луну, — пояснил Шулин. — Стартовать из деревни пороху не хватит, да и притяжение там здоровое. А город вроде промежуточной станции: заправлюсь — и дальше. Вот я и заправляюсь сейчас. Нет, Эп, расчет верный!
— Ну, Циолковский!
— Только так!
— А ведь и у меня кое-какие расчеты своего будущего есть, — скромно проговорил я.
— Да уж поди! Голова-то у тебя — дай бог! — важно согласился Шулин, нажал кнопку на косяке, и за стеной, в моей комнате, зажужжал зуммер — так мама вызывала меня на кухню. — Видишь?.. Чудо-юдо, рыба-кит! А ты бзыкаешь!.. Вот это мне и непонятно. Не-ет, я не отговариваю, я так… сравниваю.
Телефон опять дзинькнул.
Мебиус ответил, что дома никого нет, а я, спохватившись, что это отец может звонить за чем-нибудь срочным и важным, выскочил и перещелкнул тумблер на «in».
Глава третья
Васька Забровский все же позвонил, около пяти.
— Эп?.. Как дела?
— По последнему слову техники!
— То есть?
— Да вот оделся, иду к Светлане Петровне извиняться. Одобряешь, комсорг?
— А ты без одобрения иди.
— Ну и пошел.
— Ну и ступай. Помнишь, где она живет?
— Помню.
— Ну, привет.
— А чего звонил?
— Да так.
Хитер Забор! Просто так, по словам Шулина, и чирей не садится. Хотел ведь взять меня за жабры!..
Наш комсорг хорош тем, что никогда не поднимет паники, как дура Пичкова из восьмого «А». он просто появляется в нужный момент, внедряет в тебя свой магический взгляд и спрашивает, что ты теперь намерен делать. Если ты не знаешь, он советует, и безошибочно!
А действительно стоял одетый и действительно собирался идти к Светлане Петровне извиняться. Нет, не ради будущей пользы, не ради исправления двоек по английскому, на что намекал Авга, а для того, чтобы снять с нашей общей семейной души, которая вдруг попала в тиски, лишний грех и чтобы снять лишнюю тяжесть с души Светланы Петровны.
Светлана Петровна жила за парком культуры, в нескольких остановках. Если соединить ее дом, школу и мой дом, то получится равносторонний треугольник. Как это ни странно, но класса до шестого учителя казались мне почти роботами, я не видел, чтобы они ели, пили, приходили в школу, уходили из школы, они вроде были такими же школьными принадлежностями, как доски, парты и столы. Помню, как я однажды удивился, застав в буфете жующего бутерброд физрука. Это было прямо открытие! Дальше — больше… Весной прошлого года кто-то из девчонок пустил слух, что нашу англичанку встречает после уроков у ворот симпатичный офицер. Мы возмутились и решили отпугнуть этого офицеришку. И вот стаей человек в пятнадцать, выждав момент, мы двинулись следом за парочкой. Мы кричали, свистели, хохотали. Мы рассчитывали, что при виде такой банды офицер бросит Светлану Петровну и удерет, но он только с улыбкой оглядывался. У деревянного двухэтажного дома за парком культуры они простились. Светлана Петровна исчезла в подъезде, офицер сделал нам ручкой и ушел. На второй день маневр повторили, но на полпути офицер выпустил локоть Светланы Петровны и стремительно направился к нам. Мы опешили, потом с криками бросились кто куда. На этом преследования оборвали, но на Спинсту разозлились за предательство и из протеста наполучали кучу двоек. Светлана Петровна испугалась, срочно вышла замуж за этого офицера, и мы потихоньку успокоились.
До парка культуры я доехал трамваем, а там пятиминутная ходьба, поворот и — вот он, тот двухэтажный деревянный дом, возле которого Светлана Петровна и офицер прощались. А может быть она после свадьбы перебралась куда-нибудь? Хоть бы перебралась! Или хоть бы дома никого не оказалось! Несмотря на всю решимость, с какой я шел, мне было неловко и стыдно. Впереди на снегу я заметил синий конфетный фантик и загадал, что если попаду на него ногой, нарочно не подсчитывая шагов, то все будет хорошо. И попал! Но тут же усмехнулся, разоблачив свое гадание, — ноги ведь сами подстроились. Произошла мгновенная реакция: глаза увидели, мозг рассчитал и дал команду ногам — попасть. И те попали. Человек — тот еще компьютер! И если уж гадать, то на чем-то от тебя не зависящем.
Вот номер дома поразил меня — 81, как у моего бочонка-талисмана. Это уже ничем не объяснялось! Как сказал один математик, если дважды два — пять, то существуют ведьмы. Мне стало как-то не по себе от этого внезапного совпадения, и я чуть не прошел мимо, чтобы немножко поразмыслить, но ноги сами свернули к подъезду.
Внутри было светло и жарко. Не зная квартиры, я постучал наугад, и выглянувшая старушка с сигаретой в зубах направила меня наверх, в седьмую квартиру.
Я поднялся и, на носках приблизившись к двери с полуоблупившейся цифрой семь на металлическом ромбике, припал к щели ухом. Внутри — ни звука, только отдаленная, может быть, от соседей, музыка. Неужели действительно никого? Это меня вдруг огорчило. Не отнимая уха, я позвонил и тут же отпрянул — послышались быстрые шажки и бодрый голос:
— Сейчас-сейчас!
Щелкнул запор, и я торопливо сказал:
— Здравствуйте! — и удивленно замер: передо мной стояла та самая девчонка в красных брюках, с которой я столкнулся сегодня в школе, покидая класс. — Здесь живут Снегиревы?
Девчонка, ожидавшая, казалось, увидеть кого-то другого, разочарованно ответила:
— Здесь.
— А мне бы Светлану Петровну.
— Ее нету.
— Тогда извините, — буркнул я, пятясь.
— Постой-постой! — вдруг проговорила она. — Твоя фамилия Эпов?
— Да.
— Зайди-ка на минутку!
— Но раз Светланы Петровны нету…
— Зато Валентина Петровна дома, а это почти одно и то же. Давай-давай заходи! — Девчонка шире распахнула дверь и нетерпеливо замахала рукой.
Поколебавшись и оглянувшись на лестницу, точно запоминая обратный путь на случай внезапного бегства, я вытер туфли о толстый, мягкий половик, вошел в тесный коридорчик, снял влажный берет и опять сказал:
— Здравствуйте!
— Не здоровайся, никого нет. А Валентина Петровна — это я, но со мной ты уже и прощался, если помнишь, и здоровался. — Хозяйка захлопнула дверь, прижалась к ней спиной и хмуро-зло уставилась на меня исподлобья. — Я сестра Светланы Петровны. А ты двоечник Эпов!.. Я люблю сестру и не желаю, чтобы каждый бездельник издевался над ней, ясно? Чтобы из-за каждого лоботряса ее отвозила «Скорая помощь» в больницу, ясно?
— В больницу? — испугался я.
— А ты бы хотел сразу на кладбище? — пронзительно прищурившись, спросила она.
Я растерялся.
— Нет, но… я не двоечник.
— Нуда! Света сказала, что влепит тебе пару за четверть и не допустит до экзаменов. Ты же Эпов?
— Эпов.
— Ну и вот.
— Но у меня только по английскому двойка!
Валя презрительно усмехнулась:
— Нашел по чему двойки хватать! Добро бы по физмату, а то по английскому!
— У меня как раз наоборот, — сказал я и умолк, спохватившись, что слишком уж размямлился.
— Ну, не знаю. — Валя вздохнула. — В конце концов твои двойки меня не интересуют. Вози ты их возами! Но нечего перед Светой брындить и фокусничать!
— Поэтому-то я и пришел, — тихо сказал я.
— Как это поэтому?
— Ну, чтобы извиниться.
Валя выпрямилась, пристальнее разглядывая меня, потом пожала плечами, нашарила на груди косу и, поводив ее кончиком по губам, медленно прошла за портьеру, в комнату. Я остался один в коридорчике. Где-то журчала вода и тихо играла допотопная церковная музыка, с органом.
— Тогда другое дело, — донесся Валин голос.
— А что со Светланой Петровной?
— Ничего. — Скрипнули пружины. Валя, видно, села на диван. — Честно говоря, ее не увозила «Скорая помощь», она сама ушла, и не из-за тебя вовсе, а по другой причине. Это я уж просто так. Чересчур вы все противные!
У меня отлегло от сердца, и это облегчение придало мне вдруг смелости, я спросил:
— А может, и насчет двоек просто так?
— Нет уж, Эпов, насчет двоек не так, будь уверен!.. Знаешь, как она злилась на тебя? Разорвала бы!
Я хотел ответить, что и я злился на нее, так что мы квиты, но промолчал, поняв, что это глупо. Из глубины зеркала, висевшего над стиральной машиной в углу коридорчика, смотрела на меня моя постная физиономия. Свет лампы бил в макушку, скользил по лбу, щекам и носу, оставляя в тени самое важное — глаза и рот. Я вздернул подбородок. Глаза умные, рот строгий. Откуда она взяла, что я двоечник? Вот есть у нас в классе Ваня Печкин, глянешь на него — и сразу ясно, что живет человек в щели между двойкой и тройкой, как таракан. А у меня такой вид, будто я даже все европейские языки знаю плюс китайские иероглифы. А тут, ишь, раскудахталась, жар-птица!
Из комнаты донеслось:
— А ты всегда извиняешься, когда делаешь глупости?
— Я их не делаю! — отпарировал я.
— О-о! — Пружины со звоном разжались, и голова Вали появилась между портьерами. — А Спинста — это разве не глупость?.. Бесстыжие! Прозвать молодую, красивую, замужнюю женщину старой девой! — Валя раздернула портьеры и, резко сведя их за спиной, шагнула вперед, представ передо мной по театральному ярко — в белой кофточке и красных брючках.
Я смутился и, надевая берет, сказал:
— Ну, я пошел.
— А извинение?
— Извини.
— Я тут ни при чем.
— Но вы одно и то же.
— Одно, да не совсем.
— Тогда передай.
— Нет уж, извиняйся сам.
— Тогда я позвоню.
— У нас нет телефона.
Музыка, все время сочившаяся из глубины комнаты, оборвалась, забили позывные радиостанции «Маяк», и диктор объявил, что московское время четырнадцать часов, то есть восемнадцать по-нашему.
— Ну вот, минут через пятнадцать-двадцать Света будет, — сказала Валя. — Можешь подождать.
Я не знал, что делать. Оставаться дольше не хотелось. О чем беседовать с этой бойкой куклой целых двадцать минут? Но возвращаться не хотелось и подавно… Вдруг у меня мелькнула мысль, и я спросил:
— У вас радио от сети или приемник?
— Приемник.
— Можно посмотреть?
— Конечно.
Сдернув берет, я прошел за ней. Комната выглядела пустой, хотя были тут диван, стол, стулья, сервант, книжные полки, телевизор, но все это плотно прижималось к стенам, точно в огромной центрифуге, даже ковер, которому бы лежать на полу, прилепился над диваном. Желтый, с коричневыми разводами приемник стоял на приземистой тумбочке в правом углу, у окна. Мощный, с полным набором диапазонов, он тихо светился широкой шкалой и блестел, как зубами, тесным рядом клавиш.
— Ничего машина, — сказал я, пробежав по УКВ. — Сверимся. На моих — шесть ноль-шесть.
Валя недоумевающе скосила голову, глянула на свои часики, встряхнула их, послушала и сказала:
— Стоят.
— Заведи. В семь ноль-ноль я выйду в эфир — извиняться, — сказал я и ткнул пальцем в шкалу. — Ловите меня вот тут, на этой волне.
— Как в эфир? — не поняла Валя.
— Ну как? Раз! — и вышел. Только не прозевайте, это минутное дело. Позывные — Мебиус.
— Мебиус?
— Да, Ме-би-ус. Запомнишь?
— Запо-омню, — протянула Валя, широко открыв свои карие, густо опушенные черными ресницами глаза.
— Ну, вот и все.
— А как это будет?
— Услышите. Значит, в семь ноль-ноль, — напомнил я, расправляя скомканный берет.
Валя опять глянула на свои часики и, неожиданно подавая мне руку, будто для поцелуя, сказала:
— Поставь, пожалуйста, по своим.
Я было нахмурился, мол, нечего, девочка, чудить, но, поймав ее серьезно-любопытный взгляд, чем-то напомнивший взгляд Авги Шулина, вдруг взял ее холодные пальцы и, сунув берет под мышку, второй рукой сосредоточенно подкрутил маленькое, тугое колесико и подвел крохотные стрелки.
— Пожалуйста.
— Спасибо.
— Ну…
— Ой, я сигнал забыла!
— Позывные. Ме-би-ус!
— Ах да, Ме-би-ус. Это рыба или созвездие?
— Это ученый.
— Ого, имечко — Мебиус!.. А ведь тебя, кажется, Аскольдом звать, да? — спросила Валя.
— Да.
— Значит, английский — это Аскольдова могила?
— Почти. — Я чуть улыбнулся этой оперной трансформации. — Но не столько моя лично, сколько братская. Кроме меня, там еще с десяток наших барахтается.
Валя усмехнулась и вышла следом за мной в коридор. У двери я обернулся. Девчонка стояла, припав к наличнику плечом, и водила кончиком косы по губам, полуоткрыто замершим в иронически-дразнящей улыбке.
— Гуд бай! — сказал я небрежно.
— Бай-бай! — тихо ответила она.
Я вышел и стал медленно спускаться, но на площадке между этажами сообразил, что могу сейчас встретить Светлану Петровну и тогда не нужно будет выходить в эфир! Двумя прыжками одолев пролет и наделав в старом доме страшный грохот, я выскочил на улицу. Нет, я должен выйти в эфир! Должен, хотя бы для того, чтобы стереть эту ироническую улыбку.
Глава четвертая
Шел час «пик». Народ валом валил с работы. Я катился в переполненном трамвае, и в моей голове была такая же теснота от мыслей. Вдруг в середине вагона я увидел черный отцовский берет и обмер. Что, уже кончено? Уже уволили и отобрали машину? И он едет домой, как и все, в шесть? Я лихорадочно протолкался вперед и схватил было отца за локоть, но тут он обернулся на возбужденные мной сердитые окрики, и я расслабленно застыл — это был чужой, безбородый дядька. Уф! Уж лучше неизвестность, чем вот так… А хотя почему бы отцу не возвращаться домой, как и всем, около шести? Почему он приходит в восемь, девять, десять? Почему главный инженер должен работать больше и за это же потом расплачиваться? Парадокс! Горе от ума! Кто везет, того и погоняют! На маму вон тоже сколько писано жалоб! Наподцепляют всякой заразы, а врач отдувайся лечи! Да еще кричат: шарлатаны! Так и меня можно к стенке припереть: ага, мол, двоечник, мучитель беременных женщин, как выразилась эта краснобрючная Валентина Петровна! Ох, мудрецы!..
Я вышел из трамвая.
Дом наш стоял на небольшом склоне. Цокольно-подвальные блоки с одной стороны были углублены в землю, а с другой так оголялись, будто дом приспустил трусы. Я решил поискать трещины в этих цоколях — для успокоения, что вот, мол, трещины есть, а дом стоит и ухом не ведет, чего же к отцу привязываться. Я покрутился возле подвала, но хоть бы одна трещинка, черт бы их побрал! А может, отец их и делал, эти блоки? За двадцать лет он отлил миллион таких пилюль! Десятки заводов, школ, детсадов и даже коровников построено из его железобетона, так неужели ему нельзя простить одну трещину?
Я поднялся домой.
Справа и слева из-за стен доносилось обычное послеработное оживление, а у нас была нелюдимая тишина, точно всех уже засадили в тюрьму. Автоматически переключив телефон на «in», я прошел в свою комнату и как-то наново оглядел ее. Я ее ужасно любил, свою комнату, и, пожалуй, домоседом стал лишь из-за нее. Казалось бы, ничего особенного: диван, письменный стол, кресло, стул, журнальный столик, книжные полки, а на стенах — политическая карта мира да небольшой портрет очень старого и седого Эйнштейна — вот и все. Разве что робот Мебиус и два динамика под потолком в углах намекали на что-то хитрое, а на самом деле хитрости тут были сплошь: в спинке дивана таился репродуктор, в письменном столе скрывались два магнитофона, связанные с Мебиусом, а старенькое кресло, привинченное к полу, вообще было пультом управления всей звуковой жизнью нашей квартиры, включая ванну-туалет. Даже портрет Эйнштейна был с фокусом — перевернешь его, а там Пушкин. Лишь стул да журнальный столик не поддавались никаким модификациям, потому что их таскали из комнаты в комнату.
Физикой меня увлек папа.
На подоконнике под стеклянным колпаком, как музейный экспонат, стоял маленький непутевый электромоторчик, который я сделал еще во втором классе из проволоки и жести от консервной банки, а слева от стола возвышался оберегаемый тряпкой от пыли телевизор, который я собирал из деталей сейчас. Вон я куда махнул за шесть лет — все отец! Даже портрет Эйнштейна повесил он! Я спохватился, что не просто думаю об отце, а как бы вспоминаю, точно его уже нет с нами. Чур, чур! Все будет хорошо и с ним, и с мамой, и со мной! Уж я-то постараюсь не подкачать! И из школы уйду победителем, а не побежденным! Только бы исправить эту дурацкую двойку по английскому…
Я вспомнил Светлану Петровну, неудачный визит к ней, девчонку, которой пообещал выйти в эфир, и глянул на часы. Было без пяти семь. Может, не стоит выходить в эфир? Девчонка и без этого, понятно, все передаст сестре. Хотя тут уже дело чести! Да и та ироническая улыбочка взывала к отмщению.
Я живо подсел к приемнику, в просторное нутро которого был вмонтирован самодельный передатчик, и азартно включил питание. Разрешения на передатчик у меня, конечно, не было, его и не выдают до шестнадцати лет, но в эфир я тайком выходил, правда, редко, чтобы не засекли, потому что дело это подсудное. В семь ноль-ноль я подсоединил микрофон и начал:
— Я Мебиус!.. Я Мебиус!.. Я Мебиус! — Выдержал паузу: — Я Мебиус! Я Мебиус!.. Светлана Петровна, извините!.. Светлана Петровна, извините!.. Светлана Петровна, извините!.. Я Мебиус!.. До свидания!.. Я Мебиус! — И выключил передатчик.
Прошло сорок пять секунд. Маловато. Может, повторить?.. Не надо. Если ловили, то услышали, а если не ловили, то хоть заповторяйся.
— Правильно, Меб? — спросил я у робота.
Мебиус улыбался, изогнув свой большущий рот полумесяцем, и преданно пялил на меня двенадцативольтные навыкате глаза. Мой робот был всего лишь фанерным ящиком с посылку величиной, которому я придал вид головы, натыкал в макушку проволочных кудрей да приделал руку. Он был почти пуст — все важные внутренности его помещались в столе. При телефонном звонке включались электромагнит и магнитофон — Мебиус приподнимал трубку и отвечал. Через двадцать секунд тепловое реле размыкало цепь, и робот замирал. На подоконнике лежала его вторая рука, которой я пока не нашел подходящей работы.
Звякнул телефон. Опередив Мебиуса и нажав ему нос-кнопку, чтобы он молчал, я ответил:
— Да.
— Квартира Эповых?
— Да-да.
— Аскольда можно?
— Слушаю.
— Аскольд? Это Валентина Петровна!.. Ну, Валя Снегирева, у которой ты только что был!..
— А-а! — почти злорадно протянул я.
— Ой, Аскольд, мы тебя поймали! Я думала, ты нарочно, а потом дай, думаю, включу. И вдруг: я Мебиус, я Мебиус! Да так ясно, что я даже на улицу выглядывала — не стоишь ли ты под окном с каким-нибудь своим аппаратом!
— Хм! А Светлана Петровна?
— Тоже слышала, улыбалась и дала твой телефон. Еще бы не улыбаться! Я бы даже нарочно согласилась, чтобы меня обидели, а потом чтобы вот так извинялись — на всю Вселенную! Или бы объяснились в любви! — тише добавила она.
— В чем?
— В любви. Что, слово незнакомое?
— Да так себе.
— Будто бы!
Тут уж иронически усмехнулся я, мол, знай наших, а то — бездельник, лоботряс! Бездельник не вознесется до жажды космической любви!.. Почувствовав, что теперь мы на равных, я уже совсем по-дружески спросил:
— А ты откуда звонишь?
— От соседей. — И видно, поняв случившуюся во мне перемену, Валя сказала: — Аскольд, раз уж извиняться, то и ты извини меня, что я на тебя накричала. Я немного заполошная, но ведь ты заработал, признайся?
— Наверно.
— И дай слово, что Спинсты больше не будет!
— Даю. Но только за себя.
— Ничего, я и до других доберусь! Слушай, а что, английский и вправду тебе не дается?
— Черт его знает!
— Не годится. Надо что-то делать! — озабоченно проговорила она и вдруг добавила длинную английскую фразу, да так непонятно-ловко и чисто, что я растерянно промычал. — Все, Аскольд! Тут включили телевизор. Я мешаю, — прошептала Валя. — Гуд бай! В третий раз! Ну, все!
И гудочки.
Я аккуратно опустил трубку. Итак, одно дело о’кэй! Осталось утрястись отцовским неприятностям и — хэппи энд! Кое что по-английски и мы знаем! Умиротворенно потянувшись, я встал и побрел по всем комнатам, оживляя их своим присутствием и оживляясь сам: в кухне поставил греться чай, в кабинете отца открыл форточку, а в гостиной подтянул гирьку ходиков, толкнул маятник и поставил большие резные стрелки на половину восьмого. И вспомнил вдруг, что подвожу уже вторые стрелки. Те были маленькие, на маленьких часах, на маленькой, холодной руке… А ведь правда, что мы с ней за сегодня трижды прощались: в школе, у них дома и вот сейчас. Странный день и такой длинный, что я забыл, с чего он начался. Во всяком случае, утром я еще не знал о существовании какой-то Вали Снегиревой…
Садиться за сборку телевизора было уже поздновато: и ужин вот-вот и уроки. Разве что обновить запись: «Квартира Эповых, минуточку», — а то она хрипит, как будто отвечает забулдыга, а не порядочный робот.
Я распахнул тумбочку стола. Здесь находился голосовой центр Мебиуса — два неказистых транзисторных магнитофончика. Оба были без крышек, без ручек, с треснувшими корпусами, и оба попали ко мне на запчасти. Первый случайно разбил в турпоходе мой одноклассник, а второй сознательно шмякнул об пол пьяный глава семейства с третьего этажа. Но я умудрился восстановить их, однако, кроме как для этой простой службы, они никуда не годились. На магах не было ни подающих, ни приемных кассет, а склеенная кольцом пленка натягивалась пружинными роликами. Само же кольцо было свернуто листом Мебиуса, то есть концы стыковались не прямо, как у обруча, а с поворотом на 180 градусов, так что магнитная сторона переходила в немагнитную. На такую пленку записывалось вдвое больше, чем на простое кольцо. Это я сам придумал, когда вычитал про странный лист математика Мебиуса. Не ахти какая выдумка, но…
Телефон дзинькнул.
— Эп?
— А-а, Забор! Так и знал — проверишь!
— А как же! Успешно сходил?
— Вполне.
— Робел?
— Немного.
— Здорово тебя Спинста отчитала?
— А я ее не видел.
— Привет! А перед кем же ты извинялся?
— Посредника нашел.
— Нет, Эп, так не годится!
— Посредник надежный — сестра, — успокоил я комсорга. — А кроме того, я сдублировал — вышел в эфир. И только что получил ответ: сигнал принят.
— Ох, Эп, усложняешь ты все!
— Жизнь сложна.
— Да-а… Ну, ладно!
Болел Забор за своих комсомольцев, хотя нас было всего одиннадцать в классе. Это приятно, когда кто-то за тебя болеет, — устойчивее себя чувствуешь.
У Ведьмановых, под нами, забрякало пианино. Оно брякает с тех пор, как я себя помню, — больше десяти лет. Уже третье поколение сменилось у клавиш, а пианисток Ведьмановых все нет и нет, хотя фамилия для афиши броская. Тетя Вера — машинистка у моего отца в управлении, ее дочь Нэлка, позавчерашняя десятиклассница, копирует там же чертежи, а кто вырастет из двухлетней Анютки — бог весть, но брякала она пока с восторгом. Обычно я зверел при этих звуках и Анюткину какофонию подавлял физически, включая свои динамики на всю катушку, а когда раздавалась расхлябанная «Шотландская застольная» Бетховена — за пианино садилась Нэлка, — я подавлял ее морально, запуская «Застольную» в настоящем исполнении. Сама тетя Вера уже не трогала, кажется, инструмент — наигралась… Но тут я вдруг беззлобно усмехнулся, поняв простую вещь, что ведь люди ищут себя и тычутся туда-сюда, потому что ни у кого на лбу не написано, кем он рожден… Я вроде попал в свой диапазон, а ну через годик-два окажется, что все эти мои радиоштучки — то же бряканье и что мне, несмотря на «графские» данные, надо просто ехать в Норильск, брать в руки лом и долбить вечную мерзлоту! Сам лом меня не страшил, страшила монотонность и заземленность этой работы, а мне нужна антеннища, нужно космическое ощущение жизни, как во Вале Снегиревой — космическое объяснение в любви!
Ни с того ни с сего я вдруг почувствовал, что между мной и Валей осталась какая-то недоговоренность. Но какая?.. Откуда она знает английский — коню понятно: сестра поднатаскала, как меня отец в технике. Но что же цепляет душу?.. А-а, она сказала «надо что-то делать» — вот! Это не ко мне одному призыв! И я напряженно уставился на Мебиуса.
Глава пятая
В школу мы с Авгой ходили вместе. Обычно или я замечал, как он шагает из своего Гусиного Лога, и махал ему с балкона, или он свистел с тротуара, а тут вдруг молча вырос на пороге за полчаса до срока. Наверняка ведь явился будить меня, опасаясь, как бы я не бросил-таки школу прямо с сегодняшнего дня, словно других будильников, и посерьезнее, не нашлось бы! Ну, Шулин! Ну, святая простота!
— Встал? — довольный, спросил он.
— А как же!
— Это хорошо!
Папы уже не было. Я сквозь сон слышал, как ему позвонили, и он срочно уехал — опять, видно, эта комиссия.
Из кухни выглянула мама.
— А-а, Сентябрь-Октябрь!
— Здрасьте, теть Рим!
— Здравствуй! Живо завтракать, оба!
Она быстро изжарила нам глазунью из четырех яиц, разложила по тарелочкам, налила кофе и занялась еще блинами. Есть я не хотел совершенно. Один вид этих яиц вызывал во мне тошноту, и я живо отделил Авге половину, сделав знак скорее слопать. Тут Шулин был крупным специалистом, миг — и яйцо исчезло, без пересадки улетело прямиком в желудок.
Мама кинула на блин.
— Ешьте! Ноябрь, ты чего миндальничаешь? Смотри, у Аскольда уже пусто, а у тебя?
— Да что-то настроение! — вяло сказал Авга.
— Что?
— Да муторное.
— Вот и ешь, развеется!
— Нет, тетя Рим, тут другое, — возразил Шулин, отправляя в рот второе яйцо и принимаясь сдержанно жевать его. — Со школой вот не знаю, как быть.
— То есть?
— Да похоже, надо кончать восемь и — фр-р!
— Как фр-р?! — удивилась мама. — Ты же десять хотел.
— Хотел, да осечка выходит.
Я сбоку воззрился на Шулина — что плетет этот рассчитавший свою жизнь человек?
— Дома нелады? — спросила мама.
— Да вроде лады.
— С дядькой конфликт?
— Терпимо.
— Что, тяжело стало учиться?
— Да ничего, тяну.
— Может, болен? — все тревожнее допытывалась мама.
— Исключено.
— Так в чем же дело? — вконец растерялась мама.
— Дурью мается, — заметил я.
— Почему? Нет! — спокойно сказал Шулин. — Грызет меня что-то внутри. Вроде как на работу манит.
— А как же геолог с охотоведом?
— Вырву из сердца!
— Ну, Март-Апрель, это действительно дурь! Еще наработаешься! Работать в ваши годы — это крайность, когда уж голова совсем во! — И мама постучала пальцем по столу. — Работа сейчас не тяп-ляп! А восемь классов — это же анемия! Малокровно и хило! Восьмилетка — всего лишь свечной огарок в прожекторе знаний!
Я наконец сообразил, что весь этот разговор Шулин спровоцировал ради меня, и решил молча следить, как он из него выпутается, но выпад против восьми классов задел меня, и я буркнул:
— Ну уж, огарок!
— Именно огарок! Вам его суют, чтобы вы дальше не спотыкались, а вы!.. нет-нет, Август, давай не ерунди, а закатывай выше рукава да берись крепче за ум! Жаль вот, что мать с отцом твои далековато, а то бы они тебе проветрили мозги!
Авга вдруг улыбнулся и сказал:
— Да, на это уж батя мастак, — мозги проветривать! Как услышим — с песней идет, так все к Сучковым, через огород! И сидим до утра, кукуем!
— Вот! А отчего это? От дикости и невежества!
— Коню понятно.
— Коню понятно, а ты школу бросать! Таким же извергом станешь!.. Не мотай головой, не заметишь, как скатишься! Одна рюмка, вторая и — пошел!
— Нет, тетя Рим, — уверенно заявил Шулин. — Может, курить буду, а уж пить — ни за какие деньги! Батя выпил и за меня и за моих детей, а сейчас и за внуков дует!
— Ужас! — только и сказала мама.
— Но я подумаю, тетя Рим, — пообещал Авга. — Да и Аскольд вон говорит, что я дурак.
— И правильно говорит!
— Чую. Ну, спасибо за все!
Провожая нас, мама шепнула мне, чтобы я еще потолковал с Шулиным, да покрепче, по-мальчишески. Я кисло кивнул, а выйдя из подъезда, огрел Авгу папкой по затылку. Он рассмеялся и заметил, что это всего лишь маленькая разведка боем и что теперь можно представить, какие ракеты ударят, если я поднимусь в атаку. Все это, однако, я предвидел и предвижу, и этим меня не устрашить; меня настораживал и волновал уже туман, в который я вдруг погружусь за ясным школьным порогом, так что кпд шулинской авантюры близок к нулю, а вот сам он не так, чертяка, прост.
День начинался неправдоподобно голубым и солнечным, как будто природа просила прощения у людей за вчерашнюю круговерть. Везде еще лежал снег, и все было стылым, но уже на частых сосульках шиферных крыш, как на ресницах, скапливались слезы, а с верхушек тополей, потренькивая по веткам, срывались подтаявшие льдинки.
Приглядываясь и прислушиваясь к весеннему утру, я, однако, больше внимал себе — во мне тоже шла какая-то весенняя реакция. Из мутной смеси вчерашних событий за ночь в сердце моем вдруг выпал пуховый осадок, и, еще не проснувшись, я радостно понял, что это связано с Валей, с тем, что живет на свете такая красивая девчонка сорвиголова, что она знает меня и что у нас с ней есть даже что-то недосказанное. Это меня особенно грело, потому что здесь теплилась возможность новой встречи, чтобы все досказать, а уж когда и где встреча — это детали. Тут еще не было никакой тайны, и, я, казалось бы, мог прямо рассказать об этом Шулину, но что-то удерживало меня от откровенности. А чувства просились наружу, не терпелось хоть полунамеком выдать их. И вот, заметив, каким пристальным взглядом Авга проводил через дорогу толстушку с портфелем, я спросил:
— Авга, у тебя есть девчонка?
— Здесь нету, а в деревне была, — охотно ответил он, нисколько не удивившись.
— Ты же там в шестом только учился, какие тогда могли быть девчонки? — усомнился я.
— А что, есть правила, с какого класса заводить девчонок? — недовольно спросил Шулин.
— Нет, конечно, но… как-то рано.
— Это вы тут размазываете: рано, нельзя, опасно! А у нас просто! — И Авга пропел мне на ухо: — Ты почто меня ударил балалайкой по лицу? Я потом тебя ударил — познакомиться хочу!.. Любка ее звали, Игошина. Набесимся, бывало, допоздна, а потом я ее провожал, чтоб никто не напугал. Она заикалась. А этим вахлакам только и давай таких, которых бы испугать! Я их гонял, как поросят. Ничего была девка. Хотя дура, конечно, — что-то вспомнив, поправился Авга. — Как-то идем летом, темно уже, звезды, новолуние. Смотри, говорит, спутник летит. Я башку задрал, а она меня чмок в щеку, как телка!
— В шестом-то классе?
— Еще в пятом!
— Ого!
— Так я к ней с неделю не подходил!
Я вдруг увидел Валины губы, увидел, как она обмахивает их кончиком косы, и у меня разгорелись уши.
— А дальше как? — спросил я.
— Как… Отвадил, коню понятно!
— Хм!.. Ну, а тут что, не нравятся городские?
— Наоборот! — воскликнул Шулин. — Девчонки тут — будь-будь! Вон видишь, какая цаца пошла?
— Вижу.
— Не идет, а пишет!.. Но я и боюсь!
— Да ну тебя!
— Правда. Они и сами от меня шарахаются. Понимают.
— Что понимают?
— Что я им неровня.
— Балда ты, граф, осиновая с медной нашлепкой!
— Ладно, замнем для ясности.
Только сейчас я сообразил, что, открыв Шулина и подружившись с ним, я забыл про других, для которых он остался, наверное, тем же деревенским тупицей, каким был и для меня. Это непростительно!.. А вдруг и я не открыт и считаюсь простофилей? А почему «вдруг» — точно! Может быть, вообще все мы кажемся марсианами, пока не откроем друг в друге людей?.. Я глянул на хмурый Авгин профиль. Лоб его, нос, губы и подбородок образовывали почти одинаковые выступы, похожие на притупленные зубья огромной циркульной пилы. Шулин был действительно сколочен грубовато и, пожалуй, не по вкусу нашим девчонкам. Ну, и плевать на них! Я им тоже не по вкусу! Не вешаться же теперь! Дело-то глубже легкомысленных девчачьих вкусов! А если глубже, то Авга во сто раз лучше того же Мишки Зефа, Аполлона Безведерного. Я так и хотел сказать Шулину, но понял, что это выйдет несолидно, к тому же Зеф, может, и ничего парень, только я его еще не открыл.
Авга толкнул меня бедром и лукаво заметил:
— А ведь и у тебя нету девчонки, нету ведь? А почему?
Я пожал плечами и легко ответил:
— Не знаю.
— Ну вот, — обрадовался Авга. — Значит, мы два сапога пара! Только я опять не понимаю. Как это у тебя, такого городского гуся, нет девчонки?.. Да будь я на твоем месте…
Я рассмеялся.
Мы свернули в переулок, где в глубине обширного двора стояла наша кирпичная, неоштукатуренная школа. Славная старушка! Конечно, мой уход решен, но сделать это надо добро и весело, а не как вчера — с горечью и обидой.
Толпы нашего брата гудели в вестибюле, кишели в раздевалке. Я поздоровался с тетей Полей, готовый уверить ее, что все в порядке, если она поинтересуется вчерашним, но тетя Поля, видно, уже трижды забыла вчерашний день.
Всюду носилась малышня. На третьем этаже, у восьмиклассников, суеты было меньше, но шума столько же. Девчонки жались к батареям, пацаны вертелись перед ними. Зеф, пританцовывая, что-то рассказывал. Увидев меня, он крикнул:
— Эп, сюда!.. Внимание! Труднейший матч СССР — Англия выиграл нокаутом советский школьник Аскольд Эпов! — И, как боксеру на ринге, поднял мне руку.
Кто захлопал, кто захихикал, посыпались реплики:
— Бесстыжий!
— Качать Эпа!
— Гы-гы-гы!
Только тут я понял хамский смысл его репортажа и выдернул руку. Все, что медленно скапливалось в душе моей против Зефа, поднялось вдруг и замутило голову. Я как держал папку с учебниками в левой руке, так и врезал ею Мишке. Он захлопнул лицо руками, девчонки охнули, а я оглушенно двинулся в класс. Шулин в дверях одобрительно пожал мне локоть.
Дали звонок.
Народ стал рассаживаться, шушукаясь и косясь на меня. Зефа не было. Уже вошла Нина Юрьевна, математичка и наша классная, уже проверили домашнее задание… Явился Зеф посреди урока, с влажным и бледным лицом, припухшим носом, подняв воротничок пиджака и пальцами сцепив борта у горла, как будто замерз.
— Ты где был? — удивилась Нина Юрьевна.
— Кровь из носа шла, — ответил Зеф.
— Какая кровь?
— Обычная. — Мишка на миг распахнул пиджак и на белой рубашке дико полыхнуло красное пятно.
— Садись! — испуганно разрешила математичка.
Мне стало не по себе и от вида окровавленной рубахи и от того, что это сделал я. К концу урока мне передали записку от Зефа. В ней два слова: «Береги сопатку» — и кровавый оттиск — к рубашке, наверное, прикладывал. Значит, после занятий драка, там, в тупике, за левым крылом школы, где дерутся обычно и где всегда кто-нибудь стоит «на атанде». Я не представлял себя дерущимся, потому что никогда еще не дрался, а только разнимал, но, видно, так уж устроена жизнь, что рано или поздно драться надо. Правда и Зеф не слыл драчуном, но был нагл и безбожно хулиганист. Последний номер Зеф отмочил перед маем. Класс освещали четыре матовых плафона на трубчатых шлангах. Мишка связал их ниткой и в тот момент, когда вошла наша старенькая чертежница Евгения Ивановна, потянул нитку. Плафоны враз качнулись. Евгения Ивановна охнула и качнулась тоже — ей показалось, что у нее закружилась голова и она падает. Жаловаться старушка не стала, но пол-урока поварчивала, что, мол, спасибо ее крепким нервам, а то был бы нам смех.
— Ну-ка, ну-ка, — сказал Авга, беря у меня записку. — Ага… — И, что-то написав на обороте, отправил бумажку назад.
— Не надо вмешиваться, — вяло сказал я.
— Надо! — уверил он.
На перемене я не вышел из класса. Следующим был английский, и мне хотелось посмотреть урок еще раз. Если Светлана Петровна и не вызовет, то буду хоть руку тянуть, пусть видит, что учил и что в эфире хулиганил не зря.
Но драка сбивала с толку. А тут еще подсел Забор. Его темные глаза с темными ресницами были так сильно втянуты в глазницы, что казалось, будто в голове вакуум. Эта заглубленность делала взгляд Васьки пронзительно-цепким и суровым. Такие глаза пошли бы инквизитору или гипнотизеру, но шли они и нашему комсоргу, броско выделяя его из нас.
— Значит, со Спинстой улажено, — задумчиво, как бы ставя мысленную галочку, сказал Забор.
— А не пора ли сменить прозвище? — сердито спросил я. — Это же гадко — так называть молодую женщину!
— А что, есть резон! — живо согласился комсорг. — Есть, есть! Это ты прав! Надо будет принять неофициальное решение, а то действительно смех. Это мы провернем. Слушай, Эп! — тише заговорил он, склонившись ко мне. — В субботу у Садовкиной день рождения. Вот он, списочек приглашенных. — Васька вынул из кармана бумажку. — В списочке и ты, конечно. Надо маг с пленками приготовить, ну и, естественно, полтинник — на подарок!
— Шулин приглашен?
— Нет.
— Тогда и я пас.
— Что, Эп, за хохма? И вообще, что сегодня с тобой? Зефу по морде съездил! На меня кидаешься! Это тебе не так, то не этак! — возмутился Васька. — Именины не у меня, а у Садовкиной, и при чем тут Шулин?
— А при том, что вы его за человека не считаете! — зло выпалил я, хлопнув учебником.
— Кто не считает?
— Вы все!
— Спятил.
— Спятил?.. А у Мирошникова был день рождения, пригласил он Авгу?.. А у Ленки Гриц?.. Да и у тебя в феврале собирались, ты звал его? — припомнил я.
— Чш-ш! — с оглядкой зашипел комсорг. — Это не потому, что за человека не считаем, а просто автоматически: кто раньше был, тот и потом. Всегда так!
— Автоматически и есть бесчеловечно!
— Ну, ладно. Значит, Шулин тебе нужен?
— Мне все нужны! И я хочу, чтобы и я нужен был всем! — Неотвратимость предстоящей драки, в которой меня могут убить или покалечить, что, говорят, случается сплошь и рядом, настроили меня на какую-то болезненную откровенность, точно я оставлял устное завещание. — Класс один, а живем кучками, как сектанты!.. И не знаем, у кого что за душой!.. Обидно это, Забор!
— М-да… — задумчиво буркнул Васька, вдвое, втрое, вчетверо складывая списочек и ногтями заостряя сгибы. — М-да… Давай-ка пока с Шулиным решим, о’кэй!
Дали звонок.
Зеф вошел лениво, задерживая остальных. Наши взгляды встретились, и я не уловил ожидаемой ненависти, а лишь какое-то надменное любопытство; хотя Зеф был артистом — он мог волка и ягненка играть одновременно. Но странно, что и я уже не злился на него. Тот удар разрядил меня, как искра лейденскую банку, и не будь записки, я бы даже извинился перед Мишкой, но теперь всякое извинение превращалось в трусливый пас.
Поторапливая замешкавшихся, в класс протиснулась тучная и медлительно-строгая Анна Михайловна, завуч, с неизменным двухцветным карандашом в руке.
— Ребята, — сказала она, перекрывая шум, — Светланы Петровны не будет. С сегодняшнего дня она вынуждена уйти в отпуск. — Какая-то дура сзади хихикнула, и Анна Михайловна постучала карандашом по столу. — Девочки, ничего тут смешного нет! Вы будущие матери и должны понимать. — Тут фыркнул кто-то из пацанов. — И для вас тут нет ничего смешного, будущие отцы!.. Нового учителя мы нашли, но предупредить не успели, поэтому в расписании небольшая перестановка. Сейчас будет черчение вместо английского, а завтра наоборот, будет английский вместо черчения. Ясно? Чш-ш, знаю, что альбомов нет — на листочках! Пожалуйста, Евгения Ивановна! — сказала завуч, увидев входящую чертежницу.
Сухонькая Евгения Ивановна, не отпуская дверной ручки, поглядела на потолок: у нее за один сеанс выработался условный рефлекс. Убедившись, что плафоны не качаются, она, с большими деревянными треугольниками, транспортиром и линейкой радостно кивая нам, живо просеменила к столу.
Глава шестая
Из школы Зеф выскочил раньше меня, чтобы, наверное, взять инициативу в свои руки, поэтому выходил я на крыльцо с полной уверенностью, что он или скажет сейчас «пойдем» и кивнет влево, или трахнет чем-нибудь по голове без всяких кивков. На драку я настроился. Я рассчитал, что для начала защищусь папкой, потом ударю ногой, благо ноги у меня длинные, а потом как повезет. Но драться буду ожесточенно!..
На крыльце Зефа не оказалось. Мы с Авгой, который следовал за мной, как секундант, сбегали за левое крыло школы — не было мишки и за воротами.
— Смылся, кажись, — предположил Шулин.
— Да?
— Кажись струхнул.
— Ты думаешь?
Мне казалось, что такое серьезно-опасное дело не может кончиться ничем. Скорее всего Зеф придумал особую тактику, расхолаживающую, чтобы налететь, когда мы успокоимся, поэтому я был напряжен и сосредоточен, да и Авга тоже. Лишь после переулка, на людной улице, Шулин усмехнулся:
— Ну, точно, трухнул!
— Да? — опять спросил я, но уже с облегчением — на людях обычно не дерутся, а если и сцепимся, то народ не даст убить или покалечить. — А чего бы ему трухать?
— Не знаю. Может моей приписки. Я ведь ему написал, чтобы он напарника подыскивал: будем, мол, двое надвое драться. А он подходит на перемене и говорит: может, вообще капелла на капеллу сойдемся, так давай, говорит, зови свою Черемшанку, а я своих позову. Я говорю: давай, только я без Черемшанки обойдусь, у меня ближе есть, в Гусином Логу. Вот он, видно, и трухнул, коридорный храбрец!
— А у тебя что, правда там кто есть? — спросил я испуганно-восхищенно, потому что о пацанах из Гусиного Лога ходили жуткие слухи: будто они и раздевают, и насилуют, и в карты людей проигрывают, то есть режут.
— По-моему, там никого и нет. Мифы Древней Греции. Уж за два-то года я бы разнюхал!
— Припугнул, значит, Зефа?
— Да так вышло.
— Забавно… А как ты-то решил драться? — удивился я внезапной Авгиной задиристости.
— А что? Думаешь, тихий, так и драться не умею! Я, брат, залимоню — эхо пойдет. Меня батя с топором такой самбе научил, что ого-го!.. Я не потому тихий. Просто я самого города побаиваюсь. Я ведь тут вроде гостя, а в гостях знаешь как — не шибко-то… Вон бог, скажут, а вон порог, и дуй в свою берлогу. А мне пока нельзя обратно, мне сперва надо — во! — Шулин сжал кулак и вздрогнул всем своим напрягшимся телом. — А сегодня, не знаю с чего, вдруг почувствовал себя маленько дома. Да-да! Ну, и решил… Да и зефовская морда больно уж постылая, ломается, как этот!..
Я все понял и почувствовал к Авге странную нежность, какую, наверно, можно испытать к девчонке, и в порыве чуть не сказал, что в субботу мы с ним идем к Садовкиной на день рождения, а это значит, что он уже вполне свой человек среди нас, но осекся. Во-первых, Авга еще не приглашен, а во-вторых, пусть он не догадывается о моем вмешательстве в это дело. И я лишь одобрительно потрепал Шулина за плечо.
А вокруг все сверкало, была теплынь, текли ручьи. Я радостно сдернул берет и распахнул куртку, как бы говоря всем: берите меня, я ваш!.. Перед сквером ремонтировали фонтан, по лужам на трехколесиках раскатывали малыши, а на скамейках осторожно, на газетках, посиживали улыбающиеся мамы и бабушки. Из школы и в школу шагали яркие, разноцветные девчонки, размахивая кто портфелями, кто сумками с надписью «Аэрофлот», а кто нес папки на «молниях», прижимая их к груди, как новорожденных. Я представил, как Валя спешит сейчас домой, вот так же болтая с подружками, и меня вдруг прямо кольнуло, я почувствовал, что Валя вот-вот позвонит мне, явится домой и тут же позвонит. Я подхлестнул Авгу, и мы побежали.
Мама закрывала квартиру, когда я по-собачьи стелясь над ступеньками, взлетел на пятый этаж.
— Мам, никто сейчас не звонил?
— Папа.
— Нет, мне.
— Тебе и звонил. Во-первых, после обеда придет дядя Гриша, отдашь ему чертежи, они у папы на столе. Во-вторых, обед готов, а в-третьих, ни шагу из дома, пока не выполнишь во-первых. Все понятно?
— Да. Как с папой?
— Следствие возобновили.
— Опять следствие?
— Радуйся, чудак. В нашем положении и это выигрыш. Почти из-за решетки выскочил. Ну, я пошла.
Я сначала проверил, работает ли телефон, а потом сел напротив него на пол, прямо тут же, в коридоре, привалился спиной к стене и стал ждать Валиного звонка, повернув голову к ходикам в гостиной. Я ничего не хотел делать, только ждать. Маятник качался чинно и деловито. Я подсчитал, что тридцать качаний дают минуту, и продолжил счет… На одна тысяча двести девяносто пятом колебании телефон зазвонил. Я рванулся, но онемевшие ноги подкосились, и я едва удержался за косяк.
— Квартира Эповых, минуточку! — хладнокровно отвечал Меб.
— Да-да! — прохрипел я, с трудом дотянувшись до трубки.
— Аскольд?
— Он самый.
— Это я, Валя!
— А-а, привет!
— Привет! Что там с тобой?
— Да так.
— А кто это басил, отец?
— Нет, мой робот Мебиус.
— Как робот?
— Ну так. Маленький, самодельный, на столе стоит и первым трубку хватает.
— Правда? Ой, как интересно!
— А что со Светланой Петровной? — спросил я, более или менее почувствовав под собой ноги.
— Все нормально, но в школу она больше не придет, пока не родит. Вместо нее уроки у вас будет вести Амалия Викторовна, наша англичанка из седьмой школы. И знаешь, что я тебе звоню? Твои пары можно теперь легко исправить!.. Но мне неловко объяснять все по телефону. Надо встретиться.
— Давай! — выпалил я. — А когда?
— Когда хочешь.
Брякнул дверной звонок.
— Минутку, Валя!
На ватных ногах, пронизанных колючими мурашками, я неуверенно подковылял к двери и открыл ее. Это был дядя Гриша, низенький, как карлик, но цилиндрически округлый.
— Здорово, Аскольд! — сказал он, улыбаясь. — Как оно? Где-то тут твоего бати чертежи. Ты в курсе?
— В курсе, дядя Гриша! — Я принес два большущих альбома. — Вот… Вы сейчас куда?
— На комбинат.
— Не прихватите меня?
— Валяй. Я внизу обожду.
Дядя Гриша вышел, а я припал к трубке.
— Слушай, Валя, сколько на твоих?
— М-м, два семнадцать.
— Выходи ровно в два тридцать! — приказал я. — Все поймешь! Живо одевайся! Пока!
Когда вырулили на проспект, я спросил:
— Дядя Гриша, можно маленький крюк?
— Куда?
— Влево.
Машина с прискоком перемахнула трамвайную линию, пронеслась мимо парка и тормознула против Валиного дома. Я только хотел попросить дядю Гришу подождать минуту-две, как Валя появилась на крыльце, в красных сапожках, красной шапочке и в сиреневом плаще. С птичьей быстротой глянув туда-сюда, она ловко перебежала по кирпичам лужу у подъезда, и тут я, выскочив из кабины, крикнул:
— Мы здесь!
— Ой! — пискнула она.
Радостным жестом, смущенно улыбаясь, я предложил ей одноместное сиденье в кабине, отделенное от шоферского теплым бугром мотора, нескладно подсадил, а сам запрыгнул в будочку, которая соединялась с кабиной окошком без стекла. «УАЗик» круто развернулся, и нас тут как не бывало.
Валя обернулась ко мне, сияя.
— Вы меня прямо как похитили!
— Джигиты!
— А куда мы?
— В глушь, в Саратов, — ответил я.
— Как здорово!
«УАЗики» безносы, вроде гоголевского Ковалева, сразу за стеклом обрыв, и дорога так рвется под ноги, что аж пяткам ознобно. Не едешь, а летишь! Дядя Гриша, низкорослость которого скрадывалась за рулем, играючи вел машину своими короткорычажными сильными руками, только успевай приноравливаться к поворотам. Меня, правда, не швыряло, потому что во мне почти не было массы, один дух, а дух, по Ньютону, не обладал инерцией. У Вали инерция была, но она чутко реагировала на повороты, лишь изредка и слегка придерживаясь за скобу. Мы попали в волну светофорных зеленых огней и неслись по городу без остановок. Вырвались на мост. Река нынче вскрылась первого мая, словно вместе с народом решила продемонстрировать свою весеннюю радость и силу, но ледоход у нас кончался быстро: день-два — и чисто, потому что выше, километрах в тридцати, стояла плотина. И лишь редкие льдины проплывали сейчас, но вода поднялась и затопила всю левобережную низину, с ее домиками, огородами и озерками.
В будочке было свое окошко, но я тянулся вперед и смотрел мимо Валиной головы.
В три ноль-ноль мы остановились у железобетонной арки, за которой, возвышаясь друг над другом и загораживая друг друга, громоздились серые заводские корпуса. Из диспетчерской вынырнул отец, очевидно, уже поджидавший машину, и помог Вале сойти. Я не рассчитывал на эту встречу и, выпрыгнув из будочки, растерянно улыбнулся и сказал:
— Пап, это Валя! А это мой папа, Алексей Владимирович, главный инженер всего вот этого!
— Очень приятно! — сказала Валя.
— Мне тоже, — ответил удивленный отец. — А я подумал, что это случайная попутчица дяди Гриши или курьер. — Мы рассмеялись. — Уж не ко мне ли, друзья?
— Нет, пап, мы так.
— Ну, то-то.
— Вас куда подкинуть?
— Никуда. Обратно мы пешком.
— Правильно! Чертежи тут? Ага, вот они! Ну что ж, гуляйте! — Он кивнул нам, втиснулся в кабину, сразу посмурев, и «УАЗик» умчался опять, видно, в прокуратуру.
Валя с живым прищуром огляделась: с одной стороны длинный решетчатый забор, с другой лес.
— И правда, глушь. А теперь куда?
— Еще глуше.
И через дорогу мы двинулись в лес, куда увиливала тропа, ведущая к невидимой городской окраине.
Шоссе шло туда далеким огибом, потому что прямо лежала глубокая лощина. Лес этот, зажатый между городом и промплощадкой, был еще нормальным: высились тут зелено-золотистые, здоровые сосны, густыми островками рос кустарник, тянуло смолистым сквознячком и насвистывали пичужки, но хворь уже привили ему: справа и слева серели в молодняке ноздреватые вороха отходов, лепешки застывшего раствора, бракованные балки и покореженные плиты — словно какие-то внеземные обжоры бесстыдно швыряли сюда внеземных объедков. Даже последние нищие сугробики-льдышки, которые песчаный грунт жадно досасывал под кустами, казались бетонными ошметками. Сквозь одно, метрового диаметра кольцо с голыми ребрами арматуры, проросла сосенка. Лет через тридцать, если свалка не задушит лес и город не поползет в эту сторону, народ подивится на окольцованную сосну.
Мы были одни.
Я думал, наша прогулка будет простой и веселой, как телефонный разговор, но уединение вдруг сковало меня. Я уже не скрывал от себя, как вчера, что влюбился в Валю и что ради нее выходил в эфир, но боялся этой влюбленности, потому что уже дважды она заканчивалась плачевно — девчонки отшатывались от меня, едва я делал намек. И понятно! Разве можно ответить взаимностью такой образине? Поэтому я решил раз и навсегда: ну их к лешему, этих девчонок! И вдруг опять!.. Теперь я знал, что надо таиться, чтобы дольше продлилась эта невесомость. И я таился, стискивая в кармане бочонок 81. Во мне билось ликование, но я подавлял его. Мне бы говорить и говорить с Валей, но я молчал; мне бы кувыркаться и плясать вокруг нее, но я спокойно брел рядом; мне бы смеяться, но я почти хмурился; мне бы не сводить с нее глаз, но я покосился на нее лишь украдкой, как на электросварку.
— Аскольд, ты уже был здесь? — спросила Валя.
— Был. Вон там маслята собирал.
— С кем?
— Как с кем? Один.
— А почему ты покраснел?
— Потому что вопрос странный.
— Сам ты странный.
Она отбежала в сторону, набрала сосновых шишек и стала кидать в меня. Пятясь, я ловил их и складывал в карман. На просеке, под тяжело прогнутыми проводами ЛЭП, мы сблизились, и я сказал, таинственно подняв палец:
— Послушай-ка!
Валя запрокинула голову и замерла. Щека ее была в десяти сантиметрах от моих губ. Я вспомнил, что почти вот так же, обманув Шулина, шустрая Любка Игошина нанесла ему оскорбительный поцелуй, и смутился.
— Шуршит, — сказала Валя.
— Ток, — шепнул я.
— Да?
— Еще минут пять, и у нас волосы выпадут.
— Почему?
— Излучение.
— Мама! — воскликнула Валя, кидаясь вон с просеки.
Я догнал ее и усмехнулся:
— Трусиха!
— Ага, трусиха! Хочешь, чтобы я облысела? Вам что, хоть лысые, хоть бородатые, а нам?.. Представь-ка меня лысую! Фу, лучше не представляй!
Некоторое время мы опять шли молча, потом я сказал, вспомнив, как считал колебания маятника:
— А у вас было шесть уроков!
— Откуда узнал?
— Вычислил.
— Ух ты! а какой был последний?
— Английский, — брякнул я наугад.
— Вот и нет! Вот и нет! — Валя захлопала в ладоши, но тут же остановилась. — Ой, Аскольд, мы же про двойки твои забыли! Слушай, у нашей Амалии Викторовны есть одна странность — ставить уличные отметки. Встретит на улице, покалякает по-английски, конечно, а потом смотришь — в журнале пятак. Мы с ней соседи, так у меня сплошь уличные отметки. Я и девчонок выручаю, кто посмелей. Если хочешь, рискнем. Правда, подучить кое что придется: всякие там фразы, диалоги, шутки. Но это пустяк! Я тебя в два счета научу! Хочешь?
— Подведу я тебя, — ответил я сдержанно, хотя у самого сердце запрыгало от радости.
— Если я возьмусь, не подведешь!
— Ну берись! — с улыбкой разрешил я.
— Все! С завтрашнего же дня!
Позади затрещал мотоцикл. Валя ойкнула и спряталась за меня. Донельзя грязный «ИЖ» обогнал нас, нырнул в лощину, но вскоре вылетел обратно: не проехал, видно. Спустившись, и мы убедились, что дно балки непролазно. Метров на десять растеклись желтые глинистые наносы, из которых там и тут торчали раскрошенные бульдозерами плахи, бревна и выступы железобетонных плит. Мы взяли правее и наткнулись на вывороченную с корнем сосну, под углом упавшую через топь. Придерживаясь за ветки, я пробрался к вершине, но до сухого оставалось еще два-три метра.
— Придется поработать, — сказал я.
— Давай.
— Это я себе говорю.
— Как себе, а я?
— А ты пожнешь плоды.
— Нет уж, Аскольд.
— Да уж, Валя! Черная, мужская работа! А у тебя и так вон сапожки затуманились, — сказал я, скидывая куртку. — Лучше погуляй, подыши.
— А ты без меня не уйдешь?
— Уйду!
— Смотри!
И она медленно двинулась наискосок вверх, а я энергично засновал вдоль трясины, собирая коряжки и таская их по сосне в кесиль-месиль. Отсыревшая кора скользила под ногами, трижды я срывался, роняя ношу, начерпал ботинками жижи и вообще забрызгался как черт на этой трехметровой гати. Но тропу настелил и опробовал — держала хорошо. Отмыв туфли снеговой водой из приямка, я свистнул Вале и задрал голову к вершинам сосен, которые неподвижно отогревались в солнечном воздухе. Я вдруг ощутил, что мы с лесом в одном состоянии — впитываем весенние соки жизни.
Валя выцарапалась из кустов, натужно волоча за ржавый корень здоровый кусок обгорелого пня.
— Вот! — сказала она, переводя дух.
— Ого! Молодец! — похвалил я, прикидывая, не сковырнет ли меня с сосны этот уже вовсе не нужный пенечек, но операция прошла благополучно, и обломок, устало брызнув, грузно чавкнул в грязь рядом с тропкой. — Ура-а!
— Ура-а! — подхватила Валя.
Мы перебрались и счастливо, точно форсировали Днепр, глянули сначала на оставленный берег, потом друг на друга: мол, каковы! Валя усмехнулась, вынула беленький платочек, послюнила уголок и, вдруг за шею наклонив меня к себе, стала протирать мой лоб. Я прямо задохнулся от этого внезапного жеста и сурово сощурился, будто недовольный, а сам таял от ее прикосновений. Знал бы, вывозил все лицо! От моего дыхания колыхались выбившиеся из-под шапочки ее золотистые пряди, и мне хотелось подоткнуть их…
— Теперь ол-райт! — сказала Валя.
— Сенкью! — сказал я ей по-английски.
— Не за что! — ответила она и другим углом платка обмахнула свои щеки.
А наверху уже кончался лес и начинался город.
Глава седьмая
Весь путь мы протопали пешком.
У парка Валя убежала, не дав себя проводить, но, и оставшись один, я не сел в трамвай, точно это было изменой, так и доплелся до дома своим ходом.
Шел уже седьмой час.
Приняв теплый душ, я в одних плавках бухнулся на прохладный диван, закрыл глаза и… взлетел. Я стрижом унесся за город, к железобетонной арке, и увидел, как из подкатившей машины выходят мальчик с девочкой и углубляются в лес. Она удивительно красива, а он так себе, на тройку с минусом, почти двоечник по красоте, но это, кажется, не беспокоит ее, наоборот, она улыбается ему, кидает в него шишки, вытирает платком его запачканный лоб. Он влюблен в нее, а она?.. Чем он привлекает ее?.. А может, и не привлекает вовсе. Может быть, это просто так, и завтра он поймет это. Она позвонит и скажет: все, мальчик, больше я с тобой не играю… Хотя нет, вот они на завтра назначают новую встречу, правда, деловую, но встречу. Девочка опирается на его плечо и что-то вытряхивает из сапожка. Ах, какая девочка! Какая милая девочка! Даже мое стрижиное сердце трепещет! Я взмываю ввысь так, что те двое сливаются в одно. Или они взялись за руки? Я низвергаюсь и просвистываю между ними — нет, за руки они не взялись… Я прервал этот волшебный полет и открыл глаза от ощущения какой-то тревоги. И вдруг с болью догадался, что этого путешествия с Валей могло бы и не быть! Ведь разгорись наша с Зефом драка, и все, сидел бы я дома, отмачивал синяки, вправлял суставы или вообще почивал бы в морге. Ужас как тесно соседствуют добро и зло! Научиться бы так управлять своей жизнью, чтобы все в ней было хорошо! Но управься я вчера по-хорошему, не уйди с уроков, не обидь Светлану Петровну — я бы не встретил Валю. Все сложно и перепутано! Но как там ни мудри, а уж от явных глупостей надо открещиваться! Например, от внешней вражды с Зефом. Внутренне расходимся, и хватит. Иногда сам с собой расходишься, так не лупить же себя!
Я встал, подумал, как начать разговор, и набрал номер. Зеф отозвался мигом.
— А-а, ты-ы! — протянул он.
— Слушай, Зеф, ты чего сбежал?
— Откуда?
— Откуда! Затеял драку, а сам утек!
— Может, я по расписанию дерусь! — заиграл Зеф. — Может у меня очередь на драку! Или ты спешишь?
— Я не спешу! Я предлагаю мир.
— Мир! — удивился и даже несколько растерялся Мишка. — Так мы же еще не воевали.
— Вот и не надо, а то будет поздно.
— Ха! — воскликнул Мишка. — Я ему — шуточки, а он мне — по сопатке, и квиты? Математик нашелся!
— Ты мне этой шуточкой в душу плюнул! А мне, может, легче по морде получить, чем в душу!
— Шустряк! — вяло крякнул Мишка. — А может, сначала только перемирие для раздумий, а?
— Ну, перемирие.
— Ладно, Эп, я тоже не любитель мордобоя. С тебя за это две задачки по физике.
— Я еще не решил.
— Решай и звони.
— О’кэй!
— Да, Забор тебя что-то разыскивал, — вспомнил Зеф. — Дважды был у меня, звонил тебе, но… Сердитый. По-моему, чехвостить собирается.
У Забровских телефона не было. Звонить же он любил, звонил много и все из автоматов и всегда ходил, бренькая запасом двушек в кармане.
Позвонит еще, если крайне нужно!
А с Зефом — блеск! Нет у меня больше врагов! И нет огорчений! Правда, с отцом!.. Но и это утрясется. Раз он уверен, что не виноват, значит, утрясется. Разговор о школе отложу до экзаменов, там найду что сказать!
Мебиус угодливо, как бравый солдат Швейк, улыбался мне. Славный он тип, мой робот, бестолковый, ничегошеньки, кроме телефонных звонков, не чувствует. Не чувствует, например, что за его спиной на подоконнике, разъершив чешуйки, лежат одиннадцать сосновых шишек, которыми Валя кидала в меня. Одиннадцать, как комсомольцев в нашем классе. Если каждому дать по шишке, будет одиннадцать счастливых комсомольцев!
Еще одно заветное число!
Я любил числа, и они сами роем слетались ко мне, как рифмы к Пушкину. Числа — это целый народец, со своими порядками и законами, со своим равенством и неравенством. Семьями и по одиночке, сходясь и расходясь, живут они то в скобках, то под корнями, то на мансардах числителей, то в подвалах знаменателей. Их возводят в степени и сокращают. И говорят они на своем языке. Но главное, что ни число, то личность, с характером! Есть среди них заносчивые гордецы, как Мишка Зеф, которые делятся только на себя и которых зря называют простыми, а есть настоящие простаки, вроде Авги Шулина, которых дели как хочешь и на что хочешь, есть таинственно-бесконечное числи «пи», напоминающее Ваську Забровского, и есть подозрительные, словно шпионы, мнимые числа. Даже и внешне числа похожи на людей. Номер моего бочонка от лото 81 — это вылитый портрет бабушки и дедушки из деревни… Я нашел бочонок еще в детсаду, когда и цифр-то не знал. Но две эти загибулинки так очаровали меня, что я вечером исписал ими полтетрадки, к удивлению и радости родителей, которые тут же показали мне и остальные цифры. Я часами колдовал над ними и, когда явился в школу, оказался почти профессором для первоклассника… Прошло столько времени, а бочонок я так и ношу с собой, хотя мне, дураку, уже вот-вот шестнадцать. От того раннего детства у меня ничего не осталось: ни дырявого сандалика, ни сломанной игрушки, ни растрепанной книжки, ни даже друга. Как это ни странно, но в нашем подъезде, пятиэтажном и двадцатиквартирном, не было моих сверстников, точно соседи договорились не рожать целую пятилетку. На три года старше и младше — пожалуйста, а ровни — хоть умри! Ну, какие же мне, например, друзья Нэлка Ведьманова, брякавшая на пианино, или Юрка, отец которого треснул о пол магнитофон? У Нэлки уже ребенок, а Юрка все еще мастерит луки да пулит чижика! Правда, были ребята из других подъездов, но это совсем не то! Туда не побежишь зимним вечером в тапочках и в майке, чтобы поделиться внезапной новостью, как побежал бы к близкому и теплому другу! Вот и остался я один, со своим маленьким деревянным талисманчиком…
Зеф ждал задачи.
Задачи были, конечно, легкими. Зефу просто лень думать. Я решил их и позвонил.
— Готово. Тебе одни ответы?
— Давай все!
Я продиктовал, и Мишка довольно заключил:
— Ну вот, быстро, дешево, красиво!
— Так мир или перемирие?
— За две-то задачи?
— Ну, делец!
— Еще какой! — польщенно согласился Зеф. — Кому это ты там музыку крутишь, девчонкам?
— Тебе бы все девочки!
Более серьезно выяснять отношения с Зефом не стоило: его близким другом я не хотел быть, а для закрепления перемирия хватит пустячной болтовни.
Вскоре позвонил Забор.
— Эп? Наконец-то! — радостно воскликнул он. — Я уже все двушки извел! Где тебя носило?
— Шишки собирал.
— Какие шишки?
— Сосновые.
— Зачем?
— Жизнь украшать.
— А «Скорую помощь» тебе не вызвать?
Я коротко рассмеялся и вздохнул:
— Вася, есть очень актуальный весенний призыв: каждому комсомольцу — по шишке!
— А комсоргу — две, для симметрии: на лоб и на затылок, — добавил Забор. — Так оно и будет, без призыва. Слушай, Эп, а вот что ты со мной сделал? Ведь до сих пор я думал, что я сносный комсорг — признаюсь без ложной скромности, — а ты меня двумя фразами уничтожил! Прямо сдул с должности, как пушинку! — И Васька дунул в трубку.
— Ты спятил! — сказал я.
— Забыл уже?.. А кто мне на перемене сказал, что наш класс — это кучка сектантов, которые неизвестно чем дышат? — напомнил Забор угрожающе, мол, как же ты, комсомолец, посмел обвинить в сектантстве целый класс.
— Да это я так, — смутился я.
— Не так, мой милый Эп, а прав ты! — выпалил он. — Я прикинул: семь компаниек выходит, которые вне школы не общаются, а в школе так себе. Чем не сектанты?.. Это я упустил, проборолся с вашими кулаками и двойками!
— Неужели семь? — удивился я.
— Даже восемь — Ваня Печкин собственной персоной!.. а кто чем дышит — вообще туман.
— Да-а!.. И что теперь?
— Понятно что, гнать меня из комсоргов! За ротозейство и мелочность! — категорически заявил Забор, и я мысленно увидел, как блеснул его жуткий гипнотический взгляд. — Гнать с треском! И комсоргом ставить тебя!
— Да знаешь ли ты, что Забор — лучший комсорг на земном шаре? — закричал я, ощущая мороз по телу. — Ты же золото у нас, если без ложной скромности! И мы тебя не променяем ни на каких Эпов! Так что не бзыкай, как говорит Шулин!.. Ну, упустил кое-что! Откуда же все знать? Думаешь, я знал да помалкивал? Ни фига подобного! Просто душа вдруг вспыхнула — и увидел глубже. А так откуда знать? Только ощупью. И не беда, что упустил, наверстаешь! Считай, что я тебя критикнул, и наверстывай! В жизни еще не то бывает! У отца вон гостиница трещит, и не критикой там пахнет, а тюрьмой. Так он что, бзыкает, думаешь? Он работает как вол. И все будет о’кэй! Так что, Василий, не хандри! — закончил я, понимая, что не сказал бы всего этого в лицо Забровскому, сконфузился бы, а тут перед телефоном расцицеронился.
— М-да, — вздохнул комсорг.
— Лето подскажет.
— Нет-нет, нельзя так разбредаться! Стадом уйдем, стадом придем. Надо что-то сделать! — опять оживился Васька. — Осталось полмесяца. Мало, но успеть надо, иначе нам грош цена!.. Вот я весь день и думал и тебя искал, чтобы вместе поломать голову. Смысл такой: сплотиться и узнать друг друга — это твоя программа. Прекрасная программа, но время… Не мог ты пораньше вспыхнуть! Вот что, прикачу-ка я сейчас к вам, посидим мы вечерок и помаракуем. Одна голова хорошо, а две, сам знаешь… Может, и тетя Римма с дядей Лешей помогут. Они у тебя, по-моему, самые толковые из наших предков.
— Не знаю.
— Кстати, по физике сделал?
— Сделал.
— Сдую заодно. Что-то сегодня неохота уроками заниматься. Погулять бы! Пособирать шишки! Как ты там сказал: каждому комсомольцу — по шишке? Ничего!.. Ну ладно, Эп, иду!
Глава восьмая
Явился Забровский в девятом часу, мы поджидали отца к позднему, как всегда, ужину. На ходу скинув туфли, Васька влетел в мою комнату и, опершись на журнальный столик, прошептал мне в лицо, как будто крича:
— Анкета!.. Понимаешь, Эп, анке-та!.. это же так просто: вопрос — и ответ! — Васька выпрямился и, горя заглубленными глазами и резко жестикулируя, заметался по комнате, а я молча наблюдал за ним в предчувствии близкого чуда. — Весь день бился, и вот только что вдруг осенило! Помнишь, в марте десятиклассники проводили анкету? А мы чем хуже? Вот, например, вопрос: «Любишь ли ты Моцарта?» И Ваня Печкин отвечает «да», и пожалуйста — одна клеточка души ясна! А если Ваня Печкин не слыхивал о Моцарте, он ответит «нет» — и тоже ясно!
— Ваня Печкин наотвечает тебе! Так наотвечает, что с него хоть икону пиши!
— То есть наврет?
— Еще как! — заверил я. — Да и ты наврешь. Кому охота дураком выглядеть?
— М-да… Ну, я-то не навру, а запятая тут, пожалуй, есть — согласился Забор. — А если анонимно?
— Тогда Ваня Печкин растворится, — сказал я, задумываясь, — что-то запульсировало в моем уме. — Слушай, Вась, а если так: пусть анкета будет анонимной и пусть нас как будто интересует не лично Ваня Печкин, а класс в целом?
— В целом?
— Да. Дух класса, понимаешь?
— Правильно, Эп! Для начала — именно дух! А потом из этого общего духа мы выудим и душу Вани Печкина! Тьфу, тьфу, бедняга, попался на язык!.. А вопросов хоть двадцать ставь! Или сорок, сколько надо! Как на рентгене просветим! Ну, Эп, решено?
— Давай!
— Уф, гора с плеч! Давай разобью что-нибудь! — Васька азартно-весело потер ладони и прыгнул на диван. — Ну что, набросаем несколько вопросиков?
— Народ сам подскажет.
— Народ подскажет, если подсказать народу. А так будут киснуть. Я уж опытный! — убежденно заявил он. — Хоть с десяток, для затравки!.. На вот листочек, где у меня сектанты, пиши на обороте! — И он опять зашагал. — Ну, первый вопрос, само собой: не собираешься ли ты бросать школу?
Я вздрогнул.
— Почему само собой?
— Потому что восьмой класс — это форточка в жизнь. Еще не окно, но уже форточка, понимаешь? — пояснил комсорг. — И кое кто спит и видит, как он выпархивает из этой форточки. Тот же Ваня Печкин. И нам это важно знать.
Поразительное совпадение мыслей у мамы и Забровского: свечной огарок и форточка, но возражать Ваське я не рискнул — этот проницательный черт меня живо раскусит, если уже не раскусил, и начнутся преждевременные осложнения.
— Написал?.. Дальше поехали.
Мы перевалили за десяток, когда пришел наконец папа и над моей дверью гуднул зуммер — нас приглашали ужинать. Васька сказал, что сыт, но чайку попьет с радостью.
Людей поражала у нас кухня. В углах слева и справа от окна стояли вечные противники: электропечь и холодильник. Рядом с холодильником, торцом к стене, — наш трапезный столик, рассчитанный на троих, от силы — на четверых. От печи к раковине простерся стол-шкаф, над ним — два яруса полок с посудой, под нижней — рейка с крючками, на которых висело десятка три инструментов и приборов. Все было белым и блестело: холодильник, печь, раковина, пластик, клеенка, инструменты, посуда — эмаль и никель. Чугунное и цветное всегда пряталось, и на виду оставалась лишь белизна. Отец оборудовал кухню под операционную, чтобы маме в ней было привычней. И правда она любила «оперировать». Ей в белом переднике и белой косынке не хватало только маски. Заходишь на кухню и не знаешь, будут кормить тебя или резать.
— Привет, комсорг! — сказал папа.
— Здрасьте! — ответил Забор.
Я глянул на отца, ожидая дуэли с его взглядом: он меня спросит, что, мол, это за девочка, с которой ты раскатываешь в моей машине, а я хитро улыбнусь и спрошу, как, мол, идут твои дела с прокурором, — но на папином лице была только усталость, прямо стекавшая, казалось, с бороды.
Потеснившись, мы расселись, и пап спросил:
— Как там наш Эп?
— Мог бы лучше, — ответил Забор, быстро освоившись. — Все мы могли бы лучше!.. Дядя Леша, тетя Римма, а хотите знать всю правду о своем сыне?
— Еще бы! — сказал отец.
— А обо мне?
— И о тебе.
— А об Августе Шулине? О Мишке Зефе?.. Хотите знать правду о пятнадцатилетних вообще?
Родители переглянулись, и мама ответила:
— Конечно, хотим!
— Мы тоже! — заявил Васька. — И вот-вот узнаем! Мы тут с Аскольдом кое-что завариваем. — Он вынул листочек, пояснил суть затеи и прочитал некоторые вопросы.
— Толково, — одобрил отец.
— Мы еще всем классом покорпим! Шире возьмем и глубже, чтобы вдоль, поперек, по диагонали и сквозь! — разошелся Забор. — А вы не подкинете нам чего-нибудь? Вам с колокольни взрослых и бородатых видней.
— Виден масштаб, Вася, а детали уже слились, — с легким сожалением протянул папа и вздохнул. — Слились детальки-то! А вы жрецы деталей!
— Жрите-ка, жрецы! — сказала мама.
— Тетя Римма, мне только чаю.
— А мне всего! — потребовал я, не евши целый день, и жадно набросился на кашу.
— Курево с питьем отметьте, — сказал папа.
— Уже отметили.
— А половые вопросы? — спросила мама.
— В каком смысле? — не понял Забор.
— Тут много смыслов. Например, есть ли друг или подруга? Какой пол выше: мужской или женский?
— А надо ли? — нахмурился папа.
— Пятнадцать лет! Через три года — женихи. А от этих вопросов зависит будущая семейная жизнь! — жестко проговорила мама.
Даже для врача она была слишком бесцеремонна. Однажды при гостях мама спросила, почему я плохо ем и какой у меня утром был стул. Я побаивался ее в компании.
Подумав, Забор сказал:
— Надо! — И что-то чиркнул на листочке. — Надо!
После некоторого молчания отец, покончив с кашей и заметно приободрившись, спросил:
— А хотите знать, что мы о вас думаем?
— Ну-ка! — насторожился Васька.
— Не ну-ка, а давайте вторую анкету, родительскую.
— Давайте.
— И тоже анонимную.
— Давайте, давайте! — мигом разгорячился Васька.
— А не боитесь? Мы вас так раздраконим, что ай да ну! — пригрозил отец. — Зато будет полная картина. А по анкетам устроить форум отцов и детей.
Забор отставил чай и воскликнул:
— Это же идея!
— Дарю! — сказал папа.
— Хватаю!.. А кто анкету составит? — спохватился Васька, нетерпеливо оглядывая нас всех и останавливаясь на папе, который один только улыбался. — Дядя Леша, вы?
— На заводах такой порядок: изобрел — внедряй! — сказал отец. — Что, Римма, возьмемся?
Без особого огня мама ответила:
— Подумать надо.
— Да, надо подумать, — уже серьезнее заключил папа, принимаясь за чай. — Я, пожалуй, завтра на планерке свое воинство потереблю. Ну, а сорвется — не обессудьте!
Я наелся, сказал, что посуду помою позже, и мы с Васькой опять ушли в мою комнату.
— Как ты думаешь, сделает? — спросил он, кивнув в сторону кухни; я, зная, сколько сейчас у отца забот и хлопот, лишь неопределенно выгнул губы. — Хоть бы!.. Мы бы такую штуку провернули, так бы выступили под занавес, что — м-м!.. — Он просмотрел свои пометки на листочке и хмыкнул: — Слышь, Эп, оказывается через три года мы с тобой женихи! Ты — через два даже!
Забор спрятал бумажку, отошел к окну и уставился на вечереющее небо.
— Поставь что-нибудь, — сказал Васька.
— Моцарта?
— А есть? — удивился он, обернувшись.
— Конечно, нету! — усмехнулся я. — Вспомнил твой вопрос. С чего ты вдруг Моцарта зацепил?
— Да так. Бегал на днях к отцу, ты же знаешь — он рабочий сцены в оперном… А там концерт, ну и услышал. Ничего!.. Сто раз слышал, а услышал впервые. А ты?
— Только имя.
— Да, имена-то мы знаем! Альфонс Доде и т. д.! — сказал Васька и опять повернулся к окну.
У меня было двадцать восемь кассет, то есть семь километров пленки, а вот Моцарта на ней не было. Была «Шотландская застольная» Бетховена, которой я дразнил Нэлку Ведьманову, да три оперных увертюры, записанные по маминой просьбе, остальное — эстрада. Я поставил Тома Джонса, своего любимца. Пятерку отдал за перезапись. Том Джонс тут и пел, и говорил, и смеялся — блеск! Вот у кого английский!
Васька в такт задергал локтем и вдруг спросил:
— А это что? — Он взял с подоконника шишку и понюхал. — Настоящая!.. Ты что, Эп, правда был в лесу?
— Правда.
— Один?
— Не один.
— Молчу… Из нашего класса?
— Нет.
— Из нашей школы?
— Нет, — улыбаясь отвечал я: мне была приятна и Васькина догадливость, и его сдержанная попытка кое-что узнать, и мое таинственное отнекивание.
— Хм, тихоня!.. Надо срочно агитнуть Садовкину в лес… Да, с тебя полтинник, пока не забыл!
Я вынул из-под «Трех мушкетеров» железный рубль.
— Держи.
— Сдачи нет.
— И не надо. За меня и за Шулина.
— Ах да, Шулин же еще!.. С Шулина и началась эта каша. И за это ему спасибо. — Забор сел в кресло и на миг призадумался. — Конечно, в идеале мы все должны дружить, и мы подружимся. Но это слишком простая дружба, Эп, стадная, что ли, не знаю, как ее назвать. Дружба в первой степени — назовем так. А мне этого мало. Мне нужно покрупнее и поглубже — дружба в квадрате или в третьей степени! Понимаешь?
— Понимаю.
— И тут я разборчив, не каждого возведу в квадрат.
— Я тоже.
— Ну и вот!
— А Шулин у меня в квадрате!
— А у меня нет. У меня в квадрате ты!
— А геометрия говорит, что если две фигуры порознь равны третьей, то они равны и между собой!
— То геометрия!
— Нет, Авга — во парень! — заверил я и хотел было перечислить все, что мне в нем нравится, на решил, что незачем живого Шулина подменять скелетом. — А Садовкина у тебя в какой степени? — круто спросил я.
— В энной! — живо ответил Васька. Минуту помолчал и спросил: — Ну, Эп, где там задачки?
И стал переписывать.
Том Джонс запел «Лайлу», и я сразу ото всего отключился. После той встречи с двумя девчонками в заснеженном сквере и особенно сейчас, после знакомства с Валей, песня эта сделалась для меня символом чего-то неясно желанного и до боли необходимого.
Глава девятая
На следующее утро, за пять минут до первого звонка, Васька собрал нас в кабинете истории и коротко, но с многозначительной живостью объявил, что есть очень важный разговор и что после уроков на часок останемся.
— Что, что? — переспросил, оторвавшись от учебника, Ваня Печкин, который всякую новость принимал с опаской, как прямую угрозу лично ему.
— Останемся, говорю, после уроков!
— Все или одни комсомольцы?
— Все.
— Лучше бы одни комсомольцы, — буркнул Ваня Печкин. — А то мне собаку кормить.
— Значит часок потерпит.
— Она породистая! Ее по часам кормить надо…
— Надо быть породистым хозяином, тогда любая собака будет породистой! — заметил Васька.
— У нее режим. И нечего обзываться!
— Так! — хмуро произнес Забор, шлепнув ладонью по столу. — Еще у кого собаки?.. А может, кто спешит клопов травить?.. Или в больницу грыжу вырезать?.. Или на свидание к двум? — спросил вдруг он, и сердце мое дернулось, потому что именно мне надо было к двум тридцати на свидание с Валей, но я не выдал себя, лишь на миг закрыл глаза да стиснул виски ладонями — не мог же я подрывать идею, которую сам выварил вместе с Васькой. Вот ведь совпадение, черт возьми! — Никаких собак, больниц и свиданий! Ясно? Остаются все по-го-лов-но! — подчеркнул комсорг, как бы пересчитывая нас. — Ну, а если кому действительно позарез надо, — разберемся. Разговор срочный и касается всех!
Вовка Еловый спросил:
— А о чем?
— Эпа, наверное, будем чистить за двойку и за Спинсту, — ответил кто-то из девчонок сзади.
— Да нет! — горько отмахнулся Васька.
— Значит за то, что Зефа треснул, — равнодушно предположил тот же голос.
— Во-во! — обрадованно подхватил Забор. — Мы так привыкли заниматься кулаками и двойками, что мозги наши протухли и слепо шпарят по этим рельсам, как будто на свете ничего другого нет! Пора спрыгивать, иначе в такой тупик залетим, что и подметок не останется!.. Ведь нам около пятнадцати лет! Зеф завтра бриться начнет, а мы ему все: тю-тю-тю, Мишенька, почему ты такая бяка! — Васька сделал сиропную физиономию и пальцами изобразил бодуче-игривую козочку.
— Тю-тю-тю! — такой же козочкой ответил Зеф.
Класс грохнул. Забор сам рассмеялся до кашля и, еле уняв его, продолжил:
— Вот и вся наша работа. Надо менять климат! Встряска нужна. Ее-то мы сегодня и будем готовить. — Затрещал звонок, и Васька торопливо заключил: — В перерывах поговорим подробнее. А что касается кулаков и двоек, то совсем их забывать тоже нельзя, конечно. Зеф, например, получил по морде совершенно правильно! С гуманистами мы гуманисты, а заработал — получай! И нечего тут вече устраивать. А Эп, кстати, и без вашей чистки прекрасно все понял и сам утряс нелады со Светланой Петровной. Это как раз и доказывает, что он уже взрослый, а значит, взрослые и мы. Хватит играть в бирюльки и пускать мыльные пузыри!
— Вот именно! — крикнул кто-то.
— Браво, Забор!
— Ну, выдал! — восторженно шепнул Авга.
— Да-а! — согласился я, в который раз убеждаясь, что есть в нашем Заборе та закваска, которая делает его истинным комсоргом и которая не зря приводит в трепет Шулина.
Вошла быстрая и сосредоточенная историчка Клавдия Гавриловна, и урок начался.
После звонка мы перебежали в кабинет иностранного языка, и заинтригованный люд окружил стол Забровского и Садовкиной, мигом образовав над ним этакий двухъярусный кратер. Наташка смутилась, что оказалась вдруг в самом центре внимания, и вскочила, мол, я тут ни при чем. А мне, наоборот, хотелось именно туда, в жерло этого вулкана, и я даже имел право на это, но запоздало лезть в середку было слишком демонстративно. Я оттянул от толпы к окну Шулина и растолковал ему, в чем дело. Авга отнесся к анкете с неожиданной прохладцей. Оглянувшись на шумящую кучу-малу, словно не веря, что и там говорят об этом же, он разочарованно протянул:
— У-у, а я думал, что-то путевое!
— Это зависит от нас: поставим путевые вопросы — получим путевую анкету.
— И о чем спрашивать?
— О чем хочешь. Что волнует.
— Меня многое волнует.
— Вот и формулируй.
— Хм, формулируй!
— Или вот что, Авга, слушай! Давай для старта я тебе дам пару готовых вопросиков. — Я вынул из кармана бумажку. — Вот они. Старт и тебе нужен и всему классу, потому что когда начнется собрание, все будут раскачиваться и оглядываться друг на друга, а мы с тобой поочередно — бэмс, бэмс! И пошла цепная реакция! Главное — затравить. Понял?
Авга взял листок, прочитал и воскликнул:
— Ого, вопросики!
— А что?
— «Кто умнее: девчонки или мальчишки?» Да мне такого в жизнь не придумать! Сразу поймут, что я белены объелся! Или что меня подучили, как дурака!
— Наоборот, чудак! Все только ахнут: ого, скажут, ай да Авга, ай да Спиноза!
— Ну ладно. Забор поручил?
— Забор. Поручил мне, но я и тебя привлекаю.
— А не влетит тебе?
— Нет, за работу с массами обычно хвалят… Да и вдвоем надежнее. Мигом собрание кончим!
«И я успею на свидание!» — обрадованно спохватился я.
Пряча листочек, Авга спросил:
— Эп, а вдруг, того, мы скажем, а все молчок?
— По второму разу скажем.
— И опять молчок?
— Ну уж?
— А вдруг?
— Тогда не знаю… Тогда пусть сам Забор скажет. А что мы еще можем сделать? Сальто-мортале?
— А может, еще кого уговорим? — плутовато предложил он. — Уж работать с массами, так работать!
— Третьего?
— Ага. Вопросы еще есть?
— Есть?.
— Ну и давай. Бог троицу любит! — с заговорщицким азартом заключил Шулин.
— А кого?
Мы осмотрелись.
Васькин вулкан продолжал клокотать. Сгрудились все, кроме Вани Печкина, который, заткнув уши, зубрил английский. Или он дома не учил, или у него память никудышная, но Ваня Печкин долбил учебники из перемены в перемену: даже когда дежурный выгонял его, чтобы проветрить класс, он прихватывал книжку с собой. Каким-то испуганным был у нас Ваня Печкин и первую половину каждого урока, то есть во время опроса, сидел, как приговоренный, — сжавшись и чуть ли не дрожа. Он так и напрашивался на высмеивание, и в общем-то мы подсмеивались над ним, хотя не особенно зло, но считали его серой личностью.
Мы с Авгой переглянулись и, моментально поняв друг друга, направились к Ване Печкину. Вот будет фокус, если удастся его сагитировать, — тон всему классу зададут второстепенные члены… Я зашел сбоку и живо захлопнул его учебник. Ваня Печкин вздрогнули тревожно поднял голову.
— Отвлекись-ка на минутку, — сказал я.
— Чего?
— Отвлекись, говорю, и уши разоткни!
— А чего?
— Дело есть! — сказал важно Шулин.
— Причем дело пустяковое, но для пользы всего класса, — внушительно добавил я.
— Мне некогда.
— Всем некогда!
— Слушай, Ваня Печкин, ты можешь хоть раз что-нибудь пожертвовать классу: или время, или отметку? Можешь? — воззвал я, почувствовал, что надо брать круче.
— Это вон пусть Садовкина оценки жертвует, у нее много пятерок! — недовольно мотнул головой Ваня Печкин. — А мне нечем жертвовать, у меня двойки!
— У всех двойки! — отрезал Шулин.
— И меня спросят.
— Сегодня не спросят. Придет новая учительница. А новые сразу не спрашивают, сначала знакомятся! — попытался я внушить Ване Печкину здравую мысль.
Но он не сдался.
— Ага, это с вами будет знакомиться, а меня спросит! Не мешайте! — И, открыв учебник, опять углубился в него, равнодушно выставив свою макушку.
Я со злости чуть не влепил ему щелчок в эту макушку, но под жидкими волосенками различил какую-то коростинку и брезгливо махнул рукой. Авга буркнул: «Балда ты осиновая с медной нашлепкой», — и мы отошли. Наш поход в массы провалился. Еще бы! Если уж буря целого класса не раскачала Ваню Печкина, что тут наши хилые потуги! Оставалось надеяться, что и без него дело обойдется, — вон как народ оживлен.
По звонку все суматошно расселись, но вместо новой учительницы опять вошла Анна Михайловна со своей дирижерской палочкой, двухцветным карандашом. Постучав по столу, она несколько виновато произнесла:
— Ребята, снова неувязка.
— И эта заболела? — спросил кто-то.
— Нет. Амалия Викторовна думала, что ее уроки начинаются с третьего. Я только что звонила ей. Она выходит, но знаете, человек пожилой, пока дойдет, пока найдет, будет конец урока.
— Хорошо! — вздохнуло полкласса.
— Напрасно радуетесь! Кое-кому эти последние занятия нужны как воздух! Смотрите, как бы ваши легкие вздохи не обернулись тяжестью! — строго заметила завуч, и в этом была истина, которая касалась и меня; правда, я не вздыхал облегченно, потому что был заинтересован в Амалии Викторовне. — Сейчас придет библиотекарь и почитает вам что-нибудь, так что никакого шума, спокойно оставайтесь на своих местах!
Забор вскочили сказал:
— Анна Михайловна, отдайте этот час в наше распоряжение! Мы хотели задержаться после уроков, но раз так, то лучше сэкономить время. Нам нужно провести междусобойчик.
— Что провести?
— Междусобойчик!.. Ну, разговор то есть!
— Очень хорошо! Пожалуйста, поговорите, — улыбнувшись, согласилась завуч. — Я вам нужна?
— Нет.
— Только тихо. Обещаете?
— Обещаем! — крикнули мы.
— Чш-ш! — и Анна Михайловна вышла.
Васька стремительно оказался у стола с тетрадкой в руке, поправил пятерней прическу и сказал:
— Видите, как складно все получается! Сама фортуна за нас!.. Итак, на чем мы остановились?
— На мыльных пузырях, — подсказал мишка Зеф.
— Да! Пора кончать с мыльными пузырями! А для этого есть только один путь — дело! Вот и займемся делом!.. Я все объяснил, вы все поняли — прошу!.. Придумайте сколько угодно вопросов, но чтобы участвовал каждый. Кстати, если поработаем в темпе, то спасем от голода собаку Вани Печкина!
— Нечего обзываться! — огрызнулся Ваня Печкин.
— Что? У тебя уже вопрос?
— Нет у меня вопросов!
— Тогда не фыркай, а думай! Ну все, сажусь и пишу!
— Ну? — подстегнул Забор, остановив взгляд на мне.
Насчет условного знака мы не договаривались, но это был почти знак. Я собрался с духом, подтянул ноги, чтобы встать, но тут Вовка Еловый спросил:
— А в стихах можно?
— Еще бы!
— Тогда пиши:
Скажи-ка, разлюбезный друг, Как ты проводишь свой досуг?— Прекрасно, Вовка! — под веселый шумок воскликнул Забор.
Он еще не записал, а уже поднялась Садовкина.
— А вот интересно, кто в жизни важнее: мальчишки или девчонки? — спросила она.
— Мальчишки! — заорали пацаны.
— Девчонки! — завопил прекрасный пол.
— Споры потом! — пресек Васька. — Потом наспоримся до хрипоты! Так, записываю…
Довольный Авга шепнул мне:
— Один мой вопросик склюнули!
— Пусть клюют, лишь бы аппетит был! А ты говорил — молчок! Это как бы нам молчать не пришлось!
Вовка Еловый опять вскочил.
— У меня еще!
— Прорвало поэта! — заметил кто-то из девчонок.
Вовка засек, кто это сказал, простер руку в ее сторону и продекламировал:
Скажи-ка, друг мой разлюбезный, Полезный ты иль бесполезный?— О, пойдет! — подхватил Забор.
Тут же ввернул вопрос Мишка Зеф:
— А ты бы учился, если бы тебя заставляли?
— Блеск! — отреагировал комсорг.
— И наконец, последнее, — взмолился Еловый. — уж дайте высказаться, и клянусь — больше ни звука!
Друг разлюбезнейший, скажи, Ты часто утопал во лжи?— О’кэй! — приветствовал Васька.
Справа подняла руку Лена Гриц.
— Можно мне? — И, спохватившись, что не на уроке, встала, ощупывая пылающие щеки. — Раз договорились от души, то от души. Только не смейтесь, а то я разревусь… Сейчас… Было ли тебе так трудно, что хотелось умереть?
Вопрос, видно, стоил ей мучительной борьбы, потому что она еле-еле договорила его — губы задрожали и глаза заблестели. Напряженно улыбаясь, девочка нерешительно оглядела нас, как бы проверяя, не смеется ли кто, но стояла тишина, которая вдруг подействовала на Лену сильнее, чем, может быть смешок, — она порывисто села, ткнулась в ладони лицом и расплакалась.
Среди общего веселья это было так неожиданно и странно, что Васька растерялся.
— М-мда… Кха… Ну что ж, толковый психологический вопрос — бодро заключил он, мимикой торопя нас что-нибудь быстрее говорить, чтобы отвлечь внимание от Лены.
Но и мы сбились с толку, и неизвестно, сколько бы продлилась эта заминка, если бы не нашелся Авга. Он не вышагнул, а вылетел в проход, запнувшись о ножку стула, и выпалил:
— А кто хочет в деревню?.. Жить! Навсегда!.. Мясо выращивать! Хлеб пасти! — Тут уж, несмотря на неловкость, все прыснули. — То есть, конечно, хлеб выращивать и мясо пасти! То есть скот, понятно! — Не знаю, нарочно Шулин заплел язык, чтобы разрядить обстановку, или от волнения, но класс оживился опять. — А что? Едят все, а еду делать некому!
— А сам-то почему сбежал? — крикнул Зеф.
— А чтобы вас агитировать! — вывернулся Авга.
— Без дискуссий! — призвал Забор. — Садись, Август!.. А вопрос, между прочим, что надо — социологический! И очень кстати, потому что еще вилами по воде писано, кто кем будет и кого куда занесет. Браво, Шулин!
Вот тут-то и разгорелись срасти. Класс закружило, подхватило и понесло… Васька едва успевал фиксировать. Он молодец, не расхолаживал людей, не укорял, что, мол, такой-то вопрос мелкий, а этот нечеткий, а тот вообще уже был, он писал все подряд. Потом разберемся. Как говорится, куй железо, пока трамваи ходят! Я уже не опасался за судьбу анкеты, а лишь сдержанно восторгался, что народ пошел за нашей идеей…
— Good day, my friends! — раздалось внезапно от двери. Там стояла пожилая, грузная женщина, с устало-добрым лицом и в очках. — Sorry for being late, but you know, better late than never, as both english and russian people say. There rest ten minutes. I think it would be enough for beginning!.. My name is Amaliya Viktorovna.
(Добрый день, друзья!.. Простите, что опоздала: но вы знаете, лучше поздно, чем никогда, как говорят и русские и англичане. Осталось десять минут, и я думаю, что этого достаточно для начала!.. Меня зовут Амалия Викторовна!)
Ошарашенные, мы все встали.
Глава десятая
Мы с Валей должны были встретиться на трамвайной остановке, и я уже четверть часа вился тут, как голубь. Я успел. Забор хотел, правда, еще задержать меня, чтобы вместе посоветоваться с нашей Ниной Юрьевной, которая пока ничего не знала, но я отвертелся, клянясь, что завтра гору сворочу, а сегодня — хоть режь. Васька — тык-мык и отступил, наказав только подогреть процесс с родительской анкетой…
И вдруг я увидел Валю. Держа сумку за спиной, она пристально оглядывалась. Я приблизился сзади и громко кашлянул.
— Ой! — вскрикнула она, испуганно обернувшись. — Аскольд! Да ну тебя!.. У меня сердце чуть не оборвалось!.. Слушай, а вдруг встретится Амалия Викторовна и спросит, куда ты идешь?
— О, мы же сегодня познакомились с ней.
— И как?
— При знакомстве ничего, а вот что дальше?
— И дальше ничего. Хорошая бабушка. Но учить все равно надо! — предостерегла Валя.
— Это у всех так — хороши, пока учишь! — знающе рассудил я. — Дай мне сумку, — сказал я по-английски.
— О, возьми! Спасибо! Ты молодец!.. — тоже по-английски ответила Валя, отдавая мне сумку. — Итак, продолжаем… Разговариваем только на английском языке.
— Давай! — неохотно ответил я по-русски.
— Если ты хочешь знать чужой язык, будем говорить только на нем.
— Да не хочу я его знать! На кой он мне сдался! Мне лишь бы двойки исправить! — выпалил я.
— Во-во! А для этого надо кое-что знать! А чтобы знать, надо говорить и говорить, ошибаться, путаться, врать, но говорить. Надо, чтобы мозоль выросла на языке от новых звуков!.. Надо быть даже нахальным, если хочешь! Вот так, например! — Валя быстро пошла навстречу высокой, мрачноватой, красивой женщине и, задержав ее, спросила по-английски, который час.
— Что, девочка? — как бы очнулась женщина, — Извини, голубушка, не понимаю, — и, пожав плечами, задумчиво пошла дальше.
Удивленный, я сказал:
— Нет, так я не смогу!
— Сможешь, когда разомнешь язык и осмелеешь! — заверила Валя. — А без этого, Аскольд, к Амалии Викторовне и подступаться нечего.
По лестнице мы поднимались молча. Я тревожился, как бы из соседских дверей не начали, кукушками из часов, выскакивать любопытные физиономии. Валя, почувствовав мои опасения, шла тихонько, опираясь на кромки ступенек, чтобы не стучали каблучки. Мы прямо крались. И лишь у наших дверей, когда я достал ключ, она шепотом спросила:
— Дома никого?
— Никого… Заходи.
Оказавшись с ней один на один в сумрачном коридорчике, я опять смутился, как вчера в лесу. Краешком сердца я ощущал какую-то манящую сладость этого уединения и этого полумрака, но они пугали меня, и я включил свет. Стало спокойнее. Мы прошли в мою комнату, солнечную и чистую — я тут целый час протирал запыленные полки, стол, подоконник, батарею и два раза вымыл пол.
— Вот здесь я и живу!.. Знакомься: Мебиус, мой первый друг, мой друг бесценный!
— Ах, вон он какой маленький! Я думала, верзила! — Она протянула руку. — Не дернет?
— Нет.
— Ух ты, большеротый! Ух, смешной! — ласково заприговаривала она, ощупывая проволочную шевелюру Мебиуса, его глаза, нос и единственную руку, потом оглядела книжные полки. — У-у, сколько из «Эврики»! Кстати, как перевести слово «эврика» на русский, если считать его английским?
— Эврика?.. Эв-ри-ка!.. А-а, every car — каждая машина!
— Хм, молодец, Аскольд! И даже непонятно, почему у тебя двойки. В тебе же спит англичанин! Да-да! На переключателе я заметила «in» и «out», на кассетах — тоже по-английски, правда, с ошибками. Вот написано «Royal nights», то есть «Королевские ночи», а японский ансамбль называется «Королевские рыцари» — по-английски звучит так же, но перед «n» стоит немое «k» … Так что мне остается малость разбудить тебя.
— Буди, — с улыбкой сказал я.
— И разбужу… Поставь что-нибудь.
Я поставил этих самых «Королевских рыцарей», приписав немое «k», и сел в кресло.
— А почему не включаешь?
— Хлопни в ладоши.
Она хлопнула, и на нас обрушился гром музыки, который я тут же перевел на кухню.
— Как это? — удивилась Валя.
— Я говорил, что у меня по физмату о’кэй! Пожалуйста!.. а сейчас — в общей!.. А вот у отца!.. А это — в ванной! — пояснял я блуждающие звуки, ни малейшим движением не обнаруживая своего вмешательства в эти блуждания.
— Тоже Мебиус? — спросила Валя.
— Нет, кресло. — И я показал кнопки.
— А-а! — протянула она и нажала несколько раз, перекидывая звуки туда-сюда и следом поворачивая голову. — Ловко! Аскольд, в тебе спит инженер!
— Что-то много во мне спящих! — я усмехнулся: — И спят все порядочные: англичанин, инженер!.. Значит, бодрствует какой-нибудь оболтус!
— Ну-ка! — Упершись руками в подлокотники кресла и как бы взяв меня в плен, Валя склонилась ко мне и лукаво-озорным взглядом пристально стала выискивать что-то в моих глазах.
— Нет, и бодрствует порядочный! Да-да! Я чувствую! — Она выпрямилась и прошлась по комнате. — А это кто, твой дедушка?
— Нет, физик Эйнштейн.
— У-у, какой грустный!
Я подошел и перевернул портрет — мимо нас глянул задумчивый Пушкин Тропинина. Я вырвал его из какого-то журнала и так обкорнал, подгоняя под рамку, что он потерял портретность и, как живой, подглядывал из кухни через окошечко.
— Так лучше?
— Лучше. Ну, Аскольд! Ну, изобретатель!
— Это же не изобретения, а просто дела.
— Ну, делатель! — подхватила Валя, посмотрев на меня так, словно и я был тут какой-то неожиданной поделкой. — Но Мебиус лучше всего. — Она повернулась к роботу и опять потрогала его ершистую марсианскую макушку. — Я Мебиус! Светлана Петровна, извините! Я Мебиус! — проговорила вдруг она грубоватым голосом и обернулась ко мне — не осуждаю ли я ее за дурашливость, но я не осуждал, я тихо радовался, и Валя успокоилась. — Хоть бы кто позвонил, посмотреть, как он работает!
— Сейчас! — Я набрал номер Зефа. — Мишка, брякни мне!
— Зачем?
— Меба чиню. Брякни разок!
— Давай.
Я выдвинул верхний ящик стола, чтобы виден был маг. Телефон зазвонил. В роботе щелкнуло, и одновременно вздернулась рука с трубкой, и пошел маг.
— … уточку!.. Квартира Эповых, минуточку! — Квартира Эповых!.. Квартира Эп… — щелчок, трубка упала в гнездо, и все замерло.
Валя страдальчески смотрела на вскрытый маг. Я понял, что сейчас она видит не магнитофон, а вырванный из живого Мебиуса кишечник, и закрыл стол.
Она вздохнула:
— Бедняга!.. А кроме этого он что-нибудь умеет? Переводить, например, с английского?
— Пока нет, но если научить…
— Сначала я научу безжалостного хозяина. Все, Аскольд, давай заниматься, а то ничего не успеем!
Валя сказала, что лучше начать с уроков, чтобы потом не беспокоиться о них. Я согласился. Мы сели за круглый стол, как министры враждующих стран, и разложили учебники… Я не смотрел на Валю впрямую, но видел все ее движения, и мне было приятно знать, что в любой миг я могу посмотреть прямо и увижу ее не в воображении, а тут, в метре от себя… Мозг мой работал какими-то импульсами: я то удивительно четко все понимал, то вдруг все обрывалось, даже цифры и буквы уплывали из фокуса и пропадали вовсе. Тогда я прикрывал глаза ладонью и тайно глядел сквозь пальцы на Валины брови, ресницы, тонкий нос и на губы, которые то шевелились просто так, то аккуратно поигрывали разлохмаченным кончиком косы… В один из моментов сосредоточенности передо мной легла бумажка с цепочкой слов. Я прочитал:
«Аскольд — ask old — спроси, старый!»
Усмехнувшись, я ответил:
«Что спросить, молодая?»
«Что хочешь!»
Откуда-то из глубины тела ударил жар, как в школе, когда я огрел Зефа папкой, и я, чувствуя, что невыносимо краснею, вдруг написал:
«Хочу поцеловать тебя!»
Я написал это и в шутку и всерьез и целиков вверился Вале: если примет в шутку — я спасен, если всерьез… она вскочит, швырнет в меня тетрадки и уйдет. Не поднимая головы, я передвинул бумажку и плотно, до звона в ушах, зажмурился, ожидая реакции — шума, падения стула или, может, шлепка по башке, но время тянулось космически медленно, я не выдержав пытки, открыл глаза — бумажка уже лежала передо мною.
«Когда?» — прочитал я, и новая волна жара окатила меня: слава богу, шутка принята!
«Сейчас!» — смелее приписал я. «Нет, в пять часов!» — ответила Валя.
Не стесняясь — шутить так шутить! — я обернулся к ходикам — без десяти пять — и весело глянул на Валю, думая встретить ее насмешливую улыбку. Но Валя не смотрела на меня, она преспокойно учила. Я словно ожегся и отвел глаза. Конечно, чему тут улыбаться! Шутка до того глупа, что дальше некуда!.. Пристыженный, я уткнулся в историю и, буксуя на фразе о борьбе Плеханова с народниками, стал разносить себя в пух и прах!.. Говорил, держись, так нет, шутить полез, Мольер! Ну и моргай теперь!.. Правда, время шутки еще не истекло, может, именно в пять Валя простительно рассмеется и развеет эту дурацкую неловкость. И в голове моей тотчас заработал неведомый счетчик, отщелкивая секунды и минуты. На Валю я больше не смотрел — ни тайно, ни явно. Я, как НЗ, хранил этот последний взгляд, который виновато-конфузливо брошу на нее, когда часы ударят… Сначала в ходиках пробудится жужжалка, и лишь потом забьет важно и раскатисто. Несколько раз мне уже чудилось это жужжание, и я вздрагивал, но это машины проносились под окном, а настоящее жужжание я прозевал — часы ударили вдруг.
— Пять! — вырвалось у меня.
— Пять, — сказала Валя.
— Пять! — слегка пригрозил я.
— А не спешат они?
— Нет.
Усиливая угрозу я стал приподниматься, поднялась и она. Не знаю, какой вид был у меня, но Валя улыбалась странно: не дразняще-игриво, как надо бы в шутке, а напряженно-выжидательно. И я медленно двинулся к ней, мелко перебирая руками по столу, чтобы хоть как-то удлинить этот невероятно короткий путь. Валя пошла от меня. Я прибавил шагу, прибавила и она. Я побежал, и она побежала. Я все ждал, что Валя вот-вот прервет эти кошки-мышки, махнет рукой, властно усаживая меня на место, и мы начнем наш дурацкий английский язык, но она не прерывала. Я метнулся в обратную сторону, она — в обратную. Скатерть сбилась, что-то упало, стучали по полу ножки сдвинутого стола, а мы, ничего не замечая, кружили и кружили, шумно дыша, и никак не могли сблизиться, как одноименно заряженные частицы. Валя наконец оторвалась от стола и скрылась в коридоре. Я кинулся следом. Она, фосфорически сияя водолазкой, стояла в полумраке спиной к стене и глядела исподлобья, как я приближаюсь. И я вдруг понял, что больше она не побежит от меня и что все это уже не шутка. С мертвящей бесчувственностью я взял ее за плечи и, закрыв глаза, бессильно ткнулся губами в ее щеку. Валя встрепенулась, обхватили руками мою шею и, шепнув «не так», быстро поцеловала меня в губы.
— Вот так, Эп! — выдохнула она и умчалась в гостиную.
(Окончание следует.)
Стихи
Владимир Цыбин
Уеду отсюда неужто, неужто!.. На песню, на чудо спешу распахнуться. Открыто и ясно я снова и снова спешу отозваться на каждое слово, на каждую ветку в ледовой поковке, и жажде, и ветру, и бегу по бровке. Откликнусь, отважно откликнусь, как вече, доверчивой каждой улыбке при встрече. И каждому диву и каждой удаче — живите счастливо, а как же иначе! Я ж верностью строгой откликнусь лучисто. Звезда над дорогой, звезда с обелиска. Как тихие гнезда средь зимней сушины, каленые гроздья мне тянут рябины. Засветятся завязи — теплые звезды, и свяжет мне варежки иней морозный. За первою вспашкой, за звонкою песней иду — нараспашку — дорогой неспешной… Не праздно, не мимо, и в полдень, и в полночь всему, что любимо, навечно запомнюсь.* * *
Еще снега погода не смела, и завязи пока еще не зрелы, а запахов, а звени, а тепла раздвинулись внезапные пределы. Березовая, теплая кора, набрякшая оттаявшею прелью, тебя с утра со всех сторон капели обстукивают, словно доктора. Мне эта звень доныне дорога, врачующая оттепельной влагой, увлечены неведомою тягой, ручьи сдвигают к полюсу снега. Лишь хочется зачем-то про запас среди забот, средь неустанных тягот вблизи капель услышать лишний раз прохладную, как горсть созревших ягод…* * *
Неужто то мил, то постыл, желанный с неправдой любою, все то, что забыл и простил, опять называю любовью! Я вспомнил без снов и без слов как будто нечайно об этом, хотя уже столько годов держал я ее под запретом. И, ставшая верной рабой моею, недаром, недаром сухая, безгневная боль сжигает пророческим жаром, готовое к взлету крыло вдруг прежнею стужею свяжет и все, что когда-то прошло, вчерашнему сердцу предскажет…* * *
Сквозь тишину веду версту вдаль, на упавшую звезду, веду версту, веду опять, а кажется: учусь летать. Я слышу, словно всплеск плотвы, дрожит окалина листвы. Иду, но мне невмоготу, что замурован в немоту, что, словно в каменной стене, живу в недвижной тишине; и жду — лист вздрогнет, треснет сук иль с ветки влажный капнет звук, а кажется, что сердца стук… Но, вырвавшись из немоты, не повторишь ли путь листвы — в листву, в траву, в прохладу, в лог! Путь через небо — как ожог. Листва, вскрыли, листва, спеши из летаргической тиши! Я за спиною ощутил сверхзвуковую тяжесть крыл, прохладную непрочность рос, полярный белый свет берез и у окраин синевы сентябрьский кумач листвы.Фазиль Искандер
Ошибка
Горячий полдень, южный пляж, песок. Послушай, подожди, — сквозь влажный гул прибоя Окликнул ты жену. И вдруг на оклик обернулась не она… Не женщина, а юное созданье. — Меня!! — она спросила. Она спросила, окрыляясь красотой. Которой ты не знал, но, может быть, В редчайшие минуты был достоин. Ты все заметил: и цветок лица, И трепет крови сквозь загар, И юность белозубую, И низкую прическу. Безмерность влажных глаз срезавшую стыдливо, До дерзости… — Послушать! Подождать! — она спросила, молча обернувшись, Всей нежностью, всей радостью лица. Всей гибкостью тянущейся фигуры… Не дотянись и вытянись еще! Не дотянись — потрепещи мгновенье! Как морем, свежестью надежды заполняясь. Подумал ты. Когда она на оклик обернулась И всем своим ликующим лицом. Лицом ликующим над волнами стыда, Как бы твой оклик повторила: — Послушать!! Подождать!! Да я всю жизнь… Но в этот миг с коротким опозданьем Твоя подруга тихо обернулась, И, на лице твоем заметив отсвет Ее лица, взглянула на него, И, все поняв, безропотно опала. И ты мгновенно радость погасил, И девушка, ошибку сознавая, Погасла медленно. За что казнить себя!! Ты эту радость не украл у боли, Но, видно, невозможно… И, видно, боль значительней, чем радость, Поскольку сам ты, не подумав даже, При виде боли радость погасил. Иди, сияй улыбкой белозубой, (Казнящей красоты сверкающее жало). Безмерность влажных глаз срезай прической (Одежда — вздор, когда глаза обнажены), Не дотянись и вытянись еще. Еще потрепещи, не дотянувшись… еще… Горячий полдень. Южный берег. Пляж. Как глубоко в песок уходят ноги!Модерн
Невыносима эта фальшь Во всем — в мелодии и в речи. Дохлятины духовной фарш Нам выворачивает плечи. Так звук сверлящего сверла, Так тешится сановной сплетней, Питье с господского стола Лакей, лакающий в передней. Прошу певца: «Молчи, уважь… Ты пожелтел не от желтухи…. Невыносима эта фальшь, Как смех кокетливой старухи». Но чем фальшивей, тем звончей Монета входит в обращенье, На лицах тысячи вещей Лежит гримаса отвращенья. Вот море гнилости. Сиваш. Провинция. Шпагоглотатель. Невыносима эта фальшь, Не правда ли, очковтиратель!! Давайте повторять, как марш, Осознанный необратимо, Невыносима эта фальшь. Да, эта фальшь невыносима.Вечер
Серебристый женский голос Замер у опушки. Гулко надвое кололось Гуканье кукушки. День кончался. Вечерело На земной громаде. В глубине лазури тлела Искра благодати. День кончался. Вечерело В дачном захолустье. И душа сама хотела Свежести и грусти. И, как вздох прощальный, длился Миг, когда воочью Этот мир остановился Между днем и ночью.Размолвка
Серою мучною крысой День над головой. Обернулась наша крыша Крышкой гробовой. Видно, жаркие объятья — Мало для любви. У меня свои проклятья, У тебя свои. Мир огромный, заоконный Плещется в крови. У него свои законы, У тебя свои. Что нам палкой или плеткой Сбитая семья!! Завернись до подбородка В холод бытия. Захлебнутся эти годы. Взорванный отсек… Только как же, большеротый. Третий человек! Наше смутное подобье, Чтобы не реветь, Молча смотрит исподлобья, А чего смотреть! Просто дождь стучит о крышу, Дождь стучит, малыш. Все я выдумал про крысу, Крыса — это мышь.* * *
Вот и определилось: Кто, куда и зачем. И не вчера появилось: Я есть то, что я ем. Вот и определилось… Кушаешь! Хорошо. Кушаешь, сделай милость, Будет добавка еще. Перекрутила юность Тропы разных начал. Что же сидеть, пригорюнясь. Опознавай идеал. Вот и определили Самый последний предел, Самое «или-или», Точку, водораздел. Это над бездной и высью Дьявола с богом дележ: Я есть то, что я мыслю, Ты есть то, что ты жрешь!Анатолий Преловский
Расвумчорр
На сопке Расвумчорр и летом снег лежит, на сопке Расвумчорр с трудом горит костер. Там птицы не живут, оттуда зверь бежит, деревья не растут на сопке Расвумчорр. И только человек, пробившись в глубь земли и шахту устремив сквозь рудные пласты, все ищет благ себе в морозах и в пыли, все ждет от льда — тепла, от камня — красоты. Чтоб камень задышал, заплакал, как живой, художник должен быть характером прочней; чтоб лед явил на свет сокрытый пламень свой, строителю на то порой не хватит дней. Вот почему весь день на сопке Расвумчорр не молкнет шум работ, земля до дна дрожит, а ночью в пыль, как в цель, прожектор бьет в упор, и в страхе, что костер, подальше зверь бежит.Звезды тундры
Звезды тундры — железные звезды, нипочем им большая зима: вбиты в небо, как вечные гвозди, чтоб не рухнула на землю тьма, чтобы жить нам достойно и строго, не плошая, ходить по морям, чтоб верней узнавалась дорога к дому, к полюсу, к дальним мирам.След железа
Тяжкий танковый след вездехода вмят в глухую долину и склон, не стирает его непогода, зной и ветер не сушат, — силен! Век железа. Напор наступлснья. Раны в зелени и в синеве тундра лечит побежкой оленьей и протягом копыт по траве. Не затем ли от края до края пролетают упряжки времен, след железа быльем попирая, чтобы сгинул под ягелем он! Сгинет, смолкнет, не видно, не слышно, но, глядишь, из болота до туч буровою поднимется вышкой, торжествуя над миром, — могуч!Роман Левин
Июнь сорок первого года… Нет, это еще не война. В соку сенокосном природа, Под сенью лесов тишина. Семейно собравшись все вместе, И взрослые и детвора, В полуторке нашей армейской На вылазку едем с утра. Набиты провизией сумки, Играет оркестр духовой, …И восемь без малого суток Еще до черты роковой. Мы весело едем, не зная, Что через неделю нас ждет, Лишь знаем, что речка Лесная В ольшанике звонко течет, Что след беловежского вепря Теряется где-то в траве. И шалости встречного ветра Упругой под стать тетиве. Ах, ветер, как сладок на вкус он, Как песню разносит окрест! Пестреет косынками кузов, И трубами блещет оркестр. И синее небо высоко, И по борту ветки шуршат, Пока кочковатым проселком Въезжаем мы в лес не спеша. И память, сквозь годы просеяв, Хранит средь событий иных Последнее наше веселье За несколько дней до войны. Все было: беда и победа, Но после… А утром тогда Мы счастливы были не ведать, Какая грозит нам беда. Ремень командирский, колечком Свернувшись, лежит на песке. Отца загорелые плечи Азартно ныряют в реке. Покамест он близко, покамест Он виден, сквозь брызг кутерьму, Легко, глубины не пугаясь, Плыву по теченью к нему. С ним вместе выходим мы вскоре На берег, едва отдышась. За скользкие, белые корни Подмытых деревьев держась. Мне трапеза кажется пиром, Когда на поляне подряд Ситро, бутерброды и пиво Все весело пьют и едят. Все надо мальчишке, представьте. Повсюду успеть я хочу, И там, где танцуют, и там, где Удары слышны по мячу. И там, где треногу штатива Наш клубный фотограф достал, Чтоб запечатлеть, как красиво Проводит досуг комсостав. И семьи того комсостава, Чья мирная жизнь сочтена… Вот мама с сестрою, а справа Комбат и комбате жена. Себя под накидкой замаял Фотограф, и нас на измор Он взял. Ну, а после «Снимаю!» Сказал и нажал на затвор. Но кто б мог подумать, обласкан Прохладой июньской листвы. Что снял он посмертную маску Не с мертвых людей, а с живых. Что лишь приоткройте кассету, И вырвутся из темноты Все краски последнего лета И лиц дорогие черты.Анатолий Ткаченко Сигнал оповещения
Рисунки В. ЮДИНА.
1
Р-р-рота! Тревога!
Мгновенно возникает движение; в смутном ночном освещении, от стены до стены, оживают нары: взлетают одеяла, поднимаются головы, раскачиваются сутулые фигуры. Тесно. Душновато. Сталкиваются плечи, локти, колени. Слышится легкая перебранка. Казарма гудит от напряжения.
Я отыскал ботинки, наматываю портянки, беру обмотки (край одной раскатался, его хватает сосед, молча выдергиваю), обертываю ноги, решив пока не шнуровать ботинки: главное — успеть стать в строй, чтобы старшина Беленький не зачислил в команду отставших. Посреди казармы вырастает реденькая шеренга — я тороплюсь, хотя, кажется, ничуть не убыстряю движений, — поднимаю с пола ремень, пробую затянуться.
— Рота, становись!
Бегу, держа пряжку и конец ремня в руках: главное — успеть, рассчитаться по порядку… Занимаю место возле ефрейтора Мищенко. Вижу — он без пилотки, говорю; «Пилотка где?» Он срывается к нарам, мешая бегущим в строй.
— По порядку номеров рассчитайсь!
— Первый, второй… четвертый…
Прерывисто звучат голоса солдат. Кто-то прослушал номер соседа, произносит свой, постоянный (а строй не полный), счет сбивается.
— Отставить!
Сзади просовывается Мищенко, его узенькая головенка утонула в чужой пилотке — ну прямо бледная поганка после дождя! Ему сдергивают пилотку на нос. Прокатывается легкий смешок — впервые за три минуты подъема. Старшина Беленький пятится назад, чтобы видеть весь строй, кричит:
— Приготовиться к походу!
Берем карабины, подсумки, навьючиваем скатки, вещмешки, переносные радиостанции РБАЛ («эрбушки», как нежно называем их) — это наша полная боевая выкладка.
Строимся повзводно. Занимаю место рядом с сержантом Зыбиным: он командир расчета, я второй номер.
В стороне стоят командиры взводов, три младших офицера. Два подтянутых, аккуратных, на вид боевитых, и наш Голосков — брюхатый, толстоногий, большеголовый. Им пока нечего делать, они, повернувшись к темному окну, негромко разговаривают. А старшина Беленький, задыхаясь от старательности, строгости, показывая свою почти воздушную выправку, обходит строй, проверяет снаряжение, выравнивает по ранжиру, рассчитывает.
Из комнаты-канцелярии быстро выходит, будто он там ночевал, командир роты майор Сидоров. Останавливается поодаль, блеснув очками, медленно ведет головой вдоль строя, вложив большой палец правой руки за ремень.
— Смирр-на-а! — раскатывает всю силу своего голоса старшина Беленький, отрывисто отмеривает три шага. — Товарищ майор! Рота по тревоге выстроена!
— Вольно! — едва внятно говорит Сидоров.
— Вольна-а! — отзывается старшина.
Майор издали оглядывает нас, сутулясь и как-то внешне грустнея, словно говорит себе: «Откуда их столько на мою голову!..» Своим особенным, резковатым полувзмахом руки подзывает командиров взводов. Бегло и неслышно разъясняет им что-то. Выслушав от каждого: «Так точно, слушаюсь», — взял под козырек, сказал: «Действуйте».
— Взвод, слушай мою команду! — приближаясь к нам и как бы ласково уговаривая, произносит младший лейтенант Голосков. — Напра-ву! Шагом арш!
Выходим из казармы в темень, осеннюю лесную слякоть. После сырой духоты — в сырой холод. Прячем головы в плечи, жмемся друг к другу. Не спешим, слабо надеясь на команду: «Тревога отменяется!» Но первый взвод уже втягивается в непроглядный провал дороги под деревьями, за ним, покачивая навьюченными горбами, двинулся второй. А вот и мы во главе с Голосковым, поотстав (не ожидал ли и он отмены тревоги?), зачавкали ботинками по лесной дороге.
Всем становится ясно: где-то в гарнизоне начались штабные или армейские учения, и нашей радиороте придется обеспечивать связь и наблюдение.
Кто только придумывает учения в такое время, в такую погоду и обязательно ночью?
Но это так, просто мысли. Их у всякого солдата вдосталь. Стоишь на посту — думай, дежуришь у приемника — думай, и вот сейчас идешь — тоже думай. Конечно, мысли у каждого свои, особенные. Мой командир расчета сержант Зыбин по прозвищу «Серый» и во сне и наяву думает о своей рязанской деревне Колотушки, где оставил молоденькую жену Лизку, не успев с ней нацеловаться и поверить, что она будет ждать его. Через день письма пишет Лизке, матери, всем знакомым, наказывает, спрашивает, грозится. Как-то раз просыпаюсь ночью, гляжу — не спит Зыбин, в темноте смотрит на фотографию, и щеки у него мокрые…
— Подтянуться!
Вдоль строя бежит старший сержант Бабкин, наш помкомвзвода. Его крупная, изогнутая, с отвисшими руками фигура скрылась где-то в голове взвода. Я понял: теперь начнет командовать Бабкин, а Голосков «отключился» — будет просто брести за взводом, рассуждать сам с собой.
Под ногами хлюпает дождевая вода, горько пахнет опавшими, измокшими листьями, и холодок задувает из темени леса — острый, с колючим ледком, будто где-то недалеко выпал снег или, может быть, тучи снежные нависли над лесом. Деревья молчат, чернея каменными столбами, затонувшими в студеном море. И оттого наша немота, глухое движение выглядят вполне естественными, потому что все время кажется — мы бредем сквозь воду, дышим водой.
На меня постепенно находит тупое, полусонное состояние: я словно бы делюсь на части, и каждая живет сама по себе. Ноги идут, отмеривая одинаковые, куцые шаги, голова медлительно перебирает тягучие думы-видения, которые могут показаться и явью и сном. Всплывают, гаснут и опять как бы светятся строчки стихотворения: «Я жду тебя и знаю: ты вернешься, с сверкающей медалью на груди, в глаза заглянешь, нежно улыбнешься, придешь затем, чтоб больше не уйти…»
Стихотворение прислала мне Ася Шатуновская из города Армавира… Познакомились мы так: «Комсомольская правда» напечатала ее портрет с подписью: «Студентка пединститута сочиняет стихи»… Написал ей… Ася ответила… Стихотворение мне понравилось, но «с сверкающей» не совсем хорошо звучит, я ей черкнул об этом, жду ответа… Неужели обиделась?.. И зачем сразу поучать сунулся… Ведь все равно хорошо: «…придешь затем, чтоб больше не уйти…»
Меня толкают сзади, оглядываюсь, насколько позволяет затянутая ремнями и скаткой шея: ефрейтор Мищенко, задремав на ходу, ткнулся головой в мою спину. Самый расхлябанный человек в нашей роте. Изо всех сил перевоспитывает его старшина Беленький, а Мищенко будто упирается. На самом же деле ничего не может поделать с собой: суетится, тужится, и все равно гимнастерка сидит на нем, как длинная бабья кофта, шаровары отвисают, собираются в складки, как юбка. Ребята прозвали его «Параскевья».
— Параскевья, — говорю я вполголоса, — еще раз ткнешься — дуло подставлю.
Мищенко просыпается, бормочет что-то, с перепугу отстает шага на два, его толкают сзади…
— Прекратить разговорчики! — старший сержант пропускает мимо себя строй, вытянув руку, сильно работает ею: отставших подталкивает вперед, слепившихся разделяет, устанавливает нужный интервал, едко поругивается, как пастух в непутевом стаде:
— Приятного сна, Васюков!.. Гмыря, на вас едет Потапов… Мищенко, не тычьтесь в спину товарища носом, свернете…
Идем дальше, несем полную боевую выкладку. Куда, зачем? Никто не знает и не спрашивает. И то и другое — не положено. Понемногу светает: сереет, как бы слегка приподнимается небо, стволы деревьев подступают ближе к дороге, из каменных делаются деревянными, похожими на бесконечный плотный частокол, за который невозможно проникнуть. Дорога заметно забирает ввысь, делается суше. Но идти труднее, приходится все ниже гнуть голову к земле. Пахнет сырыми, прогретыми потом гимнастерками, и, если присмотреться, увидишь легкий парок над строем нашего взвода.
Я слежу за спиной Зыбина-Серого — мощно работают плечи, двигаются локти, словно отталкиваясь от чего-то твердого, — и стараюсь идти с ним шаг в шаг. Сильный человек Серый, хорошо питался в войну (их деревня не была в оккупации), мать работает председателем колхоза. Потому и жениться смог — силенку девать некуда было. И в армию попал на год позже меня. Он больше многих других— мужик: бороду по-настоящему бреет, бритва скрипит. Фотографию жены показывает. А что ночью плакал — я никому не рассказываю, чувствую, нельзя про это говорить, самому стыдно, да и ребята подхватят, смеяться начнут. Многие не любят Серого: за посылки рязанские, за жену, за упитанность. Я к нему ничего такого не имею, мы даже дружим немного, однако уступить в чем-нибудь никак не могу, ни в одном марш-броске не отстал.
Перевалили через сопочку, унизанную молодым березнячком, спустились в широкий распадок, по которому текла просторная, мелковатая речка с чистой водой. Первый взвод остановился на ровной гальке берега. Подтянулись, услышали команду, переданную по рядам: «Рота, стой!..»
Офицеры собрались в сторонке, под старым корявым ильмом, обступили майора Сидорова. Тот, держа в руке очки, по своему обыкновению резко, внезапно вглядываясь в каждого, что-то отрывисто говорил. Потом слегка, пренебрежительно взмахнул рукой — отпустил офицеров, а сам пошел к речке, сполоснул ладонь и, поддевая ею воду, принялся громко пить.
Голосков подозвал к себе Бабкина, сунул ему блокнотный листок. Бабкин, мельком глянув в него, быстрыми, почти строевыми шагами приблизился к нам, начал громко читать:
— Расчет номер один — высота 235-а… Расчет номер два — восточный склон высоты 234… Расчет номер три — высота Безымянная, вершина… Расчет…
— Слышь? — сказал мне Зыбин-Серый. — Повезло, что твоим новобранцам.
Это он о Безымянной, на сей раз она досталась нам — крутая, безлесная, ветреная сопка. Сущее наказание для солдат, как нарочно придуманное природой зло. Риск всегда был настоящий: зимой снежные обвалы, петом щебеночные осыпи. Серый сказал мне так, будто я виноват, что нам досталась Безымянная; в его голосе я уловил и другое: мол, посмотрим, хватит ли у тебя силенок вскарабкаться на сопочку. Мне не хотелось ссориться перед нелегким походом, и я спокойно, тихо сказал.
— Ничего, бывал уже там
— Выход на связь в семь ноль-ноль, — внятно выговаривал Бабкин, — шифр ноль-пять, Приступить к выполнению задания!
Разошлись порасчетно, заговорили, поспешно обсуждая, как лучше идти в назначенные пункты. Кое-кто заспорил. Штабная группа принялась ставить палатку, разбирать такелаж радиостанции, устанавливать дюралевую антенну — значит, здесь будет штаб роты. Зыбин-Серый молча и вроде сердито зашагал вверх по течению реки. Я тронулся за ним, думая, что очень удачно выбрал направление мой командир, хоть и впервые идет на Безымянную: в нем развита крестьянская смекалка и бережливость к себе — лишнего шага зря не сделает. Нутром угадывает выгоду.
Всходим на первый холм, я оглядываюсь назад. На сером пятне гальки четко обозначалась палатка, поднялась на оттяжках мачта, и уже курится дымок костерка. Младший лейтенант Голосков, сунув руки в карманы галифе, мешковато понурив плечи, бродит возле воды, пинает камни: ему, наверное, скучно, не с кем порассуждать, — все другие заняты штабной суетой. Добрый человек Голосков, но служака — никакой. Его не любит полковое начальство. У него много выговоров, и, если бы не майор Сидоров, который почему-то терпит, даже бережет «младшего», уволили бы давно в запас Голоскова. К тому же он давно просит об этом, пишет докладные.
— Ты чего скис? — Серый, обернувшись, ждал, оглядывал меня, сповно сожалея, что я еще могу идти.
— Задумался.
— А ты поменьше. — Он показал вверх, на вершины лиственниц. — Вон там думать будешь.
Голос у него позванивал, был почти начальственный. Я не обиделся. Серый слегка презирает меня за то, что я хорошей жизни не видел.
Идем час, другой. Тропа делается круче, пересекает осыпи; скользко на мокрой щебенке, тянет, режет плечи упаковка, карабин, трет шею скатка. От росы, льющейся с кустов, мы вымокли так, будто искупались с полной боевой выкладкой, и теперь молчим — только идем. И выбираем тропу, чтобы не попасть на гибельную осыпь. Серый слушается меня, если я подсказываю, и даже жалуется, что у него упаковка тяжелее, а ему вовсе не больше надо от службы, хоть он и командир расчета. И сила ему еще пригодится на гражданке, в той настоящей, очень толковой жизни. Я поддакиваю ему, но о себе не говорю: нечем похвастать — ни прошлым, ни будущим. Позади — почти ничего, впереди — густой туман. Девушку — и ту придумал, в Армавире живет.
Начались сплошные осыпи. Ни кустика, ни крупного камня. Тропа то виднеется тоненькой жилкой, то исчезает, съеденная щебенкой. Ползем на четвереньках, как вьючные, цепляясь всеми четырьмя конечностями за зыбкую землю, готовые в любое мгновение, если зашипит и покатится вниз дресва и щебенка, лечь на живот, распластаться пошире и удержаться в какой-нибудь впадине.
Взбираемся на вершину-голец. Она вся завалена большими и малыми камнями и не такая гладкая, какой кажется снизу, сияя в солнечные дни четким конусом. Находим маленький неглубокий окопчик (я его помню по прошлому году), спрыгиваем в него, снимаем с себя карабины, упаковки, скатки. Садимся на бруствер покурить — в запасе у нас наверняка есть несколько минут: шли-то без передышки, штурмом, как на войне, одолели высоту.
Уже светло, туман растекся по распадкам, таежным дебрям. И видно далеко, хоть и смутно: разогретая за лето земля парила, остывая, и терялась в безбрежности влажных сумерек. Но если вглядеться, можно уловить, вернее, почувствовать сгустки домов, слабые штришки труб, еле приметные огоньки Хабаровска. А за ним — широкую серую полосу Амура. И больше ничего: мгла, бесконечность.
— Действуй, — сказал Зыбин-Серый, сплевывая на искуренную папиросу.
Хочется еще посидеть, остыть на ветерке, однако я встаю, начинаю «действовать»: открываю упаковки, присоединяю к рации питание, выдвигаю штыревую антенну, другую, кабельную, забрасываю повыше на камень (если штыревой будет мало), устраиваю приемопередатчик так, чтобы удобно было дежурить у него: сесть, привалиться к камню, вытянуть ноги. И думаю о Зыбине — как удачно прозвали его Серый. Он и в самом деле весь какой-то серый: глаза, тугое лицо с большим носом — все тускловатого серого цвета, словно раз и навсегда припорошенное мягким печным пеплом. И даже голос у него какого-то среднего, ровного, серого оттенка. Говорят, свое прозвище он привез из деревни. Сказал кому-то поначалу, что его дома дразнили «Серый» — и все, как ярлык себе прилепил.
Включаю приемник, настраиваю. Точно нащупываю свою волну, кладу наушники на рацию: услышу и так позывные, если начнется поверка, — наш КП у речки, недалеко, по прямой не более пяти километров будет. А Серый роется в вещевом мешке, достает сухой паек. Выложил на клочок газеты два сухаря, отсыпал из мешочка щепотку соли; подержал в руке, взвешивая, банку тушенки, вернул ее в вещмешок. Вынул луковицу и кусок вяленого мяса — это из собственных запасов.
В наушниках возникают прерывистые всхлипы, толчки, шипение. Слегка подправляю настройку и ловлю четкую морзянку. Трижды повторяется буква «ж», трижды наш позывной, дважды — позывной КП и дается «шрк» — «Как слышите?» Включаюсь, повторяю в обратном порядке позывные, отвечаю: «шса-5» — «Слышу отлично». КП подтверждает мой ответ, приказывает вести наблюдение, постоянно находиться на связи и начинает звать другие радиорасчеты.
Вот и вся работа; кладу наушники на рацию. А наблюдение— дело простое. Увидим какой-нибудь самолет, хоть гражданский кукурузник — сообщим, что в такое-то время в таком-то направлении пролетел самолет такого-то типа. По шифру, конечно, сообщим. Но и это — зашифровать — дело нетрудное. Главное — сиди, мерзни, грусти. В другом месте, в лесу, скажем, можно костерок малюсенький бездымный развести, чаю вскипятить, тушенку разогреть. Здесь — Безымянная голая, из одних камней, которые даже в сухом виде не горят.
Серый ест луковицу, обильно макая в соль. Луковица крепкая, скрипучая, и у него краснеют, слезятся глаза, он отдувается, как после ста граммов; грызет сухарь, запивая водой из баклажки. Мне не предлагает. Вот если я попрошу — отделит частицу луковицы, однако подаст так, что навек должником станешь. И не жадный вроде человек. Когда просят табаку, бумагу для письма или посылочную еду, не отказывает, делится. По-куркулевски, правда; от воспитания особого, что ли? Спокойно взять может тот, кому наплевать на все, съест да еще похохочет в душе над Серым. Я не могу так и потому не прошу, хоть и очень давно не пробовал свежего лука. «Ладно, — думаю, — совесть дороже». К тому же я еще плохо знаю Зыбина — всего второй наш выход. До него моим командиром был старший сержант Бабкин. Теперь его повысили: он остался на сверхсрочную.
— Ну, ты давай, действуй, — говорит вяло Серый, — а я тут прикорну чуток.
Медленно, сонно заворачивается в шинель, втискивается под камень — там суше и тише, ворочаясь, затихает. Но чего-то ему все-таки не хватает, и через минуту тишины слышится его голос:
— Представь, у нас в Колотушках браги наварили, свадьбы играют, еды полно, мясо обязательно. Коммунизм, можно сказать. Представь, моя Лизка что за баба? Маленькая вроде, а обоймешь, ну прямо тыквочка крепенькая… так и расколется вроде… Тебе непонятно. — Серый высовывает серую голову, всматривается в меня, за что-то сердится (уж очень пустой я для него человек, непонятливый). — Ты вот что. Демобилизуешься — приезжай ко мне. Устрою по знакомству. Жить будешь, обещаю. Если ты, конечным делом, не лентяюга какой-нибудь. Имей в виду. — Он шарит в кармане гимнастерки, достает письмо от Лизки, читает, довольно внятно бормоча. — Вот, люблю, сообщает, верная до гробовой доски, воздушных поцелуев два миллиона шлет…
Где-то вдали и сбоку возникает рокот, быстро усиливается, превращается в гром — мелко вздрагивает наша Безымянная, — и я вижу в сумерках неба три силуэта «яков». Гром мгновенно спадает, превращается в рокот, затем в отдаленное шелестение. Силуэты исчезают в стороне Хабаровска.
— Действуй, — говорит Серый, прячась в шинель.
Щелкаю переключателем, зову КП, сообщаю цифровым кодом: «На северо-запад проследовало звено истребителей. Полет бреющий, скорость предельная». Получаю подтверждение, снимаю наушники, лезу в шинель.
Идут учения. Большие, маленькие, штабные, гарнизонные— мне неизвестно. Зачем — тоже не знаю. Долго ли будут — можно только гадать. Сиди, жди команды. Сухого пайка на трое суток. Не будет отбоя — сутки еще на ничем продержимся (экономь еду!). Учения — почти настоящая война. Война в мирное время.
Трудно, конечно, поверить в серьезность этой войны, потому что после той, настоящей, долгой и страшной войны прошел всего год. И хоть я не попал на фронт, не успел попасть, все равно знаю, какой была та война. Я будто бы и сам изранен ею, дня не могу прожить, чтобы не подумать о ней, не услышать про нее, не увидеть на ком-нибудь или на чем-нибудь ее памяти. А эта, теперешняя, — все-таки игра. Неловко так «воевать» после той войны, стыдно. И времени жалко: жизнь-то еще не начата, в ней придется устраиваться (не всем же дом с мезонином приготовлен, как Зыбину-Серому!), а тут вот сиди, зябни и наблюдай за своими самолетами. Может быть, надо призвать молодых солдатиков вместо нас, «старичков»: мы поустали, непригодны для игры. Нас готовили для настоящего дела.
— Как? — спрашивает, очнувшись, Серый.
— Тридцать три, — отвечаю я.
— Что — тридцать три?
— А что как?
Серый ворочается, медленно привстает, откидывает воротник шинели, вытягивает руки по швам, прошивает меня серым взглядом.
— Вы что — наряд захотели?
— За что?
— Шуточки при выполнении боевого задания!
— Думал, не обидитесь…
— Меньше думать надо, понятно? Доложу комвзвода. А если еще допустите — отправлю на КП.
— Слушаюсь.
Зыбин-Серый отодвигает меня плечом, присаживается у рации, надевает наушники. Это значит: «Освобождаю вас пока от дежурства». Вроде и наказание, и себе пригодится на всякий случай: вдруг я скажу Бабкину что он всю «войну» проспал. Иду к тому камню, где посуше, заворачиваюсь в шинель.
Смотрю на дымные вершины сопок, таежную хмарь далеко внизу, на город, который все больше, как на пленке, проявляется из мглы, думаю о себе. О своей какой-то всегдашней неудачливости. Что я за человек?.. Служу больше Серого на год, оба мы сержанты, однако он командир. У него дома все хорошо, женился на красивой девушке, а у меня придуманная, где-то в Армавире живет. Кто такая, зачем она мне?.. И зачем я разыграл Зыбина (ведь он все равно никогда не поймет юмора), с некоторыми другими в роте не могу ужиться. Старшина Беленький «держит на мне глаз». Суюсь, куда не надо, характер свой показываю. К чему он мне, этот характер, если пользы от него никакой?
2
За три года службы я побывал в полковой школе (учился на радиотелеграфиста), в пехотной разведке (тоже радистом) и вот попал в ПВО. Служба здесь показалась мне легче, если не считать походов, бросков, ночевок в тайге и на высотах. Но учения случались не так часто, были обычно недолгими. Все остальное время радисты жили в казарме, вели службу радионаблюдения — дежурили у приемников, ловя сигналы воздушного оповещения. Никто из нас сигналов этих не слышал. Поговаривали, правда, что сразу после войны один радист пропустил сигнал оповещения, за что отсидел десять суток гауптвахты, а потом был переведен в строевую часть. Другой радист, уволившийся в запас, будто бы в это же время поймал сигнал (очень важный), был повышен в звании, награжден медалью «За боевые заслуги». Писаная же история роты эти факты почему-то не хранила, командиры сменились, и один только старшина Беленький мог что-то припомнить, однако, будучи человеком неразговорчивым, помалкивал. Однажды на политинформации я спросил его о медали за сигнал оповещения, он почему-то сильно рассердился, поставил меня по стойке смирно, отчитал за глупый вопрос. И говорить об этом перестали, неинтересно сделалось. Просто дежурили, ловили сигналы оповещения, сидя в тепле. А где еще найдешь такую интеллигентную, «не бей лежачего» службу.
Сегодня я дежурю опять в паре с Зыбиным-Серым, да и все последнее время — с тех пор, как сержанта Бабкина произвели в помкомвзвода, — мы почти не расстаемся: я и Серый. Сидим за длинным столом, в каучуковых наушниках, крутим ручки приемников (приемники американские, с особым, ненашенским запахом металла и краски, почти новенькие, хоть и завезены еще в войну); у каждого своя волна, перед каждым лист чистой бумаги и два заточенных карандаша — на случай, если один сломается. Настраиваемся, отстраиваемся. Надо точно держаться на своей частоте, но нельзя, чтобы забивала ее морзянка или музыка, — вот и крути, верти красную нить указателя, смотри на шкалу: вдруг возникнут те самые позывные, быстрые, мгновенные, а за ними прочастит сигнал, оповещающий о нарушении воздушной границы.
Серый старательно навалился на стол, как бы желая влезть внутрь приемника, наконец разыскать то, из-за чего мы здесь бьемся беспрерывно, и бегом отнести командиру роты. Сразу получить отпуск к Лизке и матери в рязанскую деревню, сказать, презирая меня: «До свиданьица. Не подводите расчет!» Он сердится за «тридцать три» на высоте Безымянной, хотя после у нас все шло хорошо и померзли мы всего сутки — сущий пустяк для солдата. И луковицей он меня угостил, когда я ему сухарь дал. Правда, в роте, забывшись, Серый опять спросил меня: «Ну как?» Я ответил: «Тридцать четыре». Вот мы и молчим уже несколько дней. Сейчас он старается еще и для того, чтобы я не вздумал заняться чем-нибудь посторонним на дежурстве — пример показывает.
В радиорубке тихо. Вялая осенняя муха тычется в стены, потолок, падает на пол. За окном спокойный и какой-то бескрайний серенький денек. Голые черно-белые рощицы березок, слева лиственницы, кое-где желтые, с неопавшей хвоей; болотце, за ним узенькая речка в стороне Хабаровска. А прямо, на широком нашем дворе, — высокая деревянная радиомачта с оттяжками-тросами, гараж, склад для продуктов, зарядная станция. Ближе к кухне солдаты, сняв ремни и расстегнув воротники, пилят дрова, взваливая чурки на козлы. Вышел повар Иван Шемет в белом колпаке, что-то кричит им, хохочет, лоснясь красной физиономией.
По дороге к казарме быстро прошел майор Сидоров, командир роты. Он живет в городе, в гарнизоне и каждый день добирается к нам «на перекладных» — то подъедет, то пешком. Неустающий, натренированный, молчаливый человек. Никогда не повысит голоса, не рассердится. Но если поступишь неладно, сам себе будешь не рад, помня его резкие, в упор взглядывающие глаза, полувзмах руки и немое выражение: «Скучно мне с вами невозможно…» Ему, знавшему настоящее фронтовое дело, едва переносима, наверное, наша суетливая, мелкая службишка.
Нет, я не могу все четыре часа быть неподвижным. Ну полтора, два часа… Потом мне делается нудно, даже голова болит от пустоты, безынтересности. Я начинаю говорить себе, что сигнала не будет (какой дурак пошлет к нам самолет вскоре после войны, к тому же у японцев вся авиация погибла), да и Серый хорошо слушает, а оповещение, если и передадут, то обязательно на обеих волнах…
Эфир забит жизнью — он лишь на вид, когда смотришь в небо, пуст, — звенят, шипят, хлопают морзянки, переговариваются дальние и близкие голоса, и много музыки. Эфир гремит от музыки — пустота наполнена музыкой, неслышимой без аппарата. Людям надо жить, ходить по улицам с наушниками на голове. Ведь эта вся огромная, нескончаемая музыка для них, чтобы они слушали, делались лучше, никогда не враждовали.
Тоненьким голоском поет какая-то азиатка. Она рыдает за тысячью километров, жалуется, и мне хочется плакать: так жалко ее и себя. Она, вероятно, красивая, стройненькая, в шелковом цветастом кимоно… Азиатка затухает где-то за океаном, за временем и расстоянием, но не умирает вовсе, а, словно проявившись по-новому, видится мне в образе чернявой, выпуклоглазой девушки с газетной фотографии.
Я ничуть не удивляюсь, спокойно говорю: «Здравствуйте, Ася Шатуновская. Очень, рад вас видеть. Не думал, что так скоро мы встретимся. Вы очень похожи на себя, точно такая же, как там, в газете. И стихи мне ваши понравились: «Я жду тебя, и знаю — ты вернешься…» Конечно, вернусь. Война-то кончилась. Вот медали у меня нету, не досталось ни войны, ни медали… Это беда, человеком даже себя не чувствуешь. Но жить-то надо. Может, я поэтом стану, как вы, сочиню вам большую поэму, так и надпишу сверху: «Любимой Асе Шатуновской», — это же не хуже медали будет. А пока вот вам мои грустные стихи:
Снег, снег на осенний сад, Бель-белизна на аллеи. Страшно вдруг оглянуться назад — Там вчера еще розы алели. Ну, а разве сама белизна Не всегда новизна?..Конечно, Ася, никакого сада здесь нет — лесочки, перелески, болотца, горы, тайга, и роз я никогда тут не видел. Это только стихи, в них все можно, они должны быть всегда красивыми. Они ведь просто душа, просто тоска о том, чего нет. Вы согласны, Ася?.. Вы молчите. Вы боитесь мне помешать — службу человек несег. Вы комсомолка. Правильно, несу. И ни азиатка, ни вы мне не помешали — я все это время был в эфире. Радист я хороший, второго класса. Вот службист из меня неважный, но это другое дело. Это, если хотите…»
Толчок в спину, тоненький голосок позади:
— Вставай-ка, паря! Смена!
Поднимаюсь — как-то не верится, что пролетели четыре часа, — передаю наушники младшему сержанту Васюкову, маленькому, розовенькому и очень разговорчивому человечку, думаю мельком: «Покуда мы здесь топчемся и Васюков что-то болтает — два сигнала могут прозуммерить».
— Садись, — подталкиваю Васюкова, — ныряй в эфир, там поговоришь.
Зыбина-Серого сменяет сержант Гмыря — тот молчалив, обстоятелен, — садится на стул, как на арбу с парой запряженных быков. Так и чудится мне, что всю смену Гмыря продрыхнет. Главное ведь, чтобы дежурный офицер не поймал, а он проверяет в основном ночью.
Расписываюсь в журнале приема-передачи дежурства, иду, не дожидаясь Серого: он трусоват и там, в казарме, придираться не будет. Вот только Беленькому может накапать…
Осторожно заглядываю в казарму. За канцелярским столом сидит старшина Беленький, закусив губу, старательно водит пером по бумаге — составляет отчет или сочиняет докладную, увлекся, не слышит скрипа двери. Здесь мне делать нечего, и руки мыть перед едой необязательно (не в кочегарке же уголек швырял!). Увидит Беленький, начнет гонять: «Почему у вас пряжка на боку?.. Намотайте выше обмотки!.. Начистить ботинки!.. Доложите командиру…» и т. д. Тихонько прикрываю дверь, бегу по длинному коридору, сворачиваю влево. Ни на кого не наткнулся — хорошо. Вот и столовая. Все уже пообедали, деревянные, похожие на топчаны, столы убраны, наскоблены. Из кухонного окошка выглядывает широкая румяная личность повара Шемета.
— Привет, Иван! — говорю ему и не могу удержаться от улыбки: так мне приятно видеть Шемета, потому что я знаю — он жалеет меня, считает хлюпиком, но жалеет; мы оба из амурских казаков (вернее, отцы и деды наши были казаками) и как бы немного родственники. Чуть ли не в одной деревне в детстве жили.
— Дежурил, что ли нынча? — спрашивает несколько строго Иван.
— Ага.
— Молодца тогда.
Он наливает полную миску борща со свежей капустой и молодой картошкой — очень редко у нас это бывает, — несет к столу, ставит передо мной. Из кармана халата вынимает пайку хлеба. Борщ густой, пахнет прямо-таки по-домашнему. Сам садится напротив, складывая на груди руки, как делают утомленные бабы, а я достаю алюминиевую ложку с усеченным, съеденным краем — она у меня на длинном поводке, чтобы не потерять, — и принимаюсь громко, не стесняясь, хлебать.
— Ешь вроде жадно, — рассуждает Шемет, — а худой. Болеешь, что ли ча?..
Он берет мою пустую миску, идет к печке за кашей. Мне хочется попросить добавки борща, но не осмеливаюсь: нельзя так пользоваться дружбой, да и борща, наверное, в обрез, для наряда лишь осталось — он бы и сам предложил.
Повезло мне у пэвэошников — земляк попался. Везение, хоть изредка, должно всем перепадать, чтобы жить не разонравилось. А то, что Иван Шемет повар — ничего, мне это даже лучше. Во всем другом он не хуже любого. По званию — старшина, воевал с японцами, до Харбина дошел и орден Красной Звезды заслужил: в одном бою, под Цзя-мусы, двух камикадзе — смертников — уничтожил, сам ранение получил; личную благодарность командующего фронтом имеет. В повара он пошел потом, после войны, когда на сверхсрочную остался. «Душа у меня нестроевая, — говорит. — Остался денег подкопить — сразу дом поставить, семью завести».
Входит Зыбин-Серый — задержался, может быть, С Беленьким беседовал? — кладет на стол мамины посылочные припасы, медленно загораживает раздаточное окно. Ему выдает помощник Шемета, и мне почему-то неловко, что Иван сидит со мной, ласково смотрит на меня. Обидится Серый, нажалуется старшине. Но я-то знаю, не так уж шибко он подкармливает меня — самому хочется посидеть рядом, поболтать с земляком, будто погреться немножко. У казаков это есть — родственные чувства, особенно в теперешние времена, когда они рассеялись с Амура по всему краю. И немножко гордится Шемет мною: вот, нашенский, а радистом служит, интеллигенция, как ни говори. Стишки опять же сочиняет. Хоть и пустяковое дельце — все ж таки культурное, мозговитое. «Приятно, очень приятно нам, казачкам».
Разве поймет все это Серый, разве можно ему объяснить? Стараюсь побыстрее доесть кашу, выпить компот и освободить Шемета. Тот, конечно, ни о чем таком не думает, отдыхая, рассуждает:
— Я ить старше тебя лет на десять. Большая, считай, разница. Я ить на коне скакать умею, саблей орудовать. Помню всех твоих родичей, дядю Василия, нашу заимку. Хунхузов, понимаешь, помню. Как нападали. Амур наш, как на картинке, вижу. А ты чего помнишь?
— Почти ничего.
— Так я и знал! — удивляется, бьет себя по толстому колену.
Я вскакиваю, поворачиваюсь спиной к Зыбину-Серому, ловлю пухловатую, нежную от поварской работы руку Шемета, киваю: «Спасибо!» — и быстренько ухожу из столовой.
В казарме тихо, сонливо, Беленький прилег на свою отдельную железную кровать у стены, дремлет: ему можно и не раздеваясь. Для всех мертвый час. На цыпочках прохожу к нарам, раскручиваю обмотки, снимаю ботинки и, выжавшись на руках, кидаю себя на верхние нары. Почти все на месте — кто спит, кто потихоньку переговаривается, кто читает. Лезу под одеяло, достаю из-под наволочки тетрадку — в нее я записываю услышанные или вычитанные непонятные слова, стихи, афоризмы, которые придумываю сам, — хочу записать слово «абстракционизм» и сегодняшний стишок, посвященный Асе Шатуновской. Надо успеть, пока медленно пережует свой обед Зыбин-Серый. Его постель первая с краю, рядом с моей. Дальше постели ефрейтора Потапова, Мищенко, Гмыри… Попарно, порасчетно — на случай тревоги. Писать и читать я научился лежа на боку, слегка прикрывшись одеялом. Устраиваюсь поудобнее, слышу — Потапов толкает.
— Э, придвинься сюда.
— Чего?
— Фантастика — блеск. О том, какой война будет лет через пятьдесят. Техника — жуть.
Мне не очень хочется слушать фантастику; вернее, фантастику о путешествиях и других планетах я люблю, например: «Прыжок в ничто», «Человек-амфибия». А о войне не нравится. Она ведь вот только, совсем недавно была, и ничего в ней увлекательного нет. Потапов — наш агитатор, помкомотделения и работает на контрольном пункте, следит за радиообменом всего ПВО — это не каждому поручается, тем более в звании ефрейтора.
— Нет, спать хочу, — говорю я.
Ефрейтор Потапов отгораживается книжкой, читает фантастику про будущую войну. Я прикрываюсь тетрадкой, но писать ничего не могу… Ну, допустим, не воевали мы с Потаповым — другие многие воевали. И сколько погибло! Нас-то, двадцатилетних, не хватит для настоящей войны. Или мать мою возьмем. Одна, я ничем не могу помочь. От нее, наверное, скелет остался за эти годы. Письма стала выводить каракулями — руки не слушаются. А мать у Потапова? На фабрике в городе Иванове работает, отец без ноги вернулся, детей пять или шесть. Вояка! Живот в ниточку затягивает.
Но спорить с Потаповым я не хочу: как-то не умею. Чувствую его доброту к себе, а она оттого, пожалуй, что прожил он очень голодное детство, намытарился до армии по чужим людям, как и я.
— Скажи, что такое «абстракционизм»? — спрашиваю я, чтобы проверить, не рассердился ли он на меня…
— Чего ты себе башку забиваешь? — Потапов щурит глазки в доброй усмешке.
На нары тяжело вспрыгивает командир отделения Зыбин-Серый, замирает на коленях, как бы приняв стойку «смирно», коротко командует:
— Прекратить болтовню!
3
Я сижу в канцелярии командира роты перед столом, на котором нет ничего, кроме стеклянной глыбы чернильницы с пересохшими чернилами. По другую сторону, под большим, почти во всю стену, портретом, — замполит капитан Мерзляков, младший лейтенант Голосков, старшина Беленький и старший сержант Бабкин. Все они серьезны, какое-то время молчат; я тоже молчу, вживаюсь в скверное положение подсудного лица.
— Начнем, — сказал всем замполит и отдельно мне (не глянув на меня): — Говорите.
Я не ожидал, что придется говорить первому мне, никак не подготовился. И вообще я не собирался говорить: виноват — накажите. Все равно ничего не смогу доказать.
— Как считаете, правильно поступили?
И на это мне нелегко ответить. Ну, если бы я мог постепенно, не сбиваясь, один на один с кем-нибудь, скажем, с Бабкиным или Голосковым… Чтобы потом спокойно рассудить. Дело-то, в общем, пустяковое, но…
Дневалил я прошлую ночь по роте, сидел, как обычно, возле двери за тумбочкой с телефоном, писал длинное письмо Асе Шатуновской (про то, какой хорошей будет жизнь лет через пять — ни карточной системы, ни обид, огорчений, и человеческая личность достигнет полного расцвета, почти как при коммунизме), помню, написал слова: «Конечно, для этого мы должны изо всех сил трудиться, работать, учиться, служить…» — и уперся лбом в кулак. Не знаю, сколько прошло минут, не больше пяти, наверное. Вдруг сильный удар в плечо подкинул меня, я вытянулся, ухватившись рукой за штык в чехле, осмотрелся. У ног моих лежал новый валенок, а старшина Беленький, поворочавшись на скрипучей железной кровати, спокойно повернулся на другой бок. Вот тут-то и наступило то самое «но». Мне надо было отнести старшине валенок, поставить его рядом с другим, потихоньку вернуться к тумбочке и продолжать службу. (Беленький всегда так будил дневальных и наутро не вспоминал об этом.) Со мной же что-то произошло, на мгновение я даже потерял ясное сознание — может быть, он как-то обидно отвернулся, — я схватил валенок и швырнул Беленькому в кровать. Старшина неторопливо поднялся, надел валенки, подошел ко мне и указал на нары, что означало: «Снимаю с дневальства!» Я разбудил сменщика, сам лег спать. Вот и все. Так бы я, пожалуй, рассказал. Но нельзя — это будет вранье, потому что Беленький доложил: «Спал на дежурстве, а когда его разбудил, начал грубить». К тому же рассказать о валенке — значит подвести всех. Старшина как-нибудь оправдается, перестанет швыряться и начнет давать наряды, снимать с дежурства.
— Будем говорить? — спросил устало капитан Мерзляков.
Я глянул на него. Лицо желтое, щеки ввалились, четко выписываются кости скул, череп тонко обтянут кожей и тоже четко проступил. Замполит очень больной человек, мы редко видим его в роте, лежит дома или в госпитале. Он фронтовик, весь изранен и, говорят, самое опасное — у него вырезана часть желудка. Мне стыдно утомлять капитана, однако я боюсь и рассердить его каким-нибудь случайным словом-отговоркой. Смотрю на Голоскова, Бабкина. Им скучно от этой тягомотины, они молча, исподтишка вздыхая, как бы говорят мне: «Кончай — не девица же красная!» А Беленький красен, сердит, на лбу капельки пота — его явно бесит мое тупое молчание: что еще ляпну — неизвестно! Наконец не выдерживает:
— Так что, считаете себя виноватым?
Я понимаю — это подсказка, это вовсе не о том, что я задремал на дневальстве, просто немного сдал старшина (тоже не железный!), и мне надо быстро согласиться, хоть и неизвестно, как потом обернется для меня неожиданная слабость старшины.
— Виноват. Накажите, — говорю я.
Капитан Мерзляков, будто вернувшись из забытья, медленно и совсем утомленно оглядывает командиров: «Так. По-моему, все решено?», — поднимается, кивает Голоскову:
— Примите меры.
— Слушаюсь.
Все поспешно встают, переговариваются, забывая скучное сидение, уходят. Остаемся младший лейтенант Голосков и я. Он закуривает папиросу — ему присылают из Москвы «Беломорканал», — сонно щурится за окно: там сияет чистый, сухой, прочный снег.
— Снег-то рано, а? — говорит, обращаясь, наверное, к снегу.
Ах, как нравится мне Голосков! Весь, до кончиков розовых, всегда чистых ногтей. Нравятся его рассуждения, немного женская, тонкая кожа лица, всегдашняя расхлябанность (какая-то прирожденная невоенность), живот, распирающий гимнастерку, почти незатухающая улыбка, самые неожиданные вопросы. Я чувствую нашу внутреннюю родственность и знаю — он тоже что-то такое питает ко мне, хоть мы никогда об этом не говорили, и готов сидеть с ним весь день, молчать, рассуждать, ругаться. Все равно он не сделает, не сможет сделать мне никакого, даже малого зла: он же понимает, что я люблю его!
— Как думаешь, — поворачивает он ко мне большую, круглую, почти лысую голову, — снег только у нас или на других планетах тоже бывает?
— Бывает, — мотаю я головой, точно угадывая, что именно этот ответ нужен Голоскову.
— Если снег — значит, и люди есть?
Он смотрит в окно, смутно улыбается. Смотрит долго и молчит. Наконец, вспоминает обо мне.
— Слушай, два наряда тебе. Скажи там им.
— Слушаюсь! — вскакиваю я.
— Иди.
Иду к двери, Голосков окликает:
— Слушай, зайди ко мне вечерком, а?
— Слушаюсь!
— Да брось ты это. Заходи.
— Ладно.
В казарме старшина Беленький воспитывал ефрейтора Мищенко: поворачивал кругом, одергивал, подталкивал. Как бы сколачивал плотнее. Потом подтянул ему ремень так, что Мищенко крякнул.
— Вы баба ростовская (Беленький сам из Ростовской области), понятно?
— Та хиба ни! — пяля мокрые маленькие глаза, выкрикнул Мищенко.
Беленький хохотнул, не сдержавшись, махнул вяло рукой, повернулся ко мне.
— Два наряда, — доложил я.
— Дрова пилить, сортир чистить. — Он взял за рукав Мищенко, сблизил нас. — А это ваш дружок. Выполняйте. — И выкатился в дверь тугим мячиком.
Можно присесть на минуту, морально подготовиться к труду. Мы присели. Я глянул на Мищенко, он на меня. Нам было неловко, потому что мы уже едва терпели друг друга. Сортирщики, друзья по несчастью… Так всегда, я заметил, — унижение не сближает.
По званию я старше Мищенко, значит, мне и командовать нашей штрафной группой, мне отвечать за работу. А не подними Мищенко — просидит весь день, еще и всхрапнет сидя.
— Пошли, Параскевья, — говорю я, будто в шутку; на самом деле не могу удержаться, чтобы как-нибудь не задеть ефрейтора.
Он встает очень неторопливо, ухмыляется глуповато, мол, чего ни говори — оба сортирщики! — выжимает из себя слова:
— Того, сержант, треба пимы получиты.
Правильно, для наружных работ полагаются валенки— в ботинках околеешь. Идем в каптерку, приветствуем старшего сержанта Лебединского.
— Треба пимы, — говорит Мищенко.
— Нарядники? — не смотрит на нас черногривый Лебединский.
— Так точно!
Лебединский, не глядя, швыряет в нас из угла каптерки двумя парами безразмерных, подшитых кожемитом пимов, заставляет меня расписаться, в придачу мы должны оставить у него свои ботинки: строгий человек Лебединский. Может, так и полагается, да еще при такой выдающейся фамилии?
Переобуваемся, выходим на морозец, идем к дровяному навесу, где березовые и лиственничные кряжи прямо-таки пугающего вида сложены в бело-коричневый штабель. Выбираем что-нибудь помельче, но уже давно все перебрано, пересортировано «штрафниками», взваливаем на козлы, принимаемся пилить.
Пилим, отваливаем чурки — пила идет легче (эх, подпилок бы добыть, подточить немного!), Мищенко почти с уважением зыркает на меня. Разогрелись вовсю — уже наплевать, что нарядники, главное — работа, она сама по себе существует и хорошо настраивает, если ты не прирожденный лентяй.
Погодка морозная и солнечная, воздух, как вода родниковая, прихваченная ледком. И видно необозримо далеко во все стороны. Лес заледенел, опушился инеем, на Безымянной сияющая белая папаха, снегири красными яблоками обсыпали березу, а в стороне Хабаровска сине-белые неподвижные дымы: город накрылся воздушными одеялами. И все это как бы звучит — напряженно вызванивает стальными оттяжками и высоким столбом нашей антенны, словно в нее втекают, обретя простую материальность, радиоволны со всего света.
Мищенко скалит гнилые зубки, морщинит личико моложавого старичка. Он тщедушен, однако терпелив и вынослив. Два года прожил в оккупации где-то под Херсоном, питался картошкой и брюквой, похоронил мать, деда и бабку, отец погиб на фронте. Ранен в ногу — не тяжело, пуля насквозь прошла икру, — с пацанами воровал у немцев мороженую рыбу. Кое-как выжил и теперь вот даже служит. Правда, больше сортир чистит, дрова пилит, посуду моет на кухне, но такая планида. Подорванный оккупацией человек. Не удается никак прийти в себя. И Беленький, боровичок ростовский совсем заклевал его: подавай дисциплину! А может, скажи Мищенко два-три ласковых слова — скорее поймет. Сортиры вконец обозлить могут. Вот и я сегодня на ефрейтора… Что он мне нехорошего сделал?
— Обедать пойдем последними, — говорю я, подмигивая. — Шемет «дб» подкинет.
— Ыгы! — радуется Мищенко.
— А ты немца хоть одного убил?
— Ни. Кирпичакой одного бухого ударив.
— Смелый.
У меня ведь тоже украинская фамилия, и мы с Мищенко как-никак земляки. Вернее, наши прадеды были земляками. Его остался на Украине, а мой, более бродяжливый по натуре, переехал сначала на Кубань, потом на Амур — зачинать амурское казачье войско. Так и распрощались навсегда. Отец мой не знал ни одного украинского слова, я же и подавно. И все-таки мы с Мищенко немножко сородичи.
Это открытие меня удивило и немного раздосадовало: вот тебе и Параскевья! Надо к нему приглядеться, не гоготать, когда кто-нибудь устраивает представление…
Колем чурки на поленья, складываем в штабелек— кладём хитро, так, чтобы больше казалось — с воздухом между поленьями. В окнах столовой мелькание, плотное движение, доносится стук бачков и мисок, голоса — там полным ходом уничтожается еда. Хочется есть. Но мы выждем, «штрафникам» полагается в последнюю очередь. Они несчастные, и им обычно перепадает погуще, со дна. Их жалеет Шемет.
Штабель получился средним по величине, пришлось распилить еще один кряж, наложили сверху горбом — вышло вроде ничего, как раз норма двух нарядов, установленная Беленьким. Это точно знал каждый, и старшина обычно не приходил проверять — обмануть его невозможно, он все равно следит издали, из окон, все равно всегда рядом с тобой.
Наконец идем обедать, получаем по большой порции супа и каши, медленно съедаем в пустой столовой. Потом долго сидим, дремлем. Шемет ушел на склад получать продукты, в посудомойке тихо звякают миски. Мы вроде бы вне закона, вне общества, люди позабыли о нас. Мы будем долго дремать на столовских лавках: служба-то идет! Сумерки затягивают синей бумагой окна, холодком подступают от двери к нашим ногам. Но вставать не хочется. Вставать — значит идти чистить сортир. Кажется, если вот так долго, очень долго сидеть, все переменится, промелькнет, как во сне, и совсем не нам с Мищенко придется… Вообще-то мне не так уж и тяжко, весь день мне сегодня было по-особенному легко, чуточку возвышенно, да и сейчас не очень пугает второй наряд. Когда что-то есть в душе, когда она как бы едва помещается в тебе — все не страшно. Все можно перемочь. Только бы было это в душе. А оно у меня весь день сегодня есть. Откуда, что?.. Я думаю — и меня пегоньким жаром обдает: ведь Голосков пригласил к себе. И я пойду. И надо скорее разделаться с работой.
— Подъем! — вскакиваю и тереблю за плечо Мищенко.
В сарае берем ломики, лопаты, идем к дощатому продолговатому сооружению, входим внутрь. Желтовато горит одинокая лампочка. Сыро, холодно. Все десять очков обмерзли, их надо одалбливать. Начинаем. Желтый ледок брызжет вверх, в стороны.
Кто-то заглядывает в дверь, спрашивает: Как, можно?
— Подождешь, — отвечаю я.
Солдат уходит куда-то в лес.
Работа есть работа, делать надо ее хорошо. И чистую и грязную. Замполит Мерзляков рассказывал — у него в роте на фронте один учёный математик служил, очень известный в научном мире, так он любую грязную работу выполнял весело, даже сам иногда напрашивался. «Культурный человек, — будто бы говорил сам математик, — все должен уметь делать, ничем не гнушаться». Приводил в пример Толстого. Ну, я не могу сказать, что мне нравится такая работа, однако она страшна, пока за нее не возьмешься.
Отправляем еще двух солдатиков прогуляться по морозцу в лесок, берем метлы-скребуны, выскабливаем пол до досок.
— Все, — сказал я. — Как в лучших столичных домах.
— Гарно. Хоть житы оставайсь!
В казарме на нас сразу навалились.
— Р-рота! Встать, смирно! — скомандовал кругленький, румяный, как дорогой пирожок, младший сержант Васюков. Подойдя строевым шагом ко мне, он доложил: — Товарищ сержант! Личный состав готов посетить ваше культурное заведение. Когда прикажете?
От хохота, кажется, потрескались стекла в рамах, и я заметил: даже всегда строгий Зыбин-Серый слегка ухмыльнулся. Значит, действительно всем смешно. Смотрю на Мищенко — тоже ничуть не страдает, сияет глазками, помогает хохотать. Мы хорошо поработали, и это нас сблизило. А ведь шли утром, почти ненавидя друг друга, и, если бы пролентяйничали весь день, вернулись бы, пожалуй, врагами.
После ужина, когда наступило личное время, я надел выходную гимнастерку, перемотал обмотки новой стороной наружу, надраил ботинки, причесался — сделал все так, будто собрался в городское увольнение. Постарался, однако, чтобы никто особенно не приметил. Выскользнул наружу, пробежал двором возле стены, вошел в подъезд с другой стороны дома: здесь жили холостые офицеры и сверхсрочники.
В сумеречном коридорчике отыскал третью от края дверь. Постучал.
— Кто там? Входи! — прозвучал неспешный басок Голоскова.
Он лежал на железной койке в белой нижней рубахе, сатиновых брюках и шерстяных носках. Курил, глядя в потолок. На столе зиял раскрытой пастью патефон с пластинкой, на электроплитке сипел, будто тоненько голосил, горячий чайник. У стены слева, от пола до окна, высилась стопа обтрепанных книг. Над кроватью — застекленный портрет девушки с сержантскими погонами.
— Садись. Я сейчас.
Я не знал, что означает «сейчас», сел на табуретку и, видя крайнюю сосредоточенность Голоскова, понял: ему надо что-то додумать.
За окном, в безмолвии и тишине, посыпался сухой частый снежок, заштриховал небо, леса, землю. Замутил дальние огни города. Сделалось совсем глухо. Лишь раскалялся чайник да еле слышался сквозь стены и коридоры веселенький плач гармошки из казармы.
— Слушай, — вдруг привстал Голосков, и я вздрогнул. — Вот думал сейчас… Почему человек решил: могу делать на земле что захочу? Откуда взялся человек? Ну, предположим, от обезьяны. Но обезьяна не делает, что захочет, не убивает других обезьян. Она культурнее, значит… Почему один человек возвышается над другими? Кто дал ему это право? — Голосков прошагал к окну, уткнулся лбом в стекло, глядя на снег. — Как-то идем с одним из наших по лесу. Живность какая-то через тропинку ползет. Он ее — раз сапогом. Размазал. «Зачем?» — спрашиваю. Засмеялся, дурачком посчитал. Так всегда — сначала живность мелкая, потом ворону просто так, от скуки, женщиной попользовался… Сошло. Руки-ноги на месте остались, глаза не ослепли. Можно развиваться дальше. И появляется это проклятое право… Что нам делать, а?
Живо представляю себе лейтенанта Маевского, командира первого взвода, — среднего росточка, чистенький, подтянутый в струнку, всегда пахнущий одеколоном; исполнителен до мелочности, строг с подчиненными; брезглив; любимые слова: «Вы разгильдяй и неряха!» Невозможно себе представить, чтобы он спокойно отнесся к ползущему через тропинку червяку.
— Не знаю, — вздохнул я, решив еще послушать Голоскова, потом уж что-нибудь сказать, если будет ему интересно.
— Знаю, что не знаешь. Давай пить чай. — Он насыпал прямо в кружки заварку, залил кипятком, бросил по куску сахара, вынул из стола пачку печенья (наверное, прислали из Москвы). — Ты же будешь знать, а?
— Не знаю…
— Вот заладил. Мне-то надо с кем-то поговорить. А ты… человек еще не начатый, можно сказать, не уперся, как бык в крашеные ворота. Стихийно можешь изъясняться. Что думаешь — то скажешь. Большая ценность в таком слове. Когда устами младенца… Не обижайся, мы с тобой одинаковые: я тоже сочинял стишки. А насчет службы — просто братишки.
Голосков как-то зло накрутил патефон, опустил мембрану на пластинку. Из шипения, из ничего возникла вдруг, ущипнув сердце, довоенная, из самого моего детства, песенка:
Улыбнись, Маша, Ласково взгляни, Жизнь прекрасна наша, Солнечны все дни.Он опять повалился на кровать, заложил под голову руку. Рубашка вылезла из брюк, ворот расстегнут, жиденькие русые волосы вспучились, как от ветра в серых больших глазах бесконечная рассеянность, скука. Шерстяные носки, присланные мамой, слегка проносились. И весь он ужасно гражданский, домашний, и я вспоминаю — он уже несколько раз подавал докладные с просьбой уволить его в запас.
— Это тоже Маша, — указал Голосков на застекленную фотографию. — Убили немцы. А я вот ничего, правда, чуть-чуть войны прихватил. Вроде опоздал. — Он повернул голову к фотографии. — Жениться не буду. Никогда. Веришь?
— А я стихи писать не буду, — вдруг как-то сказалось само по себе.
— Почему?
— Несерьезно. Так все считают.
— Правильно. Ты прозу давай. За нее, говорят, больше платят.
Голосков засмеялся. Потом мы помолчали минуту, слушая далекую гармошку в казарме.
— Поеду в Москву, домой, — проговорил Голосков, словно с риском доверяя мне очень важное. — Отпустят скоро. Зачем такого держать? Поступлю в медицинский. У меня ведь папа — врач известный, хирург. Малла терапевт. И дед был врач. Династия. Мне та же дорога начертана. От запаха йода и то чуть не плачу… Приезжай лет через пять, если заболеешь. Ну, и так просто приезжай, а?
— Приеду.
Голосков негромко рассмеялся, как бы для самого себя, радуясь своему отличному душевному состоянию, и положил тяжелую белую ладонь на мою руку.
4
Идем со старшим сержантом Бабкиным в город. Он отпросился, а мне выхлопотал увольнительную записку до двадцати трех ноль-ноль. Мы с ним самые близкие друзья в роте. В последнее время, правда, когда его назначили помкомвзвода, мы реже бываем вместе. Ему поставили железную койку рядом со старшиной (вообще-то им полагалось по отдельной комнате, но с жилплощадью в роте было плоховато), и он словно бы отдалился от меня. Да и подчиненные должны видеть: дружба дружбой, а служба важнее. Но все-таки Бабкин выхлопотал мне на сегодня увольнение — это считается большим поощрением, — и мы шагаем вдвоем в город.
— Миррово! — говорит он, налегая на букву «р», будто командуя, и отмеряет костлявыми ногами широченные шаги по твердой снежной дороге. — У тебя девушка была?
— Была. — Стараюсь попадать с ним в шаг. — Когда на рыбозаводе после ФЗО работал.
— Хоррошая?
— Ничего. Только отбили ее…
— Значит, слаб в коленках оказался.
— Теперь думаю: фиг с ней!
— Заведешь другую.
— Завел уже. В Армавире живет.
Бабкин приостановился, скосил на меня густо-коричневые, монголистые глаза, отрывисто захохотал, будто закашлялся.
— В Америке? Как же целоваться будете на таком большом расстоянии?
— В Армавире, говорю. Переписываемся.
— Вот козел-фантазер!
— Зато дружок был настоящий, — сказал я, сердясь на свою болтливость. — На рыбозаводе тоже. Вместе призвали. Колька Дергунов, по прозвищу Лось. Погиб на Сахалине. Там, рассказывают, япошки смертников в дзоты насажали. Потом драпали, конечно, до самого пролива Лаперуза… А Кольку, человека, жалко.
— Понятно. У меня двух дружков…
Шагаем, поглядывая на белые, клубистые дымы Хабаровска. Словно кучевые облака легли на дома. Это от мороза и солнца. От искристого инея, висящего в воздухе. Нам хорошо, по-особенному весело. Потому, что кончилась война, потому, что впереди бесконечная, ясная жизнь, похожая на солнечное сияние города.
Слышится дребезжание, рокот — нагоняет полуторка. Бабкин кивает мне, мы расступаемся, пропускаем машину, как сквозь ворота, и сразу бросаемся вслед за ней. Первым цепляется Бабкин, переваливается, взбрыкнув ногами, в кузов, подает мне длинную руку. Хватаюсь, зависаю, карабкаюсь на борт, валюсь на дно кузова. Вместе пробираемся ближе к кабине, приседаем на корточки: здесь не так трясет, меньше режет встречный морозный поток.
Это наш обычный транспорт. Шоферы солдат не сгоняют, не требуют платы. Но и никогда не останавливаются: садись, как знаешь, сходи, где захочешь.
Доехали до крайних улиц, машина свернула влево, к дымным заводским корпусам, на повороте сбавила бег, и мы удачно покинули ее припорошенный угольной крошкой кузов. Посмотрели друг на друга — угольной пыли и нам перепало, под носами черные усы, — почистились платками, отряхнулись, затянули на бушлатах ремни.
Вскоре шли по главной улице. Она самая длинная, со старинными домами, магазинами, рестораном «Дальний Восток» и оканчивается площадью возле Амура. Держимся плечом к плечу, «не теряем ногу», как в малом строю, отдаем честь встречным офицерам. Мы подтянуты, начищены, и на нас, наверное, приятно посмотреть со стороны (даже я в кирзовых навакшенных сапогах — Бабкин выпросил у каптенармуса). Так и должно быть: народ любит сво* их солдат-победителей, гордится ими.
Я не спрашиваю, куда мы идем. Мне все равно. Главное — быть в городе, видеть каменные дома, стучать каблуками по асфальту, заглядывать в витрины магазинов. А они, витрины, делаются все более красивыми: ситцы, сатины самые разные появляются, импортные кофточки для женщин, кожаная обувь (скоро, поговаривают, и вовсе наступит прекрасная жизнь — отменят карточную систему). Может быть, сходим в кино, погрустим в тихом ресторанчике «Амур» — туда совсем редко заглядывает патруль — или просто съедим по три порции брусничного мороженого. Это решит Бабкин: он старший по званию и по годам, он пригласил меня, и ему известно, как распорядиться нашим общим городским временем.
Прошли мимо кинотеатра «Гигант», павильончика «Закусочная», главной почты. Остановились у входа в «Гастроном» — красивое здание, с витринными стеклами во весь нижний этаж, со скульптурой над порталом. Говорят, это бывший магазин богатого хабаровского купца… Бабкин глянул на штампованные, японской марки часы, нахмурился, думая, что-то прикидывая.
— Винца бутылочку возьмем?
— Давай…
Потолпились у прилавка, выбрали бутыль плодово-ягодного емкостью 0,75, потом за какую-то большую сумму Бабкин приобрел коробку соевых конфет, а оказавшийся в толпе барыга сплавил нам за сотнягу двух копченых сазанчиков средней величины. Рассовали все по карманам, довольные, покинули «Гастроном».
— Теперь так, — сказал задумчиво Бабкин, глянув опять на свою штамповку. — Свидание в три ноль-ноль, В запасе полчаса. Двинули полегоньку, пока найдем…
— Девушка? — спросил осторожно я.
— Катя.
— Когда познакомился?
— В прошлое воскресенье. Билетик предложил на сеанс…
— Понятно.
С главной улицы спускаемся вниз, к речке Чердымовке. Вообще весь город расположен на трех длинных горбах, между которыми текут речки Плюснинка и Чердымовка Грязные такие ручьи, неизвестно откуда берущие начало. Возможно, это просто сточные канавы… Берега плотно застроены деревянными домами (есть среди них довольно старинные, с цинковыми крышами, резными наличниками, окованными ставнями), щетинятся крепостным частоколом, заборами с колючей проволокой, горбятся сараюшками, хлевами, какими-то непонятными вертикальными строениями, похожими на голубятни, хотя за время войны от голубей не осталось и пуха. И народу здесь, понятно всякому, неисчислимое множество. По ночам стоит сплошной собачий лай. А найти нужный дом в этакой чехарде — очень даже нелегкое занятие.
Наконец видим номер 39 — широко рассевшийся старый дом под снежным куполом. Окна у самой завалинки, скособочены, бревна в трещинах, подточены жучком. Везде сараюшки, стайки, чуланы. Стучим в калитку. Из конуры высовывается тощая морда лайки. Пес грустно рычит — лаять ему, наверное, лень. Через несколько минут в двери сеней появляется старушечья голова в шапке-ушанке.
— Чего надо?
— Бабушка, где здесь номер 39-6в?
— С другой стороны.
— А как пройти?
— Как знаешь.
Старуха скрылась, накинула на дверь крючок.
Идем до следующей калитки. Собака. Голова.
— Не скажете, как найти «бв»?
— Не скажу. — А позади, из глубины дома, хохоток, песенка «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…»
— Нам Катю.
— Которую?
Бабкин молчал, лупая глазами, что-то вспоминая, но вспомнить, пожалуй, было нечего, он выговорил:
— Катю, черненькую…
Женщина обернулась в сумерки дома, спросила:
— Есть такие?
— Есть, — отозвались со смешком. — Две черненькие, одна рыженькая.
— Зайдете, что ли?
Женщина больше высунулась из двери, всматриваясь в нас. Была она толста, в годах, накрашенная и в широком цветастом халате на одной пуговице.
Мы стояли, не зная, как поступить: если Катя дома, то почему она не выйдет, если мы ошиблись, то зачем эта пожилая женщина обманывает нас?
Женщина прошла к собачьей конуре, захлопнула ее. С крыльца проговорила бойко, не оборачиваясь:
— Не трусьте, мальчики!
Вошли в низкие темные сени, протиснулись в еще более низкую дверь дома и оказались в большой, сухо натопленной комнате с несколькими кроватями, скрытыми ситцевыми занавесками. Посередине был стол, застланный довоенной скатертью, на нем — патефон, стопка пластинок, небольшой яркий самовар, горка чашек из старого пожелтевшего фаянса. Беленая жаркая плита, узенькая дверь в комнату-каморку, между оконными проемами — два портрета военных.
В комнате, казалось, никого не было, но, присмотревшись, я заметил: пошевеливаются ситцевые занавески, за нами следят в узенькие щелки. А вот послышался легкий смешок, пружинный скрип.
Женщина подтолкнула нас к вешалке у двери, молча подождала, пока мы разоблачились, провела к столу, усадила так, чтобы нам были видны все четыре кровати, крикнула негромко, однако довольно повелительно:
— Катьки, к вам мальчики!
Сразу же из-за двух занавесок, как выстреленные, выпорхнули две девушки — обе небольшого ростика, чернявые (может быть, умело накрашенные?), подошли к столу, уселись напротив нас. Одна, севшая ближе к Бабкину, оглядев его и меня, проговорила, вздохнув:
— Ах, какие сержантики!
— Смотри-ка, — удивилась другая, — один с медалью даже. — Она наклонилась к Бабкину, медленно прочитала: — «За отвагу». — И тут же, прижав к груди стиснутые ладошки, попросила: — Ой, расскажите, как вы воевали!
Бабкин глядел то на одну, то на другую, как в магазине на кукол, щеки у него закраснели, — а это с ним случается лишь от жгучего смущения, — и мне было непонятно, что происходит с ним. Ведь все, кажется, нормально: его Катя рядом, вроде симпатичная девушка; возле меня другая Катя (обо мне как будто тоже позаботились), на вид не хуже всех иных девушек на свете… Я уже собирался толкнуть Бабкина локтем: «Чего тебе не хватает!», — но он приподнялся, расправил гимнастерку под ремнем, поблуждал глазами и спросил куда-то в пустоту:
— А где Катя?..
— Мы же Кати, — спокойно, несколько сердито ответила его соседка.
— Нет, — приложил руку к медали Бабкин. — Другая, та…
Девушки засмеялись, будто услышали остренькую шутку, и обе как-то разом накинули нога на ногу, отчего полы их тесных домашних халатиков разошлись, оголив колени. Из-за наших спин к столу протянулись тяжелые, обнаженные до плеч руки и поставили на скатерть бутыль плодово-ягодного вина, коробку соевых конфет, два копченых сазана средней величины. Послышался уже хорошо знакомый нам голос:
— Не трусьте, мальчики. У нас здесь общежитие. Я за старшую… Девочки, организуем погреться.
Обе Кати вскочили, побежали к печке, открыли деревянный шкафчик, принесли граненые стаканы, нож, две засушенные соевые лепешки. Старшая, веско положив руку на плечо Бабкина, усадила его на место, ловко сколупнула с бутылки засургученную железку, разлила вино поровну в пять стаканов.
— Будем знакомы, — скомандовала она и выпила, ни на кого не посмотрев.
Девушки жевали соевые конфеты, а старшая разделывала сазанов. И вообще здорово эта женщина распорядилась нашими припасами. Надо пережить четыре года войны, набедствоваться, потерять много дорогого, до тонкостей приспособиться к военной жизни, чтобы уметь вот так, запросто, вынуть из чужих карманов вино, конфеты, рыбу.
Бабкин опять вырос над столом медленно и молчаливо. Он оперся рукой о край стола, поднял глаза, из-под стиснутых бровей уставился на старшую.
— Нет, вы мне скажете, где Катя, — выговорил он четко, даже слишком звонко. — Скажете?..
Старшая бросила рыбу, глянула быстро на Бабкина, вытерла о фартук руки.
— Фу, какой серьезный! Так бы и говорил. — Она неторопливо уселась на стул, положила в подол ладони. — Была. Ушла от нас. Совсем.
— Давно ушла?
— С осени, с сентября будет.
— Зачем пригласила сюда?
— Этого не могу знать, мальчик. Ты знакомился…
— Ясно.
Бабкин бережно отставил стул, пошел к вешалке. Я вскочил, заторопился следом. Старшая тоже подошла к вешалке. Мы быстро и четко оделись. Старшая все это время молчала, скрестив руки под фартуком. Когда мы повернулись, чтобы сказать «до свидания», она проговорила спокойно:
— Может, останетесь?
— Нет.
Я глянул от двери в глубину комнаты и как-то отчетливо увидел девушек. Они так и сидели за большим дубовым, очень старинным столом, обе кукольно-маленькие, с бледными крашеными лицами, и не улыбались. И стало видно, что они уже немолодые и совсем разные: у одной голова круглая, на тоненькой шейке; у другой — продолговатая и словно бы прилеплена к узеньким плечам. Но главное — девушки не улыбались: от них, наверное, так запросто никто не уходил.
На улице засинело, воздух потрескивал морозцем.
Я не задавал Бабкину вопросов: захочет, сам заговорит; да и шел он ходко, все обгоняя меня, будто не хотел, чтобы я видел его лицо.
«И чего бы нам не посидеть? — спорил я с ним Молча. — Чего пугаться? Тепло, выпили бы, у девчат пластинки имеются. Да и вообще интересно, что за люди, почему пригласили нас? Можно было подружиться с девочками, заходить к ним «на огонек»…»
Мы лезли в гору, с каждым шагом заметнее отрывались от Чердымовки — она погружалась в сплошную, затянутую речным паром черноту, кое-где продырявленную желтыми огоньками, и впереди вырастал город каменными домами главной улицы, бсвещенными витринами, автобусами. Мы как бы возносились от земли к небу.
На асфальте Бабкин свернул влево, сбавил шаг, мы медленно заскользили мимо ярких, расписанных морозом витрин. Времени у нас еще порядочно, и если бы это было летом, направились бы к Амуру, побродили по парку, посидели на утесе, где всегда мальчишки и старики ловят сачками мелкую рыбешку; съели бы мороженого, поглазели на женщин, погрустили; а потом, искупавшись, разлили «на двоих» бутылку плодово-ягодного. И конечно, постарались бы познакомиться с девушками. Но теперь, в мороз, после неудачи на Чердымовке, даже киносеанс мало интересовал. Расстроились мы оба, развинтились как-то. Нам бы… Ну, вот это самое… Бабкин уже свернул к павильончику «Закусочная», Словно мы заранее договорились. Даже при полном молчании можно хорошо понимать друг друга, если мысли и чувства одинаковы.
Здесь было парно, дымно. Пахло валенками, сырой кожей, телогрейками.
Пробираемся в дальний угол, в самую темень, дым: Бабкину ничего, он сверхсрочник, а меня может забрать патруль. Здесь, в тесноте, не так опасно, и все рассчитано: юркну под стол в нужное время, пережду. Садимся лбами друг к другу. Молча пьем, едим. Хорошо все-таки вот так посидеть, выпить немного, помолчать. Человеком становишься, и заплакать хочется, если подумаешь, что когда-нибудь будет и у нас тихая, сытная жизнь до самой старости.
Бабкин подымил папироской, глядя мимо меня, сказал
— Вот тебе и «мирово»!
— Плюнь. Береги нервы.
— Ну, ты пойми, зачем? Ну, познакомились, в кино посидели, в ресторане там… За что меня обманывать? В 39-6в… посылать? Чтобы я знал, откуда она? Или остался там — испытать меня? Почему такое зло?
— Не захотела, наверно.
— Так я же не принуждал.
— Плюнь. Война все это!
— А-а… Был я на войне и скажу, слушай: люди везде люди. На войне тем более. На войне всякого видно. — Бабкин замолчал, хлебнул вина. — Правда, война лучше военного тыла. Чище. Это мне понятно теперь. Там самое страшное — погибнуть. Здесь — нечеловеком сделаться.
Бабкин говорил и говорил. Его, оказывается, очень больно задела вся эта чердымовская история. Потрясла прямо. У него дрожали губы, и глаза все наполнялись влагой, как бы пухли, словно в них наливалось вино. А я думал о нем, о его Кате. Кто он, старший сержант Бабкин?.. Сибирский паренек, из какой-то деревушки под Красноярском. Воевал, был ранен, получил медаль «За отвагу» — очень уважаемую солдатами. За что, не рассказывает: или тяжело вспоминать, или боится хвастовства. Остался на сверхсрочную, хочет получить комнату в Хабаровске, вызвать к себе одинокую мать. Впоследствии видно будет, что делать. Может, поступит в институт, может, сразу на завод — учеником токаря. Важно сейчас определиться на местожительство, а Хабаровск ему понравился: тут и рыбалка, и охота, три института, производство.
Бабкин принес еще по банке вина. Отхлебнули, Заели очередной порцией еды — пирожком и селедкой. И он улыбнулся наконец, откинулся к стене, расстегнул бушлат.
— Полегчало вроде, — выговорил почти нормальным голосом.
— Может, надо найти Катю? — спросил я.
Бабкин мотнул головой, впервые нехорошо выругался.
Я вспомнил о письме из дома, вынул, перечитал. Мать писала, что скоро будет перебираться в город (здесь еще с довоенного времени живет моя старшая сестра), надоел Север, плохой климат, надоело жить без овощей. Подумал, что и мне придется после демобилизации остаться в Хабаровске, учиться или работать. Мы будем дружить — Бабкин и я, построим общую лодку, будем ездить на рыбалку.
Бабкин сунул мне банку — оказывается, сходил в третий раз, — стукнулись стеклом, и он сказал:
— Не зря служим. Выдюжим. Служба нас главному научила: не плакать, не жаловаться маме.
5
Утром, сразу после физзарядки, пронесся слух: сержант Рыбочкин, дежуривший в ночную смену, поймал сигнал воздушного оповещения. Немного позже, когда мы вернулись из столовой, было объявлено: сегодня роту посетит командир полка.
Свободных от несения службы распределили по объектам: казарма, пищеблок, аппаратная, офицерские комнаты, двор — чистить, драить, наводить шик-блеск.
Возникла суета, неразбериха, словно перед праздником. Нарушилось обычное течение жизни: два события — сигнал оповещения и командир полка — нежданно ворвались в казарму, озаботили каждого из нас. Офицеры же, напротив, сделались молчаливы, даже как-то застенчивы. Меня подозвал к себе младший лейтенант Голосков.
— Может, пойдешь ко мне? — спросил он. — Поможешь книжки сложить, а?
Мне не хотелось уходить из казармы Здесь было веселее: ребята шутили, гадали о ночном сигнале, ожидали с дежурства пару, которая сменила Рыбочкина (сам он сейчас спал), чтобы расспросить, записан ли действительно в журнале этот сигнал. Да и вообще в такое время интересно быть вместе со всеми. Но подумалось: Голосков все равно пошлет к себе кого-нибудь, а это как бы нарушит нашу дружбу, и я сказал:
— Пойду.
Вышел наружу, побродил немного по двору, постоял у открытого настежь окна кухни. Краснорожий Шемет шуровал в котле черпаком, рубил тесаком мясо, заправлял компот, покрикивал на подчиненных— кухонный наряд, — делал все сразу и, казалось, ему все-таки не хватало дела, потому что он выкраивал минуту-другую постоять у раскрытого окна, курнуть папироску, подышать морозом.
— Фронтовой будет обедец! — прокричал мне Шемет.
И это хорошо, празднично — «фронтовой обедец», по случаю приезда полковника. Активно настроившись, иду на офицерскую половину. Комнаты у них не запираются, толкаю дверь Голоскова, вполне по-хозяйски вхожу в его «берлогу». Точно, его комната напоминает берлогу, я еще тогда заметил это, однако не нашел подходящего слова. Сейчас легко подумалось: у больших неуклюжих людей жилье напоминает берлогу, у маленьких, юрких — птичьи гнезда.
Так, начнем действовать. Завожу патефон, ставлю пластинку.
Преотлично. Смотрю на стенку — на меня глядит белокурая застекленная Маша. Смотрю долго, говорю ей: «Улыбнись, Маша… Это ничего, что ты умерла. Голосков тебя любит — значит, ты еще живешь. Ты, конечно, умрешь когда-нибудь, когда умрут твои родители и женится Голосков. А может, и тогда ты будешь жить в нем, до его последнего дня. Он парень упрямый, кряжистый… Все равно ты счастливая, Маша: у тебя был Голосков. Ну, улыбнись, пожалуйста…» И Маша улыбается — я вижу ее сощуренные, голубые, огромные глаза, лучики морщинок возле них, чуть раздвинутые губы. «Вот и хорошо. И Голосков скоро уедет в свою родную Москву, будет учиться на врача, ходить по тем улицам и бульварам, где вы ходили вместе. Будет всегда помнить тебя…»
Теперь надо подмести в комнате. Веника, понятно, нет. Одеваюсь, выхожу во двор, бреду по глубокому снегу до первой елки, ломаю ветки. Руки чернеют от смолы, а когда вхожу в комнату, запах оттаявшего леса наполняет ее. Для берлоги — это то, что надо. Мету, выгребаю мусор за порог. Веник сую в угол возле умывальника: пусть еще долго пахнет смолой.
Принимаюсь за книги. Их много, сложены вроде аккуратно, но можно лучше. Отгораживаю стулом часть стены от окна к углу, укладываю, воображая стеллаж. Художественные, политические, исторические, медицинские. Больше по медицине. Поднимаю крупный том — «Хождение по мукам». Мировая книга, говорят. Надо попросить у младшего лейтенанта. А вот «Лечебная гимнастика», «Мозговые оболочки», «Микседема», «Неврастения»…
Это интересно, насчет нервов. Все мы немножко психопаты. Надо почитать.
«…Заболевания нервной системы, относящиеся к неврозам, развивающимся вследствие длительного перенапряжения, переутомления, недостатка регулярного отдыха и необходимой продолжительности сна…»
Так, перенапряжение, переутомление… Есть. После войны у всех есть.
Насчет регулярного отдыха у нас в роте нормально. Спим вдосталь.
«…а также после длительных неприятностей, систематических психических травм…»
Распахивается дверь, в проем, как в портретную раму, вписывается ефрейтор Потапов. Начищенный, подтянутый, слегка вспотевший.
— Он читает! В казарму, живо! Личный состав строится!
Можно и не торопиться: Потапов вечно порет горячку, суетится, выслуживается. Воображает себя героем в будущей фантастической войне, про которую он все знает из книжек. Потапов конечно, пойдет учиться на офицера — у него все данные к этому. Каждому своя дорога, я понимаю, но зачем орать?.. Быстро складываю книги, не очень старательно бегу за Потаповым.
В казарме никакого построения. Наоборот, полный порядок обыкновенной жизни: отдыхающие спят, свободные от службы, разбившись на две группы, занимаются. Руководят занятиями Бабкин и Беленький. Офицеры, должно быть, в канцелярии, совещаются. Я замечаю — занятия идут больше для вида, чтобы создать деловую атмосферу (вот, мол, всегда у нас так!). И в общем-то у нас действительно всегда так. Но сейчас весь личный состав сплоченно старался доказать это.
— Сержант! — окликнул меня Бабкин.
Я присоединился к его группе, изучающей тактико-технические данные РБМ (радиостанции батальонной малогабаритной) — нашей родненькой, мучающей нас на всех учениях.
— Ефрейтор Мищенко! В передатчик не поступает питание. Как вы будете действовать?
— Як действувати? — медленно распрямляет себя полууснувший Мищенко. — Та хиба ж…
От соседней группы слышится ровный, железно четкий говорок старшины Беленького:
— В артиллерии наиболее распространены затворы поршневые и клиновые…
Мне здесь лучше, у Бабкина. РБМ знаю наизусть, да и, кроме меня, есть кого спрашивать, «салажат» достаточно. Устраиваюсь поудобнее, смотрю в окно. Видна кромка березового леса — розовые жилки-веточки, кусок неба, фиолетового от мороза, низкие и плотные дымы города. Слушаю словно бы отдаленное бухтение голосов, думаю: «Уже время обеда, но команды не дают — ждут полковника». А вот шепоток рядом:
— Ну, как сигнал?
— Точно. Поймал Рыбочкин. Важный. Из штаба вроде подтвердили.
— Наградят Рыбочкина?
— Должно…
Течет, журчит время. Приоткроешь глаза — сиянием неба, белыми дымами, розовыми жилками, расщепившими воздух… Смежишь веки — говорком, теплом, необоримой ленью… И внезапно команда:
— Строиться на обед!
Значит, все, не будет командира полка. Ложная тревога. Кто-то в штабе подшутил или полковник отложил приезд. Обидно стало за командира роты, всех офицеров, за себя — так готовились, старались, начистились, душевно напряглись. Ждали с радостью и страхом, как и положено встречать высшее начальство. И вот будто отменили праздник. Будто обманули. К чему же тогда «фронтовой обедец» Шемета— тоже человек старался. Конечно, съедим, однако без необходимого на то права.
Строимся, выравниваемся. Подталкиваем друг друга, вполголоса бранимся. Все пошло по-обыкновенному, скучновато. Даже старшина Беленький в забывчивости держит рукой пряжку ремня — редкостная для него небрежность.
— Смирна-а!
И тут во всю ширь распахивается дверь канцелярии, из нее, словно выстреленные, вышагивают майор Сидоров, капитан Мерзляков, командиры взводов.
— Отставить! — негромко бросает, не глядя на строй, Сидоров, идет к выходу.
— Разойдись. Продолжать занятия! — мгновенно сработал старшина Беленький. — Моя группа ко мне!
Рассаживаемся, настраиваемся на занятия. Бабкин торопливо распаковывает оба ящика радиостанции, разбрасывает такелаж по столу, вызывает Мищенко.
— Тактико-технические данные…
— Та я ж уже отвечав…
— Поперечный!
Смотрю в окно, на дорогу. Она острым белым лезвием впивается в рощицу, и на ней никакого движения. Смотрю. И в конце лезвия вдруг взвивается снежное дымное облако. Кипит, ширится, вытягивается вдоль дороги к казарме. Из него проступает тупое рыло «виллиса», два передних рубчатых колеса, стекло, кабина. На утоптанном дворе облако рассеивается, опадает, «виллис» подваливает к самому входу, клюнув рылом.
Шофер выпрыгнул из своей дверцы, обежал спереди машину, распахнул противоположную дверцу, отступил на шаг. В проем высунулась серая папаха, до блеска начищенный сапог, золотые широкие погоны.
Откуда-то сбоку, будто по воздуху, подлетел лейтенант Маевский — он дежурный по части, загородил маленького полковника, взял под козырек, вздернул подбородок (прислушайся — услышишь звон его тела), доложил. Слова его пробились в казарму стеклянным, обрывочным звяканьем. «Хорошо, что он дежурит сегодня, а не Голосков, — с успокоением говорю я себе. — Голосков испортил бы весь парад».
Полковник Стихин сделал шаг вперед, лейтенант отпрыгнул, как сшибленный щелчком, и в окне по-явился майор Сидоров. Неторопливо, но твердо, не распрямляя сутулой спины, буднично поднял к ушанке руку. Наверное, не успел ничего сказать — полковник махнул рукой, снял перчатку, протянул ладонь.
Маевский открыл дверь, пропустил вперед полковника и майора, влетел следом, из-за их спин прокричал:
— Ррота, смирно-о!
Мы вскочили, замерли. Полковник Стихин прошелся по нашим лицам медленным, до пронзительности емким взглядом, сам вытянулся, замер, как бы давая так же внимательно осмотреть себя.
— Товарищ полковник! Личный состав…
Он взмахнул рукой на стеклянный вскрик Маевского, слегка поморщился.
— Вольно! — точно среагировал Маевский.
— Постройте личный состав, — слабо приказал полковник.
Маевский выбежал на середину казармы.
— Ррота, становись!
Выстроились, как для боевого похода, во главе каждого отделения — отделенный, во главе взводов — взводные командиры. Майор Сидоров, капитан Мерзляков и лейтенант Маевский стали на шаг позади полковника. И он быстро двинулся вдоль рядов.
Нечасто навещал нашу отдаленную роту командир полка. Зато после любого наезда, особенно неожиданного, было что вспомнить и о чем поговорить: странностей у маленького, стремительного полковника Стихина было предостаточно, и никто не мог заранее предугадать его слов и поступков. В прошлый раз, осматривая казарму, он вдруг юркнул под нары. Вылез оттуда с носовым платком в руке и преподнес его майору Сидорову к самому носу: на носовом платке было пятнышко пыли. Дал изучить носовой платок командирам взводов. Рассказывают еще, в полку был случай: пришел полковник Стихин ночью в казарму — дневальный спит; снял его с дежурства, отправил спать, а сам дневалил до утра и ровно в шесть ноль-ноль произвел подъем.
Полковник короткими, непостижимо четко натренированными шагами идет вдоль первого ряда. Скошенным, нацеленным взглядом прощупывает нас с головы до ног, отчего кажется, будто кивает в отдельности каждому. Приближается ко мне. Костенею. Ловлю влажный, почти плачущий взгляд, выдерживаю. Он утекает вниз, как бы сплющивая меня (еще больше, до задыхания убираю живот), тяжко падает на ботинки… И возносится вверх и вкось — на моего соседа Скуратова. Пронесло. Расслабляюсь. Радуюсь чему-то. А может быть, чуть-чуть злорадствую: посмотрим, как другие! Не повезет же кому-нибудь.
Осторожно смотрю на полковника. Лицо у него худое, щеки западают под скулами и уж очень румяны, призрачно-румяны, нос острый — обтянутый кожей хрящ. Все это обычное, не очень выразительное, напоминает выписавшегося из госпиталя, изболевшегося человека. И лишь губы — четко очерченные, слегка выпяченные, молодо-свежие — делали лицо полковника особенным, навсегда запоминающимся. Каждое мгновение губы меняли свое выражение: твердели, вздрагивали, вытягивались в подобие усмешки, брезгливо обвисали, — заранее выдавая мысли и настроение полковника. А говорил он мало, торопливым, невнятным голосом.
Если уж кто настоящий солдат — так это сам Стихии. Ему гимнастерку рядового надень, обмотки намотай — все равно служить будет, хорошо служить. Он, Сидоров, Бабкин для меня и есть истинные фронтовики.
Когда думаю о войне, героях, я вспоминаю их. Они победили, такие, как они, бросались под танки, первыми поднимались из окопов. Такие в тысячах братских могил. Но и там, в братских могилах, они как бы все еще служат, учат служить нас, будут учить службе новых солдат.
— Вы, — слабо выговорил полковник, перед кем-то остановившись.
— Сержант Гмыря! — раздалось в ответ.
— Кто командир отделения?
— Сержант Зыбин.
— Сержант Зыбин, прошу сюда.
Зыбин-Серый сделал шаг вперед, повернулся налево, отстукал несколько шагов в сторону полковника.
— Научите сержанта Гмырю наматывать обмотки.
Серый стоит колом, впившись в полковника, не
зная, как понимать его слова.
— Некуда сесть? — спрашивает полковник. — Садитесь на пол, он же у вас чистый.
С радостью, будто узнали что-то необыкновенно волнующее, проникли в тайну бытия, Гмыря и Зыбин усаживаются посреди пола и наперегонки раскручивают ленты обмоток.
Полковник чеканит дальше. Выудил ефрейтора Смольникова, отослал спарывать и заново пришивать подворотничок — заметил нитку, прошедшую наружу.
Дернул чей-то ремень, самолично затянул, приговаривая:
— Вы ж не баба-роженица.
Кому-то приказал:
— Смотрите мне в глаза. — Через минуту молчания: — Почему вы ими бегаете? Стыдно смотреть мне в глаза? А вы не стыдитесь. Я воевал. Вот служу, стараюсь. Вместе служим, одной Родине. Смотрите в глаза, как солдат солдату. — Еще через минуту молчания — Так, хорошо. Будьте здоровы.
Левофланговому, толстому, низкорослому младшему сержанту Замогильному «повезло» больше всех: полковник приказал вывернуть наизнанку нижнюю рубашку и опустить шаровары до колен — решил осмотреть на «форму 20». Вглядываясь, быстро прощупал тонкими пальцами швы.
— Старшина!
У каждого из нас заныла душа от тоски и беззащитности: если обнаружит насекомое или даже признаки оного, топать нам сегодня в гарнизонную парилку, пропускать вещички, вплоть до обмоток и ботинок, через раскаленную газовую камеру; туда же нести одеяла, наволочки, матрацы (вытряхнув из них сено), а потом несколько дней подряд дышать вонью серного газа, недели две подряд по утрам проверяться на «форму 20».
Занемели в ожидании, до звона в воздухе обострили слух.
— Старшина, — повторил полковник, когда Беленький щелкнул каблуками у него сбоку. — Гляньте-ка сюда. — Он указал на руки Замогильного, робко придерживающие кальсоны. Беленький низко перегнулся. — Научите солдатика пуговицы пришивать.
— Слушаюсь! — спружинился вверх Беленький.
По строю сквознячком прошло легкое шелестение, кто-то зябко икнул. На сей раз сошло, бывает на свете и такое везение.
Полковник Стихии возвращается к голове строя, видит стоящих в сторонке Зыбина и Гмырю, осматривает их обмотки, сухонькой рукой трогает сутулое, кряжистое плечо Гмыри, слегка толкает, словно испытывая на прочность, и отправляет обоих в строй.
Совершает несколько шагов к середине строя, поворачивается, выкрикивает во всю мощь слабого голоса:
— Благодарю за службу!
Выслушав наш ответный, радостный, единогласный рев, поспешно шагает к выходу (вслед устремляются офицеры), впрыгивает в распахнутую шофером дверцу «виллиса» (офицеры берут под козырек) и уезжает, утопив казарму, ближний лес в снежном дыму.
6
Сержант Рыбочкин получил именные часы, благодарность командира части, двухнедельный отпуск в родные края. Это событие еще более потрясло личный состав радиороты. Особенно двухнедельный отпуск.
За все послевоенное время было два или три случая, когда отпускали домой, и то по самым крайним причинам: смерть отца или матери, тяжелое положение семьи.
В наушниках возникает писк морзянки, я быстро записываю, и на бумаге возникают слова «Салют Рыбочкину».
Это передал мне Бабкин с противоположного края стола. Мы в паре с ним тренируемся на прием и передачу.
Идут занятия по специальной подготовке, и весь наш взвод, захомутав головы наушниками, делает то же: пишет буквы и цифры на бумаге, строчит телеграфными ключами. Чуть сдвинешь наушники, тупой беспрерывный цокот напоминает кормежку кур на птичьем дворе. Выбиваю в ответ Бабкину: «Ура!», и даю «ец» — прошу передышки. Он выбивает «ок» — согласен.
Можно «побездействовать» несколько минут. Написать письмецо домой, поразмышлять, с «рабочим» видом привалившись к столу. Бабкин окликнет, пустив в уши едкий писк зуммера. Но сегодня мне не пишется, не мечтается. Из-за Рыбочкина?.. Пожалуй.
В окнах неслышно скользят снежинки от неба к земле — крупные, лопушистые, медленные, — на наш двор, на лес за белесой мглой. Радиомачта, мощно вздымаясь, истончается на уровне крыши, исчезает, размытая снегом. Все строения призрачны, как в мутной воде. И грустно от затерянности, и невозможно отвести глаза от живой белизны, затопившей вселенную.
Младший лейтенант Голосков сидит у окна, просторно разместившись на стуле, не мигая смотрит влажными шарами глаз в снежную бездонность за стеклами и, конечно, ничего не видит. Ощущает глазами, впитывает ими пространство, которое тонизирует его, вызывает медлительные, привычные, дорогие раздумья. На подоконнике — книжка, наверное, по медицине, и рука одна на подоконнике, как позабытая. Ремень расслабился, спустился до колен, гимнастерка собралась плиссированной юбкой. Увидел бы его сейчас полковник Стихин, сразу демобилизовал бы в запас: не получится из Голоскова солдата даже через двадцать лет.
А Рыбочкин едет домой, на Ургал — это недалеко, в малых Хинганских горах, — там шахты какие-то, он оттуда в армию призывался. Каптенармус Лебединский выдал ему новенькую шинель, сапоги б/у, однако вполне приличные, сухой паек высшей категории. И проездные получил, конечно… Нет, мне ничуть не завидно, не такой уж я мелочный человек: заслужил — получай! По уставу положено. Но почему Рыбочкин? Кто он такой? Пусть бы Зыбин-Серый, Потапов, даже Мищенко — все было бы понятно. Люди эти заметные, каждый по-своему выглядит и на примете, хорошей или плохой, у начальства. А Рыбочкина я и по фамилии-то едва знал — просто худенький, среднего роста сержантик, спокойный, малозаметный. Ни говорун, ни фронтовик, ни спортсмен, ни агитатор. Ни отличник, ни отстающий. Есть такие люди: будто и живет, но так тихо, никому не мешая, что кажется, может, его вовсе нет. И лицом он какой-то средний, похожий на многих других, я и сейчас не могу представить его себе: белесоватый, с обычным носом, непонятного цвета глазами. Одним словом, средний. О таких еще говорят: «Из-за угла мешком слегка пришибленный».
«Сержант Рыбочкин, сержант Рыбочкин!» — слышится все эти дни. То, что сержант, — пустяки: в роте рядовых почти нет. Звания присваивают за классность по специальности, а ниже третьеклассников (младших сержантов) у нас и к аппаратуре не подпускают. Есть даже несколько старшин — радистов первого класса. Другое дело фамилия — Рыбочкин, она теперь надолго запомнится.
На прошлом дежурстве я отыскал в журнале сигнал воздушного оповещения, принятый Рыбочкиным, — цифровой текст из пяти групп, в каждой группе по пяти цифр. И ничего больше. Такую радиограмму можно принять в полусонном состоянии, при помехах, самой малой слышимости. Проще нельзя ничего придумать.
Куда сложней буквенный текст или смешанный — буквы и цифры. Посчастливилось человеку! На его месте мог бы оказаться любой из нас. Приплыла к Рыбочкину золотая рыбка и спросила: «Чего тебе надобно, старче?..»
Если бы я получил две недели отпуска, поехал бы к себе на Север, на Охотское побережье. Рыбы разной половил, поохотился с дружком-эвенком Бэркэном (его и в армию не взяли, нужный человек — бригадир, пушнину добывает), браги попил — там ее на бруснике заквашивают, как вино настоящее получается. Девчонки не все поразъехались. И отговорил бы мать ехать в Хабаровск. В эту суету городскую, очень непривычную нам.
«Ти-та-та…» — прорезают мне уши сигналы. Даю знак: «Слушаю». Бабкич бегло строчит: «Кончай ночевать, а то как Замогильному…» Отвечаю: «Ты пока не полковник». Он мне: «Молчать! Принимай радиограмму».
Занимаемся. Передаем, принимаем цифровые, буквенные, смешанные тексты. Нам скоро сдавать на первый класс. Будем старшинами, прибавят денежное содержание, особенно моему дружку Бабкину. Мне выдадут кирзовые сапоги — тоже золотая мечта: очень уж надоели глисты-обмотки!
Напротив меня, чуть левее, трудится Зыбин-Серый. Он наклонился к столу, что-то метнул себе в мощный рот, медленно, скрытно жует. «Орешки» тайно потребляет — такие шарики из белого сладкого теста, сваренные в масле. Эту удобную еду присылает ему мать, чтобы в любую минуту Серый мог подпитаться.
Мищенко подремывает, прикрыв грудью ключ и подперев костлявую щечку рукой. Он в паре с Гмырей. Того тоже к столу клонит. Им больше третьего класса не надо. До родной хаты добраться, до сада-огорода. Сальца шматок, горилку, девку за гарный бок ухватить… Служба-то идет, а обстановка самая мирная, вот и дрыхни до последующих указаний. Береги здоровье — второго в жизни не будет.
Другое дело — Потапов. Чистый работник. Рубит на ключе часа полтора уже. Без перерыва. Замучил слабого Васюкова. Но Потапову никого не жалко. Ему надоело быть ефрейтором, хоть и служит всего второй год; до потери сознания он командовать любит, вытягиваться в струнку, дрожать перед начальством, кричать на подчиненных, носить красивую форму. На нем и обмотки сидят, как сапожки-джимми. Другие против него — средней старательности люди. Делают то, что прикажут.
Попискивают на разные тона голоса зуммера. Стучат-клюют ключи. Сплошной курятник. Бабкин сыплет мне в уши цифровые и буквенные группы, разрабатывает кисть руки, поддает «жарку». Скорость на уровне первого класса. Потом я беру ключ, передаю ему эту же радиограмму, чтобы проверил, много ли у меня ошибок. Имитируем радиообмен в эфире.
Я охотно занимаюсь спецподготовкой. Для себя. Вдруг пригодится! Думаю, что наверняка пригодится. Уволюсь — специальности никакой. В институт сразу не сунешься, никто мне там теплого места не приготовил, а на стипендию учиться в обмотках и гимнастерке — лучше необразованным остаться. Без высшего тоже люди, хотя, конечно, пожиже. Вот и пойду сначала радистом куда-нибудь: в геологическую экспедицию, Амурское пароходство или гражданскую авиацию бортрадистом; можно и просто в почтовую радиосвязь. Везде примут с первым классом, с нашей армейской муштровкой. Институт придется заочно кончать — это в мою судьбу заранее вписано: мать с младшей сестренкой едва перебиваются, богатых родственников никогда не водилось.
— Взвод, встать! — слышится команда. — Приготовиться на обед!
7
Сержант Зыбин хмурит серые брови, кисло кривит серые губы, не глядя на меня, полувыговаривает: — Давай, давай!..
Выходит у него это как: «Тавай, тавай!» — нестрого, по-деревенски. Наверное, так он подгонял бабью бригаду в колхозе. Однако командует по-серьезному, потому что шутить не умеет, даже со злостью — одышливость появилась, словно нутро перегрелось. Он нарочно внушает себе, будто я плохо работаю; от этого злится еще сильнее, понимая, конечно, нехорошо это, но… и т. д. Зыбин потому и Зыбин, а не Мищенко или я. Он должен быть Зыбиным, оправдывать свое зыбинское рождение на свет. Зачем-то он родился, как и каждый из нас.
— Тавай, тавай!
— Таю, таю!
Серый не улавливает юмора, и я немного благодарен ему: очень не хочется ругаться, когда работаешь, вдвое больше силы тратишь. Да и работа нам перепала пусть и не очень «умственная», но все-таки не совсем простецкая вскрыть схему радиопередатчика РАФ — где-то что-то в ней нарушилось, перегорело, отсоединилось, и громоздкий аппарат бездействует вторую неделю. Нам поручено только вскрыть — снять кожух, отсоединить блоки, обнажить внутренности, потом придет кто-нибудь из наших инженеров, отыщет неисправность.
Передатчик в автофургоне, работать тесно. Все прижато, привинчено, подогнано так, чтобы не осталось ни единого бесполезного сантиметра — по военному расчету. Будто бы аппарат смонтирован на ближайшую тысячу лет и никогда не поломается. И Темно в фургоне — подсвечиваем друг другу лампочкой-переноской. Еще надо подшуровывать железную печурку, прогревать фургон: нам-то терпимо, в перчатках можно, а у инженера пальцы к контактам пристынут.
Собрали в коробку болты, сняли железный кожух. Мать моя матушка! Провода разных расцветок, сопротивления, конденсаторы, намотки, обмотки; и само собой лампы, величиной с полуцентнеровый бочонок. Когда видишь это на схеме, не очень страшно, схема-то в плоскости развернута, и на ней все понятно. Здесь же по соображениям компактности нагромождено, переплетено, перевито… Кажется, не найдется такой головы, чтобы разобралась в этом месиве. А ведь РАФ — радиостанция армейская, фронтовая — устаревшего типа и, наверное, снята с вооружения в боевых частях.
— Техника! — кивнул я на странно-бессмысленное обнажение.
— Подбери инструмент, — сказал Зыбин-Серый.
— Давай закурим!
— Подбери, слышал?
— Понадобится же еще…
— Выполняйте!
Собираю инструмент, укладываю в специальный деревянный ящик. Ключи, отвертки, кусачки — в свои отсеки, по своим местам. Закрепляю, как для похода. Зыбин следит и, чувствую, сердится: придется снова все распаковывать; но молчит — ведь сам приказал. Он распорядился просто уложить инструмент в ящик, для порядка, а я основательно выполняю приказ. Зыбин сопит, накаляется, однако молчит — не уточняет приказ: боится, что я психану, пошлю его подальше, и опять придется на меня докладывать Голоскову или старшине Беленькому. Тем уже это надоело, они прежде всего «накачают» самого Зыбина, чтобы умел руководить подчиненными, потом займутся мной. С другой стороны, Зыбину приятно любое беспрекословное подчинение, точное исполнение в его присутствии приказа. Вот и молчит он, хоть и накаляется.
— Товарищ сержант, ваше приказание выполнено! — насколько можно вытянувшись в фургоне, докладываю я. — Разрешите подкочегарить печку!
Зыбин-Серый взглядывает на меня — вполне ли серьезно идет служба? — ничего обидного для себя не обнаруживает в моем голосе, разрешает:
— Подкочегарьте.
Бросаю в печурку березовые мерзлые полешки, греюсь, насвистываю: «Улыбнись, Маша, ласково взгляни…» Думаю о Зыбине-Сером: зачем я его «завожу»? Подшутить над ним мне ничего не стоит. Каждый раз говорю себе, что не буду, и не могу удержаться. Мне нравится его разыгрывать так же, как ему командовать. Он начинает проявлять власть, я начинаю «дурачка велять». Иногда мне становится жаль Зыбина-Серого: большой, себялюбивый и неумный. Он же не виноват, что таким его на свет произвели. Но чаще злюсь на него: откуда готовенький командир на мою голову взялся?
— Слушай, — говорю я, переходя на «ты» и подавая жестяную коробку с махоркой (мы с ним то на «вы», то на «ты» — по обстановке). — Почему командовать любишь?
— Чего? — Он берет из жестянки щепоть, скручивает крупную цигарку.
— Командовать, говорю.
— Надо.
— Ты же не собираешься на сверхсрочную.
— Везде порядок нужон.
— Так это ты его будешь наводить?
— Я тоже, а как же.
— Да на кого ты готовишься?
Зыбин-Серый приценивается ко мне, долго молчит, что-то упорно соображая, для этого морщит большущий бледно-серый лоб, метким щелчком швыряет окурок в открытый зев печурки.
— А ваше какое дело?
— Наше — никакое. Просто интересно.
— Не обязан докладывать.
— Я же по-дружески.
— В низах не останусь. Будьте спокойны насчет меня.
— Понятно.
Вот и опять я закипаю: не могу спокойно переварить слова Зыбина, откуда этот упрямый, уверенный, быкообразный человечек? Хоть бы смутился, захохотал, покраснел или в конце концов выматерился. Чтобы можно было понять его, посочувствовать (всякие недостатки бывают у людей, никто от них не избавлен), чтобы жену его Лизку не очень жалеть — человек как человек Зыбин. Нормальный. Может, и отцом хорошим будет.
— У тебя мания величия, — говорю я.
— Чего?
— Болезнь такая есть.
— Никогда не болею.
Зыбин расстегивает бушлат, подставляет теплу широкую, выпуклую грудь.
— У меня стишки есть про манию. Послушай.
— Я не детский сад.
— Что ты! Даже очень важные люди полезные стихи любят.
— Иди ты!..
Договорить я не успел, и хорошо — назревал всегдашний скандал, — в низкую дверь фургона входил майор Сидоров. Вернее, протискивался плечом вперед, склонив голову. Для его громоздкой фигуры были тесными и дверь и фургон, в котором он, войдя, так и не смог распрямиться.
Мы не ожидали командира роты.
Вскочили, вытянулись по стойке «смирно», Зыбин доложил:
— Товарищ майор, ваше приказание выполнено! — Он, конечно, позабыл, что вовсе не командир роты приказал нам разобрать РАФ.
Сидоров не ответил, снял шинель, шапку, сел на такелажный ящик у стены. Скосил глаза за стеклами очков, медленно осмотрел цветные, яркие внутренности передатчика. Отвернулся. Подумал. Опять прошелся взглядом по блокам, лампам, жгутам проводов. Его застекленные глаза, казалось, стали частицами аппарата.
— Ну, что посоветуете? — спросил нас.
Мы снова вытянулись, майор усадил нас своим нетерпеливым полувзмахом руки, и на мгновение с его глазах мелькнула обычная грусть. Зыбин-Серый, поедая глазами начальство, молчал, а я, пожалев, что заранее не подготовился к техническому разговору, сказал:
— Лампы действуют, предохранители тоже. Конденсаторы проверили — действуют. Кабель от генератора проверили…
— Значит? — перебил меня Сидоров.
— Значит… — повторил я, поспешно перебирая в голове не очень тяжкий груз радиознаний.
— Значит? — Майор глянул на Зыбина и словно пришил его к стене. Тот оторопел, минуту был в неподвижности, наконец, оторвавшись от ящика, доложил: — Не могу знать!
Майор полувзмахнул рукой, отвернулся, привычно загрустив.
— Контуры надо проверить, — сказал, как бы обращаясь к передатчику, — контуры… Определить, в каком.
— Так точно! — выкрикнул я, опять вскочив.
Оглядев нас в щелку под очками, майор усмехнулся и проговорил негромко, словно неуверенно советуя:
— Возьмите прибор, проверьте. — Достал портсигар, ударил мундштуком папиросы о крышку, продул, пустил по фургону дымок.
Мы подступили к передатчику. Сунув Серому прибор— держать, я взял штырьки-щупы с проводками, начал приставлять их к контактам на входах и выходах контуров. Подставлю — посмотрю. Отклонилась стрелка на приборе — хорошо, можно двигаться дальше. Лезу к верхнему, выходному контуру, полушепотом командую:
— Давай, давай… Выше. Ну, чего ты!
Приборная коробка тяжела, держать ее неудобно,
Зыбин пыхтит, напрягается, мечет на меня короткие, возмущенные до глубины души взгляды. Я чувствую, как внутри перекаляется его плотное, хорошо напитанное тело, подбрасываю огонька:
— Да ближе ты! Не укушу. Тавай-тавай!
Зыбин Серый слушается, а у самого лоб взмок. Но не от тяжести — это у меня дрожали бы руки и ноги, — от жгучей обиды: так простенько одурачили его! Он имел полное право на штырьки-щупы.
— Так, хорошо, — подбадриваю Серого.
По железным скобам лезу под потолок фургона.
Он держит прибор на животе, обхватив края руками, как тетка с грузным животом, жалобно поглядывает на майора Сидорова, немо крича: «Вы только посмотрите, товарищ майор! Он командует, а я командир отделения. Он же нахал. Он тут еще намекал… Прикажите, чтобы немедленно взял прибор. Так мы, знаете, до чего дойдем!..» Однако я спокоен — крика его не слышно. При начальстве он не закричит — сам себя чувствует подчиненным и мельчает перед другими. Такой человек Зыбин-Серый: командовать или подчиняться.
— Так, так… — подставляю штырьки к контактам, поглядываю на стрелку прибора.
Вот, кажется, замерла, не двигается.
— Посмотри, — говорю Зыбину.
Он качнул ящик, потрогал провода — не обрыв ли? — доложил:
— Не показывает.
— Ясно. Можете опустить прибор.
Спрыгиваю на пол, подхожу к майору.
— Товарищ майор! Выходной контур не действует!
Майор, при великой своей молчаливости, одарил меня словом:
— Молодец!
Сидоров сбросил шинель, аккуратно засучил рукава гимнастерки — руки у него оказались волосатые, сухие и длинные, как перекрученные в жгут жилы, — понес их впереди себя, словно хирург, подступающий к операционному столу. Железные скобы ему не понадобились, голова пригнулась как раз на уровне выходного контура; приподняв руки, он запустил их в радиовнутренности.
Я стал позади майора, приготовил инструменты, и очень вовремя: не оборачиваясь, он протянул за спину руку, сказал:
— Отвертку.
Вложил ему в ладонь отвертку. Через минуту принял дутую, воронено подкопченную лампу, передал Серому; тот уложил ее на мягкую ветошь. И пошла работа. Майор коротко командовал: «Ключ!», «Плоскогубцы!», «Прибор!», «Отвертку!» — и я расторопно, заранее готовясь, подавал ему, а от него принимал детали, которые всовывал послушному Зыбину.
Наконец, опустив руки и полуповернувшись, майор сказал:
— Приготовить паяльник.
— Приготовить паяльник, — как эхо повторил я, держа в руках ящик с инструментом, и Серый бросился выполнять наше приказание.
Сидоров глянул в отсек передатчика, где размещался выходной контур, слегка отстранился.
— Гляньте, что там?
Я вскочил на вторую скобу, сунул голову в отсек. И сразу заметил: проводок в желтой изоляционной обмотке как бы пересох, потемнел, потрескался; вокруг него облачко копоти, отпечаток вспышки; сам проводок превратился в труху.
— Замыкание, — сказал я.
— Отчего?
— Оголилась изоляция.
— Почему?
Вопроса этого я не ожидал и, как в первый раз, умственно засуетился. Почему? Нас этому не учили, да и невозможно всему научить, могут ^быть частные особенности и недостатки в каждой отдельной схеме. Их не учтешь. Они объясняются лишь данным случаем… Что же произошло здесь?.. Вон уже Серый с явным удовольствием воззрился на меня, его мысли, как радиоволны, передаются мне: «Так тебе и 1надо, дохлячок, не будешь выскакивать!». Почему?
А если от лампы? Перекалился? Осыпалась изоляция? А потом уже… Маловероятно. Такое может случиться раз в сто лет. Но другого здесь ничего не придумаешь.
— От лампы, — сказал я.
— Молодец!
Меня окатило жаром восторга, редкой удачи — в глазах, словно перед плачем, погорячело: так показать себя командиру роты, да еще в присутствии Зыбина-Серого! Наш майор за весь этот год ни одной благодарности не объявил, никого не поощрил (кроме, конечно, Рыбочкина), а тут сразу два «молодца» мне перепало. И пусть их не запишут в личное дело — такие слова, к тому же сказанные не перед строем, туда не вносятся, — все равно здорово!
Майор опустил рукава гимнастерки, надел шинель, застегнулся и, боком просовываясь в дверь фургона, блеснув очками, сказал:
— Соберите сами.
Можно и передохнуть. Собрать — соберем, пустяковое дело. Не инженерное. Подкочегариваем печку, садимся курить.
Затягиваюсь дымом по-настоящему — от переживаний острых, наверное. Зыбин долго молчит. Чувствую; мужает, приходит в свое обычное состояние, откинулся к стене, достал носовой платок, громко высморкался, покашлял на разные голоса, прочищая горло от долгого, застойного молчания, приказал:
— Приступайте.
— А ты?
— Прошу не тыкать. У вас была легкая работа. И вы нахальный человек. Я это учту на будущее. Можно сказать, обманули своим показным поведением командира роты.
— Ну и скажи.
— Не ваше дело. Выполняйте приказание! — Зыбин вскочил, принял стойку «смирно». — Даю минуту. Не приступите, накажу.
По уставу Зыбин-Серый может дать мне всего один наряд вне очереди. Ну зачем мне хотя бы один? Беленький обрадуется — пошлет сортир чистить. Я и так почти штатный ассенизатор. Минуту держу Серого по стойке «смирно», но потом, когда Серый делается красным, раздумчиво поднимаюсь, иду к передатчику. Зыбин усаживается курить, пыхтит, сипит, как дырявый котел. Мне же становится опять хорошо: ведь это отличная работа — покопаться в аппаратуре, пошевелить мозгами, настроить нутро передатчика, тем более что все детали брал в руки, осматривал, ощупывал инженер-майор Сидоров.
Тружусь молчаливо. Беру детали, вставляю, нащупываю кончиками пальцев контакты, определяю место каждому проводку, и все это пахнет технической краской, немножко одеколоном и потными руками майора: кое-что он протирал носовым платком.
Думаю о нем. Что за человек? На службе тих, едва приметен, но ощущаешь его постоянное присутствие. Очень худой, до синевы под глазами (может, оттого глаза у него страшноваты?), сильный, жестко тренированный. Как он живет в городе, какая у него семья? Кто жена, и красивая ли она?.. Он никогда не командует, однако очень охотно его слушаются офицеры, а о нас и говорить нечего: хочется разбиться, выполняя даже маленькое его поручение. Такая в нем воля чувствуется, и она, верится, частично перейдет в тебя, если до конца подчинишься ей. Он самый загадочный в роте человек… Как запомнили его те, кто уже демобилизовался? Как вспоминают?
Но совершенно точно, каждому 'из них перепало от него хоть по капельке воли, сдержанности, молчаливости; на худой конец — скудного, много объясняющего взмаха руки. Значит, не всегда нужны слова…
— Ну? — строго спросил Зыбин-Серый.
— Что ну?
— За «тридцать три» получите наряд. Отвечайте по уставу.
— Приказание еще не выполнил.
— Выполняйте.
— Слушаюсь.
Так… На чем я остановился? Вставил лампу, надо нацепить катодный колпачок… Значит, не всегда нужны слова… И вот я видел его работу, помогал ему.
Сидоров хрипло дышал, покашливал, курил. Сказал мне несколько слов. И я, кажется, всем своим слабым существом открыл для себя великую истину: он, майор Сидоров, просто человек. Затверделый от войны. Уставший от семьи и, конечно, от ежедневных хождений из гарнизона в роту. И добрый человек (потому, наверное, молчалив). Я понимаю iTo и запомню навсегда. Мне, как видение, открылась истина. Но я никому не скажу о ней. Нельзя. Не всякий поймет. Невозможно объяснить. И майор Сидоров не захочет этого.
8
Она же такая…
— Знаю, — не дает мне договорить Бабкин. — Всю войну одна перемаялась. Не повезло ей. Не виновата она.
— Смотри.
— Смотрю.
Сидим у окошка, в закутке. Тихо. Лишь похрапывает кто-то простуженным носом, да изредка вскрикивает во сне ефрейтор Мищенко — детство свое в оккупации никак позабыть не может. В роте послеобеденный мертвый час.
Я бы тоже лег — Бабкин позвал говорить. И вот сидим, больше помалкиваем. Поглядываем в окно. А там невыносимо ярко от снега: его коснулся издалека прилетевший теплый ветерок, подплавил макушки сугробов, заслюденил, и сияют они теперь невозможно остро, до боли в висках. Лес отсырел, набух каждой веточкой, закраснелся, поплотнел. От этого тоже как-то и смутно и ярко в голове, хочется закрыть глаза. Или сказать: «Скоро весна», — а потом лечь спать. Но Бабкин ждет, ему надо услышать еще какие-то слова, и я спрашиваю:
— Матери написал?
— Нет пока.
Что ему посоветовать? В город он ходил один, побывал на Чердымовке, разыскал Катю. Вернулся веселый, насвистывая мотивчики (я старался на расстоянии держаться — не до дружка в такие минуты). Потом остался в городе ночевать. Где? У кого?.. У Кати, наверное. Пришел рассеянный, о чем-то думая. Со старшиной Беленьким грубовато поговорил. Мне ни слова — как там у них с Катей, какая любовь? А теперь советуется… Пригласил бы по-дружески, посидели втроем или в кино сходили. Со стороны бывает видней, не влюбленному-то. Тем более — девушка с биографией. Она же, если захочет, сто раз вокруг своего пальчика обведет и на дверь укажет. Мы против нее — сырой матерьялец. Неужели непонятно все это?
— Рассказал бы, что ли?
РАССКАЗ СЕРЖАНТА БАБКИНА О ВТОРОЙ ВСТРЕЧЕ С КАТЕЙ
— Пошел я опять туда, на Чердымовку, на «бв» это. Старшей дома не было, и хорошо. Одна Катя, толстенькая, у окошка сидела. Ждала кого-то. Сказал ей: «Знаешь ведь, говори». Сказал и придвигаюсь, руки в карманах держу, будто бы что-то нащупываю. Испугалась толстенькая. «Знаю, знаю, — зашептала, подумала немножко. — Улицу только знаю, найдешь. И молчи, ни слова нашей ведьме старой… На Пушкинскую иди, там внизу деревянные дома, в каком-то из них…» Поверил, пошел. Под вечер уже было. Найду, думаю. Пусть прогонит, обсмеет — найду. После того, помнишь, успокоиться не мог, заболел: не может быть, я же видел ее, говорил с ней, человек же она! Какая-то загадка есть, мало ли чего за войну поднакопилось.
И повезло, знаешь. Спускаюсь по Пушкинской, домишки считаю. Вижу, у колонки кто-то воду набирает, женщина или девушка. Ближе подошел: она! Катя! В телогреечке, в платке, какие бабки носят, валенки подшитые. Хотел крикнуть от радости, не смог почему-то. Подняла ведра Катя, несет. Поравнялся с нею, тихонечко взял одно ведро: «Разрешите, помогу». Она глянула, спокойно так спросила: «Вы»? — «Я». Ведро выпустила. «Позвольте, — говорю, — и второе». Отдала. Шагаем помаленьку, молчим. Возле хилого домишки в самом низу Катя остановилась, еще раз глянула на меня: «Нашли, значит?» «Нашел», — отвечаю. «Зачем?» — спрашивает. Держу ведра, моргаю, молчу. «Знала, — говорит, — что найдешь. Чувствовала. — Толкнула валенком дверь. — «Ну, заходи». В домишке-завалюхе темновато, но чистенько, вижу, занавесочки, тряпичные коврики. Бабуся допотопная сидит, чулок, как в сказке, вяжет. Сказал: «Добрый вечер». Ни ответа, ни привета. Поставил ведра на лавку, стою. Катя разделась, сбросила валенки, ушла в комнатушку за печкой. Долго там молчала, потом слышу: «Увольнительная до которого часа у тебя?» «На офицерской должности, — говорю, — могу до утра». «Хорошо. Снимай шинельку, протискивайся в мою келью». Засмеялась вроде бы потихоньку. А дверь и вправду — амбразура пошире, веришь, едва протиснулся. «Садись», — приглашает, стул подвинула, сама на кровать присела. Теснота. Стол, стул, кровать и два шага до двери. Каморка. У нашего каптенармуса побольше.
Знаешь меня, я не очень трусливый с девчонками. И первый раз, возле «Гиганта», когда пригласил Катю в кино, запросто подошел, нахально даже. А тут сробел. От тесноты, что ли, от бабки допотопной или потому, что один на один остались, без народа. Она смотрит на меня, кажется, посмеивается, я в окошечке сарай дровяной изучаю. Руки, хоть оторви, не знаю, куда деть, и на стол боюсь облокотиться — скатерочка чистенькая. Обалдел, одним словом. Маршал медаль вручал, я не так растерялся. Достал платок, вытер мокрый лоб, сказал, вспомнив Чердымовку: «Не хотите закусить?» Катя — ну, комедия! — наклонилась ко мне, кивнула на мою шинель за дверцей, спросила шепотом: «А имеется?..» Вскочил, вытащил из кармана банку тушенки, хлеб, сахару два куска — суточный паек. Подумал и бутылку прихватил — вермут, в гастрономе выстоял. Свалил все на стол. «Вот это парень! — сказала Катя. — Так бы и действовал сразу!» Она уперла в бока руки, тихонько запела:
Пойду выйду на крыльцо. Погляжу на небо. Не идет ли старшина, Не несет ли хлеба.И смеется мне в глаза: мол, радуйся — нашел, что искал, у нас по-простому. Но слышу, чувствую нутром — не очень-то она веселится, для показухи больше. Выдала себя, одним словом. Тут уж я перехватил инициативу. Спокойненько, однако, приказным тоном говорю: «Принеси стаканы». Катя глянула на меня, удивилась, улыбочку, как тучку, ветерком сдуло, вроде бы и рассердилась и немного испугалась сразу. Быстро вышла, принесла стаканы, тарелку, нож. Села напротив и все зыркала чернявыми глазками, пока я открывал банку, резал хлеб, выковыривал из бутылки пробку. Изучала, должно, меня. Почему-то злая стала, будто я ее отколотил. Пожалел, что так получилось: голос повысил. Скорее стаканы наполнил. «За встречу», — предложил совсем тихо, попробовал улыбнуться: извини, если что не так.
Катя выпила немного, отставила стакан, сказала: «Не выношу, когда на меня кричат. — Подумала минутку и так грустно спросила: — А может, мне надо приказывать? Как считаешь?»
Я промолчал, чтобы еще как-нибудь не обидеть ее. Она вздохнула, показала на дверь. В щель заглядывала старуха — один глаз выпученный, нос крючком, из уха волосы растут. Так меня и прохватило морозцем. «Чего она?» — шепотом спрашиваю. «Пригласи, есть хочет», — сказала Катя. Встал, открыл дверь, старуха шарахнулась, но не очень вроде бы испугалась, смотрит мимо меня, на стол. Зову, приглашаю, молчит, лупает совиными глазами. Понял: глухая. Взял под руку, усадил на свою табуретку, сам сел на кровать: другой-то табуретки не поместить. Катя подала старухе свой стакан, вилку. И тут бабуся начала действовать: выпила одним духом вино, принялась за хлеб и консервы. Шамкала, сопела, куски запихивала в рот пальцами. В минуту бы уничтожила наши припасы, но Катя вежливо отобрала у нее тарелку, остатки хлеба. Старуха поднялась, сердито проворчала что-то и на прощание схватила кусок сахара. Зыркнула на меня, выскочила в дверь. И сейчас вот, как сон плохой, вспоминаю. «Несчастная, — сказала Катя. — Совсем одна осталась». «Почему же в такой каморке тебя держит? — спрашиваю. — Там ведь целые хоромы». «Два сына у нее были, оба погибли. Никого в их комнаты не пускает, кровати застелила, костюмы, рубашки, книги — все, как при их жизни, сохраняет. Утром «доброе утро» им говорит, на ночь целует подушки…» — «И совсем одинокая?» — «Старик еще до войны умер, в гражданскую был изранен. Приезжала недавно сестра из Благовещенска, звала к себе, уговаривала продать дом. Слушать не стала… Вот так, мой товарищ старшина. Выпьем, что ли?»
Я не обиделся за «старшину». Понимаю: нарочно называет, чтобы как в частушке было. И не дает забыть: «Знаю, зачем пришел». Рассказала — работает телеграфисткой на главпочтамте, собирается на запад, домой. Ждет из города Смоленска письма от родственников. Пока ничего нет.
Стемнело уже, а Катя свет не включала. Сидим. Я ей о себе говорю: сибиряк, с Енисея, мать в поселке Даурское, на сверхсрочную остался. О тебе сказал: решили вместе город Хабаровск осчастливить… Детство свое вспомнил — рыбалки, тайгу, сплав по Енисею на плотах; отец плотогоном-лоцманом был. И как сестренка утонула — на перекате шалаш с бревен смыло, и ее вместе… Тогда ведь семьями на заготовку леса и сплав ходили. Катя слушала или нет — не понять было. Потом привалилась ко мне плечом, вздохнула: «Обними меня». Руки у нее холодные, и вроде бы вся она заледенела. Обнял тихонько, грею. И говорить стало не о чем.
Сколько сидели, не знаю, слышу Катин голос: «Может, всю жизнь просидим?» «Не знаю», — отвечаю. Катя поднялась, начала раздеваться. «Будем спать», — сказала. «Как?», — спросил я. Понимаешь, по-дурацки спросил, но так растерялся… «Как мужчина и женщина», — засмеялась Катя.
Ну, ты меня знаешь, я не мальчик, пришлось кое-чего повидать. И смерти понюхал. А тут — спать. Спать так спать, тем более с такой девушкой. И обманула она меня и обидела. Принять расчет предлагает. За все, и за угощение тоже. И тут, веришь, что-то со мною случилось: и жарко мне стало, и холодно, и стыдно И обидно, хоть разревись. «Да что же, — думаю, — для того я тебя искал, обиду стерпел… Да я бы на этом «бв» остался без всяких душевных бесед… Да ты меня за человека не считаешь!..»
Катя разделась, легла, приглашает: «Ну, шевелись, вояка». И я зашевелился. Выскочил, схватил шинель и шапку (по пути едва не прибил старуху: не то подглядывала, не то у порога топталась), выкарабкался наружу, как из глубины темной вынырнул, хватаю воздух, шинель не могу застегнуть Наконец разобрался, в какую сторону идти, пошел полегоньку.
У колонки воду пустил, напился. И слышу — хлопнула дверь, кто-то бежит ко мне. Ну, ты уже догадался: Катя. Валенки на босу ногу, бабкина шубейка, платок еле повязан… Подбегает, хватает меня за руку, да так цепко — потом пальцы болели, — говорит: «Куда ты в ночь?.. Не пущу. Прости. Утром уйдешь… И слушать не хочу, разорусь на всю улицу. Пойдем!» Что делать? Вернулся. Ведет, за руку держит.
Постелила мне на полу в своей каморке, сама на кровать легла. Не спит, чувствую. И я глаз сомкнуть не могу — вижу эти валенки на босу ногу, платок растрепанный… И жалко её, горло перехватывает. Не вытерпел, сказал: «Прости, Катя, как-то глупо все получилось. Не хотел тебя обидеть». Лучше бы не говорил или хорошо, что сказал, теперь уж и не пойму: она всхлипнула и заплакала.
Как она плакала, дружок! Мне не приходилось слышать такого плача ни в деревнях, по которым прошли немцы, ни на фронте. Так плачут и дети, и девушки, и женщины. А Катя — разом за всех. Такой плач рвет тебя, душу твою разъедает…
Сел я на край кровати, принялся успокаивать Катю. Что-то говорил, слезы вытирал, а подушка вся мокрая. Понимал: надо выплакаться ей, много всего накопилось. Вскоре она затихла, потом взяла мою руку, стиснула ладошками и совсем успокоилась.
До утра мы говорили. Я узнал, как оказалась Катя в Хабаровске.
В первый месяц войны отец пропал без вести. Немцы взяли Смоленск. Мать, она учительницей была, ушла к партизанам. Катю с бабушкой эвакуировали в Омск. Бабушка работала на швейной фабрике, потом заболела и умерла. Катя попала в детдом. Ей было тогда пятнадцать. После седьмого класса поступила на курсы телеграфисток, окончила, стала работать, писала письма на фронт, в Москву — ни одной весточки от матери и отца. Ходила в госпиталь, спрашивала фронтовиков, дежурила с подружками в палатах тяжелораненых. И тут её приметила сестра-хозяйка Санюкова, сказала, что и она одинока, потеряла мужа, пригласила к себе — все лучше, чем в общежитии. Но скоро Катя начала замечать: Санюкова приторговывает на рынке, да и с мужиками ведет себя вольно. Хотела уйти. Та не пустила, вещи отобрала, в горячке крикнула: «Вместе дело делаем! Выносила из госпиталя мои свертки? Выносила. А что в них, знаешь?» Догадаться пришлось: хлеб. Им-то и приторговывала из-под полы Санюкова. «Едва не повесилась, — говорит Катя, — а надо бы…» Через полгода попалась старшая подружка, однако выкрутилась (у нее и поговорка была: «Вертись молодка — будет закусь и водка»), но с работы выгнали. Вот тогда-то она и предложила: «Едем в Хабаровск, легче войну перетерпим, эвакуированных туда не посылают, рыбы много». Выхлопотала вызов от сестры — Дальний-то Восток был закрыт, нападения японцев ожидали, — и согласилась Катя ехать, опять припугнула ее подружка: «Запачканная ты здесь». Приехали на это самое «6в» на Чердымовке, родная сестрица отдала Санюковой половину дома. Быстренько освоилась Санюкова, подобрала жиличек, стала устраивать вечеринки с винцом и закуской. Ну, мы видели, как она ласково принимает… В чужом городе, без работы, без места, в семнадцать лет… Одним словом, обманула она Катю женихом, свадьбой. А потом было все равно.
Ничего, до Санюковой я доберусь. А Катя и сама вырвалась. Правда, боится ее имя назвать — дрожит вся. Домой идет — петляет по улицам, чтобы та не выследила.
Ну, скажи, как я могу ее оставить? Да мне ничего от нее не надо. А не вижу долго — ненормальным делаюсь.
…Бабкин расстегивает кармашек гимнастерки, достает бумажник, вынимает фотографию. Беру, вглядываюсь. Темноволосая, глазастая, с пухленькими губами, очень молоденькая девушка — «девчушка» называют иногда таких. И, наверное, ростика небольшого — по всему чувствуется (такие крупными не бывают, по «стандарту» не положено). Что-то капризное есть, что-то застенчивое, но ничего горестного.
— Давно снималась?
— В этом году.
— Симпатичная?
— Ага.
— Ну, как она вообще, я не об этом… — Вернул Бабкину фото. Я вроде и знал уже, что она красивая. — Ну, главное самое… — Запнулся, удивляясь: «Почему не могу выговорить это слово?» Наконец выжимаю из себя: — Любит она тебя?
— Молчит. Спрошу — нахмурится, застесняется.
— А ты?
Бабкин опустил локти на колени, сцепил пальцы, хрустнул суставами. Выпуклой темнотой глаз уставился в белизну снега. Слегка свел плотные, остро сломленные в верхушке брови. Занемел, как бы вслушиваясь в себя.
Я не мешал ему. Поглядывал, думал о нем. Крупный, хорошо сложенный, с румянцем на щеках. И сильный. И, должно быть, смелый: медаль «За отвагу» просто так, на память, не выдают. А вот растерялся, притих. Может, ему и подумать по-настоящему некогда было: здесь служба, суета; там, когда увидит Катю, вовсе не до этого. Обидно стало за себя, за него. Какой он жених? (Жалеет — вот и бросать не хочется!) Какой я советчик? Из беспризорных мы оба. Нам бы демобилизоваться, да учиться идти, да осмотреться как следует, да к девушкам попривыкнуть; свою себе отыскать. И никто нам не поможет. Не сможет помочь. Ни ближайшие командиры, ни сам полковник Стихин.
— Знаешь… — тронул легонько плечо Бабкина; он медленно, будто всплывая на поверхность, поднял глаза. — Ты вот что… Она требует, что ли, жениться?
— Молчит.
— Так подожди немного, а?
Бабкин не ответил, опять погрузил голову в белесое сияние из окна.
— Куда торопиться? Говорят, карточную систему скоро отменят. Хоть свадьбу по-человечески справите.
— Не в этом дело.
— Понятно. А все-таки время покажет. На то ведь оно существует.
Бабкин вздохнул и вроде кивнул мне. Требовать добавочного ответа я не стал, хватит на сегодня, на один раз нам двоим. Нервные клетки, говорят, не восстанавливаются. А жить надо. Да и службы впереди неизвестно сколько. Поэтому я потихоньку закурил — от двери наш закуток дневальному не досмотреть, — предложил Бабкину. Хорошо помолчали и покурили. Набрались тишины, заоконного слюдянистого сияния снега.
Уже было встали, чтобы разойтись, но хлопнула дверь, кто-то спросил, где старший сержант Бабкин, дневальный ответил, и перед нами возник солдатик Васюков. Вскинул ладошку к виску, отдернул, вспомнив, что прибежал без головного убора, доложил:
— Товарищ старший сержант! Заболел рабочий по кухне Кислюк! Старшина Шемет просит замену!
Бабкин поморщился слегка — уж очень сильно и резко кричал Васюков, — хотелось постепенно вернуться к службе, чтобы сообразить, что к чему. Сказав Васюкову «Идите», он пробежал взглядом по лицам спящих на нижнем этаже нар и тут же повернулся ко мне — Подмени. Чтобы не будить.
— Могу. Приказ начальника — закон-
Бабкин полувзмахнул рукой, почти по-сидоровски, пошел к своей койке, не раздеваясь, лег лицом к потолку, закрыл глаза.
Я пошел на кухню. Можно и поповарить. Меня редко посылают рабочим по кухне, потому что это считается поощрением: в тепле, еды вдоволь, целые сутки никаких занятий, никаких уставов. Самый главный — старшина Шемет, а он в белом колпаке и халате и командовать давно разучился. Так, больше шуточками подгоняет или «стариковским» ворчанием.
— Привет! — кричу от порога, как если бы вошел в деревенскую избу друга.
Иван Шемет читает газету, не торопится глянуть (надо остановиться на точке — обстоятельность в любом деле полезна), наконец поднимается, идет ко мне, протягивая нежные, по-бабьи мягкие ладони, обдавая крепкими поварскими запахами. Трясет меня за плечи, словно проверяя, хорошо ли прибавляю в весе. Я вдыхаю его запахи, завидую: вот бы и мне когда-нибудь нажить такое мощное тело!
— Веришь, нет, — говорит Шемет, — я знал, тебя назначат. Подумал, тебя бы назначили — и вот… Хуже других, что ли ча? Я тут Беленького как-то просил: назначь, говорю. Не заслужил, говорит. — Он бросает мне халат и колпак, — Облачайся. — Уходит к своему низенькому стульчику, приспособленному для отдыха, берет газету. — И чего ты плохо служишь? Вроде грамотный парень. Уставы не изучил, что ли ча?
Я не отвечаю, да Иван и не ждет ответа. Он просто так, для себя рассуждает, удивляется: разве можно считаться плохим служакой? Он служил хорошо, воевал отлично. Он поварит старательно, хотя не собирается на всю жизнь присвоить себе эту профессию. У него натура такая — любому делу всего себя отдавать.
Мелкими шагами приближается Васюков. Он перемыл миски, бачки и половники, по прозвищу «разводящие», заслужил отдых и решил поговорить, потому что очень любил беседы на любые темы.
— Васюков! — нарочито строго встречает его Шемет. — Отвечайте: получится из меня агроном?
— Не могу знать, товарищ старшина. Вопрос требует изучения, индивидуального подхода. А также уточнения: институт вы хотите кончать или техникум? Какая у вас общеобразовательная подготовка и так далее.
— Ты скажи! Вот академик! А я и не подумал. Желание есть, думаю, — и ладно. Главное, как жук в навозе хочу копаться.
— Это тоже имеет значение. Однако образование…
— Брось ты! — обрываю я Васюкова, видя в глазах Шемета откровенную грусть. — В техникум пойдет, а там заочно в институт. Да он и председателем и директором МТС сможет.
— Я ничего. Я их предупреждаю. Вопрос мне задали.
— Не, в начальники не пойду, — говорит сам себе Шемет. — Не пойду. Не гожусь командовать. У меня вся душа, весь ум в руках. Не могу лишиться такого таланта. Плохим сделаюсь.
Так я всегда и думал об Иване Шемете. Так чувствовал его. Оттого и радовался, наверное, его голосу, незлобным шуточкам, крупному телу, надежным рукам. Человек, видно по всему, — человек! (Мне припомнился мой дядя, погибший на фронте: они так похожи — Шемет и мой дядя. Не внешне — душами, сутью своей. Вот же как устроена жизнь:
не умирают до конца люди, какая-то часть их живет в других, дальше передается. И хорошо. Простота моего дяди, брезгливость к окрику, к самовозвышению словно бы переселились в Шемета. А сколько желающих в начальники попасть? Иные по слабости придумывают себе высокие должности — кому хочется свиней пасти или навоз в поле вывозить? Но есть и серьезные людишки — эти прямо от рождения начальники. И будут. Лишь бы должностей хватило.
— А ты кем собираешься? — спрашиваю Васюкова.
Он морщит свой мелкий лобик, вскидывает к потолку суетливые глаза, слегка улыбается: очень, видимо, нравится ему такой разговор.
— Вопрос ваш заслуживает серьезного внимания. Его необходимо для упрощения разбить на два под-вопроса: это кем желаю и кем могу. А потом уже вывести среднеарифметическую цифру…
— Ладно, Васюков, — слегка отталкивает его Шемет, чтобы избавиться от мелкой слюны, бьющей изо рта Васюкова. — Ты умный, читаешь все подряд. Разъясни вопрос: что такое абстракция?
Васюков мгновенно переключился, упрямо наверстал тот шаг, на который оттеснил его Шемет.
— Это явление свойственно некоторым нездоровым тенденциям в литературе и искусстве, — заговорил он без запинки, — когда отдельные авторы, создавая произведения, выражают в них субъективные, никому не нужные чувства, копаются в своих мелких душонках, не видя жизни и созидательного труда. Ставят себя в положение пресловутого человека вселенной.
— Молоток! — искренне удивился Шемет. — Дак это интеллигенции касается…
— Всех касается.
— Интересно. А вот ты. Ты, кажется, из рыбаков. Как ты этим абстрактом заделаешься? Рыбке-то все равно, кто ее ловит.
— Рыбке — да, — подтвердил с летучей улыбкой, терпеливо и охотно Васюков. — Но людям не все равно, кто для них ловит.
Иван Шемет поднялся, осторожно обошел Васюкова, направился к плите, приподнял деревянную крышку котла — из-под нее рванулся пар, ударил в потолок, и осыпало нас теплой моросью; запотели окна; стало, как в парной; Шемет сказал от плиты, едва видимый за туманом:
— Понятно. Спасибо. Как лекцию послушал.
Васюков сел на маленький стульчик Шемета и сделался совсем мизерным, игрушечным солдатиком из мультфильма, но лобик свой все морщил, напрягал, поглядывая на меня с явной мыслью: «Чувствуешь подготовку? То-то. Не в фигуре дело!»
Мне захотелось еще немного поговорить с Васюковым, раньше я слышал лишь его звонкие ответы на политзанятиях. Достал свой растрепанный блокнот, куда записывал свои и чужие стихи, непонятные слова.
— Значит, ты так понимаешь абстракционизм?
— Как положено.
— Ну, все-таки Я вот тоже понимаю… Например, послушай стихотворение:
Весна, я с улицы, где тополь удивлен. Где даль пугается, где дом упасть боится. Где воздух синь, как узелок с бельем У выписавшегося из больницы.— Кто написал?
— Борис Пастернак. Книжку в гарнизонной библиотеке нашел. Кое-что выписал. Еще поэт Есенин был. Мне один человек наизусть кое-что читал — вот это стихи!
— Ущербная поэзия.
— А ты-то читал?
— Не собираюсь. На мой век более важных дел хватит. Не слышал я про таких поэтов. Таких и не бывает. Это же безграмотно: «тополь удивлен», «даль пугается», «дом упасть боится» — разве дом или тополь — человек? Нет, не советую вам выписками заниматься. Читайте других наших лучших поэтов.
— Подожди. Мы ведь о стихах. Они же могут сами по себе. Читаю и чувствую — тревожат, хоть и не все понятно. Как песня на чужом языке.
Васюков поднялся, отшагнул немного, глянул с терпеливой усмешечкой на меня, сидящего, сказал, четко выкатывая изо рта слова-шарики:
— Ничего не бывает само по себе. Запомните. И обращайтесь со мной на «вы», как положено военнослужащим.
Вот тебе и Васюков! Поговорили интересно. Ему наперед все известно, на любой вопрос заготовлен ответ. Где это его обучили, в каких университетах? Семь классов — как и у большинства из нас. Жил где-то на севере, среди нивхов, сеткой кету ловил. От неважной пищи и вырасти не сумел. Когда успел натренироваться? Вот тебе и пуд соли, который надо съесть. Мы с Васюковым, может быть, полтора съели, а я только сегодня узнал его.
— Эй! — кричит от плиты Иван Шемет. — Давайте сюда!
Подходим. Иван, утирая колпаком распухшее от пота и жары лицо, тычет пальцем сначала в грудку Васюкова:
— Ты, агитация, печку кочегарить. — Толкает в плечо меня — Ты, абстракция, кашу мешать. — Он сует мне в руки деревянную веселку. — Да чтоб не подгорела!
Котел большущий, чугунный, выбрасывает из себя клубы огненного пара, как в бане по-черному; пшено разваривается, густеет, и мешать — водить веселкой по дну и стенкам котла — не так уж и весело. Быстро разогреваюсь, мое тощее тело, оказывается, на удивление водянистое — истекаю потом. Я почти слепну во мгле пара и, как Иван, утираюсь скомканным в руке колпаком.
Но работа — она всегда работа. К ней привыкаешь, приноравливаешь себя. Терпит Шемет — и я смогу. Надо веселку удобнее держать, рычагом, отталкивать ее от края котла. Легче, и не висишь над самым жаром. А помешивать чаще — Васюков шурует топку во всю свою силенку, и может снизу пригореть пшенка. Пригар — испорченный продукт. Значит, меньше каши попадет ребятам в желудки Это уже не по-братски! Это работа на врага, вернее, на помойную яму. Ничего такого я не допущу, даже если весь превращусь в воду.
В любом деле необходимо нащупать «второе дыхание», привести себя в полное рабочее состояние, отключиться на время от всей другой жизни. У меня это получается, я умею сделать из себя «рабочий организм», потому что с детства начал работать и тогда уже развил в себе самое главное — «второе дыхание»
Тело мое меньше потеет — зачем ему терять всю влагу, оно ведь еще жить хочет, — мышцы рук, туловища, ног объединились, как бы сделались простым, но прочным механизмом, выполняющим заданные движения. Р-раз — веселку пускаю вниз по стенке котла, провожу по дну, с вывертом поднимаю вверх — каша взбугривается, клокочет, — двумя движениями пускаю веселку по окружности котла— снимаю верхний пригар. И опять все сначала. Были бы руки, держали бы ноги!
— Так, молоток! — подойдя неслышно, подбадривает Иван Шемет. — Может, в повара пойдешь? Надежная работка, без хлебова никогда не останешься. А стишки, они для книгоедов или кто физически болеет. Хошь, откомандирую к себе?
Он берет веселку, командует Васюкову: «Притуши малость!» — и медленно, одной рукой, будоражит кашу. Она уже готова. Выйдет из нее пар, чтобы посуше была, и раздавать можно.
— Спасибо, — говорю я. — У тебя хорошо. Но радио больше нравится. Мне радио потом пригодится.
— Одобряю. Я так думаю: хоть из тебя службист никакой, а умишко крестьянский имеется. Рассчитать, прикинуть на будущее. Надежность иметь.
Я киваю Шемету. Я согласен. Не потому, что все его слова считаю истиной, не подлежащей сомнению. Если начну вдумываться, найду, наверное, и такое, с чем не соглашусь. Но в том-то все дело: не хочется мне сомневаться в правоте Шемета. Он прав. Он всегда работал. Он воевал. Он всегда будет работать.
Мне хочется встретиться с ним лет через десять, когда я буду знать о жизни не меньше его, — помучаюсь, поработаю, поезжу и, конечно, все для себя обдумаю, — вот тогда мы сможем сделаться настоящими друзьями и поспорим за столом, на котором будет отличная еда и бутылка водки.
— Да-а, — говорю я протяжно и скупо, через силу улыбаюсь: «Грустновато, видишь, но все-таки хорошо».
— Так-то, — подтверждает Шемет.
Он прикрывает котел деревянной крышкой — каша уже вполне успокоилась, — командует нам:
— Несите бачки, миски. Будем раздавать.
В столовую с грохотом ввалился первый взвод, и началась обычная кухонная суета: повар бросал черпак каши в бачок — норма на четверых, — мы подавали бачки в окошко, отсчитывали пайки хлеба, наливали в жестяные чайники чай-кипяток. Собирали со столов посуду, перемывали, ее забирали новые едоки. И так до последней смены — радистов, подмененных на ужин; им достались гвардейские порции, гущина со дна.
Еще раз собрали посуду, переполоскали в кипятке, почистили котел, вымыли полы в столовой и на кухне. Поужинали втроем, уже молча — лучшие силы ушли на работу. Потом пришел новый наряд рабочих— сдали поштучно бачки, миски, тряпки, колпаки, халаты, а также идеальную чистоту, и я сказал Ивану Шемету:
— Ну, пока.
В казарме был час личного времени. Ребята «забивали козла», играли в шахматы, писали письма. Лучшее время. Почти как уволенным чувствует каждый себя. Да и здесь, в казарме, сейчас стало хорошо, намного уютнее: деревянные, почерневшие от многих лет нары выбросили, и вместо них поставили двумя рядами двухэтажные железные койки с тумбочками в проходах. Прямо-таки замечательно стало! Подушки, заправка по линеечке, полотенца угольниками. В тумбочках личные принадлежности. И солнца, воздуха вдвое больше.
9
Старший сержант Бабкин, выйдя из канцелярии, подал команду:
— Третий взвод, приготовиться к построению! — И через минуту — Становись!
После завтрака, перед занятиями по специальной подготовке нас обычно не строили, и мы не очень охотно выполнили команду («Что еще за тревога?», «Отменяют спецподготовку?», «Опять двор подметать или в лес топать — на заготовку дров?»). Но, конечно, выстроились, подравнялись, рассчитались, будто нас со стороны невозможно пересчитать. Приготовились выслушать поставленную перед нами задачу.
Бабкин сказал: «Вольно!», прошагал в канцелярию, отрапортовал та. м кому-то; вышел вместе с младшим лейтенантом Голосковым, опять кри>кнул:
— Взвод, смирр…!
— Вольно! — негромко, но поспешно прервал его Голосков; Бабкин эхом отозвался: «Вольно!» Голосков неторопливо, как бы осторожно, подошел к строю. Глянул, начиная с правофлангового, каждому в лицо, словно еще раз пересчитал, отвел глаза к окну, сиявшему солнцем и снегом.
— Товарищи. Пришел приказ — я увольняюсь.
Голосков всех разом охватил взглядом своих просторных глаз, словно спросил: «Ну, что? Удивило вас это?» А мы, обдумывая его сообщение, помалкивали— да и что скажешь в строю? — и с невозможным удивлением смотрели на своего, теперь уже бывшего командира взвода. Выглядел он сегодня нарядным, непривычно подтянутым. В новенькой диагоналевой гимнастерке, в синих диагоналевых брюках, начищенных сапогах. Даже пряжка ремня и звездочки на погонах сияли желтизной. Напоследок, что ли, на память себе и нам «оформился» Голосков? Или хотел сказать этим: «И я бы мог служить, да вот не судьба…»
— Командиром будет пока лейтенант Маевский.
И опять промолчали. Хотя после этих слов, наверное, каждому захотелось крикнуть: «Почему Маевский? Не надо Маевского! Пусть командует своим первым взводом! Мы не привыкнем теперь к нему!» Голосков, будто внимательно выслушав наше немое возмущение, осторожно сказал:
— Ну, а самым непосредственным так и останется старший сержант. — Он стиснул Бабкину локоть, слегка качнул к себе. — Его вы знаете.
У Бабкина загорелись щеки, и он часто замигал девичьими ресницами, как бы опахиваясь ветерком. Нахмурился, сердито беря себя в руки.
— Вот и собрал вас сказать до свидания. И еще— спасибо за службу.
С некоторым промедлением, но все-таки дружно, с внезапным единым порывом, мы выкрикнули:
— Служим Советскому Союзу!
Голосков обошел строй и каждому начиная с правофлангового, пожал руку своими просторными и мягкими ладонями. Вернулся к Бабкину, что-то проговорил невнятно. Бабкин назвал мою фамилию, распорядился:
— Пойдете с младшим лейтенантом.
Все направились в радиокласс, а я пошел вслед за Голосковым в офицерскую половину дома. Голосков шагал впереди. Поглядывая на его широченную, округлую, плотную спину, я чувствовал, что ему очень грустно. Вошли в его комнату, я глянул Голоскову в лицо и, точно, увидел грусть, которая прямо-таки физически проступила: синевой под глазами, складками возле губ и молчанием. Но ведь он просился на гражданку, ждал, добивался. Или такова уж человеческая натура: все становится милым, если уже позади?
В комнате пусто, однако чисто, даже пол подметен. По-старому выглядела застеленная солдатским одеялом койка да книги у окна; правда, ворох несколько поуменьшился. Все другое со стола и стен было уложено в дерматиновый чемодан и пузатый, с ремнями поперек, довоенного производства портфель. Третьей упаковкой был патефон.
— Присядем по обычаю, — сказал Голосков.
— Полагается.
Он опустился на середину койки — она продавилась глубоко, пропела что-то скрипучее, — хлопнул несильно ладонью по подушке, как по голове живого существа. Я присел на краешек одинокого стула. Помолчали минуту или две. Погрустили. Потом он сказал, кивнув на книги.
— Выберешь, что понравится. Остальные — в библиотеку.
— Так и сделаю.
— Ну, поднялись.
Я взял чемодан, Голосков — портфель и патефон. Вышли во двор, медленно двинулись мимо окон аппаратной комнаты, контрольного пункта, столовой; вот и окна казармы.
От двери быстрыми шагами движется майор Сидоров, придерживая на переносице очки; за ним, отставая и задыхаясь, капитан Мерзляков. Голосков ставит поклажу на снег, идет навстречу.
— Ну, всего тебе доброго, — говорит Сидоров, жмет руку Голоскова, а другую, левую, кладет ему на плечо, притягивая к себе его голову, целует в щеку. — Напиши, как и что там.
— Спасибо, товарищ майор. Непременно…
— Ну, ладно, ладно. Будь здоров.
Жмет руку Голоскову капитан Мерзляков, но как-то издали, неясно произносит несколько слов (ему, по слабости, трудна и эта работа), и мы шагаем дальше.
Всегда матово-бледноватые щеки Голоскова теперь закраснелись, он отворачивается, хмурится: наверное, глаза ему застилают слезы. А я думаю о майоре Сидорове: какой он непохожий на Голоскова человек! Ну, прямо как жители разных планет. А ведь любил же за что-то младшего лейтенанта, если прощал ему штатскую выправку, философствования, явную нелюбовь к службе и чинопочитанию. Что-то знал о нем, видел в нем. Может, они встречались на квартире у Сидорова, сидели за столом, и жена майора ставила им графинчик. Или раньше были знакомы, воевали вместе. Об этом я никогда не узнаю, потому что не смогу спросить Голоскова, да он, пожалуй, и не ответит. Зачем? Не такие мы близкие друзья-товарищи.
Втянулись в лесок, зашагали по четким синим теням берез, пролегшим поперек дороги. Как по шпалам. Сзади послышался частый топот. Остановились. Слегка запыхавшись, подбежал ефрейтор Потапов, доложил:
— Товарищ младший лейтенант! Старший сержант Бабкин направил в ваше распоряжение! — И пояснил: — Помочь донести вещи.
Голосков внимательно оглядел Потапова, будто не совсем понимая его слова, в какое-то мгновение хотел отослать его назад: «Зачем? Сам не донесу, что ли? — но губы, готовые высказать это, по-обычному размягчились, он глянул на портфель и патефон: «Ладно, не обижать же ефрейтора, а главное — Бабкин послал», — сунул их Потапову, пропустил нас вперед, сам немного отстал.
Шли через перелески, поляны, распадки, по сиянию дня, сквозь острый стрекот снегирей, красными плодами отягощавших ветки берез. Дышали солнцем, а снегири ругались — скоро опять откочевывать на вечные снега севера. Хорошо мечталось. Но Потапов забегал вперед, заговаривал. Он не любил, когда о нем забывали.
— Куда едет Голосков?
— Не знаю.
— Есть у него жена?
— Не знаю.
Пришли к шоссе. Поставили и? обочину вещи. Надо ждать попутку, голосовать. В рабочие дни машины ходят часто, городские и деревенские, однако всегда груженные или уже с пассажиром в кабине. Поэтому не знаешь, сколько простоишь. Прошмыгнули два газогенератора, чадя древесным дымом; проплыл, раскачиваясь, тяжелый ЗИС с брезентовым верхом. Это не наш транспорт — не в ту сторону, занят.
Голосков приближался неохотно, пощелкивая прутиком по голенищу, словно подгоняя себя. Сдвинул на затылок шапку, морщился от необъятной белизны света. И опять был невоенным настолько, что распахнутая шинель, собравшаяся складками на животе гимнастерка казались обычным гражданским одеянием. Когда Голосков подошел, из-за леска, куда одним краем упрятывалось шоссе, показал широкое глазастое рыло «виллис» — зеленый, военный. Поравнявшись с нами, он остановился. Как по заказу.
Шофер-солдат, откинув дверцу, не выпуская руля, сказал:
— Прошу, товарищ лейтенант.
Сказал он это в меру небрежно, в меру сдержанно и безразлично: «Возим, кого прикажут, такая наша служба». Легко было догадаться — машину попросил майор Сидоров в соседнем саперном полку, и шофер знает, что младший лейтенант демобилизовался. Нарочито «сокращаясь», назвал лейтенантом, не доложил по форме. «Какой-то чернопогонник, технарь мелкий…» Но Голосков ничего этого не заметил, сунул в кузов чемодан, портфель «и патефон, пожал Потапову руку, стиснул мою.
— Вот… Прощай. А может, до свидания. Увидимся когда-нибудь, а?
— Не знаю.
— Адресок есть?
Есть.
— Хоть через сто лет заходи.
— Хорошо.
Голосков прочно уселся рядом с шофером, слегка потеснив его своей широтой, поднял руку и заулыбался— с нами он расставался весело. Шофер запустил мотор и тронул было машину, но Голосков, схватив его за рукав, придержал. Выхватил из кармана шинели какую-то книжицу, бросил мне через кювет.
— Пригодится тебе!
Машина покатилась к седым, недвижным дымам города. Я проводил взглядом до поворота — ее словно заглотил и пережевал белыми зубами березник, — выбрался на дорогу, по которой далеко впереди бодро вышагивал ефрейтор Потапов.
Раскрыл самодельную книжицу. Она вся была исписана стихами. Прочитал на первой странице:
Пускай ты выпита другим. Но мне осталось, мне осталось — Твоих волос стеклянный дым И глаз осенняя усталость.И еще на какой-то странице:
Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым…Есенин! Целый блокнот Есенина! У меня зарябило в глазах от множества строчек, затряслись, как у пропойцы, руки; чтобы не выронить, не потерять блокнот, сунул его глубоко под бушлат, в карман гимнастерки, застегнул пуговицей. Потрогал сверху — на месте, туго бугрится. Немного успокоился, глотая воздух, как после внезапного испуга, зачем-то втугую затянул ремень.
Шагал, нашептывая: «Есенин, Есенин… сени… сено… ясени… осенин… есе-иси… иже-еси…». Шел, подбирая слоги к стуку шагов.
— Стой, стрелять буду! — Из-за куста выглядывал ефрейтор Потапов. — Покажи, покажи, что тебе подарил Голосков.
— Стихи…
— А-а.
Это насмешливое «а-а» остро отозвалось внутри меня, и я решил: скажу, чьи стихи. К тому же от Голоскова слышал, будто Есенина собираются издавать в Москве.
Сказал погромче и попонятнее:
— Стихи Есенина…
— Ладно, фиг с ним. А на военную тематику у Голоскова есть что-нибудь?
— Нету. Не любил эту тематику.
— Ясно. Потому и выгнали шляпу носить.
— Сам ушел.
— Ладно. Вопрос с ним решен окончательно. Хочешь, кусочек тебе прочитаю. Блеск! — Потапов вынул из-под полы бушлата новенький том. — Тут про войну. Как в будущем будем воевать. Грандиозно! Масштабы! Дух захватывает. — Потапов отыскал страницу. — Вот.
— Не надо.
— Нервы слабенькие? — Ефрейтор Потапов остановился и захохотал, приговаривая: «Ой, не могу!» — и приседая на корточки. Потом сказал:
— Не бойся. Не буду читать… А я теперь всегда служить буду. Подал рапорт в военное училище.
— А-а, — пропел теперь я. — Желаю успехов. — И быстро зашагал к казарме, глуповато радуясь, что мне не придется быть под началом Потапова.
При входе, возле тумбочки дневального, меня ожидал Зыбин-Серый. Молча указал на часы. До начала дежурства в аппаратной оставалось пять минут. Я мог опоздать, но не опоздал — так само собой получилось, хоть и совсем позабыл о дежурстве. Голосков, Есенин, Потапов… У меня слегка побаливала голова, как это бывает от бессонницы. И я почему-то был рассержен.
Наверное, сказал бы что-нибудь «остренькое» Серому, если бы тот начал ставить меня по стойке «смирно».
— Пойдем, — сказал он просто, будто звал посмотреть свой огород.
В аппаратной тихо, солнечно и тепло. Лучшее место в роте. Всегда чисто, всегда натоплено. Пахнет технической краской, сияют застекленные диапазоны. Булькает, позванивает, стучит в эфире морзянка. Она как бы проливается сквозь антенны сама собой, наполняет доверху аппаратную, в которой от этого плотнее, весомее воздух — хоть подпрыгивай и барахтайся в нем невесомым.
Сменяю сержанта Рыбочкина, расписываюсь в журнале приема-передачи, он встает, снимает наушники, я тут же оседлываю ими свою голову и, уже слушая эфир, мельком пускаю взгляд по лицу, фигуре, конопатым рукам Рыбочкина; сажусь, поворачиваюсь к нему спиной. Морзянка отпевает первые минуты дежурства.
Понемногу забываю себя, земное существование, начинаю жить где-то посередине — между небесами и твердью. Полуразмываюсь, полууничтожаюсь. Обращаюсь в огромные, чуткие, напряженные уши. Они живут словно бы сами по себе, для себя — слушать, вбирать ненасытно звуки эфира, питаться ими, существовать ради них.
На моей волне тесно. Слева поет иностранка, дзинькает, дребезжит, вздыхает азиатская музыка — это японский авиамаяк; справа — микрофонная хрипучая скороговорка на русском языке: «Вьюга! Вы меня слышите?.. Слышите, спрашиваю? Вьюга!.. Как грузы? Грузы как? Слышите? Отвечайте. Перехожу на прием». И опять то же самое, до бесконечности. По самому центру, точно на частоте — отраженное эхо затухающей волны, или, как еще называют у нас, «гармоника»: где-то по ту сторону земли работает станция, швыряя в эфир бешеные звуки джаза, а мне слышится лишь легонькое бульканье, то замирающее, то вновь возникающее из ничего. Рядом стук мощной морзянки — фонирует почти на весь диапазон, колотится в наушниках шипящими всхлипами. Тесно, суетно в пустоте над землей. Ладно, хоть не все это знают.
А писем от Аси Шатуновской нет. Давно нет. И, наверное, не будет. Могла бы, конечно, написать, сообщить— вышла замуж, или познакомилась с хорошим парнем, или готовится к весенней сессии. Мало ли что может случиться? Я все пойму. И переписка у нас была так, в шутку — воспоминанием о войне (тогда без этого нельзя было); в мирное время смешно заочно знакомиться, через газету. Кажется, один только я и придумал из всей роты. Ясно, рассчитывал на некоторую необычность Аси: пишет стихи, значит, откликнется. Человек, имеющий фантазию, живет как бы сразу во всем мире. Все ему свои, близкие. Понимал я, что ее стихи: «…я знаю, ты вернешься… нежно улыбнешься… придешь затем, чтоб больше не уйти» — совсем не для меня. Стихи — вообще. Таких можно километры насочинять. И суть не в них, но в чем-то другом. Просто очень интересно, любопытно и таинственно получить листок исписанной бумаги будто ниоткуда. Бросил в гущу людей слова — и отзвук пришел. Словами. Но они и не совсем слова, наполовину звучание, музыка.
И вот тишина. Заглохли звуки. Может быть, это хорошо? Так надо? Ася Шатуновская раньше меня поняла, что пора жить; просто жить, как все люди. Всему свое время. Стихам, фантазиям. Они приятны, пока не надо зарабатывать на хлеб, думать о чулках, стоптанных ботинках… Особенно мне пора, давно уже. Я чуть ли не от рождения добываю себе хлеб, а маму не видел с начала войны. Пожалуй, уродился таким — пропащим фантазером.
Напишу Асе письмо, последнее. Напишу так:
«Здравствуйте, Ася. Ваше долгое молчание навело меня на мысль, что Вы решили прервать нашу переписку. Не спрашиваю о причинах, но поддерживаю Вас. Мы уже достаточно взрослые, нам пора заниматься серьезными делами. Вам скоро учить детей. Мне работать радистом на корабле дальнего плавания. Давайте стойко встретим дни нашей будущей жизни. Прощайте! Всего Вам наилучшего!
P.S. Посылаю Вам свой последний экспромт:
Где-нибудь в вагоне или в чайной Через много лет, наверняка. Мы с тобою встретимся случайно. Чтоб уже расстаться на века».Стало грустно. Словно я долго-долго дружил с Асей Шатуновской, и вдруг она изменила мне. Хоть бы фотографию прислала… Почему она такая жестокая?.. Но сразу ловлю себя на том, что нарочито расслабляюсь— хочу плакаться, жаловаться, казаться обиженным. Это нехорошо, чувствую, что нехорошо. Психопатично. Эдак можно сделаться плакальщиком по самому себе.
Я спасаюсь — думаю о матери, о нашей безотцовской семье, для которой все еще идет война. С нуждой. И главный вояка — мать. Чем я могу помочь ей сейчас? Письмом, только письмом. Надо хотя бы чаще писать. Напоминаю себе каждый день, однако трудно, очень трудно писать, потому что нечего; потому что слова истощились, сделались просто словами, как только закончилась война.
И понимаю я — не будет у меня корабля дальнего плавания, ничего другого интересного. Будет работа. Демобилизуюсь — и работать. Зарабатывать себе, матери, семье. Вкалывать, еще говорят. Нужен хлеб, нужна одежда. А там станет видно. Жизнь ведь большая, хватит времени подумать о себе, найти подходящее дело.
— Встать!
Вскакиваю, смотрю на Зыбина-Серого Он усмехается, ему хорошо и весело оттого, что удалась команда, что скоро весна и всякое такое. Отворачиваюсь, осилив в себе слова, мгновенно приготовленные для Зыбина, сажусь.
— Проверка бдительности, — радостно говорит Серый.
10
В угловой комнате с узким окошком, железной печкой у входа стояли две строго заправленные, всегда чистые кровати, стол и стул; на стене висел новенький плакат: «Личная гигиена — залог здоровья воина». Здесь помещался ротный медпункт.
Печка жарко топилась, пахло успокоительно медикаментами, было ярко в окне.
Санинструктор Вася Колушкин, еле видимый против света, сидел у стола, что-то писал. Он в белом, тесноватом халате, на мощном чубе, как прилепленная, высоко торчала докторская шапочка. Погревшись ми-нуту у печки, я сказал:
— Привет, Вася!
— Проходи, — не глянув, буркнул он. — Садись.
Сесть было некуда, пришлось примоститься на краешек кровати. Под моими сапогами растеклась лужица — очень грязная на желтой краске (в медпункте недавно покрасили пол). Подосадовал: «Забыл от-шоркать подошвы!» Не по-товарищески — Колушкин сам убирает помещение, топит печку и живет здесь, чтобы в любое время оказать медицинскую помощь. Хоть и нетрудная у него служба, в мирное время самая невоенная, почти женская, но пачкать надраенный до лоска пол ни к чему.
Вася повернулся вместе со стулом, протер кулаком глаза, уставшие от света, изучил меня выпуклым, сонно-спокойным взглядом.
— Ты ко мне?
— К тебе.
— На что жалуемся?
— Да так… Настроение неважное. Чихаю чего-то.
— Простудился где?
— Может быть.
— На, погрей. — Он подошел, расстегнул мне ворот гимнастерки, сунул под мышку термометр. — Погрей. А я еще попишу. Отчет замучил.
Было жарко. Очень светло. Резал белый цвет наволочек, простыней, Васиного халата. Сиял желтый пол, сверкала лужица под сапогами. В окне все тонуло и расплывалось, как на засвеченной фотографии.
— Так, дай градусник. — Сунул под гимнастерку руку, холодную и сырую. — Тридцать семь и три. Ерунда. Разденься-ка.
Слушал, ходил вокруг меня, заставлял глубоко вдыхать и выдыхать, покашливать.
— Дам освобождение, — заключил наконец. — На сутки. Вот таблетки. Выпей перед сном, пропотей.
Я кивнул Васе Колушкину, хорошо думая о нем: техникум не успел закончить, а совсем как врач. Говорит, трогает руками, дышит тебе в затылок — и все это успокаивает, ободряет, лечит.
В казарме прошел к своей кровати, достал из тумбочки книгу «Хождение по мукам», оставленную мне Голосковым, сдвинул слегка постель, сел читать. Потом подумал: «Освобожденному с температурой можно лечь — по всем уставам полагается», — принялся раздеваться и тут же вспомнил, что не доложил Беленькому о болезни, вполне рискую нарваться на разнос, пошел искать старшину. Казарма глухо пустовала: одни на дежурстве, другие в наряде или на занятиях; кое-кто спал, добирая свое законное ночное время.
Тихонько приоткрыл дверь в канцелярию, глянул. За столом сидел старшина Беленький, низко пригнув голову, покусывая карандаш. Он что-то выводил на тетрадном листке, хмурил лоб, натруженно вздыхал, видимо, подбирая нужные слова. Раза два слегка отпрянул от стола как бы в возмущении, но меня не заметил.
Выдерживает Беленький или в самом деле не видит? Попробуй угадай. Однако яснее ясного, что я препожаловал не вовремя. Человек занят, углубился в себя, сочиняет какой-то документ; обратись — вздрогнет от неожиданности, рассердится. Отвлечется. К тому же человек — старшина Беленький. Помнить это надо всегда, никакое освобождение не может освободить от его власти.
Я стоял и тосковал или, как еще говорят, «нудился». Бывает такое остолбенение: все внутренние силы в тебе словно бы уравновесились, столкнулись, замерли в противоборстве. Тебе уже все равно, какая из них победит, лишь бы скорей победила, и ты просто стоишь, ждешь, ненавидишь себя и никак не можешь овладеть собой. Наверное, победила отчаянность в союзе со злостью, потому что я выговорил довольно внятно:
— Товарищ старшина…
Беленький дрогнул бровями (что означало — он услышал), протянул строчку маленьких букв до края листа, поставил крупную точку. Только после этого поднял голову, а подняв, вмиг отрешился от бумаги и карандаша — так мне показалось, — сидя, выпрямился, но не по обычному строго — вполсилы, даже слегка приветливо.
— …санинструктор Колушкин… — продолжил я.
— Знаю, — сказал он негромко, протянул руку к спинке соседнего стула, пододвинул его к столу. — Садитесь.
Не спуская взгляда с лица старшины — мало ли как оно может перемениться, — я сел строго вертикально, ожидая дальнейших слов, и видел: лицо его все больше расслаблялось, добрело, потом и вовсе сделалось расплывчатым, будто у подвыпившего мужичка.
— Вот. Письмо сочинял. — Беленький накрыл короткопалой, веской ладонью тетрадный листок. — Трудная работа. Особенно когда матери. Ей там «служба идет нормально, живу хорошо…» недостаточно. Подробности, детально давай. Сколько хлеба ешь, каким маслом кашу маслишь, что купил для себя в городе, байковые ли у тебя портянки… В каждом письме доскональный допрос. Что-нибудь упустишь — выговор. Вот. — Беленький полистал тетрадку. — Отдельно вопросы выписываю. Перечень входящих и исходящих.
Он засмеялся, и мне захотелось помочь ему улыбкой, потому что лицо у него как бы потеряло себя, проступили сквозь привычные, напряженные черты морщины и складки тридцатилетнего человека.
— Вам приходится так?
— Так точно.
— Давайте по-простому. Как не на службе. Вы больной, я письмо матери пишу. Побеседуем. По уставу полагается, по душе тоже. Как считаете?
Я промолчал, совсем уж не понимая Беленького, задавая себе сразу много вопросов. «Чего он хочет от меня, почему именно меня выбрал для «душевной беседы», как вести себя с ним, не лучше ли отпроситься спать?» — но, конечно, не шелохнулся на стуле, и это можно было принять за согласие.
— Лично с вами я давно собирался побеседовать. Однако считал, не созрели вы для разговора, не разберетесь правильно. Обижены на меня, больше других нарядов получили. Правильно говорю?
— Так точно.
— Правильно получили, как считаете?
— Раз получил…
— Вот-вот! Так у нас и выходит: сначала обидимся, а после подумать не в состоянии. Обида осмыслить не дает… Был у меня один солдат по фамилии Щукин. Очень похожий на вас, вроде и стишки сочинял. Ну, упрямый, ну, заносчивый. Я ему — наряд, он у меня два просит. Прибаутку сочинил: «Полюбите Беленького, а черненького всякий полюбит». Ломал я его, ломал, только под конец он приутих. Теперь письма пишет из Томска: «Спасибо, товарищ старшина, за воспитание, научили жить, бригадиром работаю…» Строгость, она никого не портит. Надеюсь, и вы мне скажете спасибо?
Я спросил себя: «Скажу или нет?» Прислушался к своим ощущениям, мыслям, но не нашел в себе ничего такого, что могло бы благодарностью отозваться на строгость Беленького, однако и прежней злости к нему уже не чувствовал. Подумал: «Может, когда-нибудь потом?..»
— Теперь, это… Валенок… Прошу извинения, погорячился тогда. Неправ был. Служба… Пусть останется между нами. — Беленький встал, четко-заучен-но одернул гимнастерку, отправил складки за спину, щедро растянул в улыбке губы. — Я ведь сам решил дальневосточником заделаться, останусь на постоянное жительство. Может, встретимся где?
Он протянул мне руку, крепко пожал и, стоя, взглядом проводил до двери.
От всего услышанного, пережитого у меня замутилась голова, как бывает после неспокойного сна с неясными сновидениями, которые никак не удается осмыслить. Я вернулся к своей кровати, разделся. А когда лег и взял книгу, понял — читать не смогу, надо подумать, развеяться. Решил сходить в лес, побродить среди набухших почек, по оттаявшим пятнам земли.
Дорога затекла лужами, будто обозначила ими сияющий, зовущий путь в дали дальние. На бровке купался тощий взъерошенный воробей. Окунал головенку, чистил перышки, подпрыгивал и бездумно чирикал. Припомнился вдруг давний голос отца. Он сказал мне, увидев такого воробья: «Смотри, зимой кричал: «Чуть жив, чуть жив!», а сейчас: «Семь жен прокормлю, семь жен…»
— Погоди-ка!
Я оглянулся. Перепрыгивая лужи, по дороге бежал старший сержант Бабкин. Бежал ко мне.
— Ты куда? — спросил он, часто дыша, покраснев от быстрого движения. — В лес?
— Угадал.
— Смотрю в окно — потопал. Думаю — прогуляюсь тоже. Голова гудит, погодка какая-то дурная… Колушкин освободил, что ли?
— Освободил.
— Миррово! — Бабкин разбежался, сделал длинный прыжок через лужу с ледяным дном, пяткой угодил в воду, ударом расплеснул брызги.
Я побежал за ним, и мы бежали, пока не уморились, потом пошли шагом; за пригорком спряталась казарма, лишь высилась к небу, истончалась и пропадала в свете радиомачта.
— Во лесу-лесочке набухают почки, — по-детски жалобно пропел Бабкин. — Сам сочинил. Хорошие стихи?
— Вполне.
— В школе, когда учился, сочинял. В стенгазете печатали. — Он тряхнул чубом, пальнул в меня черным монголистым глазом — верно или нет? Тихонько рассмеялся. — Девчонки влюблялись.
— С твоей мордой да еще стишки!
— Во! Правильно! Потому я и бросил: проходу не давали. А ты сочиняй, может, человеком станешь.
— Еще учитель нашелся!
— Обиделся? Постой, постой-ка. — Бабкин ухватил меня за рукав, остановил, вгляделся хмуровато в мое лицо. — Да ты что, по-серьезному больной?
— Не знаю.
— Температура есть?
— Небольшая.
— Лицо у тебя будто после парной. Может, назад повернем?
— Ерунда. Побродим.
Свернули с дороги, пошли по мягкому, насыщенному влагой снегу — он легко вминался под ногами, но где-то в глубине, спрессовываясь, держал крепко, почти как наст.
— Ми-ро-во! — длинно выговорил в сырое пространство Бабкин, сбросил бушлат, шапку, пропустил растопыренную пятерню сквозь чуб, сграбастал его, потряс вместе с головой.
Подошел к березе, провел ладонями по коре, постоял в обнимку и вынул из кармана складной нож. Щелкнул — лезвие сверкнуло, выстрелило. Показал мне: отличный, охотничий, сибирский нож.
— Напою соком.
С поваленного сухого ствола снял кусок бересты, согнул корытцем, закрепил края — получился аккуратненький туесок. Вернулся к живой, выбранной березе, осторожно сделал поперечный надрез; от середины его провел продольный, пошевелил ножом, слегка приподняв кору, и в конец надреза вбил желобок, выстроганный из подсохшего сучка.
Желобок набух, уронил несколько мутных капель, а потом с его кончика засквозила прерывистая струйка сока. Когда она просветлела, засверкала дождевой ниткой, Бабкин поставил под нее туесок. Тугая береста тихонечко залопотала, забубнила.
Лег животом на бушлат, подпер ладонями подбородок.
— Смотри, — сказал через минуту. — Муравьишка бежит. — Подставил палец. — Смотри, сердится. Укусить хочет.
— Пусть бежит, не мешай.
— Да я так — интересно. Такой холод перемог.
— Голосков говорил: у нас не больше права на жизнь. Раздавишь просто так червяка, убьешь просто так ворону, обидишь просто так человека — считай, что и сам уже только наполовину человек.
— Смешной был. Ему бы женщиной родиться.
— Или деревом.
— Ты немножечко смахиваешь на него.
— Спасибо.
— А я не хочу таким. Я переделаю себя. Как лейтенант Маевский буду — одни натянутые жилы.
— Для чего?
— Для жизни. И вообще… Как я, ничего парень?
— Вроде.
— Считай, что армия — моя вторая мама. Теперь я могу жить дальше, знаю, как жить.
Я рассказал Бабкину о Беленьком, его письме к матери, о нашем разговоре. Он помолчал, похму-рился, обдумывая мои слова, проговорил грустно:
— Я так о нем и думал. Просто мужик, потому и перегибает. Ему бы грамотешки поднабраться…
Рядом белела тоненькая березка, я качнул ее — сверху посыпалась роса. Вгляделся в редкую сетку ветвей, и на ровной голубизне неба проступили несчетные блестки, как на оконном стекле после дождя: с кончиков сломленных веточек, с каждой почки свешивались, дрожали в холодке капельки сока. Я показал их Бабкину.
— Это для стишков, — смущенно, как-то по-девчоночьи усмехнулся он. — С почек — горький, не пробовал? Попробуй моего. — Он поднялся, пошел к березе-донору, осторожно ступая, принес в протянутых ладошках берестовый туесок. — Пей свои сто пятьдесят. Законные.
— Полезно?
— Живая водица.
Туесок был полный, сок бугорком вспухал над его краями, и я медленно, словно кипяток, приблизил его к губам. Отпил. Сладковатая древесная прохлада пролилась внутрь меня. Выпил все, до белого донца. Отдал Бабкину туесок и сидел, явственно ощущая, как холод сока всасывает в себя мое повышенное тепло: будто понемногу приобщает, приспосабливает к открытому, ветреному сырому простору.
Бабкин опять лег на бушлат, занемел, свел резкие скобки бровей, уставившись в жестколистый багульниковый лес. Он размышлял. А я не мог мыслить от шума, какой-то ослепленности, почти непроницаемой мутности в голове. Лишь раз отчетливо возникли белый халат, белый колпак, белые простыни… Я спросил себя: «Неужели серьезно?» — и зябко вздрогнул. Словно ощутив это, Бабкин быстро повернулся, сел, сцепил на коленях руки — хрустнули пальцы, как влажные ветки, — тяжеловато, с силой тряхнул головой.
— Послушай… Сейчас решил. Навсегда. Лежал — и решил. От всего этого снега, земли, от тебя тоже. От жизни. — Кивок головой, вдох, шумный выдох — Женюсь на Кате. Мне она как память о войне будет. Еще как пример: она упрямая, мне души не хватает. Я только на вид строжусь. Ты знаешь. И она угадала. Говорит: «Я же тебе мама буду, а не женушка». Сама-то на пять лет младше меня. И еще… — Молчание, хруст пальцев, выдох. — Это главное. Как подумаю: ее никогда не будет, потеряю, как из рук выроню, — сам себя пугаюсь.
Мы встали, двинулись к дороге. Не говорили до самой казармы, и Бабкин не спрашивал у меня совета: теперь он был не нужен ему.
Перед сумерками пришел Иван Шемет, поставил на тумбочку ужин, сел на край кровати, очень весело хлопнул по одеялу. Похохотал. Заговорил о всяком разном: вот еду принес, узнав, что друг захворал, погуще по такому случаю кашицы всыпал, а вообще весна уже, скоро Амур тронется, водица заиграет и можно будет удочкой побаловаться Веселил, щекотал, взбадривал. Пообещал вызвать в свой колхоз, назначить личным секретарем, когда сам на главного агронома выучится.
Через несколько дней меня пригласил в кабинет капитан Мерзляков. Был он чисто выбрит, держался легко и прямо, и руки у него не дрожали — выглядел так, будто навсегда перестал мучить его отполовиненный желудок. Улыбнулся мне. Неторопливо пожимая руку, поздравил с присвоением звания «старшина» и вручил удостоверение радиста первого класса. Выразил надежду, что «ценная армейская специальность» вообще пригодится мне в жизни («Считайте— вам повезло!»), пожелал дальнейших успехов.
Служба подходила к концу.
г. Обнинск.
Юнна Мориц
Золотые дни
Долины сентября лежали в золотильне, На выпуклых плодах играл червонный свет, Червонное зерно в амбарах молотили, Шагал червонный бык с червонным стадом вслед. Червонный бок быка лоснился, словно купол, Внушая благодать, как храм среди лугов, Червонный пастушок рукой червонной щупал Его червонный лоб со скобками рогов. Червонное чело быка с червонным чревом Подмаслило лазурь, нагнув червонный рог, Червонная заря взошла, держась над хлевом В качели золотой за золотой шнурок. Среди червонных слив червонной птицы профиль Бросал червонный взор на золотое дно — Так к золотым пескам червонный льнул картофель, И к рыбам золотым — червонное вино. На золотой скамье в глухой червонной чаще Швырялись мы вовсю молчаньем золотым, Мы знали в этом толк: страстей червонных слаще В коптильне золотой нам золотильный дым! Был золотой запас истрачен без остатка, И веком золотым разило от ветвей, Где золотым тавром пылала в сливе складка, И золотом шуршал, гуляя, соловей. В червонных облаках со вздохом облегченья Стояло существо, чей золотой зрачок Кому-то подал знак окончить золоченье И золотой сундук захлопнуть на крючок. Под слоем золотым — орехи, ложки, ноги, Младенец золотой колотит в бубенец, Чтоб золотой порой по золотой дороге В одеждах золотых проехать наконец. Младенец золотой благоухает чудно, Не я ли так смогла его позолотить? Наверно, это я. Кому еще не трудно И в золоте ходить и золотом платить!Издалека
Шелестит перевясло И колесная ось. Что-то в роще погасло И снова зажглось. Что-то вспыхнуло синим И зеленым огнем. На мгновенье остынем. Станем тише, чем днем, Станем дальше, чем звезды, Друг от друга, когда Загорается воздух В роще возле пруда. В этой дальности — радость, Обмирание рук. Как восточная сладость. Тает окрика звук. Я вблизи, я не дальше, Чем земля от небес, Безыскусность — от фальши, И от ангела — бес. В чем причина отлучки! Раздается в ответ Струйка ливня из тучки, В роще вспыхнувший свет. И, хватая подсказку, За полночной доской, Золотую повязку Я срываю рукой — Взор свободен, как мысли, Мысли с горных озер На крутом коромысле Вносят ясность во взор. В этой ясности — холод, Холод вечности в ней, В этом холоде — сопод Пивоварни моей! Там на ворохе сена — Муза с кружкой в углу. Океанская пена Уползает во мглу. Шелестит перевясло И колесная ось. Что-то в сердце погасло И снова зажглось.* * *
Пахнут сумерки белилами, Пахнут красками, известками, Пьем под сочными стропилами Чай с тропическими блестками. Маляры ушли и плотники — До рассвета, разумеется. Опершись на подлокотники, Осень в кресле чаем греется. Дух ремонта капитального, Зная толк в сердечной грамоте, Образ быта госпитального Разбинтовывает в памяти. Грусть морозная, стерильная Входит в грудь иглой метрового, И душа болит обильная. Плоть вбирая в нить суровую. Но рывком, возвратом к доблести, К мощным узам здравой бытности Обезболиваю области Вдохновенной ненасытности. И за это во Флоренции Нам играет фортепьяно Трехголосные инвенции Иоганна Себастьяна.Олег Дмитриев
Песня лета
Я насвистывал песню лета, Взяв мотивчик на час взаймы, И она отзывалась где-то В неподвижном лесу зимы. Напевал, как попало ставил Мне одолженные слова. Не подумайте — снег не стаял, И не выпросталась листва! Было холодно, влажно, мглисто. Воздух взбалтывая сырой, Эхо голоса, эхо свиста Приближалось ко мне порой. Луч, светящийся вполнакала. Хвою сумрачную прожег, Словно лето напоминало. Что пора возвращать должок. Все слова и мотивчик славный Я отдал и пошел назад В начинавшийся сильный, плазный, Предугаданный снегопад. Не останется без ответа По законам простой игры Песня лета, ах, песня лета. Прозвучавшая до поры!Расстанная
Прощай, озорная квартира Над круглым зеленым двором! Бокалы последнего пира В старинном буфете запрём. Дом сносят. На стенах короста, И трещина рвет потолок… Но громок Прощального тоста Немного напыщенный слог! Прощайте, лепные карнизы, Увитый цветами пилястр! За вечные ваши капризы Эпоха вас смерти предаст. Седой головою в печали Опять покачает знаток… Вика остается в бокале Как раз на прощальный глоток! Прощай, молодая хозяйка. На наших глазах не старей! Друзей беззаботных бросай-ка Да замуж иди поскорей. Дом сносят. Простимся: Так просто Найти подходящий предлог… Но громок Прощального тоста Немного напыщенный слог! Напрасная времени трата Оспаривать времени нрав! Москва развела нас куда-то За линии тихих застав. Уносит нас в разные дали Людской предвечерний поток… Вина остается в бокале Как раз на прощальный глоток! Растанная! С юностью нашей, С друзьями поры холостой, С влюбленностью легкой, вчерашней, С обителью предков простой! Дыханье грядущего мира Сюда долетает извне. Бокалы последнего пира Пустые. Ни капли на дне…Отъезд из дома друга
После пира меня провожали друзья — За окошком машины стояла семья: Муж с женою, детишки и старец. И захлопнул я дверцу коротким рывком, И, вперед уплывая, увидел мельком Тех людей, что со мною расстались. Что-то друг прокричал, улыбаясь хмельно, И качнуло его молодое вино,— Или сердце за мной потянуло! И услышал я дружбы безмолвную речь, И дыхание будущих радостных встреч На мгновение счастье вернуло. Улыбалась хозяюшка с грустным лицом, И, тотчас опечалясь, я вспомнил о том, Что терпение женщины свято. Обняла своего, поддержала любя, Словно тихо сказала: «Жалейте себя, И друг друга жалейте, ребята!» И мальчишки, толкаясь, кричали вослед: «Приезжай!» — словно жаждали будущих лет Для того, чтобы с нами сравняться И участвовать в долгой беседе мужской, Говорить, поводя непоспешно рукой, За улыбкой отца не гоняться. Но последними были глаза старика. Мне вдогонку метнулась сухая рука И тотчас же в полете застыла. Это было известье о встрече иной — О последнем свиданье в дали неземной Беспросветной, как тьма и могила… оглянулся потом — удалялись они В отлетевшие годы, в минувшие дни, Чтобы в будущих днях объявиться. Ощутив привкус счастья и горечь беды, Разглядел я над домом две ранних звезды, Как пустые глаза ясновидца.Песенка возвращения
Вернулся обратно! К родным уголкам поспеши! На стержень Арбата Надета пружинка души. Сжималась-сжималась, Да вдруг распрямилась она, И самую малость Ей прежняя ласка нужна. Вернулся обратно! Так душу свою успокой, О ветер Арбата, Легко потеревшись щекой. В нем теплая сырость Глубоких и гулких дворов, И дружба и милость — И лучших не надо даров! Вернулся обратно! Так что ж — оброни с каблуков На камни Арбата Песчинки иных берегов. Чтоб здесь обитали Далеких земель города И в милом квартале Тебя поджидали всегда. Вернулся обратно! В свои переулки приди. Дай счастье Арбата Душе, не стесненной в груди. Сжималась-сжималась, Да вдруг распрямилась она, И самую малость Ей прежняя ласка нужна.Волшебник
О, резкий свет далеких лет, Когда — спроси любого! — Я вырезал твой силуэт Из неба голубого! Студенческий недолгий бал — Паренье и скольженье! — Когда я крал из всех зеркел Твое изображенье! Бессонниц темные круги, Когда через рассветы Нес у щеки твои шаги, Как белые букеты! Тот пыл, когда тебя лепил Из стужи на Манеже! Я ничего не позабыл, Да удаются реже Все фокусы далеких лет: Не просто, право слово, Любимый вырвать силуэт Из неба голубого…Игорь Волгин
Во дворах проходных и в парадных, пропадая от света до тьмы, мы не знали девчонок нарядных, и красавиц не видели мы. Незаметные в шумной округе, беспечальные дети войны, были девочки, наши подруги, угловаты, худы и бледны. Но, о деве тоскуя далекой, забывал я про наше житье. И сжималось от силы высокой одинокое сердце мое. Я искал идеал — и отныне, отрешаясь от школьной муры, я вздыхал по Кондратовой Нине, теледикторше нашей поры. …Между тем, потихоньку, как в сказке, с неприметным смешком на губах недотроги, вьюны, сероглазки подрастали в окрестных домах. Все менялось, и как-то однажды, после лета влетевшие в класс, мы притихли, — и будто от жажды пересохли вдруг губы у нас. …Я не знаю, как это случилось, но не в тот ли отчаянный миг мы навеки отдались на милость милосердных ровесниц своих! Пусть отмеченный общею метой, чуть не плача, с закушенным ртом о мальчишеской слабости этой я не раз пожалею потом. Пусть об этом не раз пожалею, что бывало дороже всего, укорить никого не посмею и забыть не смогу ничего.Ю. ЧИКВАИДЗЕ. Старый Тбилиси вечером
О. КОЧАКИДЗЕ, А. СЛОВИНСКИЙ, Ю. ЧИКВАИДЗЕ.
Эскиз декорации к спектаклю «Пока арба не перевернулась». Московский театр имени Н. В. Гоголя.
Из мастерской заслуженных художников Грузинской ССР О.Кочанидзе, А.Словинского и Ю.Чикваидзе.
О. КОЧАКИДЗЕ, А. СЛОВИНСКИЙ, Ю. ЧИНВАИДЗЕ. Эскиз к спектаклю «Старые зурначи».
А. СЛОВИНСКИЙ. Продавцы цветов.
Ю.ЧИКВАИДЗЕ. Мать и сын.
Галина Никулина Трое в одной мастерской
Олег Кочакидзе, Алик Словинский, Юра Чикваидзе и я смотрим на старый город. На противоположном берегу Куры, готовые вот-вот сорваться с кручи в воду, тесно лепятся друг к другу старые дома. Ажурные большие балконы делают их открытыми небу и солнцу. Горы плотно и разновысоко сомкнулись вокруг Тбилиси (глаза потом не скоро привыкнут к равнине). Ни асфальт, ни машины не в состоянии приглушить первозданные краски Грузии, воздух гор и земли…
Олег, Алик и Юра не светской любезности ради, а заинтересованно и преданно показывают мне свой город, смотрят на него глазами художников, старожилов и одновременно — как бы свежим взором заезжего человека. Этот клок земли, похожий на рейнские берега со средневековыми замками, на Венецию, Альпы и вместе с тем ни на что не похожий, неповторимый, лежит на их полотнах, преображенный их видением.
Изредка мои спутники бросают скупые слова.
Широкий, крепкий, энергичный Кочакидзе с лицом удивительно переменчивым — то пасмурным, то освещенным детской, распахнутой радостью, то шквально хохочущим:
— Театр. Не правда? Хорошая декорация.
Словинский — изящный и сдержанный, за сдержанностью его прячется ум живой и непосредственный, в чем, я надеюсь, вы еще убедитесь:
— Старый город…
Чикваидзе — человек мечтательный, с неизменной рассеянной доброжелательнейшей улыбкой:
— Красиво. Всегда торжественно, таинственно.
И обращаясь ко мне:
— Тебе нравится?
Мне очень все нравилось. Это было, пожалуй, сильнее, чем мои воспоминания от юношеских встреч с этими местами. Я испытывала знакомое и странное чувство досады от неумения выразить свои ощущения стихами. И бессильно повторяла про себя удивительное имя грузинской травы — пряной и загадочной: джонджоли, джонджоли…
А потом мы поехали в мастерскую. В просторную, светлую мастерскую на мансарде большого дома. Не дожидаясь моих вопросов, все трое принялись рисовать, не мешая мне смотреть работы, которые приковали меня сразу же. О них я еще скажу, а сейчас пора бы рассказать, как встретились три человека и как они стали «одним художником».
Они были студентами архитектурного факультета Тбилисской Академии художеств. В 1957 году к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве был объявлен конкурс на плакат. Александр Словинский, Юрий Чикваидзе и Олег Кочакидзе — каждый из них — представили свой вариант. Все три плаката, выдержав испытания, участвовали в фестивале и стали поводом для более внимательного знакомства молодых людей. Это время художники считают не только началом их дружбы, но и моментом зарождения их творческого союза.
Всех троих увлекал театр. Их первой работой был спектакль в Тбилисском театре юного зрителя — «Волшебный платок» (1959 год). Это была сказка о мальчике, который жаждет приключений, включающих весь «набор» пиратских мальчишеских мечтаний. Со сказкой художники не расстаются и по сей день, и не только как сценографы. Грузинским детям хорошо знакомы иллюстрации художников, за последние годы они оформили более 20 книг, и среди них немало популярных народных сказок.
Окончив Академию, Юра, Олег и Алик стали архитекторами. За четыре года они успели сделать несколько проектов, уже тогда они не мыслили своего творческого бытия друг без друга, и потому не только их работа в театре, но их архитектурные проекты были совместными. Настал день, когда они подали заявления в проектном институте, чтобы расстаться с архитектурой. Расставание их с этой старой музой было, правда, частичным. Труд театрального художника очень специфичен и требует в силу синтетической природы своей совмещения многих профессий.
О. Кочакидзе, А. Словинский, Ю. Чикваидзе работают над декорационным решением спектакля во всем его сценическом многообразии. Их работы «перешагивают» и за стены театра: каждый оформленный ими спектакль «снабжен» плакатом, который создают сами художники. Их плакаты точны, изысканны и лаконичны. «Всякое искусство есть умение жертвовать», — так однажды сказал Дега. Именно этим лаконизмом — «родной сестрой таланта» отмечены плакаты. И хотя решены они в разной манере, «рука» художников легко узнаваема, будь то плакат к «Маленькому принцу» Экзюпери (с трогательнейшим и беззащитным барашком, подсказанный самим писателем), илп плакат к спектаклю Д. Флетчера «Укрощение укротителя» — сочный и радостный по цвету, или плакат к «Старым зурначам» М. Элиозишвили с тремя острохарактерными физиономиями. Успех художников в плакатной и книжной графике не случаен, они же и начинали с плаката.
Несколько из 30 спектаклей, оформленных О. Кочакидзе, А. Словинским и Ю. Чикваидзе, — в репертуаре московских театров. Последняя их работа — пьеса О. Иоселиани «Пока арба не перевернулась» (в театре имени Гоголя).
На сцене — причудливое экзотическое дерево хитроумной конструкции. Около него концентрируется действие. Оно будто символ семьи, генеалогического древа (разве это не есть элемент режиссирования, «телесного» воплощения идеи пьесы?). Вообще художники идут oт пьесы, материала, что ничуть не мешает им мыслить оригинально, обогащая спектакль неожиданными выдумками. Им интересно было оформлять яркий, импровизированный спектакль «Чинчрака», щедро предоставивший выход их фантазии, так же как и мюзикл «Робин Гуд». Не менее увлек их когда-то полюсный по эстетике театр Б. Брехта («Что тот солдат, что этот»), давший им возможность предложить свое, очень индивидуальное понимание этого театра. Вместе с тем в спектакле «Старые зурначи» они пошли по иному пути.
Художники прочли «Зурначей» и один раз, и второй, и третий, думали, спорили — решение не приходило. Герои «Зурначей» — три старых человека, музыканта, которые оказались будто анахронизмом в современной жизни. И действие в пьесе развивается медленно: трое стариков выходят во дворик, садятся греться на солнышке… В конце концов о них вспоминают во время свадьбы, их приглашают, и они, играя на своих старых инструментах, сразу обретают радость и цель бытия в служении людям. Ход был найден после очередного чтения пьесы, его подсказал внутренний мир, психология самих героев, которая вызывала неизбежные ассоциации с простодушными, обаятельными и добрыми героями Нико Пиросманишвили.
Художники так и оформили спектакль, создав своего рода монтаж по мотивам Пиросмани.
Странные, точнее, сложные отношения складываются порой между человеком и произведением искусства. Отношения, подобные человеческим: возможно увлечение с первого взгляда, которое перерастает потом в истинное чувство, привязанность или, наоборот, улетучивается. Бывает, то, что поначалу не тронуло тебя, потом заставляет вновь и вновь возвращаться, увлечься и даже полюбить…
В мастерской я впервые увидела живописные работы художников. Я знала, что, кроме театра, графики, монументально-декоративного искусства, их влечет и масляная живопись.
Меня заворожило полотно, которое, как я позже узнала, художник назвал «Борьба в Шиндиси». Работа написана размашисто, широкими мазками. Гармония ее как раз в единстве темы, мысли и манеры исполнения. Вначале поражает интенсивный цвет, вихрь, само движение, темперамент. Позже, очнувшись от первого впечатления, рассматриваешь фигуры борющихся (на переднем плане), головы зрителей (второй план), пейзаж (третий план). Кажется, что работа выполнена стремительно, в едином порыве. Но не простое, «многоярусное» композиционное решение выдает долгую работу мысли художника. В этой картине борьба вырастает в некий символ вечного движения, радости бытия.
Мне кажется, что истинное искусство обладает способностью подчинять властно, рядом с ним не хочется громко разговаривать, размахивать руками. Вопрос о том, как удалось этого достигнуть творцу, вопрос техники, методов вторичен, он может возникнуть позже, во всяком случае, после некоторого ослабления первой эмоциональной реакции. Когда на сцене была Галина Уланова, не только не хотелось считать ее пируэты, о них просто не думалось. То же самое можно сказать о танце Натальи Бессмертновой — не то, чтоб оскорбительно заниматься подсчетом ее пируэтов, — невозможно. Это, наверное, было бы так же нелепо, как, оказавшись рядом с плачущим человеком (вместо сочувствия, помощи или хотя бы деликатного молчания), начать с интересом рассматривать его носовой платок, мокрый от слез.
Автора «Борьбы в Шиндиси» — Олега Кочакидзе влечет прежде всего человек в движении. Он откровенно любуется неожиданностью жеста, позы, сравнивает натуры ищет контрасты. Отсюда понятен его интерес к цирку, театру, спорту миру, который позволяет наиболее остро наблюдать движение, чувствовать ритм («Пантомима», «Цирк», «Танец»…). Его мазки делаются мягче, когда художник любуется женским телом, его пластикой — такова, например, «Серная баня». Его портреты ироничны. Кажется, что художника и в лице человека интересует одна доминирующая мысль, наиболее полно выражающая его суть. И в пейзажах этого художника нет умиротворенности, мягкой гармонии, они тоже в движении — экспрессивны, взволнованны.
Мироощущение Юрия Чикваидзе, проявившееся в его работах, более созерцательно, нет, не спокойно, скорее тревожно, но мягко. Ему прежде всего интересна духовная суть человека. И не случайно он пишет портреты близких людей. Все его работы озарены любовью к предмету изображения, будь то человек или пейзаж. Скованные беспомощным ожиданием печальные женщина и мальчик («Портрет жены и сына»), несколько таинственный, очень южный пейзаж («Старый город» и «Тбилиси вечером»)… Глядя на даты, несложно заметить, что с годами меняется отношение художника и к цвету (он делается более эмоциональным) и к самой манере изображения (ставшей менее плоскостной).
Искания третьего художника — в сфере колористических решений. Очень привлекательна его работа «Продавцы цветов», где в каком-то странном недиссонирующем противоречии — нежные тона и широкий энергичный мазок. Интересны, взволнованны и некоторые его пейзажи. Они с нарочито искаженными вертикалями и горизонталями, с «испорченной» геометрией.
В парке имени Кирова в Тбилиси стоит современное здание, опоясанное галереями. Это шахматный клуб. Интерьер его оформили О. Кочакидзе, А. Словинский и Ю. Чикваидзе. Большие панно — резьба по камню, дереву и инкрустация — являют собой сцены из «жизни» шахматных фигур. Выразительные ферзи и пешки, ладьи и короли веселы, загадочны и галантны. Особенно привлекательны инкрустированные панно — эдакие огромные деревянные гобелены, теплые по фактуре и цвету. Колористическое решение их строится на естественном цветовом контрасте разных пород дерева. 12 таких гобеленов украшают стены фойе и уютного полукруглого зрительного зала — здесь они особенно органично входят в архитектурную плоть здания.
Работа художников в монументально-декоративном искусстве по-своему возобновляет их контакты с архитектурой, они тонко чувствуют проект, стараясь своими декоративными решениями не подавить, а обогатить его. Таковы их работы в Новом Адлере и в известном архитектурном ансамбле в Пицунде.
Самого неразговорчивого человека можно «разговорить», важно только, чтобы человек ощутил твой истинный интерес к его труду и проблемам — не просто «корреспондентский», но и человеческий. Ну, а как быть, когда героев сразу три и заняты они одним делом, и они не любят говорить о себе, и отношения складываются с ними самые товарищеские? Не устраивать же пресс-конференцию («ваши творческие планы?», «ваши идеалы в искусстве?» и т. д.). Я поступила так: написала вопросы и попросила каждого ответить на них (отступая от их творческих законов: самостоятельно, не советуясь друг с другом). Пожалуй, я избрала правильный путь: не только сами ответы, но и то, как мне удалось их заполучить, кое-что сказали о характере моих героев. Юра принес свои записи через день и сказал: «Извини, что задержал, трудно было». Алик отдал ответы за несколько часов до моего отъезда со словами: «Ну и задачу ты задала, проще целую стеку расписать». Олег на вопросы не ответил, недовольно сказав: «Хочешь, картинку нарисую?» Он все-таки прислал ответы (думаю, что Алик и Юра были моими ходатаями) через две недели после того, как я вернулась в Москву.
Вот некоторые вопросы и некоторые ответы на них.
1. Представьте себе немыслимую ситуацию, отвлекитесь от времени и границ: существует одна огромная студия, где работают многие великие мастера прошлого и наших дней. К кому вы бы пошли учиться работать? Почему?
О. КОЧАКИДЗЕ на этот вопрос не ответил.
А. СЛОВИНСКИЙ. Наверное, я бы не захотел оказаться перед таким выбором (несмотря на всю заманчивость предложения). Это скорее сюжет для фантастической литературы с небольшими кошмарчиками: художник (обыкновенный художник, не гений), попавший в грандиозную компанию гениев, теряется перед выбором, мечется от одного к другому и в результате сходит с ума или в крайнем случае переквалифицируется в искусствоведа.
А если серьезно, то я не могу назвать конкретного имени, потому что их много и они очень разные. Ведь нельзя же одновременно учиться у Кранаха и Шагала, Брейгеля и Модильяни, хотя восхищаться ими одновременно можно.
Я имею в виду под словом «ученик» восприятие как образа видения, так и манеры исполнения. Несомненно, мы все подвергались и подвергаемся влиянию и не только признанных мастеров, но и своих коллег также. Это неизбежное явление, хотя часто приводит к противоположному результату, то есть отрицанию и созданию нового. Все дело в дозах. Ученичество — одна степень, влияние — другая. У каждого времени, эпохи свой стиль и свои течения, которые были бы невозможны без влияний. Но это уже азбучные истины, прошу прощения.
А вообще было бы замечательно пройтись по этой студии медленным шагом, посмотреть на всех их вблизи, увидеть, как они кладут краски на холст, как выглядят, как разговаривают, пожать каждому руку и перекинуться парой слов.
Ю. ЧИКВАИДЗЕ. Такую ситуацию представить трудно, так же как и назвать любимого художника. Учиться техническим навыкам и получать академические знания совсем не обязательно у великих художников. Увлечение разными художниками пришло в разные годы. Многие прошли бесследно, а некоторые остались. Это Сезанн, Брейгель, Пиросмани, Гольбейн, Моне, Джотто, Фальк, Шагал, Модильяни, Боттичелли, Гоген. Не сомневаюсь, что со временем в этом списке может что-то измениться.
2. Сколько часов в день вы работаете?
О. КОЧАКИДЗЕ. То много, то меньше.
А. СЛОВИНСКИЙ. Не менее 8–9 часов в сутки.
Ю. ЧИКВАИДЗЕ. В среднем 7–8 часов в день.
3. Сколько лет вы еще думаете работать вместе?
О. КОЧАКИДЗЕ. Всегда.
А. СЛОВИНСКИЙ. Если позволите, обойдем громкие слова.
Ю. ЧИКВАИДЗЕ. Я думаю, всегда.
4. Что вы больше всего цените в людях?
О. КОЧАКИДЗЕ. Сдержанность, порядочность.
А. СЛОВИНСКИЙ. Интеллигентность в самом широком смысле этого слова (я не имею в виду только образовательный ценз) + чувство юмора + честность + умение включаться «на всю катушку» в любое дело (работа, спорт, развлечение).
Ю. ЧИКВАИДЗЕ. Порядочность, чувство юмора, верность чувству долга, умение ценить дружбу.
5. Как вы проводите свободное время?
О. КОЧАКИДЗЕ. По-разному.
А. СЛОВИНСКИЙ. К сожалению, его не бывает. Неплохо было бы его иметь, чтобы смотреть и самому играть в футбол, ездить в разные города и страны, танцевать с красивыми женщинами, рисовать их и вообще рисовать просто так, без заказа.
Ю. ЧИКВАИДЗЕ. Слушаю музыку, играю сам, читаю, встречаюсь с друзьями, смотрю телевизор. Иногда чиню мебель, водопроводные краны и вставляю выбитые стекла (для дома, для семьи).
О скромном Юрином «играю сам» можно бы немало написать. Он хорошо «играет сам» на фортепьяно. Настолько хорошо, что люди специально приходят его слушать, вообще двери их гостеприимного дома днем и ночью готовы распахнуться перед друзьями.
Но вернемся к вопросам и ответам. Остался один, последний.
6. Как случилось, что вы стали художником?
О. КОЧАКИДЗЕ. Видно, так было надо.
А. СЛОВИНСКИЙ. Как говорится, с детства мечта. И, наверное, потому поступил на архитектурный факультет, так как был преисполнен столь великим благоговением и трепетом перед высоким званием «художник», что испугался. Лишь потом, поняв, что среди них не все гении, можно быть и простым художником, перешел от архитекторов в цех художников, где и пребываю…
(Как-то в разговоре со мной Алик сказал еще определеннее: когда я понял, что моя мечта о карьере пожарника не осуществится, было мне тогда 6 или 7 лет, я уже знал, что стану художником. Мама почувствовала мое влечение и много со мной рисовала.)
Ю. ЧИКВАИДЗЕ. Много рисовал с детства. Родители поддержали мое увлечение. В десять лет уже был уверен, что стану художником. Перед вступительным экзаменом испугался и подал документы на архитектурный факультет. Я быстро понял, что совершил ошибку. Олег и Алик помогли мне исправить ее.
Ответы я перечитала несколько раз. И как бы в шутку и наспех ни были они написаны, в них ясно просматривается и натура каждого и, главное, духовная, нравственная и эстетическая общность взглядов художников…
Я пишу и вижу всех троих. И боюсь их суда. Они истинно скромны и не терпят громких слов. Им не нужен панегирик. Но панегирика и нет. Мне только хочется добавить штрих к их портрету, точнее, к эскизу. Один из художников был болен. Тяжело. Он перенес операцию на сердце. Оперировали его в Москве. Долго, пока он не мог работать, друзья работали вдвоем. И везде — в театральных афишах и на титульных листах книг — стояли три имени. Они не любят об этом говорить, это я узнала от их близких. Я не вижу в их поступке ничего удивительного. Поступок как поступок, норма человеческого общения, соблюдение закона дружбы, и он для них свят. Только об этом я и хотела сказать.
Когда-то в начале пути художники объявили среди друзей конкурс на псевдоним, предлагая заманчивые награды победителю. Но требовательное трио так и не назвало победителя и осталось при всех трех своих именах. Длинно, конечно. Еще в театральной программе куда ни шло, а вот, когда на одной небольшой детской книжке стоят три имени… Длинно и корреспондентам неудобно. А с другой стороны, я с удовольствием полностью напишу все три имени этих интересных, вдумчивых мастеров, безусловно, талантливых: Олег Кочакидзе, Александр Словинский, Юрий Чикваидзе. Их имена уже давно стоят рядом с именами самых интересных театральных художников, которыми вообще так богата Грузия.
Ю. Смелков Взгляд со стороны
Когда они пишут о будущем, — это мне неинтересно. Когда о настоящем, — более или менее…
— (Из разговора с принципиальным противником фантастики.)Рисунки К. БОРИСОВА.
После этой реплики я попытался объяснить моему собеседнику, что о будущем фантасты, в сущности, пишут очень редко. Точнее — что они придумывают будущее именно для того, чтобы сказать о настоящем. Потому что любая литература — если это хорошая литература — говорит прежде всего о своем времени, его людях, его проблемах. В том числе литература о прошлом (исторический роман) и о будущем (фантастика). Что мешает нам признать, скажем, вольтеровского «Микромегаса» фантастической повестью? Ненаучность? Как сказать! По росту Микромегаса Вольтер вычисляет окружность его планеты, и вообще все арифметические расчеты там вполне верны. Не описан способ, с помощью которого Микромегас путешествует в космосе? Так в современной фантастике этим способам тоже уделяется уж очень небольшое внимание: космические корабли, свертывающие пространство или летящие почти с околосветовой скоростью, приняты фантастами за данность, так что достаточно простого упоминания о всей этой технике (равно как и о всевозможных роботах).
Тут другой вопрос: для чего Вольтеру понадобился Микромегас (а Свифту — лилипуты, великаны и гуигнгнмы)? Для того же, для чего Архимеду нужна была точка опоры, — чтобы повернуть земной шар, она ведь тоже должна была находиться вне его. Взгляд «извне» на человечество — чтобы оценить его с точки зрения законов разума, взгляд со стороны — такую возможность давали писателям XVIII века придуманные ими фантастические герои. Точка зрения — это очень важно для художника, для искусства: когда Толстой описывает Бородинское сражение через восприятие Пьера Безухова, в сражении не участвующего, именно гениальный выбор точки зрения позволяет писателю сказать о войне так, как никто до него не говорил. В современной фантастике путешествия во времени и в космосе, инопланетные цивилизации и контакт с ними постепенно приобретают художественную функцию «наблюдательного пункта», с которого можно увидеть то, чего с поверхности Земли порой и не заметишь. Поэтому один из главных ее художественных маршрутов: Земля — Космос — Земля. Или: Настоящее — Будущее — Настоящее; взгляд со стороны — из времени или из пространства.
Может быть, если бы Михаил Булгаков писал «Мастера и Маргариту» в наши дни, он заменил бы Воланда и его свиту пришельцами из космоса, посланцами некой высокоразвитой цивилизации: они в современной фантастике порой ведут себя очень похоже на булгаковских героев. В недавно завершенной 25-томной «Библиотеке современной фантастики» мы находим имена Кобо Абэ, Уильяма Сарояна, Владимира Тендрякова, Вадима Шефнера — писателей очень разных, но одинаково не склонных к оторванному от нашего времени фантазированию. Недавно вышла в свет фантастическая повесть такого «земного» писателя, как Сергей Залыгин. Все это я говорю к тому, что между фантастикой и «обычной» литературой обнаруживается все больше точек соприкосновения: последняя все чаще берет на вооружение главный художественный прием фантастики— фантастическое допущение. А фантастика, в свою очередь, все интенсивнее использует этот прием не с популяризаторскими, но с художественными, «человековедческими» целями.
Фантастика серьезно изменилась на глазах нынешнего читательского поколения. Еще продолжают говорить по инерции «фантастика и приключения», еще выходит в одном из издательств серия «Путешествия, приключения, фантастика», но именно по инерции. «Алый парус» — адресованная школьникам полоса «Комсомольской правды» — опубликовал небольшую анкету для выяснения, кого читают и что ищут в фантастике подростки. Ответы были такие:
«Фантастика меня интересует в основном не как литература, изображающая будущее, а как литература, показывающая раскрытие характера человека под действием необычных событий».
«В научной фантастике меня прежде всего интересуют проблемы нравственного роста человеческой личности и научно-технического прогресса».
«А привлекло меня к фантастике не что-то сверхчеловеческое и не сверхчеловеки, а самые обыкновенные человеческие отношения».
То есть, как сказал один из отвечавших на анкету школьников, «приключения духа захватывают больше, чем приключения тела». Конечно, было бы преувеличением считать, что так понимают фантастику все подростки, однако примечательно, что приведенные здесь ответы принадлежат именно подросткам, школьникам, о которых иные и сейчас думают, что им подавай только сюжет позабористее. Оказывается, нет, и, пожалуй, именно фантастика приучает видеть за сюжетом мысль, смысл.
Еще не так давно большинство фантастических романов и повестей почти полностью подчинялось канонам приключенческой литературы. Действие происходило в космосе, в будущем или в чуточку видоизмененном настоящем, однако и то, и другое, и третье играло в сюжетостроении примерно такую же роль, как в приключенческом романе — джунгли, далекие острова или какая-либо страна в пятнадцатом или шестнадцатом веке. Точно так же пришельцев из космоса можно было уподобить кровожадным дикарям или, наоборот, могучим заступникам благородных героев. Примерно так сделаны, скажем, романы братьев Стругацких «Трудно быть богом» и «Обитаемый остров» — в обоих люди коммунистической Земли попадают на другие планеты (на одной — что-то вроде нашего средневековья, на другой — технократическая диктатура фашистского типа) и мужественно сражаются с косностью и духовной отсталостью, утверждая высокие гуманистические идеалы.
Но вот перед нами недавно вышедшая повесть Стругацких «Пикник на обочине».
Захватывающих приключений в повести хоть отбавляй. Но героя Рэда Шухарта, преодолевшего все препятствия, здесь ждет не победа, как полагается в приключенческом романе, а самое большое в его жизни поражение. Вот он с огромным трудом, рискуя жизнью и пожертвовав жизнью другого человека, добрался до самого главного, куда он стремился, — до Золотого Шара, исполняющего любые желания. Сидит перед ним и думает: чего же пожелать? «Дело непривычное — думать, вот в чем беда. Что такое «думать»? Думать — это значит извернуться, с финтить, сблефовать, обвести вокруг пальца, но ведь здесь все это не годится… Расплатиться за все, душу из гадов вынуть, пусть дряни пожрут, как я жрал… Не то, не то это… То есть то, конечно, но что все это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия… Господи, да где же слова-то, мысли мои где?.. Подлость, подлость… И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады…»
Только что на глазах Рэда погиб парень, которого он взял с собой специально, чтобы тот проложил ему путь к Золотому Шару. Парень бежал к нему и кричал: «Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Никто не уйдет обиженный!..» Рэд сидит, думает, пытается вспомнить, что говорил ему Кирилл Панов, советский ученый, погибший в Зоне, и не может: «Шпана… Как был шпаной, так шпаной и состарился… Вот этого не должно быть! Ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рожден, чтобы мыслить (вот он, Кирилл, наконец-то!..). Только ведь я в это не верю. И раньше не верил и сейчас не верю, и для чего человек рожден — не знаю. Родился — вот и рожден. Кормятся кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это — мы? Кто — они? Ничего же не понять».
Человек с ужасом осознает, что он не умеет думать. Правда, он повторяет Золотому Шару слова того парня, которого он послал на смерть: «счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» — но, честно говоря, это довольно расплывчатая формула. Социальная и духовная безграмотность в век научного прогресса и технических чудес — вот что страшно, вот о чем пишут Стругацкие. И дело тут не в необразованности Рэда, не в том, что ему не хватает культуры и эрудиции. Среди персонажей «Пикника на обочине» есть знаменитый ученый Валентин Пильман — он сидит в кабачке, куда нередко заглядывает и Рэд, с удовольствием разглагольствует о цели и смысле Посещения, выдвигает остроумные гипотезы. Но и высоколобый профессор и отщепенец примерно одинаково социально безграмотны. К чему это может привести? Заглянем в другую повесть Стругацких — «Отель «У погибшего альпиниста» — там пришельцы из космоса, представители высокоразвитой цивилизации… помогают политическим бандам: те убедили их, что борются за счастье человечества…
Я не сравниваю «Пикник на обочине» с романом Хемингуэя «Иметь и не иметь». Но герои обеих этих книг — сильные, незаурядные люди, которым приходится преступать закон, чтобы заработать себе на жизнь. И оба слишком поздно понимают, что с ними сделало общество, в котором они живут, — вспомним последние слова Гарри Моргана: «Человек один не может. Нельзя теперь, чтобы человек один».
Так что фантастическая повесть посвящена актуальнейшей теме — опасному разрыву между интеллектуальным и социально-этическим развитием человека в современном мире. И именно фантастическая ситуация, созданная Стругацкими, дает возможность не публицистического, но художественного решения: финальный монолог Рэда Шухарта — это открытие характера, глубокое и точное исследование личности.
Взгляд со стороны оказывается художественно продуктивным — не менее, чем во времена Вольтера и Свифта.
Вот такой может быть сегодня приключенческая фантастика — та самая, от которой многие по привычке ждут только «хорошо закрученного» сюжета. Такое направление долго было абсолютно преобладающим в фантастике, однако не случайно в последнее десятилетие все более интенсивно развивается иная фантастика — философская: приключенческий сюжет уже не вмещает в себя новое содержание.
Собственно, и в «Пикнике на обочине» приключения Рэда Шухарта — не более чем повод для разговора о том, что есть человек: не случайно он терпит наибольшее поражение в момент самой крупной «приключенческой» победы: добраться до Золотого Шара невероятно трудно, почти невозможно. Правда, здесь Стругацкие хотя бы поддерживают сюжетный интерес: до последнего момента мы не знаем, деберется Рэд или не доберется.
Но вот мы читаем роман Станислава Лема «Голос Неба» — тоже, по сути, о Посещении. Одна из обсерваторий США приняла сигнал внеземной цивилизации. Естественно, факт этот моментально засекречивается, и создается группа ученых — «Проект «Голос Неба» (по аналогии с Манхэттенским проектом— группой, работавшей в годы второй мировой войны над созданием атомной бомбы). Повествование ведется от лица одного из участников проекта, знаменитого математика профессора Хоггарта — на первых же страницах своих записок он говорит о том, что задача не была решена, сигнал расшифровать не удалось.
Стандартный фантастический роман на эту тему чаще всего строится, так сказать, в обратном порядке — он весь посвящается именно истории поиска, гипотезам и экспериментам, а в финале — победа или поражение. Снимая сюжетный интерес, Лем подчеркивает самое для него важное — причины поражения. Причины не частные (скажем, кому-то из ученых не хватило проницательности или подвела интуиция), но общие — коренящиеся в самом существе человека.
Расшифровка небольшой части сигнала позволяет синтезировать некое вещество, поддерживающее свое существование за счет ядерных реакций (как живая ткань за счет обмена веществ). Потом выясняется, что с помощью этого вещества можно мгновенно вызвать ядерную реакцию в любой точке земного шара, — возникает волнующая военных преступников перспектива создать некое сверхоружие. Пентагон, естественно, тут же берет на себя руководство работами, но все кончается ничем, потому что с увеличением расстояния возрастает рассеяние: ядерную реакцию вызвать можно, но не в какой-то определенной точке, а в любом пункте весьма обширной территории, то есть оружие будет поражать и своих и чужих.
Из неудачи со сверхоружием Хоггарт делает для себя вывод: Отправители — кто бы они ни были — сделали невозможным использование их посланий во зло. «Отправитель имел в виду определенных существ, определенные цивилизации, но не все… Какие же цивилизации являются настоящими адресатами? Не знаю. Скажу только: если эта информация, по мнению Отправителей, не относится к нам, то мы ее и не поймем».
«Не относится» — это сказано не об интеллекте земных ученых, не об уровне развития науки (ведь частично все же расшифровали сигнал). В безднах Вселенной Лем помещает разум, наделенный прежде всего социально-этической мудростью — и с этой, космической, точки зрения становится особенно наглядной нелепость, безумность мира, в котором сигнал, миллионы лет пронизывающий Вселенную, засекречивается и упрятывается в сейфы.
Однако не только о политике здесь речь, не только о пентагоновских генералах. Хоггарт говорит о себе: «Основными чертами своего характера я считаю трусость, злобность и высокомерие. Однако же лет с сорока я веду себя как человек отзывчивый и скромный, чуждый профессиональной спеси, потому что я очень долго и упорно приучал себя именно к такому поведению». Человек, стало быть, способен победить в себе зло (не потому ли именно этому человеку приходит в голову мысль о том, что мы еще просто «не доросли» до контакта с высокоразвитым и гуманным разумом?) — но как еще велико расстояние от этой единичной победы до уничтожения зла в мире! Тот же Хоггарт признается, что «никогда не умел преодолевать межчеловеческое пространство», и спрашивает себя: «Что сталось бы с нами, умей мы на самом деле сочувствовать другим, переживать то же, что они, страдать вместе с ними?.. Если б от каждого несчастного, замученного человека оставался хоть один атом его чувств, если б таким образом росло наследие поколений, если б хоть искорка могла пробежать от человека к человеку, — мир переполнился бы криком, в муках исторгнутым из груди».
И крик этот, крик сострадания — продолжим мы мысль писателя — может быть, приблизил бы человечество к той социально-этической высоте, на которой стал бы возможен контакт с иной цивилизацией. Мне вспоминается тут один американский фантастический рассказ, в котором контакт этот осуществляется благодаря… собаке. Она попадает к пришельцам из космоса, те исследуют ее мозг, обнаруживают в нем огромную любовь к человеку, своему хозяину, и решают, что с существами, способными внушить своим домашним животным такую любовь к себе, можно жить в мире.
Впрочем, столь парадоксальный сюжетный поворот приводит нас уже к третьей разновидности, к третьему стилистическому направлению современной фантастики — к фантастике иронической, сказочной, пародийной. Великие тени Вольтера и Свифта, которые я потревожил в начале статьи, пожалуй, должны были появиться именно в разговоре об этом направлении фантастики, поскольку оно наиболее прямо продолжает их традиции. Можно упомянуть здесь пародийно-сатирические циклы того же Лема — «Звездные дневники Йиона Тихого», «Сказки роботов», «Кибериаду», множество произведений американских фантастов, а из советской фантастики — цикл рассказов Кирилла Булычева «Пришельцы в Гусляре».
Ирония в современной фантастике часто направлена на саму фантастику (думаю, что это свидетельствует об известной художественной ее зрелости — иронизировать над самим собой свойственно тому, кто в общем-то в себе уверен). Звездолеты, необыкновенные планеты и удивительные пришельцы давно стали не только необходимым, но часто банальным антуражем фантастического романа, — поэтому я понимаю Кирилла Булычева, который заставляет своих пришельцев просить у Корнелия Удалова, заведующего гуслярской стройконторой…. банку белил: их корабль при неудачной посадке повредил дорогу, пришельцы тщательно приводят ее в порядок, а белила им нужны, чтобы покрасить столбики. Эти же белила служат Удалову самым веским доказательством того, что он действительно встретил пришельцев: «Зачем мне, спрашиваю, белила? Вы же в курсе, что я состою на руководящей работе».
Вот на таком примерно уровне общаются с пришельцами обитатели Великого Гусляра. В зоомагазин поступают золотые рыбки, те самые, что выполняют по три желания, и кто-то из гуслярцев, купив рыбку, желает, чтобы из водопроводных кранов вместо воды текла водка. На окраине Гусляра поселяются знахарка и колдунья Глумушка. Как потом выясняется, она тоже пришелец, собирающий образцы местной флоры, а гуслярцам она просто по доброте своей иногда помогает: отыскивает утерянные вещи, мирит соседей, изготавливает приворотные зелья (все это с помощью фантастически совершенной электроники и биотехники).
Вроде бы напрашивается вывод: Кирилл Булычев пишет об удручающем несоответствии разума космических пришельцев и земных обывателей, абсолютно неспособных выйти за пределы своего узкого кругозора, но приспосабливающих к своим обывательским воззрениям и потребностям любые чудеса науки и техники. Однако подождем с выводами…
К тому же Корнелию Удалову очередной пришелец является с просьбой: «Удалов… надо помочь». На планете пришельца гибнут некие таинственные «крупики», играющие важнейшую роль в экономике планеты, и спасти их может только красный цветок, растущий у одной вредной гуслярской старушки. Удалов идет в проливной дождь к старушке, стойко выносит удар скалкой по голове и платит за цветок несусветную цену — двенадцать рублей; он бы отдал и больше, но больше у него с собой нет. Не бог весть какой подвиг, скажете вы? Однако пришелец торжественно обещает, что на его планете будет воздвигнут памятник Удалову: «Вы идете сквозь дождь и бурю, а в руке у вас красный цветок». Важна ведь сама готовность помочь…
(Финал рассказа иронически «снижен»: Удалов просит вернуть ему двенадцать рублей, завтра взносы платить, и благодарный пришелец вручает ему три тысячи… долларов, ибо он слабо ориентируется в земной валюте.)
В конце рассказа о золотых рыбках появляется пожарник Эрик, несколько лет назад искалеченный и изуродованный на пожаре — на лице у него нет следов ожога, а вместо ампутированных руки и ноги по десять здоровых: очень уж много гуслярцев пожелали ему исцеления. И, чтобы привести Эрика в нормальный вид, приходится потратить еще одно желание — последнее оставшееся неисполненным у рыбки, купленной кружком юннатов (два первых кружок потратил на то, чтобы устроить зоопарк и чтобы неделю ничего не задавали на дом).
В общем — люди как люди… Да, порой они смешны, а их желания и поступки нелепы. И далеко не всегда они способны понять смысл и масштаб явления, с которым столкнулись. Но, даже не понимая, они почти всегда находят правильные решения, потому что руководствуются простыми и вечными человеческими чувствами. Помочь, поделиться, посочувствовать — потребность в этом органически присуща обитателям Великого Гусляра, поэтому они и способны договориться с пришельцами. И — что, я думаю, не менее важно — друг с другом; пришельцы пока еще, как известно, не появлялись, и кто знает, когда появятся, а чувства эти весьма нужны нам самим.
Мы прошли по страницам книг, принадлежащих к трем главным направлениям современной фантастики, — приключенческая (хотя и не вполне укладывающаяся в этот жанр) повесть Стругацких, философский роман Лема, иронически-пародийные рассказы Булычева. Если попытаться сформулировать вывод, конечную мысль — она окажется близкой у трех писателей, хотя книги их очень различны. (Правда, подобная операция по извлечению вывода, может быть, кое-что и проясняет в книге, но нечто весьма существенное и отнимает у нее — в краткую формулу не вместится ни сверхчеловеческое напряжение пробирающегося по Зоне Рэда Шухарта, ни строгое изящество мысли профессора Хоггарта, ни юмор рассказов Булычева.) Действуя, будь человеком — говорят Стругацкие: знай, во имя чего ты действуешь, чего хочешь добиться, и подумай — нет ли противоречия между действием и его целью. Размышляя, будь человеком — это мог бы сказать герой Лема: сам он всю жизнь, преодолевая сопротивление собственной личности, старался следовать этому принципу. И даже если твои действия и размышления не выходят за рамки повседневной, обыденной жизни — все-таки оставайся человеком: такой урок мы можем извлечь из рассказов о появлении космических пришельцев в маленьком городе Великий Гусляр.
Словом, как говорил Станислав Ежи Лец: «Помни, у человека нет выхода: он уже должен быть человеком».
Я думать о тебе люблю…
На снимке: Елена Ширман.
По реке медленно плывут ярко-желтые листья клена. Вода Сетуни темна, небо надо мной серо от туч, под ногами мягко шуршат листья осин. Вся грустная, суровая пестрота осени настраивает на воспоминания о Елене Ширман.
Осень 1941 года…
У Бунина есть очень верное замечание о необычайной мягкости воздуха на юге. Когда я приезжаю в Ростов-на-Дону, то сразу же словно попадаю в мягкие ослепительные потоки света, и кажется, все вокруг будто обернуто незримой шелковистой тканью.
Со всей этой чуткой мягкостью южного города удивительно сочетался облик Лены Ширман. Смуглое лицо, прямой взгляд ее одновременно улыбчивых и серьезных глаз, волнистая копна каштановых волос над чистым высоким лбом.
Мы познакомились до войны, когда вместе учились в Литературном институте в Москве. В 1940 году она окончила институт и вернулась домой, в Ростов. А в следующем, сорок первом, осенью произошла наша последняя встреча.
Все три книжки ее стихов вышли после смерти…
Лена жила в Магнитогорском переулке. Одноэтажный дом с флигелем в глубине двора. Стена и веранда его увиты плющом. Рядом с домом стоял небольшой деревянный сарайчик. Лена переоборудовала его в комнату и жила в ней до наступления холодов. Все в комнате предельно просто, ничего лишнего: стол, покрытый вместо скатерти газетой, стопка бумаги, книги, конверты с письмами от друзей, общая ученическая тетрадь, знакомая мне еще по институту. В ней Лена вела свои записи, сюда же записывались и наброски новых стихов. В углу стояли узкая железная кровать, постель, покрытая серым солдатским одеялом. Это одеяло* неизменно путешествовало с ней по всем городам страны — сперва в Москву, когда она была студенткой, потом во все ее поездки, куда она отправлялась записывать фольклор, — на Кубань, Дон, в горы Осетии…
Лена пришла из редакции газеты «Молот» усталой. Ей было поручено в го тревожное время выпускать сатирические листки «Прямой наводкой», и каждый день надо было давать новые стихи, подписи к рисункам, редактировать весь материал. Но одно упоминание об институте, о московских друзьях сразу же оживило ее, точно она тут же стряхнула с себя какую-то тяжесть. Она стала мне рассказывать о себе, о работе, о стихах, о своих юных подопечных, с которыми годами переписывалась и о судьбе которых неизменно беспокоилась. Это были школьники, интересующиеся поэзией, с которыми Лена познакомилась заочно в те годы, когда она работала консультантом в газетах «Ленинские внучата», «Пионерская правда». Со многими она переписывалась годами.
Все говорили, что Лена была фантазерка, мечтательница. И верно: она всегда тянулась к необычайному, романтическому. Эта ее черта особенно подкупала детей. Они глубоко верили вместе с ней в придуманную ею сказочную голубую страну ЮНО, Юнианию, страну Юных…
В тот вечер она все время читала мне стихи своих товарищей. Особенно она любила строки поэмы Михаила Кульчицкого «Самое такое»:
Я очень сильно люблю Россию. Но если любовь разделить на строчки — Получатся фразы. Получится сразу — Про землю ржаную. Про небо про синее… И — глубже. чем вздох после точкиНаступила ночь. Маленький дворик окутали сумерки. Мы сидим на скамейке. Над нами небо с редкими звездами. К нему словно тянутся темные вершины акаций. В высоте, похожие на длинные пальцы, передвигаются, ощупывая небо, лучи прожекторов. Я вслушиваюсь в певучий и вместе с тем энергичный голос Лены, в ритм ее стихов, встречаюсь с ее взглядом.
— Сегодня в городе благодать. Тихо, — говорит она мне. — А обычно здесь за всю ночь ни минутки не заснешь. Зенитные батареи бьют совсем рядом, в нашем переулке.
Было уже поздно. Лена ушла в дом, где жили родители, я остался в ее, как она называла, «бивачной» комнатке. Спать совсем не хотелось. Я вышел во двор и присел на скамью в беседке, где мы только что были вместе с Леной. По небу все так же тревожно пробегали лучи прожекторов, а само небо, необыкновенное наше южное небо, как всегда, поражало меня своей бездонной нежностью и глубиной. Засмотревшись в него, я вспомнил то. как много все же было прожито счастливых дней всеми нами, тогда молодыми рабочими «Сельмаша», вместе с Леной под этим, в то время спокойным, мирным небом. Лена вела литературный кружок на заводе. Помню, пришли мы на первое занятие, принарядившись, тщательно вымывшись под душем после рабочего дня. От многих из нас, как потом говорила Лена, «замечательно пахло хозяйственным мылом». С понятной в таких случаях робостью, то и дело запинаясь, читали ребята свои первые стихи. Лена с одобряюшей улыбкой слушала их, давала советы.
Я часто думаю о том, как много Лена хорошего сделала людям, особенно юным, тем, кто только вступал б жизнь Самой заветной ее мечтой было собрать у себя всех своих бесчисленных юных корреспондентов, поговорить с ними, послушать их рассказы и стихи, совершить путешествие по Дону. Но эта мечта так и не осуществилась…
Спустя много-много лет мне пришлось читать ее дневник, короткие записи тех военных дней, когда я на один лишь день приезжал к ней в Ростов. И тогда жизнь ее для меня представилась наполненной не только трагедийным, но и высоким гражданским смыслом. В ее записях были и тоска, слезы, боль от неудач и неустанные поиски того, как лучше послужить людям, Родине.
«Читаю. Федин «Братья», Лидин «Идут корабли», Вирта «Закономерность» — жаль, нет конца. Блок. Шкловский «Цоо» (как хорошо!). «Поиски оптимизма». А там бомбят… На Ворошиловском в горсаду — памятник Ленина… Папа строит бомбоубежище в подвале. Мать храбрее меня…
Вчера бомбили базар. Много убитых и раненых. Женщин, детей. Приходил П. Б., его приняли в партию. Но он в победу, по-моему, не верит. «Зачем вступил, не пойму». «Надо б еще пострелять». Что это — рисовка? Или отчаяние?
…Я счастлива. Я умру хорошо! Работа. Листовки. «Вперед за нашу победу». Художники. Дежурства…»
«На работе все образуется… создаю «Прямой наводкой». Продолжаю жить мыслями о победе, о конце… Главное — работа, — она меня возродила. Тут в издательстве прекрасный коллектив. В тяжелую минуту я поеду с ними».
Беспощадная к себе до жестокости. В то же время она находила добрые, теплые слова для друзей, которые в этом особенно нуждались, для всех «жителей» выдуманной ею сказочной страны ЮНО.
Читая этот ее дневник, я вспомнил наше переделкинское студенческое общежитие, озеро со старыми ивами и тот солнечный день, когда мы с Леной однажды переплывали его.
Доплыли мы, кажется, уже до середины, и тут я, не помню отчего, почувствовал себя плохо и стал тонуть. Лена поплыла совсем рядом и как можно спокойнее проговорила:
— Ничего, ничего, ты вот возьмись одной рукой за мое плечо — будет легче, вот так, не сильно нажимай, не бойся — доплывем…
Уже на берегу она, встряхивая мокрые каштановые волосы, громко и весело расхохоталась.
— Зачем же ты за шею мою все хватался, я же говорила: держись за плечо. Я тоже могла на дтго пойти, а ведь меня когда-то в Ростове лучшим пловцом считали…
Лена лежала, запрокинув голову, на теплом песке, жмурясь от солнца, влажные ресницы ее вздрагивали от ярких прямых лучей солнца. Открыв глаза, она задумчиво посмотрела в небо, на лес, подступающий к озеру, и тихо, как бы про себя, сказала:
— А старости у меня, наверное, не будет… Когда разучусь понимать стихи, переплывать Дон и воевать с прошлым — я просто умру…
Слова ее оказались пророческими — она погибла молодой.
…Рассвет наступил быстро, незаметно для меня, так как я совсем не ложился спать — собираться долго в дорогу не пришлось. Я постоял посреди комнаты, оглядев в последний раз весь ее бесхитростный уют, и вышел. В окнах дома напротив было еще темно — там спали.
Теперь, много лет спустя, я всегда вспоминаю то раннее утро с горьким сожалением. Надо было во что бы то ни стало постучаться в дом, разбудить ее, сказать что-нибудь, попрощаться. Но я, не желая беспокоить в такой ранний час, не стал никого будить, тихо приоткрыл калитку и зашагал по совсем еще пустынному переулку на вокзал…
Как же она погибла? В августе 1942 года, при эвакуации выездной редакции газеты «Молот», она попала в руки фашистов в одной из глухих донских станиц. У нее нашли пачку листовок «Прямой наводкой», с карикатурами на гитлеровцев. Внизу на листовке стояло ее имя. Лену пытали, но она погибла так, как учила своих юных друзей: «Надо, стиснув зубы, держаться, бороться до последней минуты… А если придется погибнуть, то с улыбкой, на боевом посту».
Я смотрю на ее фотографию: она улыбается.
Свидетели ее гибели утверждают, что она улыбалась в лицо палачам.
Она умерла, как жила. Как учила жить других.
Свидетели вспоминают: в заключении она держалась стойко. Чтобы приободрить немного людей, сидевших вместе с ней в подвале, она утешала их, читала стихи, рассказывала тут же придуманную ею свою сказку. Причем она не удержалась и грустно заметила: «Это, наверное, моя последняя сказка». Когда ее увозили на расстрел, Лене удалось уже на ходу выбросить тетрадку с записями. Так ее мысли и чувства за несколько дней до смерти стали достоянием людей.
Ее не смогли заставить стать на колени. Дали очередь из автомата по ногам…
По реке по-прежнему медленно плывут ярко-желтые листья кленов. Вода в Сетуни по-прежнему темна, небо серо от туч, под ногами мягко шуршат листья осин.
Но я так ясно вижу Лену, по-прежнему идущую рядом, ее походку, ее приветливый взгляд. Вот она проходит мостик через Сетунь. Тут и родились строки стихов, знакомые сейчас многим читателям. Тогда была весна, май, и поистине оглушительный посвист соловьиный стоял в молодых рощах по берегам Сетуни, И стихи ее были не только о любимом, но и о том вечном и прекрасном, к которому она стремилась всю свою жизнь…
Я думать о тебе люблю. Ручей, ропща, во мрак струится. И мост. И ночь. И голос птицы И я иду. И путь мой мнится Письмом на двадцати страницах. Я думать о тебе люблю.
Г. ЦЫБИЗОВ
З. Паперный Светлов и романтика
М. Светлов в Каунасе. Фото публикуется впервые.
Как то я ехал на электричке, и на станции в вагон ворвалась шумная ватага молодых людей и девушек в кедах и с рюкзаками. Отталкивая всех и вся, влетев как будто «на рысях», они угромоздились между двумя скамьями, рассчитанными на шесть человек, примерно «вдвадцатером» и сразу же начали петь под гитару— очень громко и не очень стройно. Я тихо спросил одну девушку, откуда, мол, они, и она гордо ответила: «Мы светловцы».
Пели они все более громоподобно, и, когда особенно раскатисто ухнули, сидевшая неподалеку старушка испуганно охнула и пересела подальше. Я подумал, что эти светловцы не очень похожи на Светлова, который сказал: «Простите меня, — я жалею старушек. Но это единственный мой недостаток».
У этих светловцев — в отличие от самого Светлова — никаких недостатков не было, и поэтому старушек они не жалели.
Мне кажется, у нас начинает происходить что-то вроде инфляции слова «романтика». Иной юноша думает, что достаточно ему пустить свою шевелюру на самотек, превратить в этакую неподнятую целину, обзавестись рюкзаком, взять билет 3-й зоны за 20 копеек и начать петь песню типа «Перекаты да перекаты», или «Перепады да перепады», или «Переборы да переборы», — и он уже романтик, Светлову друг и брат.
Но ведь это всего лишь пригородная романтика, даже не транзитная, она далека от романтики того паренька, о которой сказано: «Но песню иную о дальней земле возил мой товарищ с собою в седле».
А сколько мы слышали самодовольно-романтических песен, где на все лады повторялось: мы романтики, мы уж такие, любим нехоженые тропы, — причем идея нехоженых троп выражалась самыми расхожими словами.
Подлинная романтика начинается не с рюкзака, а с доброты, не с электрички, а с бескорыстия.
Михаил Аркадьевич был добрый человек. Достаточно было взглянуть на его лицо, чтобы в этом убедиться.
Есть лица: губы сложены в улыбку, а глаза смотрят на вас в упор, холодно, настороженно — не два глаза, а два окошечка бюро пропусков.
У Светлова улыбка начиналась у краешков глаз, они вдруг лучились морщинками, возникало нечто вроде сияния морщинок, отсюда улыбка расходилась по всему лицу, и тогда уже было ясно, что он сейчас скажет что-то неожиданное, необычное, веселое. Такая улыбка просто гарантировала, что ничего банального вы не услышите.
Светлов не был ни говоруном, ни остряком. Он всегда был спокоен и никуда не торопился. Жил без суеты.
За столом он не старался завоевать площадку. Никого не перебивал. Как говорят актеры, не тянул одеяло на себя. Паузы между его шутками были долгими, но тем больше его шуток ждали.
Совершенно не думал о том, как он выглядит. Я никогда не видел его костюм тщательно отутюженным. Светлов относился к пиджаку, как к пижаме. Мог запросто лечь на диван в костюме с галстуком. Есть книга «Анатоль Франс в халате». О Светлове такой книги нельзя написать: он выглядел одинаково на трибуне и дома.
И дом его был «домашний», хотя и без особой «домовитости».
Есть такой разряд показных квартир, пускай не очень распространенный, но есть. Это некая обитель, где все дышит творческим величием хозяина. Прежде всего бросается в глаза портрет, где он напряженно мыслит. Мыслит так, как и роденовскому «Мыслителю» не снилось. Нередко хозяин снимается на фоне корешков книг классиков, так что можно прочитать: «Пушкин», «Толстой», «Бальзак».
Не помню уже, о каком литераторе, увековечившем себя на фоне классиков, Виктор Шкловский отозвался: «Сидит, привыкает…»
Книг в такой показательной квартире много, но часто они заставлены столь многочисленными экзотическими, диковинными игрушками, зверюшками и финтифлюшками, что практически извлечь из-за них книгу трудно и хлопотно. Кажется, проще сходить в библиотеку.
Ничего этого не было в комнате Светлова, в его однокомнатной квартире у метро «Аэропорт». Были пустынные стены, одинокий портрет Маяковского, видавшая виды пишущая машинка, старенькое кресло.
На кухне тоже довольно пустынно, каким-то печальным айсбергом белел холодильник. История его, как рассказывают, такая. Сотрудники одного журнала давно собирались попросить у Светлова стихи. Вот они приезжают к нему на новую квартиру у «Аэропорта» и не знают, как лучше заговорить насчет стихов для публикации. Начинают издалека: не нужно ли вам чего для новой квартиры? Светлов говорит: да, нужно, никак не могу достать холодильник. А давайте, они предлагают, мы попробуем через редакцию вам помочь. Идут они к своему главному редактору, сочинили ходатайство: такой поэт — и без холодильника; и вот у Светлова на кухне стоит новый холодильник. Выждав какое-то время, сотрудники решают, что вот теперь они имеют полное моральное право попросить у Светлова стихи. Приезжают к нему и начинают деликатный разговор: ну, как, мол, Михаил Аркадьевич, холодильник, покажите, что вы в нем храните. Светлов говорит: «Пожалуйста», — ведет их на кухню, открывает холодильник, и они видят: он совершенно пуст, только что-то черное лежит, а Светлое радостно восклицает:
— О! Так вот где я забыл футляр от очков!
Кроме этого футляра, в холодильнике ничего не было.
Романтика Светлова — веселое пренебрежение к быту, комфорту, уюту. Он не говорил: «Мой дом — моя крепость». Скорее он мог бы сказать: будьте здесь как дома, делайте, что хотите. У него было высшее гостеприимство: он, хозяин, был похож на скромного гостя, который отводит роль хозяина тому, кто к нему пришел.
Светлов был одним из самых остроумных людей, каких я встречал. Нередко бывает так, что чувство юмора не распространяется у человека на него самого. Есть у меня один такой знакомый. В разговоре он непрерывно шутит, просто мечет остроты, каламбуры, дает, что называется, остроумную игру слов, щедро делится своими излюбленными, отработанными экспромтами. Но вот вы, поддавшись этому тону, слегка проехались на его счет. Сразу же его лицо каменеет. Он становится похож на свой собственный бюст. Чувство юмора словно вырубается рубильником. Он холодно, «отключенно» осведомляется: «А что вы, собственно, хотите этим сказать?» А вы уже ничего не хотите.
В смысле чувства юмора такие люди похожи на грозный дальнобойный танк, который оказывается беспомощным, когда к нему подбегают вплотную.
Светлов к себе относился легко, весело, иронично. Хочется даже сказать — беззаботно. Михаил Аркадьевич как будто не помнил, что он и есть Светлов, тот самый, который написал «Гренаду» и «Каховку».
Почти никогда не рассказывал он о своем творчестве. Не мог сказать: «мое творчество», «мой писательский путь», «мое мышление в образах обычно начинается с того…» и т. д. Не делился писательскими планами, не рассказывал, ни как он творил, ни кал воевал. А если говорил, то чаще так:
— Я хочу написать «Записки охотника»… выпить…
Или:
— Алё. Это Светлов говорит. Я здесь накропал стихи и хочу вам почитать. Знаете, зачем? Чтобы вы определили, не начало ли это менингита?
Как-то он сказал, что на его доме будет повешена мемориальная доска, где напишут: «Здесь жил и никогда не работал М. Светлов».
Поэт Сергей Наровчатов рассказывает:
— Однажды я пришел в клуб литераторов с очень красивой девушкой. Мне захотелось похвалиться перед Светловым. Я сказал: «Вот смотрите, какая красивая. Правда, картинка?» Михаил Аркадьевич улыбнулся: «Старик, я не знал, что ты стал таким передвижником».
Одному художнику Светлов сказал:
— Вы художник? А вы не можете мне нарисовать десять рублей?
Когда началась Отечественная война, многие писатели сразу же были приписаны к фронтовым редакциям, надели военную форму. И вот в самые первые дни войны сидят они в ресторане Дома литераторов, у всех вид боевой, как будто даже пропахли порохом, хотя еще никто не воевал. На всех форма сидит ладно и складно. Входит Михаил Аркадьевич, идет шаркающей походкой, он тоже в военной форме, но она на нем не сидит, а скорее висит. Все враз повернули головы. Он почувствовал, что своим сугубо штатским видом портит батальный пейзаж, и тихо спросил:
— Вы что, смотрите на меня и не верите в победу?
Я никогда не видел Светлова торжественным, многозначительным. Пресловутое чувство локтя выражалось у него не в том, что он норовил локтем отпихнуть соседа. И вообще не «норовил». Не был ни хваталой, ни устроялой. И когда решали, кого позвать, пригласить, премировать, делегировать, о нем вспоминали после многих других.
На одном роскошном банкете стол был богато сервирован, разнообразной была «разблюдовка». Светлова спросили, отчего он так мало ест.
— А я люблю, чтобы селедка лежала на газете.
Один критик стал жаловаться Светлову на литераторов, которые живут прошлыми заслугами. Давно ничего не пишут, а хлопочут, шумят. Не замечают, что как писатели они уже давно нe существуют.
Светлов:
— Мало того. Между ними еще идет борьба за несуществование.
В некоторых воспоминаниях о Светлове говорится так: он был непримиримым ко всему плохому, яростно ненавидел, боролся, гневно высмеивал и т. п. Мало похоже на Светлова… Непримиримость не его отличительное качество. Он был мягким, легким, простым человеком. И злу он сопротивлялся не прямым действием, а скорее самим своим существованием. Его стихия не сатира, а юмор. Причем юмор не выделенный, не отобранный, не «специализированный» юмор анекдота, дежурной остроты, но юмор как воздух, который вас окружает. Юмор интонации, намека. Очень дружеский.
Вот еще характерная особенность: все, кто занимается Светловым, знал его, писал о нем, — все они (или почти все, за самым небольшим исключением) дружны между собой. Семен Гушанский, Лидия Либединская, Яков Хелемский, Лев Славин, Лев Озеров, Нина Федосюк, Марк Соболь, Лев Шилов… Когда они собираются, к ним как будто незаметно подсаживается Михаил Светлов. И начинают вспоминать, что он сказал, что сделал, как пошутил.
— А помните, Михаила Аркадьевича угостили кумысом, он выпил и говорит: это надо закусывать вожжами.
— А как он вошел на заседание, кто-то ему крикнул: «Миша, дай папиросу». А он: «Надолго?»
— А то еще мы сидели в редакции, сочиняли частушки для капустника. Появляется Светлов: что это вы сочиняете? Мы жалуемся: вот мы, не поэты, сочиняем частушки, а вы, поэт, не помогаете. Он говорит: пожалуйста! О чем? Мы говорим: у нас в редакции есть сотрудница Вера, которая выступает на всех летучках, говорит долго и занудно.
Светлов мгновенно:
— Пишите: «Мчатся тучки, вьются тучки и в глазах совсем темно — это Вера на летучке завела веретено».
Кто-то вспоминает, как он выступал в Ташкенте по телевидению. Была жара, на студии летали мухи.
Ташкентцы увидели на экране улыбающегося Светлова. Перед тем, как начать выступление, он вдруг стал ловить муху, не поймал и сказал: «А я и не знал, что мухи так любят выступать по телевизору».
Конечно, Светлов был мягким, добрым, снисходительным. Но он умел быть и твердым. Когда ему сделали операцию, больничный врач сказал: «Он вел себя терпеливо, как солдат».
Было свое достоинство не только в том, как он жил, но и как умирал.
Много есть людей, которые испытали дружеское участие Светлова в свои самые трудные дни.
Сегодня часто вспоминают светловские слова:
— Я могу обойтись без необходимого, но без лишнего обойтись не могу.
За десятилетие, которое прожито без Светлова, мы поняли: многое, чем мы увлекались раньше, кажется теперь лишним; а он сам, Михаил Аркадьевич, человек молчаливой, ненаигранной романтики, ощущается необходимым.
Владимир Огнев Реалистическая публицистика
Книга Б. Панкина «Время и слово», выпущенная издательством «Детская литература» в 1973 году, имеет подзаголовок: «Семь публицистических очерков из жизни и литературы». Автор ее — известный литератор, совсем недавно — «молодежный журналист», главный редактор «Комсомольской правды».
«Из жизни и литературы»… В этом подзаголовке и секрет новизны, оригинальности не только жанра — существа этой книги. Работа Б. Панкина не могла бы появиться ни раньше, ни позже даты, которая обозначена в выходных данных книги. Для середины горячих пятидесятых годов она слишком аналитична, для конца сороковых попросту невозможна… В книге этой живет наше время. По своей методологии «Время и слово» сочетает в себе откровенную критичность ко всему замшелому с романтичностью идеала, верой в созидательные силы жизни и молодости.
Да, именно молодости. Первое Качество работы Б. Панкина — безошибочное чутье адреса. Знание реального, сегодняшнего молодого читателя. Дифференцированное и обобщенное, понимающее и принципиальное. Он не затыкает уши и не зажимает глаза. Он видит молодежь такой, какая она есть. Ибо только так и можно найти реалистический выход из кризиса, в котором могут оказаться проблемы воспитания, если мы будем уповать на «архаическую систему мышления, видения», когда пишут не то, что видят, а то, что хочется увидеть.
А вред этой «архаической» системы с каждым годом становится очевиднее. Опасность возрастает. «Тяга к положительному, потребность в идеале сильны в молодежи по-прежнему. Но, признаемся, писать о хорошем становится труднее. Ухо молодого читателя сегодня чувствительнее, чем раньше, к фальши, к натяжке. И порою здоровая придирчивость может переходить в предубеждение». Как найти нужную меру такта, как быть дальновидным в вопросах воспитания, где сознание юноши или девушки одновременно и настороженно и открыто к слову истины?
Прежде всего, очевидно, надо отрешиться от самоуверенности. От чувства возрастного чванства, которое, как правило, оборачивается позицией неверия в творческую силу молодого ума, в его опыт общественного сознания. «И тут стоит сказать о том, — пишет Б. Панкин, — что в некоторых произведениях советской литературы последнего времени получила распространение точка зрения, согласно которой человек, особенно молодой, — лишь воспринимающее существо. Что воспринял, то и отразил, а проще говоря — тем и стал. Человек, личность, по этой схеме не боец и не мыслитель, а что-то вроде зеркала, в котором непременно отпечатается все, что только ни появится на горизонте. И, стало быть, чем меньше на нем будет появляться, тем лучше». Очень точные слова. Тем более что сегодня и невозможно «оградить» юное сознание от самых различных веяний. Б. Панкин прав, когда ссылается на то, что дело тут не только в эпохе научно-технической революции. Постоянно ведущаяся борьба нового и старого, отсталого и передового «неминуемо рождает различия во взглядах даже людей одного мировоззрения, одних жизненных позиций. Так что уповать в современном мире на то, что формирование личности можно поставить в зависимость от какого-то одного фактора, одного источника информации, не приходится. Характер, психология человека будут развиваться под влиянием все большего числа воздействий».
А раз нелепо рассчитывать на полное исключение нежелательных влияний, тем важнее «позаботиться об общем положительном итоге». То есть опять-таки подумать о реалистическом средстве воспитания молодежи.
Б.Панкин горячо вступается за союз газеты-друга, газеты-воспитателя с литературой, живым, естественным словом правды о жизни. Чем ближе будет стоять образное, живое и, подчеркиваю, естественное слово литературы к массовым изданиям, тем успешнее будет происходить процесс вытеснения слов-паразитов, слов-затычек, слов-штампов — другого наследия «архаической системы мышления». «От прописей шагнуть к творчеству» — так формулирует эту задачу автор. Нащупать взаимопонимание между читателем и печатным словом не так просто, как кажется. Взаимопонимание — это и «уважение к чужому мнению, даже если ты с ним не согласен». Доверие — вот ключ, которым отпираются сердца. Доверие же сегодня рождается, мы знаем, в первую очередь к документу, факту, дневнику, социологическим данным…
А художественная литература? Б.Панкин не случайно поставил подзаголовок, в котором разделил понятия «жизнь» и «литература». Я вижу здесь последовательность и принципиальность человека, понимающего специфику искусства. Казалось бы, общие призывы к критике — идти в жизнь, изучать ее, учиться у нее — и есть свидетельство единства задач литературы и действительности. Однако на практике часто бывает и обратное: критика, заявляя о своей связи с жизнью, опоре на факты жизни, удаляется и от искусства и от его прототипа. Внешнее подобие жизни бывает опаснее кажущегося «ухода» от нее. Отсутствие культуры и таланта принимает, как мы знаем, сегодня самые различные лики «нужной темы», «связи с землей» и т. п. Жизнь проходит мимо таких сочинений. А все потому, что понятие «жизни» в такого рода сочинительстве профанируется. И получается, как пишет Б. Панкин о некоем произведении В. Галун-чикова «Тихая заводь», что читатель, раскрыв повесть эту, «решит поначалу, что автор не иначе как задался целью… создать образ-пародию, высмеять страсть к неумеренному и неуместному употреблению и повторению дорогих нам истин и лозунгов». Ведь под словом «жизнь» такие сочинители подразумевают именно готовые до них решения и расхожие формулировки, а не реальные отношения реальных людей, реальные конфликты и реальные обобщения на наших глазах формируемого нового. Вот теперь давайте и подумаем: что «образ-пародия» — такая ли уж безобидная вещь? И как эти «пародии» помогают преодолеть некоторый скептицизм молодежи по отношению к «громким» словам (за которыми — реальные страсти века, наша вера, наши идеалы — не забудем об этом!); так помогают они преодолеть скепсис незрелого сознания молодежи или… укрепляют его? Думаю, что ответ может быть только один: пародии бесталанных и бескультурных сочинителей, спекулирующих на дорогих нам всем гемах или попросту не справляющихся с трудным делом творчества, приносят опасный вред обществу. И говорить об этом надо не под сурдинку.
Мы помним тщетные попытки писать романы об интеллигенции в виде пасквилей или создавать таких «героев» слова и дела, которые способны были вызвать разве что хохот, так как отсутствие у авторов способностей, помноженное на полнейшее непонимание действительного хода времени, приводило таких сочинителей к созданию кривых зеркал, в которых, как пишет Б. Панкин, «пошлость оборачивается глубокомыслием, корысть — самоотверженностью… политическая безграмотность — идейной непримиримостью…» Вот почему задача воспитания хорошего вкуса, умения отличать божий дар от яичницы не есть какое-то эстетическое завихрение избранных критиков, а прямой идейный долг любого литератора, необходимое условие существования профессионализма в литературе. Б. Панкин, не вдаваясь в особые теоретические изыскания «метода», просто чувствует, где сегодня фарватер литературы, где правда о жизни, где ценности духовного порядка, а где макулатура, гримирующаяся под нечто.
Умно, уверенно анализирует критик книги Чингиза Айтматова, Федора Абрамова, Василя Быкова, Гавриила Троепольского, Николая Дубова — писателей настоящей писательской судьбы, знающих жизнь и умеющих писать картины жизни реальной, достоверно убедительной для читателя.
С такой же чуткостью различает критик фальшь, спекуляцию, бездушие.
А идут они, как правило, рядом. И прав Б. Панкин, подчеркивая в разговоре о литературе, что «речь здесь, очевидно, следует вести… не о профессиональном даре, но о даре человечности, который вовсе не является монополией какого-то одного рода занятий».
Дар человечности, воинственно пронесенный через всю их — как больно это сознавать! — недолгую жизнь, лежал в основании светлых биографий Николая Островского, Сергея Чекмарева, Марка Щеглова, Виктора Головинского, которым Б. Панкин посвятил волнующие, проникновенно написанные страницы…
Так о чем эти очерки — о жизни или о литературе?
Я бы сказал так: о том, что литература, которая является могучей соперницей самой жизни в деле переустройства и совершенствования духовного мира человека, должна прочно опираться на жизнь, причем такую жизнь, какая нас с вами окружает, а не подмененную представлениями схоластическими, «литературными», псевдоромантическими, какими угодно, но уводящими от подлинной действительности.
Публицистика и критика здесь идут рядом. На мой взгляд, публицистика здесь ведет тему. Спокойно, убедительно аргументируя, твердо стоя на почве данных жизни, Б. Панкин написал хорошую книгу. Очень современную по пафосу своему.
Это реалистическая публицистика, к которой прямо относятся слова В. И. Ленина: «Спокойнее разбирать доводы и повторять правду обстоятельнее, проще. Так и только так обеспечивается победа безусловная».
______________________________
Коллектив редакции журнала «Юность» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины одного из старейших сотрудников редакции
Ирины Александровны ГРИГОРЬЕВОЙ
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
______________________________
Эрнст Генри Тайный фронт
Это интересная книга. Речь идет о самых крупных подрывных операциях, когда-либо проводившихся в ходе мировой истории, — об антисоветской деятельности империалистических разведок.
Операции эти ведутся уже 57-й год и не прерываются ни на один час. Было бы ошибкой считать, что в результате нынешней разрядки на международной арене деятельность империалистических разведок будет ослаблена. Напротив, чем вежливее становятся голоса империалистов на дипломатических конференциях, чем больше уступок им приходится делать силам прогресса на международной сцене, тем больше они ставят на свой «тайный фронт». Тема книги С.К.Цвигуна остается актуальной («Тайный фронт». Издательство политической литературы, М. 1974).
«Мы все в большей и большей мере должны полагаться на разведку, — писал незадолго до своей смерти бывший глава ЦРУ Аллеи Даллес, требуя создания «глобальной разведывательной системы» против социализма. — Нашей разведке приходится изыскивать средства и способы решения все более широкого круга вопросов, каких ей никогда раньше не приходилось решать». Указывая на огромные трудности, стоящие на / пути проникновения империалистических разведок в социалистические страны, Даллес подчеркивал: «Тем не менее еще имеется возможность проникать под этот барьер, над ним, в обход его или даже сквозь него».
О таких попытках и пишет автор. Он рассказывает о сети западных разведок, об аппарате главной из них — американской, о разнообразных методах «глобальной разведки», об идеологических диверсиях, радиопропаганде, деятельности контрабандистов и т. д. Мы можем коснуться только некоторых участков «тайного фронта».
Примечательны сообщения автора о техническом оснащении современных империалистических шпионов. Неискушенный читатель не перестает удивляться. Научно-техническая революция производит переворот и в этой области. Шпионская аппаратура довоенных лет выглядит наивной по сравнению с нь-нешнеи и дело уже не только в радиотехнике. Тут и космические шпионы-спутники, действующие на расстоянии от 180 до 540 километров от Земли; и особые сверхмалые подводные лодки; и костюмы-лодки; и весящие 115 килограммов вертолеты, которые могут быть в очень короткое время собраны одним человеком. Для преодоления оврагов, рек, заграждений в США разработан ракетный пояс, прикрепляемый на спине шпиона и состоящий из двух портативных ракетных двигателей. С помощью этого пояса шпион может совершать прыжки до 50 метров.
Тщательнее, чем раньше, обеспечивается и маскировка шпиона. Засылаемый в СССР агент сначала обстоятельно изучает быт и нравы советских людей, основы советского законодательства, порядок устройства на работу или на учебу, правила прописки, проживания в гостиницах, передвижения по стране и многое другое. Перед засылкой его одевают в одежду советского производства, снабжают советскими документами, чистыми бланками советских учреждений, штампами, печатями, крупными суммами советских денег. Но он должен в совершенстве приспособиться к советским условиям и психологически: уметь перевоплощаться в советского человека. Это, несомненно, намного труднее, чем обращаться с техникой. В книге приводится ряд случаев, когда в СССР засылались агенты, которые, казалось бы, должны были бы стать неуловимыми. Но их все-таки распознавали, несмотря на «перевоплощение».
Людей, завербованных разведками на месте, в СССР, нельзя смешивать в одну кучу. Это тоже подтверждается приводимыми в книге примерами. Среди них есть настоящие классовые враги, ненавидящие советский строй. Есть морально распущенные люди, пошляки-недоноски, готовые на все, чтобы поживиться деньгами и предаться дешевым удовольствиям, натуры типа Пеньковского. Есть слабые характеры, люди, у которых хребет под нажимом быстро ломается. Поняв, что вступили на скользкий путь, они не находит в себе силы остановиться и, чего бы это ни стоило, рассчитаться с прошлым. Такие запутываются все больше и больше и рано или поздно гибнут. И есть, наконец, просто глупые люди, которые не понимают, с кем и с чем имеют дело, и начинают прозревать, когда предательство уже совершено.
Ошибается и тот предатель, кто ищет в шпионаже для империалистов романтику. Это — грязное дело, занимаясь которым человек гниет при жизни, тяжело дышит каждую секунду и в конце концов начинает ненавидеть самого себя. Вот почему книга «Тайный фронт» и не читается как детективный роман. Речь идет об уродливой политике, уродливых и подломанных людях.
Автор подчеркивает свою уверенность, что политическая сознательность людей, строящих коммунизм, обрекает планы империалистических разведок на провал. В то же время он отмечает, что бдительность советских людей не имеет ничего общего со шпиономанией. «Повышая политическую бдительность, — пишет он, — нельзя допускать, чтобы среди советских людей создавалась атмосфера подозрительности и недоверия. Настоящая бдительность заключается в умении распознавать действительных врагов». Это верно. Такое умение и есть главное.
«Тайный фронт» существует и будет существовать до тех пор, пока в мире действуют две противоположные общественные системы. Ни одна книга не может раскрыть все секреты операций на этом фронте. Тем не менее в работе С.К.Цвигуна собран большой фактический материал. Прочесть эту книгу молодым людям стоит.
Владимир Савельев
Отцовской шашке ныне в утиль, видать, пора… Она плескалась в сини, болталась у бедра. И презирала жалость, остра и холодна. В ней бурно отражалась гражданская война. Походы. Грады. Веси. И травы. И снега. Насечка на эфесе сурова и строга. Изогнуты, тревожны, ободраны слегка Стареющие ножны — темница для клинка. Подолгу, в каждом веке живет минувший век. Но свет борьбы навеки запомнит человек. Грустит о прежней силе та шашка над тахтой, Висит в моей квартире огромной запятой. Висит. И взглядом хмурым, когда сожмет тоска, Встречаюсь я с прищуром слепящего клинка.Я вас люблю
Притрушенные сплошь соломою загоны желтели на плечах июля, как погоны. В глаза летела пыль да сенная труха, и холостой завмаг, ловкач и перестарок, под чахлым топольком обедавших доярок сторонкой обходил подальше от греха. Естественно смурны, наигранно бедовы гадали мне ни в чох не верящие вдовы о том, как заживу я кумом королю. Тревожил запах трав, скотины и мазута. К вам, мама и сестра, или еще к кому-то мальчишка обращал слова: «Я вас люблю»! Потом я постигал непостижимость мира от танцев допоздна до древнего буксира, чью палубу кромсал и сваривал опять. И вновь спешил к тебе, откашливаясь сухо, чтоб то, как мы с тобой относимся друг к другу, мучительно, всерьез и тщетно выяснять. Я слышал, как река о берег терлась кротко, я видел, как спала под кручей самоходка, давая отдохнуть мотору и рулю. Я ощущал, как прочь уносятся минуты. Тебе, тебе одной или еще кому-то юнец предназначал слова: «Я вас люблю»! Все легче мне следить за пухом тополиным… Как рыскал я в войну по выстывшим овинам, перегребая прах и падая без сил! Как дельно заливал водой хомячьи норки! Какие, наконец, перекрывал я нормы, под взглядами каких вахтеров проходил! Не купол ли, с краев седеющий немного, то кличущий меня в заветную дорогу, то стынущий под стать огромному нулю, сегодня надо мной опять раздернут круто!.. К вам, милые мои, или еще к кому-то торопятся в тиши слова: «Я вас люблю»!Вийви Луйк
Перевела с эстонского Эллен Таим
Ты же ведь знаешь: снежная тишина любит меня. Говори со мной на языке снегопада!* * *
Когда обнажатся деревья, появится снег. Природа станет восковою, и мне все трудней будет выдумывать пчел.* * *
Встречая нежданно тихий взгляд, сегодня иль завтра, прошедшим днем,— сжалься над ним, подумай о дебрях, в которых поныне блуждает любовь.* * *
О, если буду я еще самой собою в тот горький час, что к нам придет незванным, о, если буду я еще самой собою, то дайте мне одно мгновенье, чтоб в одиночестве поспешно я могла рукою холодеющею вырвать из сердца своего всю чистоту весенних облаков, и неба синеву, и яблоневый цвет, и золото осенней жатвы, и серебро холодной зимней ночи, все по земле развею я, чтоб это все осталось людям…М.В. Даниленко Я иду к врачу
М. В. ДАНИЛЕНКО, ректор Львовского государственного медицинского института, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки УССР, профессор.
Сопоставим, два информационных сообщения: первое — о том, что обнаружена новая элементарная частица, имеющая огромное значение для науки; второе — касается успеха в поисках универсальной вакцины против гриппа.
Согласитесь, что первое сообщение ошеломит своей фактической стороной лишь некоторую часть людей, в той или иной степени связанных с физикой. Второе же эмоционально более всеохватно: в нем заложен личный интерес для читателя. Дело, видимо, просто в том, что… каждый ходит к врачу.
Инженеру чертежи с большой долей вероятности гарантируют определенный конечный успех. Рядовой участковый врач для эффективного лечения больного должен наряду с практическими навыками врачевания проявить элементарные способности ученого-исследователя: он имеет дело со сложной биологической системой и к тому же обязан «расшифровать» и личность больного — его психику, интеллект.
Такова одна из главных черт, определяющих специфику нашеи профессии, а следовательно, и специфику подготовки будущего специалиста в мединституте.
Как-то накануне приемных экзаменов, когда обычно только и разговору о том, кем пополнится институт, в беседе с одним из коллег мы вспомнили, что по-латыни-то слово «абитуриент» (abiturus) буквально означает «тот, который должен уйти». Неожиданный прямой смысл этого слова, означающий, что при равных условиях все же кто-то должен уйти, заставил нас еще раз задуматься: а кто же должен остаться, какова точность отбора будущих претендентов на белый халат врача?
Математические способности школьника распознаются сравнительно рано. Обычно уже в 8—9-х классах становится ясно, может ли тот или иной ученик быть полезным в сфере точных наук. Ну, а как быть с будущим медиком, как распознать его способности к врачеванию, к исследованию? Ведь здесь нельзя полагаться на его общую эрудицию: она не гарантирует способностей к самостоятельному мышлению. Уж сколько говорилось, что порою стремление молодого человека поступить в вуз вызывается мотивами социального порядка, то есть желанием получить высшее образование вообще, и в этой ситуации иногда выбор профессии определяется волей случая. Если для иных вузов это еще как-то терпимо, то для медицинского категорически противопоказано. Врач, ставший врачом случайно! Вдумайтесь в возможные трагические последствия этого.
Процент случайных «попутчиков» медицины невелик, но все же они, к несчастью, попадают и к нам. В большинстве случаев мы обнаруживаем их на 1—2-м курсах и помогаем им разобраться в истинных желаниях, интересах, способностях и правильно выбрать свою дальнейшую дорогу. Но бывает, что своевременно выявить такого человека не удается, и тогда, конечно, неизбежен брак в нашей работе.
Как вывесить перед дверью медвуза «стоп-сигнал» для случайных людей?
Мы хотим уже в стадии приемных экзаменов уловить психологическую и моральную подготовленность абитуриента, его умение хорошо владеть собой и, конечно же, присутствие в его характере доброты и человечности, то есть способности жить для других. Разумеется, это качество должно быть у всех, но для медика наличие такой способности в значительной степени определяет его профессиональную пригодность. Вот тут-то и должен слаженно, с большим коэффициентом полезного действия работать механизм приемной комиссии, вооруженной научными тестами и методикой проведения бесед по различным вопросам, начиная с традиционных: «Почему вы решили поступить в медицинский институт?», «Что вам известно о работе врача?», «Из каких источников были почерпнуты вами сведения о профессии врача?», — кончая вопросами из области науки, философии, политики, искусства, права и морали…
Хотелось бы, чтобы школа давала нешаблонную характеристику личности учащегося: ведь у многих из них к десятому-то классу уже можно определить способности и\и хотя бы тяготение к гуманитарным, естественным или точным наукам…
И еще (в порядке пожелания) выскажу такое соображение: не пора ли создать по типу математических школ некое их подобие с медико-биологическим профилем? Для начала этот эксперимент можно провести при Дворцах пионеров.
В своей статье «Начало без конца» («Юность» № 3) Т. Гладков отметил слабую творческую активность студентов отдельных вузов, в том числе и медицинских. Не для оправдания, а для выяснения некоторых проблем сошлюсь на практику нашего института, одного из старейших и крупнейших в стране. Опыт убедил нас, что наиболее эффективным путем формирования творческих специалистов является научная работа студентов под руководством авторитетных ученых.
Сколько раз приходилось видеть, как берет скальпель молодой аспирант, мой вчерашний студент! Лицо его прикрыто маской; вижу лишь глаза и по ним понимаю, какой мучительный процесс происходит в его душе и в сознании: ведь он должен сейчас прикоснуться холодно сверкающим лезвием к живой ткани, в мгновение охватить мыслью сложнейшую взаимосвязь, существующую между небольшим операционным полем и всем, что может произойти через минуту в человеческом организме… Сестра заботливо промокает испарину на лбу молодого хирурга. Сейчас начнется его сражение. Что выведет он на поле боя? Какие войска? И какие резервы у него в запасе? Что в случае необходимости натолкнет его на молниеносный ответ? Может быть, тот маленький эксперимент, который он долго и кропотливо готовил в студенческом научном кружке при кафедре и который принес ему тогда первую сладость творческой победы? Я часто ловил себя на этих вопросах, и в такие моменты в известной мере мог оценить актуальность, степень серьезности и результативность исследовательских поисков, какими занимался мой начинающий коллега в научном студенческом обществе…
Наше СНО существует 27 лет. За достигнутые успехи оно награждено грамотой Республиканского совета СНО. Научные студенческие кружки работают при всех 65 кафедрах, обучающих студентов, и при центральной научно-исследовательской лаборатории. Подчеркиваю, именно научные, без оттенка того школярства, которое свело бы кружок к еще одной стадии дублирования учебного процесса. При этом мы опираемся на существенную научно-педагогическую силу: в институте 62 профессора, 141 доцент, 214 кандидатов наук.
Научный кружок выявляет склонности студента к теоретической или прикладной медицине, дает ему возможность проверить себя, а нам, в случае необходимости, ввести коррекцию. Работа в кружке — это и углубление профессиональной подготовки по избранной специальности.
Внешне все вроде просто: подготовка какого-либо вопроса, клинического или экспериментального направления, затем доклад о нем на факультетской или общеинститутской конференциях. Но за этим стоит продолжительное напряжение юного интеллекта, впервые пробующего самостоятельно осуществить поиск. Около 1 500 студентов ведут подобную работу.
Сбор урожая мы проводим ежегодно на традиционных итоговых научных студенческих конференциях. На эти конференции выносятся доклады о наиболее перспективных и оригинальных научных результатах. На последней такой конференции работали 22 секции, и 511 докладов явились итогом заманчивых исследований.
Как выбирается тема, какие интересы движут в этом случае студентами? Самым лучшим подсказчиком здесь остается живая жизнь.
Два наших студента, Роман Лабинскии и Карп Пу-рунджян, длительное время исследовали предпосылки и непосредственные причины производственного травматизма на Львовском автобусном заводе — новом, современном предприятии с тенденцией к росту н расширению. Завод стал как бы их вторым вузом, два года они ходили сюда в цеха и медпункт, словно на работу. Изучение голубеньких больничных листков, данных о посещении рабочими медпункта, тщательное знакомство с каждым случаем заболевания и травматизма, их причин и периодичности позволили студентам накопить ценные материалы. Классифицировав и кропотливо обработав их, Р. Лабинский и К. Пурунджян вручили администрации завода определенные профилактические рекомендации. Эти рекомендации были с благодарностью приняты, применены и принесли ощутимый эффект. Так на студенческой конференции появился доклад «Организация борьбы за снижение травматизма на Львовском автобусном заводе».
Стресс! Модный заграничный термин, обозначающий «напряжение». Именно стрессы и заинтересовали Юрия Резцова в его первые студенческие годы, потому что они нередко являются провокаторами инфаркта миокарда. Но как подступиться к этим стрессам сейчас, когда исследования поднялись (или опустились — как угодно!) до молекулярного уровня? Здесь нужны смелость, багаж знаний и большое терпение. Юрий Резцов рискнул. Проявлением стрессовых состояний организма является изменение в выделении ферментов. Юра буквально вцепился в один из этих ферментов. Серии опытов следовали одна за другой. В одной из них получился результат, противоположный ожидаемому. Потребовалось объяснение обнаруженному явлению. Так начался новый этап исследований, где уже определялось влияние лекарственных препаратов на снятие стрессовых состояний. Обе эти работы вылились в доклад, за который студент шестого курса Юрий Резцов получил диплом лауреата республиканского конкурса студенческих научных работ.
В жизнь кружков и СНО вошли и монотематические конференции, посвященные наиболее захватывающим перспективам медицинской науки. Интерес, в частности, вызвала конференция «На пороге эры трансплантации». Два дня глубоко и всесторонне обсуждались вопросы хирургического, иммунологического и морального аспектов этой важной проблемы.
Студенты института — частые гости и участники студенческих научных конференций других вузов страны. Мы тоже стараемся быть гостеприимными, привлекаем к участию в наших конференциях студентов из других городов. Приезжали к нам молодые медики из Польши, Венгрии, Чехословакии.
17 докладов львовян были включены в программу республиканской конференции 1973 года, три — прочитаны на 5-й Всесоюзной научной студенческой конференции медицинских и фармацевтических институтов СССР по проблеме сердечно-сосудистой патологии, где третьей денежной премии и почетной грамоты удостоены исследования Галины Романюк и Наталии Огоновской.
…Стук сердца, только что перенесшего инфаркт. Ритм, определенное количество ударов. И вдруг где-то проскакивает лишний. Больной не обратит на него внимания, но это уже сигнал тревоги, поданный врачу. Однако поймет ли врач этот симптом как угрозу, насторожится ли при выборе лечебной тактики? Галя Романюк и Наташа Огоновская научно доказали прогностическую «ценность» этого лишнего ударчика в сердце, который как бы зажигает перед врачом красное табло с надписью: «Возможен неблагоприятный исход». Но прежде, чем прийти к этому выводу, студенткам потребовалось изучить скопившиеся в железнодорожной больнице за три года истории болезней больных инфарктом миокарда. Пестрый статистический материал внушительного объема был обработан ими и досконально изучен. На это ушел год.
В медвузе, как известно, дипломных работ нет. Думаю, они не являются универсальным средством выявления способностей студентов. Способности эти вскрываются в ходе самостоятельных исследований и работы в научных кружках.
Если в технических вузах дипломная работа студента может перерасти в кандидатскую диссертацию, то в нашем вузе подобные превращения претерпевает серьезная научная студенческая работа.
Сейчас официальный статус Василия Шевчука — клинический ординатор на кафедре хирургического профиля. Он заканчивает ординатуру. Приехал из столицы Львовско-Волынского угольного бассейна — города Червонограда, где после института три года работал хирургом в медсанчасти угольного комбината. Туда же он в скором времени и возвратится.
Раздвинем рамки сухого анкетного сообщения — за ним кроется достойный внимания сюжет.
…Его уже, несмотря на молодость, величали по имени-отчеству, и родственники больных просили, чтоб оперировал именно он, товарищ Шевчук, и санитарка, когда он, взмокший до нитки, выходил из операционной, спешила закрыть в коридоре окна, чтоб не просквозило. И вроде дни были похожи один на другой: операции — аппендициты, грыжи, камни в желчном пузыре. Но была и маленькая тайна: какой бы ни была усталость, ежедневно после работы он спешил в домик, обреченный на снос, где молодой хирург оборудовал виварий. Сперва соседей смущало присутствие крыс, которых подкармливал и опекал доктор Шевчук, но затем привыкли.
Это была страсть, уходившая корнями в недавнее прошлое, когда в студенческом кружке было сделано шесть интересных научных работ. И вот он вновь вернулся к любимой гистохимии — области, пограничной с химией, биологией, физикой, биохимией. Что же заинтересовало хирурга? Образно это можно представить так: 14 ферментов — это 14 отрезков пути на пяти различных направлениях обмена веществ. Каждый фермент, как регулировщик на перекрестке, показывает, куда должна ехать та или иная машина — вещество. Почему, скажем, одна, направляясь из Тулы в Рязань, движется через Москву? То есть почему в организме человека ряд веществ во время обмена направляется ферментом по тому или иному пути и почему именно к этой конечной точке, а не к другой? Каково влияние определенного гормона на эти ферменты-регулировщики?.. Чистая теория, внешне очень далекая от повседневности хирургической практики. Василий Шевчук пытался заглянуть в глубины биохимических процессов, происходивших не в пробирке, а, говоря языком кинематографистов, «на натуре». Серьезная постановка вопроса потребовала серьезных условий. Работа развернулась в хорошо оборудованной лаборатории медсанчасти. Но и трудностей хватало. Вот, например, такой случай. Шевчуком был подготовлен для эксперимента материал, который следовало заморозить при температуре — 56°. Неожиданно завод — поставщик льда остановился на ремонт. Материал пропадал. А материал этот — две удаленных у крысы щитовидных железы весом… 13–15 миллиграммов! Вдумайтесь, легко ли удалить такой ювелирно маленький орган!.. Значит, начинай все сначала. Много было таких «начал» у молодого ученого. Сейчас работа завершена, она стала диссертацией, подана к защите. Приведу небезынтересные цифры: только для диссертации Шевчук сделал 5 серий экспериментов на 400 животных!..
«Какова же ценность этой работы?» — возникает резонный вопрос. Она стала методом познания патологии, изменений, нарушений деятельности отдельных органов, с которыми почти каждодневно имеет дело хирург в прикладной медицине. Полученные экспериментальным путем навыки в гистохимии будут применены в клинических условиях.
А ведь началось-то с чего? Сейчас Шевчук с улыбкой вспоминает, как рисовую или гречневую кашу, которую теща варила ему на завтрак в студенческие годы, он в баночке уносил, чтоб подкормить своих подопытных животных высококалорийной пищей: готовил эксперимент для научной работы…
Для самостоятельного творческого поиска студента-медика вуз открывает завидные возможности. Широкое распространение у нас нашли экспериментальные, клинические, клинико-лабораторные, реферативные формы, освоение и разработка новых методов исследования, изготовление пособий для учебных целей, переводы с иностранных языков.
Наряду с учеными института студенты привлекаются к разработке первостепенных проблем сердечно-сосудистой патологии, онкологии, физиологии и патологии органов пищеварения, нервно-психических расстройств, аллергии, эндокринных заболеваний, организации фармацевтического дела и т. п.
Значительное место в научных исследованиях занимают актуальные гигиенические проблемы, вопросы организации здравоохранения, создания наиболее благоприятных условий труда на промышленных предприятиях города. Вспоминаю, как на протяжении ряда лет члены офтальмологического студенческого кружка при кафедре глазных болезней обращали внимание, что при обследовании рабочих некоторых предприятий Львова и области выявлялись изменения сосудов, нервов и функций глаза, неизвестные как определившаяся форма заболевания. Совместное исследование, проведенное врачами-ирофпа-тологами и студентами Анатолием Бузало, Ниной Друговой, Людмилой Омельченко, Эллой Клячко, дало возможность установить комплекс ранних симптомов общего заболевания, которое раньше медики просто относили к терапевтическим и неврологическим болезням. Теперь же через состояние органа зрения появилась возможность «заглянуть» в глубину многих процессов, постичь их для ранней диагностики тяжелого профессионального заболевания, а следовательно, профилактически вооружиться против него. Со временем из энтузиастов группы один на один с этим заболеванием остался Анатолий Бузало. Его студенческие исследования легли в основу только что защищенной диссертации. На Всесоюзном съезде офтальмологов в Киеве исследования А. Бузало получили высокую оценку.
Последние три года членов научного кружка той же кафедры можно было часто встретить на Львовском заводе кинескопов, у горняков Червонограда, на стекольной фирме «Радуга». В медсанчастях студенты проводили профосмотры рабочих, изучали патологию органа зрения и причины ее возникновения. Каждый вел свою тему. Затем все суммировалось, делались выводы, разрабатывались профилактические рекомендации. По 200 рабочих ежегодно на каждом предприятии проходили таким образом через руки наших студентов. Об этих комплексных исследованиях впечатляюще рассказал доклад, который был отмечен на республиканском конкурсе научных студенческих работ.
Медицина — очень чуткая наука в том смысле, что ее тайны и проблемы, влекущие пытливый ум, становятся актуальными благодаря объективной острейшей потребности в их разрешении. Здесь не должно быть моды, грубой ошибки, случайной увлеченности, что нередко сопровождает науку вообще. Ведь речь идет о потребности человека в защите от болезни, о новых практических возможностях, опирающихся на очередные качественные и количественные сдвиги в наших знаниях! Так, некоторое время назад перед нами возникла необходимость создания центра грудной хирургии, анестезиологии и реанимации. Мне по роду квалификации довелось возглавить эту работу, емкую и во многом новую. Создавался этот центр — ныне первый и единственный в западных областях Украины — на базе кафедры торакальной хирургии. К работе в центре с первых же дней его существования мы привлекли наиболее талантливую молодежь. Многое ей пришлось начинать с азов, ибо фраза «операция на сердце» была зовом из будущего. Что ж, в этом был свой смысл: «белое, пятно» таило в себе просторы для научного поиска. Мы понимали, что в этой юной области медицинской науки именно молодежь, не зараженная консерватизмом и скепсисом, выдвинет из своих рядов талантливых теоретиков и экспериментаторов, что им предстоит не только творить, но и впоследствии учить. Одним словом, в принцип положили строку из известного стихотворения Евгения Винокурова: «…воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться».
Доверие наше вознаграждено. В этом нас убеждают судьбы многих. Мирона Павлюка приметили еще студентом в научном кружке. Он поражал работоспособностью, неожиданностью и точностью решения какого-нибудь узкохирургического вопроса, находя этому решению свежее теоретическое обоснование. Вроде все было ясно: останется на научной работе. Однако М. Павлюк выбрал иной путь: уехал после института добывать себе опыт хирурга на далекую периферию, в Казахстан. И лишь затем поступил в клиническую ординатуру: пришло время осмысления и совершенствования накопленных навыков, звала наука. Здесь, на кафедре торакальной хирургии и анестезиологии, и развернулся талант молодого ученого. Ныне он доцент. Его кандидатская диссертация по проблеме «Хирургия сердца» — оригинальное современное исследование.
В нашем центре М. Павлюк усовершенствовал ряд операций, имеющих отношение к электростимуля. ции сердца. Он работает на стыке медицины и техники, участвовал в создании серии аппаратов, успешно применяющихся при искусственном кровообращении, трудился над совершенствованием наркозной аппаратуры, за его плечами уже 20 рационализаторских предложений и 50 печатных работ по актуальным проблемам хирургии сердца и технического обеспечения сложных оперативных вмешательств.
Смею считать, что это не случай, а норма. Мы спокойно привлекаем студентов к освоению комплексных тем, к коллективной разработке насущнейших проблем науки, в частности хирургии. На той же кафедре группа студентов в условиях эксперимента изучает вопрос хирургической тактики при лечении тромбоэмболии легочной артерии. Дело в том, что мировая хирургия почти за 70 лет с начала первой подобной операции знает всего лишь 800 удач. А недуг этот очень тяжел: в США, например, от него ежегодно умирает 47 тысяч человек.
Начав с эксперимента, студенты-кружковцы разработали интересную методику этой операции, которая сейчас проверяется на животных. На Всесоюзном конкурсе студенческих работ успех методики был отмечен дипломом и денежной премией, а на Всесоюзной конференции в г. Волгограде результат этот был сообшен в виде доклада.
Сейчас кружковцев увлекла идея создания нового искусственного сердечного клапана. Они надеются, что он будет намного практичней и долговременней существующих. Доброго им пути!..
Доверие и инициатива — хорошие стимуляторы для молодежи. Отбросив сомнения, мы включили членов СНО в работу по совершенствованию учебного процесса, изысканию и апробации новых, прогрессивных форм преподавания, в том числе программированного обучения и контроля. Сами студенты провели анализ уровня успеваемости в двух смежных группах с различными методиками преподавания. Опыт этот, выполненный на кафедре нормальной анатомии, дал позитивные результаты и стал предметом обсуждения на студенческой научной конференции.
СНО нашего института дало путевки в науку многим исследователям. 28 докторов и 50 кандидатов наук являются его воспитанниками, многие из них ныне заведуют в институте кафедрами.
Ни у кого теперь не вызывает сомнения, что процесс обучения все больше должен опираться на самостоятельную, близкую к творческой деятельность. Уже с первых курсов студенты обязаны приобретать исследовательские навыки, умение и желание добывать н обновлять информацию. И здесь мы вплотную подходим к проблеме студенческого времени. Вопрос о так называемом «свободном посещении» лекций, дебатировавшийся в печати несколько лет назад, угас — видимо, естественно, ибо не мог получить разрешения в том полярном виде, в каком он обсуждался: разрешить или не разрешить? Здесь не нужны крайности. Да, студенческая жизнь — постоянный цейтнот. А если еще иметь в виду не только лекции, но и научно-исследовательскую работу, то время студента уплотняется чрезвычайно. Нас привлекает мысль давать студентам даже в учебные часы как можно больше свободного времени для самостоятельного изучения программного материала: самостоятельно обретенные знания более глубоки и долговечны. Назрел вопрос и об высвобождении времени для наиболее одаренных студентов, активно занимающихся научно-исследовательской работой при кафедрах. Решение его, возможно, лежит в праве декана переводить таких студентов на индивидуальный график. Научно-исследовательской работой студент занимается после учебного дня, когда на кафедре может не быть необходимого ему человека — рабочий день на кафедре к этому времени закончен. Для постановки эксперимента с животным студент должен успеть в виварий, лекции же заканчиваются к моменту окончания рабочего дня и в виварии. Поэтому мы изыскиваем сейчас возможность высвободить для части студентов хотя бы один день в неделю, так называемый «творческий день».
Есть и другие, более серьезные проблемы. Кафедры и лаборатории института во многом лишены необходимых условий для исследовательской работы большого числа студентов, способных разрабатывать насущные вопросы современной теоретической и практической медицины, ибо не располагают нужными для этого площадями, достаточным количеством аппаратуры и приборов. Заметным тормозом в повышении результативности научных поисков служит недостаточность современных технических средств. Наши кафедры в большинстве своем страдают от недостатка нужной аппаратуры, от отсутствия в штатах инженеров, техников, нужного количества вспомогательного персонала, планового снабжения дефицитными реактивами, красителями и т. п. В этом, по нашему глубокому убеждению, и следует прежде всего усматривать причину более скромных результатов творческих поисков студентов-медиков по сравнению с успехами учащихся технических вузов.
Как известно, в некоторых технических вузах созданы хозрасчетные студенческие объединения, где студенты ведут определенные работы, которые тут же воплощаются в жизнь. Такие объединения способствуют развитию у студентов государственного подхода к определению темы научного исследования, умению сочетать свои научные интересы с экономическими интересами коллектива и государства, материальную заинтересованность — с моральными стимулами.
Сейчас мы ведем подготовку к созданию такого хозрасчетного объединения студентов, учитывая некоторый свой же опыт. В основном это работы санитарно-гигиенического направления. Так, один из киевских НИИ предоставил в распоряжение нашей кафедры коммунальной гигиены вновь синтезированный ядохимикат для сельского хозяйства. Предстоит установить его влияние на режим водоемов и те возможные патологические изменения, которые он может оказать на живой организм. Завершение этой хоздоговорной темы даст возможность вынести «приговор» новому пестициду. Ряд заводов Украины «разместил» у нас заказ на установление предельно допустимых концентраций вредных химических веществ во внешней среде. Цель этой работы — определить профилактические меры для оздоровления внешней среды, условий труда и быта.
Кафедры дерматологии и офтальмологии также привлекали к разработке хоздоговорных тем студентов, увлеченных прикладными вопросами медицины.
Представьте себе такую невеселую картину, к сожалению, знакомую многим медикам: несколько палат с послеоперационными тяжелобольными. И мечется из одной в другую врач — ему необходимо знать, кто как себя чувствует, не стало ли кому хуже. Нас вывел из этого тупика совет молодых ученых института: вместе с инженерами Львовского научно-исследовательского конструкторского института радиоэлектронной медицинской аппаратуры наши молодые ученые создали для кафедры грудной хирургии комплекс приборов для наблюдения за состоянием тяжелобольных.
И вот что отрадно: при создании и испытании новых приборов молодые ученые стремятся не шлифовать, не «доводить» конструкцию и схемы, а искать новые методики, ломая устоявшиеся стереотипы мышления в технологии и разработке приборов и аппаратуры; их не смущает возврат к «нулю», откуда придется начать новый отсчет.
Плодотворным оказалось содружество советов молодых ученых нашего и Политехнического институтов. Группа ребят совместно создала расходомер крови для аппарата искусственного кровообращения. Это новинка как в нашей, так и в зарубежной медицине. Та же совместная группа разрабатывает конструкцию новой оригинальной кровати для тяжелобольных, которым в послеоперационный период необходимо определенное положение.
Для кафедры физиологии председатель совета молодых ученых Евгений Косый и молодой инженер Борис Павлов из Политехнического института создали миниатюрный электронный усилитель биопотенциалов — прибор, усиливающий «голос» электрического потенциала в тканях при возбуждении. Прибор нашел применение при электрофизиологических исследованиях.
Сейчас вместе с молодыми учеными научно-исследовательского конструкторского Института радиоэлектронной медаппаратуры у нас разрабатывается программа для университета медико-технических знаний, который, как мы задумали, должен функционировать на базе нашего института. Он необходим для ознакомления широкого круга молодых врачей и инженеров с достижениями в современной медицине и в конструировании радиоэлектронной аппаратуры.
Желаний у нас много Но не все зависит от нас.
Успеху дела содействовало бы предоставление нам права публикации результатов лучших студенческих исследовательских работ, хотя бы кратких сообщений. Это в значительной степени стимулировало бы и приток молодежи в научные кружки и их творческие поиски. Ведь каково положение? Несколько лет студент работает в кружке, осуществит ряд заслуживающих внимания исследований, но никаких следов не остается. Может, когда-нибудь к его работам кто-то обратился бы, развил бы то ценное, что в них есть, но по какому следу идти? В быстротеку-чести же жизни многое забывается, пропадает.
Одной из характерных черт современной научно-технической революции является углубление процесса дифференциации и интеграции науки, «завоевание» науки, в том числе и медицины, духом математики и техники, возникновение новых стыковых областей знаний — таких, как биохимия, биофизика, радиобиология, биологическая математика, гистохимия, медицинская техника и многие другие. Как может молодой исследователь-медик установить достоверность результата, не имея знаний в области теории относительности, не обладая навыками математического анализа, статистическими приемами?!
Качественные изменения, происходящие в науке вообще и в медицине в том числе, диктуют необходимость и изменения учебных планов, учебных программ по всем предметам, изучаемым в медицинских вузах. Мы должны думать о завтрашнем дне отечественной медицинской науки. Известный французский физик и астроном XIX века Био сказал однажды, что в науке самое простое — найденное вчера и самое сложное то, что будет найдено завтра…
В той же статье Т. Гладкова «Начало без конца», о которой я уже упоминал, затронут вопрос об известной девальвации диплома с отличием, который никаких юридически закрепленных льгот практически обладателю его не приносит и, таким образом, лишен моментов, стимулирующих успеваемость студентов. Чисто «утешительная» сторона такого диплома уже изжила себя. Предложение о замене его младшей ученой степенью, скажем, магистра наук, с установлением четкого статуса определенных привилегий, связанных с получением этого звания, заслуживает, по-моему, внимания. Вопрос этот, видимо, следует обдумать, но без поспешности.
В дореволюционное время студенты медицинского факультета Харьковского университета обратились с письмом к известному профессору Гиршману с просьбой научить их трудной профессии врача.
Ответ профессора вкратце был таков: среди людей оставаться человеком; научиться в больном видеть своего брата и друга; любить правду, и лишь перед нею одной преклоняться; уметь долгие годы отдавать свои силы и мысли служению народу; не извлекать корысти из несчастья; не делать ремесла из священного призвания врача.
Тот, кто не усвоит богатых, ценных традиций русской, советской и мировой медицины, кто не превратит их в свои профессиональные привычки и жизненные установки, тот никогда не станет ни настоящим советским ученым, ни врачом.
Все, что говорилось выше, налагает на нас огромную ответственность: когда человек говорит: «Я иду к врачу», — он думает не о наших проблемах, а надеется, что идет к специалисту за помощью.
Письмо июля
Здравствуй, дорогая «Юность»!
Мне шестнадцать лет. Живу и учусь в городе Днепропетровске в торговом училище. Я обращаюсь к вам за советом. Напишите, как исправить — моих ровесниц, которые теряют женственность, совесть, гордость. Когда я пришла в училище, я была поражена некоторыми девочками. Их красивые глаза — голубые, карие — были разрисованы косметикой, тенями, тушью до того, что страшно смотреть. У других и губы накрашены темно-красной губной помадой. Им нет и шестнадцати лет, а они теряют свою девичью красоту, свежесть, естественность.
В училище преподаватели заставляют накрашенных умываться. Некоторые подчиняются, а другие считают, что это к ним не относится. Дошло до того, что даже курить в училище начали. Ведут себя невежливо, не имеют никакого уважения к старшим. Уступить дорогу или место в трамвае женщине с ребенком, пожилому человеку? Нет, у них не такие привычки. Мало того, они и выражаются нецензурными словами. Конечно, у нас больше хорошей молодежи. Но почему есть и такие? Я не перестаю удивляться: где они воспитывались? Как к ним подойти, исправить их? Это кажется невозможным. А пройти мимо, мне все же кажется, нельзя.
С уважением Людмила Лапко.
г. Днепропетровск.
Здравствуйте, товарищи из «Юности»!
Пишут вам служащие Советской Армии. Рассудите нас. Мы ненавидим тех парней и девушек, которые внутренне пусты. Это и внешность их подчеркивает: длинные волосы у парней, брюки почти полметра шириной. Эта мода у нас вызывает смех. А танцы безобразны до того, что их вообще необходимо закрыть. Там и драки и другие отвратительные сцены, свидетельствующие о бескультурье. Мы не раз укрощали физически таких «королей» танцев, но толку от этого мало. Разговоры и разъяснения с такими ребятами к успеху не приводили. Трудно найти парня или девушку из этой среды, с которыми можно о чем-нибудь серьезно поговорить. Мы всегда вспоминаем рассказы о молодежи 30—40-х годов. Как мы жалеем, что не жили среди них! Какая это была сильная духом молодежь!.. Нет, не всех своих сверстников мы осуждаем, мы осуждаем только дурную часть. Но эта «частичка» видна на каждом шагу! Мы скоро уйдем в запас и должны будем встречаться с ними, а это не радует.
Мы решили ехать на Север. Будем строить Сибирь! Там должна быть сильная молодежь, Мы уверены, что на наше письмо вы не обратите внимания: в архив его — да и все. Ну, а вдруг и получим ваше мнение?
Аркадий Лесной — биолог, 22 года,
Виталий Раслов — геолог, 22 года.
Я внимательно прочел письма Людмилы Лапко, Аркадия Лесного и Виталия Раслова. Надеюсь, что так же внимательно прочтут их и читатели «Юности».
Кто сказал первым: «О вкусах не спорят»? Или: «На вкус и цвет товарищей нет!»? Кто бы ни сказал, а поговорки эти стали народными, то есть отражают народную точку зрения на эти весьма и весьма спорные вещи: вкус и цвет! (Разумеется, два этих слова надо понимать расширительно…)
Есть еще одно хорошее народное выражение: «По одежке встречают, по уму провожают». Что это означает? Ты можешь одеться, как угодно, напялить на себя, что угодно, но тебя быстро раскусят, если, как говорят, «котелок у тебя не варит». И наоборот: тебя встретят не очень приветливо, если одежда твоя пришлась не по вкусу, но своим умом и поведением ты можешь быстро рассеять невыгодное впечатление: достаточно, как говорится, раскрыть рот и сказать «пару слов». Умные люди, несомненно, оценят твои способности и тогда уж «проводят по уму».
То, что я сказал, в известной мере «теория». Едва ли против нее кто-нибудь станет возражать. Более того, мне кажется, что все с этим согласятся. Разногласия начинаются там, где разговор принимает конкретный характер, когда он коснется Маши или Пети. Вот тогда-то и разгораются страсти и вовсе забывается эта самая «теория», с которой будто бы все согласны. И разговор принимает приблизительно такой характер:
— Маша носит короткую юбку. Какой позор!
— А Петя влез в широченные брюки. Безобразие!
— Нет, вы только посмотрите, как Маша намазалась! Что из нее получится?
— А Петя? Он отпустил волосы. Какой ужас!
— И Машина подруга вырядилась по-клоунски: в брюки-клеш и неимоверного цвета кофту. Стыд потеряла!
— Вы полюбуйтесь на Петины туфли: что за широченные носы! А вот другое дело, узкие и длинные носы! Я помню…
И тут начинается панегирик «юношеским временам», когда все ходили так, как надо, не мазались, не обрастали волосами, юбки носили приличные и так далее и тому подобное.
Но вот я тоже кое-что помню. Помню, например, двадцатые годы. Любители модных костюмов носили тогда узкие и короткие брюки и лакированные длинноносые туфли, а носки — почти напоказ: от пят до икр. А девушки одевались в длинные юбки, рукава то до запястья, то совсем короткие — выше плечей. Теперь всего и не вспомнишь, если не заглянешь в модный журнал тех времен. И танцевали фокстрот — этот «ужасный», «бесстыжий танец», который «погубит все и вся», как считали тогдашние ревнители приличий.
Но — о чудо! — ни узкие носы туфель, ни широкие и длинные юбки, ни фокстрот ничего не погубили Оки позабылись, как вчерашний дождь, в начале тридцатых годов.
На смену узким брюкам пришли брюки-клеш, узконосым туфлям — тупоносые, на грубой, толстой подметке. Пиджаки укоротились почти до пупа, а плечи получились «тар-заньи», как у героя кинобоевика «Тарзан», весьма популярного в те годы. А женщины изощрялись еще больше: кроили юбки то так, то эдак и шляпки надевали то по самые брови, то носили их на макушке.
Я помню, как говаривали тогда «мудрые» люди:
— Это какой-то кошмар! Что же будет? Что можно ожидать от этих, которые более походят на огородные пугала, чем на приличных людей?
Можно было подумать, что на человечество надвигается страшная угроза из-за «легкомысленных мальчишек и девчонок», которые к тому же позабыли славный фокстрот и танцуют «ужасный чарльстон». Этот чарльстон способен «разложить» кого угодно, и не исключено, что подорвет устои общества.
И кое-где ретивые администраторы набросились на тупоносые туфли и поносили «неприличный чарльстон». Громко слышалось: «Запретить!», «Не пущать», «Осудить!».. Но слава богу, что этим неблагодарным делом занимались всего лишь «кое-где» и «кое-кто».
Жизнь показала, что можно строить заводы и фабрики тридцатых годов и в широких брюках и расклешенных юбках и что чарльстон не помеха труду.
А когда грянула война, множество этих самых «модничавших» юношей и девушек ушло на фронт, и не многие из них вернулись с войны…
Как известно, Дон-Кихот воевал, притом весьма серьезно, с ветряными мельницами. А эти ретивые «борцы» против всяческих мод не напоминают неких донкихотов?
Сколько веков существует цивилизованное общество, столько веков продолжаются споры о вкусах, о моде, о цвете.
В XVI веке был в Европе «изобретен» дамский каблук С той поры он менял сотни раз свою форму и размеры: были «шпильки», были низкие, высокие, а теперь даже «платформы» (каблуко-подошва, что ли?).
Ну и что, спрашивается?
Я разрешу себе сообщить по этому поводу последнюю и очень радостную новость: небеса не рухнули. Земля продолжает по-прежнему кружиться вокруг Солнца. Одним словом, все нормально!
Я помню странные «эксцессы» в некоторых наших городах лет пятнадцать тому назад: вдруг завязалась борьба «не на жизнь, а на смерть» с остроносыми туфлями и узкими брюками. Не успели утихнуть эти «баталии», как пришлось возиться с тупыми носами и широкими брюками. А в наше время вызывают кое у кого «большое сомнение» эти «мужские брюки на женщинах».
А что, собственно, произошло?
Одна мода сменила другую. Только и всего! А Солнце светит по-прежнему, и комета Когоутека, приблизившись к нам, преспокойно улетела туда, откуда явилась…
Из Днепропетровска пишут, что девушки чересчур увлекаются косметикой.
Что можно сказать по этому поводу?
Девушку красит юность, юные годы не нуждаются в особенном «подмалевывании». Но если девушкам нравится, пусть пользуются косметикой на здоровье! Как известно, она отпускается без рецептов. Свободно продается и рекламируется И не вижу никакой беды, если девушка увлекается косметикой. Правда, все дело во вкусе, в мере…
Хуже, когда дело доходит до невоспитанности, когда молодые люди плохо ведут себя, когда у них нет уважения к старшим. То есть когда хамское начало берет верх над скромностью, учтивостью, радушием, сердечностью. Таких надо воспитывать, указывать им на их недостатки, «учить уму-разуму» собственным примером. Но это ничего не имеет общего с модой, косметикой и танцами. Истоки хамства, дерзости, невоспитанности заключены не в тюбиках крема для кожи, не в краске для ресниц или «ужасных» па современных танцев. И напрасно думают авторы второго письма, что только на Севере хорошая молодежь. Хороших, умных, воспитанных молодых людей много в нашей стране, в каждом ее уголке, в том чиСле и на Севере, разумеется. И незачем «укрощать физически «королей танцев». Укрощать надо негодяев, хулиганов, а не танцоров.
Правильно поступают авторы писем, что обращают внимание на поведение своих друзей или просто сверстников.
Но во всем ли они правы? Очень важно отделять явное хамство от косметики, хулиганство от простого курения, как такового. Хотя я не курю и никогда не курил, но не могу поставить это себе в особую добродетель и заявить во всеуслышание: я не курю, я хороший! А вот мой отец, народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа, курил всю жизнь, а в центре Сухуми поставлен ему памятник. (Не за курение, разумеется!) Но надо ли в данном случае доказывать, что молоко полезно, а никотин вреден?
Я знаю многих молодых людей, в том числе и девушек, которые в тридцать лет стали докторами наук и, между прочим, курят. И я не посмел бы «физически укрощать» их только потому, что они курят или не так, как я, танцуют и мне это не нравится.
По-видимому, не надо упрощать общественные проблемы, какими бы легкими и ясными они ни казались. Процесс воспитания и самовоспитания — серьезный процесс, очень важный и трудный. И сводить его к борьбе против косметики, танцев и моды — значит бесплодно растрачивать свои усилия.
В советском обществе достаточно моральных сил, чтобы верной дорогой вести молодежь. Более того, наша молодежь в подавляющем составе своем умна и прекрасна, и она показывает и покажет еще много такого, что порадует Родину.
А что касается моды, вспомним еще раз стихи участницы Великой Отечественной войны поэтессы Юлии Друниной:
Прическа — что надо! И свитер — что надо! С «крамольным» оттенком Губная помада… Мы сами пижонками слыли когда-то. А время пришло — уходили в солдаты!Георгий ГУЛИА
Рис. Ю. ЦИШЕВСКОГО.
Первые шаги — вместе
Дважды в месяц у нас в редакции собирается шумное, говорливое племя — идут занятия молодежной студии «Публицист», созданной осенью прошлого года Московской писательской организацией и редколлегией «Юности».
Тридцать пять молодых рабочих, инженеров, врачей, учителей, военнослужащих и журналистов (есть среди студийцев даже актер) занимаются по широкой, разнообразной программе. Здесь и «уроки мастерства» — встречи с известными советскими писателями, мастерами трудных публицистических жанров. Здесь и учебные пресс-конференции, на которых студийцы беседуют с видными экономистами, организаторами производства, деятелями науки и культуры. Здесь тщательный, часто нелицеприятный разговор о работах молодых публицистов — об их очерках, репортажах, корреспонденциях, написанных по заданию студии. Здесь коллективные посещения театров с последующим обсуждением спектаклей, командировки в разные концы страны (сейчас, когда вы читаете эти строки, десять студийцев собирают материал на нашей подшефной стройке Тюмень — Сургут — Нижневартовск, материал, который ляжет в основу книги о стройке).
Мы уже печатали работы студийцев (см., например, очерки Андрея Фролова «Первая пурга» в № 1 за нынешний год, Игоря Сантуряна «Зал бокса» в № З Олега Моржавина «Трое» в № 5). Но сегодня случай особый: весь публицистический раздел журнала подготовлен силами молодых.
Очевидно, не все в работах студийцев покажется бесспорным. Что ж, они учатся, и по ходу овладения трудной наукой писать остро, интересно, злободневно вполне допустимы издержки, которые будут учтены, — молодые публицисты выступают на страницах журнала не последний раз. Вместе с тем ясно видны и достоинства наших новых авторов: точный выбор ситуации, владение предметом разговора, социальная заостренность, по сути дела, каждого материала.
Впрочем, об этом судить читателю. На читательский суд мы выносим сегодня очерки, репортажи, статьи Елены Токаревой, Николая Черкашина, Марка Григорьева и Анатолия Крыма, работы, подготовленные студией «Публицист».
Елена Токарева Таёжные люди
Рисунки И. СУСЛОВА.
Уже месяц сидели они в тайге. Ребята уходили на работу с рассветом, и Рая, чтоб приготовить им завтрак, вставала еще затемно. Ей очень не хотелось вылезать наружу, в ледяную темноту, нащупывать у раскладушки непросохнувшие сапоги, растапливать капризную печку-чугунку…
Наградой за муки раннего подъема была красота окружающей природы. Хрупкое серебро инея блестело под луной, на горизонте виднелась молочно-белая полоска — предвестница рассвета. Рая жалела, что, кроме нее, никто этого не видит: ребята проснутся — утро встретит их мокрой травой и вялой, только из-подо льда речкой.
Один лишь Славка (он только что отслужил действительную и еще ходил в форме) встречал иногда с нею вместе рассвет, возвращаясь под утро с охоты.
Славка появился в отряде две недели спустя после их приезда. Техник Алексей, будто ждал этого момента, свалил на Славку свою работу — копать погреб для продуктов.
Славка вырыл погреб за день. За ужином в знак благодарности за это Рая навалила ему полную миску каши с тушенкой и щедрой рукой положила масла. Ребята переглянулись и хмыкнули. Но это они зря. На Славку Рая смотрела снисходительно в с некоторой жалостью, как замужние женщины, уже хлебнувшие жизни, смотрят на мальчишек-подростков. «Сынок», — смеялась она над ним вместе со всёми.
Он безуспешно каждую ночь ходил на солонцы — подстерегать коз. Запасов тушенки и впрямь было мало, и козлятина была бы очень кстати. Но в Славкину удачу никто ве верил.
Освободившиеся к ужину от работы ребята следили за приготовлениями Славки к охоте с ехидным интересом, подковыривая его и перемигиваясь между собой.
— Служивый, а она, поди, другого любит, коза твоя. А тебя избегает, — говаривал шофер Сема, с наслаждением скручивая цигарку.
И все гоготали: трудное дело затеял Славка, не видать ему удачи. Куда умней был Витя, тоже заядлый охотник, химик по специальности. Он, кажется, и в экспедицию поехал, соблазнившись сибирской охотой. Однако на большой риск не шел, каждый день благополучно стрелял на озере уток и фотографировался с добычей. Он просил Раю не выбрасывать пух и перо от уток — собирал на подушку.
О Славке, правда, он тоже беспокоился. Очень своеобразно:
— Ты бы хоть спал иногда, «охотник», — твердил Витя, — а то помрешь. Один я, что ли, тачку катать буду?
Они были напарниками и с утра до шести вечера окатывали оловянный концентрат на самодельном устройстве из досок, похожем на детскую горку. Собственно, ради олова их отряд и торчал здесь, в тайге. Еще осенью прошлого года было распоряжение свертывать работы на этом участке. Кажется, отряд должен был начать съемку местности где-то на Дальнем Востоке. Но начальник отряда Женя, прозванный когда-то товарищами по университету Цуном за Целенаправленность, Умение и Находчивость, убедил начальство, что надо бы остаться здесь еще на один сезон…
Зачем? История была такова. Лет двадцать назад геологи, обнаружив здесь богатейшие запасы олова, дали будущему приисковому поселку оптимистическое название — Удачный. За двадцать лет в поселке появилось постоянное население, люди привыкли к этому месту и оседлому образу жизни. И вдруг выясняется: если поблизости не обнаружится новый коренной источник или богатая россыпь, то Удачный ожидает судьба многих таежных поселений — он перестанет существовать. Истории таких поселков всегда трагедии. Люди начинают бежать с прииска Задолго до того, как он совсем прекратит работу.
Каргаев, начальник прииска и местный уроженец, с болью смотрел на все это. Он объездил местные геологические управления, побывал в Москве. Везде он пытался убедить геологов, что в этом районе есть новое месторождение олова. В доказательство он показывал кристаллы касситерита — оловянного камня— странной формы. Кристаллы находили в россыпях недалеко от прииска.
Цун, уезжая отсюда в прошлый сезон, раздумывал, взять на вооружение гипотезу о новом месторождении или нет. Решил взять — уж больно жаль было поселка. Да и научный интерес не на последнем месте.
Цун задумал поставить интересный эксперимент, который подсказал бы, откуда пришел в россыпи касситерит той странной формы. Кристаллик касситерита появляется на свет с острыми гранями. Но потом вода, грязевые потоки с острой галькой, песком выносят его из коренного источника, и он бежит, пока не застрянет где-нибудь надолго. Окатанность граней такого кристалла находится в прямой зависимости от величины пройденного им пути. Вот эту-то зависимость и решил вычислить и использовать Цун. Неокатанный касситерит, тот, что родился поблизости, смешивали специально (для имитации грунта) с песком и галькой и заставляли «пробегать» по желобу. Расстояние, которое проходили, окатываясь, «подопытные» кристаллы, ребята записывали. Цун ждал момента, когда грани стешутся так же, как на каргаевских образцах, — это будет значить, что они прошли одинаковое расстояние. Вот тогда можно будет добраться до предполагаемого месторождения.
За исключением Цуна и техника-геолога Алексея, постоянного сотрудника экспедиции, все члены отряда были не осведомленные в этом деле люди. Каждый из них завербовался в экспедицию по своим, личным соображениям и меньше всего знал и думал о цели ее, о трагической истории поселка. Когда Цун объяснил всем суть эксперимента, которым собирался проверять гипотезу о новом месторождении, Слава с Витькой зевнули: не все ли равно, ради чего тачки катать? Их дело — взгромождать тачку с оловом на «детскую горку», улавливать его внизу — и так до тех пор, пока Цун не скажет: «Довольно».
Но они и сами не знали, что так будет до поры до времени…
…В ожидании писем из дому Рая полюбила поездки в Удачный — на почту, в магазин. В поселке все давно знали, что опять приехали москвичи искать «хлеб» их прииска — оловянный камень. Рая любила стоять в приисковом магазине за огромными батонами хлеба, похожими на серые кирпичи. Магазин прозвали «Сахалином» за его отдаленность от «центральной площади» поселка. В очереди возникали разговоры. Какая-то бойкая бабка говорила, затягиваясь папироской по привычке забайкальских женщин:
— Опять московские приехали, эти… как их? Гинекологи! Ох, бородатые все, красавчики, как в прошлом годе, даже еще лучше.
— Найдут чего?
— Да уж в ентот раз обязательно!
Рая каждый раз вздрагивала, слыша эти разговоры: все па них надеялись в поселке, все от них ждали большой пользы. Когда они появлялись на улицах Удачного, с них не спускали глаз ни малые, ни старые. Женщины судачили о них, покуривая у своих заборов, мужчины уважительно здоровались с Женей: «Здравствуй, начальник!»
«Какое мне, в сущности, дело до их прииска? — пробовала себя убеждать Рая. — Алексей вон все время повторяет, что ему «до фени», где работать: хоть здесь, хоть в степи; хоть на олове, хоть на серебре. А мне, поварихе, тем более все равно. Я же временная. Кончится полевой сезон, с меня сойдет загар «пополам с грязью», я опять забуду, как разжигать в дождь костер, и многое забуду, чему выучилась здесь. Уйдут люди, которые меня сейчас окружают… Все уйдет?» Она чувствовала, что ей жаль этого. Жаль, что в Москве никто не посмотрит на нее с уважением, как здесь, не зашепчет вслед какие-то добрые слова бурятского заклинания. И она понемногу выучилась болеть за общее дело так, как это могут делать женщины, лишенные непосредственного влияния на его ход. Ей полагалось только мыть кастрюли и вздыхать над «тяжкой бабьей долей».
А как она завидовала Славке, который вдруг показал, что голова у него не только об охоте болит: неожиданно для всех он предложил усовершенствовать эксперимент — утыкать дно желоба на «горке» гвоздями и положить тяжелые острые камни, — иначе песок и гальку, имитирующие грунты, быстро смывает вниз, и они не выполняют своей «окатывающей» функции.
Так шла жизнь в тайге, не похожая совершенно на Раино московское существование. Здесь она испытывала чувство радости и освобождения. Еще год назад Рая поняла, что у нее должно что-то измениться. Почему? Она и сама четко этого не понимала: просто ей было очень скучно. Она попыталась объяснить это мужу, Володе, уговаривая его куда-нибудь далеко-далеко уехать. «Давай сменим жизнь», — предлагала Рая.
Жили они, по мнению Володи, совершенно нормально, даже хорошо. Особенно когда из квартиры уехали Раины родители, освободив детям «жизненное пространство».
Но именно с момента этого переезда Рая почувствовала неполноценность их жизни с Володей. По вечерам они оказывались с глазу на глаз в обнаженной тишине чересчур просторного для двоих жилища. Оказалось, что веселье и суету в дом вносили мать с отцом и их знакомые. Они умели радоваться даже пустякам, могли хохотать до слез над глупыми шутками, обожали походы, картошку в мундире и вообще жили вкусно. Мать с отцом работали вместе. Придя домой, они никак не могли успокоиться от «трудовых споров», и отец продолжал ругаться по телефону с начальником. Мать, стоя рядом, поддакивала, а иногда налетала на отца со своими идеями. То ли им действительно повезло на любимую работу, то ли друг на друга, но им всегда было чем жить.
Почему же у Раи с Володей все было по-другому? Она, без пяти минут ипженер-экопомнст, ничего толком не знала о своей будущей профессии и заранее скучала при мысли о ней. Володя же, закончивший институт пять лет назад, придерживался мысли, что «интеллигентная» работа вся одинакова, а «начальство всегда право».
— Средним людям, как мы с тобой, бессмысленно тратить время и нервы на поиски призвания и трудовые споры. Надо жить, как живется, как все живут, — внушал ей Володя.
Их друзья, приходя в гости, тоже не «кипели», они просто пили чай и просто разговаривали о «бытовухе».
Рая с тоской думала, что это и будет ее всегдашняя жизнь, небогатая событиями и интересами, чересчур спокойная, накатанная до предела. Если зима — значит лыжные прогулки, если лето — путевка па юг, осенью — консервировать дешевые фрукты. Это все неплохо как дополнение к настоящему, но его-то и не было.
Рая стала присматриваться r людям, которые расходились, искала истинные причины этих разводов, те, что оставались «за кадром». Ей казалось, что скука и отсутствие этих самых страстей гонят людей прочь друг от друга. Но когда она задавала этим ребятам свои «отчего» и «почему», то оказывалось, что настоящие мотивы разрывов должны быть серьезнее, чем ее томления.
— Детство в тебе играет, — сказала Рае одна умудренная жизнью однокурсница. — У тебя все есть: жилплощадь и хороший муж. Просто клад твой Володька, — вздохнула она. — Спокойный, уверенный в себе. По крайней мере ты точно знаешь, что он тебя не бросит!
…Когда после сессии уехали кто куда строительные отряды их института, а Раю «по состоянию здоровья» опять не пустил муж, случай свел ее на дачной платформе с геологом Женей.
С этим маленьким человечком в белой маечке и дачных сандалиях они опоздали на электричку. Рядом с человечком переминалась с ноги на ногу его беременная жена. Разговорились. Об экспедиционной жизни, о комарах, которые в Сибири куда хуже, чем здесь, на даче.
— Возьмите меня в отряд, — попросила Рая, конечно, в шутку.
— Поварихой можешь? Очень повариха нужна, — согласился новый знакомый. — Только давай без трепа. Завтра оформляй документы и делай «энцефалитную» прививку. — Женя загорелся от собственных таежных рассказов, и его, по выражению жены, «повело». Рая слышала, как она тихо сказала, послушав мужнины описания экспедиционной жизни:
— И этот, второй, без тебя родится. Ты уж весь в поле, будто и не московский. Посмотрел бы на себя со стороны: как куришь, как ешь. Вчера за чаем заметила — сахар экономишь. Погоди хоть здесь чудить. Наэкономишься еще в своей тайге.
— Что же делать, Галка, — сразу осекся муж. — Ты ведь знаешь, что каждый из нас, как человек-амфибия, в городе может жить только до апреля. Потом как-то неймется. Ведь знаешь — сама была геоморфологом.
Жена опустила голову: «Ладно уж, завидую тебе…»
В тайге Рае было тяжело. Никто без особой просьбы не помогал ей в трудном и непривычном для нее деле таежной поварихн-костровщицы. За водой — сама, дров наколоть — сама.
— Вы ведете себя, как хамы! — наконец не выдержала она за ужипом, когда все были в сборе.
Ребята притихли. А техник Алексей* человек бывалый, пожал плечами;
— Скорее, у нас особый взгляд на таежную женщину. Он, знаешь ли, идет от простой суровой жизни, к которой ты не приучена.
«Получила кусок романтики?» — досадовала на себя Рая, не зная, она ли ошиблась в выборе «романтической компании», или жизнь ошиблась, не создав идеала, на который она рассчитывала. «Алексей просто пижон, — успокаивала себя Рая. — Не все они такие. Цун другой и Славка…»
И все же…
— Учись побеждать природу, повариха Рая, — твердил ей Цун, зажимая в руке секундомер; он засекал время, которое повариха тратила на костер.
— Не так, повариха Рая, — насмешничал он, когда ее шаткое сооружение из веток гасло от легкого ветерка. И, показывая, как надо, он приговаривал: — Вот так и ты, женщина, должна поддерживать незатухающий огонь стоянки. Это и есть древнее твое предназначение, почетная обязанность, утраченная в наше время.
Рая честно хотела научиться всему, что потребовала от нее таежная жизнь, хотела стать настоящим таежным человеком. Но дело было не только в умении поддерживать огонь. Казалось, что в Жене пряталось какое-то особое чутье на людей и события, особая широта и доброта. Цун мог привести в лагерь, накормить и дать ночлег старому буряту, который не первый день трясся на коротконогой лошаденке по тайге. Мог Цун ни с того, ни с сего освободить Раю от кухни, отпустить на рыбалку и сам встать у плиты. Он безошибочно чувствовал, когда надо это сделать, чтобы повариха «встряхнулась» и вернулась к печке даже с удовольствием.
В письмах к матери Рая выплескивала ощущение полноты жизни, которое испытывала впервые.
«Здесь я впервые не «средний человек», каким привыкла себя считать. От меня тоже зависит что-то важное. Здесь у меня так много всего: неба, леса, огня, камней, людей… Дома-то у каждого — скучная физиономия, каждый — с авоськой. Мамочка, не сердись, здесь мне лучше. Шофер Сема рассказывал мне легенду «горе Папе и горе Маме — старых бурятских свмтыимх которые прощают всё даже разбойникам, если хорошо попросить. Слышишь, мам, прости и ты меня за неожиданный отъезд!
Да, еще я заработала радикулит, так как в палатке холодно. И теперь меня шофер Сема возит через день на «самодеятельный» бурятский курорт. Там родоновые ванны с температурой плюс 51е! После них я надеваю ватник, и с меня сходит семь потов. А Цун растирает мне спину спиртом и немножко дает внутрь. А у бурятов, мам, против радикулита есть священное дерево — листвянка, вся обвешанная цветными ленточками. Интересно?»
Писала Рая и про Славкину охоту: как он однажды на солонцах пожалел козу, видел ее в трех шагах от себя — и пожалел. «Между прочим, этот Славка, мам, принес мне цветы, таежные гвоздики. Он единственный, кто догадался это сделать».
Вскоре начался сезон дождей, и работы на «горке» пришлось свернуть. Людей не хватало, появилась надобность в шлиховании — ручном вымывании олова, а делать это, кроме Жени, никто не умел, Да и он не был профессионалом. И вот в этот момент в лагере неожиданно появились «таежные люди» — старик лет семидесяти и девочка. За ними на следующий день прибежал самый беспокойный поселковый пес Сардык.
— Нужен я тебе, начальник? — спросил у Жени старик.
— Ты нам, дядя Николай, сейчас нужен, как бог. Как ты угадал?
— Ха… — сказал старик.
Ему, оказывается, было не семьдесят, а сорок семь. Лет десять, а то и больше, он мыл в тайге золото, потом работал в Удачном на оловянном прииске. Он знал все тонкости шлихования. Конечно, он был нужен Цуну! Но его дочка (одна из восьми) — девочка с широко расставленными, как v рыси, глазами и городским именем Лариса — зачем она была нужна? Лариса была красива, как и большинство людей, в чью кровь влилась капля бурятской — обычное для здешних мест дело.
— Вот и тебе, повариха Рая, теперь есть помощница, — сказал Цун. Он усмехнулся, увидев Раино напряженное лицо, и покачал головой: — Одна женщина в отряде — плохо. Две — хуже нет. Рая, будь умницей.
Но Рая не захотела быть умницей и жить в одной палатке с «рысью». Ларисе поставили отдельную палатку. Какое-то беспокойство одолевало Раю. Стоило обернуться, как она замечала взгляд Ларисы — будто перекинутый через плечо косой луч.
«Рысь» вставала раньше Раи и так принималась шуровать с дровами — колоть их и ломать, что Рая уже и спать не могла, но и вставать не хотела — из принципа.
«Ишь ты, какая сильная, — думала Рая про новую поселянку, — дрова рубит, как мужик, воду носит чуть ли не цистернами».
Ребята поглядывали на Ларису не то с удивлением, не то с уважением. Рая, ревниво взирая на «рысь», внутренне напряглась, твердя себе: «В случае чего — улечу домой. Им не нужны две поварихи!»
Но кухонный турнир двух женщин не пошел дальше одной партии. В первый же день своего дежурства «рысь» наварила бурятского чаю на первое, второе и десерт.
Мягко выражаясь, Ларисино блюдо было непривычно для ребят. Крепкий чай с растопленным бараньим жиром, солью, вермишелью и еще какой-то приправой. Съели все только дядя Николай и Цун. Цун поблагодарил Ларису, вышел из-за стола и, закурив самокрутку, спокойно ждал, когда ребята позавтракают. Техник Алексей крякнул, отодвинул полную тарелку и попросил у Раи вчерашнего рассольничка. За ним наперебой остальные. Это была Раина победа.
Она торжествовала молча. Но Женя все замечал и однажды хмуро, имея в виду Ларису, сказал:
— Она здесь у себя дома. А ты и все мы — гости. Поняла? Скоро, может, вообще умотаем отсюда, не оправдав, как говорится, оказанного доверия.
— Почему? — встрепенулась Рая.
— Плохи наши дела, а их, — Цун кивнул в сторону прииска, — еще хуже. Нет тут больше оловянного камня, Раечка. Нет и нового месторождения. Вчера вы уже все спали, а я сидел ночью за микроскопом со Славкой — он все любопытствует. Потом погас свет — кончился бензин в движке, и мы остались сидеть в темноте. И тут я вдруг почувствовал в этой темнотище, что всю историю — касситерит новой формы н остальные признаки — это мы изо всех сил раздуваем. Ей-богу, раздуваем из человеколюбия. Нам касситерит кажется другой формы, потому что мы тоже хотим, чтобы прииск жил. — Цун закурил. — Эксперимент почти закончен. Уже ясно, что расстояние то же, что и от старого коренного. И как только я это понял, я решил что надо снимать лагерь. Уже дал радиограмму в Москву — профессору Константинову. Пусть прилетит — проверит нашу работу. Как он решит, так и сделаем.
— А когда он будет? — спросила Рая, вдруг почувствовав, что какая-то обида подступает к горлу. «Возвратиться, ничего не сделав? И жить, как раньше? Ни за что!»
Мысли о себе растворились у Раи в общем сознании какого-то стыда перед людьми и даже перед тайгой, будто она была живая. Рая, правда, боялась все время какого-то «таежного глаза»: прежде чем отломать от сухой листвянки ветки на костер, она мысленно спрашивала ее: «Можно ли?»
— Отчего истощился этот прииск? — спрашивала Рая не раз жителей поселка.
— А чего ж ему — все тощает: и человек и прииск.
— Слишком энергично разрабатывали, много бросали в отходах, потом это размалывалось в песок, а песок носил ветер, теперь пропавшее олово не соберешь, — так говорил Цун Каргаезу.
— Мы не этого хотели. Мы хотели высокой производительности, — отвечал Каргаев. Но Женя махал на него руками и кричал:
— Они-то, может, и неисчерпаемые, запасы у природы, да только не умеем мы брать их с умом. А потом руками разводим!
Профессора Константинова ждали с часу на час.
Узнав о его приезде, заволновался Каргаев. Утром его «газик» песочного цвета появился на дороге.
— Опять приехал убеждать, чтоб не свертывали прииск, — проворчал Цун.
Каргаев грузно вышел из кабины и тут же забыл про оставшегося там своего смирного, раскосого сынишку. Они ходили с Цуном по лагерю большими шагами и спорили. Рая наблюдала за ними со своего поста у печки. Впереди все время нагибался к земле и что-то на ней разыскивал маленький нервный Женя, чуть позади — широкоскулый крупный Каргаев с побледневшим лицом. Он снял с головы большую кепку и, прижимая ее обеими руками в груди, что-то горячо говорил Цуну, тоже наклоняясь вместе с ним к земле.
Потом Рая расслышала, как Женя сказал:
— Оставайтесь с нами до приезда Константинова — Все разом и выясним.
— Не могу, на прииск надо, — отвечал Каргаев грустно и с акцентом, как всегда при волнении. Он надел кепку и крупно зашагал к машине, покопался там и вынес с гордым, торжественным лицом самородок олова килограммов на десять.
— Здесь нашли… На гольце, — сказал Каргаев. — Хочешь, верь, хочешь, нет. Подари своему профессору, — крикнул Каргаев уже из окошка машины. — Денег у Читы добуду, только олово ищи!
Константинов приехал веселый. Начал выкладывать московские новости. Первым делом объявил:
— У тебя, Цун, второй сын родился. Ты у нас именинник! Ах, ты, черт возьми, — захохотал он на весь лагерь. — А нашу повариху муж ждет в Москве. «Пусть, говорит, Раечка поскорее возвращается». Вот так. У тебя, Цун, есть замена поварихе-то? — Женя посмотрел в сторону дерева, к которому прижалась, как лесной зверь, Лариса.
— Поезжай, поезжай, — подбодрил Раю профессор. — Скоро все в Москву вернутся. Надо сворачивать работы, раз ничего нет.
— Как это нет! — закричала Рая. — А самородок? — Она посмотрела на хмурого Цуна. Тот молчал и согласно кивал Константинову.
— Лети-ка ты. Женя, домой, — басил Константинов за ужином. — Взгляни на сына, обласкай жену и… съезди на месяцок в Приморье — присмотри место для будущего полевого сезона. А? Светит тебе Приморье? Какие богатейшие места! Ты ведь не был там?
Рая негодовала: где же обещание, данное утром Каргаеву? Ведь Цун обещал ему исследовать сопку с голой вершиной, которая виднелась вдалеке.
— Евгений Васильевич, — вдруг прервал Константинова Женя, — пойдемте, я вам покажу кое-что.
— Это самородок, что ли? — засмеялся профессор. — Я уже видел. Смутил тебя этим Каргаев. Ай да фокусник! Да, может, он его в другом месте взял!
— Не думаю… — скривился Женя. — Подумайте, Евгений Васильевич, еще пару месяцев работы — зато совесть спокойна у меня будет… перед природой и людьми.
— Совесть! Врешь ты все, — заворчал Константинов.
— Найти думаешь олово. Удачи здесь ждешь, Цун? — Константинов помолчал. — Ну, коли люди твои согласны работать еще, то оставайтесь. Контракты продлим.
— Я остаюсь, — первой крикнула Рая, и все на нее оглянулись.
— Вот это напра… — начал Константинов, но Цун тронул его за рукав.
— Хоть до октября буду сидеть здесь, — упрямо подтвердила Рая и выскочила «к себе» — на кухню.
Она знала, что по приезде в Москву не миновать объяснений с матерью и Володей. Но если бы, если бы он сам приехал в отряд — хоть посмотреть, хоть чуточку поинтересоваться тем, что лежит дальше его привычных забот! Читал же он наверняка ее письма к матери, все знает и… не понимает. Рая почти плакала от досады.
«Не надо лезть не в свое дело! — любимая фраза Володи. — Для этого, — убеждал он, — есть специальные люди — журналисты, юристы… У них профессия такая — чужие дела. Все остальные люди живут своими…»
Раньше Рая этому почти верила. Но теперь-то она знала точно, что это от человека зависит. Есть же такие, как Цун, и, наверное, много. «Жаль, что не придется стать геологом. Поздно, — грустила Рая. — А среди них, верно, больше всего настоящих людей!» И тут же в памяти всплыл давний разговор с Цуном. В самом начале, в порыве откровенности, она рассказала Жене, отчего уехала из дому. Он только хмыкнул в ответ: «Могла бы и не уезжать. Жить по-человечески, осмысленно можно где угодно: хоть на площади Пушкина, хоть в сталактитовой пещере, хоть здесь. Важно, с кем жить и чем».
Рая вышла из кухонной палатки на полянку и вдруг услышала, как техник Алексей, самолюбиво тряхнув курчавой бородой, сказал:
— Ладно, я тоже со всеми. У меня совесть прорезалась.
«Ну, значит, все в сборе», — улыбнулась Рая.
Николай Черкашин След прископа
В походе. Фото Г. ШУТОВА.
В июле 42-го одиночная советская подлодка «К-21» сорвала рейд самой большой за годы второй мировой войны немецкой эскадры. Во главе ударной группы шел на разгром английского конвоя новейший в те времена линкор «Тирпиц». Дерзкий четырехторпедный залп «К-21» по быстроходной плавучей крепости длиной почти в четверть километра был отмечен военными историками всех стран. Всего же на боевом счету краснознаменной подводной лодки 17 потопленных транспортов врага.
Когда легендарная лодка выслужила свой срок, ни у кого не поднялась рука разрезать ее на лом. «К-21» навечно пришвартована к стенке заполярного причала. Над ней по-прежнему колышется военно-морской флаг, а в кубриках живет небольшая команда под началом мичмана. По навигационным правилам на «К-21» вот уже тридцать третью арктическую ночь горят якорные огни. Вечная стоянка — вечные огни.
Несмотря на бронзовую мемориальную доску, привинченную к надстройке, «К-21» все еще служит. В ней устроены тренажеры, на которых матросы учатся бороться за живучесть подводных кораблей. Время от времени из кормового отсека знаменитой лодки валит черный дым «пожара», а в носовом — сквозь искусственные пробоины в прочном корпусе бьет студеная вода. Аварийные команды бросаются в огонь и в воду. «К-21» все еще не вернулась с войны…
Борт о борт с именитой лодкой стоит новая, современная, безымянная. Во всяком случае, ее бортовой номер пока никому, кроме посвященных, ничего не говорит.
Нехотя выступает из воды одутловатое аспидное тулово. Острый тритоний хвост плавно уходит в рябь огненной дорожки кормового фонаря. Единственная надстройка, уплощенная, отглаженная с боков и сверху, торчит над покатой спиной мощным плавником. Лодка лениво льет желтый электросвет из прямоугольных окошечек рубки.
По причалу, огибая кнехты, змеится поземка. Ветер раскачивает тяжеленные крюки железнодорожных кранов, которыми грузят на подводные лодки торпеды. Снежная крупа набивается в ворс черных матросских шинелей так, что они становятся белыми, словно маскхалаты. Короткий строй застыл на причале против вечной стоянки «К-21».
— Офицерам выйти из строя. Команде — вниз!
По сходням, перекинутым с причала через старую подлодку на новую, бегут матросы. Видавшая огни и воды Палуба «К-21» гудит под тяжелыми ботинками точь-в-точь как и тридцать лет назад, когда собиралась в свой звездный поход. Но эти ребята в новеньких черных ушанках выходят в море впервые. В глухом квадрате Баренцева моря их могучий подводный торпедоносец, словно новорожденный дельфин, будет нырять и плавать, смотреть и слушать, нападать и защищаться. Учить будет командир лодки, моложавый капитан 2-го ранга с ленточкой боевого ордена под мехом «канадки» Александр Яременко.
Новичок на секунду замирает над верхним рубочным люком. Там внизу темной и, кажется, ужасно глубокой шахты высвечен кружок красного железного пола. Ступив на него и глянув вверх, новичок увидит точно такой же кружок ночного неба и подошвы товарища, нависающие прямо из-под звезд. Потом, потирая набитую на лбу шишку, пробираясь в свой отсек, он будет дивиться все еще непривычному обилию приборов в агрегатов, шкал, циферблатов, вентилей, кранов, клинкетов, клапанов, тумблеров, маховиков, рукояток, снопам разноцветных кабелей и трубопроводов. Потолки, по-морскому подволоки, кают и отсеков напоминают своды старинных подвалов, с той лишь разницей, что они сплошь увешаны, уснащены всевозможной аппаратурой. Глаза у первогодка разбегаются и почему-то сами собой выискивают грозные таблички с зигзагами молний «Жизнеопасно!», «Не вскрывать!». «Огнеопасно!»… Пройдет время, и этот крутолобый парень с уже подросшими волосами в любой кромешной тьме нащупает самый запрятанный вентиль или клапан; при срочном погружении он будет чертом по одним лишь поручням соскальзывать вниз, почти не касаясь перекладин вертикального трапа; особым чувством подводника начнет различать крены и дифференты своей койки и боевого поста до половинных долей градуса.
А пока он будет привыкать к лодочной тесноте так же, как космонавт к невесомости, заново учиться вещам, знакомым с детства, — ходить, например, по отсекам, рефлекторно задраивая за собой крышки люков, орудовать ложкой тогда, когда борщ в миске вторит семибалльной качке за бортом; переучивать школьный алфавит на азбуку аварийных перестуков.
Он будет осматривать подводное свое оружие-жилище, подбадривая себя словами присяги: «Клянусь… с честью переносить все тяготы и лишения воинской службы», — до тех пор, пожалуй, пока по трансляции не прозвучит голос вахтенного офицера: «Команде обедать!» Отведав салат из консервированного лосося, суп из севрюги, отлично зажаренный бифштекс, после ужина из четырех блюд с сухим вином и вечернего чая с печеньем и шоколадом новичок выведет для себя, что мысль о «тяготах и лишениях» была несколько преждевременной.
Но все испытания еще впереди…
Капитан 2-го ранга Яременко стоит на ходовом мостике. Шквальные порывы плющат ноздри и раздувают меховой капюшон. Если ветер налетает сзади, кажется, будто кто-то невидимый и сильный тискает тебя в объятиях, обжимает толстую меховую куртку, пытается согнуть тебя в две погибели — в шее и поясе. Слева и справа вздымаются красноватые и зеленоватые в свете ходовых огней пенистые космы. Бульбообразный нос лодки не режет, а разламывает волны — белые бугры вспухают выше мостика. Сигнальщик довольно шмыгает носом — сегодня мыть надстройку ему не придется, за него это сделает шторм.
Яременко стоять на мостике привычнее, чем на балконе собственной квартиры. В локтях, упертых в планшир, приятно отдается сытая дрожь дизелей. За семнадцать моряцких лет эти водяные холмы стали ему куда более юодней донецких терриконов его детства.
К командирскому перископу он пришел из первого отсека, где начинал службу рядовым ъорпедистом поочередно побывав на всех ступенях корабельной должностной лестницы.
Кстати, о перископе. Когда Яременко последний раз при жизни матери приезжал в Донбасс, старушка, разглядывая руки сына, воскликнула:
— Та у тоби мозоли як у плагаря чи забойщика, шо в старину кайлом робив!
Уж очень не вязались загрубевшие руки с белоснежными манжетами и золотом парадной тужурки. А перископные рукоятки и впрямь похожи если не на чапиги ручного плуга, то на широченный мотоциклетный руль, поворочав который и час, и другой, и третий, начинают ныть не только пальцы, но и плечи.
Вот он стоит и курит, командир. Он командир большой подводной лодки. Он спичку зажигает у груди И прикрывает свет ее пилоткой.Песню эту написал Юрий Визбор, и она прижилась на Северном флоте, потому что и Яременко и его товарищи по оружию не смогут сказать, сколько раз, отправляясь в дальние моря с учебно-боевым заданием, вот так вот, по-фронтовому, прикрывали горящую спичку пилоткой. Сегодня капитану 2-го ранга тоже не придется покурить вдосталь. Радист принял предупреждение: где-то неподалеку кружит «чужой» противолодочный самолет. Ну что ж, значит, сегодняшние учения будут предельно схожи с боевыми условиями.
— Стоп дизеля! Все — вниз!
Верхний рубочный люк командир задраивает сам. После монотонных звуков похода и ленивого дрейфа на полигоне ревун боевой тревоги верещит по-особому бодряще. В него вплетается басовитое урчание — это трюмные завинчивают клинкеты межотсечной вентиляции. Миг — и боевую песнь лодки подхватывает целый машинный оркестр: звонки, вой, шип, свиристение, перещелк тумблеров. Доклады с постов напоминают пока скорее перебранку, чем стройную перекличку. Командир болезненно морщится, как маэстро на слишком шумной репетиции. И вдруг все стихло — пауза. Возможно, это зуммерил какой-то штурманский прибор, но только все явственно услышали, как звенит неправдоподобная тишина, спрессованная напряжением людей и механизмов.
Там, в отсеках, и здесь, в центральном посту, матросы-первогодки то и дело поглядывают на глубиномеры. Для многих из них это погружение самое первое.
— Принять главный балласт!
Заклокотала, забурлила в цистернах вода. О том, что лодка пошла вниз, можно судить по небольшому наклону пола вперед да стрелке прибора.
— Глубина десять метров. Лодка медленно погружается, — докладывает боцман Петин, он же рулевой горизонтальных рулей. Когда лодка достигнет заданного предела, редкий новичок не удержится, чтобы не нацедить в кружку забортной воды и не попробовать на вкус первую свою глубину. Традиция. Такая же, как и те удостоверения-поздравления с подписью Нептуна, которые заполняет сейчас в ка-ют-компании политработник старший лейтенант Ровский.
— Легли на заданную глубину. Дифферент ноль* Лодка не погружается, — сообщает боцман.
— Горизонт чист. Акустик.
— Есть акустик, — отклипаегбк хомапдир. — Осмотреться в отсеках!
Вместе с докладом старшины первого отсека динамик исторгает в центральный пост странный грохот и дружный смех.
— В чем дело, первый?
Выясняется, что матрос Сидорчук, отрабатывая упражнения у торпедного аппарата, задел посудный шкафчик.
Современная подводная лодка должна быть не только невидимой, но и бесшумной. Иначе нет особого смысла исчезать с поверхности моря. Стук упавшего ключа может так же выдать подлодку, как треск сучка — разведчика.
Старшина отсека получает строгое внушение, а перед вечерним чаем торпедисты вывесили «боевой листок» с карикатурой: незадачливый матрос балансирует на стопке мисок.
Из центрального поста, открыв и задраив за собой несколько межотсечных горловин, я перебираюсь в нос лодки. Табличка из нержавеющей стали на тяжелой, литой крышке люка, ведущего в носовой — торпедный — отсек, строго предупреждает: «С огнестрельным оружием и зажигательными приборами не входить!»
Первый отсек отнюдь не самый уютный в лодке. Скорее пространный, чем просторный, во всю длину запасных торпед; в нем довольно свежо и сыро. Правда, как утверждают его «старожилы», в тропиках нет более прохладного места на корабле, чем у них: в тропиках им все завидуют. В дальних походах здесь витают земные, огородные запахи: в свободном пространстве под подволоком висят мешки с капустой, морковью, картофелем. Сюда почти не доносится шум дизелей, и потому отчетливо слышно, словно изнутри огромной железной бочки, как глухо и гулко бьют в корпус встречные волны. По настилу, между уложенными на стеллажи гигантскими серо-матовыми сигарами, прохаживается командир торпедной группы лейтенант Алексей Кулаков. Румянец на его щеках не исчезает даже под желтым светом зарешеченных плафонов. Темно-синий замасленный китель со сломанными в гармошку погонами придает ему вид бывалого и отчаянного подводника, этакого трудяги-минера, который, по флотскому выражению. «ласкает свои боеголовки», не гнушаясь самой грязной работы, и который ужом проползает по всем закоулкам отсека и трюма, все проверяет и прощупывает собственными руками. Если бы было можно, он ходил бы в этой гордой одежке всюду; но всюду нельзя, и, выбираясь в соседние отсеки или в кают-компанию, Кулаков с явным сожалением переодевается в новенький китель с чистенькими погонами.
— Матрос Сидорчук!
— Я.
— Прекратите заниматься брызгами!
Эффект замечания состоит в том, что Кулаков, изучая шкалу отсечного термометра, «затылком видит», как матрос Сидорчук, расстелив на торпеде кружевной клочок женского туалета — чего только не попадается в ветоши! — пытается определить его назначение.
— Есть прекратить заниматься брызгами! — комкает клочок Сидорчук. Кулаков не злой человек, и он прекрасно понимает, почему двадцатилетний Сидорчук, столько месяцев не ходивший в увольнение, отвлекается сейчас, от дела.
Нет ничего вреднее преждевременной тоски по берегу, которая не только изнуряет человека морально, но и расслабляет, рассеивает его внимание, — и это там, где торпедисты, как и минеры, могут ошибаться только один раз. К тому же матрос с первых дней подводной жизни должен уверовать в вездесущность, в рентгеновскую способность командирского глаза. «А как же иначе? Почему-то каждый из нас считает, — горячится Кулаков, — что если нарушать прописную истину «не кури на бочке с порохом!»— с умом и осторожно, то ничего не случится». Не потому ли время от времени старшины отсеков находят в трюмах ловко запрятанные самодельные электрокипятильники, а из контакторной коробки в трюме центрального поста старпом извлек недавно пачку писем, адресованных трюмному машинисту любимой девушкой. Просто чудом не произошло короткого замыкания!
— Вы представляете себе, что такое короткое замыкание в подводном положении?! — набрасывается на меня Кулаков так, будто это я устроил в контакторной коробке шкафчик для личных вещей.
Я соглашаюсь с ним, что нет ничего трагичнее парадокса — пожар в подводном положении. Я соглашаюсь с ним также и в том, что где-где, а на подводной лодке в первую очередь офицер должен быть психологом, большим знатоком человеческих страстей и слабостей.
Кулаков, довольный, спрыгивает с настила и исчезает под торпедами. Сегодня лейтенант Кулаков доволен всем и всеми, в том числе и собой. Сегодня первый день первого его похода, в который он идет не курсантом и не стажером, а полноправным командиром оружия.
Кулаков чувствует себя в отсеке, как желток в яйце. Оболочка прочного корпуса — это дополнительный защитный покров его тела; воздушные трубопроводы — это продолжение его трахей; разрыв медной трубки гидравлического привода опасен для него лично так же, как и разрыв собственной аорты.
Лейтенант искренне убежден, что кто-кто, а он, Алексей Кулаков, рожден для того, чтобы провести свои лучшие годы не под солнцем, не на земле, и не на море, а под водой за пультом ТАСа — аппарата управления торпедной стрельбой; годы зрелые — встретить в рубке у командирского перископа, ну, а там, там будет видно. Кстати сказать, адмиралы с серебристой лодочкой на тужурке в кабинетах нынче не засиживаются
Полчаса назад панибратски присев на торпеду, Кулаков рассказывал, почему он стал минером.
— Профессию мне выбирать не пришлось. Я с семи лет знал, кем буду: конечно же, как папа, моряком. В училище подплава я поступал — мне только-только 18 стукнуло. Все-таки это возраст. Поэтому я считаю так: если морской образ жизни мне достался по наследству, то флотскую специальность я выбрал сам и вполне осознанно. Моряк — птица водоплавающая. А уж если быть военным моряком — так быть офицером оружия. Почему минером? Потому что лодка-торпедоносец. Все остальные специалисты на корабле работают на нас. Механики, чтобы обеспечить ход; штурмана, чтобы выйти на позицию; гидроакустики — найти цель. А уж мы, торпедисты, венчаем, что ли, совокупный труд всей команды.
Алексей гладит хищное тело торпеды, как гладят живое существо. Будь у нее ухо, Кулаков непременно почесал бы за ним. Он называл на память скорость хода грозного снаряда, его взрывную силу, параметры систем и приборов, упрятанных в стальную оболочку торпеды. Когда же я спросил его ленинградский телефон, он полез за записной книжкой…
— Очень много цифр приходится держать в голове. Записываю то, что не обязательно помнить каждую минуту… «Торпедо» — по-латыни электрический скат, быстрый, как молния. Конечно, сейчас на флоте есть штуки и побыстрее — ракеты. Но ракета прозаична. Вышел в точку — бах! — и дальше она пошла, как грузовик. А в торпедной стрельбе всегда есть элемент охоты. Ты выискиваешь не стартовую точку, а самого противника. Ты борешься с ним лицом к лицу, киль под килем… И потом торпеда — наше традиционное подводницкое оружие. Еще с русско-японской войны в России всегда были прекрасные мины и торпеды. Над ними работали ученые с мировым признанием — Якоби, Александровский, Макаров… А потом у нас в училище кафедру вел седенький каперанг такой, прекрасный профессор — большой теоретик минного дела.
Мне показалось, что Кулаков, как толстовский Петя Ростов, предложит мне сейчас горсть «прекрасного изюма». Или спросит, не нужен ли мне ходовой винт от торпеды (Ростов предлагал кремни для пистолета), так как у него есть лишний, почти новый прекрасный ходовой винт. И вдруг, бывает же такое…
— Хотите конфету? У нас прекрасные конфеты. Литовские — «Орбита». Вот видите — Каунас, государственный Знак качества… Я очень люблю сладкое. Я когда на вахту заступаю, беру с собой кулек конфет…
Горсть изюма и кулек конфет. Почти совпадение. А почему бы и нет? Люди уходят, а характеры остаются…
После ужина в кают-компании собрались коммунисты. Выступал старпом. Первые дни учебного плавания дали повод к нелицеприятному разговору с командирами боевых частей. Поминались и злополучная контакторная коробка, набитая любовными письмами, и оптический определитель, который сигнальщик забыл задраить на мостике перед погружением, — на глубине линзы прибора продавились во внутрь, — и недочеты в работе мотористов. Но больше всего досталось лейтенанту Кулакову. Старпом вел речь так, будто забыл, что Кулаков всего лишь несколько дней исполняет обязанности командира минно-торпедной боевой части взамен офицера, ушедшего в отпуск. Старпом старше Кулакова на одну звездочку и три года, и потому говорил резко, запальчиво, без скидок и обиняков. Он немного увлекся, и в его речи дважды проскользнул вопросительно термин «профессиональная пригодность». И тут случилось невероятное. По румяной щеке юного лейтенанта проползла слеза, в уголке глаза навертывались и уже дрожали вторая, третья… Лицо Кулакова застыло в мучительном выражении, будто по нему оставляли мокрые дорожки не слезы, а капли серной кислоты. Он сам понимал, как это фантастически ужасно, — офицер-подводник, представитель главнейшей на корабле специальности, хоть и временный, но командир боевой части, плачет на виду у всех офицеров лодки и московского корреспондента. Он не всхлипывал, горячие слезы, выжимаемые предательским рефлексом, сами капали на черные форменные брюки. Бывают такие слезы, унять которые так же невозможно, как подавить усилием воли морскую болезнь. Лейтенант не мог ничего ни возразить, ни объяснить, так как все мысли его были заняты одним — борьбой со слезами. Он сидел, ушедший в себя, как йог, и даже не расслышал, что все вдруг дружно закашляли, заглушая старпома, и командир спросил невпопад:
— А как обстоят дела у наших радистов?
После собрания капитан 2-го ранга Яременко попросил Кулакова зайти к нему в каюту. Вместе с лейтенантом в дверцу высотой до плеч пролез и замполит. Никто не знает, о чем они там говорили.
Но в тесном закутке, где трое взрослых мужчин могут сидеть не иначе, как плечо к плечу, смешно говорить так, как говорят на собраниях. Нельзя там и беседовать. Там можно лишь толковать.
Я лежал в каютке помощника, что отделена от резиденции Яременко тамбуром — подобием низкой телефонной будки, — и слушал, как вестовой, накрывая стол к вечернему чаю, подпевает Ольге Воронец. В дуэт с радиоголосом вплетался стук пишущей машинки. Это помощник командира старший лейтенант Жаренов печатал меню на завтра. Скрипнула легкая дверца — должно быть, вышел Кулаков. Всхлип отдраенного люка и легкий воздушный шип просвидетельствовали, что лейтенант перелез в другой отсек. Потом в тамбур один за другим вытиснулись Яременко и замполит.
— Святые слезы, — обронил командир вполголоса, — быть ему адмиралом.
На второй день похода лодка ходила под перископом. Наверное, со стороны это не очень приятное зрелище: посреди пустынного моря из черных волн высовывается вдруг нечто похожее на шею лох-несского змея, увенчанное такой же маленькой головкой. «Шея» вырастает со столб городского светильника, и одноглазая «головка» начинает осторожно озираться по сторонам. По всей ночной сфере, затмевая Млечный Путь, полыхает полярное сияние. Зеленовато-радужные его разводы огненной поземкой струятся от созвездия к созвездию. Сумасшедшая, пьяная радуга!
Подвсплытие было прервано тревожным звонком: шторм сорвал кормовой аварийный буй. Тот самый буй, который в случае беды обозначает место, где затонула подводная лодка. К счастью, его не успело далеко отнести, и мы подходим к пропаже с наветренной стороны. Швартовая команда во главе со старшим лейтенантом Жареновым в гидрокостюмах и спасательных жилетах выходит из рубки на скользкий округлый корпус. Изловить буй надо во что бы то ни стало. Пущенный на волю волн, он, как сигнал бедствия, может вызвать немалую тревогу.
Обвязавшись линем, Жаренов висит на покатом борту. Его обдает студеная вода, в холоде которой человек выживает не более получаса. Но главная опасность — сам буй, стальной поплавок величиной с добрый котел, пляшет на волне и бьется в борт с молотобойнои силой. Попади между его острым краем и корпусом лодки рука, нога, и — плавучая гильотина сработает, как бритва. Помощник качается на лине, словно мячик на резинке. Концом троса он целится в проушину буя. Идет самый настоящий фехтовальный бой: шпага против сабли. Выпад, выпад — мимо, мимо, мимо… Минут двадцать тянулся этот опасный поединок. В конце концов Жаренову удалось попасть в проушину. Его втащили на корпус, а вслед за ним (усилиями десяти человек) и злополучный буй. Победитель ушел переодеваться в сухое. По негласному мнению, старший лейтенант явился героем дня. Литавр, венков, рукоплесканий не было. Просто должность помощника обязывала его присутствовать лично при подобных работах. А то, что он сам полез за борт, так это потому, что в такелажном деле он много опытнее, чем матросы-первогодки.
…Вечером в кают-компании. Ободранные пальцы помощника перебегают по грифу семиструнки. Корабельный врач и младший штурман бросают кости старинной восточной игры — длинных нард. Сменившийся с вахты лейтенант Кулаков давит в стакане дольку грейпфрута. Под жестокие блюзы из радиоприемника старпом и Яременко вспоминают дальние походы: «то ли в Сомали, то ли в Нигерии…»
Но вот кто-то подсел к приемнику и стал вращать рукоятку настройки. В этот вечерний час эфир переполнен звуками: обрывки предвыборных речей и тревожный клекот морзянки, канканы и хоралы, реклама и сводки военных сообщений, гул хоккейных стадионов и ритмы джаза. В этот вечерний час весь мир делится на тех, кто танцует вновь модные фокстроты, и тех, кто слушает их в подводных лодках.
В этот вечерний час некая часть человечества, заключенная в прочные корпуса субмарин, — итальянцы и французы, американцы и норвежцы, румыны и немцы, мы и поляки, — собирается в тесных кают-компаниях у радиоприемников. Нас качает зыбь одного и того же океана, мы ловим волны одного и того же эфира. Каждый ищет свое. Мы ищем позывные «Маяка», «Последних известий». Нам очень важно знать, сколько новых домов, сколько новых конвейеров, хлебных полей построено, пущено, вспахано за день, который мы провели под водой. Нам очень важно знать, что еще один день мира, который мы сберегли здесь, в Баренцевом море, а стратегические ракетчики — под землей, в бетонных своих шахтах, летчики ПВО — за облаками, — что день этот прошел не зря.
Невелика кают-компания — длиной в диван, шириной в шесть суповых тарелок, но есть в ее тесноте особый уют. Прежде чем стать каютой для компании отдыхающих, любезных друг другу сослуживцев, за неполные сутки она побывала и спальней, и столовой, и кинозалом, и аудиторией партийного собрания. Красный крест на переборке гласит о том, что в случае беды это еще и госпиталь и операционная.
— Товарищ командир, вы принимали лекарство? — отрывается от игры врач. У его пациента ангина — перестоял на мостике.
— Ох, черт, забыл! — виновато улыбается Яременко. Виновато, потому что напоминать — это его командирская обязанность. За весь день он не забыл ничего — ни поинтересоваться у командира «БЧ-5», сменили ли прокладку в воздушной захлопке, ни заметить вестовым, чтобы они подогрели чай вахтенному офицеру…
Все разговоры стихли, вольные струнные переборы сменились четким ритмом — Жаренов пел. Пел про то, чем жили сегодня:
Антенны ожиданием полны. Приказ несет нелегкую заботу. Смыкаются две черные волны Над кораблем……В конце похода антенны принесли «добро» на возвращение в гавань. Последний раз проигрывается ритуал всплытия. В цистернах ревут вода и воздух. С победным трубным звуком устремляется лодка из пучины. Замерли указатели глубины. Зато закачались стрелки креномеров — шторм наверху продолжается. Межотсечная вентиляция приносит в центральный пост запах жареного лука. Где-то на камбузе кок отчаянно борется за живучесть обеда. Отдраиваем верхний рубочный люк. В шахту низвергается поток холодного воздуха, терпкого от соленой морской пыли. Такой воздух не вдыхают — его пьют. Выбираемся на мостик — и, о чудо! — первое солнце нового года. Медно-красный серп чуть выглядывает из-за далекой скалистой гряды. Он еще не пышет слепящим жаром, и его неровную выемку можно рассматривать, не щурясь, во всех подробностях, словно лунный полумесяц. Новое солнце видно еще только с моря. Для жителей прибрежных поселков оно пока загорожено сопками. Мы встречаем его первыми.
— Ну что, боцман, — Яременко кивает рулевому на солнце так, будто это последний аргумент в их давнем разговоре, — останетесь на флоте мичманом?
— Институт нужно окончить, товарищ командир, — уклончиво отвечает Петин, — а там видно будет.
Боцман — краснощекий кубанский казак — студент Краснодарского политехнического института, будущий винодел. То обстоятельство, что служить он попал именно на лодку, Петин в шутку объясняет так: «На нашем производстве и на подводном флоте техника родственная — цистерны, трубопроводы и вообще — сообщающиеся сосуды».
Командиру жаль терять хорошего рулевого, толкового боцмана. С каким по счету моряком, испытанным в дальних походах, расстался он под звуки прощального марша? Я спрашиваю об этом Яременко.
— Однажды, — отвечает он, — пришел ко мне на лодку офицер из запаса — человек немолодой: и лысеющий и полнеющий — директор детсада. Даже странно было видеть его в морской форме. Ну, думаю, с ним у нас на два погружения одно всплытие придется. И что же, вышли в море, отработал все как надо. Детский педагог вновь превратился в исправного специалиста. Там, на берегу, в мирной жизни такие люди навсегда остаются подводниками. След перископа прошел через их души…
Я понял, что он имел в виду. В первую мировую войну белый бурун перископа вызывал на надводных судах сущую панику. «Видишь бурун — жди торпеду» — грозная эта примета очень скоро запомнилась на всех флотах. Позже, когда появились противолодочные охотники, подводники научились «целиться» из глубины — по шуму винтов. Ныне след перископа для подводника такой же гордый и, наверное, столь же древний символ, как парус бригантины для крейсерского матроса.
Мы входим в узкую губу, похожую на полузатопленный извив лабиринта. Сигнальщик стучит щитком прожектора — отбивает в ночь сигналы. По кораблю идет последняя приборка. Матросы укладывают и прячут гидрокомбинезоны.
— Привести себя в порядок! — разносится по отсекам голос командира. — Идем в гости, на базу.
И все знают — долго гостить на берегу не придется. Скоро снова домой — в море.
В распадке гор вспыхивают неоновые вывески заполярного города. Швартуемся все у того же мемориального причала. Снова гремит под матросскими каблуками палуба легендарной лодки. Ты слышишь, старая «К-21», этот уверенный шаг? Не правда ли, он уже чем-то напоминает суровую поступь твоей былой краснознаменной команды?
Баренцево море.
Красивое на стройке
Помните: «На диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой…»? Описываемые в народной песне события происходили, по всей вероятности, недалеко от тогдашней столицы сибирского ханства — Кашлыка. где дружина Ермака разбила главные силы хана Кучума, возможно, там, в семнадцати километрах от ханской столицы, при слиянии Тобола с Иртышом, где казачий атаман основал крепость Тобольск. Четыре века минуло с тех пор. Город Тобольск невелик и поныне, зато историю имеет богатейшую. Декабристы, народовольцы, марксисты — сотни передовых людей России «знакомились» с Тобольской тюрьмой. Город дал России автора «Конька-Горбунка» П. П. Ершова, замечательного ученого Д. И. Менделеева. Именно Менделеев связывал будущее богатейшего края с железной дорогой. Создавались десятки проектов и умирали на бумаге. Непролазная тайга, топь, мошка, жесточайшие морозы — казалось, не по плечу человеку подчинить себе Сибирь, взять рыбу, лес, редкого пушного зверя, наконец, невиданные запасы нефти, открытые совсем недавно.
Богата «новая история» Западной Сибири. Одну из ее глав «пишут» молодые первопроходцы — строители железной дороги Тюмень — Сургут — Нижневартовск. Пока стальная тропа уходит на Север, туда же идут грузы — строительные материалы, инструмент, оборудование. А скоро в обратном направлении пойдет нефть и драгоценная древесина среднего Приобья. В древнем Тобольске вырастет огромный нефтехимический комплекс.
Так уж устроен человек, что, решая задачи, казалось бы, чисто утилитарные — покорение тайги, освоение нефтяных богатств, — окружает он себя красивыми зданиями, слагает прекрасные песни. Сурова природа, неуютен сибирский край. Но вместе с дорогой, таежными поселками, нефтепромыслами и заводами шагает в тайгу красота.
В Тобольске построен новый вокзал. Белокаменным называют его тобольчане и приезжие. Это старое русское слово соединяет в себе прочность, основательность сооружения, красоту и верность народным традициям А «начинался» вокзал еще в 69-м году.
— Как закладывался первый камень? — наш вопрос одному из авторов проекта, художнику Герману Черемушкину.
— Поскольку вопрос обращен к художнику, то, думаю, его следует понимать не буквально. Люди ходят, ничего не подозревая, по лесу, полю, площади, прокладывают любимые тропинки, а где-то в мастерской художника, архитектора уже набрасываются эскизы дома, вокзала, дворца. Может, отсюда идет высокая ответственность архитектора, художника-монументалиста. Сомнения и страх, колебания, переделки, десятки новых эскизов. Графический проект, объемный макет — и снова поправки и новые варианты. В самом деле, ведь зданию стоять десятилетия, может быть, века, а монументальное панно, скажем, «не снимешь» со стены, как рисунок или гравюру. И вот, когда все сомнения позади, а твой проект в камне, стекле, бетоне, гипсе, в металле, смальте и красках стал поперек «любимой тропинки» человека, когда уже изменить ничего нельзя (шутка ли, 26 метров высоты, гектары площади того же Тобольского вокзала стали на пути), именно тогда авторы держат главный экзамен. Удалось ли увлечь людей своим замыслом, запечатлеть время, эпоху, заинтересовать прошлым, достичь убедительности, сконцентрировать внимание на главном? Одним словом, принимает ли зритель — в данном случае житель Тобольска, строитель дороги, нефтяник, командировочный — твою работу?
Но я так и не ответил на ваш вопрос. «Первый камень» в основание Тобольского вокзала лег в 1969 году. Впрочем, если считать ab ovо («от яйца»), то правильней будет назвать начало шестидесятых годов. Тогда я ездил по трассе Абакан — Тайшет по заданию ЦК ВЛКСМ. Та комсомольско-молодежная стройка — старшая сестра нынешней дороги Тюмень — Нижневартовск. Кстати, многие строители, закончив Абакан — Тайшет, перебрались в Западную Сибирь, где все начали «с нуля». Так вот в Тайшете я познакомился с новосибирским архитектором Владимиром Авксентюком. Будучи архитектором, он страстно увлекался живописью, графикой. Я, наоборот, работая как график, тяготел к монументальным, крупноформатным рисункам, измеряемым метрами. Впрочем, я стараюсь и графические работы делать таким образом, чтобы они без «перестройки» могли вписаться в архитектурный комплекс. Общие художественные вкусы, ну и, конечно, молодость, громадная молодежная стройка — все это сблизило нас. Тогда же мы впервые заговорили о совместной работе. Однако разговоры так и остались разговорами. И вот в 69-м, когда я работал над большим керамическим циклом убранства Дворца культуры завода имени Чкалова в Новосибирске, Владимир «атаковал» меня Тобольским вокзалом.
Соответственно, особых усилий со стороны моего товарища не потребовалось: я сразу же согласился работать над проектом. Понимаете, это ведь не кафе или кинотеатр, которых могут быть в городе десятки. Вокзал — ворота, лицо города. Для художника это очень важно, почетно, ответственно — запечатлеть свое понимание века в монументальном сооружении такого масштаба. Ну, как то самое дерево, посадив которое, по выражению древних, можно считать свою миссию на земле выполненной.
— Герман Вячеславович, судя по отзывам тобольчан, ваш белокаменный вокзал «принят». Однако каждое произведение искусства, его «сверхзадача» понимаемы неоднозначно. Проще говоря, сколько людей, столько и мнений: каждый элемент, каждая фреска, рельеф, композиция трактуются человеком в зависимости от его художественных пристрастий, степени воображения, характера, возраста, даже рода деятельности. Причем эта трактовка не всегда совпадает с художническим замыслом. Может быть, поэтому людям всегда интересно знать, что хотел выразить, сказать художник своим произведением. Под картиной зрители всегда ищут ее название прежде чем слушать музыкальное сочинение, хотят знать, как озаглавил его автор, — стихотворение с тремя звездочками над ним у некоторых вызывает досаду. Итак, ваше «заглавие»?
— Пересказывать симфонию либо стихотворение — задача, на мой взгляд, неблагодарная, да и не нужная: у искусства свой язык, своя логика, отличная от языка, скажем, четких формул, аксиом и доказательств науки. Тем не менее, если бы нас с Владимиром Авксентюком попросили «озаглавить» свой проект, в самом общем виде это звучало бы так: от прошлого — к настоящему — в будущее.
Попытаюсь высказаться яснее. Человек едет сквозь тайгу. Блеклые краски, унылая серая картина — болота, перелески. Но вот поезд подошел к Иртышу Высокий противоположный берег сплошь покрыт свечками сосен, уступами, уходящими вверх. Лес занимает весь горизонт, и лишь слева, на самой круче, — белое двухступенчатое (собор и колокольня) пятно.
Вот уже мост остался позади, снова тайга, и вдруг человек видит ту же картину: белые пилястры высотной части вокзала прорезаны вертикальными линиями стекла, под ступенчатым козырьком расположилась тоже белая, но протяженная часть здания. А позади все те же сосны взбегают к небу.
На снимке вверху идет монтаж вокзальных часов. Внизу: фрагмент оформления часов — «Рыбы».
По мере приближения пилястры и окна, как мехи гармошки, сжимаются, и вот уже на торце высотной части вы видите герб Тобольска. Поскольку герб — визитная карточка города, скульптурное изображение старого герба, утвержденного еще Екатериной, имеет новое обрамление. Над гербом три нефтяных вышки, в которых «заплутался» хозяин тайги — медведь. Справа и слева — свечи елок. На одной — белка, на другой — соболь. Внизу — три всадника с пиками, символизирующие дружину Ермака. Поднявшись на несколько ступеней — три золотых козырька над головой повторяют зубчатую линию сбегающих от вершины елочных «этажей», — вы попадаете в просторный беломраморный зал. Левая стена — букет цвета. Вы еще не видите, что там изображено, но невольно улыбаетесь: после мрачной тайги ярким краскам улыбаешься просто так, беспричинно. Подойдя ближе, замечаете детали мозаичной композиции. Три руки как бы преподносят вам дары тобольской земли. Колба — символ большой химии, завтрашнего Дня Тобольска, колос — сибирский хлеб, рыба — богатство рек. Все вещи орнаментальны, панно воспринимается как большой яркий ковер, что, по нашему замыслу, должно придать всему залу теплоту, домашность. И в то же время части композиции предметны, их условность призвана познакомить с настоящим и будущим тобольского края.
Скромная строгая лестница ведет вниз, в кассовый зал, для отделки которого применен серый мрамор. Большой проем позволяет как бы увеличить высоту «серого» зала, наполнить его воздухом и светом. Выйдя из нижнего зала, вы попадаете на площадь; за площадью тайга, где скоро вырастут производственные и жилые корпуса комбината по переработке нефти. Главный элемент художественного оформления здания со стороны площади — часы на торцевой стене высотной части. Такое решение естественно: попав на привокзальную площадь, человек прежде всего ищет часы. Циферблат представляет собой солнце, обрамленное знаками зодиака. Причем «Весы» — две чашки на коромысле — как бы «уравновешивают» день и ночь.
Человек, покидающий город, следует, как я себе представляю, таким маршрутом: выйдя из автобуса на привокзальной площади, первый взгляд бросает на часы — что сейчас делают товарищи там на буровой или на комбинате? Сколько времени до поезда? Когда буду в Москве, Ленинграде, Киеве? Когда вернусь назад, чашка весов «ночь» значительно «перетянет» чашку «день». И так далее… Затем отъезжающий, поднявшись на несколько ступенек — учтена торжественность в этом подъеме, приподнятость, значительность момента: не каждый день уезжать приходится! — попадает в кассовый зал. Билет взят, лестница выводит наверх. Ковер-панно приковывает взгляд: нефть, колос, рыба, тайга — это жизнь, пусть трудная, но с которой не можешь расстаться так просто. «Что делают сейчас товарищи буровики? Комары, небось, заедают? А я сяду в поезд, до свидания — еду к Черному морю. Ни морозов, ни комаров. Только знаю, через неделю потянет назад…»
— Вы так живо описали размышления пассажира, что хочется сейчас же купить билет и ехагь в Тобольск…
— Картинки, «проигранные» сейчас, — результат коллективного творчества, поэтому, наверно, и убедительны. Прежде чем проект был утвержден, мы советовались и с коренными сибиряками и с молодежью, приехавшей строить трассу железной дороги Тюмень — Нижневартовск, добывать нефть, лес, рыбу. Нам не давали рецептов, как оформлять вокзал, какие элементы графики, скульптуры, мозаики использовать. Высказывались «идеи», которые предстояло воплотить в художественные образы, перевести на язьж знаков. Так что все мною рассказанное не случайно выдумано, а найдено закономерно.
Новый вокзал Тобольска.
— Кстати, Герман Вячеславович, вы упомянули комаров. Эти «двухмоторные», как их в шутку называют на трассе, насекомые тоже включены в скульптурную композицию. Соединимы ли символы огромного человеческого труда, монументальная скульптура и какие-то мошки?
— Мне кажется, «двухмоторные» комары органично вписались в архитектуру здания. С одной стороны, комар в обрамлении герба — это шутка художника, ставящая целью вызвать добрую улыбку. Но комар и строго функционален в нашем замысле. Это насекомое — неизменный спутник первопроходца, такой же символ романтики, как палатка и первый колышек. Строго говоря, комар олицетворяет экологическое равновесие, которое нарушается с приходом человека в тайгу. Есть комар — значит воздух чист, не загрязнен промышленными выбросами. Нет комара — загрязняется окружающая природа, птицы и животные покидают тайгу. «Берегите природу», — говорит наш комар. Конечно, были и возражения, когда принимался наш проект.
— И вы и архитектор, по-видимому, «вздохнули» спокойно лишь в тот момент, когда здание приняла Государственная комиссия?
— Видите ли, работа художника-монументалиста не заканчивается выдачей проекта. Подобно скульптору, надо обладать и физической силой и выносливостью, знать штукатурные работы и сварочное дело. По существу, при сооружении вокзала я был не наблюдателем и консультантом, а исполнителем, квалифицированным рабочим. Сам набрасывал цемент на металлические каркасы рельефа, сам сваривал эти каркасы. Лепил нужные формы, резал. У художников нашего профиля мозоли не от карандаша. Конечно, у меня были десятки замечательных помощников, прежде всего Герой Социалистического Труда, бригадир комплексной бригады Иван Мариненков, штукатуры и сварщики его бригады. Легко и приятно было работать с начальником головного ремонтно-строительного поезда Михаилом Матвеевичем Бородановым. Партийные, комсомольские работники Тобольска и области помогали нам быстро решать хозяйственные и снабженческие недоразумения. Я уж не говорю о героизме строителей, которые, вынув верхний слой грунта, забивали сваи в скальные, глубинные породы, насыпали новое основание под будущий вокзал. Так что Тобольский вокзал «из тьмы лесов, из топи блат» вознесся в полном смысле этих слов.
— Герман Вячеславович, Тобольский вокзал не первая ваша самостоятельная работа. Можно вспомнить мозаичное панно для здания посольства Монголии в Москве, керамический цикл убранства Дворца культуры завода имени Чкалова в Новосибирске, фрески, цветные рельефы, композиции, росписи для «Дороги Коперника» в Польше. Можно назвать журнальные работы и книги ваших гравюр и рисунков, например, московский цикл. Однако, судя по высокому слогу, которым вы заговорили о Тобольском вокзале, — это ваше любимое и самое дорогое создание?
— Пожалуй, так оно и есть. Я ни от одной своей прежней работы не отказываюсь: пусть они несовершенны, но это мое, мои долгие раздумья, мои наблюдения, мое видение времени, людей, поступательного движения страны, становления молодых характеров. В этом смыс\е Тобольский вокзал не является исключением. В то же время при сооружении этого здания я был режиссером от начала до конца. Понимаете, это как фильм делать: если раньше мне поручали отснять одну сцену (мозаичное панно, например, для посольства), то в данном случае я «снимал картину» от начала до конца. Сверхзадача, о которой вы спрашивали вначале, была намечена мной, разумеется, в содружестве с архитектором. Но с ним мы, как «Весы» на нашем циферблате, «уравновешиваем» друг друга. Чувствовать себя режиссером большое счастье, потому, видно, и вокзал — любимое дитя.
— А что впереди? Хотелось бы вам вести и дальше работы в Тюменской области?
— На новой трассе, на молодежной стройке работать всегда интересно. Новое дело, трудности, которые приходится преодолевать строителям, закаляют молодежь. Люди тут раньше взрослеют, характеры раскрываются ярче — не зевай, художник! Я до отказа «набил» блокноты на Всесоюзных ударных — на строительстве Нурекской ГЭС, на Абакан — Тайшете. А когда готовил проект Тобольского вокзала, да и во время сооружения, не раз бывал на трассе Тюмень — Нижневартовск. Разумеется, с блокнотом. Так появились десятки рисунков, гравюры, посвященные Севсибу. Дорога — главная артерия, дающая кровь, жизнь таежному краю. К тому же дорога — примета современной жизни, стремительно набирающей скорость. Свисток, поезд тронулся, мчит на Север новую партию первопроходцев. Короткая остановка у вокзала таежной станции — и снова в путь. Снова вокзал и снова дорога. Вокзалы— как знаки, указывающие путь вперед. И если язык этих знаков придуман мной, если он понятен другим, о чем же еще может мечтать художник? Ну, представьте себе, художник или архитектор построил улицу, какую-то часть города, целый город по своему замыслу. Это, конечно, здорово. А вот тысячекилометровый ансамбль— это просто грандиозно. Сейчас я работаю над проектами двух вокзалов для трассы Тюмень — Нижневартовск. Не хочу называть станции — проекты еще не утверждены, а мы, художники, суеверны. Если получится, будем опять с Володей Авксентюком расставлять большие таежные знаки.
Беседу вел Марк ГРИГОРЬЕВ
Анатолий Крым Карнавал
Вверху: Лесь Танюк.
Фото А КАРЗАНОВА.
Занавеса, естественно, не было, и я стал рассматривать декорации спектакля. Стилизованный, причудливо изогнутый свиток — нечто вроде старинной карты. Изгиб Сены, Дом Инвалидов, Нотр-Дам, Триумфальная арка. Кареты рядом с допотопными автомобилями. Арлекины, клоуны, купола шапито. Пожалуй, это ближе не к Людовику XIV, а к сиренево-фиолетовому Парижу Рембо и Аполлинера, к Парижу мон-мартрской богемы. Свиток скреплен гигантскими сургучными печатями — портретами Мольера и Станиславского. Почему? Потому что Мольер поставлен в театре, носящем имя Станиславского? Или театр заявляет о своей попытке совместить столь несхожие меж собой театральные установки этих двух мастеров? Не потому ли так бросается в глаза висящий между этими портретами девиз шекспировского «Глобуса» — «Totus mundus agit histrionem» («Весь мир играет комедию»).
На сцену вышел актер. Всмотревшись в зал, он поднял жезл и трижды ударил им о пол сцены. Представление «Мюзикл «Мсье де Пурсоньяк» Леся Танюка по мотивам одноименной комедии Мольера» началось.
Парад актеров. Клятва. Торжественно-ироническое обращение к портретам великих и… смех в зале, когда Мольер и Станиславский пропели в микрофон (помилуйте!) основные заветы своей театральной эстетики! И начался откровенный, многокрасочный балаган! Что это? Акробатика! Кульбиты! Подножки! И уже через десять оглушительных минут этого буйства красок, праздника острот, неожиданных находок и решений я не удивлялся тому, что появившийся на сцене Пурсоньяк возмущенно поет арию о том, что «от Жана Батиста Мольера остались рожки да ножки».
Но стихия карнавального представления увлекает, действие стремительно несется к антракту, буффонада перемежается пронзительной лирикой — актеры сегодня в ударе, — и зал возбуждается, накаляются страсти. Равнодушных нет — немало зрителей (в основном люди постарше) реагируют отрицательно. Пожалуй, только одного Георгия Буркова в роли одноглазого Оронта принимают без исключения все: он предельно органичен, изобретателен — красочная, яркая, впечатляющая работа! Думаю, ни одна его роль в кино (помните его в фильмах В. Шукшина?) не может сравниться с тем успехом, который Бурков имеет в «Мсье де Пурсоньяке».
Антракт наступает неожиданно, в зал взрывается аплодисментами. Я остаюсь на месте и размышляю…
Да, пожалуй, рецензенты правы: в спектакле слишком виден режиссер. Впрочем, я давно слежу за постановками Леся Танюка, — он никогда не растворялся в них. «Пурсоньяк» логически продолжает «Сказки Пушкина», уже восьмой год идущие на сцене Центрального детского театра и объездившие полмира. Постановочно остро были решены «Гусиное перо» в том же театре и «Вдова полковника» Юхана Смуула с Верой Марецкой в главной роли на сцене Академического театра имени Моссовета. А совсем недавно я видел поставленный им в Саратовском драматическом театре имени К. Маркса «Старый новый год» М. Рощина. Это тоже сделано в приеме «театра в театре» — с обилием музыки, куплетов, движения…
Я лично с ним не встречался, но те, кто знал его поближе, рассказывали: кино не любит, предельно музыкален, сам когда-то танцевал, был актером, пишет. Пристрастен к живописи. Актеры его побаиваются и любят. Оля Великанова, новый в театре Станиславского человек, ассистент режиссера, переспрашивает: «Танюк? О, это наш Сулержицкий!» Я слышал и другие мнения, но все сходятся на одном: человек духовно щедрый, очень терпеливый, с душой, открытой недругу и другу, всегда готовый прийти на помощь. Вокруг него, как правило, много людей — молодые драматурги, актеры, люди искусства и люди профессий, совершенно не стыкующихся с театральными. В Киеве двадцатидвухлетним студентом театрального института он был президентом Клуба творческой молодежи при ЦК ЛКСМУ.
Все это укладывалось у меня в образ человека очень общительного, веселого, как и его спектакли, неугомонного выдумщика и затейника. Позже меня познакомили с ним, и все оказалось иным. Невысокого роста, немногословен, даже мрачноват. Почти не смеется, тем более громко; улыбаются только глаза с лукавинкой. Ирония скрыта где-то в глубине его «я». Любит расспрашивать, а не рассказывать — тем более странно, ведь профессия режиссера «говорящая». И только потом, когда мы познакомились с ним поближе, я понял, насколько неожиданными оказываются разговоры с ним. Он мыслит парадоксально; неистовый проповедник уживается в нем с театральным мистификатором; дар убеждения изменяет ему очень редко. Спорить с ним трудно, его аргументы логически безукоризненны и эмоционально окрашены добротой — пожалуй, это самая главная черта Леся Танюка. Во всем этом я разобрался гораздо позже. Тогда же, в антракте «Пурсоньяка» я думал о том, ради чего же истрачено столько мегатонн энергии, каков же смысл всей этой шумно-карнавальной истории? И, признаться, не находил ответа.
Во втором акте театральная концепция спектакля властно заявила с себе. Традиционный мольеровский «Пурсоньяк», попав из XVII века в XX, подвергается преследованию «новых молодых». Он, утверждающий свое право все покупать и продавать, вызывает их ненависть. Они убеждены в том,
Что если мир фальшив и лжив И не погиб при этом, То, значит, он не этим жив, А совестью и светом! И значит, с каждым днем острей В нем зреют перемены. И Пурсоньякам всех мастей Пора уйти со сцены.Но, входя в раж, они теряют всякое чувство меры; и когда уже над поверженным Пурсоньяком они продолжают править свою жестокую тризну, я начал ощущать не только смутное недовольство ими, но и стал сочувствовать Пурсоньяку (заслуженный артист РСФСР Л. Сатановский), давно отказавшемуся от своих притязаний. Спектакль завершается грустной песпей Пурсоньяка, снимающего с себя шутовской колпак:
Шут смешит — король на троне мается, В карнавале все наоборот. За колпак король с шутом сражается, И манеж покажет, чья возьмет…Откуда эта неожиданная грустная нота в веселом празднике, в карнавале? В карнавале действительно все наоборот: шуты не раз были королями мысли, а короли — шутами трагедий. Вот почему я испытал удовлетворение, когда Пурсоньяк предложил свой колпак молодым. Он спел:
У меня приятное предчувствие, Что найдет хозяина колпак — Ведь из тех, кто громче всех здесь буйствовал, Может выйти новый Пурсоньяк.Круг замкнулся. Всякая идея, доведенная до крайности, может обратиться в свою противоположность. Эстетика карнавала перерастает в его философию. Мольер, прочитанный сегодня таким образом, диалектичен и современен.
Многие режиссеры любят репетировать на людях; Танюк неохотно пускает на свои репетиции. Я тихо сидел в темном зале, он выпускал очередную премьеру, п мне почему-то захотелось сравнить его работу с работой ювелира. Актеры — Р. Быкова и Ю. Гребенщиков — понимали его с полуслова; атмосфера была полна хрупкой тайны и доверчивости. Я убеждался, что репетиционный период для него важнее результата, наверное, поэтому на выпуск каждого спектакля уходит почти год. Танюк — и это не слова, я был свидетелем этому — не репетирует с актером, он познает его, незаметно формируя не столько роль, сколько душу человека. От репетиции к репетиции его актеры все глубже и глубже вовлекаются в сотворчество; они перестают быть только исполнителями. Принцип: «Не согласен — возражай! Возражаешь — предлагай! Предлагаешь — сделай!» — помогает не только становлению сценического образа, но и формирует личность. Актеры, со своей стороны, считают, что, работая с Танюком, надо много хотеть и мочь, поэтому они любят играть в его спектаклях.
Откуда такая мера самоотдачи? Драматург принес пьесу — Танюк откладывает все дела, читает, правит, редактирует ее даже в тех случаях, когда не собирается ставить. Актера ввели на роль в старый спектакль, поставленный не им, — Танюк обязательно придет смотреть, даст совет. Внеплановые репетиции, самостоятельные актерские работы — его хватает на все. Надо очень любить свое дело, чтобы вот так безотказно отдаваться ему.
У меня в руках только что вышедшая книга Леся Танюка «Марьян Крушельницкий». Это монография о его учителе, замечательном украинском актере и режиссере. Он начинает ее так:
«По профессии я режиссер, а не писатель. Мне было трудно писать эту книгу. Но каждый из нас перед кем-нибудь в неоплатном долгу. Марьяну Михайловичу Крушельницкому я стольким обязан, что эта книга не могла не появиться…»
В неоплатном долгу… И не нужно искать замысловатых определений его характера, понимать кажущуюся двойственность, иронию — над всем этим возвышается то естественное и несколько подзабытое: доброта. Доброта человеческая, не книжная, вычитанная из христианских заповедей, — доброта действия, обусловленная каждой минутой его жизни!
Жизнь формировала его сложно, шел он в театр трудно, спотыкаясь и падая, но пришел. В театральный институт поступал четыре раза и только на четвертый выдержал все испытания. Почему? Причин тому, наверное, много, но главная из них — стремление делать все «сверх программы».
Один из преподавателей Киевского театрального института так рассказывал об этом:
— Мы о чем-то говорили у стола, секретарь перебирала бумаги. Потом вызвала: «Танюк!» Вошел худенький мальчик с воспаленным взглядом, посмотрел на каждого из членов комиссии, затем повернулся к выключателю и включил свет. Было и впрямь пасмурно, и от яркого света люстры мы все вздрогнули. Не успел Семен Михайлович, директор института (он вел второй тур), сказать полслова, как этот мальчик сделал эдакий повелительный, прямо королевский жест и заявил: «Садитесь, я вам рад». Кое-кто нерешительно сел. Директор, наоборот, приподнялся, пытаясь что-то спросить, но Танюк небрежным кивком головы остановил его и величественно успокоил:
…Откиньте всякий страх. Вы можете держать себя свободно — Я разрешаю вам…Недоумение достигло кульминации — мы не сообразили, в чем дело, — а Танюк, подойдя поближе к столу, объяснил:
Вы знаете, на днях Я королем был избран всенародно… Как вам моя понравилась столица? Вы из далеких стран?..После стихотворения Апухтина «Сумасшедший» Танюк читал еше прозу и басню, но раздраженный Семен Михайлович его отвел. Оно, может, и к лучшему, что он тогда не поступил — все-таки на заводе поработал, техникум театральный окончил, актером был, а потом к Крушельницкому на курс поступил тоже, впрочем, не без приключений. Очень уж из него «всякая драка так и лезла»!
Первый разговор Марьяна Михайловича со своими учениками был о профессии режиссера:
— Я не могу никого из вас научить быть актером или режиссером. — говорил он. — Это или уже есть в вас, или вы ошиблись, придя сюда.
Танюк не ошибся. И Крушельницкий не ошибся в нем. На курсе у него училось тринадцать человек — он выпустил только троих. Уже первые экспериментальные постановки Танюка на Украине заставили говорить о нем. Он организовал при Клубе творческой молодежи театральную студию, в которой поставил «Матушку Кураж» Б. Брехта, «Нож в солнце» И, Драча и Л. Танюка, «Патетическую сонату», «Маклену Грассу» и «Так погиб Гуска» М. Кулиша — спектакли разных жанров, разных стилей. Их объединяло только то, что все они были экспериментальны.
Следующей ступенькой становления была работы в театрах Львова, Одессы, Харькова. Некоторые из них не увидели света рампы — яркость режиссерско-ю решения шокировала, необычность раздражала, а сам режиссер не хотел идти ни на какие уступки. В традициях старинного бродячего украинского театра был поставлен еще в 1964 году в Одессе «Шельменко-денщик» Квитки-Основьяненко: студенты-бурсаки выходили на сцену со своим нехитрым скарбом, бросали в шапку бумажки, гадая, кому какая роль попадет, и начинали спектакль. Поскольку женщин в бурсе не было, женские роли исполнялись бурсаками помоложе, как в елизаветинскую эпоху.
Впрочем, многие элементы этого спектакля Танюк впоследствии воплотил в «Сказках Пушкина» в Центральном Детском театре, с той лишь разницей, что здесь сюжет решался через приемы театра скоморохов
«Сказки Пушкина» были одним из первых спектаклей молодого режиссера на московской сцене. В день, когда я его смотрел, спектакль шел уже седьмой год и актеры праздновали трехсотое представление. Танюк был хмур и собран.
— За спектаклем нужно ухаживать, как за ребенком, — сказал он мне после всего, — иначе они его разнесут в клочья. Слава богу, тут почти все на музыку положено — это для драматического актера хороший сдерживающий момент. Но править все равно надо.
— После семи-то лет? Сейчас?!
— Именно сейчас. Слышите?
Я прислушался к гаму ребячьих голосов*
— Коль, а почему море сзади, а рыбка в полотенцах купается?
— Чудачка! Полотенце — это же и есть море.
— Я тоже так сперва думала, а когда свет погас, так вроде сзади волны пошли.
— …Придется менять, — сказал Танюк.
— Что менять?
— Прием. Нельзя, чтобы дети чего-то не понимали. Девочка верно ощутила накладку электрика: она приняла таинственный свет на заднике за море. Значит, этот свет лишний, надо снять. Ведь море решается условно — движением полотенец.
Придя домой, я раскрыл томик Пушкина. И как же я был рад, когда еще раз удостоверился, что Танюк инсценировал и поставил «Сказки», не выбросив ни одной пушкинской строки! Он не пытался, как справедливо отмечали критики, «говорить за Пушкина», он просто поставил «Сказки», переложил их на язык сцены!
Десять лет работы в Москве, десять лет неустанного поиска, десять лет строительства собственного театра.
Он не любит говорить о своих планах. Его театр — это нечто вроде проектного института или академии театра с разветвленным стволом задач и установок. Спектакли, социологические исследования зрителя, лабораторный тренаж, биоизучение актера, разработка новой методики режиссуры и многое другое. Он задумал в этом своем будущем театре несколько циклов спектаклей, цель которых — провести зрителя в течение 10–15 лет по курсу истории мирового театра. Из каждой эпохи (Египет, Эллада, Древний Рим, Средневековье, Ренессанс, Просвещение и т. д.) выбрана одна, самая характерная пьеса. Таким образом. актеры познают множественность стилей и методов театра, совершенствуют и систематизируют свою технику, а зрители воспитают в себе комплексное понимание театра.
Такое возможно только в театре студийного типа, в театре единомышленников, и он уверенно создает их. Воспитывает. Формирует. Учит и учится у них.
На вечере памяти А. Дейча в Центральном доме литераторов я услышал, как Танюк читает на немецком «Диспут» Гейне. Я был удивлен еще больше, когда узнал, что он переводил Аполлинера и Рильке, Гордона Крэга и Антуана, что на Украине у него вышел сборник лирических стихов «Исповедь», многие из которых переведены на другие языки, — но теперь я этому не удивляюсь. Именно таким он и должен быть — разносторонним, многозначным и в то же время удивительно целостным в своем мировосприятии, в своей самоотдаче, в своем общении с миром.
Я всматривался в оживленные лица зрителей, отметивших на «Пурсоньяке» праздник воссоединения друг с другом, а начинал понимать почему — карнавал!
Карнавал («Обнимитесь, миллионы!») объединяет умы и чувства. Карнавал как его понимает режиссер Лесь Танюк, — это всегда действенность, всегда жизнь, к которой относишься преобразовательно.
Н. Школьникова Двое из Дубны
Вверху: вот они — водные лыжи
Внизу: Юрий (слева) и Валерий Нехаевские «снаряжают» своего ученика перед тренировкой.
Фото А КАРЗАНОВА.
Уже много лет я знаю братьев-близнецов Нехаевских, тренеров по воднолыжному спорту, и все еще попадаю впросак.
Прошлым летом на чемпионате страны в Риге сидим с одним из братьев на шатком судейском плотике, наблюдаем за стартующими, говорим о том о сем. И я спрашиваю:
— Что ж ваша жена не приехала?
Не сомневаюсь — Юрий передо мной, жена его Ирина Ильина — известная воднолыжница. А в ответ слышу:
— Я не женат.
Вот тебе раз! Валерий, значит…
— Извините, — говорю. — И, чтобы как-то устранить возникшую неловкость, добавляю: — Вы так похожи, наверное, в детстве любили мистификация-Ми заниматься?
— Подобные глупости нас никогда не интересовали, — серьезно отвечает он.
Оба они серьезны до чрезвычайности. А уж в деле, которым занимаются!..
Водные лыжи в наши дни стали, если хотите, неким знаком моды. Скользит по экранам телевизоров гибкая фигурка воднолыжника, шлейф брызг за спиной — красиво, современно!
Молодые люди на курортах особым шиком почитают пронестись мимо пляжа, выписывая круги за быстро идущим катером. Чуть не каждая уважающая себя база отдыха стремится обзавестись этим новшеством — водными лыжами. И урчит целый день катер, и выстраивается на берегу очередь…
И действительно, водные лыжи дарят острые и радостные ощущения, даже когда ты просто скользишь на двух лыжах за катером. А ведь есть еще воднолыжный спорт, который столь же отличается от простого скольжения, как катание с подмосковных гор где-нибудь в Подрезкове или в Туристе от горнолыжных трасс на склонах Чегета.
Наш воднолыжный спорт еще очень молод. Ему лишь чуть больше десятка лет. Он все еще полупризнанный, полуразвлекательный. За все эти годы международные встречи наших воднолыжников можно по пальцам пересчитать.
А для Нехаевских этот спорт — всерьез, дело жизни. В свое время они оставили работу в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, ушли с третьего курса заочного технического вуза, поступили в институт физкультуры. Среди воспитанников братьев Нехаевских — мастера спорта, чемпионы Союза. Но им этого мало. Они подумывают о вершинах, которые головокружительно высоки.
Есть такая американка Лиз Аллан. Много лет подряд она — чемпионка мира. Женственная, хрупкая, а прыгает с трамплина на 35 метров. Давно ли наши мужчины перекрыли этот результат? А американец Майкл Сайдерхауз, абсолютный чемпион мира, улетает с трамплина на 52 метра!
Удивляться тут нечему. В США водные лыжи — национальный вид спорта. Около восьми миллионов семей занимаются в Штатах водными лыжами. Мы же, в сущности, едва начали. Нашим воднолыжникам и быстроходных катеров не хватает, и хороших лыж, и эластичных фалов, информации, и той недостает. И братья Нехаевские полны решимости найти путь к вершинам мастерства.
Представьте себе воднолыжника, под углом заходящего на трамплин. Больше угол — больше скорость, дальше полет. Но со скоростью надо уметь справиться, а то и мимо трамплина прокатишься. А ювелирные почти движения в фигурном катании на лыжах, разнообразные повороты, прыжки с волны. На секунду потеряешь равновесие — искупаешься. Да и в слаломе закрутишь лихо поворот, чуть больше к волне склонишься — не миновать падения.
Наши воднолыжники осваивают рациональность движений на опыте, руководствуясь часто самыми общими представлениями о технике. Нехаевские ищут научную основу. Их небольшая квартира, глядящая окнами в заволжскую даль, вся забита аппаратурой. В бесчисленных графиках, которые они составляют, — анализ параметров движения лыжника. Братья уже имеют 12 авторских свидетельств.
Но когда однажды я спросила Нехаевских, почему бы им не написать книгу о методике тренировки воднолыжника, они сказали, что не могут себе позволить широко рекомендовать свои выкладки, пока сами не выверят все окончательно.
А теперь вообразите: водные лыжи… в бассейне. Вместо катера установка, наматывающая буксировочный трос с различной, заметьте, скоростью. Две-три минуты лыжнику достаточно, чтобы выполнить тот или иной элемент фигурного катания. А низенький, едва возвышающийся над водой трамплин прекрасно заменяет волну катера. Братья Нехаевские первые додумались столь хитроумным и приятным способом продлить воднолыжный сезон на весь год. Но они понимают, что никакая наука, никакие эксперименты, не принесут им успех, если не будут побеждать их ученики.
Галина Литвинова уже в 1967 году стала абсолютной чемпионкой страны. Характер у Гали сложный, и жизненные обстоятельства подчас так складывались, что не до водных лыж было. А однажды заявила она Нехаевским: «Не для меня это прыжки с трамплина, ничего большего тут я не смогу». А через год одной из первых в стране выполнила в прыжках норму мастера спорта международного класса, результат ее был недалеко от рекорда Европы.
Как удалось ее на это подвигнуть? Не могу представить, чтобы кто-то из братьев мог уговаривать спортсмена, что-то ему спускать, в чем-то потрафлять, как то иногда бывает. Нет, они всегда сдержанны, похвала не часто срывается с их уст. Рассказывают, что лет пять-шесть назад ту же Литвинову Нехаевские не включили в сборную команду, не пустили на какие-то очень важные состязания за сравнительно мелкое нарушение спортивного режима, за которое другие тренеры пожурили бы разве.
А в 1972 году на чемпионате страны в Ижевске снимет Литвинова свою медаль абсолютной чемпионки, всенародно отдаст ее Валерию Нехаевскому и скажет:
— По заслугам — его это медаль, не моя.
Время, когда в воднолыжном спорте вольготно жилось великовозрастным дядям, приезжавшим на соревнования отдохнуть и немножко «покататься», уходит. Их теснит молодежь — с каждым годом этот вид спорта становится все более сложным и серьезным делом, в котором таким серьезным людям, как Нехаевские, самое место.
У них словно одна судьба на двоих. Они всегда рядом, выбирают одни и те же пути, делят пополам и трудности и радости. Невозможно о них рассказать по отдельности. Хотя у каждого, конечно, своя индивидуальность, свои вкусы, пристрастия, достижения. Юрий, например, стал уже заслуженным тренером РСФСР, Валерий еще только ждет этого. Но при всем этом их жизни так переплетены, духовное родство в чем-то изначальном так велико, что, кажется, одна личность продолжается в другой.
И эта внутренняя гармония поражает куда больше, чем их удивительное внешнее сходство.
То, что надо!
Первого апреля 1974 года эта к фраза была самой популярной в Одессе. Ее повторяли, глядя на расклеенные по городу афиши с лихим морячком, сунувшим голову в спасательный круг; ее выкрикивали сквозь грохот старых автомобилей, совершающих автопробег по одесским улицам на приз Антилопы-Гну; ее шептали друг другу в зале филармонии во время выступления популярных комедийных актеров; ее скандировали в рядах карнавального шествия, катившегося вдоль по Дерибасовской… «То, что надо!» — по какому бы поводу ни звучала эта фраза, радость и одобрение, в ней заключенные, относились к традиционному общегородскому Дню смеха «Юморина-74».
А теперь все по порядку.
Юмористические страсти подогревались в городе задолго до праздника. Этим занималась газета «Вечерняя Одесса» через свой отдел сатиры и юмора под названием «Антилопа-Гну». Город с удовольствием подогревался. Благодаря газете накануне праздника все всё знали — когда куда надо бежать, где что смотреть… Но стоило празднику начаться, как посыпались сюрпризы и неожиданности. И не столько по причине организационных неполадок, сколько вследствие активной импровизации участников праздника. Кто бы мог подумать, что машина «Аэро» модели 1927 года явится к старту автопробега без мотора и к финишу ее придется буксировать с помощью веревки и добровольцев-мотоциклистов? Кто мог предвидеть, что на борту городского троллейбуса № 383, курсирующего по первому маршруту, в этот день будет вывешен призыв к встречным трамваям: «Не ищи новых путей — сойдешь с рельсов»?.. Мог ли кто предполагать, что былинные богатыри из праздничной колонны строительного института вместо могучих ремней перепояшутся… сардельками?.. Ну, а кто, скажите, догадался, что команда КВН Одесского университета задаст своим соперникам вопрос: «Что бы вы сделали, если бы, проснувшись утром 1 апреля и глянув в зеркало, обнаружили, что похожи на картину В. И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком», — а? И уж никто никогда не сообразил бы, что на него следует ответить так: «Повесился бы в Третьяковской галерее»… Команда Института инженеров морского ф\ота не сообразила и проиграла финал. И, наконец, кто мог взять на себя ответственность накануне «Юморины-74» ручаться, что праздник удастся?..
Фото В. АРСИРИЯ.
А праздник удался!
Автопробег машин древних марок, с которого начался День смеха, задал тон всему празднику. Старые драндулеты, украшенные юмористическими лозунгами, расцвеченные смешными рисунками, неслись через весь город со средней скоростью 6,5 километра в неделю (подсчитано газетой «Вечерняя Одесса»). Их капоты, борта, ветровые стекла и багажники были украшены темпераментными призывами от классического «Эх, прокачу!» до ультрасовременного «Ну, погоди!». Казалось, в каждом из авто за рулем сидит достопочтенный Адам Козлевич, а рядом на потертом сиденье — вдохновитель автопробега сам О. Бендер.
Старт автопробега задерживается. Машина «Аэро». ведомая художником Генрихом Намиотом, не может пробиться сквозь толпу любопытных одесситов.
На странице 106 вы видите фрагменты карнавального шествия.
Но что самое, казалось, невероятное — эти два почитателя Уголовного кодекса пробрались в желто-синюю милицейскую «Волгу», возглавляющую автопробег. Ведь ничем другим нельзя объяснить, почему вместо сухих инструкций касательно перехода улиц в положенных местах из рупоров милицейской машины неслись непривычные для этих рупоров слова: «Лучший день недели — первое апреля!», «Смех без причины — признак «Юморины»!», «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!» и так далее
Я ехал в допотопной «эмке» и вглядывался в лица одесситов, высыпавших на улицу посмотреть на странную процессию. Среди них почти не было обескураженных, недоумевающих, мол, «Что за чертовщина посреди белого дня?..» Эта готовность к юмору, к восприятию странного, неожиданного, выходящего за рамки повседневности, — одна из самых прекрасных человеческих черт. И если День смеха поддерживает в человеке эту способность, у кого она есть, воспитывает ее у тех, у кого с юмором не все в порядке, да здравствует этот день! Спасательный круг, который держит одесский морячок с эмблемы «Юморины», символизирует чувство юмора. Морячок готов бросить свой круг каждому. Он действительно спасательный, этот круг, он помогает нам жить лучше, веселее, спасая порой от нелепых поступков, унылых слов, помогает нам при всех волнениях жизненного моря держаться свободно, непринужденно, с достоинством…
Вместе с различными оттенками веселья в этот день в глазах одесситов я заметил еще нечто. Это течто — гордость. Гордость своим родным городом, который позволил себе раз в год как следует встряхнуться, выпустить свою неунывающую и находчивую молодежь на улицы, позволить ей походить колесом по этим улицам, по-хохмить, веселя и удивляя своих стариков, которых, казалось, удивить уже ничем невозможно, втравить достопочтенных горожан в шутовской розыгрыш, закружить их в вихре карнавала… «В нашем городе друг другу — друг!» — гласил один из лозунгов «Юморины». Ничто не объединяет людей так, как общий хохот.
Но не надо думать, что День юмора и сатиры устраивается для того, чтобы раз в году отшутиться, Отсмеяться, отвеселиться, отбеситься, чтобы потом, в остальные дни года с каменным лицом присутствовать на своем рабочем месте, в свободное время сосредоточенно и уныло отдыхать. Именно этой будничной каменно-сти и унылости наносят сокрушительные удары фестивали смеха. Шутка, забава, трюк идут тогда массированной атакой на угрюмость, еще имеющую место в целом ряде отдельных случаев. И чем больше будет в эти дни жертв у юмора, чем больше душ и голов он возьмет в плен, тем веселее нам будет работать завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, и все дни года, кроме разве самого Дня смеха, потому что оп устраивается обычно в выходной.
Единожды улыбнувшись, человек не захочет бросать этого увлекательного занятия. Лиха беда — начало. А когда же начинать, если не в День смеха?..
Вышел ты в такой день на улицу, глянул на то, что происходит вокруг и — раз! — забыты все семейные передряги; хоп! — позади служебные неурядицы; бах — и от хорошего настроения уже никак не отвертеться; бабах! — и вот ты уже среди ряженых. На голову тебе нахлобучили старое канотье, огромный красный нос ты сам одолжил у соседа по колонне, другой сосед дал тебе понести транспарант с надписью: «Не рой другому яму — повредишь кабель!». И вот у тебя уже родилось в мозгу: «А все-таки жизнь прекрасна!» — и ты бодро вышагиваешь по мостовой, стараясь попасть в ритм, который задает парень в тельняшке, бухающий в огромный турецкий барабан берцовой костью какого-то давно вымершего животного.
Карнавал нужен городу. Нам просто необходимо время от времени снять напряжение, скинуть груз будничных мелочей и, вырядившись до неузнаваемости, эдаким чертом пройтись по улицам родного города, а то вдруг самому отколоть что-нибудь такое, чтобы все вокруг повалились со смеху… Праздники, фестивали, шутовские шествия заряжают нас оптимизмом, горячат кровь, расширяют объем наших легких через посредство частых вдохов и резких выдохов, сопровождающих смеховую реакцию…
Однако, чересчур много рассуждая о пользе праздников, рискуешь превратиться в самый страшный тип зануды — зануду на почве юмора. Поэтому поговорим лучше о том, как это делается в Одессе.
«Мозговой центр» фестиваля составили ребята из бывшей команды городского КВН. За многие годы своего телевизионного существования Клуб веселых и находчивых наработал много театральных идей, зрелищных форм, смешных текстов… Нелепо было бы, если все это, пронесясь по экранам телевизоров, канет в Лету. И одесситы привели в движение свой налаженный кавээновский механизм для организации городского праздника. Кроме того, они собрали все свои домашние задания, которыми когда-то блистали в телепередачах КВН, и сделали из них спектакль «Можно подумать!..» Этим спектаклем 1 апреля открылся новый студенческий театр миниатюр. В общем, дух КВН материализовался в Одессе. Может быть, ребята с таким энтузиазмом реанимировали кавээновские традиции, потому что бывшая сборная Одессы стала чемпионом только под занавес, перед самым закрытием телеКВН… Так или иначе они по-хозяйски распорядились добром, которым владеют. Георгий Голубенко, Олег Сташкевич, Валерий Хаит, Аркадий Цыкун и, конечно же, в первую очередь Семен Лившин и Юрий Макаров, которые делают в вечерней газете отдел сатиры и юмора, — вот дрожжи «Юморины-74».
Но вряд ли этим ребятам удалось бы воплотить свои идеи в жизнь, если бы не активная поддержка и деловая помощь горкома партии. Создание веселого настроения в городе руководители городских организаций охотно включили в свои служебные обязанности.
Образцово провела «Юморину-74» одесская милиция. Целый День смеха милиция мужественно охраняла участников мероприятия от неуемных восторгов зрителей, поддерживала порядок на улицах (если можно назвать порядком все, что на них происходило), стойко терпела все шутки бесшабашной молодежи, например, транспарант с надписью «Светофор светит, но не греет»…
Все вокруг было очень мило и рождало сплошь веселые мысли. Только один грустный вопрос вертелся в мозгу: «Почему наш сосед по Черному морю Болгария гордится своим Габрово и прославила его на весь мир, а мы до сих пор не сделали ничего для того, чтобы одесский праздник юмора стал хотя бы общесоюзным достоянием?» Может быть, потому, что «Юморина» существует только второй год?.. Тогда еще не поздно превратить ее в широкий фестиваль юмора и сатиры. Рада Лалева и Георгий Илиев, габровцы, ветераны фестивалей сатиры и юмора, приглашенные на «Юморину-74», говорили, что все, происходившее 1 апреля на одесских улицах, по уровню выдумки и юмора ничуть не хуже того, что происходит в Габрово.
В чем же дело? По-моему, в более хозяйском отношении к тому, чем мы владеем. Очень жалко, что автопробег, карнавальное шествие, финал одесского КВН, спектакль «Можно подумать!..» и многие другие мероприятия «Юморины-74» не транслировались по Центральному телевидению…
Обидно, что не было на празднике представителей от юмористов союзных республик. Я только представил, какое бы получилось красочное зрелище, если бы по улицам Одессы прошли тбилисские шарманщики, чудаки с острова Муху, наследники Насреддина… Много чего можно придумать, если мы все согласимся, что такой общесоюзный праздник нам нужен, если мы поймем, что для проведения фестиваля у нас есть все — есть прекрасный южный город Одесса со своими юмористическими традициями; есть хорошие современные ребята, фонтанирующие идеями; есть у них в городе серьезные покровители, облеченные властью; и самое главное — есть в нашем народе потребность повеселиться, пошутить, позабавиться, что всегда свидетельствует о моральном здоровье, оптимизме, о широкой душе…
1 апреля над входом в одесский парк имени Шевченко висел лозунг «Смех входящему!». Будем надеяться, что скоро эти слова, написанные на воротах города, будут приветствовать многочисленных гостей Международного фестиваля сатиры и юмора. И это будет то, что надо!
В. СПАВКИН
Михаил Булгаков — фельетонист
«— Вы что можете в газете писать?
— Все, что угодно, — уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.
— Даже фельетон? — спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.
— Фельетон — моя специальность».
М. БУЛГАКОВ «Богема»Фельетоны мои шли во многих кавказских газетах».
М. БУЛГАКОВ. Из письмаВ 1920–1921 гг. — в первые годы после разгрома белых на Северном Кавказе — Михаил Булгаков жил во Владикавказе. Работал в подотделе искусств городского ревкома, устраивал литературные вечера, выступал с лекциями о литературе, о музыке, о театре, написал несколько комедий и драм и сам участвовал в их постановках на сцене местного «Первого советского театра» (это гордое название указывало всего лишь на то, что в городе был еще один — «2-й советский театр»),
Владикавказ 1920–1921 годов. Голод. Холера. Нищета. Тысячи беспризорных сирот, которых не только нечем — не из чего накормить Приходится облагать горожан «вещевой повинностью» (каждый служащий обязывается сдать тарелку — можно глубокую, можно мелкую — либо одну металлическую ложку). И одновременно решительное наступление на неграмотность. И самоотверженная пропаганда классической русской и мировой культуры.
Подотдел искусств вместе с политотделом армии устраивают «Недели просвещения». В эти дни даются бесплатные спектакли, концерты и лекции для рабочих и красноармейцев. В другие дни, впрочем, тоже время от времени даются бесплатные спектакли, а на платных — для рабочих и красноармейцев выделяются бесплатно лучшие места.
«Неделя просвещения», вдохновившая Булгакова на фельетон, проходила 14–20 марта 1921 г., и Булгаков принимал в ней самое активное участие. В частности, он читал доклад перед красноармейской аудиторией, а потом два вечера подряд в «Первом советском театре» при полном зале шла его пьеса «Парижские коммунары».
Фельетон «Неделя просвещения» — самый ранний из найденных мною булгаковских фельетонов — опубликован во владикавказской газете «Коммунист» 1 апреля 1921 г. Был ли он действительно первым? Может быть, и нет. Многие кавказские газеты, выходившие в Грозном и Владикавказе в годы гражданской войны и, вероятно, публиновавшие сочинения Булгакова, не сохранились. Даже газета «Коммунист» — первая советская газета во Владикавказе, на страницах которой так часто встречается имя Булгакова, сохранилась плохо: в подшивках, среди коричневых от времени, ломких ее листов (бумага тогда была плохая) многих недостает. И все-таки то, что «Неделя просвещения» является первым фельетоном Михаила Булгакова, — если и фантазия, то не моя. Как на свой первый фельетон однажды сослался на него сам автор — в 1925 г., в автобиографическом рассказе «Богема».
Рисунок О. ВУКОЛОВА.
Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:
— Сидоров!
А я ему:
— Я!
Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:
— Ты, — говорит, — что?
— Я, — говорю, — ничего…
— Ты, — говорит, — неграмотный?
Я ему, конечно:
— Так точно, товарищ военком, неграмотный.
Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:
— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»!
— Помилуйте, — говорю, — за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.
А он отвечает:
— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль «осмотришь, вот тебе и удовольствие.
А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.
Я и говорю:
— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк увольниться вместо театра?
А он прищурил глаз и спрашивает;
— В цирк?.. Это зачем же такое?
— Да, — говорю, — уж больно занятно… Ученого слона выводить будут и опять же рыжие, французская борьба…
Помахал он пальцем:
— Я тебе, — говорит, — покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие… рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут… Мило, хорошо… Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать… Получай билет, и марш!
Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в «Первый советский театр». Видим, у загородки, где впускают народ, — столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:
— Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?
А та сдуру обиделась:
— Странный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!
— А, — говорит контролер, — в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!
И забрал у нее билет.
— На каком основании, — кричит барышня, — как же так?
— А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных.
— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.
— Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйте в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.
Так и ушла барышня.
Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.
Сидим.
Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.
Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.
Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):
— Это кто же такой будет?
А он отвечает:
— Это дери, — говорит, — жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!
— Что ж, — спрашиваю, — почему ж это его на показ сажают за загородку?
— А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам значит, и выставляют.
— Так почему ж его задом к нам посадили?
— А, — говорит, — так ему удобнее оркестром хороводить!..
А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.
Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабане. Гром пошел по всему театру. А потом как рявкнет с правом стороны… Я глянул в оркестр и кричу:
— Пантелеев, а ведь это, побей меня бог, Ломбард, который у нас на пайке в полку!
А он тоже заглянул и говорит:
— Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!
Ну, я обрадовался и кричу:
— Браво, бис, Ломбард!
Но только откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:
— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!
Ну, замолчали мы.
А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же и в девятку то же самое.
Одним словом, старый режим!
Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тоже пьет, закусывает.
И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему тоже в ответ.
И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену.
Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой — беривтон.
И сейчас же и запел Альфреду:
— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?
Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший — этой Травиате своей.
Обругал ее, на чем свет стоит, при всех.
Поет:
— Ты, говорит, — и такая и этакая и вообще, говорит, не желаю больше с тобой дела иметь.
Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!
И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором.
Приходит доктор.
Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.
Подошел к Травиате и запел:
— Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная и непременно вы помрете!
И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.
Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать.
Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает» Но ничего не выходит!
— Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть.
И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.
А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.
Ну, думаю: слава богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!
И говорю Пантелееву:
— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!
Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крякает.
Ну-с прихожу я на другой день к военкому и говорю:
— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться…
А он как рыкнет:
— Все еще, говорит, у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром вторую рапсодию играть будет!
Так я и сел, думаю:
— Вот тебе и слоны!
— Это что ж, — спрашиваю, — опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?
— Обязательно, — говорит.
Оказия, прости господи, куда я, туда и он с своим тромбоном!
Взглянул я и спрашиваю:
— Ну, а завтра можно?
— И завтра, — говорит, — нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.
— Ну, а послезавтра?
— А послезавтра опять в оперу!
И вообще, говорит, довольно вам по циркам шляться. Настала неделя просвещения.
Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:
— Это что ж, всю нашу роту так гонять будут?
— Зачем, — говорит, — всех! Грамотных не будут. Грамотный и без второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!
Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак!
Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия…
Думал, думал и придумал.
Пошел к военкому и говорю:
— Позвольте заявить!
— Заявляй!
— Дозвольте мне, — говорю, — в школу грамоты.
Улыбнулся тут военком и говорит:
— Молодец! — и записал меня в школу.
Ну, походил я в ее и, что вы думаете, выучили-таки! И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!
Предисловие и публикация
Л. ЯНОВСКОЙ.
* * *
Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ
Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. И. ВОРОНОВ
(зам. главного редактора),
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ,
(зам. главного редактора),
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),
К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
М., П, ПРИЛЕЖАЕВА
Художественный редактор
Ю. А. Ц и ш е в с к и й.
Технический редактор
Л. К. Зябкий а,
Оформление 1—4-й стр.
обложки Б. КОТЛЯРА.
Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6. Улица Горького, № 32/1.
Телефон редакции: 251-32-83.
Рукописи не возвращаются.
Сдано в набор 25/VI 1974 г.
Подп. к печ. 13/VI 1974 г.
А 09232.
Формат 84х108,1/16.
Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Гираж 2 600 000 экз.
Изд. № 1466. Заказ № 2153.
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда> имени В. И. Ленина.
125865. Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.
В. Страхов. В путь
Линогравюра из серии «Молодежь».

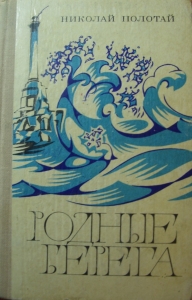


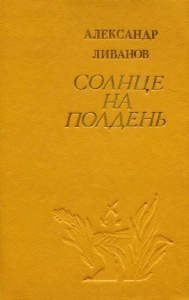

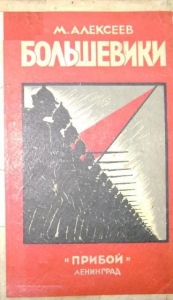
Комментарии к книге «Журнал `Юность`, 1974-7», Журнал «Юность»
Всего 0 комментариев