Всеволод Иванов Рассудку вопреки Всеволод Иванов (вариант первых глав романа «Мы идём в Индию»)
Вечереет… Окончив работу в типографии, я, размышляя, медленно иду по длинным курганским улицам. Томит лёгкая усталость и ощущение близкой весны, хотя на дворе всего лишь февраль. Но я весну вижу издалека.
Итак, безоговорочно решено — поселяюсь в Кургане надолго!
Мне нравятся курганские жители, и, в конце концов, я, несомненно, полюблю весь город. А почему бы и не полюбить? Город довольно обширный, имеет две типографии, есть общественная библиотека, учёные люди. Я посоветуюсь с ними, сдам экзамен экстерном и уеду учиться в Томский университет.
А все эти Индии… Хватит мне Индий! Что за мальчишество! Все мои спутники по странствованиям в Индию давно остепенились и покинули Курган. При мне осталась только лошадь Нубия. Кому нужна эта лошадь? Я выводил её на базар два раза. К ней не только не приценивались, но всем казалось смешным, что продают такую дохлятину. А ведь у неё почти человеческие глаза и необычайно плавная походка. Зарабатываю я мало. Хватает только мне «на хлеба» у извозчика Марцинкевича, на посылку домой и на кое-какую одежду. Кормить Нубию нечем. И я отдал её водовозу, разумеется, на время. Теперь многие жители пьют воду, к которой и я, и мои индийские походы имеют некоторое отношение. Как мне было не остаться в Кургане?! Нет, я остаюсь в Кургане.
Подхожу к дому извозчика, где я живу «на хлебах». Марцинкевич, весёлый, румяный, с седыми подусниками, вдов и сам убирает дом, готовит обеды и превосходно печёт белый хлеб. Бывший солдат «японской кампании», он зиму и лето спит на кухонной печи без подстилок и одеяла.
За кухней — крохотная проходная комнатка. Ее занимают его племянницы, рослые, здоровые девицы. Хлеб за столом они кусают нежно, но когда дело доходит до мяса, скулы у них розовеют и волосы на висках курчавятся. Когда рано утром я иду на работу через их комнатку, две пары влажных глаз встречают и провожают меня внимательным взглядом. У подушки с ситцевой наволочкой я замечав кончик коленкоровой рубашки. «Смотри, козявки какие!» — думаю я про себя. Какие там козявки! Младшая, Зося, длинна, тонка, крепка и похожа на описание тех цепких лиан, которые торчат на каждой странице поглощаемых мною приключенческих романов.
Со двора слышен грохот тяжёлой пролетки. Марцинкевичу пора выезжать на ночную работу к железнодорожной станции. Я не тороплюсь к нему. Кажется, извозчик не прочь выдать за меня одну из своих племянниц? Он приблизительно рассуждает так: «Парень он, похоже, неверующий. Но лучше неверующий, чем схизматик. От неверующего до верующего ближе, чем от схизматика до католика. Вдобавок не пьёт, не курит, грамотный». Извозчик кое-что накопил и кочет открыть мелочную торговлю: годы не те, чтобы безболезненно сидеть долгие ночи на козлах. Сам он малограмотный и боится, что оттого в расходах его произойдет путаница.
Марцинкевич — переселенец из Польши. Один из его племянников работает вместе со мной печатником. Он-то и предложил мне стол и комнату. Я вспомнил опрятность павлодарской владелицы типографии пани Марины, которую позже я встречал в Екатеринбурге, и поселился у Марцинкевича. У них действительно во всём чувствовалась опрятность. Но боже мой, как танцевали, громко пели и ссорились все его пять племянников и племянниц! А теперь вдобавок ещё женись! Мне совершенно незачем жениться, хотя младшая из племянниц, Зося, нравится мне. Не хочется мне заниматься мелочной торговлей. Но я вежлив, молод, застенчив и, право, не знаю, как я отвечу извозчику, если он вдруг предложит мне 3ocинy руку и сердце.
Вот почему, прислонившись к воротам, я насильно любуюсь курганской улицей. И в конце концов, чем она не хороша? Даже на ощупь очень приятны эти дома из толстых брёвен. А как тепло в них зимой и прохладно летом! А как приятно покачиваются и поскрипывают под твоей ногой деревянные тротуары!
Приближается стройный худенький почтальон. Ещё издали он сообщает мне тоненьким голоском: «А вам, господин Иванов, письмо!» Превосходно! Меня не обременяют письмами. Я поджидаю почтальона. Какие у него тоскливые больные глаза! Я уважаю эту болезнь: она называется любовью. Два раза в год почтальон сватается за Стефу, старшую племянницу извозчика. Марцинкевичу он не нужен, и извозчик грубо отказывает.
Я протянул было руку почтальону, но он вдруг встревоженно поворачивается. По нашей стороне улицы бешено мчится пара соловых. Экипаж принадлежит известному пьянице и поклоннику церковного хорового пения купцу Смолину. Говорят, Смолин предлагал регенту хоре пригласить в хор Зосю и Стефу. Мне-то какое дело?! И какое мне дело до того, что навстречу соловым, сильно выбрасывая длинные ноги, в воротах показывается вороной конь извозчика! Грузных саней ещё не видно, не видно и самого извозчика на козлах. Тем временем экипаж купца приближается.
А ведь, пожалуй, сани столкнутся! Подошло время, когда почтальон может проявить, с великой для себя пользой, отчаянную храбрость.
— Хватай вороного под уздцы! — кричу я.
Но почтальон от испуга и удивления онемел и недвижим. «Ну н превосходно, думаю я. — Мне нужно ученье, а не свадьба. Сшибётесь, и я избавлюсь от женитьбы. Плевал я на вас!»
У Марцинкевича отличный слух, и в другое время он, несомненно, услышал бы приближающийся топот. Но он, заметив меня, решил, по-видимому, объясниться. «Зося-то вам, дорогой мой, нравится?» — говорит небось он про себя…
Стоит мне подумать это, как я быстро, по-цирковому, кидаюсь и хватаю вороного за узду.
Линия ремней крепка, суха.
Мне надо держаться за неё тоже крепко!
Конь вздыбился.
Марцинкевич, сначала побледнев, а затем побагровев от напряжения, натягивает вожжи.
Сани замирают в воротах.
На глазах почтальона слёзы. О чём он плачет, бедный? Я на мгновенье кладу ему руку на волосы. А купец Смолин не только не поблагодарил меня, он даже не повернулся в мою сторону. Ну и чёрт с тобой!
Нет мне никакого дела и до Марцинкевича! Извозчик проезжает мимо и, по-прежнему туго держа вожжи, говорят мне не без уважения:
— 3лодей, Всеволод, злодей! Ведь вороной-то урослив. Мог затоптать!
— Бросьте вы, господин Марцинкевич, — отвечаю я, не поднимая головы. Смирнее вашего вороного и коня нет.
— Одно слово: злодей ты, Всеволод!
Мало времени, да много происшествий. И я задумчиво смотрю вслед извозчику. Он сутул, голова по уши вошла в плечи, руки коротки, чуть не вполовину короче обычных. Кушак не на талии, а где-то совсем под мышками, голос сиплый. Ну, а если действительно существует наследственность? Что же наследуют мои дети со стороны жены? А я-то считал себя поклонником красоты! Кого я спас? Да и купец Смолин тоже не ахти какой красавец и, кроме того, мошенник. Тощее лицо, впалые, узенькие глазки, коротенькая, заношенная енотовая шубёнка. Говорят, разбогател на сбыте фальшивых монет. Похоже! Миллионер, а чёрт его знает как одевается!.. Но, надо признаться, Зося недурна…
— А вы, кажись, прозевали своё счастье? — говорю я почтальону.
Почтальон вытирает слёзы.
— Я слаб, побоялся, что конь, топча меня, и вас истопчет, господин Иванов. А я надеюсь всё-таки быть вашим родственником.
И этот туда же! Жениться? Женись сам, если хочешь! Не отдают — кради, венчайся убёгом. A мне ученье надобно, не женитьба! Я хочу быть студентом Томского университета.
Почтальон ушёл. Конверт дядиного письма давно разорван. Но, видно, иногда легче остановить вздыбленного коня, чем прочесть несколько красиво написанных страниц.
* * *
Прежде дядя писал мне не часто. Но в эту зиму, особенно после того, как я сообщил ему, что отказываюсь от факирства, мечтаний о поездках в Индию и остаюсь в Кургане, чтобы учиться, я стал всё чаще получать его письма, печальные, длинные, заканчивающиеся обычно какими-нибудь духовными наставлениями, к тому же подкреплёнными парой цитат из священного писания. И в каждом письме он жалуется на здоровье.
«Ты теперь, племянник, хорошо зарабатываешь — пишет он, — а твой брат Палладий страдает малярией, мать тоже больна, отец за учительство получает мало, хотя человек он и религиозный, а религиозность должна бы, казалось, вознаграждаться.
Мне день ото дня хуже. Неисправно работает желудок, и ноги еле двигаются.
Зима у нас в степях суровая, „джут“, гололедица, снежные бураны и небывалые морозы. Скот не в состоянии добывать траву из-под снега, казахи не привыкли заготовлять сено, и к весне, чувствую, будет сильный падёж.
У нас поговаривают, что в центральных губерниях России, вследствие сильного недорода, начался голод. Так ли это? Ты живешь ближе к центральным губерниям. Напиши.
А лучше всего приезжай сюда сам. Мы без тебя скучаем, и у нас найдётся не меньше учёных людей, чем в Кургане. Сдашь здесь экзамен, и мы поможем тебе отправиться в Томский университет. Ты надеешься на свои силы? Ты молод, и бог помогает молодым. Но всё-таки при самых больших силах трудно соединить вместе ученье в университете и работу в типографии, как это хочешь сделать ты. У меня в Семипалатинске есть друг Калмыков, крупный промышленник. Он заинтересовался твоими письмами и вообще твоим характером.
В Семипалатинске я буду через неделю и надеюсь, что ты сильно поможешь мне при строительстве казачьего собора: я подрядился строить этот собор. Помогая мне при этой постройке, ты и сам заработаешь достаточную толику, которая позволит учиться без забот три или четыре года. Приезжай в Омск, обратиться надо по прилагаемому адресу на Проломную улицу, так ты найдешь „Омскую контору Калмыкова“. Из Омска через Павлодар на Семипалатинск каждую неделю идут калмыковские обозы. Приказчики прокормят тебя, провоз будет бесплатный, в марте уже не холодно. Приезжай!»
За соседним реалом типографии, где я работал, стоял мой приятель, наборщик Алёша Жулистов. В обычной жизни это был довольно практичный парень, правда, немного драчливый. Но стоило ему взять какую-нибудь «жалостную» книгу, в особенности стихи Некрасова, как слёзы начинали струями течь из его глаз. Решив с ним посоветоваться, я дал ему дядино письмо. Алёша прочёл две строчки и зарыдал. Глядя на его розовое, красивое лицо с большими мокрыми глазами, я тоже заплакал.
Может быть, вы помните, мой дядя Василий Ефимович устроил меня несколько лет назад в Павлодарскую типографию. Таким образом, благодаря ему я стал наборщиком и, получив профессию, смог отправиться в странствования, столь приятные моему сердцу. Он имеет неоспоримое право на мою благодарность!
Дядя мой, подрядчик Василий Ефимович Петров, настроил множество зданий по обоим берегам Иртыша, во всех его городах, казачьих станицах, посёлках, аулах. Но почему все эти дома, пристани, амбары, церкви, мельницы, когда вы плывёте мимо, кажутся вам подмытыми бурными иртышскими водами и покосившимися?
Косые здания! Но ведь эти здания принимают сведущие люди? В них работают машины, в них ссыпают зерно, живут, молятся — и никто не осуждает строителя, кроме меня! А какими архитектурными знаниями обладаю я? Ведь даже учиться-то я хочу на врача, или на преподавателя истории, или, того лучше, российской словесности, Когда я мечтаю, что со мной будет после окончания университета, мне рисуется белый класс, чёрная парта, учительский стол и лица учеников. Я громко читаю им стихи Пушкина, Лермонтова, Фета. Дети взволнованы, их чувства напряжены, они сидят прямые-прямые…
Экий хороший этот Алёша Жулистов! Он самым искренним образом сочувствует моему дяде. А письмо, на самом деле, смятенное. Чувствуется один мучительный вопрос: «Приедешь или нет?» Ну разве же это — разумно?! Чем поможет этому пожилому и опытному строителю девятнадцатилетний юноша, если уж говорить по правде, и сам-то мало что знающий!
Волнение, охватившее Алешу, сообщилось мне и умножилось во мне. Я весь дрожал и в то же время невольно думал сам про себя: «А не жениться ли мне лучше на 3осе? Тогда жена не пустит меня в Семипалатинск!»
Мы вышли из типографии на улицу. Тощая лошадь пыталась тащить по глубокому снегу сани с бочкой. В бочке сильно плескалась вода, сани тряслись, но полозья их не двигались. Я узнал Нубию. Сердце моё сжалось. Я сказал:
— Вот ты, Алёша, советуешь ехать, а как же Нубия!
— В крайнем случае, ты уедешь на ней верхом из Семипалатинска.
— A до Семипалатинска?
— От Омска она пойдёт вместе с обозом.
— А до Омска? У меня самого еле-еле на железнодорожный билет.
Алёша, вспомнив, по-видимому, опять Нубию, быстро говорил мне:
— Не губы у тебя, Всеволод, а розвальни! Где застрял! Смотри, Нубия и та старается вытащить сани, а ты? В тебе столько сил, собой ты молодчага. Ах, чёрт-чертище, нельзя же этакий фарт пропускать. А потом, я знаю, дядя сделал тебя типографским мастером. Как же ты, благородный человек, откажешь ему теперь в помощи? Он умирает, зовёт тебя к себе, а ты боишься ехать с обозом! Да ведь у тебя палата смелости, не говоря уж об уме!
Слова его действовали, хотя я всё ещё бормотал про себя: «Экий дурень! Чего он чепуху мелет?» А вслух говорил:
— Но ведь я решил остаться здесь?
— Решение — одно, а фарт — дело другое. Кому начинает фартить, тот обязан быть всегда при фарте.
Странствования последнего лета в значительной степени уверили меня в том, что рулём жизни правит только разум.
Алёша Жулистов был моложе меня года на три. Он никогда не покидал Кургана. Но уверен, что если бы Алёша был в десять раз старше меня и путешествовал в десять раз больше, он всё равно, наверное, утверждал бы, что, да, возможно, у руля стоит разум, но всё же главным капитаном, который ведёт корабль жизни, является случай!
Алёша восхищался всяким случаем, подвертывавшимся ему. Только называл он его более вульгарно, чем я, — «фарт». Он радовался и хорошему случаю, когда, скажем, выигрывал в «очко» десять рублей, и плохому, когда, скажем, хулиганы в темноте, приняв его за другого, избивали до потери сознания. Из этого вы поймёте, что наши воззрения на жизнь были противоположны. И однако же мы дружили. Я нуждался в слушателях, которым непрестанно рассказывал бы о подвигах разума. Он рисовал мне необыкновенные случаи, происходившие в Кургане и в его окрестностях. Впрочем, я скоро убедился, что Алёша умеет не только подчиняться случаю, но и управлять им. Вернее сказать, он отлично придумывал нужные ему случаи.
Мне подвернулась, к счастью, сверхурочная работа: годовой отчёт Курганской городской управы. В три-четыре недели заработаю на железнодорожный билет себе и Нубии. День и ночь набирал я бесконечные цифры, выставляя и выравнивая их между медными линейками. Глаза слипались. Покачивало. В обед засыпал на полчаса. Будили. Просыпался со свинцовой головой, сухим ртом, резью в глазах. И опять выкладывал литеры в версталку, забивал шпации, шпоны.
Однажды на рассвете я подходил к дому Марцинкевича, когда извозчик тоже возвращался с ночной работы. Вследствие этого, полагаю, мы настроились друг к другу очень благожелательно.
Ах, друзья мои! Расчёт, а не благожелательность должны вести нас по путям сватовства, брака, семейной жизни вообще. Подчинись бы мы расчету, мне, наверное, не пришлось бы испытать те тяжкие и сложные приключения в казахских степях, которые я вскоре испытал. По расчетам, мне следовало бы посвататься к Зосе и оставаться в Кургане, а Марцинкевичу не ловить журавля в небе. Но…
Свесив с козел усатую голову, запорошенную инеем, Марцинкевич сказал сиплым голосом:
— А вдруг, пока вы тут буковки складываете, ваш дядя умрёт и оставил наследство другому?
— Я еду не за наследством!
— Вы-то едете не за наследством, но дядя ваш, пан Всеволод, ждёт вас как наследника.
— Уж будто бы так!
— Так, так! Я знаю это из первых рук: от Алёши Жулистова. Он читал восемнадцать писем вашего дяди, пан Всеволод. Он от волнения не спит уже неделю. Пожалейте вашего дядю, пан Всеволод, и пожалейте пана Алёшку. И вот ещё, пан Всеволод. Одна из племянниц, уж не буду говорить какая, сами догадывайтесь, любит вас. Ей куда приятней выйти за богатого человека! Ого! Откроем не мелочную лавочку, а целый магазин! Возьмите у меня деньги — и быстрей к дяде! Женитесь- посчитаем в счёт приданого. Раздумаете — вернёте.
Когда на железнодорожной станции я прощался с племянницами извозчика, меня мучило раздумье. Которую же из них поцеловать? Естественно, что та, которую я поцелую, будет считать себя моей невестой. И я поцеловал их обеих. Они ответили мне с одинаковым жаром. На которой, однако же, жениться?!
Всюду: перед вокзалом, в самом вокзале, на перроне, в вагонах, между вагонами толкались, кричали, ругались мужики, бабы, навьюченные узлами, ящиками, вёдрами, окружённые детьми, старухами и стариками. Откуда они? Куда?
Мне не до расспросов. Я усаживал в вагон для скота Нубию. Именно усаживал, так как она усиленно стремилась к полу вагона той частью своего тела, на которой помёщается хвост. Пробегавшие мужики смотрели на мои усилия спокойно. Будь насмешки, я бы пересилил их, гордясь своей привязанностью к Нубии: «Индусы — и букашки не раздавят, а смотри-ка, сколько их на ней и в ней, а я не давлю». Тяжелее слышать спокойные рассуждения, сквозь которые чувствуется не столько ирония, сколько удивление.
— Эка животина: через кожу скелет видно.
— Сало и мясо вынули, ну а кожу и кости оставили.
— Она и вертит головой: сама в себя не верит.
— Робятушки, да она ведь с того света.
— Из аду. На ней грешников возили, да и те забастовали.
Племянницы Марцинкевича, явно пересиливая себя, погладили Нубию по грязной спутанной гриве и даже почесали за ухом, всегда выпачканном почему-то фиолетовыми чернилами, которыми я имел обыкновение писать свои стихи. Нубия ответила на ласку игриво-гнусавым ржанием.
— Девиса. Ржёт и денег не берёт.
— Это, робятушки, нам предсказание. Скелеты ждут нас в тех «вольных местах».
Неужели все эти люди действительно стремятся на «вольные места»? Сколько же им нужно воли, чтобы жить хоть сколько-нибудь сносно?
Ещё совсем недавно, когда плыл Иртышом, ехал железной дорогой, шёл крестьянскими селениями, играл на станциях железной дороги, я не чувствовал того людского смятения, которое теперь вижу вокруг. Может быть, оттого, что тогда были урожайны годы, а нынче сильный недород. Впрочем, в Центральной России, по-видимому, не верят, что в Сибири и Казахстане тоже неурожай. Зачем иначе. этим оборванным, измождённым людям продавать скот и избёнки, чтобы купить железнодорожный билет? Те же, которым нечего продать, впрягают лошадёнок, складывают добро своё на телеги — и Большим Московским трактом, а потом просёлочными сибирскими дорогами плетутся на вольные земли.
В Омске их ещё больше. Все постоялые дворы и даже холодные сараи пароходных пристаней забиты голодными переселенцами. Я с трудом нашёл себе место на постоялом дворе. От множества людей в низком и длинном помещении сыро, душно, тесно. К ночи вдобавок возвращаются старики и дети, собиравшие подаяние. Мужики и бабы, искавшие безнадёжно работу, уже вернулись. Считают собранные куски, пробуют сушить их на печке, но кусков много, и на печке они лежат грудами и плесневеют. Я купил три таких полузаплесневевших мешка хлебных кусков, чтобы кормить Нубию, и заморозил их на сеновале.
Бедствие! Встревоженный, я обошёл все омские типографии. Всюду заведующие утверждали, что нет ни заказов, ни работы. Уволена почти половина наборщиков и печатников. Расспрашиваю рабочих. Да, уволены даже те, которые были смирны перед хозяевами, не состояли в профсоюзах и проработали в типографии много лет.
«Омский вестник» на столбцах «происшествий» печатает описание самоубийств с таким удовольствием, словно приглашает читателей сделать то же самое. Я начал думать: а не началась ли и в Кургане безработица и мои сослуживцы, чтобы поставить на моё место в типографии кого-нибудь более нуждающегося, не подстроили ли так, чтобы я ушёл? А впрочем, вздор всё это!
В конторе Калмыкова сказали, что обоз на Семипалатинск отправляется скоро. Во дворе возле складов увязывали тюки: преимущественно строительные инструменты и ещё вар, дратву, деревянные сапожные гвозди, льняные нитки. Старший возчик, строгий, с толстыми усами и редкой рыжей бородой, сказал мне: дадено распоряжение взять тебя в обоз. Он осмотрел мою одежду:
— Не продует? За Павлодаром ох и сильны же ветра.
И отошёл от меня.
На мне подшитые короткие валенки, хлопчатобумажные шаровары, такая же куртка на ситцевую рубашку, а поверх довольно тощее пальто с вытертым воротником шалью из кенгуру. Не хватает тёплого шарфа и меховых рукавиц. Купить бы, а на что? Правда, в деревянном сундучке у меня хранится дряхлый длиннополый сюртук, гуттаперчевая манишка, такие же манжеты, галстук-бабочка с той замечательной грязной маслянистостью, которая издалека делает его атласным, бронзовые запонки, оставляющие зелёный отпечаток не только на манишке, но и на пальцах, пять-шесть книг, тетрадка со стихами, ящик с гримом, кое-какие факирские принадлежности, необходимые для «опытов», и, наконец, письменный прибор из плохой уральской яшмы. Если бы я хотел всё это продать, я бы едва ли выручил и один рубль. Толкучки и рынки переполнены различным имуществом, которое распродают переселенцы и безработные.
Послать бы отцу телеграмму о выезде, купить бы родным какой-нибудь подарок. А на что? Ну подарком посчитаем этот письменный прибор из яшмы. Он достаточно тяжёл для того, чтобы отец мог рассказывать, будто прибор этот попал в его руки во время русско-японской войны, а раньше принадлежал китайскому императору, который обучался писать по-европейски чернилами и пером.
Я никогда не перестану удивляться могучей фантазии моего отца. Ах, как хорошо бы послать ему телеграмму! Отец пользуется в станицах громадным уважением. Я уже представляю себе, как по укатанному снежному пути мчится верховой казак из Семиярского почтово-телеграфного отделения в посёлок Лебяжий. Время от времени он сдёргивает малахай и вытирает им лицо, мокрое от волнений. Он кричит всем встречным: «Депешу везу».
И скачет мимо них с такой быстротой, что они могут подумать, будто он везет депешу учителю Иванову от самого русского царя.
Вот какова была сила моего воображения, но денег-то на телеграмму не было!..


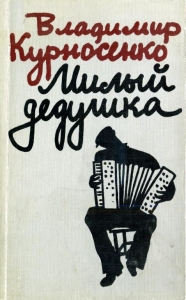

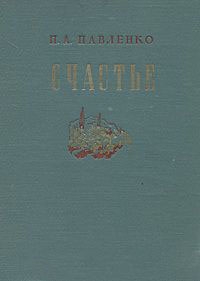
Комментарии к книге «Рассудку вопреки (вариант первых глав романа 'Мы идём в Индию')», Всеволод Иванов
Всего 0 комментариев