Владимир Федорович Тендряков Кончина
Дом отличался от других домов не красотой, не игривостью резных наличников, а тяжеловесной добротностью: кирпичный фундамент излишне высок и массивен, стены обшиты пригнанной шелевкой, оконные переплеты могучи, крыша словно кичится, что на нее пошло много кровельного железа, — в железо упрятаны по пояс трубы, сверху на них красуются грубые жестяные короны, стоки лотки несоразмерной величины и длины. Добротность дома не просто откровенна, она назойлива и даже чем-то бесстыдна.
Хозяин, который строил этот дом, по-мужицки считал — красиво то, что вечно. Ему самому вечность была не суждена. Сейчас он умирал в этом доме.
Умирал Лыков Евлампий Никитич, знаменитый человек по области, председатель колхоза «Власть труда».
Он был не так уж и стар — на шестьдесят третьем.
Вылезая из машины у скотного на Доровищах, он рухнул на талый мартовский снежок — перекосило рот, тихо мычал, непослушное веко затянуло левый глаз.
Шофер Леха Шаблов провез его по тряской дороге шесть километров, на руках внес в дом. Спешно вызванный главврач районной больницы объявил: «Не транспортабелен».
На следующее утро па лугу за рекой приземлился самолет — из областного города прилетел профессор. Он каких-нибудь полчаса пробыл у постели больного да еще полчаса беседовал с районным начальством — улетел обратно.
И тут-то разнеслась весть — умирает.
Со всех концов большого колхоза — из самого села Пожары, из Доровищ, из Петраковской — потянулись доброхоты под окна лыковского дома. Каждому ясно — жди перемен.
Стояли кучкой у крыльца, смотрели издали, беседовали, внутрь не совались. За дверью днюет и ночует верный Леха Шаблов, у Лехи рука тяжелая…
Волоча из последних сил подшитые валенки, опираясь на деревянную клюку, с хрипотой и клекотом дыша, пришел старик — потертый треух упал на глаза, полушубок гнет к земле, мотня штанов висит у колен. Он приступом взял крыльцо, ступенька за ступенькой, попробовал открыть запертую дверь, не сумел и обессиленно сел, сразу же впал в дремоту.
В кучке толкущихся доброхотов он вызвал острый интерес:
— Это чтой за моща? Не Альки ли Студенкиной свекор?
— Он и есть! Лет пять не вылезал за порог.
— Эй, дедко Матвей! Ты ль это?
Дед разлепил веки, повел хрящеватым носом:
— Ай?
— Он самый! Что тебя с печки стряхнуло, Жеребый?
— Пийко-то… А?.. Сказывают: помирает.
Кто-то не выдержал, подпустил:
— Не в компанию ль пришел напрашиваться?
— Пийко-то… А? Я вот жив.
И все острословы вспомнили — «вечный председатель» при смерти, какие тут шуточки, — разглядывали старика недоброжелательно, ввел в грех.
А тот сидел: из-под облезлого треуха — крючковатый нос, на сизом кончике мутная капля, деревянная клюка поставлена между большими валенками, на клюке отдыхают руки — крупные окаменевшие мослы вдеты в слишком просторную, морщинисто-жесткую кожу. Сидит старый Матвей, глаз не видно из-под шапки — может, спит, может, думает…
Заставив потесниться людей, подкатил «газик». Проворно выскочил из него заместитель Лыкова — Валерий Николаевич Чистых, долговязый, без углов человек — покатые плечи, маленькая голова, болтающиеся бескостные руки. Он почтительно принял костыли, помог вылезть наружу неуклюжему, грузному человеку. И пока тот утверждался на костылях, Чистых суетливо крутился в своем длинном, узком — что плечи, что талия — пальто, гибкий, как лоза под ветром.
У грузного гостя под мерлушковой шапкой старчески отечное, восковое лицо домоседа. Ноги, обутые в белые чесанки, не повиновались. Налегая на костыли, привычно выкидывая белые чесанки, брезгливо касаясь ими несвежего, затоптанного снега, гость направился к крыльцу и остановился…
На крыльце сидел старик Матвей — дремал или думал, — загораживал путь.
И Чистых налетел, словно хорек на ворону:
— Ты что тут расселся?.. Эй, как тебя?! Слышишь, марш отсюда!
Старик очнулся, запрокинул голову, взглянул на белый свет из-под треуха и стал с натугой подыматься.
— Давай, давай, шевелись! Торчат тут всякие… Осторожненько, Иван Иванович. Скользко тут, не оступитесь… Ах ты господи! Да не путайся ты, старик, под ногами!
Приехал главный бухгалтер колхоза, соратник Евлампия Лыкова и вторая фигура после знаменитого председателя на селе.
Дверь, до сих пор непроницаемо захлопнутая, распахнулась. На пороге вырос Леха Шаблов — шевелюра выше косяка, красные, лопатами лапищи на весу, в них услужливая готовность: «Только разрешите, внесу на ручках». И внес бы в одной охапке толстого бухгалтера с костылями и длинного, тощего Чистых.
Но Иван Иванович, усердно сопя, сам одолел последнюю ступеньку.
У крыльца, опираясь дрожащими руками на клюку, стоял дед Матвей — в серой свалявшейся шерстке провал беззубого рта, из-под шапки потухший взгляд в широкую, пухлую спину, воюющую с костылями.
Иван Иванович перевел дух у дверей, оглянулся назад, на нелегкий для него путь в десяток шагов и пять ступенек, встретился с потухшим взглядом из-под облезлого треуха.
— Эге! Да это же он, — удивился бухгалтер.
— Торчат тут всякие…
— Старый ворон на запах мертвечины…
Деду Матвею, должно быть, стало неловко под взглядами начальства, взиравшего с крыльца, да и стоять не под силу, и сесть снова на ступеньку уже не смел, потому, вяло поправив шапку, повернулся и побрел, с натугой волоча тяжелые валенки, налегая на клюку.
Иван Иванович, расслабленно повиснув на костылях, глядел вслед старику — горбом топорщащийся потертый кожушок, мотня штанов, нависающая над коленками.
Чистых и дюжий Леха Шаблов недоуменно переглядывались друг с другом — чтой это с Иваном Ивановичем, эк, диковинку узрел?..
Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его. Для Чистых, для Шаблова, почти для всех в селе Пожары первый и единственный пророк — Лыков Евлампий, тот, кто сейчас лежит за стеной. Но самым-то первым колхозным пророком был не Лыков, а дед Матвей. Это помнили немногие. Помнил бухгалтер Иван Слегов.
Матвей Студенкин — родоначальник
Привычно для России: шел солдат с фронта… Шел неспешно и споро, куличьим шагом.
Наверно, он был последний в округе солдат с войны — как-никак стояла осень 1925-го! Все остальные или давно вернулись, или сложили кости в чужих краях. Добирался издалека, с берегов Тихого океана. Сейчас последние шаги — хилые ели да голые березки, и впереди поворот, а там покажутся знакомые крыши… Дома давно устала ждать жена — помнил, как звать, да забыл, как выглядит, — и еще сынишка, родившийся в тот год, когда ушел воевать.
Сзади послышался звон бубенцов. Оглянулся, пришлось посторониться — на рысях шла серая пара. Лошади что близнецы, шеи дугой, крупы в яблоках — лебеди, а не кони! — сбруя с кистями и медными бляхами, спицы и ступицы легкой ковровки крашены ясным суриком. Прошли мимо, обдало конским потным теплом, сверху на помятого, отощавшего за долгий путь солдата глянули серые глаза с румяного лица. И вдруг руки натянули вожжи, осадили коней:
— Тпр-ру-у!.. Эй! Никак, Матвей Студенкин?..
Матвей подошел куличьим шагом, отставил в сторону ногу в тугой обмотке, сощурился, как прицелился:
— Не ошибся… А вот ты из каких таких бар? Что-то не припомню.
— Ивана Слегова помнишь?
— Ваньку-то… Считай, соседи.
— Так я сын его, тоже Иван.
— В гимназиях который?..
— Вот-вот. Садись, подвезу.
А в пролетке сидит молодая бабенка, черные брови из-под цветастой шали, расфуфырена и одеколоном пахнет.
— Женка, что ли?
— Ее тоже знать должен — Антипа Рыжова дочь… Подвинься, Марусь, дай сесть человеку.
— Н-да-а… — Оглядел с откровенной недобротой обоих, но влез, не смущаясь, что может помять городскую юбку у бабы, удобно устроился.
— Что поздно?
— Дела держали, очищал землю от контры.
— Как — очистил?
— Там, где был, без меня доскребут. В Охотске генерала Пепеляева застукали. Из генералов-то последний… Сюда бы пораньше, да болел вот шибко в дороге, по лазаретам валялся. Долгая дорога получилась — два года ехал. Теперь — все, приплыл.
— Чем займешься?
— Тем же самым, буду контру стричь.
— Генералов в наших краях не водится.
— Зато вижу: мелкой сволочи наплодилось.
Иван Слегов-младший усмехнулся, поднялся, крутанул над лошадиными крупами вожжами:
— И-эх! Серы кролики! Над-дай!.. Еще одного судью в село везем!
И когда кони наддали, Иван снова обернулся, оскалив крепкие зубы:
— Судей теперь у нас много, вот хлеборобов настоящих крутая недостача.
Прогнал по селу, не дал даже учуять святой момент, когда заносишь ногу в родные Палестины, осадил перед крепким домом с белыми наличниками, на задах которого громоздилось еще новое, не обдутое ветрами строение — конюшня не конюшня, коровник не коровник, — сказал:
— Слезай, ваша честь… Тут я живу. В гости особо не зову, уж извини. Что поп, что судья — гость скушный, любят проповеди.
— Обожди, может, приду гостем, — пообещал на прощание Матвей.
Дал повисеть на себе жене — баба она и есть баба, пусть на радостях слезу пустит.
Через ее плечо увидел: возле лавки стоит он — длинная грязная рубаха, короткие холщовые порточки, сизые босые ноги, похож на маленького старичка, отощавшего от долгих постов.
Отстранил жену, шагнул тяжело навстречу. Из-под нестриженых косм — замирающий от робости взгляд.
И через прозрачные с нерасплесканной детской тревогой глаза словно бы сам увидел себя со стороны — грязен, мят, устрашающе щетинист, от такого отца шарахнешься в сторону. Но сынишка только всем телом вздрогнул, когда отец положил на его плечи руки.
— Сенька-а…
Сквозь рубаху — легкая связь тонких косточек, хрупкая плоть.
— Сенька-а… Сы-ын…
Знал, что ему должно исполниться скоро десять, знал, что не люлечный, но как-то не представлял — человек уже, со своим страданием, и не шуточным, считайся. Запершило в горле, глаза зажгло едкой слезой, но плакать, видать, разучился.
Тут бы подарок вынуть, но где уж — после Красноярска и вещевой мешок загнал, налегке ехал, питался по бумажке, выбивал харч у несердобольного начальства. Вздохнул, опустил плечи:
— Ты того…
Хотел сказать, что не тужи о подарке, я тебе, парень, жизнь новую привез, да постеснялся — поймет ли?..
Жена ахала:
— Ну-тка, как снег на голову. В доме-то одна квашеная капуста. Хоть щей бы сварила.
И верно, дом большой, отцовский, со старой копотью по бревнам — в нем голо и пусто, только на божнице старорежимные (тоже под густой копотью) иконы, которые надо будет, не откладывая надолго, снять и выбросить. На холодном шестке голодная кошка лазает по порожним корчажкам. И вид у жены под стать — высока, широка в кости, доброго мужика из нее можно выкроить, но эта широкая, как у старого, с запалом мерина, кость слишком наглядно выпирает из-под ветхой до прозрачности кофтенки, и плоское лицо в нездоровую зелень. Ясно, обстановочка не мелкобуржуазная.
— Сойдет, — успокоил он жену, — не жиреть приехал. Капуста так капуста — тащи и сама садись, буду задавать наводящие вопросы.
Жена собрала на стол, как приказано, села напротив — в глазах счастливо слезливый блеск, даже румянец прокрался на увядшие щеки. Сын в сторонке, смотрит диковато и завороженно, привыкает к незнакомому отцу. А тот ел хлеб, который покалывал нёбо мякиной, выуживал из миски капусту с запашком, косил глазом на сына, разузнавал об Иване Слегове.
— Он ведь чудно разбогател, — докладывала жена. — Он лошадь на поросенка сменял, с того и пошла у него прибыль…
— Как это — лошадь на поросенка? — Матвей многое повидал, удивляться разучился, а тут удивился. Даже ему, оторвавшемуся от села, была известна немудреная мужицкая заповедь: ценней лошади только твоя жизнь и не всегда-то жены, — при доброй лошади новую жену найдешь.
— Уж народ-то смеялся, уж все-то тогда потешались… Ну-ко, хряка молоденького выменял. И поди ж ты, не прогадал. Сказывают, книги такие есть… А сам знаешь, Ванька Слегов к книгам сызмала привык. Отец потакал, со старухой на картошке да на квасе сидел, а сынка единственного в гимназию сунул. Сказывают, по книгам Ванька и дошел, что ежели разыскать какого-то там англицкого хряка да свести с нашей свиньей, то приплод получится на отличку.
— Англицкий, не наш?.. Так-то, поди, мировая буржуазия и подсовывает нам свинью — хочет заново расплодить богатеев в пролетарской стране.
— Уж, право, не знаю, кто там… Но у Ваньки ловко получилось: за два года стадо набрал, а свиньи-то — что тебе чувалы, вот-вот лопнут, кажная брюхом землю гладит. Все-то на продажу везли, кто рожь, кто овес, а Ванюха — мясо. За мясо-то погуще платят, так что быстро перьями оброс: свинарник сколотил, хоть сам живи, а коней каких купил…
— Коней его видел. Агент империализма этот ваш Ванька.
— А ведь смеялись-то как люди. То-то смешки…
— Им бы плакать надо — буржуй под боком, как поганый гриб, растет.
— Ты на него зря серчаешь, он ничего, обходительный и в помощи не откажет.
— В молодости-то и волк молочко пьет.
За дверями раздались шаркающие шаги и стук тяжелой палки.
Жена Матвея встрепенулась:
— Ох, господи! Афанас Саввич идет! А что ему подать, не капусты же жменю…
Дверь распахнулась, на пороге вырос плоский, как сама дверь, старик с холщовой сумой на плече и сквозной апостольской бородой, рассыпанной по груди. Переложив из правой руки в левую суковатую палку, он степенно перекрестился в угол на еще не снятые иконы, суровым голосом потребовал:
— На пропитание, Христа ради.
Матвей проворно вскочил, выставив обтянутую обмоткой ногу, тонкую, как голень болотной птицы, сощурил глаз. В степенном старике с нищенской сумой он признал Афанасия Тулупова, самого наибогатого мужика не только по селу, но и в округе. Когда Матвей уходил в армию, Тулупов имел больше ста десятин земли, маслобойку, мельницу, широко торговал кожами. В сапогах из тулуповской кожи люди топтали дорогу к Вятке, к Вологде, к Архангельску.
— Тэк, тэк… К пролетариату пришел?
— На пропитание, Христа ради.
— Тэк, тэк, Христа ради… Обличье-то новое, а песни у тебя, Афанас, старые. Нет, ты повинись передо мной: я, мол, бывший мироед и эксплуататор, прошу кусок хлеба у своего батрака Матвея Васильевича Студенкина. Тогда я, может, тобой не побрезгую, за стол посажу.
Старик, как в стенку, глянул мутными глазами в Матвея, стоявшего перед ним фертом, еще раз не спеша перекрестился:
— Бог тебя простит.
Взыграло ли прежнее, спесивое, или разглядел, что после Матвея за стол садиться нечего — хлеб с мякиной щедрый хозяин сам умял, осталась-то капустка… Повернулся и, согнувшись в низких дверях, вышел.
— Эвон, как обернулось, — вздохнула жена, — он — и перед нами христарадничает. Светопреставление.
— Дура ты несознательная. Богатого с сумой по миру пустили. Радуйся.
Давно уже в селе Пожары разделили тулуповскую землю. А земля не хлеб, ее трудно делить поровну — тебе кус, мне кус. Тебе попался черноземный клин на вылоге, мне — чистый песочек на припеке, ты доволен, а я нет!
С революции в Пожарах тянулась глухая война, подзатихла было с продразверсткой, да опять вспыхнула. Большая семья Тулуповых давно расползлась, остался лишь сам старик Афанасий, ходил под окнами:
— Христа ради, на пропитание.
И вот в спорах да дрязгах раздался трезвый голос вернувшегося Матвея:
— Ставлю два вопроса, и оба ребром. Первый: запретить поминать Христа как имя старорежимное. Всех кусошников, какие сейчас Христовым именем под окнами просят, предлагаю гнать в шею. Во-вторых, заявляю вам: несознательная стихия вы! Тулупова распотрошили, а сами?.. Каждый из вас в нутре мироед Тулупов, только кишкой потоньше. Вот лично я, как осознавший и презревший всю гнусную суть частной собственности, не хочу дли себя тулуповской земли! Я за то, чтоб не делить ее вовсе, чтоб сообща ее пахать, сеять, урожаи сымать. Чтоб одной семьей — коммунией! Да здравствует, дорогие товарищи, братство да равенство!..
Мужики, поносившие друг друга, тут дружно ухмылялись — блажит Мотька, мало ли в последнее время с ума сходят.
Но должны бы знать эти мужики — коль один петух вскинется, то и другие отзовутся. Скажем, кому-то отрежут от тулуповского каравая жирный ломоть, а укусить его нечем — нет ни лошади, ни плуга, ни оброти, ни семян. Таких беззубых по селу оказалось немало. Беззубые, но не безголосые:
— Не жела-им своей земли! Артельно чтоб!
Ишь ты — «не желаим», тоже гордые — смех и грех.
Мотька Студенкин в свободное от митингов время занимался безобидным баловством, сидел на крылечке, строгал ножиком из досок ружья. Вся пожарская ребятня, как пчелы у ведра с патокой, кружились возле него. Он им и сопли утирал, и судил, если поссорятся, снабжал всех без отлички деревянными ружьями и свистульками.
— Эх, мокроносые, счастье вам — в самое время родились. Пока доспеете, глядишь, последнего буржуя в мире, как вошь, придавим. Богатство поровну всем, чтоб ни один человек на свете с голой задницей не ходил — у всех штаны одинаковые. Ни зависти в мире, ни злобы, ни забот тебе, чтоб деньгу зашибить — красота, а не жизнь у нас впереди, ребятки. Может, и мы на старости лет успеем того хлебнуть.
А изба у него кособочилась, прясла изгороди попадали, жена одна, как прежде, убивалась по хозяйству.
Мотька баловался с детишками, а вокруг его имени собиралась бедняцкая голосистая вольница, для них все трын-трава, терять нечего. Степенные мужики продолжали посмеиваться:
— Не разберешь, где стар, где мал. Ком-па-ния!..
Но вдруг Пожарский мир притих от удивления. На сторону Мотькиной вольницы встал Ванюха Слегов.
Шло обычное собрание в тулуповском доме, давно уже ставшем сельсоветом. Обычное собрание, где крикливые ораторы дубасили себя кулаками в грудь, с визгливыми бабьими криками из задворок людной горницы, с солеными шуточками парней, с густым угаром от самосада.
Тут-то и вышел Иван Слегов. Он вышел к столу, и все притихли, знали — этот пустое брехать не будет. Из молодых, да ранний, на сажень под землю видит.
Иван Слегов начал с байки:
— Бежит свора собак за зайцем. Какая быстрей да сноровистей — хватает, а другие чужой удачи не терпят, на счастливую да на удачливую скопом наваливаются. Зайца — в клочья, никто не сыт, зато все покусаны… Не напоминают ли, мужики, эти собачьи порядки нашу жизнь? Каждый старается урвать для себя, покусать другого. Не пора ли жить иначе, не по-собачьи — по-человечьи, с умом, сообща, чтоб не было обиженных…
Он говорил, а его разглядывали: полушубочек, стянутый в талии, брюки добротного сукна вправлены в бурки с отворотами, желтой кожей обшитые. Таких бурок ни у кого не отыщешь — не деревенской выделки. «Не было обиженных…» А сам-то не обижен ни богом, ни людьми, сам-то из тех быстрых да сноровистых, какие первыми зайца хватают да еще примеряются, чтобы пожирней какой. Слушали его в немом недоверии, когда зазывал объединять все хозяйства в одно-единое.
Может, слова Ванюхи Слегова не понравились какому-нибудь Петру Гнилову, у кого на дворе тоже пара коней, овцы, свиньи, три молочные коровы, — не расчет ему брататься. Петру Гнилову не понравилось, но еще больше пришлось не по душе Матвею Студенкину — неспроста кулак рвется в коммунию, держи на мушке, зри сквозь прорезь.
Матвей кривить душой не любил, решил выяснить напрямую:
— Ну-ка, по совести, чего тебя к нам потянуло?
— Масштабы, — ответил Слегов.
— Это чтой за штуковина? — Матвей книг не читал, слов мудреных не знал.
— Простор, чтоб развернуться.
— Эвон-он что! Развернуться тебе нужно?.. А дадим ли?
Иван Слегов отступил на шаг, расправил плечи:
— А ну, Матвей, погляди…
— Гляжу.
— На меня повнимательней погляди, не стесняйся, с ног до головы обозрей.
И Матвей долго и хмуро разглядывал Ивана: красив, сукин сын, рожа румяная, глаз серый с блеском, из-под мерлушковой шапки с кожаным верхом русая прядь на гладком лбу, из-под ладного полушубка брючки тонкого сукна, и эти бурки генералу надеть не совестно. Сам Матвей, в неизносимой короткой шинелишке, обдутой ветрами Тихого океана, и старых, с чужих ног валенках, сменивших разбитые армейские ботинки с обмотками, с небритым, изрезанным морщинами лицом, почувствовал себя таким жалким, хоть возьми да запой голосом Афаниса Тулупова: «На пропитание, Христа ради!»
Матвей сглотнул комок в горле, пошевелил скрюченными пальцами:
— Картинка. Жалею — трехлинейки не захватил.
— Тебя жизнь одному научила — из трехлинейки стрелять. А пулей, Матвей, жизнь не построишь.
— Значит, сложи оружие?
— Значит, жизнь устраивай. Пора! Я себя устроил, хочу устроить других, да так, чтоб все выглядели, как я, даже лучше. Вce, и ты тоже.
Матвей криво усмехнулся небритой физиономией:
— Валяй. Нам до поры до времени попутчики нужны. Но помни, Ванька, я палец-то на крючке держу.
— Попутчиком под твоей трехлинейкой?
— А то как же.
— Выходит, воевал ты воевал, да так ничего и не изменил.
— А по-моему, переменилось. Иль не замечаешь?
— Да ведь о прежнем мечтаешь: один с трехлинейкой, другой с сохой, один барин-господин, другой раб. Шубу изнанкой вывернуть — она лучше не станет.
— Ты-то чего бы хотел?
— Одного — чтоб ты в сторонку отошел. А то поведешь вперед да заблудишься, на старое место попадешь.
— В сторонку? Не выгорит!
— Поживем — увидим.
— Поживем — увидим, — согласился Матвей.
Иван Слегов сказал слово и продолжал жить, как и жил, — тянул с женой свое большое хозяйство, выезжал на серой паре, вечерами жег керосин, читал книги.
А Мотька Студенкин отложил нож, которым строгал балясины для забавы пожарской ребятни, натянул фронтовую шинелишку и своим куличьим шагом двинулся в город Вохрово. Без робости он вваливался в кабинеты районного начальства, наседал напористо, чуть не брал за грудки:
— Вы что это, так вашу перетак, не чешетесь? Беднякам в Пожарах продыху нет!.. Мировой революции задержка на нашем участке!..
Не Иван Слегов, а Матвей Студенкин выколотил из властей бумагу:
«Земельные угодья старорежимного кулака-эксплуататора Тулупова с этого года и навсегда подушному разделу не принадлежат, а целиком и полностью отдаются в руки беднейших крестьян села Пожары, которые объединяются в сельскую коммуну и зачинают на практике коммунизм, предсказанный великим вождем мирового пролетариата Карлом Марксом».
Землю делили раз в четыре года, подошел срок. И вот, бумага по всем правилам — с лиловой печатью и подписями. Умойся, кто ждал себе тулуповской землицы. Повоевали, и хватит — ничья, неделима.
Не Иван Слегов, а Матвей созвал голытьбу на первое собрание коммунаров, сел на председательское место, заявил: «Выбирай, народ, народного вожака!»
Выбирать?.. Да ясно же — Матвей заводила. Матвей достал бумагу, он уже сидит за столом, чего там долго тень на плетень наводить, поднять руки, и шабаш.
Но и на ясном солнышке бывают пятна, а в любом стаде коза с норовом.
— Сомненьице есть!
Одна-единственная рука над шапками и бабьими платками.
— Кто там еще?.. Э-э, Пийко… Ну что ж, давай.
Пробился к столу Пийко Лыков, один из заговевших в холостяжничестве парней — лет под тридцать, невысок, крепко сбит, голова затылком растет из широких плеч, голубые глазки ласково жмурятся, как у кошки, которую гладят. Пийко — из незаможных, живет у брата, ходит по деревням, «растирает» бревна на тес, кой-какой заработок имеет, даже старшего брата с выводком подкармливает, а в коммуну принести — только пару рабочих рук, не больше того. И еще на одно Пийко мастак — может против шерсти погладить, что и не заметишь. Сейчас в его голосе медок:
— Матвей Васильевич — человек заслуженный. Кто Колчака бил? Матвей Студенкин! Кто с японцами воевал? Матвей Студенкин! Спросите меня, кого я больше всех уважаю, — Матвея Студенкина! По моему-то разумению, мы, может, тебе, Матвей Васильевич, памятник должны поставить. Ты же что сделал? На новый путь нас толкнул! Не-ет! Памятник для внуков — вот, мол, с кого началось… Но уж не будь в обиде, Матвей Васильевич, за неуважение не сочти, а распоряжаться хозяйством я бы пригласил Ивана Слегова. Заслуг у него ровно никаких, до памятника не дорос, а вот хозяйская хватка есть… Сметлив и удачлив — все видим… Служил он себе, а теперь пусть людям послужит… под нашим доглядом, не иначе. А в первую очередь, само собой, станет за ним доглядывать Матвей Васильевич. Уж старому боевому орлу с высоты будет видней — верный ли курс берет Слегов или неверный…
Высказался, развел с улыбочкой короткие руки — мол, не судите строго, ежели что не так, — и Матвею Студенкину покивал вросшей в плечи головой, — не изволь гневаться.
Матвей, однако, не клюнул на обещание Пийко Лыкова поставить памятник. Он сам себе объявил слово:
— Эх вы, простаки, простаки! Легко же таких Пийко на кривой объехать. Чутья классового ни на понюшку! Как нынче ты живешь, Пийко? Слегов-то наверху, ты где-то у него под коленками. И не дивно ли тебе, Пийко Лыков, что Ванька Слегов к тебе вниз полез? Почему бы это ему, богатенькому, братства да равенства захотелось? А потому, проста душа, чтоб крепче тебя оседлать, снова наверх выскочить — работай, я покомандую! Братство!.. По селу головы ломают — мол, коней, свиней, коров своих — все отдает. Задаром, от доброго сердца? Ой нет, ставка-то не мала, но и выигрыш велик. За коней и свиней он силу получить хочет над нами, над деревенскими пролетариями.
Матвей помахивал сухим кулаком, с каждым словом словно гвоздь вбивал, а в толпе слышались одобрительные вздохи. Кто про себя не гадал да не носил подозрение: «Неспроста отдает хозяйство…» Теперь ясно: «Ох и ловок! Но шалишь, поплела петли лисичка, да нарвалась-таки…»
Иван Слегов сидел тут же, и первом ряду, на видном месте — полушубок распахнут, полотняная рубашка перехвачена шелковым пояском, нога перекинута на ногу, лицо спокойное, слушает, не сводит глаз с Матвея, словно речь идет не о нем.
А Матвей продолжал:
— Идет к нам — иди! Любой иди! Запрету нет, но иди на равных, не цель оседлать нас. Сдай коней, свиней, будь таким, как все, пролетарием. Только вот беда, захочешь ли? Хитрость-то твою раскусили. У меня все, граждане-товарищи. Выложил. А вы судите.
И с ходу поднялись судить:
— Пусть-ко теперь Слегов скажет!
— Вер-рна! Поделись-ка, Ванька, мыслей!
— Перед миром-то не отвертишься!
— Валяй лучше начистую!
Иван встал, все смолкли. Ждали — скажет сейчас: «Да ну вас к чертям собачьим! Велика ли мне корысть с вас!» Поди, и прав будет. Но он, повернувшись спиной к столу, к Матвею Студенкину, лицом к людям, снял шапку, помял в руках кожаный верх, глядя поверх голов, сказал твердым голосом:
— Ежели скажу: верьте — поверите? Нет, не надеюсь. Так и уверять да клясться не буду. Думайте как хотите, пока делом не докажу. Все!
Сел, перекинул ногу на ногу.
Собрание больше против Слегова не кричало, но выбрали председателем коммуны Матвея Студенкина — единогласно, и Пийко Лыков не посмел поднять руку против.
После собрания Матвей при всех подошел к Ивану:
— Ну как? Поживем — увидим?
— Так ведь жить-то еще не начали, — ответил Иван.
Бывший тулуповский приказчик Левка Ухо, один из самых наигорьких пьяниц по селу, но грамотей, собственноручно намалевал вывеску: «ШТАБ КОММУНЫ „ВЛАСТЬ ТРУДА“». А в штабе — Матвей Студенкин за столом. А на столе — чугунный письменный прибор (тулуповское наследство), над дырой для чернил младенец с крылышками грозит пальцем. Об этого крылатого младенца Матвей давил махорочные окурки.
И еще сбоку стоял стол — для счетовода. Туда посадили Левку Ухо. Сидел примерно, даже когда был совсем пьян, только в те моменты делами не занимался, а, подперев голову ладонями, капая слезы на коммунарские бумаги, тянул «Лучинушку».
И-извела меня-а кручина, По-одко-олодная змея-а…Матвей терпел его нытье — другого верного грамотея на примете не было. Слава богу, что пьяным Левка не буянил — человек тихий, мухи не обидит.
Дело Матвея — быть председателем, держать марку и распоряжаться. А для того чтобы распоряжения передавались куда надо, без задержки, назначил заместителя попроворней да посмекалистей. Под него по всем статьям подошел Пийко Лыков.
Он родился шестым в семье, а потому в десять лет отец выдал ему двадцать пять копеек на дорогу, мать повесила на плечи мешок с сухарями. В подпаски по соседству никто не брал, издавна повелось ходить под Ярославль, а путь туда не близкий — верст триста от деревни к деревне. Триста верст пехом с котомкою, а лет тебе десять, в других семьях в такие годы мамка чуть ли не с ложки кормит. Ночевка в попутной избе стоит две копейки — место на полу и кипяток хозяйкин.
Помяла Пийко жизнь и потерла, умел ладить со всяким: голубые глазки глядят в зрачки с готовностью, порывисто быстр, только кивни — обернется на живой ноге: «Сделано!» Удобный человек, потом самого бедняцкого роду.
Весна, а в коммуне — шесть лошадей, из них четыре еле себя носят, и три плуга.
Председатель Матвей Васильевич Студенкин сидит за столом, признает:
— Да-а, туговато придется…
Но на то он и председатель, чтоб, не раскисая, давать установку:
— Мужики! Себя не жалеть — работать! Так-то!
И мужики соглашаются, не перечат.
Матвей сидит за столом, давит окурки под чугунным младенцем, подымать мужиков на работу — обязанность Пийко Лыкова.
Собралась в кучу деревенская голь. Каждый мечтал о своей земле. На вот землю — твоя!
Моя?.. Ан нет, маленькая поправочка — наша.
Земля общая, все на ней равны. Все равны, и ты снижаешь усердие, равняешься на того, кто тебе не равен. Но и тот не из последних, и он оглядывается на тех, кто силой пожиже, подравнивает себя, подравниваешься и ты. День за днем идет равнение друг на друга — до нуля, до полного покоя!
На Березовский клин наряжены пахать Федька Самоха и Гришка Кочкин. Кони брошены в борозде, Федька с Гришкой греют животы на солнышке. Попробуй на них прикрикнуть, пошлют по матушке самого Матвея-председателя, а уж Пийко-то и совсем не постесняются.
Пийко не совестит, не кричит, не разоряется, он весел и ласков:
— Жирок нагуливаете, ребятушки? Ну лежите, лежите, а я поработаю.
«Ребятушки» не успеют поднять очумевшие от дремы головы, а уж Пийко идет за плугом, отваливает пласт… Посидят, похлопают глазами, станет неловко:
— Эй, Пийко! Катись по своим делам!.. Мы ведь на минутку, мы — так…
— Вижу — как. На Тулупова ломали по-другому.
— Да ладно тебе.
И Пийко бежит рысцой дальше. И когда, обежав всех, является в правление, пыльный, потный, пахнущий землей, навозом, лошадьми, Матвей Студенкин встречает его вопросом:
— Ну, как там?
— Порядочек! — физиономия в красной парноте, голубые глазки в усмешечке.
Порядочек? Ой нет!
Пахали и сеяли — мучились, засеяли половину земли. Косили — мучились: ни «живой» телеги, чтоб вывезти сено, ни целого хомута.
Мучились, убирая тощий урожай.
Сник веселый Пийко Лыков, рад бы оставить руководящую должность — пила-растируха кормила лучше. А зимой пали три лошади.
Левка Ухо, сжимая голову руками, лил пьяные слезы на свои счетоводческие бумаги:
Извела меня кручина, Подколодная змея…Он уже никогда не бывал трезв.
Коммуна гибла от бедности.
Один только Матвей Студенкин не терял головы. Он читал. Читать-то умел, а вот писать — только свою фамилию под бумагами.
Матвей читал газеты. Газеты же призывали к наступлению на кулака, но по-разному — одни требовали крайних мер, другие остерегали от перегибщиков.
Матвей откладывал газеты в сторону, просил заложить рессорную пролетку, принадлежавшую не так давно Ивану Слегову; лошадь обряжалась в сбрую, с бубенцами, с медными бляшками — тоже слеговскую, — и председатель отправлялся в район, к начальству, утрясать вопросы.
В районе ясных указаний не давали, кидали скупое:
— Ждем решений.
— До кой поры ждать? Нас мироеды с костьми слопают.
— Скоро съезд партии…
Пятнадцатый съезд ВКП(б) собрался в декабре. С отчетным докладом выступал генсек Сталин, он сказал: «Не правы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать, и точка. Кулака надо взять мерами экономического порядка, на основе революционной законности. А революционная законность не есть пустая фраза. Это не исключает, конечно, применения некоторых необходимых административных мер против кулака. Но административные меры не должны замещать мероприятий экономического порядка».
Взять Петра Гнилова «экономическим порядком», а как тут возьмешь, когда он, Гнилов, едва ли не богаче всей коммуны. И есть еще Ефим Добряков, есть Митька Елькин — та компания. Да если они возьмутся, то «экономическим порядком» все село узлом свяжут, никто и не брыкнется.
Матвей угрюмо давил окурки о крылатого младенца, но в район ездить не перестал. Ездил от нечего делать, не надеялся сговориться.
Однако Сталин, видать, знал, как действовать, — слова словами, а дело делом. После одной поездки Матвей привез плакат, повесил у себя над головой. На плакате нарисован жирный, бородатый, звериного вида кулак с обрезом, стояла надпись: «Ликвидируем кулачество как класс!»
Матвей вызвал своего заместителя Пийко:
— Собери всех по селу с мала до велика. Говорить буду.
Собрались стар и млад — тревожное в воздухе, каждому хотелось узнать, что это привез Матвей Студенкин? В тулуповской горнице, что там яблоко, лущеное семечко упади — до полу не долетит.
Матвей выступал часто, ни одного собрания не проходило без того, чтобы не толкал речугу, не призывал до хрипоты к сознательности. Но эта его речь не походила на обычные.
В те дни он простыл, до прокуренных усов туго обмотан бабьим платком, голос сиплый, лицо темное, глаза сухо и зло поблескивают под изборожденным морщинами лбом.
— Хреновы наши дела в коммуне! — сипел он. — Хуже надо, да некуда. Тонем, братцы, скоро на дно сядем…
И в набитой горнице наступила погребная, бросающая в озноб тишина, даже скамьями скрипеть перестали. Шутка ли, сам начал с того — коммуна тонет, садится на дно. Сам председатель Студенкин!
А Матвей рвал эту тишину простуженным голосом:
— Нам — хреново, не на чем пахать, нечем сеять, а вокруг коммуны?.. А?.. Со сторонки на нас смотрите да похихикиваете, что вам, лошади у вас гладкие, справа добрая, семена в закромах! Кто вы в сравнении с нами, коммунарами? Богачи! А для чего революцию делали?.. А?.. Мы потопнем, пузыри пустим, а вы дальше поплывете?.. Нет, землячки, не пройдет такой номер! Мы вот что вам скажем: революция-то не кончена! Эй! Слышишь меня, Петр Гнилов? А ты, Елькин Митрий, слышишь? А Добряков Ефим здесь ли?.. Слышите вы, справные хозяева?..
После этого собрания Матвея пытались убить.
Он приказал жене истопить баню:
— Простыл шибко. Ужо толком попарюсь, может, полегчает.
Жена ушла управляться, а он прилег и заснул.
Он спал так крепко, что не слышал, как со всего села с гвалтом сбегался к его дому народ.
— Мам-ка-то! Мам-ка!..
Вскинулся:
— Ты чего?
Сынишка у изголовья, в полутьме на бледном лице виден лишь раскрытый рот, хватает воздух, цепляется руками за рубаху:
— Ма-ам-ка!.. В бане!..
За темным окном — накаленный, из тусклой красной меди, ствол березки. Матвея ошпарило, сорвался с койки…
Вдавленная в землю черная банька пряталась в ольховом овраге, в который упирался двор Матвея. На селе поздно увидели зарево, сбежались, когда не подступись.
Бабы ахали, кричали на мужиков:
— Чего вы, охламоны, топчетесь? Живая ж душа там!
— Гос-поди! Да крючья несите!
Кто-то бегал и суетился без толку:
— Ве-едра! Где ве-едра?! К ручью цепью надоть!
Кто-то стоял завороженно: банька с нижних венцов до верхних — золотисто-сквозная, крыша в чадных лохмотьях пламени. Где уж…
Кто-то судил да гадал:
— Добрались-таки до Мотьки.
— Царствие ему небесное.
— Ой, не похвалят за душегубство!
— Авдотья будто слышала: из бани-то вроде бабий голос кричал.
— Тут не по-бабьи, по-поросячьи заверещишь, коль поджарит.
И вдруг шарахнулись на две стороны — ворвался Матвей, босой, по залежавшемуся апрельскому снежку, без шапки, в исподней рубахе, воскресший для всех из огня. Он ворвался и словно наткнулся на стенку, встал на шаг от весело постреливающих, зло раскаленных бревен, дико уставился слепыми запавшими глазами. За его штаны цеплялся сынишка, трясся худеньким телом.
Какая-го баба не выдержала, взвыла позади:
— Горе емыч-ные! Да что же теперь с вами станется!..
В это время крыша баньки прогнулась, с хрустом и шорохом обвалилась внутрь. Вспухла тугая розовая волна, осыпала искрами Матвея, его всклокоченные волосы, его полыхающую отсветами рубаху. Матвей вздрогнул, оторвал взгляд от огня, повернулся к людям, замершим от робости, от горестного сочувствия, — лицо накаленно-горячее, вместо глаз темные ямины.
А к отцу жался сынишка. Матвей заметил его, нагнулся, поднял, прижал к себе, ступая босыми ногами по расквашенному снегу, понес от огня. Люди, тесня друг друга, торопливо расступались.
Шагов через десять Матвей остановился, снова повернул безглазое лицо к бане и лицо скривилось судорогой.
— Нет, Сенька! Нет, гляди, сын! — хрипло закричал Матвей. — Гляди, Сенька, и впитывай! Кулачье на всю жизнь запомни! Их рук дело!..
В тревожно пляшущих отсветах пламени теснился народ. А Матвей хрипло причал:
— Гляди, Сенька! Чтоб жалости потом не знал! Чтоб давил гадов и жег! Гляди, сынок, любуйся!..
Люди поеживались, молчали. Баня догорала, багрово высвечивая Матвея, растрепанного, в длинной выпущенной рубахе, прижимавшего к груди сына.
Неизносная армейская шинелишка, единственный наряд председателя, его шапка из псиного меха попутали охотничков. Их на себя надела жена. Ее приняли за Матвея — баба была рослая, корпусом походила на мужика, — выследили, приперли дверь колом. Баня-то сгорела, а кол остался, только обуглился с одного конца. Этот кол Матвей поставил на видном месте в конторе.
— Разбираться лишка не стану, — говорил он каждому, кто приходил, — кто тут виноват, кто нет — дело судейское. Для меня все богатеи виноваты. Пусть все они загодя богу молятся.
Он почернел лицом, страшно исхудал, сквозь небритые щеки выпирали челюсти, глаза провалились. Прежде вроде бы жену ласковым словом не баловал, а теперь всяк видел — сохнет. Сыну он сам стирал рубахи, вместе с бабами не стеснялся полоскать нищенское бельишко на вымостках, сам латки ставил, сам варил варево, обиходил, как мог, и учил:
— Помни, мать, Сенька, от кулацкой руки лютую смерть приняла, держи это под сердцем. А пока ты силу не наберешь, я буду стараться… Уж буду!..
Но прошел год, прежде чем Матвей Студенкин развернулся.
В начале мая, сразу после праздников, он диктовал опухшему, вечно похмельному Левке Ухо:
— Пиши: Гнилов Петр Емельянович — две лошади, три молочные коровы… Написал?.. Теперь ставь Добрякова Ефима — тоже две лошади — кобыла да стригунок, две коровы. Елькин Митрий Осипович…
Список был длинный, в него входили все, кто жил в достатке. Последним стоял Антип Рыжов, тесть Ивана Слегова. Против его фамилии Матвей указал проставить: «Не шибко богат — лошадь да корова, зато язык длинный, пускает вражеские разговоры по селу». Жаль, что Ваньку Слегова теперь не зацепишь — ни лошадей у него, ни коров, ни даже курицы своей во дворе не держит, и разговоры вражеские не приклеишь, молчун, хотя кому не ясно — думает не по-нашему.
Самих убийц найти не смогли, да Матвей тут особо и не усердствовал: так ли уж важно открыть только убийц, война-то идет классовая — все, кто не с нами, тот наш враг.
Реквизированные у раскулаченных богатеев шубы, поневы, зипуны, сапоги раздавались по списку самым беднейшим. В беднейших числился и сам Матвей Студенкин, что у него — пара горшков щербатых, обгрызенные деревянные ложки да из живности тараканы в стенах. Он мог бы взять много — своя рука владыка, — но взял лишь полушубок с плеча Ефима Добрякова. Шинель-то сгорела вместе с женой, жену, что уж, не вернешь, а шинель законно и возместить. Пригребать себе кулацкое Матвей не хотел — за идею воюем, не за барахло, пусть знают.
В освободившиеся дома вселяли тех, кто не имел крыши. На тридцать первом году своей жизни Пийко Лыков въехал в собственный дом — пятистенок Петра Гнилова. Въехал?.. Да нет, просто вошел, неся с собой фанерный чемоданчик и узел, где лежали суконные штаны и яловые сапоги.
А по селу опять ходила молва о бесовской сметливости Ванюхи Слегова. Загодя знал, к чему причалить, ехал бы теперь в компании Гниловых да Елькиных. Ан нет, цел, при деле, живет тихо и мирно, еще и наверх выбьется. Ох, ловок нечеловечески!
В доме Слеговых лила слезы Маруська, жена Ивана, дочь Антипа Рыжова. Она оплакивала отца, мать, трех братьев, высланных Матвеем Студенкиным в дальние края.
Матвей прежде читал газеты да давил окурки о чугунного младенца. Пришло время — нашлось занятие по характеру: обходил дом за домом. Дверь открывал пинком ноги, не ломал шапку, не бросал «здравствуйте»; спрашивал у оробевшего хозяина в лоб:
— Заявление подал?
И если отвечали: «Нет», цедил сквозь зубы:
— Мотри у меня.
Матвей выполнял сто процентов. Ни одного человека не должно быть в село, кто не подал бы заявление в колхоз. Охват на сто процентов, и никак не меньше.
Левка Ухо разрисовал новую вывеску — пошире и покрасней: «ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА „ВЛАСТЬ ТРУДА“». Уже не «штаб», а «правление» и не «коммуна», а «колхоз» — такова установка сверху, хотя сердцу Матвея старые слова милей.
Эта вывеска была последним, что сотворил в своей жизни Левка Ухо, грустного характера человек, которого даже не веселило злое вино.
Он в последнее время пил без просветов, являлся утром в контору, уже держась за стенку, до своего стула все-таки добирался, обхватывал руками голову и начинал «Лучинушку». Дошло до того, что не выдержал и Матвей. Выбрал момент, когда Левка был чуток «попрозрачней», заявил со всей прямотой:
— Хоть ты и не кулацкого роду, но работать с тобой трудно, даже совсем невозможно. Ежели бы ты революционные песни пел, а то тянешь какую-то нуду — душу воротит. Сымаю тебя с должности.
Снять просто, расчета не требовалось, Левка лучше других знал, что колхозная касса не то чтобы пуста, просто ее не существовало. Матвей же не мог дать ему из своих и щербатого гривенника на опохмелку — какие у него деньги. Левка встал и тихо ушел.
Вечером все слышали, как он нудил свою «Лучинушку» на крыльце Секлетии Клювишны. А утром исчез, говорят — тихо скончался в районной больнице.
Стараниями Матвея в Пожарах не осталось ни одного единоличника.
Матвей Студенкин — сила, Матвей Студенкин — власть. Когда он шагает по улице своей куличьей походкой, разговоры смолкают, мужики невесело расступаются, на бабьих лицах появляется невинно-постное выражение. Только дети не боялись Матвея, увязывались за ним:
— Дяденька Матвей, ты коня на колесах сделать сулился!
Матвей в жизни ни одного мальчишку не шуганул сердито, всегда сбавит шаг, пообещает:
— Обожди, милой, недосуг теперь.
А то и остановится, нагнется:
— Эх, пролетарий, нос-то у тебя… Ну-тка.
Утрет, шлепнет по заду:
— Иди, воюй!
Мальчишке и горя мало, что дяденька Матвей марширует к его отцу. Того при виде Матвея бросает в холодный пот.
— Мотри у меня…
Не дай бог, ежели прибавит — «подкулачник», недолго и зашагать из села под доглядом милиционера.
Кто теперь против Матвея Студенкина? Никого.
Ой ли?.. В колхоз вошел крепкий середняк — хозяйственные мужики, они принесли заботу и тревогу — жить-то надо, а как? В колхозе касса пуста, но бедным теперь его не назовешь — тягло, скот, инвентарь раскулаченных и высланных перешли в колхоз. Надо жить и, поди, можно жить. Но на житье-бытье студенкинской коммуны все досыта нагляделись.
Против Матвея открыто — никто, но за спиной, шепотком — все: «Пропадать нам с таким председателем, по миру с котомками пойдем».
Матвея же — как жить? — не волнует. Для него это вопрос ясный. Во-первых, новую колхозную жизнь надо начать с общего собрания, где его законно выберут председателем. Во-вторых, на этом собрании следует твердо заявить — кто не работает, тот не ест! В-третьих, если его слово собрало в колхоз все сто процентов работоспособного пожарского населения, то оно заставит собирать и стопроцентные урожаи. Матвею ясно, у Матвея — твердая линия.
На общем собрании он, как всегда, восседал в центре стола — острые плечи разведены, хрящеватый нос с сухого лица нацелен «на массы», лоб изборожден суровыми морщинами. Даже первые скамьи люди занимали неохотно — приятно ли сидеть под прицелом председателя, за спинами вольготней.
Взял слово Иван Слегов. Укатали сивку крутые горки — не тот Иван, ладный полушубочек потерт, на ногах уже не бурки городской выделки, а подшитые валенки, и в осаночке нет прежней вальяжности. Попробовал бы теперь сказать Матвею Студенкину: «Погляди на меня, хорош ли?»
Выступать Ивану против Матвея опасней, чем кому-либо, — сразу помянет старые замашки — из кулаков чудом выскочил. Никто и не ждал от Ивана храбрости. Но Иван повернулся к Матвею и заговорил:
— Ты, Матвей, большой мастер. Вытряхнуть из кого-то там потроха умеешь. И спасибо тебе, натряс — есть лошади в колхозе, есть все, чтоб работать. Но трясти-то больше некого, вот беда. Не пригодится твое мастерство. Что же тебе дальше делать? Опять газетки читать, покуривать?.. От этого, сам знаешь, жизнь не наладится. Мой совет тебе — уходи, пока колхоз не развалил. Чем быстрей ты на это решишься, тем лучше. Все хотят! — Круто повернулся к людям: — Иль неправда?
И Матвей только успел налиться кирпичным цветом, открыть рот, но выдавить слово ему уж не дали. Взорвалось в воздухе единым дыханием:
— Пра-ав-да-а!
И загромыхало:
— Не хотим Студенкина!
— Какой ты хозяин!
— Сами выберем!
— Газетки-то читать многие умеют!
— Братцы, кричи другого!
— А вот Лыкова, что ли?..
— Обходительный!
— Пийко, бери власть!
И никто не обмолвился об Иване Слегове. О нем как-то все забыли. Иван постоял, постоял перед шумящим народом и незаметно сел на свое место.
* * *
Тащит с натугой валенки старый Матвей Студенкин. Растянулось село Пожары, длинна до дому дорога. Не верится, что доберется до теплой лежанки, — считай, пять лет от нее не отходил.
Встречаются люди. Кто помоложе, даже не оглядываются — совсем незнаком. Кто постарше, скучновато дивятся: «Эва, Альки Студенкиной свекор вылез, износу ему нет». Он — Алькин свекор, и только-то, забыли люди напрочь, что когда-то боялись его взгляда, слову его перечить не могли.
Тащит Матвей груз долгих лет, налегает на клюку…
После того собрания он махнул в район за помощью: «Добро же! Кулацкого слова послушались. Думалось, подкулачников-то — раз-два и обчелся, ан нет, все село подкулачники! Будет работка…»
В Вохрово недавно появился новый секретарь райкома — Чистых Николай Карпович, из молодых выдвиженцев, про него уважительно говорили: «Застегнут на все пуговицы».
Застегнут-то, положим, но на шее галстук, никак не рабоче-крестьянский — интеллигентская висюлька.
— Народ против вас. Так что ж это, товарищ Студенкин, вы нас с народом поссорить хотите?..
Попробовал было Матвей прижать его по-фронтовому:
— Ты кровь проливал за революцию? Нет… То-то, вижу, тебе наша революция не дорога, перед подкулачниками потрухиваешь!
Чистых вежливенько отчесал его за партизанские ухваточки, указал на дверь:
— Идите!
И Матвей пошел бродить из кабинета в кабинет, искать правду. Кой-кто из старых работников ему сочувствовал, но грудью прикрывать не собирался.
А потом бродил с места на место: развозил мешки с почтой, подался на лесозаготовки, но там даже на самом низком руководстве требовалась грамота, а иначе бери в руки топор да пилу.
Наконец осел на маслозаводе учетчиком, хоть туго, да считал литры сданного молока, килограммы масла и просчитался — открылась недостача, чуть не попал под суд, хотя ни сном ни духом не виноват. Пришлось завернуть лыжи в колхоз:
— Прими, Пийко.
Ан нет, уже не Пийко, а Евлампий Никитич.
— Приму. Иди конюхом.
А сам же когда-то говорил: Матвею Студенкину поставить в селе памятник.
— Не хочешь, дело хозяйское. Вот бог, вот порог — неволить не будем.
Он, можно сказать, вытащил Пийко из грязи в князи, — кто бы заметил его, если б Студенкин не пригрел в заместителях.
Он много лет работал конюхом. Не Евлампий, нет — тот и не замечал, — а любой бригадиришка из молодых да голосистых мог накричать:
— Поч-чему чересседельники на полу валяются? Почему оброти перепутаны? Рук нет, чтоб прибрать!
В войну бригадирствовали бабы, тоже командовали Матвеем:
— Эй, дед, закладывай лошадь — сено возить! Да мотню подтяни, не то запутаешься.
И сын Сенька забыл, как отец показывал ему горящую баню. Забыл? Да нет, такое не забывается. Только отцовские наказы не держал у сердца. Убийцы-то Сенькиной матери, скорей всего, сосланы, давно затерялся их след. Сенька рос смирным парнем, к отцу относился с почтением, в колхозе работал с охотой, был призван в армию, в финскую ранен, вернулся домой, успел жениться, и новая война… А вскоре и похоронная…
Матвей после этого чуть не отдал богу душу, пошел к конюшне да вспомнил, как увидел Сеньку в первый раз — в длинной рубахе, в холщовых порточках, похожего на отощавшего старичка, и не выдержал, упал, подобрали добрые люди… Горевала и Алька, видать это-то и свело их накрепко. Грех жаловаться на сноху — кормила, обиходила, с печи не гоняла. Вот ежели б еще внук остался, нянчил бы, совсем, считай, тогда счастливый. Но внука нет, а нынешние ребятишки не ведают, что дедко Матвей когда-то умел затейливо вырезать ружья из досок…
Плетется Матвей по улице села, даже собаки на него не лают.
Пийко-то… А?..
Он вот жив.
Нет, не старые обиды, не торжество со злобой сорвало Матвея с печи, заставило добраться до крыльца умирающего Евлампия. Давно разучился обижаться и злобиться — выгорело. Вспомнились лучшие деньки в жизни, когда сам Пийко Лыков по его кивку на живой ноге: «Порядочек!»
Пийко умирает… Приполз с ним проститься, с ним и со своим прошлым. Но не пустили, прогнали с крыльца… Что ж…
Палка ощупывает неверную землю, норовящую ускользнуть из-под ног. Шагает старый Матвей к печи… Даже Пийко… А он-то моложе лет на пятнадцать добрых, коль не больше…
Палка ощупывает неверную землю.
Иван Слегов
Крашеные полы, почти больничной белизны подоконники, стол, неуютно стоящий посредине, над столом свисает электрическая лампочка, голая, ничем не затененная. От комнаты ощущение пустоты и простоты казенного места — жилье прославленного по области человека, который ворочал миллионами и не любил отказывать себе в чем-либо. Жилье?.. Председатель дома лишь ночевал, да и то далеко не каждую ночь. Он в пять утра уходил, возвращался затемно. Он здесь гостевал, а жил в стороне.
Сейчас дом пропах насквозь нечистым, почти звериным запахом, как медвежья берлога.
Иван Иванович стоял на своих костылях, громоздкий, приземистый, беспомощно неуклюжий, словно большой черный краб, морское чудо, вытащенный из воды на сушу, изнемогающий от собственной тяжести.
Он почувствовал на себе взгляд Чистых. Давно привык, что на него глядят с сожалением — калека горемычный, — но за готовной услужливостью в круглых прилипчивых глазах лыковского зама уловил тоскливую зависть. Ему, оказывается, еще могут завидовать…
Из-за перегородки вышла жена Лыкова, подавленно поздоровалась с бухгалтером, высохшая, морщинистая, в белом платочке, несвежем фартуке, под которым прятала свои корявые, натруженные бабьи руки. На унылом остроносом лице не видно большого горя, веки, нет, не красны, глаза потухшие, вылинявшие, углубленные в себя, а в фигуре неловкая связанность, как у человека, попавшего в чужой дом. Такая же, как всегда, а муж-то умирает…
Иван Иванович кивнул ей в ответ шапкой, бросил нетерпеливый кивок в сторону Чистых: «Веди».
— Сюда. В боковушке он, Иван Иванович.
Костыли глухо стукнули, валенки подмели крашеный пол.
Из открытой двери сильней ударил застоявшийся запах, Иван Иванович не удержался, поморщился. Навстречу поднялась сестра-сиделка в халате, с вязанием в руках. Она поспешно пододвинула свой стул, немо пригласила: «Садитесь».
Но Иван Иванович остался висеть на костылях, утопив глубоко в плечах голову. На лбу под шапкой собрались жирные суровые складки.
Вот он, прославленный Лыков: на подушке выделяется бескровно серый, бородавчато неровный цвет кожи, все рыхлое лицо оттянуто на одну сторону, потончавшие бледные губы, казалось, выражают предельную брезгливость, левый глаз прикрыт веком, в правом проглядывает мутноватая студенистость глазного яблока, в запавших висках копятся тени.
У Ивана Ивановича не было в жизни друзей. Кроме жены, Евлампий Лыков — самый близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал. Висит над ним на костылях верный Иван.
— Больше тридцати лет… — произнес он невнятно, — почитай каждый божий день виделись…
— Да-а, друзья, — сокрушенно вздохнул Чистых. — Нынче такое редкость.
— Тридцать лет каждый день, а сказать все друг дружке так и не успели… Кой-что осталось…
Чистых снова вздохнул с почтительным сокрушением. И снова Иван Иванович уловил на себе его тоскливо-завистливый взгляд.
Ему завидовали, а у него давно уже не было будущего, в свое же прошлое он оглядываться не любил.
* * *
Жил когда-то в селе Пожары учитель Семиреченский — из обедневших поповичей, — носил косоворотку и лапти, как пророка почитал поэта Некрасова, днем и ночью, в будни и праздники мог без устали рассуждать о великой душе русского мужика. Ванюшка Слегов на одном из его первых уроков без натуги решил задачу: «Летело стадо гусей…» И Семиреченский поверил:
— Быть тебе новым Ломоносовым!
Он заставил верить и Ванюхиного отца — «быть ему, отдай в гимназию!» — взялся хлопотать, нашел опекунов, добился-таки, что Ванька Слегов надел тужурку со светлыми пуговицами.
Семиреченский про Ванюхиного отца говорил: «Мудр в своем хозяйстве, как Соломон в государстве». А хозяйство Ивана Слегова-старшего было невелико, и мудрость его умещалась в одной заповеди: «Латай портки вовремя, тогда сносу не будет». Обвалилось прясло изгороди, видел, да рукой махнул — «а-а, потом!». А тут соседская коза влезла, обгрызла всю капусту, зимой без капусты, значит, картошки больше уйдет, значит, пойло корове пожиже, значит, молока меньше, а без достатка в картошке, без молока, без масла на хлеб расход, того и гляди, до нового урожая не достанет. Малую дырку не залатал, и разрослась прореха в хозяйстве — «латай портки вовремя».
Невелико слеговское хозяйство, земли не больше других, но крепко, опрятно, как молодой грибок боровичок: стожки на пожне огорожены — лось не подступится, лошадь одна, зато гладкая, корова обильно молочная, свиней, овец не густо, но все в теле, а над поветью всегда крыша чинена. Все потому, что латал вовремя, без дела ни минуты не сидел. Правда, после неурожайных лет поджимались, но опять же семья невелика — не семеро по лавкам, сын единственный. Зато сынок лаптей не нашивал — всегда по ноге сапожки и рубашонки из покупного ситчика.
А уж тут совсем замахнулся — в гимназию!.. Из села Пожары в гимназиях-то одни тулуповские дети учились, доходы тысячные, сравнить в округе не с кем.
Чужим и неприветливым показался город Ванюхе — земля на улицах забита камнем, дома друг к дружке вплотную, в домах людей полно, а чем люди живы — неизвестно, не пашут, не сеют, а ситный едят, на день раз по пять чаи с сахаром гоняют.
Жил у одинокой Пелагеи Клюквиной. Пелагею девкой вывез из Пожар бывший офеня, от короба с бусами да сережками дотянувший до собственной торговли льном и холстами. Задолго до приезда Ванюхи он умер, вдова жила в просторном доме, к новому жильцу была ласкова.
Первое время сильно тосковал, вспоминая: съезд с повети бревенчатый, между бревнышек трава сочится, весною черемуха цветет, по утрам под петушиный крик колодезный журавель начинает кланяться…
К учебе в гимназии он подошел с отцовской заповедью — латай вовремя, не откладывай, что наказывали выучить, помни, что ешь хлеб Пелагеи не задаром, отец ей платит, на квасе сидит. Учился хорошо, стал книги читать, удивился тургеневскому Базарову, который гордился: «Мой дед землю пахал». «Эва, дед, а у меня отец и до сих пор пашет!» Сошелся с товарищами, те тоже читали Тургенева, уважали Ванюху: «От земли человек». А домой тянуло: «Меж бревнышек травка сочится…»
И в первый же приезд в Пожары день порадовался, потом оглянулся, и разочаровало родное село. Сам город, где он учился, был тих, горбатился сорными булыжными мостовыми, а уж в Пожарах-то и совсем обычаи вятичей и родимичей (узнал о них в гимназии): ребятишки бегают без штанов, в одних посконных рубахах, землю ковыряют прадедовской сохой, мужики, сходясь нa завалинках, тянут одну постылую песню: «Ох, плоха наша земля, никудышна — силушку жрет, а не родит».
Местные земли и на самом деле считались незавидными — подзол да суглинок, кой-где пополам с песком.
И все-таки с наслаждением сбрасывал куртку со светлыми пуговицами, косил, метал стога, помогал отцу подымать паровище. Соседи завидовали: «Всем парень взял, и умом, и крестьянской сноровкой». Отец раздувался от похвал, но одергивал сына:
— Не лезь, без тебя управимся. Не для того учим, чтоб руки навозом пачкал.
Увозил Ванюха в город отцовское бесхитростное понятие о счастье — трудись, чтоб прорех не было, делай вечером то, что мог бы отложить на утро. И вот тогда-то каждое утро будет тебя встречать: все налажено, все на месте. Капуста на огороде топорщится — матовые, хрящевато негибкие листья чуток за ночь подросли. Подсвинок в закутке довольно похрюкивает — сыт, стервец, за ночь нагулял золотник жирка. Корова мычит со стоном — вымя тяжело… Утро, слава тебе господи! Жизнь идет, и жизнь без прорех, с подарочками, которые не сразу-то и заметишь. Покой — дорогой, душа поет, умытому солнышку радуется.
Только в самом селе нет покою и ладу, кругом житье-бытье серенькое, дерганое, толки и перетолки только о прорехах: то дождь обошел — хлеба сохнут, то дождь подвалил — сено погнило, то овцы паршивеют, то корова брюхо проколола, а то и прямо беда — лошадь пала, кормилица, вой в доме, как по покойнику. А чаще всего о земле: «Ох, плоха! Ох, никудышна!..»
В городе Ивану попалась книга Лекутэ «Основы улучшающего землю хозяйства», в переводе Энгельгардта.
«Плоха земля, не родит…» Ой ли?.. Ежели она питает могучие леса, то уж человека пропитать как-нибудь сможет, сумей из нее взять.
Иван штудировал Лекутэ.
Ему исполнилось семнадцать лет, когда загремело по стране:
Это есть наш последний и решительный бой!Село жило как в осаде. Мир, вставший дыбом, обложил со всех сторон Пожары. Голодный, тифозный, озлобленный, время от времени этот мир засылал продотряды — небритых, угрюмых, напористых людей с винтовками и наганами.
— Показывай, где хлеб?
И откидывались крышки погребов, выворачивались половицы, разметывались укладки сена и прошлогодней соломы.
Село робко пряталось по избам, с тоской молило: «Пронеси, господи, лихую напасть!»
Иван сразу же после революции бросил гимназию. До нее ли — потянуло домой, к земле.
К земле! — звало Ивана воспоминание об отцовском покойном счастье. К земле! — знал читанный и перечитанный Лекутэ. К земле! — звало и гордое:
Это есть наш последний и решительный бой!«Последний и решительный…» Но последний ли? Разве не придется воевать с пожарской землей? С винтовкой на эту клятую землю не пойдешь. Не всем стрелять, кто-то и пахать должен. До сих пор те, кто читал Лекутэ, сами не пахали и не сеяли. А кто надрывался на пахоте, не только Лекутэ, календарей не читали.
Будь жив учитель Семиреченский, он бы понял Ивана, а отец встретил его с вожжами в руках:
— Пахать то и без гимназий можно! Для того я, дурак, на квасе сидел…
Иван отобрал у отца вожжи, отец заплакал.
У старого Слегова все шло вкривь и вкось: мобилизовали лошадь, оставили кобыленку недоростка, забрали хлеб по разверстке. «Латай портки вовремя…» Где уж… И на вот — сын, последняя надежда, отказывается учиться, вернулся на насест, значит, будет, как все, мужиком, быдлом, косолапой деревенщиной. А думалось — не отцовская доля, выбьется в люди: «Не пачкайся навозом, сокол ясный, береги себя, тебе высоко летать».
Прилетел, кукарекает:
— Хочу пахать землю!
От сплошных огорчений отец как-то круто свернулся, три месяца поболел и умер, а за ним и мать слегла на печь, тихо угасала…
Зимними вечерами село вымирало. Мужики ненавидели все — и новые песни, и новые речи, и новых людей в трепанных шинелях и кожушках, перепоясанных наганами, ненавидели разоренного богатея Тулупова, ненавидели друг друга, притаились по избам от злой вьюги, от чужого лиха. Эхма, от продразверстки бы спрятаться!
Будь жив учитель Семиреченский, он бы объяснил. Теперь Ивану приходилось дозревать один на один.
На лавке торчком круглое полено. В него вбит нехитрый железный светец, в огне корчится лучина, роняет угли в щербатый горшок с водой. По бревенчатым стенам бесшумная, натужная война — свет лучины воюет с мраком, шевелятся конопаченые пазы, и кажется, что потолок то подымается, то опускается до макушки.
В городе он, где мог, понахватал книг, были сборники Безобразова и разрозненные журналы «Отечественных записок», Дюма и Лажечников, «Князь Серебряный» и «Заратустра» Ницше, Чичерин «Собственность и государство» и Зибер «Рикардо и Карл Маркс». Хранил кой-какие работы Тимирязева… Но самой большой ценностью оказалась недавно приобретенная брошюра Ленина — «Государство и революция». Ее-то и листал при свете лучины, как в окно, заглядывал — в будущее.
Как в окно… На низенькие оконца слеговской избы вплотную навалился тревожный мрак, выл ветер, мел снег. И где-то в этом полуночном лешачьем вое, в бесконечной метелице кружились обезумевшие люди, стреляли друг в друга, умирали от голода, от сыпняка, от морозов. Беспросветный мрак за низенькими оконцами, не жалкой лучине пробить его. Лучина освещает раскрытую брошюру, а там ясная картина:
«…Люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития, без особого аппарата для принуждения, которое называется государством».
Неужели привыкнут?..
Иван отрывается от строчек, пляшущих вместе с неверным пламенем. Привыкнут?..
Он знал пожарский мир, знал в нем каждого человека. Еще недавно все перегрызлись, когда делили тулуповские земли. Петр Гнилов, отец пятерых сыновей, борода сивая от седины, бросился с колом на Митьку Елькина. Теперь вроде и земля особенно не нужна, что ни посей — отберут по продразверстке, за нее не только в колья, но спорить лень. А Гнилов и Елькин до сих пор готовы друг дружке клок из горла выхватить. И такие-то привыкнут без принуждения мирно жить, честь честью блюсти вежливые правила? Что-то не верилось.
Но потому-то и раскололась страна — одни верят, другие нет, одни глядят вперед, другие назад. Ты что, Иван, назад норовишь, тебя к старому тянет?..
Гуляют беспокойные тени по бревенчатым стенам, сердитая лучина воюет с мраком, и ветер воет снаружи…
Обратно в старое, где когда-то пригревало нехитрое отцовское счастье: «Латай портки вовремя…» Что скрывать — как вспомнишь, теснит сердце: капуста топорщит хрящеватые листья, подсвинок сыто похрюкивает, корова мычит со стоном — музыка! Живи, не заглядывай далеко, трудись честно, не станет сил трудиться, лезь на печь, жди смерти. Неужели только-то и надо человеку, чтоб отбыть свой срок на белом свете? Так просто отбыть, оставить детей, чтоб и они отбыли положенное. Чем тогда человек отличается от крапивы, от куста калины под изгородью? Той калине тоже век отмерен, она тоже семя бросает, чтоб рос, отбывал срок новый калиновый куст.
Мир у отца был от задворок до калитки, Иван чувствовал — уже никак не умещается в нем.
«Люди постепенно привыкнут…» Надо верить, иначе жизнь бессмысленна. Любая человеческая жизнь, и его, Ивана, и Петра Гнилова, и Митьки Елькина — всех в Пожарах, всех на всей круглой земле.
Но ведь прежде чем новая привычка росточком проклюнется, надо вырубить старый лопушник.
Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим — Кто был ничем, тот станет всем!Ленин в упор указывает — частная собственность! Вот зло!
Иван и прежде где-то нутром это чуял. Мое, кровное — не трожь, зубами вгрызусь! Как ни просторна Россия, но вся разгорожена — то твое, то мое, и кому-то не хватало, кто-то оставался без доли. Из века в век так было, только теперь полыхнуло против этого волчьего — мое, зубами!.. Из века в век, с глухой древности впервые — ты угадал родиться.
Ни мое, ни твое — общее. Как просто! И не хотят понимать, льется кровь из-за этого. Он, Иван Слегов, бывший гимназист, мужицкий сын, кровь свою не пролил за революцию. Он хлебороб, а хлеб наш насущный выращивается не на крови.
Свет лучины, неровный, больной, горячечный, как брод тифозного. И раскрытая брошюра на столе, и цветными радугами плывут мечты.
«Люди постепенно привыкнут…» — общая земля, общая забота! Раньше кому какое дело, что Ванька Слегов читал Лекутэ, для себя читал, для своей корысти. Теперь твоя башка в артели, твои мозги общие. Разве это не счастье — себя перед другими наизнанку вывернуть? Все, что знаю, — ваше, люди добрые! Еще школу особую заведу в Пожарах, мужицкие дети станут читать Лекутэ.
Вы все сейчас нищи, прячете друг от друга жалкие копейки в чулки, в кубышки, на дно сундуков под бабкины поневы. А рассудите, если эти копейки вынуть, сложить в один карман — уже богатство. Не на пьянку, не в кабак — купим машины, заставим их работать. Машины непременно родят новые машины, на автомобиль сиволапый пожарец усядется, коней для красы, для уважения держать будем — тоже потянули лямку, пусть отдохнут. И есть такая вещь, как электричество, она ночь в день повернет… Молочные-то реки и кисельные берега, право, не сказка с издевочкой, не смейтесь!
Пусть не сразу, пусть не скоро, но наступит час, когда все оглянутся и признают — с Ваньки Слегова началось! В селе Пожары мир до него — тот мир, что умирает сейчас при свете лучины! — будет так же походить на мир после него, как малярийное болото на райские кущи.
Воет ветер, заносит снегом село. Каждая изба — берлога, люди прячутся друг от друга, боятся стука в дверь, а не ведают, что уже стучится, да, сейчас, да, в лихую темень, ко всем стучится их счастье.
В Пожарах только он, Иван, слышит этот стук. Жаль, учитель Семиреченский не дожил — слушали бы вместе, было бы теплей, не так одиноко.
Лежит на столе раскрытая брошюра, обещающая: вот забросят винтовки, сделавшие свое дело. И тогда «люди постепенно привыкнут…».
Пляшущий свет лучины освещает стол, свет лучины, одной из последних в России.
Молочные реки не сказка, не смейтесь, люди!
По продразверстке у него, как и у других, отобрали хлеб, оставили только на семена. Тянул к весне на картошке. Мать до весны не дотянула, схоронил на погосте, поставил, как просила, крест. И тут спохватился — нельзя жить только мечтаниями.
В ростепельный мартовский вечер Иван пришел к Антону Рыжову с бутылкой первача в кармане.
— Породнимся? Отдай за меня Маруську.
А чего бы Антипу не породниться, чем Ванька Слегов плох — не богат, но собой виден, в работе сноровист и даже в гимназиях сидел.
Антип Рыжов, рослый мужик, на широком лице черти горох молотили, опрокинул стакан первача, крякнул, понюхал корочку:
— Эй, Манька!
И она вышла на обманчиво веселый огонек светца: по белой кофте сполохи неверного света, заплетенные туго косы под матицей, мрак бровей под чистым лбом, да пьяной влагой блестят глаза. Пригнула голову, спрятала лицо…
Антип ухмыльнулся:
— Ишь, кобылка, тут как тут.
В приданое Маруська получила годовалого жеребенка. В хозяйстве Ивана оказалось две лошади. А на что две, когда и с одной пока справляется, как справлялся отец: «Латай портки вовремя…»
Раскрыл ей, кто он такой — поводырь в сказку, к молочным рекам.
Она покорно поверила, раз верил он.
Она-то поверила, но должны поверить и люди. Докажи делом! Не просто — на это, пожалуй, уйдет не один год.
Земля еще пресно пахла талой водой. По стерне монахами гуляли грачи, ждали первой борозды. Первая весна в новой семье. Он взялся за ручки плуга, сказал озабоченно:
— Ну, лиха беда начало.
Из-под лемеха отваливались сытые куски. Грачи выстроились растянутым цугом. Спину его провожали счастливые глаза Маруси.
Первая борозда. Обоим верилось, что она уведет далеко-далеко, и не только их.
В эту весну он совершил дерзость — кто б из мужиков на такое осмелился! — лошадь сменял на поросенка. А расчет оказался верным. С тех пор начал богатеть.
Матвей Студенкин привык смотреть на белый свет сквозь прорезь винтовки.
Он, Иван, по-своему уважал Матвея, голосовал бы обеими руками за памятник ему, но Матвей лег бревном на пути…
Верил: не твое дело толкать это бревно, люди сами спихнут, а он, Иван, не спешит, он молод, ждать может, жизнь-то только началась. Он верил и ждал…
Любил и берег коней — эх, серы кролики! — но отвел их в коммуну. Коней, корову, свиней. Что еще? Рубаху с плеч? Готов! Его даже не особо огорчило, что Матвея Студенкина выбрали в руководители.
Поживем — увидим.
Его назначили заведовать живностью коммуны. А вся живность, считай, — в его бывшей свиноферме. За какой-нибудь год-два он так развернет свое дело, что все кругом ахнут от удивления.
Поживем — увидим!
Но с первых же дней неприятность. Пригнали обобществленных бедняцких свиней, хребтисто тощих, в коростах от неведомых болячек, в свежих ранах от недавних драк — лютое, визжащее зверье.
Приказ:
— Размещай!
— Куда?
— Как — куда? К твоим.
— Рядом с породистыми-то?
— Эва, твоим курорт, а наши, бедняцкие, — в канаве. Своих отличаешь! Кулацкое нутро взыграло?.. Мотри!
И попробуй докажи, что этих коростяных, чесоточных нельзя и на версту допускать до породистых. Дешевле их выгнать в лес подальше.
У Ивана на год вперед, до нового урожая, было заготовлено и муки, и картошки, овса и круп с избытком, чтоб стадо жирело и плодилось. Но нагнанная свора оказалась прожорливой. В них, как в прорву, — жрут, гадят, а глаже не становятся.
Весной приказ от Матвея, обухом по голове:
— Передать излишки кормов со свинофермы конюхам.
— Излишки? Где они?
— Не рассуждать! Передавай что есть.
Все в коммуне одобряли Матвея: на лошадях-то пахать, а на пустое брюхо они плуги не потянут, эка беда, ежели свиньи и потощают чуток.
В тесном свинарнике — голодный вой, страшно войти, породистые и те стали бешеными.
А от Матвея новый приказ:
— Выделить трех свиней на убой!
Опять верно, надо кормить не только лошадей на пахоте, но и самих пахарей.
Иван наметил на убой не трех, а пять свиней — не из породистых, из сброда. Туда им и дорога, нисколько не жаль — меньше ртов, легче прокормить.
Но как только стало об этом известно, поднялся вопль:
— Это что же, трудящемуся человеку — кусок пожестче, мягкий жадуешь?
— Свое добро бережет!
— Нутро-то кулацкое!
— Не финти, Ванька, режь тех, что пожирней.
Иван пробовал втолковывать, обещал — лошадей новых купим, плуги, машины, дайте только сохранить свиней, только они дадут доход в звонкой копеечке, помимо них коммуне рассчитывать не на что.
Сули орла в небе… Когда-то этот доход будет, а мясцом полакомиться и сейчас можно. Прежде слеговская свининка уплывала на сторону, теперь — шалишь, наша, «обчая», чего цацкаться.
Поживем — увидим.
Трезво оглянуться — это грабеж, дикий, необузданный.
Земля наша — не твоя, потому не усердствуй особо. Свиньи — наши, не твои, — чего их жалеть, режь! Не твои лошади, не твои коровы, не твой инвентарь. И ты, как в крепком хмелю, — зачем думать о завтрашнем дне, живи минутой!
Матвей Студенкин сидел в окопах, валялся в тифу, лил кровь, он не жалел себя, чтоб отвоевать новую жизнь. И отвоевал! А теперь не жалел отвоеванного.
Иван заговорил было во весь голос:
— Куда катимся? Опомнитесь! Революцию в навоз втаптываем! Жизнь это или издевательство?
Кой-кто с опаской его слушал и, должно, соглашался. А кто-то сразу затыкал ему рот:
— Эва! Это ты-то революцию спасаешь. Помним — каких коней имел. Тебе назад любо.
Коней ему припоминают, тех, что добыл своими руками, а потом сам отвел, не пожалел. Стыдись их, они на тебе Каиновой печатью.
Никто его не поддержал — молчали. Замолчал и он.
По утрам он разносил жидкое пойло, свиньи встречали его голодным ревом.
Он продал свои фетровые бурки, чтоб купить пять мешков мякины для свиней. Фетровые бурки — ложкой море не вычерпаешь.
От жены он ждал попреков. Должна бы попрекать — обманул же: расписывал себя пророком, попал к свиному корыту.
Маруся — ни слова, молча билась вместе с ним, лазала с пестерем и серпом по чужим огородам, жала для голодных свиней крапиву, запаривала, нянчилась с сосунками, выносила ехидную бабью жалость: «Болезная ты, мужик-то у тебя умом тронутый… Какое хозяйство ну-тка на распыл отдал…» Руки ее были жестки и корявы, сама похудела и почернела, от глаз потянулись морщины. И старых нарядов она уже не надевала, шелковая шаль, в которой когда-то выезжала на серой паре, лежала на дне сундука.
Однажды в масленицу, в морозный ясный день, когда солнце освещало пышное кружево заиндевевших берез, она увидела вышедшего на крыльцо Ивана в подшитых валенках, в старом заскорузлом кожушке и заплакала. Вспомнила недавно проданные нарядные бурки, обшитые желтой кожей, вспомнила, как в такие дни, празднуя масленицу, они катались по селу на серой паре: «Э-эх! Серы кролики!»
Иван стоял пришибленный, не знал, чем успокоить, не находил слов. И вдруг — диво! — вместо того чтобы от него ждать успокоения, она сквозь слезы стала успокаивать сама, нашла слова:
— Ничего, Ванечка, жизнь-то она ровно не идет. Перетерпим, масленицы дождемся.
Сквозь слезы, виновато улыбаясь дрожащими губами.
А в голубой путанице закуржавевших ветвей застряло желточно переспелое солнце, по подрумяненному снегу тянулись синие тени.
Иван сжал зубы, чтоб самому не расплакаться, приказал:
— Иди, надень шаль… Ту… шелковую… Ради праздника.
Матвей Студенкин — колода на пути. Даже ребятишкам в селе ясно — Федот, да не тот. Но что ни день, то крепче его власть — получил право указывать перстом: этого раскулачить и выслать, этого, этого!.. На Ивана не ткнул, но задеть задел. Маруся рыдала, билась головой о стену, лежала разбитая. Иван боялся — подымется ли Маруся на ноги, ездил в Вохрово за врачами. Она поднялась, пошла жать крапиву для свиней.
После того Иван пришел к Матвею, положил на стол заявление:
— Вот. Ухожу из колхоза.
Матвей ухмыльнулся:
— Уж так просто — ухожу. От раскулачивания увильнул, за коммуну спрятался, теперь — хвост трубой да на сторону. Шалишь, Ванька!
Тогда-то Иван решился: все молчат, а он скажет.
Сказал…
Эхом откликнулись люди.
Откликнулись… Казалось, тут-то и должны бы вспомнить все, что он сделал. Доверьтесь, силу и душу отдам без остатка!
Вспомнили об Евлампии Лыкове, ему доверились — он понятней, он свой, ты — белая ворона.
Мальчонка, один из лыковских племянников, в первый раз привез с маслозавода сыворотку для свиней.
— Принимай, дядя Иван.
Об этой сыворотке шла долгая переписка с районом, извели пуды бумаги — улита едет, не скоро будет. И вот улита приехала.
Лошадь у паренька была крупная, грязная, под линялой шкурой туго выпирали ребра, голову держит понуро. Иван подошел, чтоб помочь парнишке, и вдруг лошадь подняла голову, обдала влажным взглядом и тонко-тонко, с тоской заржала. Он-то не узнал, а она узнала… Один из двух серых лебедей — копыта разбиты, бабки вздуты, брюхо в коросте грязи, и влажный взгляд, и тоскующий плач по прошлой жизни, по теплому стойлу, по ласковой руке хозяина, сующей в бархатные губы куски сахара.
Он любил своих лошадей, гордился ими… Он никогда не заглядывал в общественную конюшню; если видел серых коней на дороге — отворачивался, боялся разбередить душу.
И вот нос к морде, глаза в глаза столкнулся… Конь первым признал его…
Ночью не спал, лежал с горячей головой, видел перед собой влажный, преданный, тоскливый глаз, а в ушах — тихое, проникновенное, призывно-жалобное ржание. Копыта разбиты, бабки вздуты, ребра что обручи, проведи палкой — загремят.
Довели… Так-то, Иван, и тебя изъездят…
А утром — пасха, печные трубы источали запах сдобных куличей. Церковь недавно закрыли, против церковных праздников шла напористая агитация, но праздновали все — верующие и неверующие. Кто по русской привычке откажет себе лишний раз выпить да повеселиться?
Село праздновало пасху, бабы, выскакивающие на крылечки, полыхали яркими поневами.
Иван с женой разносил пойло свиньям.
Вечером горела лампа с надтреснутым стеклом, освещала начищенный рюмчатый самовар, блюдо с горшечного цвета крашеными яйцами. За черным окном моросил мелкий дождь, никак не пасхальный. В сырой темени пиликали гармошки, доносился резаный крик пьяной бабы и вызверевшие от самогона голоса.
Они вдвоем сидели за столом. Маруся, старательно причесанная, в чистой кофте, а лицо желтое, усталое. Им даже не к кому пойти в гости. Принято ходить к родне, а родни-то в селе у них не осталось — отец и мать Ивана померли еще до коммуны, Матвей Студенкин освободил от родни Марусю.
Пиликают за окном гармошки, чужое веселье идет стороной, они вдвоем с глазу на глаз, никто не вспомнит, никому не нужны. А завтра снова придется отбиваться от озверевших с голодухи свиней, и завтра, и послезавтра, и на третий день, без конца — в тупике жизнь, в тупике мысли, давящее молчание за столом.
— Иван… — У Маруси в тени под бровями нехороший, блуждающий блеск, голос придушенный: — Иван, сходил бы ты… Разыскал деда Бляху, что ли…
Он внутренне содрогнулся от ее голоса:
— Зачем?
— Все гость у нас будет.
Не было презренней человека на селе, чем старый, без роду, без племени, выживший из ума бобыль Бляха. И занятие у него — помогает чистить нужники. Косноязычен, грязен, умом убог, робостью пришиблен. И такого-то за стол, вот уж гость от великого отчаяния.
— Марусь, ты в своем уме?
— А что тут плохого?
— Выходит, нам вдвоем плохо?
— Сиротливо, Ванечка, сам чуешь. Теплей станет, когда одно сиротство к другому прислонится… Не перечь, сходи за стариком, Христом-богом молю.
Они привыкли друг друга слушаться. Она просит, отказать не смел — поднялся в смятении…
Окна изб были по-праздничному освещены, в них качались тени. Но яркие окна не разгоняли сырой тьмы, напротив — от них она казалась еще гуще, жирней. И шел укрытый темнотой праздник — перекликались гармошки, чавкали сапоги по грязи, пробивалась сочная матерщина, и все еще резано кричала пьяная баба.
Вспомнилась вчерашняя встреча с лошадью — разбухшие бабки, влажный тоскливый взгляд, тихое, выворачивающее душу ржание. Не будущее ли его это? А может, сегодня уже так выглядит? Маруська за гостем послала, за Бляхой… Сломалась!
А кругом пьют, веселятся, дерут мехи гармошек — что он для них.
Любил их, себя предлагал и оптом, и в розницу — берите, не стесняйтесь. Один Матвей Студенкин — колода?.. Ой нет, каждый! Весь путь из непролазных колод, не мечтай пройти — ноги сломаешь.
Он шел, прижимаясь к изгородям, чтоб не ступать по грязи, лез в сырую темноту, заполненную звуками чужого праздника. Стояла перед глазами лошадь с понурой мордой, с тоскливо любящим влажным взглядом. А дома под лампой сидит сейчас Маруся — причесанная на пробор, в выглаженной кофте, с желтым, усталым лицом. Он не только собой, но и ею бросался — берите, жертвую, ничего не жалею. Маруся! Маруся!.. Ради кого?..
Выгнанный из дому, Иван вдруг почувствовал буйный приступ отчаяния — вот-вот рухнет на землю, начнет вопить и корчиться в грязи. He-на-ви-дит! Себя! Всех! Весь свет, кроме одной жены, чью жизнь он пустил на размен! Ненавидит! Обворовали, сволочи, выхолостили, горло бы рвать каждому!..
Из проулка, веющего колодезным мраком и сыростью, заревела гармонь, стала надвигаться. Темный воздух сотряс сиплый голос:
Я на Дуньке верхом — Ножками качаю. При колхозе можно жить, Сталина не хаю!Промесили грязь плотной кучей, пахнущей избяным теплом и сипухой. Новый голос, молодой, певуче въедливый, выдал на отдалении:
Заграницу обгоняем, Хлещем, выпучив глаза: Пропадай моя телега, Все чот-тыре колеса!«Вот они, на кого разменял себя и Марусю! Им плевать, как пойдет жизнь, плевать, будут ли сыты, плевать, как после них станут жить дети, даже в этих пьяных песнях они издеваются над собой. А на тебя им и подавно наплевать. Только юродивые в ответ на плевок утрутся и с поклоном благодарят. Ты — юродивый для них!»
В истощенный ненавистью мозг пришла простенькая мысль. Пьяное ночное село навело на нее, визгливые вопли бабы, на которые никто не обращал внимания. Ежели в такой вечер кого убить — кто удивится? В такой вечер все возможно.
В другое время эта случайная мысль мелькнула бы и исчезла, как тысячи других нелепиц. Сейчас засела занозой, стал отгонять ее, продирался вдоль изгородей вперед, к окраине села, где стояла на отшибе, задом к полям, маленькая, как банька, изба горького бобыля Бляхи.
Он позовет Бляху, он усадит его за стол. Может, Маруся права, в ней бабья мудрость — в таком вот сиротливом бобыле Бляхе и живет человечье. Пусть завтра все село начнет издеваться — вот, мол, сошлись Ванька Слегов и золотарь Бляха — два сапога пара, ха!
Вышел за село. В лицо с невидимых, спрятанных в ночи полей ударил густой и влажный ветер. Там, за толщей ночи, стоит колхозная конюшня, сооруженная из старого овина. Наверняка возле этой конюшни никого нет. Конюхи пьянствуют в селе.
Случайная мысль не давала покоя. Она росла в голове, как ряска в теплой луже.
Убить или поджечь — кто удивится! Все возможно. Конюшню поджечь, перед самой посевной. Пийко Лыкова возьмут за жабры, а в колхозе новая карусель. Ненавидит! За оплеванную жизнь, за рев голодных свиней, за Марусю, сидящую сейчас под лампой с желтым лицом, — за все!
Дул тугой, влажный ветер навстречу, за спиной гуляло село, забывшее о его существовании, там затерянная, одинокая Маруся. Она-то, может, готова простить, но он уже прощать не хочет. А ночь все покроет… А завтра он снова положит на стол заявление: не могу с вами, сплошные непорядки, и зачем я вам, я, читавший в гимназии Лекутэ, выписывавший журнал «Сам себе агроном», создавший в округе лучшую свиноферму… Как знать, спохватятся, да поздно! Перегорел!..
Искрились картины, одна другой злорадней. Иван впервые за последние годы снова почувствовал себя сильным, дерзким, способным на отмщение. Долго страдал от своей доброты, не хватит ли?..
Он только тут ощутил, насколько тяжела его ненависть. Не под силу носить ее, жить с ней изо дня в день, притворяться покорным, разносить свиньям пойло. Рано или поздно прорвется, это может случиться среди бела дня, без его воли, без его желания. Так не лучше ли сейчас, пьяной ночью, когда все возможно. Другой такой случай не скоро представится.
Руки сами стали шарить но карманам, искать спички.
Если б под рукой не оказалась коробка спичек… Наверно, он бы повернул домой, наверно, потом сам испугался бы дикой минуты, с годами пережил свою ненависть, и жизнь пошла бы иначе. Коробок спичек… Он отыскался: часа два назад Иван в свинарнике зажигал фонарь.
Сжимая в кулаке коробок, Иван ощупью по бровке грязной дороги зашагал в поле, испытывая зябкое, обессиливающее томление — за все! Сами постарались, чтоб стал врагом…
Он уходил в ночь от села, переборы гармошек становились все глуше и глуше.
Тьма и полевая тишь. Сыплет дождичек да налетает потер, ночь похоронила пьяное село. В черном, как сама земля, небе не увидел, а скорее почувствовал вознесшуюся крышу. Сквозь дощатые ворота слышался мирный стук, то лошадь ударила копытами о настил. Там и его кони…
И опять вспомнилось — уроненная морда, влажный взгляд в душу, нечеловечья жалоба… И их вместе со всеми?.. Подавил жалость — им-то и подавно смерть избавление, самому хозяину жить невмоготу…
На всякий случай окликнул сколовшимся от волнении голосом:
— Эй, кто тут живой?
Молчание, вздох рабочей коняги.
— Эй, дрыхнете, черти! Максим! Степан! Кто нынче дежурит?
Ворота не заперты, даже чуть приоткрыты, манят черной щелью. Ну и порядочки, любую лошадь уводи в овраг. Конюхи Максим Редькин и Степан Зобов и в будни-то не любят торчать по ночам в конюшне.
Что ж, Иван, неудавшийся вождь села, берись за полуночное дело.
На секунду пришла трезвая мысль: «А не бросить ли, к чертям, затею!» Бросит, унесет с собой ненависть, та станет жечь: был случай, да упустил. Тряпка ты, Иван, потому-то тобой и помыкают.
Где-то тут должно быть сено. Так и есть, неразобранный воз мок под мелким дождем. Разгреб сверху волглое, кисловато пахнущее, добрался до сухого, стал охапками носить под угол, под дверь. Прижатое к лицу сено щекотало ноздри залежалыми покойными запахами тмина и медовой кашки, сохраненными с лета.
Рука сжимает коробок. Одна спичка — и займется, ровный ветер с поля будет нагнетать огонь на бревенчатую стену. А бревна овина старые, выстоявшиеся.
Встал перед сеном на колени, согнулся, прикрывая собой от ветра сложенные лодочкой руки. Ну, с богом…
И рука окостенела на коробке, стиснуло грудь, съежилось до ореха сердце, на ознобленной голове под шапкой вспухли волосы.
За спиной явственно прошуршало, кто-то толкнул дощатые ворота, потревожил брошенное под них сено. Вкрадчивые шаги… Нет сил обернуться. Шаги замерли. Кажется, дышат прямо в затылок. Потная рука с хрустом сдавила коробок…
Хотел вскочить… Обрушилось на спину — похоже, бревно, тупое, тяжелое…
Сено колюче встретило лицо…
Считали: он прозорлив, как никто, видит на пять лет вперед, на аршин под землю. А не рассчитал простого — пьяного праздника боялся и сам председатель Лыков, и раз уж взяли его за душу опасения, то первая мысль — конюшня. Положиться на конюхов нельзя, Максим и Степан отцов родных на смертном одре побросают, коль учуют, что спиртным пахнет.
Евлампий их отпустил — гуляйте, — сам устроился спать на сене в яслях.
Его разбудил окрик:
— Эй, кто тут живой?
Не ответил, стал осторожно выползать из ясель. Можно бы и не осторожничать — кони фыркали и шуршали сеном.
У ворот в углу стояли свежие заготовки для оглобель. Одну из них, еще хрипящую тяжелую влажность живого дерева, Евлампий и опустил на спину Ивана.
Кляня в бога и мать кулацкую сволочь, святую пасху, конюхов, вслепую отыскал дугу, оброть, хомут, чересседельник, вывел лошадь, ощупкой запряг ее, завалил в телегу размякшего, бесчувственного Ивана и повез по непролазной весенней грязи за пятнадцать километров в Вохрово, в больницу.
Едва отъехал от села, как на тычках да ухабинах Иван пришел в себя, стал надрывно кричать:
— О-о! До-бей!.. О-о-о! Мочи нет!.. Добей, ради бога!
— Заткнись, контра!
— До-обей, гад!.. Будьте вы все прокляты! Будьте трижды прокляты, сво-о-олочи!!
Вопли и проклятия разносились по темным, сырым, неуютным полям. Евлампий Лыков нахлестывал лошадь.
Оказалось — перебит позвоночник, отнялись ноги. Ивана упрятали в жесткий гипсовый панцирь от паха до подмышек.
Стояли славные солнечные деньки. Из больничного садика лезла в открытое окно яркая весенняя зелень. В селе, должно, суета, дым коромыслом — сев в разгаре.
Идет сев, а ему плевать, понимал — он человек конченый. Ежели даже и вылечат, и ноги снова оживут, то топтать им придется уж не зеленую землю, над которой хотел властвовать, а казенный пол тюрьмы. Попытку поджога ему не простят.
Просил врачей и сиделок:
— Жену пустите.
Просил каждый день:
— Жену…
Другого желания не было.
А его берегли после операции — обращались ласково, мерили температуру, кормили с ложечки теплым бульоном, сходились над койкой по нескольку человек, рассуждали озабоченно. Может, потому и Марусю не допускали — вдруг да сильно разволнуется, не на пользу пойдет. Странный, однако, народ — берегут, чтоб потом в тюрьму упрятать. Наказывали бы сразу, раз контрой стал, чего глупые церемонии разводить, хлопот меньше, да и дешевле.
От безделья лезли в голову покаянные мысли: «Эх, не умно сорвался, на черта их конюшня сдалась, без фокусов рано или поздно убраться мог, живите как хотите, я — сторона…» Но если прикинуть, куда бежать-то, на какие земли? Теперь всюду порядки одинаковы…
— Жену пустите.
Дадут ли поглядеть на родного человека, на единственного?
Дали…
Однажды днем задремал, уставши от пустопорожних мыслей, проснулся от того, что кто-то смотрит в лицо. Открыл глаза и вздрогнул под гипсовой жилеткой — она! Не домашняя, не знакомая, в больничном халате, лицо усохшее, нос острый, в глазах покорное страдание, как у подбитой птицы.
— Ванечка, кровинка моя…
И, словно в яму, стал валиться, потемнел в глазах ясный день. Как сквозь стену, бился пойманной чайкой ее голос:
— Лихо ты мое горькое!.. Да что с тобой?.. О господи! Кто тут? Где доктор-то?..
Но он уже пришел в себя:
— Не надо, не зови никого.
И, не скрывая выступивших слез, сказал счастливо:
— Думал, не увижу никогда.
— Куда я от тебя денусь? На веки вечные веревочкой связаны. Неразлучный ты мой!
Он взял ее грубую, в черных трещинах и ссадинах руку, прижал к небритой щеке:
— Связаны не на счастье, выходит.
— И не смей, не смей! Какие слова говоришь!.. Как только язык повернулся!
Он прижимал к щеке ее руку и глядел в глаза. Глаза тревожные, сухие, опаляющие страданием.
Знает ли? Как не знать. Поди, по селу давно звон стоит, на нее пальцами тычут — сучка каторжная… И прощает, как всегда.
Но нет, она ничего не знала, осторожно, чтоб не разбередить, спросила:
— Кто же это тебя, Ванечка? Какая зверина?
— Кто?.. А разве не известно?
— Евлампий Никитич сказывает: за Пашутиным домом на задах тебя нашел. И как это тебя туда занесло?.. Кляну себя, распроклятую, что толкнула из дому.
— За Пашутиным?.. На задах?.. Чего он комедию ломает?..
Не знает она, не знает и село, иначе бы донесли, уж не постеснялись. От новой тайны заметался в гипсовых оковах:
— Чего он молчит?.. Чего ему, подлецу, еще от меня надо?..
— Кто, Ванечка? Гос-поди! Кто?!
— Не спрашивай! Потом! Только не сейчас! Потом все узнаешь! Сама!.. Только теперь не спрашивай…
— Молчу, молчу. Ради Христа, утихни. Не казнись, и так сердце разрывается.
Он не сразу успокоился:
— Что ему? Не пойму, что еще?..
Глаза ее потемнели, взгляд стал тяжелый, сильно, видать, хотела знать, но не допытывалась, только гладила черствой ладонью его лицо. Ему же в эту минуту не хотелось ворошить прошлое. Минута-то счастливая.
Но из головы не выходило: все-таки, что надо Пийко? К чему эта игра в пряточки?
Скоро выяснилось. Евлампий Лыков явился собственной персоной — широкий костяк черепа проступает сквозь тугую, обветренную кожу, белесые волосы поредели, под шишкастым лбом в сумрачных яминах голубые глазки, неожиданно ласковые, с тихой улыбочкой. И пахнет от него вкусно — то ли черемухой, то ли горечью клейких листьев, обидным для закованного в тяжелый гипс человека. А в руке у Евлампия узелок — цветочками линялый ленок. От узелка тянет домашним уютом, покоем обретенной семьи. Евлампий, считай, молодожен, не столь давно, в этот мясоед, праздновал свадьбу, взял в жены Ольгу Редькину. Ей — восемнадцать, ему — за тридцать перевалило. Узелок в голубых цветочках, голубые глазки в доброй улыбочке — ну, ни дать ни взять, пришел брат, родная душа.
— Вот… — узелок положил к подушке возле уха Ивана. — Тут курочку жинка сварила. Сам подбирал — молодая, тельная…
— Тебе чего, сукин сын? — спросил Иван в потолок. — Сам видишь, я калека, одной ногой в могиле. От меня уже не покорыствуешься.
— Выживешь. Узнавал — выживешь. Плясать — вряд ли и ходить вряд ли, а жить будешь.
— Чего тебе от меня? — сурово повторил Иван.
Он лежал наособицу в операционной палате — тесной комнатушке на одно окно, с одной койкой. И хотя кругом никого не было, но Евлампий все-таки шагнул к окну, за которым в близком и недоступном Ивану солнечном мире скандалили воробьи, захлопнул его, снова сел напротив — короткая шея, массивные салазки, крепкий череп под шершавой шкуркой, бронзовый лоб, хоронящий под собой голубые глазки. Уже без улыбки, уже деловит.
— Ты, Ванюха, жить будешь, за это лекаря скопом ручаются. Жить будешь, но сидючи. Вот я и подумал: а зачем мне тебя в тюрьму упрятывать, бог с тобой…
— Одолжил. Может, ждешь — спасибо скажу?
— Может, и скажешь. Пока я всем говорю: стукнули тебя по пьяному делу, а кто — не знаю. Конечно, и ты ведать не ведаешь. Ясно? Припутывать кого-то там не след. Мало ли в праздники чего не бывает.
— Жалостлив или боишься, что тебе самоуправство приклеят?
— Мое самоуправство законное. На разбое тебя прихватил, так что — чист и свят, даже благодарность могу заслужить.
— Все корысть, чего отказываться-то.
— С тебя корысть поболе.
— С меня?.. Я же калека без ног.
Евлампий помолчал, ощупывая голубым глазом. В его взгляде — не насмешка, не холод, а, похоже, жалость. И это поразило Ивана: застал на разбое, оглушил оглоблей и… жалеет. Притворство? Хитрость? Издевка или совесть взыграла? С чего бы?..
— Эх, Ванька, Ванька! Ведь я ждал, ждал… — произнес Евлампий.
— Чего?
— Что озлобишься. Я за тобой не один год со стороны слежу. Я, может, один только и понимал тебя: и как ты показать себя хотел, и как сорвалось, как в свином корыте надежду утопил…
— Потому и приложил?
— Все-таки не думалось, что до такого дозреешь. Враг среди ночи — ударил, прощенья за то не прошу, хотя жалею.
— Хватит ерничать-то. Я же в жалость давно не верю — ни в твою, ни в чью-то.
— Может, мне надо было свое место тебе уступить — пограмотней да и поумней меня, поди, лучше смог бы колхоз поднять. Но у меня тоже душа по большому делу зудит. И с народом я лучше тебя столковаться могу. Ни народ тебя не понимал, ни ты его. Так что — баш на баш менять, только время терять.
— Чего хочешь, Пийко?
— Иль не ясно еще? Тебя к себе приспособить. Ты мне советик, я его в дело вобью. Накормим, оденем, обуем людей, такое, может, завернем, что никому и не снилось. Может, дома белокаменные вместо изб поставим, в них у каждого столы со скатертями, полки с умными книгами. Не жизнь, а масленица. Будет! Будет! Верю! Ради такого кровь по капельке выцедить не жаль!
И под надвинутым черепом вспыхнувшие синевой глаза — верит, не врет. Невдомек Евлампию Лыкову, что он сейчас этой верой бьет Ивана больней, чем оглоблей. Старая, безнадежно потерянная сказка о счастливом селе Пожары, где молочные реки и кисельные берега. Евлампий выкрал ее, присвоил себе и ждет, чтоб помогал. Иван дернул головой:
— Нет уж, Пийко, не выйдет. Сам справляйся, а меня не трожь.
Евлампий сразу поскучнел, отвел глаза, сказал:
— Выйдет. Куды тебе такому подеться, даже ежели и помилуют. Милостыню под окнами просить не способен — ложись и помирай. А я жить даю.
— А ты спроси: хочу ли я… жить-то?
— Хочешь, Иван, хочешь, даже сидючи. Посажу тебя счетоводом. Кормить будем, поить будем.
— Мне за это перед тобой на лапках служи?
— Лапки-то у тебя попорчены, а вот голова цела.
— Все равно не захочу!
— Чего тебе еще хотеть? Только царства небесного. — Евлампий лениво встал. — Поправляйся скорей… Сев идет неплохо, авось и лето не подведет — с урожаем будем… А курочку съешь, не брезгуй. Когда варилась, соседи слюни глотали. Я-то сам не помню уж, когда и пробовал курятины.
В начале сентября, в ясное прохладное утро, когда трава еще мокра, а пыль на дороге вязка и ленива, двигался через село Иван Слегов.
Бабы останавливались, зажимали рты концами платков, глядели раскисшими глазами — ох, горемыка разнесчастный, господи!
Иван налегал на новенькие, недавно выстроганные костыли, перекидывал чужие, словно привязанные ноги, потел с непривычки.
Он шагал в колхозную контору, где за бухгалтерским скрипучим столом его ждал свободный стул.
Иван Слегов (Продолжение)
Лицо серое, бородавчатое, оттянутое на одну сторону, правый глаз полуприкрыт мятым веком.
Висит над койкой грузный Иван Иванович.
Он полжизни шел к этой койке. Он почему-то верил — ему придется увидеть Евлампия Лыкова на смертном одре. Верил против здравого смысла — сам-то сидел сиднем тридцать лет и три года, оплывал тяжким жиром, страдал от сердечной одышки, от больных почек, ему ли, калеке, надеяться, что пересидит налитого кипучим здоровьем Евлампия — физиономия словно натерта кирпичом, багровый загривок, ртуть-мужик, для всех неожиданность, что свалился. Не должен бы верить, а верил…
Вот оно… Мир уже разглядывает не живым зрачком — кисельной слизью из-под мертвого века. Очень близкий человек, чаще ни с кем не встречался, теснее никого не знал.
Вдруг Иван Иванович вздрогнул под своим толстым зимним пальто всей кожей: в тенистой впадине виска уловил — бьется жилка, натужно, неровно, еле заметно для глаза, но бьется. Последние толчки бурной, шумной, удачливой жизни.
Охватила неожиданная жалость к Евлампию, неподвижно лежащему под одеялом, чужому Евлампию, с чужим сдвинутым лицом. Собирался напомнить костыли, долги живого потребовать с покойника. Лежачего лягнуть, а лежачему безразлично.
Старый бухгалтер неуклюже зашевелился, развернулся, волоча валенки по крашеному полу, двинулся к дверям, убегая от чужого Лыкова, от своих мстительных мыслей, от самого себя. Лежачего лягнуть… Зачем?
Как тень, качнулся за Иваном Ивановичем Чистых.
Сестра-сиделка проводила их отсутствующим взглядом, села на стул возле койки, принялась за свой недовязанный носок.
* * *
В минуты откровения Евлампий Лыков признавался: «Ты, Иван, мой посох, без тебя я так далеко бы не ушагал». Иван Слегов обычно такие откровения встречал молчанием.
Земли села Пожары упирались в земли деревни Петраковской. Деревня большая, по числу дворов не уступала селу. В селе — церковь («Богу помолиться — нас не обойдешь»), зато петраковцы, хоть и подальше от бога, но всегда жили позажиточнее — сидели на заливных лугах, а значит — держали больше коров, значит — и землю погуще сдабривали навозом, почаще ставили на стол щи с наваром. Ни один престольный праздник не проходил, чтоб по селу Пожары не раздавался клич: «Бей жилу!» Пожарец с раннего детства усваивал, что каждый петраковец:
Жила, жиловат, Тощой ухват, Морквой разговелся, Брюхом исстрадался…«Бей, братцы, жилу, круши их!»
Петраковцы презирали пожарцев, дразнили:
— Вань-кя! Вань-кя! Продь-ко по доске.
— Чай, я квасу хлябанул — шатае…
Навряд ли справедливо, потому что «Бей жилу!» раздавалось не с квасу.
В Петраковской не было коммуны, как не было коммун в других деревнях и селах, в Пожарах — единственная во всей округе.
Как теперь, так и прежде, все убеждены, что пожарский колхоз поднялся только тем, что Евлампий Никитич Лыков счастливо оказался в председателях. Он — причина.
Иван Слегов вслух не возражал, но про себя никогда не соглашался с этим.
Да, Пийко Лыков — пробивной мужик, да, он и в старости — до того как свалил удар — был быстр на ногу, до всего поспевал сам, а в молодости и подавно не знал покоя — не откажешь, вез воз на совесть.
Но с тех забыто древних времен, когда пещерный мужик провел первую межу по земле, отделил ее от других земель, назвал своею — живет единоличность. И чтоб это тысячелетне мужицкое — мое кровное, не лезь, душу вырву! — кто-то один ретивый за год, за два лихо повернул на коллективное — ну нет, шалишь, слишком просто. Ни прыткость Пийко Лыкова, ни его веселые шуточки не помогли бы. Наверное, и у него, Ивана Слегова, окажись он на месте Пийко, вышла бы осечка. Теперь-то он поумнел, великим деревенским вождем не мнит себя.
Может как-то научить уму-разуму сама жизнь. А село Пожары пережило бесшабашную коммуну Матвея Студенкина. Она прошла у всех на глазах, она насторожила даже самых отпетых: «Берись за ум, плохо будет». Одно то, что Мотьку Студенкина скинули, Пийко поставили, уже говорит — «взялись за ум».
Прыткость Лыкова — не причина. Просто Петраковская не получила науки. Председателем там покорно приняли присланного сверху, похожего на Матвея-рубаку, который сердито жал «на процент», сами неученые примером мужики тянули — кто в лес, кто по дрова, сев дружно завалили в первый же год, петраковские поля — извечная зависть пожарцев — покрылись жирным лопухом и веселой сурепкой. Петраковцы одни из первых начали стряпать пироги из травы…
Лыкову верили, Лыкова слушались, Евлампий Лыков мог при случае припугнуть: «Обратно к Мотьке под крылышко захотелось, оглянитесь на петраковцев — хороши ли?» Это крепко помогало.
Лыков в те годы не мнил о себе высоко, иначе не посадил бы безногого Ивана Слегова: «Советуй!»
Ивану ничего не оставалось, как честно служить: за выручку — «от тюрьмы-то тебя оберег» — и за хлеб — «милостину под окнами просить не способен». Он не подымался со стула, не ездил по полям, но хозяйство знал не хуже самого Евлампия, который обегал его в день по нескольку раз. Советуй… Что ж, изволь.
— Земли за рекой пахать собираешься или нет? — спрашивал Иван Евлампия.
— Вот они у меня где! — Евлампий хлопает себя по короткой шее, еще не обложившейся крутым жирком. — Прыгай не прыгай — тягла нет, рук нет, весна шпарит…
— Раз так, не паши, — роняет Иван.
У Евлампия округляется косящий глаз, рот сжимается в гузку — недоверие и подозрительность на опаленной физиономии: «Иль с ума спятил, иль под монастырь подвести хочет».
— А хлеб нам с неба упадет, что ли?
В ответ спокойный вопрос:
— А много ли сымешь за рекой хлеба?
Молчание. Евлампий сердито посапывает. Он не хуже Ивана знает: абы сымешь, абы нет. Но пусть плоха земля, недородна, тогда тем более усердствуй, чтоб что-то из нее выжать. «Не паши…» — Евлампий сопит.
— Сена в эту зиму не хватило… — подсказывает Иван.
Евлампий сопит.
— И опять не хватит. И всегда не будет хватать, пока новые луга не огорюем… Нам даже суходолы — дар божий.
Евлампий перестает сопеть, глядит Ивану в глаза, по застывшей физиономии видно, что под квадратным черепом колесом крутятся мысли.
— А что, ежели… — говорит он тихо, еще не веря своему прозрению.
Иван усмехается:
— Ну, ну, рожай.
Казалось бы, дикость — забросить земли, с которых исстари сымали хлеб. Но не хватает рук, не хватает навозу, не хватает и корму для скота. Как выкарабкаться? Просто — не паши, запусти часть земли под луга и… бросай тягло и руки на другие поля, на эти же поля можно вывезти больше навозу, значит, жди с них погуще и урожай, а колхоз со временем получит новые покосы. Попробуй поступить иначе — разбросаешь силы, останешься и без хлеба и без сена, поползет хозяйство, как прелая онуча.
Евлампий хлопает себя по ляжкам:
— Дело!
Мысль родилась в председательской голове, не первая и не последняя мысль с помощью «бабки-повитухи» — безногого Ивана Слегова.
— Дело! Кой-кто на дыбки встанет. Уломаем!
Вот уламывать Евлампий умеет мастерски: и лаской, и таской, и слезливой бумажкой в район, и хлопотливым беганьем из кабинета в кабинет по нужным начальникам.
В Петраковской, по соседству, падал скот от бескормицы, люди ели хлеб из крапивы, колобашки из куглины, пареную кашу из дягиля. И не в одной Петраковской. По стране шел голодный год — тысяча девятьсот тридцать третий.
В районном городе Вохрово, на пристанционном скверике, умирали высланные из Украины раскулаченные куркули. Видеть там по утрам мертвых вошло в привычку, приезжала телега, больничный конюх Абрам наваливал трупы.
Умирали не все, многие бродили по пыльным, неказистым улочкам, волоча слоновьи от водянки, бескровно голубые ноги, собачьи просящими глазами ощупывали каждого прохожего. В Вохрове не подавали; сами жители, чтоб получить хлеб по карточкам, становились с вечера в очередь к магазину.
Тридцать третий год…
А в селе Пожары, где всегда жили по пословице: наша горница с богом не спорится, первыми оставались без урожая в засуху, терпели первыми от проливных дождей, от градобития, от конского сапа, от ящура, — в этот год собрали приличный урожай.
Евлампий Лыков потирал ладони:
— Порядочек!
Пел соловьем перед сидящим в полутемной комнатенке счетоводом:
— Излишечки имеем. Ха! В такой-то год! Навар добрый. Только им любоваться нам долго нельзя. Районное начальство живо наш навар снимет. У них, сам знаешь, положение крутое, со всех сторон руки тянутся. Ты быстренько разбросай все, что есть, по работникам, и пусть не мешкают, пусть развозят. А уж развезут — шалишь, по избам районные охотники не пойдут шарить, ежели и вздумают, то следов не отыщут. Кругом-то травку жрут! Да на нас народ молиться будет!
Иван Слегов сидел, слушал, прятал под столом валенки — и летом их приходилось таскать на мертвых ногах, — наконец обдал холодом:
— С молитв шубу не сошьешь.
Евлампий Лыков раздвинул плечи, выпятил грудь, надулся индюком:
— Я с народных доходов себе шуб шить не собираюсь!
— Себе не шей, а колхоз обряди. Твой колхоз в обносках ходит: конюшня из старого овина…
— Не сразу Москва строилась. Все в свое время.
— А время-то настало. Не кажется?..
— Сейчас — время строить?! Да сейчас за бешеные деньги гвоздя ржавого не раздобудешь.
— За деньги — да. А за хлеб?..
Евлампий подобрался, уставился на небритого, пасмурного, как осеннее окно, счетовода — бабка-повитуха приказывает родить мысль.
— За хле-еб?.. Менять, что ли?.. У нас не частная лавочка. Я тебе на базаре за хлеб хромовые сапоги выменяю. А кирпич, а гвозди…
— Слыхал о Лелюшинском кирпичном заводе?
— Ну, слыхал краем уха.
— Прикинь — ты там директором. Люди у тебя в столовке гоняют пустую баланду, а им глину тяжелую ворочать, какие они работники — с ног падают. И план, значит, ты не вытягиваешь, и нагоняи от начальства огребаешь, и сам рабочий с голодного брюха на тебя волком смотрит. А теперь прикинь — картошки предлагают. Картошка все заботы сымет, с сытого можешь потребовать — выполняй план, сытый рабочий тебе поверит, на сверхурочную работу встанет, лишний кирпич выгонит, чтоб эту картошку оплатить. Пошел бы ты навстречу такому предложению?..
— Пойти-то пошел…
— Так в чем дело?
— В малом. За морем телушка — полушка… Ты, может, на Америку укажешь, там тоже кирпичные заводы есть. Лелюшино-то не под боком.
— К Лелюшино железная дорога проложена.
— У меня там родня не работает.
— Работают опять такие же рабочие, которые не калачи с маслом едят. Пообещай картошки и муки — перекинут твой кирпич, найдут способ.
— М-да-а… А не нагорит нам за такой шахер-махер?
— Я тебя не на взятку толкаю. Не начальнику мешок, не снабженцу подачку — предприятию, учреждению, с документами по всей форме, чтоб комар носу не подточил.
— Соб-ла-азн!
И вправду соблазн, да еще какой… Все колхозы кругом — еле-еле душа в теле, а тут дорога в рай — новая конюшня, коровник, свинарник, о таком и в добрые времена мечтать погоди.
Но вот ведь странно: в добрые времена не мечтай, а сейчас, когда кругом худо, — делай мечту былью, куй железо, пока горячо.
Со станции потянулись подводы — везли кирпич, стекло, кровельное железо, олифу в огромных бутылях, упрятанных в плетеные корзины… Никакого шахера-махера, не сам Евлампий, а начальство с кирпичного, начальство со строек выискивало нужный пунктик, чтоб по нему составить законную бумагу — вы нам, мы — вам, квиты. Кто сомневается — просим. Не слишком разговорчивый Иван Слегов брался за костыли, ковылял к шкафам, вынимал нужную папку: «Читайте. Продокументировано».
Евлампию только намекни — вон висит спелое яблоко, а как через забор перелезть, как сорвать — не сидячему Ивану указывать.
Пийко Лыков перерождался у всех на глазах. Давно ли к каждому подкатывал: «Лежишь, добрый молодец? Жирок нагуливаешь?.. Лежи, лежи, а я поработаю». Золотой характер, и штаны носил с заплатами. Теперь в залатанных штанах неудобно — по одежке встречают, а встречаться приходилось с директорами заводов, с начальниками строительства, могут принять за несерьезного человека: по-крупному ворочаешь, у самого же на неприличном месте заплаты. Евлампий Лыков стал даже на шею цеплять галстучек, а вместе с галстучком и заговорил на басах.
Конюх Степан Зобов, вывозя по распутице мешки с цементом, стер до мяса холку лошади. В другое бы время Евлампий его журил: «Себе вредишь. Безобразно относишься». Теперь припечатал:
— За то время, пока лошадь лечится, высчитать убытки!
Степан по старинке лягаться начал:
— Эт-то как?! Да я за вожжи больше не возьмусь! По распутице тяжесть вез, клятое дело!
— Вожжей в руки не возьмешь?.. Что ж, снять с конюхов. Поставить на рытье фундаментов, где глина покруче.
Не прежние времена.
А счетовод Иван Слегов сидел в своем закутке. С ним никаких перемен — небрит, порыжевший пиджачок на плечах, больные ноги спрятаны в теплые валенки.
К нему Евлампий Никитич с почтением, даже сердечно: «Иван — мой посох». Евлампий опирается на Ивана, Иван на костыли, которые подарил Евлампий, — квиты, выходит.
Подводы кирпича и железа быстро слизнули излишки из колхозных амбаров, тем более что Лыков в этом усердствовал. Как и ожидал Иван — не хватило, аппетит приходит во время еды. Нужны арматура, трубы, какие-то решетки на сточные колодцы, вещи, о которых и слыхом не слыхивали в Пожарах.
— Как быть? — Евлампий Никитич сивкой-буркой встает перед столом своего счетовода.
— Покупать.
— На какие шиши?
— Я попридержал окончательный расчет по трудодням. Пускай в оборот.
Евлампий Лыков дыхнул растерянно:
— Как же, брат, это?
Иван смирнехонько согласился:
— Считаешь — нельзя, не покупай.
— До будущего года отложить ежели?..
— На будущий год такой вольготности может и не случиться. Все окажутся с урожаем, хлеб упадет в цене. А у нас, как знать, вдруг да назло в урожае осечка. Вот и откладывай.
Лыков дышит в лицо Ивану:
— На трудодень законный посягаем. На то, что твердо обещали… Мужика, выходит, своего обворовываем.
— Уж так и обворовываем? Чем наш мужик питается?.. Чистым хлебом. А в других деревнях что сейчас жрут?..
— На совесть народ работал, и расчет должен быть по совести.
— По чьей? — вопрос с ледком.
— Как это — по чьей? — удивляется Евлампий. — Разве у народа совесть одна, у меня — другая?
— А разве ты во всем согласен, скажем, с Пашкой Жоровым?
— Ну нет, не во всем.
— То-то и оно. По Пашкиной совести — не сули орла в небе, дай синицу в руки, плевать на новую конюшню, отвали лишнюю жменю ржи. Можешь ты, председатель, жить Пашкиной совестью? Если — да, то грош тебе цена.
— О совести ли мы говорим? — посомневался Евлампий. — Может, о взглядах? Они того… у Пашки — недоразвитые.
— А разве совесть не на взглядах замешена? Ворюга-прохвост, когда в карман лезет, тоже, поди, подходящими взглядиками на всякий случай запасается. Свои взглядики, своя карманная совесть, так-то!
— М-да…
— Как видишь, греха нет, ежели мы у совестливого Пашки ремешок на брюхе стянем.
Евлампий долго-долго ощупывает взглядом своего счетовода. На вид ничего особого: густая копна волос, пухловато-небритое, скучное лицо, прячет неживые ноги под столом, казалось бы, такой мухи не обидит.
— До чего ты, брат, зол, однако.
— Не ты ли в компании с пашками во мне доброту повыжег? — ответил сухо Иван и добавил: — А потом, я свой хлеб не хочу зря есть…
Евлампий поступал по-слеговски, не мог иначе. Иван ощутил свою силу: вот как оно оборачивается, слушай — не слушай, да ослушаться не смей.
А он сам мог и ослушаться.
Посреди села, у крыльца бывшего тулуповского дома, ныне колхозной конторы, открылась ежедневная «ярмарка». Из Петраковской, где когда-то презирали пожарцев, из других окрестных деревень стали сходиться мужики и бабы, то в одиночку, то целыми семьями с детишками, держащимися за подолы. Они предлагали — возьмите нас, не дорого просим, кусок хлеба для детей и для себя, на любую работу готовы.
Нет, они не падали с ног, не выглядели истощенными, правда, в глазах тоскливая сухость да движения вялые.
Все хотели видеть Евлампия Никитича, палкой не сгонишь с крыльца, пока не появится председатель хлебного колхоза.
И он появлялся, крепко сколоченный, широкий, с загривочком, уже начавшим наливаться багрецом, настоящий бог сытости, только огорченный и растерянный бог, отводящий глаза от ищущих взглядов. Он разводил короткими руками, отказывал:
— Куда мне вас, посудите сами. В селе — добрая тыща ртов, как прокормить, не знаю.
А слава о новоявленной житнице росла. Из города Вохрова поползли ссыльные куркули, это уж не соседские мужики, хоть травкой, но кормленные. Ползли и ковыляли босые, раздетые под ледяным пронизывающим ветром и ледяным дождем предзимних дней, по лужам, затянутым хрустящей пенкой. Многие так и не одолевали пятнадцати километров, не добирались до сказочного села, их находили на бровках полей, в придорожных канавах. Но те, кто доползал, наводили ужас на пожарцев: оплывшие, дышащие с хрипотой и клекотом, сквозь дыры завшивевших лохмотьев — расчесанные, мягкие от водянки телеса. Мужики при виде их смирнели, виновато отворачивались, бабы вытирали глаза, стыдливо совали куски хлеба, в избы не приглашали — куда таких, одного возьми из жалости, от других отбою не будет. А председатель еще трудодни обрезал, самим бы концы с концами свести.
Евлампий Лыков ловчил, старался не попадаться на глаза, отдал приказ: закладывать лошадей, усаживать незваных гостей на подводы и увозить обратно в Вохрово.
Словчить удавалось не всегда.
Так наскочил на одного: лице подушкой, из водянистой в затхлую зелень мякоты — совиный нос, подушками и ноги, грязные пальцы пристрочены снизу, как пуговицы. Лежит в лохмотьях на крыльце, увидел председателя, поднял нечесаную голову.
— Возьми, — просипел. — Каменщик я. В Орле работал, подряды брал. Свое дело имел. Сам дюжиной работников заворачивал…
Евлампий Лыков хотел обойти стороной и, не сдерживая прыть в ногах, удалиться от греха, — но следом на костылях выползал Иван Слегов — неудобно бросить калеку, гость-то поперек крыльца лежит, путь загораживает.
Иван навис над кучей тряпья, а из нее в упор чудовищно раздутая, со смытыми чертами, натекшими глазками физиономия, нос крючком из студенистой мякоти. И по лицу Ивана прошла судорога.
— Возьмите. Каменщик я.
Иван поперхнулся и выдавил:
— Возьми.
Евлампий, отвернувшись, зло всаживал в землю каблук сапога:
— Почему этому одолжение?.. Рад бы в рай… Всех не приголубишь.
— Кирпичи-то для строительства берешь?
— Ну, беру.
— Возьми и каменщика.
— Как звать? — повернулся тугим телом Евлампий.
— Чередник Михайло.
— Э, ребята! Отведите его… К Секлетии Клювишне. Пусть накормит да в бане пропарит.
Двое зевак-парней подхватили бродягу. Иван перевел дыхание, стал с привычней осторожностью спускаться со ступенек.
— Иван… — Евлампий задержал его за костыль, глаза прячет к земле, но голос решительный. — Вот что… Кому-то надо разбираться, может, и в самом деле в этих вороньих пугалах нужные нам люди есть.
— Как не быть, — настороженно согласился Иван.
— Так вот, тебе поручаю — вникай, расспрашивай, кого нужно — пригреем. На твою совесть рассчитываю.
Иван уставился на председателя, a тот — глаза в землю, но в скулах каменность, не трудно прочитать: «Прошу пока добром, но особо не перечь — прижму». Хорош: неудобно нырять с головой в людскую беду, ковыряться в ней, быть жестоким — «на твою совесть рассчитываю», — ты отказывай. Принимать-то нельзя, это каждому ясно, колхоз не богадельня. Отказывай, будь ты жестоким, а я в сторонке, без тревог, не пачкаясь. Не многого ли хочешь, Евлампий Никитич? Не только за тебя мозгами шевели, но и еще грязь за тебя вылизывай, оберегай боженьку.
Иван сухо ответил:
— Не смогу, не справлюсь.
— Поч-чему? — поднял сузившиеся глаза Евлампий.
— Потому что каждого буду принимать, а ты мне сам этого не дозволишь.
И, освободив костыль из лыковской руки, Иван заковылял к дому.
Евлампий стоял, расставив ноги, глядел в спину. Иван ощущал этот взгляд до тех пор, пока не завернул за угол.
И все-таки Евлампий не стал настаивать, проглотил отказ. Самому приходилось разбираться с просителями.
А Михайло Чередник, принятый по счастливой оказии, стал потом в колхозе бригадиром знаменитой строительной бригады. Его наградили орденом, о нем не раз писали газеты…
Чистых-старший, проходящий стороной по истории
У самого входа, у дверей, на табуретке сидел скромно и тихо, как ученый цирковой слон, шофер Лыкова Леха Шаблов. Руки — клешни, красные, пугающе крупные, отдыхают на коленях вместе с шапкой, в лице — лепной сдобе — прячутся маленькие глазки, выражение пшеничного каравая, но сами глазки в тревожной готовности. При появлении старого бухгалтера громадные валенки шевельнулись, попытались без успеха втиснуться под табурет, — парень хотел съежиться, стать меньше.
Иван Иванович остановился, стал хмуро разглядывать: покатые плечищи, колени округло тупые, твердые, каждое что дно чугунного казана, руки на коленях, ломающие подковы, — сила позднего Лыкова.
— Леха…
И Леха Шаблов с радостной надеждой вздрогнул — нему обращались, он нужен.
Голос Ивана Ивановича скучен:
— Стоит ли тебе глаза добрым людям мозолить? Шел бы… Сам понимаешь, кой-кому неприятно смотреть на тебя.
Обширное Лехино лице стало деревянным:
— Я от Евплампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты…
Этот парень с мускулами матерого медведя надеется, что собачья верность старому хозяину будет поставлена в заслугу.
— Молодые Лыковы вот вернутся с работы… Теперь тебе скандал ни к чему.
— Я от Евлампия Никитича — ни на шаг. Я до последней минуты…
Бухгалтер недовольно повел плечом, бросил взгляд на Чистых, словно говоря: «Ну что тут поделаешь? Не толкать же в шею быка».
Чистых этот взгляд понял как приказ, выпрямился — рот сжат, щеки надуты, круглые глаза строго выкачены. Приблизился к Лехе скуповато чинной походочкой, выдержал паузу.
— Иль не ясно сказано? — спросил он.
Леха молчал, уныло отводил глаза.
— Ну?! — тенорком прикрикнул Чистых.
— Чего — ну?
— А того, разлюбезный… Шапку надевай и — вот бог, вот порог. Быстренько!
Леха сидел в столбняке.
— Хочешь, чтоб я к телефону подошел!
— Я от Евлампия Никитича…
— Слышали! Не ломай, браток, комедию. Хватит! Ежели сию минуту не встанешь, звоню. От имени вот Ивана Ивановича, от имени всего колхозного правления попрошу участкового вывести тебя под пистолетом.
Лиха минуту тупо глядел в пуговицу пальто на животе Чистых, наконец, зашевелился, разогнулся, сразу вырос под потолок, чуть ли не на голову поднялся над долговязым лыковским замом, шире его втрое, страшный деревянным выражением своего лица. Кто знает, что может прийти такому в голову, махнет клешнятой лапой — в стенку влипнет худосочный зам.
— Не заставляй упрашивать, — уж не столь напористо повторил Чистых. — По-доброму…
По пшеничной Лехиной роже медленно разливалась краска, маленькие глаза становились колючими.
— Сволочи вы все! — зарокотал он глухим бacoм. — Чем я хуже?..
— Н-но! Но! — Чистых подался назад.
— Чем хуже тебя, гнида?.. Не самовольствовал, исполнял что приказывали. Ослушаться-то никто не смел. И ты тоже. Теперя съесть готовы, кры-ысы! Под пистолетом еще…
— Но! Но! По-доброму просим.
— Ляпнуть бы тебе по-доброму, чтоб копыта откинул. Ишь, чистый! Ух бы, махнул! Да дерьмо тронешь — вонь пойдет.
Леха рывком натянул шапку, согнулся под притолокой, толкнул дверь.
Чистых облегченно перевел дыхание, постоял, глядя на захлопнувшуюся дверь, и с виноватой неловкостью — «за скандальчик извините» — повернулся к бухгалтеру.
На жирном, желтом лице Ивана Ивановича ничего нельзя прочесть — покойно, словно и не было скандала.
— Не понимаю, — поспешно заговорил Чистых, — Евлампия Никитича не понимаю. Из-за такого Лехи в глазах людей себя ронял.
Иван Иванович из-под заплывшего века, из глубокой щелки остро взглянул на лыковского зама, ухмыльнулся:
— Осуждаешь?
— Ну, мне ли судить… А все-таки.
— Гм… Ты не Леха, не-ет.
— Иван Иванович! Какое может быть сравнение! Обидно слышать, право.
— Он — просто заяц, а ты, вижу, заяц отважный, из тех, какие помирающего льва лягают.
Чистых, к удивлению Ивана Ивановича, побледнел, взляд стал совиный, стеклянно-непроницаемый, и в голосе прорезалась взволнованная сипотца:
— Несправедливо же!.. А впрочем, думайте как угодно… Тут не убедишь. Но заявить уж разрешите: я Евлампия Никитича и сейчас не лягаю и лягать не стану, даже к стенке поставьте. Евлампий Никитич мне вместо отца родного.
— Поди, и Леха сейчас так же думает.
— Леха хозяина теряет. Только-то…
— Ты — отца?
— Не верьте, неволить не могу. Только напомню: из меня, может, бандюга-уголовник вырос, если б не Евлампий Никитич.
— У тебя ж отец родной жив. Его по боку?
— А что он для меня сделал? Только родил. На том и спасибо. Все знают, он ко мне, я к нему — с прохладцем. А свято место в душе пусто не бывает. У меня это место вот тут, — стукнул в грудь желтым кулаком, — Евлампий Никитич занял.
Заглядывая в округлившиеся, потемневшие глаза Чистых, Иван Иванович подумал: «Похоже, правду говорит. Не для всех Пийко — казенный человек».
Родной отец Чистых живет сейчас в Вохрове. Он старый враг Евлампия Лыкова.
* * *
Чем успешнее шли дела в колхозе, тем усерднее Евлампий Никитич мел пыль вокруг районного начальства, пуще всего боялся, как бы не приказали: делись с отстающими — пустят по ветру, долго ль. Помогали не ласковые слова, не улыбочки, а знакомства с директорами заводов, с начальниками строительств, которые снабжали колхоз стройматериалами.
В районном клубе, переоборудованном из старой церкви, протекала крыша, по этому поводу собирались совещания, принимались решения, посылались в область запросы, а крыша текла себе и текла, даже на макушку выступавшего с очередным докладом секретаря вохровского райкома Николая Карповича Чистых. И вот тут-то Евлампий Лыков выступал в роли спасителя: через влиятельных знакомых доставал кровельное железо, создавал вокруг себя мнение — полезный человек. До поры до времени район не вмешивался в жизнь села: строятся — похвально, так держать!
Но вот начали вылезать из голодного года, подсчитывали ресурсы — к весне не хватало семян. В село Пожары приехал сам секретарь Чистых.
Среднего возраста, среднего роста, средней наружности, одет средне — поношенный пиджак, галстук, тщательно расчесанные негустые волосы, лицо моложавое, но было в нем что-то особое, «останавливающее». Умел глянуть сквозь, сказать, не повышая голоса, чтоб собеседник ответил октавой ниже, обронить слово «товарищ» так, чтоб всякий почувствовал — держи дистанцию. Он имел за спиной не обширную, зато ничем не запятнанную биографию — не участвовал в оппозициях, не примыкал к группировкам, не имел отклонений, не получал ни выговоров, ни на вид, — этим гордился, при случае разрешал себе напомнить: «Я перед народом чист как слеза».
С ним одним Евлампий Лыков не сошелся на короткой ноге, хотя и старался вовсю: не только крышу на районный клуб, даже для усиления агитации кумач раздобыл — революционные-то лозунги по сельсоветам писали на старых обоях и газетах.
Чистых, не посоветовавшись заранее с Лыковым, собрал в колхозе узкий актив, выступил с предложением: выручить район, сдать сверх плана на семена столько-то пудов.
Сдать?.. Лыков еще осенью перегнал на цемент и стекло все хлебные излишки. Поздненько спохватился товарищ Чистых — мы теперь оконным стеклом богаты, не семенами, самим бы посеяться. Попробовал осторожненько убедить в этом.
Ну нет, не на того напал.
— Новую конюшню заканчиваете? — спросил Чистых.
— Заканчиваем.
— Новый коровник заложили?
— Заложили.
— Свинарник новый собираетесь строить?
— Да, собираемся.
— Так что же вы беднячками незаможними прикидываетесь? Сдать!..
— Сдадим, а в новом свинарнике свиней будем кормить чистым воздухом?
— Тов-варищ Лыков! У нас людей кормить, нечем, а вы — свиней!
— Но свиней-то растим не для господа бога, для тех же людей!
Евлампий Лыков до сих пор никогда круто не возражал районным властям — бог миловал, а тут понял: отступать нельзя, накупил горы кирпича, цемента, хозяйство висит на струнке, легкий толчок… и ухнет вниз, сиди тогда среди штабелей драгоценного кирпича и кукарекай. Сдай! Нет, каждая горсть зерна наперед учтена. Сдай! Невозможно! Нашла коса на камень. Активисты, глядя на своего председателя, тоже уперлись.
Чистых поиграл желваками, со стеклянным блеском в глазах пообещал:
— Ну, тов-варищ Лыков, придется в отношении вас пойти на крайние меры.
Крайняя мера — долой с председателей! Лыков прикинул: сам Чистых без народа, без общего собрания колхозников снять его не посмеет. Ну, а на собрании посмотрим, народ-то должен тучей подняться за Евлампия Никитича, который блюдет его интересы, кормит не травкой-муравкой, а хлебом без мякины.
Наступление началось издалека, с глубокого тыла, из района. Чистых не трудно было разделаться с теми, кто в районных организациях за старыо заслуги выгораживал пожарского председателя. Вынырнул на свет божий некий Семен Семенович Никодимов, кому суждено заменить не оправдавшего надежд Лыкова. Осталось одно — провести через общее собрание колхозников, заручиться поддержкой народа.
А в народ-то Евлампий Лыков верил, народ понимает свои интересы, стеной встанет, Никодимов какой-то, слыхом по слыхали, в глаза не видывали. Ну, дорогой товарищ Чистых, держись, дадим бой! Вспомни-ка: с активом не справился, а тут — массы, силища!
Евлампий Лыков верил и… чуть промахнулся.
Он малого не учел — обиженных, вроде бывшего конюха Степана Зобова. Их за последний год поднабралось — не дал лошадь пахать усадьбу, задержал на потраве хлебов коров, просто обошелся резко — мало ли чего не случалось, всем мил не будешь. Нет, их не большинство, двух рук хватит, чтоб по пальцам перечесть, не масса, но обижены.
Довольному достаточно сохранить то, что имеет. На то он и довольный, чтоб не рисковать. Обиженному терять нечего, он даже может и выиграть, если полезет на рожон.
Приехал сам Чистых проводить собрание. Довольные в присутствии высокого начальства молчали. Степаны Зобовы, уловив, куда ветер дует, старались вовсю, кричали с надрывом, только их голоса и были слышны:
— Своевольничает! Жизни нет! Ишь, загривок-то отрастил!
И товарищ Чистых с охотой их голоса принимал за глас народный.
Кричат единицы, остальные молчат, вот тебе и в массах сила.
Собрание кончилось. Чистых бросил Лыкову:
— На днях получите окончательное решение. Сдадите дела. Придется рядовым колхозником завоевывать авторитет. Эт-то потрудней.
Лыков смотрел в пол.
Народ поспешно расходился, все старались не глядеть на развенчанного председателя.
В пустом зале у дверей, пригорюнившись, стояла Секлетия Клювишна, бабка-уборщица, ждала терпеливо, когда очнется председатель, чтоб закрыть на замок контору.
Евлампий поднялся с натугой, устало побрел к выходу.
— Ох-хо-хо! — вздохнула Секлетия.
Он, переступая порог, пьяно ударился плечом о косяк.
— Охо-хо! Господи!
На темной дороге кто-то широкий и приземистый месил грязь. Евлампий Никитич нагнал — Иван Слегов на костылях, последний с собрания, все остальные уже разбежались по домам.
— Иван… — Тот, работая костылями, оглянулся — под шапкой глаз не видно — Иван, слышал?.. Молчали!.. Что ж это? А?.. Что такое?!
— Жизнь, — короткое слово, как клок бархата, ровным баском.
Евлампий закричал тонким от горя голосом:
— Не жизнь это — бл……! Жизнь-то покатится, что бочка с горки! Никодимов какой-то! Он вас не пожалеет, на распыл пустит.
— Может быть.
— И ты спокоен?
— А я волноваться-то отучился.
— Все молчали! Бараны! Их под обушок ведут!.. Ты-то умней других! Ты-то лучше меня знаешь, чем все это пахнет! Тоже молчал!!
Крепкая, накачанная костылями рука Ивана взяла за локоть, повернула Евлампия лицом к себе. Глаз не видно под шапкой, только рот да упрямый подбородок.
— Ты много от меня хочешь, Пийко. Совет в делах — готов, спасать тебя — уволь.
Евлампий Никитич стоял посреди улицы, смутно различал, как борется в темноте со своей немощью Иван Слегов.
«На днях получите окончательное решение…» Но с решением пришлось повременить. В области собиралось крупное колхозное совещание, оттуда запросили — командировать Лыкова как участника. В последнее время фамилия Евлампия Никитича уже постоянно мелькала в отчетах — вверху знали, есть такой.
Сообщи — не может выехать, потому что снят, значит, и объясни — почему. Значит, не исключено, налетишь на упрек — разбрасываетесь кадрами, не занимаетесь воспитанием. Там, глядишь, заставят пересмотреть решение, потребуют ограничиться выговором. Пусть прокатится, и как только вернется — решение о снятии будет уже ждать. Обречен.
И Лыков это понимал, надеждами себя не убаюкивал. Однако — терять-то нечего готовился дать бой, выступить с высокой трибуны, видите, мол, дорогие товарищи, председателя на издыхании снимают!..
Впервые он присутствовал на таких больших совещаниях — людей без малого тысяча, его затерли где-то в задних рядах, самый неприметный, таким счет ведут даже не на дюжины, а на круглые сотни. В кармане — заветная бумажка, назубок ее выучил, со сна спроси — не запнется. Бумажка с жалобой, стон и вопль души.
Но шло совещание, и час от часу все сильней он впадал в уныние. Что его жалоба!.. Область вылезала из тяжких голодных лет. Чего только не рассказывали с трибуны: в таком-то районе заставляли сеять сопревшей рожью, а в таком-то и вовсе не засевали, в отчетах пером выводили цифру — засеяно.
Конца нет жалобам, каждый норовит выставить свою нуждинку, надеется на помощь. У него, Евлампия Лыкова, сравнить с другими, беда не так уж горька.
Бумажка жжет карман, она выучена назубок. Грош цена этой бумажке!
И тут-то Лыков смекнул: не след слезу пускать, без нее — море разливанное. Он начал про себя сочинять другую речь.
С далекого красного стола на сцене председательствующий обьявил:
— Слово предоставляется товарищу Лыкову, председателю колхоза из Вохровского района.
Пора… Лыков наступая на ноги, выбрался к проходу, зашагал по длинному ковру, продолжая сочинять речь.
— Товарищи!..
Тысяча голов, тысячи глаз, только что сидел неприметный в заднем ряду, никто и не подозревал о твоем существовании, пробил час — к тебе внимание.
— Товарищи! Тут я слышу — все больше жалуются на жизнь. А у нас нет охоты жаловаться и слезы лить…
Тишина. Внимание.
— Да разве можно нам жаловаться, товарищи, когда в прошлом году мы получили по сто пудов с гектара, а в этом поболее…
Аплодисменты смяли тишину. Они прокатились от передних рядов к задним — и снова тишина, снова внимание. Заметил: у тех, кто сидит поближе, широкие улыбки на лицах. Эх, люди, люди, осточертели вам жалобы, черно от них, как вас не понять. Наверно, у каждого сейчас в голове вертится нехитрая мыслишка: раз где-то люди уже хорошо живут, значит, и мы жить будем.
И Евлампий Никитич не давал опомниться, хлестал фактами: строим то, строим это, собираемся строить… Тишина. Слушают!
— Мы, товарищи, твердо взяли курс на индустриализацию села!..
И тут-то зал грохнул. «Индустриализация» — святое слово, святее нет, оно в каждой газетной статье, в каждом докладе, в каждом лозунге на стене. Но ведь это-то слово всегда связано с городом, с заводскими трубами, с прокатными станами, а тут село, бывшие лапотники, такие же, как все. Взяли курс, а мы что, лыком шиты, нам топать по той же дорожке. Зал грохал аплодисментами.
Где-то в зале Чистых, интересно — аплодирует он или сидит сложа ручки?
И Евлампий Никитич ни слова не обронил, что его снимают с работы. Зачем? Пусть теперь попробуют.
Ему не дали спуститься в зал, к своему месту. Секретарь обкома, с революции прославленный человек, встречавшийся с Лениным, член ЦК, поднялся, аплодируя, подошел к трибуне, взял Евлампия Никитича за локоток, повел к столу президиума. Какой-то военный с ромбами на петлицах уступил свой стул — честь тебе и место, товарищ Лыков, ты наша краса, наша гордость.
Через год Лыкова от области выдвинули делегатом в Москву на Первый съезд колхозников-ударников.
Этот съезд был праздничным. Как давний сон вспоминались первые годы коллективизации — скот, сгоняемый со дворов, кулацкие семьи с сидорами, идущие на высылку, угрозы и слезы, проклятия и жалобы, «головокружение от успехов». Позади пироги из куглины, детские вздутые животы, заброшенные поля, заколоченные деревни. Позади и угрюмое, упрямое мужицкое недоверие к колхозам: «Рази можно? В семье свары, а в артели-то в общей куче и вовсе друг дружке горло перегрызем». Оказывается, можно — не перегрызлись, живы, справились с недородами, снова стали есть досыта, на базары повезли… И город ожил, забыл карточки, в магазинах и сыры, и колбасы, и конфеты на выбор. Наверное, по всей стране великой, от Балтики до Тихого океана не было ни одной самой маленькой деревни, которая бы не поднялась, не воспрянула. Можно артельно!
До коллективизации трактор считался диковинкой, появлялся не столько для работы, сколько для показа — стар и мал высыпали, чтоб поглазеть: «Ох, страховиден! Ох, керосином воняет! Сошка-то к земле привычней». А теперь никто и головы не повернет на ползущий по полю трактар. Даже комбайн не диво, а скажи раньше мужику, что есть такая машина — сама жнет, сама молотит, сама солому копнит, — махнул бы рукой: «Бабьи сказки!»
И бабы нынче полезли на эти трактора, на эти комбайны. Бабы, которым испокон веков мужик доверял только три «механизма» — печь, прялку и серп, коса уже считалась не к бабьим рукам. Гремят по стране имена Марии Демченко, Паши Ангелиной, Полины Виноградовой…
Праздничный съезд колхозников. Всем казалось — трудности позади, впереди лишь победы, ведущие в сказочные времена, к молочным рекам и кисельным берегам.
Лыков не сробел, выступил с той же трибуны, с какой говорил свое слово сам Сталин. Правда, шуму особого не наделал — не областной масштаб. Да навряд ли Евлампий Никитич смог теперь удивить кого и в области — многое изменилось за один год, появились колхозы, догонявшие лыковский.
Однако, кой-кого потесня плечом, Евлампий сумел пролезть, снялся на фотографии вместе с вождем. На одной фотографии со Сталиным!
На этот раз на станции его встречала целая делегации во главе в товарищем Чистых. Чистых жал руку, поздравлял, но глаза отводил. Не любили они друг друга, жили по пословице: «Худой мир лучше доброй ссоры». С районными уполномоченными Лыков теперь обходился суровенько: «Сами с усами».
Дома же, в конторе, сидел, прислонив к креслу костыли, угрюмый, буднично небритый, начавший уже наживать бухгалтерские мешочки под глазами, Иван Слегов. Вместо поздравлений он известил:
— Пахнет дракой, Евлампий.
— Какой дракой? С кем?
На самом деле, кто в Вохровском районе осмелился сейчас поднять руку на него, председателя Лыкова, увековеченного для истории на одной фотографии с самим Сталиным?
— Как бы Чистых тебе синяков не наставил.
— Синяков?.. Хм… Только что под локоток провожал.
— Мало ли что. Похоже, слабую жилу у нас нашел.
— Какую?
— Приусадебные участки.
Сталин заявил на съезде, что колхозник имеет право на личное приусадебное пользование землей, им была даже произнесена цифра — двадцать пять соток.
Не кто иной, как Иван Слегов, год назад посоветовал урезать приусадебные участки колхозников «Власть труда» до пяти-шести соток. С ним согласился Евлампий Лыков.
Во время сева дорог каждый час, каждая пара рабочих рук, а колхозникам приходится копаться на своих огородах — раз нарезали землю, то должна же она быть обработана. Большой участок лопатой не вскопаешь, требуется лошадь, а отрывать лошадь в разгар сева от колхозной пахоты — совсем не дело. И велика ли нужда в больших личных огородах? Колхозник засеет их картошкой, но такую же картошку он получает и на трудодень, как и зерно, как и овощи. Для чего колхознику разрываться надвое между колхозной работой и своей усадьбой, не лучше ли оставить ему под домом клочок землицы на несколько грядок, чтоб был лук под рукой, морковь, свекла, капуста свежая в щи? Несколько грядок много времени и сил не отымут, обрабатывай их вечерами, на досуге, по-семейному, и лошадь не проси. Колхозники особо не возражали — участки и для них бремя, вечный раздор с бригадиром за лошадь. Зачем возиться со своей картошкой, ежели ее можно получить из колхоза.
Но сам Сталин…
Э-э нет, дорогой товарищ Чистых, нас этой дубинкой не пришибешь — подкованы, отлягнемся.
Евлампий Лыков стал ждать, когда Чистых нагрянет в колхоз.
Чистых не нагрянул, он вызвал к себе Евлампия Лыкова, на бюро.
— Вам — что, слово вождя не указ? Не желаете шагать в ногу со страной? В славе купаетесь? Слава-то глаза застит, смотреть трезво мешает! Вы думаете, что уж так высоко взлетели, что вас никто рукой не достанет? Ошибаетесь! Кто вас поднял из низов на высоту? Мы подняли! Мы — народ и партия! Нужно будет, мы и стряхнем с облаков на землю!
Лыков пробовал показать зубы:
— Словом-то товарища Сталина не прикрывайтесь. Вы это слово неверно понимаете. А потом, разве вы, товарищ Чистых, — народ? Разве партия — вы один? Я тоже в партии и уж никак не по вашему желанию из народа-то вырос…
Но Чистых прятал тяжелый козырь. Им-то он и пошел:
— Лыков не согласен с товарищем Сталиным, готов его поправить. Что это — чванство или самовлюбленность? А может, что-то похуже?.. Оглянемся назад, вспомним, с чьей помощью прославленный Лыков начал свое хваленое строительство? У кого он брал, скажем, кирпич? Не припомните, дорогой Лыков, у кого именно?
— Помню и в документах представил, — ответил ничего не подозревающий Евлампий. — На Лелюшинском кирпичном заводе.
— А кто им тогда руководил, этим Лелюшинским заводом, не вспомните?
— Почему же, помню: товарищ Шаповалов.
— Ага! Память хорошая… Так вот, этот ваш старый товарищ на днях… — Чистых с суровым торжеством оглядел всех, — на днях арестован! Да! Как троцкист! Отсюда вывод: не следует ли нам повнимательней прощупать вас, Лыков? Ведь рука руку моет…
И даже те из районных работников, что сочувствовали Евлампию Лыкову, шарахнулись в сторону.
Чистых выдвигал нешуточное обвинение, надо было срочно принимать меры.
Обком! Только там могли обуздать Чистых. Первый секретарь обкома, тот самый, кто после памятного выступлении усадил Евлампия Лыкова рядом с собой за стол президиума, в обиду не даст — пожалеет Чистых, да поздно будет.
Евлампий сел за письмо: разберитесь, поддержите, оградите от незаслуженных обвинений — крик о помощи!
Письмо он кончил писать поздним вечером, а утром добежал до почтового отделения и сунул в ящик возле дверей.
— Газетки возьмите! — голос Лизки-почтарки, только что выскочившей из дверей почты с нагруженной сумкой.
Ваял свежие газеты, пошел в контору, отдал газеты Ивану Слегову, сам было рванул к дверям — в поля, на ветер, где легче дышится, где обступают привычные заботы.
Но удивленный возглас Слегова остановил его на пороге:
— Вот так та-ак!
— Что?!
— Веселые дела: косой по шее — и головы нет.
— Что там?
— В нашей области открыта вражеская группировка. Арестованы… — И Слегов начал читать фамилии.
Евлампий бросился к столу, вырвал газету.
Нет, не ослышался — первой в списке стояла фамилия того, на чью помощь он рассчитывал.
Весь в поту, он побежал снова на почту, сунулся в окошечко, стал объяснять:
— Клаша, дорогуша, я тут письмо опустить поторопился… Деловое. Оказалось, нужно там кой-какие уточнения сделать… Очень важные… Открой ящик, пожалуйста, выуди оттуда…
Письмо врагу народа. Письмо, просящее у врага помощи. Этим письмом заинтересуются, автора письма возьмут на прицел. А этот автор уже на крючке.
Заведующая Пожарским почтовым отделением Клашка Коробова, соседка Лыковых, рада была услужить, но…
— Мы отправили почту, Евлампий Никитич. Только что. Ну, десять минут назад подвода отошла.
— А ежели я на лошади, верхом… Ведь нагоню же?
— Нагнать-то их и пешком не трудно. Кони у нас, сам знаешь, развеселые.
— Вот и добро, вот и слава богу… Я сейчас на конюшню и быстренько…
— Не утруждайся зря. Письмо-то в общей почте, а почта опечатана. Никто ее до места вскрыть не имеет права…
— Что же делать? -
— Новое письмецо напиши, с поправочками.
— А ежели я в Вохрово сейчас, на почту-то, раньше ваших прискачу?
— Тогда другое дело. Заявление напишешь — отдадут.
— За-аяв-ление!..
Письмо-то на имя врага, письмо-то, просящее у врага помощи. Писать заявление, вызывать к письму интерес. Ну нет, авось пронесет.
И Евлампий Лыков стал ждать, успокаивая себя — как-никак он человек заслуженный, на одной фотографии снят с товарищем Сталиным. И сам понимал, сколь зыбки эти утешения.
Евлампий ждал, бегал по полям, по фермам, старался как можно больше бывать на народе. Среди людей легче, среди людей и под солнышком, под светом белого дня. Зато ночами лежал и вслушивался в каждый звук за окном, не смыкал глаз.
А давно ли встречали его из Москвы, жали руки, произносили речи?.. Давно ли?.. Скажи кто-нибудь в те дни, что Чистых так оседлает, посмеялся бы — у мужицкой лошадки, мол, тоже копыто твердое… Ночами не спалось.
Не ночью, а ясным днем пришло известие. Лизка-почтарка принесла ему шершавую, в голубизну, бумажку, отпечатана в типографии, только его фамилия проставлена от руки, фамилия, день, час — вызов в районный комиссариат внутренних дел с остережением: «В случае неявки в указанный срок…»
Запряг лошадь, поехал. В начале дороги знобило, потом словно окаменел, а когда входил в комнату начальника, чувствовал себя даже спокойным: «Была не была, какой да ни на есть, но конец. Все лучше заячьей жизни».
Начальника Бориса Марковича Осокоря он знал, как и всякого из районного побочного начальства, приходилось здороваться за руку, сиживать за одним столом. Борис Маркович Осокорь был тихий, какой-то печальный человек, глаза застойные, как у замученной лошади, до синевы выскобленный подбородок и большой, вечно сомкнутый рот. Даже военная форма со скрипящими ремнями не придавала ему внушительности — спина сутулится, гимнастерка на груди висит мешком. На заседаниях он обычно молчал, был чем-то вечно озабочен, может, семейными делами — ходят слухи, жена у него погуливает с учителем физкультуры.
И кабинет у Осокоря обычен: стол с пресс-папье и дешевым чернильным прибором, стулья вдоль стены, окно, о которое зудяще бьется залетевшая оса, над столом портрет — сухощавенькое личико подростка, недавно объявившийся «железный нарком» Ежов. За столом — чисто выбритый, устало печальный хозяин. Евлампий Лыков подумал: «И в такой-то скуке прячется твоя беда… Была не была…»
Осокорь протянул из-за стола руку, пригласил:
— Садитесь, прошу. — Извинился с ходу: — Простите, что в горячую пору отнимаю время.
Ишь ты — «простите», а в бумажке-то, что лежит в кармане, сказано: «В случае неявки в указанный срок…» — без всяких «простите».
Усаживаясь, старался глядеть как можно невинное, производил впечатление.
— Что вы можете сказать нам о Чистых Николае Карповиче?
— Как — что? То, что все знают.
— Не кажется ли вам, что этот… гм… Чистых не очень, и весьма даже, расположен к вам лично?
— Борис Маркович! Я уважаю товарища Чистых, принципиальный, честный… И характер у него… ну, непреклонный, что ли… И конечно, он бдителен… Но…
— Но с вами он поступал возмутительно! Вы ведь гордость нашего района.
— Возмутительно?.. Я этого не говорю… Просто мне казалось, возможно, я ошибаюсь, если не так, вы уж, пожалуйста, поправьте…
— Ну, ну проще, по душам.
— Ежели по душам, то товарищ Чистых кой в чем передергивает…
— Евлампий Никитич, вот вам лист бумаги, присядьте сюда, вот чернила, вот ручка… Прошу… Напишите, в чем передергивает Чистых, какие выпады он по вашему адресу совершал, как он порочил ваше громкое имя…
— Но…
— Никаких — но! Не стесняйтесь… Скажу по секрету: он пытался на нас оказать давление, и даже весьма сильное. Наши органы не клюнули на эту удочку. Так что никаких «но». Пишите.
За твоей рукой, из-за твоего плеча следят чужие глаза. В другое бы время путались мысли, выпадало перо, и при полном-то покое Евлампий Никитич был не мастер сочинять, но сейчас он собрал себя в кулак, а потом недавно писал письмо в обком, к тому… Памятью бог не обидел — письмо он помнил слово в слово.
— Не миндальничайте. Смелее!
Странно. Может, это ловкий ход самого Чистых? Гаданием делу не поможешь. Была не была! Сказал «господи», скажи и «помилуй».
Товарищ Осокорь прочитал написанное и в общем-то одобрил:
— Мягковато местами… Не то чтоб весьма, но мягковато. И величать его товарищем, в общем, не обязательно… Подпись поставили? Ну и прекрасно… Спасибо за помощь, Евлампий Никитич. Весьма вам обязан. — Протянул вялую, влажную руку: — Маленькая просьба: ни один человек до поры до времени не должен знать о существе нашего разговора.
— Ясно, Борис Маркович.
Ни черта не ясно.
Светило солнце, голубело небо над головой, ветерок гнал волны по полям начавшей белеть ржи, лошадь везла его домой.
Навстречу пылила легковая машина, крытая брезентовым верхом, единственная легковая машина на весь район. Она проскочила мимо, обволокла лошадь и Евлампий пылью, мелькнула физиономия Чистых с упрямыми крепкими щеками. Чистых, конечно, узнал Лыкова, — нельзя было не узнать, — но машины не остановил, не скосил глаз в его сторону, не удостоил внимания…
Чистых и Осокорь в сговоре, они-то друг к другу ближе, рука руку моет, не трудно договориться, как утопить колхозного председателя с нашумевшим именем. Но что-то есть необъяснимое, — как, например, понимать брошенные вскользь слова: «И величать его товарищем не обязательно»? Что бы все это могло значить? Ни черта не ясно! И весьма даже!
Ясно стало через пару дней — Чистых арестовали. Чистых, а не Лыкова!
В районе, как всегда, созывались совещания, пленумы, парткконференции, везде заклеймили Чистых — подлый выродок, продажный наймит, запутался в связях, проводил вредительскую политику, и вот вам пример — намеревался опорочить одного из лучших по области председателей, развалить лучший колхоз…
Лыков родился в рубашке. Новое начальство трусливо заискивало. Еще бы, имя Лыкова приобрело такую угрожающую силу, что он и сам его боялся.
Спустя полгода арестовали Бориса Марковича Осокоря. А Лыкова — нет! Никто даже не ведал, что он когда-то послал письмо на имя уже обезвреженного врага, у врага просил помощи. Где-то это письмо счастливо затерялось.
В рубашке родился Евлампий Лыков!
* * *
Старый Чистых отбыл в дальних краях почти двадцать лет — начисто облысел, сморщился, потерял зубы. После реабилитации вернулся в Вохрово сразу, получил партбилет, пенсию, комнату, — руководящей должности уже не предложили, Николай Карпович любил с важностью повторять: «Я перед своим народом чист как слеза». Этой чистоты он требует и от других, посвятил себя искоренению недостатков, во все инстанции пишет жалобы: в парикмахерских очереди, при коммунальной бане не торгуют мылом, продавщицы в магазинах хамски ведут себя с покупателями, такой-то ответственный работник пьет горькую… Имя одного человека он никогда не упоминал ни устно, ни письменно — Лыкова. Зато о сыне своем он отзывался кратко: «Лизоблюд!» К сыну в гости никогда не приезжал, даже внуков, неизвестно, видел ли в глаза. Молодой Чистых отца все-таки навещал, навряд ли часто и навряд ли охотно.
Евлампий Никитич вместо отца родного… Что ж…
Чистых-младший
Примерно через год после ареста секретаря райкома в селе Пожары произошел маленький случай.
Иван Слегов приходил по утрам в контору всегда первым. Жена засветло вставала, подымался и он. Она уходила на поля, и он брался за костыли — не любил слушать тишину в доме.
Раз он тащил по росе свои валенки, обремененные галошами. В спину кричали петухи, в лицо дул свежий ветер с реки, клал на крыши дым из труб. Село раскачивалось со сна.
В этот-то ранний час, подходя к крыльцу конторы, он увидел народ: несколько баб, собравшихся на работу, а перед ними, опираясь на стянутую проволокой берданку, картуз сбит на затылок, физиономия победно-генеральская, хотя и давно не брита, стоит, выставив тощее бедро, ночной сторож Кривой Трифон.
— Что зa митинг?
Бабы, издали заметившие ковылявшего бухгалтера, все как одна прорвались хором:
— Гостюшки ночные объявились!
— На запашок прискакали!
— А ведь, молоденькие, мо-ло-денькие!
— Не стыдно небось зенками-то лупать…
— Цыц! Закудахтали, бесхвостые! — стукнул о землю треснувшим прикладом Трифон, с вальяжной картинностью отступил. — Глянь-ко, Иваныч, на деле уловил.
На ступеньках крыльца, прижавшись друг к другу, сидели трое, лет по шестнадцати, босые, лохматые, с пугливым онемением мигающие широко распахнутыми глазами. У одного вырван рукав, проглядывает тощее плечо, у другого бархатный синяк под глазом.
— При исполнении мною служебных обязанностей было оказано сопротивление…
— Оно и видно, жизнь подвергал опасности.
— Ну не то чтобы уж жизнь, — заскромничал Трифон. — Это, значит, марширую я мимо старой кузни, не ухо держу востро, службу помню…
Старую кузню Лыков недавно переоборудовал в коптильню. Коптили свиные окорока и грудинку — дело новое, а потому доходное. Туда-то и залезли три охотничка, сломав замок.
Через час их разглядывал исподлобья сам председатель.
Тот, у кого фонарь под глазом, — длинный, узкий, даже сквозь рубашку видно, составлен из хрупких хрящиков, шею пальцем перешибить можно, лицо щекасто, и глаза светло-круглые — совенок.
— Как фамилия? — спросил его Лыков.
— Чистых.
Лыков долго молчал, посапывая.
Он, как и все, знал, что у арестованного Николая Чистых остались жена и сын. Жена, первая в Вохрове модница, в районном клубе, который Лыков помог покрыть железом, играла в спектаклях самодеятельности обманутых девиц, теперь же на железнодорожной станции лопатой-грабаркой чистила шлаковые ямы. Что делал сын? Кто этим интересовался. Выходит, промышлял.
— Хочешь стать человеком?
Парнишка заплакал.
Чувствовал ли Евлампий вину за отца или просто пожалел сироту? Неизвестно. Но на полевые работы он парня не послал.
— Хлипок, долго не выдюжишь, сбежишь. Снова начнешь щупать замки. Ты сколько классов кончал?
— Восемь.
— Грамота есть. Будешь помогать избачу. Нам так и так культурные штаты расширять надо.
Валерка Чистых получил на харчи пятнадцать трудодней в месяц, угол в доме одинокой Клювишны (Михайло Чередник пристроился к одной вдовушке) и уличное прозвище — Приблудный.
С первых же дней он отличился примерным старанием: сам полы мыл в читалке, ни одна газета не стала уходить по рукам на раскурки — подшиты, пронумерованы, спрятаны под замок, во всем полный порядок. Но старание-то обычно замечается в поле или на скотном дворе, там за это лишний трудодень подкидывают. В избе же читальне хоть из кожи вон лезь, а особой награды не жди — назначено тебе пятнадцать трудодней в месяц, получи и не гневайся, так как новых центнеров хлеба, новых литров молока твое старание не приносит. Газетки бережешь, эка заслуга — ты в колхозном стаде яловая корова. Избач — самая бесперспективная должность, попробуй тут обратить на себя внимание.
И надо же, Валерка Приблудный обратил…
Сам ли додумался, или откуда-то из газет выудил идейку — никто не дознавался. Идея нехитрая: следует собирать материал по истории колхоза. Колхоз-то со славой, сколько о нем сейчас трубят, в прошлом трубили, а ведь покричат да забудут, а зря.
Своя история… Всем это понравилось, а больше всех Евлампию Лыкову.
И сразу Валерка Приблудный стал полезен, не так, как, скажем, доярка, конюх или плотник, нет, конечно, но все-таки… Не зря же вспомнили: полтрудодня на сутки получает, не густо, у ночного сторожа Трифона Кривого заработок куда больше, давайте-ка ставить парню «палку». «Палка» на день, целый трудодень — можно уже не только быть сытым, но, поднатужившись, скопить деньжат на новые сапоги.
Решением правления Валерке выделили даже особый фонд — конечно, копеечный — «на восстановление утраченных материалов по истории колхоза». Впрочем, Валерка этими фондами не смел пользоваться, пешком бегал в Вохрово, целыми днями сидел в районной библиотеке, ворошил подшивки старых газет — те, что до его прихода были раскурены из читалки, — искал статьи, где хвалили колхоз «Власть труда». Газеты он обычно «изымал», если не удавалось тайком изъять, сговаривался с машинисткой и перепечатывал. Все материалы он складывал в особую папку.
Конечно, Валерка сообразил, что Евлампию Никитичу не столь уж интересно будет видеть материалы, где его не упоминают. Поэтому история начиналась с Евлампия Лыкова.
По сей день существует почетная должность колхозного историка, совмещенная для экономии с должностью библиотекаря. Толстые папки с историческими документами ныне хранятся уже не в простом шкафу, а в специально купленном сейфе. Однако этот сейф охотно открывается любому, кто проявит интерес.
Интересовались приезжие очеркисты, они, с легкой руки Валерки Чистых, возвестили всем, что колхозная жизнь в селе Пожары начинается с Евлампия Лыкова, он первый, он единственный, других таких исторических личностей не было. К этому времени Матвей Студенкин работал простым конюхом, равнодушный к тому, что вычеркнут из истории.
Лыков строился, районная и областные газеты отмечали каждую его удачу — в колхозе «Власть труда» появился новый коровник, новый свинарник, клуб со стационарной киноустановкой, — Валерка добросовестно собирал эти сообщения. Коровник, свинарник, клуб, а колхозная контора размещалась все еще в старом тулуповском доме. Иван Слегов — уже не простой счетовод, подымай выше — главный бухгалтер. У неге целый штат — счетовод-помощник, делопроизводитель-кассир. Все они ютились и одной комнатушке, выставив стол председателя Лыкова за дощатую перегородку. Теснота, толчея, шум, махорочная вонь и никакой представительности, словно здесь не центр процветающего колхоза, а бригадный толчок в захудалой деревеньке. Пора было строить новое здание колхозного правления.
Его возводили два года под личным присмотром архитектора из областного города. Тот знал свое дело: поставил толстые колонны возле входных дверей, а перед ними широченное крыльцо из цементных плит, крыльцо гостеприимное — милости прошу.
У Ивана Ивановича Слегова — отдельный кабинет, соединенный дверью с просторной комнатой, где сидел его счетоводческий штат. В углу отгорожен особый закуток для кассира — тяжелый несгораемый шкаф, узкое окошечко, весьма неудобное, на случай если вдруг да кому вздумается через него потянуться к кассе.
У Слегова — апартаменты, а уж кабинет Евлампия Лыкова — районное начальство бедные родственники. Все как положено: два стола, один под сукном цвета озими — персональный, другой под кумачом — заседайте с удобствами.
На столе Лыкова — чернильный прибор, чугунный младенец с крыльями, вещь памятная, служащая колхозу с самого зарождения, рано ли поздно в музей пойдет; на красном столе — графины с водой, не один — несколько, захотел пить — изволь, не надо бежать в угол к ведру с ковшом. Кстати сказать, при первом заседании правления на новом месте графины так понравились, что к ним не переставая деловито тянулись, все осушили до капли.
Казалось бы, стульев хватает, но нет, есть еще мягкие диваны, да такие, что и сесть не посмеешь, особо если ты прибежал прямо с поля в рабочей одежке. У самого хозяина креслице с высокой спинкой. По правую сторону от него этажерка, всего в две полочки, верхняя — для толстых книг — «Капитал» Маркса, скажем, поставить, нижняя — пустая, картуз с головы сунуть сподручно. По левую — фикус, самим Лыковым у жены реквизированный, листья словно вырезаны из хромового голенища, уборщице строго-настрого наказано поливать его каждый день.
Выше самого председателя — вождь во весь рост. Когда Лыков сидит в креслице, макушку его попирают начищенные сапожки. И попасть в эти с любовью оформленные покои можно было только через маленькую проходную комнатушку и двойную, с тамбуром, дверь, тепло обшитую клеенкой. Шагнул за порог, казалось бы — ты уже у председателя, ан нет, погоди, еще одна глухая дверь, берись опять за ручку, проникайся.
У таких дверей положено сидеть специальному человеку — личному секретарю, хорошо разбирающемуся в том, кого сразу пропустить, кого попридержать, а кому и просто дать от ворот поворот.
Валерка Чистых был на примете. Валерка знал грамоту и вежливое обхождение. Его-то и усадил Евлампий Лыков у своих дверей за столик с телефоном.
У Валерки Приблудного появилась власть. Если ты не бригадир, не посыльный от бухгалтера Слегова, если ты не при почете, так себе, рядовой колхозник, да еще лезешь со своей нуждишкой — э-э нет, не спеши.
— В чем дело? — круглый глаз со строжинкой, остро отточенный карандашик на весу.
Объясняй, положено, человек при службе. И невольно назовешь его по имени-отчеству. А давно ли молокососа Тришка Кривой на воровстве застукал, с позором привел, да еще синяком украсил. Ай да Приблудный!
Валерка женился, не с разбегу — с разбором. Взял Галку Купцову, сама девка спелая, дом большой, хозяйство не запущено, теща покладистая.
Он просидел только год у лыковских дверей. Началась война: Валерка вместе с другими парнями был потревожен военкоматом, оставил насиженный стул, дом, молодую жену, собиравшуюся родить.
* * *
Старый бухгалтер качнулся к дверям. Выяснять родственные чувства Валерия Чистых — кто ближе, умирающий председатель или отец-пенсионер? — желания не было. Пора восвояси.
— Иван Иванович! — У Чистых нетерпеливая дрожь в губах и в ласково выкаченных глазах надежда.
Иван Иванович надавил на воротник пальто пухлым подбородком, секунду поглядывал через плечо, спросил:
— Ну что тебе, голубчик? Что-то ты от меня хочешь? Не крути, говори прямо. Скоро ночь на дворе, а меня по старой немощи к постели тянет.
— Иван Иванович, извините, я машину отпустил на полчасика. Не думал, что мы тут так быстро…
— Вот как. Вроде как в плен меня забрал. Ну, что же тебе от меня нужно?
— Одним словом не скажешь, Иван Иванович. Разговор серьезный. И по душам хотелось бы… Коль разрешите, я тут к местечку сведу, посидим с глазу на глаз.
— Что ж, paз машину спровадил… Давай.
— Тогда сюда, пожалуйста. Вот сюда…
Чистых, бесплотно касаясь рукава главного бухгалтера, повел к двери, прячущейся за выступом печи.
За все тесное, больше трех десятков лет, знакомство с Лыковым Иван Иванович ни разу не бывал у него в гостях, ни в старом доме, ни в этом новом, выстроенном после войны. Зато Чистых, по всему видать, свой человек.
— Сюда… Осторожненько, тут порожек.
Узкая комнатушка с несвежими обоями была занята. На смятой койке, уставившись в синее вечернее окошко, сидела жена Лыкова.
— Ольга Максимовна, уж извини…
Ольга покорно поднялась.
— Извини, у нас важный разговор.
Иван Иванович каждый раз удивлялся Ольге. Лицо, словно вымоченное, выжатое, да так и высохло — в сплошных морщинах, даже цвет глаз голубовато-блеклый, старческий. Такая бы подошла в пару любому из деревенских дедов, что коротают век на побочной работе — вяжут корзины, чинят сбрую, — и уж никак не Евлампию Лыкову, вокруг которого всегда все ходило ходуном. И возраст ее не столь уж велик — только-только перевалило за пятьдесят, — и трудилась не больше других, и родами не измучена — выносила всего двоих, чем же так жизнь ее измочалила?
— Ольга, зря мы тебя тревожим. Сиди. Мы в другом месте приткнемся, — сказал Иван Иванович.
— А мне все одно где, — равнодушно отозвалась она.
— Странная ты баба — скучна, словно ничего не случилось. Неужели о муже не горюешь?
— Разучена, — бесцветно обронила Ольга.
— Что — разучена?
— Да все… Горевать, радоваться…
— Ну и ну!
— Устала я! О господи!
Она вышла, тихо прикрыв дверь.
— Не обращайте на нее внимания, — успокоил Чистых. — Не привыкла. Вам вот на коечке будет удобно. Я — на стул, он хроменький.
В синем сумерке за окном вплотную стояли угрюмые заснеженные поленницы. В этом доме как-то все не вязалось с Лыковым. Иван Иванович вспомнил еще лыковских сыновей, двух великовозрастных лоботрясов, и подумал: «Задворочки-то у Пийко невеселые».
Он поставил перед собой костыли, приготовился слушать. В общем-то, он догадывался, о чем пойдет разговор.
За стеной лежит пока не холодный труп, еще там теплится жизнь, но людские страсти с этим не считаются.
По селу в каждой избе откровенно гадают — кто? В районном городе Вохрово идут глухие суды и пересуды — какие кандидатуры? Наверняка кто-то из номенклатурных, как кот на скворца, облизывается на жирное лыковское местечко. И даже в области, в высоких инстанциях, озабочены.
Лыков пока жив, но уже не настолько, чтоб живые считались с ним.
Вот и этот Чистых, чтящий Евлампия Никитича за отца родного…
Иван Иванович ждал, что разговор начнется издалека, с ощупкой, с пристрелкой — наберись терпения. Но Чистых начал в лоб:
— Коренник выпал из упряжки, как бы наши саночки косо не пошли, не опрокинулись. Загодя спасать надо, Иван Иванович.
— И у тебя, наверно, план есть?
— Да, есть.
— Гляди ты, какой дальновидный. Что ж, выкладывай, послушаю.
— В прежние-то годы жизнь наша шла, как часы, — снаружи стрелки, внутри пружина. Евлампий Никитич нашими стрелками был, на виду на примете, время по нему узнавали. А пружина… пружиной-то колхоза, всем это известно, вы были, Иван Иванович!
— Хм…
— Если бы эти годы вернуть. А можно, можно, Иван Иванович! И очень просто…
Широкое лицо бухгалтера замаслилось от удовольствия:
— Яс-но! Оч-чень даже. Могу и не утруждать тебя дальше, сам все готов выложить.
— Не хитро, Иван Иванович, признаюсь. Потому и словил умного человека, чтоб посоветоваться.
— Хочешь сказать: дедушка Иван есть такой молодец-удалец, который бы в оба уха ловил каждое твое слово. Тебе, калеке, удобно, и молодец не останется в накладе, времечко старое вернется, заживем припеваючи. Так ведь?
— Ну и что? — смиренно признался Чистых. — Ловил бы ваше слово, считался с ним.
— Так сказать, починить подержанную пружинку.
— Чинить, Иван Иванович, нет нужды. Она еще работает.
— Спасибо! Ой, спасибо большое, что уважил! Ведь в самую точку попал, не глядя, в самую! Конечно, я стар, конечно, в ногах нет прыти, но тоже не хочется пустым-то местом быть. Ой, как не хочется! Когда-то метил — уж что скрывать! — в отцы-командиры. Осечка тогда вышла. Но, право, ежели теперь попробовать?.. В голове шагать не могу, но командовать можно и сидючи. Почему бы и нет?.. Ведь как просто, надо только мальчика найти не тугого на ухо. Я ему — шепотком, он — эдаким дискантиком. Любо-дорого, споемся. Да ты мне, брат, мечты молодые вернул!
Чистых, отвернувшись, спросил тихо:
— Не надо мной издеваетесь, над собой. Зачем это?
Иван Иванович сразу посерьезнел, пропал блеск под опухшими веками, втянул голову в воротник пальто, ответил ворчливо, с горечью:
— А что мне еще остается?
— Как что? — горячо вскинулся Чистых. — Не дайте залезть на место Евлампия Никитича какому-нибудь хвату, который станет ломать по-своему. Тридцать же лет строили, а теперь — ломать, теперь — по-новому! Не-ет, добром не кончится.
— Верно, старый дом с клопами все лучше кучи свежих бревен.
— Иван Иванович! Сейчас в колхозе нету никого такого, который бы авторитетом вас переплюнул. Скажите слово — вас послушают. Одно только слово! Назовите нужного человека — вам нужного! — поддержат колхозники, да и в районе возражать не станут. В районе тоже знают — Иван Иванович Слегов слов на ветер не бросает.
— «Сначала было слово, и слово было бог». Сотвори единым словом паиньку председателя…
— Не шутите, Иван Иванович, не пристало вам. Сила Лыкова к вам переходит. Людям же надо чье-то слово слушать. Ваше слово может теперь все сотворить.
— Тогда назови-ка — чье имя мне кликнуть? У кого это слух подходящий? А?
Чистых, чуть зарумянившись, выдержал взгляд бухгалтера, твердо ответил:
— Ошибаетесь, Иван Иванович. Себя не назову и не собирался.
— Да ну-у! А почему же? Чем ты не подходишь? На ухо чуток, характер покладист, дрессировку тоже прошел. Из тех умных собачек — хозяин только свистнуть собирается, а они уже на задних лапках здравия ему желают. Лучшего, брат, не найду.
Красные пятна выступили на круглой, парнишечьи моложавой физиономии лыковского зама. Он, вытянув тонкую шею, молчал, помаргивал птичьими глазами.
— За что?.. — наконец выдавил.
Ивану Ивановичу стало неловко. Теперь этого подмоченного зама любой мог клюнуть, не только он. Грозный-то заступник лежит в параличе.
— Ладно, парень, не будем выяснять. И разговор нам надо скорей кончать. Договориться не договоримся, а дерьмом друг друга накормим.
— Ненавидите! За что? Все меня ненавидят… За честность же! Только тем и виноват я, что честно службу нес. За это плевки получай!..
— Что же ты Леху передо мной не защищал, даже выгнать помог. А он тоже куда как честно свое дело исполнял.
— По слабости я его выгнал! Признаю! Пусть я слаб, а вы?.. Вот вы, Иван Иванович! Вы хра-абренький, как же. Словно вам неизвестно, что Леха Шаблов и Чистых на вожжах шли. Не лошадь винят, когда она прохожего потопчет, а извозчика. Что ж вы этого извозчика прежде не хаяли? Да что прежде, вы и теперь его боитесь! Вы и мертвым его бояться будете! Хара-аши!..
Чистых, с пятнистым лбом, с расширившимися, готовыми лопнуть от напряжения глазами, кричал на Ивана Ивановича.
* * *
Он прошел всю войну с комендантским взводом, с автоматом стоял в карауле у денежного ящика, у штабных землянок, потом получил погоны с широкой лычкой — старший сержант сам не караулит, а руководит караулом. При бомбежке на левом берегу Донца он даже был легко ранен, в госпиталь не пошел, остался при части.
В войну везло Валерию Чистых, после войны начались неудачи.
Он «сообразил» посылку из Германии, не барахлишка, не туфли, не шелковое белье, не отрезы на костюм, а… хозяйственное мыло. Жена Галка костила муженька на чем свет стоит — сынишка-то без штанов бегал, все начисто пообтрепалось. Она носила это мыло на базар в Вохрово. На дешевые послевоенные деньги кусок стоил двадцатку, да и то отворачивались. Продала все, кроме одного куска, и в нем-то, стирая, нашла золотые часы.
Валерий ночевал со своим командиром взвода в покоях улепетнувшего немецкого барона, совсем случайно они обнаружили в стене тайничок — кольца с камнями, часы, цепочки, брошки, забавные ерундовины, у которых, кто знает, есть ли даже названия. Взводный свою долю сохранить не сумел, стал менять золотое кольцо на водку и засыпался — отобрали. Валерий схитрил — посылочки-то на проверку были самые безобидные, куски хозяйственного мыла, ишь, простота, покорыствовался.
На всю жизнь был бы богат. По двадцати рублей за кусок, глупая баба! Буханка хлеба в те годы стоила двести.
А под дороге из Германии у него стянули чемодан, как раз тот, где лежало кожаное пальто. Но второй чемодан он все-таки привез с собой, и не пустой.
На улице села Пожары, где свиньи раскачивали плетни, он объявился — костюм тонкой шерсти, манжетки из рукавов, зарубежный галстук, даже судить не смей, не ворованное, честные солдатские трофеи. Галке, безмозглой корове, тоже подарки — ночную рубаху, сквозь которую все бабье богатство до подробностей видно, и еще туфли, похожие на лисьи морды.
Со стороны каждому казалось: такому не в колхозе работать, в городе занимать руководящий пост.
Но что там город, в самих Пожарах повис в воздухе. Его старое место у дверей председательского кабинета было занято Алькой Студенкиной, молодой смазливой вдовушкой, муж которой погиб еще в сорок первом. Евлампий Лыков не собирался снимать Альку. Нечего и рассчитывать, что поставит бригадиром или заведующим фермой. Даже простым кладовщиком на склады не мечтай — занято тыловиками.
Валерий Чистых ходил по селу празднично нарядный, носил на лице, как вывеску, выражение — защитник родины, бывший воин пропадает без места. Не расстилать же ему лен с бабами? Старался чаще попадаться на глаза Евлампию Никитичу, чтоб не забывал — вот он, нужный человек.
Евлампий Никитич обещал, не отказывал: «Обожди, придумаем что-нибудь». Обещанного три года ждут, а Чистых недосуг. Галкины туфли были спущены, ночную рубаху, что наготу не скрывала, разглядывали охотно, похохатывали, но не покупали. Того и гляди, вскорости придется спустить костюм с галстуком в придачу — будешь серенькой овечкой в стаде. Жена плакалась — иди пока в бригаду. «Молчи, дура!» Молчала, знала — крупно виновата, беды б не ведали, если бы не ее сноровка. Вот уж воистину, простота хуже воровства.
Помогла «лыковская паперть». Во время войны так стали называть широкое крыльцо новой колхозной конторы. Оно и вправду смахивало на церковное.
Война кончилась, но в Петраковской, в Доровищах, во всех окружающих селах и деревнях выдавали на трудодень по двести граммов зерна. По-прежнему к Евлампию Никитичу шли на поклон. Вдовы погибших фронтовиков, бывшие фронтовики, просто прижатые нуждой бабы и мужики с утра пораньше занимали места на «лыковской паперти». Теперь далеко не все просители смиренны, многие — особо бывшие фронтовики — крикливы, напористы, часто под хмельком, стучат кулаками в грудь, требуют: «За что кровь проливали?» Почти каждый идет с такой бедой, что отказывать в помощи просто совестно. А их много, для всех мил не будешь. Всесильный Лыков, распоряжающийся миллионами рублей, раз по десять в день выслушивал: «Сквалыга, свинья жирная, барин» или же — «Сердце у тебя, сатана, ссохлось камушком!» Кто-кто а Евлампий Лыков не заслужил того, чтобы переживать неприятности. Он от природы человек щедрый — душа нараспашку. Все должны это видеть.
Но как сделать, чтоб зайку съесть и шкурку на волосок не тронуть? Наверно, нельзя.
Лыков придумал. Нужен специальный человек, который бы принимал удары на себя. Специальный заместитель, верный, непробиваемый.
Тут-то подвернулся Валерий Чистых.
С рассвета на «паперти» просители. Каждый хотел бы встретиться не иначе как с самим Евлампием Никитичем: «Умру, а не встану, коль Евлампий Никитич не примет».
Пожалуйста, почему не принять. Теперь двери председательского кабинета распахивались даже легче, чем прежде; входи, мил человек, выкладывай, Евлампий Лыков — душа нараспашку!
— Так, так, верно. Положение твое того… Надо бы хуже. А заявление где? — Евлампий Никитич не против тебе помочь, он добр, он щедр, он готов сделать все, что в его силах, он не просто сочувствует, а выводит на углу заявления размашистую резолюцию: «Тов. Чистых! Удовлетворить по возможности!» И кудрявый завиток с хвостиком, означающий без обману, что Евлампий Лыков свою руку приложил.
Проситель вцепляется в освященное самим Лыковым заявление, не нудит, не спорит, не отымает время, осыпает доброго председателя благодарностями, ног не чуя, летит с бумагой.
Лететь недалеко, в конец коридора. Там — комната-конурка с одним окном, не чета просторному, солидно обставленному кабинету Лыкова — едва умещается письменный стол, даже лишнего стула нет, не на что присесть просителю. За столом горбится узкоплечий, с уныло навешенной над бумагами зализанной головой новый зам Лыкова — Чистых Валерий Николаевич. Он без восторга читает размашистую, доброжелательную резолюцию председателя, кисловато объявляет:
— Не можем.
— К-как?! Сам Евлампий Никитич!..
— Не можем.
— Но тут же написано!..
— Тут написано: «По возможности». Евлампий Никитич, наверно, не знает, что сейчас таких возможностей не имеем.
— Как это он не знает?!
— Очень просто. У нас хозяйство громадное. Он все знать не обязан.
Крик, обида, слезы, но Чистых этим не прошибешь:
— Не можем.
Тряси кулаками, надрывайся стращай.
— Не можем!
С заявлением и с гневом нужда летит по коридору, обратно к доброму Евлампию Никитичу. Так просто распахнулась дверь кабинета, так внимателен и участлив был знаменитый председатель!..
Но на этот раз секретарша Алька Студенкина телом заслоняет дверь.
— Вы уже были.
— На минутку… Тут безобразие сплошное!..
— Вас много, а Евлампий Никитич один. Глядите, какая очередь.
Да, очередь. В ней ждут своего времени такие же, как и ты, изболевшиеся, исстрадавшиеся, как от Христа-спасителя, ожидающие помощи от Лыкова, мечтающие попасть в заветную дверь. Они с тобой особенно не церемонятся.
— Эй ты! Проваливай! Не маячь!
— Ловок! Им одним занимайся, а мы в стороне!
— Гнать его в шею!
Не знают эти крикуны, что через несколько минут будут так же рваться в эти двери во второй раз. Каждому из них Чистых кисло бросит:
— Не можем.
Лыковский заместитель Чистых и на самом деле — не может. Если б ему в голову пришла дикая мысль согласиться с резолюцией Лькова, не обратить внимания — «по возможности», то заявление, сделав круг, попало бы на председательский стол. Тогда, как знать, Лыков, может, помог бы, но Чистых наверняка пришлось бы распрощаться с должностью. Такого на практике не случалось.
Для всех мил не будешь… Для обычных людей это верно. Как ни старайся, как ни жертвуй собой, а для кого-то все равно окажешься не милым, не красивым, с камушком вместо сердца. Для обычных, но не для Евлампия Лыкова. Оказывается, это «немилое» обличье, черствость, скупость можно, как грязную шапку, повесить на другого. Тот, другой, будет безобразен, а ты — пригож. Правда, надо быть очень влиятельным, чтобы отыскать такого, кто не тяготясь согласился бы повесить на себя то, чем брезгуешь сам.
Чистых хорошо платили и трудоднями и узаконенным почетом — введен в члены правления, ни от кого, кроме как от Лыкова, не зависим, кой-кто из простаков, особенно старухи, доверчиво дивились: «Эвон, чудеса в решете. Видать, хваток, коль так скоро вошел в силушку. Ну-тка самому Евлампию перечит, с самим не считается».
Поначалу должность Чистых мыслилась — отваживай просителей со стороны. Но просителями-то были и свой брат, законные колхозники «Власти труда». Перед ними председателю еще больше хотелось выглядеть добрым и щедрым. Евлампий Лыков стал посылать к новому заму и своих, с теми же размашисто доброжелательными резолюциями на заявлениях.
— Нельзя! Не можем!
К Чистых копилась крутая ненависть — мало кто был им не обижен. Все ворчали: «Собака в кресле — не укусит, не облает, и тронуть не смей».
Но в праздник, особо по вечерам, Чистых уже выходил из дому с опаской — наткнешься еще на пьяного, а пьяному море по колено. Не раз по ночам кто-то разбивал камнями окна его дома.
* * *
И сейчас Чистых кричал на Ивана Ивановича:
— Что я для Евлампия Никитича по сравнению с вами? Моль! Уж кто-кто мог указать Евлампию Никитичу, то вы только. Много ли указывали? Часто ли за руку хватали? Да, не было этого! Чем вам передо мной гордиться? Чем, спрашиваю?!
Иван Иванович слушал, не перебивал: пожалуй, даже и хотел бы, да не возразишь — прав.
Впрочем, один раз он пытался повернуть Лыкова, Один раз всего…
Пашка Жоров и другие
Стул бухгалтера — что пожарная вышка, с него все видно, особо если у тебя хорошее зрение. Евлампий Лыков крутился по хозяйству, ужом влезал во все щели, но он-то по земле ходил, потому его, земного, удивляло, что еще рот не успевает открыть, а Иван Слегов уже говорит за него нужное слово.
«Сначала было слово, слово было бог…» — не случайно сейчас в разговоре с Чистых вырвалось у старого бухгалтера. Когда-то эта почтенно древняя фраза шла через его жизнь немым припевом.
Он уже не помнит, что тогда его, безногого, занесло на строительство большого коровника, который и по сей день считается основной молочной фермой колхоза.
У околицы, на окраине унылого пустыря, где росли неопрятные ольховые кусты и жирный конский щавель, солнечно-желтый сруб запустил в голубое небо солнечные стропила. С одного конца по этим стропилам уже начали класть матовые листы шифера.
«Сначала было слово…» Год назад он, Иван Слегов, взялся за костыли, проковылял к шкафу, достал свои бухгалтерские книги и с помощью несложной арифметики, цифра к цифре, доказал Пийко Лыкову — нужно! Все в колхозе начинается с его слова.
Пийко Лыков когда-то перебил хребет и, должно, до сих пор свято верит — Ванька Слегов его раб по гроб жизни. Да, перебил, да, обезножил, привязал к стулу, от Пийко ни на шаг, но кто чей раб? Чье слово — бог?..
Рабочие ползали по стропилам, одевали их в шифер, новый материал, до сей поры неведомый деревне.
А напротив, оседлав крышу своей избенки, клевал молотком Пашка Жоров, на сгнившие дранки нашивал латки. Увидев подкостылявшего бухгалтера, он сполз пониже, выплюнул в ладонь гвозди.
— Наше вам почтеньице… Объясни ты мне, друг сердешный, по каким таким правам — мне жить под латанной крышей, а комолой Пеструхе под медной?
Пашка Жоров — лицо спеченное с кулачок, в рыжей, редкой щетине уже изрядная седина — балаболка в компании, крикун на собраниях, выдает на голос все, что кем-то сказано в полшепота, — своего не родит. И уж, конечно, этот Пашка вместе со всеми когда-то отвернулся от Ивана Слегова: «Что ты нам — в упор не видим».
Иван нехотя ответил ему:
— Ежели на корову сверху не будет капать, то в общий подойник погуще капнет. Не хитро, сам бы мог догадаться.
— Эхе-хе! Догадайся тут, кто из нас хозяин-барин? Сдается мне — корова барыня.
Пашка поскреб затылок, покряхтел и, выставив тощий зад, полез вверх стучать молотком.
Только это и сказал: «Корова — барыня». И ответа не стал ждать, повернулся костлявым задом, обтянутым худыми портками.
И стоял жаркий день, и тени, съежившиеся, скупенькие, лежали под стенами изб, в небе солнечные стропила, и в синеве, чуть ли не под обжигающим солнышком, ходили кругами два ястреба, и по крыше на четвереньках полз Пашка Жоров, по крыше, иссушенной зноем, по шелухе покоробившихся дранок.
Вдруг все перевернулось в душе Ивана, стало жаль Пашку, впервые за много лет — зад тощий, портки спадают…
И себя неожиданно жаль….
Слово — бог. Твое слово! А портки-то у тебя, бог, не лучше Пашкиных. Ни себе, ни Пашке…
Иван костылил к колхозной конторе по солнцепеку.
Поросята в изнеможении прятались в ненадежную тень под плетни, в небе важно, по-хозяйски, гуляли два ястреба. День как день, как вчера, как позавчера. И завтра будет, похоже, такой же.
Ни себе, ни Пашке. Собакой на сене и дальше жить?..
Шпарит солнце, затянулось вёдро. Да, завтра день такой же.
День-то такой, но он, Иван, войдет в него новым.
Ни себе, ни Пашке. Корова — барыня…
Иван торопливо костылял к конторе.
Отодвинул в сторону все будничные бумаги, достал из шкафа приходо-расходные книги прошлых лет, уселся… Сидел до поздней ночи, подсчитывал, аккуратненько выписывал на листке цифры.
В позапрошлом году был получен такой-то доход. Куда он ушел?.. Колхоз съел. В прошлом — доход больше, колхоз его снова съел, почти целиком. В этом году… Колхоз пожирает, колхоз перемалывает, крутится жернов. Намололи достаточно, не пора ли Пашке Жорову сыпануть щедрей, нынче не прошлые «пиковые времена». Что скажешь на это, Евлампий Никитич? Цифры говорят. А цифры — вещь острая, на нее, как на рогатину, не лезь, наколешься!
Поздней ночью за ним пришла встревоженная жена.
— Иван. Я с ума схожу, а он, на-ко — дня не хватило, сидит себе и каракули выводит.
Оторвался от бумаг, взглянул на жену ясными глазами. Взглянул, и сердце сжалось, пронзительно почувствовал, как далеко уплыли они оба от молодости, от тех лет, когда он, подбоченившись, покрикивал на лошадей: «Э-эх! Серы кролики!»
Она стояла перед ним прямая, высохшая, в углах поблекших губ глубокие складки, только брови по-прежнему густы, на плоской груди сложены натруженные руки, платок стянут под острым подбородком, в каждой черточке, в каждой морщинке — тревога и боль за него, уже привычные, уже не ранящие.
— Марусь… — выдавил с сипотцой, с горячим придыханием. — Ты думаешь, у нас с тобой все прошло, все кончилось?.. Марусь, в жизни, как в хороводе, рано ли поздно на прежнее ступаешь. Вот и я наново на старое ступил, только теперь тверже. Не молодой щенок, который на луну тявкал — мол, допрыгну! Не-ет! Видишь это? — хлопнул широкой ладонью по густо исписанному листку.
— Чего еще? — голос ее был поникший от испуга.
— Ты гляди, любуйся! Тут мелочь — крючки, закорючки чернильные. Не-ет, тут разрыв-трава, что в сказках пишут. От такого вот реки вспять текут, моря из берегов выходят, ночь в день обращается…
— Сказочник ты у меня. Не обломали еще Сивку крутые горки… Идем домой, голубь.
— Э-эх, Марусь! Как тебе втолковать? Жмемся, копим, пухнем, но должно же это в конце концов прорваться. Я первую прореху сделаю! Хлынет! Хлебай, люди, досыта!
— Идем домой, Иванушка…
— Скушная ты стала, Марусь.
— Не скушная, Иван, толченая да ученая, а тебе наука все не впрок. Идем домой, золотко, за полночь, поди.
— Э-эх! — Иван с досадой стал прибирать на столе бумаги, исписанный листок бережно положил в карман. — И вода плотины рвет. А тут годами текло, так не прорваться!.. Ничего ты понимать не хочешь!
— Дай-кось я тебе помогу встать… Вот и ладненько, утро вечера мудренее. Завтра кому поумней расскажешь, я-то бестолковая.
Над селом, до звона начищенная, висела луна, освещала будничный, древний мусорок на пыльной дороге — клочья сена и соломы, конский навоз. Он пружинисто перекидывал себя на костылях, топтал свою тень и говорил, говорил, упиваясь силой своего голоса.
А она молчала, скуповато вышагивала, напряженно прямая, иссушенно плоская, как монашенка.
Ее неверие не охлаждало. Он верил, верил — жизнь не прожита, впереди еще добрый кусище, нежданной гостьей с черного крыльца постучала молодость.
А утром, чувствуя непривычную крепость в теле, как всегда, добирался к конторе. В кармане вчетверо сложенный листок. То-то сейчас оглушит им друга Евлампия.
У конторского крыльца случилось маленькое несчастье: один из костылей, верно служивший Ивану с больничной койки, треснул и надломился. Иван чуть не упал на цементные ступени. Поддержал его бригадир Черенков, оказавшийся рядом:
— Грузнеть стал, Иван Иванович. Костыли-то придется выстрогать поматерей.
Евлампий Никитич за столом, в тесном креслице, как свежий пенек на пригорке — не думай выкорчевать. Над плоской повытертой макушкой нависают сапожки вождя, по обширной физиономии разлита парная краснота — под полевым солнышком уже погулял и, видать, пропустил стопочку за завтраком, поэтому благодушен и в голубых, льняными цветочками глазках сонливость.
Иван положил перед ним листок.
Он положил перед ним листок с цифрами и долго, долго смотрел на склоненную крупную голову, на вытертую плешинку на макушке. Евламиий Лыков изучал, лица не было видно.
Наконец председатель поднял взгляд, нет, не сердитый, нет, не удивленный — настороженный и задумчиво ощупывающий.
Какое-то время молчали. Иван не рассчитывал, что дорогой друг Евлампий сразу же раскроет ему объятия.
Евламиий Лыков, не спуская ощупывающего взгляда, спросил:
— Значит, Ванька Слегов горой за народ?
— Если б я только… Сама жизнь поворот указывает.
— Ты — за! Ты — в ногу с жизнью! Я, выходит, поперек?
— Не советую.
Голубой холодный взгляд:
— Сколько лет тебя знаю, Иван. И ведь плотно… А спроси — что ты за человек? — убей, не пойму. Опасный, должно. Вроде медведя-шатуна. Не угадаешь — стороной обойдет или бросится кожу драть. Давно ли ты, Иван, на меня жал: стягивай ремешок — мужикам польза…
— Тогда-то ты не говорил — опасен, — заметил Иван.
— М-да-а. Ни с того ни с сего — коленце: коровы-де баре, мужик в опале. То стягивай, то распусти, как тебя понять? Против же себя выступаешь.
— Да, против себя.
Пристальный, пристальный взгляд голубых глазок.
— М-да. Опасен… Ну ладно, давай по существу, — Евлампий подвинул к себе листок: — Дома рушатся, надо новые… Крыши перекрыть чуть ли не по всему селу. Подсчитано — полмиллиона вынь да положь. А я возражу тебе — мало! Из каких расценок ты шиферу столько накупить собираешься? Я ведь особо-то не распространялся, что на коровник мы шифер достали как выбраковочный, уцененный. На такую удачу не рассчитывай, тряси мошной…
Евлампий Лыков начал считать, загибая короткие пальцы. Иван сам научил его хитрой хозяйственной арифметике.
— Видишь: к круглому миллиону подбираемся. Подари его мужикам. А коровник, что заквасили, оборудовать надо или нет? Забросить прикажешь? А птичник?.. Лес на него уже привезен. А картошка гниет, убытки терпим. Надо нам овощехранилище или нет?..
Сам учил Евлампия Лыкова, теперь пришло время признать:
— Способный ты ученик, Пийко.
— Спасибо на добром слове, — ответил Лыков. — Но уж коль это смекнул, то сообрази и дальше: нужен ли мне теперь в упряжке конь с норовом?
Голубые глаза в упор, каменные скулы, подозрительная недоверчивость в жестких губах. Знал, что сразу не раскроет объятия, готов был к этому, теперь почувствовал — бессилен. Возражай сколько угодно, но ведь цифрам не хочет верить, а словом уж и подавно не расколешь. «Сначала было слово, слово было бог…»
Но друг Евлампий всегда удивлял Ивана крутыми поворотами — неожиданно налился пьяным багрянцем, спросил бешеным срывающимся голосом:
— Глядишь: зачерствел Лыков, людей не жалеет?
— Чтоб жалеть, сила нужна, — уклончиво ответил Иван.
— Верно! Откуда у Пийко Лыкова сила, он же ее бережет, никому не показывает. Пашка Жоров простак, всю силушку в колхоз вкладывает. Он раньше меня встает, позже ложится. И страдает Пашка больше моего… Как бы он в моей шкуре запел. У него, видишь ли, крыша худая, а у меня?.. Старый кулацкий пятистенок обжил — углы проседают, в щели дует. У моей бабы наряды богатые, я каждый день разносолы жру? Пашку жаль, меня не стоит жалеть. Я таковский! Да почему бы тебе на свой зад не поглядеть — штаны-то у тебя, бухгалтер, не лучше Пашкиных. Так что пусть пашки не обижаются — квиты с ними!
Иван молча потянулся к костылям и вспомнил — один-то сломан. «Грузнеть стал, Иван Иваныч. Костыли-то придется выстрогать поматерей».
Вечерами в доме Слеговых уютно: горит лампа под цветным абажуром, рваная тень от бахромы мирно лежит на стареньких обоях, топится печь, стреляют поленья. Печь летом протапливают по вечерам, так как Мария рано утром уходит на работу, тогда уж некогда возиться с горшками.
И в этот вечер, как всегда, только сама Мария ласковее, говорит, как поет колыбельную — хошь дремли, хошь слушай:
— Чего, голубь мой, расстраиваться-то? — радоваться надо. Сам же толковал — жизнь вроде хороводы водит. И уж не дай бог, чтоб она по-старому закружила, чтоб снова тебе спину перебили. Спина-то у тебя, сокол, одна. Слава богу, что не закружилось, слава богу, что так быстренько оборвалось. Живы — и ладно…
У нее и на самом деле была тихая праздничность на лице — рада, что все идет, как шло, ничего нового не случилось.
Иван слушал, угрюмо смотрел в стол.
В доме — уют, трещит огонь в печи, пахнет щами. И жена ласкова, она всегда ласкова с ним — не продаст, не озлобится, редкий человек. Уютно в доме.
Живы — и ладно… Как-никак и это счастье.
Должно быть, разговор с бухгалтером все-таки не на шутку растревожил Лыкова. Спустя неделю он с напористой настойчивостью доказывал на правлении:
— Людей не ценим, дорогие товарищи. Колхоз-то наш растет и, так сказать, крепнет. А растет ли жизнь людей? У нас один-единственный главный бухгалтер. Чтим мы его? Скажете — да, чтим! Ой ли? Старые штаны наш бухгалтер донашивает третий год. Не замечали?..
Он тут же потребовал увеличить оплату Ивану Слегову. Ни себе, ни людям — Пеструхе комолой… Так нет же, чувствуй заботу, скидывай залатанные штаны, покупай новые.
Иван равнодушно принял подачку.
Война!
Она показала, как много Евлампий Лыков научился у Ивана Слегова и как притих, огрузнел сам Слегов.
Лыкову дали бронь — нужнейший специалист, не посылать же такого в окопы. Но самому колхозу — никаких поблажек. Ушли на фронт все мужчины, мобилизовали самых здоровых лошадей, увеличили поставки — сдавай, что положено с гектара, сдавай в фонд обороны, жертвуй на танковые колонны…
Лошадей-то мобилизовали, а на МТС теперь не надейся. Там остались только изношенные машины, опытные трактористы на фронте, их заменили девчонки и сопливые мальчишки.
В Петраковской снова принялись печь колобашки из куглины. По району уже разъезжали не одинокие толкачи-заготовители, а целые бригады их, но и эти сплоченные бригады не могли достать не только сверхплановые поставки, но и законные, плановые.
В Вохровском районе насчитывалось сорок колхозов, из них добрая половина совсем «не тянула», а сам район кое-как «тянул», с натугой выполнял обязательства. За чей счет? Да за счет наиболее крепких колхозов, и в первую очередь за счет лыковского.
В предвоенные годы догоняли Лыкова молодые председатели — Кузьма Соколов, Василий Злобин, Василий Красавин — с дипломами агрономов, ученых зоотехников, с напором, с хваткой. Правда, Лыкова на прямой не обскачешь — хозяйство поразмашистей, связей побольше и авторитет покрепче.
Кузьму Соколова мобилизовали сразу, на второй день войны — лейтенант запаса с нужной военной специальностью Колхоз без него захирел сразу. Злобин, перед тем как уйти в армию, рекомендовал в председатели свою жену, бабу самостоятельную, изворотливую, которая не хуже мужа тянула хозяйство. А вот Красавин на фронт не ушел — астма, — но колхоз не удержал, только сам сломился. Многие падали…
Отдай за петраковцев, отдай за доровищенцев, отдай за того, о ком знаешь понаслышке. С каждым годом «тянущих» колхозов становилось все меньше и меньше — надрывались. Казалось бы, должны надорваться и пожарцы.
Но нет.
Во всю силу заработала «лыковская паперть».
У села Пожары давняя слава — хлебный остров. Раньше сюда тянулись из соседних деревень, из города Вохрова, дальние не доходили. Теперь уж к лыковской паперти пролегли дороги от Москвы, от блокированного Ленинграда, от захваченных врагом Киева и Минска, даже от Одессы и Севастополя. Каждый эвакуированный сразу же узнавал — не столь далеко есть заветный хлебный остров. Такого паломничества к Лыкову не было и раньше.
Интеллигентные старики в мятых шляпах, женщины в рваных солдатских шинелях, в ватниках и сапогах, женщины с детьми, женщины одинокие, лица, изрытые горем, лица, отупевшие от несчастий, девушки, страдающие бледной немочью от недоедания, украинская и белорусская речь, библейские профили евреек. Все друг другу сродни, у всех одинаковое выражение усталой зависимости перед судьбой. А их судьба — невысокий, плотно сбитый человек с решительным наклоном крупной головы, с багровым загривочком, растущим из спины.
— Кто таков?
— Извините, я доктор филологии, преподавал в Киевском университете…
— У нас этой… как ее… нет. У нас в земле и навозе ковыряются. Работка не докторская.
— Я мог бы быть вам полезен по части культурного воспитания. Потом, войдите в мое положение, здесь я оказался с больной женой, с маленьким ребенком…
— А ты кто?.. Ага, просто жена военного. Так… Муж, говоришь, пропал без вести… Так… И дети погибли… Сколько тебе лет?.. Что ж, молода, поди, вилы в руках держать сможешь… Пройдешь испытательный срок — месяц. Не покажешь себя — вот бог, вот порог.
Людей, как добрый барышник лошадей, он оценивал сразу на глазок. Лыков имеет право выбора, остальным пусть занимается собес и прочие.
Иван Слегов понимал: попади он сам в такое положение, его отмели бы в первую очередь — угасай с богом, калека! Тот, кто больше недоедал, кто сильней других иссушен страданиями, кто уже измочален жизнью — не рассчитывай на Лыкова.
Иван понимал — ни он, ни кто-либо другой не может упрекать председателя. У Лыкова колхоз без мужских рук, без крепких лошадей, без надежной помощи МТС, и такой-то колхоз должен кормить солдат в окопах, рабочих на заводах, сдавать за соседей справа, за соседей слева, за те колхозы, что захвачены сейчас немцами. Лыков, быть может, жесток, но попробуй быть добрым в войну.
Навряд ли самому Лыкову нравилось играть роль бога-кормильца: не усыхал в теле, не тощал загривочком, но глаза запали, глядел жестко, часто срывался, кричал без нужды. И вдвое против прежнего расторопен.
Руки эвакуированных женщин заменяли не только мужские руки взятых на фронт пожарцев, но даже лошадей, даже ненадежные эмтээсовские машины. На этом держится лыковская экономия.
За две машины картошки можно достать угловое железо, еще две машины — получай стекло. Ни за какие деньги не найдешь мастеров-рабочих. За деньги — нет, а за муку, за масло — пожалуйста. Рабочие ставят теплицу. В этой теплице средь зимы вызревают помидоры и огурцы. Их не нужно сдавать, они не предусмотрены планом госпоставок. Огурцы, помидоры — это теперь такая редчайшая диковина, что никто о них и не мечтает.
Выкинь их на рынок — вози деньги возами. Но что деньги — они военные, хлам бумажный. Гораздо ценнее крепкие связи. В столовой одной воинской части для высшего комсостава в буфете появляются салаты из свежих огурцов, а на складе колхоза «Власть труда» — кабель нужного сечения. Если облисполкому понадобился бы такой кабель — бились бы год, тревожили бы Москву, а достать — вряд ли… Кабель нужного сечения такая же редкость, как зеленые огурцы среди военной зимы.
Теплица рождает электрооборудованный паточный завод.
У кого есть померзший картофель, настолько померзший, что нельзя есть? У кого? Сообщите. Купим и вывезем. Промерзший картофель скупается за бесценок, иногда просто вывозится бесплатно. Из него гонится патока, а патока — товар ходкий. Лыков доволен. Лыков посмеивается: «Из дерьма — конфетка!»
Колхоз «Власть труда», и без того раньше богатый, раздобрел уже сказочно — новые фермы, теплицы, электростанции, мастерские, подсобные заводики, — вкупе миллионные доходы!
Сам же Лыков от этих миллионов богаче не стал. Правда, снова к залатанным штанам уже не вернулся, но щеголял в старой кожанке, обнов не покупал ни себе, ни жене, ни детям. Хоть и хвалился он в свое время Ивану Слегову, что живет в старом пятистенке Петра Гнилова, где углы крошатся и промерзают, но запасец, оказывается, на сберкнижке имел — на новый дом, конечно, а размахом — знай наших! И этот личный запас Евлампий Никитич в разгар войны выбросил широким жестом — на новый танк для победы, все до последней копейки. Потребовал от других — выкладывай, кто может, не жмитесь. Одна только просьба: пусть грозный танк называется «Пожарец». Знай наших!
В конце войны экипаж написал в колхоз, что их танк «Пожарец» дошел до Берлина.
Новый дом не очень-то печалил Лыкова — успеется. И Пашка Жоров, вернувшийся с фронта только чуть попорченным — разбило осколком локтевой сустав, — тоже латал свою старую крышу.
Вот и кончилась война, И осталась я одна…Евлампий Лыков носил в петлице пиджака боевой орден Отечественной войны первой степени.
Лыков-младший
Чистых утомился, сбавил голос, но еще выкрикивал, Иван Иванович его перебил:
— Эх, парень, Америку мне открываешь.
— Не Америку — глаза открываю, Ивам Иванович. Каждый небось в чужом-то зрачку…
— Зря стараешься — все о себе знаю. Давно, как в Страшном суде взвесил: чаша-то с добрыми делами, признаю, у меня чистенькая, словно вылизанная, а грехи были…
— А вот этого я не говорю, Иван Иванович. Я за вами и добрые дела признаю.
— Как и за собой, конечно?
Чистых уже выкричался, сидел возбужденно-помятый, с бегающими глазами, как школяр после драки, захваченный учителем.
— Я же ломовая лошадка. Неужели на мой воз только дурное клали?
— Ну, хватит нам считаться. Выскочи, погляди на машину, не пришла ли?
Чистых не особенно охотно встал, замялся у дверей:
— Иван Иванович…
— Чего еще?
— Простите, вгорячах-то чего не скажешь.
— Эх ты, человеком же стал на минуту, а теперь испугался. Не на ту сторону поклоны бьешь.
И все-таки Чистых вышел не успокоенный.
Молчал тяжко весь дом. За перегородкой что-то робко шуршало — то ли мыши возились в подпечке, то ли в соседстве, за стенкой, по-мышиному жила лыковская жена Ольга.
Молчал дом. В затянутой густыми сумерками комнатушке, прислонившись седой головой к костылям, сидел старый Иван Слегов, многотерпеливый помощник Лыкова, привыкший к непослушным ногам, к болям в спине перед дождливой погодой.
Молчит дом, и умирает за стеной хозяин Ивана, всесильный человек, почти бог.
Бог?.. Всесильный?.. Ой ли?..
Рассудить трезво: наверное, сам бы хотел, чтоб над Пашкой не протекала крыша. Хотел, да не делал. Не всемогущ.
Лыков только главный в приходе, а приход-то из Пашек. Самая большая мудрость, какую Пашка получил от дедов и прадедов: «Латай портки вовремя», и то не всегда-то ею пользовался. Новые свинарники, новые коровники, новое хозяйство и стародедовское покорное «латай» еще остается в крови. Латай и плыви, куда несет, не барахтайся. Лыков главный в приходе, его ведь тоже несло, как и Пашек. Иван Слегов попробовал барахтаться — берегись, еретик! Осадил Лыков, сам же он и не пытался: еретиком стать столь же трудно, как и святым.
Жизнь Лыкова прошла под «ура». Сейчас тишина, тишина вокруг. Иван Слегов слушает тишину, его черед пока не пришел.
Лыков использовал его. Сейчас вот пытался использовать Чистых. Кто следующий на очереди?.. Кто-то должен заменить Лыкова.
Тишина, тишина…
Легкие шажки за стеной, скрипнула дверь, бочком влез в сумеречную комнату Чистых.
— Чего в темноте-то?..
Щелкнул выключателем, свет больно хлестнул по глазам, заставил зажмуриться.
— Машина скоро будет. Леху Шаблова послал, — рванул на полусогнутых.
Иван Иванович недовольно жмурился, а Чистых, свеженький, будто успевший умыться за эти минуты, приобретший привычную ласковость и в лице и в голосе, забывший, что недавно истерически кричал на старого бухгалтера, присел снова на хромой стул.
— Идет теперь по селу гадание… Свет во всех окнах, как на праздники.
— Ладно, что уж подплывать издалека, — проворчал бухгалтер. — Пытай прямо: за кого я голос подам?
— Ежели не желательно, ежели до поры в секрете держать для вас лучше, то я — боже упаси…
— Зачем мне скрывать?
Чистых замер почти в страдальческом изгибе, словно сел на гвоздь.
— Догадываешься?
— Нет, Иван Иванович.
— Опять врешь. Мы тут кучу всякой всячины наговорили, а о нем не вспомним. Почему бы это?..
— Не о младшем ли речь?.. — выдавил Чистых.
— Да.
— Иван Иваныч!
— Что? Не нравится?
— Себя хороните, Иван Иваныч! Вот уж кто с вами церемониться не будет, вот уж кто в вашу сторону ухом не поведет…
— Опять — ухом!.. Пусть пень вместо головы, лишь бы на нем уши большие росли.
— Себя хороните, Иван Иваныч! Как этого не понять!
— Может быть, может быть, хороню…
Чистых кривовато восседал на стуле, глядя страдальчески.
* * *
Тот человек, о котором шел разговор, тоже носил фамилию — Лыков.
Он был из зеленой поросли, из тех, кто когда-то босоногими стайками бегали за грозным Матвеем Студенкиным, теребили его за штаны:
— Дядь Моть, сделай ружжо!
Сам Евлампий носил его на руках, катал на «закукорках». Его носил, а своих детей нет, — к тому времени, когда те родились, бывший Пийко Лыков стал Евлампием Никитичем, загруженным заботами председателем.
Он подрос, пошел в школу, и уже тогда его отец был в годах, занимал не копотное место колхозного пасечника, а все старшие братья, считай, встали на ноги. Один заведовал складами — все колхозные запасы под его доглядом, — второй руководил самой большой молочной фермой в колхозе, третий учился в военном училище, а четвертый кончал на инженера-лесозаготовителя. Всем покровительствовал их знатный родственник Евлампий Лыков, помнивший то время, когда зарабатывал себе хлеб пилой-растирухой, жил под крышей своего старшего брата.
Сергей был самым младшим племянником Евлампия Никитича. Соломенные волосы, крупная голова, уже в ребячестве плечи с разворотом, не высок, но плотен — лыковская порода без подмесу.
Детство как детство, счастливей вряд ли бывает: купался в речке до синевы, ловил на удочку красноглазых сорожин, имел врага в школе, долговязого, цепкого Веньку Ярцева, часто дрался с ним, случалось, до крови. Венька был из Петраковской (школа-то семилетка на окружающие деревни одна — в Пожарах). Не замечал Сережка у Веньки голодного выражения на лице, и откуда ему было знать, что рваные сапоги на Венькиных ногах — одни на пару с матерью. Вряд ли во всей округе можно было найти семью более сытую, в какой рос Сережка. Сыновья самого председателя и ели не так жирно, и ходили не обихоженные — Ольга, жена дяди Евлампия, хозяйка не слишком тороватая, вечно в дреме.
Ясный, как вешний день, мир окружал Сережку. Самый большой человек в этом мире — дядя Евлампий.
— Как учишься, Серега?
— Хорошо.
— Учись, учись. В министры тебя не пущу, а фигурой сделаю.
А есть еще бухгалтер Слегов — калека на костылях, черствая горбушка, слова никогда от него не услышишь, ни доброго, ни худого.
А вот конюх Матвей Студенкин — свойский мужик, он тебе и свистульку вырежет, и на лошадях разрешит прокатиться, и поговорить с ним чин чином можно.
Из ребят — Лешка Шаблов на отличку. Он даже моложе чуток Сереги, но задевать не мечтай. Мужики удивляются, когда этот Лешка гирю-двухпудовку одной рукой выжимает:
— Ядреный парнишка.
Стал тем, кем хотел, — кончил сокращенные по военному времени курсы летного состава, сел на истребитель.
Небо — извечная противоположность постылой земле. Небо — недосягаемая мечта о прекрасном, мечта о незапятнанной чистоте, мечта о бессмертии! Ложь! Красивая, благостная, тем более оскорбляющая. В небе, как и на земле, жила смерть, и облака, когда их касаешься, — просто липкий туман, нет, не белые, нет, не сияющие — мутные и серые.
Сергею случалось попадать в переплеты не раз, нагляделся, как плещут в упор жгутовидно дымные полотнища трассирующих очередей, как взбухают тугие и лобастые нарывы зенитных снарядов, слышал, как небо кругом рвется в лохмотьях. Не ласковое, не мирное небо детства, когда-то так сильно звавшее к себе.
Не раз он еле дотягивал до своего аэродрома, вслушиваясь в перебои мотора, потом на земле считал пробоины и тревожно радовался: «Пронесло».
Но однажды неспешной размашистой каруселью начала расти навстречу затянутая голубой дымкой земля. Он успел выброситься, повис между небом и землей под белым куполом… Это случилось над самой линией фронта. Повезло, что ветер дул в сторону своих, повезло, что ни одна пуля не задела его, когда он, доверчиво открытый и беспомощный, висел над землей…
Дул счастливый, услужливый ветер. Он отнес его в свой тыл, опустил на поле, истерзанное гусеницами танков, исхлестанное временными дорогами, измятое, в корявых оспинах воронок, с щетинисто-пепельными зализами обгоревших мест. Сергей опустился на неубранный хлеб, на хлеб сожженный, потоптанный.
Отстегнул лямки парашюта и сорвал колос. Земля радушно встречала упавшего с неба гостя. Искалеченная, изорванная, она одарила тишиной и частичкой своего еще не уничтоженного богатства — колоском пшеницы.
Лежал колос на ладони, странный колос. В родных местах Сергея земля лучше рожала лес, чем хлеб. Колос был незнакомого сорта. Зерно крупное, туго налитое янтарем, сам колос украшен длинными, парадно черными усами, они, жесткие, шероховато цеплялись за кожу…
Лежал колос на ладони, стояла тишина над головой, только далеко-далеко, словно спросонья, перекатывались пулеметные очереди, погромыхивали вялые взрывы. А сердце продолжало судорожно гнать раскипяченную кровь, она туго билось в венах. Только что из-под облаков, только что нырял под дымчатую лавину трассирующих пуль, сливался в одно целое с трясущимся в судорожной ненависти пулеметом, и отравленная кровь не может еще успокоиться. А кругом тишина, а небо вновь изливает на тебя ласковую синеву. Ласковую и лживую. И колос на ладони.
Только что казалось самым важным — важней всех великих проблем мироздания, важней собственной жизни — сбить! Изрешетить! Уничтожить! Только это, ничто другое!
И вот — колос на ладони, тишина… И ясная покойная мысль: «Сбить, изрешетить?.. Нет! Важна ведь жизнь, а не смерть, колос, а не пепел».
Он не успел до конца удивиться простоте своего открытия. Прямо по измятому полю уже катил к нему приземистый, как лягушка, «виллис». К нему спешили, его хотели выручить.
— Жив, браток? Повезло тебе… Садись!
Он сел, он покорно покинул тихое, изувеченное поле и покатил туда, где люди продолжали жить знакомой ему ненавистью — убить! Изрешетить! Уничтожить! Покатил навстречу сонным перекатам пулеметных очередей, глухим погромыхиваниям артиллерии.
Сорванный колос он долго хранил, завернул в бумажку. Потом тот высох, выкрошился, измялся, потерялся по частям.
«Тот человек, который может вырастить два колоса, где рос один, заслужил бы благодарность всего человечества…» Ничто не ново в этом мире, великий англичанин за сотни лет до появления Сергея на свет красиво высказал его желание. Только великий англичанин, пожалуй, крупно ошибался насчет благодарности, ему ли не знать, что памятники охотнее ставятся воинам, чем землеробам. Даже сам Сергей был не обойден похвалой как воин — набор орденов украшал его грудь.
Колосок выкрошился, потерялся, но память о нем осталась. Только память, не больше того. Он все еще думал, что и после войны останется военным летчиком.
По чужой земле, по разгромленной Германии шла весна, и ручьи в кюветах вдоль асфальтовых шоссе пели на той нежно-высокой, радостной ноте, какой они поют по оврагам вблизи села Пожары, и так же, как в Пожарах, пахла сладко и призывно подсыхающая земля на вспаханных полях.
Их авиачасть базировалась в Восточной Пруссии, в стороне от разбитых городов, среди фермерских хозяйств, укоризненно добротных, с водонапорными и силосными башнями, с черепичными крышами над просторными коровниками, с игрушечно чистенькими домишками, никак не похожими на русские избы, в них кафельные печи и даже печные дверки из начищенной меди.
Солдаты дивились:
— И чего они, сволочи, от такой жизни к нам полезли!
Солдат из эродромной обслуги больше всего поражали автопоилки — у каждой коровы своя чашка, нажми носом, течет вода, пей от пуза. Эти парни попали из вятских, вологодских, ярославских деревень, а в ту пору большинство северных колхозов этой нехитрой техники еще не имело.
Солдаты удивлялись, а Сергей Лыков удивлялся им — нашли диковинку, его дядя за несколько лет до войны поставил точно такие автопоилки. Эх, Пожары, Пожары! Родное место, село в петле мелководной речушки, с колокольней белой церкви над тесовыми крышами, с извечными штабелями бревен, кирпича, со свежими неоконченными срубами на окраине. Село с громкой славой, и не зря — кой в чем немцу нос утрет.
По-пожарски звенели ручьи, по-пожарски пахли распаренные поля. Там, возле дома, скоро, должно быть, зацветет черемуха, блестки опавшего цвета усеют траву… И тошно было слышать рев разогреваемых моторов, днем и ночью несущийся с аэродрома.
Он тосковал по родному селу, как молодой призывник.
После войны часть их перебросили на родину.
На родину ли?..
В Германии хоть весна походила на весну, ручьи шумели по-пожарски. За Каспием, за пыльным, сожженным солнцем Красноводском, среди песков ни в какое время года не увидишь живого ручья. Воду привозят в цистернах, вода теплая, парная, с привкусом железа, песок проникает сквозь плотно прикрытые окна, хрустит на зубах. Утречком бы пораньше, по росе, обжигающей босые ноги, — к речке да с берега, вниз головой в омуток, поплавать, пока не заломит кости от холода! А из окна — пустыня до неба, шары колючек скачут по песку. Под самым окном валяются местные собаки, рослые, косматые, желтые, как песок, ленивые, как сама пустыня.
В штабах шла работа, напряженная и деликатная. Война кончилась, армии уже не нужно такое количество летчиков. Почти все они готовились в военной спешке, кто-то успел дозреть на практике, набрал достаточное число боевых вылетов, кто-то — нет. Большинство молодежь, бывшие школьники, другой профессии не знали, — лишь управлять штурвалами, припадать к гашеткам пулеметов. Товарищи Сергея жили в тревоге: демобилизуют, а дальше куда? В гражданскую авиацию? Там охотников хоть отбавляй. Учись на шофера или тракториста. Повальная мечта — попасть на переподготовку в высшее летное училище, получить новую звездочку на погоны, назначение в часть, которая расположена не в таком проклятом богом месте.
Сергей мог рассчитывать на удачу. На его счету достаточно боевых вылетов, есть сбитые самолеты, есть ордена — вряд ли обойдут. Но подал прошение о демобилизации.
Он сыт авиацией. Небо пахло для него бензином, облака — сыростью, а подымаясь над землей, разглядывая ее сверху, постоянно думал с завистью — там, внизу, люди живут не только скучными гарнизонными буднями.
Он совсем не знал, как выглядит нормальная человеческая жизнь. Пойти на переподготовку — значит навеки оторваться от земли. Большим выбором его не побалуют, а вот в селе Пожары — полный выбор, хочешь на инженера учись, хочешь на агронома, а не захочешь, и в колхозе найдут работу по плечу, уж не обидят. И будешь утром по росе бегать к речке, весной слушать ручьи, дышать запахом цветущей черемухи.
И вспоминался колос на ладони, колос пшеницы, не известной в Пожарах.
Просьбу о демобилизации удовлетворили.
За тесовыми и драночными крышами, тронутыми бархатными заплатами мха, выглядывали новые крыши — шиферные и железные. С лица село, похоже, даже постарело — ниже теперь казались знакомые избы, мельче и уже родная речушка, костлявей березы, но с тылу по окраинам село неузнаваемо — среди искалеченных тракторами и грузовиками дорог целый поселок с незнакомыми службами. Маленький ручеек, сбегавший в реку по овражку, забран земляной плотиной, разлилось мутное, с истоптанными коровами и овцами берегами озерцо. На нем плавают утки и гуси, птичьим пухом покрыта вода.
Перемены — да, большие. Построены новые коровники и свинарники, новые доходные заводики, а вот бревно, оброненное когда-то отцом Сергея посреди дороги, до сих пор лежит непотревоженное, потемнело, зацвело. Трактористу, шоферу, конюху легче каждый раз объезжать его, чем остановиться, слезть, оттащить навсегда в сторону. Мешает, конечно, но не особо, потому — пусть себе, лежит едва ли не восьмой год. Ревнитель порядка, сам дядя Евлампий, наверняка по нескольку раз на день его огибает. Загадочная русская натура — немцы бы прибрали.
Перемены — да. Валерка Приблудный, оказывается, стал замом дяди Евлампия, правая рука, ходит торопливой, подпрыгивающей походочкой очень занятого человека, таит на лице строжинку, с ним здороваются издалека, величают по имени-отчеству. Но при встрече с Сергеем расплылся, как старому знакомому:
— Сергей Николаич! Со счастливым прибытием в родные края! Поздненько вы, поздненько, мы, фронтовички, все уже слетелись. В гости заходи, чем богаты, тем и рады…
Но многое не изменилось. По-прежнему по утрам, болтаясь на костылях, волоча ноги, обутые в подшитые валенки, пробирается к конторе бухгалтер Слегов. Он изрядно поседел, заметно огрузнел, но такой же нелюдим — увидел, кивнул крупной головой, проковылял мимо, словно вчера виделись.
И старик Студенкин — жив курилка!
— Это ты ли, сокол? Вернулся…
Раздавил слезу под красным веком.
— Сеньку-то моего… А?..
Он усох, свалялся, хрящеватый нос из ржавой бороденки потоньшал, стал острей.
— При конях покуда все, но слабоват, в рейсы на сторону уж не пускают, по селу на двуколке болтаюсь, жмыха ли привезти, обрату ли. А Сеньку-то моего… А?.. Сенька того… еще в первый год…
Сергей почти не был знаком с молодым Студенкиным, не парнишествовали вместе — Семен-то постарше.
Нисколько не изменился и дядя Евлампий — налит багрецом загривочек, властная речь, порывист. На встрече служивого он подвыпил, хватал за плечи, кричал в ухо знакомые слова:
— В министры тебя не пущу, не-ет, а фигурой сделаю!
Как ни скромничай, а все же льстит, что твой приезд — событие для села, хотя уже и привыкли встречать вернувшихся фронтовиков. Офицерские погоны, просторные и донельзя суженные у колен бриджи, хромовые сапожки, набор орденов, слава летчика — заметен! И по селу передают из уст в уста:
— Остаться решил…
— Не останется — улетит.
— А чего ему лететь, тут, поди, не прохладней будет.
— И то, Евлампий-то Никитич сразу нацелился: в министры, говорит, не пущу!..
— Парень не тюфяк, не в двоюродных братцев.
Ему исполнилось двадцать три года, жизнь ничем его не обездолила — ни умом, ни здоровьем, ни почетом. Поэтому считал — взрослый, самостоятельный, давно хозяин сам себе.
Но самостоятельным он никогда по-настоящему не был. До сих пор за него думали, им распоряжались другие. В армию ушел мальчишкой, едва исполнилось семнадцать, не сам, а военкомат счастливо распорядился им, послав успешно окончившего десятилетку, с безупречным здоровьем парня в летную школу, где вставал по команде, учился по команде, маршировал в столовую по команде, ложился по команде спать. В части старшие начальники отдавали ему приказы о вылете, диспетчер по радио — разрешение приземлиться. Даже тогда, когда он вел воздушный бой, не был полностью самостоятелен — за него прежде подумали, напичкали полезными инструкциями, советами, опытом — так-то заходи к «юнкерсу», так-то к «мессершмитту». Нет, конечно, не всегда он действовал только по указке, порой соображал сам и, наверно, не плохо уже потому, что остался жив. Но соображать самому за себя приходилось в крайних случаях, быть под чьей-то опекой — постоянно.
И он считал в порядке вещей, что дядя Евлампий, старший над ним, взял его под свою опеку.
Он появился в Пожарах как раз в тот момент, когда Евлампий Никитич с придирчивой гордостью оглядывал свое заматеревшее хозяйство: «А чего у нас нет?» Все было, не придумаешь — чего? Но Лыков открыл-таки — не ночевало в колхозе науки! Агрономы и зоотехники засылались со стороны — скороспелые, сопливые девчонки с курсов. Да бог с ними, что невелика корысть, сам Лыков и его бригадиры не хуже дипломированных агрономов знают, на чем хлеб растет, справлялись и справятся без тех, кто штаны да юбки просидел над книгами. Но шутка ли, если начнут говорить: «У Лыкова в колхозе работает свой кандидат наук!» Обязательно кандидат, не меньше — ученый по всей форме, с утвержденным ученым чином. На добрый дом не грешно посадить и резного конька на крышу.
А тут — Серега, школу с отличием кончил, фронтовик с заслугами, имеет намерение учиться. На агронома — да, пожалуйста! И с той и с другой стороны все сошлось впритирочку.
Евлампий Никитич быстро решил, что для этого нужно.
Персональную стипендию от колхоза помимо той, студенческой, что будет давать государство. Знай наших, не нищие!
За это взять твердое слово — по окончании института мест высоких не искать, в сторону не глядеть, а вернуться в родной колхоз на постоянные времена.
И еще оговорочка: простой диплом хорош только для начала, но на этом остановиться не разрешим — получи кандидата, а дальше видно будет, может, и повыше огребем, да хоть профессорский чин. Стирание грани между городом и деревней, так сказать — политика!
Евлампию Лыкову легче всего было пристроить Сергея в областной сельхозинститут — сними только телефонную трубку. Но областной институт — не тот сорт, в колхозе у Лыкова все должно быть наивысшей марки. Тимирязевская академия в Москве пусть распахнет двери! Для этого Валерке Чистых было поручено сочинить письмо, да посолидней, с достоинством: «Наш колхоз издавна считается передовым… Наш колхоз в настоящее время крайне нуждается в высококвалифицированных научных кадрах…» И о стирании граней как бы невзначай, мимоходом… Колхоз профессорам академии наверняка известен — народ грамотный, газеты читают. Правление подпишется, а на самом верху будет стоять подпись Евлампия Лыкова. Послать письмо нужно загодя, чтоб успели его прочувствовать, чтоб ждали посланца из Пожар, честь по чести встретили.
Сергей искренне считал — взрослый же, самостоятельный! — то, что предлагает Евлампий Никитич, хочет он и сам. Даже больше, сам-то вряд ли бы решился на Тимирязевку, скорей всего осел в областном институте. Или же — кандидат наук… Об этом, признаться, не мечтал, и напрасно — уж если думаешь приступом брать гору, то целься до самой вершины. Свободный размах дяди Евлампия вызывал восхищение.
Взрослый, самостоятельный… И в голову не приходило, что в этой напористой опеке есть что-то не совсем нормальное. Он не задумывался, почему таким же парням-фронтовикам из других сел, из других деревень нужно пробиваться к учебе своим горбом, преодолевать вступительные экзамены — фронт-то повыветрил школьные знания! — без рекомендательных писем с коллективными подписями, рассчитывать только на не слишком-то щедрые институтские стипендии и медные деньги престарелых родителей… В голову не приходило задуматься.
Бухгалтер Иван Иванович Слегов, рыхлой копной восседая за столом, выдал оформленные к отъезду в Москву документы, объяснил, не подымая пепельной от седины головы:
— Деньги на проезд, суточные на две недели, пока будешь сдавать экзамены. Стипендию станем переводить ежемесячно со дня учебы…
И вдруг поднял широкое лицо, из-под оплывших век — пытливые, льдисто-синие глаза, спросил:
— За всю войну не ранен?
— Нет.
— С наградами?
— Да. А в чем дело?
— Ни в чем. В рубашке ты, парень, родился.
Бухгалтер снова опустил к столу шевелюру, густую и сивую, как загривок старого волка, давая знать — разговор окончен.
Сергей вышел уязвленный.
Калека, судьбой обиженный, вот и завидует — в рубашке. На что он намекал? Мол, добрый дядя устраивает… И верно, не он один так думает — многие. В рубашке… А почему этот добрый дядя своего старшего сына не тянет за уши в учебу, тот даже школу бросил? Не в родственности дело — колхоз посылает. Он, Сергей, не просто кандидат в студенты, он официальный представитель передового колхоза. Повезло на войне — не сгорел в самолете, повезло — родился в знаменитом колхозе, повезло — десятилетку кончил с отличием, как ни шарь по селу, а не найдешь более достойного. И за это глаза колоть?..
Но бумаги на деньги, врученные бухгалтером, все-таки жгли руки.
Тихая окраина Москвы, статуи легконогих коней перед фасадом ветеринарного корпуса, запорошенный снегом городок Тимирязевской академии.
Ты полпред лыковской державы в науке. Вряд ли на курсе можно отыскать более добросовестного студента. Сергей не только посещал и записывал каждую лекцию, не только придерживался программы, хотел знать больше того, что дают профессора. Все свободное время он просиживал в библиотеках.
И опять послушно следовал указаниям: читай Докучаева и Вильямса, особое внимание обрати на работы Трофима Денисовича Лысенко, опасайся проявлять интерес к трудам Менделя и Моргана, их учение — диверсия враждебной идеологии. Монах Мендель колдовал над горохом, не урожаи его интересовали, нет — цветочки! Его последователи совсем спятили с ума — разводили мух!
Однажды объявили: первый академик, первый ученый, гигант отечественной агрономии сам изъявил желание читать лекции!
Профессора вместе со студентами встречали его машину на улице.
Он прошел по коридорам, напористо стремительный, сухонький, кажущийся подростком по сравнению с дородными профессорами, с суетливой услужливостью едва поспевающими за летящим шагом первого академика. Никакой академической важности в фигуре, лицо знакомо по бесчисленным портретам, лицо, где мужицкий аскетизм и мужицкая деловитость сливались воедино.
Зал ломился от народу. Сергею удалось занять место во втором ряду. Высокого лектора встретили бурей аплодисментов, все ждали чуда.
Чуда не случилось. Если сам лектор не походил по облику на привычный тип академика, то его лекция была весьма суха и академична — пространные рассуждения о влиянии среды на рост растений.
Но он все-таки оставил после себя чудо. Его показали в более узкой аудитории несколько дней спустя. По рядам передали пучок ветвистой пшеницы.
Никогда не забыть Сергею, как кто-то протянул ему этот драгоценный пучок. Он принял… Принял, как принимают обычный соломенный пук, который легко ложится в горсть. Но рука невольно качнулась от благодатной тяжести. Первое же прикосновение чуть не заставило крикнуть от изумления. Нет, не соломенная легкость, не колосковая невесомость в руке. Сергей держал увесистый кистень! Каждый колос вблизи чудовищен, нет в нем изящности, он безобразен своей толщиной, колючей бугристостью, зернам тесно, их распирает в стороны. Несколько таких колосьев и — пригоршня зерна! Сергея теребили за плечо, требовали — передавай дальше — а он смотрел, смотрел, не мог оторваться.
«Тот человек, который сможет вырастить два колоса, где рос один…» Вот оно — свершилось! Сергей живет в одно время с таким человеком, которого будет с благодарностью помнить из века в век все человечество. Он видел его воочию! Он слушал его! И такие-то хлебные кистени закачаются на полях! Это вам не дрозофила — муха-цокотуха, забавляющая досужие умы! Хлебные кистени… Один урожайный год на такую пшеницу будет кормить десять лет! Забудется голод, страх перед недородами уйдет в прошлое.
Сергей был бы плохим полпредом своего колхоза, если б не попытался добыть семян ветвистой пшеницы — ну, один колосок, ну, хоть несколько зерен всего! Никто этого пообещать не мог, пообещали только свести Сергея с самим создателем.
Их встреча произошла перед очередной лекцией. Вблизи знаменитый ученый не напоминал подростка — ростом нисколько не ниже Сергея, да и сухопарость его обманчивая, под не новым и не модным пиджаком слегка проступал животик. Он выслушал сбивчивую от волнения речь студента с суровым доброжелательством, но в ответ спросил резко:
— Какие урожаи у вас пшеницы?
Пришлось признаться: не всегда-то пшеничка балует урожаями. Рожь и ячмень — вот их беспроигрышные культуры.
— Начинать освоение такой культуры с ваших мест — штаны через голову примерять.
И отвернулся, считая аудиенцию законченной.
Просто, крепко, по-мужицки грубо — вспомнишь и почешешься. Удивительный человек.
И странно, именно в эти дни Сергей сошелся с другим человеком, который довольно-таки прохладно отзывался о селекционере номер один страны.
Светлана Вартанова училась в аспирантуре, была старше Сергея года на три, профессорская дочка, видевшая изнанку жизни только во время войны, в эвакуации. Они познакомились в библиотеке, Сергей стал провожать ее сначала до метро, а потом и до дому в Скатертном переулке. У Светланы — нездоровой белизны лицо, кроткое выражение на нем, красивые ровные брови, темные глаза с восточной печалинкой — в ней текла армянская кровь, дед ее носил фамилию Вартанян.
Нет, резкость суждений не была в ее характере, ни резкость, ни категоричность, но это не мешало ей ко всему относиться с мягким скепсисом. С мягким, почти виноватым, но попробуй сбить ее с этого извиняющегося неверия.
— Сереженька, — упрекала она своим шелковым голосом, — я давно заметила — людям от земли, из кондовой деревни свойственно прекраснодушие. Просто умилительно, что ты так прекраснодушно веришь — новый сорт пшеницы станет панацеей всего человечества.
— Я держал пшеницу в руках своих! Я своими глазами видел, что это такое!
— Ее держали в руках еще хлеборобы древнего Египта, Сережа.
— Может быть, может быть! Но случайную, как исключительное уродство природы, не выведенную! Эта же выведена! Эта — уже не случайность, а норма.
— Он не в первый раз что-то выводит и всегда с шумом. Но вот ведь удивительно — выведенное как-то бесплотно пропадает потом, а шум живет, шум — материален! Великое искусство, Сереженька.
Голос Светланы обволакивающий, как паутина, отмахиваешься, а он все больше липнет.
Сергей сердился не на нее — на себя, на свою бесхарактерность.
Ехал домой на свои первые летние каникулы с ощущением — все идет как нужно, мир кристально ясен: монах Мендель с цветочками и мужицкий сын академик с образцами ветвистой пшеницы, есть псевдонаука и наука истинная, тьма и свет. Придет время, и он будет гореть вместе с другими в сияющем факеле науки. Пусть тогда нелюдимый бухгалтер Слегов попробует попрекнуть: мол, добрый дядя… У Сергея в зачетке за две сессии кругом «отлично», не прожигал время, перечитал кучу книг, изучал гербарии — кто смог бы лучше его выполнить долг перед колхозом?
А дядя Евлампий встретил Сергея сюрпризом.
В стороне от села, за молочными фермами, за только что заложенным яблоневым садом, — тоже новинка в этих елово-березовых местах! — стояла столярка-времянка, где прежде сколачивались ульи для пасеки. По приказу Евлампия Никитича эту времянку перебрали, расширили, утеплили, обшили тесом, выкрасили в салатный цвет, обнесли палисадником, над низеньким крылечком повесили строгую, под стеклом, вывеску:
СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК
КОЛХОЗА «ВЛАСТЬ ТРУДА»
Евлампий Лыков сам привез племянника к этому новоиспеченному научному учреждению.
— Твое хозяйство. На правлении тебя утвердили в должности заведующего. Так что зимой, в Москве, набирайся уму-разуму, летом — здесь орудуй.
Из трех пахнущих краской комнат одна была уже оборудована под кабинет — письменный стол с новым чернильным прибором, стул, полумягкий диванчик для посетителей.
Но и этого мало. За окном тянулось в свежей зелени ровное поле.
— Твоя земля — три га! Я пока здесь вико-овсяную смесь посеял, но если что нужно посадить для опытов, только мигни — скосим, освободим. Для науки мы, как для мамы родной: чувствуй не гостьей, хозяйкой!
Сергею было неловко от таких поспешных забот.
— Пожалуй, рановато, пока все это лишнее, — сказал он. — Сажай для опытов. А что?.. Знания — не картошка, съездил да привез мешками. Я всего-навсего студент-первокурсник.
Евлампий Никитич обиделся:
— Лишнее?.. Тебе видней. Мой — подойник, твое — молоко. Я свое для науки сделал, а ты думай.
У знатного председателя был свой упрямый расчет, которого еще не улавливал Сергей. Ремонт бывшей столярки для колхоза — смешно считать — расход копеечный, зато в приход можно записать: основан опытный участок, заложена научная база! И три га земли — пусть! С этих трех га большого хлеба не сымешь, а ученая степень вызреть может. Да и не рассчитывал Лыков, что Сергей использует эту землю, а потому заблаговременно, чтоб не пустовала зря, засеял ее под зеленую подкормку. Председатель даже выделил для Сергея штатную единицу — девятиклассницу Ксюшу Щеглову, дочь одинокой Матрены Щегловой, муж которой убит на фронте и приходился родственником лыковской секретарше Альке Студенкиной. Тут тоже двойной расчет: во-первых, помог семье погибшего фронтовика, во-вторых, взрослый колхозник потребует полный трудодень, Ксюшка еще девчонка, довольна будет сколько ни назначат. Сергей от своей новой должности не получал лишней копейки — отрабатывай стипендиальные, которые идут не только зимой, но и летом. Ксюшке выделили втрое меньше, чем зарабатывала любая баба на полевых работах. Но на поле-то гни спину, а что делать на опытном участке — не знала ни сама Ксюшка, ни Евлампий Никитич Лыков, даже новоявленный заведующий Сергей представлял смутно. Одно ясно всем: работа, должно, не бей лежачего, Ксюшке она в школе учиться не помешает.
Словом, наука не так уж и дорого обходилась для Евлампия Лыкова.
В прославленном колхозе дядя Евлампий всюду установил строгий порядок — на фермах, на складах, в мастерских, но только не в сортовом хозяйстве. Сеяли что попроще, что не сулит чудес, зато растет наверняка. И среди хлебов росло много «Иванов, не помнящих родства». Наверное, и надо начинать пожарскую науку с того, что с пристрастием допрашивать этих «Иванов»: «Кто вы такие? Кто ваши родители?»
И тут вовсе не обязательно иметь контору с вывеской, с письменным столом, чернильным прибором, с диванчиком для посетителей. И целых три гектара опытной земли пока ни к чему.
Сергей замкнул на замок дверь новоиспеченного научного заведения, предоставил на опытной земле расти незатейливой вико-овсяной смеси, связал веревочкой самодельные картонные папки для растений, вооружился широким кухонным ножом, натянул на голову старую кепку, двинулся в поля, прихватив с собой узаконенный решением колхозного правления «научный штат».
«Штату», Ксюше Щегловой, еще не исполнилось и шестнадцати лет — долговязая девчонка, две косы по узкой спине, шелушащийся нос, посаженный среди крепких скул, широко расставленные глаза, непорочно чистенькие, словно ручейковая водица над песчаным дном, в упор доверчивые, не тронутые угарным хмельком первой бабьей весны, да мальчишеские исцарапанные колени над слишком просторными голенищами стоптанных сапог.
— Сергей Николаевич, а я раз тоже нашла два колоска из одной соломинки…
Сергей учил свой, ниспосланный Лыковым «штат» и уже успел произнести назидательные слова: «Тот человек, который сможет вырастить два колоса, где рос один…», успел и рассказать о чудесной пшенице, что видел в Москве, держал в своих руках. Что может быть чудесней сказки, чем сказка о сказочном хлебе, для подростка, выросшего в крестьянской семье?
— Право, право, Сергей Николаич, нисколечко не вру. Два колоска, как есть…
И в глазах наивное ожидание: «Да что ты говоришь?! Да где же они?! Да куда ты их дела?!»
— Два?.. А ты знаешь, что бывает, когда охотник гонится за двумя зайцами?
— Но ведь!..
— Запомни одно, мы с тобой охотники за обычными колосками, за самыми обычными. Чудес искать не станем.
Пожарские поля отрезвили Сергея: таблицы сортов, засушенные гербарии, которые он разглядывал в Москве, упрямо не хотели сливаться воедино с теми хлебами, по каким они ходили, не объясняли друг друга. Единственное, что Сергей способен был сделать, это собирать все подряд. Собирать, записывать, запоминать, а уж потом в академии разбираться. Там он узнает — продуктивны ли собранные им сорта, что можно сделать, чтоб стали более продуктивными, какими сортами выгоднее заменить? Возможно, он раздобудет элитные семена, а уж тогда-то — долой с опытного поля вико-овсяную смесь.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Он лазал по полям, кухонным ножом бережно выковыривал корешки кустиков ржи, ячменя, пшеницы, а вечерами наседал на бригадиров, заставлял вспоминать:
— А чем удобряли поле за Оськиным оврагом?.. А сколько навозу? Сколько суперфосфату?.. Делали ли по колхозу анализы почв? Где можно раздобыть данные?..
Ксюша Щеглова честно зарабатывала свои трудодни, в особые тетрадки переносила записи Сергея, засушивала по всем правилам растения, писала и клеила ярлычки и уже говорить стала учеными фразами, не иначе:
— Рожь у нас в сортовом отношении — не разбери чего. Ежели докопаться, то, поди, и «муравьевку» найдешь. Черт те что — древность! И это в самом передовом колхозе!
Даже бывшая столярка пригодилась, не та комната, где стоял письменный стол и диван для посетителей, а две пустые. В них складывали собранные образцы.
Евлампий Лыков больше не интересовался Сергеем — его председательское дело сделано. О том, что пожарский колхоз обзавелся своим научно-опытным участком, узнали и в районе, и в области. В местных газетах появились краткие, но внушительные сообщения. Подойник поставлен, и в него уже капало молоко.
Пожарские земли, поросшие лесом, врезались клином в земли двух колхозов — Доровищенского и Петраковского. Там тоже находились поля-прогалины, «чертовы кулички», как звали их в селе. С них возвращался Сергей с Ксюшей. Дорога вела через деревню Петраковскую.
Разбросанная по плоскому холму, сама плоская, придавленная необъятным небом, в который лишь врезались шесты колодезных журавлей да скворечники, Петраковская поражала своей покорной унылостью. Пожары — село скученное, зеленое, облагороженное и речкой и приветливой колоколенкой. Здесь тишина и пустынность. Громадные избы, сложенные из матерого кондача, — память о былой зажиточности, — глядят на широкие улицы заколоченными окнами. Деревня год от году все больше слепла — люди из нее уходили на сторону.
Сергей и Ксюша за целый день не присели ни разу, грыз голод. И хоть до села оставалось каких-нибудь четыре километра, Сергей предложил:
— Давай-ка купим здесь молока да перекусим.
У них был с собой хлеб и вареные яйца. Хлебом-то вряд ли в Петраковской разживешься.
Постучали в первую же избу, из которой доносился захлебывающийся плач ребенка, — значит, есть живая душа.
Показалась простоволосая, растрепанная баба, из-за ее домотканой, бурой от старости юбки выглянули сопливые, измазанные ребячьи рожицы.
— Молока не продашь ли, хозяюшка?
Плач раздавался из распахнутых дверей, женщина с сонным недоумением разглядывала и молчала.
— Молока, говорю, не продашь ли?
— Молока?.. Эва. Да в нашей деревне и всего-то три коровы уцелело. Каждая на три семьи, для детишек держат, по очереди доят — седни одна, завтра друга. А мои… Вишь, ораву, — баба тряхнула юбкой. — Мои-то забыли молоко, какого оно цвету…
— Пойдемте, Сергей Николаич, — испуганно потянула за рукав Ксюша.
Плач доносился из избы. Детские глаза, глаза женщины в упор, сонно-равнодушные, усталые. И нечесаные жидкие волосы, и тусклое лицо, и жилистая шея, и ключица, обтянутая коричневой кожей из утерявшего пуговицы ворота серой кофты. За спиной плач надрывающегося младенца. Сергей, уставший, пыльный, в тяжелых сапогах, в выгоревшей кепке блином, вдруг почувствовал себя до неприличия буйно здоровым и нарядным — грудаст, плечист, часы из-под рукава нагло поблескивают на запястье.
— Сергей Николаич, пойдемте. Дом же близко.
— Прости, право… — сказал Сергей хозяйке.
И та, видать, купилась его кротостью, сочувственно посоветовала:
— Ты к соседке стукнись. Та богато живет — одна-одинешенька, а козу держит. Поди, как-нибудь продаст молока.
— Лучше идемте, Сергей Николаич, Идемте скорей…
Надрывный детский плач не умолкал.
— Гру-ня! Гру-ня-а! — завопила вдруг баба, покрывая плач. — Э-эй! Выглянь-ко! Тута нужда до тебя!
Дом богатой соседки был громаден и одноглаз — пятистенок, нагромождение истлевших бревен, покрытых прогнувшейся, рыхлой, как чернозем, драночной крышей с ядовито-зелеными лишаями мха. Все окна, кроме одного, забиты досками, зато в этом одном белели занавесочки и багрянцем горел цветок герани. Из нескладного, ненадежного сочленения бревен вынырнула маленькая, опрятная, проворная старушка — веселый, в цветочках платок на голове, лицо приятно скуластое, расплывшийся от улыбочки нос.
— Аюшки?.. Кто такие будете? Чтой-то вроде знаком по обличью. Уж не родня ли самому Евлампию Лыкову?
— Вроде бы.
— Уж не Серегой ли тебя кличут?
— Сергей, — удивился Сергей.
— Гос-по-ди! — старушка всплеснула руками. — Так ты сына моего знаешь. Веньку-то!.. Забыл, поди, в училище вместе бегали.
— Веньку? Ярцева?
— Его, касатик, его. Вспомнил, родимый!
Венька Ярцев, школьный недруг Сергея, с которым так часто схлестывались на переменах. После седьмого класса с ним расстались, а потом…
— Где он?
— О ох! — старушка засморкалась в конец платка. — О-ох, да где уж… На войне, будь трижды проклята, анафема! Один и был у меня, один-единственный, кроме него, никого чисто… Кукую вот век одна. Почто и жить-то… Да что я, нужда-то какая, сказывайте.
Ни есть, ни пить уже не хотелось, но пришлось сесть тут же на дворе.
— Уж неколи в дом пойти, то туточка, туточка, на живой ноге.
Крынка густого козьего молока встала на травку перед Сергеем.
— Пейте на доброе здоровье. Гос-по-ди!.. Я хоть на тебя, любой, со сторонки погляжу. Ну-тка, сыну моему кореш. Хоть чужому счастью порадуюсь… Пейте, пейте, не гнушайтесь — уж чем богата… А чем? Какое ныне богатство. Жисть-то у нас…
Сергей выложил полбуханки пшеничного хлеба, десяток помявшихся в сумке яиц, пригласил:
— Без тебя не сядем, мать.
— Ой, сынок, да я сыта, я еще себя содержу. Грех жаловаться, у многих хуже… Христа ради, ешьте, пейте… А широко вы живете, широко. У нас яйца и ребятишкам не показывают, не-ет, только ими и откупаемся — налоги шибко большие. И хлеб у вас, гляди-ко, чистый. Ну да, одно слово — пожарцы.
— Сергей Николаич! — почти со стоном протянула Ксюша.
У изгороди выстроились в ряд детишки соседки — лет восьми самый старший, с выгоревшими, сухими кудельными космами, сквозь рваные штаны просвечивает острое, смуглое колено, с ним еще трое, друг друга меньше, самый маленький — тугой барабан живота на кривых тонких ножках, рубашка не рубашка, распашонка не распашонка, ветхая тряпка на нем. Остановившимися светлыми глазами глядят на хлеб, на яйца на мятой газете, нет, не с жадностью, с изумлением. Изумление даже у малыша.
Сергей рывком сгреб в газету хлеб, яйца, встал, шагнул к старшему.
— Возьми! — И потому, что тот оторопел, прикрикнул: — Да бери же, черт! Меньших не обдели.
Грязные зверушечьи лапки робко потянулись к свертку. Венькина мать прятала глаза, вздыхала:
— Господи, господи… Не сироты, а вроде этого. Отец-то жив, да забыл, видно, — на стороне да на стороне, и голосу не подает. Настругал бабе кучу… Меньших-то я подкармливаю, а всех — где мне. Господи, господи, сердце кровью обливается… Молоко-то хоть выпейте…
— Извини, мать. Не могу.
— Оно, конешно, с непривычки-то… Да и привыкай не привыкнешь, все одно расстройство. Господи, господи…
Уже уходя, они за спиной услышали голос старухи:
— Васька! Сенька! Идите, пострелята, сюда! Молоко-то осталось!
Сергей заскрипел зубами. Ксюша шла, словно кралась, как прибитая.
Сколько раз он пересекал знакомую дорожку, разделяющую пожарские поля от петраковских? Десятки раз, если не сотни.
Узкая дорожка в два шага в ширину — среди густой аптечной ромашки и жестких стрел подорожника вытоптанные проплешины. Тут лишь изредка проезжала телега да время от времени катит «газик», на котором сам Евлампий Никитич Лыков объезжает свои владения. «Газик» не умещается на дороге, одним колесом мнет соседский хлеб. Все лето держится промятая им колея.
Проходя здесь, Сергей всегда испытывал горделивое чувство.
Дорога, не проселок и не тропа, что-то между — граница колхозов. С одной стороны ее — хлеба, зеленеющие той благодатной утробной зеленью, которая говорит, что земля под ними жирна и плодовита. Хлеба густы, взгляд тонет в них, путается, не достигает до корней, и не увидишь ни единого веселенького цветочка, не синеет ни один василек. С другой стороны — вымоченно белесые, редкие колоски в траве. Не хлеба, а посевы мышиного гороха, сурепки, сволочного бурьяна.
Сколько раз проходил здесь и всегда гордился — наглядная картина, вот какой наш колхоз! Считал — так должно быть, так нормально! Два мира через узкую дорожку, под одним небом, под одним солнцем, на одной земле граница в два шага — тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян!
Так должно быть?..
«Мои-то забыли молоко, какого оно цвету…»
Так должно?..
Изумленные глаза детишек, даже маленький по-взрослому изумляется. А какой живот у этого клопа! Изумлялись — хлеб, яйца кучей, кринка козьего молока!
Так должно?..
Тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян…
Но почему?..
Да чего простой вопрос: почему на одной земле, под одним небом?.. Настолько прост, что на него бы должен натыкаться каждый. А проходил мимо, не замечал, только гордился — какая разница, какая наглядность — здесь колос, там бурьян. Так и должно быть?.. И не он один, все кругом считают — так должно, даже сами петраковцы: «Одно слово, пожарцы вы».
Почему??
Рядом шла притихшая Ксюша — девчонка же! Но Сергей был так потрясен свалившимся открытием, что не выдержал и спросил ее — почему, черт возьми?!
— У нас же — Евлампий Никитич, — с ходу, не задумываясь, ответила Ксюша.
У нас — Евлампий Никитич, у петраковцев такого Евлампия Никитича нет. Наверно, и все так отвечают — просто и ясно: Лыков спасает от нищеты. Лыков — человек особый, гений в своем роде.
Но разве нужна гениальность, чтоб выращивать хлеб? Если так, то люди давно бы повымерли с голоду. Гении — редкость на земле, хлеб же нужен каждому каждый день.
Почему??
Петраковцы лодыри… Но петраковцы когда-то жили не хуже пожарцев, — значит, умеют работать.
Почему??
Сергей с ужасом понял — не знает ответа.
До сих пор ему кто-то задавал кем-то найденные вопросы, требовал, чтоб он ответил кем-то подсказанные, заученные ответы. Сейчас сам наткнулся на вопрос — до чего же он прост, очевиден, до чего же на него трудно ответить! Сам нашел вопрос, сам ищи и ответ. Сергей еще не догадывался, насколько это трудно — отвечать не по-заученному, шагать не по-протоптанному.
А Ксюша успокоилась, повеселела, потому что впереди приветливо замаячила колоколенка пожарской церквушки. Счастливая родина, сытое село Пожары, где в каждой избе молока вдоволь, где детишкам дают варенные в самоваре яйца всмятку, — была рядом.
Ксюша успокоилась и заговорила:
— У них все мужики разбежались. Работать некому, потому и бедность.
Сергей не отвечал ей: глупая девчонка путала местами причину со следствием, мужиков-то из Петраковской повыдуло не случайным ветром…
В бывшей столярке под замком хранились собранные с пожарских полей засушенные кустики зерновых, образцы почв. Дома в полевой сумке лежали записи, сделанные в течение лета. Начало его научной деятельности, самое начало, первые шаги в далекое. А туда ли ты шагаешь, Сергей Лыков?..
Росла тревога в душе, простой вопрос не давал покоя. И глаза детишек, глядящих на хлеб…
С папками засушенных растений, с исписанной вкривь и вкось тетрадкой и с новым, непривычным недоумением в душе приехал Сергей в Москву.
А в Москве все по-старому. Выпущен парадно цветной фильм, в котором сам великий преобразователь природы Иван Владимирович Мичурин среди цветущих садов гневно громил и без того заклейменных менделистов-морганистов.
Как-то без шума, исподволь просочилось — с ветвистой пшеницей крупные неудачи, не растет, вырождается. Но зато шумно пропагандировалась новая теория, которая предусматривала закономерность вырождения: ветвистая пшеница способна вырождаться в простую, простая — в рожь, овес — в овсюг, ель — в сосну.
— А человек в обезьяну, — кротко добавляла Светлана.
Сергей с ней теперь встречался чуть ли не каждый день.
Неожиданно для себя он встретил неудачу с ветвистой пшеницей довольно равнодушно. Жаль, конечно, но это чудо из чудес хлеборобства вряд ли сделает петраковцев сытыми, скорей всего наоборот — поля, разделенные знакомой дорожкой, станут еще более несхожими. Ветвистую пшеницу наверняка вырастить куда труднее, чем простую, а петраковцы не только пшеницы, кондовой ржи не получают, сволочной бурьян растет.
Еще недавно казалось, все просто и ясно — наука осчастливит страждущее человечество. Пойми секреты хлорофилловых зерен, деятельность анаэробных бактерий — и на полях закачаются тяжелые, как кистени древних разбойников, колосья.
Хлорофилловые зерна… Где-то возле родного села делит землю дорожка — тут сытость, там голод, здесь колос, там бурьян. В институте не учат, как спасти петраковцев от голода и бурьяна, — не предусмотрено программой.
Светлана удивлялась:
— Сереженька, в твоем лице появилось что-то мученическое. Не рождается ли интеллект? Если так, то поздравляю, ты на верном пути.
— Светка! Ты куда собираешься податься после аспирантуры?
— Не знаю. Наверно, туда, куда не ведет ступенчатая теория стадийного развития. Не люблю лестниц, особенно парадных.
— Едем к нам, в ваши места!
— Сереженька, я хочу стать настоящим ученым.
— А я тебя не в доярки зову.
— Ученый потому и называется у-че-ным, что перенимает знания и опыт других. Чтоб стать ученым — нужны ученые учителя. Докажи мне, что твой почтенный дядя — светило в науке, причем не ложное, что у него можно много отобрать, поеду.
— У моего дяди образование — три класса, да и то, поди, он округляет для солидности.
— Очень жаль. Сам понимаешь — этого недостаточно. Мне придется искать другого опекуна, который не живёт на твоей благословенной родине.
Нескладная зима в жизни Сергея. В эту зиму все крошилось, все расползалось — ветвистая пшеница, такая ощутимая, лежавшая уже в руках, превратилась в бесплотную теорию, гордость за свой колхоз уступила место тревоге за колхоз чужой, святая вера в силу науки дала трещину, так как вся академия с ее лекторами и библиотеками не может ответить на простой вопрос: почему петраковцы живут плохо, пожарцы — хорошо на одной земле, под одним небом?.. Ничего прочного на свете, даже в отношениях со Светланой. Черт возьми, не станет же он менять ее на все село, на доверие дяди, доверие колхоза, даже на ту незадачливую, богом проклятую Петраковскую, о которой так часто теперь думает.
Нескладная зима, смутное время в жизни Сергея. Но и этой зиме пришел конец. Он сдал летнюю сессию и выехал в Пожары.
И там оказалось неспокойно. Всесильный дядя Евлампий изнемогал от непосильной борьбы.
Сергей Лыков (продолжение)
В фигуре Чистых, восседающей на стуле, страдальческий изгиб. Ночь спрятала за окном угрюмые поленницы. Снова на минуту замолчал крепко сколоченный лыковский дом — молчал угрожающе.
Вдруг Чистых вздрогнул, поднял голову и Слегов — за дверью в гробовом молчании раздались легкие, торопливые шаги. Короткий стук в дверь, ни Чистых, ни старый бухгалтер не успели бросить «да», дверь распахнулась. Стояла сестра, под марлевой косынкой красное от волнения лицо, мягкие губы вздрагивают.
Чистых поднялся со стула, надломленно навесил вытянутую голову.
— Все? — хрипло выдавил он.
— Нет! Нет! — возбужденно, до неприличия громко заговорила сестра: — Кажется, лучше… Просто чудо.
Чистых медленно распрямился.
— Я укол кордиамина сделала. Прежде и не реагировал. А тут… Глаза открыл… Один глаз… На меня поглядел. Что-то сказал… Да, да, совсем непонятное. Два слова: «Мертвый князь…» Даже явственно. Ну да, «мертвый князь», как сейчас слышу. К чему — не пойму, но, значит, лучше…
— Врача! — засуетился Чистых. — Скорее врача вызывать. Вдруг да… О господи! Всякое бывает. И профессора ошибаются. Вдруг да…
В суете Чистых чувствовалась судорожная радость, на круглом лице проступили пятна. Невероятное сбывалось, утерянное находилось, вдруг да снова станет на ноги старый председатель, пойдет все по-старому. Вдруг да…
— Иван Иванович, я выскочу.
Иван Иванович только кивнул головой, сам он в эту минуту — должно от волнения — испытывал непосильную тяжесть своего располневшего тела.
Чистых плотно прикрыл за собой дверь. Молчание дома кончилось, доносились шорохи, глухой стук дверей, торопливые шаги, наконец, возбужденно придушенный голос Чистых, говорящего по телефону.
На самом деле — вдруг да…
А ведь он, Иван Слегов, пожалуй, хочет этого. Вернется старое, привычное, будет по утрам ковылять в контору, не надо гадать, каким окажется завтрашний день. Как это, оказывается, покойно, когда завтра точь-в-точь походит на сегодня. И на самом деле — вдруг да… Жизнь, в которую втянулся. Ему, старику, от перемен хорошего ждать нечего. Каким бы ни был Пийко Лыков, но сросся с ним, одна плоть.
«Себя хороните…» Пийко Лыков как-никак ценил, Сергей Лыков в лучшем случае будет терпеть. В лучшем случае…
Стул бухгалтера что пожарная вышка, с него все видно. Но поздно он, Иван Слегов, разглядел со своей вышки этого парня. Видел в нем только счастливчика, кому влиятельный дядя устилает дорожку мягкой соломкой. «В министры не пущу, а фигурой сделаю». Оказалось, не та лошадка, на какую можно делать ставку. Ошибся Евлампий Лыков, он, Иван Слегов, не разобрался вовремя, тоже ошибся.
А если б и разобрался, что от этого изменилось бы?..
* * *
Евлампий Лыков изнемогал от непосильной борьбы.
В кабинете председателя вохровского райисполкома уже несколько раз снимали со стены план района, вывешивали новый, с новыми границами колхозов. Шла перетряска: сливались земли, закрывались на замок колхозные конторы, бывшие председатели колхозов становились или бригадирами, или номенклатурно безработными, таскались по районным учреждениям, выпрашивали место с подходящим окладом. В районном Доме культуры перед танцами читались лекции: «Экономические преимущества крупных хозяйств перед мелкими».
И только Лыков отсиживался в Пожарах, как в крепости, даже пытался отшучиваться: «Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим!» Однако крепость ненадежная, ее обложили со всех сторон.
И наконец появилось специальное решение: слить в одно хозяйство село Пожары, деревню Петраковскую, деревню Доровищи, из трех небольших колхозов создать один крупный под руководством Евлампия Никитича Лыкова.
Наверно, петраковцам радость — шутка ли, пристроиться к жирному лыковскому пирогу! А лыковцы, а сам Лыков?..
Сам Евлампий Никитич знал, что лучшие работники из той же Петраковской давно правдами и неправдами переселились в село Пожары. В Петраковской остались многодетные бабы, старухи, старики и подростки. Да и те отвыкли работать, так как много лет за свою работу ничего не получали от колхоза. Нагрянет орда неспособных к работе.
А запущенные земли!..
А скот, который привязывают под брюхо веревками к потолку!..
А общая бесхозяйственность — дуги же целой во всей Петраковской не отыщешь!..
Нет, Лыков не хотел объединяться, пугал: подам в отставку!
Но если б перетряска шла от районных властей, пусть даже от областных. С областными он умел улаживать по-добру-поздорову, районное начальство не раз скручивал в бараний рог. Москва требовала укрупнений, а с Москвой не повоюешь — тут уж и у всесильного Лыкова руки коротки.
И все-таки он упрямо боролся, но уже видел — не победить.
Неприятности не отразились на дядиной внешности — только упрямей блестел лоб, только решительней выдвинута нижняя челюсть и в голосе нескрываемое обильное раздражение:
— Петраковцы!.. Да как-кое нам дело до них! Сваты, браты, родня кровная? Мы четверть века кирпичик по кирпичику, щепочка по щепочке хозяйство складывали, себе во всем отказывали. Я в первые годы в дырявых штанах голым задом блестел — все для колхоза, все в общий котел. И колхозников своих не баловал, не-ет, не давал им животы распускать. И на вот, вешают, мол, судьбой обижены. На готовенькое-то кто не рад. У тебя густой навар, Евлампий Никитич, а как этот навар нам достался — никому не интересно.
С детства Сергей намертво усвоил — дядя Евлампий не простой человек, не чета всем, кто попадается на твоем пути. Он не просто по-мужицки умен, нет — но-государственному, всей стране на удивление!
И вот упрямо поблескивающий лоб, угрожающе выдвинутая нижняя челюсть, раздражение в голосе. Угроза и раздражение — да против кого? Против старухи Ярцевой, Венькиной матери, против той бабы, сонно-равнодушной от нищеты, от обилия голодных детишек, которые забыли уже, какого цвета бывает молоко. Что-то слишком мелкое в этой гневной угрозе государственного человека, в его раздражении. Ощетинился медведь на муравья.
— Ты хоть раз заезжал в эти годы в Петраковскую? — спросил Сергей.
— А чего я там не видел? Их житья пакостного? Так я и не видючи, а-атлично представляю — надо бы бы хуже, да некуда. Над каждым нищим не наплачешься. Ишь ты, дядя чужой виноват, что плохо живут.
— Но могут жить хорошо?
— А чего не мочь. Чем у них условия хуже нашего? Земли у них, ежели разобраться, даже получше чуток. Нам бы их луга заливные, что по волоку лежат.
— Значит, могут жить лучше? — упрямо повторил Сергей.
Евлампий Никитич подозрительно уколол племянника не остывшим от вражды взглядом:
— И что дальше скажешь?.. Могут, братец, могут, да не живут! И пестовать их я не хочу. Слышал? Не хо-чу!
— То-то и удивляет. Человек ослаб, подняться не может — не хочу руку подать. Нечего сказать, красиво.
— А если он, доходяга, руку-то с голодухи до локтя отхватит? Не кра-си-во! Мне интересно целым быть, а уж красавцем писаным — бог с ним.
— Иным словом, боюсь, как бы не обкусали.
— Вот именно.
Государственный ум… Сергей глядел на знакомый насупленный лоб. Держит мысль на узде, боится выпустить за околицу села. Масштабно государственный, всей стране на удивление?.. Если Петраковскую ни умом, ни сердцем охватить не может, то всю-то страну — где уж. И ощетинился — как бы не обкусали. И не стыдится, скрывать не считает нужным: «Вот именно».
Вглядываясь в смутный блеск глаз, скрытых сумрачным председательским подлобьем, Сергей жестко обронил:
— Жирный всегда тощего боится.
И даже тут дядя Евлампий не оскорбился, только лицо постно отвердело, ответил сдержанно:
— И то верно, тощий зол, образ человечий куда как легко теряет.
— А жирный не теряет? Издавна замечено, чем мягче жирок, тем черствей сердце.
У дяди Евлампия откуда-то от плеч через короткую шею на физиономию пополз гневный, потный багрянец.
— Молокосос! Суслик! Да тебе ли судить о нашем жирке! Ты, что ли, нас вспаивал, вскармливал до нужной кондиции? Ты пока на нашу колхозную землю и капельки пота своего не обронил. Ты пока сам за счет нашего колхозного жирка живешь. Пока ты пиявка только, а туды же…
— Может, одумаешься, дядя, — холодно произнес Сергей, — возьмешь свои слова обратно.
— Ах, неприятны!.. Само собой, верю. Кому охота слушать правду в глаза. Ну, я-то, кажись, заработал себе право таких щелкоперов по мозгам бить!
— Бей, но справедливо!
— Иль докажешь, что твоего поту — ручьи в нашем озере?
— Ручьи не ручьи, не мерял, а пот есть, холодный пот, тот, каким я обливался, когда над Курском, над Харьковом, над Эльбой в лоб на немецкие «мессера» шел. Без этого пота жирок с твоего колхоза немцы бы освежевали. У меня — что, только пот холодный по счастью, а ты знаешь Веньку Ярцева?.. Нет. Он не пот, а всю кровь выпустил, до последней капли. Венька-то из Петраковской, его мать-старуха по двести граммов сорного ячменя на трудодень получает. Перед ней тебе не совестно за свой жирок?
— Таких Венек много и у нас, петраковцам нечем хвалиться.
— У нас, в Петраковской, в других деревнях да городах — всюду гибли за общее. А теперь Лыков Евлампий это общее на свой вкус делит — себе жирок, петраковской бабе сухую кость. Справедлив, дальше некуда.
Евлампий Никитич презрительно скривил губу:
— Грамотен. И то, на колхозные денежки в академии сидел, как не научиться политбеседы вести.
— А ты знаешь, зачем я пришел?
— Пришел разжалобить петраковской бедой.
— Пришел тебе сказать — откладываю академию пока в сторону.
Голова Евлампия Никитича стала клониться к плечу, недоброжелательно-мутненький голубой глаз сверлил в душу.
— Да, откладываю. До лучших времен, если они случатся. И хочу просить правление колхоза назначить меня бригадиром в петраковскую бригаду. Даю, если хотите, Обещание — справлюсь, вытяну и так далее. Какие там слова говорят в этих случаях?
— У нас нет петраковской бригады!
— Но будет.
— Как сказать. Есть еще порох в пороховницах.
— Ой ли? Всем уже видно, а тебе лучше всех — нет пороху, весь выстрелял.
Голубой глаз сверлил в зрачок Сергею. Евлампий Никитич процедил с презрением:
— А я-то еще думал: будет Серега с ученой степенью.
Сергей пожал плечами, ничего не ответил. И дядя Евлампий опустил глаза. Он сам понял, сколь не уместно вспоминать эту ученую степень, — резного конька на крышу не ставят, когда дом валится. Опустил глаза только ни секунду, встряхнулся, сказал уже другим тоном, суровато, по-председательски:
— Сам напрашиваешься? Что же, отметь себе — я не неволил. Сам! А мне, не скрою, дар божий получить такое предложеньице. От Петраковской любой и каждый из порядочных людей шарахнется в сторону.
— Видать, я не из тех порядочных. Иду в Петраковскую.
— Смотри, Серега! Слово — олово, отказа не приму. Одумайся, пока не поздно.
— Иду.
— Ну что ж… Запишем для памяти. Пока для памяти, на всяк пожарный случай. Кой-какой запасец пороха есть. Небольшой, правда. Буду отстреливаться до последнего. Ну, коль руки вверх поднять придется — что ж, ты слово сказал. Только не жди поблажек. Не-ет, Серега, поблажек тебе не будет. Тут тебе не наука, на волчий путь вступаешь. Слышишь меня?
— Слышу.
— Поворота не даешь?
— Нет.
На этом и расстались.
Лыков отстреливаться уже не отстреливался, а тянул, отсиживался, выжидал — вдруг да наверху поворот означится, прикроют кампанию на укрупнение.
Не удалось отсидеться, собрал правление.
Он сидел за своим столом под сапожками вождя напротив чугунного младенца, деловито суровый, кряжистый, Евлампий Лыков — лучших времен.
— Начнем, что ли? — объявил он.
За красным столом, напротив расставленных графинов с водой, — цвет лыковского колхоза, знатные бригадиры, не менее знатные заведующие фермами, орденоноска доярка, орденоноска свинарка, в конце ближе к дверям, не знатный, не прославленный, не орденоносный, но поболее других уважаемый бухгалтер Слегов со своими костылями. Тут же и Чистых, бывший Валерка Приблудный. Он, как и Слегов, и не знатный, и не прославленный, и не орденоносец, но не откажешь — тоже ведь уважаемый не меньше других. Попробуй-ка только не уважь — Евлампий Никитич быстренько заставит. В самом углу сидит Петр Никодимыч Гущин — секретарь колхозной парторганизации — человек среднего уважения потому, что его средне опекает Евлампий Никитич. Секретари меняются чуть ли не каждый год, всех их рекомендует райком, а значит, по мнению Евлампия Лыкова, пусть райком и блюдет их.
С тех давних пор, как он, Лыков, неожиданно-негаданно одержал победу над Чистых-старшим, секретарем райкома, человеком твердых принципов, «застегнутым на все пуговицы», пошла расти трещина между лыковским колхозом и районным руководством. «Мы сами с усами, голыми руками нас не хватай — ожгешься». Петр Гущин обязан во всем слушаться райкома, отчитываться перед райкомом, от лица райкома контролировать строптивого Лыкова, одергивать, если тот зарывается. А попробуй это сделать, когда само райкомовское начальство остерегается «длинной руки» прославленного председателя — куда как легко достает до области. Поэтому секретарь парторганизации Гущин старается не мозолить глаза, тихо сидит в углу, не собирается активно поддакивать и активно возражать, готов слушать и принимать к сведенью.
Сергей Лыков среди всех, гвоздь сегодняшнего совещания, именинник, так сказать — будничная кепочка брошена на красную скатерть, приглаженный зализ соломенных волос над крутым лыковским лбом, спокойнешенек. На него со всех сторон косятся, ощупывают — еще бы не интересен, из Москвы, из академии, куда никто и добраться не мечтает, в Петраковскую, надо же, добровольно, бывают же чудаки на свете.
— Значит, так, — с важностью начал свое вступительное слово Евлампий Никитич, — ученые люди говорят — крупное хозяйство производительнее мелких. Азбука экономики, словом. А уж раз ученые так говорят, то не нам, серым, с ними не соглашаться…
На всех лицах, как по команде, — смутный след суетной ухмылочки: куда как понятна издевочка Евлампия Никитича — «не нам, серым», — серые-то и рады бы не согласиться, но сила солому ломит.
— Значит, так, линия на укрупнение — правильная. Нам, как наиболее передовым и сознательным, — Евлампий Никитич с особой расстановочкой произнес последнее слово, — не пристало быть в стороне от этой линии. Значит, так, мы за объединение с Петраковской.
Помолчал, сурово оглядывая всех. О Доровищах он не упомянул, на Петраковскую — куда ни шло, а Доровищи — погоди, от них авось теперь можно и отлягаться.
— Мы за объединение с Петраковской, — повторил председатель и не удержался, съязвил: — За союз, так сказать, горшка каши со щербатой корчажкой.
Прошелестел положенный смешок, смолк. Вступительное слово окончилось, Евлампий Никитич повернул в тугом вороте рубахи толстую шею, заговорил в сторону нового петраковского бригадира:
— Даем тебе трактора и трактористов, пашем, что попросишь и когда попросишь. Пашем, учти, на совесть, на нашей земле эмтээсовцы не шалят. Это раз! Берешь у нас семена, какие хочешь и сколько хочешь. Это два! И еще сверх всего — хлеб на прокорм голодного петраковского люда, чтоб до осени, до урожая, который ты обещаешь, у них во время работы штаны не спадали. Вот — три!
Молчание. Спокойный голос Сергея:
— Ну и добро. Больше ничего не потребуется.
— Согласен. Ишь ты! Но погоди, это только одна половинка уговора. Слушай другую. За работу тракторов кто-то должен оплачивать. Кто? Мы? Вы? Или Пушкин?..
— Мы платим из урожая, как же иначе, — согласился Сергей.
— Вот именно, по расценкам мягкой пахоты, как положено. И семена ты нам тоже возвратишь из нового урожая. Ну, а хлеб на прокорм… Хлеб этот можешь не возвращать — так сказать, наша бескорыстная помощь. И еще мы решили дать вам полную самостоятельность. Вы сами рассчитываетесь с государством, излишки берете себе. Будет много излишков…
Кто-то фыркнул за столом, но Евлампий Никитич гневно повел светлой бровью.
— Будет много излишков — ваше счастье, мы на них не позаримся. Мало — с нас уж потом милостыню не тяни. Не выгорит. Вот и все наши условия. Принимаешь ли?
Молчание, вздохи украдкой, прищуренные глаза на Сергея. Сергей качнул головой, усмехнулся:
— Ты меня словно председателем другого колхоза ставишь, а не бригадиром.
Евлампий Никитич ждал этих слов, приосанился, без того строговато выглядел, теперь совсем не подступись.
— Мы решили все бригады поставить на хозрасчет. Все! Вы не исключение, тоже на хозрасчете.
— То есть под вашей вывеской, но наособицу?
— Вот именно! Мы — сами, вы — сами. А помощь вам от нас полная.
Сергей снова закачал обкатанной головой, засмеялся:
— Ну и хитер же ты, однако.
И Евлампия Никитича мягкие скулы тронулись в усмешечке, заулыбались все: еще бы не хитер, казалось бы, совсем к стенке прижат, а вывернулся. Вроде объединяется, не придерешься, а на деле — глухой заборчик между старыми лыковцами и новыми. Вы сами, мы сами — одна лишь вывеска.
У Лыкова-старшего обмякло лицо — снова добрый дядя, — все сказано, пронесло, а потому можно раскрыть и остальные карты. Он воркующее заговорил:
— Чего там скрывать, все мы боимся, как бы петраковские козы не обглодали наш огород. Будем помогать по-свойски, по дружбе, но помните — дружба-то дружбой, табачок врозь. Для этого и существует слово «хоз-рас-чет»! Да еще лозунг: «Кто не работает, тот не ест!» А потом поглядим: может, козы подхарчатся, молоко станут давать, тогда и в общее стадо примем.
— Ладно, не умасливай, — ответил Сергей. — Хозрасчет так хозрасчет. Не надеюсь особо из нищеты выползать на хребте пожарцев. Помогайте как можете. А мне с хозрасчетом даже посвободнее. Лезть со стороны с советами меньше будете.
Евлампий Никитич не выдержал, легонько крякнул:
— Конечно, сам себе во князях.
И правление не выдержало, грохнуло, но смеялись не злобно, с облегчением. Каждый был рад, что, слава тебе господи, сам не стал стольным князем петраковским. Хоть и учен парень, в академиях штаны просиживал, а в жизни не смыслит. Из сыновей в пасынки идет добровольно. Чуть сплохуй, Евлампий Никитич решением этого правления прикроется — помогал, условия посильные ставил, сам согласие давал, силой не неволили. Князь пресветлый, попадешь в стрелочники — любая вина твоя.
Евлампий Никитич пресек:
— Эй, эй! Смешочки не к месту!
Но не слишком строго.
Он, Лыков Евлампий, не считал глупость в людях уж очень большим пороком. Пусть глуп, да покладист, ума всегда вложить можно.
Через несколько дней в районной газете появилась статья: «Новаторство! В передовом колхозе „Власть Труда“ бригады поставлены на хозрасчет!» В те годы по деревням это слово еще не вошло в широкий обиход.
Под осень прибыли два огромных грузовика, на каждом горой тугие мешки — хлеб петраковцам. Но не просто хлеб, а с лозунгами. По бортам машин кумачовые плакаты: «Пламенный привет новым колхозникам колхоза „Власть труда!“». И тут же назидательное: «Кто не работает, тот не ест!» Хлеб привезли, но и лозунги не забыли.
Вокруг грузовиков собралось все население полузаколоченной деревни Петраковская. Босые бабы с черными ногами и спеченными лицами, за их подолы цепляются белоголовые ребятишки. Мужиков в деревне, считай, нет, а поди ж ты, плодятся… Сгорбленные старухи с жилистыми шеями, старики с седыми щетинистыми подбородками. Несколько подростков, безусых, опаленных солнцем, из тех, кто еще не доспел в армию. (Из армии уж, шалишь, в Петраковскую калачом не заманишь.) Негусто молодок, по одежке смахивающих на старух… Выцветшая, вылинявшая, иссушенная толпа, мослы, да глаза, да нестриженые космы, и общее у всех выражение недоверия.
Тугие мешки навалом, в их сытой наглядности какое-то неправдоподобие. Даровой хлеб да еще с лозунгами: «Пламенный привет!..»
Евлампий Никитич сам привез этот хлеб, закатил речугу и тоже, как водится, с лозунгами: «Добьемся высоких урожаев! Берите, ешьте и помните: „Кто не работает…“»
Евлампий Никитич — широкая физиономия словно смазана маслом, костюмчик уже тесноват — пуговицы еле сдерживали налитое брюшко. До чего же он не похож на тех, кто его слушает, — с другой планеты.
«Даем! Берите!» — широкий жест в сторону мешков. Пусть все видят, кто дает.
В стороне стоит новый бригадир — кепка надвинута на глаза, упрямый, как у дяди Евлампия, подбородок, пыльные сапоги, руки глубоко в карманах. Он обязан позаботиться, чтоб хлеб не был съеден задаром.
Он знал, что коней в Петраковской среди зимы привязывают к потолку веревками, знал, что коровник без крыши…
Одно знать понаслышке, другое видеть.
Впервые вошел в дверь скотного к коровам, увязнувшим в жидком навозе. К коровам?.. Нет! Таких коров еще не встречал — деревянные козлы, обтянутые косматыми, ржавыми шубами, не похоже, что может внутри теплиться жизнь. Живы только глаза, большие, слезящиёся, истекающие такой влажной тоской, что коченеешь, сам становишься деревянным. И вот в такую-то минуту одеревенения почувствовал на своем лице мокроту, не теплые слезы, холодная, липкая мокрота — дождь. Поднял голову и увидел над собой небо, серенькое, обычное, только перекрещенное стропилами. Обвалилось сердце, не помнил, как оказался на воле. В дверь вышел. Дверь-то была, а крыши нет.
Всего четыре километра в сторону — село Пожары. Там среди побеленных стен, под светом электрических ламп, в густом тепле, слитом из запахов парного молока, навоза и ядовито щекочущего силоса, — лоснящиеся, атласные, упругие, широкие спины рядами. Там другие животные, нисколько не похожие на этих деревянно-шерстистых, там буйная плоть, звуки ленивой жвачки, чугунные чаши автопоилок, бетонированные дорожки со стоками, брандспойты, сгоняющие упругой струей нечистоты.
Всего четыре километра, где-то на середине — узкая дорога среди полей. Четыре километра? Нет, дорога пролегает не по земле, а по времени. Там — двадцатый век, как и положено, здесь черт те какой — средневековье! Прыгай через столетия, Сергей Лыков!
Были лекции и библиотеки, книги и профессора, микроскопы и цветные таблицы, таинства внутри зеленого листа, откровения из загадочной жизни микробов, гнездящихся у корней растений. Это все было, а ожидалось большее — опытный участок, научная станция, своя лаборатория с пробирками и микроскопом, грядки с табличками, извещающими, что на планете появляются неведомые людям сорта, ученая степень, почет… И был бы птицей свободного полета, ни с тебя выполнения плана, ни отчетов, ни проработок на совещаниях — твори!
Бригадир в Петраковской! Бригадир в самой безнадежной бригаде, ты заведомо — мальчик для битья.
Соседку Венькиной матери, Груни Ярцевой, звали Анной — Анна Филиппьевна Кошкарева. Дети ее: погодки — Петька и Ленка, один восьми, другая семи лет, погодки — Сенька и Васька — пяти и четырех — да еще люлечный Юрка, тот, что тогда плакал с надрывом в избе.
Каждый год еще до рождества Анна начинала печь своим детишкам лепешки из травы и куглины. Траву — щавель, крапиву и еще одну, называющуюся почему-то неприличным словом, — детишки сами заготовляли летом, сушили, а зимой перетирали в труху. Лепешки напоминали по цвету, по виду, свежие лепехи коровьего навоза — черные, с зеленым отливом, с резким запахом силоса и прели, с невыносимым пресным вкусом, которого никак не могла убить соль.
Щедрый Евлампий Лыков подарил хлеб — ешьте! Не мало хлеба, но и не так уж много, чтоб быть сытыми. Его можно съесть за несколько месяцев. Сергей сложил мешки с мукой в амбар, придирчиво проверил и крышу и стены — сухо ли, — закрыл на замок.
Хлеб на замок! Это значит — опять голод, это значит — лютая ненависть к тому, кто повернул ключ, положил его в карман.
Ненависть, а нужно, чтоб верили, больше — нужно, чтоб любили. Не красивые слова, не горячие обещания, а кусок хлеба может вызвать любовь, только он. Еще пока ели сорный хлебец со снятого осенью урожая, а уже глухая недоброжелательность к новому бригадиру растекалась по деревне.
— Пожарский опричничек.
— Хлебец-то для показу с председателем привез.
— А вы что, бабы, пожировать хотели?
— Облизнись да забудь.
И надо было решаться, надо было идти навстречу глухой затаенной ненависти. Никогда в жизни Сергей так не рисковал, пожалуй, даже в войну, где случалось натыкаться в небе одному на трех «мессеров».
Бывшее правление колхоза, ныне бригадный дом — не пожарская контора с колоннами и широким крыльцом, — обычная изба, ветхая и громадная, каких много пустовало в Петраковской. Собрались все жители разбросанной деревни, воздух сперт, трудно дышать — платки, платки, полушалки, кой-где лохматая стариковская шапка. Большинство населения — бабы, у многих дети, все просят есть, а хлеб под замком.
Сергей открыл собрание. Ждали, как всегда, речугу, но вместо речи бригадир вынул из кармана ключ, положил его на стол.
— Вот он… От хлеба.
Тишина, посапывание, поскрипывание. Из полутьмы просторной комнаты уставились с враждебной недоверчивостью глаза, много глаз, бабьих, изболевшихся, материнских.
— Ваш… Я его в руки больше не возьму. Кто хочет, может его взять, открыть амбар, раздать хлеб. Милицию не позову, жаловаться никуда не буду.
Тишина, вздохи, сопение. Недружелюбные глаза.
— Ну, кто хочет взять ключ?
Из-за спин, из-за платков бабий голос:
— Любой возьмет, не петушися.
— Только этого любого я спрошу: сколько месяцев ты, любой, собираешься жить на свете? Три месяца, четыре или больше?
Нелюдимое молчание, нелюдимое, но и озадаченное.
— Съедим хлеб сейчас, весной снова будем голодны.
— Не привыкать!
— То-то и оно, а я хочу, чтоб отвыкли. Для этого и пришел. Хочу хранить хлеб до весны, чтоб работать не на траве, чтоб посеять новый хлеб, чтоб собрать его, чтоб быть сытым вечно. Не согласные, собираетесь весной по привычке в кулак дудеть, травкой закусывать — берите ключ, вот он.
И Сергей сел.
Молчание, тяжкие бабьи вздохи, шевеление.
Секунда, еще секунда, еще… Секунды решали будущее деревни Петраковской. Секунды решали судьбу Сергея. Если кто-то с отчаяния надумает, подымется сейчас среди платков, подойдет, возьмет ключ — будет несколько сытых месяцев, снова голодная весна, снова сволочной бурьян на петраковских полях, а от Сергея отвернутся все — сама деревня, пожарцы, Евлампий Никитич. Он-то отвернется с издевочкой:
— Что, лихач, на первом повороте вывернуло?
И голодные дети, с изумлением глядящие на хлеб, на яйца, на молоко…
Шли секунды, тянулось молчание.
— Решайте, бабы, — угрюмо напомнил Сергей.
Никто не решался. Молчали.
— Анна Кошкарева! — позвал Сергей. — Ты здесь?
— Тута. А что? — из глубины, от стены.
— Выйди сюда.
— А чего?
— Да иди, иди, не съест! — зашипели со стороны.
Зашевелились, стали тесниться, уступая дорогу.
Вышла, встала перед столом. Глаза в пол, на растоптанные валенки, грубый, словно из дерюги, платок закрывает лицо, мужская телогрея с клочьями ваты на локтях, ветхая юбка… Даже по-петраковски — бедна.
— Анна, возьми ключ.
— А чего это я?
— Возьми и храни у себя…
— Не робей, бери уж, коль так. Чего тебе сделают, ежели в руках подержишь.
Не подымая головы, Анна взяла ключ…
— Вы видели — у кого он? Хлеб не мой, хлеб ваш. В любое время можете его взять и разделить… Если захотите.
Сергей встал.
— Все, дорогие товарищи! Собрание окончено.
Хлеб под замком. Ненавидеть за это надо того, у кого от замка ключ в кармане. А ключ этот положила себе в карман Анна Кошкарева. Ее ненавидеть?.. У нее пятеро голодных детей, они сыты не стали от того, что мать держит ключ от хлеба, которым можно накормить всю деревню.
Сергей жил у Груни Ярцевой. С оклеенной старыми газетами стены, из рамки на него теперь глядел с вызовом недруг мальчишеской поры Венька — просторная пилотка на растопыренных ушах, шея тонкая с кадычком, что петушиная нога. Как и все, Сергей питался картошкой, не навез из Пожар для себя харчей. Ключ лежал у Анны, запасы хлеба не трогались, но Сергей изворачивался…
Евлампий Лыков давал семена — какие хочешь, сколько хочешь, отбирай сам. И Сергей отбирал. Семенной фонд лыковского колхоза он знал лучше всех — не зря же целое лето толкался по полям, совал нос в закрома, — лучше самого Евлампия Лыкова, лучше кладовщиков, лучше любого из бригадиров. И он отбирал горстку по горстке наилучшее зерно, сам проверял на всхожесть, помогала проверять Ксюша Щеглова. Бывшая столярка — опытный участок — вся была уставлена блюдцами, заложенными мокрой марлей, и промокашками из школьных тетрадей, на них прорастали семена. Опытный участок работал, но не на село Пожары, на деревню Петраковскую.
А в Петраковской хранился свой семенной фонд, замусоренное зерно ржи, ячменя, тощей, как мышиный помет, пшеницы. Фонд — одно название. Его Сергей пустил на помол, выдавал, но с расчетом. Покрой крышу над скотным — получи, привез сено — получи, вычисти навоз, приведи в порядок коров… Но иногда выписывал и без работы — на детишек, многодетным матерям.
Шла вьюжная зима, на редкость снежная. Лошади, срывающиеся с дороги, тонули в снегу по уши, вытаскивать приходилось на веревках. В эту зиму в Петраковской мало ели травы, хотя и не без того — нет-нет да в морозное утро потянет сладковатым дымком из какой-нибудь трубы, значит — кто-то печет лепешки из щавеля. Даже Сергею приходилось их пробовать, первое время выскакивал на крыльцо, перегибался через перильца, отдавал травку на снег.
Не очень стеснялся челобитничать перед дядей:
— Удели возков пять сена… Подкинь овса. Помогать обещал? Исполняй обещание — самое время.
Евлампий Никитич скорбно вздыхал:
— Ох уж вы, мои союзнички — второй фронт до гробовой доски.
Но все-таки помогал.
Коней в эту зиму не привязывали к притолокам веревками — сами держались, хотя и выглядели не для парада.
Так дотянули до марта.
Через Петраковскую прошли десятки председателей — были среди них и прохвосты, с нищей деревни сумевшие вырастить в районном городе далеко не нищенские по виду дома, были и честные люди, не присвоившие себе лишней горсти зерна. Всех их постигало одно — исчезли без следа — что были, что не были, бог ведает.
На Петраковской висело два миллиона долгу в счет кредитов, выданных государством в разные годы. «Колхоз-миллионер», — в районе еще и пошучивали, а что оставалось делать?
Евлампий Лыков добился — долги списали.
Евлампий Лыков помогал. Мог бы щедрей, но и на том спасибо.
Евлампий Лыков — председатель колхоза, а в лыковский колхоз районные уполномоченные не суются. А это тоже немаловажно. Уполномоченные — чума для тех, кто встает на ноги.
Ни у кого из бывших председателей деревни Петраковской не было за спиной Евлампия Лыкова…
У Сергея — крепкий тыл, он мог наступать не оглядываясь, действовать с напором.
Нищая Петраковская была богата одним — навозом. Десятки лет копился он в скотных дворах, в конюшнях, в сараях самих колхозников, пропадал, перегорая до жирного чернозема, снова копился. Даже те, кто сбежали из Петраковской, оставили после себя около заколоченных изб кучи навоза. В стойлах часто коровы доставали тощими хребтами потолочные балки — утрамбованный, каменно слежавшийся навоз выпирал. От навоза подпревали нижние венцы хлевов, хозяева бросали эти хлева, строили новые. Нищая Петраковская сидела на богатстве.
Богатство, если только вывезешь все подчистую на поля, а иначе — навоз есть навоз, обычная нечисть.
Вывезти, а всего одиннадцать лошадей могло ходить в упряжке.
Трактора на помощь?.. Это пожалуйста. Но за работу тракторов нужно платить. Вырастет урожай или нет — бабка надвое гадала, трудодень же трактористу отдай, и трудодень такой, какого ни разу не получал петраковский колхозник.
Учебная программа академии не предусматривала, как на одиннадцати клячах вывезти горы навоза?
Как?
Решить этот вопрос — значит получить урожай, значит дать на трудодень, значит накормить петраковцев. А быть сытым — счастье, петраковцы пока о большем и не мечтали.
На одиннадцати клячах!.. Кажется, невозможно.
— Что ж, бабы, попросим Евлампия Никитича, пусть трактора подсылает.
— Так ведь, Сергей Николаич, голубчик, обдерет нас Евлампий Никитич со своими тракторами, как липку.
Пришло время заставить Анну-хранительницу выложить ключ от хлеба на общественный стол. Большой, тронутый ржавчиной ключ от амбарного замка. Сергей стоял над ним, глядел на сидевших баб, на свою «божью рать», как с издевочкой называли их в Пожарах. «Божья рать» взирала на Сергея уже не с прежней недоверчивостью, уже как на своего.
— Кому этот хлеб — трактористам или себе?
Вопрос дикий, вопрос крамольный. Этот хлеб перестал быть дареным, его хранили, отказывали голодным детям. Да решись сейчас Сергей отдать его на сторону, хотя бы и трактористам из МТС, — вся вера в него лопнет, лопнут надежды, ни одна рука не подымется на работу, не жди никакого урожая. Хлеб, который так долго лежал нетронутым, — священен.
Трактористам или себе?.. Вопрос дикий, вопрос крамольный и для любого уполномоченного из райцентра.
Как можно спрашивать? От механизации отказываться, MTС игнорировать, технику подменять горбом — в прошлое тянешь, бригадир, наше развитие на том и основано, что грубая физическая сила подменяется силой машины. Через МТС государство получает от колхозов крупный куш, за игнорирование МТС в районе били беспощадно, часто не ограничивались строгачами, просили выложить на стол партбилет. Но уполномоченные обходили стороной лыковский колхоз, а Петраковская жила теперь под лыковской вывеской.
— Се-бе-е! — единым вздохом откликалось собрание.
— Се-бе-е хлеб!
— Как вы думаете, если за тонна-километр вывозки навоза — пуд хлеба? Хорошая цена?
— Цена-то хорошая, только на чем повезем?
— Вот этого не знаю, бабы. Знаю одно — хлеб за навоз. Хлеб сразу, на руки, не авансом.
— Согласимся, что ль?
— Но как же, бабоньки, на чем?
— Да уж одно тягло — на карачках.
— Ежели б было на чем, не платили так.
— И хлебушко-то сразу, нас ведь всегда авансом кормили!
— Авансами мы сыты!
— Эй, бригадир! А без обману?
— Без обману.
— Вывезем! На себе! Не отдавать же хлебушко!
И повезли навоз.
Другого выхода не было. По нескольку баб впрягались в волокуши, тащили по глубокому снегу километрами. За хлеб, за настоящий, не за авансовый, не за обещанный! За хлеб, которого давно не видели вдоволь в Петраковской. Там, где лошади падали, бабы вывозили…
Варварство? Да! Бывший слушатель Тимирязевской академии пошел на это! Но в варварстве и жила Петраковская — зимой коней привязывала к потолку, коров держала под открытым небом, растила сорняки, копила навоз, ела траву. Из варварства без варварских усилий можно ли вылезти? Тимирязевка не предусматривала в своих программах, приходилось действовать на свой страх и риск.
Он метался от одного поля к другому, командовал: здось побольше подкиньте — песочек, там хватит — без того земля добрая.
Знакомая дорога, разграничивающая пожарские земли от петраковских, была закрыта снегом, по ней не ездили зимой. Сейчас ее вновь пробили, набросали вдоль щедрые кучи навоза.
А на бригадном складе уже лежало отборное зерно для семян.
А Сергей находил время, чтобы водить дружбу с трактористами, с той бригадой, которой предстояло подымать петраковские поля.
— Ребята, хочу одного, чтоб вы стали похоронной командой… Что ржете? Поля наши в сплошном сорняке. Семена этих сурепок, осота хоронить, хоронить, да глубже. Без глубокой вспашки, без оборота пласта работу принимать не стану. Учтите это заранее. А за качественные похороны сочтемся, обещаю.
Трактористы смеялись, пили водку, выставленную Сергеем.
Навоз выгребался подчистую. По деревне Петраковской вкусно пахло свежеиспеченным хлебом.
Дорога, разделяющая поля, — там колос, здесь бурьян. Еще посмотрим — у кого как.
И вот в эти-то мартовские дни впервые с удивлением стал вглядываться в Сергея не встающий со стула бухгалтер Слегов. К нему на стол ложились сводки. В сводках из Петраковской — вывезено столько-то тонн навозу. Гм… Цифры красивые, хоть вешай на стенку вместо плаката.
В неподкупном бухгалтерском деле что слишком красиво, то с запашком. Иван Иванович полистал, выудил — вот точная цифра конского поголовья в Петраковской (гм… ну и цифра!), а вот и другая — количество работоспособных… Тракторов не брали… Гм… Одни цифры отрицали другие. Как это понимать, Сергей Лыков? Кто ты — рано созревший мошенник или чудотворец? Чудотворцы, как известно, давно повывелись на земле, зато мошенники теперь не в диковинку и среди молодых.
Слегов следил со своего бухгалтерского стула. Стул — что пожарная вышка, не рассчитывай обмануть. Поживем — увидим.
Весна после снежной зимы выдалась недружная. Сугробы то прели, то каменели под морозами; казалось, конца не будет таянию. Евлампий Лыков испугался затяжной весны, послал тракторы в первую очередь на пожарские поля — петраковцы обождут.
И прогадал. На непросохших полях тракторы застревали, часто ломались, по мокрому и вспашка плоха — грязные мочажины заплывали, подсыхая, запекались коростами, а уж сквозь них, не жди, скоро не проклюнется зерно. Не всегда-то права пословица: весенний день — год кормит, на нее есть иная: поспешишь, людей насмешишь.
Сергей не спешил и выгадал, тракторы дружней работали на петраковских полях. Ходили слухи, что бригадир незаконно задабривает трактористов, в бухгалтерию, разумеется, обличающих бумаг не поступало. Если так, то парень в своего дядю Евлампия, тот при нужде никогда не упускал случая обойти по кривой закон.
Уже в середине июня заговорили о какой-то дороге, на которой стыкались поля петраковцев и пожарцев:
— А по ту сторону ныне всходы-то того, не нашим чета.
Кто ты, Сергей Лыков, мошенник или чудотворец? Всходы-то мошенников обычно растут не из земли, из воздуха.
Сам Евлампий Никитич из конца в конец прокатил по петраковским полям на своем «газике», подтвердил:
— Ай да Серега! Видать лыковскую породу!
Чудотворец?.. Нет, дудки! Давным-давно ушла вера в чудотворство.
Голая, взрытая земля подернулась легчайшим, как наваждение в глазах, зеленоватым дымком — это выползли нежные росточки, это младенчество хлеба.
Зеленоватый дымок крепнет от утра к утру, теряет летучую нежность, от утра к утру обретает сочную яркость. Земля становится зеленой без просвета, зеленой, веселой, парадной. Это раннее детство хлеба.
И однажды, нагнувшись, ты видишь в бахроме зелени — лист свернулся в тугую стрелку, целит в синеву неба, в косматое солнце. Отрочество началось у хлеба.
Отрочество до первого, стыдливо спрятанного колоска. Сам по себе колосок застенчив и мягок, нет в нем никакой грубости, никакой жесткости — хлеб вступает в пору юности.
Зелены стебли, буйно зелены листья, но колосок уже не спрятан, нет, он выставлен напоказ, он поднят вверх, как знамя. И тронь его — жестковат, чувствуешь заносчивую колючесть, и вглядись — серебром отливает он. И окинь взглядом все поле, по которому погуливает ветер, — по зелени волны с металлическим отливом. Юность в разгаре. Серебро на колосе, не то что серебро в волосах, оно здесь вовсе не напоминание старости.
Желтизна, соломенное золото — вот напоминание зрелости, вот цвет хлебного старения. Но попробуй уловить момент, когда он появляется впервые.
Легче увидеть сухой туманец над полем, легкий и летучий, как дыхание. На колосе серьги. Хлеб цветет. Это созрело растение, само растение, а не хлеб. До хлебной зрелости еще далеко.
Еще будешь пробовать на зуб зерно, а оно станет брызгать молочком. Нет, не спело.
Не спело и тогда, когда зерно уже не брызгает, не мнется, оно молочно, оно полуспело, подозрительно спело. Так и называют такую спелость — молочно-восковой.
Но тут-то и начинаются тревоги: как не пропустить момент, как поспеть убрать вовремя, чтоб спело и не переспело, чтоб было крепко зерно и не осыпалось? К этому времени уже крадется осень, крадутся дожди…
Петраковские бабы, «божья рать», вытянувшая на своих спинах весь навоз на поля, больше всех дивилась своим полям. Изумлялась до страха, до оторопи…
— Гос-поди! Да неуж с хлебом будем, неуж жить начнем? Да как же мы управимся-то с такой напастью? Сил-то у нас… Гос-поди!
Не было человека в деревне, кого бы не охватило это счастье-отчаянье. Сергей не исключение, от этого счастья-отчаянья он почернел, ссохся, лицо стало каким-то глинистым, губы спеклись.
Он ждал разговора с дядей Евлампием, ждал, что тот первый начнет. И не ошибся, тот сам приехал к нему, как всегда, кипуче весел, лицо в парной красноте, загривочек гнет вперед лысеющую со лба голову. Хлопнул с размаху племянника по спине:
— Ну, академик! Потолкуем!
Сели толковать.
— Куш большой, Серега, сам вижу, — втолковывал дядя Евлампий. — Но на хромую лошадь не ставь — проиграешь.
— Это петраковцы — хромая лошадь?
— Аль у них уже все ноги выросли? Тебе-то, верно, лучше меня видно — пока хромоваты, одни с урожаем не справитесь. А чтоб сотка хлеба под снег ушла — не допущу! Такой оказии с нашим колхозом еще не случалось.
— О чем разговор, — невинно ответил Сергей, — урожай общий, вместе снимем, ровные трудодни получим.
— Хе-хе, твоей «божьей рати», как пожарцам, одинаковый трудодень? Не рановато ли?
— Иль «божья рать» — люди хуже других?
— Доказательство, что ровня, маловато. Пожарец свой трудодень не одним десятком лет достигал, твои божьи люди хотят годом достичь. Но выйдет, парень. Хозрасчетик я покуда не нарушу. Давай полюбовно: мы поможем, а за помощь возьмем, что положено.
— А петраковцам с их же собственного урожая остаточки?
— Разве не хватит? Привыкли как сыр в масле кататься?
— Чудеса в решете, дядя Евлампий. То ты боялся, что петраковцы пристроятся к твоему пирогу, то теперь сам норовишь откусить от горбушки петраковцев. Или равные права петраковцам, или уж хозрасчет до конца!
— Н-ну, н-ну, — произнес Евлампий Никитич с угрозцей. — А знаешь, чем для тебя пахнет, ежели хоть один га под снег упустишь?
— Знаю.
— Нет, видно, плохо знаешь. Сам я тобой заниматься не стану, а районным властям сдам — растреплют в пух чижика.
— Идет.
— Н-ну и н-ну…
Евлампий Никитич уехал с убеждением: поклонится, куда ему деваться, хозрасчет хозрасчетом, автономная республика, а самостоятельности — шиш! Даже с МТС договора заключить не имеет права, трактор и комбайн получи из его, лыковских, рук.
Сергей заставил всех баб написать мужьям и сыновьям письма, тем, кто давно отбыл из своей деревни, работал на стороне, — берите отпуска, приезжайте на время уборки, внакладе не останетесь. А эти беглые мужички не все жили в дальних краях, многие работали рядом — на сплавучастках, на лесопунктах, — наезжали гостевать чуть ли не каждую субботу, обновленные поля видели своими глазами и, уж конечно, задумывались об урожае.
Хлеб поспевает не в один день. На местах повыше и попесчаней — зрел, а в низинах, на мокроте — с молочком, а то и вовсе зелен, как лук. «Бабы! У каждой из вас не чугун, а крестьянская башка на плечах! Не ждите бригадирского указа, соображайте, ловите момент, бросайтесь с серпами!..»
У Евлампия Никитича колхозник не мог колдобину на дороге засыпать без приказа, для этого, скажем, лошадь нужна, чтоб песок привезти, а уж тут спросись председателя. В бригаде Сергея, если сам сообразил, сам без подсказки сделал — похвала, и честь, и награда к законному трудодню.
Нельзя предугадать, нельзя наперед запланировать ту силу, которая появляется с надеждой. «Неуж жить начнем». Разумом предугадать нельзя, а учуять можно. «Божья рать» петраковская с начала августа до глубокой осени воевала с хлебами. «Жить начинаем, не дай-то бог, чтоб сорвалось!» Воевали за жизнь, не шуточки.
И вот — чудо в Петраковской! По всему району шум. Еще весной эта деревня считалась одной из самых захудалых, бывший безнадежный «колхоз-миллионер». А урожай-то ныне выше пожарского! Кто мог ждать?
В докладах начальства, в районной газете склонялось имя бригадира Лыкова; нет, нет, не того, не Евлампия, второй Лыков объявился…
Пропыленный «газик» мял колесами до звона прокаленную стерню.
Сжатые поля всегда кажутся слишком просторными, даже небо над ними велико и безжизненно. На окраине грустного стерневого моря, под высокими выбеленными небесами копошилась куча баб — подоткнутые подолы, открывающие исподние белые юбки, задубеневшие черные ноги, цветные платочки. Они серпами добирали остатки хлеба, уже полегшего, перепутанного, который не возьмет комбайн, в котором увязнут ножи жаток.
Иван Иванович Слегов впервые за много лет решил оторваться от просиженного стула, вблизи всмотреться в странного человека, который высылал ему в сводках пляшущие цифры. Если расставить все отчеты по порядку, получится сумасшедший бег с галопцем, с коленцами, с остановочками. Цифры не купишь, рано или поздно они вскрывают нутро того, кто их посылает. Вскрывают? Не всегда-то, оказывается.
Реденькая россыпь баб, и море стерни за их спинами. Нельзя поверить, что эти бабы освободили столько земли от хлеба. И опять в голову ползут цифры, цифры: столько-то га под яровыми, столько-то рабочих рук. Неподкупные бухгалтерские цифры — и кучка баб против них.
Сергея Слегов увидел поздно вечером. Тот, на ночь глядя, проводил с бабами бригадное собрание. Пришлось терпеливо сидеть, слушать бабий гвалт, пока-то угомонились, пока-то не разошлись по домам.
Наконец они вдвоем выбрались на крыльцо. Иван Иванович пристроился на ступеньке в обнимочку с костылями.
Ночь стояла безлунная. В воздухе растворены призрачные осенние запахи увядающих на корню трав. Небо накатно-черное, трубы над крышами можно угадать лишь по пустоте — нет в тех местах звезд, а должны бы быть. На накатном небе мутная рваная дорога Млечного Пути видна отчетливо.
Петраковский бригадир, как нахохлившаяся курица на яйцах, — весь внутри, словно забыл, что рядом с ним живая душа.
— Кхм!.. — кашлянул Иван Иванович. — Я к тебе не от колхоза, право, не с ревизией — не сиди, ради бога, клушей. Растревожил ты меня.
— Чем?
— А я и сам толком не знаю. Лихими прыжочками. Я сам когда-то прыгал, да вот спину сломал.
— Зачем тревожиться, Иван Иванович, ты лучше порадуйся вместе с нами.
— Готов радоваться, парень, — почти сурово ответил Иван Иванович, — если докажешь — прочно, не на час твоя удача.
— Пока на год, до нового урожая. За новый кто может поручиться наперед. Но на год-то петраковцы теперь сыты.
— Но ты, верно, хотел бы, чтоб сытость не на год — навечно.
— Хочу.
— И должно, соображения на этот счет имеешь.
— Имею. Пахать, сеять, урожай собирать, этот год перепрыгнуть.
— И в силы веришь?
— В чьи?
— Ну, в свои хотя бы.
— О моих силах говорить не стоит. Велика ли сила в одном человеке.
— Но без тебя бы Петраковская не взбурлила.
— Я — спусковой крючок в ружье, а ружье-то было заряжено.
— Чем? Какой заряд в бабах?
— Вот как-то в войну, — заговорил негромко, с ленцой Сергей, — недалеко от Волчанска какого-то прохвоста поймали. Полицая, что ли?.. Вешал наших при немцах. Одну женщину привели, чтоб опознала. У нее двух сыновей повесили, один, кажется, совсем мальчонка… Увидела она того и стала рваться… Да-а… Трое солдат держали, раскидала, как щенят. А ребятки — лбы здоровые, и баба-то уж не молода, с сырцой. Вот и ответь: откуда у нее сила взялась? Откуда у петраковских баб сил хватало на себе по снегу навоз на поля вытащить? Теперь оглядываются, сами не верят.
— И на будущий год на этот заряд рассчитываешь?
— Ну нет. Встать на ноги трудно, а раз встали — зашагаем, пожарцев-то нагоним.
— Все в это верят?
— Все.
— Хоть бы открыл, как заставил?
— Я? Нет, я не заставлял. Поля заставили, они вместо бурьяна довольно наглядно хлебом обросли. А разве можно сказать, что эти поля изменил я? Не я на них навоз таскал, не я их выпестовал.
— Ну да, ты же крючок под скобочкой, заряд в бабах, они стреляли. Крючочка, видишь ли, им не хватало. А крючочка ли?
— Иван Иванович, право, удивляюсь тебе.
— А ну-кось?
— До седых волос все героя ищешь. Героя, вождя великого, который один на блюдечке может жирное счастье принести.
— А что, нет таких?
— Один для всех?.. В одиночку?.. Думается, что нет и быть не может.
— А ведь, парень, эта песня тоже не свежая — братство да равенство до такого конца, что признавай — у всех под шапкой от бога наложено одинаково.
— Но даже если под шапкой мозги гения, то лучшее, что можно этими мозгами сделать, — указать, где оно, а брать-то все равно придется сообща, компанией. Нет такого героя, чтоб в одиночку от начала до конца счастье довести. Ильи Муромцы только в сказках бывают.
Иван Иванович долго молчал. Тихая ночь глядела звездами на чужую для бухгалтера деревню.
— Указать — где?.. — повторил он. — А у тебя не случалось такого, когда ты сам видишь ясно, пальцем указываешь, а другие слепы?.. Даже на удивленье слепы!
Сергей подумал, ответил решительно:
— Нет, не бывало.
— У меня было.
Сергей в темноте пожал плечами:
— Наверно, у меня под шапкой не больше других лежит, слишком далеко не просматриваю, вижу то, что и обычный человек разглядит.
— Счастливый ты, — вздохнул Иван Иванович.
Сергей вдруг засмеялся:
— Вот это, Иван Иванович, я уже от тебя слышал. Помнишь, ты попрекал, когда в академию меня направляли: мол, в рубашке родился.
— М-да… Винюсь, попрекал… А впрочем, чего виниться, я и тогда прав был. Ты — в рубашке, а я, похоже, в тенетах, всю жизнь в них путаюсь до сего дня… Ну, будь здоров. Ничего, ничего, сам подымусь. Ты иди шофера толкни, он в машине спит…
Смолоду да сглупу казалось куда как просто: колхоз — семья, один за всех — все за одного. Еще не успела опуститься оглобля на спину Ивана, но уже хрустнула пополам вера в колхоз.
Тысячи лет попы втолковывали: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тысячу лет, а проку ничуть. Человек так уж создан — больше всего любит себя, никак не соседа. Некрасиво, но что поделаешь — такова жизнь. Природа не барышня, сантиментов не признает.
Иван Слегов служил колхозу, но в душе не верил в него. И увесистые миллионные доходы, которые собственноручно записывал в бухгалтерские книги, не убеждали. Доходы-то миллионные, а «возлюби ближнего» и не пахнет — у кого сердце болит, что Пашка Жоров живет под худой крышей? А ежели нет «возлюби», то нет и семьи, есть казенная организация.
Вера треснула до того, как опустилась оглобля, но временами находило — а вдруг да… Смолоду пришиблен — болеть до старости.
А что, собственно, показал Серега?.. Волокушу с навозом вывезти вместе с соседом легче, чем в одиночку. Так это и сам давно знал. Но ведь если с соседом легче, то, значит, к соседу и уважение — без тебя, друг, никак! Уважение не от сладенького «возлюби», нужда заставляет.
Евлампий Лыков приказывает: делай, не то круто накажу, бойся! Что ж, приходится… Страшновато за себя, никак не за соседа. «Бойся» — то, выходит, вроде глухой стенки — людей разъединяет.
На друга Пийко киваешь, а сам?.. Считаешь доходы, прячешь их под замок в шкафы. Самое главное, самое интересное под замок — какова польза от труда? Зачем тебе знать, верь на слово, покорно слушайся. Ты — скотинка, над тобой — пастух с кнутиком. Разве тоже не строишь стенку, разве не разъединяешь? А после этого неверие: дружной семьей — да быть не может! Противно естеству!
Иван Иванович ворочался грузно на сиденье рядом с шофером, кряхтел.
Всю жизнь был убежден — выше других, умнее других, и несчастья оттого, что далеко всех перерос, где разглядеть высокого. И понять не хотел: не Ильи Муромцы прокладывают по земле молочные реки. Фитиль без лампы гореть не будет. Все как-то скрашивало костыльное житье-бытье — не признан, да не другим чета. Серега-молокосос открыл знакомое. Он открыл, ты отмахнулся — обидно! Уважение к себе он у тебя из души вырвал. Ох-хо-хо!..
Иван Иванович кряхтел.
Сергей Лыков стал районной знаменитостью, тащили в президиумы, усаживали бок о бок со старшим Лыковым, требовали — выступай, встречали аплодисментами, не дав раскрыть рот.
Чудо в Петраковской… Всем еще нравилось, что чудотворец держится скромно, от своей святости отмахивается:
— Такие чудеса творить не трудно, когда из богатого колхоза ветер в спину дует…
Его речи не могли обидеть Евлампия Никитича, настораживало другое: районные руководители слишком уж часто, слишком уж настойчиво повторяли: «Старшему Лыкову выросла достойная смена!»
«Смена… Гм!»
Евлампий Лыков не допускал, чтоб районное начальство гладило его против шерсти. Только попробуй, Евлампий Никитич сделает кругом марш из кабинета. К себе в село он, скажем, не уезжает, а оседает поблизости — в квартире, которая специально снята в городе, чтоб знатный председатель мог отдохнуть от заседаний. В этой квартире — телефон, уж он-то непременно зазвонит:
— Евлампий Никитич, что уж так-то… Зайди, обсудим без горячки. Евлампий Никитич, я жду…
И Евлампий Никитич по тому же телефону вызывает:
— Машину мне!
Шофер спешно с окраины города — он не с Лыковым квартирует, у своей родни — гонит машину, чтоб Лыков мог проехать триста метров до крыльца райкома. Не пешочком, не щелкопер какой-нибудь — солидный хозяин. Подкатит, выйдет перед райкомовскими окнами, в дорогой шубе, важный, насупленный, подымется вверх, не снимая высокой шапки ввалится в кабинет, усядется — величавый и оскорбленный, готов выслушать извинения.
Кому-то он не по нутру, кто-то его смены ждет…
И маленькое, никем не замеченное событие, но сам Евлампий Никитич его особо отметил. Главный бухгалтер Слегов сорвался со стула, самолично ездил в петраковскую бригаду. Такого никогда не бывало! Ванька Слегов, поседевший советчик, правая рука, спасенный от тюрьмы! Ванька Слегов никогда не ошибается, неужели и он верит, что песенка старого председателя спета?..
Алька Студенкина, секретарша, не смела задерживать у порога лыковского кабинета лучшего в колхозе бригадира:
— Пожалуйста, Сергей Николаевич, Евлампий Никитич у себя.
И Лыков принимает Сергея.
— Трактор на недельку?.. Гм… Вроде бы все заняты, но… — Размашистым почерком выводит привычную записку: «Удовлетворить по возможности!» — К Чистых стукнись.
В кабинете Чистых нет даже второго стула, Сергей Лыков должен стоя выслушивать, как лыковский зам бросает через губу:
— Не можем.
«Старшему Лыкову выросла достойная смена!» Эт-то мы еще посмотрим. В деле Сереги — пусть не гордится! — львиная доля его, Лыкова-старшего. Что бы тот делал без лыковских тракторов, без лыковских семян, без лыковской мучки? И еще без того, что он, Евлампий Лыков, своей фигурой заслонял Серегу от районных толкачей! Сам признавал: «Из богатого колхоза ветер в спину…» Смена? Гм! Посмотрим! Чистых бросает через губу:
— Не можем.
— Слушай, друг, я эти шуточки знаю. Со мной детское шулерство не пройдет.
— Ну, раз знаете, тогда чего ж вы в мою дверь попали? За этой дверью всегда разговор короткий.
Ждали скандала, и он случился. За двойными дверями лыковского кабинета. Перед дверями сидела только секретарша Алька, человек верный, но ни двери, ни верность Альки не помешали — по селу Пожары стали шепотом передавать: «Неприличные слова говорил младший Лыков старшему: „Ты, мол, особый сорт паразитов — не ты для народа, народ для тебя! Ты — о господи, как язык повернулся! — жирная вошь на общей макушке!“»
Зам Лыкова Чистых вряд ли знал больше других (с ним Евлампий Никитич не откровенничал), но делал вид, что знает, осуждал с обидой:
— Не-ет, разговорчики ведет не наши. Разговорчики-то крайне оскорбительные. Стоило бы углубиться. Евлампий Никитич уж так, по доброте спускает.
Между дядей и племянником кончились встречи. «Автономная республика» Петраковская продолжала жить своей независимой жизнью, готовилась к весеннему севу. Но все чуяли — так просто Сереге не пройдет, добр-то добр Евлампий Никитич, но спускать не любит.
И вот весна, вот сев…
Тут даже Евлампий Никитич не может отказать в тракторах петраковцам. Иван Иванович, как положено, оформляет расчетные документы: за столько-то га мягкой пахоты петраковцы должны перечислить в колхозную кассу столько-то деньгами, столько-то натурой… Казалось бы, все в порядке, тракторы выезжают на поля, пахота начинается. Но, стоп!..
С железнодорожной станции в районные организации поступает сердитое напоминание: «Вами не вывезено пятьсот пятьдесят тонн суперфосфата… Категорически требуем вывезти, в случае промедления…»
Не сумели вывезти эти пятьсот тонн дальние колхозы, пока собирались да почесывались — развезло дороги. А ждать нельзя, за каждые сутки железная дорога бьет рублем. Отдается приказ: вывози, кто может! И уж конечно, Евлампий Лыков не прозевает, зачем упускать лишние удобрения.
Но разливом сорвало мост через реку. Грузовые машины не ходят, можно вывозить только на тракторных санях в объезд по проселкам. Но трактора-то на пахоте, ни одного свободного…
Евлампий Никитич не колеблется: снять трактора с петраковской бригады! Это почему так?.. Да потому, эй, Иван Иванович, оформи документы трактористам на вывозку удобрений!
Без подписи главного бухгалтера ни один трактор не сойдет с борозды — трактористы не станут возить удобрение бесплатно. Стоит только не поставить подпись…
Нельзя сказать, что Сергей уж сильно нравился Ивану Ивановичу. Последнее отнял, что скрашивало жизнь, такое помнится, но топить парня, топить вместе с бригадой — Иван Слегов еще не утерял совести. Стоит только не поставить свою подпись…
Но тогда разгневанный друг Евлампий скажет: «Слазь со стула!» Наймет более покладистого бухгалтера, и ты с перебитой спиной, с костылями окажешься на улице. А уж другой-то бухгалтер не откажет, вместо тебя поставит подпись.
Вспомни, Иван, себя в молодости, вспомни — к святому рвался, а люди отворачивались. Они-то от неведения, ты же ведаешь, чем пахнет твоя подпись. Готов бы, всей душой!.. С костылями на улицу — цена высокая, выше некуда, а пользы от нее ни на ломаный грош.
Иван Иванович подписал бумаги. Единственное утешение — не он один молчаливо предал Сергея.
Алька Студенкина и другие
Иван Иванович сидел забытый и думал. Он не заметил, что суетливый шумок в лыковском доме утих, рассосался. Уже не слышно было торопливых шагов за стенкой, хлопающих дверей, бубнящего в телефон голоса Чистых.
С той минуты, как Евлампий Лыков упал на подтаявший снег возле скотного, подпрыгнула сила молодого Лыкова. Все сразу стали оглядываться — кто? Оказывается — пусто. Ни одного подходящего в председатели не оставил после себя знатный Лыков.
Евлампий еще уважал старого бухгалтера, Сергей — ой, навряд ли. «Себя хороните…»
Крадущиеся шаги за дверью, дверь скрипнула, вошел Чистых.
Иван Иванович с первого же взгляда понял — надежды не сбылись. Обычно круглое, моложавое лицо лыковского зама опало, вытянулось, на нем проступили рытвины и вмятины, сразу стало видно — человеку перевалило на пятый десяток, отец четверых детей, драчливых, горластых, через отца перенявших уличное прозвище «Приблудки».
Чистых вяло опустился на стул, помолчал пришибленно, произнес устало:
— Нет, еще хуже… Совсем плох. Пятна дурные пошли… — Вздохнул: — И врача на месте нет. Послал, чтоб отыскали, а когда-то разыщут… Э-эх! Никакой ответственности!
Встрепенулся, с мольбой заглянул в глаза бухгалтеру:
— Но ведь говорил! Два слова сказал! Нашел же в себе силы! Наверно, можно как-то спасти!
— А ты знаешь, что он хотел сказать? — глуховато спросил Иван Иванович. — Он хотел сказать: «Мертвый князь дешевле живого таракана». Не раз эту поговорочку от него слышал.
Чистых с ужасом помаргивал увлажнившимися глазами.
— Значит… — начал он шепотом.
— Значит, хошь не хошь, а уважай. Не каждый-то перед смертью шутить может.
— Хороши шуточки.
Замолчали. Молчал и дом.
Иван Иванович взялся было за костыли, хотел решительно подняться, как вдруг по могильно молчащему дому разнеслось надрывно визгливое:
— Сводня! Сучка!! Чего тебе здеся-а?.. Сгинь с глаз долой!
Чистых даже подпрыгнул от неожиданности. Иван Иванович, навалившись на костыли, двинулся к дверям.
Кричала жена умирающего Лыкова, Ольга, — на тощей шее тугими жгутами налившиеся вены, лицо перекошено, с просинью:
— Потерпела я от твоего бесстыдства, потаскушка проклятая! Теперь-то молчать не буду! Жы-ызнь мне отравила! Жы-ызнь!!
Это было столь же странно, как если б в соседней комнате раздался веселый смех Евлампия Лыкова. До сих пор ни одна душа в селе не слыхала, чтоб Ольга когда-либо повысила голос, даже беседовала всегда устало, даже сердитой ее никто никогда не видел.
Чистых кособочил к плечу голову, хлопал ресницами. Иван Иванович застрял в дверях.
— Тебе бы, охальнице, скрозь землю провалиться от срама. А нет — здрасте с улыбочкой… Зен-ки твои бесстыжие!..
У порога стояла секретарша Евлампия Лыкова Алька Студенкина — короткая шубейка распахнута, из шубейки рвутся наружу обтянутые кофтой груди, на мучнисто-бледном лице багровеют густо подведенные губы да стынут кошачьи, с прозеленью, глаза. К ней бесновато тянулась своим костлявым телом Ольга:
— Чего сиськи коровьи выпятила?! Чего ждешь? Чтоб в рожу плюнула?..
Чистых проскользнул мимо бухгалтера и мелко-мелко заплясал казачка:
— Ольга… Ольга Максимовна…
— Нету у тебя заступничка! Был да паром исходит! Нажалуйся-ко! На-ко, нажалуйся теперь! Полизала кошка чужую сметану — хватит!
— Ольга Максимовна! Боже ж мой! Приди в себя, Ольга Максимовна! Срам-то какой! Бож-же ж мой, срам. У смертного одра, так сказать… Алька! Чего торчишь столбом? Марш отсюда!
— Сво-о-одня! Сука-а нечистая!
Посреди комнаты — тощая баба с синевой бешенства на лице. В одних дверях висит на костылях Иван Иванович, собрав на желтом лбу жирные складки. В других — сестра в халате. У порога — целясь грудями из распахнутой шубейки, не молодая, но молодящаяся бабенка, на мучнистом лице — кровоточащая рана губ. Мелко выплясывает растерянный Чистых.
За стеной лежит Евлампий Лыков — не встанет, не наведет порядок грозным окриком. Жизнь, которую он заквасил, продолжается.
* * *
Девки в молодости не баловали Евлампия. И за что? За то, что не крив, не кособок, здоров и чист телом, за синь глаз из-под соломенных ресниц, за веселость характера или за то, что мог и зубы заговаривать, не лез за словом в карман? Это все, конечно, хорошо, да маловато. Нужны и сапоги в гармошку, и штаны «без очей» назаду, изба и лошадь, земелька да инструмент к ней — вот только тогда тебе полная цена, тогда и можно рискнуть… Ведь у девки-то товар один — раз прогадаешь, потом на всю жизнь внакладе.
Евлампий ходил не обласканный.
В тридцать один год он получил дом-пятистенок, вполне пригодный для семьи — горницы с полатями, печь с горшками, даже тараканы в щелях откормлены, даже люлька свисает с потолка, даже закопченная икона на божнице — все для того, чтобы выполнить божеское: «Плодитесь и размножайтесь!»
Сваха и сводня, лекарка и ворожея, всему селу кума да свояченица Секлетия Губанова, за большой нос — не за свой! — за большой нос давно умершего отца прозванная Клювишной, взяла на себя хлопоты, набежала в дом Максима Редькина:
— И прослышали мы, сударики, что у вас красный товар водится…
Чего-чего у Редькина Максимки, выпивохи, неудачливого барышника в прошлом, а красного товару хватало — пять девок, бери — не хочу.
Не было в жизни Евлампия Лыкова соловьиных вечеров.
У Ольги их тоже не было.
Первый сын появился довольно скоро — что пустовать готовой люльке. В тот год все кругом еще смирнехонько переживали голод, а у Евлампия Лыкова — приплод в колхозе, приплод и дома… Сына назвали Климом. Клим — имя боевое, сам Ворошилов его носит. Имя придумал Евлампий, на этом и кончил отцовские обязанности, ни разу не держал на руках сына — не до того, руки-то заняты, на них колхоз, который прет в гору.
В самом начале войны родился второй сын, а так как тогда у Евлампия уж совсем не хватало времени на отцовство, то назвала его мать как умела — Васькой, на большее выдумки не достало.
В то время Евлампию перевалило за сорок, уже тучнел телом, багровый загривок уже гнул вперед крупную голову, выставляя всем напоказ чуть плешивевший упрямый лоб, но по-прежнему был молодо порывист, легок в движениях. Ему за сорок, а Ольге едва исполнилось тридцать, однако уже усыхала телом, увядала лицом.
Девки же в селе не считались с войной — зрели, наливались соком, свое постылое девичество глушили минутным озорством:
Эх, на юбке замок, Да под юбкой ларек! Приходите, лейтенанты, Отоварить паек!Лейтенанты проезжали в пятнадцати километрах от села Пожары, мимо и торопливо, не задерживаясь на станции, спешили на фронт.
Гармонист Генка Шорохов без одной ноги, Иван Слегов без обеих ног и сам Евлампий Никитич Лыков с двумя руками, с двумя ногами, целенький, без изъяна — вот и весь мужской состав села Пожары, если не считать совсем заплесневелых стариков и совсем незрелых юнцов.
Часто на току, когда бабы и девки в куче, Евлампию приходилось туго. Какая-нибудь Алька или Катька, разомлев плечиками, покачивая бедрами, глядя с зовущей дремой сквозь припудренные пылью ресницы, обращалась невинно:
— Евлампий Никитич, где справедливость?
— В чем дело, бабоньки?
— Кому густо, кому пусто — непорядок сплошной.
— Да кто тебя обидел, лапушка?
— Твоя жена, Евлампий Никитич. Ей — цельный мужик, а нам на всех хоть бы кусочек. Иль она краше нас, иль перед державой в больших заслугах?
— Рад бы, девоньки, разделить себя…
И тут вступал хор, глушил его, готовую сорваться, скоромную остроту.
— Так в чем дело-то?
— Може, жеребьевку кинем?
— Ты, председатель, премиальные установи!
— И то, какая злей на работе — той ночку.
— Все рекорды побьем по труду!
И Евлампий бежал, отмахиваясь:
— У-у, сбесились, кобылки!..
А потом не давал покою дремотный зазыв из-под пыльных ресниц, и вид жены выводил из себя:
— И чего бы это, не на казенной пайке живешь, а тоща, как ухват? Не в коня корм, видно.
Не знал соловьиных вечеров.
Ехал как-то в пролетке полем (тогда еще не было персональной машины). Ехал шагом. Плавились в пыльном золоте утонувшего солнца вздыбленные облака, земля томилась в лиловом, предсумеречном покое. Впереди на дороге — одинокая фигура в алеющей косыночке. Он ее медленно нагонял, а когда подъехал близко — оглянулась, над плечом полыхнуло от заката лезвие косы. Алька!
Одна из тех, что первыми нападали на Евлампия из бабьей толпы. Алька, невестка старика Матвея Студенкина — в двадцать один год осталась вдовой.
Не высока, но «рюмчата» — талия узка, а бедра просторны, тяжелы и плечи. Щедрое Алькино тело нельзя было скрыть никаким платьем, оно шевелилось, гуляло, жадно зазывало к себе из-под вылинявшего ситчика.
— Чего одиночкой-то? Садись, подвезу.
Охотно согласилась. Из-под юбки вынырнуло колено, белое, кованое, задела плечом его плечо, чуть-чуть, но обожгло так, что потемнело в глазах. Она чинно оправила юбку, выпрямилась картинно, наглядно означился весь бабий рельеф.
Шевельнул вожжами, чувствуя сухость во рту, с хрипотой признался:
— Жаром от тебя… Каменка каленая.
— Поди, прозяб с женой-то? Пришел бы — погрела.
— А вот возьму да приду.
— Напужал.
— Только ведь ты со свекром под одной крышей…
— Ну и что?
— Мне перед простым конюхом стеснение чувствовать — навроде унизительно.
— Эк, задачка. Да ставь его, козла старого, хоть кажную ночь на дежурство в конюшне.
На другой день Евлампий определил дежурство по конюшне: получалось, старик Студенкин дежурит через ночь. Кажись, свободушка, но темным вечером, когда крался к Алькину дому, робел — не простой ты человек, на виду, при почете, даже от фронта освободили, а тут — разговорчики, репутация засалится, еще моральное разложение пришьют, долго ли… Робел и так задумывался на глухой короткой тропе за огородами, что перед дверью Алькиной избы почувствовал — похоже, и не рад. Но и отступать несолоно хлебавши не его манера. Постучал…
А она встретила в белой кофточке, под тонким шелком гуляют груди, сдобные руки оголены. Окна занавешены, стол накрыт, на столе бутылка и закуска не очень мудрящая. И кровать у стены — пухлая, как сама хозяйка, без морщинки.
Евлампий смущенно вынул нагретую в кармане поллитровку:
— Вот и я принес к столу…
Она усмехнулась свежими губами:
— Зачем?.. Ныне такое время — бабы угощения ставят со спасибом большим.
Альку Студенкину определил своей секретаршей, чтоб была под рукой. Спасибо Альке, она не только подарила то, что как-то заменило соловьиные вечера, но и открыла глаза на самого себя… К себе аршин приставлял, каким всех меряют. Забывал, где другие вплавь барахтаются, тебе по колено. Уж ежели тебя от фронта освобождают, то грешок-то как-нибудь простят.
Спасибо Альке — стал еще тверже стоять на ногах!
Альке спасибо, а уж сама-то Алька должна вдесятеро его благодарить: не постничает, как все бабы, чистая работа с карандашиком, и будь осторожен — силой стала. Даже потом, намного позднее, когда ее силы поубыло, все равно с ней считались — сам заместитель Лыкова Чистых к Восьмому марта с улыбочкой духи подносил.
Жена в самом начале пыталась даже попрекнуть:
— Срамотник ты…
Но Евлампий с ходу обрезал:
— Ты давно в зеркало гляделась?.. Нет?.. Так погляди!
И раньше-то в семье он — гость не гость — жилец, не более: весь день-деньской на стороне, только ночь под крышей, теперь и этого нет. Жена покорилась. Старший сын Климко — ни в мать, ни в отца — золотушного здоровья и обидчивого характера, смотрел волчонком. Ребятишки, его сверстники, не стеснялись, доводили до того, что исходил бешеной слюной, бросался в драку, а так как был слабенек, то били. Евлампий на это внимания не обращал — еще тут тратиться, когда на важные дела тебя не хватает.
Бабы и девки люто завидовали Альке, ждали — не на век же она Евлампия обротала. Евлампий-то — конь норовистый, рано или поздно узду порвет, а уж тогда: «Поласкали кобылу — хватя, теперь кнута попробуй». Не будет житья Альке.
Алька сама пошла навстречу беде, чтоб та не застала ее врасплох.
Евлампий стал косить глазом на Соньку Понюшину. Алька — к ней. Серьги Соньке подарила, чулки, кофточку и кучу похвал — мол, молода, кровь с молоком, где мне… Сонька-то — не овечка-ярочка, тоже телеса распирают, без парней бесится. А возле Альки — грех заветный живет. Сонька без Альки, как без рук. И Евлампий Никитич — тоже. Нужный человек Алька.
Алька как сидела, так осталась сидеть у дверей лыковского кабинета: «Евлампий Никитич сею минуту занят, повремените чуток». Уж коль все счастье не удержишь, то хоть часть приберечь.
Бабам и девкам оставалось одно — еще пуще поносить Альку. На здоровье. Алька не злобива, обид не вымещала.
Евлампий Никитич — конь норовистый. Что там у них случилось с Сонькой, Алька не интересовалась — ссоры да разлуки не ее дело. А вот помочь — пожалуйста. Настя Кучерова льнет к Альке. Неспроста…
Как-то Евлампий Никитич шагал со скотного двора домой. Стоял теплый августовский вечер, круглая луна держалась сбоку, перешагивала с крыши на крышу. Где-то в глубине села у клуба — не всерьез, понарошку — тосковала гармонь: «Летят перелетные птицы…»
Нет, вечер не соловьиный, со смутным запашком осени. Но вот в такие-то вечера человеку на возрасте приятно оглянуться назад. Был Пийко Лыков, полубатрак, полурабочий, резал бревна на тес, ходил в залатанных штанах, а нынче войди в любой дом — охи, ахи, суета, звон посуды: «Эй, баба! Что есть в печи, на стол мечи! Гость особый!» Каждый здесь счастлив тем, что живет в одно время, под одной луной с Евлампием Никитичем Лыковым.
Соловьиных вечеров он так и не узнал, но разве они могут сравниться с минутами, когда до ноздрей захлебываешься полнотой жизни. Чего не хватает? Пусть любой попробует отгадать. Не сумеет. Все есть у Евлампия Лыкова, все, о чем только может мечтать человек.
Евламний Никитич шагал и отдыхал. Навстречу двигалась рослая фигура. Кто бы он ни был, обязательно первым отобьет поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич!» Кто бы ты ни был — согни голову.
Луна выпуталась из верхушки березы, осветила улицу и человека посреди нее: бескозырка, узенький бушлатик, плескают широкие штанины над пыльной дорогой. Приезжий, из отпускников… И вдруг Евлампий Никитич признал — Мишка Чередник, приемный сын бригадира строителей Михаилы Чередника, того самого, что когда-то в голодный год, опухший от водянки, приполз под крыльцо конторы. Парень у Чередника вымахал на удивление, косая сажень в плечах, и в фигуре сейчас что-то настораживающее, никак не «доброго здоровья». А кругом ни души, а путь-то перекрывает…
Евлампий Никитич помнил, что еще месяц назад он прислонялся к Гальке Чащиной. Мишка до призыва с ней погуливал, писал письма. Раз приехал — обстановочку, видать, выяснил.
Плечи у него широкие, кругом пусто…
И не стал дожидаться, когда Мишка-матросик отобьет узаконенный поклон: «Доброго здоровья, Евлампий Никитич», круто свернул, поднялся на первое крыльцо, постучал.
Оказывается, верно сделал, что свернул. Мишка-матросик, рассказывают, перед отъездом жалел: «Не пришлось вырвать клок с мясом, а надо бы».
Он же — Евлампий Лыков! Кой-кто это запамятовал. Ему ли с опаской ходить по своей земле, ему ли нырять в подворотни, оглядываться по сторонам?..
На крытом току произошла драка. Схватились за грудки Леха Шаблов, механик с молотилки, и шофер с грузовой машины Гришка Фролов. Они вечно сцеплялись и всегда на людях, не из-за старых обид, не девку делили — никак не могли решить: кто сильнее?
Леха — рожа, что пшеничный каравай, во всем громаден, плечищи покаты и объемисты, кулак — шапку надеть впору. Гришка на полголовы ниже, подбористее, плечи прямые, с размахом, грудь круто сужается к сухим бедрам, руки длинные, кулаки вроде небольшие, но каждый — камешком. Как-то парни сговорились и впятером налетели на Гришку, все пятеро — лбы здоровые. Трое легли, двое сбежали.
Вдвоем с глазу на глаз Леха и Гришка могли беседовать, как все добрые люди, без гонору. Но лишь встреча при народе — любое слово затравка.
— Поди, Леха-то полегче тебя мешок на спину кидает.
— С мешком, верно, сноровист.
— Словно я на себе твою сноровку видел когда.
— Иль за ремешки подержаться хочешь?
— Ужли боюсь?..
Слово за слово, брались за ремешки, начиналось слоновье топтание, пыхтение, спор:
— Ты чего на коленку берешь?
— Возьми и ты.
— Возьму — окосеешь.
— Ух!
— Опять коленкой! Сверну шапку назад.
— М-мотри, шустрый.
— Опять… Да я тебя, гниду!..
— Ах, гнида!
Трещит Лехина скула, голова рвется с шеи.
— Н-ну-у!..
От Лехиного разворота с плеча Гришка Фролов пятится задом, давит визжащих баб:
— Ой, маменьки!
У Гришки руки длинные, достает кулаком — раз, раз, еще, еще! Мотается Лехина голова, но не собьешь — тяжел, прет прямо на кулаки, пытается нащупать Гришкин загривок, мнет его так, что и у быка шкура бы лопнула. Гришка вырывается. Раз! Раз!..
Валится кладка снопов, падает труба с грохотом, визжат бабы.
— Сторонись, кому жизнь дорога!
— Эй-эй, не суйся! Заденут лешие — не очнешься!
Какая уж тут работа. И жуть берет, и весело.
Во время такой потехи появился Евлампий Никитич, никто его не заметил — увлеклись. Евлампий постоял, посмотрел и не сразу-то окликнул:
— Эй, жеребцы породистые!
Опустили руки, отшатнулись, как два барана, уставились в землю. У Лехи под глазом набирал силу синяк.
— Озверели! Аники-воины! Встаньте-ка честь честью. Да не ко мне, не ко мне — друг к дружке… Быстро!.. Теперь — руки, ну! Чтоб мир… Ну, кому говорят?
И Леха первый протянул лапищу:
— Мир, что ли?..
Но Гришка, изрядно помятый, еще не остывший, сверкнул на Леху горячим глазом, отвернулся. Евлампий Лыков с ухмылкой заметил:
— Ишь, с характером. Не кисель, как Леха. Потому он тебе, парень, и не поддается, хотя, поди, силенкой-то уступает.
Леха держал на весу руку и пунцовел от стыда.
Евлампий Никитич прикрикнул на Гришку:
— Кому сказано? Быс-тра!
Но Гришка сердито повернулся, пошел прочь, покачивая угловатыми, просторными плечищами.
Председатель проследил за ним с прищурочкой, напомнил:
— Ой, Гришка, передо мной занозистость показывать опасно. Я не Леха, вязы скручу быстренько.
А Лехе кивнул:
— Зайдешь ко мне сегодня вечерком в кабинет.
На той же неделе Леха Шаблов был с почетом уволен из механиков при молотилке, срочно отправлен на курсы шоферов, а через несколько месяцев стал личным шофером Евлампия Никитича.
Лыков давно забросил пролетку, дома в гараже у него стояла новенькая «Победа», своя, личная, купленная на сбережения. На ней делались выезды только в торжественных случаях — в район, на широкие совещания. По полям Евлампий Никитич раскатывал на колхозном «газике», сам за рулем. Шофер Леха Шаблов сидел, как праздничный сноп, на хозяйском месте, не он возил председателя, председатель его.
Лехе платили выше других шоферов, своей машиной он обычно не занимался, рук мотором не пачкал, ремонт и профилактику делали за него «братья-водители», тот же Гришка Фролов. У Лехи одна забота — подать машину, отогнать машину, чтоб в любое время дня и ночи: «Эй, Леха», «Я тут, Евлампий Никитич!»
По селу гадали: почему председатель не взял к себе Гришку, тот уже был шофером, ему и курсы бы проходить не надо? И одно объяснение: «На норовистой лошадке трудней ездить. Помните, Гришка-то руку пожать не захотел, спиной к хозяину повернулся…»
Клим, старший из сыновей Лыкова, напился пьян.
Парню тогда стукнуло восемнадцать. В школе он никак не мог перелезть за седьмой класс, отец устроил его на курсы трактористов: «Сам не прыгает, так за уши высоко не подымешь». Но и тракторист из него получился ненадежный, машину на полную ответственность ему не доверили, «припрягали» к опытным парням. Те жаловались: «Какой, к лешему, помощник, на плуг посадить боязно, заснет да свалится». Кой-кто из старших объяснял даже на кулаках: «Иди жалуйся. Кто видел?» Клим жаловаться не жаловался, а примерней не становился.
Он напился пьян, шагал по селу — жердисто длинный, мутноглазыи, прыщеватый, — размахивал руками, заносило от плетня к плетню, орал во все горло:
— Вы все — так-перетак! — пятки моему бате лижете! Вы все на лапках перед ним! А я пли-ивал! Не боюся! Он с бл…… водится! Кобелина колхозный, общий! Я от него с детства в стыде! Пли-ивал! А я пить буду, позорить буду, потому совестью мучусь. Из-за него! Из-за кобеля!..
Всем было совестно, все качали головами, осуждали, но никто не хотел остановить, слушали и, поди, не без тайного интереса.
И тут вдруг завизжали тормоза председательского «газика». Евлампий Никитич, как всегда, сидел за рулем, он не тронулся с места. Выскочил Леха Шаблов, не спеша снял с себя ремень, согнул парня, как лозинку, зажал ему голову коленями, сорвал при народе штаны и, нахлестывая ремнем по тощей заднице, приговаривал громко:
— Не позорь отца! Не позорь! Не тебе судить! Не тебе, щенок! Отец твой — великий человек! Не позорь!
А великий человек, Евлампий Никитич, сидел в машине, пасмурно поглядывал из кабинки, терпеливо помалкивал. Ясно — Леха учит не от своего ума.
Поучил всенародно, сгреб в охапку, засунул в машину. Машина тронулась к председательскому дому.
Той весной, когда дядя Евлампий снял трактора с петраковских полей, Сергей в отчаянии метался по городу Вохрову из кабинета в кабинет, пытался доказать: «Знатный председатель разбойничает! Спасайте бригаду!» Районное начальство выслушивало сочувственно, обещало уклончиво: «Выясним». И наверное, пытались выяснить. После того как Сергей закрывал дверь, наверно, снимали телефонную трубку, звонили Евлампию Никитичу, журили по-отечески. Но Евлампий Лыков есть Евлампий Лыков, не тот масштаб, чтоб на него можно было без опаски давить.
И Сергей ходил по непросохшему, зеленеющему весеннему райцентру, носил в себе недоуменную ненависть к дяде.
Был же человеком. Был! Помнит, как дядя частенько набегал к ним в дом: «Богатеи-родственнички, одолжите картошки, у меня хоть шаром покати!» Он уже тогда работал председателем, хранил в амбарах колхозный хлеб, сам сидел на картошке, которую давал отец Сергея, «богатей-родственничек», еле-еле сводивший концы с концами.
Отец Сергея, братья Сергея гордились им. Всю жизнь гордился дядей и Сергей.
Был человеком! Когда же перестал им быть?
А от нагретой земля жидким стеклом изливался вверх воздух, и лужи на топких задворках вскипали от лягушечьих перебранок, и над просохшими крышами тихого городишки — звон птичьих голосов, и черными сполохами мелькали в глазах скворцы, и даже поезда со станции кричали бодрыми тенорами. Прекрасна бы жизнь, если б люди сами не портили ее друг другу.
В такой-то день он, оглушенный весной и своей недоуменной ненавистью к дяде, и встретил ее. На площади возле чайной, откуда обычно начинали свой трудный путь по непролазным весенним дорогам все грузовые машины и где кончали его. Площадь перед чайной — место отдохновения всех шоферов Вохровского района, их кратковременная нирвана.
— Сергей Николаич! — Знакомый голос вывел из забытья.
— Ксюша! Ты!
Он года полтора не видел ее — позапрошлой осенью помогала ему, только что ставшему бригадиром петраковцев, отбирать семена. Полтора года, но каких! Пережиты лепешки из травы, эпопея с вывозкой навоза, пережита шумная слава по всему району. А уж то время, когда за ним по пятам ходила девчонка в растоптанных сапогах, с мальчишескими исцарапанными коленками, кажется совсем далеким.
Сапоги, исцарапанные коленки… У тугих туфелек на земле — маленький чемоданчик с никелированными замками, пальто перекинуто через руку, вдумчиво уложенные на голове косы открывают просторный чистый лоб, лицо лишь отдаленно напоминает прежнее, скуластенькое, широкое, свежее сейчас, тянущее к себе, как открытая книга. И вся она занимает больше места над землей, больше настолько, что уже никак нельзя не заметить, мимо не пройдешь, оглянешься вслед. Он глядел и чувствовал, как вызревшая тяжесть заполняет ее от щиколоток над тугими туфельками до белой шеи, до мочек ушей. Эта напористая тяжесть, рвущаяся сквозь легкое платье, немного стесняет ее самою — движения чуточку связанные, и щеки опалены румянцем, и ускользающий взгляд, и глаза отливают призывной весенней зеленью. В ее глаза так же трудно смотреть, как на искрящиеся апрельские лужи, хочется зажмуриться…
…Ксюша Щеглова перед ним, в шуме голосов, в птичьем звоне, в ярком солнце. Дядя Евлампий, тракторы, непаханые поля, сев, срыв, объяснения, жалобы, сор житейский — все трын-трава, все так ли уж важно! Бьющее в глаза солнце, медный отлив Ксюшиных волос, птичьи голоса лавиной, глаза, в которые больно и страшно смотреть. Не пропусти! В стручок ссохся в Петраковской, от земли глаз не отрывал, забыл, что помимо Петраковской мир велик во все стороны.
Когда-то девчонка — нос шелушится, колени поцарапаны, две косы по тощей спине… Не знал, что человек может так вспыхивать. Зажмурься!
И был случайный, неловкий разговор.
— Да, уезжаю… Нет, ненадолго… Узнать о поступлении в институт. На заочное хочу в этом году… На очное? Нет, мама болеет, и работу тогда бросай, а не хотелось бы… Вы меня к этой работе приворожили. Совсем забыли, не заглядываете… А мне как вас забыть, когда вашим делом живу. Каждый день вспоминаю… Ой, ой! Еще на поезд опоздаю!..
Все трын-трава! Но только на минуту, только на то время, пока видел Ксюшу.
Петраковская бригада завалила сев — дядя виноват? Нет, бригадир. Снять…
Совсем не сняли — хуже, отодвинули в сторону. Если б сняли совсем, то Сергей Лыков, бывший студент Тимирязевской академии, носивший в кармане паспорт со следами московской прописки, мог, махнув рукой, отбыть на сторону: «Прощай, Евлампий Никитич, дорогой дядюшка, не тужи обо мне!» В районе его с охотой бы посадили председателем какого-нибудь отстающего колхоза — вдруг да снова сотворит чудо. Снять совсем Евлампий Никитич не снял. Для петраковской бригады была выкроена новая должность — помощник бригадира. Не учетчик, как бывает, а что-то вроде маленького зама, меньших замов, наверно, уже не встретишь по стране. Заместитель бригадира Сергей Лыков — смех и грех.
В Петраковской появился новый бригадир — Терентий Шаблов, дальний родственник Лехи-шофера. И не Леха помог подняться ему. Терентий задолго до Лехи выбился в люди, прочно числился в лыковской номенклатуре.
Полный, с коротко стриженной седеющей головой, бабьи-мягким лицом, он смахивал на сивого от возраста, безобидного увальня хомячка. Никто не слышал, чтоб на собраниях, просто ли в беседах он подбросил толковый совет. Никогда он не был напорист, не умел даже красно выступать, что обычно и помогает выдвигаться. Человек тишайший и добродушнейший, он не перечил даже жене, был честен, как-то безнадежно честен, никому в голову не могло прийти, что Терентий Шаблов способен чем-либо покорыстоваться. Евлампий Лыков таких похваливал: «Полезные люди, вроде электропробки. Ставь их на всякий случай, чтоб оказии не вышло».
Терентия ставили руководить механизированным током, когда этот ток был уже полностью налажен, не нужно ничего перестраивать и доводить. Его бросали следить за закладкой силоса, когда не предвиделось спешки. Он наблюдал за доставкой строительных материалов, когда дороги были в хорошем состоянии, а транспорт в достатке, тут уж каждый гвоздь попадал на склад.
У Терентия Шаблова не широкий, но крепко усвоенный опыт: следи в оба глаза и при первом намеке на оказию — сигналь. А уж ежели оказии не миновать, то с примерной стойкостью сноси «кудрявую стружку», не оправдывайся, признавай: «Виноват. Исправимся».
Новый бригадир и вообще-то за всю свою посильно руководящую жизнь так и не научился разговаривать на начальственных басах, а уж к Сергею был просто почтителен.
Выпить он, однако, любил не меньше других, а потому охотно составлял компанию Сергею, тут он совсем размякал, убеждал со слезой:
— Я тебе, голубь, не помеха, а выручка. Меня все одно рано или поздно в другое место перебросят. Ты здесь останешься. Я ведь что, я везде человек временный. Так что давай-ко — тянем-потянем да вытянем бригаду.
— Не вытянем.
— Что так, дружочек?
— Тянулку мой дядя отрезал.
— Это какую такую?
— Надежда называется. Она здесь прежде у каждого человека была. Нынче нам, брат, зацепиться не за что.
На лицах петраковских баб снова застыло знакомое выражение: «А, чихать на все». К этому «чихать» примешивались еще жалость, не к себе, к бывшему бригадиру: «Эх, родимый, видать, стенку-то лбом не прошибешь». Но дешева бабья жалость, не лечит.
Сергей словно проснулся, с ужасом увидел — живет в чужой деревне, в чужой избе, у чужой старухи под портретом Веньки Ярцева, который никогда не был его другом. Он не может вернуться в село Пожары, в отцовский дом, там братья, дядины друзья, все село под Евлампием Никитичем. И от Москвы, от Тимирязевки, уже оторвался, там кто-то другой учится вместо него, а Светлана, наверно, защитила диссертацию, наверно, вышла замуж. Не может вернуться и в армию. Обложен со всех сторон, как волк, вокруг ни родни, ни друзей — пустыня, только обидная бабья жалость, только Терентий Шаблов, лезущий в друзья. «Я везде человек временный», а уж друг-то и вовсе минутный, только на то время, пока не кончится поллитровка на столе.
И это открылось вдруг, без перехода, как внезапная слепота.
Жил под портретом Веньки Ярцева. И бывший враг теперь был ему всех ближе. Он хоть связан с детством, хоть заставляет чувствовать — у тебя есть прошлое. Есть прошлое, будущего никакого.
И тут-то — Ксюша Щеглова. Если б он был в прежней силе, в прежнем почете, с прежней верой в себя, то, наверное, все равно бы не прошел мимо, все равно стояла бы перед глазами — от щиколоток до плеч, налитая вызревшей весенней тяжестью, чистый лоб, глаза в зелень, лицо широкое, открытое, зовущее. Не только же для петраковских баб жить! — пошел бы к ней, быть может, еще скорей, чем сейчас, потому что верил — не откачнется, не скажет «нет».
Сейчас весь свет клином сошелся — единственная, даже жутко от мысли, что отвернется.
Он узнал — Ксюша вернулась из города. Утром снял бритвой трехдневную щетину, надел чистую сорочку, постеснялся влезть в свой праздничный «московский» костюм. Может подумать — ишь, женихаться пришел со всем старанием, того гляди, в цене упадешь. Костюм не надел, а сапоги начистил — глядеться можно, старую бригадирскую кепку-блин заменил новенькой фуражкой. Оглядел себя в тусклое настенное зеркальце, в которое, наверное, смотрелась бабка Груня, когда была несватанной девкой: брови белые, ресницы рыжие, глаза глубоко всажены под лоб, сам лоб шишковат. Фу-ты, черт, как на дядю Евлампия похож! Гнусная, однако, рожа, но что-что, а это и рад бы, да не сменишь.
Опытный участок, бывшая столярка. Салатная окраска по обшивке потемнела, вывеска выцвела, в палисадничке под низенькими оконцами бесхитростные цветочки и кустики смородины. Дом с низеньким крылечком и облупившимися белыми наличниками обрел обжитую уютность. И Сергей неожиданно почувствовал, что этот приземистый домишко, который он не любил прежде, держал его под замком, сейчас родственно дорог ему. И нет, не только потому, что там Ксюша. А потому, что он чувствует — мог бы связать жизнь с этим домом. Искал бы сортовые семена, испытывал их, втайне, наверное, мечтал о невозможном, о чудесной пшенице с колосом, как кистень… Ну а в Петраковской, разве там нельзя жить? Выгонял бы урожаи, завалил бы всех хлебом, отстроился бы, всю рухлядь снес, вместо старых изб поставил бы коттеджи, с водопроводом, с ванными, с электричеством! Тут ли, в Петраковской ли, где бы ни было, лишь бы под ногами — земля, а она-то всюду будет! Дядя Евлампий родные места сделал чужбиной, так почему чужбину не сделать родиной?..
Эту-то мысль он и нес сейчас Ксюше.
Внутри все как было: письменный стол с казенным пластмассовым прибором, диванчик для посетителей. Наверно, он, Сергей, и оказался первым посетителем, почтившим служебный диванчик. Ксюша рядышком, стеснительно на краю, сложила горсткой руки на коленях, опустила плечи, нагнула голову, увитую косами. Лицо ее Сергею плохо видно, зато видна крепкая шея с тупой косточкой у самого ворота легкого платья. На литой шее под прорвавшимся в оконце солнцем — пламя выбившихся из прически волос, и маленькое розовое ухо напряженно слушает.
— Ксюша, будем жить как люди. А так как скорей всего попадем туда, где люди пока не красно живут, то не обещаю — будешь ли ты поначалу ходить в шелках. Потом — может быть, потом, когда мы… мы с тобой людей в шелка оденем. Я школу в Петраковской прошел, знаю, с чего начинать. В Тимирязевке мне этого сказать не могли, не знали. Знаю! Но здесь больше дядюшки Евлампия знать не положено. Что сверх, то душит. Мне надо отсюда отчаливать немедля. Без тебя не могу. Это я совсем недавно понял. Ксюша, согласна со мной подняться?..
Ксюшино ухо розовело от напряжения, ждало — не скажет ли Сергей еще что. Сергей клонился вперед, старался заглянуть в ее лицо, опущенное к коленям.
— Ну, Ксюша?..
Она прерывисто вздохнула и разогнулась, Ее лицо пылало сухим румянцем.
— Сергей Николаич, что мне скрывать. С первого году, когда еще мы по полям лазали, только и мыслей… Все годы — он, только он в голове. А он-то и бровью не ведет. Что ему девчонка сопливая… И знаю, письма писал к той, к московской… Нет, нет, не в упрек сейчас. Спасибо, что наконец-то заметили. А вправду сказать, не надеялась. Шалые мысли бродили — не бухнуть ли замуж, все равно не дождусь.
— Ксюша… — благодарно дрогнувшим голосом сказал он. — И вспоминать незачем, теперь все…
— Нет, не все, Сергей Николаич.
— Да не величай ты меня, право!
— Не все, Сережа. Ты ехать меня зовешь…
— Здесь нет мне жизни и тебе не будет, если со мной свяжешься.
— Ехать?.. Ты вот говорил, что один как перст. Про себя я так не скажу, У меня мать… Мать-то прихварывает. Если я ее брошу, одна надорвется… Скажешь, возьмем? Из своего дома, из своего села, из богатого колхоза в чужие люди и наверняка на бесхлебье. Хорошо ли ты первое время кормил себя одного в Петраковской? Один-то что, а если всех — надорвешься, где уж мечтать — в шелка…
— Ксюша, остаться не могу, дядя теперь ложка по ложке меня съест.
— И еще послушай, — с пылающим лицом продолжала Ксюша, — мне, как бабе, на стороне-то трудней придется, буду я мотаться между печью и колхозным полем. И ради тебя готова, Сережа, но только жалко крест ставить на том, что вымечтала. А мечтаю не о малом — институт кончить…
— Вместе будем учиться.
— Там? С семьей? Нет, Сережа, ты это так… Под угаром ты сейчас, угар-то там скоро пройдет. Мы с тобой только здесь сможем учиться. Только здесь. Опытный участок, работа свободная, сама работа возле науки лежит. Вспомни, много лет ты учился, когда бригадиром петраковцев стал? Хоть одну книгу успел открыть? А на стороне, кем ты будешь? Тем же бригадиром или еще того занятей — председателем. В плохом колхозе, Сережа, в плохом, в хороший да налаженный тебя не пошлют, да ты в налаженном-то и не уживешься, тебе самому хочется налаживать. Какая учеба… Где уж.
— Но как быть нам, Ксюша?
— А вот как! — живо откликнулась Ксюша, верно, давно ждала этот вопрос — Не уезжать! Забыть Петраковскую, вернуться сюда, вот под эту крышу.
— На опытный участок?
— Да, на опытный. И напрасно ты связался с петраковцами.
— Напрасно не напрасно — спорить не станем, у меня на этот счет свои взгляды. Сюда вернуться, а дядю Евлампия куда мы денем?..
— Тебе надо перед дядей повиниться.
— Что-о?
— А разве так уж обидно? Он все же старший. А уж ежели ты, Сережа, с повинной к нему придешь, то Евлампий Никитич только доволен будет.
— Еще бы.
— Он с легкой душой тебя простит, с охотой на прежнее место поставит, рядом со мной. Жить вместе, работать вместе, может, учиться вместе будем. Сереженька, да это ль не счастье! А на сторону… Да просто невозможно никак. Никуда мать моя не тронется. А я свою мать не брошу.
— За что мне виниться перед Евлампием? — спросил Сергей. — За что, интересно?
— За то, чтоб быть вместе. Не мало.
— Я перед ним или он передо мной виноват?
— Пусть он, но все-таки старший…
— Если б только передо мной, он же виноват перед петраковскими детишками, которых опять без молока оставил! Мне и свою обиду простить ему трудно, но последним подлецом буду, если обиженных детишек прощу! Нет, Ксюша, не могу!
— Понимаю, Сережа. Но что толку в моей понятливости. Уехать-то не могу.
— Что ты просишь от меня, одумайся!
— Не больше твоего прошу, Сережа. Сам-то от меня просишь, оглянись: мать старую брось без призора, без помощи! Могу ли? Нет!
Сергей возвратился в Петраковскую. Нужен? Да нет, не настолько, чтоб без него не могла жить. И в Петраковской он теперь тоже не нужен, кроме, быть может, старой Груни. Той после одинокой жизни как не дорожить, что живая душа рядом, за сына считает. Забытая людьми старуха и ненужный людям Сергей Лыков — два сапога пара.
А есть еще минутный друг Терентий Шаблов, минутный и единственный, всегда готовый распить бутылочку. Он очень покладист, во всем поддакивает, молчит с неловкостью лишь тогда, когда Сергей ругает Евлампия Никитича.
Чаще и чаще появлялась на столе водка.
Трезвый понимал: с ее «не могу» нельзя не считаться, какое он имеет право требовать — брось мать! Да и сам задумайся, на какую жизнь зовешь ее? Мечтает об институте, а если она вместе с тобой нырнет в новую Петраковскую, — какой институт? Она права.
Трезвый понимал — выхода нет, а потому пил. Выпив же, начинал верить в невозможное и тогда нетвердыми шагами шел четыре километра от Петраковской до села Пожары. И бубнил безнадежный вопрос: «Что делать, Ксюша?» И бунтовал, когда Ксюша повторяла: иди к Евлампию Никитичу с повинной.
В первое время она его мягко совестила:
— Ты сам себя топишь, не Евлампий Никитич. На водку бросился, последнее дело.
В первое время она провожала его за село, до дороги, ведущей к Петраковской.
Провожала, а хотелось, чтоб оставила у себя.
— Таким мне тебя близко не надо.
Проводы подвыпившего ухажера через все село для девки, свято берегущей честь, — пытка. Глаза встречных баб ощупывают, ухмылочки на лицах не скрываются, а уж что за спиной отпускают — лучше не думать.
Ксюша заявила:
— Сережа, не ходи. Не хочу!
Трезвым он давал себе слово не ходить.
Терентий Шаблов всегда под рукой. Терентий Шаблов без задней мысли, от души, как мог, жалел Сергея, совестился тем, что поставлен над ним, замаливал вину, а замолить мог одним — задушевно вынуть из кармана бутылочку.
— Пей!
И после этого нетвердые ноги снова несли Сергея в Пожары.
Ксюша стала прятаться от него.
Однажды утром к Сергею пришла нежданная гостья. Представить нельзя, зачем ее принесло — секретарша Евлампия Алька Студенкина.
Бабка Груня сердито двинула ухватами, делала вид, что не замечает гостьи — такая только к беде прилетит…
У Альки лицо белое, пухлое, пшеничная складочка под подбородком, губы сально накрашены и брови выбриты в ниточку.
— Бабушка, — сказала Алька. — Выйди на минутку, мне с Сергеем Николаевичем поговорить надо.
— Это как так выйди? Я здеся хозяйка, тебе могу указать на порог.
— Выйди, Груня, — попросил Сергей.
Старуха с ворчанием забрала ведра.
— Ну?
— Извиненья просим, что рано. Но поздней надежды нет — застану ли трезвым.
— Ежели пришла, чтобы глаза колоть, то вмиг пробкой вылетишь.
— Зачем колоть, просто ты мне трезвый нужен, чтоб выслушал.
— О чем? Выкладывай.
— О Ксюше.
— Не хватай ее. Испачкаешь!
— Ну, только не я. Для этого другие найдутся.
— Ангел-хранитель.
— Ксюшка мне родня, потому и хотелось бы охранить.
— От меня, конечно?..
— Да нет, не от тебя… — Крашеные губы поджались, нитчатые брови сошлись на переносице.
Где-то глубоко-глубоко шевельнулось у Сергея подозрение.
— Ну!..
— Иль не ясно — от кого? Прислоняется… До других мне дела нет. На других я, может, сама наводила. С ней — не хочу!
Сухо стало во рту, осип сразу голос:
— Сволочи вы! Гнездо сволочей!
— Руганью делу не поможешь.
— Убить мне его, что ли?
— Еще не легче. С тебя, дурака, станется. Паспорт-то в кармане! Действуй, кисель. Махни в соседний район, где о тебе тоже наслышаны. Дадут место не шаткое, заманивай оттуда Ксюшку. Побежит, знаю ее. Мать пусть здесь останется, как смогу, я помогу ей поначалу. И шевелись, поздно будет.
Алька поднялась, одернула юбку, глянула свысока, бросила на прощание:
— Поди, сам догадываешься — каркать о том, что я была здесь, не стоит. Евлампию Никитичу съесть меня, что куре просинку.
Он в детстве часто лежал на этом месте. Пологий пригорочек раньше всех протаивал от снега, раньше всех просыхал, тут всегда было можно всласть погреться на весеннем солнышке. Тут кусты шиповника цвели бледными, словно вымоченными розами. Кусты такие, как прежде, как прежде, они, наверно, цветут по весне. Теперь цвет давно опал.
Сергей лежал и глядел на дорогу, вспоминал детство, далеко и неправдоподобно счастливое время, когда на свете жили иные люди, даже дядя Евлампий был иным. И тогда еще на свете не было Ксюши…
Сергей лежал, не спускал глаз с дороги, ждал… Он уже долго здесь, с самого полудня, а солнце сейчас клонится к лесу.
Наконец по дороге пропылил председательский «газик».
Сергей вскочил.
Домик с вывеской, с пожухшими стенами. Старая береза над шиферной крышей. За низеньким штакетником цветочки. Закрыв крылечко, стоит «газик». Он там! Алька не соврала.
С земли навстречу поднялся Леха Шаблов, вытянул толстую шею, приглядывается свысока, разминает плечи.
— Куд-ды?
Крепкие, заскорузлые, тронутые пылью тяжелые сапоги, широкое, как перина, тело, рожа розовая, сонная, белесые поросячьи ресницы прикрывают глаза, руки покойно свисают, мослы перевиты набухшими венами.
— Пусти!
— Проваливай. — Сквозь зубы, взгляд величавый и дремотный из-под щетинистых ресниц.
— С дороги, сволочь! — плечом вперед на Леху.
И тот наконец-то усмехнулся:
— Столкнуть думаешь?
Сергей хотел рывком проскочить, но железная лапа сгребла за шиворот. Путаясь ногами по ускользающей земле, пробежал и всем телом грохнулся на прибитую, черствую дорогу, но вскочил сразу же с кошачьей легкостью. Крупная Лехина физиономия, словно сквозь зеленую воду, — расплывчато, цветным пятном.
— Катись по добру!
И Сергей снова рванулся вперед.
Как брошенное полено, обдав ветром, кулак прошел мимо уха. Над собой увидел туго изогнутые салазки нависшей челюсти. Упруго распрямился под ней, вкладывая в удар силу ног, поясницы, плеча, ненависть всего тела. Но Леха даже не качнулся!
— Ах так, падло!
И словно ствол березы обрушился сверху, погасло солнце, не почувствовал, как встретила земля. Но только на секунду беспамятство, очнулся уже на ногах. Дальний лес за Лехой то падал, то вздымался, а над ним солнце выделывало веселые петли в небе.
Он видел, как Леха отводил плечо, видел нацеленный тупой кулак, но увернуться, спастись был уже не способен.
Последнее, что ощутил, — живой вкус соли во рту.
Высокое-высокое небо с потеками усталого лилового света, и в нем одна-единственная, бледная, словно вымоченная звезда. Она не мигает, а тихо дышит, разглядывает землю и лежащего на ней Сергея.
Знакомый, с сипотцой голос негромко сказал:
— Жив, чего там, очухался.
Череп казался мягким, как раздутый мех, и тупо пульсировал: ух-ух! ух-ух! — шла в голову натужная накачка. Но Сергей все-таки заставил себя повернуть ее. В трех шагах знакомые сапоги, заскорузлые, громадные, спесиво довольные собой. Из них вверх растет человек, кепка где-то в поднебесье, — Леха. Лицо медное, не человечье — падает кирпичный отсвет заката.
Где-то у Лехиной подмышки лепной лоб дяди Евлампия, тот нетерпеливо подергивает ляжкой. Их взгляды встретились, дядя перестал дергать ногой, нахмурился.
— До чего ты дожил, — сказал с проникновенным презрением. — Оглянись, вот она, водочка, — по канавам валяешься, рожа побита. Срам!
Напряженно выставив колено, подождал — не возразит ли Сергей, но тот молчал, и тогда снова начал дергать обтянутой парусиновыми брюками ляжкой.
— Срам!.. Конюха пошлю с подводой, свалит в Петраковской, сам не доберешься… Пошли, Леха.
Они зашевелились, качнувшись, исчезли из обзора.
Со стороны донеслось:
— Сбился с кругу…
Издалека Леха авторитетно подтвердил:
— Буен во хмелю.
А в голосе усмешечка.
Взвыл стартер, зарычал мотор. Через минуту тихо. Уехали.
Высоко-высоко дышала в одиночестве бледная звезда. Под ней покойно.
Но надо встать, нельзя дожидаться обещанной председателем подводы. Кто-то из конюхов с ухмылочкой взвалит его на телегу, а потом будет рассказывать — в канаве подобрал, красив…
В глазах кружилось, позывало на тошноту, под черепом словно работал паровой молот. Все-таки сумел утвердиться на ослабевших ногах, передохнул, двинулся к колонке за палисадничком. Лицо от воды сильно засаднило, но стало легче.
Окна под шиферной крышей поблескивали жирным нефтянистым отливом. Знакомый домик, выкрашенный в линяло-салатный цвет, выглядел сейчас одичало покинутым.
А Ксюша?.. Не могла же она пройти мимо и не увидеть его. Неужели поверила, что он пьян?.. И вправду, до чего ты дожил, Серега. Мертвым найдут — никто не удивится. Может, Ксюша в машине сидела, Евлампий в угоду ей распекал его — одна шайка-лейка. Ксюша… Бог с ней, все кончено.
Ощупывая нетвердыми ногами дорогу, он двинулся в путь. Четыре километра с гаком — по его теперешнему состоянию путь не близкий.
Каждый день между десятью и одиннадцатью утра Евлампий Лыков — поднявшийся в пять, успевший уже погонять по полям — принимал у себя в кабинете Ивана Слегова. Между десятью и одиннадцатью — время бухгалтера, все это знали, никто не смел на него посягать.
Машина у крыльца, в приемной возле секретарши Альки наготове Леха Шаблов. Бухгалтер выползает из кабинета, а Евлампий Никитич снова сядет за руль «газика», опять в поля, опять на фермы — крутись колесо председательской жизни.
Алька, быть может, сама не пустила бы Сергея — не положено. Она оторопела: в военной форме, туго перепоясанный, грудь увешана орденами и медалями, а лицо страшное, желтое, ссохшееся, с раздутыми безобразными губами, ссадина на лбу и обжигающий блеск глаз. И все-таки Алька задержала бы, если б не Леха. Он тоже опешил, но выдавил:
— Туда нельзя!
И тут-то Алька Студенкина, законная хозяйка лыковского порога, норовисто вскинулась:
— Ты чего распоряжаешься тут? Чего командуешь?!
А Сергей уже рванул дверь, шагнул в кабинет.
Будничная картина, входящая в расписание колхозной жизни. Евлампий Никитич навалился грудью на зеленый стол, слушает, навесив лобастую голову. Бухгалтер Слегов рядом на приставленном стуле, на пухлых плечах горделивый поворот седой головы, не подумаешь, что калека, костыли рядом кажутся лишними. Лыкова от бухгалтера отделяет чугунный младенец, поднял вверх палец, словно вещает: внимание, внимание! В великом колхозе решаются сейчас великие дела.
Только на мгновение эта мирная картинка. Евлампий Лыков увидел обвешанную орденами грудь племянника, встретился глазами, и челюсть отвалилась. Бухгалтер Слегов, оборвав себя на полуслове, шумно развернулся своим громоздким корпусом.
А Сергей, постукивая каблуками по паркету, двинулся вдоль красного стола, не спуская сухо поблескивающих глаз с Евлампия Никитича. И тот завороженно глядел на него.
— Встать! — приказал ему Сергей.
В глазах Евлампия Никитича мельтешилась суетливая искорка, лицо каменно.
— Ком-му сказано? Встать!
— Ты с ума сошел! — прохрипел Лыков, поднимаясь за столом.
Встревоженно зазвенели на груди Сергея медали.
— В-вот!!
Через стол, качнувшись вперед всем телом, Сергей влепил пощечину. Вытер руку, сказал:
— Ничем другим… Помни.
Последнее наставление Евлампий Никитич вряд ли слышал, потому, что, сбив в сторону кресло, сидел на полу за столом. Строго и укоризненно взирал на Сергея вождь с портрета.
Не оглянувшись на застывшего бухгалтера, врезая каблуки в паркет, Сергей прошел к двери.
Двери были двойные, обшитые клеенкой, специального устройства, чтоб внешний мир не мешал тому, что творится в глубине кабинета. Леха встретил Сергея подозрительно округлившимися глазами, но не пошевелился.
Он нагнал его на полдороге к Петраковской.
«Газик» промчался мимо, разрывая пыль, прошел юзом, застопорил. Дверка откинулась, кепкой вперед вылез Леха.
Он сделал несколько шагов навстречу, встал, широко расставив ноги. На лице деревянное выражение, глаза тяжелые, нижняя губа отвисла, плечи разведены, бугристую грудь обтягивает рубаха — вот-вот посыплются пуговицы, — руки чуть согнуты в локтях.
— Ну! — произнес он.
Сергей не спеша нагнулся, запустил пальцы за голенище, выудил нож, длинный, широкий, сточенный кусок полотна пилы-лучковки, вместо ручки обмотка изоляционной ленты. Сергей приладил его поудобней в ладони, ответил в тон:
— Ну.
Деревянное лицо пообмякло, в глазах пропала тяжесть, они забегали.
— Брось нож, стерва!
Сергей скривил в улыбке разбитые губы:
— И подставь, баран, голову.
Леха переминался, давя сапогами пыль, бегающие глаза снова и снова возвращались к руке, сжимающей нож.
— Срок получить захотел?..
— Видишь? — Сергей тряхнул медалями и орденами. — Это не за покладистый характер получил. Учти, полено, я фронтовик… Но не убийца, первый нож не подыму, а задевать не советую…
И двинулся на Леху, глаза в глаза. Леха не выдержал, шарахнулся в сторону.
— Сду-у-рел!
— Вот так-то!..
Дома он бросил на шесток нож — старая Груня щепала им лучину…
Чемодан сложен. Терентия Шаблова решил протащить по полям, в последний раз давал советы: там постарайся посеять клевер, там лён, то поле на будущий год пусти под картошку — кустарник становится первым врагом, найди время, подыми на него бригаду; если сможешь, конечно, теперь не жди от петраковцев особого усердия.
Терентий ходил молчаливой тенью, пасмурный, обрюзгший.
Уже вечерело, когда Сергей переступил порог своего петраковского дома. У Груни — гостья. Сначала подумал, что так, божья старушка, какие часто налетают со стороны к богомольной хозяйке. Ан нет, молода, платок-то на плечах старушечий, а ноги крепкие, девичьи, в туфельках. И вдруг прошибло от пят до затылка — она!
Груня скинула фартук, направилась к двери:
— Господи! Господи! Святы твои слова праведны: «Не суди и не судимы будети»… К Валенке Степашихе пойду на час.
Из-под накинутого серого платка — лицо с лепными скулами, со сбежавшим румянцем, обжигающие глаза. Разлепила спекшиеся губы:
— Прощенья не прошу. Не за что!.. — С сипотцой, с вызовом.
Он молчал, стоял у порога, держал в руке кепку, которую не успел повесить на гвоздь.
Она закусила губу, сморщилась и затряслась, затряслась:
— Се-ережа-а! Уво-ози-и! Свихнусь я здесь, коль оставишь!
Платок упал на плечи, волосы растрепаны, лицо перекошено, глаза блестят из глубоких ямин — некрасива. Вот, оказывается, когда нужен.
И шагнул к ней, притянул ее голову. Она прижалась, сотрясаясь всем телом, всхлипывая, как ребенок.
Чувствовал незнакомую теплоту, идущую от нее, слышал запах ее волос, почему-то смолистый. Неуклюже гладил волосы, замирал от новизны ощущений — впервые касался…
Она всхлипывала:
— Как выскочила от них. Гляжу — ты лежишь. Как закричу…
Вернулась Груня, поставила самовар. Сидели под лампой, пили чай, разговаривали уже деловито. В загсе расписаться — больше недели уйдет, и с партучета. Сергея снимут не сразу. Ехать в соседний район?.. Нет уж, ехать так ехать, подальше от постылого места. Под Ленинградом у Сергея служил брат-майор, он хоть тоже в дружбе с дядей Евлампием, но приютить на неделю-другую не откажется. Оттуда и начнем танцевать.
Груня вздыхала:
— Эх-хе-хе! Опять одна. И зачем мне бог смерти не шлет…
— Мы к тебе наезжать будем каждый отпуск, письма писать будем. Мой родной дом теперь здесь. Ты для меня вроде мать вторая.
— Пишите, родненькие, оно веселей, как знаешь, что кто-то о тебе на свете помнит.
Ксюша не осталась на ночь:
— Мать изведется. Я ей все сказать должна. Теперь и она поймет. Развязался узелок, а не думала, что развяжется.
На крыльце она сама обняла Сергея и поцеловала. Смолисто-еловый запах волос…
Сергей лежал и глядел в темный потолок. Не спала и Груня, возилась за переборкой, постукивала, покряхтывала, наконец задула лампу, но щель между дверью и переборкой виднелась, — значит, старуха зажгла лампадку под иконой.
Шелестящий шепот потек по ночной избе:
— Господи праведный! Один ты всю правду видишь. Не судила тебя, господи, и не сужу, что сына отнял. Не у меня одной, чем я чище других. Таких, как я, старых, видать, много тебе надоедает… Господи! О себе не прошу. Других, господи, береги. Им ведь жить да жить. А Серега, господи, парень редкий, не бросайся им зря-то. Что пить было начал, так это он зря, конешно. Кто не слаб из людей, господи. А во всем остальном, скажу тебе, чист. Сам, чай, знаешь, как он для петраковцев вывернулся. Ты, господи, ему добро, он тебе тем же отплатит. Он может, не сумлевайся. И Ксюша мне подходящей показалась. Хорошо сделал, что ее толкнул…
Ловил Сергей шелестящий старушечий шепоток и чувствовал — сжимается горло. Сук-кин ты сын! Знал, что бабка Груня к тебе всей душой, знал, но считал — дешева, мол, старушечья любовь. А что дороже? Ничего не потребует, а отдаст все. Не каждому-то вторая мать встречается. Сжималось горло, влажнели веки.
В пропахшей щами ночи, тайком от всех, старая Груня шепотком учила бога, как лучше распорядиться людской жизнью.
Вечером обо всем договорились, а утром явился участковый Ступнин, в ремнях, при пистолете, с портфелем, с красным от избытка крови лицом и бодрый, как всегда.
— Дома застал. Тэ-эк!
Сел за стол, не снимая милицейской фуражки, положил перед собой портфель, потребовал:
— Паспорт сюда!
— Это зачем?
— Значит, надо. Я у любого гражданина в любое время любой документ, удостоверяющий личность, потребовать могу, И отказать не смей!
Сергей достал паспорт. Ступнип покрутил его перед собой, признался:
— Кто его знает, зачем он… Из районного отделения потребовали. Ты уж сам с ними объясняйся.
— Евлампий новую петлю плетет.
— Мое дело сторона. Прикажут арестовать — арестую, прикажут расцеловать — расцелую. Служба!
Ступнин сунул паспорт в портфель и ушел.
В районном отделении милиции отказались вернуть паспорт: «Распоясался, руки распускаешь, еще выкинешь новое коленце да сбежишь. Вроде и не велик преступник, чтоб розыск по всей стране устраивать, но упускать из виду тебя не след. Нам проще — документы попридержать. Живи да помни себя».
Это значило — ты теперь принадлежишь Евлампию Лыкову с потрохами, уехать без его на то воли и не мечтай.
Даже тетка Груня советовала:
— Сходил бы поклонился, голова-то не отвалится.
Но хоть и посылала Груня кланяться Сергея, чтоб отпустил Евлампий Никитич, но своей радости не скрывала, когда Ксюша переехала в Петраковскую:
— Вспомнил обо мне господь, милость за милостью посылает на старости лет. Горемыкой жила, как перст одна, могла ли гадать — на-тка, семья под боком, глядишь, скоро внука качать буду.
Наняли старика переложить печь, Ксюша и Груня выворотили грязь из нежилой половины, Сергей расшил заколоченные окна. И одна изба прозрела в Петраковской.
В Петраковской прозрела, а в Пожарах ослепла. Приемный сын остаревшего Михаилы Чередника, ушедшего с бригадирства, Мишка-матросик, отслужив свое во флоте, забрал мать с отчимом, забил окна досками. А дом-то стоял в самом центре лыковской столицы, напротив конторы. До сих пор село Пожары глядело на белый свет только полными окнами.
В горнице старой Груни, рядом с фотографией Веньки — сына, появилась фотография Сергея и Ксюши, голова к голове, как и положено молодоженам.
Доволен был и Терентий Шаблов, шутка ли — Сергей остается в помощниках, да за таким помощником как за каменной стеной — в метель не продует. Он чуть не каждый вечер заглядывал в гости, охотно ругал своего родственника Леху, поеживался и помалкивал, когда отзывались нелестно о Евлампии Никитиче, пил чаек. Водкой Сергей перестал угощать.
Все вроде устроено. Ну, положим, далеко не все. Раз стал хозяином, то знай — ты дойная коровушка, свое гнездо тебя сосет, сыто не бывает. Надо бы и крышу перекрыть, и старые, еще довоенные, газеты по стенам обоями заклеить, пол перебрать не худо бы… Но это потом, а жить вполне уже можно.
Раз можно, то надо жить, и всерьез, не по птичьи — день прошел, да и ладно. Человек делом живет, по делам ценится.
Зрели на полях хлеба. Сергей и Ксюша не могли о них не заговорить, не вспомнить старое, как ходили по полям, как допрашивали с пристрастием: «А кто вы, Иваны, не помнящие родства? Кто ваши родители?» Дело-то оборвано, а зря, стоит продолжить.
Что им мешает снова взяться за отбор семян? Так и не выяснили до конца, какие сорта ржи самые урожайные по их местам. Евлампий Никитич мандат не выдаст на опытную работу… Евлампии Никитич замок повесил на дверь опытной станции. А нужен ли мандат и нужна ли сама станция с кабинетным столом, с канцелярским чернильным прибором, с полумягким диванчиком для посетителей? Есть время, есть уже кой-какие знания, найдутся книги, можно найти и консультантов. Есть и земля под боком, только пожелай — вся петраковская бригада станет опытным полем.
Одним ранним августовским утром, когда вся деревня Петраковская спала, ни одна труба над просевшими крышами еще не дымила, Сергей и Ксюша вышли из дому. У Сергея старая кепчонка натянута на глаза, пиджачишко с латаными локтями, резиновые сапоги, самодельные гербарные папки под мышкой. Непослушные волосы Ксюши туго стянуты выгоревшей косыночкой, лицо широкое, свежее, не остывшее от нагретой подушки, жарком прихвачены щеки, и глаза возбужденно прыгают по сторонам.
Спит деревня Петраковская, в седых предрассветных сумерках величаво вздымаются нескладные избы, темные, обветшавшие, но все еще могучие — бревенчатые мужицкие крепости, покорно отживающие свой век. А над ними в пепельном небе блеклое лезвие отточенного месяца. Деревня Петраковская — новая родина, общая для них обоих.
Они собрались на первую вылазку, нет, не на ближние поля, даже не на поля своей бригады — на засеянный рожью клин за Ветошкиным оврагом. А это исконно пожарская земля, сердцевина лыковской державы.
Евлампий Лыков считает: земля не смей рожать и хлеб не зрей без его указа — полный хозяин. Э-э нет, Евлампий Никитич, как ни державен ты, но придется признать — мы не меньшие хозяева, мы тобой обиженные, тобой униженные, тобой запертые в сирой Петраковской. Попробуй-ка запрети нам брать то, что дает земля, а брать будем не что-нибудь — самое ценное, оброненные в землю знания. Даже то, что ты сам обронил, — подымем и присвоим, попробуй-ка сказать — не смей! Не выгорит. Кто кого еще сильней, Евлампий Никитич? Кто — кого?..
Они шли лугом, скошенным, но уже вновь затянутым мягкой зеленью. Шли и озабоченно рассуждали о ржи: культура не в таком почете у селекционеров, как пшеница, но старое-то присловье справедливо — «ржаной хлебушко всем хлебам дедушко». Говорили о ржи и не вспоминали Евлампия Никитича.
Два темных росяных следа тянулись за ними по траве. Следы от околицы Петраковской в глубь лыковских владений.
Смерть
Евлампий Лыков лежит за стеной, пробил его час, не встанет, не наведет порядок, какой ему нужно. Он уходит, а жизнь, заквашенная им, продолжается.
Кричит с посиневшим лицом Ольга:
— Сво-од-ня! Съела ты меня-а! Кро-овь выпила!
Алька Студенкина ударила задом в дверь.
И Ольга сразу сникла, тихо заплакала, сморкаясь в конец платка:
— Жысть моя окаянная. Не дождусь, когда и кончится.
Чистых заботливо отвел ее к лавке, усадил.
Иван Иванович застучал костылями, вышел на середину комнаты:
— Позаботься о машине, да побыстрей….
Чистых косо натянул шапку, озабоченно оглядел плачущую Ольгу и вышел.
Сестра, стоявшая в дверях, вернулась к постели больного, к недовязанному носку.
Кладбищенское молчание снова окутало дом. Кладбищенское молчание, прерываемое легкими всхлипами Ольги.
«Черт бы побрал этого Чистых! Никак не выкарабкаешься». — Иван Иванович, косясь на сморкающуюся Ольгу, бочком двинулся к двери, — его подташнивало от спертого воздуха.
Но в это время Чистых вырос в дверях:
— Пожалуйста, Иван Иваныч. Машина тут.
— Слава богу, наконец-то.
Чистых почему-то не уступал прохода. Чистых глядел мимо вздернутого костылем плеча Ивана Ивановича.
— Что?..
Иван Иванович с усилием повернулся назад.
Сестра, распахнув свою дверь, стояла со строгим и значительным лицом.
— Что — уже?
Сестра важно кивнула:
— Минут десять назад… Пока тут…
Люди, толпившиеся перед домом Лыкова, давно разошлись восвояси. Вечерние сумерки прогнали и самых терпеливых, и самых любопытных. Не ушел лишь один — Леха Шаблов, выгнанный из лыковских покоев, преданно топчется у крыльца.
Улица села мирно светилась окнами, за каждым сейчас по-семейному сидят за самоварами, пьют, едят, укладывают спать детишек, беседуют о Лыкове. Еще никто не знает, что Лыкова уже нет на свете.
Пьяный ли воздух после тошнотворной духоты, или само известие о смерти так подействовало, но Иван Слегов, спускаясь с крыльца, сильней, чем когда-либо, почувствовал вдруг всю сырую грузность своего распухшего тела, еле-еле доковылял до машины, беспомощно обернулся:
— Помогите.
Чистых и Шаблов бросились к нему, толкая друг друга от усердия, неловко тиская, засунули на сиденье.
Он поерзал, пристроился поудобнее, обернулся… Чистых и Леха Шаблов стояли рядком на дороге — один тонкий, жидкотело сутулящийся, второй — обширно плотный, тоже сутулящийся, но от собственной тяжести. Сейчас, в сумерках с мрачноватой просинью несвежих сугробов, эти два разных человека были по-братски схожи. Оба только что потеряли заступника, оба переживают сиротство.
Ивану Ивановичу близка их беда. Он ли жил по-лыковски, или Лыков по нему, но жить иначе уже не сумеет.
Два человека в сумерках, две тени — широкая и узкая, каждого из них завтра ждет людская неприязнь, опасная пустота, когда не знаешь, что делать, как поступать, к чему приспособить себя. И все-таки эти оба — счастливцы по сравнению с ним. Они молоды, они переживут, перетерпят, приспособятся. Он же стар, ломать наново жизнь не в силах.
— Трогай, — со вздохом сказал Иван Иванович шоферу, совсем молодому парнишке. — Только полегоньку, а то развалюсь по кускам.
Двое — тонкий и широкий, — сутуловато нависшие над дорогой, остались позади. Счастливцы…
И как это при сидячей жизни, заплыв жиром, он, Иван Слегов, перетянул своего кореша, здоровяка Пийко Лыкова, удивлявшего всех своей кипучестью и неутомимостью?
Но если оглянуться назад, то можно, пожалуй, угадать — носил в себе Пийко Лыков червячка. Был всесилен и отказывал Пашке Жорову в новой крыше — не могу, не неволь. Хотелось быть добрым и красивым, а позвал на помощь — кого? — вовсе не красивого Валерку Приблудного: «Повесь на себя, что мне не к лицу». Хочется и неможется, распирающая сила и сковывающее бессилие в одной груди — тайный червячок, разъедающий, оказывается, не только душу, но и неизносимое тело. Никто долго не замечал его, даже он, Иван Слегов, лучше других знавший Пийко Лыкова — глыба мужик, не треснет, не завалится.
До последних дней Пийко, как и в молодости, мотался по разросшемуся колхозу, вставал в пять, ложился затемно, был крут на расправу, ежели видел непорядок. Но все чаще и чаще Иван Слегов чувствовал в нем усталость.
— Эх, Иван, — заговаривал Евлампий, — вот мы с тобой седые да плешивые, к черте подходим. Жизнь протопали вместе, ты, чую, всю жизнь завидуешь мне…
— Нет, не завидую.
— Врешь, все завидуют — стар и млад, В силе Лыков, в славе Лыков, чего не хватает? И сам даже не придумаю — чего?..
— Блажен, кто верует.
— То-то и оно, что не блажен. Нет, Иван, вот подхожу к черте, а покоя в душе нету. Точит душу, чего-то не хватает, кажись минутой — вот-вот ухвачу, пойму. Вот-вот! И малого не добираю.
Он иногда вспоминал то, мимо чего раньше прошел отвернувшись.
— А помнишь, Иван, ты мне когда-то говорил, что коровы у нас живут под шиферными крышами, а люди под дырявыми?
— Помню.
— Дырявых-то крыш теперь у нас, похоже, нет, но этим хвалиться, сам знаю, нечего — многие еще не красно живут. А что, ежели нам замахнуться — все село, понимаешь, заново! Чтоб с нужниками в кафеле?.. Лет бы за десять осилили? А?..
А на следующий день он забывал об этом, толковал, разогревая себя, о другом:
— Клуб у нас, как у всех. Вот то-то и плохо. Дворец культуры нужен — кресла плюшевые, картины в золотых рамах, люстры с висюльками, чтоб из города самых модных артистов — да, милости просим почаще. Да своя самодеятельность… Чтоб всего района село Пожары — центр культуры! А?
Метался Евлампий Лыков, пытался уловить — чего не хватает? Однажды специально вызвал к себе:
— Знаешь, Иван, я решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу. Сейчас он явится…
Для чего он пригласил на этот разговор в свидетели Ивана Ивановича? Может быть, потому, что бухгалтер в свое время видел, как Сергей отвесил пощечину, теперь же Евлампий хотел показать — гляди, мол, зла не помню.
А старому Лыкову уже выгодней не помнить зла племяннику.
Сергей как был, так и остался — не бригадир и не рядовой колхозник, на птичьей должности. И по-прежнему в опале, сослан в Петраковскую, даже выехать не смей без спросу Евлампия Никитича — беспаспортный.
Сергея с женой видели то в одном конце пожарских земель, то в другом — копаются, что-то собирают, над чем-то колдуют.
Говорят, кочевники в пустыне считают святыми тех, кто ищет воду. Вода для них — жизнь. Для пожарца жизнь — это хлеб. И тот, кто по доброй воле изо дня в день упрямо ищет особые хлеба, — свят не свят, а доброго слова стоит. Прошло то время, когда завидовали: «Ишь нашел работку непыльную, за нее и платят, и почитают, даже учрежденьице специально выстроили». Теперь и не платят, и не почитают, — завидовать нечему. Против самого Евлампия Никитича прет мужик, на свой страх и риск действует, сил и времени не жалеет, — видать, дело стоящее.
Как-то под вечер Ксюша и Сергей, набродившись по полям, уселись у дороги. Ксюша стянула платок, раскинула на траве, Сергей высыпал из мешков собранные колоски. Склонившись голова к голове, они перебирали улов, раскладывали по кучкам, тихо беседовали:
— Дождей в налив маловато было, мелковато зерно…
Носились ласточки над землей. Где-то за полями, в оврагах вызванивали боталами коровы, тянущиеся поближе к дому. И трусил по дороге одинокий всадник. Мир кругом и усталый покой.
Неожиданно проголосили тормоза, с железной, оскорбляющей полевую тишину, истерикой. Ксюша и Сергей обернулись: вялая пыль медленно опадала на дорогу, на тусклую придорожную травку. Из председательского «газика» глядело сонно-распаренное, широкое лицо Лехи — кепчонка на глазах, взгляд из-под козырька жесткий. У Ксюши повисли руки, Сергей отвернулся с каменным лицом.
Оседала пыль, трусил не спеша всадник, смотрел молча Леха из кабинки.
— Ну, — наконец выдавил он, — крохоборничаете?
— Давай, Сережа, складываться, — глухо сказала Ксюша.
Сергей дернул скулой:
— Пусть пялится, не обращай внимания.
— Крысы полевые — по колоску таскаете. А ну, несите сюда все!
— Пошли, Сережа.
Сергей не отвечал, продолжал шевелить колосья.
— Хуже будет, коли вылезу!
На гнедой, лоснящейся от жары и сытости лошади подтрусил бригадир Черепнов — лицо опаленное, глаза запавшие, — приподнял картузик:
— Здравствуйте.
— Оне у тебя по полям шарят, а ты им здоровы отвешиваешь. Хорош бригадир.
— А тебе что? — Черепнов дернул поводья, подал на машину коня.
— А ничего. Забери давай, что собрали оне, я в правление свезу. Пусть полюбуются.
— С-час. С поклончиком прикажешь тебе подать, али как?
— Не кобенься, Андрюха. Как бы Евлампий Никитич хвост не накрутил. Лучше делай, что говорю.
— Приказываешь?
— Советую.
— Ну так я обожду твоих советов слушаться. Ты покуда не Евлампий Никитич, а всего-то баранка от его машины. Крути, баранка, себе дальше да пеньки огибай, а то налетишь — по частям собирать придется.
И Черепнов коленом въезжал в кабину.
— Ну, Андрюха, гляди!.. Слово не воробей… Зачешешься у меня! — голос из глубины кабинки, из-под колена.
— Не пугай! Не все-то тебя боятся.
Рассерженный рев мотора, рывок вперед, пыль…
Черепнов хмуровато проводил взглядом, развернул лошадь, еще раз приподнял картузик:
— Бывайте здоровы, — прежним уважительным баском.
Иван Иванович Слегов наблюдал конец этой истории. Как обычно в свой «бухгалтерский час» явился к Лыкову, но, оказывается, в этот святой час залезло другое дело. В кабинете стоял обиженно надутый и почтительный Леха, сидел перед Лыковым Черепнов, тоже обиженный, но сердито.
Евлампий Никитич слушал с каменными скулами, по всему видать — «сдерживал кипяточек», на вошедшего бухгалтера поглядел, как кот на нежданного пса.
Говорил Черепнов:
— Как хошь, Евлампий Никитич, но я в шею гнать их с полей не стану. Да и ты это не сделаешь, не скажешь же: «Сиди взаперти». Не арестанты они.
— А то, что по полям шарят, зерно воруют, — вставил Леха.
Черенков только отмахнулся:
— Сам не умен, так из других дураков не делай. Во-ру-ют! Кто поверит?
Евлампий Никитич, насупившись в сторону, сказал:
— Кончим. Вон Иван Иванович с делами меня ждет.
Черепнов встал, скупо кивнул на Леху:
— Гнал бы ты, Никитич, холуя от себя. Со стороны срамотно.
У Евлампия Никитича по скулам пополз гневливый лыковский багрянец, тускло побледнели глаза:
— Спасибо. Твоим умом буду жить. Марш!
Черепнов вышел, Леха почтительно переминался.
— Особого приглашения ждешь? Вон!.. Еще раз нарвешься, балда, — съем и косточки выплюну… Видишь, Иван, кругом дрязги. Хошь не хошь, а ковыряйся.
У друга Евлампия тоска в голосе, тоска в лице. И по всему видно, не дрязги его тревожат, кой-что похуже — Черепновы вдруг стали непослушны. Андрюшка Черепнов обязан Евлампию Никитичу — заметил его, выдвинул, жизнь устроил, как у Христа за пазухой, славу дал. Еще верный — сомненья нет. Еще предан и, поди, не собачьей Лехиной преданностью — считай, братской, временем проверенной, но вот перед строптивым Серегой-сосунком шапку ломает, хотя, конечно, наперед знает — ему, Евлампию Лыкову, это не очень-то приятно. Выходит, уже одной душой не живет. Неспроста, что-то заставило, что-то сильнее Евлампия Никитича. А что?.. Думай. Как тут не затосковать?..
И еще шли письма, на многих адрес внушительно короток: «Вохровский район, селекционеру колхоза „Власть труда“ С. Н. Лыкову». Писем больше, чем председателю Лыкову, — из областного сельхозинститута, из Москвы, из-под Саратова, даже из Прибалтики… Иногда прибывала и посылочка, обшитая мешковиной: «Селекционеру колхоза…»
Газета «Известия» напечатала статью одного доктора сельскохозяйственных наук. Он писал, что у знатного полевода Терентия Мальцева есть много последователей, перечислял имена колхозных полеводов, среди них — Сергея Лыкова.
Сразу же после этой статьи Евлампию Лыкову позвонили из областной газеты — нельзя ли дать подробный очерк о местном Терентии Мальцеве, вышлем специального корреспондента. Евлампий Никитич ответил: «Такого не знаю». И в сердцах положил трубку.
Не знать, не замечать… А все кругом помнят «чудо в Петраковской», помнят, почему это «чудо» усохло на корню.
И, конечно, теперь Серега не зря лазает по полям, получает посылочки: «Селекционеру колхоза». Наверняка внутри лыковского хозяйства собирается завести свое, чтоб новые разговорчики о «чуде»…
Евлампий Никитич при случае прямо наказал Терентию Шаблову:
— Под фокусы-мокусы моего племянника земли не отводить. Ясно? И рабочих рук ему не смей выделять. Узнаю про его шахеры-махеры за моей спиной — тебе плакать. Ясно ли?
Куда как ясно, Евлампий Никитич слов на ветер не бросает.
Терентий свято исполнил приказ — земли не дал. Сергей сам ее взял — ненужную, «валявшуюся». А сколько такой «валявшейся» земли было еще в Петраковской. Ходить за ней не надо — прямо за околицей во все стороны пустыри, потоптанные скотом, поросшие можжевельником кой-где.
И рабочих рук Терентий не выделил, даже присланных в бригаду трактористов честно остерег:
— Ребятки, не обещайте Сергей Николаичу… Я бы и сам ему всей душой… Евлампий Никитич того… Остерегитесь.
Трактористы покачали головами: «Ну-у, жмет юшку!», сочувственно поворчали в пользу Сергея, но к сведенью приняли — кто тот лихач, который поперек «отца колхоза» пойдет?
А лихач нашелся — Гришка Фролов.
После той драки на току, которую сам Евлампий Никитич победно развел, Лёху поднял, о Гришке забыл, Гришка сам напомнил о себе. Он не только был крепок на кулаки, но и зол на язык.
— Перековочка у нас в колхозе: девок в баб, мужиков в холуев.
Евлампий Никитич на такой мелкий лай не отзывался — себе дороже. Гришка ушел из гаража, стал трактористом, работал в самой выгодной бригаде, а доволен все равно не был.
— Как живешь, Гришка?
— Как тот полицай при немцах: материально ничего, только морально тяжело.
Он однажды заявился к Сергею:
— Тебе, может, дрова нужны — привезу, бутылочку разопьем.
Сергей и от дров и от водки отказался, но с этого момента сошлись.
Только этот Гришка и мог решиться — приехал на своем тракторе и на глазах у всей деревни стал пахать пустырь. Он пахал, а Сергей Лыков с бригадным пастухом Оськой Помиром обносил пахотный участок изгородью. Терентий Шаблов только помаргивал да гадал: попадет ему от Евлампия Никитича или пронесет нелегкая? Не ложиться же ему в борозду перед трактором. Да если и ляжет, Гришка на ручках ласково в сторонку отнесет. Что-то будет? Что-то будет?.. Пронеси, господи!
Сам Евлампий Никитич зажимал Серегу не для того, чтоб лишить его дела. Нет, приди, постучись к дяде: «Хочу снова стать колхозным опытником на законных основаниях». Да, пожалуйста, с милой душой, бывшая столярка ждет тебя, дурака строптивого, видным человеком сделаем, платить будем больше прежнего, дом поможем построить, брось партизанить, занимайся наукой под вывеской колхоза. Поклонись — зазорно. Ну, раз так, то чувствуй.
У Терентия пронесло, был вызван сам Гришка Фролов.
— Под суд захотел?
— За что?
— За незаконное использование техники. Кто тебе давал наряд?!
У Гришки Фролова руки в карманах, чуб на глазах и прямые рубленые плечищи широко раздвинуты.
— А я, Евлампий Никитич, инициативу проявил. Разве не полагается? Думал, что зря земле пустовать, вдруг да хлеб колхозу на ней вырастет.
И усмешечка, и глаз не отводит под председательским взглядом. «Вдруг да хлеб вырастет». А вырастет — без «вдруг», это-то Евлампий Никитич знал, знали все. Без «вдруг», то-то и оно.
— Марш! Выясним!
Все ждали грозы, но бухгалтер Слегов понимал — вряд ли грянет. Признать незаконным, привлечь к суду, припаять срок — для Евлампия Лыкова все возможно. Но тихо и гладко это дело не прошло бы — зашумит весь район. Признать незаконным, а что тогда делать со вспаханным и засеянным участком? Не сровнять же его. Такого Лыкову даже самые верные лыковцы не простят. Да и сам Евлампий Никитич — хлебороб, вытаптывать посеянный хлеб не решится. Лучше не раздувать сыр-бор.
Евлампий Лыков решился на другое — завоевать петраковцев, чтоб поверили, полюбили — выкинули Сергея из души, его, председателя, приняли. И к тому же Петраковская заставляла задумываться. Она висела на шее хомутом, портила антураж. На полях ее, как и прежде, тощенькая ржица и ячмень тонули в бурьяне. Из-за петраковцев и сводки пониже, и почет пожиже: «Темпики-то, Евлампий Никитич, у вас нынче не те, что были…» Темпы старые, петраковская «божья рать» круто вниз тянет.
И Евлампий Лыков до весны решил сам заняться бригадой. Собрал на собрание всех баб и голоса, упаси бог, не повышал, совсем напротив — что ни слово, то ласковое обещание:
— Покажите, бабы, себя — станете во всем равны пожарцам, такой же точно трудодень получите. Весь район на вас станет смотреть да завидовать.
Не кривил душой, готов был уравнять петраковцев о пожарцами. Но бабы выслушали, разошлись, и все потекло по-старому, словно и не слышали слов Евлампия Никитича. «Катись под круту горку, плевать, ничему веры нет». Это что же получается — собака лает, ветер носит?..
Евлампий Лыков мылил голову бригадиру Шаблову, тот признавал: «Виноват. Исправимся». Шаблов и рад бы исправиться, да бабам ни к чему. Тяни снова на горбу постылую бригаду.
Но после весны Петраковская вдруг проснулась. На пустыре подымалась рожь. На этот раз чудо вроде небольшое — ржи-то всего каких-нибудь три неполных га. Но уж слишком крикливо этот бывший пустырь напоминал всем — какие бы хлеба могли расти, если б не подставили подножку Сергей Николаичу, если б, прости господи, не Евлампий Никитич… Петраковская проснулась, чтоб возроптать. Бабы останавливали Сергея на улице:
— А куды отсюда зерно-то пойдет? Теперь-то для кого ты стараешься?
— Пожалуй, для пожарцев, бабы. На вас, прямо скажу, надежд нет. Подари это вам, получится — ни богу свечка, ни черту кочерга. Пусть уж пожарцы золотой навар сымут.
И бабы, как прежде, подымали горячий крик:
— Не отдадим! Постоим за себя! Кивни, Сергей Николаич, — хоть сейчас в волокуши.
Петраковская просыпалась.
Что еще оставалось Евлампию Никитичу? Пожалуй, только одно — идти на мировую с племянником.
«Решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу…» И прими, Иван Иваныч, участие в разговоре: «Зла не помню, будь свидетелем». Еще бы…
А разговор поручился не из приятных. Сергей явился чистенький, жениховски отутюженный, постный, замкнутый. Настороженно огляделся в кабинете, в котором так давно не был. А в кабинете — перемены: снят большой портрет вождя в сапожках, вместо него другой портрет — товарищ Хрущев, только по грудь. Чугунный младенец по-прежнему стоит на столе, грозит пальцем.
— Садись, — широко приказал. Евлампий, словно вчера расстались друзьями. Помедлил, помигал в сторону: — Давай, Сережка, — кто старое помянет, тому глаз вон.
— Поминать не буду, забыть не прикажешь.
Старший Лыков вздохнул с небывалым смирением:
— Это уж как тебе угодно… А выслушать меня придется. И выслушать, и совет дать.
— Я — тебе?.. Ты вроде не очень-то охоч был до чужих советов.
— Нужда научит собаку грибы всухомятку есть. Вот ответь: молодежь-то на сторону потянулась. Никогда такого не было. Почему это?
— А сам что думаешь?
— Эва! Раз спрашиваю, да еще и шапку ломаю, то, видать, мне мои мысли не так уж и дороги.
— Тогда не тяни, уходи. Себе накладней — сидеть в дамках да слыть пешкой.
И Евлампий не выдержал смирения, потемнел лицом:
— Эй-эй! Сам-то могу себе отходную петь, а другие пусть повременят! Язык еще откушу!
— Все по-старому, с оскалом да с рыком. Откушу! Бойся! Страшен! А не кажется ли, что и голос сдает, да и зубы у тебя уже не те?
Лыков-старший отвернул потемневшее лицо в грозном молчании.
И вот чудо — никаких последствий: Терентия перевели на другую работу, Сергея утвердили в бригадирах, на первом общеколхозном собрании ввели в члены правления.
Тревожен был в последние годы Евлампий Лыков, что-то неуловимое происходило в лыковской державе. По-прежнему — самые породистые коровы, самые высокие удои, самые тучные свиньи, надежные урожаи, крепкий трудодень. «Власть труда» по-прежнему в числе лучших из лучших. Но…
* * *
Иван Иванович повернулся к парнишке-шоферу:
— Слышь-ко, звать-то тебя не знаю как?..
— Сашкой. Истомин я. Петра Истомина знаете, так я сын ему.
— Эвон, у Петрухи какой парнище вымахал… Не замечаю я, старик, как растет молодежь. А скажи мне, Сашок, по совести — собираешься улепетнуть из колхоза?
Сашка посопел, помолчал, настороженно спросил:
— А что?
— Ничего. Загадка для меня. Ты здесь и сыт, и одет, и кино тебе привозят. Чего тебя манит на сторону?
— Чего? — Сашка хмыкнул. — Здесь кочки да ямины обнюханные, а там — «широка страна моя родная». В одном месте не понравится, в другое махну. Волюшка.
— Волюшка… — сказал Иван Иванович и замолчал, уронив на грудь голову.
Тридцать с лишним лет назад Пийко Лыков перебил хребет, забрал навечно. Волюшка…
Но хребет человеку можно перебить не только свежеотесанной оглоблей.
В соседних деревнях — лепешки из куглины, а вам, люди добрые, чистый хлеб даю из своих рук! Спасибо тебе, Евлампий Никитич, веревки вей из нас, только от себя не гони.
Кусок хлеба при общей голодухе потяжелей оглобли.
Колхоз Лыкова и сейчас самый лучший, другие — куда ниже, сколько их, неустроенных и заваленных, не сводят концы с концами. Но даже в самых горьких колхозах теперь не на травке пасутся — хлеб едят, пусть покупной, пусть окольными путями заработанный, но чистый хлеб.
Кусок хлеба нынче не дубинка. Не пробуй махать, не напугаешь. Кто постарше — живут, как жили, молодым — тесновато.
Когда-то Евлампий Лыков умел ловко подлаживаться:
— Жирок нагуливаете, ребятушки? Ну, лежите, лежите, а я поработаю…
На старости лет, при громкой славе начал снова подыгрывать:
— Клуб вам, ребята, новый отгрохаю.
А клуб и старый неплох, кино и теперь почти каждый день. Кино показывает большие города, великие стройки, широк мир за околицей села Пожары, лишнее напоминание — тесновато здесь, душа на простор просится. Волюшка.
— Иван Иваныч!
— А?..
Рука осторожно трясет плечо:
— Приехали, Иван Иваныч.
— Эх-хе-хе! Помоги, дружок, выползти. Совсем что-то раскис.
Он остался перед калиткой, повиснув на костылях, долго глядел вслед машине, пока красный огонек не исчез за поворотом.
Этот желторотый, что гонит сейчас машину, не догадывается — он самая важная фигура в колхозе. Будущему председателю придется считаться с ним в первую очередь. Хлебом не прельстишь и новым клубом — навряд ли. Что нужно этому, унюхавшему волюшку парнишке? Что?..
Иван Иванович не знает, как не знал и покойный Лыков.
— Иван! — раздалось из темноты, от дому. — Да жив ли, голуба?
— Жив, Марья. Иду.
— Слава богу, а то сердце упало. Стоишь и стоишь, не стряслось ли чего, думаю.
Жена давно вышла на шум подъехавшей машины, ждала его на крыльце.
Она, услыхав, что председатель скончался, молча перекрестилась, с особой бережностью спросила:
— Ужинать будешь?
— Нет, не неволь. — И устало поинтересовался: — Чего не пожалела?
Помолчала.
— Не могу.
Если и был у Лыкова тайный враг, то это она, постоянно видевшая костыли мужа.
— Тогда меня пожалей, — сказал он тихо.
— Ты что?.. — Удивление и страх в голосе.
Они не часто — чтоб не стерлось — вспоминали годы, когда молодые, здоровые, красивые проезжали по селу на серой паре. Но право, тогда они меньше любили друг друга. Без нее он не вынес бы бесконечно долгой сидячей жизни — она единственное счастье, опора.
— Ты что?.. Себя с ним путаешь?
— Иль не схожи? Близнецы же, не отличишь. И то больно уж долго в одном горшке варились.
— Полно-ко! Полно! — заговорила она бодрым, молодым, вовсе не старушечьим голосом. Эта сила в голосе прорывалась у нее всегда, когда видела — ему очень тяжело. — Лыкова нет, на тебя теперь только и надежда-то. Кого ни посадят в председатели — любой без тебя как без рук.
— Нет уж, новому по-нашенски крутить нельзя. Нашенские колеса по ступицы сносились.
— Ты молодого Лыкова примечал. Вот бы славная упряжка — у старого коня — сноровка, у молодого — силушка. Укажи на него, тебя послушают.
— Уже решил — укажу… А потом в отставку подам.
— Чего мелешь? Чего мелешь, непутевый? В от-став-ку!
Она-то понимала, что такое для него отставка. Сейчас он хоть и через силу, да вылезает из дому. Отставка, пенсия — сиди сиднем, чувствуй себя полным калекой, исподволь разваливайся. Отставка — смерть.
— Молодого Лыкова… Да-а… Молодой Лыков — сундучок с двойным донышком. Все вот в него заглянули и увидели — в хлебах разбирается. В хлебах-то, хорошо ли, плохо, любой мужик смыслит… Тебе этот Серега никого не напоминает?
— Да вроде нет, не примечала.
— А мне кажется, смахивает он на одного Ивашку-дурачка из сказочки, какая не очень счастливо кончилась.
— Пошел загадки загадывать.
— Помнишь, я ездил к нему в бригаду? Еще до этого начал смекать, что он на молодого да необщипанного Ваньку Слегова чуток похож… Да-а… Поехал… Он с бабами собрание вел, планы со своей «божьей ратью» строил. Что за народ бабы, известно, дай только им рот разинуть — ручьем глупость хлещет. Кажись, разумней заткнуть, чем время-то на глупую болтовню терять. Нет, не затыкал, времени не жалел, слушает и слушает, как одна глупость другую перехлестывает. Долго я не мог в толк взять… Позднее понял, в чем хитрость. Глупость за глупостью, глянь, крупинку дельную ухватил, всем со всех сторон показывает — любуйтесь, мол, красива. А так как времени не жалеет, то крупинка по крупинке — дело собирается. Не ахти, не мудряще, может, сам Серега без баб в пять минут на него смог набрести. Пять минут, а тут пять часов болтали. Кажись, какой резон? Ан нет, резон есть. Бабы-то сами дошли; значит, и дело своим считают, не казенным, не бригадировым, попробуй только поперек встать — плешь проедят. Свое! Тут великий смысл. Чужое делать — неволя, свое-то — не подневольное. Вот парнишка, который меня сейчас довез, мечтает о волюшке. А почему? Не потому ли, что кругом лыковское только видит?
И жена ободрилась:
— Вот и хорошо-то! Вот и добро! А ты — в отставку!.. Подтащи этого Сергея Николаевича к себе — сам, глядишь, помолодеешь, прежним Ванюхой Слеговым обернешься.
Он невесело и ласково усмехнулся:
— Ты еще о живой воде помечтай.
— Но ведь сам же только рассказал, своими глазами видел.
— Ну да, видел, как он баб обкручивал. Кому не известно, что к бабе надо не с таской, а с лаской, баба на доверие падка. А встань-ка на место Евлампия — тут с лыковцами столкнешься. Мы с дружком Евлампием не зря более тридцати лет трудились, оставили такую заквасочку, что раз попробуешь — навек косоротым станешь. Мне Серегу жаль, а уж сам с ним хлебать — нет, пробовать не осмелюсь.
Она зябко передернула плечами, сказала холодно:
— Раз жаль — не указывай. Чего тебе толкать мужика в яму?
— А вдруг да…
— Что — вдруг?
— Вдруг да он погуще замешен, чем твой знакомый Ванька Слегов. Под лежачий камень вода не течет.
Они замолчали, переживая одну тревогу. Впереди — отставка, а это — конец. Неужели вот так вскорости и кончится их жизнь, пусть серенькая, не праздничная, но украшенная ласковым вниманием друг к другу.
— Ты не бойся, — виновато оборвал он молчание. — Пенсию мне дадут хорошую.
Она в ответ лишь тихо обронила:
— Ты помрешь — мне не жить.
Она когда-то была красива — броваста, ясноглаза, — давно отцвела, но на старушечьем лице с запавшим беззубым ртом в каждой морщинке затаилась хватающая на сердце доброта. Та доброта, что не раз спасала его, заставляла жить.
Он потянулся к ней, обнял голову, начал гладить ее жидкие сухие волосы. Гладил долго и нежно, гладил и тоскливо молчал.
За темным окном неожиданно раздался грубый топот, осипшие пьяные голоса проревели;
— Эй! Стервы! Попылили на задних лапках — хватя!
— Сыновья Евлампия гуляют, — произнес Иван Иванович. — Видать, узнали, что отец умер, — рады.
— Жуть-то какая.
Иван Иванович мысленно представил себе лыковских сыновей. Сварливо дружные, длинный Клим и приземистый Васька бредут, обнявшись, то шарахаясь на середину дороги, то приваливаясь к плетням. Климу уже вплотную под тридцать, а все еще молодцует в парнях — ни одна девка из местных не хочет выйти за него замуж.
— Да… Не повезло ему с ребятами. Мелкота, пакостники.
Пьяные голоса раздались вдали. Ночь навалилась на село.
Никто не догадывался, что началась недобрая ночь, ночь поминок по Евлампию Лыкову.
Недобрая ночь
Через полчаса или менее того услышал под своими окнами голоса братьев Лыковых Валерий Николаевич Чистых, только что вернувшийся домой.
— Эй, ты! Сука приблудная! Высунься!
— Гасите скорей свет. От греха подальше, — забеспокоился Чистых.
Ребятишки были рассованы по койкам, свет погашен, сам Чистых улегся с женой. Как ни напугана была жена, но уснула быстро. Чистых спать не мог, лежал с открытыми глазами, заполненными ночью, тоской, страхом.
Если при Евлампии Никитиче у него по ночам били окна, то что же будет теперь?
В чем он провинился?
Он вор?.. Он мздоимец?.. Он злодей, который только и ждет случая, чтоб кого-то сжить со свету?
Да, украл один раз в жизни. Был глуп, был молод и очень хотел есть. Один раз, единственный — и то попался. Больше никогда не присвоил себе гроша ломаного.
Мздоимец?.. А как легко было им стать! Валерий Николаевич, заходи в гости, Валерий Николаич, мы вчерась теленочка зарезали, молочный еще… Как легко было сорваться! Не попрекнете — чист!
Злодей?.. А что он сделал плохого? По своему умыслу, по своей воле?..
Что делал бы любой и каждый, если б сел на место Валерки Приблудного? То же самое в точности. Да нет, хуже, со срывами на телятинку, да дармовую водочку. Валерка-то выстоял без осечки. Уважайте!
Он нормальный человек. А нынче нормальных людей мало, кого ни задень, тот с сумасшедшинкой. Человек порядок должен любить — чем железней он, тем жить покойней.
Он служил Евлампию Никитичу, душу отдал порядку. Нормальный… Сумасшедшие вырвутся на свободу! Что-то будет, что-то будет! Пронеси, господи!..
Ночь, тишина, он затравленный в собственной постели…
Вдруг в темном доме гулко загрохотало. Подбросило с подушки, обдало жаром, взмок лоб. Но через секунду Чистых понял — это же телефон! В душной тишине усердно натопленного дома раскатисто гремел телефон, властно звал к себе.
Кто?.. Зачем?.. Кому понадобился?.. Среди ночи, не дождавшись утра!..
Проснулась жена:
— Что это?
— Лежи!
Полез из-под одеяла, ступил босыми ногами на холодный крашеный пол, от щиколоток до ушей покрылся гусиной кожей, слыша стук собственного сердца, двинулся к телефону, в переднюю, по пути больно врезался плечом в косяк дверей.
Долго ловил впотьмах висящую трубку, наконец поймал:
— Да… — Закашлялся. — Алло!.. Послышалось что-то лающее.
— Вал!.. Вал!.. Вал!.. — Наконец икающий лай прорвался в членораздельное, истошное: — Валерий Николаич!!
— Это кто? — лязгнул зубами Чистых.
— Это я — Митрий!
— Какой — Митрий?
— Да Пашенков, сторож… — И дико завыл: — У-убий-ийст-во, Валерий Николаич!
— Ты что?!
— То-по-ра-ми!.. Топорами порубили, паршивцы!
— Кого? Что? Чего мелешь?
— Леху-у! Леху Шаблова… Топорами!.. Я только к складам вышел на ночное дежурство, слышу крик… Я еще подумал — не по-доброму кричат. Голоса-то признал — сынки Евлампия Никитича, чтоб им лихо было, пьяные вдребезинушку…
— Они — Леху?
— Так с топорами ж… Я сразу-то не пошел, обождал, а потом — дай, думаю… О господи! Прямо на дороге, недалече от фуражного складу… О господи! По всей дороге раскинулся, а снег под ним черный… Топор в стороне брошен. Топорами его…
— Откуда звонишь?
— Тута, от телефонисток… Каждая жилочка дрожит.
— Беги к Наталье Петровне, фельдшерице. Может, жив еще Леха.
— Не побегу… Оне, бешеные, до сих пор где-то бродют.
— Ты — кто? Ты ночной сторож, за порядком по ночам должен следить. С ружьем иди!
— Эхма-а… С ружьем… Да мое-то ружье для красы, кабы оно стреляло.
— Беги к фельдшерице на дом! Приказываю! Я участковому звоню.
— Валерушка-а! — застонала из соседней комнаты жена.
— Цыц! — прикрикнул Чистых. — До тебя тут!.. Участкового мне!
Долго ждал, пока участковый раскачается со сна, подойдет к телефону. Ждал и зяб, стоя босыми ногами на холодном полу. Наконец дождался, недовольный, с сипотцой голос ответил:
— Младший лейтенант милиции Ступнин слушает!
— Убийство, Александр Степаныч!..
Дрожа и захлебываясь, рассказал, что узнал от ночного сторожа.
— Тэк! — голос участкового лязгнул медью. — Тэк!.. Ситуация ясна! Валерий Николаевич, ты оденься, прибудь к месту преступления, для оформления будешь нужен.
— Я срочно выезжаю в район, — соврал Чистых. — Да ты оформления потом, ты сперва преступников обезвредь, преступники-то у тебя с топорами по селу ходят. Тебе фор-маль-нос-ти нужны!..
Охота ли идти сейчас через все ночное село к складам, одному…
Дом погружен во тьму, за окнами мутно сереет снег. Где-то на дороге валяется порубленный топорами Леха Шаблов. Леха! На всех наводивший страх!..
— Валерушка-а!
— Цыц!
Лыков мертв, заместитель Чистых распутывай, влезай по уши, привлекай к себе внимание… Леху топорами… Он — не Леха, его легче..
Стучало сердце в тишине, по всей коже гулял озноб. Жена за спиной робко шевелилась, чуть слышно поскрипывала кроватью.
Он соврал участковому — едет в район. И в самом деле, куда как лучше спрятаться в городе Вохрове, хотя бы до утра, чтоб сейчас не втянули, не заставили, — шевелись! К утру с этой страшной заварухи сливочки уже снимут.
Леху — топорами…
Чистых снова снял трубку. Гараж не отвечал, но Евлампий Никитич, установивший в свое время коммутатор, щедро разбросал телефоны по селу. Телефон был на дому и у механика гаража.
«Газик», возивший не столь давно и Евлампия Лыкова, и Леху Шаблова, катил по прихваченной морозом дороге к Вохрову. Механик, ввиду особого случая сам севший за руль, сурово молчал, жал на газ, лишь изредка качал головой, ронял:
— Да-а дела… Да-а, начинается без хозяина…
Свет фар скользил по окаменевшим весенним сугробам.
У Чистых прошел испуг, вернулась способность трезво взвешивать. Надо уходить из колхоза. Какое уж тут житье.
— Да-а, дела-а… Да-а, теперь заиграют без хозяина…
Подальше от такой игры. Лучше всего обратиться к директору леспромхоза Семенову. В свое время тому «клеили дело», подводили — снять с работы. Семенов жил в тесной дружбе с Лыковым. Обсуждать директора леспромхоза решили тогда, когда Евлампий Никитич утрясал колхозные дела в области. Покатился бы товарищ Семенов, если б не он, Чистых. Это он дозвонился до Лыкова, поймал поздним вечером в номере гостиницы, Евлампий Лыков в области нажал на кого нужно, спас Семенова, тот и до сих пор директорствует. Хозяйство у него большое, местечко для Чистых подыскать не трудно. Правда, в Пожарах свой дом. Что ж, все распродаст, будут деньги на первое устройство…
— Да-а, дела-а… Теперь жди веселья…
Кто-то жди да поеживайся, а он, Чистых, — нет, увольте.
В центре Вохрова он остановил машину, сказал:
— Езжай домой. Мне придется здесь остаться.
— Дела…
«Газик» развернулся и укатил.
Городок крепко спал под черствыми заснеженными крышами — окна темны, калитки наглухо закрыты. Городок спал, но наверняка участковый из села Пожары Ступнин уже сообщил в районное отделение милиции, наверняка дежурный уже поднял начальника милиции майора Россохина, тот сейчас тревожит первого секретаря, кого-то из врачей районной поликлиники. Городок крепко спит, но тревога уже вошла в него, мечется по телефонным проводам, срывает кого-то с теплых постелей.
Чистых чувствовал успокоение и легкость в душе. Пусть разбираются, судят и рядят, наказывают, подбирают кандидатов на место Лыкова. Утром он явится к директору леспромхоза Семенову.
Утром… Но до утра еще далеко. Город спит, город будет спать еще добрых пять часов. Где-то надо прокоротать эти долгие часы.
Здесь, в районном городе, колхоз «Власть труда» имел свою квартиру — для Лыкова, на случай если тот задержится на заседании, если не посчитает нужным трястись ночью к себе в село. Квартира для Лыкова и для тех, кто к нему близок. Ее обиходит Агния Кузьминична, чистоплотная, рассудительная тетка, нагулявшая богатые телеса на харчах, отпускавшихся на прокорм Лыкова со товарищи. Она-то — милости просим — встретит как положено, чаем напоит, чистые простыни застелит. Но на той квартире одно плохо, — телефон. Где Чистых? Бросятся вызванивать и вызвонят… Увольте. Завтра после встречи с Семеновым, завтра, когда схлынет первая горячка, когда он уже будет знать свое новое место, — явится, последние обязанности честно исполнит, сдаст дела, а пока — увольте.
Здесь в городе живет его отец. Валерий Чистых немного помогал старику — посылал иногда кило масла, кусок свинины, баночку меду, жалко же, как-никак родная кровь — нахлебался лиха человек, одинок, нет здоровья, нет почета. Баночки с маслом и медом пересылались, но сын и отец встречались очень редко.
В другое бы время Чистых среди ночи ни за что не постучался бы к отцу. Но теперь обстоятельства особые, вряд ли старик успел узнать, что Лыкова уже нет в живых, а к этому у него наверняка свой интерес, ради него простит ночное сыновье вторжение.
Старик долго и подозрительно выспрашивал через закрытую дверь — кто да зачем? Притворялся, что не узнает голоса сына. Наконец смилостивился, признал — «а, это ты», — загремел запорами.
Свисающая с потолка пыльная лампочка освещала негостеприимного хозяина. Давно не стиранное белье, из распахнутого ворота выглядывали изогнутые, как дверные ручки, ключицы, рукава, лишь едва прикрывающие локти, выставляли напоказ тонкие руки в сплошных мослах, жестких сухожилиях и набухших венах, узкие кальсоны все же были слишком просторны для тощих ляжек. И над всем этим плохо укрытым костяным сочленением — глянцевитая лысина и глубоко врезанные, столь же жесткие, как и сухожилия на руках, морщины. Они изображали в данную минуту величавое презрение и подозрительную враждебность.
— Чем обязан?
— Новости знаешь?
Старик жил скучно и однообразно, как только может жить одинокий пенсионер, отпугивающий всех несносным характером. Не такому выпроваживать гостя с новостями.
— Слышал, что Лыков того… Еще вечером…
— Гм… — Нет, старик не слышал этого.
— Ну так вот, теперь пошло пузыриться, все, что назаквашивал, поползет через край.
Новости должны быть приятны старику. Лыков мертв, а он, Николай Чистых, жив… Однако старик не смягчился, ничем не выразил удовольствия, по-прежнему глядел на сына с неприязнью и подозрительностью.
— Как это понимать — «поползет через край»? — холодно спросил он.
— Лыковские-то сынки отличились. Топорами, стервецы… отцовского шофера…
— Сыновья Лыкова?
— Родные сыновья. Вот дела-то какие.
— Сыновья теперь пошли не в отцов.
— Лыков — тяжелый мужик, всех гнул — хребты трещали, а теперь, видишь ли, распрямляться начнут, друг друга задевать. И еще как!
— Сыновья не в отцов — гнилое племя. Вот хотя бы ты, Валерко, ты — мой родной сын! Удивительно! Ты — и от меня родился!
Чистых-младший досадливо поморщился:
— Опять — двадцать пять! И что ты со мной все делишь? Я ведь всегда к тебе по-доброму…
— Ты — прихвостень, ты — разложившийся прохвост!
— Ну и ну, злобы же в тебе…
— К таким, как ты, — да! К таким, как ты, — не простая злоба, а классовая ненависть! Разве я не вижу сейчас, чего ты от меня ждешь?!
— Чего мне от тебя ждать? Чем ты меня одарить можешь?
— Ты ждешь, поганец, что я буду радоваться смерти Лыкова!
— Радоваться не радоваться, а уж слезы лить не станешь.
— А ты слышал, чтоб я когда-либо плохо говорил о Лыкове?
— Попробовал бы сказать.
— Подлец! На свой аршин меряешь. Все считаешь, что твой отец трус, что он из страха…
— Стыдного в этом нет, многие, не нам с тобой чета, побаивались — матер мужик.
— Я побаивался? Я — его? Что он мне мог сделать? Мне, который уже отсидел двадцать лет! Что еще можно сделать такому?
— Двадцать-то лет не без его помощи. Почешешься.
— А не приходит в твою подлую башку простая мысль, что я уважаю Евлампия Лыкова?
— Ты — Лыкова?
— Да, я — Лыкова!
Чистых-младший недоверчиво поежился под сверлящим взглядом старика.
— Все считаешь, что мы с Лыковым из-за куска пирога царапались. А между нами шла борьба. Не ради шкурных интересов! Я считал, что Евлампий Лыков гнет в своем колхозе вражескую линию. Так считал, был убежден! Да, я хотел ареста Лыкова. Если б я победил, то Лыкову не поздоровилось. Но победил-то Лыков… Теперь должен или не должен я задать себе вопрос — кто был прав? Кто?.. Честно, без виляний! Он или я? Так вот!.. Со всей революционной прямотой теперь признаю — он прав! Он создал выдающийся колхоз, которым гордится не только район, а и вся область. Жизнь доказала! И мне после этого ненавидеть Лыкова?.. Ты понял, пресмыкающееся? Уважаю Лыкова!
— Уж не считаешь ли, что вы — два яблока с одной яблоньки? — спросил сын.
— Считаю. Одного корня мы.
— Но и с одного корня яблоки разные на вкус — какое-то спело, другое в кислую зелень.
— Моя ли вина, что мне не дано было вызреть?
— А кто не дал? Но Лыков ли?..
— Виновника ищешь. А его нет. Что глаза таращишь?.. Нет, и все. Не каждая икринка взрослой щукой становится. Кто в этом виноват? Жизнь так устроена — нельзя без отходов.
— Выходит, тебя посадили законно и выпустили зря?
— Я перед народом чист как слеза!
Старик стоял перед сыном, горделиво откинув голову, на остром подбородке искрилась седая щетина, в выцветших глазах гордый горячечный блеск, морщины залиты густыми тенями — усохшие живые мощи, прикрытые давно не стиранным исподним.
Сын молчал, и тогда костлявый кулак старика ударил в костлявую грудь:
— Глядишь?.. Гляди, от кого ты родился! Нас называли твердокаменными! И как могло случиться, что от меня, твердокаменного, родился ты, резиновый? Ты служил Лыкову не за идею, а за жирный кусок! Презираю тебя, как презираю сытость!
— Ишь ты, «презираю»… — скривился Чистых-младший. — А небось когда я от себя посылал тебе маслица там или медку, то не презирал, на помойку не выбрасывал — внутрь принимал.
— Вон-но что… Медок… А ты помнишь, чтоб я тебе за этот сладкий медок хоть раз когда-нибудь сладко улыбнулся? Медок принимал… А почему, разреши спросить, поч-чему весь мед должны съесть шкурники? Пусть хоть немного перепадет честному человеку… И чтоб доказать, что меня медом не купишь, то вот… — Старик выкинул в сторону дверей костлявую руку с крючковатым, неразгибающимся, разбухшим в суставах указательным пальцем: — Вон! Слышишь — вон отсюда, лизоблюд!..
Примерно в это самое время в селе Пожары втихомолку переживалась еще одна беда.
Вечером вернулась к себе изруганная женой Лыкова Алька Студенкина.
Дед Матвей, Алькин свекор, пропутешествовавший после долгих лет лежания на печи до дому председателя (это, считай, другой конец села), ни на полати, ни на печь от усталости взобраться не смог, лежал на голой лавке, не скинув валенок, накрывшись о головой полушубком.
Алька его трогать не стала, сама по привычке разделась, по привычке легла в постель — ночь подходит, положено спать.
Но спать, какое уж…
Стояло перед глазами лицо Ольги — злоба до синевы, слова одно другого дурней, с надрывом. А Ольга-то — смирней бабы не найдешь по селу. А Чистых… К Восьмому марта духи дарил в коробочке с кисточкой… Шуганул: «Марш отсюда!»
Стояло перед глазами перекошенное лицо Ольги… Глухая ночь во дворе, только где-то в стороне прокричали пьяные голоса да смолкли… Глухая ночь и долгая. В такую ночь не единожды можно пробежать по жизни, от какого-нибудь солнечного зайчика на бревенчатой стене — первого, что попало в детстве в твою память, — и до… до крика Ольги.
Бывала ли счастлива?.. Как не бывать.
Она идет из города, ей девятнадцать лет. Да было ли еще девятнадцать-то, пожалуй, чуть не хватало… Шла из города. И пошел теплый дождь, и облака какие-то кисейные, свет пропускают, так что весь воздух сверкает серебром. Тяжелые, нацеленные с неба капли бьют по клеверу, клеверные головки сердито вздрагивают. А после дождя — синие лужи, после дождя — медовый запах с обмытого клевера, мокрое насквозь платье, босые ноги чувствуют тучную силу влажной земли. И сила притекала, заполняла тело, рвалась наружу, хотелось бежать, бежать вперед, вперед, хотелось жалеть кого-то крепко, кого-то утешать и радовать.
На темной дороге среди временных синих лужиц стоял одинокий путник. Чем-то он был озабочен, что-то он творил про себя. А она изнемогала от переполнявшей силы, от щедрости, от острого желания кого-то жалеть. Она смело подошла к нему: военная фуражка, гимнастерка, мешок за спиной. И чуть не застонала — рука-то у него ранена, висит на шее. И вот оно что, колдует — свертывает цигарку, весь в это ушел, ее не замечает. Не простое дело — рука-то одна, вторая в бинтах.
— Дай помогу.
Он вскинулся и оторопел… от ее лица. И она сразу смутилась — рука на перевязи, мокро поблескивает медаль на груди (тогда боевая медаль была редкостью), да еще глаза, застывшие в изумлении под лаковым козырьком военной фуражки.
— Дай помогу.
— Помоги, — согласился он.
Семен Студенкин ушел в армию, когда ей исполнилось едва четырнадцать лет. Попал на финскую — попортило руку, получил медаль «За отвагу». Рука срослась быстро, на войну с немцем его мобилизовали одним из первых. Алька получила только одно письмо с фронта, второй весточкой была уже похоронная.
Была ли счастлива?.. Как не быть. Год жила с Семеном душа в душу. За этот счастливый год она много лет обиходила старика Матвея, отца Семена, как могла, следила, чтоб был сыт, чтоб ходил в чистом да не драном…
А Евлампий?.. Нет, с ним не было счастья. Жила, как белка на жидком тальнике, загнанная собаками, сорвись — попадешь в зубы.
Долго же держалась, теперь, считай… сорвалась.
Ольга Лыкова — смирная баба, завтра подымутся все, кому не лень: ты сводня, ты блудница! Беги, Алька, спасай себя!
Бежать?.. А куда?..
Кому ты нужна, растолстевшая, сорокадвухлетняя баба? Нет ни молодости, ни красоты, руки от настоящей работы отвыкли. Кому нужна? Только деду Матвею, и то ненадолго, и тот скоро помрет. Короток бабий век.
Алька лежала в темноте на своей вдовьей кровати. Когда-то на ней впервые обнял ее Семен, крик утренних петухов пробивался к ним сквозь стены. У Семена были жесткие, ласковые руки, до сих пор, как вспомнишь их, — тоска во всем теле. Семен не успел состариться, старилась она, а он так и остался молодым.
Здесь она принимала Евлампия, принимала, случалось, и других после него. Евлампий не Семен — молодым никогда не был. Теперь и Евлампия, считай, нет. Все остальные — тоже для нее покойники, живет о них только смутная память.
Далеко, далеко позади серебряный дождь, а впереди от минуты к минуте все ближе утро. Это утро не стоит видеть, за ним — плевки, ругань, грязь взахлеб. Для кого-то и настанет утро, для нас — ночь без края.
Минута за минутой идет время. Идет к концу бабий век.
Она лежала с сухими глазами — не так уж и богато ее прошлое, чтоб горько оплакивать, а будущего нет. Лежала, не спешила, спешить некуда — пока время есть, рассвет не скоро.
Лежала отдыхала, набиралась сил, еще и еще раз без устали припоминала серебряный дождь, оторопелые глаза из-под мокрого козырька военной фуражки…
Она дождалась первых петухов и поднялась… Покинула теплую постель, где было так уютно перебирать незатейливую жизнь, со стороны дерзко, с чужим равнодушием оглядываться на себя и испытывать горькое удовольствие от принятого решения.
Она покинула постель и сразу же почувствовала зябкий страх — не мечтай, а делай, что решила.
Ночь еще не прошла, душная, жирная тьма заполняла избу, только вкрадчиво синели окошки. С далекой окраины долетел последний хрупкий петушиный крик — сломался. Лишь тревожно шумела кровь в ушах да галопом рвалось из груди сердце.
Чего-то не хватало в избе, чего-то привычного. Обжитой до устали дом казался сейчас чужим. И зябкость, и жирная ночь, заполнившая бревенчатые стены, и невнятный страх, мешающий сделать шаг от кровати. Тишина шуршала в ушах, непонятная тишина, в ней чего-то недоставало.
И вдруг Алька поняла — чего! На ознобленной коже зашевелились мурашки. В тишине не слышно было надсадно тяжелого дыхания старика. Словно его нет в избе. А он же лежит, он тут, на лавке, она его чувствует, даже видит мягкую округлость стариковского полушубка, чуть прикрывшего низ невнятного синего окна.
Леденея от ужаса, хватаясь за стену руками, она двинулась к выключателю, нашарила — звонкий щелчок, до ломоты в глазах яркий свет.
Жмурясь всем лицом, дрожа всем телом, с усилием донесла себя до лавки на ослабевших ногах, боязливо, издалека потянула на себя полушубок.
— Дед… Эй, дед!..
Изуродованная работой рука старика свалилась с лавки, костляво стукнула в пол.
По селу на серых снегах улочек натужно вызревал дымчатый унылый рассвет. Село покойно спало, равнодушно пережив еще одну петушиную перекличку.
Лампочку Алька только что выключила. Мутный свет вползал в избу, означая щели на темных бревенчатых стенах, фотографии в простенках, узловатые сучки на изношенном полу.
Матвеи Студенкин лежал на лавке животом и грудью, плоский, спрятав голову в полушубок, выставив напоказ огромные растоптанные валенки, упираясь чугунно-темной рукой в пол.
Алька, накинув поверх нательной рубахи шаль, сидела, съежившись, под выключателем и плакала. Оплакивала и старика, который много лет сиротливо прожил с ней под одной крышей, оплакивала и самое себя, свое круглое одиночество.
Бабьи слезы целебны. Вместе со слезами растаяла решимость — не ждать утра. А утро исподволь, но упрямо наступало, рассольно мутный свет сочился в избу. Алька глядела на оброненную руку старика и уже боялась смерти, жалела себя. И суетливые мысли теснились в голове: «Может, Сережка Евлампия сменит. А Сережке она всегда добра желала. И Ксюшка его как-никак родня ей… Не дадут в обиду…» Сама не очень-то верила в это, но размякла от слез.
По улочкам спящего села полз рассвет. Ночь, начавшаяся смертью Евлампия Лыкова, первая ночь без прославленного председателя, кончилась.
Последний путь
Впереди несли подушечку из красного атласа с орденами. Впереди умершего шагали его заслуги.
День выдался хмурый, плотные облака висели над самыми крышами, в воздухе — пресные запахи талого снега, на голых деревьях кричало воронье, растревоженное небывалым многолюдием.
Евлампий Лыков, мужик из села Пожары, родившийся в нищей избе, учившийся в приходской школе всего три года, бывший подпасок, бродячий «растировщик» теса, плыл над землей в гробу, обтянутом красным сукном и черным шелком. И областное начальство почтительно несло его на своих плечах.
За гробом — целая толпа с венками: в хмурый апрель — неподдельная летняя зелень, и свежая хвоя, и красные и черные ленты с надписями притушенного золота… Венки, присланные из областного города, и венки, сделанные руками школьников.
Из города прислан и военный оркестр — рослые, подтянутые ребята с малиновыми околышами, малиновыми погонами, малиновыми физиономиями, мокро сверкающие медью и серебром своих труб, рядами начищенных пуговиц.
Поначалу местный народ поглядывал на них с тайной неприязнью — красавцы писаные, чужаки, службу исполняют, что им Евлампий Лыков. А какая уж музыка без сочувствия.
Но красавцы, видать, службу свою знали крепко. Когда они впервые приложили трубы к губам и по взмаху старшего начали, то казалось, низкое небо изумленно попятилось вверх, мир стал раздвигаться. Стройно, строго, с саднящей до немоготы болью вспухали звуки. Горестно охала большая труба, навзрыд плакали трубы маленькие. Глухо отзывался большой барабан, одобрял: «Так! Так!» И медные тарелки кратко, с лязгом соглашались: «Воистину!»
В толпе по простоте душевной заголосила было какая-то баба и спохватилась — не свата хоронят, — смолкла, устыдившись.
А тоскующая медь лилась и лилась на крыши пожарских изб, увешанных сосульками, на покосившийся штакетник, на увязнувшие в размякшем снегу прясла изгородей, на людей… В каждого вливалась нежная отрава.
И бабы начали сморкаться, одна за другой смахивали слезы, закрякали мужики, тоже трубно засморкались… По растянувшейся толпе, как болезнь, как поветрие, от одного к другому стал распространяться тихий слезный плач.
Барабан одобрял: «Так! Так!» «Воистину!» — соглашались тарелки.
Село Пожары, верно, стоит на земле не одно столетие, но оно еще ни разу не было так запружено народом. Впереди несли атласную подушечку с орденами, в самом хвосте лошадь волокла по ростепели сани. В них копной сидел Иван Иванович Слегов.
Поначалу неказистое сельское кладбище с редким соснячком, с покосившимися крестами было будничным, скучным.
На пути попалась могила, свежая, в рыжей глине, бросающаяся в глаза среди осевшего снега. Здесь вчера без шума, второпях схоронили Матвея Студенкина, первого пожарского председателя, того, кто выдвинул знаменитого Лыкова.
Кладбище казалось обидно скучным лишь до тех пор, пока в него не влился весь народ, не заполнил до отказа, не прикрыл собой ветхих крестов, полузабытые могилки дедов и прадедов. Народ заполнил соснячок, народ принес с собой торжественную скорбь, музыка раздвигала небо и вершины деревьев…
Над открытой могилой, над гробом, как и положено, были произнесены короткие речи: «Спи спокойно, дорогой товарищ!..»
Речи — дело привычное, они успокоили всех, высушили даже бабьи слезы.
У края могилы в окружении гостей, но в то же время как-то наособицу стояла жена Лыкова, Ольга, пряча морщинистое лицо в грубошерстный платок. Сыновей с ней не было. Сыновья сидели в Вохрове в «предварилке». Их не пустили на отцовские похороны — убийцы, Леха Шаблов умер в больнице.
Речи кончились, приготовились спускать гроб. И снова заиграл оркестр. На этот раз знакомое: «Вы жертвою пали…» — траурный марш революционеров, который не успели исполнить по пути от села к кладбищу.
Вы жертвою пали в борьбе роковой…Прежде медные тарелки лишь скромно соглашались: «Воистину!» Теперь они властно звали: «Слушайте! Слушайте!»
И тут Ольга дико вскрикнула, упала на размешанный пополам с глиной снег и забилась в истерике. К ней бросились…
Ее выкрик — что искра в сухой хворост, — в разных концах толпы заголосили бабы:
— Корми-и-илец ты на-аш! И на кого-о ты нас, сирот бе-едных, покида-ешь!
Скорбная медь воинских труб и древние вопли деревенских баб — воедино.
Сергей Лыков, стоявший в толпе, почувствовал, как против воли слезы подпирают к горлу.
Он припомнил, как дядя Евлампий — нет, еще не гордый председатель Лыков, просто член их большой семьи — с шуточками и прибауточками мастерил им, ребятишкам, «катушки» — широкие доски с сиденьями, на которых можно лихо съезжать с горок. Приносил он из города и обливные пряники: «На-ко, сморчки!» Мать ругалась: «Тратишься па пустое». Он посмеивался: «Эх, всех нищих не перефорсишь, свечой копеечной бога не замолишь».
И еще Сергей вспомнил, как вечером после страдного дня Евлампий Никитич шел домой… Только что тот прощался с кем-то из бригадиров бодрым голосом, а теперь шагал и не догадывался, что за ним следят из окна: лицо отпугивающе неподвижное, поникшие плечи, плетями висящие руки, волочащаяся походка — смертельно устал человек, несколько часов сна, и подымайся до первых петухов, до восхода солнца…
Вы жертвою пали в борьбе роковой, В любви беззаветной…Была и беззаветность, не откажешь…
На минуту накипели слезы, но… не пролились.
А Ксюша, прижавшаяся к его плечу, слез не сдержала. Она на шестом месяце беременности, но дома не осталась, приехала хоронить председателя. Сергей оберегал ее, следил, чтоб не затолкали в толпе.
А с другого боку от Ксюши стоял беспокойный мужичонка. Он то подымался на цыпочки, чтоб увидеть гроб, то начинал действовать плечами, лез вперед, но каждый раз его оттесняли обратно. Заиграли «Вы жертвою…», и он притих, завздыхал:
— Эхма! Мы, считай, с ним одногодки! Эхма!
Сухим, узловатым кулаком он начал давить слезы на морщинистых щеках, короткий вздернутый нос его вишнево залоснился, веки стали красными.
— Эхма! Евлампий Никитич! Любой!..
Это был Пашка Жоров, мужик смолоду скандальный, часто поругивавший Евлампия Лыкова. Но сам Евлампий при жизни этого, пожалуй, и не ведал — слишком мелок Пашка Жоров, чтоб в чем-то его замечать, даже в ругани.
Прежде Пашка поругивал, теперь вот давит мелкие слезинки костлявым кулаком. Да и то, над Пашкой Жоровым нынче не каплет, не худая крыша над головой. Евлампий Лыков к концу жизни все-таки сделал это. А много ли Пашке надо? И причитающим бабам тоже.
— Эхма!..
Медь труб, бабий крик и мужские слезы.
Народ потянулся к могиле, без напора, уважительно соблюдая порядок. Каждый ждал своей очереди, чтоб набрать горсть земли, бросить в промерзшую яму на крышку гроба.
Валерий Чистых, празднично выбритый, с горестно раскисшими круглыми глинами, с помятым, смиренным лицом, с красно-черной повязкой на рукаве — один из организаторов похорон, — утомленно упрашивал:
— Разрешите, граждане… Дорогу, товарищи… Прошу вас… Очень, очень прошу…
На голос Чистых оглядывались, видели за ним бухгалтера на костылях, поспешно сторонились.
Иван Иванович, с трудом перекидывая непослушные ноги, приблизился к насыпи. Одной рукой он стянул шапку, обнажив седину, отливающую металлом, другой взял горсть земли, помедлил, бросил, прислушался… И еще постоял в задумчивости, только потом, под почтительными и сочувствующими взглядами, стал неуклюже разворачиваться…
Добрался до могилы Пашка Жоров, суетливо кинул одну горсть, показалось мало, кинул другую, вытянув тощую шею, заглянул в глубь ямы, придавив еще одну слезу кулаком, отошел, громко и победно высморкался.
Почти позади всех в очереди ждала прощальной минуты Алька Студенкина, опухшая от слез, уставившаяся в землю.
Музыка смолкла — только глухой стук земли о крышку гроба, только напряженное шевеление толпы.
Бравые парни-музыканты деловито продували свои трубы, вытряхивали мундштуки.
Сергей стоял в стороне и смотрел.
Толпились люди над могилой, над ними висело низкое небо, темнели стволы отсыревших деревьев, и празднично кричало воронье.
Еще лежит снег, но земля уже по-весеннему потная. Обычная земля под твоими ногами, не чудо-чернозем, не из тех, что дарит диковинные ананасы, просто земля не хуже других. Земля есть и всегда будет, есть и силы, что же еще?..
Падают комья на крышку гроба. Комья земли на человека, который считал эту землю своей. И толпятся люди, хоронят тело старого Лыкова.
Ходят слухи, что перед самой смертью он успел сказать: «Мертвый князь дешевле живого таракана». Ой ли, не клевещи на себя, Евлампий Никитич. Умершие часто продолжают жить среди живых.
Евлампий Лыков умер, Евлампий Лыков жив. Жив в бабах, которые только что величали его «кормильцем», жив в Пашке Жорове, в бухгалтере Слегове теплится…
Лыков стал привычкой. От своих привычек люди легко и быстро не отказываются — только с болью, только с боем.
Бой… Сергей начал его, когда председатель Лыков твердо ходил по земле. Теперь комья земли падают на крышку гроба. И бой не кончен, с умершими тоже приходится спорить. Спор ради тех, кто причитал по «кормильцу», спор против тех, кто готов кормиться именем Лыкова.
Чистых с удрученным лицом хлопочет у могилы. Говорят, он собирается уйти из колхоза. Но далеко ли он уйдет?.. Евлампий Лыков умер, Евлампий Лыков жив.
Могила под низким небом. И потная от оттепели земля обступает кругом.
Земля, ждущая весны…



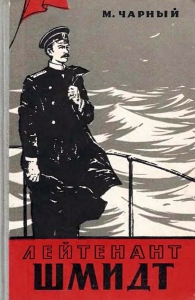

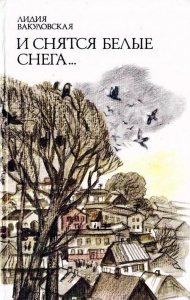
Комментарии к книге «Кончина», Владимир Федорович Тендряков
Всего 0 комментариев