Антон Семенович Макаренко Марш 30-го года
Памятник Феликсу Дзержинскому
Вступление
Харьковская окраина. Опушка леса, красивый темно-серый дом, цветники, фруктовый сад, площадки для тенниса, волейбола и крокета, открытое поле, запахи чабреца, васильков, полыни…
Здесь расположена самая молодая детская коммуна на Украине — коммуна имени Феликса Дзержинского, открытая 29 декабря 1927 года. Сто пятьдесят коммунаров (сто двадцать мальчиков и тридцать девочек) живут в великолепном доме, выстроенном специально для них.
Многие товарищи упрекали коммунаров-дзержинцев в «дворцовой жизни» и даже в барстве. Подумайте, живут в таком роскошном доме! Дом с паркетными полами, с великолепной уборной, с холодными и горячими душами, с расписными потолками…
— Разве это воспитание? Привыкнут ребята к такому дому и душам, и паркетам, а потом выйдут в жизнь, где ничего этого нет, и будут страдать. Надо воспитывать применительно к жизненной обстановке.
Говорили еще и так:
— Рабочему человеку все это не нужно. Рабочему нужно, что поздоровее и попроще, а эти финтиклюшки ни к чему.
Коммунары, впрочем, не особенно прислушивались к этой болтовне. Они не сомневались в том, что душ — вещь хорошая, да и паркет — тоже неплохо.
В первые дни коммунары только восторгались всем этим, но вскоре оказалось, что паркет нужно беречь, что с душем надо обращаться умеючи, что с расписных потолков нужно ежедневно стирать пыль. Сохранение этого дома — памятника Дзержинскому, содержание его в чистоте стало делом всех коммунаров.
Наш дом достаточно велик, несмотря на то, что по фасаду он большим не кажется. Это двухэтажный темно-серый дом, без каких бы то ни было архитектурных вычуров. Только сетка вывески с золотыми буквами над фронтоном да два флагштока над нею украшают здание. В центре — парадная дверь. От главного корпуса протягиваются вглубь три крыла, так что все здание имеет форму буквы Ш. В первый год существования нашей коммуны других зданий у нас не было, если не считать несколько стареньких дач, в которых кое-как расположился обслуживающий персонал. На втором году коммуна построила одноэтажный длинный флигель. Теперь здесь квартиры работников коммуны и мастерские.
Войдя в дом и пройдя небольшой вестибюль, вы остановитесь перед парадной лестницей. Она довольно широка, освещена верхним окном в крыше, стены и потолок расписаны.
Нижний этаж симметричен. Направо и налево тянется светлый коридор. С каждой стороны лестницы расположено по одной комнате управления, по одному классу и по одному залу. Левый зал у нас называется «громкий» клуб. Там — сцена и киноустановка. Правый зал — столовая. Рядом с ним кухня. И в классах и в залах большие окна. В «громком» клубе собрано все то великолепие — гардины, портреты, расписные потолки и т. д., - тлетворным влиянием которого нас попрекали. В зале рояль и хорошие венские стулья, изготовленные в нашей мастерской. В столовой пятнадцать столов, накрытых клеенкой, у каждого стола по десять венских стульев. Портреты Ленина и Дзержинского. И больше ничего. Стена-окно отделяет столовую от кухни. В кухне — в белом колпаке Карпо Филлипович.
В классах нет парт — двухместные дубовые столики и двухместные дубовые легкие диванчики.
Подымаемся по парадной лестнице на второй этаж.
На первой площадке лестницы, под портретом Дзержинского, имеется две двери: одна из них ведет в «тихий» клуб, вторая — в спальню девочек.
У этой спальни есть своя длинная и бурная история.
Окна выходят на север, пол не паркетный, и главное — комната очень велика. Наши ребята против больших спален.
Первыми здесь поселились ребята одиннадцатого отряда, все — малыши и новенькие. Постоянное отставание этого отряда во всех решительно областях, неряшливый, некоммунарский вид Петьки Романова, Гришки Соколова, Мизяка, Котляра, Леньки и других пацанов, вечные разговоры на общих собраниях и в совете командиров о том, что одиннадцатый отряд надо подтянуть, различные мероприятия, вплоть до лишения малышей право выборов командира, — все это достаточно всем надоело. Летнее избирательное собрание 1929 года назначило в одиннадцатый отряд командира из старших, комсомольца, но он скоро, не справившись с заданием, категорически заявил на собрании, что лучше будет целый год чистить уборные, чем командовать «этой братвой». Начались бурные собрания, одно за другим, на которых заведующий крыл комсомольцев за то, что забросили пацанов, а коммунар Алексеенко требовал жестких законов для них. Пацаны тоже выступали на собрании и доказывали, что никто не виноват, если штаны быстро рвутся, если руки и шеи не отмываются, если постели неизвестно кем разбрасываются, если стрелы попадают не в дерево, а в окно, если полотенце почему-то оказывается не на своем месте. Но, в конце концов, было принято твердое решение: расформировать одиннадцатый отряд и разделить малышей между остальными десятью отрядами, состоявшими из более взрослых ребят. Целый день продумали командиры, и, как ни вертели, все выходило, что придется девочкам покинуть свои прекрасные две спальни наверху и перебраться в одну, на место одиннадцатого отряда. В совете командиров было восемь командиров, из них только две девочки: командиры пятого и шестого отрядов. Девочки протестовали и ехидно указывали:
— Конечно, нас только двое, так вы можете что угодно постановить.
В конце концов предложили девочкам компенсацию, на которую они согласились. Купили девочкам гардины, поставили посреди спальни большой хороший дубовый стол и дюжину стульев, на пол положили пеньковую дорожку с зелеными кантами. Обещали еще дать им трюмо, да этого обещания не исполнили по финансовым соображениям. Правда, девочки и не настаивали.
Вот почему сейчас у девочек так хорошо обставлена спальня.
В «тихом» клубе альфрейные потолки и великолепная мебель: четыре восьмигранных дубовых стола, окруженных светлыми венскими стульями. Особенно заботливо обставлены уголки Дзержинского и Ленина. «Тихим» клуб называется потому, что в нем нельзя громко разговаривать. Здесь можно читать, играть в шахматы, шашки, домино и другие настольные игры.
За клубом — комната для книг. У дзержинцев до шести тысяч томов в библиотеке.
Верхний этаж занят спальнями. Их одиннадцать и почти все они одинаковы: на двенадцать-шестнадцать человек каждая. В широком коридоре и во всех спальнях — паркетные полы. Все кровати — на сетках и покрашены под слоновую кость. Комнаты все очень высокие, много воздуха и солнца.
В том же здании внизу — мастерские, о которых еще много придется говорить, а на втором этаже — больничка-амбулатория и две-три кровати на всякий случай. Но коммунары редко болеют, и эти кровати стоят пустыми. Наш лекпом поэтому занимается больше врачебными разговорами и воспоминаниями о своей прежней медицинской деятельности, когда он был подручным у какого-то светила и затмевал это светило благодаря своему таланту и удачливости. Ребята лекпому не верят и смеются.
Как мы начали
Обычно детские дома, колонии, городки помещаются в старых монастырях или в бывших помещичьих гнездах. За время революции многие из этих ветхих построек обратились в развалины. Прежде чем помещать в них детей, приходилось восстанавливать разрушенное. Окрестные плотники и жестянщики, производившие ремонт, ходили по имениям со своим нехитрым инструментом, украшая строения свежими сосновыми заплатами и доморощенными пузатыми печами. По уютным когда-то комнаткам размещались объекты социального воспитания. Для них расставлялись шаткие проволочные кровати, и на вбитых в стены четырехдюймовых гвоздях развешивались грязные полотенца. Те же плотники в честном порыве втиснули в расшатавшийся паркет новые сосновые ингредиенты, и под бдительным оком санкомов заходили по паркету половые тряпки, обильно смачиваемые грязной водой. Крылечки, предназначенные для нежных ножек тургеневских женщин, и перильца, на которые должны были опираться нежные ручки, не могли выдержать физкультурных упражнений неорганизованной молодежи, и зимою их обломки дослуживали последнюю службу человечеству: с аппетитом пожирал сухое дерево разложенный в печках огонь. Удобные для размещения ампирных диванчиков и различных пуфов небольшие комнатки не соответствовали новым требованиям. Многочисленные переборки и простенки были серьезным недостатком общежитий. Они были зачастую столь стары, что их них вываливались гвозди, и домашние штукатуры напрасно прибавляли к их толщине два-три вершка глины. Они стояли до поры до времени, эти бугристые изнемогавшие стены. «Клифтами», штанами, рукавами и плечами вытирался мел, которым ребята белили стены. Обваливалась глина. Наступал момент, когда явственно обнажался древесный скелет. Последний часто использовался ребятами как топливо.
В монастырях — та же история и те же картины. Только стены в монастырях гораздо массивнее, только запахи в бывших кельях гораздо живучее: с большим трудом вытесняется приторный запах ладана. Но переборки и стены здесь разрушались скорее, крылечки в самом непродолжительном времени заменялись приставленной доской.
В монастыре детский дом прежде с великим увлечением приспосабливал под клуб церковь. Десятисаженные высоты и храмовые просторы страшно увлекали наших педагогов, которым представлялось: вот в этих дворцах забурлит клубная работа, вот здесь разрешается все проблемы нового воспитания. Перестройка этих церквей стоила очень дорого, а результаты получались, просто говоря, неудовлетворительные. Летом ребят не загонишь в полутемный гулкий и неуютный зал, и зимою ничем клубный воздух не отличается от свежего зимнего. Все потому, что когда перестраивали храм, то, оказывается, не сообразили: никакими печами и никакими тонами топлива помещение не обогреешь.
Полуподвальная трапезная со стенами и подоконниками шириною с полторы сажени, с нависшими сводами, обставленная древними столами длиною в четверть километра, конечно, обращалась в столовую. Она трижды в день наполнялась шумливой и нетерпеливой толпою, и поэтому никогда не находилось времени убрать столовую как следует. Пыльные окна скоро становились целыми государствами пауков, кое-как прикрытые мелом масленые спасители, богородицы и чудотворцы начинали одним глазом подсматривать за ребятами, а потом доходили до такой смелости, что и бороды их и благословляющие персты безбоязненно окружали ребячью толпу.
И в имениях и в монастырях очень много построек — домов, домиков, флигелей, складов. Как посмотрит, бывало, организатор на эти хоромы и коридоры, так и себя не помнит. Но жадные на помещение педагоги просчитываются на этом обилии. Сотни детей через месяц уже сидят на всех подоконниках. Оказывается, что разместились не совсем удобно, что это нужно перестроить, а это построить заново, а это перенести. Целое лето энергичный организатор торгуется с плотниками и печниками. На осень разумеется по-иному. Но зимою в колонию приходит новый организатор, у которого новые вкусы. Начинаются стройки и перестройки. Действительно, все это богатство представляет просторное поле для деятельности. И так бесконечно перестраивается колония, но самого главного в ней всегда нехватка: теплых уборных нет, водопровода нет, электричества нет, и канализации нет, и нет никакого органического единства, и никакой гармонии. Игра вкусов на протяжении пяти — десяти лет настолько запутывает, что в последнем счете — все по-прежнему неудобно и неуютно. В течение целого дня сотни ребят бродят из дома в дом, ибо в одном доме столовая, в другом — школа, в третьем — мастерские, в четвертом — клуб, в пятом — спальни, а в шестом — управление, и ни в одном из этих домов нет вешалки, а если и есть, то никто эту вешалку не охраняет. Никому не хочется остаться без пальто, без фуражки, и бродят ребята по колонии, не раздеваясь в течение всего дня… Надворные уборные в самый короткий срок делаются непригодными для прямого своего назначения, и зимой используют их все для того же отопления. В наскоро приспособленных умывальниках всегда налито, напачкано — не лучше, чем в уборных. Так, несмотря на все ремонты и перестройки, отнимающие огромные средства, все это старье все-таки постепенно разрушается, осыпается и обваливается, пока, наконец, спасительный пожар не уничтожает последние остатки старого мира и пока, следовательно, детский дом не переводится в другое место.
Наш дом выстроили чекисты Украины за счет отчислений из своей заработной платы. Чекисты создали памятник великому Дзержинскому. Они обнаружили ясность и четкость в понимании задачи, последовательность и решительность в ее выполнении.
В конце декабря 1927 года наш дом был готов и оборудован. Были расставлены кровати, в клубах повешены гардины и закончены художниками уголки. В библиотеке на полках стояло до трех тысяч книг, в столовой и на кухне все было приготовлено, и сам Карпо Филлипович был на месте. Кладовые были наполнены всем необходимым. И только когда все это было готово, в коммуну приехали первые коммунары.
По этому поводу многие товарищи говорили: не по правилам сделано, ни на что не похоже, педагогической наукой и не пахнет.
Мы и раньше не раз слышали такие проповеди:
— Не нужно ребятам давать все в готовом виде. Не нужно им все до конца строить и оборудовать. Пусть детский коллектив собственными руками сделает себе мебель, украсит свой дом, вообще пусть он станет на путь самоорганизации, самообслуживания, самооборудования — только тогда у нас воспитается настоящий, инициативный человек-творец.
Как прекрасно звучат все эти слова!
Но ведь дело не только в словах.
Мы не против самоорганизации и самооборудования, пусть никто не обвинит нас в педагогическом оппортунизме.
Изготовить, скажем, мебель, столы, скамьи или даже стулья — это, конечно, очень хорошо. Но для этого нужно уметь это изготовить.
Если ты не умеешь сделать стол, то ты его и не сделаешь, а если сделаешь, то дрянной, и уйдет на это больше времени и больше средств, чем на покупку стола в магазине. И еще: не сделает этого стола не только ребенок, но и самый хитроумный организатор, который придумал именно такой порядок самооборудования. При таком мучительном способе самооборудования как раз никаких воспитательных достижений не получится. Наоборот, можно сказать с уверенностью, что самые талантливые ребята через месяц возненавидят вас за то, что их заставили спать на полу и обедать на подоконнике, что заставили их делать то, чего они не умеют делать.
Но доказать эти простые вещи не так уж легко. Многим педагогам очень приятно показать посетителям рукой на все окружающее и сказать:
— Это дети сами сделали.
— В самом деле? Ах, какая прелесть! Действительно, как интересно!.. Как же вы этого добились?
И тогда изложить свои восхитительные приемы:
— Очень просто, знаете… Когда дети сюда прибыли, мы им ничего не дали, мы им сказали: сделайте себе все своими силами!
Мы хотели бы таким педагогам посоветовать:
— Почему бы вам самим на себе не испытать всю прелесть этого метода? Ведь если это вообще полезно, то полезно будет и для вас: может быть, и у вас прибавится инициативы и творческого опыта. Попробуйте вместе с вашими восторгающимися посетителями поселиться в пустых комнатах и самооборудуйтесь — сделайте себе столы и табуретки, сшейте одежду и т. п.
Дзержинцы вошли в готовый и оборудованный дом. Им предоставлено было все то, что нужно для мальчика и девочки: забота, чистота, красивые вещи, уют — все то, чего они давно были лишены и что должны по праву иметь все дети. Никто не захотел производить над ними неумных, жестоких и ожесточающих опытов.
Первые дзержинцы
Мы решили, что не стоит сразу впускать в дом толпу с улицы и потом смотреть, как будет разрушаться общежитие. Первые отряды дзержинцев были организованы из ребят, живших в колонии имени М.Горького. Это не значит, что мы выбрали из числа горьковцев самых лучших и организованных ребят и оставили колонию в руках новичков и социально запущенных. Отряды первых дзержинцев заключали в себе сильных и слабых ребят, и даже ребят, довольно сомнительных в смысле пригодности их для роли организаторов нового дела. Но все они уже были связаны общей горьковской спайкой.
Из состава горьковской колонии было выбрано для колонизации Нового Харькова шестьдесят колонистов, в том числе пятнадцать девочек. Уже за три недели до переезда эти ребята были выделены советом командиров горьковской колонии и приняли участие в подготовке своего переезда. В мастерских горьковской колонии была изготовлена новая одежда, и 26 декабря все шестьдесят человек, нарядившись в новые костюмы и попрощавшись с колонистами, в снежный зимний день тронулись навстречу новой жизни.
Вошли они в новый дом запущенные снегом, пухлые и толстенькие, какими не привыкли у нас видеть беспризорных. Бобриковые пальто еще больше толстили их.
Большинство первых дзержинцев были в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, но попадались между ними и старые горьковцы, представители первых полтавских поколений этого прекрасного племени.
Здесь были:
Виктор Крестовоздвиженский — мастер и работать, и командовать, и веселиться, человек, преданный самой идее детской коммуны, обладавший исключительными способностями организатора: прекрасной памятью, способностью схватывать сразу множество вещей, привычкой к волевому напряжению. К тому же Виктор был очень искренним и благородным человеком. Единственным его недостатком, унаследованным от первых времен беспризорщины, было пренебрежение к школе. Он всегда презрительно относился к стремлению многих ребят попасть на рабфак и в глубине души считал рабфаковцев «панычами».
Митя Чевелий — «корешок» Виктора — многим отличался от него, но был его постоянным спутником на жизненном пути. Это был идеальный горьковец, подтянутый, стройный и немногословный. Дмитрий был крепко убежден в ценности и колонии и коммуны. Он видел очень много детских домов, принимал даже участие в реорганизации некоторых разваленных колоний. Он был очень хорош собою, но никогда не козырял этим и к девушкам относился чрезвычайно сдержанно.
И Виктору и Дмитрию было лет по семнадцати.
Третьим нужно назвать Кирилла Крупова, тоже «старика-полтавца». Кирилл всегда был очень способным и в настоящее время учится в одном из вузов Харькова. Неизменно активный, он был в комсомольской ячейке одним из самых видных членов. Правда, на него иногда нападало легкомысленное настроение. Он очень любил начать вдруг возню. Его желание встряхнуться после работы выражалось в диких прыжках и сумасшедшей беготне, причем далеко не всегда удавалось избежать столкновения с вещами и с людьми. Бывали у него минуты, когда на него «находило». Вдруг он становился забывчивым и недисциплинированным. После ему приходилось отдуваться на общих собраниях наравне с малышами. Но, в общем, это был хороший товарищ и прекрасный коммунар.
Павлуша Перцовский, любимец всех коммунаров, человек удивительно добрый, но с твердыми убеждениями. Такие люди, как он, сильны прежде всего тем, что умеют от чего угодно отказаться и с чем угодно примириться, если это касается материальных условий.
Вот Николай Веренин — это совсем другой человек. Пришел он к нам жадненьким и весьма нечистым на руку. Между словами «купить», «выменять», «отнять», «украсть» он не видел никакой качественной разницы и избирал всегда тот способ, который был наиболее удобным. Жизнь в горьковском коллективе, чрезвычайно настойчивом и не боявшемся никаких конфликтов, подействовала на Веренина только в том смысле, что заставила его быть гораздо осторожнее. Веренин был парень очень неглупый, Уже в колонии Горького он был в старшей группе и считался одним из самых образованных коммунаров. Он умел объединить несколько невыдержанных товарищей, чтобы вместе с ними начать игру в карты, проникнуть в кладовку, организовать наблюдение за тем, что плохо лежит, и т. д. Новичков Веренин в первый же день брал на свое попечение и эксплуатировал их, как только было возможно. Использовал он и кое-кого из ребят постарше, тех, кто поглупее. В числе таких был Охотников, которого ребята назвали «удивительная балда». Однако политика Веренина еще в колонии Горького начала срываться. Его выкинули из комсомола и стали смотреть на него как на последнего человека.
В самый день переезда новых дзержинцев из Куряжа в Новый Харьков Веренин был назначен сопровождать воз с ботинками. И конечно, пара ботинок исчезла неизвестно куда. Веренин был не один — с ним был Соков, спокойный и стройный мальчик, самим своим видом внушавший к себе доверие. Веренин указывал на то, что с ними был конюх, и им нужно было отлучаться от подводы по делам. В первый же день в коммуне Дзержинского пришлось разбирать такое грязное дело.
Свою жизнь в новом доме мы начали с организации самоуправления.
Как только коммунары разделись и наскоро ознакомились со зданием коммуны, Крестовоздвиженский взялся за сигнальную трубу, предусмотрительно купленную накануне. Впервые в нашем дворце зазвенели звуки старого сигнала, так всем хорошо знакомого, такого зовущего и такого непреклонного:
«Спеши, спеши, скорей!»
Оживленные, радостные ребята, восхищенные и домом и новизной своих костюмов, сбежались в зал «громкого» клуба. Витька, вытирая ладонью мундштук сигналки, засмеялся:
— Хорошо! Проиграл один раз — и все на месте.
Действительно, в колонии Горького, чтобы собрать общее собрание, да еще такое экстренное, пришлось бы с трубой в руках обходить все корпуса и закоулки.
В «громком» клубе на новых диванах киевской работы расселись шестьдесят новых коммунаров.
На собрании мы занялись подсчетом: для слесарной нужно две смены, для столярной две смены, для швейной две смены — вот уже шесть отрядов. Еще сапожная мастерская — тоже выходит два отряда, но относительно ее были сомнения.
— Тут такие мастерские и машины, что никто не захочет идти в сапожную, — говорили ребята.
Наметили и еще один отряд — хозяйственный. По горьковскому плану в этот отряд входили ключники, завхозы, кладовщики, секретарь совета командиров и вообще все должностные лица колонии или ребята, имеющие индивидуальную работу.
Решили на собрании, что каждый коммунар сейчас же напишет на клочке бумаги, в какой мастерской он желает работать, а совет командиров немедленно соберется и рассмотрит все эти записки. Совет командиров выбрали тут же на собрании и поручили ему распределить по отрядам командиров. Выбрали и секретаря совета — Митя Чевелий. Первыми нашими командирами были: Крестовоздвиженский, Нарский, Соков, Перцовский, Шура Сторчак и Нина Ледак.
Только тронулись все из «громкого» клуба, а Витька уже затрубил «сбор командиров».
Коммунары разошлись по коммуне, главным образом по мастерским, где их ожидали новенькие станки — токарные, сверлильные, шепинги, фрезерные, долбежные.
А в комнате совета Митя Чевелий оглядел всех шестерых своими черными глазами и сказал ломающимся баском:
— Совет командиров трудовой коммуны имени Дзержинского считаю открытым.
Михайло Нарский, самым видом своим противоречащий всякому представлению о торжественности, сказал, весело шепелявя:
— Хиба ж это совет командиров? Шесть каких-то человек! От, понимаешь, даже смешно! Вот в колонии хиба ж так?
Но Митя сердито оборвал его:
— Если тебе смешно, так выйди в коридор и посмейся.
Нарский смущенно наклонил лохматую голову и сказал:
— Та я шо ж? Я ж ничего… Так только…
Долго пришлось просидеть за столом совету командиров, распределяя коммунаров по отрядам, учитывая все личные особенности и желания, считаясь и с требованиями заведующего производством. Особенно трудно было с сапожной мастерской: никто не хотел посвятить свою жизнь сапожному делу. Пришлось в скором времени мастерскую закрыть.
Занялись и Верениным. Недолго бузил Николай, повинился в грехе, и сказал ему Митька:
— Ото ж, щоб було в послiднiй раз, бо не знаю, що тобi зроблю!
И удивительно! — как священный завет принял Веренин слова Митьки: сегодняшний случай с Николаем действительно оказался последним.
Первый отряд
В коммуне теперь двенадцать отрядов.
Первым коллективом на производстве в коммуне всегда был отряд коммунаров, а не класс или спальня.
По нашей системе вся группа коммунаров, работающая в той или другой мастерской в одну из смен, составляет отряд.
Таким образом у нас получилось:
Первый отряд — токарно-слесарный цех первой смены.
Второй отряд — тот же цех второй смены.
Третий отряд — столяры первой смены.
Четвертый отряд — столяры второй смены.
Пятый отряд — швейная мастерская первой смены.
Шестой отряд — швейная мастерская второй смены.
Седьмой отряд — литейный цех первой смены.
Восьмой отряд — литейный цех второй смены.
Одиннадцатый отряд — никелировщики первой смены.
Двенадцатый отряд — никелировщики второй смены.
Только десятый отряд соединяет в себе «шишельников» обеих смен, так как разбивать их было нецелесообразно — слишком маленькие получились бы отряды.
Девятый отряд — запасной: он посылает помощь остальным отрядам, если кто-нибудь заболеет или командируется на работу на сторону. Обычно в девятый отряд входят те коммунары, которые еще не определили своих симпатий в производственном отношении, или новенькие. Новеньким дают возможность присмотреться и попробовать себе на работе.
Некоторые из отрядов сложились уже в крепкие коллективы; другие, напротив, никак не подберут постоянного состава. Сейчас первые шесть отрядов состоят из ребят, давно живущих в коммуне.
По сменам коммунары распределились в зависимости от принадлежности к школьной группе. В коммуне в последнем учебном году было шесть групп семилетки: одна третья, два четвертых, два пятых и одна шестая.
Самый заслуженный и лучший отряд в коммуне — это первый. За восемь месяцев междуотрядного соцсоревнования три месяца победителем был этот отряд.
В первом отряде подобрались знающие ребята, лучшие наши металлисты, старые коммунары. Из четырнадцати человек в отряде семеро уже проходили командирский стаж, некоторые — по нескольку раз. Многие занимают теперь более ответственные посты — заместителя заведующего, членов санкомов (а в санком всегда выбирается самый подтянутый и чистоплотный коммунар). Первый отряд носит почетное звание комсомольского, так как он составлен исключительно из комсомольцев.
Командует отрядом Фомичев. Он избирается на командирский пост уже не первый раз.
Фомичев — веселый и неглупый парень, бесспорный кандидат на рабфак, способный производственник. Только недавно он вместе с Волчком перешел на токарный станок — и вот теперь уже Фомичев и Волчок идут первыми по токарному отделению и перегнали даже самого заслуженного нашего токаря Воленко. И Волчок и Воленко — оба в первом отряде. У них несколько странные отношения. Они по ряду причин не любят друг друга, но стараются не показать этого в коммуне. Воленко изрядно завидует успехам Волчка в токарном цехе, завидует его исключительному положению в коммуне.
Волчок — общий любимец и общепризнанный авторитет. Этот семнадцатилетний мальчик уже давно в комсомоле, всегда он расположен ко всем, всегда улыбается и в то же время подтянут и по-коммунарски подобран. Он — старый командир оркестра и умеет держать его в руках, несмотря на то, что в оркестре подобрался народ, имеющий большой вес в коммуне. Коммунары в восторге от музыкальных талантов Волчка. Действительно, он — незаурядный музыкант. Он ведет партию первого корнета, освобожден педагогическом советом от занятий в нашей школе и ежедневно посещает Музыкальный институт, готовится к серьезной работе по классу духового оркестра. Коммунары давно привыкли к своему оркестру, тем не менее, они всегда собираются послушать, как выводит Волчок свои замечательные трели. За такое мастерство коммунары могут простить много грехов. Волчок умеет руководить, не потрафляя никаким слабостям товарищей и не вызывая к себе неприязненного чувства. Вот почему, когда Волчок командовал отрядом, отряд так легко захватил коммунарское знамя, удерживал его три месяца и сдал пятому отряду с боем.
Сейчас Волчок подчиняется Фомичеву как командиру отряда, но Фомичев играет на баритоне в оркестре и подчиняется Волчку как командиру оркестра. И если Волчок в отряде безупречен, то нельзя того же сказать о Фомичеве в оркестре. Опоздать на сыгровку, потерять мундштук, нотную тетрадь, иногда побузить во время игры — для Фомичева не редкость. Наш капельмейстер Тимофей Викторович раз даже просил его уйти из оркестра.
Волчку не раз приходилось призывать Фомичева к порядку, иногда даже представлять в рапорте вниманию высших органов коммуны.
Но у Фомичева мягкий характер. Он всегда добродушен, никогда не обижается на Волчка и вечно обещает ему, что «этого больше не будет». Трудно ему пересилить свою легкомысленную и немного дурашливую природу. Но он так же любит Волчка, как и все коммунары, и сколько Волчок ни отказывался, Фомичев все же настоял в совете командиров, чтобы Волчка назначили его помощником по отряду.
Недавно первый отряд должен был поливать клумбы перед зданием коммуны. Командир не сумел это дело организовать как следует: не распределил работу между коммунарами, не успел согласовать ее с другими работами отряда, не учел отпускных расчетов по отряду в день отдыха, не получил вовремя леек, не наладил брандспойты и вообще запутал дело так, что хоть зови следователя. Вышло все это не потому, что не хватало у него сообразительности, а просто по его халатности и забывчивости.
Получился полный беспорядок. Коммунары здорово обиделись на своего командира.
Волчок, с улыбкой наблюдая неразбериху в работе отряда, говорит Фомичеву:
— Чудак же ты! Как же ты назначаешь парня к брандспойту на шесть часов вечера, если он с пяти стоит на дневальстве в лагерях.
Командир сердится и кричит:
— Вы все только разговариваете, а я должен каждого просить! Боярчук на дневальстве? Хорошо. А почему Скребнев не мог взять кишку? Ты их защищаешь, а они радуются.
Волчок снова спокойно:
— Вот чудак! Ну как тебе не стыдно? Разве Скребнев справится с брандспойтом? Он его и не подымет. Ты сообрази.
Фомичев в таких случаях именно сообразить и не может. Он «парится» и кричит, хватает первого встречного, уже и без того злого:
— Боярчук, иди на клумбу!
Хитрый и смешливый рыжий Боярчук поворачивает к командиру свою веснушчатую физиономию и, дурашливо уставившись на него, говорит ехидно:
— На клумбу идти? А ты ж сказал, чтобы я бочки прикатил…
Все начинают смеяться.
Тогда в полной запарке Фомичев приказывает:
— Нечего долго разговаривать! Бери ты, Волчок, брандспойт.
Волчок заливается смехом:
— Вот чудак, все я да я: и вчера я и позавчера я! Чего ты все на меня?.. Ну хорошо, что с тобой делать?
И до поздней ночи возится Волчок с клумбой, наполняет бочки водой, расстилает для просушки мокрый брандспойт и убирает в вестибюле, через который приходится протягивать кишку от домового крана.
Рядом с ним напряженно работает сам командир, но работой командует уже не он. Три-четыре коммунара из отряда, приведенные в порядок веселым умным Волчком, деятельно носятся с поливалками.
Сложную и хитрую политику ведет Воленко. Это мальчик серьезный, немного обозленный, немного недоверчивый.
Он чрезвычайно активен и вполне заслуженно носит сейчас звание дежурного заместителя. Но, занимая и этот пост, стоя наиболее близко к управлению в коммуне, он всегда склонен подозревать всякие несправедливости, всегда готов стать на защиту кажущегося угнетенным. А так как угнетенных в коммуне нет, то Воленко часто поддерживает отдельных бузотеров и неудачников. Поддерживает он и Фомичева. Часто это приводит к конфликтам с Волчком. В голубой повязке дежурного заместителя Воленко неуязвим, его решения не подлежат обсуждению, и он этим пользуется в своей молчаливой борьбе с авторитетом Волчка.
Один раз Волчок поставил вопрос о Фомичеве перед общим собранием.
Играл наш оркестр в городе в каком-то клубе. Началась торжественная часть, весь оркестр в яме, а Фомичев пропал. Послали его искать, нашли в буфете. Говорят:
— Иди.
А он:
— Что, мне уже и отдохнуть нельзя?
— Да от чего ты отдыхать будешь? Ведь еще и не играли.
— А дорога?
Пришлось самому Волчку идти ругаться с ним. Вернувшись в оркестр, Фомичев заявил, что никак не может найти мундштук. А мундштук был в кармане пальто. Так и играли торжественную часть только с одним баритоном, а в антракте даже вызвали дежурного члена клуба, искали мундштук. Коммунары возмутились ужасно.
Припомнили все прежние проступки Фомичева. Редько из четвертого отряда прямо предложил:
— Из-за него только позоримся всегда. Выкинуть его из оркестра, вот и все!
Фомичев хмуро стоял посреди зала и только огрызался:
— Ну что ж, и выкинь.
Волчок знал, что выкинуть нельзя, не скоро приготовишь нового баритониста, но и он ругал:
— Да и придется.
И вот тут Воленко, когда прения закончились, нанес свой удар:
— Замечание в приказе!
Волчок, чуть не плача:
— Да что ты, Воленко, замечание! Сколько уже замечаний было!
— А ты как считаешь? — спросил Воленко с подчеркнутой серьезностью.
— Как считаю?
Волчок улыбаясь, оглянулся и снова сердито показал на своего командира:
— Вот, смотрите: стоит — как с гуся вода. Ему десяток нарядов закатить нужно, чтоб помнил.
В собрании сочувствующий гул. Но Воленко настаивал:
— Что ж тут такого? Забыл, вот и все. Не нарочно он сделал.
Председатель собрания, наконец, прекратил этот поединок. Фомичеву обьявили замечание в приказе. Однако легче ему не стало. Когда отряд пришел в спальню, все напали и на Фомичева и на Воленко. Последний снял уже голубую повязку, и, следовательно, с ним спорить было можно. Да он и сам, наконец, понял, что поступил с Фомичевым слишком милостиво.
Если сравнивать Фомичева каким он был два года назад, с Фомичевым теперешним — нельзя не поразиться такой переменой.
Он был в высшей степени ленив, неаккуратен, рассеян и груб. Несколько раз общее собрание приходило в отчаяние: выходило так, что хоть выгоняй Фомичева из коммуны.
Этого Фомичева мы воспитали и сделали из него образцового коммунара. Теперь, если напомнить ему о прошлом, он улыбнется во весь рот и скажет:«А ведь и в самом деле!» Теперь, хоть и порядочно еще недостатков у Фомичева, все же недаром его на второй срок выбрали командиром лучшего отряда. Может он многое забыть и многое перепутать, но нет лучше его в цехе: умеет он и с мастером поговорить о разных неполадках, и всем коммунарам с ним весело и занятно. В комсомоле и разных комиссиях он, если захочет и не забудет, всякое дело сделает добросовестно и даст вразумительный отчет. Нет такого вопроса в коммуне, на который бы он не отозвался.
И еще вот что хорошо: он не обидчив и каждому члену отряда он приятель.
Пацаны
На другом полюсе коммуны находится и отряд пацанов.
В этом десятом отряде в настоящее время собраны не все пацаны. Года полтора тому назад они имели полную автономию и составляли довольно сильную общину, их было человек тридцать, занимали они отдельные спальни и выбирали себе своего командира. Я уже рассказывал, как они потеряли свою самостоятельность.
Собственно говоря, никаких преступлений и тогда пацаны не совершали. В то время их еще не пускали в производственные мастерские, а предоставляли им возможность работать в изокружке, в котором много они перепортили материалов и инструментов. В изокружке дела было очень много: модели аэропланов, паровая машина, выпиловка, разные игры, в том числе знаменитая «военная игра». Малыши, постоянно нуждаясь в «импорте» таких материалов, как бамбук, резина и пр., вели деятельные внешние сношения. Бамбук они получали у коммунарской спорторганизации и потому всегда с нетерпением ожидали очередной лыжной аварии, сопровождавшейся зачастую поломкой палок. С резиной, необходимой для изготовления аэропланных моторов, дело обстояло гораздо сложнее. Для этого поддерживались сношения с расположенным недалеко от нас авиазаводом. Скудные партии резины, достававшиеся через знакомых рабочих и комсомольцев, слабо покрывали нужду в этом материале. Однажды пацаны отправили делегацию к самому начальнику завода и с тех пор были этим необходимым сырьем обеспечены на сто процентов. Благодаря этому изокружковское дело стало поглощать у них очень много энергии, и ее не хватало для исполнения нарядов по коммуне. А без работы в коммуне никогда ни один коммунар не оставался. В особенности часто не справлялись они с обязанностью отстаивать посты в сторожевом отряде. Главный пост этого временного (недельного) сводного отряда — в вестибюле. Дневальный обязан смотреть, чтобы в коммуну не входили чужие, чтобы все вытирали ноги, чтобы пальто вешали на вешалки, а не бросали как попало на барьеры вестибюля. Главная же задача дневального — проверять ордера в спальню. Днем вход в спальню не разрешается без ордера дежурного по коммуне. В ордере пишется, на сколько минут разрешается коммунару войти в спальню и что можно из спальни вынести. Дневальный проверяет ордер и следит за тем, чтобы предписания дежурного по коммуне были выполнены. Другие коммунары, стоя на посту, умели все это делать как-то без хлопот и скандалов. У пацанов же всегда получалось не совсем ладно. То прозевает дневальный какого-нибудь нарушителя, заглядевшись на интересное зрелище во дворе или в здании коммуны, то, напротив, проявит излишнюю энергию: покажется ему, что слишком долго кто-нибудь задержался в спальне, и он спешит туда вместе со своей винтовкой — возникает конфликт, а в это время дежурный по коммуне записывает в рапорт, что дневального на посту не было. В особенности много претерпевали пацаны оттого, что в сутках так мало помещается часов. Никогда нельзя успеть сделать всех дел, которые предусмотрены планом, не говоря уж о работе сверх плана. Не только ведь заниматься в изокружке — нужно и в школе хорошо учиться, и поиграть, и в лес пойти, и выкупаться, и зайти в совет командиров узнать новости, и свести счеты с каким-нибудь противником, и поговорить, и на дневальстве постоять, и умыться, и почиститься. Ребята не успевали всего сделать. Особенно страдали те процессы, которые не могли непосредственно заинтересовать пацанов, например умывание, чистка ботинок и пр. К тому же в своей деятельности пацаны развивали предельные темпы, причем большинство так называемых механических препятствий преодолевали простейшим способом: перелезали через изгороди, лазили в окна, топтали цветники. Это, конечно, сказывалось и на их одежде. Выглядели они иногда возмутительно с точки зрения и дежурного по коммуне, и дежурного члена санкома. В результате всего это — неизбежный рапорт, и провинившегося выводили на середину на общем собрании. Коммунары в общем относились к ним ласково, однако это не мешало требовать порядка. Совет командиров всегда считал, что виноваты в беспорядках сами наши командиры. Несколько раз предлагали малышам хороших командиров, но отряд гордо держал знамя независимости: «Зачем нам ваши командиры? У нас и своих ребят хватит». Кандидатов избирательных комиссий они отводили особенно ретиво, и поэтому на избирательных собраниях всегда им удавалось проводить своих кандидатов.
Все это было давно.
Сейчас десятый отряд уже участвует в производстве. Он обязан представить в день тысячу четыреста «шишек».
Шишка — это сделанная из песка и воды куколка, которая при формовке вкладывается в форму, чтобы заполнить проектированную пустоту полой вещи. При литье место, занятое шишкой, медью не заполняется. Для изготовления шишек есть специальные шаблоны и формы: для кроватных углов, для масленок, для трубочек и т. п. Отряд Мизяка делится на две бригады. Каждая бригада должна приготовить в смену семьсот шишек. Приблизительной нормой на отдельного коммунара считается сто шишек за четырехчасовой рабочий день. Для шишек нужно готовить еще и проволоку, на концах которой они подвешиваются внутри формы при отливке. За каждую шишку коммунар получает копейку.
Многие из членов десятого отряда теперь уже делают по двести шишек, и благодаря такой успешности у нас скоро предвидится сокращение десятого отряда и перевод старших в более серьезные цехи. Мечтают они все о токарном цехе.
В десятом отряде много замечательных ребят. Пока что расскажем только о «старом» нашем коммунаре Петьке Романове.
У Петьки есть брат Алексей, старшего его на полтора года и опытнее. Но Петька к старшему брату относится с некоторым высокомерием. Алексей моложе его по коммуне, и его имя чаще попадается в рапортах, потому что он человек излишне предприимчивый и с собственническими наклонностями.
Петьке только двенадцать лет. Родился он на Кубани. Давно уже судьба разбросала Петькину родню по свету. После небольшого беспризорного стажа попал Петька в коммуну. А через три месяца прислали из коллектора и Алексея. Петька и Алеша — низкорослые подростки, очень похожие друг на друга. Только Алешка веселее и не такой курносый. Петька же большей частью серьезен.
Как-то случилось с этими представителями фамилии Романовых с Кубани потешная история.
В тот самый день, когда привели Алешку из коллектора, пришли в коммуну два мальчика, оба черные от паровозной копоти и угля, оба «небритые и немытые», оба лет по тринадцати. Заявили они, что работали в Донбассе и теперь хотят устроиться в детском доме. Совет командиров, экстренно собранный, отнесся к ним благожелательно. Коммунары накормили и переодели их в кое-какое барахлишко, назвали их шахтарями, но в коммуну принять отказались: шахтари были неграмотны, а у нас первой группы никогда не было. Решили отвести их в коллектор и просить принять для отправки в какую-нибудь колонию.
Шахтари согласились. Им разрешили переночевать в клубе. Они ушли из совета командиров и заигрались где-то с ребятами.
На другой день я почему-то забыл о них. Только к вечеру вспомнил, что нужно привести в исполнение постановление совета командиров. Вызвал срочно Нарского, дал ему записку в коллектор и сказал:
— Отведешь этих шахтарей в коллектор. Вот тебе письмо совета командиров, а вот деньги на проезд.
Нарский, как всегда, с готовностью салютнул, и ответив «Есть!» бросился спешно исполнять поручение. Как всегда, через минуту возвратился:
— А какие эти пацаны?
— Да вот те два, что вчера в совете командиров… Шахтари.
— А, знаю! — обрадовался Нарский. — Шахтари? Знаю… А где они?
— Там где-то, в саду. Разыщи и доставь в коллектор, да смотри чтобы приняли. Без того и не возвращайся.
— Есть! — повторил Нарский и исчез.
Часа через два кто-то из коммунаров увидел, что Петька сидит на парадной лестнице и плачет.
— Что с тобой? Чего ты плачешь?
Петька отвернулся и перестал плакать, но разговаривать не хотел.
Коммунары почти никогда не плачут, и все кругом были уверены, что с Петькой случилось что-то серьезное.
— Расскажи, чего ты ревешь?
Петька поднялся со ступеньки, зацепился рукой за поручни и, наконец, сказал серьезно и решительно:
— Отправьте меня из коммуны.
— Почему?
— Не хочу здесь жить!
— Почему?
— Отправьте меня к брату.
Все удивились. Как будто никакого такого брата, к которому можно было бы отправить Петьку, у него не было.
— К какому брату?
— К какому! К старшему…
— А где он живет?
— Я не знаю… Я не знаю, куда вы его отправили.
— Мы отправили?.. Что ты мелешь? Ты здоров?
— Я же видел… Нарский Мишка повел. Я ему говорю: «Куда ты его ведешь?» А он говорит: «Не твое дело!» И повел.
— Нарский повел в город твоего брата? Одного?
— Нет, еще какого-то пацана.
Немедленно я выяснил потрясающие подробности. Нарский захватил и отвел в город одного из шахтарей и нового Романова — Алешку. Второй шахтарь продолжал играть в саду и чувствовал себя прекрасно.
Пришлось срочно организовать вторую экспедицию, отправлять второго шахтаря и возвращать Романова.
Сильно обрадовался Петька этому обороту дела. Когда экспедиция возвратилась, он долго оглядывал своего найденного вторично брата, помог ему искупаться и переодеться, начал знакомить с коммуной. Он упросил совет командиров назначить Алешку в свой отряд.
С тех пор Алешка и сам сделался матерым коммунаром, Петька лишил его своего покровительства. Он кроет брата на собраниях под улыбки всего зала и записывает в рапорт при всякой возможности.
Петька расхаживает по коммуне, всегда хлопотливый и занятой. Только одного он боится — экскурсий и делегаций. Боится с того времени, когда оскандалил коммуну и всю пионерскую организацию.
Приехал однажды в коммуну один из членов высокой партийной организации.
Встретил в коридоре Петьку, задрал его остроносую морду вверх и спросил:
— Вот так коммунар! Ты грамотен?
— А как же! — сказал Петька.
Может быть, ты и политграмоту знаешь?
— Ну да, знаю.
— А ты знаешь, кто такой Чемберлен?
— Знаю, — улыбнулся Петька.
— А ну, скажи!
— Председатель Харьковского исполкома.
Посетитель усмехнулся.
— Что ты говоришь? Ты, брат, ошибаешься.
Петька задумался и вдруг махнул рукой безнадежно, не видя возможности выйти из положения.
И убежал в сад.
С тех пор Петька, как только увидит экскурсию или делегацию, немедленно скрывается в лес.
Утро в коммуне
Ночь. Все в коммуне спят, только дневальный бодрствует. В вестибюле возле памятных мраморных досок стоит небольшой дубовой диванчик. Это место дневального.
В карауле бывают по очереди все, без исключения, коммунары. Каждый дневальный стоит на карауле два часа. Совет командиров назначает на две пятидневки разводящего, который освобождается от всех работ в коммуне и обязан следить за правильностью смен дневальных и за правильным исполнением ими своих обязанностей. Разводящий является начальником караула в коммуне и вечером сдает рапорт о состоянии сторожевого сводного отряда. Сторожевым отрядом считаются коммунары, дежурившие по караулу в течение дня.
Редко в этом рапорте отмечаются ошибки дневальных. Коммунары — народ дисциплинированный, и в коммуне, кажется, не было случая, чтобы дневальный не вовремя явился на пост или ушел с поста самовольно. Вот только с новенькими коммунарами бывают иногда скандалы. Заснет на дневальстве парень, а уж тогда ни один коммунар не откажется взять и унести винтовку.
Бедный страж просыпается и сразу сознает, что беда непоправима. Придется ему все утро провести в поисках винтовки, и хорошо, если удастся найти похитителя и уговорить его возвратить винтовку. В большинстве же случаев бывает, что винтовка находится уже после того, как весть о позорном поведении дневального облетит всю коммуну и со всех сторон на сонливого стража посыплются вопросы:
— А где ж твоя винтовка?
— Что же это ты оскандалился?
Однажды проезжая педагогическая комиссия пришла в ужас:
— Что это у вас за казарма? Зачем эти часовые?
Кое-как нам удалось убедить педагогов, что без часовых нам жить никак невозможно: и беспорядок будет в спальнях, и грязь. Ведь в коммуну ходит много посторонних людей, которые считают, что если они принесут в коммуну каких-нибудь полкилограмма пыли и грязи, то это пустяк, о котором не стоит говорить.
Коммунары же хорошо знают, что принесенную на сапогах пыль завтра нужно убирать и щетками и тряпками, да и то, конечно, всю не уберешь — много ее попадет в легкие.
Эти соображения немного убедили педагогов. Но тогда возник вопрос:
— А зачем ему винтовка? Стрелять-то ведь он не будет.
На этот вопрос ответить было уже труднее. И в самом деле, дневальный не будет стрелять, да и патронов у него нет. Но коммунары очень дорожат этой винтовкой в руках дневального. Это символ его значения, это знак того, что ему доверено коллективом очень много — охрана коллектива. Коммунар знает также, что его винтовка в руках — это прообраз будущей винтовки, которую ему нужно будет взять в руки для защиты своей рабочей страны и своей революции. И если теперь ему приходится за этой винтовкой ухаживать и за нее отвечать, то это облегчит ему усвоение будущих военных обязанностей.
К тому же винтовка в руках — это просто удобно и целесообразно. Каждому проходящему — и своему и постороннему — сразу ясно, что перед ним дневальный, которому нужно подчиняться без всяких споров.
Дневальный коммунар имеет право сидеть, но он должен вставать только при появлении заведующего коммуной, дежурного по коммуне и командира сторожевого отряда. Мы, таким образом, превращаем дневальство в гимнастику внимания и зоркости, обостряем слух и глаз и приучаем коммунара к тому молчаливому сосредоточению, которое необходимо часовому.
Та же педагогическая комиссия возмущалась:
— Ведь это же безобразие! Стоит мальчик, молчит и ничего не делает. Хоть книжку ему дайте, все-таки с пользой проведет время. Ведь так стоять страшно неинтересно.
Присутствовавший тут же представитель ГПУ, человек военный и не отравленный педагогическими «теориями», даже побледнел от удивления:
— Как вы говорите? Часовому читать книжку?.. Да разве это возможно!
Одним словом, мы совершаем это педагогическое преступление и наш дневальный стоит с винтовкой.
Обыкновенно дневальные коммунары очень строги. В рапорте дневального отмечаются самые мельчайшие нарушения санитарной и общей дисциплины: «Баденко не закрыла за собой двери», «Котляр не вытер ноги», «У Орлова пальто без вешалки».
Сторожевой отряд имеет право всякое пальто без вешалки сдать в кладовую, и собственнику пальто после этого придется хлопотать у секретаря совета командиров — получать ордер на выдачу его пальто из кладовой.
Недавно дежуривший на дневальстве Петька Романов записал в рапорт самого заведующего производством — всеми уважаемого Соломона Борисовича Левенсона — за то, что на предложение вытереть ноги Соломон Борисович возразил: «Зачем же? У меня ноги чистые». Пришлось Соломону Борисовичу на общем собрании коммунаров извиняться и приводить объяснения: «Занят очень, много приходится бегать, иногда и забудешь».
Много дела днем нашему дневальному, но и ночью ему скучать не приходится. Ночью в здании коммуны не остается ни одного взрослого, так как квартиры сотрудников все в других домах, а дежурства воспитателей в коммуне нет. Дневальный запирает двери, как только сотрудники разойдутся, запирает кабинет заведующего и проверяет, все ли окна в доме закрыл дежурный отряд. У вечернего дневального карточка, на которой он записывает, кого нужно будить раньше других. Эта карточка передается следующим дневальным.
Раньше всех нужно будить старшую хозяйку. Эта должность возлагается чаще на мальчиков, но название ее сохраняет по традиции женский род. Ключ от кухни хранится у старшей хозяйки, и с ее приходом начинается кухонная жизнь.
После старшей хозяйки поднимается дежурный по коммуне, или сокращено ДК. Отличает его красная повязка. Всех дежурных по коммуне девять. Их коллегия избирается общим собранием вместе с советом командиров на три месяца, обычно из старших коммунаров. ДК организует весь рабочий день коммуны. ДК обходит коммуну, подписывает у старшей хозяйки ордера в кладовую, проверяет все помещения коммуны и получает у дневального ключ от кабинета заведующего. Без четверти шесть дневальный будит дежурного сигналиста. Сигналистов тоже девять. Каждый ДК имеет у себя постоянного, прикрепленного к нему трубача, с которым он сработался. Трубачом в коммуне быть дело не простое. Сигналов очень много, все они более или менее сложны, поэтому почти все трубачи набираются из оркестра.
Ровно в шесть разливается по коммуне сигнал. Это веселый дробный мотив. К нему давно подобрали слова, как и к большинству сигналов:
Ночь прошла. Вставайте, братья! Исчезают тень и лень. Блещет день. За мотор, За станок и за топор! Нам Вставать пора к трудам!Притихшая в предутреннем сне коммуна вдруг наполняется шумом.
Коммунары немедленно приступают к уборке. Уборочных отрядов у коммунаров нет, мы не имеем возможности отрывать от производства лишнюю рабочую силу. У нас снимаются с производства только ДК, командир сторожевого и старшая хозяйка. Уборка же производится всеми коммунарами авральным способом. Наладить эту уборку было делом далеко не легким. Только в совете командиров пятого созыва порядок уборки был выработан окончательно. Каждое утро нужно убрать всю коммуну, то есть вымыть полы там, где нет паркета, подмести, вытереть пыль на стенах и на вещах, протереть окна, поручни лестниц, убрать в уборных, вычистить медные части, поправить гардины и занавеси. Это — огромная работа, и ее вполне хватит на сто пятьдесят человек коммунаров.
Самое распределение этой работы — разделение всей территории коммуны между уборщиками и в особенности распределение орудий уборки — оказалась в свое время сложнейшей задачей, требующей изобретательности и четкости. В настоящее время работа по уборке распределяется советом командиров на очередном заседании в девятый день каждой декады, на декаду вперед. Наряд дается на отряд. Работа по уборке в том или другом пункте определяется числом очков, например:
Убрать уборную 4 очка
Убрать пыль в классе 2 очка
Подмести «громкий» клуб 4 очка
Вытереть пыль в «тихом» клубе 4 очка
Вытереть пыль с поручней лестниц 3 очка
Вытереть пыль в кабинете 1 очко
Подмести кабинет 1 очко и т. д.
В общей сложности это составляет семьдесят пять очков, то есть на каждых двух коммунаров приходится одно очко. В согласии с этим каждому отряду полагается известное количество очков, например: для десятого отряда — четыре очка, потому что в отряде восемь коммунаров, а для первого отряда — семь очков, потому что здесь коммунаров четырнадцать. Секретарь совета командиров заранее заготовляет билетики. На одной стороне билетика написано название работы, а на другой обозначено только число очков. Все эти билетики раскладываются на столе номерами вверх, и каждый командир набирает себе столько очков, сколько полагается для отряда. Очередь отрядов по выниманию билетиков все время передвигается. Если в прошлую декаду начинали с первого отряда, то теперь начинают со второго, а в следующую будут начинать с третьего. Каждому отряду предоставляется право обменяться своим билетом с другим отрядом, если будет достигнуто соглашение. Когда все такие междуотрядные соглашения закончены, секретарь совета командиров записывает, что кому попалось, и все это объявляется в приказе вечером от имени совета командиров. Копия приказа выдается санитарной комиссии. Каждый отряд получает на декаду орудия уборки. Работа по уборке считается непроизведенной, если она не сдана командиром или его помощником дежурному члену санитарной комиссии. Для этого ДЧСК обходит все помещения по приглашению отряда, внимательно проверяет, как подметен пол, как протерты стекла, как вытерта пыль. Когда все отряды уборку сдали, дежурный член санитарной комиссии подходит к ДК и рапортует ему:
— Уборка сдана.
Только после такого рапорта ДК может распорядиться о дальнейшем движении дня. Если же этого рапорта нет, день задерживается. Мы привыкли в таких случаях не «париться» и не волноваться.
Недавно третий отряд очень плохо убрал верхний коридор. Дежурный член санитарной комиссии отказался принять уборку. Третий отряд был того мнения, что уборка проведена хорошо, что пыль на батареях — дело несущественное и что ДЧСК просто придирается. Отряд сложил свои орудия производства и заявил, что уборку он повторять не будет.
ДК попробовал поговорить с отрядом по совести, но отряд заупрямился, и его командир, белобрысый парень Агеев Васька, сказал:
— Чепуха какая — пыль на батареях! Это дело генеральной уборки. Смотри ты: засунул руку черт его знает куда! Хорошо, что у него как соломинка. А у нас и руки ни у кого такой нет.
Дежурный член санитарной, маленький юркий Скребнев, сверкает белыми зубами.
— Смотрите, у них руки для уборки не годятся! Скоро скажете — полы не будем мыть, нагнуться никак нельзя, видите, животы какие нажили.
Швед, помощник командира, мягкий и ладный, серьезно обращается к своему командиру:
— Скажи, пуская уберут ребята. Можно послать на батареи Кольку, он просунет руку.
Агеев — руки в карманы и кивает на Скребнева:
— Записывай в рапорт! А я запишу, что ты придираешься, как бюрократ.
Сидим на диване у парадного входа, нас любопытно рассматривает умытое глазастое утреннее солнце.
Подходит ДК — маленький, подвижный и совсем юный Сопин. Он — старый коммунар и комсомолец. Он сам состоит в третьем отряде и не раз даже командовал им. Сопин усаживается рядом со мной и подымает жмурящееся лицо к солнцу.
— Вы знаете, Антон Семенович, опаздываем уже на десять минут, а эти лодыри, третий отряд, до сих пор не сдали уборки.
Я, не выпуская изо рта папиросы, так же спокойно говорю:
— Что же ты будешь делать? Ведь это твои корешки?
— Да вот и не знаю, что делать. Понимаете, с командиром тоже ссориться не хочется.
Агеев Васька хохочет.
Налетает сердитый, взлохмаченный Фомичев и орет:
— Чего вы держите? Уже давно на поверку…
Сопин непривычно для него жестко заявляет:
— Сигнала не дам, пока не скажет ДЧСК. Мое дело маленькое.
Швед опять трогает за рукав Агеева:
— Пошли кого-нибудь, черт с ними! Я бы и сам пошел, да жду здесь Ваньку, он обещал сдать щетки.
Агеев отрицательно качает головой. Фомичев «парится на три атмосферы», как говорят ребята, и кричит:
— Через вас, смотри, уже четверть часа!
— Ну хорошо, — говорит Агеев. — Уберем.
Через пять минут подходит к Сопину Скребнев и салютует:
— Уборка сдана.
Сопин кивает черной, как уголь, головой востроглазому Пащенку, и тот прикладывает сигналку ко рту. Звенят в сияющем утреннем воздухе раскатистые, бодрые призывы: «Собирайтесь все!»
Вечером в этот день ДК отмечает в рапорте: «По дежурству в коммуне все благополучно. Утром задержан завтрак на пятнадцать минут по вине третьего отряда».
Председатель собрания смотрит на командира третьего. Агеев пробует улыбаться и нехотя вылезает на середину.
— Ну, что ты скажешь? — спрашивает председатель.
— Да что я скажу? — вытягивается командир.
По тону его и по тому, как он держит в руках фуражку, чувствуется, что настроен он вяло, сказать ему нечего.
— Там эти батареи, так никак туда руку…
Он замолкает, потому, что в зале смеются. Все очень хорошо знают, что там не в руках дело. Сколько раз уже эти самые батареи проверялись санкомом!
— Больше никто по этому вопросу? — спрашивает председатель.
Все умолкают и ждут, что скажет дежурный заместитель.
ДЗ сегодня самый строгий. Это Сторчакова, секретарь комсомольской ячейки. Она всегда серьезна и неприветлива, и ничем ее разжалобить невозможно. Агеев, видно, утром забыл, кто сегодня ДЗ, иначе он был бы сговорчивее.
— Три часа ареста, — отчеканивает Сторчакова.
Агеев тянет руку к затылку.
— Садись, — говорит председатель.
После собрания Агеев подходит ко мне.
— Ну что, влопался? — спрашиваю его.
— Я завтра отсижу.
— Есть.
На другой день Агеев сидит у меня в кабинете. Читает книжку, заглядывает через окно во двор. Он арестован.
— Что, скучно? — спрашиваю я его.
— Ничего, — смеется он. Еще час остался.
Такие оказии, впрочем, бывают чрезвычайно редко. Уборка обычно не вызывает осложнений в коллективе, настолько весь этот порядок въелся в наш быт. Вот разве только новенькие напутают. В прошлом году ДК так и не добился от новеньких уборки в вестибюле и с негодованием отметил в рапорте, что вестибюль не был убран. Оказалось потом, что ребята слово «вестибюль» поняли так, что им поручено «мести бюст», и действительно вылизали на славу бронзовый бюст Дзержинского в «громком» клубе.
Когда уборка окончена, трубач дает сигнал на поверку. По этому сигналу бегом собираются коммунары по спальням, потому что поверка не ждет и неизвестно, с какой спальни она начинается.
Поверка — это ДЗ, ДК и ДЧСК.
При входе поверки командир командует:
— Отряд, смирно!
Коммунары вытягиваются каждый возле своей кровати, и дежурный по коммуне приветствует отряд:
— Здравствуйте, товарищи!
Ему отвечают салютом и приветствием, и начинается самая работа поверки. Каждый коммунар должен доказать, что он оделся как полагается, что он убрал постель, что у него чисто в ящике шкафа и что он не забыл почистить ботинки и помыть шею и уши. Разумеется, старших коммунаров только в шутку можно попросить:
— Повернись-ка, сынку!
Зато малышей и новеньких поверка действительно поворачивает во все стороны, заглядывает им в уши, поднимает одеяла и иногда даже просит показать, как надеты чулки и не грязны ли ноги.
Теперь в коммуне очень редко бывают в рапортах неожиданности по данным поверки. Только Котляра, одного из самых младших членов десятого отряда, приходится часто выводить на середину. Общее собрание уже привыкло к его страшной неаккуратности и почти потеряло надежду что-нибудь с ним сделать. Часто раздаются голоса:
— Да довольно с ним возиться! Пускай командир выходит на середину. Почему не смотрит за пацаном?
Мизяк не смотрит? Мизяк с этим Котляром возится больше любой матери. Но что тут поделаешь, если самая фигура нескладного, корявого Котляра просто не приспособлена для одежды.
До сих пор Котляр не умеет зашнуровать ботинок, а ведь живет в коммуне больше года. Штаны на нем всегда выпачканы и почему-то всегда изорваны, даром что меняют ему спецовку постоянно. Котляр на середине безучастно слушает негодующие речи и смотрит на председателя широкими рачьими глазами.
И председатель и ДЗ машут на него руками:
— Садись уже, довольно стоять.
Последней проверяют спальню девочек. Там всегда идеально прибрано. Только Сторчакова иногда скажет самой младшей:
— Покажи, как шею помыла.
Поверка окончена. Все спускаются вниз, и труба играет: «Все в столовую!»
Завтрак.
В машинном цехе
После завтрака, в половине восьмого, проиграли «на работу». Нечетные отряды идут в мастерские, четные — в школу.
В здании коммуны собираются воспитатели-учителя, к мастерским подходят рабочие и инструкторы. Через три минуты никого уже не видно в коридорах и во дворе. Только ДК в красной повязке что-то рассчитывает у дневального расписания, повешенного в коридоре внизу.
Шум затихает лишь на несколько минут. Скоро начинается новая симфония. Раньше всех закричит шипорез в машинном цехе деревообделочной мастерской. Он наполняет коммуну гулким ветровым шумом, перемежающимся с отчаянным визгом пожираемого машиной дерева. Каждый дубовый брусок начинает с громкого вскрика, потом вдруг орет благим матом и, наконец, испустив истошный последний вскрик, в стоне замирает. А вот на циркулярке дереву, видно, даже умирать приятно. Циркулярка в течение целого дня звенит веселым, торжествующим звоном, аккомпанируя острому дурашливому крику дерева. Фуговальный гудит кругло и по-стариковски ворчливо.
В машинном цехе утром работают восемь коммунаров из третьего отряда. Между ними ходит, поправляет и проверяет их высокий и худой инструктор Полищук, начавший с беспризорности, а кончивший приобретением большой квалификации и вступлением в партию. У него с коммунарами отношения приятельские.
Сейчас коммуна делает большое дело: оборудует мебелью новый Электротехнический институт в Харькове. Институт открывается осенью этого года.
Много коммунаров собирается поступить на рабфак института.
Мы делаем сотни дубовых столов, стульев, табуреток, чертежных столов и пр., всего на пятьдесят тысяч рублей. Все это нужно закончить к 15 августа, и поэтому в деревообделочной мастерской «запарка». Машинный цех буквально завален деревом, обрезками, деталями и полуфабрикатом, назначенным для сдачи в сборный цех. Целыми штабелями лежат под стенами и у машин ножки, царги, проножки, планки и прочая столярная благодать. Коммунары покрыты дубовой пылью, у них страшные и смешные запыленные очки.
Самый маленький здесь Топчий, приемыш коммуны. Как-то осенью, в темную и мокрую ночь его папаша, селянин с Шишовки, в состоянии непозволительно веселом напоролся на часового у пороховых погребов. На первый окрик отмахнулся пьяной рукой, на второй — выразился пренебрежительно, и снял его часовой.
Черноволосый и круглоголовый Топчий — малый способный, напористый и рассудительный. Он с первых же дней, невзирая на свой рост и возраст, потребовал от совета командиров, чтобы ему дали настоящее дело. Командиры его осадили высокомерно:
— Молодой еще! Посмотрим, что из тебя выйдет.
Но уже через два месяца сказали командиры:
— Э, Топчий парень грубой (хороший).
Очень скоро назначили Топчия в третий отряд и дали ему долбежный станок. Теперь он, почти не отрываясь, разделывает на этом станке шиповые пазы и отверстия для скреплений.
Самая тонкая работа в машинном цехе выпала на долю Шведа. Он — на ленточной. Швед — большой политик и оратор. Как только он прибыл в коммуну из коллектора, тотчас же обратился в совет командиров с письменным заявлением. Он писал, что хочет работать в коммунарском активе и просит дать ему такую именно работу. Это заявление возмутило и взволновало коммунаров:
— Как это, в активе? Что это, совет командиров будет актив назначать? Посмотрим, как он в мастерских поработает.
Вместе со Шведом пришел из коллектора его друг Кац.
Трудно объяснить, что могло связать Шведа и Каца. Швед умен, начитан, очень развит. Он, пожалуй, даже не в меру серьезен, только в его серьезности нет ничего напряженного и сухого. В его огромных черных глазах какая-то старая, недетская печаль. Он мягок и вдумчив. Коммунарский стиль чистоты и подтянутости он усвоил очень быстро.
Совсем другое дело — Кац. Только очень плохая семья могла воспитать и вытолкнуть в люди такого разболтанного, никчемного мальчика. Работать он не захотел. Он прямо заявил, что не собирается быть ни столяром, ни слесарем и вообще к деятельности этого рода он себя не готовит. Стыдно ему было оставаться в коммуне без работы, но в мастерских от него не было никакого толку. Зато он убивал много времени на поддерживание каких-то невыясненных связей в городе: не было дня, чтобы его кто-то не вызывал по телефону или чтобы он просился в отпуск по самым срочным делам. Из отпуска он приходил всегда с опозданием, и ДК с утра ругался, что нужно искать замену и кого-то передвигать с места на место. Благодаря всему этому Кацу часто приходилось выходить на середину на общих собраниях. К разным рапортам и жалобам на Каца скоро прибавились и его жалобы на коммунаров: тот толкнул, тот придирался, тот что-то сказал. На поверку выходило, что никто не виноват. Каца начали ненавидеть. Не было дня, чтобы в совете командиров или на собрании кто-нибудь не заявлял: «Нам такие не нужны». Коммунаров доводило до остервенения высокомерие Каца и его неаккуратность: «Ленивый, грязный…»
Швед очень мучительно переживал неудачи своего товарища, тем более что к этим неудачам присоединились и его собственные. После его заявления о желании вступить в актив над ним посмеивались, и хотя он держался крепко и никогда не попадал в рапорт, общая оценка Шведа была в коммуне невысокой. Дело кончилось неожиданным взрывом.
Тимофей Денисович, заведующий нашей школой, подал в совет командиров заявление, в котором просил назначить Шведа его помощником. У нас помощники Тимофея Денисовича зимой освобождаются от другой работы. На них лежит много обязанностей: вести учет школьной работы и посещаемости, заведовать учебниками, учебными пособиями, наглядными пособиями и музеем школы. Фактически Швед, как и его предшественники, должен был стать руководителем командиром школьных групп. Это очень почетная роль в коммуне, она требует знаний и умения деликатно обращаться с книгами, картами, банками, ретортами и т. д. В совете командиров неохотно пошли на назначение Шведа, предлагали других кандидатов. Но против старых квалифицированных знающих коммунаров были возражения со стороны организаторов производства, которые отказывались снимать с работы настоящих мастеров. Ребятам помоложе было бы трудно вести сложную работу со школьными группами. Наконец, настаивал на своем Тимофей Денисович. Ему уступили, хоть и неохотно.
— Ничего в коммуне не сделал, походил по сводным отрядам две недели, и уже в активе. Так нельзя! Просто «латается», не хочется работать в мастерской, да и все тут.
Швед подал заявление. В нем он писал, что в коммуне есть антисемитизм, что ребята преследуют его и Каца только потому, что они — евреи. Я просил указать лица и факты, но Швед сказал, что он боится назвать фамилии. Я передал его заявление общему собранию.
Собрание было оглушено и возмущено. Действительно, заявление было явно неосновательным. В коммуне много евреев, много евреев и среди рабочих, есть и евреи-воспитатели. Никогда в коммуне не было национальной розни.
На собрании долго говорили о необоснованности и выдвинули обвинение против Шведа и Каца в явно придирчивом и нетоварищеском отношении к коммунарам. Указывали, конечно, на плохую работу и нечистоплотность Каца, на неосторожное стремление Шведа в актив. Такие «радикалы», как Редько, высказывались прямо:
— Довольно заниматься чепухой! Они не могут указать фактов, нечего тут и разбирать. Не нравится им в коммуне, потому что здесь работать нужно, — пусть уходят, никто их не держит.
Большинство требовало, чтобы Швед назвал лиц, которых он обвиняет в антисемитизме, возмущалось его страхом.
— Что у нас, бандиты, что ли? Пусть кто-нибудь попробует здесь заниматься этим делом — и вы увидите, чем это кончится! Вот в девятьсот двадцать восьмом году один такой нарвался из коллектора, так что, долго с ним церемонились? В два счета вылетел. А вы какое имеете право бояться? Значит, вы не настоящие коммунары, а какие-то гости.
Коммунары-евреи были также очень поражены. Юдин, Каплуновский и другие обрушились на Шведа, обвиняли его в том, что он вносит раздор в среду коммунаров, утверждали, что по отношению к себе и к другим евреям они встречали только товарищеское отношение. Высказывались на собрании по этому вопросу только старшие коммунары: малыши притихли и держались выжидательно. А между тем именно с их стороны раздавались голоса против Каца.
Кончилось дело тем, что выбрали комиссию для более подробного расследования. Комиссия ничего из заявления Шведа не подтвердила, и это дало основание совету командиров на ближайшем же заседании вновь поднять вопрос о преждевременности включения Шведа в коммунарский актив.
Для меня было совершенно очевидно, что в своей жизни Швед много пережил обид на почве национальной розни и у него выработалось уже привычное ожидание новых обид и преследований. Поэтому, вероятно, он взял на себя и защиту Каца, который встречал неприязненное к себе отношение еще в коллекторе. К мальчику, подобному Кацу, в среде коммунаров всегда сложилось бы определенное отношение, независимо от того, к какой национальности он принадлежит.
Шведа сняли и назначили в столярную мастерскую. «Пусть поработает, тогда из него настоящий коммунар выйдет». Я не возражал, так как на самом деле это было полезно для Шведа.
Швед был крайне подавлен всей этой историей. Его удивляло и обескураживало, что он так нечаянно и неожиданно оказался в противоречии со всем коллективом. Но в тоже время видно было, что он признал правоту коллектива.
В дальнейшем Швед дал доказательства и большой воли и здравого ума. Неожиданно для всей коммуны, будучи дневальным, он занес в рапорт по сторожевому отряду Каца и на собрании напал на него искренне и горячо:
— С такими коммунарами, конечно, трудно жить. Если ему говорят — покажи ордер, а он отвечает: «Ты уже заелся?» — так это не коммунар, а шпана!
Собрание довольно холодно выслушало оправдания Каца. Кацом перестали интересоваться и давно уже перестали продергивать его на собраниях. Так всегда бывает, когда в глазах коммунаров кто-нибудь становится безнадежным, когда его уже не считают членом коллектива.
Кац это тоже понял. В тот же вечер он пришел ко мне и просил отправить его к родным в Киевский округ. Совет командиров, которому я представил заявление Каца, на экстренном заседании дал согласие на этот отъезд.
Швед все-таки провожал товарища до шоссе.
С тех пор на глазах стал расти Швед. Уже через месяц совет командиров согласился на просьбу Васьки Агеева назначить Шведа помощником командира третьего отряда. Почти в то же время Швед прошел в редколлегию стенгазеты и скоро стал ее председателем. Наконец, его выбрали кандидатом в ДК, и он теперь часто носит красную повязку, выполняя ответственейшую и труднейшую работу в коммуне. В третьем отряде, одном из лучших отрядов коммунаров, Швед сделался общим любимцем. Товарищи гордятся его развитием, его умением говорить, всегда выдвигают его в разные делегации. Он теперь чувствует себя в коллективе свободно и уверенно.
1 июня третий отряд после долгой борьбы занял первое место, главным образом благодаря работе Шведа, на которого «старик» Агеев Васька (который, между прочим, по возрасту моложе Шведа) возложил почти все функции командования. Агеев не скрывал этого, и при торжественной передаче знамени отряду-победителю зная принимал не сам Агеев, а Швед. Он в этот вечер был подчеркнуто ладно одет, такими же подтянутыми явились и его ассистенты. Их лица выражали сдержанное торжество и готовность серьезно бороться за свое первенство. Швед и сейчас работает в машинном цехе столярной мастерской. Это для него оказалось во всех отношениях полезным. Даже на способе выражаться это отразилось очень положительно. Швед оставил прежнюю манеру низать одна на другую книжные фразы и щеголять утомительными, бесконечными периодами: его язык приобрел живость и простоту.
В машинном цехе Швед нашел и товарищей и самого себя. Он деятельно готовится в вуз и прекрасно понимает, что его производственная работа занимает выдающееся место в этой подготовке.
Сборный
В сборном цехе не так шумно, как в машинном.
Здесь с трудом пробираешься между верстаками. Кругом навалены табуретки, стулья, части столов, козелки и разные детали. И немудрено: один маленький Брацихин вырабатывает за свои четыре часа двести рамок для сидений.
Здесь собрался народ квалифицированный. Почти все ребята уже второй-третий год работают в столярной. За это время коммунары выпустили много продукции: оборудовали Харьковскую городскую станцию Южных дорог дорогами, тысячерублевыми кассами-кабинками, представляющими собой целые квартиры для станционных кассиров, с барьерами, ящиками, полочками, окнами и стеклами; в новом прекрасном клубе союза строителей обставили дубовой мебелью зрительный зал, лекционный зал, вешалки, кабинеты; громадный новый Дворец культуры, выстроенный союзом химиков в Константиновке, полгода снабжали мебелью: в этом дворце две тысячи мест только в одном театральном зале; студентам-харьковцам отправили в общежитие сотни тумбочек, табуреток и стульев. Работали и для Института патологии и гигиены труда, и для поликлиник, и для Харторга.
И разумеется, в первую очередь отделали новые клубы для своих шефов: клуб ГПУ УССР имени Ильича и клуб Фельдъегерского корпуса.
В первое время, пока не умели коммунары работать, было много наемных рабочих. Добраться в коммуну трудно, и квартир в коммуне всегда не хватало; попадались нам рабочие плохие — летуны, рвачи и лодыри, которые никак не могли удержаться на производстве. Но уже в прошлом году коммунары потеряли терпение и потребовали от заведующего производством уменьшить постоянный приток чуждых коммуне людей. Скоро начался спор о введении разделения труда, о работах по бригадам. Наши рабочие, главным образом кустари, привыкли кое-как, не спеша копаться у своего станка. В результате и работа тянулась мучительно долго, и заработок у них был плохой. Тогда они начинали «бузить» — расценки, мол, никуда не годятся. А когда им предложили ввести разделение труда, то помешали взаимное недоверие и подозрительность. Сколько ни крыли их коммунары на общих собраниях и на производственных совещаниях — ничто не помогало. Наконец коммунары приняли отчаянное решение. Сократили всех рабочих, за исключением тех, кто сжился с коммунарами, кто готов был идти по пути рационализации. Как раз в это время нужно было сдать заказ союзу строителей в Москве. Чтобы выполнить заказ к сроку, общее собрание ввело двойной рабочий день — по семь часов, перебросило в столярный цех всех более или менее свободных слесарей и всех пацанов. Им дали работу по полировке мебели. Вместе с ними работали и все воспитатели.
Только благодаря этой ударной работе заказ выполнили к сроку, и пятого июня мы сидели уже в вагонах московского поезда, получив накануне от строителей четыре тысячи рублей.
В настоящее время в сборном цехе очень мало взрослых рабочих, да и те — рабочие самой низкой квалификации. Они выполняют самую простую работу: ножки чистят. Основная работа в цехе ведется исключительно старыми коммунарскими кадрами третьего и четвертого разрядов. Большей частью это ребята пятнадцати-шестнадцати лет, есть и четырнадцатилетние.
У двух верстаков расположилась полубригада из трех коммунаров: Зорин, Водолазский и Ширявский.
Зорин совсем малыш, и ему поручили проверять шипы при помощи специального сусла. Он очень ловко перебрасывает в своем сусле и проверяет лучковой пилой до ста шипов в день; детали с проверенными шипами он передает Водолазскому, который покрывает шипы шоколадной жижицей клея и деревянным молотком сбивает рамку будущего стула.
Водолазский — высокий белокурый юноша. Ему шестнадцать лет, но выглядит он гораздо старше. Водолазский давно отбыл и командирский срок и побывал заместителем заведующего. Работает он с точностью машины. Он, почти не глядя, отбрасывает случайный брак, сквозь зубы поругивая машинный цех. В сборном цехе часто придираются к машинистам и станковым, обвиняя их в халатности.
— Смотрите, опять шипы зарезали с параллельным уклоном. Вечно у них там… замечтается кто-нибудь и портит!
Ширявский с улыбкой в умных глазах принимает от Водолазского рамку и завинчивает ее в пресс, стоящим перед ним на козлах. Пресс сжимает рамку со всех сторон. Ширявский еще постучит по ней молотком, и через четверть минуты она уже лежит в штабеле таких же рамок.
У этой полубригады дело идет весело.
Рядом с ней работает Никитин — самый авторитетный человек в коммуне, носитель и продолжатель старых традиций горьковской колонии. Никитин сейчас — «контроль коммуны». Его участие во всех проверочных и следственных комиссиях обязательно. На нем же лежит неприятная обязанность приводить в исполнение все постановления общего собрания, касающиеся отдельных коммунаров: ограничение в отпуске, лишение кино, иногда наряд на дополнительную работу. Никитин поэтому всегда носится с блокнотом.
Сейчас Никтин очень недоволен: что-то заело в машинном цехе, и для сборщика не хватает настоящей работы. Никитину дали чистить планки для спинок — это такая «буза», которую может делать простой чернорабочий, а не шестиразрядник — ветеран коммуны Никитин.
Сегодня вечером попадет от него на производственном совещании и Полищуку, и главному столярному мастеру Попову, и коммунарам-машинистам, и в особенности Соломону Борисовичу.
Первое: почему до сих пор не поставлена вторая циркулярка?
Второе: почему до сих пор не налажена маятниковая пила?
Третье: почему не исправлен штурвал у фрезера?
Четвертое: почему задерживается точка ленточных пил?
Главные удары на производственных совещаниях всегда приходятся по машинному цеху. Это не потому, что там плохо работают, а потому, что силы сборщиков у нас превышают возможности машинного цеха. Вот почему и возникла необходимость ставить дополнительные станки и усиливать пропускную способность имеющихся.
На дворе устроился Сопин с двумя товарищами. Сопин вообще не выносит комнатного воздуха, раньше всех он выбирается спать в сад. Он убедил Попова перенести туда же верстаки.
У Сопина всегда занятно и весело. Даже распиливая косой шип, он ухитряется о чем-нибудь болтать и над чем-нибудь посмеиваться.
— А чего это у токарей сегодня такие кислые рожи? Ты не знаешь, Старченко?
Старченко, прилизанный, аккуратный юноша, оглядывается на маленького Сопина и продолжает постукивать молотком по стамеске.
— А ты знаешь?
— Конечно, знаю! Они насобачились на углах, а сегодня им масленки понесли точить. Кравченко разогнался штук на шестьдесят в день, а у него не выходит.
Сопин знает все, что делается в коммуне. Это ему удается благодаря какой-то удивительной способности проникать всюду, отнюдь не пользуясь никакими шпионскими способами, а исключительно благодаря своей замечательной общительности и живости. На всякое событие в коммуне он должен отозваться.
Сопин прославился в коммуне зимой этого года, когда в пику вялой редколлегии «Дзержинца», еле-еле выпускающей два номера в месяц, он с небольшой кампанией добровольцев вдруг бахнул по коммуне ежедневной «Шарошкой». «Шарошка» сначала вышла на небольшом картонном листе, но с каждым днем увеличивала и увеличивала размеры и, наконец, стала протягиваться длинной узкой полосой по всей стене коридора. Она была до отказа набита статьями, заметками, вырезками из газет, ехидными вопросами и смешными издевательскими телеграммами.
Коммуна зашевелилась, как разворошенный муравейник. Продернутые в «Шарошке» коммунары решительно запротестовали против самовольно организованного общественного мнения и требовали, чтобы «Шарошка» сняла предзаголовок: «Орган коммунаров-дзержинцев». Старая редколлегия «Дзержинца» указывала на отдельные промахи газеты и называла ее брехушкой. Но Сопин с компанией не отступали и с каждым днем увеличивали сою газету.
На общем собрании редколлегия «Дзержинца» обиженно заявила, что она прекращает издание «Дзержинца», так как у нее нет материала: все перехватывает Сопин. Бюро комсомола еле помирило две редакции. Полномочия Сопина были подтверждены общим собранием, и только в одном ему пришлось уступить: отказаться от названия «Шарошка».
С тех пор «Дзержинец» выходит в формате «Шарошки», и хотя редколлегия отказалась от ежедневного выхода, но раз в пятидневку газета сменяется.
До половины двенадцатого кипит работа в мастерских, шумят станки, визжит пила и стонет дерево. Заказ нового Электротехнического института с каждым часом подвигается вперед.
Коммунар очень ценят этот заказ не только потому, что он приносит заработок и прибыль, а еще и потому, что мы связались с институтом. К нам часто приезжают в коммуну организаторы института, и многие коммунары уже считают себя будущими студентами. Осенью этого года тридцать три коммунара готовятся к поступлению на рабфак института.
Куда мы идем?
В наших цехах имеются производственные комиссии, часто собираются производственные совещания, есть штаб социалистического соревнования, но все решения этих институтов не могут иметь обязательной силы, если они не утверждены советом командиров. Получается как будто неладно: старшие, более опытные, да еще поддержанные участием взрослых — это настоящая сила, сосредоточенная в производственных органах, как будто уступает силе двенадцати коммунаров, народу более молодому и менее опытному в производстве. Но у нас очень дорожат именно таким соотношением сил.
Совет командиров представляет всю коммуну, а не один какой-нибудь цех, и ему часто приходится выступать против цеховщины и даже цехового рвачества. И то обстоятельство, что командиры почти всегда «середняки» по возрасту, очень нравится большинству коммуны, потому что в коммуне восемьдесят процентов именно «середняков». Кроме того, на заседаниях совета командиров могут высказываться все коммунары, хотя в голосовании участвует только по одному человеку от отряда. Обычно бывает, что если в совете командиров разбирается производственный вопрос, командир присылает в совет наиболее матерого специалиста по цеху, который и ведет свою линию в заседании от имени отряда, а командир в это время тихонько сидит в углу. Вообще говоря, в коммуне выработалась очень сложная и хитрая механика внутренних отношений. Механика и стиль наших отношений инстинктивно усваиваются каждым коммунаром. Благодаря этому, нам удается избегать, какого бы то ни было раскола коллектива, вражды, недовольства, зависти и сплетен. И вся мудрость этих отношений, в глазах коммунаров, концентрируется в переменности состава совета командиров, в котором уже побывала половина коммунаров и обязательно побывают остальные.
Производственные совещания и комиссии находятся под общим руководством комсомола. Производство, в котором работает сто пятьдесят ребят, средний возраст которых не превышает пятнадцати лет, представляет очень сложный организм. Мы не можем ограничиться одним каким-нибудь производством, так как в таком случае наверняка не сумеем удовлетворить разнообразных вкусов и наклонностей попадающих к нам ребят. Если мальчику, живущему в семье, нужно идти на фабзавуч, он может выбрать тот, который ему больше по душе или к которому у него есть определенные способности. Наш воспитанник принужден выбирать себе уже в коммуне работу и специальность, может быть, на всю жизнь. Наша обязанность — предоставить ему возможно больший выбор. В то же время мы принуждены держать у себя различные возрастные группы ребят — в основном от тринадцати до семнадцати лет.
В деле организации наших мастерских мы все время были несколько стеснены. С самого начала коммуна имени Дзержинского не числилась на бюджете какого-нибудь учреждения. Она была выстроена и оборудована обществом чекистов, но содержать сто пятьдесят детей, то есть ежемесячно вносить в коммуну шесть-семь тысяч рублей, чекистам было чрезвычайно тяжело, да и коммунар бы этого не захотели. Передать же коммуну на бюджет государственный или местный — значило бы для чекистов отказаться от руководящей роли в коммуне и, будем говорить прямо, подвергнуть коммуну всем испытаниям, выпадающим на долю детских домов.
Все это привело к тому, что и в Правлении и в коммуне возникло стремление к самоокупаемости. Нужно признаться, что в первый момент мы не вполне ясно представляли себе, в какие формы это может вылиться, и у нас было много сомнений в педагогической ценности самого института самоокупаемости. И все же наше производство, у которого не было ни оборотного капитала, ни квалифицированной рабочей силы, было организовано.
Первый год принес нам радости немного. Мы оборудовали несколько клубов, выпустили немало мебели, но не только не пришли к самоокупаемости, а еще получили убытки. Все это произошло исключительно благодаря нашей половинчатости. Мы боялись сразу оттолкнуться от соцвосовских берегов и не решались поставить воспитанника в те же условия, в которых находится рабочий, боялись вызвать и использовать ЛИЧНУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ коммунара, боялись строго стандартизированной механической работы, вообще прилипли к «сознанию» и к «сознательности» и боялись от них оторваться.
Но неудачи заставили нас отказаться от «педагогических» предрассудков и сжечь корабли.
В начале тридцатого года мы вложили в производство небольшой капитал и поставили несколько станков для стандартной работы.
Производство медной арматуры, в особенности кроватных углов, было механизировано до конца, было введено полное разделение труда, и коммунарам стала выплачиваться сдельная плата по тем же расценкам, как и взрослым рабочим. То же самое было сделано и в столярной мастерской. В первый же месяц мы увидели результаты, которых и сами не ожидали: в апреле мастерские дали тысячу рублей прибыли. В последующие месяцы прибыль эта стала расти в замечательной прогрессии: в мае — пять тысяч рублей, в июне — одиннадцать тысяч, в июле — девятнадцать тысяч, в августе — двадцать две тысячи.
Если принять в расчет, что содержание коммунаров стоит в месяц только шесть тысяч, то очевидной сделается головокружительность наших успехов. При этом нужно учесть еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Каждый коммунар вносит из своего месячного заработка на пополнение расходов по содержанию коммуны восемьдесят процентов (но не более тридцати пяти рублей). Всего внесено коммунарами в мае полторы тысячи, в июне — две тысячи четыреста и в июле — четыре тысячи. Таким образом, из прибылей производства приходилось брать лишь самую небольшую сумму, и мы имели даже возможность вкладывать большие суммы в расширение нашего производства, в постройку новых мастерских, мы смогли на эти деньги покупать новые машины.
Одним броском мы достигли полной самоокупаемости. И когда в карманах у коммунаров зазвенели деньги, появились новые потребности. Нашему педагогическому совету стоило много напряжения все эти потребности заранее учесть, заранее принять меры к тому, чтобы отдельные новые явления в коллективе не стали бы в противоречие с интересами всего коллектива и с интересами нашего воспитания.
Все обошлось благополучно.
Больше того. Как раз ЛИЧНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ сделала совершенно очевидной необходимость общих усилий для улучшения производства. Старая дисциплина и прекрасные отношения в коллективе пришлись как раз кстати и для нового дела, для организации работы в таком направлении, чтобы коммунар мог действительно работать, зарабатывать и был в этом заинтересован.
Уже на третьем месяце этот заработок как сумма полученных коммунаром рублей перестал быть новостью для них, и выросли новые формы коллективных устремлений: соцсоревнование и ударничество.
Вся система нашей коммуны и производства — производственные комиссии в каждом цехе, общекоммунарский штаб соцсоревнования, совет командиров, сами командиры — все это сумело органически слиться в работе. Все фетиши соцвоса, после того как мы их отбросили, никакими призраками не тревожили нас. Мы о них забыли на другой же день.
Мы сделались настоящим заводом. Но мы и больше завода, ибо мы теперь действительно коммуна: из заработка коммунаров мы организуем потребление и быт в тех совершенных формах, которые мы уже выработали раньше.
Таким образом, наш решительный разрыв с псевдоучеными и потребительскими уклонами детских домов действительно оздоровил и нашу производственную работу, и наше воспитание.
Мы довольны всем этим. Но методисты из соцвоса именно теперь считают нас «мытарями», променявшими высокие идеи «новейшей педагогики» на презренные чертежные столы для советских вузов и кроватные углы.
С другой стороны, слышны разговоры о том, что наши мастерские не дадут квалифицированных рабочих. Но это — буза, как говорят наши коммунары. Разумеется, наши выученики не сумеют сделать вручную дубового, великолепного, резного буфета, хитроумных часов с кукушкой или с танцующими фигурками. Но это ведь никому и не нужно сейчас. Нам сейчас нужны станковые, сборщики, литейщики, формовщики, никелировщики. Как раз их и готовит коммуна. При этом наши ребята получают образование и коллективное воспитание. Это есть то, что называется новыми кадрами.
Дальше. За три года пребывания в коммуне коммунар становится квалифицированным рабочим в нескольких областях труда. Вот сейчас Ленька Алексюк работает на шишках. Что и говорить, квалификация небольшая. В следующем году он перейдет на машинную формовку, а потом и на ручную. На третьем году он прекрасно изучит никелировочное дело — и пойдет в жизнь нужным советским трудовым человеком.
«Педагоги» нас критикуют. Но к нам приезжают рабочие с канатного завода и просят:
— Дайте нам ваших токарей. Нам вот такие токаря нужны до зарезу!
Этой оценки нам достаточно для хорошего самочувствия.
Хозяева
Нигде не собрано так много настоящих коммунаров, прошедших через нашу школу, бодрых, веселых, трудолюбивых и удачливых, как в слесарно-токарном цехе. Подавляющее большинство здесь — комсомольцы. Здесь у каждого станка живет молодая, уверенная в себе рабочая мысль.
И в столярной мастерской, и в других мастерских и цехах есть и дисциплина, и подъем, и умение работать, и бодрость. Но только наши металлисты сумели в своих цехах сделаться самостоятельными хозяевами производства, задающими тон даже квалифицированным рабочим.
В токарно-слесарном цехе работают мастер Левченко, его помощник и несколько квалифицированных рабочих — токарей и слесарей. Все это неплохие рабочие и хорошие люди. Коммунары в этот цех пришли недавно, так как всего полгода тому назад поставили у нас токарные станки.
Но во всем, на каждом шагу, в каждом кубическом сантиметре воздуха чувствуется здесь, что крепкий, непоколебимо уверенный в себе коллектив мальчиков стал во главе цеха — без всяких постановлений, без протоколов и почти без речей, исключительно благодаря своей сознательности и спайке.
В смену работают здесь четырнадцать коммунаров. У токарных станков стоят мальчики и обтачивают медные углы для кроватей или медные масленки для каких-то станков. Перед каждым на станине лежит несколько станов еще не обточенных углов и несколько станов еще уже готовых.
Работа спорится не у всех одинаково. У Волчка и у Фомичева, у Воленко, у Кравченко, у Грунского горки готовых медных частей больше, чем у других, менее квалифицированных. Невелика горка у маленького Панова, который у своего станка стоит на подставке.
На станинах взрослых рабочих — частей гораздо больше, и станки здесь вращаются быстрее. Взрослых рабочих человек семь.
Вот один из них отошел от своего станка, и, не отрываясь от работы, все коммунары повернули головы к нему. Может быть, там ничего особенного и не случилось, может быть, и коммунары ничего особенного не подумали, но их совершенно инстинктивное внимание ко всему, что происходит в мастерской, заставляет всю мастерскую чутко реагировать на малейшее нарушение привычного ритма общей работы.
Где-то заест пас, где-то начнет болтаться конец трансмиссии, у кого-нибудь не хватит резцов, и тот поспешит за ними в кузницу, где-нибудь завяжется спор между механиком и рабочим — никто не остановит работы, никто из коммунаров не скажет ни слова, но это вовсе не значит, что случай «проехал». Ничего не проехало. Если всего этого не заметил командир и сегодня на общем собрании коммунаров будет благополучно в рапорте, то завтра на производственном совещании, или просто в кабинете завкоммуной, или даже в коридоре кто-нибудь обязательно постарается выяснить, в чем дело. И если один начнет говорить об этом, его немедленно поддержат тринадцать, а то еще придет помощь и из другой смены.
Недавно на производственном совещании один из рабочих обвинял механика в каких-то неправильных распоряжениях и, между прочим, сказал:
— Я, конечно, ему не подчинился. Я работаю токарем двадцать восемь лет, а он мне говорит: «Останови станки, я запрещаю вам работать». Как он мне может запретить, если мне разрешил работать сам заведующий производством! И он все-таки чуть не стал на меня кричать, чтобы я вышел из мастерской!
Все сочувственно кивали головами, все соглашались с оратором.
Но встал коммунар и сказал:
— А мы вот этого не понимаем. Вам приказал механик остановить станки, а вы ему не подчинились, да еще и хвалитесь здесь, говорите, что вы двадцать восемь лет работали. Где вы работали двадцать восемь лет? А мы считаем, что такого рабочего, как вы, нужно немедленно уволить.
Соломон Борисович, заведующий производством, человек старый, но юркий, замахал на коммунара руками и испуганно замахал глазами. Как это можно уволить такого квалифицированного рабочего? Соломон Борисович даже рассердился.
— Как это вы говорите — уволить? Это старый рабочий, а вы еще молодой человек.
Коммунары загудели кругом. Дело происходило в саду, на площадке оркестра.
— Так что же, что молодые?
Кто-то поднялся:
— Молодые мы или нет, а если с Островским еще такое повторится, так его нужно уволить, пусть он хоть тридцать восемь лет работал.
Слово берет Редько и медлительно, немного заикаясь, начинает говорить:
— В цехе три начальника, а четвертый — сам Соломон Борисович.
Распоряжения отдаются часто через голову механика, квалифицированные рабочие «гонят», портят материал и покрывают брак, трансмиссии установлены наскоро, в цехе много суетни и мало толку…
Собрание не принимает никакого постановления и расходится.
Обиженный Островский уходит в одну сторону, обиженный механик — в другую, обиженный Соломон Борисович — в третью.
Коммунары не обижаются: они знают свою силу и уверены, что будет так, как они захотят.
Через день совет командиров назначает своего браковщика, тот начинает отшвыривать неправильно обточенные, грубо обработанные детали, и уже никому не приходит в голову протестовать против его браковки.
В том же совете командиров недвусмысленно требуют от Соломона Борисовича, чтобы в ближайшие дни был поставлен на фундамент шлифовальный станок. Соломон Борисович обещает поставить его в течение трех дней. Вася, секретарь совета, записывает в протокол это обещание и говорит с улыбкой:
— Записано: через три дня.
А после совета в частной беседе грозят Соломону Борисовичу:
— Смотрите, Соломон Борисович, ваша квартира недалеко — устроим демонстрацию против ваших окон, оркестр у нас свой. Когда-нибудь сядете пить чай, а тут — что такое? Смотрите в окно, а кругом красные флаги и плакаты: «Долой расхлябанность! Да здравствует дисциплина!»
Соломон Борисович отшучивается:
— Ну, вы окна бить не будете? Окна ж ваши, коммунарские.
Васька закатывается за своим столом.
— Окна, конечно, нельзя, так мы стаканы побьем. Милиции близко нету, не забывайте.
Смеется Соломон Борисович.
— Честное слово, хорошие вы ребята, только напрасно волнуетесь, все будет хорошо.
— Посмотрим! — говорят коммунары.
И они смотрят. И под их взглядами ежится всякий шкурник, рвач, растяпа. Соломону Борисовичу этот въедливый хозяйский взгляд помогает вскрыть все недостатки производства.
Все уверенны, что первый и второй отряды наведут дисциплину в токарном цехе.
Недавно на общем собрании рыжий Боярчук, сдавая рапорт на командира первого отряда, сообщил:
— В цехе полчаса не было резцов.
Соломон Борисович при обсуждении рапорта заявил категорически:
— Это неправда. Резцы были. Просто поленились пойти к кладовщику получить.
Коммунары хорошо знают, что где угодно может быть неправда, только не в рапорте. Рапорт пишется пером, и ни один командир не напишет в рапорте неправды.
Коммунары засмеялись.
— А если правда, тогда что?
— Что хотите, — сказал Соломон Борисович.
Встал командир первого, Фомичев:
— Мне за неправильный рапорт было бы не меньше трех нарядов.
— Пускай мне будет три наряда, — выпалил сердито Соломон Борисович.
— Хорошо, — сказал Фомичев.
Тут же выбрали комиссию. На другой день она доложила:
— Резцов действительно не было.
На собрании поднялся смех:
— А где же Соломон Борисович?
Оглянулись, а Соломона Борисовича и след простыл.
На другой день пришел ко мне Соломон Борисович и сказал:
— Ну что ж, я им сделаю душ в саду. Это стоит трех нарядов.
Васька, секретарь совета командиров, подумал и сказал:
— Пожалуй, что и стоит.
Копейки и мальчики
В никелировочном цехе работают два отряда: одиннадцатый — до обеда и двенадцатый — после обеда. В каждом по десять человек. Командирами здесь старые коммунары — Крымский и Жмудский, но большинство членов этих отрядов — новички. Однако эти новички уже справляются со своим положением хозяев на производстве. Недавно они даже одержали крупную победу над Соломоном Борисовичем.
Никелировочная мастерская разделяется на два отделения: в одном стоят шлифовальные, полировочные станки и так называемые щетки. На всех этих приспособлениях медные части, вышедшие из токарного цеха, приготовляются к никелировке: шлифуются и полируются. В другом отделении они опускаются в никелировочные ванны, но и перед ваннами проходят очень сложную процедуру промывок и очисток и бензином, и известью, и еще каким-то составом. Одним словом, в никелировочном цехе очень много отдельных процессов, и общий успех работы зависит от слаженности и согласованности.
Почему-то Соломон Борисович держал здесь двух мастеров: один заведовал шлифовальным отделением, второй — собственно никелировочным. Мастера эти отчаянно конкурировали друг с другом, подставляли один другому ножку, сплетничали и втягивали в эту глупую борьбу и рабочих, которых там человека четыре, и ребят.
Вообще никелировочный цех у нас один из самых неудачных: всегда в этом цехе что-нибудь ломается, останавливается. И Соломон Борисович, и мастер, и члены производственного совещания, и остальные коммунары на каждое заседание совета командиров приходят с взаимными претензиями. Начинается разговор в очень корректных выражениях, но кончается бурно. Раскраснеются физиономии, размахаются руки, голоса повысятся на пол-октавы. Голос секретаря совета командиров, называемого чаще ССК, переходит в фальцет, но тщетны все попытки сколько-нибудь охладить Соломона Борисовича. Соломон Борисович горячится ужасно.
— Что вы мне рассказываете? Кому вы рассказываете? Я работаю на производстве девятнадцать лет, а мне такой, понимаете, малыш говорит, что здесь число оборотов неправильное. Так разве я могу так работать? Я требую, чтобы со стороны коммунаров было ко мне другое отношение.
Тут Соломон Борисович сам доходит до такого числа оборотов, что уже не замечает, как начинает рассказывать своему соседу, политруководителю коммуны товарищу Варварову, о каких-то еще более возмутительных проявлениях неуважения к его производственному опыту. Варваров, молодой и кучерявый, что-то у него спрашивает. Соломон Борисович ерзает на стуле и роется в глубочайших карманах своего пиджака-халата, очевидно, разыскивая документальное доказательство.
ССК пищит:
— Соломон Борисович, а Соломон Борисович! Соломон Борисович, говорите всему совету. Чего вы шепчетесь?..
Соломон Борисович оглядывается на сердитого Ваську и расцветает в улыбке:
— Ну вот, видите?
Но, несмотря на все эти столкновения, Соломон Борисович любит ребят и часто приходит в неожиданный восторг от напористости коллектива.
Этот восторг он выражает на каждом шагу, но и на каждом шагу он с этим коллективом ссорится и устраивает конфликты. Коммунары платят ему таким же сложным букетом. С одной стороны, они видят его энергию и знания, но в то же время они не склонны подчиняться его авторитету и прекрасно разбираются в отрицательных свойствах его как организатора: бывает, что Соломон Борисович погонится за дешевкой, любит сделать что-нибудь, как-нибудь, только бы держалось, из-за копейки часто не только поспорит, а и разволнуется.
Коммунары умеют собрать самые подробные сведения о какой-нибудь детали у мастеров и неожиданно ошеломляют своей эрудицией Соломона Борисовича.
— Вот в Киеве на производствах везде платят по полкопейки за такую-то деталь; а я вам даю три четверти.
— Э, и хитрый же вы, Соломон Борисович! Так в Киеве платят же только за формовку, а есть еще и чернорабочие…
Соломон Борисович наливается кровью, размахивает руками и сердится:
— Откуда вы все это знаете? Я девятнадцать лет работаю на производстве, а он будет мне толковать о чернорабочем!
Когда был поднят вопрос о ненужности двух мастеров в никелировочном, Соломон Борисович сначала попробовал обидеться, потом стал взывать к милосердию и, наконец, сообразил, что предложение производственной комиссии оставить одного мастера на два отделения — предложение дельное. Принужден он был согласиться и с другим предложением производкомиссии: платить коммунарам за работу на ванне не одну с четвертью копейки от стана, а две копейки. Но на совете командиров Соломон Борисович вдруг стал на дыбы:
— Постойте, как же так? — Соломон Борисович даже вспотел. — Вы говорите, прибавить три четверти копейки с первого июня, а сейчас пятнадцатое. Я же не могу уволить второго мастера с первого июня, а могу только с пятнадцатого, значит и ваша прибавка, — он повернулся к членам производственной комиссии, — может быть только с пятнадцатого.
Председатель производственной комиссии — командир двенадцатого Жмудский, поддерживаемый внушительным урчанием половины всего своего отряда, расположившегося прямо на полу, вероятно, в знак того, что они не имеют права голоса на совете командиров, вытянул удивленную черномазую физиономию.
— Так причем же здесь мастер?
Маленький востроносый ССК Васька даже лег на стол, устремившись всем телом к расстроенному Соломону Борисовичу.
— Так поймите же, Соломон Борисович! Мастер-то относится к рационализации, а то совсем другое дело — расценки.
— Что вы мне, молодой человек, рассказываете? Кому вы это говорите?..
Полный, круглый, красный и клокочущий, завернутый в широчайший и длиннейший, покроя эпохи последних Романовых пиджак, карманы которого всегда звенят ключами, метрами, отвертками, шайбами и т. п., Соломон Борисович вскакивает со стула и вдруг набрасывается на меня, хотя я решительно ни в чем не виноват. Я мирно подсчитываю в это время, сколько метров сатина нужно купить на парадные трусики для коммунаров, принимая во внимание, что девчонкам трусиков не нужно, что в кладовой имеется сто одиннадцать метров и что…
— Вы, Антон Семенович, распустили ваших ребят. Они теперь уже думают, что это не я инженер, а они инженеры. Они будут читать мне лекции о рационализации… Я пойду в Правление, я решительно протестую!
Соломон Борисович брызжет слюной и отчаянно машет руками.
— Да ведь они же правы, Соломон Борисович.
— Как правы? Как правы? Как правы? Я должен где-то брать деньги на никелировку? И мастеру платить, и три четверти копейки…
— Да при чем же здесь мастер? — спрашивает Жмурский.
Как причем? Как причем? Вы слышите, что они спрашивают? Причем мастер? А мастеру платить нужно за две недели? По-вашему, так можно выполнять промфинплан?
— А какое нам дело, что вы держали мастера, который не нужен? Вы и еще бы держали, если бы мы не придумали, а теперь вы хотите, чтоб за наш счет…
Соломон Борисович начинает чувствовать, что Жмудский не так уж далек от истины, и перестает вертеть руками, растеряно всматривается в лицо Жмудского:
— Как вы говорите?
Жмудский смущен неожиданным замешательством противника. Он даже подымается со своего стула и заикается:
— Мастер же, это был убыток. Мы вам посоветовали…
— Нам премию нужно выдать! — перебивает Жмудского кто-то из командиров сзади Соломона Борисовича.
Соломон Борисович резким движением поворачивается на сто восемьдесят градусов и… улыбается. На него смотрят плутоватые глаза Скребнева, которому он очень симпатизирует. Соломон Борисович находит выход:
— Мастер, говорите, убыток? У Соломона Борисовича никогда не бывает убытка.
— Как это не бывает? А ведь был лишний мастер, — раздается со всех сторон.
— Эх, нет, товарищи!
Соломон Борисович вытаскивает из кармана платок, который кажется бесконечным, потому что до конца никогда не вытягивается, затем снова усаживается на своем стуле и забывает, что имел намерения вытереть трудовой пот на инженерском челе. Платок исчезает в кармане, и Соломон Борисович уже сияет и по-отечески, по-стариковски ласково и любовно говорит притихшим коммунарам:
— Двух мастеров нужно было иметь, пока вы учились работать. Вот теперь вы выучились, и двух мастеров не нужно, нужен только один. Если бы вы и не предложили, я его и сам бы снял. Пока вы учились, конечно, нужно было переплачивать на мастерах, и расценки были ниже. Вы работали не самостоятельно, а с мастером.
— Э-э-э, Соломон Борисович!.. Нет… Это что ж…
— Ишь, хитрый какой!
— Смотрите! Учились… А когда мы научились? Сегодня? Сегодня? Да?
На Соломона Борисовича один за другим сыплются вопросы, но чувствуется все же, что он нанес гениальный удар.
Когда шум немного стихает, серебряный дискант Скребнева вдруг звенит, как колокольчик председателя?
— Это вы сейчас придумали? Правда ж?
Весь совет заливается хохотом. Соломон Борисович снова наливается кровью и с достоинством подымается с места:
— Нет, товарищи, я так не могу работать…
Снова Соломон Борисович начинает кричать:
— Конечно! Довольно! Кто я здесь такой? Инженер? Или я буду у этих мальчишек учиться управлять производством?..
Коммунары в общем не обижаются даже за «мальчишек». Они улыбаются в уверенном ожидании моего ответа. И я улыбаюсь.
— Да ведь как же не согласиться? Нельзя предъявлять коммунарам такую логику, нельзя связывать эти два пункта.
Соломон Борисович опять выступает с достоинством, складывает бумаги в портфель и говорит:
— Хорошо. Значит, дело это переносится в Правление.
— В Правление? — ССК таращит глаза.
— Да, в Правление, — обиженно угрожает Соломон Борисович.
— Посмотрим, что Правление скажет, это интересно. Вот смотри ты, в Правление! — удивляется ССК.
Соломон Борисович вылетает из кабинета, и еще виден в дверях его пиджак, а Васька уже вещает:
— Следующий вопрос — заявление Звягина о приеме в коммуну.
Из книги о культурной революции
Пока шумят мастерские, в главном доме коммуны тихо. Только во время перемен из класса высыпают ребята и спешат кто в спальню, кто в кабинет, кто в кружок. Многие просто прогуливаются у парадного входа по выложенному песчаником тротуару.
Школьная смена своим костюмом резко отличается от рабочей. В то время, когда слесари, токари и в особенности кузнецы и формовщики с измазанными физиономиями щеголяют блестящими от масла пыльными спецовками, старыми картузами и взлохмаченными волосами, на ребятах из школьной смены хорошо пригнанные юнгштурмовки, портупеи, новенькие гамаши и начищенные ботинки, головы приведены в идеальный порядок, и даже такая всесоюзная растрепа, как Тетерятченко, по крайней мере до третьего урока ходит причесанным.
Кончив работу, первая рабочая смена должна переодеться и вымыться к обеду. Вторая надевает рабочие костюмы только после обеда. Вечером, после пяти часов, все должны быть в чистых костюмах.
Добиться этого удалось далеко не сразу. Многие коммунары считали, что внешность истинного пролетария должна быть возможно более непривлекательной. Совет командиров и санитарные комиссии долгое время безрезультатно боролись с этим взглядом.
— Двадцать раз в день переодеваться! — говорили коммунары. — Конечно, тогда ничего не сделаешь. Только и знаешь, что развязываешь до завязываешь ботинки!
Пришлось вводить строгие правила.
Удалось, наконец, добиться, чтобы, отправляясь в школу, ребята переодевались. Но уже к вечеру каждый ходил, как хотел.
Однако довольно скоро наступали перемены. Когда для клубов и столовых наша мастерская изготовила новую прекрасную мебель, заменившую тоненькие киевские диванчики, стало для всех очевидным, что эту мебель мы сможем привести в негодный вид в самый короткий срок. Наша санкомиссия очень легко провела на одном из общих собраний, запрещение входить в клубы и в столовую в рабочей одежде. Энергичные ДЧСК стали настойчиво приводить в исполнение постановление общего собрания.
— Фомичев, выйди из столовой!
— Чего я буду выходить?
— Ты в спецовке.
— Не выйду.
ДЧСК берется за блокнот. Фомичев знает, что кончится рапортом и выходом на середину на общем собрании, но я ему хочется показать, что он не боится этого.
— Пиши в рапорт, — говорит он. — Я все равно не выйду.
Тут приходит на помощь более решительный дежурный по коммуне:
— Не раздавать первому отряду, пока Фомичев не переоденется.
Этот ход сразу вызывает более выгодную для санкома перестановку сил. Первый отряд отходит на тыловые позиции.
— Почему из-за одного Фомичева мы должны сидеть за пустым столом?
— Я не буду спорить с каждым коммунаром, — настаивает ДК. — Что вы, маленькие?
С ДК ничего не поделаешь, без его ордера обеда из кухни отряду не отпустят. И члены первого отряда нападают уже на Фомичева:
— Вечно из-за тебя возня!
Фомичев отправляется переодеваться.
К общему удивлению, число таких конфликтов среди коммунаров было очень незначительным. Зато пришлось немало повозиться с рабочими.
В дверях нашего «громкого» клуба — дежурный отряд. Один из дежурящих вежливо заявляет:
— Товарищ, нужно переодеться.
Рабочий принимает все защитные позы и окраски и даже рад случаю повеличаться:
— Как это переодеться? Что ж тут — для господ у вас или для рабочих?
Ответ на удивление выразительный:
— Идите переоденьтесь и тогда приходите на киносеанс, — говорит дежурный.
— А если мне не во что переодеться?
Распорядитель прекращает спор и вызывает командира.
Командир — человек бывалый, много видевший, у него неплохая память. Он заявляет бузотеру:
— У вас на чистый костюм денег нет? А на водку у вас есть?
— На какую водку?
— Не знаете, на какую? На ту, которую вчера выпили с Петром Ухиным.
Возле посетителя уже два-три добровольца из ближайших резервов, самым милым образом кто-то прикасается к его локтям, а перед его носом появляется винтовка молчаливо-официального дневального.
Впрочем, за последнее время таких столкновений почти не бывает. Мы забыли об этих спорах, никому не приходит теперь в голову вступать в пререкания с коммунаром, украшенным какой-нибудь повязкой. Для всех стало законом, что нельзя в зале сидеть в шапке, и если кто-нибудь забудет ее снять, со всех сторон раздаются возгласы:
— Кто это там в шапке?
Разговоры у дневального обычно возникают лишь с посторонней публикой.
Недавно какой-то посетитель вошел в помещение с папиросой. В доме курить запрещено. Вошедшему предложили бросить папиросу. Он швырнул ее куда-то в угол вестибюля под вешалку. Дневальный потребовал:
— Поднимите.
Посетитель оскорблен ужасно. Он не хочет поднять окурок.
— Нет, поднимите!
В голосе дневального появляются нотки тревоги: а вдруг так-таки повернется и уйдет, не подняв окурка?
Чрезвычайно интересно, что такие тревожные нотки удивительно быстро улавливаются всей коммуной. Этот ребячий коллектив перевязан какими-то тончайшими нервами. Малейшее нарушение мельчайших интересов коллектива ощущается как требовательно-призывный пожарный сигнал.
Не успели оглянуться и посетитель и дневальный, как несколько человек окружили место скандала.
Малыши, если они одни, не оглядываются по сторонам — они уверены, что через несколько секунд прибудут солидные подкрепления. Поэтому атака пацанов стремительна:
— Как это не поднимите?
Нарушитель закона что-то возражает. В это время где-то в конце коридора уже гремит тяжелая артиллерия — Волченко, или Фомичев, или Долинный, или Водолазский:
— Что там такое?
Посетитель спешит поднять окурок и растерянно ищет, куда бы его бросить.
— Правильно! А то никакого спасения от разных господ не будет.
— Какие же тут господа?
— А вот такие! Вам говорят поднимите, значит, поднимите. Без лакеев нужно обходиться.
В отношении к пьяным коммунары непоколебимы. Для них не существует разницы между человеком пьяным и даже чуть подвыпившим, только пахнущим водкой. Насчет спирта нюх коммунарского контроля настолько обострен, что малейший запах скрыть от них невозможно. Если возникло такое подозрение, посетителя выставляют из коммуны, хотя бы даже он и вел себя очень разумно и умеренно. Тут уж ничего нельзя сделать.
Коммунары — очень строгий народ. Я сам, заведующий коммуной, иногда с удивлением ловлю себя на мысли: «Хорошо ли я вытер ноги? Не получу ли я сейчас замечания от дневального, вот этого самого Петьки, которого я пробираю почти каждую пятидневку за то, что у него не починены штаны?»
В коммуне живет до полсотни служащих и рабочих, и никогда у нас не бывает пьянства, ссор, драк. Когда недавно из Киева к нам прибыла целая группа рабочих, бывших кустарей, на третий же день к ним пришел отряд легкой кавалерии нашего комсомола и вежливо попросил:
— Отдайте нам карты. Вы играете на деньги.
Вы не застрахованы от того, что в вашу дверь вежливо постучит Роза Красная или Скребнев и спросит:
— Разрешите санкому коммунаров посмотреть, насколько у вас чисто в квартире.
Можно, конечно, и не разрешить, можно сказать — какое, дескать, вам дело, что у меня в комнате грязь!
— Если еще будет такая грязь, мы вас вызовем на общее собрание.
И если вам придет в голову, что вы сможете, не явившись на общее собрание, после этого на другой день продолжать жить в коммуне, вы скоро убедитесь, что это была непростительная ошибка.
Наши служащие невольно подчиняются этому крепкому, убежденному, уверенному в себе ребячьему коллективу. Для них не безразлично отношение к ним коммуны, а многим просто нравятся эти вежливые и настойчивые дети. Благодаря этому все в общем проходит благополучно. Не только никто не будет протестовать против вторжения санкома в квартиру, но все заранее позаботятся, чтобы всюду было чисто, чтобы не пришлось краснеть перед контролерами.
Моя мать — старая работница, проведшая всю жизнь в труде и в заботах, — радостно встречает молодых носителей новой культуры и, предупредительно показывая им свои чуланчики и уголки, наполненные старушечьим барахлишком, даже приглашает их:
— Нет, отчего же, посмотрите, посмотрите… Может, чего мои старые глаза не увидели, так ваши молодые найдут.
Делегации
Нередко у нас бывают экскурсии из города. Но больше всего бывает иностранных делегаций. Поэтому в коммуне всех посетителей называют «делегациями».
Зимой делегаций меньше, летом же почти не бывает дня, чтобы в коммуну кто-нибудь не приехал. Это объясняется не только известностью коммуны. Много значит и то, что коммуна — единственное детское учреждение, расположенное в черте города.
Посетители всегда предупреждают коммуну по телефону за день, за два. В первое время мы рассматривали каждое такое предупреждение как сигнал к специальным приготовлениям, Иногда было необходимо выстраивать коммуну с оркестром и знаменем. Это — в дни памятных для коммуны событий. К таким мы относим посещения коммуны членами Коминтерна и КИМа.
Но бывало и так, что торжественные встречи ложились на нас своего рода бременем. Пока автомобили с делегацией кружат по горам и лесам в поисках сносной дороги в коммуну (а дорогу в коммуну отыскать не так-то легко), коммунары должны томиться в ожидании. Мало того: перед этим нужно бросить работу в мастерских, переодеться, нужно собирать оркестр и выносить знамя, а вынос знамени, по коммунарским традициям, является довольно сложной церемонией. Очень многие делегации настаивают на созыве общего собрания коммунаров.
Понятно, что такие торжественные собрания, если они созываются ежедневно, делаются для коммунаров тягостными. Поэтому уже давно мы встали на путь решительной борьбы с разными церемониями, и теперь, несмотря на самые настойчивые требования, мы решительно в них отказываем. Мы уже потому не можем позволять себе роскоши излишних парадов, что от этого страдает наше производство.
Теперь гостей при входе в коммуну встречает дежурный, приветливо приглашает их в кабинет, если их немного, или в «громкий» клуб, если гостей больше трех-четырех десятков. Дальнейшая судьба делегации зависит уже от того, из кого она состоит. Иностранцев обыкновенно провожает заведующий; на его обязанности лежит и прием больших рабочих экскурсий. Компании же поменьше выпадают на долю секретаря совета командиров или дежурного заместителя. С течением времени в коммуне образовалась небольшая группа специальных гидов, которые знают, что интересует гостей, что показывать, и держат в голове всю необходимых статистику. Коммунары в мастерских теперь не отрываются от станков, когда приходит делегация.
В столовой, если гости попадают к нам во время обеда, еще живет обыкновение при входе гостей всем вставать и салютовать. Но в этот обычай внесена небольшая поправка. Коммунары приветствуют гостей таким образом, если тот, кто водит гостей по коммуне, скажет, входя в столовую:
— Товарищи, у нас гости.
Большинство делегаций радует нас, разнообразя нашу жизнь и в значительной мере помогая поддерживать связь с внешним миром. Особенно приветливо встречаем харьковских рабочих, которые посещают нас большими кампаниями, человек по сто и больше. Были в коммуне и негритянские и китайские делегации. Горячо приняли коммунары делегата Германского союза фронтовиков. Его восторженно чествовали на торжественном собрании и выбрали даже почетным коммунаром с зачислением в восьмой отряд.
Иностранные делегации, состоящие из выхоленных и прекрасно одетых, богатых англичан или американцев, вызывают к себе тоже большой интерес, но это уже интерес особый.
Коммунары смеются:
— Хлопцы, живые буржуи в коммуне!
Вокруг «живых буржуев» всегда собирается толпа пацанов, которые, очевидно, никак не могут представить себе, что эти представители вымирающего подвида людей еще имеют возможность свободно передвигаться по земной коре и никто их не ловит и не отправляет в заповедники. Малыши рассматривают этих туристов с таким видом, как будто и в самом деле рассчитывают увидеть оскаленные челюсти, хищные движения, испачканные кровью рабочих руки, раздувшиеся животы. И выражение лиц у некоторых пацанов такое, как будто вообще находиться рядом с такими гостями, даже и в нашей стране, не совсем безопасно.
Буржуи с пацанами разговаривают ласково и даже восхищаются некоторыми физиономиями. Нужно признать, что господа осматривают коммуну очень внимательно и на каждом шагу спрашивают:
— Так вот это и есть беспризорные?
Умытые, причесанные и очень интеллигентные коммунары, совершенно головокружительная вежливость их, умение коммунаров держаться с достоинством, чистота в здании, деловой тон в мастерских противоречат представлениям буржуазного мира не только о наших беспризорных, но и вообще о всей нашей жизни. Отсюда и то недоверие, с каким относятся буржуи к коммуне.
Мы, правда, не отказываем себе в удовольствии поразить их. Коммунары с винтовками в вестибюле нарочно задирают повыше головы. На вопрос: неужели все это беспризорные? — мы отвечаем через переводчика: нет, это не беспризорные, это хозяева здесь. Все это принадлежит им: и спальни, и мастерские, и материалы.
Переводчик, улыбаясь, что-то растолковывает буржуям. Те преувеличенно вежливо кивают головами, но все же не могут скрыть небольшого смущения, тем более что коммунары самым приветливым и самым ехидным образом посмеиваются.
Еще больше приходится смущаться буржуям, когда коммунары усаживают их в кружок в зале и начинают задавать очень недипломатические вопросы:
— Работают ли у вас дети на фабриках и заводах?
— Сколько часов в день?
— Сколько они получают?
— Помогает ли им государство?
— Есть ли у вас сироты и куда они деваются?
— Помогает ли государство этим сиротам попасть в вуз?
После этих вопросов буржуи делаются и гораздо вежливее и гораздо суше. Они вынуждены отвечать довольно нечленораздельно.
— Да, конечно, у нас есть приюты… Приюты, понимаете? Там тоже мастерские, только, конечно, там дети учатся ремеслу и «приучатся не воровать»…
Рабочие делегации Запада никогда не спрашивают: «Неужели все это беспризорные?», никогда не становится их тон сухим или чрезмерно вежливым. Они в восторге от нашей коммуны и от наших ребят, они в восторге и от того, что к ним так тепло относятся эти ребята, от того, что ребятам так хорошо живется в коммуне. Они искренно, часто волнуясь, рассказывают ребятам, как тяжело живется на Западе, как тяжек там детский труд, как тяжела детская сиротская доля. Коммунары слушают их, затаив дыхание.
Гости давно уже сидят в автомобилях, но еще продолжаются расспросы, рукопожатия и шутки. Шоферы нетерпеливо оглядываются, заведующий производством волнуется, что прервали работу, но всем легко и весело. Наконец, автомобили трогаются. У передового на подножке стройная фигурка коммунара, который должен показать самую прямую дорогу через лес.
Экскурсии советских рабочих в коммуне ведут себя по-хозяйски. Женщины заглядывают под одеяла, щупают подушки, осматривают кухонную посуду. Мужчины в мастерских проверяют с циркулем в руках полуфабрикат и спрашивают, почему плохо работает вентиляция. Коммунары в разговоре с ними употребляют самые специальные термины. Только и слышишь: шкив, суппорт, трансмиссия.
Придирчивость гостей никого не обижает. Мы признаем, что подушки действительно надо бы поднабить, что с вентиляцией дело в никелировочной неладно, что шкив болтается. Эти наши гости самым приятельским образом отплясывают гопака в нашем саду под музыку улыбающихся оркестрантов. Отцы пляшут, отчего же не улыбаться! И уж действительно становится весело, когда на поддержку добродушной неповоротливой толстухе из Нарпита вылетает наш юркий и красивый Ленька Нигалев и начинает заворачивать вокруг нее такие хитрые и умопомрачительные антраша, что сидящий на скамейке в ряду других гостей худой усатый рабочий сбивает фуражку на затылок и кричит:
— Ах, ты ж, с-с-сукин сын! Это наш!..
Уходят рабочие из коммуны пешком, их провожают разговорившиеся, оживленные коммунары. Прощаются на меже у леса.
Окружающее население
На общие собрания коммунаров почти каждый раз приходят парни и девчата села Шишковки.
С Шишковкой коммуна начала устанавливать связь давно. Вначале из этого ничего хорошего не получалось. Первые наши культуртрегеры — комсомольцы Охотников, Веренин, Нарский — возвращались из деревни в ночную пору, не только ничего не сделав, но несколько навеселе, так как Шишковка славилась своим самогоном и любила угощать дорогих гостей. Кончились эти первые походы позорно: общее собрание запретило Охотникову посещать Шишковку.
Но скоро в коммуну стали приходить девчата из деревни. Наш политрук от удовольствия только руки потирал. Девчата посещали все комсомольские собрания, постепенно приобщаясь к жизни нашей организации. Большое неудобство, правда, заключалось в том, что девчат нужно было после собрания провожать домой.
Очень скоро обнаружилось, во-первых, что Крупов страшно влюбился в какую-то Катю и возымел даже желание на ней жениться, во-вторых, что в ту же Катю влюбился и Митька, в-третьих, что Катя не порвала со старым бытом, хотя и вступила в комсомол. Она по-прежнему торговала самогоном, так же как и ее мать. Ребята явно подпали под ее влияние. Комсомольцы оказались виновными и «во-первых», и «во-вторых», и «в-третьих». Все было выяснено нашими пацанами на страницах стенной газеты, и после двух-трех бурных заседаний с этим было покончено. Но после такой истории ребята почему-то очень охладели к Шишковке.
В это именно время коммуна совершила несколько культурных походов в более далекое село Шевченки, главным образом преследуя цели антирелигиозной пропаганды. Первое наше выступление было в пасхальную ночь. Несмотря на оркестр, мы собрали мало народу. Была исключительно молодежь, но и та, когда ударили к заутрене, предпочла не ссориться со стариками и отправилась в церковь в предвкушении приятного обжорства на следующий день. Однако в Шевченках был уже небольшой актив, и наши комсомольцы сумели с ним связаться и постепенно продвинуться вперед на антирелигиозном фронте. На другой год мы уже были знакомы с половиной села и смогли устроить в пасхальную ночь настоящее торжество с концертом, фейерверком, кинопостановкой. Теперь уже многие решили разговляться не после заутрени, а после нашего представления. Это было немалым шагом вперед.
Но Шевченки — Шевченками, а Шишковка все же не давала покоя нашим политическим организациям. Подошли к Шишковке с другой стороны, и очень хитро подошли.
Наш клубник Перский давно толковал о том, что нужно привлечь в наш драмкружок артистов из Шишковки. В совете командиров долго возражали против этого плана, указывая на то, что Шишковка никогда артистическими силами не славилась, что шишковцы принесут в коммуну водку и будут спаивать ребят. Больше всего командиры беспокоились, что новые артисты будут плевать в здании, бросать окурки и обтирать стены. По вечерам в коммуне стали появляться первые лица. Их было человек десять, артистическими талантами они, правда, обладали небольшими, но были замечательно усердны и послушны. В сравнении с нашими актерами, не имеющими никогда времени прочитать роль, шишковцы оказались прямо золотом. Перский организовал что-то вроде театральной школы — во всяком случае, каждый вечер шишковцы с десятком коммунаров упражнялись в главном зале в дикции, ритме, позе и прочих театральных премудростях.
Работа эта оказалась своевременной и в другом отношении. У коммунаров всегда была неприязнь к театральной работе, они считали, что подготовка к спектаклю отнимает очень много сил, а получается всегда довольно слабо, что во всех отношениях кино в тысячу раз лучше театра и, наконец, в нашем зале можно поместить кроме коммунаров и служащих не больше двадцати человек, так что играть не для кого.
Перский поставил несколько пьес, между прочим даже «Рельсы гудят», и «Республика на колесах».
Для коммунаров смотреть эти пьесы было истинным наслаждением. Действительно, шишковцы хоть и были на сцене довольно неповоротливы и комичны, но зато прекрасно знали роли, и суфлер всегда отставал от артистов.
Главное было сделано: ребята близко и по-деловому познакомились с селянской молодежью. Скоро нашлись и другие общие дела у нас и у шишковцев: комсомол открыл в Шишковке школу ликвидации неграмотности и кружок молодежи, откуда черпал пополнения наш комсомол. Шишковцы не ограничились участием в драмкружке. Они близко подошли к жизни коммуны и сделались постоянными посетителями наших общий собраний. Правда, они не смогли освободиться от излишнего уважения не столько к нашим коммунарам, сколько к строгости и четкости нашей жизни, и коммунары всегда посматривали на них несколько свысока.
Взаимоотношения с селами укреплялись. После первых выпусков школы ликбеза возле коммуны сплотилась целая группа действительно новой молодежи. Наши комсомольцы снабдили село библиотекой. Большое значение имели наши лекции перед каждым сеансом кино — о внешней и внутренней политике, о партийных съездах, о пятилетке. О пятилетке мы прочли около двух десятков лекций, очень подробно останавливаясь на отдельных отраслях хозяйства.
У нас установилась тесная связь с рабочими организациями. Наиболее близко мы стали к клубу металлистов, в особенности к рабочим ВЭКа. Металлисты несколько раз бывали в коммуне, мы всегда с особенной торжественностью и подъемом отправлялись к ним в клуб.
Наши экскурсии на завод были настоящим праздником для коммунаров. Скоро рабочие завода перезнакомились и подружились со всеми. Эта дружба особенно укрепилась после того, как шесть товарищей из коммуны поступили работать на ВЭК. С этих пор коммунары стали рассматривать ВЭК как «свой» завод. Если вэковцы что-нибудь организуют, они обязательно пригласят и коммуну. Если на заводе что-нибудь случится, об этом в коммуне не прекращаются разговоры.
Когда же засветился Тракторострой, когда нам было поручено изготовление дверей для Тракторостроя с обязательством выпускать ежедневно сто штук — нашим восторгам не было конца.
Кабинет
«Кабинет» в коммуне имени Дзержинского — место, о котором необходимо поговорить серьезно, потому что эта небольшая комната имеет в коммуне огромное значение.
В кабинете стоят два стола — заведующего, то есть мой, и секретаря совета командиров, три шкафа — мой, секретаря совета командиров и редколлегии стенгазеты, несколько дубовых стульев и два диванчика. Есть пишущая машинка.
Кабинет никогда не бывает пустым — в нем всегда люди и всегда шумно. Пока наше производство еще не развернулось и было много свободных коммунаров, в кабинет назначался специальный дежурный. На его обязанности было держать кабинет в чистоте, исполнять обязанности курьера и, самое главное, время от времени освобождать кабинет от лишней публики. В настоящее время специальных дежурных для кабинета выделить невозможно и поэтому удалять из кабинета лишнюю публику некому.
Откуда набирается в кабинете лишняя публика? Дело в том, что в нашем коллективе существует старая традиция — все коммунарские дела разрешать не на квартире у заведующего, как это принято в соцвосовской практике, а только в кабинете, и ни одного дела, в чем бы оно не заключалось, не делать секретно. В полном согласии с этой традицией каждый коммунар имеет право в любое время зайти в кабинет, усесться на свободном стуле и слушать все, что ему выпадет на долю. Коммунар, понятно, не упустит случая зайти в кабинет. Он всегда найдет какое-нибудь дело, часто самое пустяковое: попросить отпуск, доложить, что возвратился из отпуска, попросить бумаги или конверт, спросить, нет ли для него писем, что-то сверить у ССК, наконец, принести забытую кем-то в саду тюбетейку или пояс. Под такими благовидными предлогами, а иногда и без всяких предлогов коммунар задерживается в кабинете. Но, разумеется, коммунару тихонько сидеть на стуле даже и физически невозможно. Он вступает с кем-нибудь, таким же случайным гостем, и негромкую беседу в уголке. К ним присоединяется третий, и беседа разгорается.
Кроме того, в кабинет все время заходят и особы более дельные: ежеминутно забегает дежурный по коммуне с разными вопросами, ордерами, «запарками» и недоумениями, председатель столовой комиссии ругается по телефону с соседом-завхозом: утреннее молоко оказалось прокисшим и председатель кричит что есть мочи:
— Что у нас кони — казенные? «Отвезите!»… Давайте теперь ваших коней.
Иногда у стола собирается целый консилиум: девочки хотят сшить себе юбки «модерн» и демонстрируют покрой. Я с сомнением смотрю на узкую выгнутую юбочку и говорю:
— Мне кажется, мало подходит для коммунарки.
Инструктор швейной мастерской, маленькая, худенькая добрая Александра Яковлевна, виновато поглядывает на девчат, а девчата уступать и не собираются.
— Почему не подходит? Это вам все мальчишки наговорили?
Присутствующие тут же мальчишки поднимают перчатку:
— Тогда и хлопцы начнут модничать. Вот нашьем себе дудочки…
— Разве мы модничаем? Какая же тут особенная мода?
— Вы их балуете, Антон Семенович, — говорят мальчишки. — Сколько уже у них платьев?
— Сколько же у нас платьев? Ну, считай…
— Ну вот, смотри, — начинает откладывать пальцы «мальчишка». — Парусовое — раз?
— О, парусовое! Так это же парадное… Смотри ты какой!
— Парадное не парадное, а — раз?
— Ну, раз.
— Дальше: синее суконное — два?
— Что ты! Смотри, так ж парадное зимнее. Что ж, мы в нем ходим? Надеваем два раза в год.
— Все равно, хоть и десять раз в год. Два?
— Ну, два.
— Дальше: серенькое вот, которое такое, знаешь…
— Ну, знаем… это же спецовка.
— Спецовка там или что, а — три?
— Ну, три.
— Потом с цветочками разными — четыре.
— А что же мы будем в школу надевать спецовку, что ли?
— Все равно — четыре. Потом синее, рябое, полосатое, клетчатое и вот то, что юбка в складку, а кофточка…
— Что вы такое выдумываете? Разве это у всех такие платья? У одной такое, у другой такое.
— Рассказывайте — такое да такое! Вот пусть об этом совет командиров поговорит, а то одна одежная комиссия, а там девчата — что хотят, то и делают.
Девочки побаиваются совета командиров — народ там всегда очень строгий. Но и у девочек есть чем допечь мальчишек.
— Смотри ты, какие франты! Сколько у них костюмов! Парусовый — раз.
— Да что ты, парусовый! Это ж летний парадный.
— Все равно — раз?
— Ну, раз.
— Суконный синий — два.
— Ну, еще будешь считать! Сколько же мы его раз надеваем в год? Разве что седьмого ноября.
— Все равно — два?
— Ну, два.
— Черный — три. Юнгштурм — четыре.
Мальчики начинают сердиться.
— Да ты что? А что ж нам в спецовках ходить в школу?..
Споры эти — настоящие детские споры. За ними всегда скрывается робкое чувство симпатии, боящееся больше всего на свете, чтобы его никто не обнаружил.
Попробуй та же девочка показаться в клубе в слишком истрепанном платье — со всех сторон подымается крик:
— Что это наши девочки хотят, как беспризорные. Что, им лень пошить себе новое платье?
Иногда у стола заведующего возникают дела посложнее. Виновато разводит руками инструктор литейного цеха:
— Вчера не было току, это верно.
— А сегодня.
— А сегодня этот лодырь Топчий не привез нефти из города.
— Какое нам дело до вашего Топчия! Вы отвечаете за то, что литье начинается в восемь часов, когда выходят на работу коммунары.
Инструктор бессилен снять с себя ответственность. Коммунары лежачего не бьют — только разве кто-нибудь вставит:
— Поменьше бы в карты играл у себя в общежитии.
Особый интерес возбуждают приезжие заказчики. Какой-нибудь технорук раскладывает на столе чертежи и торгуется с Соломоном Борисовичем, а из-за их плеч просовывают носы коммунары и нюхают, чем тут пахнет.
Вообще много интересного бывает в кабинете, и зайти в эту комнату всегда полезно.
В рабочие часы в кабинете почти никого нет, разве задержится больной или дежурный зайдет по делу.
Но как только затрубили на обед или «кончай работу», так то и дело приоткрывается дверь и чья-нибудь голова просовывается в кабинет, чтобы выяснить, есть смысл зайти или можно проходить мимо. Если я занят бумагами, ребята накапливаются в кабинете понемногу и начинают располагаться совсем по-домашнему. Вероятно, мой занятый вид импонирует им в высшей степени. Подымаю голову. Они не только расселись на всех стульях, но уже и в шахматы идет партия на столе ССК, а рядом — кто читает газеты, кто роется в каких-то обрезках стенных газет, кто оживленно беседует в углу. В кабинете становится шумно. Иногда я начинаю сердиться:
— Ну, чего вы здесь собрались? Что это вам — клуб? Я у вас не играю на станках в шахматы!
Коммунары быстро скрываются и бросают недоконченную партию, но на меня никогда не обижаются.
Их можно выдворить и гораздо более легким способом:
— А ну, товарищи, вычищайтесь!
— Вычищаемся, Антон Семенович!
Но ровно через пятнадцать минут я отрываюсь от работы и вижу: другие уже набились в кабинет, опять — шахматы, опять — чтение, опять — споры…
Бывают дни, когда я забываю о том, что они мне мешают. За десять лет моей работы я так привык к этому гаму, как привыкают люди, долго живущие у моря, к постоянному шуму волны. И поздно вечером, когда я остаюсь в кабинете один, в непривычно молчаливой обстановке работа у меня не спорится. Я нарочно иду в спальню или в лагери и отдыхаю в последних плесках ребячьего говора.
Но иногда от переутомления делаешься более нервным; тогда я дохожу даже до жалоб общему собранию:
— Это же ни на что не похоже! Как будто у меня в кабинете нет работы. Каждый заходит, когда ему вздумается, без всякого дела, разговаривает с товарищем, перебирает мои бумаги на столе, усаживается за машинку.
Все возмущены таким поведением коммунаров и наседают на ССК:
— А ты куда смотришь? Что, ты не знаешь, что нужно делать?
Два-три дня в кабинете непривычная тишина. Но уже на третий день появляется первая ласточка. Оглядываюсь — под самой моей рукой сидит маленький шустрый Скребнев и читает мой доклад Правлению о необходимости приобретения хорошего кабинета учебных пособий. Его локоть лежит на папке, которую мне нужно взять.
— Товарищ, потрудитесь поднять локоть, мне нужна эта папка, — говорю я с улыбкой.
Он виновато краснеет и быстро отдергивает локоть:
— Простите.
Я беру папку, а он усаживается в кресле поуютнее, забрасывает ногу на ногу и отдается чтению важного доклада. В дверь просовывается чей-то нос. Его обладатель, конечно, сразу догадывается, что эпоха неприкосновенности кабинета пришла к концу. Он орет во всю глотку:
— Антон Семенович! Вы знаете, что сегодня случилось в совхозе?
Так как я занят, то он начинает рассказывать последние новости Скребневу и еще двум-трем коммунарам, уже проникшим в кабинет.
При всей бесцеремонности по отношению к моему кабинету коммунары прямо не могут перенести, если так же бесцеремонно в кабинет заходят новенькие. Тогда со всех сторон раздается крик:
— Чего ты здесь околачиваешься? Тебя просили сюда?
Новенький в панике скрывается, а коммунары говорят мне:
— Ох, этот же Тумаков и нахальный! Смотрите, он уже здесь, как дома.
Все поддерживают:
— Это верно. Сегодня я ему говорю: «Чего ты стены подпираешь?» А он: «А тебе какое дело!»
— В столовой разлил суп, я говорю ему: «Это тебе не дома. Аккуратнее», — так он спрашивает: «А ты что — легавый?»
Ребята хохочут.
Но через месяц, когда все раскусят новенького до конца, приучат не подпирать стены, не разливать суп и окончательно, раз навсегда забыть о том, что есть на свете «легавые», его присутствие в кабинете никого не удивит.
Коммунары, очевидно, считают кабинет своим центром, считают, что каждый настоящий коммунар вправе в нем присутствовать, но что для этого все-таки нужно сделаться настоящим коммунаром.
Когда в нашу кабинетную толпу входит посторонний человек с явно деловыми намерениями, ему вежливо дают дорогу, еще вежливее предлагают стул, каким-то особым способом уменьшают толпу в кабинете на три четверти нормальной, и тихонько слушают, если интересно. А неинтересно, все гуртом «вычищаются» в коридор.
Совет Командиров
В кабинете собирается и совет командиров. Очередные заседания совета бывают в девятый день декады, в половине шестого, после первого ужина. Обыкновенно об этом совете объявляется в приказе, и коммунары заранее подают секретарю совета заявления: о переводе из отряда в отряд, о разрешении курить, о неправильных расценках, об отпуске, о выдаче разрешения на лечение зубов и пр.
Гораздо чаще совет командиров собирается в срочном порядке. Бывают такие вопросы в жизни коммуны, разрешение которых невозможно откладывать на десять дней.
Собрать совет командиров очень легко, нужно только сказать дежурному по коммуне:
— Будь добр, прикажи трубить сбор командиров.
Через четверть минуты раздается короткий сигнал. Я не помню случая, чтобы между сигналом и открытием заседания прошло больше трех минут.
Мы стараемся созывать совет командиров в нерабочее время, чтобы не раздражать Соломона Борисовича. Да и ребята не любят отрываться от работы.
По сигналу в кабинет набивается народу видимо-невидимо. Командиры приводят с собой влиятельных членов отряда, бывших командиров и старших комсомольцев, чтобы потом не пришлось «отдуваться» в отряде. Приходят и все любители коммунарской общественности, а таких в коммуне большинство.
У нас давно привыкли на командира смотреть как на уполномоченного отряда, и поэтому никто не придирается, если вместо командира явился какой-нибудь другой коммунар из отряда.
Заседание начинается быстрой перекличкой.
— Первый.
— Есть.
— Второй.
— Есть.
— Третий.
— Есть…
И так далее.
— Объявляю заседание совета коммунаров открытым, — заявляет ССК. — У нас такое экстренное дело. Пришло приглашение окружного отдела МОПРа провести с ними экскурсию в чугуевский лагерь. Условия предлагают такие…
Начинается самое подробное рассмотрение всех условий, предложенных МОПРом. Коммунары — все члены МОПРа и все гордятся своими мопровскими книжками, но это не мешает им с хозяйской недоверчивостью обсуждать каждую деталь предложения.
Черномазый Похожай — добродушный и умный командир девятого отряда новеньких, уже комсомолец и общий любимец, хоть ему еще и пятнадцати не стукнуло, сверкает глазами и басит:
— Знаем, чего это они к нам с приглашением. Наверное, у них оркестра нет. Вот они и просят: давайте ваших семьдесят коммунаров. А мое предложение такое: что нам делить коммуну? Если ехать, так всем ехать, а не ехать — так никому не ехать.
На полу под вешалкой сидит Ленька Алексюк из десятого отряда, политбеженец из Галиции, самый младший и смешливый коммунар. Его командир Мизяк долго соображает что-то по поводу предложения Похожая, а Ленька уже сообразил:
— Ишь, хитрые какие! Семьдесят человек… А если и мы хотим ехать?
Ленька — человек опытный и знает, что если дойдет дело до выбора, то ему скажут: «Успеешь еще, посиди в коммуне, заснешь там ночью…»
Командир третьего Васька Агеев о чем-то шепчется с непременным своим спутником Шведом, и я слышу обрывки разговора:
— Ну, так что?
— В копейку влетит, если все…
Берет слово Волчок, помощник командира первого. Волчка Фомичев почти всегда посылает в совет в трудных случаях.
— Да что тут говорить? Конечно, всем ехать…
Васька, секретарь, обращается ко мне:
— А как у нас с деньгами?
— Слабо, — говорю я.
Васька оживляется.
— Ну, так что ж тут говорить! Значит, предложение будет такое, как тут высказывались: едет сто пятьдесят коммунаров, проезд на «их» счет, и чтобы обед в Чугуеве. Голосую…
В таких случаях решение бывает единогласным.
Но иногда разгораются страсти, в прениях принимают участие и гости и даже вся толпа не успевших занять стулья или присесть на полу. Тогда Васька «парится» и кричит:
— А ты чего голосуешь? Ты командир?
— Наш командир в городе, я — за него.
— Ты за него, а почему голосует Колька?
— А это он за компанию.
— Голосуют только командиры! — разрывается секретарь, и Ленька Алексюк опускает руку. Он всегда голосует, хотя его руку давно уже привыкли не замечать под вешалкой.
В особенности часто разделяются голоса в тех случаях, когда затрагиваются вкусы. Недавно решали, что покупать на лето — фуражки или тюбетейки. Народ поменьше стоял за тюбетейки, старшие настаивали на фуражках; вышло поровну. В таком случае дает перевес голос председателя. И Васька начинает важничать: долго думает, морщит лоб и отмахивается от недовольных комсомольцев, которым тюбетейка почему-то кажется несимпатичной.
— Да ну же решай, чего там морщишься? Все равно никто носить не будет.
Васька сейчас же в «запарку», поддерживаемую большинством собрания:
— Как это не будешь? А если постановят? Ты мне такие разговоры не заводи, а то в бюро придется с тобой разговаривать!
Васька и сам комсомолец и член бюро, но ему только пятнадцать лет, поэтому ему мила тюбетейка. Теперь же, после угрозы не подчиниться постановлению, он решительно переходит на сторону золотой шапочки и подымает руку.
— За тюбетейку!
Бывает часто, что и мне приходится оставаться в меньшинстве. В таких случаях я обычно подчиняюсь совету командиров, и тогда ребята торжествуют и «задаются»:
— Ваша не пляшет!
Но бывает и так, что я не могу уступить большинству совета. У меня тогда остается один путь — аппелировать к общему собранию коммунаров. На общем собрании меня обычно поддерживают все старшие коммунары, бывшие командиры и почти всегда — комсомольцы, способные более тонко разбираться в вопросе.
Благодаря такой конъюнктуре командиры очень не любят, когда я угрожаю перенести вопрос на общее собрание, и недовольно бурчат:
— Ну да, конечно, на общем собрании за вас потянут. А вы здесь должны решать, а не на общем собрании. Им что, поднять руку!
В прошлом году стоял вопрос о летней экскурсии. Совет командиров настаивал на Крыме, я предлагал Москву. В совете о Москве и слышать не хотели:
— В Крыму и покупаться и отдохнуть…
— У нас мало денег для Крыма, а в Москву дешевле, — возражал я.
— Мы и в Крыму проживем дешево.
— В Москве больше увидим, многому научимся, увидим столицу.
— А Харьков не столица разве?
Я все же не помирился с советом и перенес вопрос на общее собрание. Все командиры агитировали против меня, яркими красками рисовали прелести Крыма и отмахивались от моей поправки: «В этом году — в Москву, а в следующем — в Крым».
На общем собрании решение ехать в Москву было принятом большинством трех голосов, и это дало основание в совете командиров поднять вопрос о пересмотре. При новом голосовании в совете я остался уже не в таком позорном одиночестве, а на новом общем собрании мне удалось собрать больше двух третей голосов благодаря единодушной поддержке комсомола. Только тогда оппозиция успокоилась.
Такие случаи объясняются тем, что в командирах ходят не обязательно самые авторитетные коммунары. Командир командует отрядом три месяца и на второй срок избирается очень редко. С одной стороны, это очень хорошо, так как почти все коммунары таким образом проходят через командные посты, а с другой стороны, получается, что командиры сильно ограничены влиянием старших коммунаров. Последние, в особенности комсомольцы, умеют подчиняться своим командирам в текущем деле, на работе, в строю, но зато независимо держатся в общественной жизни и в особенности на общем собрании. Здесь коммунары вообще не склонны разбирать, кто командир, а кто нет.
Исключительное значение в коммуне ячейка комсомола, объединяющая больше шестидесяти коммунаров. Она никогда не вмешивается в прямую работу совета командиров, но очень сильно влияет на общественное мнение в коммуне и через свою фракцию всегда имеет возможность получить любое большинство в совете. Поэтому в вопросах, имеющих принципиальное значение, совету командиров часто приходится только оформлять то, что уже разобрано и намечено в разных комиссиях, секторах, бюро ячейки и, наконец, в общем собрании комсомола.
Но зато в повседневной работе коммуны, во всех многообразных и важных мелочах производства совет командиров всегда был на высоте положения, несмотря на свой переменный состав. Здесь большое значение имеет традиция и опыт старших поколений, уже ушедших из коммуны. Вот мы сейчас собираемся уезжать, и в совете командиров все хорошо знают, что нужно подумать и о котлах, и о ведрах, и о сорных ящиках, о правилах поведения в вагонах, о характере работы столовой комиссии, о санитарном оборудовании похода. Во всех этих делах ребята не менее опытны, чем я, и быстрее меня ориентируются. Только поэтому мы могли в пять часов вечера окончить работу в мастерских, а в шесть выступить в московский поход.
Из особенностей работы совета необходимо указать на одну, самую важную: несмотря на все разногласия в совете командиров, раз постановление вынесено и объявлено в приказе, никому не может прийти в голову его не исполнить, в том числе и мне. Может случиться, что я или старшие комсомольцы будем разными путями добиваться его отмены, но мы совершенно не представляем себе даже разговоров о том, что оно может быть не выполнено.
В начале этого лета одно из постановлений совета прошло незначительным большинством и при этом наперекор общему настроению. Дело касалось охраны лагерей. Зимой сторожевой отряд освобождался от работы в мастерских — иначе было нельзя: коммунары занимались в школе, а из школы мы никогда ребят не снимали. Но когда настали каникулы, совет командиров возбудил вопрос об охране лагерей в порядке дополнительной нагрузки. Большинство в совете набралось очень незначительное — один или два голоса. Вся коммуна была недовольна. Еще бы: нужно вставать ночью и становится на дневальство на два часа, и это приходится делать раз в пятидневку. Но другого выхода не было.
Дня два мы не решались объявить постановление в приказе, я даже побаивался: а вдруг не выполнят?
Наконец, решились с Васькой: чего там смотреть! Объявили в приказе давно известное всем решение.
И ни одного голоса не раздалось против, ни один человек не опоздал на дневальство и не проспал. Вопрос был исчерпан. И мы этому не удивились. Васька, подписывая приказ, недаром говорил:
— Кончено! Подписали!
Наши шефы
Правление, в которое Соломон Борисович грозил перенести вопрос о копейке, имеет огромное значение в жизни коммуны. В Правлении — четыре товарища. По странному совпадению фамилии всех членов Правления начинаются на одну букву Н. Члены Правления — чекисты. Они отнюдь не перегружены педагогической эрудицией и, вероятно, никогда не слышали о «доминанте». Но они создали нашу коммуну и блестяще руководят ею.
Все члены Правления — люди очень занятые. Они могут нам уделять лишь немного времени по вечерам или в выходной день, да и то очень редко. Несмотря на это, ни одна деталь нашей жизни не проходит мимо них, они всегда полны инициативы.
Н. приезжает в коммуну без портфеля и в дверях весело здоровается с коммунарами. Коммунары, занятые своими делами, пробегают мимо него и наскоро салютуют. Они не чувствуют перед Н. ни страха, ни смущения. Н. направляется в кухню и в столовую. Старшая хозяйка расплывается в улыбке и спрашивает:
— Может, покушаете чего?
— Потом, потом…
Н. обходит спальни. Его сопровождает случайно прицепившийся коммунар, почему-либо свободный от работы. Из седьмой спальни Н. выносит кривой «дрючок» и с укоризненным видом опирается на него, пока Сопин, украшенный красной повязкой ДК, отдает рапорт:
— В коммуне все благополучно, коммунаров сто пятьдесят один.
— Все благополучно? А это зачем в спальне?
— Наверное, для чего-нибудь надо, — уклончиво отвечает Сопин.
— Надо!.. Для чего это может понадобиться? Собак гонять?
— Почему для собак? Наверное, для чего-нибудь нужно пацану, — может быть, какое-нибудь дерево особенное.
Сопин присматривается к «дрючку», стараясь найти в нем в самом деле что-нибудь особенное.
— Дерево… — говорит Н. — Вы это обсудите в санкоме, почему в спальнях разные палки.
— Конечно, если придираться… А у вас в комнате ничего не бывает? Вот палку нашли…
— Да чудак ты! Зачем я в комнату принес палку, такую кривую?
— Вам не нужна, а пацану, может, нужна для чего… Больше никаких замечаний нет?
Сопин оставляет Н. Через минуту врывается в кабинет с этой самой палкой в руках и гневно говорит Ваське ССК:
— И откуда, понимаешь, понатаскивают разной дряни! На поверке, понимаешь, ничего не было, а теперь палок разных…
Васька строго смотрит на палку.
— Что? Наверно, Н. приехал?
Но Н. уже входит в кабинет в сопровождении какого-то пацана, рука его лежит у пацана на затылке, и пацан что-то лепечет, задирая вверх голову.
Васька отставляет палку в угол и салютует.
— Вы опять его балуете? Ты чего без дела?
— У меня пас лопнул, зашивают, — шепчет пацан и немедленно удаляется.
Н. усаживается за стол ССК.
— Ну, как у вас дела?
— Дела скверные, — говорит Васька. — Дуба нет, в цехах тесно, холодно, станки старые, пасы рвутся, считвй, каждую минуту: все старье.
— Постой, постой, это мы знаем…
— Ну, а так все хорошо.
— Вот, подожди немножко, поправимся, построим новые цехи, все будет. Ну, пойдем в цех.
К сигналу «кончай работу» они возвращаются в кабинет. С ними приходят другие коммунары и Соломон Борисович. Соломон Борисович недоволен:
— А деньги где? А фонды?
Мы не открываем заседания. Без председателя и протокола мы в течение получаса решаем вопрос о том, где достать леса, как утеплить цех, какую спецовку выдать Леньке. Между делом Н. говорит:
— Завтра в клубе интересный концерт. Пришлите тридцать коммунаров.
Наконец подошли и к вопросу о копейке в никелировочном. О ней докладывают Васька и Соломон Борисович с диаметрально противоположными выводами. Н. хохочет и кивает Соломону Борисовичу:
— Придется платить.
— Вам хорошо говорить! — закипает покрасневший Соломон Борисович, но ему не дают кончить коммунары. Они тоже хохочут и требуют Соломона Борисовича за полы пиджака:
— Годи! Теперь уже годи!..
Приблизительно раз в месяц коммуна бывает в клубе ГПУ. Коммунары рассыпаются по залам клуба, занимают первые ряды в зрительном, толпятся у стоек буфета, угощаются чаем. Беседуют со знакомыми, договариваются о каких-то делах — спортивных, литературных, комсомольских, смеются и шутят. Чекисты создали нашу коммуну, они знают в лицо многих коммунаров, для них коммуна Дзержинского — живое дело, созданное их коллективом и неуклонно развивающееся благодаря их заботе.
Сколько наговорено слов о связи детского дома с производством и с окружающим населением! Создана целая методика по этому вопросу. А оказывается, нужно просто сделать детский дом органической частью общества, создавшего его и за него ответственного. Только в таком случае создается тот необходимый фон, без которого советское воспитание невозможно.
Наши шефы — люди занятые чрезмерно, занятые круглые сутки. Но все-таки они находят время подумать о коммунарах, и они умеют все делать, не выставляя напоказ своей заслуги. Это естественно: наша коммуна — их коммуна, и забота о ней — забота о близком и дорогом деле, которое тем дороже, чем больше на него положено сил.
Коммунары-дзержинцы имеют все основания встречать свое начальство просто и без напряжения, потому что это приезжают свои люди, близкие.
И так же просто и естественно выходит, что товарищ Н. ночью, после целого дня напряженной работы, выезжает на вокзал встречать возвращающуюся из Москвы коммуну и заботливо спрашивает:
— Никто не потерялся? Все здоровы?
Дела комсомольские
Комсомольцев в коммуне шестьдесят пять. Все они очень молоды, самому старшему семнадцать лет. Наши коммунары — плохие ораторы. Коммунарская жизнь упорядочена и логична. На общих коммунарских собраниях всегда все так ясно и все так единодушны, что разговорившегося оратора немедленно останавливают и председатель и все собрание: «Довольно, знаем!» Большего всего приходится говорить ребятам на производственных совещаниях, но там такой малый и в то же время четкий круг вопросов, что разговор принимает форму беглой беседы. Ораторским способностям коммунаров негде развернуться.
Нужно сказать и еще одну правду: коммунарам зачастую бывает в высшей степени мучительно выслушивать заезжих докладчиков, способных в течение часа излагать то, что всем давно известно. Невысоко ценится в коммуне и тот кустарный пафос, которым умеет щегольнуть кто-то из приезжих «ораторов».
Но все же коммунары всегда болезненно переживали те неловкие минуты, когда в ответ на какое-нибудь цветистое и полное «измов» приветствие никто в коммуне не мог ответить. С приходом Шведа это больное место в нашем коллективе было как будто залечено. Комсомольцы прямо назначили Шведа присяжным ответчиком и приветчиком во всех подходящих случаях.
А таких случаев бывает много в коммуне: посещение торжественных собраний в разных клубах, проведение в самой коммуне различных кампаний и т. д. Швед умеет смело выйти на трибуну, заложить одну руку в карман и начать говорить, ни разу не сбиваясь. Коммунары с восхищением смотрят на самоуверенного трибуна Шведа, такого ласкового и мягкого в нашем коммунарском быту. Но иногда Швед уж слишком разойдется, и тогда его апломб вызывает возражения в коммуне:
— Что это такое: «Я надеюсь, что ГПУ исполнит свой долг»?
Неожиданно в коммуне обнаружился и второй оратор, четырнадцатилетний Васька Камардинов. По должности ССК ему часто приходится брать слово и произносить речи.
Васька никогда не употребляет книжных выражений, всегда умеет найти живые и непритязательные слова и подкрепить их смущенным жестом и смущенной улыбкой. Он никогда не мог бы произнести такие ответственные слова, на которые с легким сердцем решается Швед:
— Перевыборы нашего самоуправления, товарищи, происходят в весьма сложной обстановке: с одной стороны, буржуазия делает последние усилия, чтобы справиться с мировым кризисом и втянуть нас в войну, с другой стороны — Советский Союз строит свою пятилетку уже не в пять лет, а в четыре года.
Кроме этих двух присяжных ораторов есть, правда, в коммуне и другие, которые отваживаются даже при посторонних брать слово и пытаются что-нибудь высказать. Но наши доморощенные докладчики сначала весьма смущаются и лишь постепенно овладевают задачей более или менее удовлетворительно изложить на нашем русско-украинском языке (результат перехода из русской школы в украинскую и обратно) существо дела.
Но совсем другое дело на общих собраниях, в совете командиров, на производственных совещаниях, где коммунар не чувствует себя обязанным блеснуть ораторским искусством, всегда коммунары найдут там яркие и нужные экономные слова, достаточно при этом остроумные, горячие и убедительные. Застрельщиками в таких выступлениях всегда бывают комсомольцы.
Комсомольской ячейке коммунаров работы по горло. Руководство ходом соревнования и ударничества лежит на плечах нашего комсомола.
Наш взрослый состав, к сожалению, не всегда удовлетворителен во многих отношениях. Например, один из рабочих, только что поступивший на производство, ночью пьянствовал на Шишковке, а наутро оказалось, что у других рабочих пропали вещи, что в цехе не хватает двух новых рубанков. В обеденный перерыв легкая кавалерия бросилась на Шишковку и ликвидировала целый самогонный завод, а вечером бюро до двенадцати ночи договаривалось с месткомом об увольнении рабочего.
В таких случаях местком обязательно проводит линию милосердия и прощения, а комсомольцы кроют:
— Какой он там рабочий?.. Разве это рабочий?.. Уволить — и все!
— Нельзя же, товарищи, так строго, — говорит один из воспитателей-месткомовцев.
— Почему нельзя так строго? — удивляется Сторчакова.
— Ну, все-таки в первый раз.
— Как это — в первый раз? Что ж, по-вашему, каждый по разу может украсть и пропить?
На производственных совещаниях и в комиссиях — а их в коммуне шесть — для комсомольцев самая тяжелая повседневная работа. Здесь по целым вечерам приходится биться над тонкостями сортирования материалов для отдельных частей стола, неправильностью проводки к никелировочной ванне, новыми приспособлениями у токарных зажимов, капризами расмусного станка, расхождениями отделов токарного цеха, недостатками вентиляции в литейной…
Мне их становится иногда жаль. На улице золотой радостный вечер, кто-то смеется и кто-то катается на велосипеде, а в «тихом» клубе наморщили лбы пять комсомольцев и выслушивают довольно путанные объяснения мастера, которому следовало бы вв двух словах повиниться и признать, что вчера проспал и поэтому в цехе полчаса не было работы. В таких случаях я нажимаю и требую сокращения работы комиссий. Раз в две пятидневки бывает общее комсомольское собрание. На собрание приходят обычно все коммунары, даже Ленька Алексюк заранее занимает место за передним столом.
Самое трудное дело для нашего комсомола, труднее всех производственных тонкостей — дело пионерское. Не налаживается у нас с пионерами. Пока не работали малыши в производстве, еще шли у них дела. Теперь же они возгордились и считают, что в пионерах им делать нечего.
Комсомольцы их и укоряют, и прикрепляют к ним все новых и новых работников, но пионеры неизменно отлынивают от пионерработы. Зато почти еженедельно они подают в комсомол заявления о приеме. В самом деле, как пацану работать в пионерах, если по квалификации он перегнал своего командира, если по школе он перегнал многих комсомольцев, если в политиграх он идет впереди, если газет он читает больше? Можно вступать в комсомол с четырнадцати лет…
В пионерорганизации только одному Леньке Алексюку место, но и Ленька с удовольствием посещает комсомольские собрания и совет командиров…
Общее собрание
После второго ужина в коммуне наступает час, когда вся дневная программа считается законченной, все обязанности исполненными. Но кое-где еще бьется пульс дневного напряжения.
В столовой еще ужинают: дежурства, подавальцы, опоздавшие.
У парадного входа балагурят старшие в ожидании общего собрания. Здесь же собираются и инструкторы и рабочие, любители наших общих собраний. Образуются группы вокруг наиболее веселых и говорливых товарищей. Если сегодня была сыгровка оркестра, то веселее всего тем, кто толпится вокруг Тимофея Викторовича, нашего капельмейстера. Ему шестьдесят лет от роду, но в то же время он самый здоровый, энергичный и общественный человек в коммуне, никогда не устает ни от работы, ни от толпы. Он пользуется огромным авторитетом не только среди музыкантов, а решительно у всех коммунаров. Тимофей Викторович — человек полный, у него подстриженные усы и нос картошкой. Он был и на японской, и на империалистической, и на гражданских войнах, побывал чуть не во всех частях света. Это умный и жизнерадостный человек любит порассказать о своих приключениях и наблюдениях.
В кабинете негде яблоку упасть. Командиры приготовляют рапорты и передают дежурному по коммуне для подтвердительной визы. Любители кабинета в этот момент собраны в наибольшем количестве. Да и трудно не зайти в кабинет, когда здесь и Соломон Борисович с последними производственными новостями и планами, восторгами и обидами, здесь и наш клубник, оригинал и фантазер Перский, всегда занятый неким изобретением, подозрительно похожим на перпетуум-мобиле; возле Перского непременный штаб, состоящий из самых недисциплинированных, самых дурашливых, предприимчивых и способных коммунаров — Ряполова, Сучкевича, Боярчука, Швыдкова.
В этот час только и можно выпросить у меня денег на какие-нибудь приспособления для изокружка, у Соломона Борисовича — дикт и гвозди, у ССК — бумаги и резинок. На диване или на полу поспешно заканчивают шахматную партию наши маэстро. Среди них — физкультурник Карабанов, старый мой товарищ по горьковской колонии, когда-то вместе со мной закладывавший камень за камнем фундамент горьковского здания, до того — беспризорный и бандит, а теперь — один из самых влиятельных дзержинцев, по-прежнему упорный и огневой, наш чемпион в шахматах. Тут же и какой-нибудь заночевавший гость, чаще всего из учителей. Он не может постигнуть, каким образом в этом невероятном шуме решаются дела, пишутся бумаги, выдаются деньги, производятся расчеты и утверждаются акты.
В вестибюле в это время, то и дело поглядывая на циферблат наших главных часов стоит дежурный сигналист.
Ровно в половине девятого сигналист поправляет рубашку и пояс и трубит сразу два сигнала — старая наша традиция — «сбор командиров» и «общее собрание». Как и все остальные сигналы, это играется четыре раза: в вестибюле, на парадном крыльце и на двух углах здания. Когда до меня долетают последние звуки, я оставляю свой пост и выхожу из опустевшего кабинета. В конце коридора при входе в «громкий» клуб я вижу сбегающихся по сигналу коммунаров.
В «громком» клубе чинно сидят коммунары, а поперек зала стройно вытянулись в две шеренги командиры. Против них, у самой сцены — дежурный по коммуне с красной повязкой. Когда шум постепенно стихает, раздается голос дежурного:
— К рапортам встать!
Начинается церемония рапортов. Каждый командир подходит к ДК, держа в руках рапорт. Командир вытягивается в салюте сегодняшнему старшему, за ним вытягивается и весь зал: коммунары салютуют командиру и в его лице всему отряду. В зале полная тишина, и все ясно слышат рапорт:
— В седьмом отряде все благополучно.
— В девятом отряде все благополучно. Заболел Васильев.
— В десятом отряде все благополучно. В цехе было три рабочих часа простоя.
— В пятом отряде все благополучно. Во время работы поссорились Лазарева и Пономаренко.
— В одиннадцатом отряде все благополучно. В командировке Богданов.
После командиров отдают рапорты дежурный член санитарной комиссии, старшая хозяйка и командир сторожевого отряда. У ДЧСК обычные замечания: за столом четвертого отряда было грязно, Романов не чистил утром зубы. У старшей хозяйки тоже обычное: Тетерятченко разбил чашку. А у командира сторожевого: Семенов не вытер ноги, девочки не прикрывают двери, Уткина была в спальне без ордера.
Дежурный по коммуне в ответ на рапорт говорит:
— Есть.
Рапорты окончены, все опускаются на стулья, а на месте ДК появляется очередной председатель, назначенный вчерашним приказом, и секретарь.
— Объявляю общее собрание коммунаров открытым.
Председатель заглядывает в кучу рапортов с особыми замечаниями, специально отложенных ДК.
— Тетерятченко!
Тщедушный Тетерятченко выходит на середину зала. На блестящем паркетному полу под главным фонарем он становится в позу «смирно».
— В рапорте старшей хозяйки отмечено, что ты разбил чашку, — говорит председатель.
Наиболее распространенный ответ коммунаров на такое обвинение:
— Я ее не разбил. Она стояла, а я подошел к ней и хотел взять в руки, а она распалась.
Коммунары всегда помнят, что еще в прошлом году я предложил им отвечать так:
— Я посмотрел на чашку, а она распалась.
Чашек у нас уже не хватает. Многим в столовой приходится ожидать, пока освободятся чашки. Я умышленно не покупаю пополнения, и все ребята догадываются почему: бейте, значит, — посмотрим, чем это кончится. Неудобство от недостатка чашек огромное, но все знают, что меня лучше не трогать, потому что я скажу: «Чашки были пополнены три месяца назад. Денег на новое пополнение нет». Поэтому никто и не заикается о пополнении.
Волчок просит слова:
— Я думаю, что с чашками как-нибудь нужно что-то сделать. Каждый день бьют. Или не давать таким, как Тетерятченко, — он где ни повернется, так испортит что-нибудь. Надо греть таких раззяв.
Собрание склонно последовать этому совету, но у каждого на совести есть чашка или тарелка, поэтому прения не развиваются.
Я вношу предложение: придется купить алюминиевые, эти не будут биться. В зале начинают сердиться. С места говорят:
— Ну, алюминиевые!
Председатель строго говорит Тетерятченке:
— Садись ты. Да смотри, в другой раз осторожнее поворачивайся вокруг посуды.
Тететрятченко, довольный, что дешево отделался, салютует председателю и отправляется на свое место.
Председатель снова заглядывает в рапорт.
— Лазарева и Пономаренко.
На середине две небольшие девочки, однако они умеют уже кокетливо жеманиться и демонстрируют сразу и смущенную застенчивость и пренебрежение к собранию. Они — новенькие, их только недавно прислала к нам комиссия по делам несовершеннолетних. Жили они еще совсем недавно в какой-то наробразовской колонии и своим «поведением» и решительным нежеланием подчиниться авторитету педагогов заслужили удаление из колонии.
Пономаренко — постарше, у нее выцветшие прямые волосы, челка почти закрывает глаза. Она задирает голову и все время вертится.
С краев зала несколько голосов кричат:
— Стань смирно! Что ты танцуешь?
Пономаренко вихляет ногой и бурчит:
— А вам не все равно?
На сцене, где всегда заседают самые активные пацаны, кто-то не выдерживает и, не получив слова, приступает сразу к речи:
— До каких пор это будет продолжаться? Они даже на собрании вести себя не умеют.
Председатель строго осаживает горячего оратора:
— А ты чего кричишь? Тебе давали слово?
— Ну, так дай слово.
— Говори.
Со стула подымается небольшой кучерявый Гершанович и начинает говорить, жестикулируя правой рукой над головами сидящих впереди товарищей:
— Я думаю, что с Пономаренко нечего возиться. Сколько уже раз она давала слово, а все равно каждый день на середине, да еще выйдет и ломается, как будто она барышня какая. Надо отправить ее, откуда пришла. На что нам такие?
Пономаренко, окинув Гершановича сердитым взглядом, намеренно резко говорит:
— Ну и отправляйте! Что ж, подумаешь, нужно очень!
В зале подымается возмущенный шум. Со всех сторон раздается:
— А что ж, на твою челку смотреть будем?
— Да, конечно, отправить ее в комиссию!
— Пацанов сколько в коллекторе ждет вакансии в коммуне, так тех не берем, а эту держим, не видели ее ужимок!
— Пусть едет в Волчанск и там ужимается, сколько хочет!
Председатель с трудом наводит порядок в зале:
— Вот спросим, что ее командир скажет. Вехова, что сегодня случилось?
Вехова, румяная девочка лет шестнадцати, аккуратненькая и приветливая, как всегда склонив голову немного набок, подымается со стула:
— Да сегодня они с утра в мастерской все грызлись из-за какой-то катушки. Их несколько раз и я останавливала, и Александра Яковлевна, и все девчата. Перестанут, а потом опять начинают. А сегодня после обеда, когда только что пришли на работу, они вцепились одна другой в волосы и такое подняли, что пришлось дежурного по коммуне вызывать.
В зале хохот. Сам председатель смеется. Из-под экрана кто-то из малышей старается всех перекричать:
— Их надо остричь, надо, тогда не за что будет хвататься!
Слово берет Редько:
— Я думаю, что тут все девчата сами виноваты…
У девчат:
— О, придумал, уже мы виноваты!
— Да, виноваты! Как это можно не справиться с ними? Пусть у нас в цехе попробуют драться! А если у вас нет силы их примирить, так держите всегда под рукой ведро с водой или огнетушитель повесьте.
Взрыв смеха настолько заразителен, что и сами обвиняемые смеются. Редько раздражается:
— Вот, смотрите, они еще смеются!
Председатель отмахивается от Редько и дает слово Воленко. Воленко всегда старается встать на сторону «униженных и оскорбленных»….
— Чего все так напали на девчат? Чем они виноваты? Только недавно прибыли, никакой культуры не нюхали. Нужно было им разъяснить.
Из угла девочек возмущаются:
— Мало им разъясняли! И мы сколько раз, и здесь на общем собрании, и воспитатели уже с ними разговаривали да уговаривали, и в комсомол их вызывали, да и сам Воленко брался.
— Надо все-таки и дальше продолжать, пока они не станут культурнее, а то они еще совсем, как дикари.
Пономаренко быстро оборачивается к Воленко:
— Сам ты дикарь! Нужны кому твои разговоры!
В зале опять смех.
— Садись, Воленко, пока цел.
Слово получает Сопин. Он сегодня серьезен:
— Довольно уже с ними возиться! Я считаю, что разговаривали довольно. Надо с ними построже. Нужно запретить им работу в мастерской — вот что, раз они там себе прически только портят. Не пускать их в мастерскую, пускай уборкой занимаются.
— Правильно! — кричат со всех сторон.
Председатель видит, что вопрос выяснен.
— Можно голосовать? — спрашивает он дежурного заместителя.
Наложить взыскание имеет право и сам ДЗ единолично, если проступок не представляет собой ничего необыкновенного, но всегда считается полезным передать карательные полномочия общему собранию. Для голосования наказания все-таки необходимо согласие ДЗ.
— Не возражаю.
Предложение Сопина принимается единогласно. Пономаренко и Лазарева направляются к своим местам, но председатель останавливает:
— А салют?
Они нехотя салютуют.
На другой день они убирают в саду и в коридорах, но уже к вечеру приходит ко мне Вехова и говорит:
— Там Пономаренко и Лазарева просят, чтобы их простили. Говорят, что никогда так не будут делать.
— Так я же не могу, ведь общее собрание постановило.
— И я им говорила, а они все-таки просят.
— Ну вот, сегодня на собрании поговорим.
Вехова уходит, а через пять минут в кабинет потихоньку просовываются Пономаренко и Лазарева и, увидев, что в кабинете никого нет, шепчут:
— Если вы нас не можете простить, так не нужно на общее собрание ставить вопрос.
— Почему?
— А ну их! Это хлопцы опять смеяться будут.
— Ну, а в самом деле, разве не смешно, что вы в мастерской в драку вступаете, как петухи? Что же делать! Общему собранию трудно не покориться. Я советую вам все-таки сегодня как-нибудь помириться с собранием.
Они молча уходят.
На собрании я сообщаю после выяснения всех очередных вопросов:
— Вчера мы довольно строго наказали двух девочек. Сегодня они хорошо работали на уборке и просили меня и командира шестого, чтобы с них наказание сняли. Больше драться они, конечно, не будут.
— Ну что ж, можно и амнистировать, — спокойно басит Похожай, командир девятого.
Волчок хлопает по плечу сидящую рядом с ним Пономаренко и говорит:
— Такая славная девочка, только бы на басу играть, а она — в прическу.
В зале улыбаются.
Председатель мирно спрашивает:
— Так что ж, может, и в самом деле на этот раз?..
Редько со смеющимся, всегда довольным лицом поворачивается во все стороны:
— Оно и не следовало б прощать, да так уже, для хорошего вечера…
— Возражений нет?
— Нет! — кричит весь зал.
Председатель обращается в ту сторону, где спрятались за спинами товарищей виновницы торжества:
— Ну, смотрите, собрание вас прощает. Ну, а если еще такие драки будут…
— Ладно, — говорит Пономаренко.
— Редько серьезно поправляет:
— Не ладно, а есть.
— Ну, есть.
В зале смех.
Почти каждое общее собрание начинается с вызова бенефициантов на середину. Но большей частью их бывает очень немного и притом с пустяковыми провинностями. А бывает не раз, что командиры только быстро чеканят салюты:
— Все благополучно.
— Все благополучно.
— Все благополучно.
Я налагаю наказания очень редко. Чаще всего — по рапортам дежурных заместителей. Последние довольно строги, но возможности у них ограничены: «два наряда», «без киносеанса», «без отпуска». Попавшие «в наряд» записываются контролем коммуны в его блокнот и по требованию дежурного по коммуне посылаются на дополнительные работы: им приходится убирать в день отдыха здание, отправляться в командировку в город, подметать в саду.
Наиболее легко отделываются назначенные «без кино». Когда должен начинаться киносеанс и все коммунары собрались уже в зале и выслушивают очередной короткий политобзор, оставленные без кино вертятся у дверей и окон коридора и делают вид, будто они интересуются вечерним пейзажем. Это действует на меня или того заместителя, который их наказал.
— Ты чего здесь вертишься? — спрашивает дежурный.
— Мы без кино.
— Ну так и идите спать.
На это предложение угрюмо отмалчиваются.
Я кричу в дверь залы:
— Никитин этих пусти, пусть в последний раз посмотрят картину, все равно завтра снова попадутся!
— А может, и не попадемся!
После разбора рапортов каждый коммунар может поднять на собрании любой вопрос: о пище, об одежде, о производстве, о работе кружков, о распределении занятий, да мало ли о чем. Главным толчком здесь бывает всегда комсомол.
Половая проблема
Наши посетители, в особенности педагоги, часто спрашивают, как обстоит у нас дело с половой проблемой.
Что можно ответить такому педагогу? В самом деле, известно, что в детских домах было много случаев, когда создавалась нездоровая обстановка.
У нас, как в любой здоровой семье, живут вместе девочки и мальчики, и это не вызывает никаких осложнений. Всякое здоровое детское общество может прекрасно развиваться в этих условиях.
Если же это не так, значит, данное общество детей недостаточно здорово, то есть не спаяно в одну семью, не занято, не имеет перспективы, не развивается, недисциплинированно, обкормлено или недокормлено, а во главе его стоят люди, которых дети не уважают.
Отношения между девочками и мальчиками у нас исключительно товарищеские.
Девочки-коммунарки выглядят гораздо подобраннее и аккуратнее мальчиков, но никогда не выделяются в особое общество. Года три назад мы еще замечали, что девочки несколько дичатся ребят, стараются держаться от них особняком. С другой стороны, и мальчики старались показать, что для них девочки совершенно не нужны, что можно было бы и без них обойтись, что вообще «девчонки здесь лишние». Бывали и случаи проявления несколько грубоватого, но все же исключительного внимания к некоторым девочкам, принесшим с собой немного безобидной кокетливости. Но дальше этого дело не пошло.
Совет командиров, по моему настоянию, лишил отряды девочек права иметь отдельные столы в столовой. Это было сделано под тем предлогом, что во многих отрядах мальчики не умеют аккуратно есть. Чтобы научить их аккуратности, привлекли на помощь к командиру по две, по три девочки. Девочки сначала стеснялись и жеманились, но потом дело пошло как по маслу. Хотя в отрядах и называли девочек хозяйками, на самом деле никаких хозяйственных функций девочкам поручено не было. Но эта мера приблизила девочек к ребятам, приблизила в очень хорошей обстановке и форме коллектив к коллективу. С тех пор всякая отчужденность между девочками и мальчиками исчезла.
Все это вовсе не значит, что в коммуне совершенно не заметно отличительных особенностей совместного воспитания. Не подлежит сомнению, что многим мальчикам и девочкам уже доводится переживать пробуждение каких-то особых симпатий. Но нам, педагогам, беспокоиться совершенно не приходится, хотя мы прекрасно понимаем, что стоит ослабить связующие скрепы коллектива, хотя бы в самой небольшой мере, и у нас сразу вырастет половая проблема, взаимное половое тяготение будет осознано отдельными парами, появится желание близости и т. д. Нужно сказать, что подчинение ребят законам коллектива — акт, отнюдь не бессознательный.
Ни для кого из коммунаров не тайна сущность половых отношений. Но зато для всех является абсолютно непреложным наш закон — закон нашей коммуны: в нашей коммуне не может быть никаких половых отношений. Этот закон вытекает из ясного представления об интересах коммуны, из представления об интересах отдельной личности, из мыслей о доброй славе коммуны, и выражается этот закон в ощущении ответственности перед общим собранием, в ощущении настолько реальном, что одна мысль о возможности отвечать в этом вопросе перед собранием страшнее всех прочих бед. Наиболее строгими блюстителями этого закона являются пацаны. Общественное мнение, формирующееся среди этого народа, настолько требовательно и выразительно, что даже мысли о каком-нибудь споре быть не может.
Года два назад кто-то из пацанов на общем собрании поднял вопрос:
— А почему после сигнала «спать» Иванов гуляет в саду с Николаевой?
Иванов, красный, как клюква, вышел на середину и объяснил собранию, что эти пацаны лезут без всяких оснований, что Николаева попросила его объяснить задачу. Но его перебили ехидными замечаниями:
— Видно, трудная задача, долго что-то объяснялся. Я уж ждал-ждал, заснул, проснулся, а они все объясняются… Ухаживать тут начинают…
Кто-то из старших пытался изменить настроение собрания:
— В самом деле, у нас нельзя поговорить с девочкой, сейчас же начинают…
Но пацаны крыло немилосердно:
— Бросьте там — поговорить! Мало вам разговаривать днем? Сколько хочешь разговаривай, никто за тобой не ходит и не слушает и даже внимания никто не обращает. А если уж в сад выбрались разговаривать, значит тут секреты. Мое мнение такое: запретить всякие такие прогулки в парочках после сигнала «спать» — и все!
Председатель проголосовал. Предложение было принято единогласно, потому что ни у кого рука не могла поднять против.
Иванов после этого долго отдувался: было стыдно, что так основательно посадили пацаны на общем собрании. А спрос с них невелик, даже поколотить нельзя — у каждого пацана глотка большая и защитников множество, да и отряд не позволит.
В прошлом году прислала комиссия по делам несовершеннолетних новую воспитанницу в коммуну: восемнадцатилетнюю Шуткину.
Шуткина развязна, хороша собой. С первых дней она показала себя. Когда она в воскресенье вернулась из отпуска, на общем собрании откуда-то из-под экрана спросили:
— А пускай Шуткина скажет, когда она ходит в отпуск, почему она гуляет с кавалерами и почему у нее были губы накрашены?
Бывалая Шуткина — в контратаку:
— А ты видел? Ты много понимаешь — накрашены!
— А что же тут понимать? Я сам в художественном кружке… А почему с кавалером?
— А что ж, нельзя с человеком встретиться?
Я остановил ребят: нельзя, в самом деле, так придираться.
На другое воскресенье Шуткина снова ушла в отпуск. Часов в девять вечера меня позвали к телефону. Женский голос передал, что говорит подруга Шуткиной, что Шуткина не может возвратиться в коммуну, потому что у нее температура, она останется ночевать у подруги.
Я командировал в город двух ребят с поручением нанять извозчика, привезти Шуткину в коммуну, показать врачу и положить в больничку.
Ребята возвратились расстроенные: Шуткиной дома не застали, а квартирная хозяйка сказала, что обе подруги ушли гулять.
Еще через неделю Шуткину вызвали на середину и сказали:
— Опять с пижонами ходишь?
— С какими пижонами? Что вы все выдумываете!
Ей перечислили с какими. Оказывается, осведомленность у ребят была исчерпывающая.
Пацаны крыли прямо:
— Если ты женатая, так переходи на производство, хоть и в коммуне. А чего ты в коммунарки пришла да еще всех обманываешь, больной прикидываешься!
Шуткина послушалась совета и на другой день попросила меня отправить ее на производство.
Однако в коммуне умеют оценить настоящую любовь.
Весной двадцать девятого года зацепили пацаны на собрании Крупова — зачем ухаживает за Орловой. Крупов, кандидат на рабфак, густо покраснел и пробурчал:
— Да ничего такого нет… Ну хорошо, больше не будет.
Но любовь, как известно, не картошка. Снова Крупов с Орловой глаз не сводит, а чуть вечер, так и усаживаются на скамейке в саду и уже никого не боятся.
На собрании — опять:
— Что ж это такое? То говорил, что больше такого не будет, а потом опять то же самое…
Кто-то из собрания — в голос:
— Так они влюблены! Все знают, ничего не поделаешь!
Я прекратил прения, сказав, что поговорю с ними потом.
У Крупова я прямо спросил:
— Влюблены?
Крупов опустил голову и руками развел.
— Да, в этом роде…
На следующем собрании я доложил:
— Действительно влюблены, ничего не поделаешь.
— Женить надо, — сказал кто-то.
Ничего как будто и не решали, но уже после этого никто не приставал к парочке, — напротив, все сочувственно на них поглядывали и через месяц отправили Крупова на рабфак, Орлова вышла на фабрику. Наняли для молодоженов квартиру, назначили приданное; специальная комиссия этим делом занималась: стол, стулья, кровати, белье, немного денег.
Этой весной пришла в коммуну Орлова, принесла показать своего первенца. Новый человек возился в кружевных пеленках, и Петька Романов, внимательно разглядев его, сказал:
— О, какой буржуй!.. Кружево!
Клубработа
Как полагается в приличном детском доме, мы организовали кружки: драматический, литературный, художественный и т. д.
В детских домах вся клубная работа сосредотачивается обычно в драмкружке. Но регулярные киносеансы в коммуне лишили драматургическую работу решительно всех стимулов. Как зрелище кино для ребят и интереснее и проще. На постановку пьесы сколько-нибудь ценной приходится тратить столько сил, что в глазах ребят это ничем не оправдывается. Правда, сами участвующие получают некоторое удовлетворение, но для всех остальных ребят драматическая игра товарищей представляет мало интересного, к тому же репертуарный кризис ухудшает положение. У нас есть пьесы либо для взрослых, либо для детей; для юношества, собственно говоря, ничего нет. То, что есть совершенно не заслуживает ни разучивания, ни траты денег.
Работа литературных кружков у нас, как часто бывает, сбивалась на какой-то повторительный курс того, что проходится в школе, и увенчивалась, как то нередко случается, одним литературным судом и изданием одного номера журнала.
В художественном кружке писание натюрмортов и рисование кувшинов в разных положениях было гораздо менее интересным, чем работа на уроках рисования в школе, где ребята с увлечением чертили или рисовали детали машины, шкив, шестеренку, станину.
Одним словом, клубная работа не клеилась.
Пригласили мы в коммуну нашего Перского — человека, преданного клубной работе и великого мастера сих дел.
Это очень высокий и очень худой человек, небрежно и как-то неумело одетый. С первого же взгляда на него становится ясно, что ничего, кроме работы Перский не знает и собственная персона для него менее всего занимательна. Перский хорошо рисует, пишет стихи, умеет обращаться со всеми существующими инструментами, знает правила всех спортивных и неспортивных игр, знаком с устройством всех машин. Поражает эрудиция его во всех решительно отраслях знания. Но никогда Перский не выставляет напоказ своих познаний, всегда они у него обнаруживаются как бы случайно, поэтому ни у кого не вызывает раздражения и никому не надоедает. И наконец, главное достоинство Перского — он настоящий ребенок: во время самой несложной игры он может заиграться, забыв о жене, о детях, о самом себе; он может волноваться и размахивать руками, из-за пустяков заспорив с Петькой Романовым.
Теория клубной работы у Перского самая простая.
— Никакой клубной работы, — говорит он. Живут вот коммунары, сто пятьдесят человек или сколько там, и ты живи с ними, вот тебе и вся клубная работа.
Мы ему говорим:
— Ну, это все парадоксы! Мало ли чего — живут. Так ведь вот у них школа, вот мастерские, вот быт, и мы все-таки видим, что вот это — ни то, ни другое, ни третье, а что-то особенное: клубная работа. Здесь есть и отличительные признаки. Здесь обязательные элементы творчества, самоорганизации и т. д.
— Ну, понесли уже педагогическую бузу! Вы вот, педагоги, свяжете человека по рукам и ногам и смотрите на него: отчего это у него активности нет? А вот в клубной работе его нужно развязать. Просто живет себе человек, и больше ничего.
Мы доказываем ему, что он сам педагог, раз он дает ребятам и темы, и планы, и методы. Но Перский всегда отрицает это с негодованием:
— Тоже все выдумали, шкрабы несчастные! Я только взрослый человек и больше видел, вот и вся разница. А ребята, брат, хоть и моложе меня, да у них и без меня хватает и тем, и планов, и методов.
Когда Перский начал свою работу, никакого плана, казалось, у него действительно не было. Сегодня он собирается ловить рыбу в озере в двух километрах, и вместе с ним собирается два десятка ребят; завтра, смотришь, Перский уже мастерит из разного древесного хлама какие-то поплавки, чтобы ездить на них по тому же озеру, и вокруг этой затеи развертывается деятельность целых отрядов. Кто-то из ребят сказал, что ночью в лесу видел волка, — и организуется целая экспедиция в поисках хищника, заготовляется провизия, выпрашиваются винтовки и охотничьи ружья. Целая рота отправляется на поиски волка, бродят двое суток и возвращаются голодные и довольные, хотя волка никакого и не видели. Не успеешь оглянуться — новая эпидемия: вся коммуна строит и чертит перпетуум-мобиле N30. Даже старые мастера-инструкторы носятся с самыми невероятными проектами, пристают к Перскому, потом ко мне и к заведующему производством. Перский серьезно разбирает каждый проект и доказывает:
— Вот в этом месте, пожалуй, остановится. А жалко, понимаете! Если бы не эта чертовинка, он бы крутился.
Обалдевший от умственного напряжения и, кажется, даже бессонных ночей, многосемейный слесарь Чеченко чешет «потылыцю» и что-то долго соображает.
Я говорю Перскому:
— Для чего ты людям голову морочишь? Ведь знаешь же, что ничего не выйдет.
— Пусть поморочатся. Это не вредно. Это вы, шкрабы, привыкли все готовенькое зазубривать.
Но затем неожиданно добавляет:
— А вдруг кто-нибудь придумает… Вот будет история!
— Как это придумает? Что с тобой?
— Да все, знаешь, может быть. А вдруг ученые чего недосмотрели…
Однажды ночью на заднем дворе загорелись какие-то костры. Ночной сторож протестует, завхоз жалуется, жители волнуются, а оказывается, дело простое: Перский рассказывает сказки. Когда об этих сказках услышали в соцвосе, началось чуть ли не целое следствие: в явной опасности оказалась идеология, до сих пор якобы надежно охранявшаяся бдительным оком соцвоса. Перскому пришлось оправдываться. Это только название такое — «сказки», а на самом деле это импровизация, нечто вроде научно-фантастического рассказа, к примеру, о будущей войне или о значении радиоактивности. Успокоились в соцвосе, но на будущее время Перскому запретили рассказывать сказки.
Давил на Перского и я. При всем моем уважении к его талантам я все-таки не мог терпеть полной беспорядочности и хаотичности его работы, небрежности в ее формах и в особенности полного отсутствия учета. Последнее приводило к тому, что часть ребят в свободные часы оказывались предоставленными самим себе, и никакими способами нельзя было установить, чем они занимаются. Появились любители залезть в кочегарку и просто поваляться там… Появились любители картежной игры и похабного анекдота. Эту опасность на общем собрании удалось вскрыть в самом начале, но от Перского я решительно потребовал плана и учета. Это оказалось полезным и для дела самого Перского. С тех пор он сам получил у нас основательное воспитание, и теперь уже наша клубная работа представляет собой очень разветвленную систему, имеющую точный календарный план. Перскому все это было, впрочем, нетрудно организовать. Его постоянная изобретательность, огромная активность главных кадров его последователей-коммунаров превратили план и учет в целую симфонию разных работ и выдумок. Кружковая работа благодаря этим выдумкам стала у нас живым и веселым делом. Даже драмкружок зажил новой жизнью. Перский решительно восстал против разучивания готовых пьес — только импровизацию он признавал театральным искусством.
Свои постановки Перский готовил в глубокой тайне с группой ребят человек в двадцать. Неожиданно на всех дверях и окнах появляются афиши, приглашающие коммунаров на спектакль. Пьеса идет в разных концах зала: белогвардейцы, партизаны, нэпманы и честные советские рабочие вылезают буквально из всех щелей и попадают в чрезвычайно сложные, часто безвыходные положения, так что и зрители вынуждены бывают приходить на помощь. Разрешается все это к общему благополучию при помощи неожиданного трюка или остроумной выдумки одного из персонажей. В этих спектаклях бывало много ошибок и несообразностей, но это делало представление только веселее и занимательнее. Одно и то же лицо в постановке именуется то генералом, то полковником, родственные связи часто запутываются до последней степени, но зато после спектакля никто не чувствует усталости, и по всей коммуне разносятся хохот и оживленные споры.
Наиболее боевым органом Перского незаметно сделался так называемый изокружок. В коммуне признали его юридические права только после того, как он потребовал у совета командиров отдельную комнату. До тех пор он находил себе место в каком-нибудь закоулке главного здания.
В изокружке делают все, что угодно, для чего угодно и из чего угодно. В последнее время кружок «заимел» свои инструменты; с самого же начала он пробавлялся тем, что его членам удавалось притащить из мастерских. Материал и в последнее время, несмотря на то, что отпускаются изокружку и деньги и перевозочные средства, добывается контрабандным способом, потому что материала нужно много, и притом самого разнообразного: дикт, сталь, листовое железо, медь, резина, материя, дуб, гвозди, клей, пух, вата. Одно время увлекались постройкой моделей аэроплана. После того как был поставлен рекорд и аэроплан Ряполова пролетел семьдесят метров, на моделях осталось немного народу. Часть занялась выпиловкой, кое-кто остановился на моделях паровой машины и двигателях внутреннего сгорания. Особенно много сил было положено на изобретение и производство военной игры. В настоящее время эта игра имеет несколько вариантов и представляет собой великой важности дело. Для нормальной игры требуется теперь несколько сотен красных и синих металлических пехотинцев, две-три сотни кавалеристов на красивых лошадях, легкая артиллерия, тяжелая артиллерия, десятка три броневиков, санитарных автомобилей, несколько аэропланов, множество пулеметов, приспособления для удушливых газов и дымовых завес, зенитные орудия и многое другое. Игра производится на полу большого зала: на всем пространстве его расставляются леса, проводятся реки и перекидываются мосты, строятся города и прокладываются окопы. С каждой стороны участвуют огромные силы, так как под каждым пехотинцем нужно разуметь целую воинскую часть. Принимающие участие в игре коммунары получают высокие назначения: один командует кавалерийской дивизией, второй — артиллерийским полком и т. д. Противник уничтожается не условно, а с помощью пушек, пулеметов и броневиков. Правила игры в точности повторяют законы военных действий, победа возможна только при умелом соединении тактических, стратегических и механических средств. Обходы флангов, прорывы, разведка — все принято во внимание. Ребята иногда задерживаются за игрой на полу зала до позднего часа, и приходится принудительно прекращать побоище и требовать от судьи немедленного решения, кто победил.
Родным братом изокружка является ребусник. Что такое ребусник — трудно даже определить. Во всяком случае, это организация, насчитывающая в некоторые периоды и до ста коммунаров. Когда начинается ребусник, каждый коммунар имеет право предложить для него любую задачу, но непременно оригинальную. Художественно оформленный ребусник вывешивается на общем листе, назначается число очков, которое полагается за каждое решение. Это число очков делится между всеми решившими, и такое же число засчитывается автору задачи. Задачи можно давать самые разнообразные — от простой арифметической до сложной производственной. Даются и шуточные задачи. Таких задач на ребусном листе появляется больше двухсот. Ребусник заканчивается после трех сигналов, а сигналы бывают приблизительно такие.
Первый: где-то в коммуне будет спрятана последняя задача; кто ее найдет — получает столько-то очков, а кто решит — столько-то.
Второй: в кармане у Соломона Борисовича окажется интересная но совершенно лишняя вещь.
Третий: в один из дней в четыре часа Перский будет находиться на северо-западе от коммуны в расстоянии семи с половиной километров и будет ожидать товарища, который его найдет и сможет ему по секрету сказать, название какой реки имеет двенадцать букв, начинает на Г и оканчивается на р (Гвадалквивир).
После третьего сигнала ребусник снимается, и в дальнейшем ни задачи, ни решения не принимаются. Редколлегия ребусника подсчитывает заслуги авторов и решавших. Но это еще не все. Наибольшее число очков не дает еще права на первенство. Мало — уметь решать задачи. Нужно быть и физически развитым человеком. Дополнительно устраивается состязание в разных видах спорта, требующих ловкости и увертливости. Наконец приходит день, когда в главном зале устраивается специальное заседание, играет оркестр и под звуки туша победители получают премии: ножики, книги, инструменты, записные книжки, рисовальные принадлежности, альбомы.
Насколько эти ребусники захватывают всю коммуну, можно судить по тому, что редколлегии приходится пересмотреть около десяти тысяч решений.
Кружковая работа, сосредоточенная зимой в разных кружках, на каждом шагу сталкивается с физкультурой. Сам Перский и его помощники все симпатии отдают ей. Поэтому заядлые литераторы, эсперантисты, артисты и художники зимой начинают жаловаться, что им не дают работать. Главный вид спорта в коммуне — лыжи. Окружающая нас местность очень удобна для лыжного бега, а лыжи достали мы очень просто. Было у нас пар двадцать. Правление общества «Динамо» пригласило нас на какое-то лыжное торжество и снабдило лыжами. Коммунары на этом торжестве показали себя дисциплинированными ребятами, во всяком случае, ни один не отстал. В разгаре разных состязаний была дана команда коммуне построиться и ехать домой. Коммунары все уехали на лыжах. «Динамо», правда, вскоре потребовало возвращения лыж, но они остались в коммуне. На лыжах коммунары уходят очень далеко от коммуны и возвращаются только к собранию.
У парадного входа каток. Но с коньками коммунарам труднее, так как пара коньков приходится на трех коммунаров.
Весь апрель возятся коммунары с разными площадками: волейбольной, футбольной, гандбольной, крокетной. Больше всего отнимает времени и энергии площадка для горлета. Уже в феврале покупают ребята пряжу и плетут сетки, чтобы не особенно отягощать наш небогатый бюджет. С начала мая устанавливается горлетная площадка.
Горлет — это наша игра, которую мы считаем интересной и самой нужной пролетариату игрой. Она похожа на теннис, но отличается от него тем, что это игра коллективная: восемь на восемь. Ракетки не дорогие теннисные, а сделанные из дикта. Правила горлета выработаны в коммуне в течение ряда лет, и мы все уверены, что игра развивает ловкость, умение коллективно действовать, находчивость, инициативу.
Горлетных команд у нас шестнадцать.
Походы
В большие революционные праздники коммуна выступает в поход в город. Главные походы — Седьмого ноября и Первого мая. Во время съездов и слетов, в дни взаимных приветствий и смычек, в дни посещения клуба ГПУ, в дни динамовских спортивных празднеств по сигналу «общий сбор» считается ликвидированной рабочая организация коммуны и вступает в силу военная. Уже нет в коммуне отрядов, а есть пять взводов во главе с взводными командирами, назначенными советом командиров. Одним из этих взводов является оркестр.
Строевой устав коммуны давно выработан и закреплен, как и полагается для военного устава. Поэтому собраться в поход, построиться и выступить коммуна в случае надобности может в течение трех минут. Большей же частью накануне отдается приказ:
«Немедленно после ужина по сигналу „сбор“ коммуне построиться в обычном порядке, у парадного фасада, имея на правом фланге оркестр и знаменную бригаду. Форма одежды парадная».
Парадная форма одежды — это значит синие суконные блузы и черные брюки. Блузы спрятаны в брюки, а брюки — в гамаши, на талии блестящий черный узенький поясок, на голове темно-синяя суконная кепка, или «чепа», как говорят коммунары. К воротнику блузы пристегивается белый широкий воротник. В таком костюме коммунары имеют вид выхоленных английских мальчиков.
Особенно любим мы в коммуне день Первого мая.
Первое мая коммунары начинают ждать с ноября, как только отпразднуют Октябрь.
Уже в феврале предлагает ССК на общем собрании избрать первомайскую комиссию. Все приятно удивлены:
— Как, уже первомайскую?
ССК серьезно доказывает, что времени осталось мало, и комиссия избирается без возражений. В комиссию входят самые матерые дзержинцы. Теперь им каждый раз дается шутливый приказ:
— Смотрите же, чтобы было с промежутками!
Это повелось с тех пор, как в двадцать восьмом году первомайская комиссия предложила на утверждение собрания план кормежки коммуны в дни первомайских торжеств. Выходило, что получают пищу коммунары раз пять в день, и все вещи самые вкусные и богатые: свинину, яйца, какао, пироги, и комиссия еще добавляла на каждый день: «В промежутках — яблоки, конфеты, пряники, пирожные».
Тогда много смеялись на собрании и стали в дальнейшем называть такое обилие специальным термином «с промежутками».
От «промежутков», между прочим, тогда отказались: уж очень выходило дорого!
Первомайские комиссии и без «промежутков» хлопот много. Нужно пересмотреть, купить и заготовить коммунарскую одежду, чтобы потом не о чем было беспокоиться. Обыкновенно к весеннему празднику производиться ревизия всего гардероба коммунаров, и выпадает это на долю первомайской комиссии. Нужно приготовить меню и запастись продуктами на несколько дней, пока коммунары будут в городе. Нужно организовать доставку этих продуктов в город, хранение и раздачу. Обеспечить коммуну подходящим помещением, наметить план посещений театров, кино и смычек. Наконец, необходимо коммуну упорядочить в маршевом отношении, то есть приучить новеньких к строю. Нужно не забыть мельчайших деталей, чтобы в майские дни ни за чем не нужно было бегать.
Комиссия выделяет из своей среды несколько подкомиссий — одежную, столовую, парадную, культурную, хозяйственную, кооптирует в свой состав коммунаров, получает и расходует деньги и время от времени докладывает собранию о ходе своих ребят. Перед самым выходом в город представляется на утверждение собрания так называемый комендантский отряд, человек двенадцать во главе с командиром. На обязанности этого отряда лежит уборка того помещения, где будет стоять коммуна. Никто не должен иметь хоть малейшего повода обвинить коммуну в нечистоплотности. Комендантский отряд захватывает с собой несколько ведер, сорных ящиков, метел, веников, тряпок. В походе он производит уборку и является санитарной комиссией. Компенсируя его дополнительная нагрузка только возможной благодарностью в приказе, если все будет в отряде благополучно.
Работа первомайской комиссии, несмотря на то что отнимает много времени у коммунаров, совершенно не изменяет течения рабочих дней коммуны. Уже упакована большая часть обоза, уже отряды успели получить все, что они берут в поход, уже в городе все приготовлено. Уже двадцать девятое число, а коммуна работает полным ходом, как будто никакой особенной подготовки не совершается.
В городе коммуна проводит три дня. Третьего коммуна должна быть уже на работе.
Завтракают тридцатого еще в коммуне. После завтрака проходит час, во время которого все должно быть приведено в порядок. Ровно в десять часов все коммунары — в парадных костюмах, и только кое-где на лестницах и в спальнях можно видеть пары: коммунар высоко поднял голову, а одна из девочек пришивает к его гимнастерке белый воротничок. Прибегают запоздавшие с костюмами, те, кто грузил обоз или убирал в столовой. В оркестре Волчок проверяет инструменты: хорошо ли натянута кожа на большом барабане, не измялись ли флаги на фанфарах. У черного хода стоят нагруженные и покрытые брезентом две-три подводы с продуктами, постелями и запасами белья. В знаменном отряде надевают на знамя только что отглаженный чехол: сегодня еще не праздник, и знамя пойдет в чехле. Мне непривычно нечего делать, разве какой-нибудь зева вроде Тетерятченко подойдет ко мне с заявлением:
— У меня пояс пропал…
Но немедленно на него зыкнет случайно пробегающий коммунар:
— Пояс пропал, шляпа. Целое утро носили по коммуне пояс, спрашивали — чей. Сам забыл в саду.
Тетерятченко и раньше знал, что с поясом именно так кончится. Я не успеваю ему нечего сказать. Раздаются звуки рожка. Сегодня сигнал играет сам Волчок. Он берет на октаву выше других ребят и умеет особенно четко и в то же время заливчато вывести последние ноты сигнала.
Я выхожу. В парадные двери вбегают коммунары, с лестницы спускается не спеша знаменная бригада — знаменщик и два ассистента с винтовками — и останавливается на площадке. Ко мне подходит дежурный по коммуне в новенькой повязке, франтоватый, как и все, с чистеньким платочком, кокетливо выглядывающим из кармана блузы.
— Знамя в чехле? — спрашивает он, хотя и сам довольно хорошо знает, что в чехле. Но так уж требуется для красоты дня.
— В чехле.
Параллельно парадному фасаду вытянулись в одну шеренгу коммунары. На правом фланге колонна оркестра, и Волчок впереди.
— Становись!
Но команда эта излишняя. Уже все стоят на своих местах, и комвзводы проверяют состав. Пробегает по рядам Тетерятченко и застегивает на ходу пояс. Его провожают сочувственные возгласы:
— Вот человеку не везет!
— Да вот пояс насилу нашел. А утром положил штаны на чужую кровать и полчаса ко всем приставал: «Кто взял мои штаны?» Его Похожай чуть не побил.
Черномазый блестящий Похожай, сегодня особенно красочный и оживленный, потому что он — еще и командир третьего взвода, басит:
— Я его обязательно когда-нибудь отлуплю, этого Тетерятченко, так и знайте, Антон Семенович. Без этого из коммуны не выйду…
Но Тетерятченко смотрит на Похожая и улыбается. Он любит Похожая за красоту и удачливость и знает, что тот его не только не отлупит, а и другому не даст в обиду.
— Равняйсь! — гремит Карабанов.
Все готово. От Карабанова отходит и направляется к зданию дежурный по коммуне. В оркестре подымают трубы, и фанфаристы расцвечивают утро красными полотнищами флагов. Волчок настороженно поднимает руку.
— Под знамя смирно! Равнение налево!
Оркестр гремит знаменный салют, все коммунары поднимают руки, перед фронтом замирает Карабанов. Служащие, провожающие колонну, тоже козыряют. Из парадных дверей выходит дежурный по коммуне и с рукой у козырька фуражки «ведет» знамя. Три коммунара бережно и подчеркнуто изящно проносят знамя по фронту и устанавливают его на правом фланге. Знамя держат почти вертикально: если оно без чехла, то оно не развевается, а красивыми мягкими складками падает на плечи знаменщика, и при движении линии этих складок почти не меняются. Древко тоже касается плеча, вся тяжесть приходится на руки, а двумя руками держать знамя неприлично. Поэтому быть знаменщиком — дело довольно трудное.
Знамя на месте. Салют окончен. Карабанов последним «орлиным» взором оглядывает фронт. Пора. К левому флангу подошел обоз, и командир комендантского, в спецовке, уже сидит на первом возу.
— Справа по шести вправо… шагом… марш!
Коммунары прямо с развернутого фронта переходят в марш, на ходу перестраиваясь в колонну. Наш постоянный строй по шести, расстояние между рядами просторное — шагов до трех. Командиры взводов впереди, а между взводами интервал шесть шагов.
Гремит радостный марш: начался наш праздник.
Через час колонна подходит к городу. Между высокими домами улицы Либкнехта наш большой оркестр разрывает воздух.
Колонна занимает улицу. На тротуарах собираются толпы. Нам машут руками. С задорной улыбкой слушают наш марш девушки, приветливо-серьезно поглядывают на нас мужчины, улыбаются мамаши и корреспонденты газет. То с той, то с другой стороны подлетает новый человек:
— Что за организация?
Коммунару в строю нельзя разговаривать. Он из вежливости бросает поскорее:
— Дзержинцы.
Но харьковцы уже знают дзержинцев.
То и дело долетает с тротуара:
— Это дзержинцы!
А один раз серьезный пацан лет четырнадцати показал другому:
— Это дзержинцы, а вон и сам Дзержинский.
Идущие за мной знаменщики не выдержали:
— Вот чудаки! Антона Семеновича за Дзержинского приняли.
Сегодня мы вошли в город со знаменем в чехле. Завтра мы первые с развернутым знаменем пройдем мимо трибуны и гордо посмотрим на тех, кто на трибуне: «Мы тоже пролетариат, мы тоже рабочие, сегодня — наш праздник!»
Вечером коммунары разбредаются по всем улицам. Вежливо разговаривают коммунары с публикой; как взрослые, покупают на свои карманные деньги пирожное и, как дети, любуются иллюминацией.
В дверях тридцать шестой школы — дневальный с винтовкой: школа занята нами, и вход в нее без распоряжения дежурного по коммуне посторонним воспрещен. В одной из комнат столовая комиссия готовит ужин и между делом вспоминает сегодняшний день:
— …нет, а вот та батарея, которая на белых лошадях… Ох, и здорово же!
Москва
7 июля 1929 года в шесть часов утра колонна коммунаров тронулась с площади Курского вокзала на свою московскую квартиру. На утренних улицах, свежих и пустынных, гремел наш оркестр. Еще не совсем проснувшиеся глаза вглядывались в лицо московских улиц. Вот она, великая Москва, о которой мечтали целый год, о которой была столько споров!
Направились к центру. На углу какого-то бульвара — «Стой!»
Отдыхать не отдыхали, а, скорее, собирались с чувствами.
Меня окружили:
— Вот это такая Москва? — недовольно тянул Похожай. — Не лучше Харькова.
Сторонники Крыма поддерживали его, но это все — так, «для разговора», а все ощущали какую-то торжественную приподнятость и были полны бодрости.
— Шагом марш!
Притихли все на асфальте Мясницкой. Глянула Москва на нас столичным важным взглядом, глянула сочными, солидными витринами, перспективой улиц… Притихли в нашей колонне. Впереди — зубцы Китай-города.
— Э, нет, это действительно Москва! — пробормотал за моей спиной знаменщик. И замолк.
Карабанов скомандовал:
— Государственному политическому управлению салют, товарищи коммунары!
Весело и задорно отсалютовали старшим родичам и повернули на Большую Лубянку, теперь улицу Дзержинского. На этой улице наша квартира — школа Транспортного отдела ОГПУ.
Ничто не так дорого как эта квартира. Пока ребята входили в улицу Дзержинского, вспомнилось все.
Целую неделю пробыл в Москве наш агент Яков Абрамович Горовский, а мы в коммуне сидели на чемоданах и ожидали от него телеграммы, в которой бы сообщалось, что квартира есть — можно выезжать.
Но Горовский ежедневно присылал нечто непонятное и неожиданное:
«С квартирой плохо. Есть надежда на завтра».
«Задержался еще на один день. Отсутствует нужное лицо».
«Наркомпрос отказал. Выясню завтра»…
Меньше всего мы ожидали, что нам откажут в квартире.
Но шестого вечером приехал Горовский и рассказал нам обидные и возмутительные вещи.
В экскурс-базе, в Наркомпросе, в Моно, в союзе Рабпрос — везде с готовностью соглашались предоставить на две недели помещение для коммуны ГПУ, но после такой любезности следовал вопрос:
— А что это за дети?
— Дети? Исключительно беспризорные.
Горовский гордился тем, что наши дети все — беспризорные, что тем не менее они организованно едут в Москву и он, Горовский, подыскивает для них квартиру. Но как только московские просветители, такие симпатичные, такие даже сентиментальные в своих книжках, так любящие ребенка и так его знающие, узнавали, что эти самые «цветы жизни» просятся к ним на ночевку, они приходили в трепет.
— Беспризорные? Ни за что! Об этом нельзя даже и говорить! На две недели? Что вы, товарищ, шутите? Что вы в самом деле?
Горовский не столько огорчался, что нет квартиры, сколько оскорблялся. Как это так? Те самые коммунары, которые не впускали Горовского в дом, если он недостаточно вытер ноги, здесь, в Москве, считаются вандалами, способными уничтожить всю наробразовскую цивилизацию?
И только когда бросил Яков Абрамович ходить по просветительному ведомству, улыбнулось ему счастье: Транспортная школа предоставила для нас общежитие с постелями, с кроватями.
Колонна во дворе школы.
— Стоять вольно!
Сигналист играет сбор командиров. Командиры отправляются делить помещение между взводами. Через три минуты они вводят свои взводы в спальни. По коридорам общежития расставляются наши плевательницы и сорные ящики, комендантский отряд уже побежал по коридорам и переходам с вениками и ведрами: прежде всего коммунары наводят лоск на то помещение, в котором будем жить. Здесь месяца полтора никого не было. Еще через пять минут дежурство дает общий сбор, и начинается авральная работа уборки. Моют стекла в окнах, уничтожается пыль.
В девять часов все коммунары в парадных костюмах уже гуляют на улице. Прибежали из столовой клуба ОГПУ члены столовой комиссии.
Все готово. Можно идти на завтрак.
Серые рубашки летних парадных костюмов, синенькие трусики, голубые носки. Круглые радостные мальчишеские головы, ноги, как на пружинах.
Все полны радостного оживления и в то же время сдержанного достоинства.
В столовой — цветы и скатерти, уют. Коммунары расположились вокруг столов и не дичатся, не боятся чистоты и цветов.
Началась череда славных московских дней.
После завтрака вышли со знаменем в Парк культуры и отдыха — благо сегодня воскресенье — посмотреть, какой такой московский пролетариат и как он отдыхает.
На московских улицах наша колонна — верх стройности и изящества. По тротуарам движутся толпы, и Тимофею Викторовичу приходится пробивать дорогу. Расспрашиваем, как пройти к парку.
Гляжу через головы музыкантов. Рядом с Тимофеем Викторовичем, не отставая, маячит белый верх чьей-то капитанской, фуражки. Подхожу.
— А вот товарищ туда идет, и он нам покажет дорогу.
Товарищ лет сорока, со стриженными усами оживлен и торжествен.
— Я покажу, покажу, вы не беспокойтесь.
Подходим к воротам парка. Направляюсь к кассе, но рука человека в капитанской фуражке меня останавливает.
— Платить? Что вы! Зачем же? Мы сейчас это устроим. Дайте ваш документ.
Я даже растерялся, но документ отдал. Капитанская фуражка немедленно исчезла за воротами. Ждем, ждем…
— Разойдись до сигнала «сбор».
Наша дисциплина позволяет нам быть совершенно свободными и никогда не мучить коммунаров лишним стоянием в строю.
Коммунары рассыпаются, завязываются знакомства, и начинаются расспросы. Смотрим, наш проводник вприпрыжку несется из парка и размахивает возбужденно какой-то бумажкой.
— Вот! Не только можно, но и очень рады, сегодня интернациональный митинг. Очень рады!
— Играй сбор!
Входим в парк и попадаем сразу на митинг. На широкой сцене — президиум; наши подошли как раз к сцене. Это хорошо, сразу попали в нужную обстановку.
Митинг не окончился, а капитанская фуражка уже отводит меня в сторону.
— Там я устроил для ребят завтрак: там, знаете, стакан чаю, бутерброд… Даром, даром, не беспокойтесь, даром!
Ребята окружили, улыбаются.
С митинга идем на завтрак. Я спрашиваю капитанскую фуражку:
— Вы здесь работаете?
— Нет, я во флоте работал, а теперь в отставку выхожу, буду здесь, в Москве, работать в одном учреждении.
Я в затруднении: как спросить, чего это он бегом гоняет из-за какой-то коммуны?
— Да, но вы так заботитесь о нас…
— Это вы хотите знать, чего я к вам привязался? Понравилось мне, знаете, ужасно понравилось! По правде сказать, мы здесь такого не видели.
С того дня «капитан», как его прозвали ребята, уже с нами не расставался. Рано утром он приходил в коммуну, будил коммунаров, принимал участие во всех наших совещаниях и заседаниях, настойчиво требовал, чтобы мы не тратили лишних денег. После завтрака, от которого всегда отказывался, он брал двух-трех коммунаров и куда-то летел устраивать бесплатные билеты на трамвай, доставать лодки для катания, добывать разрешение осмотреть Кремль.
После обеда в сопровождении «капитана» мы куда-нибудь отправлялись.
На другой день после приезда были у гроба Ленина, сыграли около Мавзолея «Интернационал». Потом были в Кремле, в Музее Революции, в редакции «Комсомольской правды», в Третьяковке, в зоопарке.
Москва поразила коммунаров обилием людей, домов, стилей и пространства. После официальных часов они, не уставая, бродили по Москве и только к двенадцати ночи собирались на ночлег. Карманные деньги позволили им объездить город в трамваях, заглянуть во все улицы и переулки. Почти всем Москва страшно понравилась, но все затруднялись определить, чем именно. Трудно было, конечно, сразу охватить и выразить все впечатления от нашей столицы. Даже и взрослому человеку это не так легко.
С другой стороны, и коммунары понравились Москве. Наша колонна на Кузнецком мосту, на Театральной площади, на Тверской была действительно хороша. А оркестр ребячий, четкая и бодрая ухватка коммунаров, подтянутость и дисциплина, видимо, в самом деле радовали глаз. Очень часто какая-нибудь впечатлительная душа бросала ребятам с тротуара розочку или гвоздику. Один какой-то немолодой уже чудак смотрел-смотрел и вдруг бросил в оркестр целый букет роз. Было так неловко: оркестр как раз играл марш, и все розы чудака были безжалостно растоптаны, а через минуту он и сам потерялся в толпе.
Радушное отношение к нам москвичей мы встречали на каждом шагу, и это, разумеется, делало Москву для нас приятнее и теплее.
За пятнадцать дней мы достаточно насмотрелись и поистратились. Собрались в обратный путь. Приготовили свой багаж к погрузке, выстроились против дверей Транспортной школы, попросили выйти к нам начальника и от души поблагодарили его за помещение. Начальник в прочувственном ответном слове выразил свою радость по поводу того, что мы у него остановились, что школа ничем не пострадала, что помещение мы оставляем даже в лучшем состоянии, чем получили.
Прошли еще сутки — и ночью, в проливной дождь, подкатили мы к Харьковскому вокзалу. Выглянули на площадь — людей нет, одни лужи и дождь. А мы было нарядились в парадные костюмы, чтобы в родной Харьков явиться в порядке.
Дождь. Что тут будешь делать? Выпросили у какого-то начальства комнатку, чтобы сложить наши корзины, а сами решили отправляться домой, в коммуну. До парка нам дали три вагона трамвая. Но ведь от парка еще три с лишним километра, из них больше километра лесом, по тропинкам.
У коммунаров тем не менее настроение было прямо торжественное.
— Становись!
— Равнясь!
— Шагом марш!
Барабанщик, прозванный почему-то Булькой, ударил в намокший барабан. Волчок, не долго думая, бахнул какую-то веселую польку. Пошли под польку в коммуну. Дождь все усиливался, и ребятам было уже безразлично, куда течет вода: все равно и сверху, и под блузами, и в ботинках — вода. Темно, не видно соседнего ряда. К лесу подошли — безлюдно, и все завоевано дождем.
— Стой! Вперед через лес четвертый взвод, за ним оркестр и знамя.
Гуськом, держась друг за друга, перебрались и вышли на поле. В коммуне были зажжены все фонари, нас ожидали, но дождь обратился в ливень настолько частый, что приходилось силой преодолевать сопротивление падающей воды.
По одному, по два подходили мы к коммуне. В дом не входили: по заведенному порядку в дом нужно раньше внести знамя. Построились. Карабанов особенно строго скомандовал:
— Смирно!
Вокруг все журчало, лопотало, булькало, свистело, волнами воды колотило по земле, тротуару, стенам, окнам, по строю коммунаров.
Но веселые, радостные лица ребят только жмурились.
— Товарищи! Поздравляем вас с концом славного московского похода! Мы много видели, многому научились и, самое главное, увидели, что мы крепко живем и что нам никакие походы не страшны. Не забудем же никогда этого нашего удачливого дела. Да здравствует наш Союз, да здравствует наша коммуна!
По-настоящему заревели ребята «ура», а свидетелями были только ливень да промокшая фигура сторожа у парадного входа.
Грянул Волчок «Интернационал», и не как-нибудь, не парадный отрывок, а полный, с настоящим концом:… воспрянет род людской!
Строгими изваяниями замерли коммунары в салюте нашему гимну. Накрытые ночью, небом и ливнем, мы задорно и радостно заглянули в сердце нашего рабочего государства.
— Под знамя смирно! Равнение направо!
Закрытое чехлом знамя черным силуэтом прошло мимо наших лиц.
— Вольно!
И только тогда заговорили, засмеялись, зашумели ребята:
— Вот сюда, сюда, здесь тряпки!
— А какие там тряпки? Снимая все в вестибюле, пусть девчата отойдут в сторонку.
Свалили все, пропитанное водой, в кучу, — завтра начнем приводить в порядок. Еще веселее стало. Даже дождь заиграл что-то похожее на гопак. Прибежал в дом кладовщик с ворохом свежего белья.
Девчата, мокрые, в сверкающих на электрическом свете каплях:
— А мы ж как?
— И вы ж так.
— Так убирайтесь!
В столовой уже накрыт ужин. Дежурный по коммуне, в новых трусиках, с красной повязкой на голой руке, спрашивает:
— Можно давать ужин?
Ах, хорошее было дело — наш московский поход! Из Москвы мы приехали новыми, иными — более сильными, уверенными, еще больше чувствуя связь со всем пролетариатом нашего Союза.
Филька
Самый молодой и самый активный член коммуны со времени ее основания — Филька Куслия.
Ему двенадцать лет. У него всегда обветренное лицо. Умные и серьезные глаза. Он напускает на себя серьезность и даже немного надувается. Это потому, что он прежде всего актер.
Среди ребят часто попадаются артисты, но большинство из них очень скоро губит свой талант, используя его как средство подыграться к «доброму дяде», изобразить что-нибудь похвальное и занимательное, подработать на милом выражении лица.
Но Филька со взрослыми всегда был недоверчив и горд.
В коммуне Филька всегда был вождем сепаратистски настроенных пацанов. Вокруг него всегда вертелись пацаны, занятые предприятиями и разговорами, в которые старшие коммунары, не говоря о взрослых, обыкновенно не посвящались.
В этом узком кругу Филька бывал всегда деятелен, стремителен и весел, его смех взрывался то там, то здесь. Его неудачные последователи, вроде Котляра или Алексюка, всегда «засыпались» и попадали в тот или другой рапорт, но сам Филька при встрече со старшими неизменно напускал на себя солидность и разговаривал только недовольным баском. При попытке ближе подойти к «душе ребенка» он бычком наклонял голову и что-то бурчал под нос.
Изменял своей тактике и делался доверчивым и ласковым Филька только во время репетиций малого драмкружка, самым активным членом которого он всегда был.
Но пионерские пьесы, упрощенные и неинтересные, Фильку не удовлетворяли. Он стремился в старший драмкружок, неизменно присутствовал на всех его заседаниях и непривычно для него смело и настойчиво требовал всегда выбора такой пьесы, в которой и для него находилась роль.
На репетициях Филька веселел и удивлял всех своей способностью точно схватывать и повторять тон, данный ему режиссером. Обращал он на себя внимание и своим мальчишеским дискантом и свежестью своей живой мордочки.
Тем не менее прямо можно было сказать, что все очарование Филькиной игры никогда не было очарованием драматического таланта. Только вот эта детская искренность и свежесть и делали Филькину игру занимательной.
Филька, однако, был иного мнения. Он еще весной стал важничать и заявлять, что если бы его пустили в киноактеры, так он показал бы, как нужно играть.
Мне уже не раз приходилось наблюдать увлечение кинокарьерой, но в таком молодом возрасте я это увидел впервые. Пожалуй, наша вина была в том, что мы слишком баловали Фильку и позволили ему слишком занестись. Пробовали Фильку уговаривать:
— Да что ты, Филя! Что там хорошего в киноартистах, что у них за игра! Немые, как рыбы…
Но разве в таких случаях можно что-нибудь доказать? Да и разве можно было убедить Фильку в том, что все его достоинство в симпатичнейшем дисканте, который Фильке дан не на долгое время.
Филька примолк.
А в Москве, во время свободных прогулок по городу, он нашел нужных ему людей и переговорил с ними. Потом заявился ко мне и по обыкновению недовольным басом забурчал:
— Вот тут есть такой человек, так он говорит, что мне можно поступить на кинофабрику.
Окружавшие нам комсомольцы рассмеялись:
— Вот смотри ты, артист какой? На что ты ему сдался? Подметать двор тебя заставит, и в лавочку будешь бегать за лаком.
— Ну что ж, и побегу, и играть буду.
— Кого ты будешь играть? — рассердился даже кто-то.
— Как кого? Пацанов буду играть.
— А потом?
— Что потом?
— А потом, когда вырастешь?
— Ну-у, — протянул, уже явно сдерживая слезы, Филька, — «когда вырастешь»!.. Потом тоже найдется. А ты что будешь потом? — вдруг разозлился Филька. — Ты, может, будешь грузчиком!
— Он уже сейчас слесарь, грузчиком не будет, а ты все-таки брось. Забили мальчишке голову, он и карежится. Артист!
Я Фильке сказал:
— Не могу я так тебя отпустить. Я считаю, что это дело пустяковое. Артистом ты не будешь, да ты еще и маленький учиться в студии. Тебя возьмут, пока у тебя рожица детская, а потом выставят, будешь ты ни артист, ни мастер.
Филька ничего не сказал. Но по приезде в Харьков отправился Филька жаловаться на меня члену правления товарищу Н.
— А если я хочу быть артистом, так что ж такое? Может, у меня талант. Нужно меня отпустить.
— Куда?
— На кинофабрику.
— Если ты хочешь быть артистом, так нужно учиться на драматических курсах, а для этого ты еще маленький. А что ж на фабрике? Нет, поживи в коммуне, а там видно будет.
И от Н. Филька не в коммуну направился, а на вокзал. Вспомнил старину: влез на крышу, поехал почему-то не в Москву, а в Одессу.
В коммуне с горестью констатировали:
— Филька убежал.
В течение двух-трех недель ничего о Фильке слышно не было, убежал — и все. Мало кому приходило в голову, что Филька поехал искать актерского счастья, — думали, просто сорвался пацан, надоела коммунарская дисциплина.
Через две недели возвратился Филька в Харьков и каким-то образом объявился в колонии имени Горького — захватили его, видно, в очередной облаве.
В коммуне о нем говорили разно. Кто — сдержанно:
— Сорвался-таки пацан, теперь уже пойдет бродить.
Другие отзывались с осуждением и обидой…
Филька тем временем спокойно сидел в колонии имени Горького и старался не попадать нашим на глаза, когда наши ходили в гости к горьковцам. А через какого-то «корешка» передал, что он бы и пришел в коммуну, да ему стыдно. И, говорят, прибавлял:
— Чего там развозить! Убежал — и все. Проситься не буду.
У коммунаров первоначальная обида на Фильку прошла, даже жалели его, но никому в голову не приходило зазывать беглеца в коммуну. О его возвращении просто не говорили. И вдруг месяца уже через четыре пришел в коммуну Филька. Я возвращался из города и увидел его возле крыльца. Он салютнул по-нашему и улыбнулся. Ребята весело показали на него:
— Вот киноартист!
Филька отвернулся с улыбкой.
— Как же тебе живется?
— Так, ничего…
Филька сделался серьезным.
— Живется ничего… А вы на меня не сердитесь? Правда?
— Конечно, сержусь. А ты что ж думал?
— Да я ж так и думал…
— Погулять к нам пришел?
— Немножко погулять…
— Ну, погуляй.
Через час Филька вошел в кабинет, прикрыл дверь и вытянулся перед моим столом:
— Я не погулять пришел…
— Ты хочешь опять жить в коммуне?
— Хочу.
— Но ведь ты знаешь, что принять тебя может только совет командиров.
— Я знаю. Так вы попросите совет, чтобы меня приняли.
— А в колонии Горького?
— Так в колонии там все чужие, а тут свои…
Пришел дежурный.
— Что, принимать будем киноартиста?
— Да вот же явился. Нужно совет командиров протрубить.
— Есть!
В совете командиров Фильку не терзали лишними вопросами. Попросили только рассказать, как он ездил в Одессу. Филька неохотно повествовал:
— Да что ж там… Как Н. меня не захотел отправить на кинофабрику, я и подумал: «Что ж идти в коммуну? Будут пацаны смеяться. Все равно уже поеду в Одессу. Может, что и выйдет». Пришел на вокзал и сразу полез на крышу, только в Лозовой меня оттуда прогнали… Ну, подождал следующего поезда и опять залез на крышу. Так и приехал в Одессу. Пошел к директору, а директор и говорит: «Нужно раньше учиться в школе». А пацанов у них играть — сколько угодно своих, так те живут у родных. Он говорит: «Если хочешь — играй, может, когда и подойдет тебе, только жить у нас негде». Так я пошел в помдет и попросил, что отправили меня в Харьков. Ну, меня и отправили в колонию Горького.
— А почему не к нам? — спросил кто-то.
— Так я же не сказал, что я дзержинец.
— Почему же ты не пришел к нам?
— Стыдно было, да и боялся, что не примут: подержат на середине, а потом скажут: «Иди куда хочешь».
— А почему теперь пришел?
— А теперь?.. — Филька затруднился ответом. — Теперь, может, другое дело. Что ж, я четыре месяца прожил в колонии Горького.
— В колонии плохо?
Филька наклонил голову и шепнул:
— Плохо.
Сразу заговорило несколько голосов.
— Да чего вы к нему пристали?
— Вот, подумаешь, преступника нашли!..
ССК заулыбался:
— Принять, значит?
— Да ясно, в тот же самый отряд.
— Значит, нет возражений? Объявляю заседание закрытым.
Фильку кто-то схватил за шею:
— Эх ты, Гарри Пиль!
Сявки
У многих коммунаров есть в прошлом… одним словом, есть «прошлое». Не будем о нем распространяться. Сейчас в коллективе дзержинцев оно как будто совершенно забыто. Иногда только прорвется блатное слово, а некоторые слова сделались почти официальными, например: «пацан», «чепа». В этих словах уже нет ничего блатного — просто слова, как и все прочие.
Коммунары никогда не вспоминают своей беспризорной жизни, никогда они не ведут разговоров и бесед о прошлом. Мы также подчиняемся этому правилу. Воспитателям запрещено напоминать коммунарам о прошлом.
Благодаря этому ничто не нарушает общего нашего тона, ничто не вызывает у нас сомнений в полноценности и незапятнанности нашей жизни. Иногда только какой-нибудь бестактный приезжий говорун вдруг зальется восторгами по случаю разительных перемен, происшедших в «душах» наших коммунаров.
— Вот, вы были последними людьми, вы валялись на улицах, вам приходилось и красть…
Коммунары с хмурой деликатностью выслушивают подобные восторги, но никогда никто ни одним словом на них не отзовется.
Однако еще живые щупальцы пытаются присосаться к нашему коллективу. В такие моменты коммуна вдруг охватывается лихорадкой, она, как заболевший организм, быстро и тревожно мобилизует все силы, чтобы в опасном месте потушить развитие каких-то социальных бактерий.
Социальную инфекцию, напоминающую нам наше прошлое, приносят к нам чаще всего новенькие.
Новенький воспитанник в коммуне сильно чувствует общий тон коллектива и никогда не посмеет открыто проповедовать что-либо, напоминающее блатную идеологию, он даже никогда не осмелится иронически взглянуть на нашу жизнь. Но у него есть привычки и симпатии, вкусы и выражения, от которых он сразу не в состоянии избавиться. Часто он даже не понимает, от чего и почему ему нужно избавиться. Наиболее часто это бывает у мальчиков с пониженным интеллектом и слабой волей. Такой новенький просто неловко чувствует себя в среде подтянутых, дисциплинированных и бодрых коммунаров: он не в состоянии понять законы взаимной связи и взаимного уважения. Ему на каждом шагу мерещится несправедливость, он всегда по старой привычке считает необходимым принять защитно-угрожающую позу, в каждом слове и в движении других он видит что-то опасное и вредное для себя, и во всем коллективе он готов каждую минуту видеть чуждые и враждебные силы. В то же время, даже когда он полон желания работать, он лишен какой бы то ни было способности заставить себя пережить самое небольшое напряжение. Еще в коллекторе полный намерениями «исправиться», он рефлективно не способен пройти мимо «плохо лежащей» вещи, чтобы ее не присвоить, успокоив себя на первый раз убедительными соображениями, что «никто ни за что не узнает». Точно размеренный коммунарский день, точно указанные и настойчиво напоминаемые правила ношения одежды, гигиены, вежливости — все это с первого дня кажется ему настолько утомительным, настолько придирчивым, что уже начинается вспоминаться улица или беспорядочный, заброшенный детский дом, где каждому вольно делать что хочется.
Контраст полудикого, анархического прозябания «на воле» и свободы в организованном коллективе настолько разителен и тяжел, что каждому новенькому первые дни обязательно даются тяжело. Но большинство ребят очень быстро и активно входит в коллектив. Их подтягивает больше всего, может быть, серьезность предъявляемых требований. Обычно бывает, что ребята бунтуют только до первого «рапорта». Новенький пробует немного «побузить», нарочно толкнет девочку, уйдет с работы, возьмет чужую вещь, замахнется кулаком, ответит ненужной грубостью. На замечание другого коммунара удивится:
— А ты что? А тебе болит?
Первый же «рапорт» производит на него совершенно ошеломляющее впечатление. Когда председатель общего собрания спокойно называет его фамилию, он еще немного топорщится, недовольно поворачивается на стуле и пробует все так же защищаться:
— Ну что?
Но у председателя уже сталь в голосе:
— Что? Иди на середину!
Неохотно поднимается с места и делает несколько шагов, развязно покачиваясь и опуская пояс пониже бедер, как это принято у холодногорских франтов. Одна рука — в бок, другая — в кармане, ноги в какой-то балетной позиции, вообще во всей фигуре достоинство и независимость.
Но весь зал вдруг гремит негодующим, железным требованием:
— Стань смирно!
Он растерянно оглядывается, но немедленно вытягивается, хотя одна рука еще в кармане.
Председатель наносит ему следующий удар:
— Вынь руку из кармана.
Наконец, он в полном порядке, и с ним можно говорить:
— Ты как обращаешься с девочками?
— Ничего подобного! Она шла…
— Как ничего подобного? В рапорте вот написано…
Он совершенно одинок и беспомощен на середине.
Последний удар наношу ему я, это моя обязанность. После суровых слов председателя, после саркастических замечаний Редько, после задирающего смеха пацанов я получаю слово. Стараюсь ничего не подчеркивать:
— Что касается Сосновского, то о нем говорить нечего. Он еще новенький и, конечно, не умеет вести себя в культурном обществе. Но он, кажется, парень способный, и я уверен, что скоро научится, тем более что и ребята ему помогут как новому товарищу.
Заканчиваю я все-таки сурово, обращаясь к Сосновскому:
— А ты старайся прислушиваться и приглядываться к тому, что делается в коммуне. Ты не теленок, должен сам все понять.
Когда собрание кончается и все идут к дверям, кто-нибудь берет его за плечи и смеется:
— Ну вот ты теперь настоящий коммунар, потому что уже отдувался на общем. В первый раз это действительно неприятно, а потом ничего… Только стоять нужно действительно смирно, потому, знаешь — председатель…
Самые неудачные новички никогда не доживают до выхода на середину.
Поживет в коммуне три-четыре дня, полазит, понюхает, скучный, запущенный, бледный, и уйдет неизвестно когда, неизвестно куда, как будто его и не было.
Коммунары таких определяют с первого взгляда:
— Этот не жилец: сявка.
«Сявка» — старое блатное слово. Это мелкий воришка, трусливый, дохлый, готовый скорее выпросить, чем украсть, и не способный ни на какие подвиги.
Коммунары вкладывают в слово «сявка» несколько иное содержание. Сявка — это ничего не стоящий человек, не имеющий никакого достоинства, никакой чести, никакого уважения к себе, бессильное существо, которое ни за что не отвечает и на которое положиться нельзя.
У нас таких сявок было за три года очень немного, человека три всего. Коммунары о них давно забыли, и только в дневниках коммуны остался их след.
Гораздо хуже бывало, когда вдруг нам приходилось ставить вопрос о старом коммунаре, на которого все привыкли смотреть как на своего и у которого вдруг обнаруживались позорные черты.
Самый тяжелый случай был у нас с Грунским.
Грунский живет в коммуне с самого начала ее. У него красивое лицо, тонкое и выразительное. Он в старшей группе и учится прекрасно. Всегда он ко всем расположен, вежлив, в меру оживлен и активен. Его безо всяких затруднений приняли в комсомол, а через год он уже был командиров первого отряда, и его всегда выбирали во все комиссии. На работе он — прямо образец, всякое дело умеет делать добросовестно и весело.
Во время московского похода обнаружилось неприятное дело: в поезде, по дороге в Москву, пропало у Волчка пять рублей. Ночью положил кошелек рядом с собой, посторонние в наши вагоны не заходили, а утром проснулся — кошелька и денег нет.
Дневальными в вагоне ночью были четыре коммунара, в том числе и Грунский.
Как только расположились в Москве в общежитии, собрали общее собрание.
В огромной спальне Транспортной школы притихли. Дело безобразное: у товарища украли последние деньги, да еще во время похода, которого так долго ждали и на который так много было надежд. Назвать прямо перед всеми фамилию подозреваемого было трудно: слишком уж тяжелое оскорбление. Четверо дневальных вышли вперед.
— Я денег этих не брал.
Так сказал каждый. Так сказал и Грунский.
В спальне было тихо. Все чувствовали себя подавленными.
Тогда попросил слово Фомичев и сказал:
— Первый отряд уверен, что деньги взял Грунский.
Еще тише стало в спальне.
Я спросил:
— А доказательства?
— Доказательств нет, но мы уверены.
Грунский вдруг заплакал.
— Я могу свои отдать деньги, но денег я не брал.
Никто ничего не прибавил, так и разошлись. Я выдал Волчку новые пять рублей.
В Москве и на обратном пути Грунский был оживлен и доволен, но я заметил, что тратит он гораздо больше, чем было ему по карману: его финансовые дела были мне известны. Он покупал конфету, молоко, мороженное и в особенности кутил на станциях: на каждой остановке можно было видеть на подножке вагона Грунского, торгующего у бабы или мальчишки какую-нибудь снедь.
Я поручил нескольким коммунарам запомнить кое-какие его покупки. Как только мы приехали в коммуну, я собрал совет командиров и попросил Грунского объяснить некоторые арифметические неувязки. Грунский быстро запутался в цифрах. Выходило, что денег истрачено было им гораздо больше, чем допускалось наличием. Пришлось ему перестраивать защиту и придумывать небылицы о присланных какой-то родственницей в письме пяти рублях. Но это было уже безнадежно.
И пришлось Грунскому опустить свою белокурую голову и сказать:
— Это я взял деньги Волчка.
Среди командиров только Редько нашел слова для возмущения:
— Как же ты гад, взял? Тебе ж говорили, а ты еще и плакал, а потом на глазах у всех молоком заливался!
Общее собрание в тот день было похоже на траурное заседание. Грунский кое-как вышел на середину. Председатель только и нашелся спросить его:
— Как же ты?
Но ни у председателя не нашлось больше вопросов, ни у Грунского — что отвечать.
— Кто выскажется?
Тогда вышел к середине Похожай и сказал Грунскому в глаза:
— Сявка!
И только тогда заплакал Грунский по-настоящему, а председатель сказал:
— Объявляю собрание закрытым.
С тех пор прошло больше года. Грунский, как и прежде, носит по коммуне свою белокурую красивую голову, всегда он в меру оживлен и весел, всегда вежлив и прекрасно настроен, и никогда не один коммунар не напомнит Грунскому о московском случае. Но ни на одном собрании никто не назвал имени Грунского как лица, достойного получить хотя бы самое маленькое полномочие.
Будто сговорились.
Юхим
Юхим Шишко был найден коммунарами при таких обстоятельствах.
Повесили пацаны с Перским горлетную сетку на лужайке возле леса, там, где всегда разбиваются наши летние лагеря. Наша часть леса огорожена со всех сторон колючей проволокой, и селянские коровы к нам заходить не могут.
Но раз случилась оказия: даже не корова, а теленок-бычок не только прорвал проволочное препятствие, но и попал в горлетную сетку, разорвал ее всю и сам в ней безнадежно запутался.
Пока прибежали коммунары, от горлета ничего не осталось, пропали труды целой зимы и летние надежды.
Бычка арестовали и заперли в конюшне.
Только к вечеру явился хозяин, солидный человек в городском пиджаке, и напал на коммунаров:
— Что за безобразие! Хватают скотину, запирают, голодом морят. Я к самому Петровскому пойду! Вас научат, как обращаться с трудящимися.
Но коммунары подошли к вопросу с юридической стороны:
— Заплатите сначала за сетку, тогда мы вам отдадим бычка.
— Сколько же вам заплатить? — спросил недоверчиво хозяин.
В кабинете собралось целое совещание под председательством Перского.
Перский считал:
— Нитки стоят всего полтора рубля, ну а работы там будет рублей на двадцать по самому бедному счету.
Ребята заявили:
— Вот, двадцать один рубль пятьдесят копеек.
— Да вы что, сказились? — выпалил хозяин. — За что я буду платить? Бычок того не стоит.
— Ну, так и не получите бычка.
— Я не отвечаю за потраву, это пастух пускай вам платит. Я ему плачу жалованье, он и отвечает.
Ребята оживились.
— Как пастух? Пастух у вас наемный?
— Ну, а как же! Плачу ж ему, он и отвечает.
— Ага! А сколько у вас стада?
Хозяин уклонился от искреннего ответа:
— Какое там стадо! Стадо…
— Ну, все-таки.
— Да нечего мне с вами тодычить! Давайте теленка, а то пойду просто в милицию, так вы еще и штраф заплатите.
ССК прекратил прения:
— Знаешь что, дядя, ты тут губами не шлепай, а либо давай двадцать один рубль пятьдесят копеек, либо иди куда хочешь.
— Ну, добре, — сказал хозяин. — Мы еще поговорим!
Он ушел. На другой день к вечеру ввалилось в кабинет существо первобытное, немытое со времени гражданской войны, не чесанное от рождения и совершенно не умеющее говорить.
В кабинете им заинтересовались:
— Ты откуда такой взялся?
— Га? — спросило существо.
Но звук этот был чем-то средним между «га», «ы», «а», «хе»…
— А чего тебе нужно?
Та пышьок, хасяин касылы, витталы шьоп.
— А-а, это пастух знаменитый!
С трудом выяснили, что этот самый пастух пасет целое стадо, состоящее из трех коров, нескольких телят и жеребенка.
Сказали ему:
— Иди к хозяину, скажи: двадцать один рубль пятьдесят копеек пусть гонит.
Пастух кивнул и ушел.
Возвратился он только к общему собранию, и его вывели на середину плачущего, хныкающего и подавленного. Рот у него почему-то не закрывался, вероятно, от обилия всяких чувств. Пастух обьявил:
— Хасяин попылы, касалы — иды сопи, быка, значиться, узялы, так хай и пастуха запырають.
Ситуация была настолько комической, что при всем сочувствии пастуху зал расхохотался.
Из коммунаров кто-то предложил задорно:
— А что ж, посмотрим! Давай и пастуха… Смотри, до чего довели человека!.. Побил, говоришь?
— Эхе, — попробовал сказать Юхим, не закрывая рта.
— Да что его принимать? — запротестовал Редько. — Он же совсем дикий. Ты знаешь, кто такой Ленин?
Юхим замотал головой, глядя не отрываясь на Редько:
— Ни.
Кто-то крикнул через зал:
— А може, ты чув, шо воно за революция?
Юхим снова замотал отрицательно головой с открытым ртом, но вдруг остановился.
— Цэ як с хмерманьцями воювалы…
В зале облегченно вздохнули. Все-таки хоть говорит по-человечески.
Многие выступали против приема Юхима, но общее решение было — принять.
Приняли-таки Юхима. А бычка на другой день зарезали и съели.
Юхима остригли, вымыли, одели — все сделали, чтобы стал он похожим на коммунара. Послали его в столярный цех, но инструктор на другой день запротестовал:
— Ну его совсем! Того и гляди, в пас запутается.
Юхим и сам отрицательно отнесся к станкам, тем более что в коммуне нашлось для него более привлекательное дело. Держали мы на откорме кабанчика. Как увидел его Юхим, задрожал даже:
— Ось я путу за ным хотыты.
— Ну ходи, что ж с тобой поделаешь.
Юхим за кабанчиком ходил, как за родным. Юхим не чувствовал себя наймитом и даже пробовал сражаться с кухонным начальством и с конюхом, отстаивая преимущественные права своего питомца. В его походке вдруг откуда-то взялись деловитость и озабоченность. В свинарне Юхим устроил настоящий райский уголок, натыкал веточек, посыпал песочку…
К счастью Юхима, его сельскохозяйственная деятельность в коммуне все-таки прекратилась.
В один прекрасный день Юхим не нашел в свинарнике своего питомца. Бросился в лес и по дороге с гневом обрушился на конюха.
Наш конюх, могучий, самоуверенный и спокойный Митько, старый мясник и селянский богатырь, добродушно рассмеялся.
Юхим унесся в лес. Бродил он в лесу и обед прозевал, пришел изморенный и к каждому служащему и коммунару приставал с вопросом:
— Дэ кабан? Чи не бачыли кабана?
И только придя на кухню обедать, он узнал истину: кабана еще на рассвете зарезал Митько. Когда Юхиму предлагала кусок свинины старшая хозяйка, ехидный и веселый Редько передразнил Юхима:
— «Дэ кабан?» Раззява несчастная! Ось кабан, кушай!
Как громом был поражен Юхим всей этой историей, не стал обедать и бросился в кабинет с жалобой. Я с большим напряжением понял, о чем он лопочет:
— Заризалы ранком, нихто й не знав, отой Митько, крав, крав помый, насмихався…
Несколько дней коммунары спрашивали у Юхима:
— Дэ кабан?
Но у Юхима уже прошел гнев, и он отвечал, улыбаясь доверчиво:
— Заризалы.
Гибель кабана от руки Митько окончательно порвала связь Юхима со скотным двором. Сделался Юхим рабочим литейного цеха. Сейчас он работает на щетковальном станке.
Юхим — уже старый коммунар и изучает премудрости третьей группы. ВЕЧЕР Протрубил трубач у двух углов:
Спать пора, спать пора, коммунары,
День закончен, день закончен трудовой…
По парадной лестнице пробежали коммунары в спальни, и уже сменился караул у парадного входа. Новый дневальный записывает в свой блокнотик, кого и когда будить, и одновременно убеждает командира сторожевого в том, что если командир отдаст ему карманные часы, они вовсе не будут испорчены.
Заведующий светом проходит по коридору и тушит электричество. Скоро только у дневального останется лампочка. У дверей одного из классов группа девочек требует:
— А если нам нужно заниматься?
— Знаю, как вы занимаетесь! — говорит грубоватый курносый, но хорошенький Козырь. — Заснете, а электричество будет гореть всю ночь.
— А мы разве засыпали когда?
— А почем я знаю, я за вами не слежу.
Но девочки получают подкрепление. Суровая Сторчакова разрешает спор молниеносно:
— Ну, убирайся!
Козырь убирается и заглядывает в «тихий» клуб, делая вид, что его авторитет ничуть не поколеблен. Однако за плечами его снова Сторчакова:
— Тут будет заседание бюро, прекрасно знаешь.
— Ну, знаю. Так что ж?
— Ну, нечего мудрить! Зажги свет.
Козырь послушно действует выключателем, но не уходит. Когда соберется бюро, он отомстит, обязательно пристанет к секретарю:
— Кто потушит свет?
— А тебе не все равно? Потушим.
— Нет, ты скажи — кто. Я должен знать, кто отвечает.
— Я потушу.
Козырь не будет спать или будет просыпаться через каждые четверть часа, спускаться в «тихий» клуб и смотреть, не забыли ли потушить свет. Надежды очень мало сегодня. Наверняка Сторчакова потушит. Уж очень она аккуратный человек. Но Козырь знает, что такое теория вероятности. Он будет и сегодня следить, и завтра, и много раз, и, наконец, настанет такой счастливый вечер, когда он на общем собрании отчеканит рапорт дежурному:
— В коммуне за сутки электроэнергии израсходовано двадцать киловатт-часов. Особое замечание: секретарь комсомольской ячейки Сторчакова после заседания бюро не выключила свет, «тихий» клуб «горел» до утра.
Сторчакова выйдет на середину и скажет:
— Да, я виновата…
Ничего Сторчаковой не будет, это верно, но Козырю ничего особенного и не нужно. Он и так получит много. Он получит право сказать секретарю:
— Знаем, как вы тушите!
В помещении коммуны появляется еще тень и ругает Володьку за то, что рано в коммуне потушен свет. Это представитель дежурного отряда. Дежурный отряд следит за порядком в клубах и отвечает за то, чтобы во всем здании, кроме, разумеется, спален, были на ночь закрыты окна.
Наконец, и Володька и дежурный отряд уходят в спальню.
В кабинете еще идет работа — какая-нибудь комиссия. В «тихом» клубе располагается бюро, а это значит, что «тихий» клуб полон.
На бюро кто-нибудь коротко отчитывается, кто-нибудь зачитывает небольшой проект, кто-нибудь «отдувается», что-нибудь организуется.
Сегодня именинник литейный цех. Производственное совещание цеха. Мастера, Соломон Борисович — всего человек двенадцать. В цехе прорыв, что-то прибавилось браку, вчера не было литья, глина оказалась неподходящей.
Коммунару полегоньку нажимают на Соломона Борисовича и основательно наседают на мастеров: мастера кивают на Соломона Борисовича и оправдываются перед коммунарами; Соломон Борисович машет руками и наседает и на тех и других. Через полчаса вопрос ясен: прорыв ликвидировать совсем не трудно, и тревога, в сущности, напрасна, но все-таки хорошо, что поговорили. Выяснилось, что коммунар Белостоцкий поленивается, что мастер Везерянский — шляпа, что Соломон Борисович должен, скрепя сердце, выложить сто рублей на новый точильный камень. Под шумок маленького спора сорвали с Соломона Борисовича обещание перевести что-то на мотор, договорились насчет новой работы и помечтали об отдельной литейной.
В кабинете тоже окончили. Председатель столовой комиссии складывает в папку бумажки и говорит:
— Конечно, нужны горчичницы. Будем нажимать.
Все расходятся.
Дневальный принимает ключи от кабинета и говорит:
— Спокойной ночи.
Во дворе неслышно прохаживается сторож. У конюшни голоса: двое коммунаров кому-то рассказывают о чудесах, совершенных Митькой-конюхом:
— Ну, так разве ж его можно взять! Раз трое на него наскочили с кольями, а у одного железный лом… Так что ж? Они на него с ломом — по голове, аж голова гудит, а он все-таки их всех поразгонял.
— Коммунары, спать пора!
— Идем уже, идем…
В последнем окне погас свет: кто-то дочитал книжку.
Будто сговорились.
Заключение
Сейчас осень. Коммуна только что возвратилась из крымского похода.
Крымский поход достоин того, чтобы о нем написать книгу — книгу о новой молодости, о молодости нашего общества, о радостях новых людей, сделавшихся частью живого коллектива.
Утром пятого августа в четыре часа коммуна вышла из Байдар. Впереди — проводник, разговорчивый татарин, данный нам байдарским комсомолом. Мы решили идти через Чертову лестницу, но нужно посмотреть на знаменитые Байдарские ворота.
Ахнули, посмотрели, влезли на крышу ворот и чинно уселись на барьер крыши, как будто собирались просидеть там до вечера. Слезли через минуту, сыграли «Интернационал» восходящему солнцу и пошли. Через пятьдесят шагов проводник неожиданно полез на какую-то кручу. Не успел я опомниться, как уже коммунары перегнали его, только кто-то из оркестрантов с тяжелым басом цеплялся за корни. Я разругал проводника:
— Разве это дорога? Разве можно вести по этой дороге сто пятьдесят ребят, да еще с оркестром?
Но коммунары на меня смотрели с удивлением:
— А чего? Хорошая дорога!
Кое-как и мы с Тимофеем Викторовичем, ругаясь и задыхаясь, выбрались на Яйлу.
Часа через два шли с пригорка на пригорок по волнистым вершинам Яйлы и наконец подошли к Чертовой лестнице.
Смотрим вниз. Какой-то застывший поток разбросанных повсюду острых камней. По ним нужно спускаться. Ребята нас обогнали давно. От Байдар уже сделали километров двадцать, а тут еще нужно прыгать на круглую макушку камня, смотрящего откуда-то снизу в полутора метрах. Прыгаем.
Тимофей Викторович возмущается:
— Проводнику не нужно платить, мерзавцу!
Спускались мы с ним часа полтора, так, по крайней мере, нам показалось. Но как только спустились к ожидавшим нас на шоссе коммунарам, Тимофей Викторович расплывается в улыбке:
— Замечательная дорога! Какая прелесть!
Голоногие коммунары смеются, понимая, в чем дело. Тимофей Викторович на этом самом участке шоссе с радостью бы закончил переход. Но нужно идти дальше, потому что коммунары уже скрываются из виду. Им приказано остановиться только в Кикенеизе, а до Кикенеиза еще километров восемь.
В Кикенеизе маршрутная комиссия достала разрешение остановиться в школе. Обоза еще нет, и коммунары отправились купаться к морю, до которого километра четыре.
Наконец приходит обоз. Карабанов дурашливо обнимается с коммунарами, конвоирующими обоз, столовая комиссия бросается снимать с арб обед.
Я спрашиваю:
— Здесь заночуем, наверное?
— Дальше! — кричат коммунары.
В шесть часов трогаемся дальше. Уже начинает темнеть, когда мы подходим к обсерватории на горе Кошка. До Симеиза километров пять. Директор разрешает осмотреть обсерваторию, и ребята устремляются к дверям. Нам уже впору отдохнуть, и мы с Тимофеем Викторовичем усаживаемся на скамье. Хорошо бы здесь и заночевать, но Карабанов уже выстраивает колонну. Техник обсерватории предлагает показать ближайший спуск в Симеиз. Мы с ним отправляемся вперед, но через минуту нас галопом обгоняют все сто пятьдесят коммунаров. Они летят по крутому спуску, как конница Буденного, не останавливаясь на поворотах и не упираясь на кручах, просто сбегают свободным бегом, как будто для них не существует законов тяжести и инерции. Любезный техник останавливается под каким-то обрывом и показывает мне дальнейшие извилины спуска, но вдруг безнадежно машет рукой:
— Э, да вам показывать не нужно!
Впереди вся Кошка покрыта парусиновыми рубахами коммунаров.
Мы с Тимофеем Викторовичем только через полчаса добираемся до подошвы.
Еще через десять минут наш оркестр гремит на верхних террасах симеизкого шоссе. Симеиз в сверкающем ожерелье все ближе и ближе.
После сорокакилометрового перехода и двух перевалов коммунары с музыкой входят в Симеиз. Их движения так же упруги, как и утром в четыре часа в Байдарах. Так же торжественно колышется впереди знамя, по бокам его так же острятся штыки, и так же развевается флажок у флаженера левого фланга Алексюка.
Симеизская публика из квартала в квартал провожает нас аплодисментами. Кто-то любезно бросается подыскивать для нас ночлег. Через полчаса коммунары входят в великолепный клуб союза строителей, и караульный начальник разводит ночные караулы.
Тридцать первого августа в шесть утра мы вернулись домой.
Кончился наш отпуск. Перед нами — новый год и карты новых переходов.
В отрядах коммунаров уже сменились командиры. В первом отряде снова командует Волчок, а на месте ССК уже не Васька Камардинов, а Коммуна Харланова, особа выдержанная, серьезная и образованная. Теперь Соломону Борисовичу еще меньше будет свободы в совете командиров.
Соломон Борисович строится. Все площади нашего двора завалены строительными материалами, сразу в нескольких местах возводятся стены новых домов — общежитий, контор, складов и цехов. Все планы, намеченные перед отъездом в Крым, Соломоном Борисовичем выполняются, и это обстоятельство окончательно роднит его с коммунарами.
Вернувшись из крымпохода, побежали коммунары после команды «разойдись» осматривать новое строительство. Великолепный новый сборный цех длиной в семьдесят метров их совершенно удовлетворяет:
— Грубой цех будет! — говорит командир третьего.
Довольны и формовщики: новая литейная почти готова, на стропилах уже ползают кровельщики, и на траве в саду разложены масленые листки железа.
Но это еще не все. Самое главное вот что: в коммуне открывается рабфак. Настоящий рабфак Машиностроительного института. Первый и второй курсы. Это великое событие произошло чуть ли не случайно. Бросились наши кандидаты в рабфаки — оказывается: то стипендии нет, то общежития. Возникло решение открыть собственный рабфак. И Наркомпрос и ВСНХ пошли навстречу желаниям коммунаров.
Через три дня начинаются на рабфаке занятия. Новые наши студенты продолжают оставаться коммунарами. Все чрезвычайно довольны: не нужно никуда уходить, не нужно бросать родную коммуну, можно продолжать работать на нашем производстве.
В рабфаке будет семьдесят коммунаров.
В педагогическом совете затруднялись: как быть с такими, как Панов? И по возрасту и по росту совсем мальчик, а по способностям и коммунарскому стажу заслуженный товарищ. Ребята в педсовете настояли:
— Ну так что же? Кончит рабфак, ему уже шестнадцать будет. Чем не студент? Такие нам и нужны.
Сегодня в коммуну свозят много хороших вещей: физический кабинет, химический кабинет, новые книги. Соломон Борисович измеряет комнаты: надо делать шкафы, столы, стулья для новых кабинетов.
Соломону Борисовичу теперь есть чем гордиться: в коммуне рабфак; не успеем оглянуться — будут собственные инженеры. А на текущем счету уже лежат двести тысяч рублей. Взяли мы еще в июле заказ на оборудование Энергетического института, заказ стоит полмиллиона.


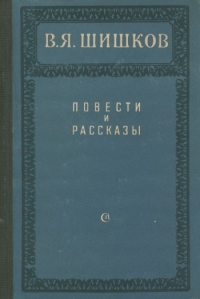

Комментарии к книге «Марш 30-го года», Антон Семенович Макаренко
Всего 0 комментариев