Мариэтта Шагинян Коринфский канал
I
Что такое небольшой греческий пароход, об этом многие русские получили наглядное представление, когда первая мировая воина загнала их на самый кончик изящного итальянского башмачка — в Бриндизи. Подобно извозчичьей кляче доживает он свой час в постоянных рейсах туда и сюда, заползая чуть ли не в каждую гавань, чтоб отдышаться и отхаркаться. Скрипящий, прокопченный, грязный, с гниющими половицами, с расшатанными ступеньками в каюту, с капитаном, ревущим, как матрос, с запахом дегтя и бараньего сала (нестерпимая смесь) и, наконец, с неизменным намерением буфетчика звонить к табльдоту в часы самой отчаянной качки, — ждет такой пароход своих мучеников и медленно волочит их через Архипелаг.
Спустя три месяца по возникновении войны точь-в-точь такой пароход ранним утром полз вдоль пустынных берегов Греции, немилосердно чадя и горячо дыша в пронзительной, почти морозной прозрачности утра. Время действия — обостряло чувство современности; место действия — заставляло вспоминать античные учебники; над пассажирами висела война, перед ними уходили в облака смутные облыселые очертания Олимпа; а тем не менее никто из собравшихся на палубе не думал ни о современном, ни о прошлом. Каждый продолжал думать только о своем собственном, — в этом-то и заключается главная особенность людей, именуемых обывателями.
Капитан, толстый и краснолицый, беседовал с новым палубным пассажиром, принятым на пароход ночью. Палубный пассажир сидел в эффектной позе на связке каната, прикрытой брезентом, и позволял со стороны наблюдать прямую линию своего лба и носа. Это был греческий князь, возвращавшийся с охоты в Афины. Два его рослых помощника развешивали на пароходе подстреленную князем дичь: козулю, десятка два глухарей, да еще какую-то серо-бурую зверюшку, отдаленно похожую на нашего зайца. Князь был в грязи с головы до ног; охотничий костюм сидел на нем не без грации. Но когда он встал и снял фуражку, очарование исчезло: маленькая фигура с ногами, далеко не длинными, чтобы не сказать короткими, и мирная плешь на небольшой овальной голове — вот все, что осталось от сидевшего Антиноя.
Наблюдение со стороны (в лорнетку и парой невооруженных серо-голубых глаз) тотчас же прекратилось. Рука, державшая лорнетку, упала на колени; серо-голубые глаза устремились с князя на эту руку (справедливость требует отметить — очень красивую).
— Вы тоже не хотите смотреть? — спросил обладатель серо-голубых глаз, мужчина с загорелым бритым лицом того счастливого типа, что придаст людям во всяком возрасте мальчишескую моложавость.
— Не хочу, — улыбаясь, ответила девушка с лорнеткой.
Нам с вами, читатель, оба собеседника, сколько их ни описывай, кажутся самыми обыкновенными людьми. Но счастливый взгляд, каким они сопровождают каждое свое слово, расцветающая улыбка, похожая на незакатное внутреннее сиянье и не переходящая никогда в смех, делают их необычайными друг для друга. Любовь коснулась их кончиком волшебной палочки, и обыденная шелуха засияла чистейшим золотом. Бог знает, наколдовывает ли любовь это золото или она обнаруживает в людях его несомненное присутствие, но только оба сидящие сейчас на палубе человека очень резко отличаются от всех своих соседей. Они тихи и углублены в себя. Движения их скованы тончайшей и заразительной негой. Взгляд выказывает то удесятеренное, проникновенное внимание, которое достается в удел только гению да влюбленности.
— Хотел бы я знать, куда делась эта раса, — произнес мужчина, снова поглядывая на князя, — неужели они воплотили формальный идеал a contrario,[1] исходя из таких вот низкорослых уродцев? Впрочем, я говорю вздор.
— Разумеется, вздор. Разве мог быть Гектор или Ахилл чем-нибудь вроде этого? — ответила девушка, быстро усваивая направление мыслей мужчины и тотчас же хватаясь за него, как за свое собственное. Он ответил ей благодарным взглядом.
Но сказка сказывалась бы очень скоро, если б все дело заключалось только в двух влюбленных и в их болтовне. На самом деле, кроме них, на палубе были еще люди: три дамы и два мальчика-подростка, с синими от холода носами и синими голыми коленками, обнаженными благодаря английской системе воспитанья. Все они, сбившись в кучу, делали вид, что рассматривают пустынные и дикие в своем помертвелом одиночестве горы Греции, а на самом деле, разумеется, только «соглядатайствовали».
Самая старая, горбоносая, с бородавками па щеках, произнесла:
— Бесподобно красиво! Как подумать, бедная Елизавета Павловна спит, когда мы проезжаем Парнас или как его, где живут грецкие боги?
— Мама, греческие боги, — с негодованием поправил един из подростков.
— Разве? Не понимаю, говорят же: грецкие орехи. Ну, все равно, Стасик, иди сию минуту вниз и разбуди Елизавету Павловну. Скажи, чтобы она непременно, непременно пришла полюбоваться!
Подросток с шумом повернулся и загромыхал вниз по лестнице, неистово стуча башмаками, подбитыми гвоздями. Все три дамы переглянулись, безмолвно предвкушая удовольствие. Второй подросток, усмотрев некоторое послабление себе в смягченном выражении их лиц, бочком отошел от них и присоединился к группе матросов, усердно плевавших и куривших на самом грязном конце палубы.
Постороннему человеку при взгляде на наших трех дам показалось бы, что они собираются сделать доброе дело, так мягко сияли их пожилые лица, обтянутые морщинами и уютно припудренные. Губы их, молчаливо выражавшие что-то общее, видимо представлявшееся им мысленно, собрались в добродушные, улыбчивые бантики. Глаза смотрели задушевно.
Доброе дело, которое они собирались сделать, требовало, однако, затраты еще некоторой дозы их драгоценной энергии. Стасик пришел один и, запыхавшись, донес:
— Мамочка, Елизавета Павловна кормит маленького. Она говорит, что маленький наверху может простудиться. Она говорит, что если только тетя Катя даст свою шаль…
Тетя Катя была младшей из трех дам, принадлежавших к тому возрасту, когда искрение сожалеешь всех замужних женщин и любишь утверждать, что не вышла замуж «из принципа». Она тотчас же сбросила шаль с плеч и протянула ее Стасику.
Эти маневры остались незамеченными двумя собеседниками. Шум парохода заглушал слова, а свежий морской ветер, «моряк», как любовно называют его матросы, дул прямо в рот разговаривающим. Оттого они слегка наклонились друг к другу, и мужчина положил руку на скамейку рядом со стройной спиною девушки, впрочем сидевшей очень прямо, не касаясь этой руки. Но все же она чувствовала эту руку и исходившую из нее нежность. Щеки ее, овеянные трепещущими, развившимися прядями темных волос, слегка побледнели. Он говорил: «посмотрите на это» или: «посмотрите-ка сюда», но в тоне его неизменно слышалось: «милая». Они были близки к той стадии бессмысленности, когда человек готов говорить, что взбредет на язык, ибо чувство уже делает свое дело за него, независимо ни от каких внешних пособников, — речи или взгляда. Две кошки, одновременно без спросу лакающие из молочной крынки, должны были бы по молчаливому соглашению чувствовать нечто подобное, если б только умели сознавать свои чувства.
Как раз в это время доброе дело трех дам вознаградилось полным успехом. Из трюма сперва выглянула озабоченная голова Стасика, тотчас же заметившего своего брата вдалеке с матросами и юркнувшего немедленно туда же. Вслед за ним — тяжело закутанная немолодая женщина, с нервическим и довольно неприятным лицом, державшая на руках грудного ребенка.
— В чем дело? — спросила она далеко не ласково.
— Голубушка моя, — ответила горбоносая дама, прибавив к этому обращению, вместо главного и придаточного предложения, только один взгляд, исполненный торжественности. Взгляд этот направлен был на разговаривающих мужчину и девушку.
Те сидели спиной к ним. Ни слышать, ни видеть происходившего они не могли. Тем не менее, по какому-то нервному предчувствию, мужчина обернулся, и девушка почувствовала, как рука, источавшая на нее тепло и нежность, вдруг стала совсем безразличной. Она вскинула на своего соседа два фиалковых, углубленных синевою, глаза и тотчас же опустила ресницы. Сосед ее с видом натянутой беспечности и неосознанного еще, но сильного внутреннего протеста, достал свой портсигар и выискивал в нем чересчур внимательно папиросу. Женщина с ребенком неторопливо подходила к ним обоим, подошла и села на ту же скамейку. Группа наблюдающих дам придвинулась ближе.
Молчание первым нарушил мужчина:
— Ты так крепко спала, Лиза, что я тебя постеснялся будить.
— Ну еще бы, — ответила женщина.
Она не сказала ничего больше, и в тоне, каким были произнесены эти слова, не слышалось ни вызова, ни насмешки. Тем не менее никто не рискнул больше произнести ни слова. Всем троим было отвратительно на душе: точно естественное течение их воли коснулось, как луч солнечный, чужой среды, в которой волей-неволей преломилось и должно было идти в другую сторону. Первой сдалась девушка; она пробормотала что-то вроде:
— Пойду оденусь потеплее, — и, медленно встав со скамейки, поплелась к лестнице. Ей казалось, что движение ног, складки юбки, разжатые ладони — все выдает трехчасовое, утомительно нежное пребывание с любимый человеком. Она испытывала почти невыносимый стыд. Проходя мимо трех наблюдающих дам, она инстинктивно сжала пальцы в кулаки.
— Куда это вы, Верочка? — крикнула ей преувеличенно громко тетя Катя.
— В каюту за пледом, — ответила девушка. Она спустилась вниз, в пустую каюту, заперла дверь на задвижку, села на постель, покачала головой и вдруг ткнулась лицом в подушку.
Вера была не умная и не глупая, а просто девушка, подобная миллиону других. Она влюбилась, как влюбляются, когда приходит пора влюбиться. Это было естественно и просто, подобно вскипанью пены на вот этих, зеленых волнах, бьющих в окно каюты.
Влюбленность девичья — совсем безобидная вещь. Верочка не испытывала ни боли, ни страсти, а просто, как губка, вбирала в себя чужую нежность и расцветала в ней. Она старалась быть ближе к ее источнику. Удаляясь, она звала на помощь воспоминанье и, закрывая глаза, мечтала — в тысячу первый раз — о том, что и как произошло во время встречи. Он посмотрел, он сказал, он улыбнулся, у него дрогнули тубы, она посмотрела, она ответила — и так до бесконечности. Несложные действия всегда прицепляли к себе кусочек ландшафта — синее, волнистое, долгое, как волны гекзаметра, море, пустынные берега Греции, рыжая труба парохода, острый соленый запах, мягкий говор матросов-греков, лай чаек, гуденье парового котла внизу, словно неумолчные перебои чьего-то сердца, — все примешивалось к воспоминанию, индивидуализировало его и делало особенным. Вера была убеждена, что это — ее судьба, выдуманная специально для нее.
Но, если так, — почему все останавливается поперек горла? Приходит гнусное чувство виноватости, потаенности, укрывательства, она теряет мечту и внезапно окунается в пошлость, каждая тварь на пароходе гнусно вмешивается в ее переживанье, ей не дают ни чувствовать, ни мечтать… Разве влюбляются по заказу? Кто виноват в том, что оба они полюбили друг друга? Естественное переходит в постыдное только потому, что между ними стоит недобрая чужая женщина, Елизавета Павловна, его жена.
II
Тот, кого она полюбила, Константин Михайлович, думал наверху не менее унылые думы. Как мужчина, он склонен был прежде всего обобщать, и потому ход его мыслей очень скоро оторвался от биографических частностей и перешел на социальную почву.
«У мусульман, — думал он с пылом реформатора, — у мусульман самый чистый взгляд на брак. Я не могу всю жизнь загораться от одной и той же женщины. Это… это нелепость. Это, честное слово, требует каждый раз новой женщины, как новой спички. Почему же меня, свободное существо, заставляют изо дня в день чиркать обгорелой спичкой, когда это все равно бесполезно? И почему, если я снова загорелся, я чувствую себя идиотски виноватым и считаю долгом притворяться? Фу, какая глупость!»
Чувство собственной правоты возбудило его до такой степени, что он расхрабрился. Он посмотрел на невзрачную женщину возле (ибо разлюбленная женщина всегда невзрачна) и угрожающим шепотом произнес:
— Не дури, Лиза. Тебя никто не просит расстраиваться. Что происходит, то происходит, и в этом, милая моя, я столько же виноват, сколько вот эти горы.
— По крайней мере, не оправдывайся, — с ненавистью ответила жена.
— Не к чему оправдываться, я и без того прав, — почти весело сказал муж. Он вдруг почувствовал себя перед открытой лазейкой: говорить все напрямик и делать по-своему, — чего там еще! Естественное направление воли снова победило в нем, и все на свете представилось очень легким. — Я прав! — повторил он еще убежденней. — Я тебя лично ни в чем не насилую и открываю свои карты: ну вот, гляди. Влюблен, влюблен и влюблен. Успокоилась?
— Отлично. А дальше что?
— Дальше пока ничего. Сделай милость, не порти себе молоко и не вмешивайся. (Он смягчился от облегчения и захотел сделать уступку.) Я тебя, милая, настолько уважаю и ценю…
— Мерзавец! — вскрикнула она. — Мерзавец, ты даже сам себе не представляешь, до чего ты противен. Лучше молчи и не изворачивайся. По крайней мере, за тебя не так стыдно будет.
Ребенок, разбуженный криком матери, проснулся и залился скрипучим, пронзительным плачем. Она машинально расстегнула жакетку, потом блузку и лифчик и спустила с плеча разорванную, обшитую шитьем рубашку. Муж увидел, как она выбросила поверх нее худую, обвислую грудь, без малейшего стыда и кокетства, и принялась кормить ребенка. Ему почудилось в этом сознание непреодолимой силы.
Так мог поступать только человек, за которым стояли закон, право и нравственность. Он почувствовал себя снова сбитым с пути, жалким, виноватым. Легкость исчезла, и все опять сделалось дьявольски трудным. Придется удрать куда-нибудь в сторону, лгать, притворяться, ко всякой радости примешивать искажающее ее чувство вины…
Точно отвечая на его мысли, жена произнесла уже спокойным и тихим голосом:
— Я тебя вижу насквозь. Тебе мало пакостить, ты еще хочешь чувствовать себя правым. Ошибаешься, этого ты не дождешься, пока я не умру и не умрет наш Толя. Слышишь?
Константин Михайлович слышал. Он чувствовал в голосе жены, матовом от наружного спокойствия, отчетливую и прочную ненависть. Странно, что человек, искренне его ненавидевший, всеми силами цеплялся за связь с ним и отстаивал ее, как нечто необходимое и священное. Еще страннее, что он в конце концов этому подчиняется или подчинится. Ему захотелось сбежать с этого парохода на шлюпке куда-нибудь в опустелые греческие рощи и начать жить сначала.
Три дамы, прекрасно слышавшие последствие своего доброго дела (ветер донес до них даже «мерзавца»), успокоились. Но вдруг тетя Катя, только что занимавшаяся сучком в глазу ближнего своего, взвизгнула и вопросила:
— Милые мои, где же Стасик и Казик?
Оба подростка сидели на грязных бочонках рядом с матросами и объяснялись с ними на международно-корабельном языке. Считая, должно быть, всякую неправильность речи основною грамматикой этого языка, они говорили им с воодушевлением:
— Твой не будет воевать, а мой будет!
Один из матросов счел долгом засмеяться, повертеть в воздухе рукой и щелкнуть пальцами. В эту минуту раздались угрожающие крики:
— Казик! Стасик!
Мальчики подошли один за другим к матери.
— Как вы смели без позволенья?
— Мама, — вступился Стасик, — если б ты видела, — они татуированные. А что они рассказывают!
— Сейчас будет Коринфский канал! Тут на постройке сорок тысяч рабочих погибло! — закричал Казик, поддерживая брата и делая самое «наивное» свое лицо.
— Что за канал? — умиротворяясь, спросила мать.
— Коринфский, мамочка!
Подошел толстый, красный капитан и на ломаном французском языке объяснил, что действительно сейчас будет Коринфский канал, замечательнейшее сооружение Греции, — «энорм э жигантеск».[2] Весь перешеек прорыт с одного конца до другого. Стены почти вертикальны. Множество рабочих погибло. Укоротило путь намного. Настоящее золото для пароходного сообщения!..
Дамы вооружили глаза кто чем мог. Из каюты появилась бледная Верочка с пледом на плечах и с несомненными следами пудры возле носа. Подростки забегали по палубе, как безумные, крича по адресу неосведомленных: «Коринфский канал! Коринфский канал!» Греческий князь, снова принявший пластическую позу, с улыбкой хозяина поглядывал вперед.
Пароход пошел тише; биение его сердца под палубой как будто замедлилось. Узенькие каменные воротца, с голубым просветом вдали, открылись перед ним, и вот он поплыл по аллее, справа и слева окаймленной почти отвесными каменными стенами. Внизу вода была тише, темней и молчаливей, как в заводи. Чайки исчезли. Наверху синело безоблачное небо. Все примолкли и с интересом разглядывали отвесные бока канала.
— Ай, человек! — закричал вдруг Стасик.
И в самом деле, на головокружительной высоте, над ними, прямо на стене, как муха, висел человек и орудовал молотком.
— Он держится особыми железными клешнями, — объяснил капитан и показал рукой на ноги. Пассажиры увидели в сплошной высокой стене отверстия, похожие на звериные норки, а на ногах рабочего железные острия, которые он втыкал в эти отверстия; за кожаный ремень его держала цепь, свисавшая откуда-то сверху.
— Новейший Прометей, — произнес Константин Михайлович.
— Скажите, капитан, он не может свалиться? — спросила Верочка.
— Если только цепь снимет. Но он этого не сделает.
…Тихо-тихо прошел пароход мимо работающего человека. А там дальше висели еще две мухи и ремонтировали каменные ребра канала. Минуты текли, аллея сузилась сзади, как и спереди, и все еще казалась бесконечной, но уже с двух сторон. Вот над ними, с одной стены канала на другую, вознесся мостик. Воздушный контур его сперва показался в профиль, а потом сник. На мосту стоял человек с флагом и отсалютовал им в знак благополучия. Они двигались и двигались.
— Глядите, — раздался вдруг взволнованный голос Казика, — вон стоит новый человек и без цепи!
Действительно, вдалеке держался на стене работник, откинув голову кверху. Цепи на нем не было.
— Что-нибудь понадобилось ему сверху. Сейчас ее спустят, — сказал капитан.
— Он зашевелился. Глядите, глядите, он сейчас свалится!.. — не без восторга информировал Казик. Капитан улыбнулся. Дамы глядели. И вдруг случилось непонятное и недопустимое событие: рабочий, как тяжелая капля, сорвался с места своего притяжения и капнул в канал. Это длилось секунду. Падая, он не задел за стену. Видно было, как в падении он очертил дугу, сперва пролетев головой, а потом грузно свиснув вниз ногами.
— Клешни! Отцепи клешни! — заревел капитан по-гречески. Дамы начали кричать на полсекунды позже, заглушив его голос своим визгом.
— Он погиб, если не догадается сбросить железо, — глухо сказал капитан по-французски и добавил по-гречески матросам: — Спустите шлюпку!
Те уже делали свое дело, не дожидаясь его приказа. Дюжина рук молчаливо работала. Видеть, как по сумрачной глади канала пошли круги от канувшего в нее человека, и бездействовать, — было мучительно. Верочка с ужасом, отчасти преувеличенным ее собственным переживанием, схватилась за виски. Константин Михайлович между тем был обуреваем мыслями и чувствами, столь молниеносно-торопливыми, что он не успевал отдать себе в них отчета. Ни одна не доходила до ясности, не додумывалась, но в смутном и неопределенном наплыве их Константину Михайловичу мерещился все же только один смысл. Прежде чем спустили лодку, он вдруг сбросил пальто и пиджак, подбежал к борту и перекинул через него ногу.
Тут, мой читатель, вы, разумеется, подумаете, что герой этого рассказа спасет рабочего, или погибнет с влюбленной Верочкой, или, по крайней мере, хлебнет темно-зеленой воды канала. Но… в том-то и дело, что читатель ошибется по всем пунктам.
Мы оставили Константина Михайловича с ногой, перекинутой через борт. Что же делали в это время другие действующие лица? Елизавета Павловна продолжала кормить маленького. Она видела падение рабочего и жест своего мужа, но, зная свое бессилие, осталась спокойной: ей надо было сделать свое дело — накормить ребенка, и она кормила его, закрыв глаза. Верочка мельком убедилась в этом чудовищном спокойствии, и оно погубило ее. В глубине души она не испытывала особенного ужаса; любовь не была ощутительна так, как утром, когда за любовь говорила эмоция; ничто не могло бы толкнуть ее на слишком возбужденный поступок, если б некоторая взвинченность, присущая людям именно в те минуты, когда они чувствуют слабее и бледнее прежнего, не охватила ее воображения. Слабо вскрикнув, с оттенком театральности, она бросилась к Константину Михайловичу и судорожно уцепилась за его плечо.
В ту же минуту ей стало ясно, что она совершила ошибку. И оттого она вскрикнула вторично, на этот раз уже с неподдельным отчаянием.
— Не беспокойтесь, — сказал капитан, подходя к ним и показывая куда-то пальцем, — он сбросил железо и уже фыркает, как собака. Вон он плывет, — сейчас его подберут в лодку.
Константин Михайлович и Верочка остались вдвоем у борта и поглядели друг на друга. Каждый из них испытывал такое чувство, как если б, имея только целковый, съел в ресторане на пять рублей. Это была унизительнейшая минута расплаты. Оба они перехватили! Он перехватил, когда ринулся за борт. Она перехватила, когда бросилась к нему. То и другое унижало их своей неестественностью. Они рылись, рылись из всех сил, если не по карманам, то в сердцах, чтоб найти, наскрести там еще немного любви, чтобы набрать хоть необходимой мелочи. Но эмоция спряталась, нежности не было, и между ними повеяло холодком незнания друг друга. В сущности, кто он ей и кто она ему? В ее крике почудился ему совсем чужой и неизвестный человек.
Но ни тот, ни другая не имели мужества сознаться а своих чувствах. Они продолжали лгать.
— Милая, вы так испугались за меня?
— О, как вы могли!
Это звучало в полном соответствии с минутой и обстановкой. Но последняя лишняя трата окончательно перегрузила их маленькую наличность, и любовь, — еще утром казавшаяся стихийной, — объявила банкротство. Ей уже было неловко, ему уже хотелось быть поближе к спокойной Елизавете Павловне, — и вся история начинала казаться отяготительной.
Здесь и конец моей сказке. Пароход вышел из Коринфского канала и задымил дальше, везя наших героев к далекой родине, к событиям, газетным и действительным, к тому, что принято называть «мировым» и что на самом деле, если поглядеть в корень, — не так уж далеко ушло от описанной мною маленькой «частности».
1919Примечания
Впервые в сб. «Перевал». Екатеринодар, издание газеты «Утро юга России», 1920. Вошел в сб. «Избранные рассказы». Л., «Прибой», 1927. Сама М. Шагинян указывает: «Коринфский канал», «Темная комната», «Единственный», «Где я?» писались в первые годы революции на Дону…»
1
В виде контраста, как противоположность (лат.).
(обратно)2
Грандиозное и гигантское (фр. — enorme et gigantesque).
(обратно)
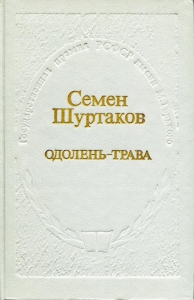


Комментарии к книге «Коринфский канал», Мариэтта Сергеевна Шагинян
Всего 0 комментариев