Книга первая МЯТЕЖ
Глава первая
1
Холод, мерзость, трусливый шепоток — губернский город Тамбов, март восемнадцатого года.
С воем и лихим посвистом гуляет по улицам ветер, несет хлопья мокрого снега, срывает бумагу со стен и рекламных вертушек, — клочья ее точно птицы, носящиеся в сыром, холодном воздухе. Редкие электрические фонари бросают неровный желтоватый свет на лужи, на оголенные уродливые сучья деревьев, на мокрое железо крыш. Громыхают водосточные трубы, гудят телефонные столбы.
И все падает и падает снег; хлипкое месиво толстым слоем покрывает тротуары и мостовую.
Обыватели сидят дома, на тяжелые щеколды заперли двери, дубовыми ставнями закрыли окна, спустили злых псов с цепей.
Но только ли холодный, визгливый ветер словно бы вымел улицы Тамбова? Не слухи ли, носящиеся по городу так же буйно, как носится из конца в конец улиц буран, в этот тревожный вечер загнали господ чиновников, купечество, дворян и мещанство тамбовское в прадедовские норы, не страх ли опустил тяжелые щеколды на двери и прикрыл дубовыми ставнями окна?
С тех пор как с престола стащили последнего недотепу из дома Романовых, господам чиновникам, дворянам, купечеству и мещанству жилось, пожалуй, даже вольготней, чем при его императорском величестве. Конечно, разговоров о революции, свободах и жертвах во имя «священного долга перед союзниками в эту трагическую минуту» хоть отбавляй. А во всем прочем? Во всем прочем Александр Федорович Керенский и его министры оказались вполне «своими».
Господ чиновников оставили на своих местах, и они по-прежнему строчили бумаги в грязном здании Тамбовского губернского присутствия; судьи судили по императорским законам, купечество торговало, слава те господи, без всякого утеснения и имело преогромные барыши. Поставляло оно армии полусгнивший товар, загребало миллионы и напропалую кутило в ресторациях. Мещанство тоже проживало в достатке и несло свой вклад «в священное дело земли русской». Духовенство умилительно кадило фимиам ради священных интересов капитала-батюшки и тоже не медяки получало; помещики таили мечту получить за землю добрые денежки.
Когда до Тамбова донеслись залпы «Авроры» и здесь узнали, что большевики взяли власть, а Керенский дал тягу, переодевшись в бабье платье, обыватели задрожали. Однако тучи пронесло, и небо очистилось. В Тамбове большевиков, мол, по пальцам пересчитать; где уж, мол, им захватывать власть, если во всех управлениях крепенько сидят милые сердцу эсеры и безвредные меньшевички! Да и куда большевикам против всей России! Нет, не долго засидятся они в Питере!
Но месяц шел за месяцем, а большевики сидели, и не только в Питере. Впрочем, эсеры к меньшевики тоже прочно окопались в Тамбове: меньшевики верховодили тоненькой пролетарской прослойкой, кадеты — интеллигенцией, эсеры распоряжались умами деревенской верхушки.
Большевики? Считалось, что есть у них кое-кто в самом Тамбове, в Усмани и Козлове, но главной занозой для эсеров и меньшевиков был оборонный сорок третий завод, где большевистская ячейка выросла как гриб из-под земли и начала отважную борьбу с эсерами, втянув в нее почти поголовно всю пролетарскую громаду.
Это сорок третий завод, когда еще о большевистском перевороте только носились слухи, вышел на улицы Тамбова — тысяча человек — со знаменем, на котором было написано:
ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!
2
Однако эсеры были куда дальновиднее тамбовских обывателей, убаюкивающих себя розовыми мечтаниями. Еще не успели замолкнуть… выстрелы красного крейсера на Неве, как эсеры, поняв, что у власти им не удержаться и дни их сочтены, бешено начали готовиться к подпольной борьбе и устремились туда же, откуда их вынесло, — в деревню, поближе к кулакам. Туда они везли и прятали на хуторах прокламации, укрепляли свои ячейки, оружие шло в потайные места, известные лишь тем, кому было поручено воткнуть нож в спину революции.
Всю зиму восемнадцатого года и вплоть до марта эсеры судорожно цеплялись за власть, не переставая укреплять обширное и глубоко спрятанное подполье, но делали вид, что вое в порядке, и ходили, задрав носы. Обыватели, глядя на них, осмелели, над горсткой большевиков издевались, прочили скорую погибель Совдепам — тем более неслись ободряющие вести с юга, где белые генералы готовили поход на большевиков.
И вдруг точно бурей пронеслось по Тамбову: большевики готовят переворот и не собираются церемониться ни с эсерами, ни с заговорщиками любой масти.
Вот почему крепко-накрепко заперты двери и ворота, вот почему закрыты окна дубовыми ставнями и спущены с цепей злые псы. И лишь ветер носится по улицам да патрули возникают из тьмы и во тьме расплываются.
3
На Тезиковской улице — хоть глаз выколи. Фонари давно погасли, прохожих не видно, собаки истошно воют в кромешном ночном мраке, с луга, что за речкой, тянет резкий мартовский ветер, продувает глухую улицу насквозь.
Высоким забором отгородился от любопытствующих глаз особняк на самом краю улицы, большой, мрачноватый, с едва приметной дощечкой, прибитой на калитке: «Уполномоченный Петроградской конторы Автогужтранспорта Федоров».
Ставни прикрыты, ни полоски света, мертво, глухо, словно давно спит уполномоченный и его семейство. Но это только кажется — не привыкли здесь ложиться рано.
В гостиной на плюшевом диване сидит и ждет хозяина человек. Он невелик ростом, худощав, губы толстые, бледные, скулы выпирают на лице землистого оттенка, ввалившиеся совиные глаза смотрят рассеянно, глубокие провалы синеют на висках, руки узкие, одежда полувоенная: френч, галифе, щеголеватые хромовые сапоги.
Двенадцать лет отбыл Антонов на каторге, был вспыльчив, сутками просиживал в камере вот так же, как сейчас, уронив руки на колени, уставившись в одну точку невидящими глазами, думая о чем-то своем.
О чем думает он теперь? О сегодняшней ли жизни? О вчерашних ли днях своих?
В каторжной тюрьме дружил Антонов с Петром Токмаковым — в один день и за одни дела судили их в Тамбове, в одной партии каторжан отправили в Сибирь, в одну тюрьму они попали. Худой, желтолицый Петр Михайлович, с бритым черепом, сам страстно любил поговорить о политике и спорщиков, — а их немало было рядом, — любил слушать, хмуря высокий костлявый лоб, призакрыв узкие глаза, в которых светился холодный и злобный ум. Часто Токмаков бранил приятеля за дикость.
Антонов ухмылялся.
— Вот будет революция, приедешь опять в свой Кирсанов, что с собой привезешь? Какой багаж? Много ли ума набрался здесь? А ведь тут, Александр, университет можно пройти.
— Революция! — Антонов пренебрежительно отмахивался. — Будет революция, буду знать, что делать. Университет! Мой университет — жизнь. Жизнь научит, жизнь подскажет, что делать. Впрочем, кое-что надумал.
— Что надумал?
Антонов молчал.
Токмаков свирепо тряс его, шипел:
— Мне не веришь? Во мне сомневаешься? Вспомни, сколько лет друг друга знаем! Да ведь врешь, Александр Степанович, ничего ты не надумал. Думал ли ты, — продолжал Токмаков, — о партии? Всю жизнь плавал, как в луже, шатался туда и сюда…
В юношеские годы занесло Антонова, сына кирсановского слесаря, в Питер на рабочую окраину по Шлиссёльбургскому тракту, слушал речи социал-демократов, но вскоре это надоело ему. Он мечтал о бунте, о бунте немедленно, чтобы весь режим с царем, армией, тюрьмами и капиталом полетел вверх тормашками, а его, Антонова, на гребне волны вознесло бы до самых верхов. Какая волна могла поднять его, об этом не раздумывал. Кому служить, за что драться, что делать, когда вознесет его на «верхи», было это Антонову безразлично, лишь бы бунт, лишь бы удальство свое показать, лишь бы вознестись!..
Питер ничем не прельстил парня, привыкшего к деревенской жизни, и вернулся он в родной Кирсанов — городом он только назывался, большое село, только и всего. Здесь Антонов окончил учительскую семинарию, в ней сошелся с эсерами, там же познакомился с Токмаковым, кое-как проучительствовал год в селе, а потом понесло его ветрами по губернии. Был он писарем волостного правления в селе Дворики, но быстро оттуда удрал. Встречали его в Тамбове на каком-то заводе.
Недолго задержался здесь Антонов. Он возненавидел душные цехи, шум станков, скрежет металла. Работа по двенадцати часов в день пугала его и отталкивала. Город казался ему страшилищем — таким же, как Питер, только в малом размере: пыльный, грязный. Он не разбирался в глубинах этой жизни, да и не хотел разобраться. Все тут было ему глубоко чуждо: весь уклад жизни пролетариев, дух этого класса, думы и помыслы рабочих, их непреклонная уверенность в том, что именно они свалят царский строй и будут хозяевами страны.
И понимал Антонов, что среди этой спаянной своими кровными интересами массы ему не будет места и на волне пролетарского восстания ему не подняться. Он пришел на завод чужим, чужим и остался, не сроднившись с соседями по работе, ни с кем не подружившись. Люди косо посматривали на Антонова, его путаная болтовня претила им, они тотчас разгадали, что за птица перед ними…
И бежал Антонов в село, где все было привычное, свое, понятное, где мог он мечтать вылезти в вожаки «серой мужицкой скотинки»; впрочем, ее он тоже презирал. Когда же объявились в губернии «вольные степные братья» с сильным эсеровским душком, Антонов примкнул к ним. Вот где можно было развернуться его бесшабашной натуре, погулять, пограбить, пожить, как душе хочется… Жил он в лесах и лощинах, в землянках, вырытых на скорую руку, холодными зорями сиживал в засадах, поджидая урядника, стражника или станового пристава, чтобы либо прикончить зазевавшегося полицейского, либо избить до полусмерти, отнять оружие, обмундирование и пустить шагать до дому в чем мать родила.
И где бы он ни шатался, всегда таскал в кожаной сумке приключенческие романы и описания жизни великих людей.
Заманчивой показалась ему потом, когда эсеры, организовавшись, начали террор, кровавая дорожка боевиков: налеты, засады, «грабь награбленное», «смерть палачам», с громадными жертвами убиваемых и с бесконечной легкостью заменяемых новыми палачами.
Бесилась, играла и бушевала молодая кровь. Полыхающие в ночи пожары, погони и тайные пристанища, запах динамита, веселая, разгульная и бесконтрольная жизнь…
Однажды Антонова поймали. В камере, холодной и промозглой, остыла кровь; Антонов понял: игра окончена, надо расплачиваться за то, что было.
Его судили в пасмурное осеннее утро девятьсот шестого года. Плешивый старик судья спросил Антонова:
— Во имя чего вы убивали и грабили?
— Во имя революции, — горделиво ответил Антонов.
— А вы знаете, что это такое — революция?
— Получше, чем вы, надо думать, — прозвучал резкий ответ.
— К какой партии вы принадлежите?
— Я эсер.
— Значит, вы пошли к эсерам, чтобы убивать и грабить?
И укатали его на двенадцать лет.
Иногда Антонову казалось, что он действительно зря полез в эту кашу, порой верил, что вдруг вспыхнет пожар и он будет одним из героев.
И вдруг перестал дичиться, начал вслушиваться в разговоры политических каторжан, спорил с ними, из обрывков чужих мыслей плел свои бестолковые планы и честолюбивые мечты.
Он повеселел, часто слышали его смех и пение.
Петра Токмакова отправили в другую тюрьму. Антонов заскучал, затосковал… Глаза ввалились еще глубже, еще явственнее проступили скулы на щеках, обтянутых серой кожей, он часто впадал в хандру. Мечты разлетались прахом, ничто не радовало его. На Руси серая тишь, никаких вестей о грядущем бунте, тюрьма угнетала и давила Антонова, побеги не удавались.
Он снова замкнулся в себе.
Как-то зимой после работы к Антонову подсел сосед по нарам — путиловский рабочий из Питера, большевик. Был Путиловец, как его называли политические и уголовники, маленьким, сухоньким, но жилистым человеком, в руках имел огромную силу: сожмет ладонь — хоть вой; ударит легонько — останется синяк.
— Я сам о себя ушибаюсь, — смеясь, говорил Путиловец. — Иной раз захочу комара поймать, хлопну рукой по лбу — в глазах темнеет.
Его Антонов уважал, как каждого сильного человека. К тому же Путиловец был честен, прям и пользовался у товарищей неоспоримым авторитетом. Даже начальство его остерегалось.
— Ну что, все молчишь?
— Не привычен болтать, — резко ответил Антонов. — Да и что толку? Толчете воду в ступе. Ты свое, вон тот, в очках, свое. Меньшевик, большевик, а на поверку — глупости одни.
— Ты, парень, слыхал о таком человеке — Ленин кличется?
— Слышал.
— А я его и слышал и читал. Не чета он вашим брехунам. Так-то.
Антонов пренебрежительно отмахнулся. Путиловец курил едкую махру, лиловый дым плыл над нарами.
— Все истину ищете? — зло сказал Антонов. — Вот сколько тут людей, столько и истин. Спорите до хрипоты, царскому режиму разные смерти выдумываете, а он живет и не думает умирать. Нас с вами переживет.
— Но?
— Вот и «но».
— Переживет?
— Нечего смеяться. Царь — это, брат, сила! У него вон они, кандалы-то, — Антонов звякнул железными цепями. — А вы слова разные выдумываете. Плетью обуха не перешибешь.
— Ну научи, скажи, как бы ты его перешибать стал, а? — Путиловец искоса посмотрел на Антонова.
— А я бы по-другому попробовал. Поднять бы всех мужиков на бунт, вооружить их гранатами и винтовками и скопом навалиться на царя.
— Да ведь мужик мужику — рознь, — усмехнулся Путиловец в жиденькие седые усы. — Кулаку нужна земля и власть. Какой ему расчет идти на царя? У мужика победнее другая думка, а совсем бедные, надо полагать, свое в голове держат.
— Это верно, — охотно согласился Антонов. — Но на царя и помещиков ради земли пойдут все. — И тут ему припомнилась вскользь брошенная Токмаковым мысль насчет объединения всего крестьянства. — Да ведь и то скажу, — оживленно заговорил он, — плохо ты знаешь мужика, приятель. Кулак! Словечко хлесткое, а что оно означает? Я кулаков у себя на Тамбовщине видел… Такой мужик оттого голытьбой в кулаки произведен, что у него в руках земля. Землю без ума не достать, для того денежки нужны, а они сами в руки не полезут. Кулак — умный человек, прижимистый, это так. И насчет помещиков у него одна думка со всеми одинаковая, и пойдет он против бар, вот увидишь.
— А потом? — издевательски спросил Путиловец. — Положим, дойдут мужики до конца, свалят царя, помещиков, что тогда предъявит мироед? Не сожмет ли в кулак всю деревеньку, не подомнет ли под себя и не совсем бедных и тех, кого ты величаешь голытьбой? И не выйдет ли в помещики с новым, пожалуй, куда пострашнее, обличьем?
— Ну, там посмотрим, — уклонился от ответа Антонов, потому что о том, что будет «потом», после всеобщего мужицкого бунта, он не думал. — Главное, всех трудовых мужиков объединить и поднять на царя.
— Без рабочих, стало быть, хотите с ним управиться? — не без ехидства вставил Путиловец.
— Рабочие! — Антонов презрительно поджал губы. — Тоже мне сила! Россия страна мужицкая. Мужик у нас главная фигура, а не городской обормот. Рабочие! — все с тем же высокомерием продолжал он. — Помогут — ладно, нет — без них управимся.
— Конечно, — раздумчиво отвечал Путиловец, — конечно, рабочий мужику поможет. Только какому? Как вода с маслом не сливается, Саша, так никогда рабочий не соединится с кулаком. И никогда мы не допустим, чтобы кулак все село под себя подмял и стал на Руси полновластным хозяином. Да и не свалите вы царя без нашего брата пролетария, в какой бы союз мужиков ни собрали. Ведь в этом союзе кулак тотчас верх возьмет, и пойдет между вами свара… Это истина, парень. Вспомни бунты разинские, пугачевские, вспомни, как раздавили мужика в шестом году, когда он не смог соединиться с рабочими. И помяни мое слово: только рабочий класс способен сделать то, о чем ты думаешь. Среди нас нет мироедов и бедноты. Мы сами сплошная беднота, пролетарии. Мы работаем на фабриках и живем кучно, у нас одна цель и одна партия, и дорога у нас одна. И по-другому рабочий класс будет делать революцию.
— Это на два члена — три комитета? В лесочке в кружочке читать листочки? — Антонов издевательски хихикнул.
— Стой, парень! Нас в девяносто восьмом году на заводе было таких вот, что в лесочках в кружочках собирались, человек восемь. А в пятом году оказалось более двух сотен. Да люди-то какие? Разве тебе ровня? Мне вот, — Путиловец снял очки и протер стекла, — мне пятьдесят лет, а я на тридцать восьмом году грамоте выучился. Чуешь? Не сижу сычом, как ты, не тоскую по зорям, а учусь. Может быть, пригодится! Ты слушай, парень, что кругом делается! Во всех местах наш голос звенит — вот они и лесочки-листочки, вот и комитеты!
— Ну, твоими бы устами мед пить! — весело бросил Антонов. — Посмотрим, дедушка, чья возьмет!
…И вдруг грянуло! Дорога на родину — сплошные цветы, песни, кумач, восторженные лица людей.
В Тамбове на благотворительном вечере Антонов торговал кусками кандалов; жирные пальцы, унизанные перстнями, лезли в тугие бумажники, бросали сотенные. Антонов думал: «Дорвались и мы до жизни! Эх, теперь бы не зевнуть, самое времечко банк сорвать!»
Ходил в те дни Антонов гоголем, слава кружила голову, присматривался — кому бы продать свою удаль и молодечество. И те наверх лезут, и эти вроде не на запятках… Антонов отдал бы себя любому хозяину без оглядки, лишь бы хапнуть власти, лишь бы побольше почета!
«Вот, — думал он, — настрадались, натерпелись, отвоевали свое счастье!»
Он видел, как пошли в гору его приятели: одни в министры, другие в товарищи министров, третьи захватили местечки повидней, посытней, попочетней. У всех вчерашних однокашников порозовели щеки, ходить они стали не спеша, у некоторых появились животики, и разговаривать стали они по-иному: что ни слово — торжественность, победоносность, величавость.
Приятелям, которые еще не успели ухватить что-нибудь повидней, конечно, кланялись, но разговаривали с ними снисходительно. Все им некогда, недосуг, спешка, государственные заботы!
Иных и совсем не узнать: черт его знает, весь век в штатских числился, а тут френч сшил, галифе, сапожки, наган у пояса. Генерал? Полковник? Главный комиссар?
И в партийных газетах — одно ликование: «Мы, партия социалистов-революционеров», «Мы, верные рыцари революции», «Победоносное и свободное воинство русское», «свобода», «власть», «земля» и бесконечное «ура», «ура», «ура».
Антонов дрожал от этого грохота, блеска. Думалось: «Ого! Быть и мне комиссаром в губернии. А там и дальше махну — в Питер, командовать, быть на виду! И мы прогремим!»
Знал Антонов, что большевики, которых он считал ни к чему неспособными, гордо подняли голову, слышал, как рабочие Питера встретили Ленина, читал в своих газетах злобную ахинею о большевиках, опиравшихся на тех же самых пролетариев, которых не понимал, боялся, ненавидел — слишком быстро раскусили они его.
«Возьмут верх, — думалось ему, — крышка нам — и прости-прощай мои мечты!»
И вдруг действительно все мечты к чертовой матери: назначили Антонова в Тамбов начальником второго района милиции.
Насмешка, издевка! Говоруны на виду, говоруны у власти, в губернии и в Питере, а ты-де, серая скотинка, и в милиции хорош будешь. Вот так власть — воров лупить!..
Почти год сидел Антонов в милицейской части, подписывал, не глядя, протоколы, сжав зубы, бил жуликов, ходил на митинги и, усмехаясь, слушал речи о свободе и равенстве.
Сегодня начальник губернской милиции, член губернского комитета эсеров Булатов приказал явиться в этот дом на Тезиковской, а зачем — неизвестно. Целый час ждет Антонов начальство. В доме тихо, за окном — ветер и снег.
Монотонно, тоскливо тикают часы, гнетут тревожные мысли…
4
Ветер с силой ударил в ставню. Антонов вздрогнул и очнулся от раздумья. Часы пробили десять раз. Александр Степанович огляделся. Гостиная, где он сидел, скорее походила на музей из-за обилия фарфора, живописи, скульптуры и других произведений искусства, ценность которых не ускользнула даже от рассеянного внимания Антонова.
Потом два раза мелодично прозвучал звонок, запели двери, и Антонов услышал, как в прихожей, отряхиваясь и отфыркиваясь, раздевались люди. Через минуту вошел хозяин.
Худощавое, матово-желтое лицо его дышало покоем, глаза смотрели слишком пристально и настороженно, слишком красивые губы оттенялись белокурыми, тщательно подстриженными рыжеватыми усиками. Он был высок, строен, гибок и выглядел молодо, если бы не лысина, которую не могли скрыть редкие, до блеска прилизанные и зачесанные на косой пробор волосы.
Антонов подивился его одежде. И впрямь, хозяин выглядел так, словно только что вернулся с бала в Дворянском собрании. Щеголеватый, модный в те времена френч, ослепительной белизны сорочка с накрахмаленным стоячим воротничком, перстни на руках. Лишь бриджи, туго обтягивавшие ляжки, высокие коричневые сапоги с шнуровкой напереди давали знать, что обладатель нижней части наряда был не на балу, а скорее упражнялся в верховой езде.
Таков был хозяин дома, большой любитель лошадей, адвокат.
Он вошел в гостиную быстрым шагом, похлопывая по сапогам стеком с литым из серебра тяжелым набалдашником, распространяя аромат тончайшего одеколона, смешанного с запахом конского пота, приветливо кивнул головой Антонову и бархатистым голосом пропел:
— Извините, задержались. Сию минуту, сию минуту! — И скрылся за дверью.
Следом вошел начальник губернской милиций Булатов — широкоплечий здоровяк с веселым лицом, черный как цыган. Он шумно, по-братски поздоровался с Антоновым, потом обернулся к человеку, одетому в тонкую, синюю, ловко скроенную поддевку.
Тот скромно стоял у входа, едва не касаясь притолоки крупной, несколько удлиненной головой, покрытой серебрящейся щетиной. Лицо его, суровое и надменное, с жестокими, резкими чертами, словно было высечено из темного камня сильным и смелым резцом. Высокий, с медным отливом лоб, черные блестящие глаза, сидевшие в глубоких глазных пазухах и прикрытые густыми ресницами, изобличали в нем недюжинный ум, а дерзкий и вызывающий взгляд из-под лохматых смоляных бровей — смелость и решительность. Подбородок у него был тяжелый и свидетельствовал о наклонностях властных; сивые плотные усы росли по-казацки вниз, не закрывая сочных, моложавых губ, из-под которых виднелся ровный ряд кипенно-белых острых зубов.
— Ну, узнаете? — сказал, смеясь, Булатов, обращаясь то к Антонову, то к человеку, стоявшему в дверях.
— О господи, да это никак ты, Петр Иванович! — после минутного колебания обрадованно вскричал Антонов и, вскочив с-места, подошел с протянутыми руками к тому, кого назвал Петром Ивановичем.
— Он самый, Александр Степаныч, — басовитым голосом ответил Петр Иванович. — Оно и верно сказано: гора с горой не сходится, а человек… Поди, годов пятнадцать не видались… Слышал, на каторге побывал? А впрочем, в обличье перемен вроде и не примечаю. Только будто посурьезней стал. А то бывалыча-то все вприпрыжечку, вприпрыжечку, словно тебя бурями носило.
От этой характеристики, произнесенной тоном вполне дружеским, Антонов чуть-чуть поежился. Он не любил, когда ему напоминали о легкомысленной молодости. Однако, не приметив и тени насмешки, обнял Петра Ивановича, и они троекратно поцеловались. Потом Антонов отошел от него, оглядел с ног до головы и с добродушным смехом заметил:
— А ты, брат Сторожев, богатырем стал. Знал тебя поджарым парнем, волчонком эдаким, а теперь, поди-ка, сколько важности!
Сторожев понял, что «волчонок» подпущен в ответ на «припрыжечку» — так его называли в Двориках.
— Волчонок в волка вырос, — как бы нарочно наступая на самую больную мозоль Сторожева, с хохотком вставил Булатов.
С тех пор как Петр Иванович вышел в люди, его стали называть не волчонком, а волком; Сторожев всякий раз рычал, когда слышал за спиной прозвище, крепко-накрепко приставшее к нему. Он нахмурился.
— Петр Иванович с самого Февраля из начальства не выходит. Был у Керенского волостным комиссаром, в Учредилку его выбрали и теперь комиссаром волости ходит, — в том же добродушно-ироническом тоне продолжал Булатов. — Личность, Саша, во всем Тамбовском уезде известная, уважаемая, перед ним вся округа шапки ломает, учти.
— То есть как это комиссар? Большевикам служить собрался? — со злостью переспросил Антонов. — По городу грохот идет, будто они вот-вот все в свои руки заберут и советскую власть поставят. Помочь им не хочешь ли?
— Э-э, Александр Степаныч, что уж там… Чья бы корова мычала, — с веселой нотой проговорил Сторожев, присаживаясь на кончик стула. — Ты ведь тоже туда-сюда мотался!
— Да ну вас к чертям! — дружески прикрикнул на них Булатов. — Кто старое помянет…
— Так ведь не я на него кинулся, — смущенно оправдывался Сторожев. — Да ведь Александр Степаныч, помнится, всегда задирой меж нами слыл.
Булатов шумно рассмеялся, и Сторожев тоже.
— Ни черта не понимаю! — раздраженно бросил Антонов. — Какого дьявола вы ржете? Чего тут веселого, в самом деле? Был человек нашим, таким я его в молодости знал, а теперь хочет с большевиками заодно.
— Не с большевиками, а с коммунистами, — степенно поправил его Сторожев.
— Какая разница? — возмущался Антонов.
— Все-таки имеется, — неопределенно ответил Сторожев.
— Пошел ты!..
— Да брось ты фырчать, мартовский кот! — остановил Антонова Булатов. — Что бы ни случилось, какая бы власть ни оказалась в губернии, и в ней должны быть наши люди. Как же иначе?!
— Вот именно, — подтвердил Сторожев.
— Ну, с этого бы и начинали, — проворчал Антонов. Помолчав, он спросил Сторожева: — А кстати, где теперь Флегонт Лукич, черт бы его побрал?
— На высоких, слышь, должностях.
— Ну, а братец твой Сергей? Он, слышал, в матросы пошел?
Сторожев хмуро повел бровями.
— Этот в дядьку удался — большевик. Не ныне-завтра в село ожидаем. — Скулы Сторожева покраснели от злости.
Антонов обратился к Булатову, читавшему газету.
— Что нового?
— Погоди малость, все узнаешь, — пробормотал Булатов, не отрываясь от газеты.
Открылась дверь, в ней показался хозяин.
— Петр Иванович, любезный, будь добр, повремени минутки три, а потом зайди ко мне. — И захлопнул дверь.
— Какие у тебя дела с ним? — полюбопытствовал Антонов без всякого, впрочем, интереса.
— Да так, мелочишка, — солидно поглаживая усы, отозвался Сторожев. — Купчую надо составить. У соседа нашего, помещика Улусова, — помнишь такого? — землю прикупил округ Лебяжьего озера. Ну, хозяин-то, — Сторожев кивнул в сторону двери, — старый наш знакомец, бумагу обещал составить. — Он помолчал. — Господин Улусов, как из земских начальников его поперли, в прах разорился. Оно и понятно: без ума хозяйство на корню гниет.
— А ты, стало быть, тут как тут? — с ехидством спросил Булатов, подмигнув из-за газеты Сторожеву.
— Должность должностью, а землицу, значит, к рукам прибираешь, — в тон ему, с насмешкой отметил Антонов. — Помню, давненько ты начал землицей заниматься… Торопишься, Петр Иванович, торопишься. Оно и без купчей земля ваша будет.
— Хм! — произнес Булатов. — Чья, собственно?
Антонов не нашелся что ответить, а Сторожев сказал веско:
— Это точно. Земля должна быть нашей. А я так полагаю, что у доброго хозяина и земли должен быть добрый кус. Все течет, все плывет, земля землей остается. Да и то сказать, на кой ляд она голытьбе? Чем ее пахать, чем сеять, откудова навоз брать? Из-под кобеля нешто? А у меня и машины, и лошади, и коровы. А то ведь эк чего выдумали: слово «мое» под корень подрезать! А на нем мир с испокон веков держится. Нет уж, что мое — мое! Тем более ежели за землицу денежки заплачены. Стало быть, все по закону. — Он поднялся и неторопливо, сутулясь, прошел к хозяину.
Булатов отбросил газету, закурил короткую трубочку, бросил спичку в пылающий камин, подсел поближе к Антонову и приглушенно заговорил:
— Хозяина знаешь?
— Первый раз вижу. Хлыщ какой-то.
— Неважно. Адвокат, а теперь уполномоченный Петроградской конторы Автогужтранспорта. Работает по части ремонта конского поголовья для армии.
— Скажи-ка! — усмехнулся Антонов. — Вроде бы и не похоже.
— Опять же неважно. У нас он идет под фамилией Горский. Запомни, Горский. Настоящая его фамилия Федоров, но ты ее забудь.
— Слушаюсь. Да и какая мне разница! Горский так Горский. Лошадей мне у него не покупать, поди? — Антонов сухо посмеялся.
Булатов шепнул что-то на ухо Антонову. Тот отшатнулся от него, даже рот приоткрыл от удивления.
— Понял?
— Так точно. Скажи, пожалуйста! — Антонов долго тряс головой.
Булатов, хмыкнув, раскурил трубочку и снова начал:
— Дела, Александр, неважные. Скверные дела. Насчет слухов ты прав, большевики к власти вот как рвутся. Не буду вдаваться в подробности, расскажу, когда эти двое вернутся. Но у меня с тобой разговор их не касающийся. Помнишь, как ты обижался на нас, когда мы сунули тебя в милицию воров ловить, жуликов лупить? Тогда ни я, ни губернский комитет партии не имели права раскрывать тебе кое-какие карты. Теперь я уполномочен нашими тамбовскими товарищами и центральным комитетом сказать, почему мы держали тебя в тени. Можешь верить, если бы не случилось того, что случилось в октябре в Питере, если бы эта мелкотравчатая сволочь Керенский не продал Россию, недолго бы ты сидел в милиции, ждал тебя большой пост… Веришь мне или нет?
— Тебе верю, — хрипло, судорожно сжимая от волнения ладони, ответил Антонов. — А этим комитетчикам! Как будто один Керенский виноват… А наши что смотрели? — зло выпалил он. — Министры, черт бы их побрал, главноуговаривающие подлецы!
— Ну, что было, то было, — успокоительным тоном произнес Булатов. — На ошибках учатся все.
— Все равно не верю комитетчикам, — упрямо выдвинув толстую нижнюю губу, отрезал Антонов.
— И напрасно. Не все в нашем центральном комитете слюнтяи. Там и умных людей много, и каждому из нас цену знают. Знают они и тебя. Там, брат, все известно. Но наипаче всего приняты во внимание твои связи с крестьянством.
Антонов от этих слов, произносимых серьезно и внушительно, смягчался. Сероватое, скуластое лицо розовело, а пальцы дрожали от волнения.
— Так вот, Александр Степаныч. Сейчас тебе надо уйти в тень еще более густую и быть подальше от Тамбова, от всего, что тут происходит и что в очень скором времени произойдет. Ты поедешь в Кирсанов начальником милиции.
Краска схлынула с лица Антонова, губы сложились в презрительную улыбку.
— С повышеньицем, значит! — проговорил он хрипло. — Уважили, нечего сказать!
— Погоди малость, и ты убедишься, как мы тебя уважили, — сердито пробурчал Булатов. Непонятливость Антонова бесила его. — Я же сказал, — рассвирепел он, — сказал, черт побери, что тебе надо уйти на время в тень погуще! В Кирсанов, в твое подчинение мы посылаем Токмакова…
Услышав имя старого дружка, Антонов насторожился.
— …Лощилина, Заева, Ивана Ишина, Плужникова, Шамова…
Булатов перечислял фамилии старинных друзей и приятелей Антонова.
— Ставь их по волостям начальниками милиции, они не обидятся, — Булатов усмехнулся краешком губ. — Дальнейшие инструкции получишь в свое время, но главное надо делать уже сейчас. Собирай оружие, собирай как хочешь, где хочешь и прячь понадежнее. От того, как ты будешь работать, — Булатов подчеркнул это слово, — особенно в первые месяцы, зависит все дальнейшее в твоей жизни, запомни. А там властвуй как хочешь, полная тебе воля. Только не поскользнись: с волками жить — по-волчьи выть… Сторожев, которого ты чуть ли не в иуды произвел, это очень хорошо понял. Возьми его на заметку. Плюнь, что он комиссар… Пусть и останется им, пусть зубами держится за эту должность… Дорого будет стоить большевикам комиссарский мандат, ежели он его удержит… И учти — недаром его зовут в Двориках волком… Понадобится нам волчья стая — его поставим вожаком. Конечно, мироед, за землю душу отдаст. Только недалек тот день, думаю, когда придется Петру Ивановичу распрощаться с землицей. И с той, что раньше отхватил, и с той, на которую сочиняет сейчас купчую с господином адвокатом. А уж там его только держи — на любое пойдет, чтобы землишку вернуть.
— Запомню, — кратко отозвался Антонов и хотел спросить еще о чем-то Булатова, но дверь открылась, и в гостиную вернулись Сторожев и хозяин дома с длинным чубуком в руках.
Через минуту смазливая горничная принесла холодный ужин и выпивку, бесшумно накрыла стол и ужом ускользнула в дверь. Булатов кивнул головой туда, куда она ушла. Хозяин, поняв его намек, плотно прикрыл дверь.
— Ну, друзья, — ласкающим тенорком пропел он, — присаживайтесь. Сперва закусим, а уж потом послушаем новости, которые нам принес товарищ Булатов, мой любезный друг.
— Э-э, нет, батенька, — покрутил головой Булатов, — нам сегодня выпивать ни к чему. Ночью есть важные дела. Да, ей-богу же, нельзя, — взмолился он, заметив, что хозяин, не обращая внимания на слова «любезного друга», разливает коньяк.
— Мне, ежели на то пошло, водочки, — хмуро сказал Сторожев. — Оно привычнее. — Он бережно спрятал во внутренний карман поддевки бумагу и присел к столу.
Антонов пил и ел с завидным аппетитом. Булатов и Сторожев не отставали от него, а хозяин знай подливал да подливал коньяк Антонову и Булатову, водку Сторожеву и себе.
— Из стародавних запасов, — пел он. — Только для дорогих гостей, только для вас.
Потом закурили, кроме Сторожева, который отказался от предложенной Антоновым папиросы, а хозяин перекинулся с начальником милиции несколькими фразами о партии лошадей, которую он только что купил и готовил к отправке.
— Скоро, дорогой, тебе придется лошадок в другие места направлять, — загадочно сказал Булатов. — Да, впрочем, об этом мы поговорим отдельно. А теперь вот что, — Булатов энергичным движением выбил из трубки пепел, набил ее снова, переменил положение и начал излагать цепь событий последних дней.
События для господ эсеров были очень нехорошими, и дело обстояло так, что фортуна изменила им и, кажется, довольно прочно.
— Я только что с заседания исполкома, — рассказывал Булатов, нервно постукивая кончиками толстых волосатых пальцев по лакированному подлокотнику кресла и окутывая себя клубами дыма. — Черт знает что творилось там! До вчерашнего дня и мы не думали принимать наших большевиков всерьез. Тоже мне — двадцать человек наперечет! Приходим сегодня на заседание — в зале рабочие сорок третьего завода, при оружии. «Вы кто?» — спрашиваем. «А мы, — отвечают, — за большевиков». — «Вас никто не звал!» — кричат наши. «Знаем, да ведь наши товарищи в Питере тоже были незваными гостями, когда ворвались в Зимний, где заседало Временное правительство!» В зале хохот. Поднимается секретарь большевистского губкомпарта Васильев и предлагает распустить Тамбовский совнарком, — чуете? — наш последний оплот, а число членов губернского исполкома сократить до двадцати пяти. «В интересах дела», — объясняет Васильев. Голосуем… А рабочие держат винтовки наготове. Вот и пойди проголосуй «против»…
Федоров, с наслаждением сосавший янтарный наконечник чубука, отставил его в сторону и, покусывая губы, внимательно слушал Булатова.
— Ну, проголосовали. Оставили в исполкоме пятнадцать большевиков и десять левых эсеров. Председателем поставили присланного Москвой большевика Чичканова… Вот как оно обернулось!.. Правда, у большевиков силенок пока маловато и захватить все управление в губернии они не могут, но кто-то из большевиков проболтался, будто в Тамбов вот-вот придут войска ликвидируемого Западного фронта. Головка фронтового штаба сплошь большевистская, и, уж конечно, она поможет своим тамбовским дружкам захватить власть. Наш губернский партийный комитет полагает, что для легальной работы нам осталось от силы месяц-два. Потом всех нас пересажают. Если, конечно, мы вовремя не уйдем в подполье или не проберемся туда, где еще признают власть Временного правительства и куда стекаются члены разогнанного Лениным Учредительного собрания.
Булатов медленно курил трубку, а потом глухо заговорил при полном молчании всех остальных:
— Сколь долго продержатся большевики у власти, прочен ли их блок с левыми эсерами — не будем гадать. Ясно одно: мы должны помочь силам, которые вот-вот выступят против большевиков с юга, на западе и в Сибири, отрезать от большевистской Москвы и от Питера хлебородные губернии, прервать военные коммуникации и настраивать мужиков против большевиков… Я откровенно говорю, потому что здесь все свои.
Слушавшие Булатова дружно закивали головами.
— Наша задача в конечном счете определяется просто: Учредительное собрание должно взять власть в свои руки и определить дальнейшую судьбу революции и России. За это мы, — Булатов повысил голос, и он стал у него какой-то лающий, — за это, повторяю, мы будем биться не на жизнь, а на смерть. И к борьбе этой надо готовиться теперь же, не медля ни одного дня, ни одного часа. Дел хватит всем.
Федоров нахмурился. Еще сумрачнее стал Сторожев, и судорожно сжимал и разжимал пальцы Антонов.
— Антонову я уже передал наше решение, касающееся его дальнейшей деятельности, — снова вступил Булатов. — Теперь твоя очередь, Петр Иванович. Можешь верить: прежде всего большевики отберут у вас землю и хлеб. Весь хлеб до зернышка. Ты сам понимаешь, как беднота обойдется с теми, кого она сыздавна прозвала кулаками и кого большевики почитают злейшими врагами революции. Они уже поднимают против вас бедноту, и она… Ну, ты знаешь, что она сделает с вами.
Сторожев, откинувшись на спинку кресла, сидел окаменевший. На его медных скулах проступили кроваво-красные пятна, глаза горели свирепым огнем, лоб собрался в крупные и глубокие морщины.
— Что ж, — хрипло, с угрозой выдавил он, — посмотрим, чья возьмет! Это еще вопрос: отдадим ли мы им хлеб. И не о себе говорю, а о всем селе… Беднота ясно в счет не идет, у ней хлеба нет. За хлеб мы постоим. У нас силенки тоже имеются.
— Черта вы сделаете с беднотой и большевиками в одиночку, — подал голос Антонов и продолжал с жаром: — Среднему мужику, Петр Иванович, вряд ли по душе большевистские порядки. Начнется война внутри России — большевики как липку обдерут и вас и середняков. Если сумеете раскачать среднего мужика, если сможете объединить трудовое крестьянство против большевиков, тогда еще вопрос, удастся ли им и голытьбе сломить нас.
— Вот затем я и пригласил сюда товарища Сторожева, — заявил Булатов. — Поговорить с ним насчет мужицких дел. Человек известный.
Хозяин торжественно потряс руку Сторожева.
— Великолепно! — вскричал он. — Да вы, милейший, старый и нюхавший порох борец! — Очевидно, Федоров по привычке хотел тут же произнести речь, но Булатов резко остановил его.
— А твоя мысль, Александр Степаныч, насчет объединения трудового крестьянства пришлась прямо в точку.
— Это не моя мысль. Это стародавняя думка Петра Токмакова. Мы недавно говорили с ним насчет этого. Григорий Плужников взялся написать что-то вроде программы. Я ведь, сам знаешь, — он горделиво вскинул голову, — боевик, человек дела, теоретик никудышный, а Токмакову и Плужникову все карты в руки.
— Очень хорошо, — оживленно заговорил Булатов. — Петр Иванович, ты не сможешь задержаться на день в Тамбове?
— Отчего ж, ежели, так сказать, для дела.
— И хорошо! — подхватил Булатов. — Завтра сведу тебя с Плужниковым и Токмаковым, они тоже здесь, вы вместе помудруйте над тем, что там сочиняет Григорий Наумыч. Да насчет хлебушка, насчет хлебушка, который большевики думают из вас всех вытрясти, не забудьте упомянуть. Вот так. Ну, товарищи, — он поднялся, — с вами у меня разговор окончен, теперь мы останемся с хозяином. Одну минуту, забыл кое-что сказать тебе, Александр Степанович.
Он отвел Антонова к двери.
— Слушай, Саша, ночью надо провести одну операцию. Во дворе городской управы чертова уйма винтовок, отобраны у солдат, идущих домой. Вывезти их надо сегодня же, но шито-крыто, понял? И отвезти подальше. А дня через два надо пошарить в артскладе. Людей дам. Сбор сегодня в два ночи у тебя.
Антонов молча кивнул головой и вышел. В передней одевался Сторожев. Хозяин проводил их, запер дверь и вернулся в гостиную.
— Ну те-с, любезный друг, — резко и без околичностей приступая к делу, сказал Булатов, — теперь поговорим с тобой.
Тон Булатова хозяину очень не понравился, и он прошипел что-то под нос.
— Слушай, драгоценнейший господин Федоров. Вся твоя жизнь до этого часа и все твои махинации нам досконально известны, и стоит мне пальцем шевельнуть, как завтра от тебя и всего этого, — Булатов повел рукой вокруг, — останется один прах.
— А собственно говоря, какое право, товарищ Булатов, ты имеешь так разговаривать со мной? — разъярился Федоров.
— А вот имею.
И верно, имел на то право Булатов, начальник милиции.
Прошлое и настоящее Федорова он действительно знал в малейших деталях и ни один шаг его не ускользал от внимания Булатова. Прошлое господина Федорова было не очень красивым, настоящее — тем более.
Родители готовили ему большую карьеру и определили в училище правоведения, откуда императорское правительство посылало молодых людей из родовитых и богатых семейств на высокие административные посты. Что случилось, почему молодого Федорова вдруг изгнали из привилегированного учебного заведения — никто не знал. Поговаривали, будто будущий вице-губернатор или даже губернатор участвовал в отвратительных оргиях.
Расставшись с правоведением, Федоров появился на тамбовском горизонте адвокатом, женился на молодой красивой певичке из кафешантана. Скоро звезда его воссияла. Он брался за самые рискованные дела, охотно вел запутанные процессы сельских обществ с помещиками, не брезгал скользкими бракоразводными процессами.
Со временем репутация его сильно поблекла, а потом адвокаты и клиенты стали шарахаться от него. Не случись революции, кто знает, не пришлось ли бы господину Федорову вылететь из адвокатуры, как вылетел он из правоведов.
Чем он занимался в дни Временного правительства, покрыто, как говорится, мраком неизвестности. Одно достоверно, он нисколечко от переворота не пострадал, а напротив, приумножил свое достояние, купив приличный особнячок на Тезиковской улице в глухом углу города и на славу его обставил.
В конце семнадцатого года тамбовчане прослышали, будто Федоров от адвокатских дел отказался и занимается исключительно… лошадьми. Оказалось далее, что он поступил на службу в некую Петроградскую контору Автогужтранспорта б качестве уполномоченного, отправлял из Тамбова куда следует косяки лошадей, загребая и на том немалые денежки.
Лишь много спустя узнали, что, помимо своей собственной фамилии, бывший адвокат имеет еще одну, мало кому известную, и является уполномоченным не только автогужевой петроградской конторы.
Кратко и выразительно Булатов перечислил все крупные и мелкие дела Федорова, никак его не украшающие, а тот бесстрастно сосал мундштук чубука. Когда Булатов окончил перечень прегрешений адвоката, тот, прищурив глаза, сказал несколько брезгливо:
— Вы меня, товарищ Булатов, не пугайте. И если я вам нужен, прошу выложить зачем. Вы знаете мои убеждения: я ваш.
Булатов иронически осмотрел Федорова с ног до головы.
— О твоих убеждениях, драгоценный, мы еще поговорим, — сказал он ядовито. — Впрочем, они не так уж важны.
— Ну, как сказать! — хладнокровно возразил Федоров. — Очевидно, все-таки важны, раз вы выбрали этот дом для конспиративной встречи со своими молодчиками.
— Мы выбрали этот дом, — отрезал Булатов, — не только для случайной и конспиративной, допустим, встречи с моими товарищами, но и для того, чтобы сделать этот дом отныне и навсегда нашим.
— То есть? — переспросил озадаченный Федоров.
— То есть, любезный, здесь будет конспиративная квартира центрального и губернского комитетов партии социалистов-революционеров. Здесь мы будем назначать явки, встречи нужных нам людей с тобой и без тебя, через тебя же мы будем получать и переправлять, куда нам надо, различные документы. Через тебя же, любезный, если в том окажется нужда, пойдут транспорты оружия…
Федоров, не спускавший глаз с Булатова, рассмеялся.
— Но, милый мой, для этого нужно по меньшей мере согласие хозяина этого дома.
Холодный и резкий тон Федорова не обескуражил Була-това.
— Я уже изложил, почтенный, что последует, если ты не согласишься, — угрожающе проворчал он.
— А я не боюсь ваших угроз и разоблачений! — с тем же брезгливо-высокомерным видом отрезал Федоров. — Я, милейший, попадал и не в такие переплеты, и уж лучше со мной поосторожнее. Я, знаете, тоже человек идеи.
— Знаю я твою идею! — резко ответил Булатов. — Она рублем зовется.
— Хотя бы, — огрызнулся Федоров. — У вас свои идеи, у меня свои. Да, положим, она зовется рублем. Так что из того?
Булатов разразился громовым хохотом — второй раз за этот вечер.
— Ну, если только в этой идее дело, — сказал он, отдышавшись — все проще пареной репы. Будешь получать чистоганом.
— Ввиду неустойчивости валюты, — снисходительно заметил Федоров, — предпочитаю иметь дело с золотом. Сейчас ему эквивалентны всевозможные продукты, в сыром виде предпочтительно.
— Сойдемся, — весело смеясь, бросил Булатов. — На этом мы сойдемся! Кстати, — насмешливо прищурив глаза, осведомился он, — сколько тебе платят за подобные услуги кадеты, которым ты отдал этот дом под конспиративную квартиру?
— Полагаю, они не помешают вам? — уклонился Федоров.
— Напротив. Они ведь тоже против большевиков, — Булатов осекся на полуслове, поняв, что проболтался.
— И, стало быть, ваши союзники, так, что ли? — сразу ухватился за эти слова Федоров. — И я становлюсь не только доверенным человеком вашего центрального комитета? Мне придется, как я понял, не только осуществлять связь местной организации с вашим центром, но и быть связным между возможными вашими союзниками и вами? Вы понимаете, что эта двойная работа требует иной, более высокой оплаты?
— Что ж, всякое дело требует расходов, и мы не хотим слишком прижимать тебя, — с досадой пробормотал Булатов.
— Ваше заявление совершенно удовлетворяет меня, — заявил Федоров.
— Очень хорошо. Но и у меня есть заявление, — резким и желчным тоном проговорил Булатов. — Если ты… понимаешь… если хоть один наш человек, хоть один наш документ попадет к большевикам…
— Ну, это разумеется само собой, — хладнокровно заметил Федоров. — За конспирацию отвечаю головой. Ах, — прибавил он с сожалением, — если бы я был увлечен какой-либо идеей вроде тебя, друг Булатов! Но меня одна идея греет: жить так, чтобы в самую последнюю минуту сказать себе: «А и здоровый же кусок жизни, господин Федоров, ты отхватил в этом бренном мире!» Да нет, вам этого не понять, вы человек прозы.
— Однако мне пора, — сказал Булатов; последнюю тираду хозяина он слушал, откровенно зевая. — И вот что скажу напоследок. Для нас с этого дня ты будешь Горским. Понятно? Горским.
— Какая разница! — пожал плечами бывший адвокат. — Кстати, фамилия, я бы сказал, символическая и изобличает в вас хороший вкус. Что ж, выпьем за дружбу, и да сгинут наши враги! — Федоров произнес это в патетическом тоне и, очевидно, опять хотел разразиться речью, но Булатов, чокнувшись с ним, остановил готовящееся словоизвержение.
Переведя дух, Федоров, ныне окрещенный Горским, покачивая ногой в домашней туфле, снисходительно сказал:
— Что ж, с удовольствием помогу вам, милейшие. Это забавно — быть начальником тыла несуществующей армии.
— Дай срок, — проворчал Булатов, — будет и армия.
— Подай бог!
Выпили еще. Потом уже у двери хозяин, запахивая полы роскошного халата, спросил:
— Этот скуластый… Антонов или как там его… Что за фигура?
— Прет на рожон и давно бы споткнулся, если бы мы его не придерживали.
Он распрощался и вышел, и тьма поглотила его.
…Утром большевики с возмущением заявили исполкому губсовдепа, что ночью разгромлен артиллерийский склад, а со двора городской управы неизвестно кто увез большое количество винтовок. На собраниях и заседаниях шла горячая перепалка, противники не стеснялись в выражениях, партийные фракции назначали комиссию за комиссией.
В комиссию, назначенную городской управой, вошли Булатов, Антонов и представитель большевиков. Заседала она три дня, опрашивала сторожей, железнодорожников, милиционеров. Исчезло оружие, словно в воду кануло!
Через неделю Антонов уехал в Кирсанов. Город по-прежнему молчал, по улицам носился ветер, бродили вооруженные патрули.
5
К маю восемнадцатого года советская власть прочно укрепилась в Тамбове.
Булатов и многочисленные его сообщники из областного комитета эсеров исчезли. Это было на следующий день после закрытия второго губернского съезда Советов: на нем присутствовали делегаты уездных Советов и представители организаций большевистских и левоэсеровских. Съезд покончил с неразберихой и хаосом, царившими на Тамбовщине.
Тамбовская деревня полыхала революционным пожаром. С фронта возвращались солдаты, вырывали власть из рук эсеров, ставили свою, советскую.
Тем временем борьба на фронтах обострялась и принимала угрожающий оборот. Немцы занимали Украину; подняли головы белые, кадеты, эсеры; в огне контрреволюционных восстаний горели Сибирь и окраины Руси, на север и Дальний Восток вторглись интервенты, сгущались тучи на западе, на юге собирались белогвардейские силы. Грозное кольцо замыкалось вокруг красной Москвы и пролетарского Питера. Казалось, нет у большевиков никаких надежд, чтобы удержаться.
То были дни, как писал Ленин, «необъятных трудностей».
Но «мы привыкли, — гремел ленинский голос на всю взбаламученную Россию, — к необъятным трудностям… За что-нибудь прозвали нас враги наши „твердокаменными“».
Только твердая и целеустремленная ленинская политика спасла революцию.
И снова громовым раскатом прозвучали слова Ленина:
— В крестовый поход за хлебом, крестовый поход против спекулянтов, против кулаков… Здесь перед нами такой бой за социализм, за который стоит отдать все силы и поставить все на карту, потому что это бой за социализм.
И в губернии, где был хлеб, пришли рабочие Питера, Москвы, Иваново-Вознесенска, Урала; пришли с оружием. Закрома тамбовских кулаков были полны хлеба, но отдавать его они не хотели. Они мечтали задушить голодом советскую власть, нашептывали соседям всякое про «коммуну», спускали зерно и муку за бесценок «своим», подкупали бедноту — только не отдавать их городу, рабочим, большевикам…
И началась еще одна война — война за хлеб, против кулаков…
Глава вторая
1
Жизнь в Кирсанове не идет — плетется. Город, каких сотни, особых происшествий сто лет не было, и власть сменилась без шума.
Тиха и спокойна жизнь уездной милиции: грязь в комнатах, на столах чернильницы без чернил, в шкафах — мусор, старые газеты, в камере — пьяненький несет какую-то ахинею.
Антонов прижился в Кирсанове: новая власть его не тронула, умел подладиться. Да и осторожен был. Помощниками у него сидели Токмаков и Ишин. Токмаков еще больше высох, череп совсем оголился, блестит, точно отполированный. В секретной части веселый краснощекий Иван Егорович Ишин — хоть и пьяница, а секреты умеет держать! Много секретов носит в своей удалой голове Иван Егорович!
Пустячок-секрет: куда делось оружие, что отобрали у чехословацкого эшелона, проходившего через Кирсанов? Отбирал у чехов оружие и обмундирование начальник уездной милиции Антонов вместе с большевиками. А увозили оружие из Кирсанова в лес по Вороне и Хопру люди, которых знал только Ишин.
Другой секрет: куда исчезали вагоны, что приходили из Москвы в Кирсанов со всяким добром для армии: фуфайками, сапогами, седлами, кожей?
Антонов всю уездную милицию на ноги ставил, сам неделями носился по уезду — искал украденное. Словно сгинуло!
Один Ишин знал тайные места в лесах и камышах, где хранилось пропавшее добро.
В начале июня восемнадцатого года в Кирсанов съехались волостные милиционеры. Вызвал их Антонов на совещание: уголовные банды нагло громили продовольственные отряды, нападали на комбедчиков. Утром делегаты разговаривали о бандах, а вечером, в тайных местах, — об эсеровских партийных делах. Утром сборище милиционеров называлось совещанием, вечером — уездной конференцией партии эсеров.
Конференция работала четыре дня, делегатов подбирал Петр Токмаков. Он и в Кирсанове не сидел, колесил по уезду, по деревням, искал надежных людей.
Антонов с каждым делегатом говорил наедине, присматривался к ним, советовал дружить с мужиками, запасать оружие, патроны.
— Ждать осталось недолго, — говорил он, — готовьтесь.
И загадочно усмехался.
2
Июнь был тревожным.
Между Кирсановом и Тамбовом носились секретные курьеры и эмиссары подпольного комитета эсеров, оставленного в городе теми, кто предпочел удрать. Ночами они пробирались в дом Федорова-Горского или на одну из многочисленных конспиративных квартир, устроенных им, и вели тайные переговоры с офицерами.
И шли в Тамбов подводы, груженные сеном и дровами, а в сене и дровах лежали густо смазанные винтовки — Ишин выгребал свои склады.
Все это распределялось по надежным пунктам Федоровым-Горским. Антонов не скупился в расчетах с агентом центрального комитета эсеров.
Шестнадцатого июня вспыхнул мятеж среди вновь мобилизованных в Козлове. Семнадцатого утром восстали мобилизованные запасные в Тамбове. Они пришли из неурожайных и всегда нищих деревень севера губернии, где голод в том году свирепствовал, кося людей направо и налево, где отчаяние начинало овладевать человеческими душами. Голодные и раздраженные явились запасные в Тамбов, и здесь все было сделано, чтобы их раздражение превратить в возмущение: призванным в армию не приготовили помещений, «забыли» их накормить.
Злые на все и на вся толпами бродили они по городу в поисках пристанища и куска хлеба… В уездном военкомате сидел начальником безусый мальчишка, окруженный сворой притаившихся эсеров, кадетов и царских офицеров, среди которых было немало открытых контриков.
А тем только того и надо было: вызвать возмущение у сотен людей, снова оторванных от домашних очагов, к которым они только что вернулись.
Среди разбушевавшихся толп немедленно появились те, кто частенько бывал в доме Федорова-Горского.
И вот склады оружия разбиты, оружие в руках восставших, они осаждают епархиальное училище, где сидят пленные немцы и венгры, объявившие себя защитниками советской власти.
Через десять минут их сопротивление сломлено, убитые и раненые насчитываются десятками, кровь бросается в головы мятежников.
Разгромлены военкоматы, осажден губернский исполком. Первый советский полк с боем отступает через Цну к лесу.
Проходит час-другой… Все кончено!
Генерал Богданович назначает сам себя начальником гарнизона «освобожденного от тиранов» Тамбова. Его помощник — поручик Кочаровский, один из эсеровских лидеров, оставленный в подполье. Вытаскивают бывшего губернского комиссара Временного правительства Шатова и ставят его во главе «гражданской власти».
Появляется прокламация «Комитета спасения родины и революции»:
«Переворот повсюду. Большевики в Москве и в других городах свергнуты!»
Колокола кафедрального собора звонят во всю мочь, архиепископ Кирилл служит благодарственный молебен. Обыватели ликуют. Профсоюзы, где главенствуют меньшевики, призывают население к осторожности.
Утром гражданская и военная власти начинают думать, как из мобилизованной толпы организовать «армию спасения». Но тут начинают поступать сообщения одно невероятнее другого: запасные посылают к такой-то матери эсеровских и кадетских говорунов и преспокойно расходятся по селам и деревням с винтовками и пулеметами. «Армия спасения» их вовсе не прельщает.
Генерал Богданович и Кочаровский не верят своим ушам. Увы, в Тамбове зловещая тишина. Не звонят колокола, не служат молебнов, а обыватели, почуяв, откуда ветер дует, забираются в свои берлоги.
Генерал вооружает гимназистов и кого попало. Ищут коммунистов, бьют тех, кого уже нашли. Солнечные лучи сверкают на золотых погонах — господа офицеры не вытерпели и приоделись с утра. Они еще на что-то надеются.
Посылают курьеров в Козлов, но… но и там тихо — проходивший на фронт отряд латышей подавил мятеж.
В середине дня командиры, оставшиеся без армии, слышат выстрелы со стороны реки и в самом городе. Переполох, никто не знает, кто и почему стреляет.
Наступал первый Советский полк. За ночь коммунисты привели его в боевой порядок, поставили во главе рот и батальонов надежных людей, разработали план ликвидации мятежа. Ночью же к полку примкнул боевой отряд сорок третьего завода; пробирались и из Тамбова наспех сколоченные группы вооруженных рабочих, подоспели из уездов небольшие красноармейские отряды, беднота вливалась в полк, чтобы спасти советскую власть.
Этим силам помогли в городе. Во дворе духовного училища двадцать красноармейцев бросаются на своих стражей, отнимают у них пулемет и винтовки и начинают очищать город.
Тем временем из Поворино спешила дивизия Киквидзе, а с сорок третьего завода — вооруженные рабочие.
В шесть часов вечера над Тамбовом реет красное знамя Советов, а утром появляется аршинный плакат, где громадными красными буквами напечатана благодарность комвойсками первому Советскому полку и всем, кто восстанавливал советскую власть.
В тот же день Москва была извещена о событиях в Тамбове. Ленин запросил местные власти о подробностях мятежа. Вывод его был ясен:
— Мы знаем, — сказал он, — что когда восстание подобного рода на почве голода и отчаяния масс подымалось, когда охватывало местность, где иностранные штыки нельзя было вызвать на помощь, как это было в Саратове, в Козлове, Тамбове, власть помещиков, капиталистов и их друзей… измеряла продолжительность своего существования днями, если не часами…
В Тамбове «власть» барина, эсера и меньшевика просуществовала двадцать четыре часа.
3
Тщетно в те дни Антонов ждал курьера от Кочаровского с сигналом начать восстание в Кирсанове. Правда, курьер явился месяц спустя от Федорова-Горского, чудом спасшегося в этой свалке.
То был эмиссар эсеро-кадетского подполья, приземистый мужчина с бычьей шеей, в пенсне, с липкими, трясущимися руками.
«И чего они у него трясутся? — думал Антонов. — Страха, что ли, на него нагнали?»
Эмиссар объяснил Антонову, почему любой призыв к восстанию сейчас обречен на провал, рассказал об убийстве левыми эсерами германского посла Мирбаха, о крахе московского мятежа левых эсеров, не пожелавших выдать убийцу, о том, как весь народ поддержал советскую власть в расправе с мятежниками, поставившими страну лицом к лицу с войной.
— Ленин объявил о том, что Россия на волоске от войны, и обещал беспощадно расправиться с заговорщиками, ставшими оружием в руках контрреволюционеров. Вот какие дела. Истерическими авантюристами их назвал, понимаете? Сейчас везде охотятся за ними… Вы, случайно, не из левых?
— Я сам по себе, — гордо заявил Антонов.
«Авантюрист и ума недалекого», — определил эмиссар.
— А вы из каких? — в свою очередь, спросил Антонов.
— Кхм… Как раз левый…
«Вот почему у тебя руки трясутся! — решил Антонов. — Так тебе и надо, сволочь. Не амурничали бы с большевиками!»
— Вам понятна обстановка? — продолжал эмиссар. — Сейчас кто за войну, тот в глазах всех — мерзавец чистой воды, а кто посмеет к народу сунуться с призывом к любой войне — того разнесут на клочки.
— Понимаю, — сумрачно отозвался Антонов.
— А мужик тем более против войны, — прервал его желчное раздумье эмиссар. — С немцами воевать, с большевиками все равно — против.
— Это смотря по тому какой мужик, — с ядовитой ухмылкой сказал Антонов.
— Знаю, о каком мужике думаете, но на нем одном далеко не ускачешь. И сообразите еще одно, пожалуй самое главное Большевики еще не выгребли весь хлеб у богатеев и у среднего мужика. А дело к тому идет. Ленин приказал взять десять миллионов пудов с трех урожайных губерний, в том числе и с Тамбовской. И надо думать, немцы или другая какая сила нам-то все равно какая, вот-вот навалится на Советы И придется тогда большевикам взяться за мужика и его закрома еще круче.
Антонов мотнул головой.
— А скоро ль это будет?
— Подождем. Не пироги печем, — сухо заметил эмиссар. — Может быть, год, может быть, два, кто знает. Впрочем покоя им давать не следует. Но это уж по вашей части.
Пришлось зажаться, а чтобы замести следы, Антонов начал прилежно охотиться на левых эсеров. Провалившиеся «политики» кому нужны? Да и зол на них был Антонов: снюхались мол, с большевиками, теперь получайте.
Однако все старания подмазаться к большевикам не очень удавались: Антонов начал замечать за собой слежку Он уходит «в отпуск». Кто ему дал его? Кто ж знает!
Только что назначенный, председатель уездной Чека Меньшов вызывает Антонова, а тот и в ус не дует. Начинают разбираться, и тут Антонова настигает беда: один из самых доверенных его приятелей, теряет портфель а в том портфеле документы, изобличающие Антонова в подготовке переворота в Кирсанове, списки коммунистов, подлежащих смерти.
Карательный отряд срочно идет в Инжавино, где Александр Степанович отдыхал в те дни. Арестуют его ближайших помощников Лощилина и Заева. Сам он исчезает. За ним охотятся два месяца, но Антонов неуловим — у него друзья-приятели везде.
Внешние события отвлекают чекистов от бесплодных попыток изловить хитрого и наглого эсера. Наступают тревожные для Республики времена, ей не до Антонова.
Александр Степанович тем временем скрывался на хуторах своих дружков-кулаков или в непроходимых чащобах Инжавинских лесов, а глубокой осенью попытался даже еще раз насолить советской власти.
Мобилизация, суровые меры при изъятии продразверстки, чрезвычайный революционный налог снова превратили часть Тамбовской губернии в кипучее море.
Села Рудовка, Вышенка, Глуховка в северной части Кирсановского уезда восстают. Мятеж перебрасывается в Моршанский и Тамбовский уезды. Антонов руководит мятежом, но еще слишком слаба его организация, чтобы держать в своих руках нити движения. Дружина Антонова — десять-пятнадцать человек — носится из края в край, поднимая село за селом.
Восстание ликвидировали быстро и без особенного кровопролития. Антонов на зиму снова уходит в Инжавинские леса и там начинает готовиться к новому делу.
Между тем местные Советы, выбранные после подавления мятежа, выровнили ленинскую линию в деревне, а очередной губернский съезд Советов, где делегатами в подавляющем большинстве были коммунисты или сочувствующие им, окончательно восстановили покой на Тамбовщине.
Казалось, ничто больше не нарушит мирной жизни на бескрайных полях. Осенние дожди щедро полили землю, потом выпал обильный снег, завалил дороги, хохлатыми шапками накрыл избы. Над ними курились и растекались в морозном воздухе струи дыма, огонь горел в очагах, а в ясной бездонной голубизне неба холодно сверкало солнце.
Где-то гремели бои, где-то лилась кровь, брали и отдавали города, отступали и вновь наступали армии Совдепа, разжимая стальную, полыхающую огнем выстрелов и пожаров петлю, которой господин капитал хотел «удавить в самой колыбели» коммунизм.
Здесь на заснеженных пространствах, в этом белом безграничном молчании тамбовских полей, спящих под покровом зимы, готовились к весне, отдавали, кто добром, кто скрежеща зубами, все, что могло помочь Советам отразить натиск врагов. Здесь царил быт, полный своих интересов и надежд.
А Антонов молчал.
Никто не знал, где он и что он делает. Но не напрасно притих Александр Степанович, не зря он провел зиму девятнадцатого года в Инжавинских лесах.
Он собирал и обучал дружину — теперь в ней было человек полтораста — невиданному военному искусству, позабытому после войны с Наполеоном. Александр Степанович вспоминал не только то, чему научился у боевиков: внезапным нападениям и молниеносным отступлениям, умением в мановение ока собрать силы и столь же стремительно распылить их. Преклоняясь перед императором французов и его противником Кутузовым, Антонов перечитал все, что мог достать о двенадцатом годе. Теперь пригодились ему многочисленные описания действий отважных партизан Давыдова, Сеславина и мужицких партизанских отрядов, перед которыми была бессильна армия Франции.
И все эти сивоусые эсеры из мужиков, в прошлом либо унтеры, либо скороспелые прапорщики Временного правительства, солдаты ударных батальонов и каратели мужицкого министра Чернова, диву давались, слушая Антонова, преподававшего им стратегию и тактику партизанской войны.
В селе Пахотный Угол учитель-эсер Никита Кагардэ собрал мужиков в сельскохозяйственную коммуну. Коммунары пахали, сеяли, а ночами, собравшись в ригах, будущие командиры антоновских полков проходили курс теории партизанской войны и школу разведки.
4
Так прошли зима и весна. Антоновская дружина грабила кооперативы, кое-где подстреливала коммунистов, разнесла Золотовский волостной Совет, убила трех его работников. Чекисты и отдельные красные отряды выступали против Антонова, но тот неизменно ускользал. Он знал все лощины, буераки, тропы в лесах и переправы через речки.
Кулаки из Паревки, Иноковки, Рамзы, Вяжли, Карай-Салтыков, Калугино, Курдюков, Трескино, Золотовки, Инжавино, Красивки, Чернавки, Перевоза кормили его дружину, снабжали продовольствием, лошадьми, сведениями о красных. Он то отсиживался в зарослях реки Вяжли, то в бесконечных озерах, поросших камышом, то уходил на реку Ворону и устраивался там в надежных убежищах. И не поймать его!
И вот, почувствовав свою силу, зная, что леса и заросли вдоль берегов рек кишмя кишат дезертирами, Антонов решил приумножить свои силы. Агенты его разносят клич по Тамбовщине:
— Антонов собирает дезертиров на Трескинские луга! Валите, братцы, к Степанычу!
Глава третья
1
На юге Тамбовщины в глухих местах среди болот и речушек прячется от мира село Трескино. Богатые трескинские мужики еще до Февральской революции путались с эсерами, и не раз в прошлые времена прятался Антонов со своими боевиками в густых лесных зарослях, знал все тропинки, каждую извилину Лопатинки-реки, каждый островок на озерах, каждого мужика на селе. Трескинские мужики тоже знали и уважали Антонова за то, что он им «слободу» воюет, и не раз выручали из беды.
Июль девятнадцатого года плыл над миром. Дни стояли жаркие. Наливалась рожь, из садов несло запахом скороспелок. Оводы бесились над Лопатинкой.
Духота, зной.
С утра на берега реки стекался народ. Пугливо озираясь, люди в полушубках, шинелях, давно не мытые, выползали из кустов, осматривались и, увидя себе подобных, присоединялись к ним.
К полудню было на лугу тысячи две вооруженных чем попало, голодных и озлобленных дезертиров.
2
Когда солнце начало скатываться к черте горизонта, группа конников вброд переехала Лопатинку. Мокрые лошади вынесли на сочную траву всадников — антоновскую дружину. Все они были одеты одинаково: красные галифе, красные фуражки, зеленые банты на груди, кожаные тужурки, оружие позвякивает, поблескивает.
Всадники спешились. Лишь Антонов, его денщик, конопатый Абрашка, Токмаков и Ишин остались в седлах. Приказав дружинникам разбить на лугу палатки, притащить из села столы и табуретки для писарей, Антонов подъехал к дезертирам. Они столпились вокруг дружинников, щупали их куртки, гладили крупы добрых коней, восхищались оружием и обмундировкой, щелкали языками, смачно ругались.
Антонов внимательно приглядывался к скопищу бродяг: в норах, как кроты, прятались они от красных и по виду были готовы на все.
— Сырой материалец, — шепнул Ишин на ухо Антонову. — Можно ли с ними танцы танцевать, как соображаешь?
Антонов рассмеялся.
— Потанцуем! Ты с ними поговоришь, что ли? — обратился он к Токмакову.
— Иван побалакает. Он мастер болтать со всякой сволочью, — пренебрежительно бросил Токмаков.
— Ну-ну! — дрогнув скулами, огрызнулся Ишин. — Отрежу я тебе когда-нибудь язык, Петр Михалыч!
Пока Ишин и Токмаков, не слишком любившие друг друга, вполголоса переругивались, Антонов, чтобы не слышать до смерти надоевших ссор, отъехал в сторону, где расположилось человек тридцать, одетых в потрепанные офицерские шинели со следами погон на плечах.
Дезертиры окружили коменданта штаба дружины Трубку. Его крупная бочкообразная фигура, молодцевато возвышавшаяся на пегом длинновязом коне, внушала им мысль, что он и есть один из «самых главных».
— А не омманет ли нас ваш Антонов? — крикнул какой-то очень оборванный дезертир, обращаясь к Трубке.
— Как обманет? — возразил Трубка с ухмылкой во весь огромный рот. — Красные галифе кто вам обещал? Кожаные кужурки кем были обещаны? Даст, все даст Александр Степанович!
— А провались оно все пропадом! — крикнули из толпы. — Будем за Антонова воевать!
— Начинай! — закричал худой, небритый детина в рваной австрийской шинели. — Енералы сук-киного сына!
— Давай орателя!
Дезертиры кричали, ломались—знали, зачем собрал их Антонов, слышали, что нуждается в солдатах, и набивали себе цену.
Ишин, сдерживая танцующего мерина, начал говорить.
— Здорово, друзья! Зачем явились, что от нас вам надобно? — спросил он.
— Воевать желаем! — послышалось из толпы.
— Та-ак, — протянул Ишин и подмигнул дезертирам. — С кем же?
— А нам все равно. К войне мы привыкшие, делать нечего… Вы нас звали, мы пришли! И ничего чудного в том нет, — отвечал парень в матросском бушлате, по всем признакам коновод толпы.
— А вы бы к красным подались! — съязвил Ишин.
— Ты о деле говори, о деле! — раздались крики.
— Что-то вы такие хмурые да злые? С чего бы это? — Ишин захохотал. — Власть у вас своя, поит вас, кормит… Аль комиссары больно сурьезный народ?
— Востер у тебя язык, у черта! — крикнул кто-то восторженно.
— А вы стрелять-то не разучились, молодцы?
— А чего ты зубы скалишь? — взорвался парень в бушлате. — Мы твои зубы рассматривать не желаем! Ты не тяни, а враз скажи: берете или нет? Атаманов много — найдем и других! Нам с кем ни гулять!
Поодаль от толпы, под кустом, сидели толстогубый малый и бородатый мужик. Малый, прислушиваясь к речи Ишина, искал в рубахе вшей.
— Ишь ты, — рассуждал он, копаясь в рваном тряпье. — Обовшивели мы, и щец с бараниной пожрать не вредно бы. А только омманут они нас, ей-богу, омманут. Ты как думаешь, Петруха? А морда у него красная, видать, жрет здорово! Петруха, ты как? Слышишь, красные галифе обещают и кужурку из кожи. А, провались ты пропадом, будем за него воевать! Ура, даешь! — закричал парень, размахивая рубахой.
И все заголосили, заорали. Ишин тоже гоготал и кричал что-то.
— Только вы, братцы, имейте в виду, — сказал Ишин, когда толпа утихомирилась, — мы не разбойники, мы за Учредительное собрание воюем!
— А нам наплевать!
— Даешь! — закричали хором дезертиры.
— Но один уговор, — сказал парень в бушлате, — чтоб всей моей братве кожаные кужурки и красные галифе, понял? Как обещано!
— Пусть он, Колька, побожится, что не омманет! — крикнул толстогубый малый.
— Божись, атаман, не отвиливай!
Ишин истово перекрестился.
— Ей-богу, не обману, братцы! — проникновенно сказал он с хитрым блеском маслянистых глаз.
— Омманет, сука! — восторженно крикнул толстогубый.
— Ну, договорились, что ли? — спросил Ишин. — Так пойдемте списки писать. — Он спешился и повел дезертиров к палаткам, где за столами уже ждали писаря из дружинников.
3
У берега шел разговор с людьми, державшимися особняком от вшивой дезертирской команды.
— Я буду с вами начистоту! — Сидя в седле, Токмаков говорил резко и отрывисто. — По поручению центрального и Тамбовского губернского комитетов партии социалистов-революционеров, мы готовим восстание против Советов. Мы за Учредительное собрание. За Советы без коммунистов. За землю и волю. Судите сами: по пути вам с нами или нет?
— А у нас, любезный, — отозвался молодой человек с длинным унылым лицом, — выхода нет. Либо против коммунистов и с вами, либо подыхать в лесах.
— Уж эти мне эсеры! — с гримасой отвращения заметил толстый, обросший рыжей щетиной офицер. — Может быть, к Деникину пробиться? Там дело вернее.
— К чертовой матери белых генералов! — вспылил седой человек с глубоким шрамом через всю правую щеку, в аккуратной шинели. — Ко всем чертям!
— Дельно сказано, гражданин! — весело проговорил Токмаков. — Власть после победы поделим справедливо. Что скажут другие? Вы, надо думать, все офицеры?
Толстый рыжий офицер мотнул головой.
— Конечно, — вступил Антонов, — среди вас есть не разделяющие наших убеждений. Но в момент борьбы с общим врагом стоит ли спорить о догмах? Разберемся потом.
Офицеры молчали. Токмаков и Антонов ждали, кони ходили под ними ходуном, на луг ложились длинные тени.
— Позвольте узнать, — нарушил молчание седой офицер, — чем вы думаете воевать? У большевиков оружие, люди, припасы. А у вас?
— Десять тысяч карабинов, маузеры, патроны и пулеметы спрятаны у нас в озерах и лесах, — надменно бросил Антонов. — Мы знаем: голой рукой за огонь не хватайся. Люди у нас будут. Мужика обдирают как липку, ему разор от коммуны. Он теперь что порох. Мы поднесем спичку к пороховой бочке, и она взорвется, дай срок. Мы же мужику дорогу борьбы укажем. Пойдет мужик за нами — значит, и припасы будут.
— Пойдет ли? — снова задумчиво молвил седеющий человек. — Вот вопрос.
— Ему больше идти некуда. Мы — его партия, — заметил Токмаков. — Тамбовщина — наша вотчина.
— А, была не была!.. По рукам, — вырвалось с надрывом у седого. — Хоть с чертом, да против красных.
— Видать, очень вы злы на них? — спросил Токмаков, и глаза его сверкнули в глубоких темных впадинах.
— Зол, — мрачно отозвался седой.
— Вот это волк! — шепнул Токмаков Антонову. — Как вас величают? — спросил он седого.
— Моя фамилия Санфиров, зовут Яковом Васильевичем. Унтер-офицер, георгиевский кавалер, крестьянин села Калугино, здешний, стало быть, кирсановский, как и вы.
Антонов пристально вгляделся в Санфирова, хотел что-то сказать, но промолчал.
— Так-так! — неопределенно выговорил Токмаков. — Ну, какое же будет ваше последнее слово?
— Яков Васильевич наш командир, — с едва приметной усмешкой ответил рыжий толстяк. — Куда он, туда и мы. Верно, друзья?
Офицеры — одни с неохотой, другие охотно — согласились с толстяком.
— Ну и хорошо! — удовлетворенно заметил Антонов. — Прошу вас, пойдите с Токмаковым к палаткам, помогите составить списки этой братии. Думать надо, что с ними делать. Ты, Петр, наладь там с Ишиным и возвращайся. А вы, — он обернулся к седому, — нужны мне.
Токмаков тронул лошадь. Офицеры поплелись за ним.
4
Антонов спешился. Абрашка стреножил его коня и отвел подальше. Антонов разулся, вымыл ноги в речке. Потом сказал седому:
— Не хотел разговаривать с тобой, Яков, при них. — Он качнул головой в сторону ушедших офицеров. — Я тебя узнал, да и ты, поди?
— Как не узнать, — усмехнулся седой. — В одной камере, чай, сидели.
— Да, брат, — задумчиво произнес Антонов, обуваясь. — Двенадцать лет с тех пор прошло-пробежало. И ты был помоложе, я вовсе мальчишкой… Кровь-то тогда играла… Что делал, Яков, в эти годы?
— Всяко было, Александр Степанович, — сурово нахмурился седой. — Через огни и воды прошел Яков Санфиров. И каторга была за прошлые дела и фронт.
— В офицеры, вижу, вышел? — скользнув глазом по шинели Санфирова, заметил Антонов.
— Керенский погоны нацепил. Да кому он их не вешал? А-а, проститутка, что о нем и говорить! — Санфиров замолчал.
— Да, не без того, — желчно проговорил Антонов. — Слишком мы верили всем этим данам. А теперь своей шкурой расплачивается русский мужик за ихнее предательство.
— Ура им орал! — Санфиров сплюнул, потом начал глухим голосом: — Когда Ленин разогнал эту шайку, признаться, обрадовался. А тут декреты о земле и мире. Пали, думал, цепи с русского народа. — Суровая тень прошла по мясистому, рябоватому лицу Санфирова.
Антонов искоса взглянул на него, хотел сказать, судя по губам, искривленным ухмылкой, что-то злое, но сдержался.
Санфиров, низко склонив голову, ковырял землю пальцем, с усилием, словно мысль его была скована, угрюмо продолжал:
— Поверил им. В Совет пришел. Кончено, мол, с эсерами, с вами хочу работать. Земельными делами заправлял в волисполкоме. Ну и мне вроде поверили. Душой не кривил. А погодя узрил, как большевики с мужиком расправляются, открылись старые раны.
Антонов понимающе кивнул головой.
— Нехорошо вышло. Продкомиссара одного в деревеньке какой-то застукал: подличал, грабил. Злоба к сердцу подкатила — убил… Скрылся, ясно.
Санфиров замолчал, упершись глазами в землю, и сидел неподвижно в мрачной задумчивости. Оводы кружились над лугом, прохладой тянуло из леса.
— Правду все искал, — Санфиров скверно выругался. — У зеленых, у белых… Всю, брат, Россию исколесил… А может, ее и нет, кто знает? Белые… Мерзавцы первой статьи, — злобно добавил он. — Расплевался я со всеми, до дому приперся… Эту офицерскую шатию встретил, с ней в землянках вшей кормил. А тут твой клич услыхал. Обманешь — и от тебя уйду, Александр, — с угрозой окончил Санфиров.
— Не обману, Яков Васильевич, что ты! — с укоризной отозвался Антонов. — Наша правда в мужицкой крови, ей тысячи лет. Вместе будем за нее биться. Видел, войско собралось? — И, чтобы разогнать мрачное настроение Санфирова, перевел разговор на другое. — Ума не приложу, куда их определить.
Подъехал Токмаков, тоже спешился, опустил поводья к земле, мерин стал мирно щипать траву, а Токмаков подсел к беседовавшим.
— Вот, говорю, — повторил Антонов, — не знаю, что делать с этими молодцами. Начинать широкое дело рано, не доспело к тому время. Подойдут поближе деникинские генералы, тогда и мы поднимемся. Офицеров, конечно, всех в дружину, а прочих?
— Сотен пять, каких ненадежнее, я бы отобрал, — проговорил Токмаков, потирая бритую голову. — Не век же нам, Александр Степанович, только с дружиной куковать. Да и устала она.
— Абрашка! — крикнул Антонов денщику, который, выкупавшись, лежал поодаль. — Дай поесть.
Абрашка живо принес седельные сумки, вынул из них еду и бутылку самогонки, бросил на траву потник, разрезал хлеб и ветчину, отложил несколько кусков себе, остальное очень быстро съели и выпили Антонов и его собеседники.
Закурили. Табачный дым голубоватой струйкой вился в тихом воздухе.
— А знаешь что, — сказал Санфиров. — Упускать их никак нельзя. Придет время — из них будем вербовать армию. Большевики сейчас в больших затруднениях. Им нужны люди в армию, но нужны и для тыла. У них это называется работой на оборону. Всякий, кто работает на оборону, от мобилизации освобождается… Если у вас есть свои люди в Советах (Антонов при этих словах незаметно усмехнулся), устраивай дезертиров на зиму на торфоразработки или на лесозаготовки…
— Мысль смелая и правильная, — отметил Антонов. — Скажи, Петр Михайлович, Плужникову, он наладит в момент.
— Пока наладит — эту ораву надо кормить-поить, — пробормотал Токмаков.
— Да брось! Мужик всю Россию кормит, неужели эти две тысячи не прокормятся! Многие домой уйдут, и пусть им Ишин объяснит, что, если их вызовут на работу, шли бы и работали до нашего сигнала.
Токмаков помолчал, соображая, потом заговорил неуверенно:
— Не хотелось бы с самого начала мужика заставлять кормить этих захребетников. Черт те что подумают!.. Посадили, мол, на шею всякую сволочь, а дела пока от Антонова не видать, комбеды знай свое вершат.
— Ничего, зато потом отыграется кулачье, — жестоко отозвался Санфиров, сосредоточенно ковыряя в зубах былинкой.
— Ладно, — согласился Антонов, — пойди, Петр Михайлович, объясни молодцам, что и как… Пусть дружинники разведут их по деревням. Да не слишком густо налегайте на мужика. Десяток-полтора на деревню, не больше.
Токмаков лениво поднялся и поплелся к дезертирам. Тощая, угловатая фигура его бросала на землю резкую тень.
— Планы твои какие, Александр Степанович? — осведомился Санфиров.
— Посмотрим, как обернутся дела у Деникина. Готовимся. Тут идем с двух концов. Пока мужик помогает нам охотно.
— Какой мужик? — устало спросил Санфиров. — Кулаки, что ли?
Антонов поморщился.
— Ну, хотя бы.
— Кулачье — волки, — с неприкрытой злобой сказал Санфиров. — О них в библии сказано: «псы кровожадные».
— Мало ли что в библии сказано. Племя могучее, цепкое, на нем вся Русь держалась, он хлеб давал. Возьмем власть — укоротим их алчбу.
— Это так. Большевики! Слова их красные, дела — черные. Губят Русь! Этого им никогда не прощу. — Санфиров умолк и долго смотрел в воду, темневшую по мере того, как солнце уходило за вершины сосен на противоположном берегу реки. — Ладно. Ну, а что дальше?
— Стало быть, дезертиры будут ядром нашей армии, а потом, думаю, и добровольцы из мужиков пойдут. Как устроить на первых порах дезертиров, ты придумал, спасибо. Ну, а пока что с дружиной будем постепенно обессиливать большевиков, разлагать Советы. Туда мы напихали своих людей препорядочно. Ближняя задача — истреблять коммунистов, без которых Советы ничто… Пожалуй, настала пора погулять по губернии, тревожить красных, уничтожать трибуналы, бить продотряды, расстраивать тылы…
— То есть помогать белым? — Враждебная нотка прозвучала в вопросе Санфирова очень резко.
— Помогать на будущее себе, — отрезал Антонов. — Белые возьмут Москву, мы — власть.
— Задумано хитро, — с долей иронии отозвался Санфиров. — Да ведь это, Степаныч, на воде вилами писано: возьмут ли Москву, а возьмут — отдадут ли вам власть. Колесо истории назад редко крутится.
Антонов пропустил слова Санфирова мимо ушей и перешел к делу.
— Вот Петр отберет из этой шатии пятьсот молодцов, не примешь ли командование ими?
— А что ж, — равнодушно ответил Санфиров. — Куда ни шло!
— И назовем этот первый отряд партизан Тамбовского края, — несколько напыщенно проговорил Антонов, — гвардейским ударным полком. Знамя получишь у Плужникова, он же даст тебе политработников. Заводи в полку трибунал и все прочее по части дисциплины. Впрочем, тебя ли мне учить, Яков Васильевич? Ты войной учен, а я до главнокомандующего, — Антонов рассмеялся, — самоучкой допер.
Сапфиров кисло усмехнулся.
— С разведкой как у вас? — спросил он, помолчав.
— А не хуже, чем у красных, — расхвастался Антонов. — Агентура у нас — во! А главным сидит человек преданный, хотя и денежку любит. Так принимай командование, Яков.
Солнце скрылось за лесом, потянуло холодком. Дезертиры группами, под командованием офицеров, переходили речку по шаткому мосту и скрывались в густых зарослях. Антонов приказал седлать коней.
5
Деникинские части заняли Балашов и Урюпино. Антонов послал в Урюпино Василия Якимова, бывшего чиновника городской управы в Тамбове, теперь начальника канцелярии дружины, и начальника штаба дружины Федора Санталова. Им был дан наказ — разузнать, нельзя ли примазаться к Деникину, вместе воевать против большевиков.
Решение «самого» вызвало яростный отпор со стороны Плужникова. Он ни за что не хотел якшаться с генералами, в обозе которых в свои именья возвращались бежавшие к белым помещики.
Антонов был неумолим. Ему уже грезилась победа без восстания, он думал о дележе власти с генералами так, как в том признался Санфирову.
Резвый жеребец с алым бархатным чепраком под седлом, гарцующий по улицам Москвы, а на нем он, Александр Степанович, мужицкий герой и народный генерал, — вот о чем мечтал теперь Антонов.
Он сломил сопротивление Григория Наумовича. Эмиссары поехали в Урюпино, связались со штабом второго сводного казачьего корпуса, расписали командиру силу и мощь «зеленой армии». Генерал был не дурак и понял, какая польза может проистечь от этого разбойника, как он в мыслях величал Антонова, если принять его услуги, а потом повесить на первой же осине. Он обещал Санталову и Якимову поддержку; связь решили наладить самолетами.
Ободренные этим успехом, эмиссары двинулись в Балашов к Мамонтову. Тот даже видеть не пожелал представителей «подлого мужицкого сброда». Мамонтов шел на Москву и поддержки мужичья, с которым впоследствии придется расплачиваться землей и правами, вовсе не искал.
Эмиссары вернулись и доложили «самому» о переговорах и тут же узнали об аэроплане белых, — он появился над Кирсановским уездом, разбросал монархические листовки и больше не показывался.
Тем все и кончилось. На спинах белых генералов мечтал Антонов въехать в Москву. Но генералы обманули его: с той же стремительностью, с какой Мамонтов шел на Москву, с той же он бежал прочь, получив неслыханный удар от Красной Армии.
Антонов, уже готовый к тому, чтобы отдаться Деникину за любой чин и звание, отдать ему дружину с Плужниковым в придачу, выругался матерно.
«Просчитался!»
И теперь только на мужиков, которых скопом выдал бы Деникину с головой, возложил все надежды. «Не въехал в Москву на генеральских плечах, на мужицких въеду!»
Той же осенью он совершил несколько дерзких налетов на совхозы, увел лошадей, побил коммунистов, по пути разграбил десяток потребительских лавочек. И еще одной «победой» обрадовал он кулаков: где-то в болотах, среди Кирсановских лесов, комендант штаба Трубка и еще несколько человек наткнулись на бывшего председателя тамбовского исполкома Чичканова — он мирно охотился.
Трубка зверски убил его.
Потом убили уполномоченного ВЧК Шехтера. И это была та капля, которая переполнила чащу терпения. Тамбовское начальство создает Военный совет для борьбы с антоновщиной, в него входит вся головка исполнительной власти. Уезды Тамбовский, Кирсановский и Борисоглебский объявляются на военном положении, важные стратегические пункты и железнодорожные станции занимаются воинскими частями.
Головке мятежа ясно: бороться с Советами с наличными силами — безумие. Надеяться на помощь извне в глухой, далекой от внешних рубежей губернии — бессмысленно. Ждать указаний или хотя бы объяснений того, что происходит в стране и вне ее — неоткуда. Антонов и его приспешники знали, что эсеры как партия разгромлена и политической армии лишилась. Мужики, получившие из рук новой власти землю, забыли думать об эсерах.
Нет, сейчас мужичка на удочку ловить рано. Не доспела еще рыбка, не изголодалась до того, чтобы схватить любую приманку, а с нею и железный крючок всадить себе в горло…
Собрались. Антонов обрисовал ситуацию. Плужников — общее положение в стране. Советы выигрывают на фронтах победу за победой, обстановка для восстания складывалась неблагоприятно. Надвигается зима. Формировать регулярную армию — теперь к этой мысли пришел Антонов — в зимних условиях дело немыслимое.
И решили: на зиму оставить, расквартировав в надежных селах и хуторах, ударный полк Санфирова и дружину, а с весны, если положение в стране окажется более подходящим, приступить к планомерному созданию полков, обучать их тактике партизанской войны.
Антонов сидел в Инжавинских лесах и оттуда писал в Кирсанов, уверяя тогдашнее начальство, что он бежал, спасаясь от ложных доносов, что вовсе он не бандит, а разногласия между большевиками и эсерами не столь уж велики, чтобы не примириться.
Он даже предлагал себя и свою дружину в помощь Красной Армии, обещал очистить уезд от подлинных бандитов, если, мол, советская власть гарантирует ему неприкосновенность, с каждым днем наглел, выставлял новые и новые требования. Потом вдруг замолчал и не давал о себе знать всю зиму.
В Тамбов из уездов и волостей полетели сводки: бандитизм искоренен. Прошел даже слух, будто Антонов покинул пределы губернии…
6
Антонов между тем никуда не собирался уходить и к восстанию готовился своим чередом.
Не теряли даром времени Токмаков и Григорий Наумович Плужников — мужчина лет сорока, со смиренными глазами, какие в старину писались на иконах великомучеников. И в самом деле, было в облике Плужникова что-то скопческое: рыхлое лицо, тонкие, опущенные вниз, поджатые, вечно шевелящиеся губы, будто Григорий Наумович читал про себя псалмы, маслянистые жидкие волосы, расчесанные на прямой пробор, псаломщический, с гнусавинкой, голос. Он не пил, не курил, не интересовался женщинами. Говорили, будто Плужников оставил в Кирсанове жену и детей, но Григорий Наумович почти никогда не вспоминал о них, а когда вспоминал, говорил, сложа руки на груди:
— Един, как перст, а ближние мои не возлюбили меня.
Над ним насмехались, звали за глаза «святошей», «иудушкой», но Антонов и Токмаков ценили Плужникова: сын и внук крестьянина, сам крестьянин, он умел проникать в мужицкую душу. Никто из близких Антонову не владел в таком совершенстве искусством играть на слове «мое». Такой человек был позарез нужен в деле, затеваемом эсерами; Антонов лелеял Плужникова, а тот любил его, как родного брата. Впрочем, часто надоедал выговорами, призывая Александра Степановича «очиститься от всяческой скверны».
Высохший и обуглившийся от лишений лесной жизни, Петр Токмаков презрительно-барски отвергал все, что не имело отношения к «чистой идее и теории в ее кристальном виде», ко всему практическому, низменному. За долгие предреволюционные годы подпольной работы среди мужиков он поднаторел на агитации и умел разговаривать на самые отвлеченные темы языком и образами хитрого сектантского проповедника. Не лишен он был и организаторских талантов. Под этой благообразной внешностью то ли баптиста, то ли молоканина, за елейными речами и тихой поступью скрывался ловкий пройдоха-конспиратор.
Медленно ползущие от холодных, мглистых рассветов к мутным зимним закатам дни в лесных землянках или на хуторах Плужников и Токмаков проводили в бесконечных спорах.
Антонов обычно не участвовал в горячих дебатах двух своих самых близких дружков. Он был всецело поглощен военной стороной будущего «дела», но слушать их словесные битвы любил, особенно когда к ним присоединялся еще один из этой четверки — Иван Егорович Ишин.
Вечно хмельной квартирмейстер и провиантмейстер дружины, плут и провокатор, каких поискать, обладал острым, лукавым умом и языком базарного зазывалы. Речь свою Ишин нарочно коверкал, чтобы придать ей видимость еще большей народности. Даже Токмаков побаивался его мужицкого краснобайства.
Этот невзрачный, рыжеватый и подслеповатый мужичонка с подловатыми глазами и красно-бурой физиономией прошел школу эсерства во всех видах.
Кулацкий сын, эсер с молодых лет, казначей кирсановской боевой группы, он, по слухам, присвоил партийные денежки, и его хотели даже исключить из партии. Но тут Ишин провалился на какой-то конспиративной встрече, и его отослали в Архангельскую губернию. Там он пробыл до девятьсот восьмого года, потом возвратился на Тамбовщину и занялся бакалейной торговлишкой, не имея к ней в прошлом никакого пристрастия.
В бакалейной лавочке, над дверью которой красовалась грубо намалеванная вывеска, укрывался уездный подпольный эсеровский комитет.
Много раз Ишин попадал в неприятнейшие переделки и то возносился на горние высоты, быв, например, председателем волостного земства, то попадал под суд за мошенничество, но всякий раз выходил из воды сухим. В последнее время он председательствовал в сельском потребительском обществе, а уйдя к Антонову, утащил в лес всю лавочку, оставив пайщикам возможность отпускать по своему адресу любые, самые крепкие ругательства. К ним Иван Егорович привык, брань, как известно, на вороту не виснет, а продуктами из лавочки дружина пробавлялась месяца полтора.
Такова была эта четверка, возымевшая дерзкую мечту поднять на власть Советов весь крестьянский мир. Внутри нее рядом со святошей Плужниковым уживался отъявленный мошенник Ишин; рядом с Токмаковым и его путаными теориями — беспринципный, начиненный вождистскими помыслами Антонов; здесь слышалась елейная речь мужицкого батьки Плужникова, ярмарочное балагурство Ивана Егоровича, рубленые, грубоватые фразы, бросаемые словно на ветер Токмаковым, и невнятное бормотание «самого», перемешанное трехэтажной руганью.
Споры иной раз доходили до личных выпадов и оскорблений. Особенно злился Токмаков. Он все бубнил о пороховой бочке, утверждая, что порох в ней достаточно высох и вполне можно подносить спичку. Плужников доказывал, что, мол, бочка, ясно, имеется, но порох в ней не весь сухой, а есть и мокренький. Все дело, убеждал Плужников Токмакова, в бедноте.
— Продразверстка, братик, — пел он елейно, — середняку и зажиточному поперек горла. А беднота? Да с нее, милок, хоть лыко дери. В закроме пустехонько. Всегда было пусто, пусто и теперича.
И делал вывод:
— Только на злобе к продразверстке, Петенька, объединить мужичка никак не можно. Конечно, большевика мужичок не обожает, но, обратно же, какой? Ты учти, голубь, большевики знают, что делают. Не зря они бедняка приласкали, не зря дали ему землицу, власть и комбеды устроили. А ты знаешь, как комбеды с мироедом управляются? Скажешь: Учредительное собрание… Родной мой, да кому из бедноты охота лезти в войну ради того, что большевики давно разогнали? Нет, умник, тут другие зацепки надо искать.
Путаные и пустозвонные идеи Токмакова Плужников неизменно отвергал. Ишин смеялся над Петром Михайловичем. Антонов крутил головой. Божество, которому он поклонялся на каторге, блекло в его глазах. В конце концов Токмаков понял, как далека от него практическая философия восстания, махнул рукой на теории и присоединился к военным заботам Антонова. В этом деле он был хоть и небольшой, но все-таки знаток: три года Петр Михайлович воевал с немцами сначала в чине старшего унтера, а войну окончил прапорщиком. На первых порах Антонов поручил ему формирование будущего военно-гражданского управления и разведку. Заботы по интендантству Токмаков делил с Ишиным.
Самых бывалых дружинников обучали продовольственным, фуражным делам, комплектованию армии людским составом и конским поголовьем. Так закладывались ячейки будущих отделов штаба восстания. Плужников между тем проникал в только что избранные новые Советы, ставил туда своих агентов, рассылал в села эмиссаров, и они создавали местные подпольные «штабы». Сложная, хитроумно законспирированная сеть штабов и агентуры Плужникова к моменту начала восстания охватила почти все южные и северные уезды губернии. Плелась эта сеть до того прочно, что иной раз нельзя было разобраться, кто вертит селом: те, что выбраны сходкой, или невидимые люди, которых никто не выбирал, никто не знает, а кто знает — тот не выдаст; круговая порука не шутка, и с предателями у благодетельного Григория Наумовича два вида расправы: полсотни кнутов или стенка.
А вот с программой объединения мужиков воедино, без которой Григорий Наумович и думать не смел о начале восстания, никак не ладилось.
Все продумал бандитский «батька»: даже рабочему классу отвел свое место в задуманном деле; будущее крестьянства и всей России изложил довольно аккуратно, а с беднотой сельской не знал, что делать.
Между тем время не ждало: пламя гражданской войны разгоралось, и большевикам было худо. А Григорий Наумович все метался в поисках звена, без которого вся цепь его мыслей рвалась, как рвется при первом резком порыве ветра паутина, сотканная невиданными усилиями паука.
Он вызвал на подмогу Сторожева из Двориков. Тот пленил Григория Наумовича при их встрече в Тамбове непоспешливым холодным умом истинно российского мироеда.
Да и Александру Степановичу нужен был Петр Иванович.
Глава четвертая
1
У двориковского мужика Ивана Лукича Сторожева было три сына — Семен, Петр и Сергей. Старший, Семен, как отделился, так и завяз в нужде. Не повезло человеку: смирный, работящий, он день и ночь крутился на полосе и на дворе, мрачнел, худел, надрывал жилы на работе, но, как в клещах, держала его нужда.
Младшего, Сергея, забрали на военную службу, попал он на море. При дележе достались Сергею пол-избы с крыльцом да две овцы — отдал их матрос на сохранение брату Петру.
— Потом рассчитаемся! — сказал он, уезжая.
Один Петр вышел в люди. Народ говорил: «Удача с Петром Ивановичем дружит». Верно, сумел он подмять под себя судьбу — с головой человек.
Взял он в жены Прасковью Васянину, хоть из нищей семьи, а не прогадал.
У Прасковьи сестер да братьев куча. Одни Петру Ивановичу хлевы чистили, другие лошадей в ночное гоняли, третьи ребят нянчили, четвертые делали разную большую и малую работу. Так оно и шло: у васянинских ребят от сторожевских щей в животе полно, у Петра Ивановича от их трудов амбары ломятся. Да и сам Сторожев работал яростно: вставал рано, ложился поздно. И жаден был расчетливой, цепкой жадностью.
По праздникам посылал в соседнее село Грязное на базар возы шерсти, лука, огурцов, льна. Если своего товара для продажи не имел, скупал у соседей, наживал на торговле по копеечке.
Любил еще Петр Иванович давать в долг тихим, покорным людям семена, муку или лошадь для работы в поле. Потом тихие люди отрабатывали долг да еще кланялись: «Благодетель ты наш, погибать бы без тебя, милостивца».
Деньги в кубышке Сторожев не берег — знал он вкус процентов.
Так потихонечку-помаленечку, откладывая то копеечку, то рублик, заимел Петр Иванович немалый капитал и обзавелся хозяйством: с машинами, породистыми лошадьми и коровами, — люди ахали!
Давно уже приглядывался Сторожев к жирным землям около Лебяжьего озера. Выходило по расчетам: можно скоро уйти из села, поставить у озера крепкую усадьбу, окружить ее садом, насадить березовую рощу, обставить службами и собирать в амбары тяжелую рожь, золотой овес, коричневую гречиху.
Крепко манила его к себе эта земля.
«Водопой-то рукой подать, — думал он, — сухости-то никогда не бояться, под огороды, под капусту или морковь нет земли лучше».
Он часто наезжал сюда и смотрел с кургана вниз, где расстилались заветные десятины — владел ими помещик Улусов Никита Модестович, знал каждую межу, определил уже, где что сеять, где поставить водопой и загородки для скота. Земля! Вся жизнь отца, деда и прадедов прошла на земле, и все цеплялись за каждый ее клок.
— Мы земляные люди, — говаривал Петр Иванович соседям, — мы землей живем. У кого земля, у того и сила. Мне бы тыщу десятин, я бы королем стал.
И представлялись ему часто во сне эти тысячи десятин — необъятная равнина суглинка, перерезанная речушками, лощинами, жирная, плодовитая земля, и он — ее хозяин, Сторожев Петр Иванович, — шагал по ней, и не было видно ей конца — облитой солнцем земле.
Земля! Рыхлые комья, в которые любил он зарывать руки, мять их между пальцами, нюхать и брать на язык — горькую, тучную землю. Все в ней: почет, деньги, власть…
— Все меняется, — рассуждал Сторожев, — приходят и уходят люди. Земля в руках хорошего хозяина не умирает, всегда живет… Нет ничего дороже земли, и нет ничего тверже хлеба. Хоть и сыпуч, а весь мир на нем стоит!
Больше бы ее запахать, захватить, зажать в своих руках, крепким забором обнести, выпустить свирепых псов, чтобы стерегли день и ночь, чтобы на куски рвали всех, кто посмеет посягнуть на нее, на его землю, на его силу. Сыновей бы завести больше, чтобы расселились, владели землей, чтобы народ им кланялся, потому что у них сила.
Он часто заходил на загоны соседей и, завистливо вздыхая, думал: «Только бы завладеть ею! Только бы встать на нее хозяйской, тяжелой ногой! Вот тогда бы действительно вышел в люди. Тогда бы закланялись передо мной мужики, залебезили бы урядники и земское начальство».
Презирал их Петр Иванович: мужиков — за глупость, начальство — за алчность. Любил он слушать Сергея, когда тот приезжал в отпуск с моря. Привозил Сергей брату запретные книжки, и Петр читал их и по-своему толковал. Днем где-нибудь на огороде долго говорил он с матросом о царе и в думах своих решил, что этот тупой человек должен будет уйти и отдать власть крепким и расчетливым людям, таким, как он, Сторожев.
Раздраженно Петр Иванович относился к войнам. В японскую он зло смеялся над поражением царской армии. В четырнадцатом, воюя унтером, не верил в победу, а революцию встретил с радостью.
В мае семнадцатого года он поехал в Тамбов и оттуда вернулся с красным бантом на груди и мандатом комиссара волости в кармане. Он вошел в эсеровскую партию — понравилась она ему.
— Наша партия, — говорил он, — за нас стоит, за хозяйственных мужиков! — Ездил на митинги и собрания, научился говорить и слушать, обещать и отказываться от обещаний.
Все эти хлопоты и заботы не мешали Сторожеву думать о своих делах. Год выдался удачный. Ржи и овсы уродились такие, что амбары трещали от обилия зерна. Коровы отелились, растут телушки, кобылы покрыты породистыми жеребцами, свиньи наливаются жиром.
Петра Ивановича выбрали в Учредительное собрание, но большевики учредилку разогнали и крепко взяли в свои руки власть в Питере и в Москве. Еще сидели в Тамбове свои, но дальновидный Петр Иванович знал: недолго они удержатся против большевистской лавины. Но власть комиссара волости пока еще оставалась за ним.
2
Комиссарский мандат Сторожев ценил очень, жил он за этой бумагой, как за каменной стеной, и, прикрываясь ею, вершил свои дела бесстрашно. Да и кого ему было бояться? Коммунары — на фронте, в Совете — свои, а в ячейке—два-три человека, трепетавшие перед комиссаром.
Весной восемнадцатого года поехал Сторожев к Улусову, устрашил его призраком грядущих перемен и почти за бесценок купил сто заветных десятин у Лебяжьего озера. И тут же отправился в Тамбов оформлять купчую. В Дворики он вернулся помолодевшим: сбылась мечта! — бумаги на землю в кармане, адвокат Федоров обделал дельце тонко, не подкопаешься. Обрадовала его встреча с Булатовым, Антоновым и Плужниковым. Расстались они друзьями.
Сторожев гоголем похаживал по селу, важно улыбался, жал мужикам руки, а разговоры начинал торжественной фразой, вроде: «Мы постоим за мужика российского…», приказывал не безобразничать в имениях помещиков, спас Улусова от многих неприятностей, выручил из беды старого своего друга лесника Филиппа; мужики хотели подпустить ему красного петуха, прижимал их Филипп, чересчур был жаден и жесток.
А в апреле началось!
Приехал в село братец Сергей Иванович, потребовал свою половину избы с крыльцом, потребовал овец, телку… Да что овцы, пропади они пропадом! Власть свою поставил Матрос — так на селе звали Сергея Ивановича, — разную нищую бражку да солдатчину понасажал в Совет и комитет бедноты, а мандат комиссара у родного брата отобрал, не дав ему пикнуть.
К избе Петр Иванович привык и почитал всю ее своей, овец забыл пометить — как их делить? И власть не захотел Сторожев отдавать Матросу и его подручным. Когда же заговорил Сергей Иванович о земле около Лебяжьего, совсем рассвирепел Петр Иванович.
— Отдать? Кому? Пошто? Да разве она мной не куплена? А вот бумаги господином адвокатом писаны, властями утверждены.
Однако бумаги не помогли. Взялись за Петра Ивановича крепенько: землю отняли, половину овец, коров и трех лошадей свели со двора, выгребли зерно из закромов, отняли оружие. И васянинские ребята, наслушавшись Матроса, отказались работать на зятя. Только батрак Лешка Бетин не ушел от Сторожева: как служил, так и остался служить. Мальчишкой привела его к Петру Ивановичу мать Аксинья Хрипучка, кланялась в ноги, просила пожалеть ее горемычное сиротство: Листрат-то, мол, в Царицын подался. «Куды ж мне, бедной, деваться с малолетним Лешкой? Возьми уж, сделай божецкую милость».
Не любил Петр Иванович рвани с Дурачьего конца — так называлась улица, где голь нужду мыкала, а мальчонка ему понравился: смышленый, бойкий, в теле, жрет, поди, немного. Покобенился, поломался для виду, но взял парня. Лешкина мать в церкви за Петра Ивановича три свечки поставила.
Нещадно драл Лешку Сторожев за всякую провинность, да и без провинности попадало, ежели в сердитую минуту подвернется под руку. Лешку мальчишки дразнили Сеченым до тех пор, пока он огромному, старше его лет на пять, Сашке Чикину не разворотил в драке скулу.
Рос Лешка в семье как шестой сын.
Никого из сыновей своих не любил Сторожев так, как младшего Кольку. Старшие все нашли место в хозяйстве, каждый отрабатывал отцовский хлеб. Росли в отца, хозяйственные, большие парни, крепкие работники. Глаза у всех быстрые, руки проворные, жадные.
— Роди, роди, мать, больше, — говорил Петр Иванович жене. — Эк ты у меня какая гладкая!.. Роди сынов — работников. С голоду в старости не помрем. У кого-нибудь угол сыщем.
Рожала Прасковья быстро, с какой-то грозной поспешностью.
— Точно пули вылетают, — смеялся Петр Иванович. — Ну и силища у тебя, мать, в нутре.
А вот Колька трудно рожался. Прасковья лежала посиневшая, широко раскрыв глаза, страдальчески вздрагивали губы, и тело извивалось в страшных муках.
Оттого ли, что пал духом Петр Иванович, оттого ли, что дрожало что-то внутри за жену, только когда Колька с пронзительным криком, ослепленный холодным, блистающим декабрьским днем, вышел из материнского чрева, Сторожев забыл сказать обычные слова о новом работнике, и впервые настоящей отцовской радостью наполнилось его сердце.
Угрюм был Петр Иванович дома, угрюм и молчалив. Лишь один Колька синими глазами и безмятежным смехом скрашивал молчаливые дни отца. Он залезал порой к отцу на колени, щекотал неуклюжей ласковой ручонкой его щеки, захлебываясь, смеялся, когда отец донимал его колючими усами. Он был, как котенок, мягкий, ласковый. Подойдет, бывало, к отцу, запрокинет голову — и вот гляди не наглядишься в его синие глаза: так там безмятежно и тихо, как в лесной заводи, куда не забираются ни ветер, ни буря, где лишь светит солнце и кивают вверху зелеными гривами деревья.
Почему-то больше всех любил Колька батрака. И Лешка любил Кольку, возился с ним, выучил ездить верхом на лошади, и в четыре года мальчишка, ухватившись за гриву, скакал на ней, и она словно понимала, кто сжимает ее бока хрупкими маленькими ножонками. Быть может, зная об этой любви, Сторожев и не прогнал со двора Лешку, когда услышал, что брат его Листрат подался к большевикам.
И Лешка не ушел от Сторожева, словно ничего не случилось, словно бы все шло по-старому. По-прежнему работал он за троих, был весел, слонялся по улицам, загонял девчат в ометы.
Сторожев знал о Лешкиной удали, грозил ему пальцем:
— Ой, изобьют тебя, сукина сына, бабника!
— Куда изобьют, — гоготал Лешка, — сами просятся.
Петр Иванович плевался и отходил, злобно ворча:
— Бес чертов, озорник, гуляка!
После прихода большевиков Петр Иванович все хозяйство поручил Лешке и Андриану — деверю.
Седой Андриан целый день бурчал что-то себе под нос; Лешка ходил по двору, распевая песни, а Петр Иванович сидел дома в переднем углу на лавке, положив на стол тяжелые ладони, и читал, перечитывал библию, все искал осуждения новым делам и порядкам.
— Вот, — говорил он, — пишет пророк: царствовать им полтора года, а потом придет князь Михаил и погонит их. Вот те и Михаил! Он хоть и Романов, хоть и выродок, да пес с ним, все лучше, чем Серега-братец.
Он никуда не ходил, кроме церкви, с братьями не здоровался, с сыновьями был резок и груб.
И, кроме Кольки, никто его не любил.
3
Сергей Иванович побыл в селе недолго, поддал бедноту, выгреб у тех, кто побогаче, хлеб, а тут на Советы навалились белые генералы. Надел Матрос бушлат, бескозырку с лентами, на прощанье зашел к Петру.
— Ты, брат, на меня не сердись, — начал он. Сторожев даже глазом не повел. — Я думал, когда книжечки тебе возил, что по моей дорожке пойдешь, а ты вон как, в помещики вышел, в Учредительное собрание попер. Ну, ладно! Только смотри, Петр, как родному советую: переломи себя, а то нам ломать вас придется. Больно будет. — И вышел.
Петр Иванович ничего Матросу на прощанье не сказал, лишь нахмурил брови и хрустнул суставами пальцев.
К осени восемнадцатого года снова ожил: услышал, что где-то поднялся генерал Краснов, шел напролом и близко подошел к Тамбовщине.
Так нет, черт побери, разбили большевики генерала!
Потом пришел в село Листрат Григорьевич — Лешкин брат. Принес он со службы винтовку и пустой сундук. Однажды утром Андриан увидел, как Листрат отгибал топором гвозди, которыми были забиты двери и окна конторы кредитного общества.
— Ты чего это делаешь? — спросил он.
— А вот обосноваться хочу. Красная гвардия это помещение занимает. Чуешь?
— Чую-то чую, да только гвардии не вижу. Вижу: стоит Листратка, а гвардии будто и нет.
Листрат пригласил Андриана присесть, вынул кисет, закурил.
Листрат — парень загляденье: невысокий, глаза голубые, зубы как кость, отмытая дождем, усы шелковые, светлые, сам ладный, крепкий и улыбка широкая, приветливая.
— Ну, как братана моего Лешку содержите?
— А чего ему делается! Работает! — Андриан закашлялся. — Вот так табачок у гвардии!
Листрат засмеялся.
— Когда же гвардия ваша соберется? — спросил Андриан.
— Вот погоди, набегут.
4
Однажды сидел Сторожев на крылечке. Листрат шел мимо.
— Здорово! — поклонился Листрат Петру Ивановичу.
Сторожев неохотно приподнял фуражку.
— Ну как, отвоевались? — спросил он у Листрата.
— Отвоевались, — ответил Листрат и присел на ступеньку.
«Ишь, расселся, — подумал Сторожев. — Проходил бы с богом».
— Надоело, Петр Иванович, воевать! Ну, Краснова — это туда-сюда, этого я с удовольствием бил…
— Генералов побили, за мужика принялись? Гвардия! Как разбойники на большой дороге народ грабите!
— Да мы не грабим, — заметил Листрат, — мы вашего брата приучаем к себе. Мы ведь теперь в хозяевах.
— Ну, прощай! — грубо сказал Сторожев. — Нам с тобой говорить после обеда надо.
— Прощай! — ответил Листрат. — Ты, смотри, не вздумай мукой торговать, поймаю — по шее надаю. Да брата не тронь — голову сверну за Лешку!
Злоба бушевала в сердце Петра Ивановича. Ему уже не терпелось расправиться с этой нищей силой, вдруг поднявшейся из глубин жизни.
5
Ушел Листрат с гвардией из села быстро: слух пролетел — Деникин идет на Москву.
В августе девятнадцатого года через село проходил казачий отряд генерала Мамонтова; начальник остановился у попа.
Петр Иванович, узнав о приходе казаков, приоделся, причесался и пошел к священнику — друзьями были.
Отец Степан, маленький, седенький, хитрющий попик, притворился испуганным. Он ничего не мог рассказать сухощавому офицеру; моментально вдруг забыл поп, сколько верст до Грязного и как проехать на Ключевку.
— Вот, прошу вас, — засуетился он, обрадовавшись приходу Сторожева, — наш прихожанин, член Учредительного собрания, уважаемый человек.
Офицер быстрым взглядом осмотрел Сторожева с ног до головы и стал расспрашивать о сельских делах, о дороге, о красных.
— Дозвольте узнать, если не секрет, вы какой армии будете? — спросил в конце разговора Сторожев.
— Конной, генерала Мамонтова, — скупо ответил офицер и стал собираться.
— Очень рады, — тихо заметил Петр Иванович. — Значит, конец большевикам?
— Возможно, — протянул офицер, выходя из дома, — весьма-с возможно-с! — и вскочил в седло.
Отряд проходил по пустынному, точно вымершему селу.
«Доблестные войска были встречены хлебом и солью… — горько подумал офицер и дал коню шпоры. — Даже поп крутил лисьим хвостом! Мерзавцы!»
Петр Иванович распорядился собираться на загон близ Лебяжьего озера и пахать его под зябь. Он снова гоголем ходил по селу, отобрал своих лошадей, овец, вывез из сельского амбара все зерно, что взяли у него, — фунт в фунт. А спустя месяц вернулись коммунисты — Мамонтова разбили: бежал генерал от красных сломя голову.
Снова взяли у Сторожева овец, зерно, увели лошадей да еще посадить пригрозили: дай, дескать, только с делами управиться, мы тебе…
Петр Иванович рвал и метал, а ничего не поделаешь: сиди молчи, думай, собирай лоб в морщины… Тут-то и приехал к нему из Кирсановских лесов, из далекого озерного края человек от Антонова; было это в январе, только что расчинался бурный двадцатый год.
Глава пятая
1
Огорожен долго говорил с посланцем Антонова в риге, проводил его задами на дорогу, потом приказал Алешке на завтра к полудню приготовить лошадей.
— Куда поедем?
— На кудыкино поле! — зарычал свирепо Сторожев. — Твое дело лошадей готовить, а мое дело плановать, куда ехать.
«Эка злющий какой! — подумал Лешка. — Только и знает брехать! Черт седой!»
Лешка с сожалением вспомнил, как Листрат звал его с собой в Царицын, а Лешка не захотел ехать — привык к селу, к Петру Ивановичу, привык гулять до поздней ночи с девками, забираться с ребятами в поповский сад, трясти яблоки, ползать во тьме на коленях, собирать сочные, спелые наливы. Но была у Лешки еще одна причина — водилась у него зазноба, звали ее Наташей Баевой.
Приглядел парень девку, да зря охаживал. Ходить ходит, и гармонь слушает, в обнимку сидит, и целоваться охотница, а в омет — шалишь! Блюдет себя.
— Что ты мне за пара? — говорила Наташа Лешке. — Какой из тебя прок? Какое такое у тебя богачество? Ты у Сторожева в работниках, а мне что, в стряпки к нему идти? Ищи другую!
А любила ведь! Знал Лешка: любила, но упряма, смела, остра на язык. Нет мочи, нет сил забыть ее.
Поближе к вечеру Лешка подкрутил кудрявый чуб, надвинул кубанку и пошел искать Наташу.
Быстро бежали по небу дымчатые облака, луна то пряталась за ними, то выплывала и бросала мертвый свет на соломенные крыши, на грязную, осклизшую дорогу, на оголенные ветви деревьев.
Лешка дошел до конца улицы. На бревнах у хилой хатенки самого бедного в Двориках мужика Андрея Андреевича сидели парни и девушки, а посреди, окруженный запевалами, важничал гармонист. Склонив голову к мехам, он наигрывал «страдание», а одна из девушек пела низким грудным голосом:
Ой, досада, ой, досада: Красный мучит мужика, А еще берет досада: По три пуда с едока!Лешка присел к ребятам, угостил их махоркой, получил взамен подсолнухов и стал слушать, о чем говорит народ. Кто-то вполголоса рассказывал об Антонове:
— Красные галифе, красный картуз, ездит на арапском жеребце!
— Генерал, что ли? — отозвались из темноты.
— Какой генерал! Обыкновенный каторжник, в Сибири жил за разбойное дело.
— Ну и что же?
— Ездит на арапской лошади, — продолжал все тот же голос, — и мужиков созывает: «Я, — говорит, — за вас».
— Да ну их к дьяволу! Все они за наш хлеб! — сказал Лешка зло.
— Да-а, — тянул парень в дубленом полушубке, не обращая внимания на злую реплику, — ездит, созывает мужиков, сажает их на лошадей чистых кровей и воюет с коммуной.
— А слышь, ребята, Петруха с выселок к нему ушел. Ушел, и не слыхать о нем, — сказал сидящий рядом с Лешкой мальчишка.
— Ушел?
— Ушел. Взял лошадь и ускакал.
Все замолчали. Слышалась разухабистая гармошка, и певуньи состязались: чем громче и визгливее они поют, тем больший успех имеют.
Потом парень в дубленом полушубке предложил пройтись по селу.
— Холодище! — с неохотой сказал Лешка.
— А-а, подумаешь! Не замерзнем, чай! Эй, девки! — закричал парень в полушубке. — Айда по селу!
Девки поднялись, гармонист стал во главе, и толпа с песнями, шумом и хохотом двинулась по тихим улицам.
Лешка подошел к Наташе, потянул ее за рукав аккуратного стеганого кафтанчика.
Она живо обернула к нему полное, курносое лицо, милое и простодушное по виду.
Давно сказано: внешность обманчива. Все в Наташе было заурядным: красавицей не назовешь, в уроды не определишь: девушка, каких в Двориках немало сотня. А характером пошла в отца: добрячка, но упряма, как бес. Шумлива, но отходчива: вспылит — дым коромыслом, улыбнется — не наглядишься. Зло простит, обмана не потерпит.
Так и Лешку любила: то целуется-обнимается, то отпихнет и катись колесом, да не хнычь, не жалуйся, не ходи по пятам, не умасливай — хуже будет. А то вдруг сама начнет парня тормошить, заигрывать с ним, глазки щурить…
Ее и на селе звали: Наташка-бес.
В этот вечер Наташа не завела своей обычной игры с Лешкой. По селу прошел слух о войне: вот-вот, мол, объявится Антонов, в бой поведет мужика за права. Все это Наташа подслушала, 'когда отец, Фрол Петрович, шептался с приятелем своим, Андреем Андреевичем. Долго ли ей было сообразить, что если войне быть, Лешке воевать в первую голову — вышли парню годы, придется поносить винтовочку. А тут еще Прасковья Сторожева по бабьему делу проболталась: «сам»-де к Антонову норовит, а Лешку с собой вроде вестовым.
Вот почему так ласково прижалась она к нему, незаметно выскользнула из толпы, увлекла Лешку на зады села, в омет, привлекла к себе. Не хотелось ей говорить о войне и атаманах. Просто жалела она его, как умеют жалеть русские бабы, иной раз теряя голову.
— Миленок ты мой! — жарко шептала она, зарывшись в теплую солому и горячо обнимая парня. — Лешенька ты мой золотой, соскучилась-то я по тебе. Думала, забыл, бросил, видеть не хочет! — и положила голову на грудь милого.
…Они разошлись, когда еле-еле начало светать; розовая полоска появилась далеко на горизонте.
— Ну, так что ж, — спросил Лешка, в последний раз целуя Наташу. — Как же мы дальше будем?
— За тобой хоть на край света, Лешка, золото… Папаню упроси, может, в зятья возьмет. А нет, так хоть в батрачки к Сторожеву пойду, только бы с тобой. Пусти меня домой… Не надо, Леша… Пусти… Лешенька… милый…
2
Утром Лешка направился к отцу Наташи Фролу Петровичу Баеву. Это был складный мужичок с рябоватым лицом, опушенным русой аккуратной бородкой. Усы его то и дело вздрагивали от улыбки — ласковой и по-ребячьи ясной, глаза, словно выцветшие за многие годы, часто щурились, и в них тоже теплился свет доброй улыбки.
Одевался он небогато, но все на нем казалось таким чистым и опрятным, что даже заплатки, видневшиеся там и здесь, не производили впечатления неряшества. Во всем его облике так и проступали добродушие и природный ум русского крепенького мужика. Жил Фрол Петрович ни шатко ни валко, батраков не держал, сам в хозяйстве все вершил. Лошадь у него — любо-дорого посмотреть, коровенку он себе выбрал хоть и невзрачную на вид, зато удойную, и молоко у нее — не молоко, а сливки; овцы одна в одну, куры белыми хлопьями рассыпаны по двору, вся снасть в порядке и всегда готова к употреблению.
На большевиков и Советы Фрол Петрович посматривал косо. И злобился: вовсе придушила мужика разверстка. Ни соли в лавочке, ни керосину, ни обувку ни одежки. Доперли, мать их курица!
«Да рази это дело? — кряхтел Фрол Петрович. — Вона теперича, болтают, какой-то Антонов объявился, за нашу, слышь, свободу воевать удумал. Оно что ж, поглядим, подумаем. Может, оно и обернется по-нашенски? Делом пойдет жизня, пущай и Антонов наверху куролесит, нам-то что? Нам абы жить повольготней, да чтоб по сусекам не шарили, в хате не шастали!»
В хате Фрола Петровича, выглядевшей снаружи неказисто, благодаря старанию рано осиротевшей Наташи, все блистало и сверкало.
Дочь Фрол Петрович боготворил. Да и как иначе! Что лицом взяла, что молодым, упругим станом, что хозяйской привычкой и мастерством в любом рукоделье!..
Золотая девка, золотые рученьки!..
Многие присватывались к Наташе, да никто ей не был люб, а тут вдруг явился Лешка. Двориковские парни дивились:
— Эка выбрала богатея! Мать — охрипшая старушонка, ее так и кличут Хрипучкой, братан — в коммуне, изба еле держится и хоть шаром в ней покати. А во дворе телка — кожа да ребра.
А вот поди ж ты, полюбила!
Фрол Петрович давно о том догадывался и присматривался к Лешке, как хороший хозяин присматривается к бычку перед покупкой.
— Фрол Петрович, к твоей я милости. — Лешка покраснел и шмыгнул носом.
— Знаю я, зачем ты ко мне! Мало на твоей душе девок, — буркнул Фрол Петрович, впрочем добродушно.
— Он ведь хороший, Алешка-то, — заступилась за жениха Наташа — она творила тесто.
— Жить без нее не могу! — признался Лешка с отчаяньем.
— То-то вижу, похудел аж! — усмехнулся Фрол Петрович. — Жить не может! Скажите, пожалуйста! Стало быть, накобелился?! Нет, ты ответствуй! — строго добавил он.
— Да я… — начал было Лешка.
— А ты со мной не спорь, слышь? Не спорь, говорю! — Фрол Петрович возвысил голос. — Парень-то ты больно неуверенный.
— Как неуверенный? — Лешка рассердился.
— Ну, ну, не вскипай! Эка самовар нашелся! Неуверенный, вот и все! Огня много, а жару с гулькин нос. Не верю я тебе. — Фрол Петрович сдвинул брови и сурово замолчал.
— В зятья пойду, Фрол Петрович! — пробормотал растерянный Лешка.
— Не верю, не верю! — стоял на своем Фрол Петрович.
— Папаня! — взмолилась Наташа. — Да что ты, папаня!
— А ты уйди! Не бабье дело мужицкие разговоры слушать!
Когда Наташа вышла, Фрол Петрович деловито сказал, с мужицкой привычкой прибедняться:
— Живу худенько, коровенка, да лошаденка, да дочь-красавица — вот и вся моя сила. — Он посмеялся не слишком весело. — А девка — золото! Я те, мошеннику, голову оторву, если ты такую девку испоганишь. — Это прозвучало серьезной угрозой, и Лешка поник головой.
Фрол Петрович умягчился: парень пришелся ему по душе. Работает у Сторожева исправно, на все руки мастер, а с девками кто по молодости не баловался? Нет, зять будет, пожалуй, подходящий.
Лешка сидел ни жив ни мертв. Фрол Петрович усмехнулся про себя и сказал:
— Ладно уж! Эка нос повесил. Давай иди в зятья, согласный я. Мне и то трудновато стало кошелки-то из риги носить. Поноси ты.
На том и сладились: быть свадьбе.
После обеда пошел снег, небо закрыли свинцовые облака. Тянул свежий ветер, пустынно было в поле, галки с карканьем носились бестолково туда и сюда, ссорились, дрались.
Сторожев сидел в санях, укутавшись в тулуп. Лешка на козлах тянул песню, а думал о Наташе, о предстоящей свадьбе.
Ночевали верстах в двадцати от Двориков в селе Грязном. Утром Сторожев положил в сани тяжелый тюк, прикрыл его соломой. Лешка все-таки углядел, что лежит в тюке, и плюнул: книжки и листы, на которых было что-то отпечатано черными большими буквами.
Отъехав версты три, Лешка повернулся к хозяину и сказал:
— Женюсь, Петр Иванович.
— О! — удивился тот. — Это какая же графиня связала тебя, черта беспутного?
— Наташа Баева, — гордо ответил Лешка. — Девка, брат, во!
— Девка-то во, да дураку досталась. Тоже нашел время жениться! Выбрось из головы девок. Страшное время идет. Воевать, видать, нам придется, не то разор, вконец разор.
— А может, я не желаю воевать? — осмелев, буркнул Лешка.
— Куда хозяин, туда и ты!
— Эка сказал!
— Да ты, никак, фырчать начал? С чего бы это? Верни долг — пятнадцать пудов муки мать вперед забрала. И лети, куда хочешь!
Лешка гневно засопел.
— Не горюй, Алешка, — смягчился Сторожев, — за свое крестьянское дело повоюем. Хорошо будешь служить — вознагражу!
Петр Иванович укутался в тулуп и замолчал. Замолчал и Лешка: грустно ему вдруг стало.
— Ну, вы! — заорал Лешка, поборов подступающие слезы. — Шевелитесь!
Ехали долго, держали все на юг. Потом приехали в богатое село Инжавино. Петр Иванович выпряг одну лошадь, подседлал ее, и Лешка с насмешкой смотрел, как хозяин, нелепо задирая ноги, забирался в седло: Сторожев служил в пехоте и к верховой езде не приобык.
Грузно ввалившись в седло, он уселся поудобнее, наказал кое-что Лешке по части хозяйства, сказал, куда спрятать куль, что лежал в санях, и поехал рысью, трясясь, как мешок с овсом. Скоро морозная мгла, скрыла его.
Глава шестая
1
На опушке леса, верстах в семи от Инжавина, в холодный, вьюжный январский день тепло и уютно было в землянке, где жил Антонов. Весело горела печка, слышался рев метели, а в затишье — мерные хрустящие шаги часового. Вокруг печки расположились: Антонов с картой губернии, в которую он был всецело погружен; Токмаков, не расстававшийся с книгой; Ишин, занятый плетением из тонких ремешков конской узды; Плужников, мечтательно глядевший в огонь, и Сторожев, зябко кутавшийся в тулуп, — его трясла лихорадка. Денщик Абрашка подкладывал в печку дрова, а комендант Трубка мешал ложкой в котелке с кашей.
На нарах, застланных седельными потниками, укутавшись в лоскутное одеяло, спал брат Антонова Димитрий, забубённая головушка, с моложавым девичьим лицом, бывший аптекарь, мнивший себя сочинителем: он писал стишки.
Оружие — винтовки, маузеры и кольты лежали на нарах в углу. На вбитых в дощатую стену землянки гвоздях висели планшеты, бинокли и одежда. Колченогий стол был накрыт для обеда. Через единственное оконце лился мутный зимний свет.
Разговор шел давно и на какое-то время прервался, потому что никто из споривших никак не мог прийти к согласию по щекотливому вопросу, который не давал покоя Плужникову.
— Вот ты говоришь, Петр Иванович, милок, — взывал он к Сторожеву, — что бедноте, мол, нет места в восстании, да и по землице ей вовсе бы не бегать…
— Откуда бы он батраков нанимал? — С громким, пронзительным хохотом вставил Ишин. — У кого бы землицу скупал, а?
Петр Иванович кисло поморщился от визгливого смеха Ишина.
— А что же с ними прикажешь делать? — спросил Токмаков, оглядывая Сторожева, словно впервые его видя. Пламя печки сверкало на голом черепе Токмакова. — Куда их девать? Перебить всех или утопить, как слепых котят?
— А по мне, хоть и утопить, — резко ответил Сторожей. В душе его пылала бешеная ненависть к голытьбе, отнявшей у него власть, землю, лошадей.
Трубка, попробовав кашу и сплюнув, сказал сиплым басом:
— Готово. Обедать, отцы командиры!
Его махонькая, в кулачок, голова, словно на смех, была Прилеплена к объемистым и грузным телесам.
— Погоди, — досадливо отмахнулся Антонов. Он водил пальцем по карте и делал отметки на грязном лоскуте бумаги.
— Я бы погодил, да утроба моя не велит! — буркнул Ишин. — Эй, Трубка, водка к обеду есть?
— Нет водки, Иван Егорыч, и самогону нет, и спирту нет и даже удеколона не осталось, поскольку вчерась вы оченно сильно, Иван Егорыч, на выпивку навалились с Санталовым.
Антонов, оторвавшись от карты, погрозил Ишину кулаком, а тот ухмыльнулся.
— А ты не маши, Александр Степаныч. Самогон-то я же и достаю.
— Н-да, — почесав за ухом, сказал Плужников. — Бедноты, душа моя Петр Иванович, на Руси столько, что ежели ее всю утопить, моря-океяны из берегов выйдут. — Он вздохнул. — Тут надо рассудить головой холодной.
— Голова холодная, когда утроба голодная! — заметил Ишин. — А Петр Иваныч, поди, не знавал, что это такое, когда мамон пищи желает. Баранина, поди, не переводится, и щи, поди, не пустые хлебает.
Трубка густо засопел от смеха и подавился кашей, которой он набил свой огромный рот. Денщик фыркнул.
— Ты бы хоть при нас-то разговаривал по-человечески, — презрительно оборвал Ишина Сторожев. — Ныне такими словами разве что старухи темные выражаются.
— Поучи меня, сделай божецкую милость, — Иван Егорович отвесил Сторожеву поясной поклон. — Научи серого говорить по-расейски. Ты помалкивай! — вдруг рассвирепел он. — Я с любым профессором могу объясниться так, что друг друга с полслова поймем. Образованный! Меня, брат, так жизнью терло, что язык на все случаи отточен.
— Будет вам, — остановил их Токмаков, глядя на Ишина холодным взглядом из черных, глубоких, как у мертвеца, глазных впадин. — Бахвалыцик!
— И-ии-хи-хи! — вдруг раскатился Трубка почему-то тоненько-тоненько, по-бабьи.
Антонов дернул плечами. Трубка мгновенно замолк.
— Все вы, Сторожев, воистину волки, — резко заговорил Токмаков. — И каждый из вас в особинку хочет сожрать барана. Беднота!.. Понимаешь ли ты, что с нами будет, если мы ее не настропалим против большевиков?
— Ее застращать можно, — коротко бросил Сторожев.
— На время, — сказал Токмаков.
— На то время, которое нам понадобится, хотя бы, — вставил Антонов.
— Н-да! — Плужников провел рукой по реденьким пегим усам — как и все в штабе, кроме Антонова, он отпускал их по-казацки вниз. — Кто ж знает, милки, сколь много нам понадобится времени, — это раз. И далее выскажусь. Можно застращать сотню, тысячу, а как всех застращаешь? Их немало, голубчики, половина на селе.
Антонов почесал за воротом гимнастерки и промолчал.
— Мы их кнутом, а большевики — пряничком, — хмуро заметил Ишин. — Ох, жрать охота! А наши спорщики, видать, до ночи не кончат.
Абрашка взял ложку, облизнул ее, потом для верности вытер о засаленные, потерявшие первоначальный цвет широченные, как паруса, галифе и поставил перед Ишиным котелок. Иван Егорович откровенно наслаждался едой, щурил масленые глаза и строил какие-то знаки Трубке. Тот отрицательно махал кургузой головкой с редкими черными волосами.
— Вот и верно сказал Иван Егорыч, — продолжал задумчиво Плужников. — Мы кнутиком, они пряничком. Что слаще — все знают. Да и мы тоже. Нет, это не то, не то, братики.
— Только страхом, — жестко повторил Сторожев свою мысль.
Антонов резко поднялся.
— Канитель одна, ни до чего вы не договоритесь. А ларчик-то просто открывается, вы, спорщики! Беднота до тех пор за большевиков, пока не понахапает земли и всякого добришка на дармовщинку. Мало-мальски оправится — и нет бедноты. Все они в одну масть: бедняк хочет в середняки вылезти, середняк лезет…
— В кулаки, — уточнил с ухмылкой Трубка.
Сторожев метнул на него гневный взгляд, но сдержался.
— Да и черт с ними, пусть и в кулаки прут, нам-то что! — рассмеялся Ишин.
— Что ж, возможно, ты прав, Иванушка, прав, милок, — нехотя согласился Плужников.
— Слушаю я вас, — мрачно нахмурившись, вступил Сторожев, — и думаю: главного вы не соображаете. А дело проще репы пареной. Голод, голод, вот что всех мужиков словно смолой друг к дружке прилепит, да так, что не оторвать никакой силе. Слышали, что у нас делается? Продотряды чистят закрома под метлу. А перед продкомиссаром, которому приказ дан взять хлеб, — что я, что мой сосед Фрол — одним миром мазаные…
— Здорово ты соображаешь! — покровительственно кинул Антонов в сторону Сторожева. — А эти болтушки, черт бы их побрал, — Антонов ткнул пальцем в сторону Плужникова и Токмакова, — три месяца глотки надрывают… Хватит споров, Сторожев все сказал. Обедать!
Денщик кинулся ко второму котелку, стоявшему на печке, расставил глиняные блюда, нарезал толстыми краюхами хлеб. Все пододвинулись к столу. Сторожев истово перекрестился.
Плужников ел тихонечко, дуя в ложку; Токмаков, как всегда, рассеянно, потому что ел и читал одновременно; Трубка жадно набивал необъятную свою утробу; Антонов хлебал мелкими глотками и морщился — кухня Абрашки не слишком ему нравилась.
— Черт коротконогий! — сердито сказал он, швыряя ложку, которую Трубка тут же поднял и, с подобострастием вытерев грязным полотенцем, положил перед «самим». — Черти коротконогие! — Это уже относилось не только к Трубке, но, очевидно, и к Ишину. — До кой поры будете, словно свиней, кашей нас накачивать? Где сало, мясо, капуста? — Антонов обращался теперь к Трубке. — Сволочь паршивая!
— Так что в село посланы люди и к вечеру свинины налажу, — пообещал Трубка, отходя на почтительное расстояние от Антонова, очень горячего на руку. Это Трубка хорошо знал.
Сторожев как будто не слышал перепалки. Он грузно зачерпывал ложкой кашу и, держа под ней ломоть крепко посыпанного солью хлеба, неспешно отправлял в рот. За едой он разговоров не любил — к тому был приучен сызмалетства дедом Лукой Лукичом. Тот разговорщиков бил ложкой по лбу, да так, что иной раз ложка разлеталась в щепки.
Поели, выпили чай с морковной заваркой.
— Стало быть, Петр Иванович, миленький, — как бы подытоживая разговор, заговорил Плужников, когда Сторожев еще клал поклоны и размашисто крестился, — на том ты и стоишь, голубь, на голоде?
— Выдумай, чтоб без него, оно дело христианское, — отозвался Петр Иванович.
Все замолчали. Трубка с рвением, достойным лучшего применения, гремел посудой, перемывая ее. Димитрий проснулся, выругал Трубку, и тот немного притих. Токмаков снова взялся за книгу, а Ишин, подмигнув Трубке, вышел. Вместе с захлопнутой дверью в землянку ворвалось облако холодного воздуха.
Сторожев еще плотнее закутался в тулуп.
2
Плужников ходил из угла в угол. Антонов разбудил брата.
— Пообедал бы, Митя, — сказал он.
— После, — сказал тот и, повернувшись, захрапел.
Антонов сел рядом на нары и начал переобуваться.
— Ну, мне пора, нагостился! — Петр Иванович встал.
Антонов накинул тулуп и вышел, знаком позвав за собой Сторожева.
Плужников, хмуро посмотрев им вслед, заметил:
— Да, братик Петруша, вот оно как! Ну, волчище… Не заставит ли он всех нас под свою дудочку петь?
Токмаков ничего не сказал.
Петр Иванович уехал тем же вечером.
Перед отъездом он долго толковал с Антоновым. Было ясно Петру Ивановичу — нужен он антоновцам позарез: в Тамбовском уезде у него друзей-приятелей полно, и как раз в этом уезде Антонов тщетно искал верных и надежных. А кто мог быть вернее и надежнее Сторожева? Александр Степанович помнил, что ему говорил об этом волке дружок Булатов. Конечно, мироед, злой и жадный, но зато пойдут за ним тысячи таких же мироедов, выбравших его в Учредительное собрание.
— Срок доспеет, — уговаривал его Антонов, — мы тебя комиссаром внутренней охраны сделаем, всю восставшую округу под твою руку отдадим, за порядком блюсти, измену изводить.
Сторожев кобенился, набивал себе цену. Антонов бесился, но продолжал уговоры с еще большей настойчивостью.
— Все это так, — пробормотал Сторожев, выслушав увещевания Антонова. — Непонятно мне, как землей распорядитесь.
— Не спеши, — хмуро отозвался Антонов. — Чего делить шкуру, когда медведь бегает?
— Ну, это как сказать. Я из-за этой земли ночей не досыпал, мои сыны ее пóтом полили.
— Свое получишь! — пообещал Антонов.
— Что ж, тогда сладимся, — угрюмо сказал Сторожев. — Только попомни, Александр Степанович, мое слово. Не угодишь — иди ты в транду, мы другого Антонова выдумаем, только и всего.
Антонов, гневно сдвинув скулы, промолчал. Тут вошел Токмаков, и Сторожев поднялся. Токмаков распрощался с ним холодно; не нравился ему волчий блеск в глазах Сторожева, когда тот заговаривал о земле.
— Сволочь! — прошипел Антонов вслед Сторожеву, когда тот, сутулясь по обыкновению, вышел из землянки.
— Почто ты его так? — усмехнулся Токмаков.
— Да ничего, — уклонился Антонов. Он был в бешенстве от того, что сказал ему Сторожев. Но пойди обойдись без него!
Одному Плужникову Александр Степанович признался в том, что у него вышло со Сторожевым. Тот смиренно поджал губы и, возведя очи к небесам, прошепелявил:
— Кесарево кесарю, Степаныч. С волками жить — по-волчьи выть, миленок.
3
Недели через две после посещения Сторожевым лагеря повстанческой дружины программа объединения мужиков была готова.
Ничего не придумав насчет бедноты, Плужников ограничился туманной фразой насчет «светлого единения всего трудового крестьянства в борьбе с насильниками-большевиками» и обещанием «подравнять» бедноту с середняками после воины.
Конечно, насчет голода в воззвании было расписано особенно густо.
В своем первом воззвании к «трудовому крестьянству» Плужников писал в ханжеском тоне:
«…лучшие земли твои коммунисты отвели под коммуны и совхозы…»
«…из совхозов, чтобы не разорять их, они ничего не берут, а у тебя, трудящийся люд, выгребают без меры хлеб, не считаясь с твоими нуждами, тащут бороны, плуги, сохи, хомуты, лошадей, отбирают корма…»
Кулачье, читая эти строки, проливало горючие слезы; середняк мрачнел.
Глава седьмая
1
Возвращаясь от Антонова из Инжавинских лесов, Сторожев остановился переночевать в селе верстах в сорока от Двориков на надежной конспиративной квартире.
И чуть было не попался. В каком-то месте лопнул винтик, власти начали хватать направо и налево заподозренных в бандитизме. Сторожеву удалось скрыться.
Две недели он колесил по округе, по знакомым хуторам. Февраль застал его в землянке, в лесу, далеко от родного дома.
Часто, когда бушевала непогода и приходилось забиваться в землянку, Сторожев мрачно смеялся, вспоминал, как ловко он обвел коммунистов. Жил злобой, надеждой на силы, которые весной он соберет вместе с Антоновым и «батькой» Григорием Наумычем.
Несколько дней подряд шел снег, в землянке появилась сырость. Однажды Сторожев проснулся покрытый изморозью. Тщетно пытался он развести костер: сырой осинник шипел, чадил и гас. Он не мог согреться, зубы выбивали дробь, ноги ломило, болела голова.
Сторожев понял, что он болен, что оставаться в землянке ему нельзя, надо искать приют. И решил он пробраться к своему приятелю, леснику Филиппу — его участок был недалеко от того места, где прятался Сторожев.
Он шел едва заметными тропами, мимо трясин и камышовых зарослей, в которых не раз охотился с лесником, увязал в незамерзающих болотцах, падал и поднимался — чутьем находил дорогу.
Голова болела, его бросало то в холод, то в жар, мысли путались, и он начинал бредить.
2
Около лесниковой избы силы покинули Сторожева, и он упал.
Очнулся он через неделю. Над ним наклонилось женское лицо. Сторожев попытался подняться, но сильные руки удержали его в постели.
— Лежи, лежи, — ласково сказала женщина. — Заворочался!
Петр Иванович слабо вздохнул, что-то хотел сказать, но сознание вновь заволокло серым туманом. Лишь через два дня снова вернулось оно к нему.
Было тихо вокруг, тихо и светло. Сторожев привстал и оглянулся. Он лежал в чистой знакомой избе. Да, он помнит эту большую горницу, лики святых на иконах, высокие окна и запах свежей сосны. Держась за спинку кровати, Петр Иванович спустил на пол ноги и, цепляясь за стулья, подошел к окну. За палисадником, за лощиной, чернел лес, по небу шли бурые облака, оседая снегом на острых вершинах елей. Он тихонько засмеялся — надежен был для него этот дом.
Потом Сторожев снял с простенка засиженное мухами зеркальце и увидел худое, восковое лицо и длинную бороду.
Заскрипела дверь, пропустила тучного, краснолицего человека, одетого в нагольный полушубок.
— Любуешься? Ну, стало быть, ожил, раз за зеркало взялся. — Краснолицый — это был лесник Филипп — сочно засмеялся и стал раздеваться.
Опираясь на плечо Филиппа, Петр Иванович проковылял к постели. Лесник расчесал пятерней желтые волосы, стриженные под скобку, расправил пышные усы, присел на скамейку близ стола, вынул кисет.
— Так-то оно, кум! — заговорил он, свертывая козью ножку. — Я и не думал, что живым тебя увижу, больно плох ты был, ох, и плох, кум! — Лесник послюнявил конец козьей ножки и начал насыпать в нее с ладони табак.
— Слуга я тебе по гроб, — тихо отозвался Сторожев.
— Чего там слуга! — махнул рукой Филипп. — Одному богу молимся, один у нас хозяин. Ты спи, кум, я пойду поем, не обедал еще. Спи, поправляйся!
Лесник вышел. Сторожев натянул одеяло, повернулся на бок и заснул. Сквозь сон он слышал, как открывалась и закрывалась дверь, как ходили по комнате, о чем-то шептались, изредка подходили к нему, заботливо оправляли одеяло. Он проснулся, когда в избе стало полутемно, перед иконами горела лампада и по стене металась чья-то тень. Петр Иванович поднял голову и увидел молящегося кума. Он снова уснул. Утром его поила чаем Матрена, жена лесника.
— Филипп Иванович, — говорила она, по-детски морща нос, — нынче ночью уехал на станцию. Боязно мне одной. А ну, как наедут сюда коммунисты!
— А что, разве наезжают?
— Летом часто наведывались, будь они прокляты! Лесник, слышь, богач! Все углы обшарили, все сундуки разворочали! Один расстрелять грозился: ты-де, мошенник рыжий, кулак, знаем, в какую сторону глядишь! А теперь к нам ехать трудно: тропы надо знать, а то погибнешь в трясинах.
— А как наедут?
— Ох, молчи! Ночью-то осина зашуршит, а мне людской говор мерещится. Совсем извелась!
— Слуга я ваш по гроб моей жизни, — прочувствованно вымолвил Сторожев.
— Это оно конечно, — равнодушно заметила хозяйка. — Охо-хо, не хотела бы тебе говорить, да своя рубаха ближе к телу. Часа три назад из волости один проехал, знакомец наш. Рассказывает: комиссары-то вот уж как злы. В ихнем селе ночевал кто-то, обыски шли, а тот ночлежник, о них проведав, тем же часом смотался. Кто ж знает, кого они ищут, батюшка. — Хозяйка подозрительно посмотрела на Сторожева.
Сторожев нахмурился: «Вот незадача!»
Хозяйка вдруг завыла:
— Поправляйся скорее, батюшка, уходи от нас, пожалей наши головушки!
Сторожев цыкнул на нее. Она взвыла еще громче, то молила уйти, то сыпала проклятьями.
— Помолчи, дура! — зарычал Сторожев. — За свою шкуру боишься? А я не боялся, когда твоего мужика спасал?
Филипп Иванович был старым другом Сторожева. Он служил в одном полку с ним, но отец — богатый хуторянин — быстро откупил его. Филипп вернулся из солдатчины, отделился, продал скарб, скот, уехал в соседний уезд и нанялся в лесники. Дал себе зарок — стать богатым. И такие порядки завел: не то что бревна — сучка не украсть чужому человеку! Ловил Филипп мужиков с краденым лесом и нещадно драл с каждого штраф. Слезы его не трогали, жалобных слов он не слушал. В семнадцатом году чуть не убили лесника. Вот тогда-то и спас его Сторожев: приехал, уговорил мужиков, пригрозил. Народ сердцем отходчив: пошумел, плюнул да вроде и забыл обиды.
До восемнадцатого года прожил Филипп тихо и спокойно, деньжонки припрятал, скотину пораспродал, так что, когда к нему явились большевики, ничегошеньки не нашли. Уехали. Филипп оскалил зубы и хитренько баском заржал. А мужиков стал прижимать покрепче. «Я-де советской власти служу, сучьи дети, — говорил он. — Она-де покажет вам кузькину мать — свободу».
— Квиты мы, — добавил Сторожев. — И молчи, спать хочу.
Сторожев лег, но не спалось ему: тревога заползла в его сердце. «Может, кто-то пронюхал, что я в землянке у Антонова был? Может, и разговоры с ним стали властям известны: у Антонова шантрапы тоже не занимать стать. Может, меня-то как раз и ищут?»
Правда, Сторожеву часто приходилось надолго уезжать из Двориков по своим и сельским нуждам. Чем он на самом деле занимался в этих поездках, никто не знал: был Петр Иванович осторожен. А тут промашку сделал. «И понесло же меня в тот проклятый лес! Какого рожна мне было нужно? Все от жадности, Петр, все не терпится тебе поскорее с коммуной посчитаться!» — укорял самого себя Сторожев, ворочаясь с боку на бок.
«А может, вовсе не меня ищут? Может, зря я дал тягу? Документы в порядке, не раз бывал в том селе по разным делам… Опять промашка: могли узнать, что был в селе и вдруг скрылся. Почему, спросят? А-а, черт твоей бабушке!»
Что бы там ни было, Сторожев не хотел подводить Филиппа. Пригодился в этот раз, пригодится и еще, гора с горой не сходятся, а человек с человеком…
«Уйду!» — решил он и с этим уснул.
3
С каждым днем прибывали силы. Сторожев уже ходил по избе, подолгу сидел у окна, всматриваясь в темную гущу леса. Плелись тихие, спокойные мысли, совсем не хотелось думать о том, что вот скоро надо уходить из этой теплой, чистой горницы.
Шел сырой, липкий снег. Петр Иванович выходил во двор и подолгу стоял, наблюдая, как покорно принимают ели на свои плечи тяжелый снежный покров.
Наконец со станции возвратился Филипп. Вечером, сидя за чаем, Сторожев сказал ему:
— Кум, мне надо уходить. Постой, не перебивай! Сам гибнуть не хочу и тебе того не желаю. А гостей надо ждать вот-вот. Присоветуй, что делать, куда податься.
Филипп помолчал, закурил и ответил:
— Не держу, кум. Уходить тебе пора. И то счастье, что до сих пор не пронюхали. Вот что: тут неподалеку есть землянка. Двое каких-то спасались в ней летось. Дезертиры или еще кто — пес их знает. Землянка отличная. Живы те люди — хорошо, нет — один до весны прокукуешь… Я тебя навещать буду, припасов, патронов доставлю, не беспокойся. Вот подождем морозов — и айда!..
В середине марта ударили морозы. Зазвенели сосны, и затрещали стены избы. Филипп Петру Ивановичу дал валенки, шубу, запас белья, мешок сухарей и патронов к винтовке. На рассвете Сторожев и Филипп были уже далеко.
К полудню поднялся ветер, деревья сурово шумели, в просеках кружила поземка. Лошадь иной раз глубоко проваливалась в сугробы. Ехали весь день. Когда начало темнеть, Филипп остановил лошадь, отошел к деревьям и позвал Сторожева.
— Вот видишь высокую сосну? Иди и иди на нее. Дойдешь, сверни налево и держись с полчаса лощиной. Когда упрешься в дубняк, иди прямо через него. Выйдешь на опушку, перейдешь ее, там и ищи землянку. В ельнике она.
Он повторил еще раз приметы и добавил:
— Смотри, держись прямо, не уйди вправо — там волчье место, там капканы ставят. Ну, с богом!
Петр Иванович вскинул на спину винтовку, мешок и, не оглядываясь, пошел в лес. Лесник долго стоял, глядя вслед ему, потом махнул рукой, сел в сани, повернул лошадь и хлестнул ее кнутом.
4
Сторожев нашел высокую сосну, свернул влево и пошел лощиной, поросшей мелким кустарником. Ветер на открытом месте дул сильно, поднимал снежную пыль, нес ее, крутил, бил в лицо, резал щеки, колол губы. На небе ярко разгорались звезды. Где-то вдали послышался приглушенный вой.
«Волки», — мелькнуло в мыслях.
Сторожев прибавил шагу. Но идти было трудно, ветер сбивал с ног. Наконец впереди зашумела черная стена дубняка. Стало тише. Петр Иванович присел на пень, вытер мокрое лицо, снял лед с усов и бороды.
И снова очень близко услышал протяжный вой, вскочил, бегом бросился в дубняк, долго шел, задыхаясь, по пояс проваливаясь в снег, ушибаясь о невидимые пни и поваленные бурей деревья, пробиваясь сквозь колючий кустарник.
Не было видно конца лесу, не было видно просвета; он все шел вперед и вперед, падал и поднимался, бормотал ругательства и молитвы; цепкий, злой кустарник хлестал по лицу, раздирал кожу, и теплая кровь текла по щекам, мешаясь с потом.
Сторожев обессилел, снял мешок, закопал его в снег под разбитый молнией дуб и, облегченный, помчался вперед, подгоняемый воем.
Волки приближались. Они то выли сзади, то обгоняли Сторожева, тени мелькали совсем близко, в нескольких шагах. Пугануть бы их выстрелом, но стрелять он боялся.
Была ли это та самая опушка, о которой говорил Филипп, или на другую выбрался Сторожев, но окончился дубняк, огромная прогалина, залитая лунным светом, лежала перед ним. Здесь вовсю гулял ветер, резкий, жестокий.
Отогревая дыханием замерзшие руки, Петр Иванович вышел на поляну. Он искал глазами ельник и не находил его. Впереди, сзади и с боков его окружали старые, корявые дубы.
Шагая по поляне, Сторожев по грудь провалился в яму, винтовка сползла с плеч и упала в снег. Он попытался выбраться из сугроба, но вдруг левую руку со страшной силой сдавили железные зубы.
Капкан! Волчьи ямы!
Напрасно барахтался он, стараясь выбраться из стального плена. Его ноги уходили все глубже в снег, его рука была крепко захвачена капканом. Напрасно он звал на помощь, ему отвечали лишь волки.
Наконец Сторожев сдался, силы оставили его, голос охрип. Так лежал он, неподвижный, скованный железом и холодом, ветер заносил его снегом, стужа подбиралась к сердцу, стыла кровь. Сознание оставляло его, вихрем неслись образы, нестройные видения, оживали давно умершие люди.
И тут он, точно наяву, увидел перед собой землю у Лебяжьего озера и себя посреди полей, одинокого на своей земле. И так страшно стало Сторожеву умирать в этом лесу, одному среди деревьев, снега и волков.
В последний раз открыл он глаза — вверху над ним холодно сияли звезды.
Глава восьмая
1
Весной двадцатого года Антонов разослал по губернии тех, кто прошел, как он шутливо говорил, академию партизанской войны в Пахотноугловской коммуне и в Инжавинских лесах. То были командиры будущих полков, их начальники штабов, штабные адъютанты, всего около полутораста человек — цвет и надежнейшие кадры повстанья. Полки должны были формироваться из населения, из дезертиров, местных, разумеется, в первую голову. Недаром Антонов пристраивал их на любую работу, спасая от мобилизации.
Было решено к моменту восстания соединить полки в две армии. Во главе первой поставили Петра Токмакова, который к тому времени окончил формирование отделов Главного оперативного штаба партизанских армий Тамбовского края; командующим второй — Кузнецова, бывшего подполковника.
Дружина превратилась в отряд личной охраны Главоперштаба, ударный гвардейский полк Санфирова насчитывал две тысячи отлично вооруженных и обмундированных конников.
Приготовил Ишин громадные запасы продовольствия. Лошадей, скупая их в соседних губерниях, табунами присылал ему Федоров-Горский, а изъезженных Иван Егорович отсылал адвокату на комиссию и для поставки Красной Армии.
И все прочее было расписано как надо быть. Разведка тоже налаживалась, и деревни кишели агентами мятежников; сеяли они лживые слухи, будто, не желая лишнего кровопролития, Антонов на время прекратил междоусобицу и даже обратился к Советам с воззванием прислушаться к голосу трудового крестьянства, внять их горемычной судьбе. И ждет, мол, Александр Степанович ответа: может быть, одумаются большевики, прикончат «чехарду гражданской войны», помирятся с другими странами, столкуются с трудовым крестьянством и облегчат участь мужиков и прочих людей русских. Но ежели, мол, большевики заупрямятся, а дела-то у них, отцы, плохи, ох, плохи, снова начнет войну Александр Степанович. В той войне, дескать, только одну цель имеет Антонов: защитить крестьянство от голодной смертушки… И поклялся-де Александр Степанович у мужиков ничего не брать: ни хлеба, ни кормов для лошадей. Ни даже людей насильно в армию свою гнать не желает, как это делают красные. И не заискивает он перед трудящимся крестьянством, не ищет его благоволения, сам мужик к нему придет, когда поймет, что к чему.
И верно: доведенные до ярости продразверсткой, богатеи сами начали искать Антонова, звать его к себе, и шли к нему толпами сынки кряжистых мужичков, тех, что прятали хлеб в ямах от коммуны, — решали они постеречь закрома свои с винтовкой в руках, попытать счастья с Антоновым.
И вот из Хитрово, Афанасьевки, Верхоценья, Понзарей, Павлодаров, Пустовалова, из богатых сел борисоглебских, кирсановских, моршанских, козловских, тамбовских стали уходить молодые люди из богатых семейств к бандитским атаманам.
И Антонов был готов принять их. Все предусмотрели его помощники! Договорились и о точном размежевании: Антонов дал клятвенное обещание не вмешиваться в политику; Плужников заверил Александра Степановича: политические вожаки восстания не будут ему помехой в делах военных. Договор подписали, и Антонова назначили начальником Оперативного штаба партизанских армий Тамбовского края.
Агентурой по-прежнему ведал Федоров-Горский. Он вращался в большом тамбовском свете — этот друг и закадычный приятель многих ответственных и полуответственных деятелей и нравился им. Во всех отношениях приятный и обходительный, преотличный собутыльник, поит и кормит на убой, но сам в рюмочку еле заглядывает, прекрасный партнер по части карточных забав. Всегда улыбается, мило острит, умеет вовремя сказать умное слово, чаще же молчит и слушает, навострив синеватые уши. С ним всегда красавица жена, пленяющая военных и штатских, сроду не видавших такого сорта «бабочек». От обожателей она умела узнавать такое, до чего ее блистательному супругу и не дотянуться.
Супруг изящно разыгрывал роль человека, далекого от политики, и откровенно признавался, что он просто-напросто спекулянт, да, да, клянусь честью! Ему не верили. Помилуйте, какой же спекулянт станет так откровенно болтать о своей отвратительной профессии? Непомерные деньги, которые обольстительный Федоров тратил на приемы и угощения, никого не смущали. Ведь все знали, что в прошлом он скопил немалый капиталец. К тому же служба в Петроградской конторе по закупке лошадей… За лошадок ему платят, поди, немалые денежки.
Никто, конечно, и не подозревал, что платят ему не только за лошадок. Никто и думать не мог, что Горский связан не только с центральными комитетами правых и левых эсеров, но и с питерскими и московскими кадетами и с отъявленными монархистами.
Так тамбовские заговорщики в сермяжном маскараде очутились в союзе с заграничными центрами ярой белогвардейщины, и трудно понять, кто в конечном счете командовал повстаньем: эсеры или те, кому по совместительству служил господин Федоров-Горский, адвокат.
Федоров-Горский клялся, что работает только на «несчастного, обиженного русского мужичка». Работал он более чем исправно; Антонов был им доволен. Доволен был и Федоров-Горский. Платили ему, не скупясь, и он старался изо всех сил. Бывали случаи, когда красный отряд, выступивший против Антонова по прямому оперативному приказу из Тамбова, находил этот приказ в ставке антоновских войск: он доставлялся повстанцам агентами Федорова-Горского в день его подписания!..
Короче, все было готово. Нужен был человек, который занялся бы охраной восставшего края, складов, коммуникаций, тайных штабных убежищ, имевший право судить и миловать по законам военного времени. Нужен был вожак для волчьей стаи.
И решил Антонов вызвать Сторожева.
Он знал, что случилось с Петром Ивановичем, как охотники, бродившие в округе, где зимовал Сторожев, напали на его след, нашли Сторожева, привезли в ближнее село.
2
В больнице застрял Петр Иванович до мая.
Он вернулся в село похудевший, смирный и тихий. Казалось, никогда не забудет он той ночи в лесу; казалось, кончились тревожные дни, сломлен Сторожев, сдался.
Он стал еще нелюдимее, еще молчаливее.
Когда кипучей волной пошли слухи об Антонове, о том, что вот-вот пойдет он во главе неисчислимого своего войска на большевиков, Сторожев усмехался и помалкивал. Потом ночами стали появляться на задах сторожевского двора какие-то люди. Однако все делалось в великой тайне.
Однажды майской ночью Петра Ивановича разбудил Андриан.
— Конный к тебе, — шептал он, — срочно требует. Погубят они тебя, подлецы, погубят. Это что же, в открытую пошло?
— Молчи, — шептал Петр Иванович, слезая с кровати.
Прасковья во сне застонала. Сторожев укрыл ее одеялом, оделся и вышел.
— Ну, чего тебе? — грубо спросил он верхового. — Куда же ты на коне ко мне лезешь? Тебя поймают — одна голова с плеч, а меня поймают — тысяча голов долой. Дурень!
— Никак невозможно, спешный пакет. Да я тихонько, задами, свой ведь, места знаю.
Сторожев поднял голову, вгляделся в приехавшего и узнал Сашку Карася с соседнего хутора.
— Ты что, тоже к Антонову ушел?
— Ушел. Эх, и народу там, Петр Иванович!
Сторожев прошел в сени, вздул ночник, надел очки и начал читать.
Писал «сам», приказывал незамедлительно начать формирование отряда внутренней вооруженной охраны (Вохра), вербовать людей в волостные и сельские милицейские части — для охраны округи и местных штабов, которые, мол, скоро выйдут из подполья; сообщал шифры, явки, установленный код внутренней сигнализации.
Сторожев истово перекрестился.
— В добрый час! — проникновенно сказал он. — Ну, стало быть, начали. Махай, Сашка, назад, передай Александру Степанычу — пущай не сомневается.
Он проводил Карася, запер за ним ворота и снова вернулся в избу.
Ночь стояла теплая… На Дурачьем конце выла собачонка, где-то вдали тарахтела телега.
Сторожев посмотрел на этот тихий мир, на избы, дремлющие под светом луны, перекрестился и пошел досыпать. Прасковья проснулась, когда он ложился, прижалась к нему.
Сторожев подумал: «Долго ли мне осталось спокойно спать?»
И вспомнил он месяцы тревоги, встречи, сомненья, колебанья и ту ночь в лесу…
— Бог даст, все обернется хорошо, — сказал он и обнял Прасковью.
С той поры Сторожев не знал покоя. Он объявил в сельсовете, что нанялся-де на службу в Петроградскую контору Автогужтранспорта и должен, мол, скупать лошадок для Красной Армии, показал мандат, подписанный уполномоченным конторы Федоровым.
— Что ж, дело благое, — сказали в сельсовете. — Займись, Петр Иваныч, пора и тебе поработать на советскую власть, грехи свои смыть.
Петр Иванович неделями не бывал дома, разъезжая по округе. Покупал он лошадей или нет, этим никто не интересовался. Впрочем, для видимости пригоняли ему то пяток, то десяток кляч.
Иногда Сторожев ездил один, иной раз посылал Лешку. Тот отвозил какие-то пакеты незнакомым людям, получал от них взамен записки, где шла речь о лошадях, и поручение передать Сторожеву чудные слова, вроде: «Дождик идет, кузнец кует», или: «Пчелка улетела, лови на реке».
3
Слухи о приближении Антонова стали крепнуть день ото дня. На полях к мужикам часто подъезжали конники с зелеными лоскутами на шапках, объясняли про Антонова, про разверстку, хлеб и землю, просили воды и уезжали.
Начались в Двориках и в соседних селах пожары — горели риги и избы у сельских коммунистов. Поджигателей не находили.
Стали исчезать из села один за другим молодые ребята из крепких дворов.
Неизвестные просто одетые люди ловили на поле коммунистов и избивали их до полусмерти.
Однажды прибежал к Петру Ивановичу, еле дыша, Андрей Андреевич, прозванный за свою жиденькую бороденку и подпрыгивание на ходу Козлом, тощий и мосластый, очень худо одетый, согбенный нуждой и большим семейством, а оттого сутулый, да к тому же вдовый. Жена его померла от «испанки».
Отдышавшись, Андрей Андреевич рассказал:
— Иду я с озера, карасей ловил, страсть люблю их. Иду задами, гляжу: к твоей риге, того-этого, пробирается человек. Осмотрелся кругом да юрк в ригу, в дыру какую-то. Вот те крест, не наш это человек, бандит!..
Петр Иванович успокоил Андрея, даже почему-то подарил ему старого петуха и велел молчать о виденном им человеке: мало ли что могут подумать? А дыру в риге заложил.
4
К тем временам две армии были укомплектованы Антоновым: десять полков в каждой армии, две тысячи человек в полку. Каждый полк именовался по названию той волости, откуда в него вливались люди. Низовский, Верхоценский, Бахаревский, Нару-Тамбовский, Туголуковский, Битюгский и прочие полки вооружались из потайных складов Ивана Ишина и местных запасов. Антоновцы располагали тысячами винтовок, сотней пулеметов и четырьмя орудиями.
Кроме того, предназначенный для Сторожева «волчий» охранительный и карательный отряд — тысяча человек, милиционеры десять-пятнадцать человек в каждой деревне и отдельная бригада Пунича, подчиненная Антонову, стратегический резерв Главоперштаба.
События принимали грозный оборот.
В один из жарких июньских дней двадцатого года в лес, где обосновался антоновский Главоперштаб, приехал агент Федорова-Горского, привез пакет. В том пакете было циркулярное письмо бывшего мужицкого министра Чернова. От имени ЦК эсеров Чернов обстоятельно развивал программу подготовки крестьян для борьбы с советской властью, предлагал местным организациям партии, используя острое недовольство крестьян продовольственными и иными повинностями, создать среди них движение в форме «мирских приговоров», и на основе этого движения организовать беспартийный Союз трудового крестьянства.
Этот иуда бил наверняка.
Голод властвовал не только в городе, но и в деревне.
Неурожай. Тощие колосья, колеблемые иссушающим ветерком, виднеются изредка там и здесь. Это то жалкое, что дала земля, испепеленная зноем. Скот падал; корма нет и не будет. Нищие бродят из села в село. Мешочниками переполнены вокзалы и поезда. Спекулянты наживают баснословные богатства на буханке хлеба пополам с лебедой.
Вырвать хлеб из лап кулака, спасти миллионы от голода! — таков революционный долг продотрядов. И они действуют, как того требует революционная обстановка. Советы берут хлеб, но ничего не могут дать взамен: фабрики и заводы стоят, ржавеют станки.
Усталость и истощение все глубже проникают в крестьянскую массу; ведь она тоже приняла на свои плечи все тяжести революции. Мужицкая душа в беспрестанном колебании: то верит мутной демагогии эсеров, то лживым призывам меньшевиков, то посулам прочего отребья уходящего строя.
Эсеровские последыши теперь учены историей. Их имена в грязи, они продавались направо и налево. Это знают даже в самых глухих деревнях. Как им верить? И эсеры затевают новую подлую игру. Теперь они лезут к мужику, притворяясь беспартийными. Мало того, создают беспартийный Союз трудового крестьянства.
Конечно, эту игру сразу же раскусит каждый мало-мальски разбирающийся в политике. Но мужику замутили голову до того, что он давно запутался во всех партиях, появившихся на Руси. Они повылазили вдруг, как грибы после дождя. Все говорят, все обещают, каждый на свой лад улещивает мужика… Пойди разберись, за кого они в самом-то деле, чего хотят для мужика, чего от мужика?
А тут беспартийный союз!
«Вона что, — толкует Евсей соседу Семену. — Безо всяких, выходит, партиев, пропади они пропадом! Оно что ж… Вроде того…»
Где уж Евсею понять обман. Его окружают обманом со всех сторон: обманывает эсер, обманывает кулак, и все в один голос твердят, что главные обманщики — большевики!
Евсей чешет затылок. «Ах, ироды! Ах, малюты! И хлеб забирают!»
И бот десятки тысяч Евсеев от колебания туда-сюда переходят к волнениям, пока еще, впрочем, мирным. Но кулак не теряет времени: он находит вожаков для волнений вооруженных. Разве им важно, что Антонов авантюрист, готовый служить кому угодно? Послужит, стало быть, и нам, а плохо будет служить — по шапке. Ему можно даже отпустить пуд фимиаму: пущай-де нюхает до одурения. Вожака окружают старыми прожженными демагогами. Вожак сколачивает армию, демагоги пишут «беспартийную» программу, агенты их сеют в селах зловещий слух: большевики порешили начисто извести голодом мужицкое племя.
Искра попадает в порох и без того готовый вспыхнуть.
Объединение крестьянства получило свое официальное название: «Союз трудового крестьянства» — сокращенно СТК. На тайных кулацких сходках выбирали сельские, волостные и уездные комитеты. Делегаты уездов выбрали губернский комитет, председателем поставили Плужникова. Кулаки верили святоше, и он не обманул их ожиданий.
Комитет решил начать восстание в июле. Однако надобился еще месяц для завершения множества дел. К началу августа все было готово: голодные села, распропагандированные агентами Плужникова, дали согласие примкнуть к мятежу. Тогда Антонов объявил, что отныне его ставкой и местопребыванием губернского комитета будет село Каменка Тамбовского уезда и там он даст сигнал к началу повстанья.
Так тамбовские мироеды и эсеры еще раз воткнули нож в спину революции: именно в те дни разгоралась кровавая борьба с Врангелем на юге.
Белые и зеленые действовали заодно, как и всегда впрочем.
Мятеж начался.
Глава девятая
1
Под штаб и комитет заняли школу и еще несколько зданий. Утром пятнадцатого августа комендант Трубка доложил «самому», что все готово.
Антонов покинул лесные землянки и обосновался по-человечески.
Конные разъезды патрулировали местность, каждого прохожего останавливали за десяток верст до «ставки» и допрашивали с пристрастием, куда идет, зачем идет. Дозорные не слезали с колокольни. На всякий случай предусмотрительный Ишин устроил под домами, занятыми «ставкой», подвалы с потайными выходами, где все было приготовлено для штабного и комитетского состава: койки, белье, еда с запасом недели на две. Один из подвалов отвели под тюрьму.
Вечером девятнадцатого августа Плужников созвал к штабу мужиков — кайенских и соседних сел. Собралось тысяч пять — заняли лужок перед школой. Иные, чтобы лучше видеть, забрались на деревья и крыши соседних изб.
Невдалеке от школы, около ветхой хатенки кайенского мужика Евсея Калмыкова, сидели Фрол Петрович, Андрей Андреевич, неизменный его дружок, и Данила Наумыч — дородный, в сапогах-бутылках, бывший волостной двориковский старшина. Этих мужики послали в Каменку уполномоченными, посмотреть, что, мол, да как.
— … раз послали, стало быть, за делом, — уверенно доказывал Фрол Петрович рядом сидевшим. — И ты не спорь со мной, Андрей, не спорь. Разверстка всех душит. А Лександр Степаныч теперича, слышь, за мужика встал, противу коммунии, надо быть. И разверстку, выходит, долой. Понятно ли вам?
— Уж как не понять, Фрол Петров, — согласился Евсей, худенький, горбатенький мужичонка с птичьей головой. — Да только черт их знает, что из этого выйдет.
— Оно конешно, — покорно вторил Фролу Петровичу Андрей Андреевич. — Разверстка, ясно, того-этого… Только, скажем, чего им с меня взять? На печке пятеро ребят, под печкой стадо крысят. Вот и все мое богатство. Меня разверстка не касаема.
— Вот, вот! — яростно воскликнул Данила Наумыч и важно надулся. — Мастаки красные вашего брата красными же словесами улещивать. Богатеев, мол, разорим, все их добро — вам…
— Верно, Данила, — поддакнул ему Фрол Петрович. — Только от чужого добра прибытка не жди. Да и его погодя отберут. Отберут, Андрей, не спорь со мной. Не-ет, коммуния всем удавка, что тебе, что мне, что Данилке. Ты вникай, Андрей, вникай.
— Я вникаю, вникаю, — торопливо пробормотал Андрей Андреевич. — Не хотел бы вникнуть — не оттопал бы с тобой эстолько верст от Двориков. — Он помолчал и добавил: — Но кровищи прольется, и-и…
— Дурной кровищи не жалко! — презрительно проворчал Данила Наумыч.
На них зашикали: представление начиналось. На школьное крыльцо вышел Плужников в сопровождении пятнадцати членов губернского комитета, принарядившихся ради случая, что называется, «по-кобеднишному». Перед крыльцом выстроились десятка два пожилых и молодых людей, хорошо одетых и вооруженных. Потом на площади появился ударный полк Санфирова и окружил толпу цепью. Блеснули на солнце трубы. Из школы выскочил денщик Антонова, что-то шепнул на ухо Плужникову и убежал обратно. Плужников поднял руку, трубачи сыграли сбор. Толпа замолкла. Григорий Наумович начал говорить. С приторной улыбкой обратился он к собравшимся, и дребезжащий голосок его поплыл над людской громадой.
— Братики, сестрички! День-то ныне какой! На сходках ваших тайных сами вы выбрали губернский комитет трудового крестьянства, вот он, перед вами! — Плужников показал на выстроившихся бородачей, и те поклонились миру; мир загудел ответно. Плужников, потерев руки, продолжал: — И в нем, в комитетах сельских, волостных и уездных середнячки, зажиточные и беднячки объединились в братском объятии. Теперь уж мы навсегда воедино! Да и ворог у нас единый — коммуния проклятущая! Красные-то, братики голуби мои, нарочно друг на дружку нас натравливают, чтобы извести голодом силу мужицкую. И армия у нас есть — наша защитница, и завтра в бой ее поведет главнокомандующий наш Александр Степанович Антонов. Он и допрежде страдал за вас и теперь постоит, верьте мне, братики!
«Братики» помалкивали. Трубачи еще раз сыграли сбор, и тут на крыльцо, окруженный штабом, вышел Антонов. На нем была красная суконная гимнастерка с золотым шнуром по вороту, красные галифе, рассеченные серебряным лампасом, блистающие лаком сапоги гусарского покроя с кисточками, через плечо висела шашка с золоченым эфесом и серебряным темляком. Дрожа, точно его била лихорадка, он снял фуражку с золотым кантом по козырьку, поклонился на четыре стороны миру. Мир опять загудел, в толпе произошло движение, все хотели посмотреть на «самого», впервые явно показавшегося народу… Из народной гущи вышли три седобородых старика и поднесли Антонову хлеб-соль на деревянном резном блюде, покрытом богато вышитым рушником. Антонов обнял и троекратно расцеловался с ними. Передав Абрашке блюдо, Антонов начал говорить срывающимся, лающим голосом:
— Слуга ваш, братцы! Из вас же, той же крови! А все они. — Антонов выдвинул вперед Токмакова и Кузнецова — тучного, стареющего человека. — Командующие первой и второй армиями Токмаков и Кузнецов нашей же породы, а Петр Михайлович к тому же политический каторжанин. Ишин Иван Егорович, подойди! Да кто его не знает! — Ишин, глупо ухмыляясь во всю бурую физиономию, поклонился народу. — Он член губернского комитета, он запасы нам готовил и тоже на каторге отбыл. А вот эти молодцы, — Антонов показал на выстроившихся у крыльца, — командиры наших полков, кровь и плоть мужицкая. Все страдали за одно. Но теперь конец! Теперь все, как один, — за землю и волю! — Антонов обнял и поцеловал Плужникова в его маслянистую плешь, как бы утверждая единство армии и политического руководства.
Фрол Петрович толкнул Андрея Андреевича в бок:
— Видал, видал?
— Кормилец наш! — со слезой воскликнул Данила Наумыч. — Да я к тебе всех сынов пошлю!
— Пишусь в комитет! — восторженно крикнул Фрол Петрович.
Когда утих шум и волнение, Антонов поднял руку.
— Клятву даю: пока с краснотой не покончим, стоять до последнего вздоха!
Тут Ишин высунулся вперед и истошно возопил:
— Народ! Трудящие! Клянемся и мы постоять за землю и волю! Веди нас в бой с коммуной, Александр Степанович! Ура Степанычу!
Полк, командиры полков, комитетчики и толпа дружно подхватили призыв Ишина. Антонов с непокрытой головой постоял еще минуты три на крыльце, выдавливая улыбку на бескровных губах, и ушел.
Плужников прочитал программу союза, объявил о начале восстания… Народ начал расходиться.
Солнце было близко к закату. Багрово-сизое зловещее облако заволокло горизонт, и в нем утонуло дневное светило, словно бы погребенное лиловатой тьмой.
Беспокойное и острое чувство терзало сердце каждого.
Что-то будет, что-то будет? Охо-хо!..
А дозорный на колокольне кричал через ровные промежутки:
— Чисто, чисто! Смотри-посматривай!
2
Через несколько дней Антонов доказал мужикам, что он не бросает слов на ветер. В Главоперштабе замыслили дерзкую операцию: решили припугнуть большевиков походом на Тамбов, не имея, разумеется, в виду брать его.
В деревнях заговорили о бесчисленной «нашей» армии, которая вот-вот прикончит большевистскую власть в Тамбове.
Лесными тропами и дорогами, двигаясь ночами, Токмаков повел два полка своей армии и еще несколько наспех сколоченных и плохо вооруженных дезертирских отрядов к Цне.
В холодное осеннее утро разъезд Токмакова заскочил на окраину села Кузьмина Гать, что в двадцати верстах от Тамбова. В селе было тихо. Разъезд вернулся и доложил командарму обстановку.
Токмаков переправил части через Цну, и вся масса повстанцев ввалилась в село. Кто-то донес в Тамбов о надвигающейся бесчисленной военной силе Антонова. На шоссе Тамбов — Сампур был брошен пехотный полк и кавалерийский эскадрон.
Токмаков, уже знавший через агента, присланного Федоровым-Горским, о выступлении красных частей, усмехнулся. В Тамбове-то, слышь, все пошло кувырком со страха. Он удовлетворенно хмыкнул и приказал уходить тем же путем.
Красные части, ворвавшись в Кузьмину Гать, никого там не нашли, а Токмаков форсированным маршем возвращался в «ставку».
3
Война на полях губернии разгоралась не на шутку.
Кирсановский и Борисоглебский, часть Тамбовского уездов восстали. Повстанческое движение распространилось на северо-запад. Полки Антонова перерезали юго-восточную дорогу, соединявшую Москву с Царицыном, взрывали мосты, срывали шпалы. Хлебные эшелоны из земледельческих губерний, идущие в Москву, Питер и в армию, остановились.
В уездах Тамбовском, Кирсановском и Борисоглебском объявили осадное положение, всем коммунистам и работникам волостных исполкомов предложили покинуть села и уйти в города и на железнодорожные станции под охрану военных частей.
4
Двориковские сельские коммунисты, получив приказ, собрались в школу. Они позвали бедняцкий комитет и кое-кого из фронтовиков.
На собрание пришел Листрат — он приехал в село дней пять назад; Саша Чикин — удалой молодой парень, гармонист и забияка, Лешкин друг; ямщик Никита Семенович с белобрысым сыном — комсомольцем Федькой.
Никита Семенович — фигура на селе примечательная. Если так можно выразиться, он сплошь состоял из самых неожиданных противоречий. По стародавней ямщицкой привычке, он страстно любил гульнуть, но дома ходил всецело под женой и голоса не смел поднять. Для него ничего не было любезнее петь на клиросе, откуда его громоподобный бас гремел устрашающе. И не знали в Двориках богохульника большего, чем Никита Семенович. Он совмещал казенную работу с ярой ненавистью к начальству; любил возить земского начальника Улусова, потому что тот признавал только бешеную езду, а в шестом году поджег его имение. Его нещадно выпороли несколькими годами раньше, когда двориковские мужики взбунтовались против Улусова, но был убежден в том, что выпороли его за дело. В третьем году он ходил на тайные сходки к учительнице Ольге Михайловне и не прочел ни единой книжки. Петра Ивановича он презирал и ненавидел с ранних лет, но это нисколько не мешало ему выпить при случае с Волком.
В Двориках уже давно косо смотрели на коммунистов: о хлебе лучше молчи, о разверстке не поминай, не то такое загнут — отлетай на три версты, не показывай носа.
— Слышь, Антонов ничего с нашего брата не берет, — говорил Никите Семеновичу Данила Наумыч. — Это не ваш брат обдирала. Антонов свободную торговлю открывает, а вы что открыли?
Все эти слухи и разговоры и полученный приказ заставили двориковских коммунистов собраться ночью в школе. Приехали на совещание коммунисты из дальних сел, где девки без стеснения пели:
Я сошью зеленый бант, Мой миленок — партизант!Коммунисты выкладывали все, о чем они думали. Каждому было ясно: надо уходить из села. Место было одно: железная дорога из Тамбова на Царицын и станции вдоль нее. Так и решили коммунары: уйти из Двориков на станцию Токаревка, где уже осел еще один коммунистический отряд под командованием Жиркунова, и соединиться с ним. С этим они пришли на собрание.
Сашка Чикин начал было шуметь про позор и про всякое такое, но его живо остановил Листрат:
— Ты нас, дурак, трусами не ругай. Нас партия учит, что иной раз отступать не стыдно. Тут разговор короткий: укрепимся с коммунарами всей нашей округи в Токаревке или Мордове, не дадим бандюкам перехватывать линию и без хлеба оставлять армию и города. Ежели кто жен тут боится оставлять — бери с собой. Организуемся в коммунистический отряд. Сбор тут же через три часа.
Краснорожий Федька плелся за отцом и хныкал:
— Пес старый, сам едешь, а меня тут оставляешь! Папаня, а папаня! Пусти в разведку!
— Молчи, дурак! — цыкал Никита. — Разведчик, матери твоей черт!
— Вон Ванька Фруштак одних со мной годов, а к Сашке Чикину в разведку записался.
— Цыц, говорю!
Впрочем, вернувшись домой, Никита Семенович объявил жене, что они с Федькой уезжают в Токаревку и будут воевать. Жена набросилась на него с проклятьями и угрозами, но на этот раз Никита Семенович взял верх: жену обругал и заставил ее собрать ему и Федьке добришко и запас еды.
Листрат по дороге домой зашел в сельсовет, поговорил о чем-то с сельсоветчиками, вышел оттуда в дурном настроении, сердито снял красный флаг, что висел над дверью, бережно освободил его от палки, спрятал за пазуху и зашагал по селу. Путь его лежал мимо белокаменной пятистенки Сторожева, обнесенной высоким забором, с крыльцом, выходившим на улицу. На приступках крыльца сидели Андрей Андреевич, Фрол Петрович и Лешка. Только что отзвонили в церкви — кончилась воскресная вечерня. Фрол Петрович истово перекрестился. Андрей Андреевич последовал его примеру, а Лешка задумчиво наигрывал что-то печальное на гармошке.
— Здорово, отцы! — приветствовал их Листрат. — Братишка, здорово! — Он присел на приступку.
Фрол Петрович кивнул ему холодно. Андрей Андреевич жалобно сказал:
— Эх, курнуть охота!
— Лопух курю, — отозвался Листрат, протягивая Андрею Андреевичу кисет. — Желаешь?
— Настоящего бы теперь курнуть, — мечтательно заметил Андрей Андреевич, занимая у Листрата щепоть табаку.
— Теперича коммуния вывела, что лопух для курева пользительней, — с ехидством проговорил Фрол Петрович.
— Вот Антонов придет, уж он вам даст табачку понюхать, — в тон ему ответил Листрат.
— Ну, это ты напраслину плетешь, — враждебно бросил Фрол Петрович. — Кругом слух идет, Антонов человек вполне подходящий. Коммунию вашу не любит, это точно. И разверстку, мол, долой. Довели вы нас до точки, хоть не сей и не паши… Ни тебе одежки, ни тебе гвоздя. Телегу смазать нечем. Па-атеха!
— Тяжко, того-этого, тяжко! — вздохнул Андрей Андреевич.
— А кто говорит, весело? — задумчиво молвил Листрат. — Поди сядь на место Ленина, поворочай мозгами, когда кругом генералы да атаманы и все буржуи в мире за них. Седьмой год воюем…
— Кубыть мы ее зачинали, войну-то? — гневно проговорил Фрол Петрович.
— Да ведь и не мы, — уколол его Листрат. — Вам тяжко? Верно. А рабочим каково! Все тяготы на себе несут. Ну и вы пожмитесь. Армию-то надо, поди, содержать, народ рабочий кормить. Да без разверстки нам бы давно каюк был! Опять бы урядники да земские на шеи сели. Не забыли еще о таких зверях?
— Вона Антонов, болтают, облегчение обещает. — Фрол Петрович строго-настрого наказал Андрею Андреевичу и Даниле Наумычу не болтать, что они по тайному решению мира были три месяца назад в Каменке. — Землю, мол, у совхозов отберем и — мужикам.
— Землю! — усмехнулся Листрат. — Попомните мое слово: первое, что Антонов сделает, — землю Сторожеву отдаст. Землю Сторожевым, заводы буржуям. Погодите, слезами и кровью разольются реки на Тамбовщине от этого вашего Антонова.
— Чего уж там! — вспыхнул Фрол Петрович. — Разлились реки кровушкой. Горючими слезами исходит Русь. Косяками людей на войны гоните. Молчал бы! Нет у нас веры вам. Уходите!
На крыльцо с самоваром вышла жена Сторожева Прасковья, красивая, но расплывшаяся. Поставив самовар на стол, она прислушивалась краем уха к разговору. Говорил Листрат.
— Ладно, Фрол, жди Антонова. Только не пришлось бы тебе от него слезами обмыться. — Листрат помолчал и обратился к брату: — Слышь, Лешка, беднота, коммунары со мной в красные партизаны уходят. Иди с нами.
— Мне и тут хорошо, — пробормотал Лешка.
— Кулацкий дом твое ли гнездо? — печально прозвучали слова Листрата.
— Ништо, — заносчиво сказал Лешка. — Я вольная пташка.
— И вольных пташек в клетку запирают. Сторожев за землю будет драться, ты за что?
Лешка мрачно молчал. До войны ли ему было? А Наташа? Бросить ее? Шалишь!
— Ладно, Лешка, — Листрат поднялся, — поймешь когда-нибудь нашу правду, да не поздно ли будет? Прощай! Мать береги. Прощайте, мужики!
— Иди, иди! — крикнула Прасковья. — Нечего сманивать. Лешка, ты чего расселся? Или делов нету?
— Поди, нынче воскресенье. Скотине и то отдых дают, — зло бросил Лешка.
— Дак то скотина! Иди, корм скотине пора давать!
— Ну чего ты на него, Прасковья, лаешься? — вступился за брата Листрат. — Не век же ему в хлеву сидеть.
— Нанялся — сиди! — фыркнула Прасковья.
— Ох, укоротим мы вас! — рассмеялся Листрат.
— Успеешь ли, укрощатель? Ты, видать, собралси куды-то. Из церквы шла, видела, как флаг с сельсовета сымал.
— Против рожна не попрешь. А с флагом этим против твоего хозяина в бой пойдем. Вернемся — повесим. — Намек прозвучал слишком явственно, чтобы Прасковья не поняла его.
— Кого?
— Понимай сама.
— Иди-ка ты, пока цел! — оборвала его Прасковья и ушла в дом.
Листрат попрощался с Лешкой, тот побрел во двор. Листрат, не желая встречи со Сторожевым, фигура которого показалась вдали, ушел. Сторожев небрежно кивнул головой мужикам, осадисто ступая, взошел на крыльцо. Прасковья, только что выплывшая с Колькой и посудой, приняла у мужа праздничную поддевку, фуражку, палку, отнесла в избу и снова вышла на крыльцо. Сторожев посадил на колени белоголового шустрого Кольку. Жена заварила чай и налила ему большую расписную чашку. Колька потянулся за сахаром.
— Дай кусок, папаня! — капризно захныкал он.
— На, на, ешь, сынок! — Сторожев дал Кольке кусок сахару, прижал к себе. — Эк ты шустрый стал! Сахару ему дай! — Он блаженно улыбался. — Все отдам, Коленька, все тебе, милок, оставлю! Старших выделю, а эту избу и землю округ Лебяжьего тебе… Ешь, ешь сахар, это пользительно.
Прасковья пробурчала что-то о баловстве. Андрей Андреевич, тяжко вздохнув, заметил:
— Сахар! Мои-то годов пять его не нюхали.
— Ты чего там бормочешь, Андрей? — спросил его Сторожев.
Андрей Андреевич скинул шапку и, босой, тщедушный, столбом стал перед Петром Ивановичем.
— К тебе я, сосед. Озимое сеять нечем, выручи бога ради.
— Ходют, побираются, — зло прошипела Прасковья.
— А ты, мать, не ори на него, — остановил ее Сторожев. — Он хоть и бедный, а свой. Бедных бог велел любить. А вдруг разбогатеет? Всяко бывает. Да и я же к нему с поклоном. — Петр Иванович говорил серьезно, без видимой издевки. Потом сказал: — Ладно, уважу. Вспашу и посею, а что уродится — пополам.
— Побойся бога, сосед, — вмешался Фрол Петрович.
— Так пущай в Совет идет, — равнодушно посоветовала Прасковья.
— Совет! Хватилась, — уныло пробормотал Андрей Андреевич. — Нету у нас Совета. И коммуния наша в Токаревку вечор уходит. Антонов, болтают, вот-вот у нас объявится.
— Вона что! — притворно удивился Сторожев. — А я с этими разъездами по лошадиной части вовсе от села отстал и что в Двориках делается, знать не знаю.
— Дак как же, Петр Иванович? — тянул Андрей Андреевич свою скорбинку.
— Ладно, — миролюбиво сказал Сторожев. — Сойдемся на трети, как есть ты свой.
— Ох, добёр ты стал сам, ох, добёр! — со слезой подпустила Прасковья.
— Чай, тоже крестьянин, — важно ответил Сторожев. Он ссадил с колен сына. — Иди баиньки, Коленька. О господи, бог напитал, никто не видал! — Сторожев отодвинул чашку, истово перекрестился, пересел на приступку к мужикам.
Прасковья увела Кольку.
Молча сидели мужики, всяк думал о своем. Темнота сгущалась, вечерние тени исчезали, лишь горел вдали церковный крест да пламенел горизонт. Где-то послышалось гнусавое пение; пели что-то божественное, жалобное. Сторожев внимательно прислушался.
— Странники, что ли? — Он сладко зевнул.
— Ох, развелось их! — Фрол Петрович вздохнул. — Обнищала Русь, вовсе обеднела, и не спорьте со мной. Скоро ль конец нашей беде будет, сосед?
— Всяко может быть, всяко, — загадочно ответил Сторожев, все еще прислушиваясь к молитвенному пению.
— Объявился Антонов, — тоскливо продолжал Фрол Петрович, — прельстил нас словами своими, три месяца, почитай, прошло, как мы в Каменке были, а о нем только слухи бродят.
— Свою, слышь, власть поставил в Кирсановском и Борисоглебском уездах, — без видимого интереса обронил Сторожев. — Может, и брехня.
— А нам какая бы ни власть, абы жилось всласть, — философически изрек Фрол Петрович. — Народ голодом бедует, а земля лежит не пахана, не сеяна.
— Да-а, земля! — протянул мечтательно Сторожев. — Днями сон видал, будто сызнова она моя. Такая приснилась, лучше не надо.
— Вот сон так сон! — встрепенулся Андрей Андреевич. — А я во сне все лягушек вижу. Вот проклятые!
— Надо быть, к прибытку, — равнодушно заметил Сторожев. — Говорят, будто Антонов бедняка по середняку уравнять хочет. Авось и тебе перепадет.
— Где уж там! Мне бы кобыленку какую ни на есть! — с болью вырвалось у Андрея Андреевича. — Без лошади какой я хозяин?
— Это так. Одначе спать пора. — Сторожев поднялся и снова прислушался. Пение странников приближалось. Постояв, почесав спину, Сторожев ушел.
— И я пойду, — Андрей Андреевич, кряхтя, встал. — Ребята-то не поены, не кормлены. Эх, жизня вдовья! Прощай, Фрол!
— Покедова!
Андрей Андреевич скрылся во тьме. Фрол Петрович, послушав пение странников, медленно зашагал к дому — он жил недалеко от Сторожева. Со двора вышел Лешка, взял оставленную на крыльце гармошку, сыграл что-то и углубился в безрадостную думу. Из тьмы показались две бредущие фигуры: один был небольшого роста, полный, одетый во что-то вроде зипуна; другой потоньше и складнее, в монашеской рясе. Видно было, что странники ищут кого-то. Они остановились неподалеку от сторожевской избы, посовещались, потом подошли к Лешке.
— Мил человек, — загнусавил тот, что был в зипуне, — мы по миру ходим, подаяние на храм божий собираем, не тут ли Сторожев Петр Иванович проживает? Переночевать бы у него. Прослышаны, на добрые дела человек оченно добёр. Покличь его, сделай милость.
Лешка поднялся на крыльцо, открыл дверь в избу.
— Эй, хозяин, тут до тебя!
Сторожев, словно ждал этого, тут же очутился на крыльце.
— Кого носит на ночь глядя?
Странник поднялся на крыльцо, что-то зашептал на ухо Сторожеву. Тот отшатнулся от него.
— Ишин? — выдавил он.
— Тихо! — Ишин закрыл рукой рот Сторожева. — А это Косова, пограничного отряда командир.
Сторожев осмотрел Косову с ног до головы.
Это была тоненькая женщина с бледным лицом, на котором горели зеленоватым огнем кошачьи глаза. Она командовала полком, собранным ею же.
Отец ее — Михаил Косов, зажиточный мужик из села Камбарщина, занимался не только землей, но и торговлей. Один из братьев Марьи служил у красных, потом переметнулся к Антонову, заманил в село близкого своего приятеля-коммуниста и, чтобы доказать полную искренность своих намерений, повесил его у себя на дворе, в чем ему помогали три брата, отец и сама Марья.
— Бабье ли дело воевать? — угрюмо бросил Сторожев.
— А может, у меня своя мечта есть, ты знаешь? Может, мой полк первым в Москву пробьется.
— В Москву! — проворчал Огорожен. — Тоже мне мечта! Бабья мечта — замуж выйти.
— И вышла бы, да желанный не желает, — Косова хрипло рассмеялась.
— Да полно вам! — вмешался Ишин. — Марья, ты постереги тут, у меня с хозяином разговор.
— Давно от вас людей жду, — с укором сказал Сторожев, уводя Ишина в дом.
— Не приспело время, вот и не шли, — возразил Ишин.
Едва дверь захлопнулась за ними, Косова подсела к Лешке. Глаза ее во тьме зеленели, как у кошки. Лешка отодвинулся от нее.
— Хорош женишок! — начала она, сдавленно смеясь.
— Хорош, да не про тебя сделан, — огрызнулся Лешка.
— А со мной погулять не хотел бы?
— Укажи улицу, где гуляешь, вдруг разберет охота. Монашенок, признаться, не пробовал.
— Эх, гульнем скоро! Сердце утехи просит, кровь кипит! — жарко шептала Косова на ухо парню и вдруг впилась в его губы.
— Ну, монашенка! — только и мог сказать Лешка, отбиваясь от нее. Неизвестно, куда бы утянула его Марья, если бы Сторожев и Ишин не показались на крыльце.
— Лешка! — взволнованным голосом крикнул Сторожев. — Зови ко мне Фрола, Данилу Наумыча, мельника Селиверста, попа… Спят — за ноги с постелей тащи. Срочное, мол, дело.
— Из бедноты бы кого для порядка, — подсказал Ишин.
— Из бедноты? — Сторожев задумался. — Да вали, Лешка, к Андрею. Он у нас на веревочке.
Лешка был рад-радешенек уйти; наглость монашенки возмутила его. Вдруг бы Наташка увидела, как он целовался с этой шлюхой! Быть бы беде! И он помчался по заснувшим Дворикам во всю прыть.
Когда Лешка растворился во тьме, Косова сказала, блудливо потягиваясь:
— Молоденький, сладенький! Батрак, что ли?
— С мальчонков живет, — сухо ответил Сторожев.
— Сахарный!
— У-у, пчела, — окрысился Ишин. — Вот узнает Степаныч про твои шашни, он тебе…
— Нешто и Антонов этими делами займается? — усмехнулся Сторожев.
— Человек есмь, — Ишин передернул носом.
— Стой! — Сторожев вслушался в темноту.
Где-то на краю села пели «Варшавянку», слышался скрип телег, бабий вой, плач детей. Спустя короткое время конский топот разорвал ночную тишину, и мимо дома Сторожева промчался отряд. За ним плелся длинный обоз. Сторожев, Ишин и Косова приникли к столбам, что поддерживали крышу крыльца. Конники прошли, цокот копыт удалялся все дальше, прополз обоз, замолк детский плач и бабьи причитания. Сторожев вышел из тени, перекрестился.
— Наша коммуна ушла! — с облегчением вырвалось у него. — Ну, моли бога, Иван Егорович… Напоролись бы вы на них, жди худа. Ладно. Стало быть, начинаем?
— Полыхает огонек! — шепотом начал Ишин. — Теперь за вашим краем дело, Петр Иванович. Комитет у вас на селе имеется?
— Нет еще. Я влезать в это дело не мог. Сам понимаешь — враз бы открылась моя лавочка. Да найдем! Мужики придут надежные, их и сунем в комитет.
— Бедноту в нее обязательно, — наставительно молвил Ишин.
— Печетесь вы о ней! — жестко отозвался Сторожев. — Ладно. Фрола посадим, Данилу Наумыча, мельника Селиверста, Андрея, еще подберу.
— Так сказать, чтобы всему миру ублаготворение, — ухмыльнулся Ишин. — А тебе Степаныч наказал, не мешкая, в Каменку ехать, должность принимать.
— Это можно. Оно и верно, без нас вам крышка.
— А ты не заносись, не заносись, — одернул его Ишин. — Пойди скажи мужикам, что воевать с красными надо. Они тебя пошлют к дядькиной тетке. Знаем, мол, пошто Сторожеву воевать охота: земли бы ему поболе, воли пошире, власти покрепче. А нас он за милую душу послушается, потому что земли нам три аршина надобно, а хлеба — сколько за день человеку съесть.
— Н-да, — буркнул Сторожев.
— Так что заруби на носу: мы ништо без вас, вы ништо без нас.
Ишин помолчал. Косова, задумавшись, сидела, прислонившись к изгородке крыльца. Сторожев вглядывался в темноту. Тишина повисла над Двориками. Пала звезда, оставив на небе мгновенно угасшую осыпь. На дороге хрустнуло что-то, потом показалась темная фигура, шагающая к дому Сторожева.
— Идут, — сказал Петр Иванович. — В дому соберемся?
— Да где хочешь!
Подошел поп, за ним показались спешившие Фрол Петрович и еще кто-то. Потом примчался Андрей Андреевич.
— Вот тут странники пришли, — посмеиваясь, сказал Сторожев. — Чудное болтают. Я и подумал, соберу-ка соседей, пусть послушают, что в миру делается. Пошли в избу.
На улице остался Лешка. Снова он взялся за гармошку, попиликал, посидел молча и поплелся было во двор, но тут из тьмы раздался девичий голос:
— Лешенька!
— Никак, Наташа? — прошептал Лешка. — Ты чего не спишь?
— Страшно стало! — Наташа, подобрав юбку, села на приступку. — Батя к вам пошел, в селе тишина какая-то… Наши-то ушли, Лешенька?
— Ушли, — сумрачно обронил Лешка, присаживаясь к Наташе.
— Теперь войны не миновать, — зашептала Наташа. — Лешенька, миленок, неужто и ты уйдешь, неужто меня бросишь?
Лешка молчал. Наташа тихо плакала. Лешка взял гармошку, заиграл под сурдинку и начал выводить:
Заберут меня в солдаты, а жену мою куды? Середи поля колодец, головой ее туды!Глава десятая
1
Утром, уладив домашние дела, Петр Иванович поехал в Каменку.
Буйно жила в те дни «ставка» Антонова!
Каменка — богатое село, затерянное в тамбовской глуши, лощины и перелески окружают ее; буераки, один другого глубже, один другого страшней, сетью опутывали округу; новому человеку и с картой в руках трудно пробраться сквозь эти укрепления, воздвигнутые природой.
Вооруженные люди бродили по селу, заполняли улицы и переулки; грязные и веселые, они не давали прохода женщинам, буянили и дрались.
Одеты они были пестро; словно для маскарада навезли в Каменку шинели всех образцов, кожаные куртки, поддевки, матросские бушлаты, тулупы, зипуны, рваные замасленные бескозырки, папахи, заячьи треухи.
Но еще пестрей вооружение: тут и сабли, и охотничьи ружья, и карабины, и винтовки всех марок, и маузеры, засунутые прямо за пояс, гусарские сабли без ножен, морские кортики, топоры, самодельные кинжалы.
Каждый из этих людей имел плетку и коня; на спинах многих лошадей красовались подушки, голубые и розовые, — из них лезло куриное перо. Однако немало сильных и красивых лошадей имели настоящую военную седловку. Они были привязаны близ большого кирпичного дома. Этих лошадей охранял бородатый, хорошо вооруженный человек.
Иногда на крыльцо выходил военный, одетый лучше остальных, он кричал что-то сорванным голосом, и через несколько минут к крыльцу стягивались всадники, командир получал пакет, и конники на рысях уходили из села.
Военный возвращался в дом. Там по коридорам сновали вооруженные люди, непрестанно хлопали двери, и вместе с людьми в дом врывался поток свежего воздуха. Облака дыма висели под потолком. Задыхаясь от вони, потные, бледные писаря сидели над бумагами, машинисты работали на потрепанных ундервудах, дико орал в трубку полевого телефона косоглазый мужчина в голубых галифе.
Длинный лохматый парень, разыскивая какого-то Семена Сидоровича, которого вызывал Токмаков, расталкивал людей, отчаянно ругался, наступал всем на ноги и, наконец, выволакивал Семена Сидоровича из-за угла, где тот играл с комендантом Трубкой и Абрашкой в «очко».
Каждую минуту из дальних комнат выходили люди, они засовывали за пазуху пакеты, стягивали пояса и, бряцая шашками и шпорами, выходили вон.
То и дело мимо окон скакали всадники.
Сторожев и Лешка подъехали к штабу в сопровождении группы антоновцев; их задержал разъезд верстах в пяти от Каменки. Под охраной четырех до зубов вооруженных конников они пробрались к крыльцу в тот момент, когда по ступенькам его медленно сходили трое людей, одетых в окровавленные шинели.
Были они босы, шапки с голов сняты, глаза ввалились, губы посинели. Пленных сопровождали с винтовками наперевес шестеро конвойных. Человек с черненькой кудрявой бородкой, в защитного цвета гимнастерке, кричал главному конвоиру:
— Ты там с ними не канителься! Без них дел по горло. Чтобы через полчаса ребята здесь были!
Увидев Петра Ивановича, он помахал ему рукой. Сторожев слез с пегой своей кобылы, вошел, не торопясь, на крыльцо, ладонью вытер усы и поздоровался с адъютантом Главоперштаба Козловым. Расталкивая людей, Козлов вошел в дом, увлекая Сторожева в дальние комнаты.
— Насовсем?
— Насовсем! — хмуро улыбаясь, сказал Сторожев. — Наша коммуна смылась, теперь в открытую поведем.
— Ну и хорошо! А то Александр Степаныч меня извел, все про тебя спрашивает. Ты пойди к нему, он шибко обрадуется. А у меня, браток, уйма дел, совсем закружился. Поверишь ли, подряд ночи по три не сплю. Вот сегодня весь день в разведке сидел, комиссаров допрашивал с Германом Юриным. Видел, орлов повели? Ну, иди, иди к Степанычу.
Козлов приказал часовому, стоявшему у двери антоновского кабинета, пропустить Сторожева и снова вышел на улицу. Петр Иванович снял шапку, пригладил волосы, подкрутил седеющие усы и вошел в кабинет.
Александр Степанович, как ему показалось, постарел. Глазные впадины сделались еще глубже, еще резче обозначились скулы, морщины перерезали лоб. Он сидел за столом, перед ним стояла тарелка с черным хлебом. Антонов густо посыпал крупные ломти солью, ел, запивая жиденьким чаем, и слушал человека, который сидел спиной к двери. Когда вошел Сторожев, Антонов кивнул головой и указал глазами на стул. Сторожев сел.
Антонов молча налил чаю и жестом пригласил присоединиться. Отхлебывая горячую воду, пахнущую распаренной морковью, Сторожев слушал разговор.
Говорил неизвестный Сторожеву человек, высокий, худой, с гривой черных волос и длинным ястребиным носом. Казалось, он ни минуты не мог усидеть спокойно: то теребил пальцами усы, то счищал с пиджака пятнышко, то поправлял волосы и говорил, нарочито подыскивая «народные» выражения, любуясь собственной речью.
— Вишь ты, Александр Степанович. Оно дело-то какое, мил человек! Мужик наш не дурак. Его, брат, на козе не объедешь, ему, брат, на наши слова, прямо говорю, наплевать, ему дай выгоду на стол.
— А ты им о совхозах помяни, о том, что советские имения отдадим мужику, коммунистов спихнем, свою власть поставим, разберемся с землей. Познакомься, Петр Иванович, это учитель из Пахотного Угла, Никита Петрович Кагардэ, из наших.
Петр Иванович пожал длинную холодную руку учителя. Тот продолжал:
— А вот на этом пункте, Александр Степанович, извините, вы меня не объедете. Разве государство, которое хлебом живо, может обойтись без совхозов и опытных станций? Это имеется в каждой культурной стране, Александр Степанович! — Кагардэ выставил вперед длинный палец с грязным ногтем и покачал его перед носом Антонова. — Тут у вас концы с концами не сходятся, мил человек! Тут у вас, извините, дырка. Мужик тую дырку видит — хитер он!
Антонов с огромным усилием слушал речь учителя. Ему нездоровилось, глаза были воспалены, щеки ввалились, на них выступал лихорадочный румянец, губы спеклись, пот крупными каплями проступил на лбу.
— Н-да… — протянул Антонов и вытер горячий лоб ладонью. — Мы с тобой все утро толкуем, да все впустую. Ты поговори лучше с Ишиным, он у нас мастак на разговоры. Я бы тебе все это тоже разъяснил, но, прости, не могу, болен, три ночи не спал, прямо скажу — не до теорий мне. Тут один фураж с панталыку собьет, ей-богу! Мое слово такое, Никита Петрович, его надо и мужику говорить: потерпеть надо. Вот Учредительное собрание соберем — оно все обмозгует. Так я думаю. А если тебе мало моих слов, пойди к Ишину. А меня прости, не могу больше, болен.
Учитель встал и вышел, качаясь на ходу, как журавль, и что-то сердито бормоча под нос.
— Вот таких допросчиков, Петр Иванович, каждый день вижу. «Что» да «почему»! Черти проклятые, вот где они у меня сидят. — Антонов похлопал себя по тощей шее. — А от этого поганого учителя у меня душу воротит. Да что поделаешь? Заслуги перед нами имеет, вот и кочевряжится. Это его затея, — помнишь, рассказывал тебе о коммуне в Пахотном Углу? Мы в той коммуне завели что-то вроде академии генерального штаба, учили ребят разному. Ох, приставуч, грязная скотина! Да, впрочем, пес с ним! Ну, я рад, что ты явился. Добре, добре! Будем воевать, стало быть.
— Повоюем, — весело сказал Петр Иванович.
— Повоюем, — повторил Антонов. — Сила против нас, Петр Иванович, огромная. Только и надежды, что у силы той ноги из глины. И в Сибири, слышь, наши голову подняли. В Сибири тоже Союз трудового крестьянства организовали.
Антонов подвел Сторожева к стене, на которой висела большая карта Тамбовской и смежных губерний с нанесенными очагами мятежа.
— Нам бы теперь юго-восточную линию перерезать окончательно и надолго, и крышка — отрезана от хлеба Москва. И на юг бы дорогу открыть — и мы хозяева. А там Махно, батьки разные, с ними сладимся.
Лоб Антонова снова покрылся испариной, голос его ослабел. Закашлявшись, он махнул рукой, сел и жадно начал глотать теплую воду.
Сторожев молчал.
— Людей бы мне побольше, таких, как ты, — снова начал Антонов. — Я уж писал своим в Москву, писал и в Тамбов. Шлите людей, пишу, а они мне воззвания шлют, а людей у меня просят. Ей-богу! Мы и воззвания берем, тут их писать и некогда и некому. Братишка их пишет, да какой он, к дьяволу, писатель! Он аптекарь, ну и пишет, как аптекарь. Иной раз дельное сочинит, в другой раз читать тошно.
Антонов передохнул.
— Так-то оно! Бумаги, слышь, шлют, а людей нет. Ой, чует мое сердце, продадут меня наши батьки. Есть у них старая повадка: ежели удача идет к человеку, целуют да милуют, мы-де его благословляли, мы его учили, наш он. Не повезет человеку — заплюют, отрекутся, отбрешутся, воззвание выпустят: мы не мы, и нехай пропадет совсем, не наш он, и не мы его батьки и руку его не жали. А тут еще напасти готовятся. Доносят мне, будто Ленин посылает в Тамбов Антонова-Овсеенко с неограниченной властью и директивой: подавить восстание чего бы ни стоило.
Александр Степанович рассеянно стучал пальцами по столу, потом вскинул на Сторожева хмурый взгляд и прибавил:
— Однофамилец мой — человек серьезный, Петр Иванович, воля у него железная. Хоть и враг, а и о враге надобно говорить правду. Старый революционер-большевик, Зимний брал, в Военно-революционном комитете петроградском заправлял. Сам из интеллигентов, очкастый такой, видел его и слышал. Говорит мало, но уж зато на дела мастак! — Антонов махнул рукой. — С этим поберегись. Теперь и в Тамбове зашевелились, всю Чеку перешерстили — за неудачи, мол, в подавлении антоновщины. Начальником Дзержинский поставил какого-то Антонова, малый, сообщают, не промах. Против одного Антонова — сразу двух, вот оно как! — Александр Степанович невесело посмеялся.
Петр Иванович дивился огромной осведомленности Антонова, а тот закурил и, болезненно морщась, продолжал:
— Секретарем губпарткома опять ладят Бориса Васильева, вызывают его с Донбасса. Он и прежде был в Тамбовском губкомпарте.
— Знаю его, — коротко заметил Сторожев. — В восемнадцатом слышал.
— Именно. Тоже мужик с головой. Помнишь, как он наших в восемнадцатом попер из исполкома? Такой вид напустил, будто за ним сил тьма-тьмущая. Только теперь стало известно: был у Васильева кукиш в кармане. Тьфу! — с досадой вырвалось у Антонова. — Как вспомню наших брехунов, комок к горлу подкатывает. Подлецы, сопливые трусы! — Сердито жуя губами, Антонов помолчал, потом с деланным весельем сказал: — Ну, пес с ними! Расскажи-ка, что мужики думают, о чем говорят? Ты свой! — Он по-дружески похлопал Сторожева по плечу.
Сторожев рассказал о смутных сельских настроениях, упомянул о том, что коммунисты из Двориков и многих смежных и дальних сел осели на станциях Юго-Восточной железной дороги.
— Надо бы тебе, Александр Степанович, в наши места удариться. Сторона наша южная, хлебная. Присоединишь к восстанию наш край — зараз миллион пудиков хлеба поминай, как звали. В Саратовскую, в Воронежскую губернии руку протягивай, чтоб краснота и оттуда хлеб не качала. На голоде мы мужика подняли против коммуны, теперь голодом ее задушим. Она и без того при последнем издыхании. В городах-то вой, слышь, стоит. По восьмушке на душу выдают. Так надобно и эту восьмушку из ихних рук вышибать.
— Дело, Петр Иванович, дело.
— Будем беспрерывно рвать Юго-Восточную линию, не давать покоя коммунистам, что на станциях вдоль нее осели, пока вся дорога от Грязей и до Царицына не станет нашей. Это и есть путь на юг — на Дон, на Украину, к Махне… Но мужик наш туговат и расчетлив. Приезжай к нам сам, покажи товар лицом. Брехунам твоим не поверят, а силу узрят — почешутся.
— Верно, верно, Петр Иванович. Займусь вашим краем. А теперь оформим твои дела.
Антонов подошел к столу, вытянул из кипы бумаг бланк с печатным штампом Главного оперативного штаба партизанских армий Тамбовского края, пометил число, год, место выдачи и написал четким, писарским почерком от руки мандат, официально утверждавший за комиссаром Вохра Сторожевым командование силами внутренней охраны восставших районов с правом военно-полевого судопроизводства без обжалования.
Подмахнув подпись, Антонов передал мандат Сторожеву и сказал:
— Поди к Плужникову, он подпишет мандат от союза. А потом пойдешь к начальнику тыла Санталову, он передаст тебе отряд — я ему говорил. Тысячу ребят отобрали — самых надежных. Ну; начинай, Петр Иванович, распоряжайся и наведывайся прямо ко мне. Ну их к бесу, штабных моих!
Антонов засмеялся и протянул Сторожеву покрытую потом горячую руку: его била лихорадка.
— Слова мои помнишь ли, что сказал тебе в землянке? — Сторожев уставился на Антонова немигающими глазами.
— Помню, — наморщился Антонов. — Будет земля твоей.
— То-то! — Сторожев вышел.
2
Антонов расстегнул ворот красной суконной гимнастерки, лег в кровать и задремал со злой мыслью о Сторожеве.
Вскоре в комнату вошли Ишин и Плужников. Антонов зашевелился.
— Лежи, лежи, — тихонько молвил Григорий Наумович, — мы чайку выпьем.
Но дрема прошла. Антонов лежал и думал о деле, которое заварил он, о людях, поднятых против Советов.
Теперь в районах, где прочно сидели сельские, волостные и уездные комитеты, и в тех, которые он контролировал, насчитывалось больше миллиона жителей. Хлебный поток, что некогда шел на Москву, превратился в жалкий ручеек, да и тот иссякал.
Он угрожал Тамбову, однажды, обнаглев, ворвался в Кирсанов, потом захватил большое фабричное село Рассказово, разграбил суконные фабрики, взял богатые трофеи: сукно, оружие, патроны. Впервые за всю историю мятежа Антонов встретился с рабочими. Голодные рабочие, доведенные нерадивыми и тупыми администраторами, среди которых оказалось не мало просто воров, до открытого возмущения, готовились к забастовке.
Об этом прознал Плужников. Антонов поспешил в Рассказово с обозом хлеба и других продуктов. Изменники, охранявшие село и фабрики, без боя сдались антоновцам. Хлеб и крупу бесплатно раздавал рабочим Ишин.
Теперь агитаторы союза на всю губернию шумели:
— И пролетарии с нами, отцы! Рассказовские ткачи Александра Степановича хлебом-солью встретили. Погоди, дай срок, рабочие всей России раскусят большевиков, и уж тогда капут им!
Восставали голодные села в северных уездах Саратовской, Воронежской и Пензенской губерний; весь север Тамбовской — в руках повстанцев. Связь нарушена, поездки губернских работников в такие районы — исключение, а если и едут — под сильной охраной.
Со всей Центральной России слетались к Антонову белогвардейские офицеры. Эсеры, правые и левые, заменили дезертиров в личном антоновском «ударном» Каменском полку — гвардии восстания.
И все же тревожно бывало часом на душе у Александра Степановича. Уж он-то знает, какая сила против него. Уж он-то понимает: вот развязался Ленин с Врангелем, и такой громадой навалятся на него большевики — держись!
И нет прежнего мира и согласия ни в главном штабе, ни в союзе, даже теперь, даже когда судьба идет, казалось, в обнимку с повстаньем.
Давно зверьми глядят друг на друга Плужников и Ишин: Ивану Егоровичу кажется, что святоша Гришка (так он называет за глаза «батьку») никудышный председатель, характер бабий, с коммуной расправляется очень уж мягко и на то «самого» толкает, одергивает его, когда повстанческие войска начинают чуть-чуть пощипывать мужика; что ему, Ишину, давнишнему главарю дела, а не этому попику, сидеть и заправлять в союзе. Плужников, в свою очередь, не раз уговаривал повесить Ивана Егоровича за болтливость и ненасытную кровожадность, за пьянство и буйство. Токмаков в этих раздорах держал руку Григория Наумовича, а Иван Егорович на весь мир орал, что Петр Михайлович не командир армии, а болтушка, речами своих бойцов уговаривает, когда надо пороть и пороть без оглядки.
Антонов отмахивался: у него и без того забот не занимать стать. В штабе шепоток пошел: не возгордился ли Степаныч, больно уж фасонить начал. Намеки строили:
— Он голова, это верно, а мы его руки, пусть не задается слишком-то! Голова всегда найдется, а добротных рук поискать.
То же и в комитете болтают. Разогнал бы Александр Степанович всех их, да нельзя: они голова, они уши, они глаза, они знают приворотные слова к мужицкому сердцу, они в селах и на хуторах раскинули свои щупальца… Без комитетов нет восстания, без мужика как воевать?
Нет, надо терпеть, слушаться, подчиняться, со скрежетом зубовным гнуть их линию.
«Охо-хо, вот оно, и счастье, вот они, мечты, вот она, слава…»
…Сидят рядышком два волка — Ишин и Плужников, чаек попивают, а сами друг друга съели бы, да у каждого руки за спиной связаны тысячью узлов.
И нет близкого друга, некому рассказать о черных думах. Марья Косова из Камбарщины любила его, да ее-то не любил Антонов, не любил ее удали, ее крепких, ядреных словечек. О другой женщине мечтал Антонов, но не было такой, и часто Марья Косова приходила к Антонову на всю ночь.
Вот и сегодня льстила, как собачонка ползала у ног…
Вереницей шли неприятные думы, голова болела от них все сильней. Антонов морщился и старался думать о чем-нибудь другом, забыть о Марье, о комитете и не мог. Изнутри поднималась злоба против тех, кто орет и ругается за стеной, она скапливалась и росла. В это время в штабе стало особенно шумно.
Антонов спрыгнул с кровати, высунулся в дверь и закричал так, что Плужников вздрогнул:
— Какой там дьявол орет! Молчать!
Голос его потерялся во взрыве хохота. Антонов вне себя схватил со стола маузер и два раза выстрелил в потолок. Все оцепенели.
— Пошли вон! — заорал Антонов. — Ну, что стали, сучьи дети, сволочь несчастная? Вон отсюда!
Пятясь, наступая друг другу на ноги, все, кто бродил по коридору, шарахнулись к двери.
— Никого ко мне не пускать, — простонал Антонов, опускаясь на кровать. — Да Сторожева устройте.
Плужников вышел. Антонов, приподнявшись на постели, снял с гвоздя шубу и накрылся ею. Зубы его выбивали дробь. Он весь посинел. Начинался приступ малярии.
3
Сторожев провел в Каменке около двух недель. Даже записки Антонова действовали на штабистов очень слабо. Пока разыскивали людей, пока их вооружали, время шло. Сторожев скучал по дому, по Кольке, нервничал, ни за что ни про что ругал Лешку, а тот и не обращал внимания на брань, — его захватила вся эта толчея «ставки», грохот, шум.
Он весь день напролет проводил на улице — дома грызла тоска. Перед тем как ехать в Каменку, Лешка зашел к Наташе.
— Когда же свадьба? — спросил Фрол Петрович.
«Ах, эта проклятая война! — думал Лешка. — Где же тут жениться в такой чертопляске! А жениться надо: и я сохну, и она сохнет».
В Каменку всё приходили новые люди: дезертиры, бесшабашные матросы, военнопленные, не успевшие выбраться из России, зажиточные мужики. Все они чего-то требовали, чего-то ждали, чем-то кормились, где-то жили, и все это скопище формировалось в полки и отряды, направлялось в леса, в села, на хутора, разоружало мелкие отряды красных и рассыпалось при малейшем их напоре, чтобы снова сойтись туда, где жить вольно и бездумно.
Лешка впервые увидел такое множество людей, слонявшихся по селу, хваставшихся количеством убитых, добычей, доставшейся в бою или просто награбленной под шумок.
Но скоро и Лешке надоело безделье. Он затосковал. От нечего делать Лешка начал помогать хозяину избы, где они остановились, Евсею Калмыкову, убирать скотину, чистить двор, возить навоз в поле. Евсей готовился к весне. Сначала он косо поглядывал на Лешку, но скоро оценил его, перестал стесняться и шепотком жаловался парню на тяготы жизни.
— Вот оно, Лешенька, — говорил он, — не чаяли, не гадали, ан в столицу Каменка возвеличилась, пропади она пропадом! Поверишь, у меня лошадь три раза на дню меняют, я и считать-то перестал. Надысь была кобыла рыжая, а теперь вон мерин стоит серый. Вот тебе и столица! Нет, Лешенька-золото, мужику война — разор. Тьфу ты, пропасть!
Евсей злобно плевался, ругался шепотком, потуже подпоясывал кушаком рваную шубенку, взваливал кошелку с мякиной на плечи и, кряхтя, шел во двор.
Лешка выходил на улицу и видел все ту же картину: конные скачут туда и обратно, проходит полк, ветер развевает знамя с надписью: «Земля и воля, да здравствует Учредительное собрание», лихой гармонист поет:
Пойдем, пойдем, Дуня, Пойдем, пойдем, Дуня, Пойдем, Дуня, во лесок, во лесок. Сорвем, сорвем, Дуня, Сорвем, сорвем, Дуня, Сорвем, Дуня, лопушок, лопушок!И каждый день одно и то же. Вот и сегодня уходит полк, с грохотом тянутся пушки, зарядные ящики.
Из штаба ведут расстреливать захваченных коммунистов. Сопровождающие антоновцы ссорятся: они уже делят одежду и обувь, которую снимут с приговоренных, а обреченные на смерть, зябко кутаясь в шинели, вполголоса говорят друг с другом.
— Ох, и щелкают их! — сказал кто-то за Лешкиной спиной.
Лешка обернулся. Здоровенный детина в нагольном полушубке, с челюстью, подвязанной красным платком, помахивал плеткой.
— Сегодня третью партию ведут. А вчера, говорят, летчиков двух поймали, так тем на спинах звезды вырезали. Адъютант штаба Козлов, вот уж воистину тигра, так и сказал: «Они близко к звездам бывают, пущай получают небесные отметки». — Детина громко захохотал. — Ты чей же? — спросил он Лешку.
— Мы из Двориков. Со Сторожевым я.
— Неприсоединенные, значит?
— Днями присоединились.
— Тю! Мы второй год воюем.
— То-то мужики слезу льют, лошадей совсем не стало.
— На наш век хватит.
— А долог век-то? — спросил Лешка. — Или, думаешь, надолго война? — И снова тоска по Наташе сжала сердце. «Одна она там, — подумал Лешка, — скучает небось, плачет. Эх, жизнь ты наша!..»
Детина сосредоточенно уставился в землю.
— А бес ее знает, надолго она, война, или нет. Говорят, до полной победы.
— Ну, скоро, значит, не жди конца.
— Ничего. Нам говорили, казаки к Москве подходят. Еще месяц-полтора коммунисты протянут, не больше.
— А ты сам-то откуда? — спросил Лешка детину.
— Из-под Сампура. У нас Кузнецов командиром армии. Ух, боевой!
— А пьете?
— Пошто не пить? Известно, пьем. Тут кругом самогон гонят, куда его беречь, хлеб-то? Красные придут, отнимут. Пьем, конечно. Да и командиры пьют.
Детина опять загоготал. Потом он пригласил Лешку пойти к какой-то вдове Катре, живущей на выгоне. Лешка от скуки согласился и побрел за парнем. Шли они по тропинкам мимо огородов, стогов соломы — оттуда неслись приглушенные разговоры, смех, стоны, визги, — мимо риг, мимо сгоревших и снесенных, орудийным огнем изб.
Хата Катри стояла на отлете, как тычок на ровном месте. В окнах не было видно света, но, подойдя ближе, Лешка услышал пьяные песни, шум, смех. Он подобрался к окну, нашел щелочку, где расходились занавески, и заглянул внутрь. Человек десять — мужчины и женщины — тянули нестройную песню, каждый пел как умел, бабы сидели на коленях у сильно пьяных антоновцев.
Лешка, за эти две недели узнавший многих людей из личного антоновского полка, приметил эскадронных и взводных командиров.
Детина постучался.
На мгновение шум в избе притих, затем компания снова затянула песню.
— Кто там? — отозвался на стук женский голос.
— Свои, свои, Катря, впускай!
Лешка хотел перешагнуть порог вслед за парнем, но, заметив, что к избе на рысях подходил небольшой конный отряд, сразу юркнул во двор. Конники остановились и окружили хату. Через несколько минут пьяное сборище поплелось под конвоем в Каменку.
Около штаба конники спешились, один из них вошел в дом и тут же возвратился в сопровождении Санфирова — его вызвали с заседания. Без шапки, на ходу застегивая полушубок, Санфиров подошел к перилам крыльца.
— Кого поймали? — спросил он.
Тот, кто вызвал его с заседания, стал перечислять фамилии. Санфиров злобно кусал усы.
— Это что же! — закричал он, обращаясь к еле держащимся на ногах людям. — В боевой обстановке пьянствовать?
— Раз свобода, то и пьем, — сказал кто-то.
— Молчать! — закричал Санфиров, наливаясь гневом. — Молчать, сукины дети! Каждому по двадцать пять плеток. И говорю еще раз: кого захвачу за пьянкой, впредь буду пороть нещадно. Начинай! — приказал он.
Вокруг пьяных собралась толпа. Некоторые выражали сочувствие пострадавшим, другие кричали: «Правильно!», «Верно!», а крестьяне, постояв, отходили в сторону.
Началась расправа. Спешившиеся конники нещадно лупили пьяных, те отбивались, орали и поносили Санфирова.
— Погоди, Яшка, — кричал один из командиров, менее других пьяный, — мы тебе припомним эту затею! Хлебнешь и ты ременных щей!
Санфиров несколько минут молча наблюдал порку.
Из штаба, кем-то оповещенный об экзекуции, выскочил Ишин и с ходу набросился на Санфирова:
— Ты что, Яшка, очумел? Своих пороть?
— Уйди от греха подальше, Иван Егорович, — стиснув зубы, процедил Санфиров. — Какие они свои? Чистые бандюки.
— Довольно, эй! — не слушая Санфирова, крикнул Ишин экзекуторам. — Я тут главный от комитета! Слишком ты возгоржался, Яков!
— Мерзавцев покрываешь? — Санфирова колотило от злости. — Антонову доложу!
Расталкивая толпу, он ушел в штаб, ворвался в кабинет Антонова, застучал кулаком по столу, захлебываясь яростью, выкрикивал:
— Да что ж это такое! Пьяница, сукин сын Ишин!.. Командующего гвардией при всех срамить? За разную нечисть вступаться? Выбирай, Степаныч, или я, или он!
Оторопевший от истошного вопля, Антонов сжался в комок на постели. Не успел еще Санфиров кончить свои проклятья, в кабинет влетел, размахивая пистолетом, Ишин и тоже заорал, брызгая слюной:
— Зазнался Яшка, Александр Степаныч! Своих начал пороть!
— Молчи, свиная харя! — набросился на него Плужников. — От тебя зараза идет по всей армии. Ты ее разлагаешь. Весь тыл на самогонку размотал, па-адлюга!
— Ты мне не указчик, святоша! — завопил Ишин. — Нынче ты в комитете председатель, задницу Степанычу лижешь, а завтра мы вас обоих по шапке.
Антонов схватил маузер, вскочил с кровати и крикнул что есть мочи:
— Молчать, сволочь! Во фронт перед главнокомандующим! Рады-радешеньки, твари ненасытные, друг дружке кишки выпустить. Так я их из вас выбью!
Он выстрелил в Ишина, но маузер дал осечку. Санфиров бросился к нему, отнял оружие. Антонов, обессиленный борьбой, упал на кровать, захрапел, забился. Плужников крикнул в дверь:
— Доктора, живо! — и обратился к Ишину и Санфирову: — Ай не совестно вам, братики? — Голос его опять стал масленым. — За одно клялись страдать, милки, а вы?
— Помалкивай, старче! — гаркнул Ишин. — Не тебе меня учить! Тоже учитель нашелся.
Поспешно вошел доктор. С его появлением перепалка прекратилась. Он подошел к Антонову, взял руку и начал слушать пульс. Спустя несколько минут в кабинет быстро вошла Косова, с истерическим воплем кинулась на грудь Антонову, запричитала:
— Сашенька, миленок, на осину бы твоих погубителей! — Она обернулась ко всем, кто был в кабинете, зубы ее оскалились. — Пошли вон! Я с ним останусь.
Со злобным ворчанием, не глядя друг на друга, покинули кабинет Ишин и Санфиров. Плужников, качая головой и бормоча что-то, пошел к себе.
Тошно, мутно было на душе Якова Васильевича. Не раз клял он себя за минуту слабодушия, когда, поверив Антонову, пошел за ним…
Но еще не доспело его время, не мог еще Санфиров распутать путы, что сам надел на себя. И таскал он их с болью в сердце, с сомнениями, раздиравшими его.
Глава одиннадцатая
1
Осенняя мерзкая слякоть в Тамбове, сумеречное небо повисло над городом, и сумрачно на душе у тех, кто знал истинное положение дел в губернии.
Вести об Антонове самые угрожающие. Уже известны его силы, уже ясно, что за ним пошли не только кулаки. В газетах появляются первые сообщения об антоновщине, правда успокоительные, но кто умеет читать между строками, тот понимает, что к чему.
В губпарткоме совещание за совещанием. Сил мало, выгребают последнее и посылают политработниками в части, занимающие стратегические пункты. Газетчики и журналисты, понимая, что не только губерния, но и Республика в опасности, потому что Антонов рвет коммуникации и держит в своих руках хлеб, берутся за перья.
Молодые энтузиасты из «Известий Тамбовского Совета», из губРОСТА, коммунисты и парни хоть куда, строчат, не видя ночей и дней. Давно покончено с Деникиным, «смотался» Юденич, нет Колчака, в Германии восстание спартаковцев, подписан мир с Польшей, Эстония признала советскую власть, Лига наций направляет в Россию комиссию для изучения положения в стране, Союзный совет, заседающий в Париже, разрешает открыть торговлю с Россией. Конец, блокаде!
На первый субботник в Москве выходят тысячи людей. Ленин среди них, и вот на весь мир раздается его голос:
«Этот день — фактическое начало коммунизма!»
Теперь остается добить Антонова и взяться за разруху.
Скрипят перья в тесных комнатах тамбовской редакции, здесь делают печатную стенную газету «Красное утро» — она привлекает к себе сотни читателей: броская, яркая, в ней самые последние новости, ночные сообщения, только что полученные из Москвы, радиопередачи РОСТА, важные губернские новости.
Тысячными тиражами печатают листовки и прокламации, обращенные к тамбовским мужикам. Разоблачается ложь Союза трудового крестьянства насчет захвата большевиками лучших земель под совхозы за счет мужика. Только триста тысяч десятин заняли совхозы; больше четырех миллионов десятин отданы безвозмездно крестьянству. Тот, кто имел полдесятинный надел на душу, теперь имеет полторы десятины. Все это дала советская власть. А что дали антоновцы мужикам? Восемь миллионов убытка в кооперативах, разгромленных ими, шесть миллионов пудов ржи, недодобранных на тех полях, над которыми пронеслась антоновская туча, восемь миллионов пудов овса, одиннадцать миллионов пудов картошки.
Есть над чем подумать тем, кто доверился батьке Григорию Наумовичу и говоруну Ивану Егоровичу Ишину!
Потом выходит газета «Правда о бандитах». В деревнях, куда ее посылают с красными отрядами или разбрасывают самолеты, ее читают. Зерно правды посеяно: оно даст ростки, непременно даст!
2
Главоперштаб и комитет союза отвечают на агитацию большевиков тем, что перебрасывают пламя восстания в уезды Моршанский, Козловский, поднимают мятеж в смежных уездах Саратовской, Воронежской и Пензенской губерний.
А чтобы утвердить свою славу внутри Тамбовщины, Антонов предпринимает поход на Ивановский конный совхоз. Ни один его отряд не мог проехать незамеченным в радиусе двадцати верст от совхоза, ни один агент не пробрался в ряды его защитников. И манили Антонова породистые лошади: их было тогда в совхозе до двух сотен.
Досадовал Александр Степанович на ивановских коммунистов еще и потому, что не раз слышал за своей спиной крамольные разговоры.
— Куда им на Тамбов идти, ежели не могут Ивановки взять!
Два полка с пулеметами и пушками осадили каменные конюшни совхоза. Прямой наводкой стреляли антоновские артиллеристы, выпустили с полсотни зарядов, пробили стены, зажгли во дворе совхоза деревянные строения, а коммунисты сидели за каменным прикрытием и отстреливались.
Кто помнит теперь имена красных героев — Андреева, Гаранина, Туркова, Рязанова, Чекунова, Зверева, Романцева? Это они отбивались от «ударного» полка Санфирова и полка Матюхина, падая от усталости, тушили пожары, на скорую руку забивали пробоины в стенах, ловили лошадей, обезумевших от огня и выстрелов, чуть не погибли, когда от пушечного выстрела на конюшне, где стоял пулемет, рухнул потолок. «Красные черти» держались до последнего часа, и казалось, вот-вот ворвутся Санфиров и Матюхин в совхоз. Но на выручку пришла кавалерийская часть из Сампура; с нею командиры-антоновцы связываться не захотели: жалели свои силы — отошли.
В октябре двадцатого года в Москву из Тамбовской губчека пришла первая весть о появлении банд эсера Антонова. Александр Степанович, получив от Федорова-Горского текст перехваченной телеграммы, рассердился.
— Сукины дети! — гневно говорил он, обращаясь к Токмакову. — Какой же я бандит?
— Эва, обиделся, — скрипуче засмеялся тот. — Плюнь! Ты знаешь, что означает слово «бандит»?
— Ну, вор, мошенник…
— Молчи, неуч! Бандит — слово не наше, а означает оно: изгой, изгнанник. Почетное имя, а ты обижаешься.
— Ну? Изгнанник? Это ты не врешь?
— Зачем же? Читал где-то.
Когда трескинские мужики подарили Антонову украденного в совхозе серого жеребца, он назвал его со злости Бандитом — нате, мол, подавитесь!
А в середине октября Антонов прознал, что против него впервые собираются послать крупную воинскую часть. Шел на него губернский военный комиссар Шикунов, получивший приказ разбить Антонова своими силами.
Шикунов взял с собой тысячу людей, орудия, пулеметы и двинулся на юг искать Антонова.
Он приходил в одно село, в другое, но Антонов покидал их за полчаса до прихода красных. Шикунов шел следом; отряд Антонова то показывался, то быстро скрывался на свежих конях.
Антонов хорошо знал все лощины, все пригорки, леса и перелески. Шикунов ничего не мог понять: он бывал на многих фронтах, но здесь фронт был всюду.
— Бандитов видели? — спрашивал Шикунов, проезжая по селам.
— Бандитов? И слыхом не слыхали!
— Да ведь вот следы, с полчаса назад здесь прошли.
— Да что ты, милый, какие тут бандиты!
В глухой деревеньке, когда утомленный, измученный отряд спал, Антонов довершил свое дело.
Часть людей пошла в антоновские отряды, большинство приняло смерть, комиссар Шикунов с горсткой людей отбился. Его помощника расстрелял сам Антонов.
Вытирая дымящийся маузер, Антонов толкнул убитого в бок.
— Ну, отдохни теперь, намаялся, сердечный!
Три дня гулял он со своей дружиной по случаю первого внушительного разгрома красных. Кирсановские мироеды задали в честь Антонова пир небывалый!..
— Задали мы им жару! — кричали агитаторы союза в деревнях.
Глава двенадцатая
1
Когда зима густо припорошила снегом поля и в сонной тиши их звонкой дробью раздавался цокот копыт, когда поплыл над избами бурый дымок, а гуси, тревожно и недоуменно гогоча, тщетно искали воду под прозрачной ледовой коркой, когда завихрились, завыли метели, Антонов занял почти всю территорию Тамбовской губернии.
Разъезды сторожевского Вохра то и дело маячили по ту и другую сторону Юго-Восточной железной дороги, заняли почти всю Балашовскую ветку, где были главные питательные базы движения.
Оставался небольшой кусок в юго-восточном углу Тамбовщины, еще не присоединившийся к мятежникам.
В один из ясных морозных дней, когда тихо мело в полях и посвистывал-погуливал ветер, Антонов появился здесь.
Он ехал в ковровых санках, впряженных в тройку буланых коней, завернувшись в богатую шубу на лисьем меху, рядом сидел Ишин, личный адъютант Александра Степановича Старых, а на козлах бок о бок с кучером Абрашка. Ишин что-то болтал; Антонов заливался смехом.
Впереди конник вез знамя «ударного» полка с надписью: «Да здравствует Учредительное собрание!» На казацкой пике другого конника полоскалось по ветерку знамя начальника Главоперштаба — красное бархатное, с золотой бахромой и надписью: «В борьбе обретешь ты право свое! Центральный комитет партии с. р. — тамбовским борцам за свободу!», присланное эсеровским центром.
Позади в окружении адъютантов и командиров на тяжелом караковом жеребце следовал командующий антоновской гвардией, всегда сумрачный и малословный Санфиров, в суконной шубе и серой каракулевой папахе с зеленой лентой поперек. Шагах в десяти от него полсотни гармонистов выводили мелодию, а две тысячи глоток пели:
Эх, доля-неволя, Глухая тюрьма! В долине осина, Могила темна!Санфиров слушал дикий рев гвардии, пронзительный присвист и морщился. Не любил он эту песню. Почему тюрьма? Почему осина? На осине вешают конокрадов и разбойников… Зачем могила?
Но удалой гвардейской братии песня была по душе. Она не слишком вдумывалась в кровавые слова самой песни, в зловещий смысл припева. Петь во всю глотку, гулять по этим безбрежным просторам, врываться в непокорные села, бить, крушить, менять уставших лошадей у мужиков; гранату в избу коммуниста, другую гранату в его двор, бегут языки пламени, народ воет, в воздухе мелькают плети…
Ишин гоготал, когда полк своим волчьим ревом оглашал округу, кричал что-то смешное, обернувшись к Антонову, а тот опять смеялся.
Потом к саням на высоком поджаром дончаке подскакал бочкообразный комендант Трубка, отдал честь и хриплым басом сказал:
— Так что Дворики в видах, командир. Прикажешь Бандита привести?
Антонов кивнул головой. Через несколько минут Трубка мчался назад, ведя за собой на поводу лошадь командующего, знаменитого серого Бандита с алым бархатным чепраком под седлом. На уздечках и прочей справе блестели серебряные бляхи, пряжки и прочие украшения чеканной работы.
Антонов пересел на жеребца, тронул его, конь вынес его вперед. Александр Степанович, заняв место позади знаменосцев, крикнул что-то Санфирову. Тот, в свою очередь, гаркнул через плечо, и полк перешел на рысь.
Через несколько минут он уже был в Двориках.
У околицы его встретила толпа. Фрол Петрович и Данила Наумович поднесли Антонову хлеб-соль. Антонов, нагнувшись в седле, расцеловался с обоими, помахал приветливо рукой собравшимся, улыбка не сходила с его губ. Полк медленно гарцевал вдоль села. День был праздничный, все, кто мог, высыпали на улицу, чтобы полюбоваться богатым зрелищем: отличной справой полка, лихими конями и оружием, что поблескивало на солнце, пушкой, которую тащили четыре битюга.
Штаб полка разместился в доме Ивана Павловича, бывшего лавочника, сын которого, Николай, тоже был эсером, но в те годы где-то пропадал и в Дворики не показывался.
«Сам» ходил по селу и разговаривал с мужиками. Обедать собрались у лавочника. Потом залегли спать. Антонова разбудил набат — Ишин собирал народ в школу. Кое-кто не хотел идти, тех пришлось постегать.
2
Ближе к вечеру комендант Трубка и Данила Наумович, назначенный Сторожевым председателем сельского комитета союза, еще не вылезшего из подполья, пришли до «самого» и доложили, что его ожидает народ.
— Видимо-невидимо собралось, — подобострастно тараторил Данила Наумович. — Ах, батюшка, ах, кормилец ты наш, ах, Лександр Степаныч, надёжа наша!
Комендант Трубка цыкнул на Данилу Наумовича, и тот оборвал свои причитания на полуслове. Трубке было известно, что «сам» недолюбливает лесть в глаза. За глаза — пожалуйста, но чтобы не так уж… в открытую…
Антонов вошел в школу, скинул шубу, и все, кто был здесь, встали, чтобы получше разглядеть его. Тусклый свет керосиновых ламп мешался с испарениями сотен тел.
— Окна бы открыть — невмоготу дышать, — объявил Антонов самым добродушнейшим тоном.
Окна открыли, и к ним сразу прилипли головы тех, кто не смог занять места в школе.
Председательствовал тяжеловесный, с сиплым голосом Данила Наумыч. Рядом помещались четыре комитетчика, и народ диву-дивился: почему Фрол Баев, Андрей Козел, Аким Кулебякин и Федор Сажин удостоились такой чести: бок о бок сидят с «самим»? Откуда они взялись, кто их выбирал?
Однако помалкивали.
Антоновские конники из охранного штабного отряда стояли у дверей на карауле с карабинами наперевес: народ дюжий, молодой, смотрят дерзко, одеты добротно — в кожу, сукно, новешенькие сапоги поблескивают, поскрипывают.
Мужики перешептывались.
Антонов тоже с любопытством разглядывал мужиков — в Каменке и в окрестных деревнях, где он осел, были все «свои». А тут впервые приходится говорить с чужими. Черт их знает, куда они потянут.
Разговор начал Ишин — ворот кумачовой рубашки нараспашку, подловатые масленые глазки хитрят, щеки ядреные, красные.
— От имени губернского комитета Союза трудового крестьянства слово имеет Ишин Иван Егорович, — сказал Антонов.
Ишин подошел к столу, затушил цигарку, обвел галдящее сборище взглядом, улыбнулся.
— Здорово, мужики!
— Здорово! — хмуро ответили ему. — Здорово, Егорыч.
— Здорово, да не здорово, так, что ли? Ишь, какие вы злые, хмурые! Чем недовольны?
— Ты о деле говори, чего балачки загинаешь?
Из-за стола поднялся Андрей Андреевич — рыжая бороденка клинышком выпирала вперед.
— Что ты зубы скалишь? — пробурчал он. — Скажи, зачем собрал, что от нас требуете. Слышь-ка, того-этого, не томи опчество.
Андрей Андреевич сердито застучал о пол костылем, закряхтел и сел.
Ишин слушал Андрея Андреевича с улыбочкой, поигрывая ременной плеткой, щелкая ею по голенищу сапога. Этот весельчак и балагур, сельский лавочник, спутавшийся с эсерами, нравился сельским богатеям. Недаром Антонов, поручая ему самые трудные дела, был покоен: Иван Егорович не подведет.
Приятели у него были везде. Многие из них и не знали, чем, собственно, занимается этот краснорожий детина.
А он до сих пор принимал от Федорова-Горского транспорты оружия, отправлял из Тамбова возами обмундирование и ни разу не попался. Везло Ишину! Он и шел по жизни, посмеиваясь. В каждом селе была у него знакомая вдова, на каждом хуторе тайное место — нипочем не поймать!
Перед войной, как уже было сказано, Ишин держал лавку в селе — такой приказ ему вышел от эсеровского комитета, не ради прибыли торговал: должников у него было видимо-невидимо. Ишин их не прижимал: пригодятся. И верно, пригодились: долг платежом красен. Кто выдаст человека, который когда-то из беды выручил?..
Вот и теперь сидит он перед народом и чует, как полны сомнениями, как темны крестьянские мысли.
Тут не докладчика надо, тут сказочник требуется, чтобы развеять мужицкую печаль-тоску.
— Я вам расскажу, мужики, сказку-побасенку, слушайте, веселей будет! — Ишин, отодвинув лампу, присел на край стола. — «Вороне где-то бог послал кусочек сыру…»
Мужики засмеялись, зашумели, а Иван Егорович продолжал:
— Бог, как говорится, бог, да сам не будь плох! Так и тут. Ворона из-за того куска погибнуть могла. Ее чуть кирпичом не убили, ее чуть кошка не сцапала… Сидит она на дереве и планует, с какого бы конца за сыр приняться. А тут лиса появилась. И начала к вороне ластиться. Дескать, какая ты, голубушка ворона, красавица, умница, какой я тебе верный друг. Дескать, лисе сыздавна бог велел за ворон стоять. Не хочешь ли, мол, еще кусков десять сыру? Скажи «да», и я мигом притащу. Слышали такую басню?
— Слыхали, слыхали!
— Басня известная, да по-другому сказываешь.
— Ну, конец вам известен. «Ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал, и с ним была плутовка такова…» Так, что ли?
— Так, так.
— А вот смекайте, почтенные, не узнаете ли вы кого-нибудь в той вороне?
Ишин уже без улыбки обвел взглядом школьный класс. Углы его тонули во мраке. Сизый табачный дым повис облаком. Все так же безмолвно стояли с винтовками наперевес дружинники.
— Я скажу, отцы, вы самая та ворона и есть! Не пора ли одуматься, не пора ли лису, чертовку, поймать да шкуру с нее спустить, пока она с вас шкуру не спустила? Много ли у вас шкур-то осталось?
— Вчера, того-этого, Листратка со станции набегал, три сотни пудов на станцию свез, — прошипел Данила Наумович.
— Еще тысячу свезет, — подал голос Антонов. — Братья крестьяне! — он встал. — Идите к нам! Мы организовали Союз трудового крестьянства — все за одного, один за всех! Молодые, берите ружья — они у нас есть. Пойдем воевать на коммуну! Не крепко держатся большевики, враз спихнем!
— Спихнуть-то что, — прерывая Антонова, начал Фрол Петрович. — Спихнуть-то мы их можем, спихнем, а кого на свой горб заместо их посадим?
— Никого не посадим, — отвечал Ишин. — Сами собой управляться будем. Что с земли снял — все твое, никаких разверсток. Торговать хочешь — торгуй! Трех лошадей желаешь держать — держи. Государству от того только польза!
— Черт вас разберет, много ли правды в ваших словах, — хмуро бросил Фрол Петрович. — Да и где она, правда, Егорыч? Или ее во щах сожрали?
— Сожрали, дед, сожрали! — проникновенно сказал Ишин. — Золотые твои, дед, слова! Плохая жизня, мужики, на Руси-матушке, и все через большевиков!
— А разверстку большевики ломать не собираются? — осторожно спросил Фрол Петрович.
— Какое! — Ишин махнул рукой.
— Да ведь это они нас в бараний рог согнут! — сказал кто-то с отчаянием.
— Что нам делать, сказывай! — понеслись отовсюду крики.
— Слушайте, отцы! — Антонов обвел собравшихся пытливым взглядом. Встретившись с горящими от нетерпения глазами Сторожева — тот сидел в толпе, — он усмехнулся. — Дело-то ведь простое. У красных своя коммуна, у нас должна быть своя. Насчет классовой борьбы большевики орут… Глупости! Просто хотят натравить вас друг на друга, а потом в одиночку так подмять, что у вас кости затрещат. Самая подлая выдумка, отцы, — продолжал Антонов, — промеж вас раздоры сеять… Сейчас эти овцы в овечьей шкуре бедноту привечают… Правильно я говорю?
— Правильно, Лександр Степаныч! — понесся оглушительный рев.
— Одно из двух: либо они собираются на веки вечные бедноту беднотой оставить, либо, если их лисьим словам верить, хотят они бедноту зажиточными сделать. А что ж потом будет, товарищи беднота, послушайте меня! Сделают вас большевики зажиточными и с вас же шкуры драть будут, помяните мое слово. Объединимся — никакая сила нас не возьмет.
— А ваши-то слова не лисьи ли? — крикнул кто-то из полутьмы.
— Я лисьей породы? — Антонов вскочил. — Речи мои лисьи? — Он уже вопил задыхаясь. — Я, каторжанин, кандальник, я лиса? — Антонов бил себя в грудь. — Два года в землянках вшей кормил, армию собирая. Бедовал, голодал, красные меня пять раз как волка обкладывали! — Антонов, задыхаясь, кричал что-то неразборчивое, воспаленные глаза налились злостью, он потрясал кулаками…
И тут словно плотину прорвало. Мужики зашумели, перебивая друг друга. Потом из рядов выскочил длинновязый парень в аккуратной поддевке, заорал благим матом:
— Пишусь к вам в армию!
— И меня пиши!
— Давай винтовки! Постоим за народ!
Когда страсти утихли и все, кто захотел добровольно идти в армию Антонова, были выведены адъютантом штаба из школы, снова встал Ишин и долго говорил о порядках, которые заводятся с этого дня в селе.
Ох, уж эти порядки!
Знают двориковские мужики, что делается в селах, уже присоединившихся к восстанию. То зеленые, то красные… Давай постой тем и другим, корми тех и этих, отсыпай полной мерой овса лошадям, в тайные ямы ссыпай хлеб, не скажи неосторожного слова…
И власть! Черт ее поймет, какая власть на селе!
На колокольнях и мельничных вышках безотлучно сидят караульные. Покажется красный отряд или жители из соседней деревни сообщат о его приближении, — на колокольне появляется сигнал — белая тряпка, видимая далеко-далеко. Мельница перестает работать, крылья ее ставятся в определенном порядке: «свои» в селе — крылья ставят простым крестом, красные пришли — косым. Нет в деревне колокольни или мельницы — на околицах ставят длинные шесты с черепами коровы или лошади. «Свои» в деревне — стоит шест; красные в деревне — нет шеста.
Вот появляется и расходится на постой красный отряд. Сельсоветчики приходят в избу, которую они занимают, вешают над дверью красный флаг, раскладывают бумаги и начинают шуровать. Ушел отряд — дозорный с колокольни сигналит:
— Антонов идет!
Собирают сельсоветчики бумаги, снимают флаг и расходятся по домам. Через час-другой, — глянь, робята! — над дверью той же избы новый флаг, а за тем же столом, за которым только что сидели сельсоветчики, теперь сидят со своими бумагами комитетчики и тоже шуруют по-своему.
Снова дозорный лезет на колокольню или на вышку мельницы. Антоновские милиционеры, не расседлывая коней, задают им овса, сами заходят в комитет, балагурят, курят, томятся от безделья. А вокруг села охрана — мужики с топорами и вилами; их и зовут «вильниками». Постороннему ни пройти, ни проехать. Тяжкая жизнь. Адовы порядки!
…Ишин и Антонов сосредоточенно ждали. Молчали мужики. Но ведь не вечно же сидеть запертыми в отчаянной духоте, в ожидании чего-то страшного, но неотвратимого. Неужто обманут? Ведь свои они, свои! Все из мужиков: и батька Григорий Наумыч, и Иван Егорыч, и сам Антонов противу царя за мужиков шел, на каторге, болезный, кандалами гремел… И армия из своих… А большевики — поди узнай, из каких они. Конечно, есть из мужиков, но много ли их!
— А Сторожеву, того-этого, не собираетесь землю отдавать? — Это Андрей Андреевич прервал гнетущее молчание.
Горящими глазами в упор смотрел Сторожев на Антонова; в этом взгляде были предупреждение и угроза. Антонов растерялся, но его выручил Ишин.
— Коемуждо по делам его, — ухмыльнулся он.
По толпе пронесся гул облегчения. Антонов вытер выступивший пот, а Сторожев опустил глаза и мрачно усмехался в усы.
— Ну, так что скажете, отцы? — обратился к мужикам Ишин. — Подпишете протокол, или как?
— Что ж, — раздался голос Данилы Наумовича. — Видать, мужики, приставать нам к одному краю. Подписуемся, куды ни шло!
Антонов, насупившись, бросил:
— Да я за нее всю жизнь бился!
Встали еще трое-пятеро, подписались и заорали:
— Идти, так всем! Чем вы нас счастливее! А ну, ходи смелей!
И вот длинной чередой пошли к столу молодые и старые, седобородые и бритые, в лаптях и скрипящих сапогах, в рваных зипунах, вроде Андрея Андреевича, и в новых поддевках, как бывший лавочник Иван Павлович, трясущимися руками брали перо, трясясь, подписывали протокол, а если кто неграмотен — ставил крест, но рядом писалась его фамилия, чтоб потом не увильнул от общего дела. Кто-то хотел потихоньку улизнуть из школы, но, наткнувшись на карабины охраны, поплелся к столу.
Готово!
Ишин истово поздравил «опчество», но «опчество» помалкивало и чесало затылки, а Ишин, заручившись протоколом, который связал село одной веревочкой, начал заключительную речь. Она была коротка и ясна до шевеления волос на голове.
— Всех, кто словом или делом будет мешать, — в яругу и башку долой. Семьям дезертиров приказать, чтобы их ребята бежали из Красной Армии по домам и являлись домой. Комитет их направит куда следует. В село, отцы, никого не пущать, чтоб, значит, не разводить шпионов. Своим установить пропуска, чужих задерживать, и ежели покажется шибко подозрительным — в яругу и башку долой. Придет малый отряд красноты — обезоружить. Придет большой отряд — комитетам скрыться, милиционерам смотаться, прочим красных не привечать, не кормить и не поить, хлеба не давать. В случае, ежели кто, — тут Ишин повысил голос до угрожающей ноты, — ежели кто, говорю, выдаст красноте хоть одного комитетчика, хоть одного милиционера, хоть малую нашу тайну — в яругу, башку долой, а имущество конфисковать… Это война, почтенные, зарубите себе на носу. Война не на жисть, а на смертную смертушку!
Собрание закрылось, мужики разошлись. Комитетчики остались для разговора с «самим» и для получения более обстоятельных инструкций.
А на улицах разговоры:
— Стало быть, что ж такое выходит? Выходит, не будут больше над нами коммуны?
— А тебе их жалко?
— Да нет, чего там!
— То-то и оно! — Это произносится с явной угрозой.
— Больно уж на Расее сила велика… — задумчиво заговаривает другой. — Навалятся на нас… О, господи!
— Помалкивай, ты! — несется в ответ.
— Да мне что!
И молчание! Молчание, которое через день распространяется на все село. Друг друга остерегаются, говорят косноязычно, ни черта не поймешь, за кого они, за что они… Оно и понятно: кто знает, не шатается ли под окном доносчик. Ведь в яругу никому неохота!
О господи, воля твоя, пронеси мимо лихолетье! Попа, что ли, позвать, чтоб отслужил молебен за мирное житие? Но поп, блюдя осторожность, либо помалкивает, либо, сочувствуя всей душой бандитам, нашептывает им все, что от него требуют, только в тайности, только в тайности. Молчат запуганные учителя, врачи, фельдшера, агрономы.
Молчит село. На душе смутно: на кого поднялись? Ох, велика Расея, ох, велика сила у Ленина!
3
Андрей Андреевич дождался выхода Антонова из школы, тронул его за рукав шубы. Охранники, следовавшие за главнокомандующим, хотели отпихнуть его, но Антонов, заметив робкий, молящий взгляд Андрея Андреевича, подозвал его.
— Тебе чего?
— Яви, Степаныч, божецкую милость, — захныкал Андрей Андреевич. — Как я самый что ни на есть распробедняцкая душа на селе… Пятеро ребят, стадо крысят… Лошаденку бы мне какую ни на есть.
Антонов рассмеялся. Бормотание Андрея Андреевича настроило его на веселый лад.
— Кто такой? — спросил он Сторожева — тот вел его к себе домой, где готовился ужин для штаба и комитета.
— Да наш, комитетский. Хоть и орал противу меня, но больше по глупости. Этому подсобить можно.
— Яви божецкую милость, — скрипел Андрей Андреевич.
— Из запаса выбракованную лошадку этому честному бедняку привести завтра утром, — приказал Антонов Абрашке.
— Слушаюсь.
Андрей Андреевич бросился к Антонову, схватил руку, хотел поцеловать. Антонов отдернул ее, ласково потрепал Андрея Андреевича по плечу и пошел дальше, на ходу бросив Абрашке:
— Да чтоб побольше народу видело, когда лошадь поведешь.
— Слушаюсь, — отчеканил Абрашка. Ни он, ни Антонов не заметили презрительной усмешки на губах Сторожева.
4
Ночью назначенные в милицию вытаскивали из потайных углов припрятанные винтовки, обрезы, шашки и револьверы, чинили седла или работали, пыхтя, над самодельными. А утром не узнать улицы: было мирное село, теперь вооруженный лагерь!
На колокольне дозорный. Милиция скакала туда-сюда, снег так и летел из-под копыт. У околиц налаживали сигнальные шесты, вокруг села ходили с вилами и топорами караульные. Десятские брели от двора к двору и выгоняли очередных подводчиков: ехать с грузом, куда пошлют, дежурить у комитета.
Теперь над дверью избы, где совсем недавно помещался сельсовет, болтался по ветру флаг с коряво выведенной мелом надписью: «Земля и воля», а комитет заседал. На столе кипа бумаг, сдвинутая в сторону. Их место заняли две бутылки мутного самогона, миска с квашеной капустой, соленые огурцы и моченые арбузы, а в печке, где весело потрескивало пламя, на противне жарилась преогромная яичница. Полураспитая бутылка свидетельствовала о том, что комитетчики даром времени не теряли.
Андрей Андреевич с вожделением поглядывал на угощение, и казалось оно ему, сидевшему всю зиму на картошке, поистине царским. Он уже успел натощак набраться самогонки и теперь заплетающимся языком хвастался «сочленам» — Фролу Петровичу, Даниле Наумычу и еще трем комитетчикам:
— … и чтоб, говорит, дать ему жеребца первой статьи! Вот он какой, Степаныч-то наш!
— А ты говорил! — уверял его Фрол Петрович; он тоже выпил и чувствовал себя очень бодро. — Именно — милостивец! А ты его здорово подрезал, Андрей. Как это ты сказанул насчет Сторожева, у него аж лоб вспотел. И-и, па-атехд! Одначе, мужики, война войной, а хозяйство своим чередом. Вот я чего скажу, поди-ка сюды! — Тон у Фрола Петровича был таинственный, и все разом пододвинулись к нему. — Как еще осенью миром решено, собрали мы тысячу пудов зерна на посев. Весна-то придет, чем сеять? Их дело воевать, наше — пахать. Дак об этом зерне и где оно упрятано ни нашим, ни красным ни словечка, поняли ли?
— Да провалиться мне… — начал было Андрей Андреевич, но Аким, один из комитетчиков, тоже порядочно нагрузившийся, прервал его.
— Мы-то не скажем, — с сомнением в голосе молвил он. — А вдруг сельсовет своим проболтается?
Комитетчики единодушно поддержали мудрое слово Акима Плаксина, а Фрола Петровича оно привело в неописуемый азарт.
— А ну, позвать сюды Фомку! — распорядился он. — Аким, сбегай за Фомкой Лущилиным, да мигом!
Пока Аким бегал за Фомкой, Фрол Петрович разбирался в бумагах. Их пропасть: приказы, протоколы комитета, инструкции, стихотворные прокламации Димитрия Антонова за подписью «Молодой лев». Фрол Петрович крутил головой и хмыкал. Прочие болтали о чем попало.
Вошел член совета Фома Лущилин, малорослый, с редкой бородой на остроконечном подбородке, снял шапку, поклонился комитету, потом спросил посмеиваясь:
— Уж не вешать ли меня удумали, отцы?
Все рассмеялись, а Фрол Петрович, сдвинув очки на лоб, укоризненно замотал головой.
— Дурень ты, дурень! — добродушно начал он. — Да на кой нам ляд тебя вешать, грех на душу брать? Ты всех комитетчиков знаешь, мы — сельсоветчиков. Начнем друг дружку изничтожать, что ж это получится, сообрази, дурья твоя голова! Садись, кум, пей и ешь.
— Дэт так, — согласился Фома, наливая себе самогонки. — Только Сторожев надысь так плетьми меня выгладил, вся спина в дырках. А ваши шкуры, вижу, целехоньки.
— Налетит Листратка, наши шкуры выгладит, — резонно возразил Аким Плаксин. — Ну, это пустое, а вот тут Фрол Петров истинно сказал: чтоб про потайной склад мы своим ни слова, ты своим — ни гугу!
— Да чтоб меня разорвало! — Фома для верности побожился. — Ихнее дело воевать, наше — пахать.
— Верно, кум! — Фрол Петрович подлил еще Фоме. — Теперича, — продолжал он, — наши набегут, хоронитесь у нас, понял ли? Ваши налетят — нас хороните. И без выдачи…
— Окстись, кум! — взорвался Фома. Ему очень нравился мудрый договор о взаимной безопасности. — Да нешто мы басурмане? Свояки, кажись.
— Тады выпей еще, — покровительственно заметил Данила Наумович. — Всяка власть от бога, всяку власть уважай, понял? Ты нас, мы, значитца, вас.
Все члены комитета хором высказали полное одобрение речи председателя, а Фома выпил третью.
— Флаг повесили, — завистливо сказал он, отдышавшись. — А мой — Листрат унес. Придут наши — чего повешу?
— А ты не горюй, — великодушно утешал его Фрол Петрович. — Я у Наталки кусок кумача возьму. Вешай заместо флага.
— Это ты меня вот как ублаготворишь! — со слезой проговорил Фома, полез к Фролу и расцеловал его мокрыми губами. — Потому без флага — какая я власть? Так выпьем, чтоб пронесло этот вихорь.
Стряпуха поставила на стол яичницу, и комитетчики навалились на нее и самогонку с великим усердием. Фома не отставал от них.
— А поутру, — директивным тоном сказал Данила Наумович, насытив необъятную утробу, — всем миром двинем суседние села присоединять.
— В-верно! — Андрей Андреевич пришел в дикий восторг. — Чем мы их хуже? Страдать, так всем, мать их всех в мать-перемать…
Яичница съедена, самогонка выпита. Данила Наумович вызвал из сеней толпившихся там десятских и дал наказ:
— Завтра чем свет будить народ по набату. Поедем в Духовку к нашим присоединять, поняли?
Десятские ушли. Андрей Андреевич, пока председатель разговаривал с десятскими, успел заснуть. Фома и бездельничающие комитетчики допивали самогонку. Фрол Петрович опять вонзился в бумаги…
Вошел рослый, хмурый антоновец, по всем признакам командир, оглядел собравшихся.
— Комитет? — сурово спросил он.
— Так точно, — залепетал Данила Наумович, пряча бутылки под стол. — Как, значитца, новая власть, мы, значитца…
— А этот кто? — антоновец кивнул в сторону Фомы, схоронившегося за могучей спиной Данилы Наумовича.
— Да это свой, актив, — подняв голову от бумаг, не моргнув глазом, добродушно ответил Фрол Петрович. — Тебе чего надобно, милок?
— Мне надобно сей же час семьдесят подвод. Надо подвезти ребят в соседнее село.
Фрол Петрович почесал за ухом.
— Пойди, Аким, скажи десятским, — распорядился Фрол Петрович. Когда антоновец и Аким вышли, Фрол Петрович, ни к кому не обращаясь, сказал: — Ну, началось, мужики! — И выругался многоэтажно первый раз в жизни. — Добра, кажись, ждать и от этих нечего!
Комитетчики молчали…
5
Ночь прошла спокойно. Не спали «вильники», бродили во тьме, боясь теней, шороха своих шагов.
Мутный рассвет еле полз с востока, только-только над избами самых домовитых хозяюшек поднялся сизый дымок, как начал гудеть колокол, созывая народ к комитету. Мужики запрягали лошадей, ругались, злобились, бурчали под нос, но ехали.
Данила Наумович будил оставленного Ишиным агитатора. Тот ночевал у какого-то богатея, его накормили, напоили. Укантовавшись в отделку, он храпел на печке так, что трясся потолок и дети испуганно звали мать. Агитатора стащили с печки и поволокли в сани.
Через полчаса село вымерло. В избах стар да млад, да бабы с суровыми лицами и тревогой на душе — постоянной, мучительной тревогой за Ваньку, что у красных, за Ваську, что у зеленых. У помещения, занятого комитетом, остались пять-шесть милиционеров. Остальные скакали во главе громадной колонны саней, растянувшейся на десяток верст: один конец еще в Двориках, другой подбирался к соседям.
Агитатор зевал, матерился, но морозец привел его в чувство, и он начал бормотать что-то под нос: может быть, твердя речь, которую ему придется выкрикивать перед вновь присоединяемыми.
К соседям антоновские милиционеры ворвались, точно во вражеский стан: с гиканьем, ревом, бранью и проклятиями, тут же рассыпались по селу, щупали девок, рубали кур, искали лошадей посвежее и покрасивее — для себя и для «робят», оставшихся охранять Дворики. Своих лошадей оставляли во дворах, не обращая внимания на бабьи вопли и злобное молчание мужиков. Глядя на милиционеров, и у двориковских «присоединителей» появился аппетит, и они тоже начали отнюдь не добровольный обмен лошадьми…
Потом набат, собрание, речи, вооруженные двориковские милиционеры с обрезами в дверях и проходах, избрание комитета, подписание протокола и прочее…
Двориковские уезжали до дому, хвастаясь приобретенными лошадьми и добром, утащенным мимоходом у соседей. Ограбленные соседи, у которых отобрали лучших лошадей, наутро, благословясь, ехали присоединять какую-нибудь Ивановку и там проделывали то же самое во всех подробностях.
И полыхает Тамбовщина!
Книга вторая РАЗГРОМ
Глава первая
1
Антонову понравилась мысль Петра Ивановича о глубоком рейде на юг. Он сам лелеял ее с давних пор. По его рекомендации комитет союза предложил Сторожеву очистить от красных на возможно большем протяжении Юго-Восточную железную дорогу.
Села, расположенные вдоль линии, трепетали перед бронелетучкой, — под ее защитой коммунистические отряды контролировали длинный, узкий коридор, не давая возможности антоновцам присоединять села, расположенные невдалеке от железной дороги.
Сторожев в то время охранял территорию, занятую повстанцами, наводя ужас на всех, кто словом или делом мешал мятежу, с необычайной жестокостью карая и заливая потоками крови и огнем пожаров Тамбовщину.
Однако он не расставался с мечтой посчитаться с двориковскими коммунистами и комбедчиками, засевшими в Токаревке — на небольшой станции между Мордово и Борисоглебском. Коммунисты вывезли туда свои семьи и страшно бедствовали. Спасали их бронелетучка и бронепоезд. Под их охраной отряд, которым командовал большевик Жиркунов (заместителем его был Листрат), доставал продовольствие в соседних селах, возбуждая тем против себя мужиков необычайно. Расправиться с коммунистами, вырезать их семьи было заветной думкой Петра Ивановича. И вот он дорвался до своего.
Под его командование выделили полки Тюкова, Баранова, Матюхина и бригаду Панича, всего около четырех тысяч человек. К ним присоединилась вохровская «волчья стая» Петра Ивановича.
Прежде всего Сторожев решил избавиться от бронелетучки.
Январской ночью, когда пурга слепила путников, когда в поле все выло и стонало, когда волки, не менее голодные, чем люди, бесстрашно входили в села и истребляли, что попадалось на пути, когда луна то появлялась, то исчезала в мутных скопищах туч, когда собачий лай смешивался с воплями метели и не было видно ни зги вокруг, — на линии железной дороги показались люди.
Их было не меньше пятисот — подразделения полка Баранова и сторожевского отряда. С собой они привели сотню мужиков с лошадьми из окрестных деревень.
Рвали рельсы. Отвинчивать гайки было слишком сложно и долго. Под рельсы подводили канаты, впрягали в них десяток лошадей, и те, тужась, понукаемые возчиками, стаскивали с насыпи сажени три рельсов вместе со шпалами. Люди мерзли, лошади отказывались работать. Шли в ход нагайки: и лошадей и людей стегали беспощадно.
Петр Иванович торопился: агенты с соседней станции донесли ему, что бронелетучка выйдет тогда-то и направится туда-то.
Точно в час, сообщенный агентурой, вдали показались два больших мутно светящихся глаза и послышался грохот колес.
Шла бронелетучка, шла на верную гибель.
Сторожев приказал мужикам уходить, а бойцам — залечь за насыпью.
Бронелетучка надвигалась неотвратимо. Красноармейцы, словно что-то чувствуя, подбадривая себя, стреляли в свистящую метель, в темень и в поля, где бесились снежные смерчи. За каждым деревом, за каждым поворотом команде мерещились бандиты.
Вдруг грохот колес прекратился.
Сторожев, лежа под насыпью и лязгая зубами от холода, скверно выругался:
— Заметили, сволочи!
Однако, постояв, бронелетучка медленно двинулась вперед и ползла, отфыркиваясь, аршин за аршином. Потом постепенно начала набирать скорость.
— Давай, давай! — злобно прошипел Сторожев и тут же услышал грохот, скрежет металла и человеческие крики. Два бронированных вагона и платформа сошли с рельсов.
Из поезда выскакивали красноармейцы, их подхватывала и слепила вьюга, их осыпали пулями сидевшие в засаде антоновцы. Но вот грянули пулеметные очереди из тех вагонов, которые удержались на рельсах, их огонь вдоль насыпи и по флангам был устрашающим.
Оставив сотню человек невдалеке от насыпи и приказав им обстреливать красноармейцев и рабочих, восстанавливающих путь, Сторожев, собрав мужиков и свои подразделения, двинулся вспять.
Команда бронелетучки работала под редкими выстрелами оставшихся антоновцев. Лилась кровь, и лился пот, а командир бронелетучки, сея из пулемета смерть, думал об одном: «Хватит ли воды и нефти, чтобы пробиться обратно? Сколько их там, во тьме? Почему так редко стреляют? Какой подвох готовят еще?»
Красноармейцы и рабочие тем временем тащили на себе, надрываясь, рельсы, холод сковывал руки и ноги, превращал пот на лице в ледяную корку. Но они продолжали свое дело, потому что другого выбора не было: либо быть растерзанными бандитами, либо пробиться.
Шесть часов длился бой с метелью, антоновцами, стужей и нечеловеческой усталостью, а путь все еще не был готов. Командир приказал идти обратно. Что делать, сила солому ломит. Отцепили поврежденные вагоны, паровоз дал задний ход; бронелетучка пошла к Токаревке, поливая поля свинцовым дождем из пулеметов. Через три-четыре версты снова остановка. И здесь были сняты рельсы, а на линии уже не горстка антоновцев, а огромная масса, копошащаяся, перебегающая во тьме с места на место, стреляющая и вопящая; пачки огненных клубков, вылетающие ежесекундно то в одном месте, то в другом, стоны раненых, предсмертные хрипы убитых, рассыпчатые пулеметные очереди, крики из кромешной темноты: «Сдавайтесь, сволочи!» — и в ответ новые пулеметные очереди, приказы Сторожева: «Вперед, вперед!», толпы, бегущие к вагонам, стреляющие и орущие благим матом, опять рассыпчатая пулеметная дробь, залпы выстрелов из винтовок…
Антоновцы бегут.
Матерно ругается Сторожев, что-то во всю силу легких кричит Баранов, огромный детина в нагольном тулупе, размахивающий дымящимся кольтом — он стреляет в бегущих…
И тут: «бум-бум!» Грохот орудийных разрывов, и черная зловещая масса, выплывающая из снежного вихря.
— Бронепоезд!
Сторожев, скрежеща зубами от ярости, отдает приказ:
— Отступать!
2
Обезумев от злости и жажды мщения, всеми силами четырех полков и своего отряда Петр Иванович навалился на токаревских коммунистов. Мужикам за помощь было обещано отдать на разграбление станцию.
Окрестные села, осмелев, либо не пускали разведчиков и фуражиров красного партизанского отряда, который не был взят на казенное довольство, либо, того хуже, начали устраивать засады и хватать разведчиков.
Ни мужество командира отряда Жиркунова, ни хладнокровная отвага Листрата, ни безудержная смелость разведчиков Сашки Чикина и Федьки, сына Никиты Зевластова, ни удаль самого бывшего ямщика не помогали.
Голод!
Голодали партизаны-коммунисты, голодали женщины и дети. Они ютились в селе, расположенном рядом со станцией, — мужики злобились, но терпели постояльцев: у Жиркунова и Листрата нет хлеба, нет соли, нет фуража, но есть пулеметы…
Тщетно взывали коммунисты к тамбовскому начальству о подкреплении: оно молчало, может быть, еще и потому, что само не имело в запасе ничего, кроме измотанных отрядов.
Голодная осада длилась больше недели. Ни крохи хлеба не могли достать коммунисты, ни пуда сена, ни клока соломы для истощенных лошадей. И все туже стягивалась вокруг них петля. Не раз люди послабее поговаривали о том, чтобы уйти и пробиться в Мордово; Жиркунов и Листрат молчали. Они знали, что с семьями не пробиться, не уйти от Сторожева на отощавших, падающих от усталости лошадях.
Но крупного наступления на станцию не ждали — разведка недоглядела скопления повстанческих полков.
Сашка Чикин вернулся из разведки вечером шестого января; обманутый тишиной и безлюдьем, царящими в ближайших к линии деревнях, он доложил Жиркунову, что все, мол, в порядке.
В ту же ночь Сторожев приказал окружить станцию.
С севера наступал Матюхин, с юго-запада — Панич, с востока — Баранов, с юга — Тюков. Сторожев взял на себя удар в центр, по вокзалу, где в вагонах размещался штаб коммунистов. Когда еще было темно, разведка его гарцевала на околицах села.
В пятом часу утра Сторожев проверил расположение полков и их готовность к бою.
Перед ним была станция, невидимая в ночном мареве. Лишь один огонек пробивался сквозь седой сумрак — он горел высоко на элеваторе.
Станция молчала: там крепко спали заклятые враги Петра Ивановича — Листрат, Сашка Чикин; там сидел комбедчик Бесперстов и многие другие. С них Петр Иванович обещал содрать шкуры за землю, которую они хотели отбить у него, за оскорбления и унижения, за угрозы брата Сергея Ивановича, за все пережитое в годы после большевистского переворота, отнявшего у него мечты о земле и власти.
Он знал, что на станции не больше трехсот человек. Ему казалось, что в течение часа он раздавит большевиков, а потом учинит расправу, — волосы зашевелятся у свидетелей мщения.
Коммунисты спали. Спали после многих бессонных, голодных, мрачных дней, окруженные бандитским кольцом.
Сторожев распорядился подойти незаметно, ворваться в село и на станцию, крадучись, тихонько прикончив часовых, редкие фигуры которых маячили в призрачном свете то выплывающей, то уходящей в тучи луны.
Какой-то неслух и буян сорвал кровожадный план Петра Ивановича: наткнувшись на часового, он выстрелил, заорал, ему ответили выстрелами часовые. Стрельба разгоралась, красные, разбуженные пулеметным огнем и грохотом рвущихся гранат, полураздетые выбегали из изб и, отстреливаясь на ходу, стягивались к вокзалу. По улицам мчались конные антоновцы.
Сторожев не знал, что делать. Ярость его кипела и рвалась наружу. Он поскакал туда, где услышал выстрелы, в гуще стреляющих людей приметил того, кто кричал громче всех, и, наскочив на него, одним взмахом шашки срубил ему голову.
Ярость была утолена, но ценой одной отрубленной головы положение восстановить было невозможно: красные уже приготовились к бою и вели его шесть часов подряд, благо патронов у них оказалось в изобилии.
Никакой паники… Каменные службы станции спасали коммунистов от беспорядочного огня антоновцев, зато открытая местность, по которой перебегали бандиты — сама смерть, — здесь их ловила каждая пуля, выпущенная Сашкой Чикиным, Федькой, Никитой Зевластовым. Их клали десятками пулеметные очереди, а у пулемета в самом опасном месте сидел Листрат, — он еще на фронте славился своим умением обращаться с этим страшным оружием.
Антоновцы стреляли без разбора. Кольцо их сужалось, но и это губило планы Петра Ивановичи: его люди подстреливали друг друга. На исходе пятого часа боя Сторожев получил донесение от командиров:
— Патроны кончаются.
Да, кончаются, и коммунисты отлично это понимали. Выстрелы со стороны наступающих становились все более редкими. Антоновцы не смели поднять голов из-за сугробов. Потом коммунисты пошли на последнее.
Жиркунов командует:
— В штыки! Вперед, за Советы!
Штыкового боя передовые антоновские части не могли выдержать и побежали, сея панику. Бандитские полки беспорядочно отступали.
К исходу дня Сторожев вызвал командиров полков и, бесясь от ярости, орал:
— Что скажут мужики? Четыре тысячи человек не могли справиться с тремя сотнями отощавших коммунистов! Где наша хваленая сила?
Вдоволь налютовавшись, Петр Иванович открыл военный совет. Тот решил: продолжать осаду.
Через неделю красные партизаны, вконец замученные голодом и беспрерывными атаками антоновцев, в полном боевом порядке, под охраной бронепоезда, пробились в Мордово.
Сторожев занял Токаревку, но расправляться было не с кем: коммунисты увезли с собой жен и детей. Петр Иванович расстрелял заместителя командира Битюгского полка, который охранял выход на Мордово, но месть его осталась неутоленной.
Как только антоновцы ворвались на станцию, начался погром и грабеж: ни плетки, ни расстрелы не останавливали дорвавшихся до спирта, найденного в каком-то подвале. К полудню из смежных сел на подводах примчались мужики.
Затрещали двери, вырывались запоры, летели разбитые стекла — искали и не находили обещанных товаров. Кроме сотни винтовок, двух пулеметов и нескольких десятков ящиков с патронами, на станции ничего не оказалось.
— Подавай товары! — кричали Сторожеву бабы. — Куда спрятал, черт паршивый? Себе все небось захапал?
Напрасно Сторожев рыскал по домам и складам, напрасно порол пленных, они ничего не знали о мануфактуре и коже и клялись, что станция пуста.
Мужики злобно поносили Петра Ивановича, бабы кидались на него и грозили выцарапать глаза… Снова и снова трещали двери складов, снова и снова шарили в подвалах… Ничего, кроме пяти бочек керосина!
Петр Иванович самолично роздал керосин мужикам и бабам. Восторга не было.
Глава вторая
1
Вокзальный колокол известил о подходе к станции Тамбов-1 поезда из Москвы. На перроне в ожидании поезда, прохаживаясь, разговаривали представители тамбовского командования, совдепа и секретарь губкомпарта Борис Васильев. Был холодный день, шел январь двадцать первого года. Из вокзала, обшарпанного, с выбитыми стеклами, битком набитого приезжим людом, выходили мешочники, посматривали на рельсы, пропадающие за пакгаузами и складами, зябко ежились и возвращались обратно.
Поезд медленно подплыл к перрону. Из вагона, остановившегося напротив вокзала, вышел человек среднего роста, в командирской шинели того времени, в буденовке. Он носил очки, из-под которых прямо и холодно смотрели светлые глаза. Длинные волосы, удлиненное, сухощавое лицо делали его похожим на молодого Чернышевского. Он поздоровался с Васильевым и прочими, не очень приветливо кивнул головой военным и, скорее мимоходом, пожал их руки.
— Опять в Тамбове, товарищ Васильев? — обратился он к секретарю губкомпарта.
— Да вот вызвали из Донбасса, Владимир Александрович. Что ж, где ни работать, Тамбовская губерния знакомая, люди тоже.
— Да, да, — улыбнулся Антонов-Овсеенко — это был он. — Прослышан, как вы тут советскую власть ставили и с эсерами воевали в восемнадцатом году.
— Придется повоевать опять.
— Да, и бой будет серьезный.
Так, разговаривая, они вышли на привокзальную площадь, где стоял сильно потрепанный «мерседес-бенц» допотопного образца и несколько саней. Васильев пригласил Антонова-Овсеенко в автомобиль, сам подсел к нему, пригласил еще двух военных, встречавших особоуполномоченного ВЦИК. Остальные разместились в санях. Машина, пыхтя и изрыгая вонючий газ, тронулась с места, выехала за заставу и покатила по Интернациональной улице мимо домов с забитыми окнами и дверями, мимо заборов, заклеенных плакатами и лозунгами тех тревожных лет, «Окнами РОСТА», газетами «Красное утро», «Правда о бандитах»… Заметив в руках Васильева пачку газет, Антонов-Овсеенко попросил его дать их ему. Пока автомобиль, хрустя шинами по засыпанной снегом мостовой, еле плелся к центру города, Антонов-Овсеенко читал «Правду о бандитах». Он читал, а в глазах его искрилась недобрая усмешка.
— Так, так, — заговорил он, складывая газеты и возвращая Васильеву. — Разбили, рассеяли, уничтожили… Позвольте, — он обернулся к военным, сидевшим позади, — но наш поезд трижды был обстрелян антоновцами, а под Козловом целый полк их спокойненько маршировал в версте от железной дороги…
Военные, смущенные этим замечанием, молчали. Васильев усмехался, но тоже помалкивал. Машина тем временем подъехала к большому дому, выкрашенному в шоколадный цвет. Краска во многих местах облупилась, и внешне здание выглядело неказисто. Васильев первым вышел из машины, пригласил за собой Антонова-Овсеенко; военные последовали за ними. Антонова-Овсеенко вели по анфиладе комнат, убранных роскошно.
— Зачем мне этот музей? — пожав плечами, спросил он.
— Да вот наши товарищи, — еле заметно улыбаясь, сказал Васильев, — решили, что тут и быть вашей резиденции.
На лице Антонова-Овсеенко появилось недоумение.
— Позвольте, — он удивленно смотрел на своих спутников. — Значит, здесь мне придется принимать коммунистов из уездов и волостей, рабочих, агитаторов, пленных антоновцев, крестьян… Но не подумают ли они, что в Тамбов приехал не уполномоченный советской власти и партии, а новоявленный советский вельможа? Чепуха! Мне нужна комната в гостинице, где я буду жить, и две комнаты служебные: одну — мне, другую — помощнику.
— У нас дьявольская стужа в учгеждениях, — заметил один из военных с самодовольным лицом и редкими усиками, он заметно грассировал. — Пгосто собачий холод.
Скрывая резкость, Антонов-Овсеенко сказал:
— Благодарю, но эта роскошь не для меня. Поехали, товарищи.
В автомобиле военный с усиками, робея, обратился к Антонову-Овсеенко:
— Когда можете заслушать доклад о военном положении, товагищ Овсеенко?
— Да мы видели его в натуре, — рассмеялся тот. — И что вам докладывать? Положение!.. Хозяин положения в губернии Антонов, вот и весь ваш доклад. — Военный скис, хотел что-то сказать, но Антонов-Овсеенко уже разговаривал с Васильевым. — Пока устройте меня в губкомпарте. И доставьте, пожалуйста, сегодня же все тамбовские газеты за последние месяцы, воззвания Союза трудового крестьянства, приказы штаба Антонова, донесения укомов и волкомов и вообще все, что имеется по этой части. — Он обернулся к военным. — От вас, товарищи, потребуется дислокация регулярных воинских частей и коммунистических партизанских отрядов. Есть пленные антоновцы? — Это было обращено снова к Васильеву.
— Десятка три наберется.
Антонов-Овсеенко нахмурился;
— А где же сотни бандитов, взятых в плен? — Он искоса взглянул на военных. — Ну, ладно! Завтра же, товарищ Васильев, поедем с вами в тюрьму и поговорим с пленными. И прошу вас вот еще о чем: вызовите из уездов, пораженных восстанием, двадцать-тридцать крестьян. Вечером соберем губпартком, а попозже вызовите газетчиков.
— Хорошо, Владимир Александрович.
Антонов-Овсеенко помолчал и снова заговорил:
— Думается, что положение куда серьезнее, чем мы думали, читая победоносные реляции здешних военных властей, товарищ Васильев. Прежде чем взяться за бандитов, придется основательно познакомиться с моим однофамильцем и его повадками. Кстати, как его по имени-отчеству?
— Александг Степанович, — последовал поспешный ответ усатого военного. Хоть в чем-то он проявил свою осведомленность!
2
Через несколько дней Антонова-Овсеенко выбрали членом губернского исполкома и ввели в состав губкомпарта. Поначалу кое-кто из тамбовских властей отказывался понимать его. Ждали от него чудес в расправе с антоновщиной, молниеносных действий, строжайших приказов и выговоров, а он, обложившись картами уездов, дни напролет изучал донесения с мест; прокламации Союза трудового крестьянства, приказы антоновского штаба читал так прилежно, словно заучивал их наизусть; самолично допрашивал пленных бандитов, разговаривал с ними исключительно вежливо; рылся в старых протоколах губкомпарта, укомов и волкомов, в газетных подшивках; не сеял направо и налево выговоры и приказы; если вызывал кого-нибудь, то больше слушал, чем говорил, коротко давал наставления или советы.
Особенно интересовался он постановкой агитации и пропаганды на селе, бывал в редакциях газет, в губРОСТА, часами просиживал на совещаниях газетчиков, сам писал статьи, не брезгал маленькими, но всегда хлесткими заметками, составлял воззвания к восставшим крестьянам.
Часто в его кабинете видели секретарей губкомпарта, ответственных лиц — военных и гражданских, городских и сельских коммунистов, хозяйственников, агитаторов. Он подолгу совещался с ними.
Кое-кто пожимал плечами: что за напасть! Уж кому-кому, а Владимиру Александровичу вовсе не пристало медлить с бандитами. Член партии с девятьсот второго года, организатор восстания польского пролетариата против царизма, военный представитель в Петроградском большевистском комитете… Его приговаривали к смертной казни, заменили казнь двадцатью годами каторги… Антонов-Овсеенко бежит с нее и снова с головой уходит в революцию. В октябре семнадцатого года под его командованием и командованием Подвойского красногвардейцы берут Зимний; Антонов-Овсеенко лично арестует министров Временного правительства, того самого, которое упрятало его в Кресты за участие в июльском выступлении питерских рабочих. Потом он заместитель председателя Малого Совнаркома — один из ближайших помощников Ленина…
От него ли не ждать решительных и быстрых действий? Ведь в огне антоновщины почти вся губерния! Что-то загадочное было в его действиях для тех, кто привык болтать налево и направо о скором конце бандитизма.
Спустя некоторое время он собрал группу людей, на которых всецело мог положиться.
3
Антонов-Овсеенко сидел за столом и рассеянно пил жидкий чай, главным образом чтобы согреться. С ним делил компанию Васильев. Остальные расселись как попало и слушали ораторов, разливавшихся соловьями; иные не жалели ни своего, ни чужого времени и переливали из пустого в порожнее… Антонов-Овсеенко не останавливал их, а глаза из-под очков иногда смотрели хмуровато, порой насмешливо. Но он молчал.
Только что назначенный главой тамбовского военного командования командарм Павлов, не стесняясь в выражениях, громил тех, кто планировал разрозненные и бестолковые операции против Антонова, поносил беспечных людей, слишком раздувавших победы над антоновцами или, напротив, впадавших в панику. Антонов-Овсеенко слушал его внимательно и чай отставил в сторону. Потом заговорил кто-то из военспецов, оправдывался…
— Позвольте, — мягко остановил пылкого оратора Антонов-Овсеенко. — То и дело мы слышим: бандиты, уголовники, кулаки… Если речь идет об уголовниках, сам собой напрашивается вопрос: почему вы не могли справиться с ними? Это во-первых. Во-вторых. По вашим словам выходит, будто главная военная сила антоновцев — сплошь кулаки…
— Конечно, но…
— Виноват… Я что-то плохо стал соображать. Или еще не добрался до истины. Прошу помочь. — Глаза Антонова-Овсеенко щурились то ли от ярких лучей холодного январского солнца, то ли от чего другого. — Вот вы доложили, что в армиях Антонова пятьдесят тысяч бандитов… Затем вохровский отряд Сторожева, сельская, волостная, уездная милиция, члены комитетов, агитаторы, вильники, секретная агентура… Это что ж, тоже все сплошь уголовники и кулаки?
По кабинету пронесся шумок.
— Ну, в большинстве, разумеется…
— Так, так, в большинстве! — быстро откликается Антонов-Овсеенко. — Кстати, откуда в губернии столько уголовников?
Снова пронесся шум и приглушенный смех.
— Однако замечу, — затаив усмешку, продолжал Антонов-Овсеенко, — не во всех кулацких дворах есть взрослые сыновья, могущие носить оружие. И не все кулацкие сынки живут в деревне. Они в нашей армии, на трудовом фронте, учительствуют, занимаются агрономией… Честно они служат советской власти или нет, это вопрос особый. Но нам придется все-таки вычесть их из общего количества кулаков. Что же получится? Если десятки тысяч вооруженных людей и антоновские активисты в большинстве кулаки, надо думать, что в селах ни одного кулака не осталось. Так ли это?
Васильев покачивает головой. Вздор! Правильно: очень много кулацких сыновей у Антонова, они — ядро его армий, но хозяева-кулаки — люди почтенного возраста, сидят, разумеется, дома и уж никак не могут участвовать в боевых действиях. Да и Антонов не такой дурак, — а он не дурак, — чтобы брать в армию стариков мироедов.
— Значит…
— Значит, армия Антонова комплектуется не только из кулачества, — отвечал Васильев.
— А дезертиры? — подал кто-то голос.
— Вы хотите сказать, что и дезертиры сплошь из кулацких семей?
Вопрос Антонова-Овсеенко остался без ответа.
— Но это еще не все, — отхлебнув чай, снова заговорил он. — Кто снабжает армию Антонова? Кто перевозит его воинские части, кто стоит караульными на колокольнях, кто эти вильники?
Помолчав и собравшись с мыслями, Антонов-Овсеенко начал выкладывать свои мысли.
— За эти недели, — сказал он как-то очень просто, — я кое-что уяснил, кое в чем разобрался. Может быть, бегло, не спорю. Быть может, ошибаюсь в выводах. Товарищи поправят меня. Положение вещей представляется мне в следующем виде… Крестьяне, я говорю о середняках, недовольны продразверсткой, затянувшейся войной, это неоспоримо. Кулаки лезут на стенку от ярости, вопят о разорении и сманивают середняков на открытое возмущение… Однако середняк очень хорошо знает, что за зверь его сосед-мироед, и о войне, ради его выгод, слушать не хочет. Тогда кулаки зовут на подмогу стародавних своих идеологов и приятелей — эсеров. Языки у этих демагогов, взбешенных потерей власти, подвешены хорошо, это мы знаем. И если середняк слушать не хотел разговоров мироеда о войне, понимая, что она принесет ему, эсеры — народ более хитрый, к тому же пользующийся несомненным влиянием в деревне, — демагогией и посулами подбили середняка на мятеж. Конечно, середняк знает, что в данном случае он заодно с кулаками, это его тревожит, но эсеры ему внушают: «Потерпите малость, отцы. Сметем коммунию, власть и землю поделим справедливо…» Вот и получается: то, что не сумели сделать кулаки с их откровенной ненавистью к советской власти и алчными планами, то сделали эсеры — ставленники кулаков. Так мне рисуется положение с восстанием. Вы скажете: а беднота? Беднота, отвечу вам, запуганная бандитами, держит нейтралитет, хотя, конечно, целиком на нашей стороне. Примерно так обстоят дела. Скверные дела, скажу прямо.
Все согласились с выводами полномочного представителя ВЦИК.
— Тем не менее, — хмурясь, продолжал тот, — вы, товарищи, вместо того чтобы перетянуть на нашу сторону середняка, били в самую его гущу и бросили в объятия эсеров. Я докажу это! — И только здесь прорывается наружу характер одного из героев Октября. — Кто виноват во всем, что творится в губернии? Вы! — Голос его загремел. — Все ваши военные походы, неразборчивость в средствах, нежелание подумать над истинными причинами восстания и над тем, кто его поддерживает, неумение разговаривать с крестьянином, нежелание понять его — вот что привело к трагическим событиям в вашей губернии.
Прошу понять меня правильно! Без всякой пощады надо расправляться с бандитами, карать эсеров и кулаков. Но не применять террор там, где он оборачивается прямо против нас. Восстановить доверие середняка, вовлеченного в восстание и по нашей вине, к советской власти — вот главнейшая, первоочередная задача, и исходить в наших действиях надо только из нее. И верить людям, запутавшимся в чудовищных противоречиях. В тайниках души середняк с нами. Но мы слишком часто мало считались с этой сложной душой и шли напролом.
— Но это было необходимо, — раздался чей-то голос.
— Далеко не всегда.
Потом Васильев доложил о плане борьбы с антоновщиной. Не зря он просиживал часами в кабинете Антонова-Овсеенко, где порой пальцы сводило от стужи и замерзали чернила. План в общих чертах готов. Он короток: разгром военных сил Антонова, деморализация его тыла, борьба за влияние на сознание трудового крестьянства.
— Пожалуй, — вставил Антонов-Овсеенко, — последнее должно быть первым.
— С деморализацией тыла, — заметил предчека Антонов, — тут бьются давно. СТК неуловим, так нам докладывали.
— Что это такое — СТК? — Антонов-Овсеенко вскинул усталые глаза на предчека.
— Союз трудового крестьянства, или, как его тут называют, Союз тамбовских кулаков, — под общий смех объяснил предчека.
Не смеялся только Антонов-Овсеенко.
— Остроумно, но неверно, — обронил он. — Однако продолжайте.
— Повторяю, СТК неуловим, планы его нам недоступны, а в лагере противника о нас знают все. Месяца два назад здесь ликвидировали один за другим два подпольных эсеровских комитета. Все более или менее заметные эсеры в тюрьме. Тем не менее Главоперштаб Антонова регулярно получает точные сведения о передвижении наших частей.
— Болтунов много, слишком много! — резко заметил Антонов-Овсеенко. — А не заглянуть ли вам еще поглубже? Я говорю о кадетах, монархистах и прочих махровых контриках… Ведь их немало и в наших учреждениях. Арестованных эсеров, — развивал свою мысль Антонов-Овсеенко, — пожалуй, лучше выпустить. Легче наблюдать за ними и вскрывать их связи, когда они на воле.
— Да, пожалуй.
Наконец Антонов-Овсеенко подвел итог. Он встал и прошелся по кабинету, потому что устал сидеть и еще потому, что шинель не спасала его от холода.
— Совершенно ясно, наличными силами нам не обойтись. Дело очень запущено. Полномочная комиссия поставит перед правительством вопрос о присылке войск, оружия и политических работников. Но не в том главное. Мы думаем о досрочном снятии продразверстки с губернии. Этот вопрос будет решен в Москве. Все! За дело, товарищи! И прошу вас, только, пожалуйста, не обижайтесь, покрепче держать языки за зубами.
Этим заявлением, встреченным раскатистым смехом, совещание окончилось. Антонов-Овсеенко задержал предчека.
— Копните поглубже, батенька, поглубже.
И, кутаясь в шинель, отогревая дыханием замерзшие руки, садится за стол, пишет, читает, звонит по телефону, принимает людей, едет в тюрьму допрашивать пленных антоновцев, потом в редакцию, потом читает военные сводки, сообщения о подготовке к севу, об отгрузке хлеба в Москву и Питер…
Он живет один в гостиничном номере. Ни адъютанта, ни охраны. Конечно, в холодной и мрачной камере в Крестах было хуже, что и говорить, но и тут не слишком тепло и уютно.
Когда же он спит?
Чаще всего урывками.
Что он ест?
То же, что и все. Но ведь и Ленин там, в Москве, живет, может быть, чуть лучше, чем он, Антонов-Овсеенко, здесь, в Тамбове.
Ленин! Ему Антонов-Овсеенко обещал «постараться», а Владимир Ильич сказал с доброй улыбкой из-под прищуренных глаз:
— Очень вас прошу.
— Я постараюсь, Владимир Ильич, — еще раз повторил Антонов-Овсеенко.
И этот скромный, тихий и малоразговорчивый человек увлек за собой всех, кто искренне желал как можно скорее распутать узел, завязанный эсерами на горле молодой Республики.
Тамбов ожил.
Глава третья
1
Случилось такое, чего Сторожев никак не мог ожидать: двориковские мужики взбунтовались, комитету не подчинялись, заперли в амбар милиционеров и объявили себя вольными: мы, мол, ни красные, ни зеленые, а сами по себе, стоим, мол, в самостоятельном состоянии. Караульные, вооруженные винтовками, отобранными у милиции, не пускали в село антоновских связных, а когда появлялись красные — мужики не выходили из домов.
Мятеж вспыхнул вот из-за чего: повадился в Дворики Колька Пастух, тот самый коновод дезертирской братии, которую в девятнадцатом году он приволок на луга под Трескино. Собрал он отряд уголовников, грабил мужиков. Авторитета Антонова Колька не признавал, приказов штаба не слушался, и чем сильнее на него нажимали, тем более жестоко грабил и насильничал.
В Двориках он распоряжался, как в своей вотчине.
Мужики, собравшись всем миром, порешили от восстания отколоться и две недели жили не тужили. Колька Пастух ушел куда-то с отрядом и оставил Дворики на время в покое.
2
В один из таких дней вечером собрались в избе Андрея Андреевича Козла соседи послушать Ивана Туголукова — он только что вернулся из Красной Армии.
Сидели без огня. Керосин, выданный Сторожевым после взятия Токаревки, давно кончился. Андрей Андреевич лежал на печке с сыном Яшкой и трехлетней Машкой, а прочие — Васька, Ванька и Акулька — всего их было пятеро — разместились на полатях.
Изба Андрея покосилась, смотрела на мир слепыми, полузаколоченными окошками, углы ее промерзли, под печкой жили большие крысы, — они голодали и дрались каждую ночь.
Андрей Андреевич думал о лошади, которую дал ему Антонов. Лошаденка была немудрящая, но Козел страстно любил ее, вымаливал у мужиков овес по горстке, сено по фунтику, сделал сани, сплел из веревочек сбрую и до того повеселел — стал песни напевать, чего давно от него не слышали, — в нужде он вяз всю жизнь, а нужда песен не поет.
Мужики курили, сизый дым струился под потолком. Машка кашляла во сне. За окнами крутила непогода — январь был холодный, вьюжный.
— Ну, как на Руси дела? — спросил Ивана поп.
Он тоже завернул со скуки к Андрею Андреевичу: любопытно послушать о том, что творится на свете.
Иван, невидимый во тьме, затянулся цигаркой, сплюнул.
— Плохая, батюшка, жизня! Разор! Вовсе слабая стала Россия. Думали: дома отъедимся. Как-никак Тамбовская губерния — ржаной край.
— Был ржаной край, да весь вышел, — вздохнул Фрол Петрович.
— Ума не приложу, — продолжал Иван, — что и делать! Сколько лет воюют. Вот и довоевался — в избе хоть шаром покати.
— О восстаниях что слышно? — спросили из угла.
— Да вот, когда ехали, слышали — то здесь, то там постреливают. Спокойствия нет.
— Ишь ты, стало быть, Сторожев не врал: мы, дескать, не одни, везде, дескать, поднимаются. — Это сказал Андрей Андреевич.
Замолчали. Слышно было, как шуршали за печкой тараканы.
— Слышь, старики, — начал Андрей Андреевич, — одного не пойму: пошто большевики армию распускают? Ежели так — выходит, Антонов сам по себе ничего не представляет. Тряхнут его и вытряхнут.
— Армия! — усмехнулся Иван. — Ее же кормить надо. Вот и распускают. Что же с ней делать, с армией-то?
И снова молчание — каждый боится вслух высказать свои мысли, черт знает что делается вокруг!
Недавно, перед тем как взбунтоваться двориковским мужикам, Матвей Бесперстов, отец ушедшего к красным комбедчика Митрия, шепнул мужикам:
— Слух есть, будто бы Советы скоро разверстку ломать будут.
На другой день двое конников увезли его в Грязное, где обосновался штаб Сторожева и так плетьми выгладили старика, что и по сей день лежит Матвей на животе, не двигаясь. Вот и поговори! А болтали — «слобода»!
Во тьме гасли и вспыхивали огоньки цигарок. Вдруг конский топот нарушил тишину, в окно постучали, и кто-то грубо и громко закричал:
— В школу, мужики, на собрание!
— Ну, начнется расправа, — Андрей Андреевич покряхтел во тьме. — Покажут они нам за бунт.
Народ вышел из избы. Андрей Андреевич закрыл ребятишек ветхой дерюгой, зашел к лошади, потрепал ее по теплой морде и поплелся в школу. На сердце было тревожно; туманным и страшным казалось близкое будущее.
Народ сходился не спеша: за партами сидело человек пятьдесят, они оживленно беседовали между собой. При появлении Ишина и Сторожева все смолкли.
Перед тем как отправить Сторожева в мятежное село, Антонов строго-настрого запретил ему грозить мужикам расправой. Ишин дал слово умаслить бунтарей, и его послали с Петром Ивановичем.
— Ну, как дела? — весело бросил в толпу Ишин и попросил у мужика, сидевшего в первом ряду, прикурить. — Бунтуете, значит?
— Да вот так оно, стало быть, Иван Егорыч, вышло, — отозвался несмело Фрол Петрович.
— Ну, ну, бунтуйте! — Добродушию Ишина, казалось, не было предела. — Краснота не налетала?
— И красные были, и Колька Пастух не забывал.
— Ишь ты, разбойники! Ну, мужики, видать, быть вам опять заодно с нами. Да ей-богу! Не то допекут вас! — Ишин посмеялся. — Спасу вам не будет ни от нас, ни от красноты. Чего уж там! Мужики должны быть вместе, отцы!
— Мужик мужику рознь, — зло заметил Андрей Андреевич. — Иной мужик как я, а иной вон как Петр Иванович. У меня вся скотина — полудохлая лошадь во дворе, а у Петра Ивановича стадо целое.
— Поработай, как я, у тебя стадо будет, — взорвался Сторожев. — Тебе бы на брюхе целый день лежать.
— Видели мы, кто на тебя работал! — гневно возразил Андрей Андреевич.
— А кто?
— А все те же!
— А все-таки?
— Будет вам! — заметил Ишин. — Ну, чего делите? И Петра Ивановича коммуна гнет, да и тебя-то, видать, не озолотила, — обратился он к Андрею Андреевичу.
Мужики одобрительно зашумели.
Школа наполнялась. Стало жарко, обильный пот выступал на лицах. Лешка зажег керосиновую лампу, выдвинул на середину стол и стул.
— Старики, — сказал Сторожев, — Иван Егорович приехал не шутки шутить, а с сурьезным разговором. Его сам Антонов сюда прислал. Желаете говорить?
— Слышь-ка, Иван Егорыч, — обратился к Ишину Фрол Петрович, — ты нам про коммуну не расписывай. Про коммунию мы все сами знаем. Да и ты в прошлый раз про нее немало болтал. Ты вот что скажи: нешто это порядок Кольку Пастуха на нас напущать?
— Верно, верно! — поддержали Фрола Петровича отовсюду.
— И далее, — продолжал степенно Фрол Петрович. — Ты нам скажи толком, какую вы власть будете опосля ставить, как землей распорядитесь. В тот раз ты об этом и не заикнулся, Егорыч. Не по-нашему у вас пойдет — мы с тобой и говорить-то не станем. Авось и вольными проживем.
— Дело говорит Фрол, дело! — снова понеслись крики. — Довольно языком трепать! Про порядки давай!
— А я, мужики, к вам и приехал не с речами. Перво-наперво Александр Степанович вашему обществу поклон прислал. Примите, старики!
Ишин низко поклонился собравшимся.
— Второе дело, мужики, хочу я вам рассказать сон. Видел я его давно, а и сейчас помню. Придвигайтесь ближе, у меня голосу нет, схватило на морозе.
Люди придвинулись, плотно окружили Ишина.
— Так вот, старики, вижу я сон: словно бы перенесло меня по воздуху в царство-государство за тридевять земель, за моря-окияны. Иду я по дороге, вокруг дороги — поля, пшеница выше человека, шумит, шуршит. Колосья по фунту весом. «Вот, — думаю, — славный урожай!..» Вижу, на полях работают люди, одеты чисто, по-городскому. Спрашиваю я одного деда, — он, словно барин, под деревом сидит, прохлаждается, зонтиком прикрылся: «Кто, — говорю, — вы такие? Чьи это земли, какого барина?» — «Нет, — говорит дед, — у нас бар, дурья ты голова! Земля вся наша, мужицкая, и сами мы мужики». Иду я дальше, зашел в город. Люди по улицам ходят, ребятишки в лапту играют, травка зеленеет. «Что, — спрашиваю, — за город, не столица ли ваша?» — «Глупая твоя башка! — отвечает мне одна дама — вся-то она в шелках, и детки при ней толстые. — Разве ты не видишь, это распоследняя деревенька». — «А кто же, — спрашиваю, — сама-то ты есть какого господина жена?» — «Да никак умом рехнулся? — отвечает та дама. — Есть я распростая баба, мужик мой в поле пшеницу косит, а я прогулку делаю по улицам». — «Как же, — спрашиваю, — ты прогулку делаешь, а кто за тебя, дуру, щей мужу сварит, портки постирает, полы вымоет, огород вскопает?» А она на меня вытаращила очи и ну смеяться: «Дурак, — говорит, — ты дурак, из какого царства тебя принесло? В нашем мужицком государстве бабе не жизнь, а полная благодать. Теперь вот, слышь, ученые голову ломают над тем, чтобы не рожать нам, а детей в теплых амбарах разводить, как цыплят». Мужики засмеялись, зашевелились.
— Ишь ты какая, рожать ей трудно.
— Вот это, братцы, жизня!
— Царство небесное, а не житье!
— Хорошо, — продолжал Ишин, и в уголках его губ дрожала усмешка. — Видел я в той деревеньке и коров и лошадей, наши лошади перед ихними словно овцы, ей-богу! А на овцах шерсть в аршин длины, по земле волочится. Прихожу я в столицу — кр-расота неописуемая! Ведут меня к ихнему правителю. Вхожу, сидит передо мной рыженький мужичонка, ну, вроде меня обличьем, бороденку пощипывает. «Ты, — спрашиваю, — правителем будешь?» — «Я, — отвечает мужичонка. — Я на пять лет правителем поставлен. Только, — говорит, — мне-то от этого удовольствия никакого нет в правителях-то быть. Я, — говорит, — в поле куда больше зарабатывал. И работа не в пример легче».
Мужики дружно захохотали. Не смеялись лишь Иван Егорович и Сторожев. Когда водворилась тишина, Ишин продолжал:
— Ну, попросил я того мужичонка разобъяснить, как они такую жизнь завели.
«Вот, — рассказывает мне мужичонка, — сперва мы спихнули царя. Тут пошел между нами разброд, — кто куда и в разные стороны. Пока мы дрались да ругались, умных людей не слушали, антихрист тут как тут! На лбу у него красная звезда, а сам в кожаной тужурке…»
В классе по рядам сидевших снова прошел смешок, на этот раз уже не такой веселый.
— «…Этот антихрист к нам и подъехал и забрал власть над нами и начал из нас кровь пить. Продразверстку тоже выдумал, над богом всякие надсмешки. Взвыли мужики. Потом появился у нас добрый молодец, надоумил, как того антихриста сковырнуть. Поднялись мы на него скопом, да и сшибли. Сшибли антихриста, собрались старики на совет: как далее жить? Ну и порешили перво-наперво землю всю мужикам отдать. Разделили землю поровну, а кто земли захотел побольше взять — плати налог. А если батраков держать хочешь, — еще налог прибавили. Так вот и дошли до сладкой жизни. Теперь, — говорит, — у нас распоследний мужичонка коклеты кушает, крендели жует, чайком забавляется. Пойдем, — говорит, — я тебя угощу мужичьими щами».
Прихожу я во дворец, стоят столы, от всякой всячины чуть не ломятся. А меня голод одолевает. Подошел я к столу, налил стакан вина, поднес ко рту… И проснулся.
Снова загрохотали, зашумели мужики.
— Вот так сон! — закричал кто-то сзади.
— Никогда такой жизни не будет, Егорыч!
— Почему не будет? — заметил Сторожев. — У мужика — земля, у мужика — сила. А где сила, там и власть…
— А нам какая бы ни власть, абы жилось всласть! — вставил Андрей Андреевич. Слова эти он не раз слышал от Фрола Петровича.
— Стой, стой, мужики! Я речи своей не кончил. Проснулся я тогда и рассказал свой сон Антонову. «До такой бы, — говорю, — жизни дойти!» Тут мне Антонов показывает книжку и читает. И выходит по той книжке, что такой жизни быть непременно, ежели ее все мужики захотят.
— Как не хотеть! — закричало разом несколько человек.
— Брехня все, Егорыч!
— Нет, мужики, не брехня! Никто нам нашу жизнь не будет устраивать, если мы не устроим ее сами. А с коммуной вам все равно не путь.
Ишин, вспотевший и разгоряченный, сел, вытирая рукавом лицо. Мужики, так дружно хохотавшие минуту назад, молчали, глядели исподлобья. Говорить они отказались. Напрасно Петр Иванович взывал к ним, напрасно еще раз выступал Ишин. Никто не задавал вопросов, и никто не уходил домой. Наконец, когда Сторожев выбился из сил, встал Фрол Петрович.
— Это дело сурьезное. Такое дело в один секунд не решают. В прошлый-то раз присоединились к ним, решили на ходу, тяп-ляп, а что на поверку вышло? Безобразия одна вышла. Хавос, по-ученому. Я, мужики, думаю, обождем, а? Поживем вольными, а? Чай, над нами не каплет. Верно я говорю?.
— Верно! — загудели собравшиеся.
— Пущай опять сам Антонов приедет! — крикнули из толпы. — Мы с ним покалякаем.
Мужики поднялись и стали выходить.
На дворе стояла звездная морозная ночь.
Сторожев шел домой мрачный, злой, его раздражало упорство мужиков.
— Ну, что делать? — спросил он Ишина.
— А ты их постращай, Петр Иванович. У мужика спина крепкая. Его до тебя били, и ты побьешь — не испортишь.
— А что Антонов говорил? — с опаской пробормотал Сторожев — ему не терпелось всыпать непокорным мужикам.
— А пес с ним! Подумаешь, начальство! Чай, я тоже не последняя спица в колеснице. Действуй!
3
Наутро рассерженный Сторожев разрешил своим людям «грабнуть» село. Конники рассеялись по дворам, послышались визги, бабьи крики, кудахтанье кур, блеяние овец.
Уезжая в Грязное, Сторожев захватил с собой Андрея Андреевича и Матвея Бесперстова.
На следующий день их привезли домой. Они ничего не говорили, лежали молча с закрытыми глазами. Когда обоих раздели, увидели: кожа на спине висела синими клочьями, из ран струилась кровь. Крестьянин, который привез их, передал собравшимся слова Сторожева:
— … велел он сказать: до тех пор, пока, мол, не присоединитесь сызнова к Антонову, пороть буду вас нещадно.
Через день снова явились конники из сторожевского Вохра, захватили еще двух: школьного сторожа Фруштака — сын его ушел с красными — и комитетчика Акима. Их привезли домой, как и первых, запоротыми до потери сознания.
Мужики сдались. Они послали за Сторожевым делегатов в Грязное. Фрол Петрович застал его за обедом. Сторожев делегатов выгнал вон, но старики вернулись и умолили Сторожева пощадить село.
Снова собрался народ в школе, снова говорил Ишин:
— Ну что, как живете? — начал он, обращаясь к мрачным людям. — Меж двух огней, видно, не сладко! С обоих концов жмут, а? Погоди, вот красные придут, пожмут не так. Они не посмотрят, что вы сами по себе живете. У них разговор короток — десятого в расход.
И Ишин начал рассказывать о зверствах красных. Запуганные мужики бледнели и ахали.
— Нам все понятно, — говорил после Ишина степенный Данила Наумыч. — Нам все разъяснено, слава богу. А только, милый человек, скажи ты нам, какая же выгода от твоего Антонова? Ведь нам опять армию содержать, людей посылать, лошадей, хлеба вам давать?
— Ну что ж, — сказал Ишин и засмеялся. — Поторгуемся.
— Этак оно лучше, — вставил сидевший в первых рядах поротый Сторожевым Аким. — А то все слова да угрозы.
— Верно, верно говорит Акимка! — закричали из угла.
Ишин вскользь рассказал о требованиях Антонова.
— Нам от вас ничего не надо, — закончил он речь. — Армию мы содержим не первый год. Мужику, который с нами, она не в тягость.
Снова встал Фрол Петрович.
— Вот оно что, мир. Ясно, с красными нам нет путей. Опчество так решило: просить Сторожева — пусть уговорит приехать Степаныча, сами с ним говорить желаем, потому что все вы под ним ходите. И не спорьте со мной! И тогда либо мы к вам до конца пристанем, либо, ежели опять Кольке Пастуху волю дадут, противу вас встанем.
Ишин развел руками, Петр Иванович выругался. Но делать было нечего: Сторожев поехал уламывать Антонова.
4
Через два дня в село явился «сам». Серый в яблоках жеребец плясал под ним, седло, бархатный чепрак и вся упряжь сверкали серебром. Красные с серебряным лампасом галифе Антонов заправил в гусарские сапоги, шапочка-кубанка лихо сдвинута набекрень.
В село, которое раздражало его упорством, он привел лучшие полки, личную охрану, весь штаб — показывал товар лицом мятежным мужикам.
На улице хоть шаром покати. Мужики мрачно смотрели на войско из окон. Было тепло, шел тихий редкий снежок. Штаб расположился в избе Данилы Наумовича, а конники разошлись по квартирам и отказались брать сено у хозяев — каждый имел в запасе свой корм. Это понравилось мужикам.
А ближе к вечеру случилось вот что: накануне правдами и неправдами Сторожев заманил Кольку Пастуха в Грязное, отряд обезоружил, самого Кольку повязал и привез в Дворики. Лежал бандит в амбаре у Данилы Наумовича и ждал решения своей судьбы.
Докладывал о похождениях Кольки Санфиров. Антонов слушал его рассеянно. Колька Пастух одним из первых пришел в банду, бесшабашная удаль его нравилась Антонову, и наказывать его слишком сурово он не хотел. Сторожев сказал:
— Не вздрючишь Кольку, мужиков не уломаем.
Антонов дернул скулами. Санфиров хмуро заметил:
— Да ведь он и тебя не признает. Орет на весь белый свет, что ты главный бандит, кулаками нанят, под их дуду пляшешь.
Это взбесило Антонова. Налившись бешенством, он рявкнул:
— Сторожев, ты это слышал?
— Было дело, — сумрачно ответил Петр Иванович.
— Расстрелять мерзавца! — приказал Антонов. — Расстрелять на глазах у всех!
Перед расстрелом Кольку напоил кто-то, он шел, не понимая, куда его ведут и орал похабную песню. Близ церкви Кальку поставили к каменной стене и расстреляли. Убирая в кобуру маузер, Антонов обратился к мужикам:
— Вот видели? Собственными руками убил подлеца, который обижал крестьянина.
Мужики выпустили из холодной милицию и выбрали новый комитет, оставив из старых членов только Фрола Петровича, Акима и Андрея Андреевича, потому что прочие, мол, были с Колькой Пастухом заодно.
Антонов уехал вечером. Сторожев первую ночь после долгого перерыва провел дома.
Высоко над селом стоял месяц. Высыпали крупные зимние звезды. Собаки лаяли на редких прохожих. В комитете, прикорнув на столе, дремали дежурные. На краю села ходили вооруженные караулы, далеко на дорогах рыскали конные дозоры.
…И снова зловещая тишина в селе; не выходили парни и девки на гульбище; не собирались мужики, как бывало, на бревнах у избы, где заседал комитет.
Сойдутся бабы у колодца, пошепчутся, повздыхают и поплетутся домой. Черная, тревожная жизнь!
День и ночь заседал комитет. В нем председателем кузнец-баптист Иван Семенович. Фрол Петрович заведует снабжением, поповский сын Александр строчит протоколы, Данилы Наумовича сын, белоусый Илья, бывший унтер, — начальник сельской милиции.
Милицию тоже перешерстили. Прежних милиционеров отправили в полки, а на их место поставили людей по своему выбору: Василия Ивановича Молчанова, крепкого хозяина, двух сыновей; Сергея Васильевича Загородного, хуторянина, трех сыновей; Ивана Туголукова, недавно вернувшегося из армии, привыкшего к винтовке, как кузнец к молоту; еще человек пять.
Как ни бахвалился Ишин насчет легкой жизни, а вышло по-другому: то мяса дай, то сена, и милицию содержи, и подводы давай. Фрол Петрович в делах весь день—комитет на нем держится.
Снова заработали мельницы, просорушки, маслобойни. Хозяин мельницы Селиверст брал за помол назначенную комитетом меру. И вдруг назначил новую.
— Это вам не советская власть, — говорил он. — Моя мельница, что хочу, то и беру.
— Да побойся бога! — умоляли мужики. — До войны столько не брали!
— Зато при Советах мало брали! Довольно, поигрались! А не хотите — езжайте за тридцать верст.
Мужики пришли в комитет.
Фрол Петрович вызвал Селиверста.
— Ты что это мародерствуешь?
— Помолчи, — пробурчал Селиверст. — А вона ваш же комитетчик Федот просорушку пустил — сколько берет? Небось не прогадывает?
Фрол Петрович развел руками: дескать, не сдается мельник, покченные старики, его власть.
Старики поехали в Грязное к Сторожеву. Петр Иванович вызвал Фрола Петровича и Селиверста.
— Двадцатую меру брать! — приказал он мельнику. — Не то Антонову пожалуюсь.
Селиверст зло посмотрел на Сторожева и объявил, что мельницу закроет.
Сторожев хрустнул пальцами. Не дело мельницу закрывать — чем полки снабжать?
Ладились с Селиверстом битый час — насилу усовестили. Согласился мироед на шестнадцатой мере.
Комитет объявил было вольную торговлю, в селе лишь посмеялись — чем торговать: молоком, что ли?
Школа пустовала. Баптист-председатель собрал мужиков: надо-де школу бы открыть. Но чему учить? Где учителя взять? Опять же насчет божьего закона — от Антонова никаких приказов насчет бога не поступало: отменили его, ай он еще жив-здоров?
Мужики покряхтели, покурили и разошлись.
Во всем прочем комитет распорядился толково: попу мирским приговором вернули тридцать три десятины церковных земель, и дьякону тоже, и псаломщику. Фрол Петрович бесился, мир матюкался, но баптист помянул о том, какие друзья Петр Иванович с попом, и старики замолчали.
Выучились, дьяволы, слушаться!
Крепко заботился баптист и о том, чтобы очистить село от всякого соблазна.
Однажды вечером к жене уехавшего на станцию Никиты Семеновича пришел сам председатель комитета и два милиционера, приказали Пелагее завтра же уходить из села, пообещав в противном случае в щепки разнести избу. Пелагея, рыдая, упрашивала отменить приказ: без рук и глаз останется, мол, хозяйство, коровы и овцы, куры и гуси. Баптист дал ей три часа на сборы и ушел. Пелагея завернула в узел самое что ни на есть лучшее в доме — одежду, белье — и отправилась в путь. Близ кладбища ее задержали милиционеры, узел отобрали, вернули два платья и велели, не оборачиваясь, уходить.
Таким же манером комитет выпроводил из Двориков Матвея Бесперстова и всех, кто был некогда замечен в дружбе с коммунистами. Все добро выселяемых людей баптист отправлял в волостной комитет, но и себя не забывал: щедро возмещал протори, что нанесли ему красные, — у него была своя кузница, Листрат ее отобрал.
5
Сторожев, взяв Токаревку и пробив брешь в обороне красных, неуклонно продвигался на юг. Но однажды ему не повезло: под Хопром отряд его был почти целиком уничтожен.
На обратном пути, взбешенный неудачей, Сторожев ворвался в маленький коневодческий совхоз.
Было дело ночью, падал редкий снег.
Антоновцы порубили охрану, схватили начальство. Заведующий совхозом не успел одеться, сидел в подштанниках, по лицу текла кровь: один из людей Сторожева, отнимая у него наган, ударил его прикладом по голове.
Сторожева в схватке ранили в плечо, рука повисла как плеть, он был свиреп, как никогда.
— Коммунист? — спросил он заведующего.
Тот утвердительно кивнул головой.
— Судить будем, — решил Сторожев. — Собрать народ!
Конники будили тех, кто спал, тащили людей из соседнего села, ударили в набат. С постели подняли помятого сном попа; он приплелся с епитрахилью и святыми дарами.
Народ согнали в контору совхоза; иззябшие, испуганные люди дрожали. Два фонаря, принесенные с конюшни, освещали похожее на сарай помещение — грязное, заплеванное.
Сторожев пошептался с попом и назначил судьями трех мужиков — на них показал поп как на надежных людей.
Два старика и средних лет бритый крестьянин, бледные и угрюмые, слушали Сторожева, вытянувшись в струнку.
— Чтобы судить, как совесть подскажет, — внушал он судьям. — А там сами понимайте, что к чему.
Ввели совхозное начальство: руки у всех связаны, за спиной каждого — вохровец.
Допрос начал Сторожев. Шорох и шепот смолкли. Слышно было, как потрескивало в фонарях пламя.
— В бога веруешь? — спросил Петр Иванович заведующего.
— Ни в бога, ни в черта. И больше отвечать тебе не буду.
Сторожев вытащил из кобуры револьвер.
— Ничего не скажу! — закричал заведующий.
— Погоди, скажешь, — прошипел Сторожев. — А ну, ребята, всыпать ему!
Пятеро вохровцев ринулись к заведующему, повалили на пол, один сел на ноги, другой — на голову. Засвистели плети. Били молча и долго. Заведующий безмолвствовал, словно он был мертв.
— Воды! — приказал Сторожев.
Избитого окатили ледяной водой, подняли на скамью, он открыл глаза.
— К стенке! — приказал Сторожев.
Заведующего подвели и поставили к стене. Петр Иванович выстрелил.
Заведующий упал, из простреленной головы струей била кровь.
— Начинай! — крикнул Сторожев судьям.
Те молчали.
— Ты кто? — обратился Сторожев к сухонькому, седому, наголо бритому старичку.
— Агроном.
— Жид?
— Еврей.
— Это твой прадед Христа продал? Старичок молчал.
— Ты что молчишь? Тебя спрашивают! Сколько земли у совхоза?
— Четыре тысячи десятин.
— Раньше что тут было?
— Имение Безрукова.
— Сколько земли было?
— Четыре тысячи триста десятин.
— Вот, мужики, большевистские порядочки: четыре тысячи десятин под советское имение, а триста десятин вам. Нате, дескать, подавитесь!
Мужики молчали.
— Какую ты себе желаешь смерть? Повесить нешто? Судьи, как вы?
Судьи тряслись от страха. Из передних рядов поднялся горбатый мужик.
— Напрасно вы его судите, — сказал он. — Исак Исакович человек справедливый. У нас с этого совхоза жеребят в селе не один десяток. И притеснений не видим.
— А ну, пойди сюда! — приказал Сторожев.
Горбун вышел. Сторожев, оглядев его с ног до головы, размахнулся и ожег плеткой по лицу.
— Чуешь, как коммунистов защищать? Сейчас его вешать станут, ты петлю ему приготовишь. А не захочешь — за компанию повешу, чтобы другим неповадно было.
В толпе закричали, зашевелились. Окружавшие Сторожева антоновцы направили на сидевших винтовки. Мужики смолкли. Слышалось лишь прерывистое дыхание и треск пламени в фонарях.
— Ну, дед, скажи что-нибудь напоследок.
Агроном поднялся.
— Мне нечего говорить тебе. Разве звери понимают что-нибудь?
Сторожев посмотрел на этого седого человека, бледного, тщедушного, но гордого, — его глаза блестели, поблекшие щеки покрылись румянцем. Петру Ивановичу стало страшно.
«Вот они стоят, осужденные на смерть, — думал он, — и никто не молит о пощаде, никто не плачет. Откуда эта сила?» И бессмысленным показался ему суд, затеянный им. Никого он не убедил, никого не устрашил.
Никого!
— Повесить! — приказал Сторожев.
Агронома увели. Вместе с ним увели горбатого мужика. Один за другим вставали коммунисты совхоза, одного за другим приговаривал Сторожев к смерти.
Безмятежно потрескивая, горел огонь в фонарях, люди, шатаясь, подходили к стене, лилась кровь.
Сторожев уехал поутру, взял сотню лошадей, а на прощанье поджег совхоз.
Ехал он в Каменку и радовался: «Добыл Вохру добрых лошадок».
Но Вохр не получил лошадок.
Накануне Антонов получил от Федорова-Горского письмо. Требовал главный агент лошадей. «Они нужны для братьев по борьбе», — писал адвокат.
Послал бы Антонов вымогателя ко всем чертям, да нужен позарез. Теперь лошадей требует, сукин сын! Ах, будь он неладен!
Антонов приказал приведенных лошадей сдать в назначенном месте уполномоченному Петроградской конторы Автогужтранспорта. Сторожев разъярился. И тут впервые крупно поссорились они.
— Это за что же! — кричал Сторожев. — Ради чего я потерял четыреста человек?! Повешусь — не отдам!
— Отдашь, — играя желваками, выдавил Антонов. — Сам отведешь. А пикнешь — я тебя к стенке поставлю. Умен больно стал, сукин сын, волк паршивый!
Сторожев закусил губу и вышел — кончилась его вера в Александра Степановича.
Мужики, узнав о неудаче Сторожева под Хопром, начали над ним подсмеиваться. Пересмешки пошли гулять по селам, девки складывали побаски одна другой обидней и орали во все горло:
Бандит молодой, Дали ему плетку. Сопли-слюни распустил, Едет на разведку. Как под речкой Хопром Учинили им погром!Сторожев разгонял плетками гульбища, порол запевал… Да разве всем заткнешь рот?
Глава четвертая
1
Орловскому военному округу главком приказал ликвидировать ударные силы Антонова. План в отличие от предыдущих был составлен дельно. Раньше в погоне за легкими победами занимали кое-какие центры мятежа, два-три дня стояли в них воинские части, уходили, искали антоновцев, обнаруживали их, рассеивали… А через день они собирались вновь.
Разведка донесла, что пять отборных антоновских полков совершают рейд юго-западнее камышинской железнодорожной ветки, медленно передвигаются по замкнутому кругу, подкармливаются за счет сел, легко расправляются с немногочисленными красноармейскими соединениями, демонстрируя тем свою непобедимость.
По плану части Орловского округа должны были окружить ударную группировку Антонова, гнать ее к Юго-Восточной дороге, куда послали бронепоезда вдобавок к уже имеющимся, снабдили оружием, фуражом и продовольствием партизанские коммунистические отряды, осевшие на станциях. Наконец-то вспомнили и о них.
Здесь и должен был завершиться разгром главного ядра антоновских армий.
Антонов-Овсеенко всеобщих восторгов по поводу нового похода против мятежников не выражал. Но план был утвержден главкомом и одобрен кем-то из военных верхов: называли очень большое лицо. Хорошо, пусть попробуют — так примерно выразился Антонов-Овсеенко и помог округу советом, людьми.
Накануне наступления план с подробностями был доставлен начальнику антоновской контрразведки Герману Юрину.
2
Стоял январский день, студеный и ясный. Кабинет Антонова в штабе заливало солнце, веселые зайчики бегали по полу. Весело гоготали, сидя над планом красных, Антонов, Токмаков и Герман Юрин — молодой белобрысый парень.
Мобилизовали его незадолго до конца Романовых, с фронта пришел он целехонький, поехал по делам в Тамбов и попал туда как раз в тот самый июньский день восемнадцатого года, когда кадеты и эсеры подняли мятеж запасных.
Юрин тоже вмазался в то дело, бежал, пристал к дезертирам, с ними попал к Антонову. Тот послал его в Пахотноугловскую коммуну проходить курс разведки. Там Юрину дали конспиративную кличку Герман — так она к нему и пристала. Крещеное имя его забыли: Герман и Герман.
Курс разведывательного дела он прошел успешно и со временем овладел этим сложным делом в совершенстве. Антонов назначил Германа начальником контрразведки. Он ценил и баловал его, а баловство, как известно, к добру не ведет: стал Герман лихо попивать и буйствовать без меры. Часто видели эту длинновязую фигуру с редкими рыжеватыми усиками и бегающими глазами, что плелась по дороге, делая замысловатые зигзаги, харкающую и ругающуюся на весь белый свет. В кровожадности и в изобретении самых отвратительных провокаций он перещеголял самых отпетых негодяев из штаба Антонова.
Члены губернского комитета, люди пожилые, семейные, терпеть не могли этого безжалостного палача, ходившего точно на ходулях, но Антонов был неумолим, и Герман Юрин оставался главой контрразведки.
— Ну, что скажете? — спросил Антонов своих собеседников. — Дадим бой, Петр?
Токмаков задумался, потер лысый череп, потом сказал:
— Погромят. К чему тратить силы? Не так уж их много. Да и неизвестно, что затевает против нас Овсеенко.
Антонов ткнул палец в схему окружения, набросанную неведомо кем и доставленную ему Федоровым-Горским.
— Это они задумали, чтобы досадить Овсеенко, ей-богу! Мы, мол, и без особоуполномоченных с этим бандюком разделаемся. Ловко придумали!
— Надо выводить полки из окружения, товарищ главнокомандующий, — почтительно посоветовал Герман, хлопая белесыми ресницами.
— Поздно, — заметил Токмаков. — Горский маленько опоздал с донесением. Их части заняли вот эти пункты. — Токмаков показал на карте, лежавшей перед Антоновым, линию, занятую красными: кольцо окружения было уже замкнуто ими. — Завтра-послезавтра они начнут наступление — и нам крышка. Отступать надо, главком, отступать немедля.
— Да, мышеловка добрая, — сумрачно усмехнулся Антонов. — Отступать! — процедил он. — Куда? Прижмут нас к линии, а там бронепоезда, коммунары. Искрошат, только и всего.
— Выскочить надо из мышеловки, — упрямо подобрав подбородок, сказал Токмаков. — Не пропадать же главным силам. Между прочим, не вздумай быть с нами.
— Ну, это не твоя забота.
— Нет, моя, — возразил Токмаков. — Это полки моей армии, и уж как-нибудь я сам придумаю, что делать.
— Так выдумай, черт бы тебя побрал! — разъярился Антонов.
— Так выдумал! — Герман грохнул кулаком по столу. — Перепляшем мы их! Вот те крест, перепляшем! Разрешите удалиться, через час я принесу вам план похлеще этого. — Он пренебрежительно отбросил лист с нарисованной схемой.
— Ну, посмотрим, на что ты способен, — вяло обронил Токмаков.
— Посмотрим! — с вызовом повторил Герман.
3
Всех штабных работников, членов сельских и прочих комитетов поднял на ноги Плужников: план Германа, одобренный Антоновым, утвердил комитет союза и в остававшиеся два дня до начала наступления красных все работали до того, что к ночи с ног валились.
Хитрая готовилась игра! В нее решил Антонов втянуть тысячи мирных людей, поднять и вывести их из сел юго-западного края губернии: вот, мол, как встречают вас мужики, как от зверей уходят от вас!
Сотни агитаторов сеяли в округе слухи о появлении Дикой дивизии азиатов и латышей, надрывая глотки, расписывали картины ужасов, читали акты и показания пострадавших, плели небылицы о сожженных селах, вырезанных семьях, о пытках и истязаниях…
Сторожеву было приказано собрать митинг в Двориках.
День был праздничный, морозный. Школа не вместила всех желающих послушать очередное выступление Ишина: любили мужики его веселую, разухабистую речь, его шуточки, поговорки и побасенки.
Митинг открыли около церкви. Люди плотно обступили паперть, на самых верхних ступеньках ее, опираясь на палки, стояли старики и старухи.
Ишин, поблескивая подловатыми глазами-щелочками, с увлечением рассказывал о нашествии «дикарей».
— Они идут, — врал Иван Егорович, — грабят и расстреливают мужиков, баб и ребятишек. В Загрятчине убитые и замученные лежат горой выше дома. Один выход у вас, отцы: отступать. Прячьте хлеб и овес, отсылайте на хутора молодых девок и баб. А вы, мужчины, запрягайте лошадей и уходите вместе с нами. Степаныч приказал главным своим силам охранять ваше отступление. Покажем мучителям: мы не хотим встречаться с вами, видеть вас и слушать ваши речи не желаем.
Митинг кончался, когда в село прискакали всадники, их лошади тяжело дышали. За ними мчались две подводы; груз на них был покрыт веретьем.
— Братцы! — закричал Герман, не сходя с гарцующей лошади. — Вот полюбуйтесь, что делают эти азиаты! — Он нагнулся и сдернул с саней веретье.
Толпа окружила подводы. Завыла истошным голосом какая-то баба. За ней закричали, запричитали другие.
Народ все плотней окружал сани.
Сторожев еле пробрался к одной подводе, и то, что он увидел, заставило побледнеть даже его: вдруг ослабли колени, свело челюсти.
В розвальнях, на соломе, лежали трупы людей; были они голы и смотрели на мир страшными черными впадинами — выколотые глаза висели на щеках. Волосы спалены и торчали, как во время засухи торчит редкая ржавая трава; носы отрезаны, рты разодраны до ушей.
— Граждане! — закричал Герман. — Обратите внимание! Эти мерзавцы пытали наших братьев. Под ногтями у них ржавые иголки, глядите!
Снова завыли бабы, безмолвно плакал Фрол Петрович.
— Их пытали трое суток! — орал Герман. — За что — неведомо. Мирные люди — женщины, старики, а вот этот, — он показал труп поменьше, — мальчишка, пяти лет нету. Граждане! Вот что делают они над нами, азияты!
Еще один всадник на лошади, покрытой инеем, прискакал в село. Он передал Ишину пакет и умчался. Вместе с ним уехал Герман — он повез страшный свой груз в другие села.
Ишин распечатал пакет и снова обратился к народу:
— Старики! Дикая дивизия идет сюда. Нынче в ночь она будет здесь. Как ударим в набат, выезжайте!
И словно ураганом разнесло толпу.
Бледный, позеленевший, Сторожев стоял, прислонившись к телефонному столбу, его тошнило.
— Иван Егорович, это что, в самом деле красные наделали? — спросил он.
Ишин, не ответив, похабно ухмыльнулся и отошел. Ему ли не знать, откуда взялись эти люди! Ему ли не известно, как Герман Юрин, поймав где-то пятерых коммунистов (да и коммунистов ли?), убил и приказал Ваньке Быку, палачу контрразведки, разделать трупы.
— Повидней освежуй, — наказывал Герман. — Чтобы пот прошибал!
— Да уж не впервой! — отвечал палач, мясник по профессии, худенький, сморщенный, красноглазый человек, неведомо за что прозванный Быком.
Герман возил по селам обезображенные трупы. Голосили бабы и дрожали от страха мужики.
4
Вечером к Сторожеву прибежал трясущийся Андрей Андреевич. Он побывал в десяти избах, там от него отмахивались и гнали прочь — люди были заняты своими делами, своими думами.
Он не за себя дрожал — за лошадь боялся Андрей Андреевич, за бесценную серую кобыленку, выхоженную собственными руками.
— Петр Иванович, — почти плакал он, — неужто, того-этого, и меня тронут?
— А что ты за птица! — с насмешкой спросил Сторожев. — Протокол о присоединении к Антонову подписывал?
— Подписывал!
— В комитете состоишь? Состоишь. А лошадь кто тебе дал? И лошадь заберут, и свинью зарежут. И тебя заодно!
— Зарежут? — с великой тоской переспросил Андрей Андреевич.
— И глазом не моргнут! Для них что ты, что я — один черт, одной веревочкой связаны! — убежденно отвечал Сторожев.
Ночью Андрей Андреевич заколол свинью, разделал ее, взвалил тушу в сани, накрыл соломой и крепко привязал к передку.
Завернула непогода. Всю ночь напролет шли через село антоновские полки, тянулись подводы из дальних сел: мужики увозили детей и жен, сундуки, битую скотину.
Ослепленные метелью лошади брели наудачу по дорогам и целине, натыкались друг на друга, создавали заторы, а сзади напирали все новые и новые подводы. Обезумевшие люди резали сбрую, бросали сани и верхом выбирались из несусветной свалки.
На рассвете загудел и в Двориках набат, вохровцы стучали в окна:
— Красные близко!
Трясущимися от страха руками запрягали мужики лошадей, призрачными тенями метались от изб к саням, ругались, плакали, молились.
Андрей Андреевич, закутав ребят в тряпье и рваный полушубок, умчался вместе со всеми. В поле его догнал Фрол Петрович. Друзья поехали вместе.
Где-то далеко строчили пулеметы, в селах надрывно гудел набат, бежали люди, ломались сани, падали лошади…
Верстах в десяти от села на задние подводы в темноте напоролся антоновский полк. Кавалерия шла напрямик, прокладывая дорогу плетками и прикладами винтовок, кони топтали людей, стрельба приближалась. Тысячи подвод неслись по полю, — избивая лошадей, люди уходили от смерти.
Метель не прекращалась всю ночь, дороги занесло, да и никто их не искал, — отступающие врывались в деревни, и новые сотни подвод присоединялись к ним.
Где-то верстах в пяти от Токаревки, очень близко сбоку, раздались выстрелы — отступающие круто повернули лошадей в другую сторону, и оттуда неслась встречная волна.
И вот все смешалось, сбилось в кучу, раздались вопли, стоны, треск дерева, дикая ругань, щелканье кнутов. Мимо Андрея Андреевича на паре добрых лошадок проскакала на возу, нагруженном доверху, Прасковья Сторожева, вохровцы расчищали ей путь. Данила Наумович, поспешно выбрасывал из саней сундуки и туши овец. Баптист — председатель комитета плелся по обочине, ничего не видя, распевая псалмы. Андрей Андреевич подумал: «Уж не рехнулся ли он, часом?»
Фрол Петрович потерял в свалке лошадь: она сломала ногу, сани разнесло в щепки. Какой-то антоновец по просьбе Фрола Петровича выстрелом из револьвера прекратил муки мерина, что верой и правдой служил хозяину семь лет. Долго смотрели друзья на валявшегося мерина, крупные слезы катились по щекам Фрола Петровича. Андрей Андреевич сбросил свиную тушу, усадил друга в сани и тронул кобылку, но тут подбежал Герман Юрин.
Растерзанный, весь в крови, он схватил лошадь за узду и зарычал:
— А ну, выпрягай, дед, если не хочешь пулю в лоб!
— Милок! — Андрей Андреевич затрепетал от страха. — Дак мне ее сам Степаныч дал…
— Он дал, я возьму. А ну, поворачивайся, козья морда!
Фрол Петрович и Андрей Андреевич повисли на его руках, перепуганные детишки закричали. Герман вытащил пистолет, взвел курок. Андрей Андреевич, устрашенный свирепым видом Германа, трясущимися руками выпряг кобылу. Герман вскочил на нее, огрел плетью и понесся прочь.
А люди все скакали, сзади напирали антоновцы, выстрелы слышались теперь со всех сторон. Обезумевший людской поток мчался к линии железной дороги.
Андрей Андреевич плакал, и теперь Фрол Петрович утешал его. Потом они укутали детей, каждый взял себе на руки самых малых, дети постарше плелись за ними, плача и падая. Андрей Андреевич не переставал выть. Плакал он по погибшим своим мечтам, по кобыле, вспоминал злую свою жизнь. Снова нужда впереди, промерзшие углы хаты, дикие драки крыс под печкой…
5
На вершине кургана, откуда открывалась широкая панорама бесконечных полей и далей, утопавших в морозном мареве, трое военных, в их числе тот усатый, что встречал Антонова-Овсеенко, сидя верхом на конях, рассматривали в бинокли мешанину лошадей, саней, пеших и конных, столпившихся верстах в трех от кургана.
— Они, кажется, сошли с ума, — опустив бинокль, задумчиво промолвил молодой военный с командирскими нашивками на шинели. — Где ни проезжали — пустые села. Какая сила сдвинула эти десятки тысяч с места?
— И антоновцев что-то не видно, — заметил другой военный. — Между тем разведка донесла, товарищ комдив: пять отборных полков Антонова прошли рейдом через этот район в направлении Токаревка — Мордово.
— До Токаревки верст пять. — Комдив снова вскинул бинокль к глазам. — Ясно, мужики мчатся туда. Вон и элеватор виден. Что с ними делать?
— А может быть, антоновцы между ними? — подал голос усатый военный. — Дать тги-четыге выстгела из огудий, газогнать эту банду.
— Стрелять по мирным людям? — рассердился комдив. — Да вы с ума сошли! — Он обернулся к военному, стоявшему рядом с ним. — Отдайте приказ окружить отступающих крестьян. Потом разберемся, кто там правый, кто виноватый. И ведите их всех в Токаревку. А командиру бронепоезда передайте: пусть не вздумает палить по ним.
Военный дал лошади шпоры и помчался с кургана к цепи конников, медленно двигающейся по полю невдалеке. Комдив пожал плечами и раздумчиво молвил:
— Что же это такое? Наваждение или злая шутка?
На вершину кургана выскочил конник.
— Товарищ комдив, послан начальником разведки дивизии. Силы бандитов до пяти полков, прикрывшись отступающими крестьянами, прорвались в районе Березовка — Абакумовка и ушли на северо-восток во главе с Антоновым.
Комдив, выслушав его, откинулся на луку седла и долго смеялся.
Прискакавший разведчик и усатый военный смотрели на него, как на помешанного.
— Хитер, мерзавец! Ах, сукин сын, черт бы его побрал! Ведь надо же такое выдумать! И демонстрацию ненависти к нам устроил и стратегическим ходом блеснул. Ну, каналья! — Он откашлялся, тронул лошадь. — Что ж, поедем в Токаревку разбираться.
6
В Токаревке, недавно выдержавшей ужасы сторожевской осады, столпотворение: улицы забиты подводами, мужиками, бабами. Жены ищут пропавших мужей, мужья — жен, дети — родителей. Кое-как командиры навели порядок, отпустили подобру-поздорову женщин, стариков и детей, а мужчин начали переписывать. В этой несусветной бестолковой толчее, в шуме и гвалте, пробираясь сквозь толпы испуганных, растерянных людей в поисках Листрата, который мог бы выручить своих из беды, Фрол Петрович потерял Андрея Андреевича. Тот, оставив ему детей и сказав, что в «момент обернется», исчез в толпе. Поначалу Фрол Петрович терпеливо ждал его. Прошел час-другой, Андрей Андреевич не возвращался. Фрол Петрович, обремененный ребятишками, метался в человеческой мешанине, то расспрашивая, где найти Листрата, то тщетно разыскивая друга-приятеля.
А с другом-приятелем приключилась беда. Он был почти рядом с вокзалом; ему сказали, что там в какой-то теплушке помещается штаб токаревских коммунаров. Однако до теплушки ему добраться не удалось. Двум красноармейцам, случайно обратившим внимание на Андрея Андреевича, его расспросы показались подозрительными. Они задержали его и поставили в длинный хвост захваченных крестьян. В голове хвоста на перроне стоял стол, а за ним сидел командир, уставший от мотни в седле, рассерженный возней с мужиками, которые пороли ему бог знает что. Он сердито допрашивал их, иных тут же под конвоем отправлял в пустые вагоны, застрявшие на станции, других отпускал, выписывая им пропуск. Когда дошла очередь до Андрея Андреевича, красноармейцы доложили командиру о его странном поведении и настойчивом желании разведать, где находится штаб.
Командир под горячую руку решил: «Ага, искал штаб! Ясно, переодетый бандит».
— Зачем тебе нужен штаб? — командир вонзил в Андрея Андреевича глаза, словно прощупывая его.
— Там Листратка сидит, — бормотал насмерть испуганный Козел. — Насчет деток я, того-этого… Чтоб, значит, выручил. И кобылку чтоб поискал… Двориковские мы.
— Ты, дед, не темни. Ты бандит, вот что я тебе скажу. В комитете состоял?
Андрей Андреевич, не слыша предупреждающего покашливания стоявших позади, простодушно сказал, что, мол, точно, в комитете он состоял.
— Взять! — распорядился командир, и красноармейцы тотчас стали позади Андрея Андреевича.
— Куды ж ты меня? — чуть не рыдая, лепетал Андрей Андреевич. — У меня ж детки малые… Да кубыть, того-этого, сам я в комитет пошел. Мир выбрал, добрый товарищ, мир.
— В Тамбове разберутся.
— Как в Тамбове? — ужаснулся Андрей Андреевич.
— А так. Посидишь в тюрьме, дойдет до тебя черед, все выяснят. Следующий!
Дней через десять Андрей Андреевич сидел в тамбовской тюрьме вместе с сотнями крестьян, попавших в «плен».
7
Фрол Петрович избежал печальной участи дружка. Потеряв надежду разыскать его или Листрата, он кое-как выбрался из Токаревки. Патруль остановил его. Однако пожилой крестьянин с пятью детьми показался командиру человеком вполне безобидным, и он, даже не спросив у него пропуска, велел идти дальше. Держа малых ребят на руках, прочим строго-настрого приказав уцепиться за его шубу, Фрол Петрович вышел на дорогу к Дворикам. Верстах в шести от станции его встретил конный разъезд. Поговорив с Фролом Петровичем, молодые веселые парни, вовсе не похожие на «азиятов», взяли к себе в седла детей, сокрушенно качали головой и никак не могли взять в толк, куда и зачем бежали эти люди.
В ближайшем селе Фрола Петровича и детей накормили, уложили детей спать; командир кавалерийского эскадрона, ночевавший в той же избе, выслушал от угнетенного Фрола Петровича трагическую историю бегства, проникся жалостью к пяти ребятишкам, оставшимся без отца, и пообещал Фролу Петровичу навести справки об Андрее Андреевиче.
Под вечер Фрол Петрович пришел в Дворики.
Здесь стояла кавалерийская дивизия и штаб ее. Бойцы и командиры были в смятении. Они проехали десятки сел, и только испуганные старухи и старики встречали их, униженно кланялись, на вопросы о мужчинах несли околесицу, голосили, просили пощады и, наконец, рассказывали об отступлении.
Молодой комдив, освободившись от хлопотливых Дел в Токаревке, ходил по избам, утешал плачущих, ласковыми речами доходил до бабьих сердец, и они открыли ему все, что было.
Комдив зашел к Фролу Петровичу — первому вернувшемуся в село мужику. Тот, в который раз за эти дни, рассказал о своих мытарствах, сокрушался об Андрее Андреевиче и его сиротках, не таясь, признался в том, что и он «ходил» в антоновском комитете, объяснил, как это случилось, просил комдива помочь в розысках друга-приятеля. Тот тоже обещал навести справки, а пока суд да дело, устроил трех осиротевших ребятишек (двух Фрол Петрович взял к себе), приказал бойцам починить хату Козла, навести порядок во дворе и распорядился оставить на попечение Фрола Петровича сильно охромевшую лошадь из обоза, сказав, что коняга еще послужит Андрею Андреевичу. Фрол Петрович, видя все эти хлопоты и заботы, верил и не верил искренности красного командира; ему все мерещилось, что и это одна видимость.
Поодиночке, пешком и на лошадях возвращались в село злые и смущенные мужики; тоска и страх сжимали их сердца. Бабы с радостными воплями бежали навстречу. Молодые парни в шинелях, соскучившись по своему извечному делу, хлопотали во дворах, наводя там порядок, помогали хозяйкам, держались чинно и лишь укоризненно покачивали головами, когда хозяева заводили речь об отступлении.
Вечером комдив собрал крестьян в школу. Народ дивился: никто не стоял с винтовками у дверей, никто не грозил «вычесать» плетьми, не матюкался, не орал.
— Где же Дикая дивизия? — допрашивал всех Фрол Петрович.
— Да набрехали нам! — отмахивались от него.
Слушая рассказ комдива о подлой затее Антонова, о том, чего она стоила мужикам сотен сел, Фрол Петрович мрачнел с каждым часом: чудовищный обман раскрывался перед ним.
Командиры и политические работники дивизии с любопытством рассматривали людей, вставших против всей страны. А мужики слушали комиссара дивизии, командиров и помалкивали: еще слишком прочно гнездилось в их душах недоверие к красным. Комдив просил мужиков сказать что-нибудь, а они дымили цигарками, скребли в затылках. И молчали. Высунулся Демьян Косой, бедняк с Дурачьего конца, сосед Андрея Андреевича.
— Прошу прощенья, гражданин-товарищ, — обратился он к комдиву, — я извиняюсь. Все, что ты сказывал, мы слышали от вашего брата и раньше. А ты нам вот что скажи: что слыхать насчет разверстки и вольной торговли? Народ дюже на этот счет тоскует.
Баптист, председатель комитета, чудом избежавший плена, недобро взглянул на Демьяна. Однако тот не испугался и продолжал с пристрастием допрашивать комдива.
Комдив долго говорил о трудностях, о разрухе, о том, как нужна была продразверстка, но об отмене ее сказать ничего не мог.
Мужики, услышав этот ответ, помолчали, повздыхали и повалили к выходу. Напрасно комиссар просил остаться бедноту и фронтовиков — их словно не было в селе.
Дня через два дивизия ушла.
Глава пятая
1
Лешка частенько наезжал из Грязного в Дворики и, если не было дел, шел к Наташе, засиживался допоздна. Когда ребятишки Андрея Андреевича укладывались спать, а следом за ними и Фрол Петрович начинал похрапывать, Наташа и Лешка залезали на печь, укрывались зипуном, шепотом говорили о жизни, о любви, целовались, и бессонная ночь летела быстро.
Фрол Петрович знал, почему в такие ночи пустует постель Наташи, вздыхал и томился тоской: неженатыми живут ребята, Лешка — парень неуверенный, вдруг опозорит дочь, бросит? Но разговор о свадьбе все откладывал да откладывал. Да и не до того ему было: он все ждал Андрея Андреевича, ужасался при мысли, что его могли убить или упрятать в тюрьму, каждый день наведывался к детям Андрея, жившим у сердобольных соседок, спрашивал, не объявился ли, часом, их отец.
Пропал друг сердечный, сгинул, и узнать не у кого, где он, что с ним стряслось! Черно было на душе Фрола Петровича еще и потому, что не мог он простить Антонову обманного отступления. Люди потеряли лошадей, последнее добришко, пятеро мужиков из Двориков попали в «плен», о них не было ни слуха ни духа.
«Может, и Андрей с ними? — тоскливо думал Фрол Петрович. — Ахти мне, горестному, кругом лжа и обман… И пятеро сироток. Нет, надо искать Андрея, выручать из беды друга-приятеля!»
Наташа и Лешка тоже не думали о свадьбе. Да и какая там свадьба, завирухе конца не видно.
Ночами Лешка, как умел, объяснял антоновскую «правду», привозил ей листовки, она читала их, и казалось девке: на край света пойдет за Ленюшкой, знающим, как покончить с мужицкой бедой.
— В отряд запишусь, — как-то сказала она ему.
Лешка приподнялся на локте и грубо отрезал:
— Я те дам отряд! Шлюхой захотела быть?
— Маруся Косова ездит же…
— Маруся Косова — дрянь баба. Она с Антоновым путается, ей один конец. У нее батька и братья в полках, ей податься больше некуда. А тебе чего там делать?
— С тобой быть… Лешка, а ну, как убьют тебя красные?
— Не убьют, у меня кровь заговоренная.
— Если убьют, в отряд уйду, — сверкая глазами, шептала Наташа. — Сама резать красных буду. У-у, проклятые, не дам спуску, не гляди, что я девка!
И Лешке в такие минуты становилось страшно, и совестно ему было: смутил он тихую, мирную жизнь девушки.
А она забеременела; ненасытной была в любви, забывала все, кроме Лешки, кроме милых его рук, терпких его губ.
Однажды открылась. Засмеялась тихим счастливым смехом, когда впервые услышала толчки под сердцем. Лешка целовал ее и шептал:
— Сын, сын, Наташка, сын будет!
И она смеялась, смех ее слышал Фрол Петрович, крестился и охал.
Порядили ребята пожениться на днях и зажить по-людски.
Да не пришлось!
2
Недели три спустя после отступления Антонова Листрат в первый раз в одиночку заскочил в Дворики — навестить мать.
Он пробрался в Дворики тайком. Впрочем, разведка сообщила, что сельские комитетчики в тот день уехали на уездное совещание «по текучему моменту», милиционеры либо спали, либо играли в картишки, забравшись в теплое помещение комитета, дозорный на колокольне, должно быть, уснул, а караульных Листрат Григорьевич объехал стороной. Задами он пробрался к ветхому своему дому.
В этом враждебном селе, близ жалкой, пересыхающей летом речки, стояла родная избенка, и знал Листрат: сидит там у замерзших окон одинокая старушка мать, ждет своих сынов, своих соколов, слушает, не раздастся ли в угрюмой, настороженной тишине звон подков.
Листрат привязал серого неуклюжего жеребца под развалившимся навесом.
«Все идет прахом, — мелькнула мысль, — без мужика двор не двор!»
Он всыпал в кормушку овса, высморкался и тихо вошел в избу.
Мать сидела у окошка, смотрела в заречную даль и перебирала привычным жестом концы старенького платка.
— Здорово, маманя!
Старуха обернулась, засмеялась, заплакала, по землистому лицу ее покатились обильные слезы.
— Листратушка, — шептала она, — вот и Листратка приехал. — Аксинья сорвалась с места и кружилась вокруг сына, всплескивая руками.
— Ну, ну, раскудахталась, — с грубоватой нежностью заговорил Листрат. — Поесть бы дала.
— Листратушка, милый сокол! Да чем же мне тебя накормить-то? Щи есть да каши с молочком наложу.
«Каторга, — подумал Листрат. — Так вот всю жизнь и мечется, двух сыновей вырастила, а какая от них радость?»
Мать поставила на стол миску со щами, положила ложку, хлеб и уставилась на сына влажными счастливыми глазами.
Печальна была ее жизнь! Звали старуху Аксиньей, но люди давно забыли ее имя. За хриплый, надорванный голос прозвали Хрипучкой, за неудачную, злопечальную судьбу — Каторгой.
Поди же ты, не задалась жизнь человеку! Пьяница муж, подлец и безобразник, выбил человеческую душу, ушли на войну сыны.
И не выплакать старым глазам горя, и вздрагивают в рыданиях сухонькие плечи, и все горше жизнь, и редки ее улыбки.
Листрат ел и не спеша выспрашивал о сельских новостях. Было ему хорошо, не хотелось думать, что вот через час снова поедет он в туманную морозную даль и снова надо настораживаться, выглядывая врага.
3
Дверь с визгом открылась, и вошел Лешка — в папахе с зеленой полоской, в плотно подпоясанной поддевке, вооруженный. Он вошел и направил на Листрата револьвер.
— Брось баловаться! — прикрикнул Листрат и зачерпнул ложкой кашу. — Ну, брось, говорю, сам стрелять умею.
Мать, онемевшая в первое мгновение, ахнула, потом вскочила, забегала, захлопотала, заулыбалась, и по бледным щекам снова потекли слезы.
— Леня, Лешенька, Ленечка!.. Господи, вот и съехались соколы, вот и вместе. Раздевайся, сынок. Он не тронет, Листратка-то. Ты не тронь его, Листратушка. Не тронешь ведь, а?
Она то умоляюще смотрела на Листрата, то дергала за поддевку младшего — розовощекого, безусого Лешку, то принималась дрожащими руками расстегивать его пояс и опять бежала к Листрату.
Листрат вытер усы, посмотрел сурово на брата.
— Ну, чего стал? Садись. Поди, есть хочешь? Вот кстати и гостя к обеду принесло. Не стреляться же нам с тобой в избе. И так еле держится.
Лешка недоверчиво глянул на брата, торопливо сбросил шапку, сунул в кобуру револьвер и обратился к матери:
— Вот встреча, елки зеленые! Ну что ж, теперь бы выпить?
— Припасла, припасла бутылочку, — прохрипела Аксинья.
— Ты что же, — спросил Листрат, — лошадь мою не видал, что ли?
— Нет, кобылу позади избы привязал.
— Ишь ты, сукин сын, — нахмурился Листрат, — сам в избу, а лошадь на холоде… Поди, она тоже жрать хочет… Ну, сиди, сиди! — крикнул он, видя, что Лешка поднимается. — Я в хлев ее поставлю. Овса-то нет?
— Мы у мужиков овес не грабим, это ваше дело грабить. Мы мужика не трогаем.
Лешка зло скривил рот, а Листрат усмехнулся:
— Ну, не ерепенься, защитник мужицкий! А овса нам, между прочим, выдали. — И вышел из избы.
— Вот так принесло меня, — вслух подумал Лешка. — Ну, добром нам не разъехаться.
— Ничего, ничего, Ленюшка, я ему скажу, Листратке-то, я ему прикажу, он не тронет, — успокаивала мать.
Лешка разделся, одернул вышитую петухами рубаху, расчесал перед осколком зеркала русые кудри, покосился на небрежно оставленный Листратом браунинг, вынул из кобуры паршивенький «смит-вессон» и сунул его в карман кожаных галифе. Когда Листрат вошел в избу, Лешка глотал щи, на столе стойла бутылка самогона, а мать крошила в Миску соленые огурцы.
— Хорошая у тебя лошадь, — сказал Листрат, согревая у печки закоченевшие руки. — Давно ходит?
— С осени. В разведке под Сампуром был, одного вашего хлопнул. Так с седлом и перешла. Засекается только.
— Хорошая кобыла, — повторил Листрат и, скользнув взглядом по Лешкиной фигуре, заметил: — Красуемся все, защитник? Тебя, что же, мужики просили их защищать, или ты по своей воле?
Лешка, краснея, ответил:
— Мы свободу мужику добываем.
— Ишь ты, — усмехнулся Листрат, — тоже, стало быть, за свободу? Скажи, пожалуйста, как сошлось: и ты мужику свободу добываешь, и я тоже. И бьем Друг Друга. Как же это выходит?
Лешка не нашелся, что сказать.
— Так, Леша. В каких же ты чинах у Антонова состоишь, какая у тебя бандитская должность?
— Ты потише! Насчет бандитов дело темное. В Вохре я, — облизывая ложку, заносчиво отвечал Лешка. — У нас начальство крепкое, не то что у вас. Наш командир — Сторожев, Петр Иванович. У него и служу.
— Так. У старого хозяина, стало быть? Все хозяев себе ищешь, никак не можешь без хозяина обойтись, а?
Лешка опять смолчал. Листрата разбирала злоба.
— Ты сказал: за свободу бьешься. Вы что же, и Петру Ивановичу свободу заодно завоевываете? Чтоб, значит, вместо трех работников четырех нанял, а мы к нему опять в холуи?
Мать торопливо, точно боясь, что ее не дослушают, стала жаловаться, что Петр Иванович дал ей муки пятнадцать пудов за Алешкино услужение, и мука-то затхлая, а теперь дня не пройдет, чтобы не упомянул про долг и не посрамил ее нехорошими словами.
Лешку залило пламенем, а Листрат только шевельнул бровью да посмотрел сбоку на брата.
— Ну, выпьем, что ли? — сказал он сурово. — Выпьем за свободу, брат, а? Пес с ней, как говорится, какая она на данный момент, красная или зеленая.
Лешка нацедил в мутные граненые стаканы самогона. Листрат понюхал содержимое, потом, закинув голову, выпил крепкую пахучую жидкость и положил в рот кусочек огурца.
— Здорово ты пьешь! — восхищенно сказал Лешка.
— Привычка, — подмигнул Листрат. — Недаром в Царицыне шесть лет в слесарях был. В Царицыне люди здорово пить умели. Пыль-то там в глотку пластом ложится, вот ее и отмачивают. Там, брат, и пить умеют и воевать умеют.
Братья помолчали.
— А зря ты со мной в Царицын не поехал, — продолжал Листрат. — Право слово, зря. Побывал бы ты в Царицыне года два назад осенью, увидал бы настоящих людей. Там, брат, у нас Сталин был, вот голова человек, железный человек, умница. Против Сталина ваши Антоновы — дрянь, тьфу! А теперь Ленин в Тамбов комиссара особого назначения товарища Антонова-Овсеенко послал. Этот большого ума человек! Вот погоди, возьмется он за ваших хозяев, камня на камне не оставит! Он, брат, армии громил, а ваше кулачье в три счета перетряхнет. Эх вы, тюхи да матюхи!
Лешке хотелось ответить что-нибудь обидное, такое, что бы рассердило Листрата, взорвало его. Он прищурился, скривил рот в усмешечку, но обидных слов не находилось.
— За нас народ стоит, — пробормотал он. — И мы за народ. Мы за землю воюем. Вот.
Листрат захохотал.
— Скажи, пожалуйста, — шумно сказал он. — Петру Ивановичу землю отвоевывает!
— Всем мужикам, — нахмурился Лешка. — Вы у мужиков землю взяли да совхозам отдали!
— И тебя, стало быть, землей обидели? У тебя тоже землю отняли? У тебя, конечно, большие земли были! Погляди, маманя, на борца за крестьянское дело. Родила дурака на свою шею. В других губерниях честь честью к весне готовятся, а тут вас, дураков, усмиряй. Воины!
Лешку взорвало.
— Ты нас не тронь! — закричал он, и глаза его налились яростью. — Я твоих не трогаю, ты моих не касайся. Лакай самогон да помалкивай. В других губерниях вашей власти тоже скоро конец будет. Дай срок — и тебя на веревку потянут.
— О? — Листрат засмеялся и налил в стакан самогону. — Неужто конец? Ты мне по родству осину покраше определи, Леша. И мамаша тебя просит. Кланяйся, мамаша, сынку — он брата своего вешать удумал!
Листрат рассмеялся так весело, что и Лешка повеселел. Мать сидела и ничего не понимала. Да разве поймешь? Ездят люди, злобятся друг на друга и каждый расхваливает свое дело…
Но когда Листрат насмехался над Петром Ивановичем, Аксинья и радовалась и содрогалась. Петр Иванович казался, ей вечным хозяином, и вечно должны были у него батрачить Аксиньины дети: пять лет тянул лямку Листрат, поломойкой ходила на сторожевский двор сама Аксинья, потом Лешка пошел батрачить к Петру Ивановичу.
— У него все мужики в долгу, — шептала Аксинья Листрату. — Он захочет, так все село вот так зажмет, — и Аксинья сложила свои пальцы в хрупкий кулачок.
Листрат с печалью смотрел на нее, сжавшуюся, жалкую, и вспомнил: много лет назад, утром, привела она его, мальчишкой, к Петру Ивановичу, а он стоял на крыльце избы суровый, едва слушал просьбу Аксиньи вывести в люди ее сынишку и баском выговаривал:
— Невыгодное оно дело. Одна кормежка чего стоит. Ну, пускай его, так и быть, бедны вы очень. Господь нищих велел не забывать. Да чтоб не баловаться. У меня строго — выдеру, так не сядешь.
Листрат вспомнил об этом, поморщился, скулы у него сурово дрогнули, и он сказал:
— Сжать его в кулак, потечет из него дермо, из Петра Ивановича вашего. Выдумываете себе хозяев, а они ж над вами крутят.
Охмелевший Лешка лениво пил самогон. Листрат машинально крутил цигарку.
— Много у Сторожева народа в отряде? — спросил он Лешку.
Тот вздрогнул, потом тихонько засмеялся:
— Видала, маманя, умника? В шпионы меня по пьяному делу определяет. А еще старший!
Ластрат поднял на него взгляд, полный горечи.
— Вы зачем народ бьете? — закричал Лешка.
— Не мы первыми в Драку полезли, — гневно обронил Листрат. — Не мы драку начали, а Петры Ивановичи. Они голову от злости потеряли, животами думать стали. Почуяли, собачьи дети, что власти ихней конец. Повоевать захотелось? Ну, навязали драку — не жалуйтесь. Хотели жирок с них срезать, а теперь всю кровь поганую выпустим.
Листрат стукнул по столу кулаком, больно ушибся и рассвирепел еще больше.
— Тьфу ты, черт! — засмеялся Лешка. — Тоже оратель нашелся. Поглядим, как вы разговаривать будете, когда до конца дело дойдет. Грабить да приговаривать, что вы за бедных, вы горазды.
Листрат, не поворачивая головы, спросил:
— А ты за кого? Ты сказал, что ты тоже за бедных?
— За бедных, ясно. Мы все за бедных!
— И Петр Иванович за бедных?
— Что ты одно заладил: Петр Иванович да Петр Иванович! Не Петр Иванович голова! У нас и Антонов есть! Он на каторге страдал!
— А у Антонова тоже хозяин есть, а хозяин его — Петр Иванович. — Листрат опять подмигнул Лешке. — У Петров Ивановичей ваш Антонов до поры до времени вроде собачки на цепочке сидел. А сейчас его спустили. На-де, полай, покусай советскую власть. Ан-то-нов! Много бы ваш Антонов без кулаков да без вас, дураков, сделал.
Листрат, крякнув, допил самогон, собрал в щепоть остатки огурца и сунул в рот. Потом, улыбнувшись, как бы невзначай бросил Лешке:
— А помнишь, как он тебя драл, Петр Иванович? Это когда на сливе тебя поймал, а? Да потом мать секла — не воруй. Да я добавил: когда бьют, сдачи давай. Эх ты, Сеченый, — усмехнулся Листрат. — Тебя и сейчас Сеченым-то зовут?
Лешка побагровел.
— Не тронь!
— Сеченый, ха-ха-ха! — заливался Листрат. — Ах, смех! Его Петр Иванович сек, а он ему волю воюет, а-ха-ха-ха!..
— Не трожь! — закричал Лешка, хватаясь за карабин. — Не тревожь душу, а то сейчас дух вышибу!
Листрату стало жаль брата.
— Ну, ладно, будет. Эх, ты, какой нервный стал, а мальчишка ведь, щенок еще! Жениться бы тебе, а ты воевать!
— И то хочу, — угрюмо сказал Лешка.
— Но? Маманя, Лешка-то жениться вздумал! — Листрат заговорил ласково, улыбаясь в пышные белокурые усы. — На ком же, Лешка? Кто такая?
— Фрола Баева Наташа.
— Знаю, знаю, — сказал Листрат. — Золотая девка, маманя. И Фрол Петрович мужик ладный, хозяйственный.
— Посоветоваться с маманькой приехал, — прибавил, краснея, Лешка. — Взять бы к нам в избу, беременная она.
Аксинья заулыбалась.
— Женись, женись, — сказал тихо Листрат. — Авось окончим скоро войну, все устроится. Я вот тоже женюсь, когда эту канитель окончим. Есть у меня в Царицыне одна краля. — Листрат смущенно улыбнулся. — Пять раз с ней свадьбу назначали. Назначим — бац, в бой надо идти… Ну, ничего, и на нашей улице будет праздник. — Листрат помолчал. — А теперь пойдем, браток, поглядим лошадей, ехать пора.
4
В дырявом хлеве телка жевала солому. Рядом мирно бок о бок стояли подседланные лошади.
Листрат ласково похлопал по крупу Лешкину серую с подпалинами кобылу и посоветовал:
— Не дай воды безо времени! Сгноить тебя мало, если такую лошадь испортишь. Она же для хозяйства — клад. Скажем, к примеру, пахать. Глянь, грудища какая — эта тебе все вывезет.
Голос у Листрата, когда он сказал о пахоте, стал как-то теплей, родней, и Лешка почувствовал, что Листрат очень стосковался по хозяйству. И самому ему захотелось росистым утром походить за плугом по прохладной рыхлой борозде.
— И чего только люди воюют? — шепнул он.
— Ты своих спроси. Ты их спроси, куда полезли, с кем драться вздумали, а? И ты, дурак, тоже! Я-де за бедноту пошел!
— За бедноту я, — согласился Лешка, и ему захотелось, чтобы Листратка сказал что-то недоговоренное, неясное, но очень важное.
— Дурень! Ежели за бедноту пошел, так не туда попал, — усмехнулся Листрат. — Тебе бы к нам ехать, ежели ты за бедноту. Ты сочти, много у вас бедноты-то?
Лешка молчал. Он наблюдал, как Листрат ловко поправлял на лошади седло, опустил подпругу и знающе ощупывал живот, грудь, ноги кобылы.
— Первый сорт коняга, — сказал он. — Хорошая лошадь! Я бы и то меняться стал.
Лешке захотелось сделать брату приятное.
— Давай, Листратка! Давай мне твою лошадь! А то испорчу кобылу, а ты, может, упасешь ее до мира.
Листрат презрительно посмотрел на Лешку.
— Вот воинство! Да разве можно боевую лошадь менять, а? Я с конем свыкся, меня не разделишь с ним, он меня насквозь знает, без слов чует, чего я от него хочу… А ты — меняться! Чему вас учат, дураков?
Лешка не вытерпел и закричал:
— Да чего ты нас все порочишь?
— А то порочу, — строго сказал Листрат, — что так и есть — дураки вы. С кем вы драться, говорю тебе, лезете? Ну, вы эту губернию завоевали, еще три завоюете, а у нас-то еще пятьдесят останется. Мы крови не хотим, мы ждем, когда вас мужик раскусит, повадку вашу узнает волчью. Подожди, навалимся — запищите!
Лешка гневно закричал, телка, испугавшись, перестала жевать, а нервный Листратов жеребец повел ухом.
— Жать вы мастера!
— Ишь ты, — поддразнил Листрат, — таких не жми — беды наживешь.
— Ты не отшучивайся, — побагровел Лешка, — ты шутки не шути. Ты все меня высмеиваешь, а не скажешь: вы-то за что воюете? Вам-то чего надо?
Листрат вытянул из кормушки былинку, перегрыз ее и задумчиво молвил:
— Это верно, этого я не говорил. Мне думалось: мы из одного гнезда и знаем все одинаково. Да вот гнездо-то одно, а цыплята разные. Чего мы хотим, Алексей Григорьевич? Мать-то всю жизнь слезы льет. Это ты знаешь? Вот мы все слезы всех таких матерей, как наша, в чан соберем и в нем Петров Ивановичей утопим, чтобы и на расплодку не оставалось. Чуешь?
— А нас, — заикаясь и отводя глаза вбок, спросил Лешка, — тоже в чан?
— Зачем? Вы, как котята слепые, тычетесь мордами, да все в угол попадаете. Так-то оно! — И прибавил: — Ну, Леша, потолковали, и хватит. Ты скажи, ваших нет близко?
— Никого. Ты держи на Молчановский хутор, там чисто.
Братья вошли в избу, подпоясались, оправили оружие. Лешка, покраснев, вынул из галифе «смит». Листрат заметил:
— Ах ты, ворюга! Видала, мать, урод-то твой меня боялся, револьвер в кармане держал.
Лешка деланно засмеялся:
— Кто вас знает! Болтают: обещаете не трогать, кто сдается, а сами раз-два — да к стенке. Верь вам!
— А ты приезжай, — прищурился Листрат. — Может, и наврали насчет стенки.
Лешка усмехнулся.
— Тоже уговорщик! Я свою дорожку знаю.
— Эх ты, щенок! — усмехнулся Листрат. — Всякие дорожки, Леша, бывают: иные прямые, иные кривые… Ну, поехали! Прощай, маманя, прощай, Леня! В бою встретимся, не серчай. В бою голова горячая, кровь родную не чует. — Листрат улыбнулся, а в мыслях мелькнуло: «Молодой, сукин кот, пропадет ни за грош».
5
Мать стояла на пороге и смотрела, как белые хлопья снега закрывали от нее сынов.
Братья доехали до речки, кивнули друг другу и разъехались.
У Лешки екнуло сердце, и к горлу подступил шершавый комок. Он ехал медленно, тяжело вздыхая, думая о встрече с братом, и чувствовал, будто что-то лопнуло у него внутри.
Потом вспомнил о Петре Ивановиче. Он привык к его окрикам и суровости как к чему-то обязательному и неотвратимому. Но вот мать рассказала о мукé, и в сердце Лешки шевельнулось злое чувство.
Потом припомнилось Лешке, как он ушел к Антонову. До сих пор Лешка не думал об этом, как-то ни к чему было, да и казалось ему, что так и надо, ведь в семью Петра Ивановича он пришел мальчишкой, с семи лет батрачил у Сторожева. А когда тот пошел к Антонову, когда увел племянников и друзей, пошел за ними и Лешка, а почему — он и не хотел разбираться. Сейчас ему противно было думать об этом, но из головы не выходили колючие слова Листрата.
— Вот черт, — сказал он с досадой, — тоже дернуло встретиться!
Лешка обернулся. Далеко сбоку виднелся Листрат, он направлялся к Молчановскому хутору. Лешка привстал на стремена и заметил: Листрат слез с лошади и копошится у седла; постояв в раздумье, он махнул рукой и, взяв под уздцы жеребца, медленно пошел дальше.
«Оборвалось, что ли, у него что?» — подумал Лешка и хотел было догнать брата, но заметил вдали всадников и узнал свой отряд. Впереди на пегой кобыле скакал Сторожев.
«Листратку догоняют, — мелькнула тревожная мысль у Лешки, — убьют Листратку».
Он дал кобыле шпоры и помчался навстречу отряду.
Сторожев осадил кобылу, посмотрел на Лешку, пожевал губами.
— Чего шатаешься?
— Я же отпросился, — буркнул Лешка. — Чего лаешься?
Сторожев тяжело и порывисто дышал. От лошадей шел пар, ехали быстро, видимо торопились. Вохровцы, обрадовавшись остановке, закурили и наблюдали за Лешкой.
— Листратка в селе был? — спросил Сторожев.
«Вот оно!» — пронеслось в мыслях, и вдруг, точно окаменев, Лешка ответил:
— Был. У матери был.
— И ты тоже?
— И я.
— Та-ак, Алексей Григорьевич. С братцем, значит, повидались. Расставались, целовались?..
— Что же мне с ним в избе, что ли, стреляться? И так еле держится, — повторил Лешка Листратовы слова. — Довоевались, мать-перемать, мать…
Сторожев испытующе посмотрел на Лешку, но тот спокойно сидел в седле, перебирая поводья.
— Куда он поехал? — как бы невзначай обронил Петр Иванович.
— Листратка-то? Он к Грязному поехал.
«Не врет!» — решил Сторожев и торопливо приказал:
— Ну, вали, ребята, на Грязное, может, поймаете воробья. А я в село заеду. И ты со мной, Лешка, поедешь, негоже тебе за братом гоняться.
Ехали молча. Лешка мысленно видел Листрата, медленно ведущего жеребца.
Петр Иванович обернулся к Лешке.
— Жива мать-то? Все хрипит? Когда должок отдаст? Ты поторопи.
Лешка промолчал.
— Слышь, тебе говорю. Все вы на долги падки, а как отдавать — жметесь!
— Что ты, разбогатеешь, что ли? — грубо пробормотал Лешка.
— Что ты сказал? — переспросил Сторожев и остановил лошадь.
Лешка обогнал Сторожева и повернулся к нему лицом.
Вдали удалялся на рысях отряд; его застилала снежная пелена.
— То и сказал, — взорвался Лешка, — жаден ты очень! Нечего над старухой издеваться. Пожалеть человека надо.
— Пожалей вас, собак, — вспыхнул Сторожев, и левая щека его дернулась, — вы нам головы снимете! Пожалели вас в семнадцатом году, да вот теперь никак не разделаемся!
Он дрожащими пальцами полез в карман, достал кисет, свернул цигарку, закурил и, глубоко вдохнув дым, окончил:
— Вашего брата не жалеть, а учить надо!
— Кто это вас выбрал в учителя? — Лешка задохнулся. — Учитель… Таких учителей красные к стенке десятками ставят, чтоб не учили.
Сторожев охнул и выронил цигарку. Рот его свело судорогой.
— Ах ты, сволочь! — рявкнул он. — Наслушался братца! Мало тебя били, получи еще.
Он взмахнул плеткой и огрел ею Лешку по лицу сверху вниз. Потом, подобрав поводья, тронул кобылу и через плечо бросил:
— Умней будешь, сукин сын, Сеченый!
«Сеченый, — промелькнуло в мыслях у Лешки. — „Сеченый, Сеченый! — вспомнил он крики мальчишек. — …Сеченый, э-э-э, Сеченый!“»
Лешка, еще не остывший от возбуждения, поглядел вслед Сторожеву и подумал: «Один на один, трахну — и конец ему».
Но возбуждение внезапно прошло. Лешка почувствовал, что ему стало легко и свободно, а то, что так мучило его, разрешилось очень просто и, главное, очень скоро.
— Подлюга, — пробормотал он, размазывая по лицу кровь, — ишь ты, как крепко стеганул. Тяжелая рука какая!
6
Поздно вечером у Молчановского хутора Лешка нагнал Листрата.
— Ну? — Листрат заметил на лице брата багровую полосу и все понял.
— Поедем, — глухо отозвался Лешка. — Сдаюсь.
Над седым туманом пробивалась утренняя тусклая заря, когда Лешка и Листрат увидели вдали силуэт элеватора. Он подмигивал им красным глазом, показывая дорогу к близкому и желанному отдыху.
Лешка молча ехал впереди Листрата. Листрат крутил белокурый ус.
— Не боишься?
— Нет, — просто ответил Лешка, — один конец!
— Как же это ты его не убил? Я бы не выдержал. Ты что, пожалел его, что ли?
Лешка поравнялся с Листратом.
— Мне, Листратка, в спину ему не хотелось стрелять. Я его поймать хочу. В глаза ему погляжу и застрелю. Мне ему в глаза охота поглядеть, когда он подыхать будет.
И вот элеватор совсем близко.
Лешка остановил кобылу, снял шапку, карабин, револьвер и отдал Листрату.
— Держи, — сказал он надтреснутым голосом и добавил — Ты, Листратка, мне руки свяжи. Христом-богом молю. Свяжи, а то боюсь — назад поверну…
Листрат увидел серьезные, умоляющие глаза брата, вынул из кармана запасной ремень к седельной справе и крепко связал за спиной руки брата.
— Готово, — ухмыльнулся он, — поехали.
Глава шестая
1
Однажды утром — было это в начале февраля — Фрол Петрович сказал Наташе, что идет к вдовой сестре в Грязное помочь по хозяйству, может быть, задержится, наказал блюсти дом, ребятишек Андрея Андреевича не бросать на произвол судьбы, прилежно ухаживать за оставленной красными кобылой. Потом посидел, помолчал, отвесил три поклона в сторону божницы, захватил узелок с хлебом и тремя луковицами и ушел.
Обходя села, лощинами и малоезжеными дорогами он пробирался в Токаревку к Листрату. Коммунистический отряд прочно укрепился на старом месте.
Сашка Чикин встретил Фрола Петровича около станции, привел в штаб — он помещался в теплушке. У телефона сидел Никита Семенович, в углу на нарах лежал Федька.
Фрол Петрович снял шапку, поискал икону.
— Не ищи, Фрол Петров, этого товара не водится! — засмеялся ямщик.
— Отступник, отступник ты, Микита! — Фрол Петрович обратил лицо в правый угол, осенил себя крестным знамением, сел, помолчал.
— Зачем к нам пожаловал? — спросил Никита Семенович не очень радушно.
— Замучился, Микита! Сколько ночей не спал — не сосчитать, — с тоской проговорил Фрол Петрович. — Первым делом, дружок мой Андрей сгинул. Вторым делом — меня Антонов обманул. Обманул, обманул, не спорь со мной! — прикрикнул Фрол Петрович на Никиту Семеновича, хотя тот и не думал спорить с ним.
— Однако долго ты соображал, Фрол Петров. — Ямщик ухмыльнулся. — Долго, брат, догадывался!
— А что ты зубы скалишь? Я затем к вам приплелся, чтобы вы мне правду указали, а ты надо мной надсмехаться? Ответствуй!
— Остолопы вы, вот тебе мой ответ!
— Истинно, того-этого, дурачки вы! — поддакнул, зевая, Федька.
— Не-ет! — взорвался Фрол Петрович. — Не дураки! Темные мы, правды мы не знаем! — Он помолчал. — Лисграт Григорьевич где?
— Сейчас будет. Только что из Тамбова прибыл.
— Вона что! — Фрол Петрович недоверчиво покосился на Никиту Семеновича. — А про дружка моего, про Андрея, часом, не слышал ли?
Никита Семенович об Андрее ничего не знал. Вошел Листрат.
2
Поздоровавшись с Листратом, Фрол Петрович спросил:
— А что, Листрат Григорьевич, Москва-то ваша еще?
— Да ты очумел? — Листрат с недоумением воззрился на Фрола Петровича.
— А ты скажи, кому говорю! У нас болтают, вся ваша партия против Ленина встала. Попы молебны служат, дым у нас коромыслом.
— Эх, зря тратятся! — рассмеялся Листрат. — Панихиды, Фрол Петрович, служить надо.
— О! Это по кому же?
— По Антонову, по Антонову. При последнем издыхании.
— Брось шутки шутить! — Фрол Петрович насупился. — Антонов… Жив и здоров, и нос в табаке.
— Ничего, — возразил Листрат, — пусть перед смертью побалуется. Скоро мы тут порядочки наведем. Ты слушай, — с воодушевлением начал Листрат. — Ленин в Тамбов Антонова-Овсеенко прислал от власти и партии уполномоченным. У-у, дельный человек! О ту пору я в Питере в Красной гвардии служил, под его началам был. Уж он покажет вашему Антонову!..
— Что-то ты больно храбёр приехал! — скрывая восхищение ладной, статной фигурой Листрата и его горящими глазами, спросил Фрол Петрович. — Уж не армию ли приволок?
— Армию не армию, а подкрепление подкинули. Пулеметы, орудия, продовольствие притащил.
— Орудия, пулеметы? — с помрачневшим лицом повторил Фрол Петрович. — Нет, Григорьевич, не такие слова я от тебя услышать хотел. Опять, стало быть, кровищу лить?
— Без кровищи не обойтись, — угрюмо заметил Листрат. — Но и мир недалече. Собрал товарищ Овсеенко коммунистов со всех уездов, объяснил, что и как… Езжайте, мол, домой, успокойте народ, к пахоте бы готовился, очень нам хлеб нужен. И еще сказал: вот-вот мужику великое облегчение выйдет.
— Какое же? — оживился Фрол Петрович.
— Слух идет, будто разверстку ломать будут.
— Тогда каюк Антонову, — сказал Никита Семенович.
— Не верю, не верю! — вырвалось у Фрола Петровича.
— Твое дело. Вашего брата вскорости на мужицкую конференцию в Тамбов позовут. Там, поди, и объявят насчет облегчений. Товарищ Овсеенко сказал: бумагу, мол, о том пишем товарищу Ленину.
— Опять бумага! — горестно прошептал Фрол Петрович. — Ну, вот что… Бумаги бумагами, а мне от самого Ленина надо твердое слово насчет мужика услыхать. К нему пойду. И насчет Андрея душа моя на куски рвется. Пропал человек ни за что ни про что. Ленину скажу: пусть разыщет Андрея, и без того от него не уйду. И что сказал — сделаю. Мое слово — кирпич.
— Насчет Андрея тебе с Лениным говорить нечего. Он в тамбовской тюрьме сидит.
Фрол Петрович так и ахнул.
— Это за что ж?
— В комитете был, вот и сидит. — Листрат насупился. — Я товарищу Антонову-Овсеенко о нем помянул. Обманули, мол, его, а мужик сам по себе вполне безвинный. Сказал: разберется.
— Ахти, в тюрьме, болезный! — горько вырвалось у Фрола Петровича. — Дак я к вашему Антонову самолично пойду, кулаком об стол грохну, чтоб выпустил Андрея в одночасье. А от него к Ленину.
— Да товарищ Антонов-Овсеенко тебе и без Ленина все объяснит, упрямая башка! — улыбаясь, заметил Листрат.
— У вас свой Антонов, у нас свой. Может, и тот обманщик. Нет у меня веры никаким Антоновым. И не спорь со мной.
Листрат развел руками. Вмешался Никита Семенович.
— А что, пускай идет! Иди, иди, Фрол, к Ленину. К нему много народу ходит!
— И пойду, — упрямо сказал Фрол Петрович. — Подаянием питаться буду, а добреду. Только пустят ли нас к нему? — усомнился он.
— Пустят-то пустят, — отвечал задумчиво Листрат. — В Тамбове рассказывали: один мужик к нему приперся, у него корову отобрали. Ну, он к Ленину. Тот взялся за обидчиков… Ох, и досталось же им!
— Стало быть, строгонек? — Фрол Петрович с необыкновенным вниманием слушал Листрата.
— А ты думал! Государственная голова — во все вникает, и в великое и в малое! Его сорок держав побаиваются. А сам он человек, говорят, простой, ростом невелик и в лапту играть любит!
— Эка! — восторженно вскрикнул Фрол Петрович. — Поди, в хоромах живет?
— Какое в хоромах! Квартирка, говорят, так себе, ничего особенного! Но нраву — характерного! «Чтобы мне, — говорит, — этого подлеца Антонова в три счета прикончить!»
— Скажи, пожалуйста! Он что же: коммунист ай большевик?
— Это я тебе в момент разобъясню, — вызвался Никита Семенович. — Большевик, Фрол, это само по себе, а коммунист, это, обратно, само по себе… Ленин — он большевик, а вот Листрат помоложе, он, выходит, коммунист.
— Это пошто ж они по-разному кличутся?
— Для порядка и, обратно, для отлички. Но, скажу, точка у них одна: что у этого, что у энтого. Ты, Фрол, иди к нему без сомнения. Поди, расспроси хорошенько… Когда, мол, товарищ Ленин, полное замирение выйдет, устал, мол, народ воевать, пахать бы ему, сеять. — И такая тоска прозвучала в словах коммунара, соскучившегося по дому, по хозяйству и земле, что Фрол Петрович слезу пустил, а потом сказал:
— Ты уж на меня понадейся. Все выложу. Я к нему с полным сурьезом пойду.
— Желаешь, довезем тебя до Тамбова, — предложил Листрат. — К вечеру поезд туда пойдет. А там и до Москвы недалече.
— Это ты меня ублаготворишь, Листрат Григорьевич, — солидно согласился Фрол Петрович. — Буду ехать, а где и пешочком идти, мужицкое горе узнавать, чтоб все как есть Ленину выложить.
Глава седьмая
1
Но что же делает Антонов-Овсеенко, полномочный представитель ВЦИК, комиссия, в которую вошла вся высшая власть Тамбова и специальный представитель ВЧК?
Антоновцы все еще в полной силе, Сторожевы собираются засевать землю, ту самую, которую комбеды отдали бедноте, и Тамбов по-прежнему в железном кольце.
Только наивные люди удивляются: почему Антонов-Овсеенко не расскажет всенародно о своих планах? Почему молчит?
Молчание лишь видимость. Это затишье перед ураганом, это собирание и накапливание сил — политических и военных — перед сокрушительным ударом.
Столько наломано дров с восстанием тамбовских мужиков и так все запутано, что требуется время и напряжение всей воли партии для прояснения мутных пятен, для развязывания сложных узлов. Их можно разрубить ударом топора, — так предлагают политические молокососы. И они продолжают путать.
Рейд военных частей Орловского округа провалился. Но в донесении приведена оглушительная цифра: за один день взято полторы тысячи пленных!
Полторы тысячи пленных!
Антонов-Овсеенко не слишком верит, вместе с Васильевым едет в тюрьму и допрашивает пленных. Что же он выясняет?
Оказывается, добрых три четверти захваченных — мужики: середняки, беднота, поддавшаяся на провокацию союза и отступавшая вместе с главными силами Антонова. Владимир Александрович смотрит на Васильева. Тот пожимает плечами.
Представитель ВЦИК возвращается в кабинет, созывает полномочную комиссию, зовет тех, кто сочинял победоносную реляцию и на весь белый свет хвастался трофеями — мужицкими лошадьми, санями и добришком, увезенным из дому.
Следует разнос, какого от Антонова-Овсеенко за все это время не слышали.
Комиссия решает: всех «пленных» мужиков немедленно выпустить и отправить домой, «трофеи» вернуть, более или менее подозрительных допросить и, если окажется, что вина их перед советской властью не так уж велика, освободить.
Затем Антонов-Овсеенко предлагает созвать конференцию крестьян.
Он сам пишет прокламацию к восставшим мужикам:
«Товарищи крестьяне! Приближается весна, подходит время посева, надо к нему подготовиться… Земля зарастает сорняками и обеднела. А вы, что вы делаете?.. Вы до сих пор, конечно, еще ни о каком посеве не думали… А время не ждет!..
Опомнитесь! Вся Россия перешла к труду, и вам надо сделать то же! Для того чтобы нам по этому поводу сговориться, послушать вас, узнать ваши недовольства и найти единый язык рабоче-крестьянского люда, мы собираем в Тамбове крестьянскую конференцию. Всем делегатам будут бесплатно предоставлены добрые харчи и помещения. Каждое село должно послать одного, а то и двух представителей, тех, кого выберет мир. Мы обещаем вам свободное и дружное обсуждение ваших дел и нужд!»
Ни трескучих фраз, ни огульных обвинений, ни лишнего слова, которое могло бы смутить и без того смутное сознание мужиков. Только о том, что ближе всего для крестьянского сердца, писал Антонов-Овсеенко. Только о труде взывали к ним партия и советская власть словами своего представителя.
2
В коридорах помещения, занимаемого полномочной комиссией ВЦИК, пчелиный улей. Народ здесь толчется с утра до ночи. Снуют взад-вперед военные, гражданские, вид у всех озабоченный, в глазах усталость. Сводки, донесения потоком идут сюда: Антонов-Овсеенко хочет знать все, что делается в самых дальних уголках губернии. Помощник надрывается, разговаривая по телефону. Иной раз звонит несколько телефонов, и он не знает, за какую трубку хвататься. В приемной терпеливо ждут очереди вызванные уполномоченным ВЦИК; за дверью, в кабинете слышатся голоса — то громкие и негодующие, то ровное жужжание. Антонов-Овсеенко то и дело выходит из кабинета, наводит у помощника справки, спрашивает, когда же, наконец, будут гранки воззвания по поводу губернской конференции крестьян, помощник тут же звонит в типографию, там отвечают, что гранки готовы, но не вычитаны корректорами. Антонов-Овсеенко торопливо говорит:
— Сам буду держать корректуру, пусть присылают скорее. И позвоните в Кирсанов. Сколько у них там в наличии посевного зерна?
Трещат телефоны: здесь мозг всего, что делается в губернии, главный оперативный штаб, здесь зреют детали плана разгрома мятежа. Здесь можно увидеть коммунистов, отважных людей, отстоявших целые волости от антоновских банд, сюда стекаются все сведения.
Два конвойных вводят молодого человека в шинели. Помощник Антонова-Овсеенко уходит в кабинет, потом приглашает туда же арестованного. Тот дрожащими руками проводит по коротко остриженной щетине и переступает порог. Конвойные остаются у дверей, штыки их сомкнуты.
Проходит пять-десять минут, арестованный выходит. На лице его, обильно смоченном потом, счастливая улыбка. Помощник обращается к конвойным:
— Вы больше не нужны, этот товарищ свободен.
Не успевает помощник сесть, к нему подходит военный, представляется:
— Командир авиаотряда Москалев. Прибыл по приказу товарища Антонова-Овсеенко.
— А, очень хорошо! — Измученный, издерганный помощник — молодой и сильный здоровущий мужчина — кажется раздавленным тем, что легло на его плечи. Он выдавливает приветливую улыбку, жмет руку авиатора. — Завтра вы нагрузите машины воззваниями к крестьянам. Постарайтесь проникнуть поглубже в тылы противника. Но имейте в виду: нам известен приказ Антонова с каждого пойманного летчика сдирать кожу.
Москалев смеется.
— Не видать ему наших кож, товарищ.
Фрол Петрович, сидевший тут же, сумрачно уставив глаза в пол, смотрит на этого человека в чудной одежке, качает головой: «Поди-ка ты, ништо его не страшит!» — и что-то бормочет под нос.
— Могу идти? — чеканит Москалев.
— Да.
Летчик еще не успевает покинуть приемную, как в двери показывается Антонов-Овсеенко.
— Кто ко мне из Токаревки? Не вы ли, дедушка?
Фрол Петрович встает и кланяется, блюдя достоинство. «Да-а, щупловат, а Листратка-то о нем напевал! Вроде про богатыря расписывал…»
— Прошу, прошу ко мне, — в голосе Антонова-Овсеенко ровная, спокойная и приветливая нота. Он открывает перед Фролом Петровичем дверь, словно к нему явилось бог знает какое значительное лицо, а потом сам заходит в кабинет, на ходу бросив помощнику:
— Соедините меня с Москвой.
Через минуту в кабинете слышатся взволнованные голоса, стук чем-то по столу. Помощник качает головой. И вдруг в кабинете все стихает. Потам туда, кивнув головой помощнику, быстро проходит Борис Васильев.
3
— Очень кстати! — Антонов-Овсеенко встал из-за стола и поздоровался с Васильевым. — Я только что собирался в тюрьму и хотел звонить вам. А тут дедушка на меня накричал. Его дружка-приятеля, утверждает, посадили ни за что ни про что. Виноват, товарищ Баев, теперь вспоминаю. Действительно, товарищ Бетин говорил мне о каком-то крестьянине из Двориков. Словно выдуло из головы, прошу прощения!
Фрол Петрович сердито откашлялся. Он действительно накричал на Антонова-Овсеенко, но тот успокоил его несколькими словами, сказав, что вместе с ним поедет в тюрьму. Антонов-Овсеенко представил его Васильеву:
— Фрол Петрович Баев из Двориков. Говорит, был комитетчиком.
Васильев пожал руку Фрола Петровича, а тот недоверчиво косился на этих людей: больно уж ласково встречают, не иначе — подвох.
Секретарь губкома вынул из портфеля бумаги. Не успел он сказать слова, резко прозвучал телефонный звонок. Антонов-Овсеенко взял трубку, предостерегающе поднял палец.
— Здравствуйте, товарищ Ленин. Да нет, пока еще не замерз. — Антонов-Овсеенко рассмеялся.
Васильев внимательно слушал разговор. Фрол Петрович встрепенулся: «Батюшки! С самим Лениным разговоры разговаривает! Ну, посмотрим, что далее будет…»
— Да нет же, право, все хорошо, — улыбаясь, говорил меж тем Антонов-Овсеенко. — Да, слушаю, Владимир Ильич. — Лицо его стало серьезным. — Нет, порадовать вас пока ничем не могу. Напротив, огорчу… Да, это по поводу операции против Антонова, затеянной Орловским округом… К сожалению, вы правы, опять провалились с грохотом. Но об этом вам поступит подробное сообщение. Однако замечу: мы не ожидали, что Антонов и иже с ним такие хитрые и умные протобестии. Что? Нет, Владимир Ильич, пусть они послушаются доброго совета: мы тут пришли к выводу — только военными мерами никак не обойтись. Подробно свои соображения я сообщу чуточку позже. Нет, раньше весны никак, никак!.. Да, понимаю, очень огорчительно, но что делать… Да, слушаю… Главное, Владимир Ильич, вот в чем: надо немедленно снять с губернии продразверстку…
Фрол Петрович подскочил на месте.
«Выходит, прав Листратка. Однако послушаем… Слово-то, видать, за Лениным…»
— Хорошо, обсудим. Да мы и не собирались делать это тяп-ляп! — Антонов-Овсеенко рассмеялся, а Фрол Петрович поник головой: «Видать, Ленин-то не очень насчет продразверстки ласков… Супротив них, выходит, пошел… Эк, горе!»
— Товарищ Васильев, Владимир Ильич, очень занят. Мне кажется, его не стоит срывать с места, а товарищ Немцов выедет к вам немедленно. Так… Так… Хорошо, отберу лично сегодня же, и они поедут вместе с товарищем Немцовым. Что на трудовом фронте?
Пока Антонов-Овсеенко слушал, что ему говорил Ленин, в кабинет вошел предчека Антонов. Антонов-Овсеенко, держа в правой руке телефонную трубку, левой поздоровался с предчека и кивком головы предложил ему сесть. Антонов протянул руку Васильеву и тяжело опустился в кресло. Он выглядел таким усталым, что Васильев, глядя на него, сокрушенно мотал головой.
— До свидания, Владимир Ильич, будьте здоровы! — Антонов-Овсеенко положил трубку и обратился к Васильеву. — Товарищ Ленин просит, чтобы Немцов доложил Политбюро наши предложения насчет снятия продразверстки. Надо прислать с Немцовым в Москву к Ленину пять-шесть крестьян. Я займусь этим сам, а вы предупредите Немцова. Он где-то здесь. И поскорее возвращайтесь. Товарищ Баев, прощу обождать меня в приемной.
Когда Фрол Петрович вышел, Антонов-Овсеенко пристально посмотрел на измученного и усталого предчека.
— Плохие новости? Опять неприятность?
— Нет, это связано с провалом последней операции, Владимир Александрович. Под Токаревкой нашли убитую лошадь. Пленный из штаба Антонова сказал, что она принадлежала начальнику антоновской контрразведки Юрину. В седельных сумках нашли кое-какие личные его вещи, Юрина, и вот это.
Предчека положил на стол лист бумаги со схемой операции Орловского военного округа.
— Странно! — пробормотал Антонов-Овсеенко, разглядывая документ на свет. — Водяные знаки… бумага, какой теперь не делают. Очевидно, это нарисовано кем-то, кто держит добрый запас старой бумаги, не полагаясь на нашу. — Он усмехнулся. — Рабочие, партийные работники, мелкая интеллигентская сошка отпадают. Это сделано в богатом доме, товарищ Антонов, я уверен. Такую бумагу покупали высшие чиновники, адвокаты… Я уже говорил вам, возьмите поглубже. Поищите автора этого документа среди военспецов, дворян, адвокатов…
— Слушаюсь.
— И не слишком огорчайтесь. Всему свое время.
— Это правильно, — мрачно заметил Антонов. — Но, знаете, Феликс Эдмундович таких вещей нам не прощает.
— За дело, за дело! — рассмеялся Антонов-Овсеенко. — Уж как-нибудь мы умягчим Феликса.
— Спасибо! Но, кажется, ниточку вы нащупали…
В дверях показался Васильев.
— Поехали, — заторопился Антонов-Овсеенко, прощаясь с удрученным предчека и вышел в приемную. — Дедушка! — окликнул он Фрола Петровича. — Ты не заснул ли?
— До сна ли мне! — сердито проворчал Фрол Петрович.
Антонов-Овсеенко надел шинель, и все вышли за ним.
4
В тюрьме еще было сотни две мужиков. Наведение справок, выяснение степени их участия в мятеже требовали немало времени. Сидел вместе с ними и Андрей Андреевич. Против него у следователя были тяжкие улики. Утверждает, будто самый бедный мужик в селе и вместе с тем признался, что был в антоновском комитете. Антонов, как выяснилось дальше, дал ему лошадь. Отступал от красных. Подозрительно настойчиво выяснял местонахождение штаба коммунистического отряда…
Чтобы установить доподлинную правду, надо было обратиться по месту жительства Андрея Андреевича, но Дворики заняты антоновцами. Могли бы помочь следователю двориковские мужики, захваченные в «плен», но они сидели в общей камере, а Андрей Андреевич в камере «активистов». Спросить о нем односельчан забыли, а когда Андрей Андреевич навел на эту мысль следователя, было уже поздно: двориковских мужиков отпустили. Забыл занятый тысячью дел о просьбе Листрата Антонов-Овсеенко.
И сидел бедняга, упорно твердя следователю, что он, того-этого, вовсе-вовсе безвинный, и обливался горючими слезами, вспоминая ребятишек.
Вместе с прочими подследственными его вызвали в камеру для свиданий, когда туда пришли Антонов-Овсеенко, Васильев и Фрол Петрович. Этот ахнул, увидев дружка. Тюрьма никого не украшает, а уж об Андрее Андреевиче что и говорить! И без того «ходячая жердь», как о нем говорили на селе, он в тюрьме совсем высох, почернел, глаза помертвели, движения стали вялыми; он едва ходил. Увидев Фрола Петровича, Андрей Андреевич зарыдал, бросился к нему, всхлипывая, расспрашивал о детишках. Фрол Петрович, сдерживая слезы, утешал его. Антонов-Овсеенко и Васильев молчали, пока длилась эта сцена, подлившая масла в пламя, бушевавшее в душе Фрола Петровича. Молчали и мужики, подавленные горем Андрея Андреевича. Потом он успокоился, и Антонов-Овсеенко начал неторопливый разговор. Посыпались жалобы, просьбы; Васильев записывал все, что говорили мужики. Андрей Андреевич бормотал нечленораздельно, с умоляющим видом поглядывая на Антонова-Овсеенко:
— Обманули меня, обманули… И кобыленку, того-этого… Дали и обратно увели… Ахти мне, горемычному! На печке пятеро ребят, под печкой стадо крысят! Как есть я самая распробедняцкая на селе душа…
Мужики не могли удержаться от смеха, а Васильев, улыбаясь, сказал:
— Да выпустим мы тебя, распробедняцкая душа… И всех вас выпустим.
Потом Антонов-Овсеенко начал рассказывать о делах в губернии, о том, как советская власть старается наладить порушенное хозяйство, упомянул о том, что продразверстку, вернее всего, с губернии вот-вот снимут.
Фрол Петрович, слушая Антонова-Овсеенко, вспоминал его разговор с Лениным.
— Не верим, не верим, — скорбно сказал он, когда Антонов-Овсеенко ответил на вопросы мужиков. — Кругом обман, и Ленин твердого слова насчет продразверстки тебе не сказал. Плачет моя душа, товарищ, сердце в запеченной кровушке плавает. Горе мне, седому, темно на душе, помирать впору.
Антонов-Овсеенко, слушая Фрола Петровича, думал:
«Сколько их таких в армяках, с тяжкой думой в голове, с болью в сердце, с надеждой в душе! Сколько сомнений и трепетного страха, боли и страданий! Сколько крови и пота видел русский мужик во все века злосчастной жизни своей!»
«Но придет конец юдоли плача и нищеты, забудут люди о бедах и душевной тоске! Все силы употребит партия для того, но сделает, сделает счастливыми их!»
— Зачем же помирать, дедушка? — ласково-успокоительно заговорил он. — Вы поднялись на нас. Но разве, скажем, ты, Фрол Петрович, хотел братоубийственной войны? Кто подбил вас на открытый мятеж? Кто стал душой и головой восстания, этой кровавой реки, разлившейся по Тамбовщине? Кто у Антонова главный каратель? Знаем: ваш же двориковский мироед Сторожев, кулак и контрик до гробовой доски.
— Точно, точно, — поддакнул Андрей Андреевич, окрыленный мечтой о скорой воле. — Уж алчен, уж жаден!
— А сам Антонов, Плужников, Токмаков, Ишин, — говорил дальше Антонов-Овсеенко с сердечной теплой нотой, обращенной к Фролу Петровичу. — Кто они? Враги-эсеры на службе у самого вашего злейшего врага — кулака. А от кулака рукой подать до помещика и до царя. Ведь у них одна мысль: «Мое не тронь — прижму, кровь высосу, убью». Суди, где правда.
По лицу Фрола Петровича пробежала тень. Несказанная тоска была в его словах.
— Не знаю, где правда. Я себе зарок положил, до самого вашего главного добраться. Там рядом с Лениным, слышали, мужик в верхних старостах ходит. Он, чай, не дозволит еще раз обмануть нас. А тебе, милый человек, за добрые слова поклон, но ты сам под Лениным ходишь, и нет мне тебе полной веры. И слышать тебя больше не желаю, и не спорь со мной.
— Хорошо, Фрол Петрович, — помолчав и что-то прикинув в уме, отвечал Антонов-Овсеенко. — Поедешь ты к Ленину, и всероссийского старосту нашего Михаила Ивановича увидишь… А вас дня через два всех выпустят. — Это было обращено к крестьянам, жадно внимавшим Антонову-Овсеенко. — Погодя позовем ваших делегатов на всегубернское совещание. Будем думать, как дальше с Антоновым быть, как и чем землю пахать, как разрухе положить конец. Бейте нас, ругайте — все стерпим. — Антонов-Овсеенко светло улыбнулся, и заулыбались мужики. — Вот так. Будьте здоровы!
Он направился к выходу. Андрей Андреевич догнал его у дверей.
— Добрый человек, как ты есть главный туточки… Ребятишек-то устроили, и кобылку, того-этого, дали… Из тюрьмы ты меня выпустил, на том спасибо, но Фрол-то, дружок заветный, душой мается. Немочен я его в эстаком виде оставить. Ты уж и меня пиши к Ленину. Кланяюсь до сырой земли…
Антонов-Овсеенко рассмеялся.
— Ладно, поедешь и ты к Ленину.
Глава восьмая
1
Владимир Ильич внимательно следил за событиями на Тамбовщине, читал тамбовские газеты и смежных губерний, куда Союз трудового крестьянства протянул свои щупальца.
В конце двадцатого года и в начале двадцать первого несколько раз вызывал Ленин одного из секретарей Тамбовского губкомпарта, Немцова.
После нескольких бесед с ним Политбюро отправило Антонова-Овсеенко в Тамбов. Однако сведения оттуда становились все более тревожными. Владимир Ильич решил послушать тамбовских крестьян.
Антонов-Овсеенко отобрал делегатов — людей смышленых, которые могли бы внятно рассказать Владимиру Ильичу все, что тому будет нужно. Послали Ивана Кобзева и Василия Бочарова из Пахотноугловской волости, Милосердова и Матвея Евстигнеева из Трескинской — из той, где начинал Антонов свое движение, и еще Федора Панфилова. К ним Антонов-Овсеенко присоединил Фрола Петровича и Андрея Андреевича, полагая, что хоть они и не будут, так сказать, официальными представителями, а просто ходоками, но дела не испортят.
Почти все делегаты сидели в тюрьме, и были среди них люди разного достатка и разных взглядов на советскую власть.
2
За час до начала приема крестьян Ленин вызвал Калинина, нескольких военных, работников Совета труда и обороны, главкома Сергея Сергеевича Каменева. Немцов сидел в сторонке. Ленин что-то читал. Когда все собрались, он поднял усталые глаза, потер лоб, собираясь с мыслями.
— Товарищ Немцов привез докладную записку Антонова-Овсеенко, плод его многочисленных бесед с местными товарищами и с крестьянами, так ведь, товарищ Немцов?
Немцов молча кивнул головой.
— Антонов-Овсеенко утверждает, что только военные меры против мятежников вызовут в крестьянстве еще большее озлобление. Я правильно понимаю ваши общие мысли, товарищ Немцов?
— Да, товарищ Ленин, — оживленно отвечал Немцов. — В первую голову нужны меры экономические.
— Во всем объеме они будут решены на Десятом съезде, — задумчиво молвил Владимир Ильич. Он прошелся по кабинету и говорил как бы про себя. — Вот видите, жизнь — великая и мудрая учительница. Мечтали в мелкокрестьянской стране из коммунизма военного сразу перескочить в коммунизм мирный… Не тут-то было. Потрудитесь, сказала нам жизнь, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете построить сначала прочные мостки к социализму. Что ж, мы привыкли бороться с трудностями, хотя порой они казались нам необъятными, научились еще одному искусству, необходимому в революции: гибкости, умению быстро и резко менять свою тактику, учитывая изменившиеся объективные причины, выбирая другой путь к цели, если прежний путь оказался нецелесообразным, невозможным… Всякое болтают наши други и недруги, советов — куча… Но от одного не уйти нам. Пролетарское государство должно стать осторожным, рачительным, умелым хозяином… Иначе оно мелкокрестьянскую страну не поставит на ноги. Иного пути перехода к коммунизму нет.
Казалось, Ленин просто раздумывал вслух, шагая по кабинету из угла в угол, привычным жестом заложив пальцы за проймы жилета. Мысли опережали его речь, говорил он быстро, и тогда картавинка, придававшая ленинскому говору особую прелесть, звучала явственней. Иногда он останавливался у стола и энергичным взмахом ладони подчеркивал какое-нибудь слово, порой стоял у окна, в которое лился сумрачный февральский свет.
Все слушали его с вниманием, достойным того, о чем говорил Ленин. Он ни разу не сбился, не потерял главную нить рассуждений.
Потом снова сел и, помолчав, сказал:
— Это общие замечания, но они имеют прямое отношение к тому, что делается в Тамбовской губернии. Крестьяне требуют личного интереса. Против этого не попрешь, иначе крестьяне снова поднимутся против нас. Но прежде всего они требуют отмены продразверстки. Тамбовские товарищи настаивают на немедленном нашем решении.
— Думается, — послышалась ровная, спокойная речь Калинина, — главное в том, чтобы мужик поверил в серьезность нашей новой экономической политики, и что она надолго. Это сразу оторвет от Антонова тысячи середняков.
— Правильно, правильно! — сказал Немцов.
— Да, конечно, — послышался чей-то резкий голос. — Разумеется, все это необходимо. Но без доброго удара не обойтись.
Ленин круто повернулся к тому, кто сказал это.
— Удара — по кому?
— По восставшим, разумеется, — прозвучал тот же надменный голос.
— Но в восстании замешаны тысячи обманутых Антоновым и обиженных нами людей. Их бить? И поднять еще тысячи против нас?
— И не только на Тамбовщине, — заметил Немцов, — но и в соседних хлебородных губерниях.
— Где Антонов тоже нашел зацепку, — вставил Калинин. — Знает, чем нас взять. Голод не тетка.
— На днях тамбовские и орловские товарищи, — теребя бородку, заговорил Ленин, — попробовали ударом топора в лоб прикончить Антонова. Что вышло? Конфуз. Кто благословил эту заранее обреченную на провал операцию? Вы, товарищ. — Это было сказано резко, с суровым взглядом в адрес того, кто предложил «бить по восставшим». — Вы и наш главком.
— Нет, так не годится, — продолжал Ленин. — Без удара не обойтись, разумеется, но направить его надо в военную и политическую силу антоновщины — в кулака. Те, кто вовлечен в эсеро-кулацкий мятеж силой обстоятельств, — а в них повинны и мы, — тех удар коснуться не должен. — Это прозвучало тоже сурово и четко. — Теперь о просьбе тамбовских товарищей… Тщательно ли продуман вопрос о досрочном снятии продразверстки с Тамбовской губернии? Как это отразится на нашем хлебном балансе?
Кто-то из работников Совета труда и обороны доложил, что, конечно, эта мера создаст добавочные трудности в снабжении городов хлебом, но политический эффект ее неоспорим.
— Хорошо. Политбюро принципиально дало согласие на этот шаг, — сказал Ленин, выслушав специалиста. — Будем считать, что вопрос решен.
Послышался гул одобрения.
Ленин взял лист бумаги, быстро исписал его, передал Немцову.
— Прошу вас, передайте эту телеграмму секретарю, пусть срочно пошлют в Тамбов. И пригласите, пожалуйста, крестьян, они, вероятно, заждались. Вы свободны, товарищи, спасибо, Товарищ Каменев, прошу вас задержаться.
Вызванные Лениным ушли. Владимир Ильич жестом пригласил Калинина присесть рядом и обратился к Каменеву:
— Так что там получилось с этой операцией Орловского округа?
Каменев коротко рассказал, как было дело. Ленин пожал плечами.
— Удивительно! И с чьей это легкой руки появилось у нас эдакое расейское бахвальство?
Каменев кивал головой и нервно кусал седые усы.
— А теперь оказалось, — сердито проворчал Ленин, — что без вмешательства центральной власти к Антонову ни с какого бока не подобраться. Теперь оказалось, что и мужиков надо отворачивать от Антонова чрезвычайными мерами. Хорошо, — успокоившись, обратился он к главкому. — Что же дальше?
— План решительных военных действий против антоновщины в общих чертах готов, Владимир Ильич. Антонов-Овсеенко и местные товарищи одобряют его кое с какими поправками частного характера.
— У вас с собой план?
— Так точно. — Каменев, густо откашлявшись, вынул из объемистого портфеля пачку бумаг. — Вот здесь изложены главные идеи операции. Начать ее можно будет не раньше мая. В этом документе указан состав частей и количество боевого снаряжения, которое придется отправить в Тамбов.
Ленин начал читать бумаги, передавая прочитанное Калинину.
Немцов вошел с крестьянами. Ленин, оторвавшись от бумаг, с любопытством оглядел их, извинился, сказал, что через несколько минут будет свободен, и снова занялся бумагами.
— А нас иногда кормили просто баснями! — рассерженно воскликнул он, прочитав одну из бумаг. — Хорошенькая банда, против которой надо посылать сорокатысячную армию с аэропланами, броневиками, бронепоездами и ставить во главе ее наших лучших командиров.
Калинин рассмеялся. Потом снова углубился в чтение.
Крестьяне оглядывали кабинет, шумно вздыхали. К ним подошел Калинин, поздоровался со всеми. Фрол Петрович, выставив корявую ладонь лопаточкой, потряс руку Калинина и справился:
— Это не ты ли в верхних старостах ходишь?
— Да вот, пришлось.
— Ты уж нас в обиду не дай.
— Как можно!
— Сам-то из каких будешь?
— Из тверских.
— Хозяйство имеешь?
— Да, есть. Летом выезжаю туда, помогаю старикам.
— Вот это дельно. Мать-отца забывать негоже. — Фрол Петрович проникался все большим уважением к этому человеку в простой одежде, в очках, с бородкой, с глазами чисто мужицкими: в них и ума палата и хитрости не занимать стать.
— А скажи-ка, — шепнул он, — не тот ли вон Ленин? — Фрол Петрович показал на главкома Каменева.
— Да нет, дед, — посмеялся Калинин. — Вон тот.
— Росточком невелик, — с сомнением проворчал Фрол Петрович, — а лбище огромадное. Н-да… Председатель всея России, поди, тысячи загребает, а пинжачок так себе, немудрящий.
— И локотки светятся. — Андрей Андреевич покачал головой.
— Какие там тысячи! — отмахнулся Калинин. — Получает жалованье, как и вое мы. Хотели ему надбавку сделать, так он того, кто подписал приказ, чуть не запилил. А уж выговор ему закатил — век будет помнить.
— Скажи! Строг оченно, поди? — спросил кто-то из мужиков.
— Это смотря к кому.
Ленин кончил читать бумаги, вернул их Каменеву, попрощался с ним.
— Хорошо. План будет предметом серьезного обсуждения в Политбюро и в Совнаркоме. Прошу держать меня в курсе всех ваших начинаний. И поменьше победоносных реляций. Читать тошно, да и не буду верить.
Каменев вышел, Ленин подошел к мужикам, вежливо потряс руки.
— Простите, товарищи, задержался.
— Да оно и немудрено, — возразил кто-то из мужиков. — Вся Русь на плечах.
— Ну, не только на моих. Вот что, сперва договоримся: кто старое вспомянет, тому глаз вон.
Мужикам понравилось заявление Ленина, они задвигались, заулыбались. Только Фрол Петрович сидел насупившись. Настороженное и недоверчивое выражение не сходило с его угрюмого лица.
— И еще замечу, — добавил Ленин. — Мы понимаем: вы недовольны, справедливо недовольны и имели для недовольства глубочайшие основания. Так скажите, что вам от нас надо и в чем главное ваше недовольство?
Начал кряжистый, с проседью мужик.
— Скажу, товарищ Ленин. Вот, к примеру, рядом с нами именье князя Лихтенбергского. Три тысячи десятин. Тысячу отдали нам, две — под совхоз. Ладно. И мы понимаем: государству надо свой хлеб для страховки иметь. Но ведь что в совхозе над землей вытворяют? Пашут кое-как, сеют чем попало. Урожаи — курам на смех. Ни себе, выходит, ни нам… Опять же картошку подчистую выгребают, гноят… А продать не смей. Соли, одежки, обувки нету, продразверстка дыхнуть не дает. Ну, зашумели мужики, а тут Антонов объявился. Я, мол, научу вас, как волю и землю добыть… И началось.
Один за другим жаловались мужики на тяготы, на разруху, на притеснения, обижались, что не стало мужику веры, а от того хозяйство прахом идет и хлеба нет в достатке.
Ленин, склонившись к Немцову, справлялся у него о фамилиях мужиков, откуда они, каков их достаток. Поблескивая очками, внимательно слушал мужицкие сетования Калинин. Последним говорил молодой крестьянин. То ли с перепугу, то ли, чтобы подладиться к Ленину, он начал превозносить все и вся.
Фрол Петрович не выдержал. Когда крестьянин сел, Фрол Петрович начал возбужденным и срывающимся голосом:
— Да что ж тут плетут, что брешут? Этот все маслицем мажет: все, мол, у нас в полном благополучии, тот — насчет картошки, что, мол, гноят. — Он встал и говорил гневно, обращаясь к Ленину. — В семнадцатом, когда декрет нам зачли насчет мира и земли, мы вам вот как поверили! А что дальше пошло?
Голос Фрола Петровича гремел в кабинете.
— Мироеда и работящего мужика под единый корень сечь, коммуну на нас натравлять, наше добро им отдавать. На войнах моря-окияны нашей кровушки пролили! Про рай земной разные красные слова говорите, а земля сирая лежит, народ духом и телом нищ, веру потерял в бога и черта. Царя и бар, слава те господи, ссадили, вас на шеи свои посадили. Назад оглянусь — худо. Вперед гляжу — темно. Опять словесами начнешь улещивать? Не поверим, и не спорь со мной!
Ленин, прислонившись к книжному шкафу, безмолвно внимал Фролу Петровичу. Фрол Петрович сел и мрачно сказал:
— Теперь казни или милуй, все едино. Без правды жить немочно.
Все молчали. Калинин, склонив голову, шевелил губами, словно повторял то, что сказал Фрол Петрович, и хмурился. Невесело было и мужикам.
Ленин прошелся по кабинету, подошел к Фролу Петровичу, сел рядом.
— Казнить вас, товарищ, не за что. Мы слышали крик души, и не только вашей. Прикидываться перед вами безгрешными не собираемся, и улещивать вас — напрасный труд. Правда, не мы затеяли гражданскую войну и не от доброй жизни чистили ваши закрома. Рабочие голодали и голодают до сих пор. Голодная армия дралась и победила всех генералов и атаманов. Кто ее кормил? Вы! Вашим хлебом мы спасли революцию, а стало быть, и вас. От кого? Вы сами сказали: слава богу, ссадили царя и бар. А кто ехал в обозе белых генералов? Кто бы пришел следом за Антоновым? Помещики, чтобы опять сесть на ваши шеи, отобрать землю, которую вам дала советская власть. Капиталисты ехали, фабриканты и заводчики, чтобы отобрать у рабочих фабрики и заводы, снова завести каторжный труд, бесправие, темноту, чтобы продать все, что можно, капиталистам заграничным. Иные комиссары насильничали? Хапалы, как вы сказали, в коммуну поналезли? Да ведь к любому, даже самому чистому делу примазываются разные мерзавцы. Но ведь и вас подняли на мятеж грязные и продажные люди, ваши враги — кулаки, их наемники — эсеры. Вот у вас еще стреляют, а кругом война окончилась. Нам позарез нужен хлеб… И все-таки советская власть пошла на то, чтобы отменить продразверстку и ввести натуральный продовольственный налог.
— Не верю! Не верю! Слышал, как ты со своим уполномоченным по нашей губернии в трубку разговаривал. Одни словеса… — Фрол Петрович отчаянно замотал головой.
— Экий ты, дед! — укорил его Немцов с сердитой нотой.
Ленин улыбался.
— Михаил Иванович, прошу вас, попросите у секретаря документы о продналоге и новой экономической политике и копию телеграммы в Тамбов о снятии продразверстки с губернии.
— С нашей? — хором спросили мужики.
— С вашей, с вашей, — улыбнувшись, бросил Ленин.
Калинин ушел. Ленин снова начал задумчиво:
— Конечно, тяжело было, что и говорить! Семь лет войны — это понять надо! Даже в передовых странах четыре года войны сказываются до сих пор. А в нашей отсталой стране, после семилетней войны, — это прямо состояние изнеможения у рабочих, которые принесли неслыханные жертвы, и у массы крестьян… Это изнеможение, это состояние, близкое к полной невозможности работать… И мы это понимаем. И знаем, что вы особенно устали… Ну, что было, то было. Сейчас пришло время передышки, хотя работы, скажу, гора! Ох, какая гора, если бы вы знали!
Мужики сочувственно вздыхали.
Вернулся Калинин с бумагами.
Ленин читал их, потом говорил о том, какая война навалилась на советскую власть, и почему разверстке не миновать было быть, и как в Москве ломают головы над мужицкими делами.
Мужикам его речи очень нравились, а Андрей Андреевич не вытерпел:
— Заблудились мы. Ровно, того-этого, в дремучем лесу бродим. Путя бы нам показать, свету щелочку.
— И пути ваши видим, и свет впереди, — дружелюбно похлопав по тощему плечу Андрея Андреевича, сказал Ленин. — Жизнь вашу облегчим и все для того, чтобы вы могли прочно хозяйствовать, сделаем. Не спеша, не ломая, не мудря наспех, храня государственные интересы и интересы рабочих. Уж за интересы рабочих, вы знаете, мы стоим и постоим горой. Но и рабочий класс постоит за вас. В семнадцатом году рабочий и крестьянин протянули друг другу руки и вместе свалили царя и буржуев. Рабочий и крестьянин всегда будут вместе: в этом, только в этом наша победа. Много мы пережили, много перебороли и переборем все, что может быть на нашем пути.
— Так скажи, какие же эти пути будут? — с отчаянием в голосе заговорил Фрол Петрович.
— Вот-вот, в этом и есть главная суть, — оживленно начал Владимир Ильич. — Послушайте. Мы посчитали: пять миллионов сох оказалось в наших деревнях. Но ведь есть же у нас плуги, сеялки, молотилки, двигатели. У кого они? Не у мироеда ли?
— Именно, именно, — торопливо подтвердил Андрей Андреевич.
— Да, да! Помещик и мироед душили и вас кабалой, потому что были богаты землей и машинами. Вы подумайте, сколько каторжного труда, сколько пота вы проливали, шагая с утра до ночи за хилой лошаденкой, которая и соху-то едва тащила! А мы… Мы мечтаем посадить вас на такую машину, которую вы еще не видели. Она называется трактором. Каждый трактор — замена десяти, двадцати лошадям. Сто тысяч тракторов — и мы переделаем лицо нашей деревни, лицо всей нашей земли и не будет страны богаче и сильнее во всем мире.
Крестьяне зашумели вразброд:
— Двадцать лошадей!
— Сто тысяч машин!
— Уж не обидь и наш край!
— И когда машина появится на наших полях, — с той же живостью заговорил Ленин, успокаивая мужиков едва заметным жестом, — когда электрический свет зальет города и села, когда не каждый отдельно будет обрабатывать поле, а общим, артельным трудом, вот тогда вы убедитесь, кто хочет вам добра.
— Ох, далеко до того времени, батюшка, — Фрол Петрович покачал седой головой.
— Далеко? — Ленин задумался. — Да нет, пожалуй. Двадцатью годами раньше, двадцатью годами позже, но время это придет. И уж будьте уверены, и эту задачу решим. Союз рабочих и крестьян создадим такой прочный, что никакой силе на земле его не расторгнуть.
Потом Ленин заговорил о личном интересе крестьян… Андрей Андреевич сладко жмурился. Все, о чем говорил этот рыжеватый, складный собой и очень уж ласковый к ним человек, так похоже на то, о чем мечтал он и его соседи. Только в кучку свои мысли они не могли свести, а этот так и точает, так и точает, и эдак-то славно у него получается.
«Личный антирес! — думал Фрол Петрович. — Выходит, стало быть, что поработаешь, то и полопаешь, и грабануть тебя никто не посмеет. Что ж, оно вроде ничего, ежели опять не обманут».
Но то, что потом сказал Ленин, почти развеяло сомнения Фрола Петровича.
— Налог, который мы вводим вместо продразверстки, как бы слышали, будет установлен в размере наименьшем, — сказал он, а мужики зашевелились, зашумели вразброд, заулыбались.
— Вот уж это подходяще!
В разговор вступил Калинин.
— Каждый из вас, — начал он, — наперед узнает, что он должен отдать государству на содержание школ, больниц, армии и прочего хозяйства.
— А не сказки ли ты нам загибал, Михаил Иванович? — Фрол Петрович верил и не верил. Слишком уж много сказано такого, о чем и он думал эти годы.
— Да не обидим вас, Фома неверующий. Ей-богу, не обидим. Ведь я сам из вашего брата, и недаром вы меня избрали всероссийским старостой. Уж я послежу, чтобы правительство сделало все, как тут было сказано.
Повеселевшие мужики хлопали Калинину. Потом Ленин снимался с ними. Фотограф наводил трубку, чиркал какой-то машинкой. Фрол Петрович вздрагивал.
Когда фотограф ушел, Фрол Петрович попросил Ленина, чтобы ему дали с собой «бумаги». Ленин пообещал, попрощался с мужиками, попросил Калинина устроить им проезд до Тамбова, снабдить продовольствием.
Фрол Петрович от поезда начисто отказался.
— Нет уж, мы с Андреем пёхом попрем. Сам желаю узнать, тихо ль на русской земле, что мужик думает, бумаги ваши ему почитать, речи ваши пересказать. — Он отвесил поясной поклон Ленину и Калинину. — Вроде бы просветлело у меня на душе. Воистину, все в миру перемешалось. Не бог, а человек сказал: «Да будет свет!» — и стал свет. Спасибо на добром слове. Но на сердце злоба лютая: обмана Антонову не спущу… — Он подумал и заметил, обращаясь к Ленину. — А пинжак этот сыми. Негоже в эдаком-то виде ходить. Как-никак председатель над всей Россией.
Ленин снова залился смехом.
— Да есть у меня новый, есть, надеть забыл!
— А ты женке скажи, чтоб напоминала. Ну, пошли, братцы.
Они ушли с Калининым и Немцовым, а Ленин долго стоял у окна и думал об этих людях и о тех, кто еще бродит во тьме, там, где гуляют февральские метели на безбрежных пространствах.
3
В Тамбов Фрол Петрович и Андрей Андреевич приехали к началу губернской крестьянской конференции. Делегатов выбирали на тайных сходках, мир снабжал их харчами в путь-дорогу, и потянулись мужики к Тамбову. Шли глухими дорогами, обходя села, в виду Тамбова останавливались… Сомнения и страх грызли их: а вдруг все посулы — обман? Крестились на колокольни, видимые издали, садились, вздыхали, передумывали тяжелую беспокойную думу. Иные возвращались назад, но те, кто обретал мужество и вспоминал воззвание, простые, сердечные слова насчет посева и прочего, потуже подпоясывали пояса, оправляли онучи и твердым шагом приближались к городу.
На заставах их встречали военные люди, спрашивали мандаты или решения сходок. У кого не было таких бумаг — тоже впускали, сажали на подводы и везли туда, где размещались уже приехавшие делегаты.
Светлые комнаты, постели с одеялами и простынями, подушки пуховые, ах, господи, благодать-то какая! И харч! Тут тебе и селедка, и щи «с куском», и каша с маслом, и чаю наливают полной мерой, и сахару дают. Эк житье!.. Век бы не выходил из этих хором?
Потом повели на конференцию.
И там ко всем с лаской и добрым словом, а «оратели» говорят только о сельской нуждишке, попреками не попрекают, насчет Антонова говорят круто, но учиненные ранее безобразия не скрывают.
— А самый-то главный, слышь, Андрей, — шептал Фрол Петрович на ухо дружку, — во-он тот, что в очках и при длинных волосьях. Уж так-то он просто и понятно докладает о наших, значитца, бедах да как над нами издевку чинили и те и эти. Эка, как душевно разговорился! Ей-богу, аж слезой прошибло!
Глядя на «орателей», вспоминая, как их привечали, ободренные смелыми словами и признанием ошибок, делегаты раскрывали рты.
— Речи их корявы и иной раз туманны до невозможности, но… Слышь, Андрей, глянь на Антонова-Овсеенко. Ишьты, как он Андрона с Выселков слушает! Так и уперся в него очками, и слова-то, слова-то на лету схватывает и все в тетрадку чиркает, все в тетрадку чиркает! Давай, Андрей, и я выскажусь. Была не была!
И вот выходит Фрол Петрович и начинает говорить про то, как оно было и что такое стряслось, да как повинны в том и кое-кто из начальства. Работали, мол, они «нежелательно», и бестолочи было очень предостаточно, а примазавшимися хоть пруд пруди, и все с мужика лыко драли, ровно он липка.
И пошел Фрол Петрович рубить направо и налево, а Антонов-Овсеенко улыбается, хлопает Фролу Петровичу, Подбадривает его словами, кричит: «Правильно, товарищ! Сообща возьмемся за насильников и бездельников, примазавшихся к Советам!»
Делегат от Горелого, что в двадцати пяти верстах от Тамбова, прочитал приговор сельского общества:
«Гоните прочь хулиганов и мародеров, нарочно не дающих заняться мирной работой. Гоните волков в овечьей шкуре. Мы постараемся преодолеть все препятствия. Думаем, и советская власть справится с недостатками в нашем государстве. Дружным коллективом и трудом восстановим хозяйство и тем поможем истинному защитнику нашему — советской власти!»
Потом посыпались решения сельских сходок, волостей и районов.
Встал Антонов-Овсеенко и сообщил новость, которая разом подняла делегатов на ноги, и мужики колотили в ладоши так, что грохот рукоплесканий эхом отдавался в зале.
Антонов-Овсеенко говорил о решении советской власти снять с Тамбовской губернии продразверстку и отозвать продовольственные отряды.
— Центральная власть, — продолжал он, — решила сильно увеличить материальные кредиты для снабжения крестьян инвентарем, хлебом, семенами, керосином, солью и другими товарами.
Снова гул голосов и аплодисменты.
Обращение к крестьянам губернии принимается единогласно: взяться вместе с советской властью за скорейшее исправление прошлых ошибок, готовиться к посеву, помочь власти и партии изжить главных врагов: Антонова, голод и хозяйственную разруху.
Делегаты покидали Тамбов и светлые хоромы с обильными харчами не совсем охотно. Впрочем, их не торопили. Они ходили по учреждениям, рассказывали о своих нуждах, и там были с ними очень вежливы и ни одно слово не пропускали мимо. Поди пропусти! Антонов-Овсеенко все знает, все видит и бюрократов ненавидит.
Пятьсот делегатов возвращаются в деревни. В их котомках и решение снять продразверстку. Пятьсот человек расскажут о том, что они видели и слышали, прочтут «бумаги». Их будут слушать тысячи. Быть может, кто-то не поверит им, быть может, многих Сторожев вычешет плетьми, забьет языки в глотку, отберет «листы», но ведь всем рот не заткнешь!
И вот шумной толпой гуляет по Тамбовщине слух: советская власть за мужика встала!
Глава девятая
1
Из Тамбова друзья шли пешком.
Андрей Андреевич бормотал что-то, улыбался, осматривался по сторонам — широка, беспредельна лежала перед ним равнина.
Перекатываясь с бугорка на бугорок, уходила она к горизонту. Там и здесь виднелись леса и перелески.
Увидев сельскую церковь, — на ее крестах искрились лучи солнца, — друзья стали на колени, помолились, поцеловали родную землю и быстро зашагали к селу.
Оно только что просыпалось, из труб шел дым: хозяйственные бабы были уже на ногах.
В утренней тишине раздался набат.
Сонные мужики на ходу застегивали одежду, валили на улицу. У каждого снова екнуло сердце: какая еще тревога, где враг?
И вот волнуется крестьянская громада перед церковью. Людей собралось не меньше, чем в тот памятный день, когда эсеры лживыми посулами соблазняли мужиков на мятеж. Не слышно было призывного клича труб, не видно Мундиров антоновцев. Здесь был народ — один на один с теми, кто побывал у Ленина, кто привез от него правду и утешение во всех скорбях.
На паперти увидели мужики Андрея Андреевича, помолодевшего, веселого. Он размахивал бумагой, кричал что-то, захлебываясь от радости. Ему хотелось расцеловать всех, обнять весь свет.
Потрясенные мужики слушали его и не верили: неужто конец черной жизни?
— Перьвым делом, мужики, — начал Фрол Петрович голосом, полным достоинства, — поклон вам от Ленина и Калинина. — Он поклонился на все четыре стороны. — Мы это к ним с волнением, а они об ручку здоровкаться. Какое, мол, у вас сумление, в чем нужда? Ну, смотрим на Ленина, диву даемся: рыжеватый такой, росту невеликого, с картавинкой. Не шумит, не грозит, в грудя себя не лупцует, а идет напротёс: вы, мол, недовольны и законно недовольны. Человеческий человек, мир, ей-богу!
— В пинжаке ходит, — пояснил сзади Андрей Андреевич.
— И то, и то, — оживился Фрол Петрович. — Локотки, вижу, на пинжаке потертые. Дюже я на него рассерчал. Раз, говорю, над Русью голова — должóн вид иметь. А он заливается над моими, то есть, словесами, он заливается. Ну, разговор пошел. Мужик один начал было углаживать… Другой про картошку попер… А я на дыбки! И пошел резать… И про душевную тоску нашу, и о чем мужик сокрушается…
— А он?
— А он Фрола слушает, — опять высунулся Андрей Андреевич, которому не терпелось похвастаться тем, что видел и слышал. — А у самого личико в испарине, лоб в гармошку. Дошло, стало быть. Мы, говорит, знаем, что вы, того-этого, недовольны, только кто старое вспомянет, тому глаз вон. А теперь, говорит, конец вашей беде.
— Верно, — понеслось из толпы. — Пора бы уж…
— Измаялись…
— Давай дальше, Фрол Петров!
— Ну, напоследок на меня дюже рассерчал. Фома, говорит, неверующий! Словам не веришь, — чти бумаги за моим подписом. Разверстку долой, — вот, мол, депеша, в Тамбов властям только что отправлена. Справедливый налог образуется заместо, стало быть, разверстки.
— Сказками кормят!
— Антонов тоже всякое обещал…
— Одной масти! Обдерут.
Фрол Петрович затрясся. Краска прилила к лицу. Губы побелели от гнева.
— Это кто ж со мной спорить желает? — возвысив голос, бросил он в толпу. — Спорщики нашлись, тоже мне! Обдерут! Самим Лениным писано: налог вдвое меньше разверстки, чуете ли?
— А тут Калинин пошел чесать, — заговорил Андрей Андреевич. — Куда, говорит, хотите, хлеб девайте, ваша воля. Фабрики, того-этого, запущают, всякого товару нам предоставят. Рабочие, мол, с вами заодно и нуждишки ваши вполне понимают.
— Не верится что-то…
— Так я вам, невежам, листы зачту! — гневно крикнул Фрол Петрович. — Декрет при себе имею, темный вы народ.
— Декрет — это дело.
— Давно о нем слух гуляет.
— Чти, Фрол!
На паперть вышел учитель, внятно прочитал телеграмму Ленина в Тамбов, обращение крестьянской конференции, бумаги, данные Фролу Лениным. Едва он успел кончить и передать бумаги Фролу Петровичу, Сторожев с отрядом вохровцев ввалился в село. С ним была Марья Косова: она ехала в Каменку с докладом о положении в дальних районах, встретила Сторожева и присоединилась к нему.
Приказав вохровцам оцепить толпу, Петр Иванович и K°сова, расталкивая народ, проследовали к паперти.
Народ замолчал, но было в этом молчании что-то зловещее.
— А-а, Фрол Петров, Андрей Андреевич! Давно не виделись. Болтают, у Ленина были? — с деланным добродушием заговорил Сторожев.
— Были, точно были, Петр Иванович, — чуть побледнев, горделиво ответил Фрол Петрович. — По-людски встретили, по-человечески проводили. Объяснили нам нашу глупость.
Косова, помахивая плетью, презрительно выдавила:
— Обманули вас, дураков, а вы уши развесили! Взять бы их обоих, Сторожев. Большевиками куплены, ясно.
Толпа взревела:
— Молчи, шлюха!
— Попробуй возьми!
— Почему обманули? — хладнокровно проговорил Фрол Петрович. — Шли мы из Москвы до Тамбова, обратно из Тамбова до села, народ к севу готовится, над нами надсмехаются: неужто, мол, саламатники, еще воюете незнамо за что?
— Так, так! — Сторожев еще сдерживал себя. — Бумаги, слышь, привезли? А ну, дай, полюбопытствую, что там набрехано.
Фрол Петрович безбоязненно отдал бумаги Сторожеву. Тот прочитал, сунул в карман.
— И вы верите этой писанине? Опять коммуния вас облапошила! — И вдруг ярость прорвалась наружу. — За каждый такой лист повешу! — рявкнул он.
Толпа, следившая за каждым его движением, разом подалась вперед. Никто не кричал, никто не угрожал Петру Ивановичу, но он-то знал — одна промашка с его стороны и не помогут ему вохровцы.
— Отдай бумаги, — злобно процедил Демьян Косой. — Слышь, кому сказано, отдай!
— Не гневи народ, Петр, — задыхаясь, сказал Фрол Петрович. — Отдай листы.
— Взять обоих! — крикнула Косова, и Сторожев подумал, что сейчас ему будет конец. Вот дура баба!
Толпа с рычанием наступала на них, В воздухе замелькали дубинки, кто-то бросился к церковной ограде и начал вырывать колья. И тут Косова сделала еще одну глупость.
— Расходись! — заорала она. — Стрелять будем!
— Стрелять, мерзавка? — взревел Демьян Косой. — В кого?
— Бей их, мужики, они правду прячут!
Этот вопль был подхвачен всеми. Вохровцы ничего не понимали: Сторожев молчал, молчал потому, что впервые испугался мужиков до дрожи в коленях.
— Помолчи, Марья, — прошипел он и примирительно обратился к мужикам. — Эк, расшумелись! Нужен мне Фрол. Испужал он меня своими листами. Идите, братцы, по домам. Иди, Фрол, нечего народ смущать.
— Не-ет, — Фрол Петрович упрямо потряс головой. — Я теперича до самого Антонова пойду. А ну, скажу, ответствуй, когда эту канитель кончишь?
Толпа, забыв о Сторожеве, одобрительно зашумела.
— Скажи, устал, мол, народ!
— Пахать скоро надоть, а они воюют.
— Довольно, мол, сытехоньки.
— Опять же листы!
И тут, вспомнив о бумагах, отобранных Сторожевым у Фрола Петровича, толпа снова накинулась на него.
— Отдай листы, Петр! Отдай сей же час!
Сторожев скривил губы, вынул бумаги и молча протянул Фролу Петровичу. Тот бережно свернул их, положил за пазуху и обратился к народу:
— Идите домой, мужики. Поутру ждите меня с ответом от Антонова.
— Поберегись, Фрол! — предупреждающе крикнул Демьян Косой. — Убьют!
— Не убьют, — торжественно молвил Фрол Петрович. — А и убьют — меня только. Правду им не убить, вечная она.
Он сошел с паперти и, окруженный оживленными людьми, пошел к дому. Андрей Андреевич рысью кинулся к себе. Сторожев смотрел им вслед и думал:
«Все прахом идет, нет под ногами твердости. Все зыбко, все шатается… Какую силу я им показал? Этих двух на глазах у них взять не смог… А они-то взвыли! Что будет, что будет?..»
Весь день и вечер допоздна шли в селе разговоры о налоге, о новой жизни. Антоновские комитетчики боялись показываться. Исчезли и милиционеры.
2
По дороге в Каменку Фрол Петрович заночевал у сестры в Грязном и здесь рассказал он, о чем рассказывал в Двориках: о Ленине и ласковых его речах, о том, что тихо в других губерниях, не слышно о мятежах и боях.
А рано утром приехал Сторожев из Двориков, где он уже успел до полусмерти избить Андрея Андреевича, как волк рыскал по Грязному, искал листы, что привез с собой Фрол Петрович, не находил, избивал упорствующих в молчании мужиков, ничего от них не добился и, разъяренный, уехал в Каменку, захватив с собой Фрола Петровича.
Сунув его в смрадный подвал, где томились десятка полтора заключенных, он разыскал адъютанта Антонова, рассказал о происшествиях в Двориках и Грязном.
— Главного смутьяна, старикашку одного, я приволок. Посадил в каталажку, но что с ним делать, знать не знаю.
Адъютант пошел с докладом, а вернувшись, разрешил Сторожеву зайти к «самому». В дверях Сторожев столкнулся с мрачным Санфировым.
— Что там? — спросил его Сторожев, услышав пьяную песню в кабинете.
— Гуляют! — Санфиров сплюнул и смачно выругался. — Смутно у меня на душе, Сторожев. Не то я думал увидеть…
— Пошел-ка ты со своей душой, — грубо оборвал его Сторожев. — Тут такие дела затевают красные — держись! — Он постучался и вошел в кабинет.
Антонов, Косова, Герман и Ишин пили. Герман играл на гармонике и орал во всю глотку:
Пулеметы затрещали, Александр кричит: «Ура! По колени в крови стану, Чтобы власть была моя!»— В-верно, на коленки! — выкрикивал Антонов с блуждающим взглядом. — Всех, всех! Ничего, м-мы с мужиком еще столкуемся. Эй, Сторожев, где старик?
— Да в каталажке он, Сашенька, — отвечала Косова, растерзанная и пьяная. — В подвале он, миленок, ожидает царствия небесного.
— Привести! — распорядился Антонов. — Ну, чего уставился? — крикнул он Сторожеву. — Иди веди.
— Избили его мои ребята, — хрипло сказал Сторожев. — Пусть отлежится малость.
— П-пусть, — согласился Антонов. — А п-потом веди. У-у, звериное племя! — с угрозой бросил он вслед вышедшему Сторожеву. — Гуляй, братва, наша берет! — И запел фальшивя:
Мы пить будем, гулять будем, А смерть придет — помирать будем!— У Ленина был, — бормотал между тем Ишин. — Ск-кажите, пожалуйста! П-правду какую-то приволок! П-правда! Ха-ха!
— Да брось ты, Иван! — выдавила из себя Косова. — Какая там правда! Нет ее. Сам же сказал: во щах слопали.
— Верно, Марья, верно! Какая там, к дьяволу, правда! — Ишин махнул рукой. — Хотите, расскажу сказку?
— Г-говори!
— В одном царстве, — начал Ишин, — за морями-океанами, за черным погорелым лесом жил царь. И было у него сто сыновей, и любили они одну бабу, подлую-расподлую…
— Вроде тебя, Марья, — Герман захохотал.
— Ну, ну! Ты! — вскипела Косова.
— Такую же злую, как ты, Марья…
— Эй, Ванька, помолчи, не то душу выбью! — Марья взялась за револьвер.
— Ладно, шучу… И та баба продала сатане свою душу… Вот призывает ее царь и говорит: «Мои сыновья люди злобные, из-за тебя топорами секутся. Полюби кого-нибудь из них, а то будет всем нам плохо». И сказала та баба: «Я того полюблю, кто сделает самое страшное, что только может сделать человек». Разошлись братья по белу свету, и били они людей, и жгли их дома, и землю портили, и груди у женщин вырезали, и младенцам распарывали животы. Но та баба смеялась. «Нет, — говорила она, — это еще не самое страшное…» Тогда пошел по миру младший брат, самый из всех братьев свирепый, разыскал он правду, приволок к той бабе и удушил на ее глазах. И сказала баба: «Вот ты сделал самое страшное. Только не могу я тебя полюбить, добрый молодец! Раз нет правды, то и любви быть не может». Рассердились братья на ту бабу, убили ее, разрезали на сто кусков и выбросили на свет божий, и сто собак жрали ту бабу, а сожрав — все подохли!
— Саша! Да что же это он рассказывает! — крикнула Марья. — Над душой моей смеешься? Повешу!
— Нет правды на свете, не повесишь! — загрохотал Ишин.
Сторожев ввел Фрола Петровича. Тот бестрепетно вошел в кабинет, снял шапку, перекрестился в правый угол.
— Мне некогда, — глядя исподлобья на Антонова, сказал Сторожев. — Вы уж разбирайтесь тут с ним, как хотите, а я по делам пойду.
— И-иди, черт с тобой! — икая, проговорил Антонов.
Сторожев поспешно вышел. Быть свидетелем расправы с Фролом Петровичем ему было вовсе не с руки. Прознай двориковское общество, что и он принимал участие в издевательствах над уважаемым и справедливым человеком, мужики, и без того злые на него, могут пойти на любое. «Подпустят красного петуха, и ищи виноватого!» — думал Сторожев.
3
— Это ты у Л-Ленина был? — обратился Антонов к Фролу, когда Сторожев ушел. — Н-ну, расскажи, чем кормили, чем поили, за сколько купили?
— Купили лаской да правдой. Точно, ласковые люди, что за Ленина скажу, что за Калинина, что за прочих. Объяснили нам всю нашу глупость.
— Будет болтать-то! — прикрикнул на него Ишин. — Обманули вас, дураков.
— Почему обманули, Егорыч? — обиделся Фрол Петрович. — Ехали мы, дорогой никаких восстаний не видели, народ сохи к весне готовит. Об Антонове поминали, смеются: неужто, мол, вы с ним до сей поры цацкаетесь?
Антонов в упор разглядывал Фрола Петровича, а тот стоял спокойно и, не мигая, смотрел ему прямо в глаза.
— Б-бумагу привез? — выдавил Антонов.
— Привез. Пишется в той бумаге: продразверстку долой, середнего мужика на вид.
— А н-ну, дай.
Фрол Петрович бережно вынул из-за пазухи листы. Истерлось то, что было напечатано: читали их сотни людей, тысячи рук держали.
Антонов вполголоса прочитал декрет о натуральном налоге, телеграмму Ленина в Тамбов.
— С-собачья кость! — крикнул он. — Обманули вас! Обманули в семнадцатом и еще раз обманут. Неужто в-веришь им?
— Что ты, господь с тобой, испужал ты меня, Степаныч! — проговорил Фрол Петрович. — Да ты пойми: кому нам верить — тебе или Ленину? Ленин-то, ого-го! у него вся Россия! А у вас — клок сена под задницей. Да и того скоро не будет.
— В Москве был, научили тебя большевики! — Ишин гоготал пьяно и пучил глаза.
— Подлый, подлый! — визжала Косова.
— Помолчи! — обрушился на нее Фрол Петрович. — Степаныч, возьмись за разум, послушай меня. Добром тебе говорим: кончай войну. На другую точку мы стали. Ленин всей своей силой на тебя вот-вот навалится. Отольются вам наши слезы.
Антонов цыкнул на него.
— Целуй мою ногу, старик, отпущу. Не поцелуешь — убью.
— Меня убьешь, другие правду найдут. Народ наш упорный, он свое возьмет. И вас, кобели, покарает. И страшный будет у него расчет с вами. Отдай мне листы, пес! Правда в них!
Антонов на мелкие куски разорвал бумаги. Герман огрел Фрола Петровича плетью по лысине, кровь потекла по лицу старика. Он шагнул вперед, споткнулся и упал. Косова и Герман подскочили к нему, топтали ногами. Ишин носком сапога метил в лицо.
— Убей его, убей его, Саша! — визжала Косова.
Фрол Петрович, цепляясь за стену, поднялся. Вид его был страшен.
— А не боюсь я вас, псы! Бейте — не убьете. — Сильным рывком он открыл окно, закричал: — Народ, люди! Да когда ж будет конец нашей муке!
Ишин начал тащить Фрола Петровича от окна, тот ударил его локтем, удар пришелся по глазу. Ишин завертелся волчком. Фрол Петрович схватил Антонова за шиворот, подтащил к окну.
— Ну, скажи, бандит, что ты меня убить задумал! Покажись народу, кобель!
Антонов вырвался из его рук.
— Ага! — торжествующе закричал Фрол Петрович. — Народа боишься? Ну, стало быть, крышка тебе!
Косова выстрелила в него. Фрол Петрович схватился за плечо — оно кровоточило, прислонился к стене.
— Убить вздумали? — прохрипел он. — Кого? Кто я? Руки, которые принесли свет. Он зарей утренней полыхает над миром. И ни вам, мошенники, и никому вовек не потушить его!
Прогремел еще один выстрел: это стрелял сам Антонов. Но он был сильно пьян, револьвер дрожал в его руке, выстрел не задел Фрола Петровича.
Не видать бы Фролу Петровичу света белого, если бы в кабинет не ворвался привлеченный выстрелами Санфиров.
Он выхватил у Антонова маузер, стал перед Косовой.
— А ну, довольно! — гаркнул он свирепо. — Убери, сучка, маузер, не то я из тебя кишки выбью.
Потом поднял Фрола Петровича и понес к выходу.
У школы стояли его санки.
— Отвезите в больницу, — тяжело дыша, приказал Санфиров адъютанту.
Фрол Петрович пролежал в больнице месяца полтора, а потом о нем забыли: не до него было в штабе Антонова.
4
Угрюмо повесив голову, возвращался Огорожен в Дворики. Пьянство в штабе Антонова, ставшее за последнее время привычным делом; Косова, натравливавшая Антонова на комитет; Ишин, интриговавший против всех; святоша Плужников, елейными проповедями пытающийся восстановить мир в штабе и в комитете; чревоугодие, разврат, когда в воздухе пахло грозой, — все это не настраивало Сторожева на веселый лад.
Лешка вспомнился ему. Никак не мог он примириться с его бегством! Двенадцать лет прожил у него малый, сыном считал его Сторожев. Да и он ли один убежал от Антонова! Таких не сосчитать. А теперь решения красных об отмене продразверстки… У мужика мозги перевернутся. Как скрыть правду? Ее не повесить.
«Неужто конец? — думалось Сторожеву, и он ужасался. — Да нет, быть того не может! Велика еще наша сила…»
Но страх заполз в его душу и крепко угнездился там. Сторожев бесился от этого чувства; никогда он не испытывал его с такой силой и был зол на весь мир — на Лешку, на Фрола Петровича, на всех, кто покушался на его волю и власть.
Путь домой лежал мимо хаты Аксиньи Хрипучки. Наташа, увидев Сторожева из окна, бросилась к нему, упросила зайти, посидеть.
«Вот уж кто знает все о Лешке!» — думалось ей.
По селу прошел слух, будто Лешку взяли в плен. Жив ли он — не знала Наташа. Красные не проникали в Дворики, еще крепко стояли вокруг сел антоновские полки.
Не мог и Лешка передать весточку Наташе. Тосковал, худел, да что доделаешь — лбом стенку не прошибешь.
Наташа пополнела, по лицу расплывались землистые пятна, глаза смотрели ласково, как у теленка. Она бережно носила округляющийся живот, крепилась, но ночи не спала — безотвязные думы о Лешке мучили ее.
Сторожев молчал.
— Лешка-то… — начала Наташа и зарыдала. — Сдался он, забрали его или убили?
Снова злоба поднялась в сердце Сторожева против Лешки, против Фрола Петровича; они узнали правду, и в той правде конец ему, Петру Ивановичу!
— Надо полагать, сдался, — равнодушно заметил Сторожев. — Из Ивановки передавали, наезжал туда, бахвалился, женился будто…
— На ком? — ахнула Наташа.
— На коммунистке какой-то. — Сторожев отвернулся: он не мог глядеть Наташе в глаза.
По улице бродили ребятишки, солнце сушило дороги, черные поля тянули к себе Сторожева.
— На коммунистке? Забыл, значит? — сурово спросила Наташа.
— Надо быть, забыл. Бахвалился и тебя поминал: «У меня, дескать, есть дурочка, свистну — прибежит».
Сторожев сухо засмеялся, скрутил цигарку, задымил.
— Свернули красные парня с пути, испортили твою жизнь, — вздохнул он. — И отца твоего…
— Что отца? — охнула Наташа.
— К Ленину пошел за какой-то правдой. Пропал Фрол, не иначе, зарубили его красные… Жалко мне тебя, жалко, девка, безответная ты, тихая, кроткая. Другая не спустила бы даром такой обиды.
Наташа повернулась к нему. Глаза ее горели мрачным светом.
— Кроткая, тихая, безответная? — выдавила она. — Плохо ты меня знаешь, Петр Иванович!
— До свиданья, Наталья, поеду, пора мне.
«Вот еще одну свернул, — подумал он. — Зачем?»
Два дня пил без просыпу Петр Иванович, молчал, курил или смеялся глухо. Домашние смотрели на него со страхом.
5
И потянулись дни, полные тоски. Наташа ждала отца, Лешку, просыпалась от каждого цокота подков, от каждого стука, все думала: он!
Раньше еще мечтала о тихой жизни: вот пройдет, пронесется буря-война, и она родит сына, весь он будет в отца, и так спокойно зажурчит сверчок в их хате.
Она еще думала, что просто некогда парню заехать в село к своей любушке — гуляет с отрядом на далекой стороне.
Теперь чего же ждать? Ушел, делу своему изменил, ее бросил. Забыл любовь, клятвы, совесть потерял.
Подлец!
Теперь что же думать о нем? Другую целует-милует, солнышком кличет, у нее ночи ночует, ей на грудь кладет свои кудри…
Беременная, опозоренная, одна, одна в этом залитом весенним солнцем мире…
«Боже мой, что делать мне? Как буду жить, как выкормлю сына? И бати нет, убили батю!»
Аксинья жалела Наташу, а та не хотела принимать ее ласк, чуждалась, молчала.
«Боже мой, что делать мне? Или повеситься?»
Так день за днем, ночь за ночью, и некуда пойти, некому выплакать слезы, да их и нет, сухость во рту, жжет сердце, болит голова.
В церковь бы пойти, помолиться. Не пойдешь, у баб колючие взгляды, злой шепот их несется вслед Наташе:
— Потаскушка, ни баба, ни девка! Сучка!
«Лешка, Лешенька, что ты наделал! Хоть бы глазком единым на тебя посмотреть, хоть бы одно слово услышать — поняла бы, любишь или нет».
Иногда решала:
«Не люблю, постыл он мне, всю мою жизнь исковеркал. Забуду». И старалась думать только о ребенке, что бился под сердцем, просился на волю, милый.
«Да рано еще, погоди стучать маленькими ножонками, погоди, ненаглядный, не спеши. Мир хмур, неласков, и отца у тебя нет, сгинул, пропал твой батька, и дед твой лежит в земле черной…»
Но не выгнать из сердца Лешку, вставал, как живой, вспоминались ночи в омете, его руки, его губы, весь он, настойчивый, бурный, жадный, родной Лешка.
Росла ненависть к людям, что сманили его к себе.
Слышала Наташа в детстве: если паука убить, тридцать три греха простится.
«Лешку пауки заманили, — думала она, — может быть, пьют его кровь!»
«Если бы этих пауков бить, сколько за каждого грехов простится? — спрашивала Наташа сама себя, стоя на коленях перед образом. — Сколько простишь, господи, ты мне грехов? Кровь человеческую простишь ли? Грех мой с Лешкой забудешь ли?»
И билась лбом об пол.
Одна.
Окна смотрят в туманное утро. И кажется Наташе: в каждое окно Лешка смотрит, смеется, манит пальцем, что-то говорит, а что — не разобрать.
— Да громче, громче, не слышно тебя! — кричит ему Наташа, а он все смеется и говорит-говорит непонятное, но такое, что, если услышать, разом кончатся муки и терзания, пройдет черная тоска, сердце забьется легко и радостно.
Окна смотрят в туманное утро.
И ничего за ними нет, кроме пустынных улиц, ничего за ними не слышно.
Часто Наташа уходила на огород, сидела в омете, пальцами перебирала солому, ничего не видя. Застывали воспаленные глаза, лишь пальцы перебирали соломинку одну за другой, быстрей, быстрей.
В таком же полусне делала все по хозяйству: топила печь, варила обед, доила корову.
И шли дни: то тянулись так, что разрывалось сердце, хотя бы ночь поскорей, то бешено мчались — куда?
Постойте, часы, не летите так быстро, дайте вздохнуть, дайте подумать, решить: что же делать, как быть?
Иногда наяву Наташа бредила расправой с пауками, бросалась на стены, ловила пустоту, смеялась сухим, черствым смехом. Потом часами сидела, не двигаясь или раскачиваясь, и повторяла одно и то же:
— Убью, убью, убью…
Вскакивала и кричала:
— Ага, попались! Где мой Лешка, куда дели? Оплели, погубили, высосали кровь? Проклятые!
Редко возвращалась ясная мысль. Тогда приходили слезы. Наташа горько плакала, придумывала Лешке новые ласковые имена и прозвища, и становилось легче.
Ночью видела она один и тот же сон: будто на лугу, среди желтых цветов, в ясный день видит она Лешку. Тот идет к ней, и так хочется Наташе его видеть, так хочется, сил нет! Так хочется много-много ему рассказать, очень важное, очень большое. Она идет к нему навстречу и обмахивается платком… До чего жарок день! А Лешка совсем близко, еще единый миг — и она возьмет его руку, прижмется к нему, расцелует… Но ноги вдруг прилипали к земле, наливались тяжестью, не поднять их, не переступить, каждый шаг — неизъяснимая мука. Но каждый шаг — к нему, с каждым шагом он ближе! Со стоном поднимает она ноги, и все труднее, все труднее идти, боже, какая мука! А он уже рядом, руку протянул…
И… сгинул!
Блещет звезда, заглядывая в оконце. Аксинья стонет и скрипит во сне зубами. Петух закричал; росно, прохладно, над речкой повис пар.
Глава десятая
1
Пятого марта в Каменку прискакал гонец.
Загнанная лошадь его закачалась, едва он успел взойти на крыльцо штаба, и пала.
Конник был бледен, одежда его была покрыта грязью, клочьями вылезали из-под шапки волосы.
Он вручил Антонову пакет от Горского.
«Второго марта, — читал Антонов вслух письмо собранному наспех активу, — в Кронштадте образовался временный революционный комитет матросов, красноармейцев и рабочих, который объявил себя властью. Генерал Козловский принял командование обороной крепости. Восстание требует созыва Учредительного собрания, Советов без коммунистов и свободной торговли. Армия во главе с Ворошиловым послана на усмиренье».
— Я был в Кронштадте, — закричал Антонов, — не возьмут, суки, матросов! Братцы, скачите по селам и деревням, объявляйте весть!
И загудели в селах набаты, созывая народ, и пронесся от края до края клич: «Наш Питер! Конец коммуне».
По улицам ходили разодетые люди, густо перло самогонным духом — пили ведрами.
— Теперь хлеб нечего беречь, раз власть на всей Расее наша!
Девки, озорно играя плечами и притопывая, пели прибаски:
Ах, подружка, моя дружка, Ты послушай мое горе: Мой миленок ненаглядный — Он матросом ушел в море…А другая отвечала:
Ах, подружка, моя дружка, Я сказать тебе посмею: Горя нету — твой матросик Завоюет всю Расею.2
В Дворики в самый разгар гулянья приехал из Каменки матрос Бражный из сторожевского Вохра. У братвы его шапки с зелеными лентами, брюки клеш, вооружены до зубов, лошади — огонь! Они скакали по селу, помахивая плетьми, заигрывая с девками, орали похабные песни. Около двора Данилы Наумовича их остановил начальник милиции Илья Данилович:
— Батька к обеду приглашает.
Бражный поломался для важности, но согласился; братва двинулась в дом. Данила Наумович надел суконную синюю поддевку, навесил медаль, — он тоже не лыком шит, у государя-императора с другими волостными старшинами побывал, удостоился высокой милости. Сапоги его скрипели и пахли дегтем, всех своих дочерей и снох — розовых, сытых — усадил Данила Наумович за стол. Меж ними разместились матросы, прижимались к ним, гладили толстые ляжки, потели.
Первый стакан поднял Данила.
— За победу, братья матросики, — елейно сказал он, — чтобы, значит, во веки веков!
— Ур-ра! — гаркнул Бражный и ущипнул жену Ильи.
Та взвизгнула. Илья нахмурился, но сдержался: пойди скажи поперечное словцо дорогим гостям!
— Кронштадт — это ж что?! — похвалялся Бражный, никогда ни в Кронштадте, ни в матросах не бывший. — Эт-то же крепость, бастион… Да там братва своя в доску. Р-раз — и вся Россия к чертям, два — и нет ничего! Вот что такое Кронштадт! — заключил он.
Совсем захмелевший, пьянствовавший уже в пятом или седьмом селе, Бражный обнял жену Ильи и заплакал.
Илья обиделся, полез в драку; его быстро утихомирили.
Данила Наумович, выпив через меру, развеселился и пошел в пляс.
В окна лезли любопытные, пересмеивались; девки, мальчишки, расплющивая носы о стекла, смотрели на веселье.
— По такому делу, — кричал Данила Наумович, — молебен бы отслужить!
— Д-давай сюда попа, — заорал проснувшийся Бражный, — я из него, кудлатого, котлету сделаю! Пускай панихиду служит, бог с ним!
Отрядили конника за попом. Тот примчался быстро — его подгонял плеткой верховой.
На молебен пришел Сторожев. Поп и дьякон долго шептались с ним: дескать, какую власть поминать?
Сторожев, понаторевший в церковных делах, в три счета составил многолетие «народному герою Антонову со братией своей» и «неустрашимому воинству крестьянскому».
Бражный на молебне охальничал, пытался что-то петь, поп сердился, тряс головой.
После молебна матросы подошли к кресту. Бражный заблевал попу рясу и епитрахиль, а под конец так напоил его, что тот скатился под стол, да там и захрапел. Вечером матросы гуляли по селу, где-то били стекла, кого-то секли плетьми, чьих-то девок изнасиловали.
К утру многие матросы оказались избитыми до полусмерти, а Бражный валялся за чьим-то сараем с раскроенным черепом.
Догулялся!
3
Кронштадтский мятеж вскружил голову Антонову.
Видел он в своих мечтаниях поля и перелески и дали, перекатывающиеся через древние курганы, через реки и озера, скованные льдами. Не охватить внутренним оком этих просторов! Соломенные ометы и стога сена, возвышающиеся там и здесь, припорошенное снегом белое величавое застывшее пространство, купы гнущихся под снежными шапками берез и дубов, утопающие в снежных валах кусты, сугробами занесенные овраги и луга, таинственная молчаливость лесов, погруженных в зимнюю дрему, то освещаемых солнцем, то купающихся в мертвенном свете луны.
И тысячи деревенек и сел… То колокольня мелькнет где-то в безбрежном просторе, то махнет крылом мельница, то покажется на дороге подвода и согбенная фигура мужика в дырявом армяке, погруженная в вековечную думу…
И мечтал Антонов поставить свою власть на этих необозримых пространствах. Свою власть! Хотя бы пришлось для того шагать по колено в крови, пороть, пытать, вешать, стрелять, сжигать города и села. Никому пощады, кто против него! Никакой жалости, не верить слезам, наслаждаться стонами врагов, пытаемых Германом!
Так будет, и это совершит он — он, сдвинувший миллионную громаду. Как в половодье могучая сила стихий срывает льды и несет их с грохотом по рекам, так в свое время устремится и он всеми своими силами на красных, все сметая на пути, превращая в пепел непокорные края, пока не сядет в Кремле.
«Каждый, у кого дырявый армяк, думает о том, чтобы завести суконную поддевку, зацапать землицу, загородить ее, выпустить на нее псов, в кубышку рубли откладывать и всю жизнь спать рядом со свиньей и теленком».
«Ну и что же дальше? — часто спрашивал себя Антонов. — Что я сделаю мужикам, когда приведу их под стены Кремля?»
И тут он призадумывался, — что будет дальше, Антонов не знал. Думалось, что там, в Москве, склонят перед ним все головы, его выберут в вожди народа.
«А дальше что же? Ну, выберут меня, ну, кличку на меня навесят, а дальше? С землей как, с рабочими как?»
И на этот вопрос не знал Антонов ответа.
И представлялось ему, как будут делить власть между собой друзья и товарищи; как злобно ощерятся друг на друга Токмаков и Плужников, как алчным пламенем загорятся глаза волка Сторожева.
«Нет, они слопают меня, — пугался Антонов. — Верно говорил Санфиров: сожрут меня, а потом начнут жрать друг друга».
И отмахивался от смутных дум о будущем, валил все на Учредительное собрание: пускай копается во всех этих переплетах, мирит рабочих с фабрикантами, батраков с хозяевами, овец с волками. Пускай… «Да и что думать о том? Далеко до того… Далеко, но сбудется; все идет к тому: в огне Русь, за меня мужик!»
И все заносчивее становился Антонов.
Он выдумывал фантастические проекты и планы, сквозь пальцы смотрел на начавшиеся грабежи, ссорился с Токмаковым, Плужниковым, когда те предупреждали его о грядущих бедах; сажал командирами полков темных людей, о которых ходили позорные слухи; давал приют всем, кого присылал к нему Федоров-Горский, всем, кто спасался от советской власти; окружил себя бывшими офицерами и грозил посадить начальником штаба какого-то генерала, родственника адвоката, пробравшегося в Каменку. На все доводы Токмакова Антонов говорил одно:
— Довольно! Теперь командовать буду я!
Как-то в разговоре с Плужниковым Антонов бросил надменную фразу:
— Вы! Что бы вы без меня делали? Кто бы у вас командовал? Писатели, говоруны, матери вашей черт! Я — командующий армией народа и прошу помалкивать!
Через неделю, после того как села узнали о событиях на Балтийском море, осмелел и Сторожев. Приехал он как-то в Дворики, созвал сельский сход и заявил, что всякого, кто выйдет на его землю у Лебяжьего озера с плугом или сохой, самолично расстреляет.
Мужики молча выслушали краткую речь и разошлись.
Земля снова принадлежала Петру Ивановичу, снова с жадностью готовил он зерно, сортировал его, ладил плуги и чинил телеги. Он торопился, орал на сыновей, на Андриана, когда те слишком медленно, по его мнению, готовились к выходу в поле.
Он еще не совсем верил, что земля снова его, он спешил засеять ее, еще и еще раз сказать миру: «Моя земля! Я ее купил! Я ее холю! Не тронь мою землю!»
И приходил в бешенство при мысли о том, что кто-нибудь чужой придет на эти десятины, станет на эти межи, назовет себя хозяином, вырвет землю у его семьи!
И чем больше боялся он, чем больше дрожал за свою землю, тем неукротимей становилась ненависть его к людям.
И стал он походить на голодного пса, у которого отнимают жирную кость.
И если бы это было возможно, он не уходил бы со своей земли, умер бы здесь, защищая свое поле, свои посевы, свое право распоряжаться жизнью слабых и нищих, повелевать, богатеть, откладывая рубли и копейки, чтобы на них покупать новые усадьбы, новые земли.
Вот уже есть, добыта земля! Вот он уже добился власти и почета — мужики боятся его, стихают разговоры, когда проходит он, завидуют ему.
Но нет прочности в этой власти, в этой силе.
«С севера, — думал он, — с Москвы идут люди за моей землей, идут, чтобы вырвать из моих рук силу, как вырвали батрака Лешку. Идут, чтобы сломать мою власть, посадить надо мной, над Сторожевым, рвань несчастную, голь с Дурачье-го конца, Митьку Бесперстова или братца Сергея. Чтобы мне подчиняться им? Ходить под ними? Отдать землю?»
И мысль эта жгла его, и злоба росла, и ненависть не угасала ни на миг. Он стал еще неутомимей в поисках врагов, один ездил на разведку, врывался с кучей вохровцев в деревни, где останавливались небольшие красные отряды, допрашивал, расстреливал, порол подозреваемых в сношениях с Советами, создавал подпольные эсеровские комитеты в селах, не присоединившихся к восстанию.
Он за землю свою цеплялся, он власть свою спасал!
Глава одиннадцатая
1
Земля сбросила зимнюю шубу, отзвенели в лощинах ручьи, входили в берега реки.
Кончилось половодье…
Лежали за селами дымящиеся поля, и с тоской глядели на них мужики: не паханы с осени и не на чем их пахать, нечем их засевать.
Мосластые, загнанные, запаршивевшие лошади, как слепые, бродили по дворам, да и тех мало: армию надо было сажать на лошадей; в своей губернии лошадей извели, в соседних с ними тоже туго. Пришлось взяться за «свои» районы.
Говорят в народе: пришла беда, открывай ворота.
Пришлось Антонову и «батьке» Григорию Наумовичу очень широко открывать ворота, и валом валили в них беды, несчастье за несчастьем сыпались на мятежников.
С лошадьми плохо, но это еще с полгоря. На заседании комитета Ишин доложил, что кончились запасы продовольствия и фуража; надо брать у мужика.
Отдел формирования Главоперштаба тогда же сообщил, что полки из-за больших потерь нуждаются в срочном пополнении рядовым составом: тем более, мол, красные, по донесениям из Тамбова, готовят серьезные операции.
«Прели» трое суток: мужики — члены комитета никак не хотели обкладывать села продовольственным, и фуражным налогом, орали, что Советы-де сняли продразверстку, а мы-де, его защитники, вводим ее, восставали против мобилизации.
Однако ори не ори, а дела швах. Комитет решил объявить кампанию поддержки повстанью, обещая мужикам к осени вернуть все взятое и предрекая скорый конец войне, потому, мол, что Советы вроде начали становиться на линию Союза трудового крестьянства.
Мужики кривили рты, когда агитаторы объясняли, что хлеб, фураж, люди и лошади нужны для победы их дела.
Кончилось военное похмелье, убывала полая вода, наступали дни расплаты!
Семнадцатого марта Красная Армия, возглавляемая Ворошиловым, пошла на последний штурм Кронштадта.
Делегаты Десятого партийного съезда, что заседал в те дни, вели за собой бойцов. В холодный туманный рассвет крепость пала.
Когда пришла об этом весть в Каменку, запил тяжко Антонов. Все дальше и дальше стал отходить от боевых товарищей, часто один сиживал подолгу и думал о чем-то тяжелом.
Через неделю в бою под Чемлыком ранили Петра Токмакова, привезли его в Каменку мертвым. Он навеки закрыл глаза, ему ни о чем не надо было больше думать и тревожиться.
Антонов всю ночь просидел у гроба. С ним была только Марья Косова. Добилась своего девка, полюбил ее Александр Степанович, но любил злобно, издевался, словно вымещая на ней свои обиды.
Но беда бедой, а надо было думать о делах, искать нового командующего для первой армии. И опять вспыхнула тяжба между союзом и Главным оперативным штабом.
Антонов, подстрекаемый Кузнецовым, командующим второй армии, и командирами из офицеров, хотел назначить командующим армией генерала, родственника Горского.
Он оправдывал свое решение тем, что красные-де готовят, по всей видимости, большое наступление, поэтому во главе армий должны быть поставлены люди, хорошо знающие военное дело.
Санфиров кричал:
— Как где заварушка — там и генералы! В Ярославле Савинков дело начал — полковника Перхурова отыскали, в Сибири — адмирала Колчака вытащили, в Кронштадте — генерал Козловский объявился. К чертовой их матери! Генералы появятся — мужики к такой-то матери нас пошлют. Шалишь, не допустим!
Страсти кипели целую неделю. Антонов часто устраивал заседания, на которые не приглашались люди из комитета. Плужников грозил Антонову подняться против него.
— Смотри, Степаныч, добалуешься! — свирепо говорил он.
Но споры кончились неожиданно: Санфиров ухлопал генерала — он застал его с мальчишкой за нехорошим делом.
Командование первой армией принял молодой, красивый и горячий командир полка Богуславский, любимец Антонова, офицер, левый эсер.
Он быстро подобрал вожжи в руки, но дела принимали более грозный оборот.
2
Не успел Антонов оправиться после смерти стародавнего друга Петра Токмакова, новая беда настигла его.
В тот самый момент, когда ему особенно нужна была четкая и бесперебойная работа агентуры, что-то в ней хрустнуло и сломалось. Сведения перестали притекать в обычном виде, а те, что приходили, попахивали нехорошим душком: чистейшей воды обман.
Антонов всполошился, начал посылать к Федорову-Горскому гонца за гонцом. Они неизменно застревали в Тамбове.
А Федоров-Горский молчал.
Он замолчал для Антонова навсегда.
Недаром Антонов-Овсеенко советовал чекистам копнуть поглубже.
Стали, и вот во время одной из бесчисленных поездок в Москву Федорова-Горского арестовали на квартире отъявленного монархиста.
Привезли его в Тамбов. Он слышать не хотел о связях с кадетами.
— Зашел к знакомому адвокату. Мало ли их у меня по всей России?! А какой он партии, черт его знает! Я с партиями не якшаюсь.
И на том уперся.
Обшарили многочисленные дома, где бывал Федоров, его собственный дом на Тезиковской улице. Простукали стены, обшарили все углы, осмотрели чердак… Чисто! Ни одной уличающей бумажки! Только деловая переписка насчет лошадей, и та при химическом анализе не оставила сомнений в подлинности.
Три раза обыскивали дом Федорова, И вот однажды, когда выстукивали прикладами винтовок пол, одному из следователей примерещилось, будто звук совсем не тот, что в других комнатах.
Вскрыли подвал, но, кроме крыс, там ничего не оказалось. Стали искать тщательнее и, наконец, обнаружили вход в еще одно подполье. Вскрыли и его и обнаружили склад продовольствия: сотни пудов муки, круп, свиное соленое сало, топленое, растительное масло и мед в бочках, тюки шерсти, кипы кож… Однако о том, что Федоров — спекулянт, знал всякий, и это еще не доказывало его связей с антоновщиной. Стали выстукивать стенки подполья и, наконец, нашли замурованное хранилище.
Там лежали драгоценности на миллионы рублей и, главное, то, что искали: вся переписка Федорова не только с Антоновым и Союзом трудового крестьянства, но и с белогвардейским подпольем в Питере и Москве и заграничными их организациями.
Выяснились все новые подробности, Будучи фактическим начальником тыла антоновщины, эмиссаром центрального и Тамбовского губернского эсеровских комитетов, объявив себя эсером, Федоров в то же время примыкал к тамбовской кадетской организации, а через нее проникал дальше и глубже в мерзопакостное белогвардейское подполье.
Нашли и тех, через кого Федоров вел контрразведывательную работу на Антонова. Бывший черносотенный прокурор виленского окружного суда Чеховской, остзейский барон Таубе, полковник Минский — вот кто помогал Чернову и Зензинову поднимать мятеж на Тамбовщине, кто шпионил для Антонова, занимался шантажом, заговорами, саботажем — и не задаром, разумеется.
Зачем берег этот видавший виды человек документы, одна опись которых приговаривала его к расстрелу? Быть может, собирался писать мемуары? Быть может, еще надеялся на свержение советской власти, чтобы потом предъявить свои исторические заслуги и потребовать мзды — не вещественной, а той, которая называется властью.
Наконец Федоров «раскололся».
Говорил он так много, что следователя тошнило от его цинических признаний и доносов. Начали было хватать каждого оговоренного Федоровым, а оговаривал он-де даже самых близких друзей, родных, знакомых, тех, перед кем расточал обольстительные свои улыбки, с кем играл в карты, с кем кокетничала очаровательная его супруга. Она, впрочем, тоже во всем призналась.
Антонов-Овсеенко, вовремя узнавший о бесчисленных арестах, остановил тех, кто слишком усердствовал в этом деле, приказал выпустить безвинно оговоренных и заняться Федоровым, только им и его агентурой.
Им и занялись. И через него решили протянуть руки к Антонову и политической головке восстания.
3
Однажды в Каменку явился человек, предъявил Герману зашифрованные документы эмиссара центрального комитета партии эсеров. Никакой подозрительной мути и липы в предъявленных бумагах, казалось, быть не могло. Но все же проверили. Человек оказался надежным. Приехал он-де с чрезвычайным поручением: Антонова вызывали в Москву для переговоров о расширении восстания, о снабжении оружием и для получения новой программы борьбы ввиду перемены в экономической политике соввласти.
Антонова в Каменке не оказалось, не было и Плужиикова: они совершали очередной рейд по югу губернии. Комитет снесся с ними и получил указание; ехать Ишину, заместителю Плужникова.
И поехал Иван Егорович в последнее свое путешествие. Члены эсеровского всероссийского центра встретили Ишина как самого дорогого гостя, превозносили Антонова, обещали восставшим и то и это, кормили и поили главного комитетского агитатора на славу.
Будь на месте Ишина конспиратор вроде Плужникова или самого Антонова, они сразу бы почуяли подвох. Слишком уж любезны были хозяева, слишком щедры на угощения, что совсем не к лицу серьезным подпольщикам. И чересчур о многом расспрашивали, вникая даже в самые незначительные мелочи.
Иван Егорович, дорвавшийся до настоящей водочки (самогонка опротивела ему), улещенный и умасленный и всегда несдержанный на язык, хвастался, называя напропалую фамилии активистов, их конспиративные клички, делился паролями, явками, шифрами.
Наконец из этой хмельной бочки выкачали все содержимое, а через неделю Ишина расстреляли.
И то был второй непоправимый удар, который смешал многие карты главарей повстанья.
В довершение всего Антонов узнает сразу две потрясшие его новости: в Тамбов прибыл назначенный Главкомом командарм Тухачевский; ему поручили ликвидировать восстание.
И еще одна новость вконец расшибла Антонова и союз: Десятый съезд большевиков провозгласил на весь мир новую экономическую политику и, как основу ее, — нерушимый союз рабочих и крестьян.
4
Казалось бы, бита карта! Но если с каждым днем мрачнел Антонов, все реже слышали люди его раскатистый смех, веселую речь и редко видели улыбку на похудевшем, землистом лице и побелевших губах, святоша Плужников был не из таких, чтобы сдаться легко.
Правда, агентура разгромлена и главарь ее оказался предателем; правда, схвачены многие комитетчики. Но разве так уж трудно навербовать новых и поставить свежую агентурную сеть? Неимоверными усилиями контрразведки Антонов и Плужников зализывали раны, нанесенные мятежникам.
Это ничего, что агентура не такая мощная, какой она была, но обслуживает комитет в достаточной мере. А провал Ишина даже порадовал «батьку»: терпеть он его не мог, и не только потому, что Иван Егорович лез на его место, но и потому, что мужики давно перестали верить этому пустобреху.
Осталось пережить еще один удар.
Как-то утром зашел к Антонову Плужников: волосы спутаны, скопческое лицо пожелтело от забот и тревог.
— Сердит ты, что ли? — спросил его Антонов. — Чем опять недоволен?
— Ох, Степаныч, не знаю, что и сказать! Вот ты Сторожева мне все нахваливаешь. Мужик он, конечно, умный… А спроси его, зачем он к тебе пришел?
— Знаю, — огрызнулся Антонов. — Зол он на меня, волком смотрит.
Плужников посмотрел в окно — там слонялись все те же оборванцы, грызли семечки, безобразничали. Скопческое лицо его омрачилось.
— Такое-то, браток, дело, — вздохнул он. — Эту шушеру и сволочь всякую разогнать — раз плюнуть. Петр Иванович, конечно, останется: ему в нас последнее спасение. Да ведь Петр Иванович разве фигура? «Э, — скажет мужик, — вон он на ком, Сторожев-то, едет, на Антонове». Он и пошлет нас с тобой, милок мой, к чертовой матери!
— А я думаю, — отозвался Антонов, — как раз теперь, когда дела начинаются всерьез, крепкий мужик — фигура для нас подходящая. На умном, сильном мужике мир держится.
— Так-то это так, да все как-то не так. Голова у меня, Сашок, болит, в нутре жжет, сил нету. Что нового?
— Газеты получил… Почитай, что там о нашем брате пишут.
Плужников с постным видом читал московские газеты. За политикой Москвы он следил прилежно, знал, что делается кругом.
— Степаныч, — окликнул он Антонова, — ты думал, голубь, о том, как у нас дальше дело пойдет, куда идем мы, а?
Впервые без притворства говорил с Антоновым кулацкий «батька».
— Что ты, Гриша? — встрепенулся Антонов. — Что ты тревожный такой?
— Вот все думаю, браток, везет же красным, — сумрачно заговорил Плужников. — Со всеми они замирились, белым наклали по шапке… То одно, то другое государство их признает… — Он пожевал губами, почесал седенькую, пегую бороденку. — Ныне Ленин за разруху, слышь, взялся… Теперь жди, и за нас возьмутся.
В дверь постучали. Вошел Сторожев и с ним плотный человек, одетый в железнодорожный дубленый полушубок.
— Фирсов, — сказал он, обращаясь к Антонову, — представитель Цека партии эсеров, по особому поручению.
Антонов и Плужников, заранее предуведомленные о приезде эмиссара с большими полномочиями, ждали его со дня на день.
Сразу повеселевшие, они приветствовали Фирсова, но тот, казалось, был бесчувственным к знакам внимания, которыми его окружили.
Перекинувшись несколькими словами с Фирсовым, узнав, что он доехал благополучно, Антонов высунулся в дверь.
— Позовите Санфирова, Косову, Шамова и всех, кто в комитете, — приказал он. — И больше сюда никого не впускать!
Пока собирались люди, Фирсов сидел у окна и смотрел на грязную улицу, вымоченную первыми весенними дождями.
Что-то торопливо дожевывая, вошел теперешний заместитель Плужникова Шамов, делегат от Борисоглебского уезда, представительной внешности, с большой головой, на которой волной лежали седые волосы. Вышел он из богатой крестьянской семьи, был в свое время техником в железнодорожном депо.
Вслед за ним вошел молодой красавец, франтоватый командарм Богуславский, веселый и общительный: антоновцы любили его беззаботную смелость; появились хмурый Санфиров и Марья Косова.
— Представитель ЦК товарищ Фирсов, — представил Антонов приехавшего эмиссара.
— Этот настоящий, — буркнул Сторожев. — Два дня обрабатывали его с Юриным.
— Дураки! — презрительно бросил Фирсов, когда утих смех, вызванный словами Огорожена. — Обрабатывали! Кого не надо — два дня держите в контрразведке, а кого надо — зевнули. Идиоты! За грош отдали Ишина.
— Не очень горюем, — усмехнулась Косова. — Давай выкладывай, что привез.
Фирсов вынул носовой платок, вытер шею — в комнате было жарко — и обратился к Антонову:
— По поручению центрального комитета партии социалистов-революционеров передаю вам привет!
— За привет спасибо, — ухмыльнулся Шамов. — А не прислали ли они с тобой оружия?
Антонов рассмеялся. Он радовался: наконец-то там наверху опомнились и помогут ему в трудный час.
Фирсов надменно осмотрел Шамова с ног до головы.
— Я прислан по особому поводу. Международное положение и положение внутри страны после Десятого съезда большевиков сложилось для нас неблагоприятно. Политика нашей партии сейчас заключается в том, чтобы сохранить кадры. А ты: «Оружие не прислали ли?» Крутитесь в этой дыре и дальше своего носа ни черта не видите. Вояки! Вы потеряли головы и бьетесь лбом о стенку. Вы мешаете нашим планам, понятно?
— Дальше! — Антонов чуть не скрипел зубами от ярости. Вот так порадовали его верхи!
— Мы предлагаем для сохранения кадров ликвидировать восстание. Если не подчинитесь — мы откажемся от вас.
Лицо Антонова побелело, губы задергались, еще острее обозначились скулы.
— А-а, сволочи! — закричал он. — Я знал, что вы продадите меня! Плужников, Шамов, вы что молчите?
— Слышь-ка, милок, — обратился Плужников к Фирсову. — Скажи ты нам, за коим же бесом мы все это затевали? Чтобы выхлестать из народа кровушку и сдаться, ничего не добившись?
— Обстановки не понимаете, не понимаете течения исторических процессов! — холодно процедил Фирсов, с презрением глядя на «батьку». — Повторяю: сейчас в открытую с большевиками воевать нельзя. Силы надо беречь, оружие беречь, в подполье уходить. Так постановил центр.
— И правильно постановил, — заметил Санфиров. — Народ войны не хочет. Нас бандитами начали звать. Народ мира хочет!
— Яшка, и ты меня продаешь?! — крикнул Антонов.
— Нет, не продаю, Александр Степаныч. Здраво мыслю, только и всего. Отзвучали набаты, кончилась война, мир идет на поля…
— Стишки начал сочинять, дур-рак! — злобно прошипел Сторожев. — Командир гвардии, чтоб тебя!..
— Молчи, Петр Иванович…
— Не верь, не верь Яшке, Саша! — закричала Косова. — Продаст!
— Тут нет Сашки! — разъярился Санфиров, ненавидевший Косову. — Тут сидит командующий армией восстанья. Тут решаются большие политические дела, и бабе здесь делать нечего.
— Убью, подлый! — Косова выхватила револьвер.
Антонов ударил ее по руке. Револьвер упал.
— Александр Степанович, — сказал Сторожев, — плюнь на иудушек! Пока не отвоюем власть, будем воевать. Силы у нас еще есть.
— Верно, верно! — поддержал его Шамов.
— Сомнут! Всё сейчас против нас, — предостерегающе сказал Санфиров.
— Стало быть, что же? К красным идти на поклон? Милости просить? — Антонова трясло от гнева. — На веревке тебе, Санфиров, покачаться захотелось?
Фирсов встал.
— Вот что — в последний раз предлагаю: прячьте людей, закапывайте оружие.
— Пошел вон! — зарычал Сторожев.
Фирсов, пожав плечами, вышел, бросив на ходу:
— Завтра соберите комитет и штаб. Думаю, они умнее вас.
— Продали, продали! — Антонов заскрежетал зубами и повалился на стол. Все бросились к нему.
— Опять! — Шамов безнадежно махнул рукой.
— Что с ним? — спросил Сторожев.
— Припадок.
Вызвали армейского врача Шалаева. Через час Антонов пришел в себя, поманил пальцем Плужникова, который сидел на кровати и с тревогой следил за манипуляциями врача.
— Верно сказал этот пес, надо созвать комитет, Наумыч, — прохрипел Антонов. — Дело серьезное, без народа не обойтись.
5
Вечером в избе, где жил Антонов, за закрытыми ставнями пьянствовали Антонов, Косова и Герман.
Они собрались выпить, чтобы разогнать дурное настроение. Фирсов нарушил обычное молчаливое душевное равновесие Антонова. Косова, любившая его, любившая истерически (да и какого иного чувства мог ждать Антонов от этого чудовища?), хотела рассеять дурное настроение ее героя и любовника, а Герман был рад придраться к любому случаю и напиться.
Пил Антонов из стакана большими глотками, ничем не закусывая, мрачно смеялся, то порывался куда-то идти, кому-то «разбить башку».
Косова, сидя у него на коленях, прижималась к нему, целовала бледные, пьяные губы.
— Ну, полюби, полюби меня, Саша! — блудливо бормотала она.
— Уйди, Марья! — Антонов грубо отталкивал ее от себя.
— Кто приласкает тебя, кто утешит, кто думы твои разделит, миленок? — шептала Марья ему на ухо. — Ведь из-за тебя в это дело пошла.
— Не з-звал…
— Какая же тебе баба нужна?
— Н-не такая, — твердил Антонов. — Н-не такая.
— Чистенькая, добренькая? И чтоб с тобой через реки крови? Найди, найди такую! — Косова истерически рассмеялась. — А я… Через реки крови, через лощины, трупами забитые… Знаю твои мечтания… На белом жеребце в Москву въехать. Так слушай! Со всех попов ризы сдеру — ковром положу под твоего коня. На пути твоем все придорожные столбы коммунистами увешаю. Всю Россию заставлю тебе поклониться, а кто не захочет, тому башку прочь… Сама, сама головы резать буду! Девок тебе косяками пригоню… Саша!
— Уйди! — Антонов со страшными ругательствами столкнул Косову с колен.
Она упала, целовала его босые ноги. Он начал бить ее по лицу.
— Бей, бей, — визжала она, простоволосая, бесстыдная в своем вожделении. — Бей, Сашка, все равно полюбишь меня, нет у тебя никого больше и не полюбишь никого!
Антонов отпихнул ее, взял бутылку, жадно глотал вонючую самогонку, упившись, уставился в одну точку мутными глазами, потом хриплым голосом запел любимую свою песню:
Трансвааль, Трансвааль — страна моя. Ты вся горишь в огне……Ночью, совсем потерявшие остатки разума, они спустились вниз и, шатаясь, пробрались к амбару. Там вторые сутки ждали своей участи пленные коммунисты. Герман отпер амбар, зажег свечу в фонаре, висевшем у притолоки.
Пленные — их было пятеро: четверо мужчин и девушка-учительница — сбились в кучу и, тесно прижавшись друг к другу, ждали смерти.
Антонов, не целясь, выстрелил в угол. Девушка вскрикнула.
— Т-ты не можешь, — сказала Косова, ее шатало от самогонки. — Д-дай я!
Она прицелилась, маузер дал осечку, прицелилась еще раз.
Из угла выскочил чернявый, босой человек, в одном исподнем и крикнул:
— Палачи, убейте! — и рванул на себе рубашку.
Дрожащими руками Герман выхватил браунинг и выстрелил в белое пятно, человек упал и пополз в угол, к своим. Потом Косова и Антонов начали палить в живую, шевелящуюся, стонущую кучу.
И вдруг из нее начал вырастать человек…
Хватаясь за бревна, вставала девушка. Она обернулась к убийцам, колеблющийся свет упал на ее лицо, обагренное кровью.
Дико завизжала Косова; выронив маузер, она бросилась бежать; с безумным, перекосившимся от ужаса лицом пятился назад Герман; Антонов захрипел, метнулся к двери, упал и расшиб о косяк голову.
В амбар вбежали люди.
6
На заседаний комитета, которое охранял усиленный наряд из личной охраны Антонова, присутствовало человек тридцать — вся верхушка восстания.
Сторожев, приглашенный на заседание, заметил, как ухаживали штабные за крестьянами — делегатами района. Антонов величал их по имени-отчеству, подвигал им лучшие блюда — на столе была расставлена закуска: баранина, студень, пиво. Важные, осанистые мироеды чинно разглаживали бороды, слушали бесстрастно речи и солидно помалкивали.
— Братцы, — начал с подъемом Шамов, — граждане! Вот этот человек, — он показал на Фирсова, тот сидел, словно каменный, ни на кого не глядя, — передал нам требование сложить оружие, кончить восстание.
Делегаты взволнованно переглянулись.
— …за то ли мы боролись, чтобы сейчас сдаваться? Мы наших вождей знаем хорошо, они продали не одного человека. Но нас они с торгов не продадут, подавятся! Не нас они продают, а вас!
— Сволочи! — громко закричал бородач, одетый в богатую шубу.
Собравшиеся загалдели, зашумели, поднялись, обступили Фирсова, а тот молчал, с усмешкой наблюдая за переполохом.
Санфиров, глядя в одну точку, решал, куда податься, где найти правду. Но когда он подумал о том, что надо сдаваться, мурашки пробежали по его спине.
Нет, он хотел жить, а жить — значит воевать.
— Сволочи! — снова заорал тот же мужик в шубе. — Подняли нас, а теперь бросают. Александр Степаныч, с тобой мы! Нам от большевиков верная погибель, нам от ихних порядков разор. Веди полки! Сам на лошадь сяду, воевать до конца. Дай я тебя поцелую!
Мужики полезли к Антонову целоваться.
— Ну что, видал? — с нагловатым смешком обратился к Фирсову брат Антонова Димитрий. — Вот расскажи, что тут у нас слышал. Братец, гони их в шею, долго ты их кормил, долго они нашей кровью жили, теперь одни пойдем, веселей будет. Грабить так уж грабить…
Делегаты вдруг замолчали. Антонов злобно посмотрел на брата. Кто-то из крестьян обратился к Плужникову, голос его дрожал от негодования:
— Это кого же, не возьму в толк, хочет грабить Митрий Степаныч?
Делегаты загудели, сгрудились в кучу. Димитрий, пьяно ухмыляясь, сел. Фирсов зло улыбался; что-то шипел на ухо Антонову Шамов.
Антонов подошел к брату и, взяв его за шиворот, выставил вон.
— Глуп он, — угрюмо заметил Антонов, обращаясь к крестьянам, — молод. Вы простите его, прошу вас. Мы с вами теперь одной веревочкой связаны навек. До конца стоять буду. Эй, ты, передай там своим батькам: До последней капли воевать буду! Поломаю коммуну.
— Дурак! — презрительно бросил Фирсов.
— У меня две армии, — взбесился Антонов, — махну рукой — три будет! Кровью залью Россию, в крови большевиков перетоплю. И ваших батек туда же, подлецов, предателей! Продались Советам? Совесть забыли? Мужики, воевать будем, не сдавайтесь!
Мрачные делегаты молчали. Не прощаясь, они стали выходить из комнаты.
Фирсов весело смеялся, вздрагивая и вытирая пот. Рассвирепевший Сторожев подошел к нему, взял за ворот пиджака и встряхнул, как щенка.
— Будя смеяться-то, сука! — и, с силой грохнув Фирсова в угол, вышел.
Глава двенадцатая
1
Ранним весенним утром, когда тянулись по земле длинные тени и было еще прохладно, Листрат и Федька проскочили через антоновское село Ивановку к хутору Александра Кособокова.
Листрат смотрел на крутившегося в седле Федьку, на его ребячье лицо с сияющими глазами и вспоминал тот день, когда Федька уходил в красный отряд.
И вот который месяц служит парень в разведке, да так и не свыкся с будничной боевой жизнью. Эти холодные зори, отсидки в кустах, враждебные села и деревни, где за каждой ригой ждет смерть, были для Федьки такими же новыми, волнующими, как в первые дни; они заставляли сердце быстрее гнать Молодую горячую кровь.
Листрат закурил и, озорно подмигнув, сказал:
— Ишь ты, темляк-то у тебя какой фасонный. Где достал?
Федька одернул ярко-красный темляк на укороченной шашке и солидно ответил:
— А темлячок, братец ты мой, достался мне недавно от одного бандюка. Ухлопали мы его с Чикиным. Хорош темлячок?
Листрат спрятал улыбку в усах и, выпустив облако дыма, заметил:
— Скажи, пожалуйста, что-то я-то не слышал, как вы с Чикиным бандита убили?
— То-то, не слышал, — ответил Федька. — Фасонный темлячок, а? А скажу тебе, братец мой, бандит этот не иначе Сторожева первый помощник. Уж я за ним гонялся, уж я гонялся!
— Да брешешь ты! — ухмыльнулся Листрат. — Брешешь, Федор Никитич! Тебе Оля Кособокова темляк сплела, а никакого такого бандита и не было.
Федька отвернулся и сердито ответил:
— Врут люди. Завидки берут, вот и врут.
Федька хотел что-то сказать еще, но из-за поворота внезапно вынырнул высокий, суровый, с седеющей бородой крестьянин, остановил разведчиков.
— Можно прикурить, служивые?
— Валяй прикуривай, Василий Васильевич, — придержал жеребца Листрат. — Не признал, что ли?
— А-а-а, Листрат Григорьевич! А я все думаю, будто обличье-то знакомое. Бороду ты сбрил, ан и не похож на себя стал.
Мужик говорил неторопливо, степенно поглаживая бороду.
— Ну, что? — спросил его Листрат. — Отдали тебе мельницу антоновцы?
— Отдали. Не дело, чтобы без хозяина оставалась мельница.
— Та-а-ак, — протянул Листрат. — Ну, поехали. Трогай, Федя.
— Куда же вы теперь направляетесь? — спросил мельник как бы невзначай.
Листрат, не отвечая, тронул повод и отъехал. Федька, ударив своего Татарина ногой, бросил:
— К свату на хутор едем — к Александру Афанасьевичу Кособокову. Устали до смерти, измотались. Н-ну, Татарин!
Василий Васильевич посмотрел вслед разведчикам и, не торопясь, пошел к мельнице.
— Дернуло тебя, собачьего сына, за язык, — зло проворчал Листрат. — Тоже разведчик! Стукнуть бы тебя по башке.
— Чего тебе сделалось? — огрызнулся Федька. — Ну, сказал. Тут о зеленых не слыхать. Да и мужик-то свой, отцов приятель.
— Он твоему отцу, дурак, такой же приятель, как я Сторожеву. Твой отец от него трех коров да четырех лошадей в Совет увел в восемнадцатом году, а Василий Васильевич обиду сто лет помнит.
Федька съежился. Листрату стало жаль парня.
— Ну-ну, приободрись, ты, воин! — усмехнулся он. — К хутору подъезжаем. Ну-ка, покажи Оле, как красные разведчики ездят, — и подмигнул Федьке. — Да темляк-то поправь, пускай на темляк взглянет.
Федька подмахнул рукой чуб и выпрямился в седле.
2
Седой сутулый Александр Афанасьевич Кособоков встретил разведчиков приветливой улыбкой.
— Гостечки, гостечки прибыли, — зачастил он. — Вытянулись, похудели. Ох, уж эта мне война, одно наказанье! Дайте я лошадок отведу в конюшню. Овса нет, миленькие, а сенца дам.
Когда Листрат и Федька сошли с коней, Кособоков ласково потрепал по спине Татарина, заботливо отколупнул с крупа кусок грязи и, взяв лошадей под уздцы, повел их в конюшню, крикнув на ходу:
— Заходите, заходите в горницу, ребятки, располагайтесь!
Федька приоткрыл дверь в горницу, там никого не было.
— Высматриваешь? — засмеялся Листрат.
Федька что-то пробормотал в ответ.
Вошел хозяин. Листрат вынул кисет, обрывок старой желтой газеты и стал угощать хозяина куревом.
— Табачок у тебя славненький, — заметил старик, — а у меня в этом году не удался! То завируха, то ездили, хозяйничали всякие. Ну, как сваток наш Никитушка? — обратился он к Федьке.
— Кланяется, — сказал Федька. — Живет, чего ему делается? Ездим, наша жизнь таковская.
— Да, — подтвердил Листрат, — ездим! Кто пашет, а мы вот пашем задницей о седло! Смехота! — И прибавил: — Что это у тебя так тихо?
— Убрал своих. Старушка моя Ольгу в Тамбов повезла, от греха подальше, к дяденьке. Дяденька у нас там на заводе работает. Дело-то, видать, разгорается, Листрат Григорьевич!
— Пойду погляжу лошадей, — пробубнил огорченный Федька. — Разболтался, а о лошадях-то и забыл, вояка!
Кособоков в последний раз затянулся, выбросил цигарку в окно и разгладил усы.
— С малолетства народ к крови приучается. Что будет, а?
— Ничего плохого не будет, — отвечал Листрат. — Кровь-то дурную выпускаем!
— Много ее, всю не выведешь.
— Какую можно, ту и выведем.
— Поспешили бы вы, — с тоской заговорил Кособоков. — Земля скучает, пустая лежит, бесплодная, мужика землица к себе требует. Выйдешь в поле, Листрат Григорьевич, горько на душе становится. Сколь много земельки, а мы из-за нее воюем. Все бы ужились без драки, а?
— Вы бы ужились, — зло подхватил Листрат, — да иным скоро тесно становится. Иные властвовать над землей хотят. Этих и выводим.
В чистой избе надоедливо жужжала муха, Монотонно тикали на стене часы. Кособоков задумчиво барабанил пальцами по столу. Листрат курил и смотрел на серо-голубые кольца дыма. Был тих и спокоен весенний хрустальный день.
— Нам, Листратушка, — заговорил Кособоков, и глаза его засверкали, — власть бы покрепче, несправедливей. Чтобы без баловства, без обиды, чтобы не ездили зря, не топтали землю, не обижали мужика.
— Крепче нашей власти нет, — ответил Листрат. — Власть наша — все, у кого на руках мозоли.
Кособоков отнял свои руки от стола — они у него были черствые, широкие, с синей сетью набухших вен, с заскорузлыми согнутыми пальцами.
— Тебя никто не трогает? — спросил Листрат.
— Сохрани бог, Листратушка, да и что я? Ни богат, ни беден, верчусь на середке. — И с тоской прибавил; — Работать бы нам в спокойствии, пахать, сеять…
— Ничего, скоро успокоим Тамбовщину… Разверстку отменили, среднему мужику почет и уважение. Только работайте, дескать, Ленин-то декрет, слышь, подписал. Вот-вот получим.
— Это дюже хорошо — улыбнулся Кособоков.
Вошла стряпуха Катерина, внесла яичницу.
— Кушайте, — сказала она. — Яички-то не купленные, свои яички, кушайте с богом.
Катерина положила ложки, вынула мутно-зеленую солонку.
Листрат взял нож, нарезал хлеба, потом открыл окно и хотел позвать Федьку. И увидел — из зарослей, верстах в четырех от дома, выскочили всадники и мчались прямо к хутору.
3
Федькин Татарин был норовистый, нехороший мерин. Вот и сейчас он не хотел выходить из конюшни. Давно выскочил Листрат, и конь под ним ходил ходуном, а Федька все возился с Татарином. Буйный жеребчик бил ногами, таращил глаза, извивался, дрожал, но не шел. Федька тащил Татарина за повод, толкал, уговаривал, кричал; Татарин не хотел выходить из конюшни.
Федька завизжал от злобы и отчаяния и сам удивился этому звериному, истошному визгу, поднявшемуся изнутри, оттуда, где засел страх. Через пять-десять минут сюда нагрянет Сторожев. Федька знал: Сторожев пообещал с каждого пойманного разведчика из отряда Сашки Чикина содрать шкуру. Сторожев зря не божился, а в чикинском отряде об этом знали.
Зол был Сторожев на чикинских разведчиков!
— Смотришь, ничего такого, все тихо, все гладко, — говорил Сторожев, зло покусывая ус, — ан, он тебе как шип в задницу. Ну, сукины дети!
Поймает Сторожев Федьку — выдумает он ему казнь! И мальчишка заплакал от злобы, оттого, что так глупо приходится кончать жизнь, — поди-ка ты, лошадь свою не сумел из хлева вывести!
— У-у, собака! — прорычал Федька на Татарина, — Пристрелить бы тебя, кобеля!
Вдали уже слышались беспорядочные выстрелы; это Листрат, выскочивший с хутора, стрелял по антоновцам, задерживая их, поджидая Федьку. А Федька огрел Татарина шашкой по спине, снял винтовку, бросил ее в ясли, закрыл соломой и хотел было засесть в конюшне отстреливаться (у него было еще полсотни патронов к кольту и две гранаты), но тут в дверях показался Кособоков.
— Беги, — зашептал он, — беги в сад! Там солома старая, лазь в нее, слышь. Да кому я говорю-то, бес, беги, спасай шкуру!
Когда Федька, нелепо согнувшись, побежал в сад, придерживая болтающиеся на поясе гранаты, Сторожев галопом выскочил на бугор, погрозил кулаком Листрату, повернул к хутору, шагом подъехал к крыльцу, снял шапку, пригладил волосы, провел по усам ладонью и слез с седла. Бросив поводья подоспевшему вестовому, он еще раз провел ладонью по усам, подал руку Кособокову.
— Здравия желаю, Александр Афанасьевич! Как твоя жизня?
— Какая уж там жизня, — ответил Кособоков, медленно свертывая цигарку. — Была жизнюшка, да вся вышла…
— Листратка у тебя был? — спросил Петр Иванович. — Наезжают до тебя?
— Дороженька не заказана. Листратка уехал, ты приехал, ты уедешь, глядишь, еще гость нагрянет. Да что же мы стоим-то? Захаживай! Листратушке яиченьку готовил, а тебе есть пришлось. — Он беззлобно посмеялся.
Сторожев отдал распоряжение отряду, вытер ноги, вошел за Кособоковым в избу, на пороге снял шапку, отряхнул ее, отложил в сторону и истово стал молиться. Потом медленно и чинно ел, а когда кончил, очистил усы от крошек и сказал, как бы продолжая свою мысль:
— Разве его, Листратку, догонишь? У него лошадь первая в уезде. Хорошего, подлец, жеребца увел!
— Добрая лошадь! — отозвался Кособоков, обрывая неотвязную мысль о Федьке. — Во всех статьях конь!
— У нашего командира полка увел жеребца из-под самого носа, собачий сын, — с восхищением сказал Сторожев. — Цыган, ей-богу, цыган!
— Скоро вы, Петр Иванович, мир установите? — тоскливо спросил Кособоков. — Мечется народ, страдает, пахать бы нам, сеять, не наше дело войну воевать. Ты скажи, для того ли мы пашем землю, чтобы по ней отряды скакали?
Сторожев кашлянул, хотел было что-то сказать, но тут вошел курносый парень, одетый в рваную шинельку, вестовой Афонька Курносый — Петр Иванович взял его после того, как ушел к красным Лешка.
Приложив руку к соломенной шляпе, из дыр которой торчали белесые клочки волос, Афонька зашептал что-то, нагнувшись к уху Сторожева. Тот внезапно стал очень суров, лицо его посерело, а складки на лбу сделались глубже. Он вытер насухо губы и усы, нашел шапку и сказал:
— Эк негоже получилось! Хлеб-соль я у тебя ел, в гостях я у тебя был, негоже после хлеба-соли с хозяином счеты сводить, а придется.
Он бросил жесткий взгляд на Кособокова, застывшего в неизъяснимой тревоге, и, подойдя вплотную к нему, грубо спросил:
— От гостей кого прячешь? Кто с Листратом был? Ну? — В голосе Сторожева зазвенела железная струна.
Со двора в окно закричал кто-то:
— Петр Иванович! В хлеву лошадь стоит. Ребята бают: Федькина лошадь, надо быть!
Сторожев постоял, потом, тяжело ступая, вышел из избы, крикнув с порога:
— Вывести!
Афонька поглядел на ссутулившегося Кособокова, сплюнул на пол и толкнул старика к двери.
Кособоков вышел на крыльцо.
Кучка вохровцев, ругаясь, тянула из хлева Татарина, а тот упирался, бил копытами, рвался и тряс мордой, глаза его, налитые кровью, дико смотрели на толпу. Внезапно конь попятился в хлев, затем подался стремительно вперед, отчего люди, державшие его, повалились на землю. Взмахнув хвостом, Татарин кинулся в сторону, за деревья, вильнул вправо, влево и скрылся в зарослях ивняка.
— Федькина лошадь! Его конь, Татарин! — пронзительно закричал Афонька. — Тут он! — Потом вытянулся перед Петром Ивановичем, козырнул, сгибая корявые пальцы у шапки — Прикажете допросить старичка насчет Федьки?
Сторожев бросил цигарку, посмотрел на Кособокова, стоявшего на крыльце без шапки, в белой длинной рубахе, в штанах, опадающих на босые черные ноги, и важно молвил:
— Мне неудобно с ним разговаривать, я у него хлеб-соль ел. А тебе можно. Тебе почему не поговорить со стариком? Пускай он скажет, где Федьку схоронил. У меня с Федькой свои счеты, он в мою избу бомбу кинул. Бели ты мне, сукин сын, Федьку не найдешь, я с твоей спины ремни драть буду.
— Посечь можно, если язык у него не пойдет?
— Что же, — сказал Сторожев, садясь на приступку. — Посеки, ежели что. Не до смерти только, он мужик трудящий.
Афонька взмахнул плеткой и, тараща глаза, стараясь сделать лицо страшным, подбежал к Кособокову.
— Был Федька? — заорал он.
— Был, — тихо ответил Кособоков и переступил с ноги на ногу. — Были с Листратом вместе.
— А что же ты молчал, пес седой? — закричал Сторожев. — Что же ты молчал, подлец?
— Не спросил ты меня, Петр Иванович, о Федьке. Ты про Листрата спросил, это точно. Я и сказал. А Федюшку ты не вспомнил, что ж мне болтать?
— Ты мне куры-муры не разводи! Ишь, куры-муры строит, седой черт! Коммунистом заделался! Ты говори, где Федька? — взвизгнул Афонька.
— Не знаю, — твердо сказал Кособоков.
Афонька размахнулся плеткой и ожег ею Кособокова.
— Скажешь?
— Нет!
Свист плетки опять прорезал синюю прозрачную тишину дня.
Кособоков стоял, торжественный в своем упорстве, и только крупная мутная слеза катилась по его морщинистой щеке.
Сторожев трясущимися руками вынул револьвер, взбежал по ступенькам и, упершись дулом в живот Кособокова, глухо бормотал, брызгая слюной:
— Сволочь! Скрываешь? Сам найду, на твоих глазах кожу драть буду!
Кособоков мотнул головой. Сторожев с размаху ударил его рукояткой револьвера по голове, потом по животу. Старик, охнув, согнулся и тихо стал падать на землю, колотясь головой о ступеньки крыльца, пачкая их кровью.
Сторожев постоял, размахивая плетью, потом круто обернулся к отряду и приказал:
— Разноси!
Афонька хотел было вскочить в избу, но Сторожев перехватил его и, тяжело дыша, сказал:
— Все вверх дном перерыть, но чтобы Федьку найти! Без Федьки не показывайтесь, убью.
Афонька перемахнул через отраду в сад.
4
Федька лежал под соломой, и ему казалось, что нескончаемо длинно тянулись минуты, и эта страшная тишина беспредельна.
Солома колола лицо, мошкара забивалась в уши. Двигаться было нельзя, потому что каждое движение сопровождалось, как казалось Федьке, грохотом и треском. Кровь его бурлила, мутила сознание, и тогда в глазах делалось темно и сердце сжималось.
Потом сердце как бы переставало биться, и тишина наполнялась нестерпимым хрустом и шумом. Перед внутренним взором Федьки то доброе материнское лицо мелькало, то вставал какой-то давно забытый образ или обрывок чего-то виденного и пережитого; путались и бились мысли, гадливая мелкая дрожь поднимала тошноту.
В этой настороженной тишине, в бесконечном молчании ясного вешнего дня Федька услышал шаги людей.
Они шарили в кустах, заглядывали в постройки и шалаши, осматривали каждую рытвину и заросль, обошли сад, дошли до пруда и, наконец, натолкнулись на старый, слежавшийся соломенный стог.
Затаив дыхание, неестественно напрягая мускулы, так что ныло все тело, стиснув зубы, Федька слушал заглушенный соломой разговор.
— Разроем? — спросил один.
— Ну его к матери! Так пощупаем. Ежели тут, пискнет.
— Афонька!
— Ну?
— А может быть, и не было его?
— Дура ты тамбовская! Не было… Татарин-то чей? Вся округа его Татарина знает. Да и Василий Васильевич сказал, с Листратом они ехали.
Люди взобрались на кучу. Через миг стальное жало шашки прорезало слежавшуюся толщину соломы — около своей ноги Федька почувствовал ее холодное прикосновение. Федька сжался в комок и лежал с широко открытыми глазами, ничего не помня.
Шашки с шумом входили в солому, разрезали ее, вились около Федькиного тела, то проскальзывая мимо руки, то задевая волосы. Они, как змеи, извивались и окружали Федьку.
Голова у Федьки налилась огнем, челюсти онемели, тело помертвело.
«Не крикнуть, не крикнуть бы, — стучала мысль. — Не крикнуть бы, — кричало сердце, — не крикнуть бы, не выдать себя на растерзание, на страшную, дикую расправу, на смерть…»
И вот, когда мысль перестала работать и Федька стал погружаться в серый обморочный туман, в этот миг шашка прошла сквозь левый рукав, сквозь живое мускулистое мясо и глубоко вонзилась в землю. Потом, с силой выдернутая, очищенная соломой от крови, ушла снова наверх.
Нет, не выдал себя Федька, не крикнул.
5
Вне себя от бешенства, Сторожев избил Афоньку, поджег хутор и уехал.
Огонь пожирал избу, ригу и хлева, взметывались вверх языки пламени, когда Федька вылез из соломы.
Кособоков стоял неподалеку от пожарища.
Он был страшен в кровавом отблеске пламени. Капали слезы на землю, рыдания глухо вырывались из груди. Где-то в зелени деревьев глухо и беспомощно вопила Катерина, а кругом валялись клочки одежды, постели, разбитые горшки, столы и скамейки.
Кособоков увидел Федьку, повернулся к нему и сказал:
— Федя, дитятко, ты же седым стал! — И, припав к плечу мальчишки, старик зарыдал, вздрагивая плечами.
В этот миг Федька вспомнил мельника Василия Васильевича. Он перевязал раненую руку, проверил, заряжен ли револьвер, и пошел в Ивановку через кусты.
Светало, когда од постучался к мельнику. Василий Васильевич вышел и узнал Федьку.
— Иди, — сказал Федька, — молись, пока идешь, некогда мне.
Глава тринадцатая
1
Теплая, радостная шла весна.
Жирная, потная земля до отказа напилась вешними водами. По утрам стояли в полях тяжелые туманы.
Солнце приветливо улыбалось миру, ласкало землю.
Потянулась к нему молодая кудрявая трава, в голубом раздолье запел песню жаворонок, в лесу сосны и ели отряхивали с плеч зимнюю дрему, расправляли ветви и важно шумели.
Сладко пахло весной.
По утрам, когда розовая заря неровным отблеском ложилась на поля, страстными криками наполнялся лес, любовью и ревностью жил он.
С каждым днем прибавлялось тепло, уже на пригорках зазеленела редкая, несмелая озимь.
Черная жирная земля ждала мужика с плугом или сохой, бороной и сеялкой.
И он, как охотник, которого по весне знобит лихорадка, выходил на огороды, брал в руки тяжелые комья земли, вдыхая жаркий, сочный запах ее — разомлевшей от весеннего тепла.
Он выходил в поля и, тоскливо махнув рукой, уходил — не паханы с осени, зарастут бурьяном, лебедой.
Пахать бы сейчас самое время. А как пахать, если по полям носились полки и отряды, и гремели пушки, и стрекотали пулеметы там, где должна была звучать лишь песня пахаря.
Перед началом военных действий Антонов-Овсеенко поехал к Ленину.
— Сдается нам, — сказал ему Владимир Ильич, — что тамбовские крестьяне не знают решений Десятого съезда и наших последних декретов. Скрывает от них Антонов правду. Постарайтесь проверить это. Начинать надо, с того, чтобы как можно шире оповестить народ о новой нашей политике. Подумайте об этом.
И, как всегда, прав был Ленин. Тамбовский мужик не знал декретов советской власти. Вся страна жила ими и говорила лишь о них. До тамбовского крестьянина не доходили решения партии, не проникал голос советской власти, а если и проникал — появлялись агенты союза и навсегда зажимали рот тем, кто хотел донести до мужиков правду о новой жизни и новых порядках…
— Скажем так, — рассуждал Антонов-Овсеенко с членами полномочной комиссии, — надо начать с того, что рассказать мужику о новом курсе. Но как рассказать?
Некоторые из штабистов советовали, нагрузив аэропланы листовками, послать их в глубокий тыл врага. Антонов-Овсеенко отмахивался. Ну, один, ну, два-три раза аэроплан пробьется в тыл, сбросит прокламации, потом его подстерегут и подобьют.
Легковесно!
Нет, дело не только в аэропланах. Конечно, и они нужны, но не в этом главное. И не в том дело, чтобы занять село, оставить листовки и уйти из него, — через час придут антоновцы, листовки сожгут, тех, кто читал, выпорют, и все пойдет по-старому.
Нет, необходимо медленное, верное, рассчитанное движение войск.
Железным кольцом надо охватить восставший район, занимать мятежные села и закреплять их за собой. Прочесывать леса, поля, кусты и вылавливать антоновцев. Уничтожать комитеты союза, восстанавливать советскую власть, и каждый час, каждую минуту не забывать о главном — рассказывать крестьянам о новых решениях партии, разъяснять декреты, новые пути.
До поздней ночи горел свет в кабинете Антонова-Овсеенко: заседала полномочная комиссия. Шли горячие споры, и в них рождался план войны с Антоновым.
Говорил командарм Тухачевский:
— Враг силен, поэтому-то против него мы и ставим немалую силу. Но эту силу надо правильно использовать. Не увлекаться победами над крупными соединениями, уничтожать не только антоновские полки, но вылавливать каждого бандита и, если он не сдается, уничтожать его.
Вскоре в Тамбов пришло новое подкрепление: Центральный Комитет партии прислал сотню коммунистов — агитаторов, пропагандистов.
И вот закипела жизнь в городе, которому не раз угрожал Антонов.
2
К этому же времени из дальних уездов, со станций и сел, городов и рабочих поселков на губернскую партийную конференцию ехали коммунисты, истосковавшиеся по мирной жизни и работе. Они приехали оттуда, где кипела борьба, ждали новых слов и плана действий.
Сурово и жестко критиковали коммунисты Тамбовщины ошибки предыдущего командования — дергание и распыление сил, погоню за случайными победами и трофеями, томительное блуждание отрядов за Антоновым, неумение сколотить бедноту.
Страстью была наполнена речь Антонова-Овсеенко. Как бы воочию видел он перед собой истерзанный край, измученных войной людей, тысячи упорных, свирепых врагов, десятки тысяч обманутых — им лишь надо раскрыть глаза.
Он показывал на карту губернии, полыхающую огнем восстания, упоминал о заросших бурьяном полях, где каркают лишь вороны, о потоках крови, о сожженных селах и разрушенных избах, о разобранных путях, о сиротах и вдовах, о миллионах пудов хлеба, которые теряет голодная Республика, потому что не выходит на борозду пахарь и не засевает свою полосу. Он заявил делегатам, что полномочная комиссия все эти месяцы работала над планом боевых операций и теперь план готов во всех деталях. Он предупреждал, что времена предстоят трудные и суровые.
Командующий вооруженными силами Тухачевский изложил главные принципы будущих военных действий. Он отметил, что живучесть антоновщины обусловлена рядом серьезнейших факторов, с которыми невозможно не считаться: детальное знание района, отлично поставленная разведка и связь, обильные и близкие источники комплектования и снабжения. Эти условия, делая повстанческие полки легкими и подвижными, создают впечатление неуловимости, дают им возможность немедленно восстанавливать свои силы после неудач. Разбить полк или отряд, как указывает вся история борьбы с повстаньем, далеко еще не означает уничтожения их; это самая легкая часть задачи. Тактика Антонова — типическая тактика партизан. Было указано и на слабые стороны повстанья. Прежде всего полная зависимость от местной среды. Представитель командования снова подчеркнул, что было бы грубейшей ошибкой полагаться только на военную силу. Она лишь одно из средств борьбы в общей совокупности средств, мобилизуемых государством.
Антонов-Овсеенко, согласившись с планом командования, снова напомнил, что военные операции лишь одно из средств борьбы. Главную тяжесть ее должны нести политические органы. А главная трудность, которая станет перед ними, заключается в том, чтобы не упустить момента перелома в настроении крестьянства, уловить его и соответственно с этими новыми настроениями установить новое направление политики.
Коммунисты Тамбовщины одобрили планы военного командования и все, что касалось политической стороны дела. Полномочная комиссия утвердила их.
Конференция коммунистов обратилась с воззванием к тамбовским крестьянам.
Партия показывала мужикам на Петра Сторожева и ему подобных и говорила им:
— Вот ваш настоящий, давнишний враг. Это они, сторожевы, изобрели кабалу, страшней которой нет ничего на свете. Это они, сторожевы, хотят завладеть землями, банками, машинами, властью и, пуская по миру вас, богатеть самим. Вот кто питает Антонова, бейте же их — и того и другого! У рабочих, у средних и бедных крестьян — один враг: эксплуататор и его наемник. Уничтожим эксплуататоров и их наемников и будем жить по-человечески, будем свободно жить, свободно работать и распоряжаться плодами своей работы…
Тухачевский отдал приказ о сосредоточении войсковых частей и кавалерийской бригады Григория Котовского в исходных пунктах. Было приказано охватить восставший район железным кольцом и, сжимая его, оставлять в занятых селах красноармейские взводы, подкрепленные вооруженными отрядами местных коммунистов и добровольческими крестьянскими дружинами. Эти соединенные отряды восстанавливают советскую власть, прочесывают леса, лощины, кусты, вылавливают антоновцев, уничтожают их небольшие отряды, отбирают оружие, конфискуют имущество активистов повстанья и каждую минуту помнят о главном — знакомить крестьян с новыми решениями партии, с новыми декретами.
Тем временем военные силы должны уничтожать антоновские полки, мешать карты антоновского Главоперштаба, не выпускать повстанческих полков из Тамбовщины, не давать им покоя, преследовать по пятам, прижимать к рекам, вынуждать к открытому бою.
Нелегким был путь к победе!..
3
В мае началось…
Над селами появились аэропланы, но летчики не сбрасывали бомб, — вместо них летели на землю листовки: декреты о налоге, об отмене разверстки, о свободной торговле. Листовки расхватывались мгновенно; за ними тайно приезжали из тех сел, куда аэропланы не залетали.
Антонов приказал во что бы то ни стало сбить аэропланы. Под Сампуром подстреленная машина, объятая пламенем, упала среди поля.
Агитаторы Антонова плетками сгоняли народ на митинги.
— Ленин новый декрет выпустил, милки, — уговаривал мужиков Плужников. — Не верьте красноте, братики, брехня! Обдерут новым налогом, как липку. Держитесь за нас, отцы, погибать, так вместе!
Красные меж тем упорно шли вперед, занимали одно село за другим. Они появлялись и ночью и днем, в тылу и с флангов, большими соединениями и малыми отрядами, тревожили и не давали Антонову ни минуты покоя.
Фронт был везде, каждая деревенька становилась крепостью.
Войска шли, оставляли в селах вооруженную охрану, ревкомы и двигались дальше, сжимая к центру главные антоновские силы.
Ревкомы вылавливали эмиссаров союза, конфисковывали имущество кулаков, раздавали его ограбленным крестьянам. В каждом деревенском дворе появились газеты, где рассказывалось о новых декретах. И понял народ: на этот раз Антонов не ускользнет. И видел народ: пришла сила — суровая к сопротивляющимся, снисходительная к обманутым, ласковая и заботливая к обиженным. И знал народ: один за другим гибнут полки Антонова. И с каждым днем убеждался: новые декреты не обман, не хитрость.
— За Антонова взялись взапрок, братцы! — шумел Андрей Андреевич. — Сам Ленин за него принялся. Каюк ему!
4
В конце мая Антонов оставил Каменку.
В последний раз проехал Антонов по сумрачным улицам «ставки», в последний раз услышали каменские мужики лихие переливы гармошек и то, что выводили с присвистом песенники:
Пулеметы затрещали, Александр кричит: «Ура! По колени в крови стану, Чтобы власть была моя!»Да, держался еще Антонов за власть, еще писал воззвания и приказы, бахвалился своими войсками. Но даже самые верные деревни и хутора смотрели неласково, все чаще убегали люди из полков. А тут Советы объявили добровольную явку, гарантируя свободу каждому сдавшемуся с оружием. Архангельский полк всем составом при оружии отдал себя в руки красных.
Кряжистые мужички знали о разброде в армии Антонова, но сдаваться еще не думали. Да разве они сила? С одними богатеями долго не повоюешь, — это Антонов хорошо понимал.
В конце мая он снова попросил собрать комитет. Делегаты заявили: мирские сходки поручили им хлопотать о прекращении восстания.
Антонов накричал на них и самолично закрыл совещание. Делегаты покинули помещение, полные злобы и негодования: ругань Антонова взбеленила их.
Тяжкие начинались для антоновцев времена. Села откалывались от восстания. Нечем стало кормить людей, лошадей, и не на чем стало ездить. Антонов распорядился брать лошадей и продовольствие силой. Да иного выхода и не было: надвигалась на восставших железная стена броневиков, бронепоездов, орудийных батарей. Красные жали Антонова к лесам, и он уходил туда, как волк в логово, чтобы отлежаться, залечить раны, войти в силу и вновь выйти на охоту.
Антонов сократил фронт, отказавшись от операций в дальних районах, приказал Косовой вывезти оттуда хлеб и продовольствие, фураж и оружие. Потом вызвал из Грязного Сторожева.
В теплый вечер Сторожев явился в штаб; он помещался теперь в лесу. Сумрачно встретил его Антонов; угрюмая складка прорезала его лоб.
Он приказал Сторожеву сдать вохровский отряд Герману и уйти в подполье; нужно будет поддерживать связи, собирать, если можно, людей, держаться до последнего вздоха, чтобы знали: жив Антонов, он еще борется, он еще силен.
Сторожев тяжело взобрался на лошадь и поехал, сам не зная куда.
Книга третья ВОЛК
Глава первая
1
Итак, уничтожение живой, боевой силы повстанья и создание политического перелома в сознании среды, питавшей антоновщину, — главные задачи.
Красные части очищают от бандитов село за селом, волость за волостью.
Войска разделены на группы, участки и районы. Политические комиссии на местах созданы: их задача — воссоздание разрушенного советского аппарата. Представитель ВЧК установил контакт с полномочной комиссией и командующим войсками и принялся выполнять свою задачу: ловить антоновцев после распыления повстанческих полков.
Курсантские части Московского и Орловского военных округов направлены в центр восстания: Трескино, Калугино, Каравай.
Это был смелый и разумный ход: курсанты перехватили обычный путь антоновских полков и сдвинули их питательные базы к югу — на Балашовскую ветку.
На Трескинских лугах, там, где в девятнадцатом году Антонов собирал дезертиров, будущее ядро своих армий, курсанты построили окопы, наблюдательную вышку и начали систематически очищать район.
Курсанты, заняв огромный район — сердце повстанья, вели разведку, захватывая по радиусу вое большую территорию, не давая противнику даже приближаться к нему.
Важнейшие базы Антонова рушились. В Балыклее, Инжавино, Рамзе, Трескино и Калугино восстановлены Советы: мужики несли повинную. Эти места уже безвозвратно были потеряны им.
Но Антонов и на этот раз перехитрил красное командование: он ушел от разгрома, избрав кружной путь через Хитровщину, Паревку, вниз на Никольский Перевоз, пересек железную дорогу и устремился на юг — в Саратовскую губернию. Главная боевая сила, самые отборные полки — Паревский, Низовский, Семеновский, гвардейский Санфирова, Верхоценский и Нару-Тамбовский — вышли из окружения.
Вдогонку за Антоновым командарм послал сильную группу Уборевича.
2
Вспомнив старые добрые времена, Антонов снова захотел поиграть в кошки-мышки, поводить, помотать красных, утомить, обессилить и разбить.
Он уходил от красных, меняя лошадей, делая в сутки по сто верст.
Но красные наседали.
Антонов уходил на юг: ударная группировка Уборевича неотвратимо настигала его. Александр Степанович отвертывался от укусов, петляя, заметал следы, но то, что так легко вершил он среди преданных мужиков Кирсановщины, шло прахом здесь, в окружении озлобленных разорением саратовских мужиков.
Ох, сердит был Антонов на саратовское мужичье! Ни лошадей, ни кормов, ни ночевок; ненавидящими взглядами встречают, яростными — провожают.
Под Еланью Антонов принял бой. Уборевич разгромил его, разгромил так, что казалось, после этого удара не оправиться Александру Степановичу.
Приказав разгромленным полкам распылиться и спасаться кто как может, Антонов назначил им сбор в Черкасских и Пущинских лесах Кирсановщины, а сам с несколькими штабными работниками, братом Димитрием, Абрашкой, комендантом Трубкой, адъютантом и десятком до зубов вооруженных охранников пробился через заслоны красных.
Тщетно искали его под Еланью среди убитых; тщетно опрашивали пленных: никто не знал, где главарь восстания. Он исчез, он не был еще сломлен.
Однажды прошел слушок, будто Антонов объявился в излюбленном своем крае — в лесах около Рамзы и Паревки. Председатель тамбовской Чека Антонов, много раз и тщетно пытавшийся схватить своего однофамильца, на этот раз решил: «Александр Степанович из моих рук не уйдет».
Кавалерийский эскадрон дивизии Котовского оцепил участок, где скрывался Антонов с небольшой группой до конца преданных ему людей. Казалось, нет выхода Александру Степановичу, заткнули чекисты и бойцы Котовского самые узкие щели, через которые мог протащить свое хилое тело вожак восстания.
Антонов сидел в болотах, среди кочек, зная, что кольцо вокруг него неотвратимо сжимается. И он придумал выход. Шестерым охранникам Александр Степанович приказал добровольно сдаться: красные не расстреливали тех, кто приходил к ним с повинной. И они сдались, но на допросах слова не молвили об Антонове.
— Видеть не видели, слышать не слышали.
Пошарили еще в болотах и озерах: никого! А Антонов в то время сидел с братом, адъютантом и еще несколькими людьми по горло в озере, поросшем тростником, и выжидал, когда красным надоест эта «волынка». Он сидел в озере двое суток без еды, содрогаясь от холода, — и высидел. Красные ушли; Антонов сел в заранее приготовленную лодку, переехал озеро и скрылся.
Чекист Антонов три дня сурово молчал: не мог простить себе ротозейства — провели его за нос, поддался на удочку!
Александр Степанович пробрался туда, где скоплялись остатки рассеянных и уничтоженных полков, и занялся их переформированием.
Так обстояло дело на юге.
Хуже для повстанья шли дела на севере губернии. Армию Богуславского разгромили, кончили свой век полки Марьи Косовой, Карася и другие. Уцелевший полк Бадова занял село Чекмари, к северу от Тамбова, грабил и насильничал: это уже была агония повстанья. Бадов своими разбойничьими повадками подписывал ему смертный исход. Этот бандит сопротивлялся в течение двух месяцев, уходил в леса под Горелое, Троицкую Дубраву, прятался в Голдымском лесничестве, потом в лесничестве Хмелинском, много раз переходил Цну, нападал на мужиков и снова уходил в леса. Только к августу волости Горельскую, Черняновскую и Лысогорскую очистили от остатков бадовской шайки.
К тому времени шесть тысяч повстанцев явились в трибуналы и ревкомы добровольно — без оружия и с оружием. Взято в плен пять тысяч, убито в боях около четырех тысяч. Тридцать четыре пулемета, около трех тысяч винтовок, сто семьдесят пулеметных стволов — таковы были трофеи красных.
Но на юге еще повстанье жило. Там, оправляясь после поражения, нанесенного Уборевичем, Антонов сколачивал полки.
Глава вторая
1
В Двориках пусто — народ в поле. Дома остались старухи и дети. К тихому вечеру брело солнце. В церкви прохладно; на полу лежали блики заката, через открытые окна и двери ветерок доносил вечерние шорохи.
Отец Степан вполголоса, словно про себя, читал молитвы, ему неторопливо вторил псаломщик.
В углу, сгорбившись, стоял Сторожев. Странно было видеть этого ссутулившегося, вооруженного с ног до головы человека у вечерни, таким он казался непонятным и чужим.
Волк, слушающий «Свете тихий»… Люди, пришедшие в церковь со своими заботами, тяжело вздыхая, косились на него.
А он не видел их взглядов, не слышал их шепота и горьких вздохов, ушел в себя, забылся.
Когда кончилась вечерня, Сторожев шаркающей походкой вышел на улицу.
Вздымая клубы теплой пыли, наполняя село пронзительным блеянием, устало шло овечье стадо. Вслед за ним проскрипел одинокий воз — везли молодую траву. Солнце облило воз последними своими лучами. Лениво пролаяла собачонка, пробрела, пугливо озираясь, корова, женский визгливый голос прокричал:
— Ва-а-ня-я, ужи-и-инать!
Тени пересекали поросшую травой дорогу.
Солнечный луч, казалось, заново вычеканил старый крест на колокольне.
Около церковной сторожки, поводя ушами и отмахиваясь хвостом от вечерней мошкары, лениво щипала траву лошадь.
2
Петр Иванович поправил уздечку, крякнул, поднялся в седло, перебрал поводья и хотел было ехать ужинать, когда белоголовый мальчонка выскочил откуда-то и сунул ему бумагу.
— Верховой давеча прискакал, — запыхавшись, сказал он.
Потрогав рукой медную оправу ножен шашки и восторженно щелкнув языком, парнишка исчез так же стремительно, как и появился.
Сторожев, надев очки, разорвал конверт и прочел бумагу. Была она от Антонова, он писал в ней, что пора Сторожеву покинуть село.
«…Уходи в леса и поля, разрушай, что строят коммунисты, взрывай мосты и дороги, жги и убивай. Пусть знают, что мы живы, пусть помнят, что скоро снова дадим сигнал и вновь разгорится пламя от края до края страны…»
— Конец! — хрипло выдавил Сторожев.
Он знал: многие отряды уже разбиты, его товарищи, прижатые к Вороне, Хопру, погибли, захлебнувшись в яростном огне пулеметов.
Широкой, неудержимой лавиной надвигались красные полки и дивизии, конники Котовского проникали повсюду. Громыхая, катились броневики и орудия. Они были уже недалеко от Двориков, и вот надо забиваться в глухие норы и лишь темными ночами появляться, озарять пламенем пожаров темные ночи и опять прятаться в овраги, в леса и ждать сигнала.
Солнце окунулось в черные тучи, и на миг кровавым заревом запылал небосклон.
Сторожев заехал домой, взял белье, мешки с сухарями и, сурово простившись с семьей, уехал. Недалеко от села, где месяц назад он закопал патроны, Сторожев остановился, еще раз тщательно укрыл яму, забросал сорняком, постоял, подумал, вздохнул и снова поехал.
Лошадь, понурив голову, медленно шла, ступая по мягкой теплой пыли.
Глава третья
1
К тому времени Листрат установил постоянную связь с регулярными частями Красной Армии, раздобыл запас фуража, продовольствие.
Люди повеселели, зимние тяжкие дни стали забываться, впереди чудился просвет.
Когда лошади вошли в тело, Сашка Чикин снова принялся за старую работу. Во главе двадцати удалых ребят — почти все они были комсомольцами — Сашка налетал на села, присоединившиеся к Антонову, вылавливал вохровцев, антоновских милиционеров, комитетчиков, возил в село листовки и газеты, забирался порой под самую Каменку.
Федька после происшествия на хуторе Кособокова стал отчаянным до безрассудства. Листрату приходилось часто брать парня «на цугундер». Но Федька, отбыв наказание, опять пускался в самые рискованные предприятия. Сашка Чикин смотрел на проделки Федьки сквозь пальцы — храбрых людей он любил.
— Боевой коммунар растет, — говорил он Листрату. — Храбрец!
— Храбрость не ум, — хмуро замечал Листрат. — Попадется дурак, как кур во щи, помяни ты мое слово. Мне каждый человек дорог, а он как сумасшедший носится, вихор его забери! Вот я вас обоих на цугундер.
Сашка Чикин просил Листрата пустить в его отряд Лешку, но Листрат упорно сопротивлялся: он еще не совсем верил брату.
Лешка тосковал по Наталье, рвался к ней и мог ради свиданья пойти на любой безрассудный поступок. Листрату казалось, что Лешка снова может уйти к Антонову, лишь бы видеть Наташу.
«Непутевый парень, — думал Листрат, — шалопутная душа. Туда и сюда вихляет. Не-ет, его в разведку нельзя, его на глазах держать надо».
И никуда от себя не отпускал брата, а потом поручил ему хлопотливые хозяйственные дела.
К этому времени в добровольческом коммунистическом отряде было уже около четырехсот человек. У многих коммунистов тут же, на станции, по-прежнему жили семьи. Всех их надо было кормить, дать жилье, топливо. Лешке, которому Листрат поручил заботу о людях, приходилось заниматься сотней дел, — это отвлекало его от мрачных дум о Наташе.
Он не знал, что делается в Двориках, связи с селом не было, там еще сидели антоновцы. Приходили к Листрату мужики из соседних сел, и, как назло, никто из них ничего не знал о Наташе.
И не только думы о Наташе терзали Лешку. То ему казалось, что он сделал подлость, убежав от Антонова, то представлялось, что и брат и все коммунисты не верят ему, злы на него, не считают своим, сторонятся его.
Только с Федькой Лешка мог говорить по душам. Он, не стесняясь, расспрашивал его обо всем, что ему было непонятно, неясно. Федька читал Лешке газету, рассказывал все, что слышал от старших. Рассказы его звучали страстной уверенностью.
— Скоро Антонову будет конец, — убежденно говорил Федька, и глаза его блестели. — Ленин на Десятом съезде сказал такую речь — Антонову от нее крышка.
— Ну, брат, и загнул, — насмешливо возразил Лешка. — Сказал речь — и уж крышка! От речей ему ничего не будет.
— Дурак! Иная речь целой армии стоит. Война кончилась, разверстка не нужна, с хлебом делай, что хочешь, середняку и вера, и почет, и дружба, — что же тебе еще надо? Антонов среднего мужика на продразверстку поймал, а теперь на что он его поймает? С кем ему выгодней дружить, как по-твоему: с рабочими или со сторожевыми?
— Сторожев тоже сила, — пробубнил Лешка.
— Верно, сила! — закричал Федька. — Да ведь против него три силы: рабочие, мужики, партия. Посчитай, что оно выходит!
Но с Федькой Лешка виделся редко, разговаривал урывками, и после этих разговоров еще больше хотелось видеть Наташу. В отдалении она казалась ему более умной, рассудительной и хорошей, чем была на самом деле.
Листрату говорить с братом было некогда. От вынужденного сидения отряд переходил к активным действиям; зона, на которую распространялось влияние отряда, расширялась, дел прибавлялось. Листрата редко можно было застать в штабе.
2
Он похудел от бессонных ночей, от разговоров с мужиками, которые все чаще и чаще являлись на станцию.
Мужики шли за правдой. Слова Ленина разносились по всей округе, волновали народ, будили надежды.
Мужики обычно приходили на станцию ночью и, переждав день, ночью же уходили.
Листрат с улыбочкой посматривал на них, крутил усы, подмигивал.
— Ай плохая жизнь пошла, мужики? — посмеивался он. — Чего это вы ко мне набегаете?
Мужики кряхтели, слова, приготовленные заранее, вдруг забывались, и начинали нести околесицу. Листрат сердился.
— Да что вы тут плетете? — кричал он. — Чего вам надо? Правды? Так бы и говорили!
Народ уходил от Листрата, пряча в шапках листовки. Листовки ходили по рукам, зачитывались до дыр и возвращали советской власти десятки и сотни обманутых антоновскими заправилами людей.
Однажды на станцию приплелся Фрол Петрович; он только что вышел из больницы.
Мрачный, постаревший, он ввалился к Листрату, когда тот что-то писал. Листрат, увидев Фрола Петровича, рассмеялся.
— Да это, никак, Фрол Петров опять явился? Зачем?
— За винтовкой к тебе пожаловал. На старости лет воевать хочу за советскую власть.
— Не дам я тебе винтовки, Фрол Петрович.
— О! Неужто не веришь?
— Верить-то я тебе почти верю, — серьезно сказал Листрат. — Верю, и поэтому дам тебе не винтовку, а чего-то по-боле. Тебе в селе надо жить. Сторожев еще гуляет?
— Намедни уехал. Все, как сыч, на колокольне сидел, высматривал. А намедни ускакал, и нет его. Болтал Андриан, вроде вовсе уехал, не вернется, мол.
— Вот и ладно. Стало быть, тебе весь простор. Вали, Фрол Петров, в села. Андрея Андреевича в помощники возьми, помаленечку, полегонечку начинайте советскую власть ставить. Вот тебе мое назначение. Выполнишь — совсем поверю.
— Вроде, стало быть, комиссаром я буду? — усмехнулся Фрол Петрович.
— Хватай выше: уполномоченный. Из мужиков дружину мне подбирай, чтобы, как нам вернуться, у тебя целый взвод был. Будем антоновцев вылавливать.
Загудел телефон. Листрат взял трубку. Известие, которое ему передали, очень обрадовало его.
— Вот она, какая штука, Фрол Петрович! Сергей Иванович к нам едет. В Москве, говорит, был. Ты вечерком заходи к нам, он рассказывать будет. А сейчас прости: спешу, дел по горло.
Листрат поспешно оделся, подпоясался и ушел.
Фрол Петрович хотел выйти следом за ним, но в дверях показался Лешка.
— Здорово, вояка! — гневно приветствовал его Фрол Петрович. — Ай да молодец! Тягу дал, а? Погубил девку — и в кусты? Уж я ее уговаривал, уж я ей объяснял — ни в какую… Злобна на тебя, аж страшно иной раз бывает!
— Не виноват я, батя! Не от Наташи убежал — от Антонова. Душа у меня, батя, перевернулась. Прости меня: как война кончится — женюсь.
— Что от Антонова ушел и за бабью юбку не зацепился — за это хвалю, — смягчился Фрол Петрович, — а за девку — побью.
— Побей, батя, я стерплю! — кротко сказал Лешка.
Фрол Петрович рассмеялся.
— Как она, батя?
— А чего ей делается! Живет у твоей матери, пузо растит! Вот бог припечатает тебя за это самое…
Лешка сидел хмурый.
— Ну, ну, не печалуйся, парень! Не горюй! Все, брат, образуется!
Лешка не отвечал.
«Все образуется, — думал он. — Когда?»
Фрол Петрович постоял, надел шапку и ушел.
Глава четвертая
1
Куда бы партия ни посылала Сергея Ивановича Сторожева, где бы он ни воевал, — везде дрался хорошо, добротно, спокойно. В войне он видел средство к достижению цели, военный коммунизм понимал как необходимость, которая, оправдав себя, должна была уступить место другим порядкам.
То, что он не понимал до конца, разъяснил ему Ленин — он слышал его доклады и выступления.
Сам выходец из мужицкой гущи, он понимал, что линия партии на укрепление дружбы и союза рабочих и крестьян — самая правильная и самая сейчас нужная.
Речь Сергея Ивановича с трибуны съезда произвела большое впечатление. После заседания Ленин подозвал его к себе и начал расспрашивать.
— Позвольте, позвольте, — сказал он, что-то вспоминая. — Я не ослышался? Ваша фамилия Сторожев? Вы из Тамбовской губернии?
— Точно, товарищ Ленин.
— Село?
— Дворики, товарищ Ленин.
— А не было ли среди ваших родственников Флегонта Лукича Сторожева?
— Родной дядя, Владимир Ильич, младший сын моего деда — Луки Лукича Сторожева. И Флегонт и дед Лука Лукич часто, бывало, рассказывали о вас.
Ленин обнял Сергея Ивановича.
— Дорогой мой, как же я этого не сообразил раньше! Вы очень похожи на Флегонта Лукича! Ваш дядя — беззаветный член партии. Он очень быстро стал убежденным социал-демократом. Тогда другие были времена… Вспомните Ивана Васильевича Бабушкина. Петербургский рабочий, он энергично вел работу за Невской заставой, принимал деятельное участие в составлении первого агитационного листка, выпущенного в девяносто четвертом году, самолично распространял его… А ведь ему было тогда всего двадцать один год. Или Михаил Иванович Калинин — тоже так рос на глазах. Фиолетов… Литвинов, которого мы звали Папашей, непревзойденный конспиратор, и техник Красин… Они очень быстро созревали для революционной борьбы.
— Где он теперь? — встрепенулся Сергей Иванович. — Давно не слышно о Флегонте Лукиче… То война, то эта заваруха… Не пишет, не показывается в родном селе.
— Он теперь в Сибири с очень важным поручением Центрального Комитета, — оживленно ответил Ленин. — Хлеб, хлеб достает, товарищ Сторожев, ваш дядя. Не мог приехать на съезд. Неугомонный, каким был всегда. — Владимир Ильич улыбнулся, и добрый свет появился в его усталых глазах. — В подполье его звали Молодчиной. Молодчина до сих пор! И вот теперь вы напомнили мне мою юность, те далекие годы испытаний, борьбы. И вашего деда помню: могучий такой старик. Я видел его, и до сих пор он стоит передо мной, как живой. Все правду искал. Большой человек, и жизнь, слышал, отдал за народ…
— И племянника Петра вы должны помнить, Владимир Ильич. Он приходил к вам в Питере по судебному делу… Давно это было!
— Как же, как же, помню, такой жилистый и меднолицый молодой человек!
— Теперь он у Антонова, Владимир Ильич.
— Что вы говорите? И в каких чинах?
— Командует карательным отрядом, Вохром, как его называют антоновцы.
— Стало быть, антоновский генерал, главный начальник тайной и явной полиции, а? — Ленин усмехнулся. — Подумать только — какая семья! Вот она, революция! Три брата — три судьбы! Три поколения — три цели, три разных пути! Я говорил с тамбовскими крестьянами, страшные вещи рассказывают!
— Там очень серьезное положение, — сказал Сергей Иванович.
— Конечно! Вот что, после съезда вы поезжайте на родину. И перед отъездом зайдите ко мне.
Ленин пожал руку Сергею Ивановичу и пошел в президиум — заседание возобновилось.
2
Сергею Ивановичу не тотчас удалось выехать на родину: вместе с другими делегатами съезда он ходил на приступ Кронштадта, был ранен в последнем бою, пролежал полмесяца в больнице и лишь в начале апреля приехал в Тамбов.
Получив назначение быть председателем ревкома в районе Двориков, Сергей Иванович выехал на станцию, где сидели со своим коммунистическим отрядом Жиркунов и его заместитель Листрат Григорьевич.
Вечером он выступил на собрании.
Здесь все знали его; Листрат, Чикин, Никита Семенович сражались с ним рядом против Деникина, работали вместе в двориковском Совете, знали его суровую непоколебимость, умную бесстрашность, сосредоточенность, сквозь которую порой прорывался огненный темперамент, присущий сторожевскому роду. Его здесь звали, как в семье, Матросом, равно как и Листрата большинство звало Солдатом.
Каждому хотелось быть поближе к Сергею Ивановичу, услышать новости, которые он привез от самого Ленина, из Москвы.
Матрос — Сергей Иванович — стоял, окруженный земляками, высокий, как и все Сторожевы, плотный, даже несколько полный, меднолицый, многим похожий на старшего брата.
Он сдерживал свое волнение. Он любил всех этих людей, сверстников и товарищей по борьбе.
Его растрогал прием, оказанный ему. Как ни был Сергей Иванович скромен, внимание этих близких людей было приятно. Глаза его затуманились, голос несколько раз срывался.
Рядом с ним стоял Фрол Петрович и все приговаривал:
— Вот оно как! Вишь ты оно как! Вот так Матрос — тоже до самого Ленина дошел!
Появление на станции Фрола Петровича больше всего обрадовало Сергея Ивановича. Перед ним был тот самый «средний мужик», из-за которого весь сыр-бор загорелся, выходец «с того света» — ведь он не далее как вчера видел брата Петра, совсем недавно Антонова.
Разглядывая обветренное лицо Фрола Петровича, Сергей Иванович ловил себя на мысли: он как-то по-новому начал ощущать крестьянство. Ему вспомнились слова Ленина о его судьбе, О судьбе его братьев.
Раньше он не думал об этом. Когда же Ленин сказал эту короткую, на всю жизнь запомнившуюся фразу, Сергей Иванович как бы посторонними глазами увидел себя и свою семью.
Дед, Лука Лукич, — огромный старик с могучими чувствами, видевший Ленина в его молодые годы, ходок за мужицкую правду, разговаривавший с царем, поротый по приказу царя за бунт в 1902 году, член I Государственной думы. Он восстал против царя и погиб…
Дядя Флегонт ушел из семьи в конце прошлого века, ушел искать свою правду, звено, которое бы соединило рабочих и мужиков для единого дела.
Он пришел к Ленину и стал верным солдатом молодой большевистской гвардии. Он повел за собой, он поставил на ленинский путь и младшего племянника — его, Сергея.
Вспомнил Сергей болезненного, кроткого отца своего Ивана Лукича; он умер в 1903 году, и после его смерти разлетелась в разные стороны сторожевская семья, и все пошли по разным путям.
По своему пути пошел Петр — стяжатель, не признающий жалости или колебаний, матерый мироед, чистая кулацкая натура, волк.
Брат Семен — сумрачный, непонятный человек. Неведомо, за кого он, с кем он, какие у него думы, чего он хочет, какого удела? Может быть, и он в душе такой же, как и Петр?
И, наконец, он сам, Сергей Иванович Сторожев, непримиримый враг Петра.
В своей семье, как в капле воды, видел Сергей Иванович революцию, ее прошлое, настоящее и будущее, всю трагичность борьбы, все величие ее.
Непонятный, суровый, вечно на что-то обиженный, брат Семен предстал перед Сергеем Ивановичем фигурой обобщенной. Слово «союзник» перестало быть абстрактным. Вот он, союзник, — Семен Иванович Сторожев. И от того, чьим союзником он становится — брата Петра или брата Сергея, — в зависимости от этого колеблется чаша весов революции.
И вот в образе Фрола Баева перед ним почти копия брата Семена! Какие глубочайшие противоречия заложены в этом человеке!
Фрол… Кажется, «наш», «свой».
Он шел за Антоновым и верил ему. А сегодня хочет идти с большевиками. Или ямщик Никита Семенович — любитель церковного пения, член первого в селе крестьянского комитета, руководимого социал-демократкой, учительницей Ольгой Михайловной… Давно это было, девятнадцать лет назад!
Сложен был путь Никиты Семеновича! Буян, горлодер, воротила сходки, не сумевший подчиниться дисциплине партии, покинувший ее, а теперь доброволец, разведчик, коммунар, но все еще тоскующий по клиросу.
Или Лешка, убежавший от Антонова… Федька, мстящий за свои седые волосы… Все они — участники великого испытания духа и воли. Но разве не будет еще испытаний у революции? Разве не будет еще войны, может быть во сто крат более жестокой, сложной и страшной?
«Они пойдут за нами!»
3
Все эти мысли вихрем неслись в голове Сергея Ивановича. Ему казалось, что только сейчас он по-настоящему заглянул в самые сокровенные тайны борьбы, увидел весь сгусток противоречий, сложнейшие ходы человеческих душ. Лишь разобравшись в ленинских словах, он перешел ту полосу жизни, когда все было наивно, по-ученически точно разграфлено, разложено по полочкам социальных понятий и схем.
Взрослый, он как бы повзрослел; все, что казалось ему простым, предстало перед ним чрезвычайно осложненным. Стало уловимо то, что движет жизнь, что приближает человека к какому-либо классу либо отдаляет от него. Он и об антоновском мятеже стал думать совсем иначе. Этот мятеж разодрал на два враждующих лагеря не только страну и привел обе стороны к вооруженной схватке… Рвались дружеские связи и семейные узы, враждовали отец с сыном, брат с братом, как он с Петром, мужья и жены. И даже подростки не остались равнодушными наблюдателями кровопролитной, беспощадной борьбы…
Разговаривая с коммунарами, рассказывая им о съезде, о том, какими средствами партия решила победить Антонова, Сергей Иванович все внимательнее и внимательнее вглядывался в окружающие лица.
Какое разнообразие дум, желаний, характеров, настроений! И все это надо объединить во имя одного: во имя борьбы со злом мира, которое воплощено в образе брата Петра, во имя революции и ее победы, во имя будущего этих людей, будущего их поколений…
Ночью Сергей Иванович пришел в теплушку Листрата и долго говорил с Фролом Петровичем. Листрат присутствовал при их беседе.
Сергей Иванович расспрашивал Фрола Петровича, как казалось Листрату, о самых пустяковых делах — о том где мужики достают соль, спички, сколько посеяно было осенью ржи, сколько мельник берет за помол, работает ли просорушка… Об Антонове, антоновцах Сергей Иванович задал два-три вопроса, да и ответы на них выслушал как-то рассеянно.
«Это, конечно, хорошо, союзник и так далее, — думал Листрат, слушая беседу Сергея Сторожева с Фролом Баевым. — Союзник союзником, а присматривать за ними надо в оба глаза. И вообще черт их разберет. Фрол Баев первым из мужиков подписал протокол о присоединении к Антонову. В комитете антоновском работал, от красных отступал, ходил к Ленину за правдой, был избит антоновцами, чуть не ухайдакали они его, беднягу… Неисповедимы пути человеческие! Конечно, лучше, если Фрол всей душой будет за нас, а не за Сторожева. Это ясно. Все-таки как-никак подмога сильная».
Сергей Иванович отпустил Фрола Петровича часа в два ночи и, к удивлению Листрата, не дал ему никаких наставлений. Но когда Фрол Петрович прощался с Листратом, тот увидел, как преобразился этот человек: словно ему отвалили воз подарков.
— Вот они, какие дела, — задумчиво сказал Сергей Иванович. — Самые трудные времена, Листрат Григорьевич, только еще начинаются.
— А мы думали, конец им!
— Конец не скоро будет. Врагов у нас полно, а дел того больше.
— Ничего, выдержим.
С утра Сергей Иванович начал заниматься делами ревкома, а через неделю отряд под командованием Листрата, подкрепленный ротой пехоты, ушел со станции и обосновался в селе Семеновке, верстах в двадцати от Двориков.
В первый же день Сергей Иванович собрал семеновских мужиков на сход и попросил выбрать сельский Совет. Совет, по предложению Сергея Ивановича, тут же занялся подготовкой к севу поздних яровых, починкой сох, сеялок.
Через несколько дней мужики под охраной красноармейцев и коммунаров выехали в поле сеять.
В Семеновке отряд побыл недолго. Ревком двинулся дальше. Он шел, оставляя в селах небольшие группы красноармейцев, в помощь им организовывались добровольческие дружины из крестьян.
Сергей Иванович все дни проводил в Советах, в поле, в отряде Листрата, выезжал с Чикиным на разведку, ходил с обысками в дома антоновских активистов, допрашивал сдавшихся.
В Дворики отряд Листрата пришел в ласковый майский день.
Листрат и Лешка тут же поскакали домой.
Аксинья сказала, что Наташа неделю назад ушла к тетке в Грязное. Лешка чуть не заревел.
— Погоди, дурак, — уговаривал Листрат брата. — Через недельку и мы в Грязное поедем.
Сергей Иванович тоже побывал дома и долго говорил с Андрианом один на один.
Андриан, высохший, с коричневым дубленым лицом, сурово выговаривал Сергею Ивановичу за то, что в семью вошла вражда и брат пошел на брата, Он чего-то требовал от Сергея Ивановича, а чего — не знал и сам. Потом вдруг попросил не обижать жену Петра Прасковью и детей.
— А мы с детьми не воюем, — сказал миролюбиво Сергей Иванович. — Не все дети в отцов идут.
Вечером мужики собрались в школу, выбрали Андрея Андреевича председателем сельского Совета, Семена Сторожева и Никиту Семеновича — членами. Однако на предложение Сергея Ивановича составить список антоноецев и всех замешанных в восстании людей мир ответил отказом.
— Мы все замешаны, — сказал бывший комитетчик Аким, поротый Сторожевым. — Какие там списки!
Сергей Иванович мрачно улыбнулся, а Листрат прошептал ему на ухо:
— А ты говоришь — союзники… Ох, жуки!
— Ничего, — сказал Сергей Иванович. — Не все зараз… Поймут.
Глава пятая
1
Листрат все откладывал поездку в Грязное — связи с селом не было; осторожный, он не хотел рисковать, хотя Лешка, стосковавшийся по Наташе, не давал брату покоя.
Наконец однажды утром из Грязного было получено сообщение: вошел туда красный отряд и очищает округу от антоновцев.
Листрат сходил в ревком, поговорил с Сергеем Ивановичем и велел готовиться к походу. Лешке он сказал, что отряд едет в Грязное восстанавливать советскую власть и там останется надолго. Парень взвыл от радости, повис на шее брата и тормошил его до тех пор, пока тот не рассердился.
В тот день Лешка дежурил в ревкоме. Ревком был пуст, лишь на крылечке разглагольствовал Листрат и слушал его россказни постаревший Андриан.
— А ты сомневался, помнишь ли, где, мол, гвардия, — тыча Андриана кулаком в бок, говорил Листрат. — Был я в этом доме — помнишь девятнадцатый год? — один, а теперь, гляди, сколько нас! Гвардия! Вон она и гвардия.
— Да, точно, — вздыхал Андриан, — много вас!
— Ваш-то все шляется? — спросил после молчания Листрат.
— Шляется! Погубитель наш, дурак седой.
— Ну, не скажи, не скажи, что дурак. Сволочь он, а не дурак!
— Крышка им?
— Определенно!
— Шел бы ты, собирался, — сказал Лешка, — расселся тут!
— И то пойду. Пойдем, Андрияша, покурим. Табачку мне привезли богатого.
Лешка остался один. Солнце сползало к западу, был как-то особенно ласков и тих день. Он думал о Наташе, считал месяцы — и выходило, что рожать она должна вот-вот.
За стеной послышался конский топот, всадник остановил лошадь около ревкома, кричал, вызывая кого-нибудь на улицу.
Лешка вышел.
— Где Сергей Иванович? — тяжело дыша, спросил прибывший.
— Обедает.
— Пакет передай. Срочный. Из Грязного. Беда там.
— Что такое? — спросил Лешка.
— Девка одна, Наталья Баева, красноармейца чуть не удушила. Сидит в омете с револьвером, кричит: «Не подходи, убью!» Ну, ровно зверь.
И, ударив лошадь плеткой, конник помчался дальше.
Лешка побледнел, затрясся, дурным голосом закричал что-то.
— Ты что орешь? — спросил его Сашка Чикин, он шел на смену Лешке, а тот уже бежал к дому. Сашка недоуменно развел руками, сел на приступку, закурил.
Лешка ворвался в избу, взял седло, дрожащими руками распутал ремни, вывел кобылу из-под навеса, подседлал, кинулся снова в избу, схватил браунинг, вскочил в седло и вихрем помчался по дороге.
— Куда, куда ты, черт, сто-ой! — кричал ему вслед Листрат.
Лешка не слышал и не видел ничего, лишь бешено хлестал кобылу, и одна мысль сверлила мозг: удушила, удушила, удушила…
— Удушила, удушила, — стонал он, — что же я сделаю теперь?
2
Лошадь неслась во весь опор, словно и ей передалось бешенство хозяина, словно поняла она, что надо спешить, надо, надо… И, вытянув шею, несла Лешку, и ветер свистел в его ушах.
Уж темнело, когда он прискакал в Грязное. Оставив задыхающуюся лошадь у завальни избы, в которой жила сестра Фрола Петровича, он приостановился и услышал тревожный шепот во дворе; там толпились бледные, трясущиеся мужики.
— Ну? — свирепея, надвинулся на них Лешка и вынул браунинг. — Чего вам надо?
— Сукин сын! — закричал кто-то из мужиков. — Все из-за тебя, подлец! Сеченый!
— Пошли отсюда вон! — холодно и жестко сказал Лешка.
— Мы сторожим ее, — отозвался мужичонка, в руках у него был топор.
— Я кому сказал — убираться! — Лешкины глаза засверкали. — Сам посторожу! Понятно?
Мужики, оглядываясь, ушли.
Наташу Лешка нашел на огороде. Она сидела в омете и быстро-быстро перебирала руками соломинки.
— Лешка-а! — дико закричала она и навзничь повалилась на землю.
Очнулась она на плече у Лешки. Страшно было ее похудевшее бледное лицо.
— Лешка, Лешенька, Леша! — быстро заговорила она, дрожа всем телом и заражая Лешку дрожью. — Сейчас придут, сейчас возьмут, сейчас, сейчас, послали к вам! Леша, спаси, спрячь, милый!
Он обнял ее, целовал, перебирал ее волосы, как прежде, как в те далекие, счастливые дни. И она утихла, перестала дрожать.
— Мне сказали, мне Сторожев сказал, ты другую нашел, коммунистку, — зарыдала вдруг она и снова повалилась на солому.
— Молчи, молчи, — шептал ей Лешка, — молчи!
Она прижалась к нему, рассказала, как жгли ее горечь, обида, злоба, как медленно тянулись дни и ночи и стал ненавистным тот, что бьется под сердцем, как вчера зашел такой же молодой, как Лешка, красноармеец, как она напустила в избу угару, и, сонный, он едва не задохнулся.
— Тебя я вспоминала… Это они свернули тебя, они сбили, они жизнь мою сделали проклятой… Будь их пять, пятерых бы удушила…
— Молчи, молчи, молчи, — шептал Лешка, — молчи!
— Ты останешься со мной, да? — говорила она, словно в бреду. — Ты убежал от них, да? Ты увезешь меня отсюда? За мной придут! Лешка, вот идут за мной, — и глаза ее делались безумными, она металась, стонала и скрипела зубами.
Потом Наташа успокаивалась, забывала обо всем, страстью дышали ее поцелуи, ее объятия, она клала руку его к себе на живот, и он слушал биение новой жизни.
Наконец заснула, всхлипывая во сне, вздрагивая и что-то бормоча.
Лешка смотрел на нее и плакал; горячие слезы катились сами собой, падали на солому. Плакал Лешка о загубленной любви, думалось ему: никогда он не сможет забыть, никогда не простит Наташу. Вот-вот примчатся за ней, возьмут ее, все узнают, какова невеста его, жена его, пальцами будут тыкать, гневом нальются глаза товарищей.
«Но кто же виноват в этом несчастье, — раздумывал Лешка, — кто накликал на ее голову эту злую беду, кто ответчик за Наташу? Не я ли расхваливал ей антоновскую правду и бросил, не рассказав правды другой, настоящей, которой живу теперь?.. Не я ли подарил жизнь Сторожеву затем, чтобы тот погубил жизнь мою и Наташи?»
Наташа спала. Прижимая ее к себе, Лешка просидел в омете всю ночь, пока не приехал Сергей Иванович.
Утром Наташа снова забилась в припадке. Через неделю она родила сына.
Глава шестая
1
Третью неделю бродил Сторожев по кустам и перелескам, в лощинах и буераках проводил дни и коротал мгновенные летние ночи.
Взметывались зарницы, и вселенная несла свои миры, а он сидел у костра, и пусто было в его сердце.
Лошадь тяжело ступает, мерно жует траву. Где-то очень далеко лает собака. Месяц шлет на землю холодный свет.
И тихо кругом… Будто и не было боев, не полыхали пожары, будто давным-давно мир объял землю.
Иногда Петр Иванович подкрадывался к селам и деревням — там прочно сидели красные; долго вглядывался в мрак, разглядывал, что за жизнь за этим глубоким молчанием, за этой тьмой. Ползком, в злобной решимости, подбирался он к селам, и вот вздымалось сухое пламя, ревел набат, гремели выстрелы.
А завтра — снова отчаяние, и мягкий ветер шумит в говорливых листьях осины.
Как-то днем он поил лошадь, и в тихом отстое воды, как в зеркале, увидел себя, худого, небритого. Седые волосы искрились на висках и ползли ниже.
«Волк, — подумал он про себя, — старею».
И правда: постарел Сторожев за эти недели. Ввалились щеки, глаза ушли глубоко под брови и сверкали оттуда злыми огнями. Питался он сухарями, но редко приносили сыновья еду в условные места. Соскучившись по молоку, он однажды подошел к стаду; глухонемой пастух забормотал, залотошил, замахал руками. Вспыхнув, Сторожев избил его нагайкой, выбрал корову и до отвала напился свежего молока.
Уже наливались соками желтые дни, а он все бродил вокруг родного села.
По кустам, по оврагам и брошенным далеким полям прятались такие же, как Сторожев, люди из разбитых полков. Он находил их следы: костры, объедки, патроны, дырявые портянки… Но никак не мог встретить хотя бы одного: мучительно искал и не находил.
Так шли длинные, молчаливые, жаркие дни.
Ночами не спалось Сторожеву. Вспоминались отнятые земли у Лебяжьего, цветущая усадьба, разбитые мечты. Копилась в сердце бесплодная ярость, и тогда костер не мог пробить черной стены, возведенной тоской и мраком.
Как-то ночью Петр Иванович совсем близко подъехал к родному селу. Не хватило сил, не совладал разум с желанием; он бросил в кустах лошадь и тихо, зверем, пробирался тропами и межами, лежал, вытянувшись струной, слушал шорохи ночи.
Обжигая руки и лицо крапивой, жирно цветущим красноголовым татарником, открыв широко глаза, извиваясь, полз Сторожев.
Около риги, где летом ночевала его жена с маленьким Колькой, он наткнулся на мохнатое тело — это была собака. Разбуженная человеком, она зарычала, Петр Иванович задушил ее.
Разум, потрясенный этой схваткой, заколебался.
Сторожев чуть было не упал, тошнота подступила к горлу. Но нет, он очнулся, сердце забилось быстрее, каждая клетка его существа жаждала борьбы и жизни, а упасть — значило погибнуть.
Он дрожащими руками провел по волосам и, открыв ворота риги, прошел в угол, где в санях была устроена постель.
Положив на рот Прасковьи ладонь, он разбудил ее.
— Я это. Молчи. Не могу. Сил больше нет, Параша, тоска…
Он уронил ей на грудь голову, и долго без слов они рыдали, прижавшись друг к другу.
2
Он ушел далеко от села, забрел в Волхонщинский лес, нашел землянку, заглянул в нее. Там, лицом вниз, раскинув ноги и нелепо подогнув руки, лежал человек. Около виска застыл сгусток крови, и клубились вокруг бурые черви.
Сторожев осторожно повернул голову и содрогнулся, узнав Григория Наумовича Плужникова — «батьку» повстанья.
Труп был свежий, еще не тронутый тленом.
Внезапно сгорбившись, точно придавленный непосильной ношей, Сторожев сел на лошадь и поехал не оборачиваясь.
Кобыла шла через лощины и поля, обходя далеко села и деревни, инстинктом угадывая, что там — смерть.
Теперь каждую ночь пылали в селах пожары. Мимо часовых тенью пробирался Петр Иванович к избам коммунистов, к складам, к Советам и кооперативам, стрелял из мрака и, спрятавшись где-нибудь на холме, наблюдал, как постепенно, точно остывая, утихала паника.
Он мстил за «батьку», хотя никогда не любил его.
Под Сампуром, связав обходчика и завладев его инструментом, Сторожев разобрал железнодорожный путь и видел, как в яростном безумии лезли друг на друга вагоны и высоко в небо летели искры пожара.
Но все сумрачнее становился его взгляд, и огонь тух в глазах. И все так же и глухо и пустынно было кругом. Не находились товарищи, рассеянные по лесам и оврагам, — убиты ли они, взяты ли с оружием в руках, или сдались красным?
«Нет, не то, — думал он, — не так…»
Новые поезда пойдут завтра, новые избы вырастут рядом с сожженными.
И глухо молчат села — не поймешь, за кого они, с кем, почему не поднимаются против коммунистов? Где командиры восстания, где Антонов? Куда спрятался? Чего ждет?
«Иль навсегда отзвучали набаты? — думал Сторожев. — Или не поскачут больше кони по лугам и полям? Неужто мир навсегда пришел в села и деревни, кончилась война? Неужели в чужих руках останутся земли у Лебяжьего озера?»
Ночи напролет искал он ответа и не находил. И чувствовал: все теснее сжимается вокруг него невидимое кольцо, все меньше становится вольных полей и лощин.
Стал Сторожев мнителен, подозрителен, ночами сидел он, вслушиваясь в шумы мира, и не мог заснуть.
Глава седьмая
1
Однажды он очнулся поздно, было уже совсем светло. Свежее росистое, раздольное утро встречало суховейный знойный день.
Далеко к синему горизонту катились волны зеленей, солнце всходило в блеске проснувшегося мира, обвеянного прохладой ночи, увлажненного росой.
По меже, раскачиваясь в седле, ехал человек в буденовке. Он держал на коленях винтовку и пел:
Эх, в Таганроге, эх, да в Таганроге, В Таганроге солучилася беда…Песня катилась вслед зеленым волнам, она догоняла, обгоняла их и неслась к солнцу.
Эх, там убили, эх, там убили, Там убили молодого казака…Человеку в буденовке улыбалось солнце. Ветерок еле-еле шевелил клок белых волос, выбившихся из-под шапки; лошадь шла весело, срывала придорожную траву и, сытая, словно играя, мяла ее в зубах.
Эх, принакрыли, эх, принакрыли, Принакрыли тонким белым полотном…Песню пел человек, которому было легко и весело в это радостное утро, — у него впереди было много таких же сияющих солнечных дней, и, радуясь им, он пел:
Эх, схоронили, эх, схоронили, Схоронили под ракитовым кустом…2
В утреннем сиянии грянул выстрел.
Человек, словно нехотя, сполз с лошади. Конь шарахнулся и скрылся, вздымая пыль.
Из кустов вышел Сторожев.
Перед ним навзничь, освещенный солнцем, лежал юноша. На лице его застыла улыбка.
Он был мертв, из темени текла теплая струйка крови.
Сторожев долго смотрел на безусое лицо и в глаза, синие-синие, как у Кольки, на белые волосы, разметавшиеся по земле.
— Да ведь это Федька, — узнал Сторожев убитого. — Федька-разведчик…
Он встал на колени, перебирал седые Федькины волосы.
И вспомнил Петр Иванович голубой весенний день, хутор Кособокова и длинные языки пламени. Вспомнилось ему, как искал он в тот день и не нашел Федьку.
«Вот теперь, — думалось Сторожеву, — я убил его. Зачем? Зачем я убиваю и жгу? Зачем брожу по полям, и люди ловят меня?»
Петр Иванович выбрался из цепких, костлявых лап страха, насильно вызвал образ Плужникова, его посиневшее скопческое лицо и нелепо раскинутые руки.
— Черт с тобой! — прохрипел он. — Одной собакой меньше!
Вдруг ветер донес издали песню: ее пел кавалерийский отряд.
Сторожев юркнул в кусты.
Глава восьмая
1
Под ним убили лошадь. Он остался один.
Глава девятая
1
Петр Иванович уходил от преследования, когда шальная пуля настигла и пробила горячее сердце кобылы. Она рухнула и с шумом испустила последнее дыхание. Сторожев посмотрел на нее и сморщился, словно от сильной зубной боли. По лицу скользнула мутная слеза.
Долго верой и правдой служила хозяину пегая кобыла, и долго бы еще работали ее могучие плечи. Пришел ей конец в синий день на меже, заросшей белесоватой, будто припудренной, полынью.
Петр Иванович потерял верного друга. Он привык к мерной поступи кобылы в часы безответного ожидания, потому что все еще ждал Сторожев: вот пройдет ночь, и наутро загрохочет мир, и откуда-то, из неведомых тайников, появятся старые вожаки и поднимут тысячи под знамя Учредительного собрания, под знамя «Земли и воли».
Земля!.. Заветная земля у Лебяжьего лежала перед ним. Часто наезжал сюда Петр Иванович. Жирная земля; она могла бы быть снова в его власти, ему бы одному отдавала свои соки, была бы лишь воля, чтобы овладеть ею, чтобы твердой ногой стать на ее межи и обнести крепкой оградой.
Была бы воля!..
«Нет, ведь я не только себе волю воюю, — думал Петр Иванович. — Пусть каждый, если сумеет, холит свою землю и цепляется за нее, лишь бы не упустить, не отдать другому. А если нет железной хватки и нет в пасти волчьих зубов, тогда иди к тому, кто жаден и могуч, иди к нему в батраки, поливай чужие поля своим потом, учись хозяйствовать, хоть и суждено тебе умереть дураком и нищим…»
Так думал Сторожев.
А земля у Лебяжьего озера несла на своих холмах тяжелые гроздья проса, золотые просторы ржаных полей.
Чужого проса!.. Чужой ржи!..
— Нет, — кричал он, — опять земля будет моей!
Он валился на нее, царапал ногтями сухие комья, зарывал лицо в теплые борозды, вскакивал, исступленно кричал, и ветер нес его крики:
— Моя будешь! Врешь! Мы еще живы.
2
Как-то под вечер на землю близ Лебяжьего пришел человек, одетый в белую длинную рубаху. Он ходил по ржам, рассекая грудью плотную зеленую стену, и, подняв бородку к солнцу, улыбался.
Ветер шевелил его волосы, день обливал его теплом. Был тих и радостен урожайный и плодовитый мир.
Сторожев увидел человека и спрятался в придорожной едкой полыни и буйных лопухах. Когда человек подошел ближе, он узнал Андрея Андреевича. Тот шел к меже, и улыбка на его заросшем седой щетиной лице отвечала солнцу. Он был бос, ворот рубахи расстегнут, и он громко говорил сам с собой:
— Благодать! Колосья-то хороши, милые, аи, хороши… Хороши хлеба! Хорошую, того-этого, землицу дала власть.
Андрей Андреевич постоял почти рядом со Сторожевым, почесал бок и пошел, подпрыгивая на ходу.
— Хороша земля? — заскрипел зубами Сторожев. — Ты, стало быть, владеешь моей землей, собака? Стой! — прогремел он вслед Андрею Андреевичу и выскочил из полыни.
Андрей Андреевич обернулся, узнал Петра Ивановича и быстро-быстро зашептал, закрестился.
— Крестись, крестись, сволочь! Твой загон тут?
— Мой, — еле слышно прошептал Андрей Андреевич. — Слава богу, хороша землица.
— Хороша земля, — побагровел Петр Иванович, — только не про тебя…
— Чай, мы все люди, — опомнившись, заметил Андрей Андреевич и вдруг успокоился. — Земля для всех людей, чай, Петр Иванович?
— Для людей, а не для вас! Нищий ты! С тех пор как я себя помню, всегда ты поперек меня шел!
— Не я один, Петр Иваныч, — спокойно, переминаясь с ноги на ногу, отвечал Андрей Андреевич. — Весь мир завсегда против тебя шел… И не только мир, но и дед твой, царствие ему небесное, тебя за твою лютость проклял! Ай ты забыл, какую издевку чинил над всеми, когда держал каменоломню? Ай забыл, как ты вкупе с помещиком Улусовым нас давил? Как ты со своим проклятущим приказчиком, окаянным немцем Карлой Фрешером, петли на народ надевали — одну на другую? Но кончилась твоя власть, волчище! Кончилась! Ничего-то у тебя не осталось, окромя винтовки.
— А ты — разбогател? — свирепо процедил Сторожев. — И взял власть — босиком ходишь, и не было ее у тебя — босиком ходил! Босяк, побирушка!
Андрей Андреевич посмотрел на свои корявые черные ноги.
— Земелька-то, Петр Иванович, далеко была, да и плохую земельку опчество давало. Лошаденки тоже не было. Копай на ней не копай — богатства не выкопаешь. Теперь оправимся, чай, а? Теперь власть за нас заступилась.
Андрей Андреевич говорил все так же спокойно, стоя напротив Сторожева, и грыз былинку.
Тихо было кругом. В селе ударили к вечерне, ветерок донес отзвук далекого благовеста.
— Не владеть тебе этой землей! — закричал, не помня себя, Сторожев. — Моя земля, слышь, моя, зачем брал?
— Твоего в селе ничего нет. Уходи лучше добром, Петр, уходи. Ловить тебя хотят. Поймают — не выпустят.
— Ну лови, лови! — дико закричал Сторожев, и слюна брызнула у него изо рта, губы побелели, и вспыхнули глаза. Он вскинул карабин к плечу.
Прокатился по полям выстрел.
Упал Андрей Андреевич на росистую, прохладную межу.
3
Поля у Лебяжьего озера несли великие богатства чужого хлеба.
«Так что же там медлят наши? — думал Сторожев. — Где они? Почему молчат села и деревни?»
Дни сменялись прохладными ночами. В пурпуре и золоте занималось утро, и снова расцветал день, чтобы к вечеру уступить теплым бледным теням и робкому блеску первых звезд.
И тихо, тихо было вокруг.
Глава десятая
1
В Чернавские и Пущинские леса стянул Антонов последние свои силы.
Словно что-то неотвратимое притягивало его к местам, где два года назад начинал он мятеж. Не было сил покинуть это обжитое, в каждой мелочи знакомое, родное, изученное вдоль и поперек. Не хотел уводить войска туда, где бы труднее было бороться с ним.
На что он надеялся? Чего он ждал?
Бог весть!
В болотах и трясинах, в переплетах рек и речушек он перетряхивал полки, удалял негодных для решительного боя — готовился дорого продать свою жизнь.
А порой бросал все, сидел в оцепенении, чертил ровным, четким почерком на клоке бумаги: «Спокойствие, спокойствие, корчма, мусульмане, Стамбул, Грибоедов…» Или слушал стихи брата и почти не вмешивался в работу подновленного штаба, лишь изредка метал громы и молнии, отменял приказы, распоряжения, расстреливал непокорных, потом бросал все, уходил в далекую лесную сторожку, читал кое-что или опять слушал Димитрия.
Дни катились к лету. И вот снова началось…
Разведка донесла, что Тухачевский приказал уничтожить переформированные антоновские части — в них насчитывалось около трех тысяч человек.
Усталые, злые командиры предложили Антонову либо самому руководить операциями, либо назначить нового начальника Главоперштаба.
Антонов посмотрел на собравшихся невидящими глазами. И снова проснулась в нем дикая энергия, честолюбивые мечты, снова в думах видел он себя во главе отборных полков, идущих по дорогам России.
2
Особая группа красных частей двадцать третьего июня окружила район Чернавки, Троицкого, Караула, Ивановки, Николай Ржаксы и Никольской Периксы.
В этом кольце Антонов решил дать бой.
На рассвете двадцать четвертого июня артиллерия красных открыла огонь по площадям. Орудия били три часа; потом пехота цепью пошла в леса.
Антонов приказал своим частям, маневрируя, перебрасываться с одного берега реки Вороны на другой, пробить брешь и выйти из нового окружения. Мелкие отряды, отвлекая внимание красных от главных антоновских сил, шарахались с одного берега на другой, создавая видимость огромной вооруженной массы. Этот бой с ловушками и стратегическими ходами кончился к вечеру. Красные убили и взяли в плен триста человек.
Главные силы Антонова снова ушли; Александр Степанович привел их под Рамзу.
Среди близких ему не было Федора Санталова, поймали красные адъютанта Главоперштаба Козлова, изловили армейского врача Шалаева, членов губернского комитета Митина, Макарова, Попова.
Котовский в те же дни уничтожил в районе сел Золотое — Хитровщина части Золотовского и Нару-Тамбовского полков, вышедших из первого окружения. Курсантским частям, помогавшим Котовскому, не повезло. Остатки разбитых антоновских полков с яростью набросились на них около деревни Федоровка-Мордово и расколотили в пух и прах. Снова по окрестным селам разнесся слух о победах «самого».
В ответ на эти слухи Григорий Котовский, оперируя на севере губернии, решил уничтожить полк Матюхина, отчаянно смелого антоновского командира.
Матюхин не выходил в чистое поле, не принимал боя, скрывался в лесах, частыми налетами беспокоил села и с дерзостью, достойной удивления, нападал на части Котовского под прикрытием тьмы.
И вдруг Матюхин перестал встречаться с частями Котовского. Исчез Котовский! Прошел слух — отозвана на юг его бригада. Затем разведчики донесли Матюхину: появилась в округе казачья дивизия, пришла она на помощь Антонову, а один из казачьих командиров, войсковой старшина полковник Фролов, желает, мол, вступить с гражданином Матюхиным в переговоры с целью координации боевых операций против красных.
Матюхин, недолго думая, согласился на встречу.
Во главе полка он въезжает в одно из сел на опушке леса. Кругом казаки: красные лампасы на штанах, папахи на головах, пики у седел.
Матюхина проводят в избу, где его ждет войсковой старшина Фролов. Начинается выпивка, потом переговоры. И вдруг штаб Фролова начинает стрельбу. Первым от пули, выпущенной самим Фроловым, ранен Матюхин.
И только тут Матюхин понимает, как провели его. Он узнает Григория Ивановича, стреляет в него, ранит в руку, но выстрелом в упор один из командиров Котовского кончает жизнь Матюхина. Тем временем переодетые казаками бойцы Котовского уничтожали матюхинский полк.
Антонов, узнав об этом, взвыл от злобы и досады.
3
И снова нашли красные следы Антонова. Отыскали его в Рамзинских болотах, все в том же заколдованном месте, по кругу которого бродил Антонов.
Полторы тысячи человек — все, что осталось от мятежа, — усталые, равнодушные к своей судьбе, сидели в те дни с ним в лесах.
Антонов собрал командиров. Картина была ясна: либо погибать, либо пробиваться на юг, уходить за рубежи страны.
Сумрачные и суровые командиры молчали.
О настроениях мужиков Антонов не спрашивал: он знал, что делается в селах и деревнях, видел, как жадно бросаются люди к сохам и плугам, как встают задолго до солнца, словно боятся, что снова отнимут у них мирный труд и снова с тоской надо будет глядеть на унылые, сиротливые поля, прятаться, высматривать в оконце: чьи приехали — свои, чужие.
Народ работал под охраной вооруженных красноармейцев. Часто бойцы снимали шинели и, поплевав на ладони, брались за ручки плуга так же уверенно, как за рукоятки пулеметов.
Знал Антонов, что в каждой избе читают закон о продналоге что каждое честное крестьянское сердце радуется переменам по пальцам считают мужики, сколько с кого придется; и выходит, что придется отдавать государству в два раза меньше чем сдавали в разверстку, что с хлебом, оставшимся в закромах, можно делать, что хочешь: продать его или съесть.
Зло смотрели мужики на Антонова, когда проходил он по селам мрачно сжимали кулаки, когда выгребали антоновцы овес, забирали лошадей и убивали за противоречивое слово, за ненавидящий взгляд.
А девки пели вслед ему:
Рожь поспела, Покосили. Всех бандитов Подушили.Знал он также, что крестьяне организуют добровольные дружины в помощь красным войскам и нет такой силы, которая сломила бы упрямую нахрапистость мужицких отрядов.
4
На этот раз сокрушительно навалились на него красные. Лучшим частям поручило командование фронтом разгромить остатки повстанческих сил, взять штаб Антонова.
Зловещим грохотом были наполнены леса, в небе стрекотали аэропланы, то там, то здесь слышались артиллерийская стрельба, беглый пулеметный огонь.
На дорогах и в крупных селах надежные заставы — на тот случай, если антоновцы вздумают пробиваться из окружения.
По реке Вороне пущены лодки с пулеметами; на лесных дорожках сторожили мятежников смелые разведчики.
Пилоты-разведчики летали над болотами и озерами, но там словно все вымерло: ни души, ни шелохнутся камыши, мирны воды озер и болот, тихо в лесах.
Ночью Антонов отошел к озеру Змеиному.
Наконец кольцо сомкнулось, и с рассвета пехота с пулеметами, на лодках начала пробираться по речушкам к озеру, где, как показали взятые пленные, скрывался штаб восстания, около семисот антоновцев и «сам» с ними.
Озеро окружали мшистые кочки. Здесь красноармейцы нашли большие запасы продовольствия и оружия, тут же обнаружили искусно устроенные шалаши с настилами, сквозь которые не проступала болотная вода. С кочки на кочку были перекинуты мостки. Место представляло собой хитро избранный и прекрасно оборудованный бивак, где скрывался Антонов.
На этот раз все было кончено. Грохот орудий, беспрестанное преследование, везде, куда ни ткнись — красные, усталость и безнадежность сломили дух семисот человек — все, что осталось от мятежа.
Многие были убиты, другие, оглушенные, потерявшие сон, голодные и морально подавленные, сдались.
Командование донесло в Москву: со дня начала операций двадцать тысяч человек взяты в плен и явились добровольно.
Сдался денщик Антонова Абрашка; пустил себе пулю в лоб комендант Трубка.
Антонов с братом ушли.
И потерялись следы их.
5
Двадцатого июля полномочная комиссия и Тамбовский губкомпарт опубликовали сообщение, которое стало вскоре известно во всех селах:
«Банды Антонова разгромлены. Бандиты сдаются, выдавая главарей. Крестьянство отшатнулось от эсеровско-бандитского правительства. Оно вступило в решительную борьбу с разбойничьими шайками. Окончательный развал эсеро-бандитизма и полнейшее содействие в борьбе с ним со стороны крестьянства позволяют советской власти приостановить применение исключительных мер».
Это был разгром, но еще не конец мятежа.
Тысячи людей, опасных и озлобленных, были живы, ждали момента, ждали сигнала. Мелкие отряды и отрядики шатались по полям и лесам.
Их надо было изъять.
Советская власть напомнила антоновцам еще раз, что все добровольно сдавшиеся сохранят себе жизнь и что им будет смягчено наказание.
Еще тысячи повстанцев вслед за опубликованием сообщения отдали себя в руки советской власти. Каждый день приходили в ревкомы и Советы оборванные, угрюмые люди; снимали винтовки, присаживались, просили папиросу, жадно курили.
Это был конец. Пламя потухло, дотлевали угли.
Глава одиннадцатая
1
В полях и лощинах свистел, стонал ветер, клочковатые облака закрыли небо; непрерывной чередой шли они с севера, низко опустившись к земле, сплетаясь и расплетаясь.
Точно преследуемый ветром, бежал от родного села Сторожев, минуя дороги, по межам, по тропам, по безлюдным кустам. В глухой деревеньке, что притиснулась к лесу, зашел Сторожев напиться, осмотрев предварительно дворы и закоулки.
Хозяин встретил его равнодушно, так же равнодушно накормил.
Петр Иванович, разомлевший от сытного, тяжелого обеда, зашел в сарай, зарылся в солому, заснул. Проснулся он под вечер; все так же стонал и свистал ветер, но шумом и бряцаньем оружия была наполнена деревня.
Двери сарая открылись, и кто-то, картавя и заикаясь, крикнул:
— Эй, как там тебя, вставай, атаман кличет до себя!
Дрожащими руками Сторожев вынул наган, осторожно вылез из соломы. Перед ним стоял вооруженный бородатый человек в красной сатиновой рубахе.
— Что за атаман? — спросил Сторожев и обрадовался: свои.
— А там увидишь. Иди до батько. Та не тряси наганом, а то как хрясну по зубам. Ну!
В просторной горнице за столом сидел толстый человек, пегая борода росла из-под кадыка, лицо его было белое и мясистое; он дул в блюдечко и, пыхтя, пил чай.
Внимательно посмотрев на Сторожева, толстяк толкнул локтем соседа, высокого сухощавого человека, — в нем Сторожев сразу узнал учителя, которого не раз видел у Антонова.
Никита Кагардэ улыбнулся: и он узнал Сторожева.
— Знакомцы, что ли? — прохрипел толстяк.
— Господи, да конечно же. Петр Иванович, так ведь? Садитесь, садитесь. Надеюсь, вам не нагрубили? Впрочем, виноват, познакомьтесь: крестьянский атаман Ворон, — это для всего мира, а для вас — Афанасий Евграфович. Виноват, виноват, Афанасий Евграфович, вы не обижайтесь! Кличка — второе имя.
— Сам-то ты чей будешь? — спросил Ворон. — Из каких? Какой веры?
— Антоновский партизан, комиссар Вохра.
— Ишь ты!.. Эсер, стало быть? До чего не люблю я вас, ух, так не люблю!
— Афанасий Евграфович и я организовали центральный штаб «Союза спасения России», — пояснил учитель. — Собираем под свои знамена всех сознательных людей. Действительно, Петр Иванович, эсерство себя изжило. Я понял это, ушел от вас и вот нашел новое пристанище. Поверьте, дорогой, истина лежит направо от вас.
— Одесную меня, — буркнул Ворон.
— По вашему мнению, — продолжал учитель, — я, конечно, изменник, ренегат, но что делать, что делать, не сошелся с Александром Степановичем. Не понят, обижен, оскорблен.
Поминутно падало с носа учителя пенсне, он вскидывал его и сажал на место.
Это смешило Сторожева, и он не мог удержаться от улыбки.
— Сколько же вас набралось, сознательных? — спросил он.
— Было две тысячи… — Толстяк, расстегнув мундир, вытер шею. — Но бог наказывает, бог наказывает — осталось с полсотни.
— Бегут, — помрачнев, вставил Кагардэ. — Намедни братец твой Сергей Иванович нас обидел. Сердитый человек. Все, говорят, до тебя добирается… Сорок два человека у нас осталось, самые надежные. Ты будешь сорок третьим.
«Вон как, — с тоской подумал Сторожев, — опять мой братец объявился? Черт его принес!»
Ворон продолжал пить чай и все косился на Сторожева.
— Ну, а у вас как дела? — спросил, наконец, он. — Не слаще, видно, раз ко мне прибег, а? У меня всякого народу хватит. Учитель вон пришел, умнеющая голова — такие листы сочиняет, плачу, ей-богу, умиляюсь и плачу.
— Афанасий Евграфович — слабонервный человек, хлиплый, сердобольный человек, но вождь великий. Под его руководством мы свернем голову большевикам.
«Помешанные, — подумал Петр Иванович, — ну, просто помешанные. И учитель с ума сошел и Ворон».
2
Мужик в красной сатиновой рубахе, что привел Сторожева, на цыпочках вошел в горницу, поставил на стол самогон.
Никита Кагардэ налил себе, Сторожеву и атаману. Сторожев отказался. Ворон пил стакан за стаканом. Через полчаса учитель и атаман были пьяны и наперебой жаловались Петру Ивановичу друг на друга, тут же обнимались, а Кагардэ, плача, просил Петра Ивановича пойти в Пахотный Угол и спасти от красных его сынка Левушку: Льва Никитича Кагардэ, львенка-тигренка.
— Покинул я его, покинул, Петр Иванович. Шестнадцать лет мальчишке. Вырастил, воспитал, все со мной в отряд просился. Один теперь. Погибнет. Спаси!
Сторожев встал, отшвырнул руку атамана, который обнимал его, и вышел.
Он снова пришел в сарай, лег на солому, и невеселые думы овладели им. Вдруг он услышал за стеной тихий говор: двое сговаривались ночью связать Ворона и Кагардэ и отправить их к красным.
— Я был в штабу, — говорил сиплым голосом один, — там верют нам, ей-богу! Отдайте, говорят, Ворона, и вам прощенье навек. Братцы, да что нам с ним, старым хреном, делать? Хоть жизнь свою спасем!
Сторожев ползком добрался до леса и снова побрел к родным местам.
3
Он не дошел до Двориков: не смог пробраться сквозь заставы, повернул на юг, в леса, и здесь случайно встретил брата Антонова — Димитрия. Тот сказал, что Антонов недалеко, на озере, что сегодня в последний раз он будет говорить со своими оставшимися в живых командирами, а затем уйдет в тайные места, чтобы переждать время.
Еле приметными тропами Димитрий вывел Сторожева к затерявшемуся в лесах озерцу. Плакучие ивы купали листья в прозрачной воде, в глубине зарослей квакали лягушки, важно слушали разговор лесных обитателей огромные сосны.
Близ озера, на широком пне, сидел, уткнувшись в книгу, Антонов, худой, заросший бородой. Он читал что-то.
По одному пробирались к озеру командиры — все, что осталось от восстания.
Они стояли вокруг вожака, опершись на винтовки. Одежда их была изорвана в клочья, из худых сапог торчали грязные пальцы. Давно не мывшиеся, они провоняли потом, были черны от загара их усталые лица, грязные тряпки закрывали шрамы и раны, у многих руки висели на перевязях.
Они стояли полукругом молча.
Антонов оглядел собравшихся и подумал: «А где Плужников? Где веселый Ишин? Где Токмаков? Где бурливый Герман? Где Булатов, с кем начинал я дело? Где Федоров-Горский? Где разухабистый денщик мой Абрашка, где последняя злая моя любовь?»
И отвечал себе: «Застрелился Григорий Плужников в Волхонщинском лесу, в Чека вместе с Горским попал пьяница Иван Егорович, убила горячая пуля Токмакова, Германа повесили мужики, арестован в Воронеже Шамов, сдался денщик Абрашка, расстреляли красные Булатова, поймал в селе Камбарщине шахтер Панкратов Марью Косову…»
И вот последние, что остались в живых, собрались сюда. Он обвел их взглядом — они стояли, потупив глаза.
— Ну, — спросил он грубо, — пришли?
— Куда же ты завел нас, Александр Степанович? — злобно щурясь, сказал Сторожев. — Верили в тебя, последняя надежда наша была у нас на тебя!
— Продали меня, — ответил Антонов, — продали верхи. А ведь знали они, подлецы, на что иду. Сами посылали меня! Продали и вы, толстосумы! — погрозил он пальцем Сторожеву. — Ты сказал мне как-то: другого Антонова выдумаем… Так выдумай, пес! Нет, погодите, вспомните еще меня, да поздно будет. В пыль сотрут вас!
— Ничего, — буркнул Сторожев, — наше племя сильное, зубы у нас цепкие, у нас дети в селах остались. И Антонова выдумаем.
— А черт с вами! В лес ухожу. Слышали? Ленин говорил, будто державы готовят войска к новой войне. Оправлюсь, а там опять гульну, новых товарищей найду… А вы как хотите: воевать думаете — воюйте, продаваться думаете — ваше дело. Один уйду с братом, никто мне не нужен. Идите на все четыре стороны.
— Прощай, Александр Степанович, — поклонился ему Сторожев, — не поминай лихом, — Он подошел и поцеловал Антонова.
Все говорили ему последнее «прощай».
— Прощай, Степаныч, — Санфиров хмуро уставился глазами в землю. — Служил я тебе честно.
— Прощай, Яков.
Санфиров уходил уже в чащу, когда Антонов окликнул его:
— Куда ж ты теперь?
Санфиров ничего не ответил.
Антонов смачно выругался и снова сел на пень.
Яков уходил, освещенный солнцем, серебром отсвечивали его седые волосы.
4
— Стало быть, не ворон я, только вороненок, а ворон летает еще! — повторил Антонов где-то слышанные слова.
Сторожев вспомнил об атамане Вороне, — летает ли он еще?
«Боже мой, — подумал он, — что осталось от нашего дела!»
Антонов сказал стоящим вокруг него:
— Прощайте, вы. И убирайтесь к псам.
Тяжело волоча ноги, уходили они.
Антонов закутался в дырявую шинель и прилег на траву.
Конец!
Зачем же и кому были нужны эти тысячи жизней, эти потоки крови и слез? Это пламя пожаров?
Зачем и кому нужна вся жизнь его, запачканная человеческой кровью? Всю жизнь кружились вокруг него какие-то люди, а он был один, и вот подошло: не надо ни о чем думать, — нет армии, и нет боевых товарищей, и коня, на котором хотел он въехать в Москву, убили в бою.
— Вот, братишка, остались мы одни, — сказал он со злобой. — Ну и дьявол с ними.
Димитрий, от моложавости которого почти ничего не осталось, молчал и сидел, насупившись, в грязной шинели и буденовке с сорванной красной звездой.
Антонов машинально оглянулся, приметил клок бумаги, выброшенный Санфировым. Косой кусок был оторван на цигарку. Антонов поднял этот клок и прочитал:
«Товарищи крестьяне и рабочие!
Настал момент, когда, как широкое море, вся матушка Русь святая всколыхнулась из края в край… Настал час, и восстал народ. И вот мы, восставшие, пришли к вам, братьям мужикам, пришли крикнуть: власти Советов, власти обидчиков и грабителей не должно быть, времена насилия прошли… Да здравствует Учредительное…»
И ничего дальше: конец пошел на цигарку. В дым пошло все! Антонов передал бумагу брату.
— Ты писал, что ли?
Димитрий взглянул и кивнул головой.
— Да, Митя. Вот все, что осталось у нас. Клок бумаги от того, что было, да и тот потрачен Санфировым на курево.
Посидели еще молча.
Антонов тронул брата за плечо.
— Пойдем, Митя. Сыро, холодно, знобит меня.
Они ушли в лес, и вечерние тени поглотили их.
5
В те же дни работники Инжавинского ревкома приняли оружие у Якова Васильевича Санфирова — командира антоновской гвардии.
Его спросили:
— Почему вы сдались?
Санфиров сказал глухо:
— Потому, что потерял правду. Может быть, найду у вас, кто знает?
Те, кто принимал от него оружие, усмехнулись. Санфиров приметил их усмешки.
— Я знаю, вы не верите мне. Что ж, я докажу, что пришел сюда не затем, чтобы сдаться и сесть в тюрьму. Если вы вернете мне оружие, буду вместе с вами уничтожать последнее из того, что создавал и я.
Санфирова допросил чекист Сергей Полин и поверил ему.
Якову Васильевичу вернули оружие и послали с отрядом в Лебедянский уезд, где еще разбойничал один из антоновских командиров, Уткин.
Банду Уткина разгромили, атаман удрал; Санфиров вскочил на коня и погнался за ним.
Шел холодный дождь, ветер свистел в поле, низко шли бурые облака, дорога раскисла, конь храпел и падал, но впереди маячила фигура скачущего Уткина, и Санфиров нахлестывал и нахлестывал лошадь. С каждой минутой все ближе становилась фигура бандита, расплывающаяся в туманной мгле.
И казалось Якову Васильевичу: прикончит он Уткина, и навсегда убьет в себе то, что еще оставалось в нем от прошлого, — неверие всем и всему, мрак, обволакивающий душу в часы противоречивый раздумий.
В его винтовке осталось три патрона, когда он нагнал Уткина. Тот отстреливался, оборачиваясь к Санфирову, но пули летели мимо, и он все гнал и гнал коня, а Санфиров не отставал.
И тут лошадь Уткина поскользнулась. От внезапной остановки Уткин чуть не вылетел из седла. Он быстро оправился, но секунда задержки стоила ему жизни.
Санфиров придержал кобылу, прицелился. Уткин, услышав щелканье затвора, обернулся и что-то крикнул. Ветер отнес его слова в поле.
Прозвучал выстрел. Уткин упал. Лошадь его ускакала.
Санфиров подъехал к убитому, снял с него оружие, зеленый бант с фуражки и уехал.
Теперь ему поверили до конца. Но Яков Васильевич знал: он еще не убил в себе прошлое.
Глава двенадцатая
1
Несколько дней подряд Сторожев безуспешно охотился за новой лошадью — он снова пришел в родные места. Но люди знали, кто бродит ночью около их костров, кто прячется в ночи, и крепко берегли свои табуны.
Сергей Иванович приказал добровольческим крестьянским дружинам охранять самые дальние поля и луга, тщательно обыскивать лощины и, если будет обнаружен след Сторожева, взять его живым или мертвым.
Петр Иванович бросил поиски, забился в дальние кусты, стал осторожен, спал урывками, просыпался от всякого шороха, от крика ночной птицы.
Как-то в жаркий полдень, когда дали струились, колыхаясь, словно на волнах, Петр Иванович проснулся. Перед ним сидела толстая лягушка, уставив на него глупые глаза. Он вздрогнул, спина покрылась потом, колени онемели. Лягушка, встревоженная пробуждением человека, исчезла в траве. А Сторожев долго не мог прийти в себя, руки тряслись, глаза блуждали, мысли перескакивали с одного на другое, болела голова, и шумело в ушах.
В эту ночь он увидел сон.
…Разгоряченный работой, он в безмерной жажде подошел к ручью, который бурно бил из-под кочки. Но когда он нагнулся, чтобы припасть воспаленными губами к воде, на него оттуда глядела широко открытыми глазами лягушка. Было противно и тошно пить, но грудь и горло ломила сухота. Внезапно со дна поднялась муть, грязная пена клубилась и росла, яростно хлестала, обволакивала Сторожева. Он пытался бежать, но ноги его вязли в густой липкой грязи, и все гуще становились клубы мути, обволакивали его, захлестывали и переливались через голову. Потом появились лягушки, лапами они задевали по лицу, и не мог он прогнать их, потому что и руки его были погружены в смрадное месиво. И не могли закрыться глаза, чтобы не видеть бездушных тяжелых взглядов лягушек. Потом он увидел сияющего улыбкой Кольку; тот стоял, показывая ручонкой на отца, и что-то торопливо говорил толпящимся вокруг него людям. А те, не двигаясь, с любопытством глядели, как гибнет он, захлебываясь в удушливых парах…
Очнулся Сторожев, сел. От земли шел белесоватый пар, верхушки кустов серебрились и тихо шуршали. На горизонте пробивалась узкая желтая полоска зари, недалеко было утро. Порыв ветра обвеял его утренней сыроватой свежестью. Он вздрогнул: перед взором еще стояли холодные пустые лягушечьи глаза.
И почему-то так же внезапно, как налетел ветерок, в памяти встали образы людей, убитых им, лужи застывшей человеческой крови, жаркий отсвет пожарищ.
…Фрол Петрович показывал исполосованную нагайками спину, кровавые клочья дыбились на ребрах.
…Огромный, худой Александр Кособоков гневно плакал от боли и унижения — горит хутор, приютивший двух разведчиков-коммунистов…
Эти призраки стали приходить теперь все чаще и чаще. Они появлялись во сне и наяву, шли мимо, задевали его окровавленными руками, и тогда чудилась ему их горячая кровь на щеках и лбу. Он бежал к воде, смывал жгучие пятна, потом приходил в сознание.
— С ума схожу, — думал вслух Сторожев.
Он перестал подолгу сидеть на одном месте, шатался по оврагам и никак не мог отойти далеко от села, хоть и знал, что скоро ему конец, что брат Сергей ловит его, как зверя, что вот-вот доберутся до него, красные.
Часто Сторожев думал о том, чтобы пробраться в село и убить Сергея.
Только одного Сергея! Хотя бы его! Ему казалось, что от Матроса пошла вся смута, что Матрос виноват в падении сторожевского рода, это он натравил на него брата Семена, и все село, и весь мир; он и только он виновник всех его, Петра Ивановича, бед и унижений!
Убить его! Сжечь! Распилить на куски!
Но в село Сторожев пробраться не мог — боялся.
Иногда решал: «Уйду». И шел день и ночь и еще день и ночь на запад, к границе… И внезапно поворачивал и спешил обратно.
2
Он не мог больше быть один; дума о доме, тоска по работе, по людям, по людской речи становилась подчас сильнее ненависти и страха.
Он подползал к полям и смотрел, как идут с косами крестьяне и падает желтая созревшая рожь. Однажды, выбрав далекий загон чужой деревни, где косили четверо незнакомых мужиков и вязали снопы говорливые бабы, Сторожев подошел к ним.
Они увидели его и сгрудились, косы их легли на оголенную землю. Страшен был вид Сторожева для людей, начавших забывать о боях. Одежда его порвалась, глаза ввалились, черная с проседью борода обросла вокруг лица с медным отливом, нелепо висело оружие.
— Уходи, — сказал сурово седой высокий мужик, — Порежем!
Петр Иванович поглядел на них. Злые глаза были спрятаны за хмурыми, сердитыми изгибами бровей.
— Иди отсюда, чего шляешься, Волк! — продолжал старик. — Не смущай, не тревожь нас. Мира мы хотим, работать желаем, хлеб собирать надо. Иди, откуда пришел.
Сторожев повернулся и ушел. Мужики долго смотрели ему вслед, слушали, как шелестят кусты, пропуская чужого и страшного человека. Потом, поплевав на ладони, снова размахнулись косами.
Три дня подряд шли дожди. Прибитая ими, лежала сплошной лавиной нескошенная рожь. Низко над землей ветер гнал набухшие тучи, солнце показывалось на минуту, но сердитый ветер нес из-за горизонта новые и новые грязно-бурые облака, они закрывали небо, и дождь шумел в полях, туман и сырость бродили по межам и дорогам.
Мимо кустов ехала подвода. Мальчик, накрывшись мешком, правил лошадью. Сзади на соломе, точно черная птица, сидел священник. Сторожев издали услышал шлепанье колес по грязи и сердитое понуканье возчика. Он вышел на дорогу; сетка дождя закрывала горизонт, и, кроме этой подводы, ничего нельзя было различить.
Петр Иванович остановил лошадь. Мальчонка окаменел.
— Благословите, отец Степан. Исповедаться хочу и причаститься.
Священник благословил Сторожева.
— Иди с миром, — пробормотал он. — Иди, некогда мне, к умирающему еду.
— А как же причаститься-то?
— В другой раз, в другой раз, — заспешил поп. — Иди, иди, бог благословит, бог простит.
Сторожев поглядел на попа, и ему стало почему-то весело.
— Вы что ж, батюшка, волнуетесь? Красные вас не тронут, я при оружии. Так и скажи: заставил, мол.
Поп замахал широкими рукавами рясы.
— Уйди, Петр! Сам знаешь, за одно дело стоим. Однако расчет нужен: когда и что можно, когда и что нельзя. Расчет надо, друг, иметь.
— Ладно, — подумав, ответил Сторожев. — Умный ты, батюшка! А я боялся, что и ты повернул. Исповедуй меня. За мной смерть по пятам ходит. Вот она, видишь, костлявая, в кустах прячется. Так и цепляется, не отходит. Исповедуй!
Мальчишка сидел не двигаясь, только трясся его подбородок и по лицу молчаливо катились слезы. Потом он закричал; Сторожев ударил его — мальчик затих.
Под мелким теплым дождем, под серым и сырым покровом дня священник спеша отпустил Петру Ивановичу грехи, сунул в рот дары, торопливо влез в телегу и погнал лошадь.
Сторожев поглядел ему вслед, и так тяжело сделалось на сердце, так захотелось кричать, выть, чтоб услышал весь мир.
Все отреклись от него, даже этот поп! Сторожев яростно топтал грязь, богохульствовал, смеялся неистово и дико. Потом смолк, упал в траву и лежал без движения до позднего холодного вечера.
3
Однажды он наткнулся на Андриана, брата жены. Старый унтер сидел на меже, перевязывая онучи, Сторожев вышел, Андриан откинулся в страхе. Потом испуг прошел, и он гневно оглядел Сторожева.
Был когда-то Андриан исступленным пьяницей, но вылечил случай в шестом году, — тогда горело село, подожженное по указу царя. С тех пор Андриан не переносил и запаха вина, перестал есть мясо, был суров, неразговорчив. Когда Сторожев ушел к Антонову, Андриан стал старшим в семье и хозяйстве.
— Тебя ищут… Оброс весь, у-у бандит чертов! — С Петром Ивановичем Андриан всегда говорил грубо и прямо, хотя и побаивался его.
Сторожев сидел на меже. Догорала заря, ночь шла с востока, накрывая поля.
— Объявился бы, — продолжал Андриан, свертывая цигарку. — Простили бы, может быть. Намедни Сергей Иванович заходил. Ежели бы, говорит, сдался, может быть, и помиловали. И Семен приходил, он теперь в Совете. Все Прасковью уговаривал: «Ступай, мол, найди хозяина, прикажи явиться — простим».
— Не простят, — глухо сказал Сторожев и злобно прибавил: — И я их не помилую. Я их, паршивых чертей, живыми испеку, хотя они мне и братья.
— Будя болтать-то! — сердито прикрикнул на него Андриан. — Испеку! О себе подумай, о детях. Дом бросил, старый пес, семью забыл. Тебе ли воевать?
Сторожев махнул рукой.
— Не лотоши! Если не мне, кому же? Не на тебя надеяться. Ну, что там у вас? Разграбили, поди, сожгли?
— Нет, только твое взяли, а у ребят ничего не тронули… Прасковью было посадили, да выпустили, — красные, мол, с бабами не воюют. Устал народ от войны, работают, Петр, ровно черти. Да и жизнь стала легче. Разверстку отменили, вольная торговля открылась. Говорю: объявись, сдайся, может, жив будешь. А то ведь горе, горе в семье-то, Петя. — Голос Андриана задрожал.
— Горе? Какое горе? — У Петра Ивановича забилось сердце.
— Кольку-то…
— Что Кольку? — не своим голосом, страшно закричал Сторожев. — Убили, что ли?
Он поднялся и, схватив Андриана, бешено тряс.
— Ты что, очумел? — Андриан выругался и с силой высвободился из рук зятя. — Бандит чертов! У кого же рука поднимется на ребенка? Звери, что ли?
— Ну, да не тяни, не тяни, седой!.. Говори, что с ним?
— Лошадь ударила. Черт ее знает, так по лбу саданула — смотреть страховидно.
Андриан чиркнул зажигалкой, прикурил цигарку.
— Насмерть? — дохнул Петр Иванович.
— Доктор говорит, будет жив.
Андриан хотел что-то сказать еще, но вдали загрохотала телега.
— Уходи, убьют. Зол на тебя народ… У-у, Волк, ушел бы уж куда-нибудь…
— Куда уходить? — в великой тоске спросил Сторожев: вот он снова будет один, и ночь впереди.
— В чужую землю иди, все равно тут тебе крышка! Чего ждешь? Кого поджидаешь? Убили вашего Антонова, чай, слышал?
— Как убили? — рявкнул Сторожев. — Кто убил?
Андриан не успел ответить — телега приближалась.
Сторожев махнул рукой и исчез. Андриан оглянулся кругом, встал и скрылся в лощине.
4
Ночью Сторожев лежал, уткнувшись головой в траву. Хотелось плакать, но в воспаленных глазах не рождались слезы, только удушье давило сердце. Он не верил, что Кольку убила лошадь, нет, она не могла убить его.
Вспоминал: когда сын только что начал ходить, он сажал его верхом на кобылу, и ребенок, цепляясь ручонками за гриву, озаренный радостью, ехал и лопотал, захлебываясь словами.
«Убили Кольку! Наследника моего убили! Выучить его хотел, вывести в люди, чтобы прибавлял богатство к отцовскому добру, чтобы новые сотни десятин прирезал к отцовской земле, чтобы вся округа ломала шапки перед сторожевским племенем… Убили наследника Кольку. А может быть, жив?»
…Бесшумно ползли, причудливо громоздясь, тучи, безнадежно, тоскливо каркали галки.
Глава тринадцатая
1
Стояли теплые сухие дни. Обгоняли друг друга, появляясь и исчезая, будто растопленные солнцем, ленивые облака, шуршали овсы, и одинокие встрепанные вороны бродили по жнивью.
Сторожев был один в поле, кишащем людьми. Он обходил их, незримый в кустах и густой траве. Он никуда не отходил от села и день и ночь, пока не приходил желанный сон, об одном думал теперь — о Кольке.
«Что я, брежу? Жив ли он, или умер, не все ли равно: не помочь, не поправить».
Но уйти не мог.
«Хоть бы узнать, жив или нет», — сверлила неотступная мысль.
Наконец Петр Иванович решился разузнать о Кольке. Он вспомнил, что на дальнем поле есть загон брата Семена. Копны с дальнего поля не были еще убраны, их свозили после того, как убирали ближние поля.
Ранним утром, когда на востоке едва занималась заря и из лощины полз между копен скошенной ржи туман, по мосту затарахтела телега.
Сторожев выглянул из куста и узнал Семенова рыжего костистого мерина. В телеге, свесив босые ноги и встряхиваясь на ходу, сидел Семенов сын, Сашка. Телега пошла медленней; мерин, тяжело дыша, взбирался на крутогор. Петр Иванович вышел из кустов. Сашка, узнав дядю, закричал. Сторожев остановил мерина и подошел к телеге. Парнишка дрожал и лопотал что-то неразборчивое.
— Я не трону, не трону тебя, ну! — крикнул Петр Иванович. — Заткнись, паршивец! Скажи, что дома? Что с Колькой? Да ну, говори, чтоб тебя…
Сашка — четырнадцатилетний, веснушчатый и бледный — тряс головой и бормотал что-то несвязное. И снова захлестнула Сторожева волна ярости к брату, ко всему, что было там, за невидимой чертой.
Будто кто-то шепнул: «Вот он, сын твоего брата, того самого, который был в комбеде, того самого, кто помогал Сергею делить с гольтепой твоих коров и твое зерно. Вот он, его щенок, живой, трясется от страха, а твой Колька, может быть, уже давно гниет в земле, окутанный клубком жадных, прожорливых червей».
Кровь била в голову, и остаток рассудка растаял в свистопляске бешенства и ненависти.
— Говори же, сукин сын! — взревел Сторожев, не помня себя, и хлестнул плетью по дощатому настилу телеги.
Сашка замотал головой и, повались навзничь, закричал:
— Дяденька, не бей! Дядя Петя, не трогай!
Сторожев поднял плеть. Парень по-звериному взвизгнул; мерин, до сих пор жевавший траву, вздрогнул от крика, попятился. Вторично поднятая плетка Петра Ивановича ожгла его круп, и вот, сорвавшись с места, лошадь огромными прыжками метнулась вправо, влево и галопом, вздымая пыль, помчалась через мост. В телеге беспомощно метался и колотился о доски Сашка.
Сторожев бежал за ним вслед, срывал из-за спины винтовку, но дрожащие руки путались в ремнях. Наконец, обессиленный, он упал на пыльную дорогу.
В тучах и ветре занимался день.
2
На следующее утро Петр Иванович с восходом солнца был на дальнем поле. И снова в холодную зарю затарахтели по мосту колеса.
Сторожев выглянул из-за кустов — ехал рыжеусый хмурый Семен. Солнце только что вылезло из своего багряного логова, и первый луч его заиграл на затворе винтовки, Семен держал ее на коленях и жадно высматривал кусты в лощине.
3
Еще два дня мучился в тоске Петр Иванович, неизменно бродя вокруг села.
Потом он решил пробиться в Дворики, на час, на два выгнать оттуда красных.
«Кто знает, — думал он, — много ли их?»
Он отрыл пулемет, спрятанный вместе с патронами, достал оттуда же, из заветного угла, гранаты и ночью подошел к околице.
Было тихо, утомленные люди спали. Замолкли собаки, не трещала колотушка сторожа.
Ползком, затаив дыхание Сторожев пробрался к гумнам. И вот вспыхнули высушенные солнцем риги — две подряд. Через минуту завыла медная туша колокола, село просыпалось в пламени горящих риг. Набат то затихал, то снова бились в ушах его медные раскаты.
Вдруг в самой гуще валящего на пожар народа ахнула граната. Рвануло, на миг ослепило, мгновенно стало тихо. Потом жалобно застонал кто-то… Тотчас же лопнули еще две гранаты. Толпа ахнула, сжалась в комок. Потом будто кто-то с силой растолкал ее, и она развеялась.
Сторожев, сжав губы и словно одеревенев, поливал из пулемета улицы смертными струями.
Но вот около штаба послышалась властная команда, прекратилась беготня, на минуту смолкло все, и забегали винтовочные выстрелы, застрекотали ответно пулеметы.
Огненная игла впилась в правую ступню Сторожева, сразу намокло в сапоге, и прояснилось сознание.
Он прекратил огонь, бросил пулемет, винтовку и, волоча раненую ногу, уполз в ночь, провалился в какой-то погреб, отлежался, пока гонялись за ним красные по далеким оврагам, обшаривая кусты и болота.
Глава четырнадцатая
1
Теперь у него был только револьвер с двумя патронами да шашка, на которую опирался он. Не было, казалось, надежды, нигде не слышал он тарахтения пулеметов и железного лязга орудийных выстрелов. Восстание погасло, как гаснут с шипом и чадом сырые дрова.
Успокоенные люди работали на гумнах: велик был урожай в тот год.
Медленно текли дни, и незримо смыкался круг, внутри которого бродил Сторожев.
Почти неделю его лихорадило. Рана на ноге болела, не давала ни двигаться, ни забыться. Он еле-еле переносил ползком свое тело, отощал и бредил наяву боями и победами. В этом разбитом, развалившемся человеке тлел еще огонь неукротимой злобы.
Что заставляло его отчаянно цепляться за жизнь, колесить по пыльным пашням, какими-то травами лечить рану и пить из стоячих прудов затхлую зеленую воду?
Ненависть, только она.
Иногда от истощения он падал в жаркие сухие борозды или около вонючей лужи воды в буераке, и тогда мимо сознания плыли бесконечные нестройные думы, гасли и снова появлялись картины недавнего прошлого.
Напрасно заставлял себя Сторожев думать о чем-то ровном, цельном и большом — больные мысли тянулись без конца. Иногда, сменяя эту бесконечно унылую вереницу неопределенных образов и воспоминаний, Сторожев представлял себе фантастические сцены расправы, когда снова всесильным и гордым он въедет в село.
Он вспоминал имена людей, которые должны будут кровью ответить за позор поражения: сестры и братья, сыновья и племянники коммунистов, их друзья и приятели, ревкомщики…
О! Он всех их помнил, и все в его мысленном списке были разнесены по графам расстрелов, избиений и пыток.
Он хрипло говорил сам с собой, сидя где-нибудь в поле, устремив взгляд в одну точку, а поодаль от него прыгала изумленная галка. Целые дни он бывал в каком-то бреду. От полузабытья его пробуждал лишь голод; тогда он шел искать еду.
Но после ночного боя красные организовали общественную охрану. К садам и огородам нельзя уже было подойти. С полей убрали урожай, все меньше и меньше становилось копен, приходилось ходить в далекие поля.
Скоро их не стало и там.
2
Он голодал. Он думал теперь только об одном — о пище, он рыскал за ней и не находил; редко удавалось украсть картошку или набрать зерна.
Как-то утром в буераке около пруда он нашел сачок, обрадовался и начал ловить рыбу. Мелких, пахнущих тиной карасей он ел сырыми: не было огня, чтобы развести костер. Но через несколько дней он не нашел сачка в том месте, где обычно прятал его.
Это было вечером. В лощине надоедно верещали комары. Отмахиваясь от них, тихо пробрался Сторожев через полусгоревший камыш к пруду и увидел: его сачком ловил рыбу человек, оборванный, обросший седой щетиной.
Шлепая босыми ногами в тине, человек побрел к берегу и вывалил из сачка вместе с комьями спутанных водорослей несколько карасей.
Когда он наклонился и стал руками разрывать траву и мох, Сторожев прицелился из револьвера и выстрелил. Лощина повторила выстрел несколько раз, он покатился по полю и замер там.
Человек, будто бы не задетый пулей, медленно обернулся лицом к Сторожеву, в руке он зажал большого жирного карася. Сторожев метнулся к нему, тот упал. Петр Иванович, два дня ничего не евший, выхватил карася из рук упавшего и отвернулся от убитого, но его с силой дернули назад за раненую ногу, и он повалился на траву. Поднявшись, Сторожев увидел, что человек целится в него из обреза.
Он оцепенел. Секунды, казалось, остановились, и время замедлило свой полет. Прогудела отбившаяся от роя пчела. Из камыша выскочила птица; шум ее полета показался Сторожеву грохотом. Ленивые облака как бы со скрежетом шли к западу. На другом берегу пруда квакала одинокая лягушка, и кваканье ее было подобно чему-то неестественному.
Рука целившегося в него вдруг стала падать, раненый съеживался… Потом пальцы разжались, и обрез упал на траву.
Сторожев вытер холодный пот; язык его прилип к гортани.
Человек повернулся на спину, из живота булькала кровь.
— Жгет, — прохрипел он, и розовая пена появилась у рта. — Пристрели ты меня… пожалей… маятно…
Сторожев поднял обрез. В затворе был один патрон. Он приставил дуло ко лбу раненого, зажмурился и дернул спуск. Осечка. Сторожев грубо и длинно выругался, взвел курок снова, спустил еще раз.
Человек дернулся и, вытянувшись, замер. Рука пошарила по траве, словно что-то искала. Она нашла выхваченного Петром Ивановичем карася и в последнем усилии сжала его.
Обшарив карманы убитого, Сторожев нашел грязный лоскут бумаги, тщательно завернутую в тряпку коробку спичек, соль и черствый ломоть хлеба. Потом он отволок убитого в дальние заросли камыша, с трудом разогнул окостеневшие пальцы и вытащил из них карася.
В эту ночь Сторожев снова жил. Забыв об убитом, словно его и не существовало, не подумав даже, кто тот и откуда, он развел костер, кое-как изжарил карасей и съел их полусырыми с хлебом и солью. Ослабевший после обильной еды, он как-то внезапно, словно его ударили по голове, окунулся в сон.
Проснулся он от колкой боли в руке. К рукаву подбирался огонь, трава тлела, обжигая кожу. Он вскочил; пламя пожирало сухой камыш. Высушенная близким огнем тряпка и сачок весело горели. Петр Иванович не успел затоптать пламени, спички вспыхнули, а у сачка выгорела середина.
Наступило утро, сырое и холодное, просыпались лягушки и птицы. Впереди снова были голодные дни. Один, другой, третий, пятый — без счета…
3
Через два дня он встретил на меже старуху нищенку; до смерти напуганная, она отдала ему все куски и черствые корки. Трое суток он был сыт. Потом снова тянулись дни охоты за едой, бесполезной и мучительной. Наконец голод пересилил страх, и Сторожев решил зайти на хутор к двоюродной сестре: богатый ее хутор стоял на пригорке, вдали от проезжей дороги.
Его заметили; во дворе мелькнули тени людей, и огромный черный кобель, обычно прикованный к цепи, встретил его у риги.
Петр Иванович вытащил из ножен шашку, собака яростно хваталась за нее зубами, обрезала губы и бесилась. Наконец, выведенный из себя, Сторожев решил обмануть пса. Он прижал шашку к груди и, когда собака кинулась на него, всадил ей клинок в бок. Кобель тонко заскулил, завертелся и упал, обливаясь кровью. Сторожев, крадучись, подошел к дому, потрогал дверь: она была заперта изнутри. Постучался. Глухо отдались удары, тихо было за окнами. Сторожев подошел к амбару, к риге — везде висели тяжелые сердитые замки, снова вернулся к дому и колотил в дверь кулаками, рукояткой шашки. Ни звука. Он кричал, просил, умолял, рыдал в бессилии и изнеможении. Напрасно!
Озверев, он полоснул шашкой по окну, стекло с дребезгом упало. Дверь распахнулась, на крыльцо вышел могучий косоглазый мужик с дробовиком.
— Чего тебе надо? — спросил он.
— Христом-богом молю, — прохрипел Сторожев, — дай кусок хлеба, Пантелей Лукич, отощал…
— Дам-ка я тебе в живот заряд дроби, бандиту, — сердито проворчал мужик и крикнул в сени: — Аришка, дай краюху!
Из сеней высунулась рука и подала хлеб: сестра даже не захотела встречаться с Петром. Пантелей положил хлеб на перила.
— Бери и иди отсюда! Да не приходи больше. Увидят — голову мне снимут. Тут твой братец управляет, Сергей Иванович. Ох, камешек!
— Что же, значит, братцу моему продался?
— Нету у него таких денег, чтобы купить меня. Однако своя рубаха ближе к телу. Тебе все равно издыхать, а я еще жить хочу.
— Богатства от братца ждешь? Милости? Он тебя помилует! Он тебя одарит!
Пантелей Лукич нагнулся к уху Петра Ивановича, зашептал:
— Сердце и у нас горит, Петра, да смирились! С волками жить — по-волчьи выть. Другого часа ждать надо, зубы надо точить, а когда час настанет, умней воевать будем, выучились. Еще потребуешься! Чуешь? Ну, бери хлеб, да с богом!
Петр Иванович посмотрел на хлеб; изо рта потекла слюна. Он отдернул от краюхи руку, повернулся и пошел прочь.
— Эй! — окликнул его Пантелей. — Петр! Вашему брату амнистию объявили! Сдавайся, жив будешь. Нынче понедельник, в субботу срок кончается. Спеши!
Сторожев обернулся, плюнул в сторону, хутора и, ковыляя, ушел.
На перекрестке, на придорожном столбе, он увидел прибитый гвоздями лист бумаги. Это был приказ об амнистии добровольно сдающимся.
Петр Иванович оторвал лист и ушел в овраг.
4
И вот подошло: четыре дня подряд у него не было ничего во рту. Он лежал в полузабытьи близ села. И снова и снова читал Сторожев приказ об амнистии: завтра в субботу истекал срок.
Он сел, разум его прояснился, мысли шли четкие, спокойные, ровные.
Вся жизнь за эти последние месяцы представилась ему огромной петлей. Он бегал от одной стороны к другой, чтобы растянуть, разорвать ее, но петля безжалостно стягивалась вокруг него.
Он вспомнил, как зимой два года назад капкан поймал его, волки выли над ним. Но тогда разжались железные зубы.
Сейчас чья-то сильная и неумолимо жесткая рука, властвующая над петлей, что опутала Сторожева, стянула ее, и не выскочить из нее, не перепрыгнуть через нее, не разорвать ее! «В конце концов что же дальше?» — встал перед Сторожевым грозный вопрос.
И понял он, что сейчас же надо ответить самому себе, потому что завтра или через неделю, если голод не свалит раньше, его пристрелят в безлюдном поле.
Из черного круглого отверстия выскочит пучок ослепительного пламени — и все!
«Не лучше ль самому прикончить скитанья, поднять револьвер к виску и нажать собачку?»
«…Но это ли расчет с жизнью? Неужто уйти из нее, не узнав, что же там, за чертой, в другом мире, в лагере победивших: царит ли спокойная уверенность, или еще ждут удара?»
«…Может быть, там найду друзей — не все же отвернулись от меня, продались?»
«Нет, — думал Сторожев, — кто держался за землю, за власть над людьми, того не скоро сломишь. Знаю я своих приятелей, знаю, каковы они — один в одного волки… Поговорить бы с ними по душам, узнать, чем дышат, чего ждут, о чем думы думают, что делать хотят… Неужто покорились?»
И вдруг он вспомнил Пантелея и слова его: «Сердце и у нас горит, Петра, да смирились!»
Сторожев засмеялся.
«Хитер старый пес! В лисью шкуру, вишь ты, влез!»
И ему стало жаль, что не взял он у Пантелея хлеб да еще предателем его обозвал.
«Выходит, у Пантелея тонкая линия, — думал Сторожев. — А может, оно и умно; может, вернее ихний расчет. Может быть, и мне шкуру сменить?»
«Ладно, — решил он, — там увидим, что делать, кем прикинуться: зайцем или лисой…»
«А может быть, там узнаю, что где-то близко собираются новые силы… Убили Антонова — растут другие вожди, и им суждено готовить сокрушительный бой… Может быть, обман эта тишина? Может быть, ждут люди призывных кличей, храбрых людей вроде меня?..»
«Так, стало быть, что же: сдаться с оружием в руках? Идти вымолить прощение, сказать: я пришел голодный, делайте, что хотите, дайте мне ломоть хлеба и кусок жизни?..»
«Так, стало быть, что же: сдаться или ждать?.. Чего? Чего ждать? Впереди — ночь, потом голодный день, десятки их, осень, дожди, снег… смерть… Да, смерть. Смерть — так или иначе. Но убить себя можно всегда. Не лучше ли умереть сытым, прижав к груди детей, жену, Кольку?..»
Он не смерти боялся. Его пугала встреча с братьями, с Сергеем в особенности. Почему? Этого Сторожев не мог понять. Может быть, потому, что оправдались слова Сергея и вот приходится ломать себя? Облик Матроса вдруг вырос в глазах Сторожева: это был не просто брат, то был человек другой веры, других убеждений — фигура Сергея стала для него символической. В ней он видел мир, который задался целью свалить его, Петра Ивановича, уничтожить его силу, могущество, слово мое, на котором держался он, Сторожев, тысячи, десятки тысяч сторожевых. За этой фигурой Петр Иванович видел народ, который взял землю у Лебяжьего; бедноту, которая будет пахать его землю; людей, которые ищут его в кустах, ждут его смерти, стерегут, стреляют в него, — весь мир, ненавидящий его… И все это воплощалось для Сторожева в исполинской фигуре брата Сергея, поднявшего народ, села, друзей, сломившего силу и дух его, Петра Ивановича.
«Куда бежать от Сергея? Не убежать! Так что же делать? Бог! Где же ты? Научи, куда податься, где спрятаться от людей, от братьев?»
Но поле было пустынно, и молчало небо, и бог не отвечал Сторожеву.
Петр Иванович заснул, проснулся и сразу решил: сдаться.
«Сдаться, сдаться, но прийти в ревком сутки спустя после конца объявленного срока».
«В воскресенье, а не в субботу приду я в Дворики. Все равно за день с больной ногой до села не дойти. Да и пусть знают, не боюсь я их суда».
«Меня расстреляют, — думал он, — но расстреляют сытым. Я увижу семью, людей. А может быть, и помилуют, — мелькнула мысль. — Ну, да все равно!»
«Итак, — думалось Сторожеву, — прощай, земля под Лебяжьим озером! Прощай, Александр Степанович! Слабый ты был человек, обманул ты нас, но пусть земля будет тебе пухом… Как и мне — завтра, послезавтра, скоро…»
В воскресенье к вечеру, почистившись и умывшись в болоте, Сторожев заковылял к селу.
Глава пятнадцатая
1
Раза три-четыре ездил чекист Сергей Полин смотреть трупы «убитого» Антонова, и каждая поездка приносила только разочарование: люди выдавали желаемое за совершившееся — Антонов все еще был жив, и ни одна душа не знала, где он.
Шли дни — ни слуха об Антонове. Иные, уставшие от бесконечных разъездов по глухим селам и деревням, советовали бросить поиски, утверждали, что не такой-де дурак Антонов, чтобы прятаться в пределах губернии… Кто-то утверждал, будто видели его вместе с братом на Украине.
Но были люди, хорошо знавшие Антонова, убежденные в том, что Александр Степанович не ушел с Тамбовщины, что невидимой цепью прикован он к старым и знакомым местам, и как не уходил далеко за границы губернии, когда был в полной силе, так не может уйти и один.
В числе их был Михаил Покалюхин, тамбовский крестьянин, отлично знавший тамбовскую деревню и повадки тамбовского мятежного эсера, тридцатилетний, высокий, ладно скроенный, отчаянной храбрости человек, со смелыми карими глазами, уверенный в себе и своих догадках. Он строил их не на пустом месте, а путем тщательной проверки всей жизни Антонова.
— Он здесь, — утверждал Покалюхин. И хотя многие подсмеивались над фанатической его уверенностью, он оставался верен себе.
И не ошибся.
2
Антонов и Димитрий, подобно диким зверям, бродили на границах Кирсановского и Борисоглебского уездов, хоронились в лесах и у преданных людей.
Много раз Димитрий уговаривал брата уйти с Тамбовщины. Были у них в запасе добротные документы, были верные люди в Саратовской и Воронежской губерниях — до них рукой подать. А оттуда на Запад, туда, где еще не перестали думать о свержении власти Советов.
Антонов неизменно отказывался, а когда ему надоели приставанья брата, в припадке ярости на мелкие куски разодрал документы, которые могли бы спасти его.
На что он надеялся? Чего он ждал?
Бог весть!
Как-то в разговоре с братом сказал:
— Молчи, никуда я не уйду. Я попутного ветра жду. Мне достаточно поднести спичку, чтобы все кругом опять заполыхало.
Димитрий молчал. Он не отходил от брата.
Антонов мало ел, давно бросил мундир, надел потрепанную кожанку, снятые с кого-то синие залоснившиеся галифе и не расставался с оружием: маузер, браунинг, два подсумка, полных патронов.
И карту Тамбовщины таскал с собой. Иной раз часами просиживал над ней, шевеля толстыми губами, водя пальцем по грязному лоскуту, словно бы переживая вновь сражения, которые выигрывал и проигрывал, словно бы готовясь к бою.
Им давали приют: иной раз под угрозой оружия, в других местах встречали как родных. Антонов молчал, благодарил за гостеприимство холодно. А на рассвете уходили они из сел и с хуторов неведомо куда.
Порой ночь заставала их в лесу; порой им домом служил стог сена, сарай на краю утопающего во тьме села или землянка, вырытая неизвестно кем.
Иногда удавалось достать книги, и днями, сидя в шалаше пастуха, братья по очереди читали вслух, потом спали, просыпались на вечерней заре и уходили в лес.
Может быть, Антонов искал смерти и не находил ее, а неведомая сила держала его в плену круга, внутри которого он колесил, вспоминая юность, протекшую в этих лесах, в землянках и засадах, поджидая царевых слуг, чтобы, расправившись с ними, уйти, отлежаться и опять приняться за свое…
В голове бродили смутные мысли. Душа его то была полна отчаянной решимости выжить, выждать и снова ударить в набат, то отчаянье брало верх, и тогда он выбирался на дорогу, убивал первых встречных. И снова скрывался.
Шли дни, а эти двое одичавших, потерявших людской облик не переступали раз намеченной черты, то удаляясь в глубь круга, то бродя по внешней границе его. И кровь человеческая и пламя пожаров отмечали их путь…
3
И все-таки выследили люди Антонова и сообщили в Тамбов: жив, мол, Александр Степанович, бродит от Перевоза до Чернавки, от Уварова до Нижнего Шибряя.
Первым получил эту весть Сергей Полин. Сидел он однажды вечером в своем кабинете с уполномоченным политотдела Димитрием Сорокиным и начальником секретного отдела Инговатовым. Решали: как взять Антонова?
Разные планы роились в головах этих трех молодых людей, но ничего стоящего, такого, чтобы не дало возможности Антонову снова ускользнуть, придумать не могли. Им помог начальник политического отдела Мосолов. Этот в недавнем прошлом прошел добрую школу борьбы с Союзом трудового крестьянства в Сибири и отлично знал повадки тамошних антоновых: все они в одну масть.
— Главное — выдержка, — советовал Мосолов. — Главное — не спугнуть его. Не торопитесь. На этот раз надо крепко обложить его и взять непременно.
К разработке плана привлекли Покалюхина. Тот, услышав о полученных сведениях, торжествовал. Кто говорил, что Антонов никуда не уйдет? Над кем смеялись?
Покалюхина и его группу послали на разведку в тот район, где, как сообщали, еще гулял Антонов. Спустя некоторое время от него пришла весточка:
— Нашли! Спешите.
4
Через несколько дней по пыльным проселкам Тамбовщины на большой скорости шел автомобиль, а в нем были шофер и два уполномоченных по торговому делу.
Ехали по краю, разоренному антоновщиной. Еще стояли обезображенные остовы сожженных изб, росла лебеда на невспаханных полях, бродили по деревням мрачные, исхудавшие люди; голод и лишения царили на Тамбовщине, не было хлеба, кормов. Медленно залечивались тяжкие раны…
И вот Уварово — огромное, растянувшееся на семь-восемь верст село: здесь Антонов бывал часто; тут кормили, поили, одевали его армию, здесь была одна из главных его баз.
Автомобиль остановился около первого с краю богатого дома. Приехавшие вызвали хозяйку, попросились переночевать: машина, мол, поломалась и кончился бензин.
Хозяйка сумрачно согласилась. Жильцы, поужинав, пошли прогуляться вдоль села. Внизу, за огородами, текла быстрая, темноводная Ворона, на другом берегу село Нижний Шибряй. А вокруг леса, овраги, заросли: полк спрячется, не скоро найдешь.
Вернулись они домой поздно, разговорились с хозяйкой. Жаловалась она на беды и горести, на мужа, который ушел к Антонову, да и пропал без вести, поди, сложил голову невесть-те за что.
Жильцы болтали с хозяйкой и тайком переглядывались, и в переглядках этих, будь чуть-чуть понаблюдательней хозяйка, непременно бы заметила она тревогу.
И впрямь: на душе у этих двух было очень неспокойно. Михаил Покалюхин, посланный на разведку в Шибряй, слишком долго не возвращался. И неизвестно, где его отряд, куда назначили четырех оперативных работников Чека, двух сдавшихся еще в мае антоновских повстанцев из отряда Грача, одного из полка Матюхина и Якова Васильевича Санфирова — этот сам напросился к Покалюхину.
Вечером переодетому под крупного торгаша Полину сообщили, что Покалюхин появился в Уварове, сидит в отделении милиции, а по селу уже бродит слушок: прибыли, мол, чекисты.
Покалюхина вызвали, когда хозяйка легла спать. Говорили во дворе, говорили тихо, знали: много еще здесь ушей и много глаз — чутких ушей и враждебных глаз.
Покалюхин доложил: двое из его отряда в лесу около Нижнего Шибряя поселились в старой бандитской землянке и притворяются антоновцами, не желающими сдаваться. Днем они ходили в Шибряй, назвались плотниками и узнали: Антонов с братом утром того же дня пришли в село и отдыхают в избе одинокой бобылки Натальи Катасоновой.
Ночью Полин и комиссар Беньковский пробрались в лес — туда, где в землянке хоронились бывшие бойцы антоновского командира Грача. Шли долго, через лес, шагая осторожно. Луна бросала призрачные тени, шелестела хвоя под ногами. Потом раздался легкий свист. Из землянки вышли двое. Разговор вели вполголоса.
— Да не беспокойтесь, товарищ Полин. Здесь Антонов, в ста шагах.
5
Утром бывшие антоновцы снова пошли в Шибряй. И узнали: Антонов в селе. Ночью его одолел приступ малярии, Димитрий ухаживает за ним, но больному стало лучше, и он собирается к вечеру уйти в лес на кордон.
Операцию нельзя было откладывать ни на час!
Между тем обстановка становилась все более напряженной. В Уварове знают: кого-то ловят. Дойдет слух до Шибряя — смотаются братья в леса, что тянутся вдоль Вороны до Инжавина и Рамзы, и поминай, как звали.
Покалюхин на автомобиле помчался за отрядом: ради осторожности он оставил его в селе Перевозе, в двадцати верстах от Уварова. Через полтора часа он вернулся. Хозяйке под страхом смерти приказали молчать. На ее глазах люди преображались в худо одетых, обутых в лапти «плотников». Карабины прячут в мешки: со стороны посмотреть — в мешках пилы; револьверы под рубахами, в карманах гранаты.
Все быстро и деловито исполняют приказания Покалюхина. Санфиров, бледный как сама смерть, то и дело вздрагивает.
Наконец все готово, и отряд идет в Шибряй. Время тянется к вечеру, надо опешить. Мужики подозрительно вглядываются в идущих: хоть и хорошо загримированы они, но что-то не больно похожи на плотников. Слишком уж поспешна их походка, не ходят так плотники, лениво бредущие от деревни к деревне.
Шел восьмой час, когда отряд незамеченным подошел к дому Катасоновой. Осмотрелись. К избе примыкал двор, а за двором, впритык к забору, густой, лес. Покалюхин назначил каждому его место: все пути прочно закрыты — не уйти Александру Степановичу!
6
Антонов чистил маузер, хозяйка гремела ухватом у печки, готовя ужин. Димитрий рассеянно смотрел в окно. Шел восьмой час — только что отзвонили карманные часы Антонова, лежавшие на столе.
— Уйти бы, — не оборачиваясь к брату, сказал глухо Димитрий. — Что ты копаешься?
— Куда спешить? — нахмурился Антонов. — До ночи времени много.
Хозяйка что-то пробормотала у печки.
— Не задержимся, — резким тоном успокоил ее Антонов. — Что разворчалась?
Хозяйка смолчала и еще более сердито загремела ухватом.
— Что думаешь, Саша? — прервал молчание Димитрий. — Неужто так и будем бродить из леса в село, из села в лес?.. Поймают нас, чует мое сердце. С утра кто-то шатается по селу… высматривают…
— Отстань! — буркнул Антонов. — Тебе все мерещится.
— Нет, я о другом. Куда податься нам, неужели еще не надумал? Кончилось наше дело, неужто не понимаешь?
Похудевшее лицо Антонова скривилось, скулы выступили, из глубоких глазных впадин недобро сверкнули глаза.
— Боишься? Так брось меня и уходи. Уходи! — крикнул он. — Надоел ты мне!
— Есть еще щелочки, — после угрюмого молчания снова начал Димитрий. — Еще можно пробиться на юг.
— Вот поправлюсь, тогда уж… — мрачно отозвался Антонов. — Не на плечах же тебе мести меня…
Братья замолчали. Антонов собрал маузер, зарядил полную обойму. Димитрий по-прежнему безучастно смотрел в окно. Хозяйка, бросив ухват, творила тесто. Шуршали тараканы, возилась под печкой хромоногая, привязанная на веревочку курица. Медленно смеркалось, и в селе воцарялась вечерняя тишина.
И вдруг Димитрий резко отпрянул от окна.
— Окружают!
Антонов бросился к окну. За низким плетневым забором он приметил движение: вдоль плетня, согнувшись, пробирались люди… И еще подходили, и еще…
Антонов вгляделся: идут люди, одетые по-мужицки, за спиной мешки. Он ухмыльнулся.
— Прохожие, — пробормотал он. — Нервный ты стал, Митя. Брось, иди сюда, никто нас тут выследить не мог. Эй, хозяйка! — крикнул он Катасоновой. — На всякий случай предупреждаю: будут спрашивать о нас, отвечай, что в избе никого нет, поняла? Сболтнешь — пулю в спину.
Хозяйка сурово глянула на него и ничего не сказала.
Антонов прилег на лавку, подложил под голову кожанку, а Димитрий не отходил от окна. Ему все мерещились люди, перешептывание, перебежки…
Антонов дремал и размышлял о самом простом и житейском: где ночевать сегодня и куда пойти завтра, у кого призанять еды и что он будет делать, когда опять настанет зима. Он и не думал уходить из этих мест: все еще верил — отлежится, отлипнут от него болезни, тогда уж и решит, что делать.
И тут раздался стук в дверь, а Димитрий крикнул:
— Чекисты!
Антонов ринулся к двери, запер ее на крюк.
Стучал Покалюхин.
— Что надо? — раздался в ответ женский голос.
— Выйди.
Катасонова вышла.
— Кто в доме?
— Никого.
— Врешь, у тебя там двое. Передай им записку и скажи, чтобы сдавались, все равно конец.
— Передавай сам! У них револьверы, и злы они, как черти.
Антонов стоял за дверью с маузером. Катасонова ушла в избу. Покалюхин, потоптавшись, отошел. Дверь открылась, протянулась рука с маузером, и пули посыпались ему вдогонку. Тут подбежал Санфиров и налег на дверь, но она прочно держалась на крюке, а из окна началась пальба из маузеров. Санфиров бросил в окно гранату, но не попал. Граната, стукнувшись о стенку, отлетела и взорвалась, чуть не перебив чекистов.
Тогда Покалюхин приказывает поджечь дом.
Минут через двадцать крыша превращается в огненный костер. Солома сгорает в одно мгновение, занимаются жерди, и в небо несутся головешки, треск горящего дерева перемешивается с залпами: Антонов и Димитрий осыпают тех, кто обложил дом, градом пуль из маузеров.
В селе начали бить в набат. К пожарищу сломя голову бегут люди. Их останавливают. Покалюхин накоротке объясняет, в чем дело. Толпа мрачно растекается — никому неохота попадать под пули, что с визгом несутся со всех сторон.
Комиссар Беньковский лежит под защитой стога сена, а пули, попадая в сено, взрывают его, оно летит в лицо Беньковскому, слепит глаза, забивает рот.
Беньковский, отплевываясь, отходит и видит: потолок в избе рушится, а из окна, подбадривая друг друга криками, быстро выскакивают Антонов и Димитрий. Отстреливаясь на ходу, они мчатся по двору. Еще десять шагов — они переберутся через забор, а там лес…
Снова начинается бешеный огонь.
Одна из пуль догнала Антонова, когда он перелезал через забор, ухватившись за ствол осины, росшей у плетня. Раздался выстрел, и голова его скривилась набок. Подоспел Димитрий и помог брату перекинуть ноги через забор. И тут Антонов услышал знакомый голос:
— Стой, Александр Степаныч!
Это крикнул Санфиров; он стоял в десяти шагах от Антонова.
— На помощь, Яков, — обрадованно отозвался Антонов. — Бей эту шпану!
И видит Антонов — Санфиров поднимает карабин и целится прямо в него.
— Кого бьешь, Яков? — свистящим шепотом вырывается у Антонова.
— Погулял, Степаныч, и хватит! — отвечал Санфиров.
Они встречаются взглядами: это одно мгновение, один летучий миг. В глазах Антонова страх, а во взгляде Санфирова Александр Степанович читает приговор себе.
Санфиров, чтобы покончить с прошлым и вернуть веру в то, во что он перестал верить: в жизнь и будущее, стреляет, переводит мушку на Димитрия… и опять стреляет. Стреляет в братьев и еще кто-то рядом.
…Два браунинга, два маузера, серебряные часы Жако, карта губернии, блокнот с отрывочными, лишенными всякого смысла словами, написанные корявым почерком Антонова; клочок страницы из журнала «Русское богатство» — несколько фраз об ужасах голода в деревне; страница обложки сочинений Мордовцева с началом поэмы Димитрия: «Тебе на память я пишу, что было нами пережито, где каждый куст, долина, лес, знакомы нам, словно родные…»
И это все, что осталось от бандита…
В долине осина, Могила темна…Глава шестнадцатая
1
Отощавшие, покалеченные в боях, заезженные крестьянские лошаденки, надрываясь, тащили с полей рожь — запах свежего ржаного хлеба тянулся из изб.
На гумна и поля пришли красноармейцы, ловкие и сильные, соскучившиеся по работе, косили и вязали, молотили и веяли. Бойцы впрягали своих коней в плуги, в жнейки, молотилки у сеялки, и тянули армейские лошади, отдохнувшие от боев, снопы на гумна, зерно в амбары.
Каждый день губкомпарт получал сводку о бойцах, помогающих крестьянам, каждый день шли сведения о сотнях убранных и вспаханных десятин земли; в работе крепло доверие крестьян к партии и власти.
В Двориках стоял небольшой отряд пехоты. Красноармейцы рассыпались по избам, как-то незаметно вошли в сельский быт, сроднились, сдружились, а некоторые решили осесть на этих черных жирных землях.
Каждое утро половина их уходила в поле — грохот повозок наполнял село; весело переругиваясь, пересмеиваясь, подмигивая девкам, они рассыпались по участкам и все делали чисто и споро.
У вдов и сирот бойцы работали в первую очередь, и не одна вдова заглядывалась на веселых краснощеких парней с такими могучими руками.
И не одна девка верила и не верила, думала да гадала, сдержит ли свое слово белобрысый Сеня-боец, приедет ли обратно, как окончится служба?
Ночи стояли жаркие. С токов шел пьянящий запах зерна, желтая солома в ометах была так мягка и приветлива, так мило шуршала она, так сладки были горячий шепот, вздохи, поцелуи.
Днем оставались в селе старухи, дети, красноармейцы; они возились в хлевах, чистили их, замазывали навозом дыры.
Новую избу построили бойцы красному партизану Никите Семеновичу, но не радовал дом старого ямщика. После того как нашли убитого Федьку, заскучал он, замолчал, мрачно сидел на крыльце и смотрел, как вихрится в селе жизнь, или шел в ревком потолковать с председателем Сергеем Ивановичем.
Сергей Иванович, казалось, совсем не переменился за эти четыре года, что не видели его в селе: в усах ни сединки, голубые глаза ясны, курчавые волосы вьются из-под шляпы.
Одежду лишь переменил Матрос: ходил в коричневой шляпе, в желтых сапогах, зашнурованных спереди до колен, в серой нерусского покроя тужурке. А под тужуркой матросская полосатая тельняшка и на поясе маленький, словно игрушечный, браунинг.
— Ну что? — спрашивал Сергей Иванович, завидя мрачного Никиту Семеновича, и вынимал изо рта коротенькую трубочку. — Все тоскуешь?
— Тоскую, Сергей Иванович, — отвечал ямщик, и глаза его меркли. — Это твой братец убил Федьку.
— Вероятно, он…
— Бродит в округе Волк, — бормотал Никита Семенович, — и не можете поймать!
— Три раза облавы были. Сам знаешь — Петр не дитя, хитрый зверь, умеет схорониться. Погоди, осень придет, выползет. Поймаем, если не ушел далеко.
Никита Семенович неделями бродил с винтовкой по оврагам и лощинам, искал Петра Ивановича, осматривал каждую кочку, исходил каждую тропу — пропал, сгинул пес!
Он бросался на землю и глухо и долго рыдал. Так однажды пролежал он до рассвета на сырой земле; свежеть стало в воздухе, осень шла, лето, устав, истомившись в зное, обмахивалось ветерками, освежалось холодными утрами.
Простудился старик — и умер.
Все село провожало Никиту Семеновича на кладбище. Билась в рыданиях жена, одна она осталась в новой избе.
2
По вечерам собирались у ревкома мужики, бабы, молодежь, девки.
Сергей Иванович приносил свежие газеты, читал ленинские речи, рассчитывал, сколько с кого придется налога, мужики весело переговаривались, посмеивались.
А когда расходились, Сергей Иванович запирался в комнате, где и спал и работал, вытаскивал из-под соломенного Тюфячка задачники, растрепанные учебники, читал до поздней ночи, писал и перечеркивал.
Перед сном ходил по селу, проверял караулы или сидел на крылечке, курил, смотрел, как блекнет Млечный Путь, как издали приходит утро.
Веселые переливы гармоник, Песни и смех, дробный стук каблуков доносились до него, и улыбка раздвигала его губы. Потом затихали песни и гармошки, легкие, быстрые тени скользили по улицам, слышались поцелуи и приглушенный счастливый смех.
Мир жил, работал, любил, плодился — благословенный мир!
Но вот затихло все, кроме шороха листьев на деревьях, кроме далекого стука колотушки.
Сергей Иванович потягивался всем телом, с хрустом разминал суставы, еще несколько минут стоял на крыльце — образ молодой и пленительной девушки вставал перед ним. Сергей Иванович тихо смеялся тому, что прошли, пронеслись бури над его родиной, что мирно спят труженики и девушка ждет не дождется его в далеком городе…
Глава семнадцатая
1
Был тих и ясен вечер, когда Сторожев входил в село. Вот знакомые улицы снова лежат перед ним, паутинный сумрак заволакивает дальние переулки, багровеет горизонт, загроможденный тяжелыми облаками, тянет прохладой с огородов, вздымая пыль, проносится стадо овец.
Дома тянутся по низине, взбегая на бугры и снова опускаясь к речушке; на окнах полыхает закат, и искрится в голубой синеве церковный крест.
Но по-иному живет село.
Оно не молчит затаенно, как в вешние дни. Тогда казалось, что жизнь глухо ворочалась только за стенами, во дворах; тогда не слышно было веселых песен, шума и смеха. Люди пробирались задами к колодцам и здесь шептались о страшной жизни.
Сейчас, еще около села, Сторожев услышал говорливые переборы гармоник; где-то пели песню, временами раздавался дружный смех.
Петр Иванович шел по дороге, и там, где он проходил, смолкали песни и говор, ребятишки бросались к избам, показывали на него пальцами. Он шел, прихрамывая и опираясь на шашку, опустив глаза, и люди молча разглядывали пришельца из другого мира.
Его никто не остановил, никто не окликнул, никто не поздоровался с ним, но весть, что он пришел, мгновенно докатилась до самых далеких изб.
Дверь ревкома отворилась, и навстречу Петру Ивановичу вышел брат. Сизый дымок вился из коротенькой трубки, черная рубашка заправлена в штаны.
Петр Иванович подошел к крыльцу и сел. Его мучила раненая нога, он устал и больше всего хотел спать.
Неожиданная встреча с братом не удивила его, как будто так должно было случиться, как будто бы свидание их было предопределено.
Сергей Иванович вынул изо рта трубку, выколотил пепел о каблук сапога, спрятал в карман и только тогда обратился к брату:
— Пришел все-таки?
Тот утвердительно кивнул головой. Как будто бы в первый раз видел этого бритого человека, с подбородком, точно высеченным из камня, чужого и родного.
— Сдаешься, значит?
Петр Иванович промолчал, опустив голову.
— Устал, что ли?
Петр Иванович пробормотал:
— Устал. Спать хочу…
— Хорошо. Разговаривать будем завтра.
Сергей Иванович позвал красноармейца:
— Отведите в амбар.
Сторожев с натугой встал и не мог сдержать вырвавшегося стона.
— Ранен?
— Ранен, — ответил Сторожев. Он снял револьвер, отдал брату и заковылял за красноармейцем.
Сергей Иванович посмотрел ему вслед и сказал самому себе:
— Ишь ты, пришел все-таки, Волк…
2
Утром Сторожев проснулся внезапно, словно что-то толкнуло в больную ногу, раскрыл глаза. Голова очистилась, долгий крепкий сон освежил его. На полу лежал солнечный луч, а вокруг курился сияющий столб пыли.
Сквозь дремоту он услышал за стеной тихий разговор.
— Он спит? — спрашивал детский голос.
— Спит, милый, — ответила женщина.
— Где папаня, в амбаре?
— В амбаре, милый.
— Он спит?
— Спит, Колюшка, спит. Вот проснется, и увидишь папку. Седой он у нас с тобой, старый!
Женщина всхлипнула, ребенок умолк.
— Опоздал он, ваш папка, сдаваться-то, — пробурчал у самой двери знакомый Сторожеву голос. — Не пришел в срок, бандит. А что седой — верно: все волки седые.
Петр Иванович стряхнул дремоту.
— Кто там? — спросил он.
— Пе-етя! — пронзительно вскрикнула женщина.
Сторожев кинулся с лавки, быстро проковылял к двери, толкнул ее здоровой ногой.
Щелкнула задвижка, дверь открылась, в амбар ворвался солнечный день. Сердце часто забилось — на лужайке против амбара увидел Кольку!
Вот он, жив! Прасковья сидела на пне и плакала, закрыв лицо руками, а Колька, босой, в одной рубашонке, голопузый, розовый, с всклокоченными белесыми волосенками, испуганно смотрел на человека, стоявшего в темном четырехугольнике двери.
Сторожев прислонился к косяку, чтобы не упасть, — онемели ноги и закружилась голова.
Через мгновение, когда вернулись силы, волоча ноющую ногу, он подскочил к Кольке, а тот, не узнав отца в седом человеке со спутанной бородой, с глазами, глубоко ушедшими под нависшие брови, бросился к матери и заплакал.
Красноармеец с любопытством наблюдал эту встречу, вырезая на ивовой палке финским ножом затейливые узоры.
Петр Иванович схватил дрожащего и плачущего Кольку. На лбу у ребенка розовела серповидная свежая отметина.
Он прижал сына крепко к себе, целовал выцветшие волосы и глаза, наполненные солеными слезами. Рядом голосила Прасковья.
Потом, когда выплакали они горе и утихли, Прасковья рассказала, как долго и мучительно одолевала смерть Кольку, как тяжелы были бессонные ночи, пока не окреп мальчишка. Рассказала она и о том, что хлеба уродились хорошие, что рожь обмолочена и продразверстки теперь нет, а Андриан говорит, будто жить стало не в пример легче.
И опять плакала о непоправимом несчастье, о том, что расстреляют его, потому что явился после срока, корила за то, что забыл семью и хозяйство, занявшись не своим делом.
Сторожев рассеянно слушал упреки жены, и странное чувство неловкости и смущения заполняло его душу. Не того ожидал он от нее. Она не просила его вымолить прощенье, не говорила о том, что хозяйство развалится без него; только попрекала.
— Ну, довольно! — грубо прервал Петр Иванович причитания Прасковьи. — Не твоего ума дело! Сделанного не переделаешь. Да, видать, и не очень-то я вам нужен, — прибавил он со злобной усмешкой. — Управляетесь и без меня. Ты бы бельишко и одежонку принесла, видишь, обтрепался. О смерти думать рано, то ли будет, то ли нет. Да и все равно: умираем один раз.
Прасковья заторопилась, развязывая узел. Бородатый, с перевязанной платком щекой красноармеец, до сих пор сидевший молча, подошел и взял узел.
— Не полагается, — спокойно сказал он. — Сами передадим, что надо. Иди, Прасковья! Вечером сам придет домой: Сергей Иванович дал разрешение. Сейчас приказано отвести его в баню.
Прасковья ушла. Колька шел, цепляясь за материнскую юбку, то и дело оборачивался, сердито и отчужденно глядя на отца.
Красноармеец вынул из узла белье, брюки, пиджак, фуражку, сапоги и отдал Сторожеву.
В узле остались пирог, мясо. Сторожев попросил:
— Поесть дай…
— Тебе много есть нельзя, — резко проговорил красноармеец, отламывая куски хлеба и мяса. — Умрешь, пожалуй, а тебя допросить еще надо.
— Ишь ты, какой строгий. Только, стало быть, допросить и осталось? — Петр Иванович жадно ел хлеб. — А потом налево?
— Это там видно будет: налево или направо. — Красноармеец отвел руку Петра Ивановича, потянувшуюся за мясом. — Сказано, нельзя — значит, нельзя. Слышь, кому говорю, Петр Иванович!
3
Сторожев с изумлением поглядел на обросшего бородой человека в гимнастерке и длинной, накинутой на плечи шинели. Что-то очень знакомое почудилось в этих глазах и злых губах, во вздернутом носе.
— Ишь ты, как возгоржался! — угрюмо засмеялся красноармеец. — Своих не узнаешь? А ведь я год с тобой бок о бок ездил да до того лет двенадцать каждый день виделись.
Сторожев узнавал и не узнавал Лешку.
— Лешка?! Ты! — прошептал он изумленно.
— Свиделись. А я-то думал, не укокошили ли тебя?.. И жалко же мне было. Счеты у нас не сведены, должок за тобой.
— Должок? — спросил глухо Сторожев. — Какой должок?
— Не помнишь? А я запомнил, Петр Иванович. Не забыл долга, ох, крепко помню!
Лешка откинул прядь волос: под ней извивался красный шрам.
— Плеточка твоя след оставила. Помнишь, зимой, в поле?
Вспомнил Петр Иванович тот день. Был он морозным и солнечным, тогда ушел от него Лешка.
И вот он здесь, перед ним, и сурово сжаты его губы, и на лбу глубокие морщины. Уже не мальчишка Лешка, и не крикнешь на него, и не замахнешься плеткой, возмужал, суровым стал, хмурится лоб, и глаза смотрят сердито.
Все эти четыре месяца, после того как Наташа родила, Лешка думал только о том, как бы найти Сторожева, рассказать ему о своей яростной ненависти — ведь он виноват во всем; рассказать — и убить.
Теперь они встретились, и во взгляде Лешки почувствовал Петр Иванович нечеловеческую злобу и содрогнулся.
— Так, Леша, — сказал он как-то отчаянно спокойно. — Ну что же, убьешь, что ли? Твоя власть — бей!
— Нет, у нас этого делать нельзя. У нас строго. Но зло у меня на тебя большое. Зубами скриплю, так мне охота рассчитаться с тобой. За себя, за Наташу, за все. Э, да все равно! Рассчитаются с тобой.
Лешка переломил себя.
— Пойдем в баню. Запаршивел, говоришь?
Они шли по пустынным улицам, работа кипела на гумнах. Там, над грохотом и жадным ревом барабанов, над свистом погонщиков, над дробным танцем цепов, стояли облака сухой хлебной пыли.
Молотьба была в самом разгаре, благодатное солнце последние дни царствовало над миром. Скоро ветер нагонит дряблые тучи, сорвет с деревьев листья, голые ветки намокнут под осенним холодным дождем! Люди спешили.
Сторожев постоял, наблюдая спешку около молотилок; видел, как барабан пожирает тяжелые слежавшиеся снопы, с ревом выбрасывая перекрошенную, спутанную солому, как растут куча зерна и желтые громады соломенных ометов.
Ему подумалось, что завтра он уже не увидит солнца и неба, никогда больше не возьмет огрубелыми руками отполированного цепа, никогда не вытрет пота, струящегося с лица.
Завтра — смерть.
Суровая морщина прорезала лоб Сторожева, он махнул рукой и, согнувшись, быстро пошел вперед.
Здесь, вдалеке от токов, в густой зелени садов, было тихо. Ветви деревьев на фоне синего неба поникли.
Он вошел, низко наклонив голову, в баню, и его сразу обдало влажным парным теплом. Лешка, притворив за ним дверь, сел на приступку и снова занялся палкой, старательно разделывая зеленую молодую кожуру пестрым рисунком.
Слышно было за дверью, как плескалась вода, как пыхтел Сторожев, натирая тело мочалкой. Лешка прислушался, покрутил головой, злобная усмешка раздвинула его губы.
— Будто на свадьбу обряжаешься! Поди-ка ты!
— Слушай, Алексей Григорьевич, — Сторожев просунул в дверь всклокоченную мокрую голову, — нет ли у тебя бритвы? До чего не люблю бороды…
— Бритвы захотел! Где ты ее теперь возьмешь, бритву-то? Была в отряде одна, да и ту попортили — ровно тебе топор. Я вот ножиком раньше брился. Поточу — и бреюсь. Теперь бросил, не до бороды…
Лешка повертел финский нож и любовно вытер его о рукав шинели.
— Желаешь, направлю?
— Будь другом, Леша, — смягчая голос, сказал Петр Иванович, — направь. Пять месяцев не брился.
— Ну, другом твоим никогда не буду, а направить — пожалуйста. Смотри, зарезаться не вздумай!
— Еще чего выдумал! — строго крикнул Сторожев. — Зарезаться! Словно я нехристь, чтобы собачьей смертью помирать.
Лешка расстегнул ремень, приладил его к ручке двери, быстрыми, ловкими движениями руки направил острие ножа и подал его Сторожеву.
— Зеркальце кстати возьми, — буркнул он, вынимая из бокового кармана гимнастерки наклеенный на картон кусок зеркала. — С зеркалом, поди, удобнее.
— Ишь ты, какой добрый, — улыбнулся Петр Иванович. — Не коммунист еще?
— Иди, иди, нечего мне с тобой бары растабарывать, черт бы тебя побрал! — ответил Лешка, и подбородок его затрясся. — Канителятся с вами!
Сторожев скрылся в бане, а Лешка сидел, что-то ворча под нос. Злоба против Петра Ивановича все росла, и казалось Лешке, что не сдержит он себя, прорвется ненависть, и тогда Сторожеву несдобровать. Однако, вспомнив беседы с Сергеем Ивановичем и слово, данное ему, — держать себя в руках, — скрипнул зубами.
— Эй ты, кончай там скорее! — крикнул он. — Все равно завтра еще раз обмывать будут!
Сторожев услышал эти слова, и снова резанула сердце мысль о смерти. Он сжал губы, сбил в шайке пену, намылил лицо и, поставив на окошко зеркало, стал снимать с лица длинные спутанные волосы. Нож брил легко и чисто, клочья волос падали на пол.
Потом Петр Иванович вымыл теплой водой лицо, быстро оделся и вышел. После бани снова заболела нога, он едва мог ступать на нее.
— Возьми палку, — сказал Лешка.
Петр Иванович разглядел красивый узор.
— Мастер ты, оказывается. Я и не знал.
Лешка зло оборвал его:
— Не для тебя делана! Завтра тебе не нужна будет, опять возьму. Ну, пойдем!
В глазах Петра Ивановича вспыхнули кровавые жесткие огоньки. «Стукнуть его тут — и драла», — пронеслась мысль, но Лешка взял винтовку в руки, наложил на спуск палец.
— Шевелись!
Сторожев подавил гнев и, опираясь на палку, пошел к амбару. Здесь Лешка дал ему немного хлеба, мяса, кислого молока. Сторожев жадно ел, подбирая падающие на колени крошки, грыз мясо, высасывая из костей мозг.
Через несколько минут Лешка заглянул в амбар: Сторожев храпел, положив на стол руки и уронив на них голову.
Глава восемнадцатая
1
Дождь налетел мгновенно.
Тяжелые тучи собрались на горизонте, все выше и выше к солнцу поднимался их клубящийся край, тучи будто втянули его в себя, и растаяла золотая оправа дня.
Промчался, взметывая пыль и озорно играя с деревьями, предвестник грозы — буйный вихрь, вздыбив солому на ригах и хлевах. Потом, словно догоняя бурю, стегнули по крышам, по земле первые упругие струи дождя.
Люди на гумнах забегали, засуетились, спасая зерно и снопы. Старики заботливо прикрывали кучи намолоченного хлеба соломой и ряднами, молодежь забивалась в мягкие валы ометов, и вот уже несется оттуда визг и смех.
Лошади, не выпряженные из молотилок, стояли, понурив головы, и потные спины их дымились под дождем. Потом ветер сдвинул облака, солнце робко, краем, выглянуло из-за них, как бы не веря, что оно уже свободно.
Внизу лежала земля, свежая, умытая дождем, над ней поднимался тяжелый пар. Она вдыхала полной грудью свежий, искрящийся воздух.
Солнце осушило лужи, лишь в тени мерцали на лопухах капли недавнего ливня.
И снова загрохотали на гумнах барабаны молотилок.
2
Петра Ивановича разбудили. Перед ним стоял брат.
Стряхивая сон, Сторожев взял со стола крынку и через край глотал холодные скользкие пласты кислого молока.
— Хорошо спал?
— Хорошо.
— Вечером, после ужина, будем разговаривать, — сказал Сергей Иванович.
Сергей Иванович поглядел на брата. Тот сидел на лавке, опершись на нее обеими руками, и хмурил высокий с медным оттенком лоб. Мысли о смерти снова захлестнули сердце Петра Ивановича.
— Что ж! — Голос его словно бы перехватило. — Потолкуем, а потом и к стенке?
Сергей Иванович, не отвечая, вынул трубку, набил ее табаком.
— Вечером мы будем разговаривать. — Он поднял узкие брови над серо-стальными глазами. — А сейчас можешь сходить домой. Лешка, — крикнул он, — проводи его домой!
— Сменил бы ты меня, Сергей Иванович, — мрачно сказал тот. — Боюсь я за себя, зло у меня на твоего брата, тоска меня грызет — убью я его. Слышь, Сергей Иванович, боюсь — не совладаю с собой. Горит!
— Тебя один раз простили, в другой раз не помилуют. Понял? — Сергей Иванович бросил на Лешку строгий взгляд. — Мы не бандиты. Возьми себя в руки, ну! Завтра освободишься. — Сергей Иванович шагнул к двери. — Завтра утром будешь работать, а сейчас отведи.
Лешка козырнул, приложив ладонь к выгоревшей фуражке с облезлой малиновой звездой.
— Ах, канитель, ах, канитель, матери твоей в пятку! — злобно пробормотал он, когда председатель ревкома отошел от амбара. — Канителится, говорю, с тобой. Приказа, слышь, ждет. Я бы из тебя сейчас дух вышиб… Ну, да ладно, утром вышибут!
Стало быть, завтра!
Завтра — это горстка коротких, жестоко точных часов. Их не раздвинешь, не остановишь. Каждое биение сердца приближает то мгновение, когда оно остановится навсегда, разорванное горячей пулей…
Завтра…
Только одна ночь, последняя ночь в этом теплом, благодатном мире.
Как хорошо здесь! Вот собака остановилась перед амбаром и приветливо крутит хвостом. Завтра она обнюхает его труп…
Вот по дороге прошел отряд, и пыль сыплется с плеч бойцов. Завтра они выстрелят ему в сердце…
— Ну что ж, пойдем! — оборвал мысли Сторожева Лешка. — А то что же ночью дома делать? С бабой тебя спать не оставлю.
Петр Иванович встал и затоптался на одном месте, словно что-то потерял, не веря, что он будет дома, увидит семью, Кольку…
3
Собака тявкнула и хотела тяпнуть Сторожева за ногу. Лешка замахнулся на нее, собака с визгом отскочила.
Сердце бешено заколотилось, когда Петр Иванович переступил порог избы. Вокруг стола сидела семья, все были в сборе — ужинали. Дверь неслышно пропустила хозяина. В избе было сумрачно. Сторожев перекрестился.
— Хлеб да соль, — сказал он и не узнал своего голоса, дрожащего и срывающегося.
Стук ложек прекратился.
— Папаня! — закричал старший, Иван.
Все бросили есть, но никто не шевельнулся, никто не встал навстречу отцу; он стоял посреди избы, и негде ему было сесть. Наконец Андриан — в голосе его почудилось Петру Ивановичу что-то нехорошее, вроде тревоги, — спросил:
— Выпустили?
Петр Иванович ничего не ответил. Прасковья, сидевшая неподвижно, словно ничего не понимая, заплакала. Заревел и Колька.
— Но-о, заорали! — грубо крикнул Андриан. — Хороните, что ли? Садись-ка, Петр.
Сторожева резанул хозяйский тон Андриана. Он подошел к столу и хотел присесть на лавку, но она была занята сыновьями. На табуретках сидели Андриан, жена и сестра ее, плосколицая рябая Катерина. Больше в избе ни стульев, ни табуреток не было.
— Подвиньтесь! — рявкнул на племянников старый унтер.
Те, толкая друг друга, освободили место отцу. Сидеть стало тесно и неудобно.
— Наложите ему каши-то! — снова скомандовал Андриан. — Человек домой пришел, а они речи решились. Эка болваны!
Прасковья схватила чашку, бегом побежала к печке, задела ногой табуретку, на которой сидела, та с грохотом полетела на пол. Сторожев вздрогнул, а Андриан пробурчал что-то презрительное насчет бабьей ухватки. Жена поставила перед Петром Ивановичем дымящуюся кашу и пошла к поставцу за ложкой. Долго она громыхала там посудой — ложки не было. Прасковья махнула рукой и выбежала из избы. Через минуту она возвратилась с ложкой, видно заняла у соседей.
Ребята ели, не спуская с отца любопытных взглядов, и помалкивали.
— Ну, что нового у вас? — прерывая неловкое молчание, спросил Петр Иванович. — Как с хлебом?
Сыновья и Андриан точно дожидались этого вопроса: все разом заговорили, заспорили о продналоге, о торговле, о ржах, овсах, о телке, которую надо продать Ивану Федотычу, а об отце, казалось, забыли.
Андриан и сын Алексей громко спорили: продавать телку или нет.
— Какую телку? — спросил Петр Иванович. — Зачем продавать?
Все вдруг вспомнили об отце, что он тут, рядом, и удивленно замолкли.
Алексей, помолчав, солидно сказал:
— Продать телку надо. Плохая она. Ничего дельного из нее не выйдет.
— Худая телушка, — прибавил Иван.
— Молчать! — заорал Петр Иванович. — Не вашего ума дело. В три счета все распродадите. Купить бы попробовали.
— Да ведь мы-то как раз и купили ее, — вставил Андриан. — В Духовке обменяли на солому. А сейчас на мясо пойдет. И то — продать надо. Ты, Ванька, сбегай после ужина к Ивану Федотычу, пускай за телушкой приходит…
И снова заговорили о телке.
Петр Иванович замолчал. Он бы хотел послать к черту все их распоряжения, он тут хозяин… И промолчал.
Спор продолжался. Только один Колька, не понимая ничего из того, о чем шумели старшие, глядел на отца исподлобья, словно зверек. Петр Иванович хотел взять его на руки; ребенок ужом скользнул под стол. Отец потянулся за ним; Колька отчаянно завизжал и бросился к Андриану. Тот посадил его к себе на колени и начал успокаивать, а мальчик громко плакал, показывая рукой на отца.
— Чужой, чужой! — кричал он.
Петру Ивановичу сделалось так нехорошо, такая тоска навалилась на сердце! Он встал и, направляясь к выходу, бросил:
— Двор хочу посмотреть.
— Иди, иди, — проворчал Андриан, — освидетельствуй! Поди с ним, Вася, покажи отцу, как мы тут хозяйствуем.
Сторожев, сын Василий и Лешка пошли по двору.
В чистых просторных хлевах шуршали овцы, корова обернулась на шум шагов, замычала и снова отвернула голову.
— Лошадь где?
— В ночное угнали. С нами солдат теперь сидит, — похвалился Василий. — А то боязно. Бандиты, говорят, бродят.
— Щенок! — заорал Сторожев. — Пороть тебя, дурака. — Вася стоял, испуганно моргая глазами и перекусывая соломинку. — Сукин сын! Тоже скажет: бандиты!
Петр Иванович хотел было дать сыну затрещину, но вмешался Лешка:
— Ну, будя, будя. Эк разошелся!
Хромая и опираясь на палку, гневно бормоча что-то, Сторожев обошел хозяйство: ни к чему, ну как нарочно, ни к чему не придраться!
На обратном пути он наткнулся на кошелку для корма и чуть не упал.
— Хозяева, матери вашей черт! — обрадовавшись случаю излить раздражение, закричал он. — Расставили среди дороги добро, поганцы!
Он хлопнул дверью, хотел было покричать в избе, но Андриан сердито оборвал его:
— Чего разорался? Кольку разбудишь. Вояка! Отвыкай орать, брат, кончились твои времена, поорал, будя!
Грубый окрик Андриана отрезвил Петра Ивановича. Он огляделся кругом. Прасковья возилась около кровати, успокаивая всхлипывающего во сне Кольку. Ребят в избе не было, в переднем углу курил Андриан. В темноте около печки чудилось лицо Лешки. На улице заиграла гармошка, и мимо окна прошла с песнями ватага парней и девок.
— Так-то оно, хозяин. Говорено тебе было, не лезь! — Андриан пыхнул цигаркой.
Сторожев досадливо поморщился и сел около окна. На стекле билась запутавшаяся муха, он поймал ее и, оторвав ноги, бросил. Муха мучительно, надоедливо жужжала. Петр Иванович придавил ее ногой. В избе стало совсем тихо, лишь слышалось ровное дыхание Кольки.
— Уснул, — прошептала Прасковья и подошла к мужу. — Петенька, что же теперь будет-то? Убьют тебя, поди? — и подолом фартука вытерла слезы.
Сторожев ничего не ответил, только сильно сжал пальцы, так что хрустнули суставы.
— Ну что же, — тихо сказал Андриан, — чему быть, того не миновать.
Сторожеву вспомнились крики Кольки:
«Чужой, чужой!..»
«Не жалко им меня. Ничуть не жалко», — подумал он.
Вошел Иван и зашептался с Андрианом, чего-то выпрашивая, потом, не глядя на отца, скрылся. Прасковья тихо плакала.
— Ну что ж, — Сторожев поднялся. — Пойду, прощайте.
— Прощай, — Андриан подал зятю корявую, жесткую руку. — Может, обойдется. Не всех стреляют. Может, и тебя не тронут. Все-таки сдался…
В углу буркнул что-то гневное Лешка. Снова мимо окон промчалась буйная молодая толпа.
— Ребят береги, — нахмурив брови, наказал Сторожев Андриану. — Хозяйство, Кольку…
— Промахнулся ты, Петр Иванович, ой, промахнулся, — вздохнул Андриан. — Расчет неверный держал…
— Ладно. — В голосе Сторожева звякнуло что-то. — Знал, куда шел.
— То-то знал, а вот теперь знаешь ли? — Андриан в последний раз затянулся дымом, выбросил цигарку в окно и сплюнул. — Теперь ответ придется держать, обо всем спросят… Ну, пойду, погляжу овец, зайду завтра.
«Завтра… завтра», — мелькнуло в мыслях Сторожева.
Петр Иванович вышел из избы, громко хлопнул дверью. Прасковья сунула Лешке кулек и сквозь слезы шепнула:
— Отдай ему, яблочки это…
Глава девятнадцатая
1
Петр Иванович устало сел, пригладил волосы и зевнул. Стало как-то тихо и спокойно на душе, думы о страшном завтрашнем дне растаяли и не царапали сердце.
Вся жизнь до этой вот самой минуты раздумья показалась ему отрезанной от него, будто бы он видел перед собой жизнь другого человека.
Такое раздвоение бывает с людьми, когда они заглядывают в самые сокровенные уголки своих чувств и желаний. При таком глубочайшем созерцании светлых и отвратительнейших тайников собственного бытия человек раскалывается надвое; разум, освобожденный от накипи страстей, беспристрастно, как некий строгий судья, наблюдает за тем, как извивается перед ним клубок сомнений, любви, ненависти и страха — вся эта начинка человеческой жизни.
В часы скитанья по кустам, в безмолвии ночей, когда горькое разочарование уступало место призрачным видениям прошлого, когда бушевала и подавляла все чувства ненависть, у Сторожева оставалась еще светлая точка, и к ней он устремлял остатки тающих надежд.
Люди отняли у него право распоряжаться судьбами бедных и слабых. Вместе с землей отняли у него силу, а ведь он познал сладость власти!
Нет, он не мог отказаться от нее!
Товарищи изменили и сдали оружие, спрятались, нарушили клятву верности до конца, обманули призраком будущих восстаний.
И он обманул самого себя, скитаясь голодным зверем, бродя в пламенных отблесках пожаров, зажженных им, убивая и калеча ни в чем не повинных.
Его обманул бог: напрасны были горячие молитвы, молебны и свечи.
В этом мире страданья, опустошения и черной злобы заветным островком лежал родной дом, где, как казалось Сторожеву, его ждут, где он нужен, где без него стучится в окно нищета.
Решив сдаться, чтобы умереть, Сторожев не сомневался в том, что дома за эти двадцать четыре часа перед расстрелом он, всеми обманутый, покинутый и уничтоженный, встретит любимых родных, в глазах прочтет глубокое горе… И отдохнет, забудет обо всем, что пережил и передумал, а потом, очищенный бескрайным горем сыновей и жены, уйдет из жизни.
И все это пошло прахом.
Маленький неразумный Колька, крепче всех прочих любимый, одним словом поставил на место Петра Ивановича, одним словом выразил тайную мысль семьи.
Он чужой.
Чужой всем, чужой в своем доме. Только теперь Сторожев осознал ясно и точно — он ведь действительно не нужен семье: давно отошел он от хозяйства, давно без него вершил Андриан с сыновьями все дела по хозяйству, без него и не хуже, чем с ним.
Вот, например, с этой телкой. Сторожев вспомнил, как весной старший сын Иван вместе с Андрианом нашли в соседнем селе дешевую телку и вздумали ее купить. Петр Иванович нашумел и уехал, обругав всех молокососами, а телку покупать не велел. Но ее все-таки купили и сделали умно, что и говорить, умно сделали! Дали за нее ерунду: десять пудов соломы, летом телка гуляла в стаде, а сейчас, перед осенью, с большой прибылью уйдет на мясо.
Сторожев понял, что за годы мятежа, боев и скитаний он потерял хозяйское чутье. Тот самый стержень, вокруг которого вращалась вся его жизнь, как колесо на оси, оказался сломанным.
Пусти колесо свободно, оно сначала по инерции пойдет прямо, потом, потеряв постоянную опору, начнет вилять вправо, влево, нелепо подпрыгивая на кочках, и, наконец, упадет где-то на обочине.
И жизнь Петра Ивановича оторвалась от своей оси, от привычного уклада, где все крутилось вокруг новых сотенных в банке, новых десятин земли, новых лошадей, коров, овец, батраков, сыновей; пошла вихлять, подпрыгивать, пока не кончилась вот в этом чужом амбаре, где пахнет гнилым хлебом и мышиным пометом.
На улице смеркалось. В селе шуршали разговоры, в тихих огородах мелькали пары…
А он лежал на скамье вниз лицом и все думал, и думы шли вразброд.
Поднимались злобные чувства к сыновьям, забывшим отца, к Андриану, завладевшему хозяйством, но рассудок подсказывал: не он ли забыл детей, уйдя к Антонову, не он ли посадил на хозяйство Андриана?
То горечь затопляла сердце, потому что умрет он, не передав никому злобы и ненависти к людям с красными звездами на фуражках; то опять ненависть овладевала им, сладострастные мечты о мести за отнятую землю, за отнятую власть. И тогда он сожалел, что сдался, придумывал способы, чтобы уйти куда-то, снова стрелять и поджигать… То приходило безразличие ко всему, что будет.
Его думы прервали. Рука легла на плечо, и кто-то сказал:
— Вставай!
2
Он очнулся. По стенам амбара прыгали длинные тени; Пётр Иванович увидел брата. Рядом с ним стоял высокий, белокурый, незнакомый Сторожеву человек в кожаной тужурке.
«Допрос», — мелькнуло в голове, и стало сразу легко. Близился конец — роковой и неизбежный.
Сергей Иванович и белокурый сели.
— Так вот, — сказал Сергей Иванович, — будем говорить откровенно. Не надо скрывать и путать. Ты умный человек, а у нас много дел.
— Скрывать мне нечего, — Сторожев зевнул. — Что смогу, то скажу, чего не знаю, не требуй. О товарищах говорить не буду.
— Так… Ну, поговорим о вас, — согласился белокурый. — Любопытно: почему вы сдались на сутки позже срока?
— Я не сдавался, — отрезал Сторожев.
— Не сдавался? — переспросил Сергей Иванович.
— Нет, Сергей. Сдаются в бою, если ждут милости. А ты вот хотя и брат мне, а мне и в голову не пришло просить тебя пощадить, помиловать.
— Это было бы напрасно, — холодно заметил Сергей Иванович.
— Я знал.
— Зачем же ты шел сюда?
— Умереть пришел я, — выдавил Сторожев угрюмо. — Умереть в родных краях. Не хотел подыхать собачьей смертью.
Сергей Иванович пробежал глазами бумагу, которая лежала перед ним.
— Скажи, не ты ли участвовал в деле под Сампуром, когда пустили под насыпь поезд? Точно скажу — полтора месяца назад.
— Это я сделал.
— Один?
— Один, — голос Сторожева звучал глухо. — Один.
— Знали ли вы, — перебивая Сергея Ивановича, спросил белокурый, — что поезд шел с хлебом в Москву для голодающих рабочих, для их детей?
— Не знал. — И злобно добавил: — Знал бы, еще десяток поездов спустил.
Белокурый вздрогнул от такого неожиданно откровенного признания.
— Это хорошо, что вы говорите правду. Еще один вопрос: не вы ли ворвались в июле в село? Тогда здесь спалили две риги, ранили трех женщин и убили двух детей?
Сторожев побелел и сжался в комок.
— Врешь ты! — закричал он. — Брешешь, совесть мою хочешь очернить перед смертью!
Сергей Иванович вынул из кучи бумаг лист, исписанный ломаным, скачущим почерком, и передал брату. При копотном мерцании фонаря тот прочитал протокол допроса Матрены Савиной. Она рассказывала, как умерли раненные в ту памятную ночь осколками гранат ее дочь и сын. Им вместе было пятнадцать лет.
— Ну?
— Я-я н-не хотел, — пробормотал, заикаясь, Сторожев. — Я шел к Кольке. Сын у меня умирал…
— Андрея Андреевича ты убил?
— Я.
— За что?
Сторожев молчал.
— Федора ты убил?
— Я.
— За что?
— Не скажу.
— Напрасно. Разве ты не понимаешь, Петр, твое дело пошло прахом. От вас отреклись даже те, кто помогал вам. У вас, я говорю о кулаках, нет союзников в стране. Вы в полном одиночестве и обречены.
— Все равно.
— Если тебе все равно, что же ты молчишь и зачем ты скрытничаешь?
И тут Сторожев вспомнил Пантелея Лукича, его тайные надежды. Он сухо засмеялся.
— Трудно вам будет вывести наше племя, Сергей. Цепкое оно. Я умру, такие, как я, останутся. Только теперь молчат они.
— Ты еще, значит, надеешься? Ты еще, значит, чего-то ждешь? Зря, Петр! Разве ты не видел, что делается в селе?
Сергей Иванович говорил о народе, который дорвался до работы и который хочет одного — мира и мирной жизни. Он говорил о море слез и о проклятиях — ими осыпают Петра Ивановича и его друзей сироты и вдовы; о батраках и бедняках, только теперь увидавших свет; говорил горячо, словно хотел, чтобы его слышали те, кто еще бродит по лощинам и кустам. Казалось, он забыл, что его слушают лишь трое: Сторожев, бывший сторожевский батрак Лешка и белокурый человек из Москвы.
Сторожев сидел, опустив голову, и думал: «Это говорит брат, — одна мать родила нас, одна кровь течет в наших жилах…»
— Помнишь, я сказал тебе как-то, Петр; сломай себя, или мы будем ломать вас. Вот мы встретились — и ты сломлен…
— Короче говоря, — перебил его белокурый, обращаясь к Сторожеву, — в России остался последний класс эксплуататоров, вы принадлежите к нему. Вы умрете завтра, а ваш класс ненадолго переживет вас.
Сторожев поднялся. Его руки дрожали, он наклонился к брату и обдал его прерывистым, горячим дыханием.
— Ну, так ладно! Я скажу, за что убил Андрея Козла. Он поставил ногу на мои межи! Земля моя. Зачем у меня отняли ее? Так пускай же гниет там! Уходите, я все сказал. — Он схватился за грудь и долго надрывно кашлял. Потом, обессиленный, сел.
Лампа в фонаре чадила, на полу лежал квадратный кусок желтого света. За дверью амбара спало село.
Сергей Иванович медленно собирал бумаги, совал их в портфель дрожащими руками. Как-никак он брата приговаривал к смерти; одна мать родила их, одним молоком кормила их. Он поправил съехавшую на затылок шляпу, сунул трубку в карман, затем снова вынул и попытался раскурить ее, переложил портфель на другой угол стола.
— Тебе лучше было бы застрелиться самому, — сказал он глухо. — Я бы застрелился, я бы не пошел с такими мыслями к врагу. Зачем ты пришел?
Сторожев поднял на него мутный взгляд и удивился тому, что они еще здесь и говорят с ним.
— Ну, что вам надо? — устало и безразлично ответил он. — Я хочу одного — смерти! Понимаете ли вы меня? Смерти! — дико закричал он.
Такого пленника белокурый москвич встречал впервые. Он видел, как иные в трясучем страхе ползали и пытались целовать руки, вымаливая жизнь; как другие равнодушно, усталые и подавленные, становились под пули; третьи просто и искренне раскаивались в совершенных преступлениях.
Но этот… этот не похож на них!
«Зверь, — думалось белокурому. — Ясно: зверь и страшный враг. Или, может быть, рехнувшийся человек?»
— Ну, а если вас все же помилуют? — спросил он. — Ведь нам не надо вашей крови, мы не мстим. Если вам дадут право жить, что бы вы стали делать?
«И в самом деле, — подумал Сторожев, — если бы завтра меня выпустили и сказали: иди работай, то что тогда? Как жить?»
Вопрос этот был совсем новым для Сторожева, и ответа на него он найти не мог. Как жить в кругу людей, половина которых ненавидит его, а половина боится и сторонится? Как жить, подавив все надежды, сделаться первым из первых, владеть только тем, что есть, забыть слова «моя земля», «мой хутор», «моя власть»?.. Уйти за тысячу верст, скрыться из родных мест? Но ведь и там нащупают его стальные холодные глаза, как у брата, пальцем укажут на него: берегись, он убивал и жег нас!
Сторожев молчал.
Сергей Иванович и белокурый стояли, ожидая ответа.
На колокольне пробило десять часов.
Сергей Иванович вынул из портфеля два листа чистой бумаги, карандаш, очистил фитиль в фонаре.
— Мы уходим. Вот бумага, может быть, напишешь нам или семье. Прощай!
— Не усилить ли охрану? — выходя из амбара, шепнул Сергей Иванович белокурому.
— Ничего, — ответил тот. — Ты же сам говорил: лучше Лешки сторожа для него нет.
3
Скрипнула и хлопнула дверь. Уходили последние люди, которое связывали Петра Ивановича с миром и жизнью. Он вскочил с лавки, но тут же безнадежно махнул рукой.
К чему? Что сказать?
На полу около лавки валялась газета, ее уронил Сергей Иванович. Сторожев машинально поднял потрепанный лист, без интереса читал статьи, заметки, телеграммы.
Только в самом конце, в смеси мелочей потусторонней жизни упоминалось о Махно и Петлюре. Эти два имени, особенно имя Махно, были знакомы Сторожеву.
«Живы еще?» — мелькнула в голове усталая мысль.
И как-то сразу Сторожев забыл обо всем. Он выронил из рук газету и долго сидел, не думая ни о чем.
Глава двадцатая
1
Слух его уловил хрустенье за стеной; он тихо подошел к двери. Хруст стал слышнее — Лешка ел яблоки.
Петр Иванович вспомнил, что жена прислала яблоки ему, — Лешка сказал об этом еще по дороге из дому, а яблоки не отдал.
— Дай яблочка! — сказал он через дверь.
— А откуда они у меня? — резко ответил Лешка.
— Сам же сказал: жена мне прислала.
— Эва, хватился! Ребята почти все съели. Пяток остался, так впереди ночь целая. Тебе спать можно, а мне тебя караулить. Спать-то охота, а тут буду хоть яблоки грызть.
— Дай парочку, — попросил Сторожев.
— Парочку дам, — Лешка отпер дверь. — Ну, ешь напоследок, прощайся с яблоней.
Сторожев гневно, с силой хлопнул дверью и выругался. Лешка снова запер дверь.
Вспышка гнева облегчила тяжесть, давившую сердце, и освободила думы Сторожева от безразличья.
— Дай яблоки! — громко крикнул он. — Мои ведь, сволочь!
— Ты не шуми! Твои… Твоих теперь семь часов осталось. Ты бы лучше помолился, чем орать-то.
Лешка снова принялся резать ножом яблоки на ломтики, и снова захрустели на его зубах сочные анисы.
Семь часов… Стало быть, на рассвете его расстреляют. Через семь часов прогрохочут выстрелы и оборвут его жизнь.
Петр Иванович в первый раз по-настоящему, каждой клеткой понял, что через семь часов он исчезнет, умрет.
«Умрет!» — закричали кровь, сердце, разум.
По спине поползли мурашки, колени одеревенели. Страх, мелкий, противный, подступил к горлу, вызывая тошноту.
В боях он боялся, но по-иному, — спасая свою жизнь, крушил десятки чужих жизней. Да и смерть там могла прийти внезапно.
А теперь?
Теперь надо семь часов думать о ней, слышать, как ползет время, потом уйти из амбара, плестись куда-нибудь за село впереди вооруженных людей — врагов, стать против них и ждать мучительно долго, когда построится взвод, слушать команду и только тогда умереть.
2
Нет!
Сторожев, каких-нибудь полчаса назад не знавший, как ему жить, понял, что он ошибался.
Он хочет жить!
Конечно, жить…
Жить!
Жить и бороться — вот чего он хочет! Нет, он просто устал, но он жить хочет и только жить!
Петр Иванович метался по амбару. Он то стоял на одном месте, что-то бессвязно бормоча, то садился и снова вскакивал, бегал от одного угла к другому, подходил к двери — за нею Лешка равнодушно грыз яблоки.
Его яблоки!
И вместе с огромной жаждой жизни поднималась новая волна ненависти в его душе.
«Там, за стеной, — думал Сторожев, — люди. Они отвернулись от меня. Они захватили мои земли, вспахали место, где должна быть моя усадьба, собрали в свои амбары урожай с моих полей… И черт с ними! Найду другую землю!»
«Там, за стеной, семья, которой дела нет до меня, — думал Петр Иванович. — И черт с ней, с семьей! Найду другую!»
«Вожди продались — и тоже черт с ними, найдем других, есть они еще, живы. Живы!» — вдруг вспыхнула потухшая полчаса назад мысль.
Петр Иванович схватил газету и, лихорадочно комкая ее в руках, еще раз перечитал статью о Махно и Петлюре.
«Живы… Есть еще наши люди. Да и здесь остались! Это ничего, что они в другую шкуру нарядились. Это хорошо. Это хитро — так, значит, и надо. Пантелей-то Лукич, стало быть, башка человек! Ну что ж! Значит, надо выждать… „Притихни, — сказал Пантелей. — Притаись. Еще потребуешься!“ Ну да, выждать, ну да, притаиться. Но где? Где спрятаться? Не в буераках же снова ползать голодным волком?»
«В чужие бы земли ушел!» — вспомнился вдруг ему совет Андриана там, на меже.
«Ну да, ну да, в чужие земли уйти! Идти день и ночь, ну да, идти день и ночь, — колотилась мысль. — Проберусь за рубеж, там не пропаду, примут, накормят!.. Вернусь, когда будет можно. И уж тогда-то сведем счеты…»
И снова встали перед ним бредовые картины расправы с врагами, снова ненависть овладела Сторожевым, ненависть и жажда жизни.
3
На колокольне пробило одиннадцать — глухой звон отрезвил Сторожева. До рассвета осталось шесть часов. За эти часы он даже с больной ногой уйдет верст за двадцать и отсидится в дальних глухих кустах, в знакомых ямах, если не под силу будет идти.
И тут он вспомнил, что в Пахотном Углу, в пятнадцати верстах от Двориков, живет Лев — сын учителя Никиты Кагардэ.
«Ему от батьки прощальное слово принесу, — подумал Сторожев, — авось схоронит, спрячет отцова друга…»
Мелькнула мысль о погоне — ну и что же?
«Все равно, — решил он, — если догонят, найдут, так хоть в горячке придет смерть. Все лучше, чем эта томительная, ползущая к утру ночь».
Он быстро собрал и рассовал по карманам пиджака куски хлеба, мяса, потом остановился, погрозил кому-то кулаком и, беззвучно рассмеявшись, дунул в фонарь.
Свет, желтый и блеклый, погас. Сторожев задрожал, но, подавив слабость, вдруг обладавшую им, подошел к двери.
— Леша, фонарь погас. Мне письмо надобно написать жене. Вздуй свет, будь ласков.
И отошел к столу.
Лешка, громыхая задвижкой, открыл дверь. В амбар ворвалась блещущая звездами ночь.
В одной руке Лешка держал яблоко, в другой нож, мокрый от яблочного сока. Он нащупал стол, положил машинально яблоко и финку на угол стола и вынул из кармана спички.
Сторожев протянул из тьмы руку и, когда Лешка, чиркнув спичкой, нагнулся к фонарю, с силой ударил его ножом в спину.
Лешка, глухо замычав, рухнул на пол; с плеча его упала винтовка. Петр Иванович, ляская зубами, поднял ее, сорвал с пояса Лешки патронташ.
И вдруг ему почудилось слабое биение Лешкиного сердца. Он похолодел.
— Добить?
И затаил дыхание.
«Померещилось!» — подумал Сторожев и снова прислушался. Лешкино сердце глухо билось.
Где-то тявкнула собака.
Сторожев вздрогнул, заспешил.
Дрожащими руками он обшарил карманы Лешкиных брюк, вынул документы, спички.
Около двери, на пне, где сидел Лешка, он нашел его шинель, накинул на плечи…
И исчез в ночном мраке.
1934–1957 гг.






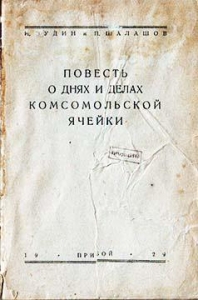
Комментарии к книге «Одиночество», Николай Евгеньевич Вирта
Всего 0 комментариев