Ледков В. Н Метели ложатся у ног
Повести
Архангельск
Северо-Западное книжное издательство
1983
Ледков В. Н.
Метели ложатся у ног: Повести. — Архангельск: Сев-Зап. кн. изд-во, 1983.
© Северо-Западное книжное издательство, 1983 г.; повести «Розовое утро», «Белый Ястреб»; оформление.
РОЗОВОЕ УТРО
Лютуй, мороз! Реви, пурга! А солнцу — быть! Оно — сильней! И внук мой рано не умрет: он нынче — Василей, живучий Василей! —пела бабушка, округляя своё и без того круглое лицо, которое от песни светлело. Бабушка держала меня под мышки, счастливый, я прыгал у неё на коленях.
Так запомнился мне миг, когда проснулось сознание. Это, видимо, было в то лето, когда привязывали меня к шесту, чтобы я не убежал на улицу, где небо и земля гудели от комаров. Привязывали меня часто — это и понятно. Чум есть чум. Если часто открывать полог, то чум, в котором и так много всяких дыр, набьется комарьём. А комары… Всякий знает, что такое комары!
Потом, когда отвязывали меня, я у всех спрашивал, мол, где взяли меня, зачем — я, может, и сейчас бегал бы на воле? А они улыбались, переглядывались долго. Отец, мать и бабушка говорили, что нашли меня в яре — в кустах ивняка — среди лягушек на равнине Надер, что на самой солнечной стороне Большой земли[1]. Говорят, поначалу бабушка и мама мне имя хотели дать Тямдэ — Лягушка, но отец так им сказал:
— Нет. Человек — не лягушка! Сын мой Василеем будет. В поселке Хо Седа Харад сына моего русского друга так зовут. Хороший он парень.
Так я и стал Василеем. Но я-то знал, что вовсе не в яре среди лягушек нашли меня: я сам родился. И родился в тот год, когда самые сильные морозы были. В месяц Большой темноты — в декабре — я родился. Месяцами Малой и Большой темноты у нас называют ноябрь и декабрь, потому что в это время года до середины Орлиного месяца — января — солнце над тундрой вообще не показывается: как говорит бабушка, оно спит за синим поясом земли и неба в своем золотом чуме.
Так я и родился в месяц Большой темноты. Как родился — того не знаю, но хорошо помню другое.
Было лето. До этого я ещё ни разу не видел настоящего лета. Жара! Духота! Будто все болота и лужи испарились — и вот они плавают в воздухе! Комаров! Нахальные, они лезут и в рот, и в нос, и в глаза. От них я иногда плакал. Молча плакал. Это как-то заметил отец и сказал:
— Э-эх! Сын мой. Ты, вижу, слабый человек!.. Комары одолели! Разве можно так… мужчине?.. Что будет, если белые комары полетят?!
— Комары?! Белые?! — от удивления у меня даже в голове зазвенело.
Отец смотрел на меня. На щеках у него то и дело появлялись забавные круглые ямочки, глаза смеялись.
— А комары эти… белые… кусаются? — спросил я осторожно.
— Этого, сын, не скажу, — ответил он после недолгого молчания, потрогал рыжие усы и добавил: — Всякое бывает. Кого они кусают, а кого… Это долгий разговор. Поживем — увидим.
Удивление моё ещё более возросло, но отцу я ничего не сказал. Я медленно побрел к пустым нартам отца, достал из-под амдера тынзей[2] и закричал:
— Хой! Хо-ой! Хо-о-ой!
Залаяли собаки — будто я на самом деле на оленей кричу. А олени-то мои ничего не слышат, они ведь не настоящие: рога, воткнутые в землю. Я эти рога всю весну собирал, по проталинам бегал, когда олени рога теряют.
Я играл в оленей и пастуха, но, как назло, в голове у меня вились лишь «белые комары», они ни о чем другом думать не давали. Я злился на этих «белых комаров», злился на себя, на свою голову. И тут пришла мысль: спрошу-ка у матери!
— Ты что, Василей? — спросила удивленно мать. — Запыхался-то! Будто от волка бежал. Что с тобой?
— Ничего.
— Может, бешеный песец?! — округлила глаза бабушка.
— Да нет, — отмахнулся я и спросил: — А эти… «белые комары»… скоро полетят?
Мама улыбнулась, взглянула на бабушку. Лицо у бабушки вытянулось, брови изогнулись, как концы натянутого лука, сузившиеся глаза совсем закрылись.
— Не знаю, внучек, — сказала она. — Уходя весной, мать Инея забыла сказать об этом. А я не знаю, когда полетят «белые комары». Осенью, конечно. Поживем — увидим.
«Фу ты, какое колдовство! Будто все сговорились!» — возмутился я, ноги мои сами подогнулись, я устало сел на латы[3] и даже забыл спросить, кто это — «мать Инея». Я злился и от злости выщипывал мех лисьего воротника то маминой, то бабушкиной хореци — легкой домашней паницы.
— Хэ! Комары… белые… когда, интересно, полетят? А? — вслух удивлялся я, чтобы слышали мама и бабушка, а сам уже катал по латам бабушкин медный напёрсток.
Вставала бабушка, тащила меня на пелейко — нежилую половину чума, привязывала, как щенка, к шесту, сама садилась на прежнее место и продолжала вить из оленьих жил нитки. Бабушка вила нитки, мама шила малицу. В чуме чадил дымокур, слоями до самого макодана[4] висел неподвижно горький дым от горящего дерна, потому что вся тундра гудела от комаров. Комары во все дыры лезли и в чум. Одно лишь от них спасение — дым! Но мне было не до комаров, не до дыма. На конце веревки я метался, как собачка на поводке, кувыркался, пытаясь развязать незаметно хитрый узел на спине, и напевал песенку о том, что мама моя самая красивая на земле, и нет на свете бабушек добрее моей бабушки. Сам пел, а глаза косил на них.
Они переглядывались, молча подходила ко мне бабушка и развязывала узел. Я прыгал, смеялся и — стрелой на улицу. Был бы собачкой — и хвостиком махнул бы!..
Так запомнилось лето, когда проснулось во мне сознание.
— А ведь, правда, он выжил! — много лет спустя смеялась бабушка, вспоминая мою колыбельную. Она задумчиво поднимала глаза к макодану, её круглое, испещренное морщинами лицо как бы сжималось в комок. — А разве я знала, что Василеи рано не умирают? — она роняла сухие руки себе на колени. — Обидно же было: все братья до него и до трех лет не дожили. Хэко ушел на втором году жизни, Харп утонул в луже в два годика, Митрия искалечил бешеный олень, и мальчик угас на руках у отца в полтора года. Уж этого-то парня — христа ради! — хотелось уберечь. Как-никак помощником отцу будет. Вот и берегла как могла. Отец и мать его Василеем назвали. А мне что было делать? И пела:
— А солнцу — быть! Оно сильней! И внук мой рано не умрет: Он нынче — Василей, живучий Василей!Бабушка улыбалась, как полная луна. Она продолжала:
— «Эх-ма! А Василеи-то… не умирают рано?» — показал корешки стершихся зубов дед Василей Пыря, как только песню услышал. — «Нет. Василеи не умирают рано, — заявила я. — Ты, говорю, на себя погляди: белее зимы голова-то! И борода… как снег! Точно сугроб на груди! И всё еще на косы глаза-то косишь! А он, — показываю на внука, — тоже Василей». Старик улыбался довольно, тряс белой бородой. А ведь… просто так пела:
Лютуй, мороз! Реви, пурга! А солнцу — быть! Оно сильней!.. Бабушка пела, как прежде, но голос её сильно дрожал.Ушли годы. И вот уже почти четыре десятилетия слова и мелодия этой нехитрой песенки звучат во мне неотступно. То ли я на самом деле слышал, как пела бабушка, и, счастливый, прыгал у неё на коленях, то ли всё это врезалось в память со слов бабушки — понять трудно: больно много воды утекло с тех пор, да и бабушки моей, дожившей до ста семи лет, давно нет в живых.
Раннее детство моё прошло в чуме отца и осталось в памяти только какими-то островками, высвеченными на миг лучами солнца, вырвавшегося с трудом из-за нагруженных дождями туч. Иногда мне кажется, что детство моё было всего лишь одним днем — таким оно коротким кажется. Да, прерванное войной, оно и было коротким.
1. МАЛЕНЬКИЙ ПАСТУХ
Чум наш стоял на большой проталине на берегу извилистой реки, каких много в тундре. Гулял мягкий пушистый ветер. Пахло мокрым снегом, ягелем, талой ольхой и ивой. У нас были свои олени. Сколько — не знаю. Отец говорил, что оленей надо беречь, ибо их очень легко загнать в котел.
— Нет, не загнать оленей в котел! — возражал я. — Их много, они большие. А в наш котел и голова-то оленя не влезет!
— Ты неправ, — качал головой отец. — Никогда, сынок, такого не будет, чтобы раз и навсегда наполнить котлы. Котел мал, да его каждый день надо наполнять.
Возразить я не мог, потому что каждый день надо было что-то есть, и обычно к полудню мы невольно тянулись глазами к черному от сажи котлу.
После сытной и вкусной еды становилось радостно на душе, светлело в глазах. Одно оленье мясо, конечно, приедалось. Отец ловил в озерах и реках рыбу, стрелял гусей, бил зайцев. Мы с сестрой охотились на пуночек — полярных воробьев — силками, мать ставила капканы на канюков. Только бабушка возле чума каждый день с иглой да жилами возилась. Словом, у всех были свои заботы.
Солнце над тундрой с каждым днём поднималось всё выше и выше, от яркого снега слепило глаза, но быстро росли проталины и делалось всё теплее и теплее. Отец редко появлялся в чуме. Если и бывал, упряжка его с тремя подсаночными всегда стояла наготове. Поев наскоро, он снова уезжал. Наверное, к оленям, потому что стада возле чума мы давно не видели. Было тихо, скучно. Какое уж там веселье без оленей? Только на охоте на пуночек всё забывалось. Мы и охотились. Мать ещё с утра кутала нашего младшего братишку Мехэлку в теплое заячье одеяло, сажала его в железное корыто и тащила это корыто, как санки, по насту крутого берега. Прямо на снегу у неё стояли капканы с красными приманками для канюков. Приманками были куски оленьего легкого, а иногда просто лоскутки красной материи, которые привязывались к тугим ниткам запала и опускались осторожно в распахнутую пасть настороженного капкана. Глупые канюки, конечно, не понимали опасности, падали камнем из-под самых облаков, где обычно парят, высматривая добычу, вонзали кривые когти в лакомый кусок и оказывались в железных челюстях ловушки. Так наша мать все дни ходила на канюков, которых отец называл в шутку мамиными гусями. Все дни раздавался над рекой железный звон корыта, в котором сидел наш маленький брат Мехэлка. Так мы и жили.
Суп из десятка тушек пуночек был очень вкусным — язык проглотишь! Этот волшебный наваристый бульон особенно любил отец. Но нам с сестрой ловить пуночек становилось всё труднее: проталины росли, разбегались по тундре, и птички рассеивались по ним — не заарканишь ветер на просторе! Правда, мы с Сандрой не особенно отчаивались: начинался куропачий ток. А кому в тундре не хочется отведать суп из куропатки? Отдающий ароматом ожившей ивы, этот суп всем нравится. Ловля же куропатки на току — одно удовольствие! Мы с Сандрой с нетерпением ждали эти забавные дни, но случилось непредвиденное: я заболел и пролежал всю весну, когда был в разгаре куропачий ток. Сестра, конечно, одна ходила на куропаток. Иногда с ней ходила мама. А было вот что.
Пропадая целыми днями в тундре, отец в последние дни возвращался чаще всего без добычи. Только иногда он бросал на латы двух-трех куропаток или одного гуся. Этого, конечно, для нашей большой семьи было мало. Отец был невесел, и потому нам тоже становилось грустно. А однажды он принес какого-то похожего на зайца, но очень темного зверька, и сказал:
— Проглядел. Собака поймала… О кочку стегануть пришлось.
Приглядевшись, я узнал маленького оленя с маленькими копытцами на длинных, тонких ногах. Ну, самый, настоящий олень, только маленький очень и рогов у него нет. Он лежал неподвижно. Не дышал.
Мысли у меня запрыгали, как горностаи.
— Олененок! — крикнул я, не совсем ещё веря своей догадке.
— Да, сын. Это — олененок. Вернее, был олененком… Отёл идёт, — сказал отец и добавил, как бы оправдываясь: — Ловить рыбу или охотиться на гусей теперь я не могу: оленей надо стеречь, за оленятами глаз да глаз нужен.
Решение в моей голове созрело сразу, но я сделал вид, что обиделся и, отвернувшись, обронил не слишком тихо и не так громко:
— Сам говоришь, глаз да глаз, а мы тут… ничего не знаем, у нас тоже… глаза!
Отец будто не слышал моих слов, он разговаривал с мамой:
— Чую, суп опять из канюка. Из пуночки не отказался бы…
— Есть и из пуночки… да в маленьком котле сварила, наши охотники только пять пуночек поймали, — объяснила мать, поглядывая на нас.
— Что так плохо? — удивленно отец спросил, поворачиваясь в нашу с Сандрой сторону. — Что так плохо, а, охотники? — Потом снова заговорил с мамой: — Давай уж, какой есть. Пора пуночки, видно, прошла. Снега сходят, и птички разлетаются. Но ничего: скоро куропатка затокует. По всей тундре уже трескотня идет.
— Каб-каб-бэв! Мяк-мяк-мяк! — как бы в подтверждение его слов, раздалось где-то возле самого чума.
— Каб-бэв, каб-бэв-каб-бэв! — отозвалась другая куропатка.
— Лак-хы-ыы-ч! — стала подзадоривать первая.
Меня теперь куропаточья перебранка мало интересовала. Я тайком натянул пимы, надел малицу, вышел из чума — и вот уже сидел на нарте отца. Сначала я боялся, что отец попросит меня сойти с нарты, пошлет в чум, но он точно не видел меня: развязал на заднем копыле нарты конец вожжи, намотал его себе на руку, взял молча хорей, гикнул на оленей, и мы поехали. Нарта запрыгала на кочках, грудь и лицо обдало крупными брызгами грязной воды из-под копыт, воробьиными стаями полетели над нами куски земли.
Мы поехали в стадо.
Вечер был тихим и теплым. Перед заходом солнца летали в одиночку и стаями гуси, где-то далеко на болотах раздавались трубные звуки лебедей, простор полнился картавым куропачьим говором, на все голоса переливались воробьи, синицы, кулики. Вскоре так же неожиданно, как и началось, замолкло всё, тундра погрузилась в сон. Прозрачный занавес тишины прокалывал только стук оленьих ног, и всюду на пастбище слышалось негромкое реханье важенок и оленят.
Ночь лилась тихо, спокойно, ничего особенного не произошло, если не считать того, что, шлепая по лужам, я промочил насквозь пимы и липты[5].
Утром ногам было холодно, даже пощипывало. Об этом я отцу не говорил, хотя, может быть, он и так всё видел. Я крепился, бегал возле нарты, прыгал, делал вид, что мне очень хорошо и весело, да к тому же я знал, что мы скоро поедем в чум, где есть и огонь, и теплые пимы. Было только жаль, что за всю долгую ночь нигде не появилось ни одного нового олененка. «Пусть, — думал я, — это не беда, что нет нового олененка, зато я по-настоящему пасу стадо. А новые оленята, может, не каждый день появляются. — И успокаивал себя: — Будет ещё день, когда я сам своими глазами увижу, как из-за подола неба побежит к нам маленький, тонконогий олешек…»
— Ну что ж, Василей? Ночь мы с тобой, кажется, провели? — сказал отец, садясь на кочку передо мной. — Можно сказать, ночь мы хорошо провели. А как же иначе-то? Так и должно быть: ведь мы на этот раз не в два, а в четыре глаза смотрели. Ни лисы, ни орлы не тревожили стада. Олени целы — это главное. Жаль, ни одного нового олененка! Но не горюй. — Он огляделся вокруг. — А впрочем, это, может, к лучшему? А? — Опять огляделся вокруг. — Небо мне что-то не нравится: хмурое, и ветер просыпается.
Я смотрел на низкое мглистое небо, на синие, четкие дали и ничего особенного не замечал: небо как небо, земля как земля. Только теперь мне казалось, что от всего на земле и на небе веет синим холодом. Желая отогреть зябнущие ноги, я снова прыгал по кочкам возле нарты. Отец ходил по пастбищу, наклонялся, что-то трогал руками, долго стоял на берегу, потом вернулся и сказал, шумно хлопнув обеими руками по малице:
— Худо, сын. Очень худо! Снег уже, видишь, пошел.
Я только сейчас увидел, как кружились в воздухе редкие пушистые снежинки.
— Потом он не так будет играть — повалит, в такую погоду не оставишь оленей без присмотра: телята ещё слабые. В этих местах полно жилых песцовых нор, а рядом под присмотром ястребиной семьи есть гусиная колония. Песец-разбойник в такую погоду не будет сидеть, его ноги кормят. В снегопад или в туман ястреб, как пастух, ничего не видит. Этим и пользуются песцы: гусиными яйцами полакомятся, а заодно олененка в кусты утащат. Хитрый это народец, плутоватый. О-очень плутоватый! Но и трусливый, — отец взглянул мне в лицо, и у него брови на переносице сошлись. Спросил тревожно: — А на тебе, сын, и сухого места, наверное, нет?
— Нет, — отвечаю. — Малица у меня сухая… только вот ноги зябнут: вымокли.
— Это-то ла-а-адно, — как-то загадочно протянул отец. — Вот и пошел снег, снежинкой каждой с телячью шкуру! Ладно. Холода, может, не будет. Снег мокрый — на лету тает. От него всё можно ожидать. Плохо, если сразу после него мороз…
Снег шёл мокрый и липкий. Лохматя кочки, паутину ветвей карликовой березки, он валил густо, превратив все вокруг в одну серую непроглядную мглу, таял в лужах и на наших лицах. Отец явно любовался этим снегопадом. Говорил:
— Жаль, что гуси ещё не сели на гнезда. Но придет время, в дни ледохода такой же снег пойдет, и тогда притаившиеся в гнездах гусыни будут казаться разбросанными по белой земле черными кочками.
Мне было не до гусей, не до снега: ноги окоченели, вода стекала под капюшон малицы, разливаясь по груди, было мерзко, слякотно. Сквозь серую мглу бродившие возле нас олени казались непомерно большими, мохнатыми, ходили почему-то чуть ли не на боку.
— Снег… Какой красивый снег идет! — сказал я как можно бодрее, а сам почувствовал холод даже на языке.
— Красивый снег, — задумчиво подтвердил отец и обернулся ко мне. — А тебе не холодно? Зря, вовсе зря пимы-то намочил. Зябнут ноги-то?
— Нет, — ответил я, стараясь казаться бодрым, но всего передернуло. Губы задрожали. Спросил: — Теперь всюду-всюду на земле снег идёт, да? И в чуме у нас снег?
— Всюду ли на земле снег… — Он потер ладонью лоб. — Я не знаю, сын. Мир велик. Может, где-то снег, где-то солнце, а на стойбище у нас тоже снег идет: это ведь рядом.
— Снег… — выдохнул я устало, а с языка будто само слетело: — А в чуме-то… огонь. Чай, наверно, пьют.
Вдруг глаза отца сделались большими, круглыми, и он сказал, будто запел:
— Э-эа! У тебя и ноги-то, вижу, сломались! — Он обеими руками вцепился в голенища моих пимов, попытался выдернуть из них ноги, да не тут-то было: не пускали темечи — сыромятные тесемки, одними концами пришитые к краям голяшек и пимов и липтов, а другими привязанные к поясу брюк. — Ну-ка, ну-ка! Сними пимы-то! Скорее! И лицо у тебя без кровинки… точно цингой заболел! Быстрей! Та-ак! Видишь, пятки — что камень!.. Как лёд! — Он мял в своих теплых ладонях мои ступни и пальцы ног, побелевшие от сырости. — Что молчишь?! Весь ведь в ледышку превратился! Так и без ног можно остаться! В нашем деле, брат, нельзя молчать. Тоже мне… пастух… навязался. Невидимкой на нарту полез! Но ничего… оленей любить надо.
А снег все валил. Густой, мокрый. Потом пошел вперемешку с дождем. Вода за пазуху текла не только через подбородок, но уже просачивалась через все швы малицы. Оброненное отцом «навязался» покалывало сердце, потому что я вовсе не навязывался, а просто сел к нему на нарту и только!
Отец заставил меня согнуть ноги, собрал и затянул тынзеем, как горловину мешка, подол моей малицы. Так мне стало теплее, согрелись и ноги.
— Ну? Лучше? — спросил он, и в голосе его слышалось недовольство, досада.
— Тепло, но… все равно вода…
— Вылезай и из капюшона, ныряй весь в малицу, — приказал он.
Потом он меня сунул ещё во что-то похожее на мешок, видимо, в доху из оленьих шкур — совик, — и мне стало тепло, хотя рубаха на мне была мокрой до нитки. А вскоре меня, не спавшего всю ночь, украл незаметно сон. Проснулся я от сильных толчков и понял, что мы едем — прыгает на кочках и сугробах нарта.
— Берите своего пастуха! — словно издалека донесся голос отца.
— Ой, хосподи! Ой! — услышал я крик матери.
— Ой, беда-то! Во-от беда-то! — вопила испуганно бабушка. — И что за грех за нас уцепился?! Опять ведь парень-то ушел[6]! Как же будем жить?!
Я лежал, боясь шелохнуться, с нетерпением ждал, что ещё скажут. Но… шумно распались узлы тынзея — и я, мокрый от пота, вывалился из совика и малицы на латы возле танцующего пламени костра. От яркого света заслезились глаза, мне лень было даже шевельнуться.
— Жив! — выдохнула всей грудью мать и в смешном поклоне опустилась на колени возле меня, будто я для неё был живым сядэем — идолом.
— Ти… ти… ти… — хлопала себя ладонями по согнутым коленкам бабушка, сидевшая на лукошке. Она, видимо, хотела что-то сказать, но от радости ничего не получалось, кроме: — Ти… Вот…
— Толковый будет пастух, — очень серьезно сказал отец. — А это ничего, что так получилось — всё у него впереди. Мужик всю ночь глаз не сомкнул. А погоду я сам проглядел.
Днем у меня начался жар, я слег и в самую пору куропачьего тока провалялся в чуме.
2. ЧЕЛОВЕК АКИМ
— Слово-песня по ветру неслось. У Ивняковой реки за чум зацепилось. Зацепилось за кончик шеста и в чум опустилось. Жили в нем старик и старуха. Двое жили. Детей у них, видно, не было — нет о них речи, — начала, как обычно, бабушка после утреннего чая, когда догорели в золе последние угли и в чуме стало прохладно.
— Это были, бабушка, ты и наш дедушка, который умер, да? — дернуло меня за язык.
Бабушка замолчала. Она долго смотрела на меня то ли зло, то ли обиженно. Нахмурившееся вдруг её лицо постепенно ожило, и она сказала:
— Нет, внучек. Это — сказка. Давным-давно это было. Умей слушать.
Мне стыдно стало, но на языке у меня был новый вопрос:
— Давным-давно мы, конечно, тоже были?
— Нет, внучек: другие люди жили. Нас тогда и на свете не было, — она потрогала за ухом. — Но души наши, конечно, были. Душа — она не умирает. Она через много-много лет в другого человека вселяется.
— Как это — другие люди? Разве, кроме нас, есть ещё люди?!
У бабушки округлились глаза. Она развела руками:
— Много людей. Разных. Но ты…
— Рассказывай, — смутился я. — Я больше не буду.
— На берегу большого, как небо, озера жили в одиноком чуме старик и старуха, — снова начала бабушка.
Я как будто видел этот чум, сгорбившегося старика, щуплую старушку с круглым лицом, то есть всё-таки видел своего умершего недавно деда и свою бабушку.
— Детей у них не было, — повторила бабушка. — Были ли у них олени — неизвестно. Птицы, конечно, были: их полно в тундре. И в большом, как небо, озере, возле которого стоял чум старика и старухи, жили только две рыбы: Щука и Хариус.
— Только две?! — удивился я.
Бабушка взглянула на меня, покачала головой.
— Да, только две: Щука и Хариус. Дружно жили рыбы. Еды хватало. В воде много трав озерных, ракушек полно, жучков, червячков — всё рыбе еда, но как-то Щуке захотелось чего-то более сытного, вкусного. Долго она думала, чего ей хочется, но в гневе на свою безмозглость хватанула зубастой пастью Хариуса и съела. Старик и старуха поймали неводом рыбу-щуку и съели её. С тех пор и стали звать их Пырерками — Полущуками. Пошли дети, тоже Пырерки, — кончила бабушка.
— И — всё?! — с досадой спросил я, готовый слушать хоть целый день.
— Всё, — подтвердила бабушка, подняла глаза к макодану и добавила: — Вот почему мы и не едим щуку: от неё пошел род Пырерков. По отцу-то вы — Паханзеды, но ваша мать…
— Пырей[7]! — чуть не оглушила меня Сандра, ворвавшаяся в чум с улицы.
— Да, смотрит она глазами рода Пыря, — задумчиво сказала бабушка. — Вы тоже наполовину Пырерки.
Мы криками загнали в юрок — маленький загон — смирных, объезженных быков. Отец вывел из юрка на вожже пять оленей, запряг их, и после короткого чаепития мы помчались в сторону, где ночует солнце. Олени бежали, играя ногами, будто радовались своему легкому, красивому бегу, хотя теперь они, комолые, напоминали огромных мышей с большими ушами, потому что на просторе, если смотреть на упряжку со стороны, у комолых оленей во время бега ноги кажутся короткими.
— Поехали мы, сын, в Пэ-Яха, — обернувшись ко мне, сказал отец, улыбнулся в рыжие усы и добавил: — Теперь в нашей тундре дороги мимо Пэ-Яха нет и не будет.
— Почему? — спросил я, а сам представил огромные из белого камня чумы совсем не похожих на ненцев людей — царей, королей, хозяев подводного и подземного мира, где много золота, серебра, стекла и где даже ночью всё точно огнем пылает, всё сверкает, как прозрачный чистый лед под солнцем. О таких чумах я много слышал из сказок бабушки, отца и самого мудрого сказочника Большой земли Паш Миколая, который в последнее время часто бывал у нас в чуме.
— Теперь, сын, все грамотными быть хотят, чтобы следы человеческой мысли на бумаге видеть. И не только видеть — самому следы мысли оставлять. Ты и сам скоро в школу пойдешь. В Совете мне так сказали.
Я, конечно, не знал, что значит быть грамотным, не знал, что такое «школа», «Совет», но сказал:
— Да, всему надо учиться… много надо знать.
Так обычно любил говорить сказочник Паш Миколай.
Я вслушивался в скрип снега под полозьями, думал о сказочных чудо-чумах, предвкушая скорую встречу с ними, и вдруг белая тишина разразилась лаем. Огромные собаки разевали клыкастые пасти возле каждого угловатого бугра, но к нам они не подходили. Сначала я подумал, что это волки, но они лаяли.
Приглядевшись, я заметил, что бугры эти вовсе не земляные и не каменные, как всегда бывает возле моря, а деревянные и наполовину занесены снегом, которого здесь почему-то было не по-весеннему много. Снег сугробами лежал и на самих буграх, а из-под этих сугробов выглядывали макушки гуриев из красного камня. Над некоторыми гуриями клубился не то пар, не то дым. Потом я начал понимать, что это, видимо, и есть деревянные чумы, которые называются домами, но они были слишком малы и приземисты по сравнению с теми, что до сих пор жили в моём воображении.
— О! Ань дорова, Микул! Снова здорово! Песцов привез, небось? Аль так… за продуктами? — подошел к нам очень бородатый, рослый человек в странной одежде. На голове у него махало крыльями что-то, розовая шея гола, а коротенькие, до колен, серые пимы на ногах были большими, негибкими и очень скрипучими на снегу.
— Вот и опять я приехал, Аким. Песцов десятка полтора привез. Продукты, конечно, нужны — чай, сахар, масло, хлеб. Да кое-какие охотничьи припасы, может, появились? — как-то необычно растягивая слова, отвечал ему отец.
Было забавно: отец говорил по-настоящему, по-человечески, а тот отвечал непонятно, совсем не по-ненецки. И тем не менее они хорошо понимали друг друга и даже смеялись.
Потом бородатый человек Аким подошел ко мне, дотронулся легонько и, заглядывая в глаза, сказал по-ненецки:
— Ну что, черноглазый мужик? Микулов сын? Решил на людей поглядеть да себя показать? Тоже дело. Но гостей, говорят, сказками не кормят: слезай с нарты да в дом. Там тепло, и чай готов.
Я взглянул на отца.
— Так что же, Василей, сидишь, будто к нарте примерз? Поглядим на горницу Акима, чаю попьем, дела справим — и в путь. Дорога длинная, — закидывая на плечи мешок, сказал отец и направился вслед за уходящим человеком Акимом.
Мы спустились по вырубленным в сугробе ступенькам и оказались в очень душном, но просторном и светлом подземелье. Прямо перед глазами зияла четырехугольная дыра, через которую виднелся склон посиневшего уже сугроба. Возле меня в большом белом коробе с железными дверцами гудело пламя, пахло вареным мясом, чем-то ещё вкусным. Было светло и так, но в передних двух углах над двумя лампами, какие и у нас в чуме, в прозрачных пузырьках с высоким горлышком колыхался ослепительно белый огонь. Глаза мои сами закрылись — так было ярко!
— Ну, Василей, — так тебя, кажется, ругают? — скидывай малицу, здесь жарко, — и за стол. Гостем будешь, — сказал человек Аким, потом опять донеслись до меня непонятные слова, которые относились уже к появившейся из-за другой двери женщине с голыми ногами[8].
Потом мы сели за высокий, очень неловкий стол. Сидения на четырех копыльях были похожи на маленькие нарты без полозьев. Сидеть на них было неудобно, ноги мои висели без опоры, казалось, я вот-вот упаду, да и больно было сидеть. Чайник в горнице человека Акима тоже был необычным: высок, пузат, весь блестит, золотой, а из середины пуза торчит длинный, кривой отросток с крестом кверху. Поставишь крест вдоль отростка — вода бежит, поставишь поперек — нет воды. На голове пузатого чайника сидит ещё один, маленький, из белого камня чайник. Маленький, как игрушечный.
Прямо перед собой на пузе большого чайника я увидел безобразное длинное лицо, которое удивленно смотрело на меня, делало то же, что и я, а когда понял, что это мое отражение, — чай хлынул обратно через нос и рот, блюдце из рук выпало, сидение качнулось, и я с грохотом упал. Стало больно, смешно и обидно, хотелось смеяться, но стыд закрывал глаза. Желание пить чай у меня пропало, да и сидеть за высоким столом было душно. Всё же я решил сесть на своё место и в это время кто-то очень мягко тронул меня за руку. Я взглянул вниз — и обомлел: собака не собака — возле меня сидел черный, маленький, чуть толще горностая, зверь с зелеными глазами и, попискивая тонко, показывал красный изогнутый язык, похожий на лиственничную стружку. Взгляды наши встретились, я потянулся к нему рукой, чтобы погладить, а он отскочил, вытянул ноги, сгорбился, как кочка, глаза загорелись. «Не тронь!» — крикнул отец, но слова его запоздали: зверь зашипел, промелькнул передо мной, как молния, — и вот уже обожгло мне щеки и руки. Я опомнился, когда острые когти зверя шумно рвали мою малицу на шее. Человек Аким швырнул его к двери.
— Вот зверь-то! Вот кот Василий! — говорил он быстро. — Не ожидал. Никогда такого с ним не было! — Человек Аким взглянул мне в лицо. — А у тебя, Василей, глаза-то целы? Больно?
— Кот запах песцов учуял, — сказал отец.
Меня трясло не столько от боли, сколько от страха.
— Ни. Ни е'[9], — сказал я.
— Нет. Не больно, — человек Аким взглянул на женщину и улыбнулся. — Тогда ладно. Щеки и руки заживут. А Ваське я покажу, как на людей кидаться! — успокаивал меня человек Аким и с зеленоглазым зверем в руках скрылся за дверью.
Отец взглянул на меня строго.
— Вот тебе! Никогда не лезь, когда не знаешь, — сказал он. — Зверь есть зверь. Но ничего, до свадьбы заживет. Сам виноват.
Появился человек Аким и отпустил с ладоней на пол крякву. Сказал:
— На, Василей. С уткой поиграй. Уж она-то тебя не поцарапает.
Мне теперь не нужны были ни утка, ни шальной зверь с зелеными глазами, хотелось как можно скорее уйти из этого душного чума, называемого горницей, и, к моему счастью, отец опрокинул на блюдце пустую чашку и сказал:
— Спасибо, Аким и хозяйка, за чай с сахаром! А нам, пожалуй, пора. Хоть весенний день и долог, но дела… За чаем обратную дорогу в чум короче не сделаешь.
Мы побывали в других домах-чумах, где было уже не душно, как в горнице человека Акима, сдали песцов, закупили продукты — и вот уже наша упряжка летела по тундре, где всё больше и шире становились проталины. Пахло привычно ветром, талым снегом и ягелем.
3. ВАСЯ ЛАПТАНДЕР И ЕДРЕНА ГАЧЬ
Земля оголялась быстро. Таял снег, смеялись ручьи.
— Скоро крикнут реки, птица поведет в воду выводков, и мы с тобой, сын, пойдем на гусей, — сказал отец. Настроение у него было хорошее. Редко я его видел таким. — Весна в этом году ранняя, бурная, много гусей будет.
Но этого не случилось. В самом начале лета отец ездил в Пэ-Яха Харад и вернулся в чум не в духе.
— Ямдать[10] надо, сын. Ямдать, говорят, надо. В поселок ямдать, — деловито сказал отец и добавил: — А там — семгу ловить.
— А что это… семга? — спросил я.
— Рыба, — сказал он. — В море водится и в реки заходит. Я на ней и вырос. Значит, и ты будешь расти на ней. Вкусная. Очень вкусная она, эта семга. Это не то, что чир или пелядь.
— Вкуснее нельмы?! — удивился я, потому что знал, что вкуснее нельмы вообще нет рыбы.
Отец кивнул молча, кашлянул в кулак.
— Пожалуй, да, семга вкуснее, — сказал он.
— Рыба рыбой, а мне не нравится. Ой, как не нравится… — вмешалась бабушка. Она оглядела нас. — Ну что же? Раз уж начали пришивать к домам — скоро ни одного вольного человека в тундре не будет. Да-да, так всё и будет.
Отец строго взглянул на бабушку.
После завтрака мы разобрали чум, и два больших аргиша[11] тронулись в сторону ночи. Впереди шёл бабушкин аргиш, мы с отцом подгоняли стадо.
Аргиши ползли лениво, груженые сани были тяжелы, ханбуи[12] храпели, высунув длинные розовые языки. Полозья выворачивали коренья ив и карликовых березок, ломали кочки.
На закате, когда солнце повисло над водой на высоте щучьего прыжка, мы подъехали к высокому берегу реки, где стояло множество чумов. Я их долго считал и каждый раз сбивался на четвертом десятке. Чумов было много, а саней того больше.
Мы выбрали ровное, сухое место для установки чума, распрягли подсаночных, ханбуев, и они вместе с теми оленями, которых мы подгоняли с отцом, слились с огромным стадом. Оно паслось на холмах недалеко от чумов.
Счета этим оленям, конечно, не было, потому что вся тундра до горизонта была усеяна животными. В большом стойбище, к которому мы примкнули, было много людей.
За рекой виднелись дома, очевидно, те самые, куда мы ездили с отцом и где живет бородатый человек Аким. По реке между домами и стойбищем сновали туда и сюда большие лодки. Весел у каждой лодки было много. Под косыми лучами солнца лопасти их казались огненными. Я загляделся.
— Вот так и мы поедем. Туда, в поселок, — услышал я голос отца.
Мы стояли молча, смотрели на лодки и дома. За спиной был большой, но такой близкий и родной простор, впереди — неизвестный, загадочный мир.
Утром я заметил, что чумов на стойбище стало наполовину меньше. Об этом хотел спросить отца, но догадался, что они переехали за реку. А на третий день после кочевки пришел черед плыть и нам. С утра мы разобрали чум, свернули нюки, связали в тюки вещи. Всё зимнее было убрано в большой серебц — сдвоенные упаковочные сани, связано накрепко до новой зимы. Люди помогали нам перенести в лодку шесты, латы, летние нюки, вещи, и мы поплыли в поселок. За рулем сидел незнакомый мужчина. Мама, бабушка и Сандра сидели на вещах, на веслах шестым был отец, и я помогал ему грести.
Буйное течение закручивалось в воронки, относило лодку, но она, послушная рулю, бойко бежала к домам, левее и правее которых виднелось множество чумов. Шесть весел, словно шесть крыльев, то дружно взлетали вверх, то падали в воду.
Лодка коснулась дна шагах в трех от берега. Сошли в воду гребцы и вытащили лодку за нос на сыпучую гальку. Потом хозяйство чума было перенесено далеко за дома, где мы и принялись разбивать жилище, а лодка ушла за реку за новым чумом.
— Вот мы и приехали, — сказал отец. — До осени вам придется жить здесь, в поселке. Осенью снова вернутся олени, и мы поедем на охоту. А пока я буду на тонях семгу ловить. Это на расстоянии одной кочевки, на берегу моря.
Слова отца не понравились мне, хотелось быть с ним, но я промолчал, потому что не люблю быть назойливым, да и хотелось уже спать.
Шел пятый день, как отец уехал на путину. При нём не удалось сходить и ознакомиться с поселком. Он уходил туда то рано утром, когда я ещё спал, то просто не брал меня с собой, торопясь на какие-то собрания. Только однажды, по пути в магазин, мы с мамой заходили в большой дом, где никто не жил, но было людно. Были тут мужчины, но среди них я увидел несколько женщин в брюках. Мужчины и женщины перебирали сети, сворачивали их и носили к лодкам на берегу. Это было ещё до отъезда рыбаков на тони. Потом я не ходил в посёлок. Одному было страшновато: между домами бродили огромные собаки, они рычали, лаяли, кидались на людей в малицах и паницах, а у меня русской замшевой одежды ещё не было. А собак в поселке много, как людей. Даже, наверно, больше! Всё время стоял над рекой лай, визг и вой. Собаки скучали по хозяевам, уехавшим на путину. Сначала я не понимал, для чего людям такие большие собаки и столько много, но бабушка объяснила, что нужны они для езды. «Зимой поселковые люди ездят на них, как на оленях, — сказала она. — Есть у нас, ненцев, даже слово «вэнодэтта» — собакооленевод. Это люди, у кого нет оленей и не умеют за ними смотреть. Вот они и ездят на прожорливых и кусачих собаках. Лентяи и только!» Я представил, как ездят на собаках, и мне это показалось смешным и забавным — точно это были ребята, играющие в оленеводов. Хотелось увидеть «вэнодэтту» самому, но было лето, никто не ездил на лающих оленях, и вскоре я забыл о собачьих упряжках.
Всю ночь шел дождь, гремело, солнца[13], окутанного облаками, не было видно. Я сидел в чуме, только изредка выбегал под проливной дождь босиком и в одной рубашке, чтобы смыть грехи, которые, как говорила бабушка, накопились у меня с тех пор, как я заговорил: по словам бабушки, язык у человека — грязная вещь, и он не всегда подчиняется уму. Я выбегал на улицу под проливной дождь. Иногда секли мне тело кусочки льда, было больно, но бабушка говорила, что надо терпеть: чем больше сечет ледяными градинами, тем чище будешь душой. И я терпел. Небо висело низко, в темно-синей мгле метались молнии, высвечивая широкую грудь реки и мокрые пески на отмелях. Всё живое, казалось, вымерло, гремело небо и вздрагивала земля. Бабушка и мама боялись разжигать огонь. При каждом ударе грома бабушка что-то шептала одними только губами. А мне она говорила:
— Это война, внучек. Война. Это бывает в каждую весну: Хозяин земли Черного хора[14] пошел войной на Хозяина земли Белого хора. Стрелы у Хозяина земли Черного хора каменные, а у Хозяина земли Белого хора — ледяные. Ты слышишь, как гремит? Это гремят полозья их воинов. Почва там — одни камни. Копыта оленей и железные полозья нарт высекают искры. Это — молнии, стрелы их.
Я слушал бабушку, и меня охватывал страх. Вскоре мы с сестрой забились под подушки и лежали, боясь шелохнуться. Так мы и уснули. Мне снился шаман — он стучал дробью по бубну. А когда я проснулся, весело трещал огонь. Это в языках пламени трещали сухие поленья. Пламя торопливо лизало черные от сажи днища котла и чайника. Пахло едким дымом, непривычным для тундры, и густым ароматом вареной куропатки. Через весь чум от дыр на нюках тянулись золотыми нитями лучи солнца. На улице было тихо, и слышался только отдаленный лай поселковых собак.
После чая я вышел на улицу. Солнце светило ярко, небо было высоким и голубым, только далеко над горизонтом, как большое пламя, горели лохмотья облаков. Сочнозеленая трава и листья карликовых березок, ещё мокрые от ночного дождя, под лучами солнца вспыхивали разноцветными искрами.
Я стоял на голом месте возле чума — ни кустика вокруг. Здесь не стояли привычные нарты, на которые можно было присесть.
Я смотрел задумчиво на дома. Люди в поселке тоже, видимо, начали просыпаться: то в одном, то в другом месте начинал валить из труб дым.
— Эй, что ты торчишь, как пугало! Не видишь, что кулики кружат? — раздался чей-то звонкий голос.
Я обернулся. Недалеко от меня стоял, пригнувшись, мальчик в малице. В руках у него были лук и стрелы.
Кулики сделали ещё один круг возле меня, снизились было над большой лужей, но не сели, удалились в сторону желтевших в отдалении песков. Мальчик в досаде махнул рукой и подошел ко мне.
— Тоже мне: нашли место для чума!.. — ворчал он недовольно.
Слова его показались мне странными, и я спросил:
— А что? Чем плохое место?
— Чем-чем!.. — злился мальчик. — Я здесь всегда на куликов охочусь.
— Подумаешь… на куликов! — рассердился я. — Чум, что ли, прикажешь снять?
— Я их от самого Бабьего моря гоню, а ты тут сесть им не дал, — сказал он, глядя себе под ноги. Потом поднял голову и уставился мне в лицо.
Мы долго смотрели друг на друга. Он улыбнулся и спросил:
— Ты кто такой?
— Я?
— Не дед же Матвей! Ты, конечно!
— Василей… А по-взрослому: Микул Вась. Паханзеда, — я всё выложил для солидности.
— Василей? Как — Василей?!
— Так. Василей! Что ещё тебе надо?! — рассердился я, кулаки сами сжались, аж в ладонях больно стало.
— Э-э! Да ты ещё и имя-то свое толком не знаешь! Василий, наверно? Вася?
— Нет. Василей! — отрезал я.
Мальчик втянул голову в плечи и развел руками.
— Гм… А я — Василий. Лаптандер, — он протянул мне грязную, запачканную в глине руку. — Будем знакомы: Вася Лаптандер.
Так мы и познакомились. Вася Лаптандер приходил ко мне почти каждое утро. Ходил к нему и я. Жили Лаптандеры в доме. Позже я узнал, что семья Лаптандеров никогда не имела оленей, и Вася от рождения живет в поселке.
— Не скучно всё время в доме жить? На одном месте? — спросил я однажды у Васи.
Надо было видеть, как он удивился.
— Хэ! Думаешь, лучше в чуме кости морозить? — сказал он, улыбаясь.
— Чум — не дом, где всегда кислый воздух, — не отступал я. — В чуме всегда чистый воздух, и места всегда новые.
— Фу! В чуме я и дня не проживу: дымно, зимой — холод, летом — комары!
Мне почему-то стало неловко за привычное своё жилище. Я почувствовал, что у меня горят уши и щеки. Но Вася спросил вдруг:
— А у тебя, Василей, лук есть?
— Как нет!
— Хорошо, что есть лук, — сказал Вася. — Пойдем на куликов. Я хорошие места кормежки знаю. Куликам там счета нет! За глиняную речку пойдем. В отлив она совсем высыхает. Это за вашим чумом. Но — чур! — чтобы Едрёна Гачь не видела.
— Хэ, Едрена Гачь! — я чуть не засмеялся. — Это ещё что за имя?
Вася улыбнулся.
— Это не имя. «Едрена гачь» — это она так ругается. Её все так зовут. Страшная женщина. А вообще-то она — Анук. Анна Фатеевна, или Фатей Анна. Тайбарей. Как-нибудь я тебе покажу её, — пообещал Вася и, подняв голову, сказал: — Во, слышишь? Вот она.
Слух мой уловил чей-то голос, но я ничего не понял.
— О-о! Едрена гачь! Опять воду тяпкаете?! — раздалось вдруг где-то рядом, когда, выйдя от Васи Лаптандера, я шел по угору к чуму и смотрел на плескавшихся в воде нагих ребятишек.
Шумно смеясь, одни бегали по мелкой воде, брызгали друг на друга, другие плавали, как нерпы, высунув из воды только голову. Я не умел так плавать, и мне было завидно. Грозный окрик женщины всполошил их, и они разбежались кто куда. Какой-то мальчишка-заморыш, держа в руках один пим, растерянно крутился на одном месте. Он-то и стал добычей Едрена Гачи. Мальчишка, видно, искал глазами свой второй пим, но его не было. Женщина подошла к мальчишке широким шагом, схватила его за плечи и повернула к себе.
— А, птенчик! Опять ты мне попался! — сказала громко Едрена Гачь, чтобы слышали все, кто, прячась за валунами, корягами и кочками, смотрели с любопытством на неё.
Мальчик стоял возле своего пима, склонив голову и всхлипывая.
— Уж попался второй раз — не прощу! — громыхала Едрена Гачь, держа мальчишку за плечо. — Снимай штаны-то! Сам добром снимай!
Деваться было некуда. Мальчишка нехотя принялся отстегивать пуговицы, а Едрена Гачь сняла сапоги, затыкала одной рукой за пояс подол широченного сарафана, схватила мальчишку под мышки и побрела в воду.
— Сколько раз надо говорить, едрена гачь, а? Ид ерв[15] не любит, чтобы мутили его воду!.. Жить, что ли, надоело, едрена гачь? Дедушка Ид ерв не терпит долго, едрена гачь! Схватит за ногу и к себе в подводный дом утащит! В рыбу превратит!
Мальчик бился руками и ногами, вертел головой, пытаясь укусить женщину, но та крепко держала его. Когда вода стала выше колен, Едрена-Гачь посадила мальчишку в воду и начала погружать. Она опустила его до пояса, потом до горла, затем быстро толкнула под воду и так же быстро вытащила.
— Вот тебе! Вот! Всех так буду крестить, кто попадется! Кто воду тяпкать будет! Шалить на воде!
Мне жалко стало этого мальчишку и — не помню как, но я оказался возле пима на гальке. Когда Едрена Гачь уже на берегу шлепала мальчишку по худому заду, я сказал:
— Нельзя так, тетя. Он — сустуй![16] Больно ему и… холодно.
— Нахмуренное лицо у женщины вдруг заулыбалось, но тут же снова сделалось серьезным.
— Пусть больно! Пусть Ид ерва не гневит! — сказала она и отвернулась. Потом снова обернулась ко мне и добавила нормальным голосом: — Я-то что! Искупаю — и всё. А Ид ерв с такими шалунами играть не будет: затащит под воду и шею сломает. У него и так, наверно, голова болит и глаза замутились? Он тоже хочет солнце видеть.
Схватив пим, мальчишка побежал и начал карабкаться на обрывистый берег. Из-за большого валуна выскочила какая-то девочка и подала ему второй пим. Мальчик связал вместе тесемки, закинул пимы за спину, и они — видимо, брат и сестра — полезли на угор.
Я поспешил в чум, чтобы настрогать стрелы и рано утром выйти на куликов.
4. ТУРПАН
Не помню, сколько раз уже мы с Васей ходили на куликов. Охота на них пришлась мне по душе. Вставали рано, когда люди в поселке ещё спали, и шли с луками на лайду, пахнущую глиной, гнилью трав и мхов, застойной морской водой, пропадали там весь день, ползали на животе, подкрадывались к безобидным маленьким куликам-плавункам, которые мало кого боялись и из-за своей беспечности становились нашей легкой добычей. Мы возвращались мокрые, но с полными сумками трофеев. За мокрую одежду нам, конечно, доставалось от матерей, да и плавунки наши были не в чести.
— Снова сякци![17] — возмущалась мать. — Что толку? Были бы гуси или турпаны, а то — сякци! Одна кожа да кости!
— Будут и гуси, — тихо говорила бабушка.
Мать словно не слышала её:
— Видишь, как малицу-то сгноил? И пимы?.. В чём будешь ходить, как похолодает?
Я понимал, что виноват. Такое не раз уже было. Но я знал, что мать пошумит и перестанет, поэтому молчал. На следующее утро мы с Васей снова уходили на лайду. Тайком уходили. Это повторялось каждый день. Чтобы не мешать друг другу, у нас на лайде были теперь свои места лова. На участок друг друга мы не ступали, если даже и видели много плавунков. Охотились уже не луками, а гладко обструганными палками.
Стрела мала и тонка, ею плохо стрелять в стаю — толку мало: подобьешь одного, а остальные улетят. Палка же, летящая широко, позволяет свалить за один бросок двух-трех, а то и больше плавунков, так как эти маленькие птички, охотясь за водяными жучками и хальмер-рыбками[18], любят сбиваться большими стаями на лайденных лужах. Вращаясь, как юла, на одном месте, они обычно ни на что вокруг не обращают внимания. Дневные наши трофеи доходили до тридцати и более штук у каждого. Перестали браниться и матери, потому что одна камбала с ухой без жиринки надоедала. Не ругали они нас ещё и потому, что мы с Васей уже носились по лайде не в малицах и пимах, а босиком да в легких охотничьих штанах и рубашках, цвет которых трудно было определить.
Однажды, когда солнце стояло высоко над головой, я вдруг заметил на своем участке затаившегося в траве самца турпана — гагу-гребенушку. На большую, как гусь, птицу, конечно, трудно было охотиться палкой, но у меня перехватило дыхание. Из поездок с отцом на весеннюю охоту я знал, что турпан, которого у нас называют иногда морской куропаткой, — птица не из пугливых, порой даже на упряжке можно подъехать к токующим турпанам на расстояние вытянутой вожжи, но то бывает весной. Сейчас было неизвестно, как поведет себя птица. Когда до турпана оставалось каких-то пятьдесят шагов, я лег и пополз на животе, вспарывая грудью лайденную жижу. Временами я приподнимался на локтях и видел, что птица не чует опасности. Я полз дальше. Расстояние между нами медленно, но сокращалось. Когда до птицы можно было достать вытянутым тынзеем, к моему удивлению, турпан по-прежнему сидел спокойно, только иногда, если чавкала подо мной вода, он медленно, даже лениво как-то поворачивал голову, осматриваясь. Я замирал. Турпан подбирал аккуратно крылья, принимал удобную себе позу и продолжал сидеть, сонно покачивая шеей. «Спит», — решал я и полз дальше. В каких-то пяти-шести шагах от птицы я встал осторожно, прячась за пучком осоки, и размахнулся что есть сил. Палка со звоном ударилась в голову турпана в тот момент, когда от чрезмерного усердия у меня закрылись глаза. Открыв их снова, я увидел: птица лежит на воде кверху лапами. Не помня себя, я кинулся к птице, схватил её за шею и только тогда понял, что я стою по горло в холодной воде. Мне теперь было не до Васи Лаптандера, носившегося за плавунками на своем участке, не до моих охотничьих палок, не даже до сумки с плавунками — не чуя земли под собой, я летел к чуму, держа на вытянутых руках над головой большую птицу. Увидев меня, бабушка то и дело хлопала себя руками по бедрам, открывался беспрестанно её беззубый рот, что-то говорила мама, но я ничего не слышал и не понимал. Волоча птицу за желтую лапу, сестра бегала вокруг нас и твердила:
— Вэй, нармоты!..[19] Вэй, нармоты!..
Она, видимо, от восхищения, а может быть, и от зависти, тоже ничего не могла сказать, кроме:
— Вэй, нармоты!..
А я-то знал, что Сандра давно завидует моей охоте, потому что она уже не раз просилась на лайду вместе со мной и Васей Лаптандером, но я её не брал — стыдно как-то на пару с девчонкой охотиться.
Потом, когда всё утихомирилось, мать взглянула на меня, перевела взгляд на птицу и спросила осторожно:
— Молодец ты, сын, что такую большую птицу принес; но… не дохлого ли турпана нашел?
— Как так — дохлого?! — меня затрясло. — Не-ет! Я же говорю, палкой!
— Верю, сын, верю, — сказала она ласково.
— Нет, Иря, он не дохлый был, — перекидывая турпана с руки на руку, сказала бабушка. — Видишь: он ещё теплый. И перо, и кожа чистые.
Мать обняла меня.
— Молодец, сын мой! Молодец! И ты наконец нашим кормильцем стал. — Она взглянула на бабушку, добавила, кажется, больше для себя: — Растет сынок, а мы?..
Бабушка только вздохнула, но ничего не сказала.
Радости моей не было предела. Я, кажется, ещё никогда в жизни так не радовался. «Вот бы отец видел!» — думал я, а сам переворачивал птицу то так, то этак и никак не мог оторвать от неё взгляда.
Поздно вечером, весь чумазый, ввалился в чум Вася Лаптандер и, опускаясь устало на латы, сказал обиженно:
— Ещё и друг называется… Охотник!..
— А что? — задело меня.
— Ты что меня оставил?
В ответ я и слова не мог сказать, потому быстро встал, выхватил лежавшего в передней части чума турпана и бросил его к ногам Васи.
— Вот!.. — только и вырвалось у меня.
Он взглянул на птицу и широко открытыми глазами уставился на меня.
— Ты?! — каким-то глухим голосом спросил, словно издалека.
— Я! Кто же больше? — гордый, я свысока поглядывал на него.
Он схватил птицу, понюхал её и снова уставился на меня, подавшись всем корпусом вперед.
— Это ты? Палкой? — Голос его стал ещё глуше, отдаленнее.
— Я, конечно! Конечно, палкой! — ответил я срывающимся голосом то ли от возмущения, что не верит, то ли от гордости, которая тоже мешала дышать.
— Это да-а! Эт-то да-а! — удивился Вася.
У меня першило в горле, и я ему больше ничего не мог сказать.
— Вот эт-то да-а! — продолжал удивляться Вася, засовывая руку в свою охотничью сумку. — Я тоже подбил… лорцэва[20], но это… не турпан! Вот эт-то да-а!
Я проводил Васю и пригласил его завтра отведать моего турпана.
— Э, а вчера ведь я второго лорцэва не показал. Завидно было, да и что мои лорцэвы против турпана? — спокойно улыбаясь, признался утром Вася, когда мы садились за стол.
— Сякцей у тебя сколько было? — поинтересовался я.
— А-а!.. — отмахнулся Вася. — Семнадцать. Совсем немного.
Суп из турпана понравился всем. Больше всех восторгалась им бабушка. Когда мы принялись за мясо, я положил в тарелку друга, как самый лакомый кусок, голову турпана. Ели аппетитно, все восторгались моей добычей, но Вася, засмеявшись вдруг, упал на спину, чуть стол не опрокинул ногами. Смеясь, он пытался сесть, но хватался за живот и снова падал на спину.
— Ты что? Что с тобой? — спрашивал я недоумённо.
— Ха-а, ха-ха! Теперь-то я знаю, что за птица у тебя! — заговорил наконец Вася. Он одной рукой протирал глаза, другой показывал на голову турпана, лежавшую на тарелке.
— Что такое? — насторожился я.
— Сле… слепая же птица-то была! Смотри: оба глаза у нее дробиной пробиты!..
— Ну и что? — возмутился я, всё ещё вникая в смысл Васиных слов.
— Так турпан-то у тебя слепой был! — опережая мои мысли, снова сказал Вася и опять залился смехом, который теперь уже раздражал меня.
— Бе-едненький, — обронила тихо бабушка, и тут же лицо её сделалось серьезным. — А мясо-то хорошее. Видно, он так, на ощупь травкой питался…
Бабушка ещё что-то говорила, говорила и мать, но слов их я не слышал. Мне было обидно за себя и жалко турпана.
Когда легли на стол три дробинки, найденные в теле турпана, костер в чуме уже догорал.
5. ГЛИНЯНЫЕ ЛЮДИ
Однажды я заметил: воды в реке стало совсем мало, всюду желтели пески, на середине реки обнажались кошки — песчаные острова, затопляемые в прилив. Дни были настолько жаркими и душными, что и на мездре оленьей шкуры даже ночью не было спасу. Мы с Васей ходили на лайду и увидели, что все лужи и мелкие озёра высохли до дна, заросли густой болотной травой. Большое озеро возле домов, называемое Бабьим морем, тоже высохло, и темно-голубая глина его дна разлопалась, как лёд на озерах в трескучие морозы. Ид сякни — плавунки, которыми ещё совсем недавно кишела лайда, куда-то исчезли. За много дней удачной охоты мы впервые возвращались домой только с двумя плавунками. У меня не было трофея. Вася дал мне одного плавунка, сказал, чтобы руки не пустовали, и, грустные, мы шли к поселку — не хотелось даже разговаривать.
— Ты, Василей, не очень-то горюй: такое уж охотничье дело, — первым нарушил молчание Вася. — Сегодня нет, завтра будет. А лайда и Бабье море в каждое, даже не такое сухое лето высыхают к середине Комариного месяца[21]. Ид сякця без воды не живет. Да и что теперь ид сякци? Сустуи. Кожа да кости! А вот мара сякця[22] сейчас — что ком жира. От одного десятка вкусный суп выйдет — пальчики оближешь! Теперь как раз на них пора охотиться. Это ведь так: воды нет, значит мара сякця будет. Эту птицу не так-то легко взять, но здесь я самые лучшие места кормежки знаю. Это — песчаная коса за глиняной протокой, что возле вашего чума. Об этом как-то я уже говорил тебе, в день встречи. Но это — ладно. Мара сякцю, брат, палкой или луком не возьмешь. Правда, луком ещё можно, но это — трата времени, попадется два-три кулика — разве добыча?
— Чем же тогда брать? Руками, что ли? — отрезал я ехидно, потому что меня раздражало его долгое тарахтенье.
— Хэ! Рука-ами! — удивленно взглянул на меня Вася. — Руками, брат, ничего не возьмешь. Но ты слушай. Мы сначала пойдем к нашим поселковым рыбакам на тони, где ловят камбалу. Ты это, наверно, видел: в сетях вместе с рыбой приходит много однобоких костяных червей. Это — лучшее лакомство мара сякци! Можно целое ведро костяных червей набрать.
— Хфрр!.. — меня всего передернуло, как только вспомнил этих червей, даже внутри что-то вроде бы перевернулось.
— Вот этих червей мы и соберем. А ловить будем силками. У меня их очень много, из конского волоса. Ими я весной пуночек ловлю, а летом — мара сякцей. Силки поставим точно так, как на пуночек.
Смысл Васиных слов долго доходил до меня:
— Силки?.. Как на пуночек?!
— Да. А что? — не меньше меня удивился Вася.
— Так они у меня тоже есть! Силки! И очень много. На плахах они, — обрадовался я. — Мы с сестрой тоже ловили пуночек. Весной.
— Вот и хорошо, — спокойно ответил Вася. — Значит, у нас ещё больше силков будет.
Костяных червей на камбальнице — так называют место, где ловится камбала, — оказалось действительно много, мы их собирали горстями, хотя занятие это мне было не слишком приятно.
— Вы что их — на уху? — спрашивали у нас.
— Да так… надо, — коротко отвечал Вася, не поднимая головы, и мы продолжали ловить на мелководье падающих из невода сине-белых червей, с кривыми костяными ногами и костяным телом. Потом очистили от них и все невода на вешалах. Приманки на куликов-береговиков у нас набралось на полведра. Назавтра мы договорились идти за глиняную протоку, где, по словам Васи, берег кишмя-кишит куликами.
Спал я плохо. Было душно. Дневная жара не спала даже к ночи. Мездра оленьей шкуры, на которой я пытался найти прохладу, раскалялась подо мной от меня же самого. Когда я перевернул шкуру, на меху оказалось гораздо легче: ворсинки не накаливались, и я уснул.
Утром я выскочил на улицу, как угорелый, думая, что встал первым. Но на широкой и длинной прибрежной поляне под пригорком, ползала уже, как всегда, по разостланному нюку бабушка с иглой и жилами в руках. Она отыскивала дыры, которые надо залатать, чтобы зимой не дул ветер, не заносил снег.
Я взглянул на реку и понял: начался отлив. Даже на зеркале воды было видно, как торопливо бежит река, прямо на глазах обнажались песчаные косы.
После завтрака мы спустились к глиняной протоке. Воды в ней почти не было. Она лишь тоненьким слоем скользила по ровной, гладкой поверхности глины.
В вырытой в разрезе торфяного берега яме мы отыскали свое снаряжение.
— Вот тут мы и перейдем, — сказал Вася, показав на множество следов у самого устья протоки. Примерно на середине протоки, где ещё бойко скользила вода, следы исчезали, но на той стороне они снова виднелись отчетливо. — В полный отлив воды здесь совсем не будет. А во второй отлив, вечером, перейдем здесь же. Обратно перейдем. Видишь, тут люди ходили? Значит, перейдем и мы — не страшно.
— О! Едрена гачь! Не ходите на глубину! Не ходите! — где-то совсем рядом громыхнул голос Анук. — У бережка тяпкайтесь! У бережка!..
Мы невольно пригнули головы, но тут же поняли, что это относится не к нам. Видимо, в самой реке, где-то за мыском, купаются ребята. Это им кричит грозная женщина. В последние жаркие дни голос Едрена Гачи часто раздавался над рекой. Она сейчас мало кого наказывала — было жарко, надо было купаться, но ходила она больше из-за того, чтобы на всякий случай был за ребятами присмотр. Да и, как говорит бабушка, одинокой бездетной женщине, может, не сиделось дома?
— Да ла-адно — пусть она там едренагачит! Пойдем, — сказал Вася, закинув за плечи плахи с силками и схватив ведро с костяными червями.
Я тоже взял свою ношу, и мы пошли. Первым шел Вася, я плелся шагах в двух за ним. Мне было очень неприятно, когда мягкая, липкая и холодная глина процеживалась между пальцами ног и шумно чмокала при вытаскивании ступни. Примерно на середине протоки правая нога у меня провалилась выше колена, и я почувствовал, что у меня нет сил её вытащить. Перед собой я видел раскачивающегося на одном месте Васю. Глина ему была выше колен. Ведро с костяными червями стояло рядом с ним, и я видел, как оно медленно валилось набок.
— Ой! Ведро-то держи! Ведро-то! — крикнул я.
Он схватил ведро, лежавшее уже на боку, — часть червей уносила скользящая по глине вода — переставил его, что-то буркнул себе под нос и, даже не взглянув на меня, снова начал раскачиваться из стороны в сторону.
— Что делать, Вася? — спросил я, понимая, что нас начинает засасывать.
Он обернулся и сказал:
— Но! И ты тоже? — Помолчав, добавил тихо: — Все, засосало!
Услышав это, я — то ли от испуга, то ли ещё от чего — так дернул ногу, что она выскользнула из глины, как по мылу, но на такую же глубину ушла вниз стоявшая чуть впереди левая нога. Я сделал правой ещё шаг и достал руками плечи Васи, но погрузился в глину до середины бедер. Потом мы попытались выдернуть друг друга, но тщетно: чем больше мы шевелились, тем больше погружались в липкую жижу. С неба пекло солнце, но ногам в глине было жутко холодно. Все наши надежды выбраться из глины таяли, было грустно и смешно. Мы смотрели друг на друга и смеялись, хотя готовы были уже заплакать.
Мы не знали, сколько простояли в глине, но, судя по грязной пене, которая начала скапливаться вдоль кромки воды недалеко от нас, можно было понять, что начался прилив. Стало тревожно: нас может затопить! Я видел, как широко и часто раздувались ноздри у Васи, нижняя губа отвисла, лицо посерело, вытянулось. Может быть, со мной было то же самое, но я не видел себя. Слышал, как неприятно стучало сердце, колотило в висках.
— Ты не бойся: придет вода и поднимет нас. До берега — рукой подать, выберемся, — успокаивал меня Вася, хотя, может быть, сам он не меньше меня боялся.
«Ладно, как-нибудь выберемся», — подумал я, и вдруг откуда-то сверху громыхнуло:
— О! Едрёна гачь! Это ещё что за черти?
Не знаю, как у Васи, но мне в этот миг показалось, что сердце вот-вот выскочит через рот. Я уже не слышал, что говорила Едрёна Гачь, но со страхом и надеждой смотрел на то, как она торопливо таскала от бани доски и бросала их под берег. Потом эти доски начала стелить на глину в нашу сторону. Когда она поставила возле нас три широкие плахи, вздохнула тяжело и начала ходить по доскам мимо нас, поглядывая молча на наши серые лица. И, наконец, рявкнула:
— Ну, едрена гачь! Снимай рубахи! И штаны тоже!
Ничего другого не оставалось, и Вася взялся за ворот, начал стягивать с себя рубаху. Я тоже последовал его примеру.
Когда мы остались нагими до пояса, Анук ещё раз прошлась по доскам и вдруг начала обрызгивать нас жидкой глиной. Потом это ей, видимо, показалось недостаточным, и она обоих нас густо облепила глиной.
На берегу мы попытались отбиться, но не вышло: Анук цепко держала нас и, нагих, вела прямо к чуму, где встречали нас удивленные мама, сестра и бабушка.
— Вот, едрена гачь! Нум[23] ещё двух людей слепил. Сушите их и никуда не пускайте! — сказала Едрена Гачь и пошла прочь.
Нам было смешно и обидно.
В прилив мы прибежали к той же глиняной протоке, чтобы смыть высохшую на нас глину. Мы и не ведали, что эта злая шутка с нами была сыграна по уговору. Потом узнали и то, что Едрена Гачь без разрешения родителей никого не трогает.
6. АТЬ-ТВА — ЛЕВОЙ!
После «глиняной бани» Едрена Гачи я уже четвертый день сидел в чуме. Было скучно. Сандра знала только своих нгухуко — кукол из утиных и гусиных клювов, которые у неё только и делали, что ели и спали. А мне на что эти глупые куклы? Как назло не появлялся и Вася Лаптандер. Да и как он появится? Про глиняную протоку и о нашем приключении Анук, конечно, всем уже разболтала. Ох и попало, наверно, Васе от матери! Но мы сами виноваты. Едрена Гачь права: и кроме глиняной протоки места всем хватает. Да, она права! И зачем мы лезли в эту кашу? Мара сякци, конечно, есть и в другом месте. Конечно, есть! И как я теперь без Васи?
День тянулся долго и нудно. А жара — спасу нет. Пот — ручьями. Столько поту — будто и сам я весь из воды. Я нигде не мог найти себе место похолоднее, и потому лежал на земле в тени чума. Бабушка, как всегда, ползала на четвереньках по разостланному нюку. Возле неё была и мама. Она шила мне малицу для зимы. Мешать я не хотел и не подходил к ним. Дело есть дело. Зима, говорят, не за горами. Ох, сейчас бы мне в тундру, к оленям! Уж не сидел бы, наверно, так, без дела. Да-а, там-то что! Постели возле стада белую оленью шкуру и только знай лупи палкой оводов. А нет оводов — комаров. И чади себе дымокуры, дерна побольше подавай! Дым отгоняет комаров от стада. А тебе и рукам дело есть, и весело. Тундра… Скоро ли мы опять уедем в тундру, на простор? А? Ох и скучна эта оседлая жизнь! И как только люди так живут?! Это же одно безделье, и только! Хоть вой, как поселковые собаки. Может, пойти мне к Васе? Нет, стыдно на глаза его матери показываться. Ну, а что делать? И тут я увидел Мехэлку, выползающего из чума на четвереньках. Мне сразу почему-то вспомнилась загадка Паш Миколая: кто утром на четырех ногах, днем — на двух, вечером — на трех? Человек, конечно! Ребенком он ползает на четвереньках, взрослым — ходит на двух ногах, а стариком ходит с палочкой. Оставшись один в чуме, Мехэлка, конечно, проснулся, вылез из зыбки и отправился в путь. Мне было смешно видеть, как он, выйдя наполовину из-под полога, задирал высоко голову и внимательно, даже как-то удивленно всматривался вокруг, как тот самый человек на картинке из книги Васиного старшего брата, который на краю земли заглядывает за подол неба. «Человек здоровается с миром, — подумал я и добавил мысленно: — Смотри, Мехэлка… смотри, какая большая и красивая земля!» Его, беспомощного, стало вдруг очень жалко, я подбежал к нему, поднял высоко над головой и сказал:
— Смотри, Мехэлка, какой большой и красивый мир! Смотри лучше — теперь ты выше меня и тебе дальше видно!
Я снова опустил Мехэлку на землю, хотел обернуться назад, потому что почувствовал за спиной чье-то дыхание, но голову мою схватили чьи-то большие, сильные руки. По дыханию, по запаху я узнал отца — вытянул назад руки и похлопал его по бокам, что значило: узнал. Этот сигнал был понятен только мне и ему, потому что отец у меня был глухим, он слышал только громкий голос на небольшом расстоянии. Иногда он понимал речь по губам.
Вскоре подошли к нам бабушка и мама. Они были удивлены столь неожиданным появлением отца в разгар семужьей путины, но ни та, ни другая ни словом не обмолвились. Отец пытался улыбнуться, но на лице у него была тревога.
— Сайнорма[24]! — выдохнул он всей грудью, помолчал, глядя вдаль над нашими головами. — Сайнорма!..
Мать и бабушка всплеснули руками, только что сиявшие радостью лица их застыли. Я не знал, что такое война, но от самого этого слова пошел по телу холод.
— Война, говорят, началась. Большая война! Всех нас на ноги подняли. На тонях никого не осталось, кроме женщин.
— Йэ-э! Опять беда! — заверещала бабушка, возмущенно хлопая себя по бедрам. — Вот грех-то! Опять ведь беда пришла! Не зря, значит, так часто мне росомаха снилась. К беде это, говорят. Вот беда-то! Вот беда! Надо же так присниться! Только поставлю капканы — росомаха тут как тут. Ни одного капкана не оставит с привадой, всё утащит. Вот грех-то, вот грех-то! А? Мало ли голодали в ту войну? А? Тогда-то уж ладно: смутное время было, царя связали. Так ему и надо было! Всех, говорят, обирал. Последние жилы у бедняка тянул. А теперь-то что надо? Что не поделили?!
Голова у матери упала на грудь, она стояла молча, будто что-то вспоминала.
Так на тундру подул внезапно какой-то неведомый ветер. «Сайнорма!» — только и слышалось всюду. Люди стали ближе друг другу. Даже чумы, стоявшие где попало возле поселка, сгрудились в два-три дня на сухой, каменистой почве берега — так обычно сбивается вместе оленье стадо с появлением волков. Потекли отовсюду к домам оленьи упряжки. Людей стало много, как оленей в большом стаде. Упряжки уводили обратно в тундру женщины и дети. Мужчины с утра до вечера тянулись к большому дому, на крыше которого развевалось красное полотнище. Отца моего трижды вызывали в поселок. При каждом уходе отца мать плакала. Бабушка бранила её, говорила, что слезы только смерть скликают, не надо плакать, Микула не взяли ещё и, может, не возьмут — на что им глухой? — но мама продолжала плакать, вспоминая какого-то Сярати. Она его называла то Сярати, то Антоном.
— Микула, может, не возьмут, но ведь Антон-то сейчас в городе Двух Камней[25], в Ленинграде! Там всегда и идут войны, — обливалась она слезами, лицо её делалось кривым, совсем не похожим на мамино лицо, казалось даже страшным, а потому мне тоже хотелось плакать, очень больно ворочался в горле какой-то ком, похожий на неразжеванный кусок мяса. И я как будто бы снова слышал слова отца, которые он говорил, уходя в поселок:
— Хоть одного-двух пянгуев-то[26], может, и я уложу. Человек — не песец, не растает за мушкой.
Из поселка он возвращался подавленным, садился на кочку и бил себя по ушам:
— Почему я всегда хуже других должен быть? А? Уш-ш-и! Где же вы, мои уши?! Будь же ты проклят, этот сгнивший уже Нгодерма! — сокрушался он на своего бывшего хозяина-многооленщика, который его, четырнадцатилетнего батрака, застал однажды уснувшим на дежурстве в стаде и так набил по ушам, что отец мой с тех пор плохо стал слышать.
Он тяжело переживал свою глухоту, усиливавшуюся с годами, и очень не любил, когда напоминали ему об этом. По этой причине его, сильного, энергичного, знаменитого на всю тундру охотника, отличного стрелка, сейчас не брали на войну, и он чувствовал себя крайне обиженным.
— На войне, говорят, уши и глаза — прежде всего. Глаза-то у меня есть, но вот… слух! Тьфу! — злился он, уже сидя в чуме. — Опять я хуже всех!
— Это же, Микул, хорошо! Хорошо, сынок! — шамкала ему на ухо бабушка. — Голова на плечах будет.
Отец посмотрел на неё так, что она застыла с открытым ртом. Потом он ещё долго смотрел молча на бабушку, на лице у него бугрились желваки, дергались щеки.
— Глупо, мама! Стыдно мне за тебя! — сказал он зло, посмотрел немигающими глазами на макодан и добавил, обернувшись к бабушке: — Беда-то — общая, всех!
В чуме висела напряженная тишина. Бабушка сидела, склонив виновато голову.
— Ать-тва — левой!.. Раз-два-три!.. — отчетливо донеслось вдруг с улицы.
Я прислушался. Кто-то на улице без конца твердил «раз-два-три!» Иногда он говорил: «Ать-тва — левой!» В такт его странному счету сухая каменистая земля отдавала звоном.
Меня точно ветром сдуло с места — и вот уже на улице я увидел большую толпу людей. Они шли рядами по четыре человека, каждый нес длинную палку с острым верхом. Все люди были без малиц, в одних рубашках, шагали кто в сапогах, кто в пимах, а кто и босиком. Вскоре я разглядел, что остроконечные палки у них в руках все одинаковы и напоминают винтовки.
Стоя возле чума, я долго смотрел на появившихся людей и ничего не мог понять: то ли они играют, то ли ещё что. Сухощавый рослый мужчина в черных блестящих сапогах, в зеленой рубашке с блестящим кожаным ремнем и в зеленых штанах только и знал, что покрикивал на них. Люди то вышагивали на месте, то, вытягиваясь, ходили длинной змейкой в ряд по четыре человека, то бегали, то ползали, как на охоте, то с разбега тыкали острием палки валуны, кочки и бабушкин свернутый нюк, ударяя тут же тупым концом палки сверху. Конечно, нападение на нюк не понравилось бабушке, и она тотчас же с трепалом в руке выросла возле сухощавого мужчины в зеленом одеянии и в блестящих сапогах. Вскоре двое мужчин притащили нюк бабушки к чуму, и люди продолжали свою странную игру.
— Вот, сын, смотри: воевать они учатся, — услышал я вдруг слова отца, подошедшего ко мне неслышно. — Скоро на войну поедут эти люди и в людей будут стрелять. Война!
— Стрелять в людей?! Убивать?!
Не знаю, слышал ли меня отец? Я смотрел ему в глаза: лицо его расплывалось, теряло очертания, небо темнело, в груди у меня сделалось тесно.
7. НОЧНОЙ ГРОМ
Люди уходили на войну через каждые три-четыре дня. У меня и в уме не укладывалось: уехали, кажется, уже все, больше некому — но откуда ещё берется народ?! Упряжки в Пэ-Яха летели отовсюду каждый день. Им, казалось, не будет конца. И всё же, когда солнце ночами начало касаться спины моря, в тундре и поселке стало тихо.
Однажды в чум к нам зашла незнакомая женщина, Она встала возле меня на латы пелейко — нежилой половины чума — и сказала:
— Охотник у вас есть?
— Как не быть? — вопросом ответила бабушка, кивнув на меня.
— Есть охотник. Как без него? — улыбнулась мать. — Кому-то ведь надо раздувать огонь рода?
— Так вот, ребята, — незнакомая женщина, как слепая, смотрела поверх меня, будто она обращалась не ко мне или Сандре, а по крайней мере к десятерым. — Охотиться можно — никто не запрещает, надо охотиться, только, ребятки, костров не разжигайте: дым и огонь далеко видны. Ночи-то темнеют. — Она обернулась к бабушке. — Вечером или ночью, если горит огонь, поплотнее закрывайте полог. В Совете так сказали.
В поселке ночами стало совсем темно, потому что в домах все окна закрывались так, чтобы не просачивался свет на улицу. Поселок и тундра на ночь будто умирали. Зато всё чаще, все заунывнее гудели летающие лодки — самолеты. Правда, и раньше гудели в небе самолеты, но было это очень редко, да и пролетали высоко — на них никто не обращал внимания. Теперь же, увидев самолет, летящий очень низко, люди или со всех ног бежали в чум, или падали на землю, пряча голову под кустики карликовой березки, или ложились впритирку к какому-нибудь замшелому бревну, выкинутому когда-то на сушу большой водой. Так делали если не все, то большинство. Мы не знали, что это за самолеты, чьи они, но, когда один из них сел прямо в реку и в нём оказались свои люди из Нарьян-Мара, мы успокоились. Был с ними и ненец Ефрем Выучейский. Он собрал всех в самом большом доме и долго говорил. Была там и мама. Мы с бабушкой, Сандрой и Мехэлкой сидели в чуме. Потом ненец Ефрем ходил по домам и чумам. Зашел он и в наш чум.
— Ну, а здесь, люди, как живем? — сказал он и сразу же шагнул к бабушке, протянул к ней руки. — Здравствуйте, бабушка Анисья! — Он оглядел её. — Не стареете.
— Здравствуй, милый! Здравствуй, Ефрем! Давно тебя не видно, — начала бабушка, разглядывая его. — Как не жить-то? Живем. Как кроты живем: неба боимся и земли. Ночью и огонь прячем…
— Война! — задумчиво обронил Ефрем.
За то, что ночью огонь прячем, Ефрем Выучейский похвалил и наказал, чтобы мы сразу же сообщили в Совет, если встретим кого-то незнакомого.
— Хы! Откуда быть такому? — возразила бабушка. — Война-то — далеко… где большие города.
— Откуда?! — удивленно поднял брови Ефрем. — Море, бабушка, огромное и — рядом оно. Есть такие лодки, что под водой ходят. Появись она здесь — никто не узнает, как сойдут с неё пянгуи. Враг злой. Он, как в ярабцах[27], и к шесту привязанной собаки не оставит в живых. Да и летающая лодка может залететь, хотя люда наши и днем и ночью небо стерегут. Так что в оба смотрите. Родину все должны стеречь!
— Плачут собачки, хозяев зовут, — шептала бабушка. — Спи.
— А почему наша Серка не воет? — спросил я, открывая глаза.
— Зачем ей выть? — слышу я тихий голос бабушки. — Она сердцем чует, что хозяин её, Микул, вернется. Скоро вернется. Не на войне же он. Спи.
— А с воины не возвращаются?
— Спи. Будет день — к отцу пойдем.
Я повернулся на другой бок и, положив руку под голову, стал звать сон, но в этот миг что-то вдруг ухнуло, меня даже как будто бы встряхнуло слегка. Эхо долго катилось не то по земле, не то по морю. Было лишь ясно, что громыхнуло где-то на море. Бабушка сидела и что-то шептала, крестясь. Так она обычно делала при громе.
— Спи, — услыхал я сквозь легкую дрему.
Мне лень было поднять голову, да и язык уже не ворочался. А вскоре, украденный сном, я словно в бездонную яму провалился. Снилось ли что — не помню.
— Ты слышал? — выпалил прибежавший ко мне утром Вася Лаптандер.
Я не сразу понял его.
— Что? — спросил я удивленно. Я больше был удивлен необычным и странным видом Васи. Лицо у него было серьезное, глаза открыты широко.
— Там… на море… Ночью… — начал он сбивчиво и, привстав на носки, описал обеими руками круг. — Громыхнуло-то!
— Слышал. А что?
— Что, что-о! Немцы, наверно!
— Какие немцы? — пожал я плечами.
— Ну, какие? Пянгуи, значит!
— Что ты? Какие пянгуи? — стал возражать я. — Гром! Гром же ночью был! Выстрел из винтовки не так ухает.
— Ух-хает! — скорчил рожу Вася и добавил, уходя: — Сам ты… винтовка! Пушки на войне-то! И мины!
Весь день я думал над словами Васи. На мой вопрос, что это за пушки и мины, бабушка с мамой ничего не могли сказать, потому что они сами никогда не видели настоящей войны.
На другой день утром мы с бабушкой собрались в избушку рыбаков. Несли мы отцу новые липты и две пары новых пимов-бродней из нерпичьей шкуры. Сначала мы шли по сухому высокому берегу. По правую сторону от нас, внизу, в лоскутках бесчисленных маленьких озер широко и ровно, сливаясь вдали с желтеющими песками отмелей, расстилалась лайда — низкая прибрежная равнина, затопляемая весной и осенью большой водой с моря. Мы шли по широкой извилистой тропе, где нет ни травинки, головы кочек выбиты, часто из-под стершегося дерна выступал сухой серый песок с камешками. Я шел, резко печатая шаг, и земля подо мной звенела, будто порожний сосуд. На мой вопрос, почему здесь такой широкой полосой голая земля, бабушка сказала после недолгого молчания:
— Это, внучек, дорога на войну. Вот здесь, по этому месту, все наши люди в солдаты ушли.
Взглянув на бабушку, я кивнул, но ничего не сказал: я не мог спокойно слышать это слово «война».
Вскоре мы спустились на лайду. Огибая бесчисленные озера, повторяя изгибы глубоких лайденных проток, дорога на войну здесь тоже шла широкой извилистой полосой среди густой зеленой травы. Выбитая множеством ног, земля на полосе дороги была темно-коричневой кашей, она чавкала под ногами. Идти было тяжело. Но путь по лайде длился не очень долго. Мы вышли к морскому берегу как раз в тот момент, когда начался отлив. Кошки — затопляемые в прилив песчаные острова — обнажались быстро, и всюду, куда ни взгляни, по темным, ещё мокрым пескам бродили чайки. Нахальные, вечно голодные, они кричали, били друг друга крыльями, кусались, деля отставшую от воды мелкую рыбешку. Мы шли по утрамбованному водой песку. Я шел впереди, пытаясь наступить на убегающее из-под ног отражение солнца в лужах. Брызги летели далеко. Одергивая меня, бабушка что-то говорила, но я не слышал её.
В рыбацкой избе, сморенный усталостью, я лег на нары отца.
— Ты с нами пойдешь. В море. Сети будем трясти, — разбудив меня, сказал утром отец.
8. ПОСЛЕ ШТОРМА
Мы с бабушкой давно вернулись от рыбаков. Вместе с Васей Лаптандером я уже дважды ходил на лайду, но осенняя птица не та, что весенняя или летняя — даже на расстояние крика не подпускает. Теперь беззаботные плавунки стали осторожными: их не то что палкой, но и стрелой не возьмешь. Кулики сбились в большие стаи, вскоре и они исчезли. В теплые края, говорят, улетели. Потом семь ночей и дней бесновался шторм. Выл, стонал и свистел ошалелый ветер. Река, в пойме которой все лето желтели лишь песчаные косы, вздулась так, что заметно потемневшая злая вода плескалась всего в десяти шагах от нашего чума. А ветер всё дул. Крайние дома поселка оказались в воде, но всё это было не страшно: в старых, уже покосившихся домишках давно никто не жил. Эти избушки и землянки собирались ломать на дрова.
За продуктами в магазин мы ездили на лодке, которую мама пригнала из поселка на второй день шторма, когда начало затоплять ровное, широкое место между домами и нашим чумом. По этому мелководью можно было ходить вброд, но были глубокие ямы, вырытые тающими льдами ещё весной. В мутной воде они не видны, а потому было легко оступиться и утонуть.
Вода плескалась везде, где было чуть пониже. Глиняная протока, на середине которой ещё летом мы с Васей Лаптандером увязли в глине, разлилась в могучую белопенную реку. По ней в беспорядке, как тела огромных мертвых рыб, неслись бревна. Те из бревен, которые плыли возле берега, мама с бабушкой ловили тынзеем и тащили на сушу. Особенно усердствовала бабушка. Мне даже показалось, что она печется об этих бревнах больше, чем о еде — так она жадно ловила их!
— Вот оно! Вот! Держи! На одном лишь этом бревне можно месяц жить! Тепло зимой — это прежде всего! — раздавался голос бабушки.
А ветер не утихал. На нашем чуме трепыхались все нюки и полог, стонали, скрипя, шесты, но приземистое, широкое жилище только прижимало ветром вниз, и оно надежно стояло на земле, и даже два тынзея, которые на всякий случай были протянуты от макушки чума к двум железным якорям, висели свободно, они не натягивались и при самых сильных порывах ветра, когда и человека валило с ног, и травы стелились по земле.
На восьмой день, когда ветром свалило несколько узких чумов на горе за поселком, пришла с моря крутобокая большая лодка. В ней было более десятка изможденных людей и один мертвый. Одежда на них была мокрой до нитки. Губы были синими, лица усталыми.
— Кто они? Чьи? — только и слышалось всюду, метались тревожные взгляды, люди пожимали плечами, разводили руками.
— Чьи они — эти люди? Свои? Чужие?
Большая толпа стариков, женщин и детей долго не расходилась.
— В море всё возможно, вода и ветер не шутят, — роняли тихо одни.
— Свои, не свои — люди! Коли в беде — надо помочь, — вторили им другие.
— Свои, конечно! Враг не так идет. Враг, он ходит тайком, по-воровски! — заметил Паш Миколай, поглаживая большую сивую бороду. Ушедшими под морщины глазами он прошелся по лицам стоявших рядом и улыбнулся: — Так я говорю?
— Может, и верно.
— Так, конечно!
— Так, Паш Миколай. Так!
— Как не так-то? — Паш Миколай переступил с ноги на ногу. — Хищный зверь и подыхая зубы кажет, а пянгуй, он ведь прежде всего черным глазом винтовки зыркнет, свинцом плюнет! Это нынешний пянгуй.
— Свои, — сказала уже вечером собравшимся в большом здании поселка людям женщина из тундрового Совета, которая еще летом приходила в наш чум, и добавила, заметно понизив голос: — Штормом выброси-ко на кошки бот. Это все, кто выжил. Погибли люди и пропали продукты, что на зиму везли к нам. — Она помолчала в раздумье и снова начала: — Продукты — ладно: на остатках запаса да на мясе и рыбе протянем до зимы, когда санные пути откроются. А вот людей-то жалко! Ехали к нам на этом боте две учительницы, чтобы школу у нас открыть, да вот… доехала только одна. — Она взглянула в окно, потом на сидящих в зале, и заявила решительно: — А школу мы всё равно откроем. И в срок откроем!
Море дыбилось ещё несколько дней. Ветер к утру заметно стихал, но с полудня снова набирал силу. Рыбаки вернулись в поселок лишь после того, как ветер подул с горы. Они вернулись с семужьей путины и сразу же стали ловить неводами омуля и нельму прямо в нашей реке, где с уходом большой воды снова начали обнажаться кошки.
Женщины все дни пилили дрова, складывали их в поленницы. В одной из комнат большого дома пятеро женщин босыми ногами месили глину, а русский старик Канев делал из нее угловатые камни, обжигал их на огне. Он обжигал эти камни до тех пор, пока они не делались красными. Все ребята поселка и чумов помогали взрослым.
— Это зачем столько дров? Куда они? — спросил я у Васи.
— Зачем дрова? — замер он с широко открытыми глазами. — Зима-то долгая. Без дров мы всю школу заморозим.
— Школу… — слетело у меня с языка.
— Да-да, школу! — повторил Вася. Он посмотрел мне в глаза: — Ведь учиться-то, небось, тоже пойдешь?
— Пойду. А что?
— Вот и готовь себе дрова, чтобы зимой не окоченеть.
— А народу в школе много будет?
— Много должно быть.
— Сто?
— Больше! — сказал Вася и показал на дома и чумы. — Смотри, сколько домов и чумов. У всех ребята есть. А сколько ещё людей из тундры приедет!
Соглашаясь, я кивнул и начал складывать дрова, Вася тоже взялся за полено.
День был хмурым, потому что солнце уже давно не показывалось из-за туч, но отчетливо виднелись дали. Ветер после недавнего шторма где-то спал, притихшая земля покоилась в раздумье. В шорох травы под ногами вплетался едва уловимый шелест далекого прибоя.
9. БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА
— Верно говорят, что лето в тундре — короче куропачьего шага, — сказал утром отец, когда я лениво ворочался на мягкой постели после крепкого сна. — Вот и «белые комары» полетели!
— Комары!.. Белые!.. — я уставился на отца, как глупая нерпа. Потом меня как ветром сдуло с постели — босой, я стоял на холодной земле и жадно ловил ладонями большие, пушистые снежинки, тихо падающие с неба, тающие на ладонях и на лице. Снежинки лохматили белым пухом травинки и паутину ветвей еле заметного на земле кустарника, а на самой земле они таяли. Было весело и светло на душе. Уже дважды появлялась из-за полога голова матери, мать звала меня в чум, но я не мог оторвать взгляд от снега, который широкими хлопьями валился с неба на меня и тундру.
— Ну, Василей, каково? Кусаются «белые комары»? — ища что-то взглядом возле себя, спросил отец, когда я вернулся в чум.
Я взглянул смущенно на свои босые ноги, вытер их лежавшим на конце лат лоскутом серого сукна и в два прыжка очутился на оленьей шкуре, лежавшей около костра на латах пелейко. От ворса и тепла пламени ступни мои заныли — точно их покалывали сотнями игл. Потом стало тепло и приятно — я словно в пуховую яму провалился. Глаза мои сами закрылись — было стыдно, в ушах, кажется, всё ещё звенел голос отца: «Ну, Василей, каково? Кусаются «белые комары»?» И мне отчетливо вспомнился тот далекий летний день, когда я с расспросами об этих «белых комарах» долго приставал к бабушке и матери, а они говорили: «Поживем — увидим». Теперь было смешно и чуточку обидно. «Безмозглый! — ругал я себя мысленно. — Как это я сам-то не мог догадаться, что это — снег! Обыкновенный снег!»
— Снег, — сказал я. — Это снег!
— Снег, — отозвался отец. — Первый снег пошел, но это ещё не снег: его к полудню не будет. — Отец, улыбаясь, поглядывал на макодан. Потом сказал: — Вот и солнце выглянуло. Оно, брат, знает своё — не потеряло ещё силу! Но скоро, очень скоро и настоящий снег пойдет.
Когда мать убрала посуду и стол, распахнулся полог и с сумкой в руке вошла в чум белая женщина со светлыми, как марэй-трава[28], волосами.
— С добрым утром! — сказала, она и встала на конце лат.
— Торова! — сказал отец. — Хороший день!
— Здравствуйте! — отозвалась мама и показала на лукошко, стоявшее на латах возле костра: — Садитесь. Гостьей будете.
Белая женщина села. Всматриваясь в нас, она то моргала большими синими глазами, то терла их руками.
— Дымно, — заметила бабушка.
— Да нет. Темновато что-то в чуме с улицы, — сказала она и снова заморгала. Потом она улыбнулась, обнажив красивые белые зубы, среди которых два или три сверкнули огнем — точно горящие угли во рту держала. — Ну вот и всех вижу.
— Дело какое… али так? — поинтересовался отец,
— Учительница я. Детей буду учить.
— Хо-о! — выдохнула бабушка. — Тахаби то![29]
— Том[30], — быстро ответила та по-ненецки, взглянув на бабушку, потом на отца. — Александра, — она уронила взгляд на бумагу, — Лёдкова… девочка… здесь?
— Ни, — сорвалось у меня с языка. — Лёдков янгу — Паханзедава[31].
— Здесь, — сказала быстро мама.
— Дочь наша, — добавил отец.
Белая женщина взглянула на меня и улыбнулась. Потом она царапнула по бумаге острым концом красной палочки и сказала:
— Воля ваша: будьте и Паханзеды, но по бумаге она — Лёдкова.
— Да-да, верно: Лёдкова, — подтвердил отец и взглянул на Сандру, которая лежала возле меня, уткнувшись лицом в подушку. — Вон она лежит.
— Вижу. Но бояться меня не надо — не кусаюсь, Я только детей в школу собираю. Дня через два учебу начнем.
— В школу?! — удивленно всплеснула руками бабушка и добавила глухо: — Зачем девке школа?
— Мама! — отец строго посмотрел на бабушку, потом взглянул на Сандру. — Дети пусть учатся. Тундре умной надо быть.
Бабушка обернулась к отцу потемневшим лицом, но ничего не сказала.
— Надо так надо: пусть идет в школу, — согласилась мама. — Без грамоты и днем на земле темно.
— Пусть идет, — подтвердил отец.
— А я?! — меня возмутило, что нет речи обо мне.
Белая женщина взглянула на бумагу, что держала в руках, потом на меня. Сказала:
— Тебе, Вася, ещё рановато.
— Как так — рановато?!
— Так: в школу берем только с семи лет, — белая женщина смотрела на меня ясными синими глазами.
Я пожал плечами, но дороги слову моему не нашлось, хотя мне было страшно обидно, что Сандра идет в школу, а я…
Так вставало моё далекое розовое утро.
Шла осень 1941 года. А дальше — другой разговор,
Лакамбой![32]
БЕЛЫЙ ЯСТРЕБ
1
Стойбище в сто пятьдесят чумов, которое, как стая присевших на отдых гусей, сгрудилось в низине возле Семиголовых сопок хребта Яней, огласилось собачьим лаем. Вестники добра и зла лаяли, выли, огрызались, заглушая все иные голоса, смех и крики детворы. Случилось это утром после ночи, когда солнце впервые за лето ушло за спину моря, зажглась на небе первая звезда, сгустились сумерки и землей овладели тени.
— Что случилось? — вертели головами люди, вскакивая спросонья. — Почему лают собаки?
— Беда?! — испуганно открывали глаза другие.
— Какая беда! — презрительно и меланхолично слышалось в ответ. — Какой-то нищий вэнодэтта объявился. Пешком пришел. Мяса оленьего захотел, рыбоед!
— Как не мяса-то?! Рыба — поперек горла ему!
— Дал бы нам. Оленье-то мясо — как зола во рту!
— Страшное чудовище на море объявилось, все живое — людей, оленей, птиц — огнем пожирает, чумы и дома — точно огненным языком слизывает. На месте становищ и стойбищ лишь угли и золу ветер ворошит. И привязанной к шесту собаки не оставляет живой, — уже носилась по стойбищу тревожная весть. — На Холгове, Матке и Долгом[33] и живой души не осталось. Чудовище идет к Варандэю, откуда сегодня утром пришел Пар-Федь. Вчера его — берегового ненца-вэнодэтту — послали сюда прибрежные люди, чтобы собрать народ тундры и всем вместе напасть на это страшное чудовище. «Любой народ, — говорит Пар-Федь, — если он сожмется в кулак, — непобедим, потому что он за землю отцов и дедов стоит, родину защищает. Народ — не единичные лодки морских охотников, рыбаков, не раздробленные становища и стойбища. Так всегда думали все, кому дорога родная земля, богатая рыбой, зверем и птицей, без которых человек в тундре — что снежинка на зимних равнинах». Так сказали Пар-Федю наши остроголовые[34], а он это передает нам.
* * *
По стойбищу текли толпы людей к чуму Делюка, которого давно уже никто не звал этим именем, потому что у него было более звучное и яркое имя — Белый Ястреб. Так называли его между собой и мал и стар во всех стойбищах и становищах.
Между пустыми нартами и горбатыми вандеями, угловатыми ларями и пузатыми юхунами, застывшими на месте, бойко и шумно, толкаясь и обгоняя друг друга, мельтешили ребятишки, степенно, с достоинством вышагивали мужчины, шли, точно плыли, волоча по земле подолы нарядных паниц, девушки и женщины, точно утки вразвалку, семенили старухи. Все они возле чума Делюка сливались с толпой, которая с каждым мигом становилась всё больше.
Белый Ястреб внешне был спокоен. По крайней мере это так казалось, хотя все нутро у него кипело, теснили грудь тревожные мысли. Зато заметно волновался Пар-Федь: рослый, сухощавый, белоголовый молодой ненец с большими серыми глазами, он ходил торопливо вокруг пустой нарты, нервно ломая за спиной пальцы рук. Ни Белый Ястреб, ни Пар-Федь ничего не говорили, даже не глядели друг на друга, будто один для другого не существовал вообще.
Когда хвост стекающегося к чуму людского потока слился с волновавшейся на месте толпой, Белый Ястреб сказал:
— Все?
— Все, должно быть, — донеслось в ответ тихо, но ясно.
— Страшную весть принес к нам Пар-Федь, — сказал Белый Ястреб. — Послушайте его самого.
Пар-Федь поднялся на нарту. Волнуясь, он долго ощупывал взглядом толпу, будто не знал, что сказать.
— Какой это ненец! — толкнул соседа локтем Някоця Валей. Овальное лицо его заметно расширилось, блеснули широкие зубы, плоский и низкий нос, точно нос угрожающего из капкана песца, сморщился, узкие глаза сделались ещё уже. — Волосы-то у него, смотри, волосы-то — точно стебли прошлогодней травы-марэй, белые! А глаза будто озера. Синие!
— Тише! — толкнул в бок Някоцю Валея сосед. — Будто белого ненца никогда не видел. Няравэй![35] Не зря ведь их так называют. Как оленей. По масти.
— Люди! — заговорил Пар-Федь. — Не по своей воле пришел я к вам. Меня из становища Варандэй послали ненцы, которые считают вас братьями. Сказали они — так думаю и я, — брат брату помочь должен в беде. А беда большая, страшная беда пришла: на Холгове, Матке и Долгом потухли костры. Огонь погубил огонь. Море всегда нас кормило и одевало, но беда пришла именно с моря. Не сказочная морская рыба, которая харабли[36] вместе с людьми глотает, а двуногие белые хищники напали. Нор Ге — так они себя называют. Похожи они на людей — глаза, ноги и руки есть, даже свой язык у них есть! — но не по-человечески делают: сжигают дома и чумы, отбирают пушнину, рыбу, морской зуб и оленей, а людей или убивают, или в брюхо своей харабли бросают и увозят. Это не то, что лесные санэры[37], угоняющие у нас только оленей! Нет! Весь берег и все острова плачут от этих… то ли Нор Ге, то ли Пир-раты… Люди Варандэя мне сказали, что только вместе мы сможем остановить этих злых пришельцев. Другого выхода нет. Лучше гордо пасть в бою, чем безропотно запылать на костре или быть увезенным неведомо куда. Русский царь даровал нам эти земли навечно,[38] чтобы были у нас меха, мясо, рыба, которые можем менять на хлеб, масло, сахар, соль, железо, а эти морские разбойники отбирают всё. И мало того: кто не согласен с ними, или увозят, как я уже говорил, или вешают при всем народе на видном месте, чтобы другие боялись. — Пар-Федь оглянулся вокруг, постоял некоторое время в раздумье, будто сбился с мысли, и снова заговорил: — Морское чудовище сейчас где-то возле Варандэя. Надо торопиться. Вчера с Медынского Заворота пришли семь человек и рассказали, что видели на море большие паруса. Были они ещё на спине моря, но ясно, что они идут к берегу. Люди на Медынском разобрали чумы и поселились в расселинах скал, разломах торфа, чтобы и признаков жизни не было видно. А неделю назад приплыл с острова Долгий охотник Сянда Пырерка с семьей. Прячась за скалами Зельнецов, им удалось отплыть ночью. Пырерки видели, как пылали на острове летние избы и чумы, слышали какой-то грохот.
— Нор Ге или там… пир-ры… это люди? — расширив узкие глаза, спросил Някоця Валей.
— Не слышал, что ли? — покосился на него Гриш Вылка, стоявший рядом.
— Люди, злые люди! — сказал Пар-Федь.
— Человек разве может безвинного человека убить просто так? — не унимался Някоця.
— Они, эти пришельцы с моря, всё могут. Не тундровые это люди. Чужие. Свои у них нравы и понятия, — опережая Пар-Федя, сказал Белый Ястреб. — Когда земли мало, а людей много, всё возможно.
От удивления люди зацокали языками, толпа заволновалась и загудела, как прибой в тихую погоду. Все были согласны, что братьям, если они в беде, надо помочь. А ненцы, как ни говори, братья между собой ещё от рождения жизни на земле, в тундре. «Да и много ли на этих белых просторах черноглазых?!» — часто слышалось, как упрек и оправдание, в одиночных чумах и многолюдных стойбищах, если речь заходила о самозащите, необходимости единения для борьбы с любым врагом.
В полдень из стойбища в разные стороны полетели двести упряжек. Они понесли весть о нагрянувшей беде: с моря пришли какие-то разбойники, которые сжигают жилье, убивают или увозят людей, отбирают оленей и пушнину, берут всё, чем живет человек. Если ненцы не встанут дружно против общего врага, потухнет в тундре последний костер и род ненецкий больше не будет жить на земле. Это будто бы понимали и упряжные олени: они бежали, как бы паря над землей, лица ездоков секли мелкие кусочки дерна, и хлестала болотная жижа из-под копыт. Упряжки летели в соседние стойбища, чтобы поднять людей на бой с врагом, коварным и злым.
Не остался в чуме и Белый Ястреб. Обгоняя ветер, его упряжка неслась к чуму Игны Микиты, с кем, как и со своим другом Сэхэро Егором, он иногда делал набеги на тучные стада хозяев тундры — неннцев-многооленщиков и лесных санэров, которые, случалось, угоняли оленей и самого Белого Ястреба, если его не было на стойбище. Легендарен он, Белый Ястреб. О нём, как могучем и всесильном человеке, говорит вся тундра. Может, это и так? Белый Ястреб…
* * *
Олени бежали дружно, и Белый Ястреб редко вспоминал о хорее. Нарта покачивалась на кочках, как маленькая лодка на озерных волнах, по обе стороны упряжки и впереди, как бы танцуя — вверх-вниз, вверх-вниз! — в такт оленьим рывкам, покачивались острые пики хребтов Яней и Надер. Осенняя, слегка побуревшая тундра то хмурилась под низкими, нагруженными дождями облаками, то весело озарялась под лучами выглянувшего вдруг солнца Лэхэ — солнца людей из рода Лэхэ, улыбающихся очень редко, но озорно и от души.
Всем сердцем, всем своим существом Белый Ястреб понимал, что многие жители тундры настроены к нему враждебно, боятся его, но долг сына земли заставлял его ехать к людям, потому что он верил: общая беда заставляет забыть все мелкие раздоры, семейные ссоры и межродовую вражду.
«Нор Ге… Нор Ге… — лихорадочно думал Белый Ястреб. — Что это за звероподобные, жестокие люди? Кто они? Откуда? О пиратах я много слышал в поморских селениях ещё ребенком. Может, это те же самые пираты? В наших местах я и краем уха не слышал о таких… Нор Ге… И в языке у нас, да и в русском, на котором заговорил я чуть ли не раньше родного, вроде бы нет такого слова?.. Но кто бы они ни были, они — пянгуи! Враги! А душа у любого пянгуя — черна, как осенняя безлунная ночь. Добро не носят пянгуи. Пар-Федь прав, что любой народ, если он соберется вместе, — непобедим. А тундра наша и так немало сыновней крови видела, и не все пянгуи головы свои уносили. Земель без хозяев нет!..»
Олени бежали легко, дружно, упряжка то ныряла в низины, то взлетала на пологие холмы, откуда открывались глазу бескрайние равнины Пярцора и Надера, испещренные большими и малыми лоскутами озер самой причудливой формы. С горы это видно как на ладони. Белый Ястреб невольно погрузился в думы. Он мысленно кочевал по пройденным уже дорогам, воскрешая в памяти свои набеги на стада жирных, как турпаны, многооленщиков. Он всей душой презирал богачей за их наглость, лоснящееся самодовольство, высокомерную тупость и невежество, кажущиеся им же самим чуть ли не примером достоинства настоящего человека. И владея какой-то непонятной даже себе силой воли, Белый Ястреб смеялся над ними, смотрел на них свысока, а иногда нарочно издевался, гордясь своим превосходством над ними, умом и властью.
На самом высоком холме Белый Ястреб остановил упряжку, чтобы дать оленям отдохнуть. А те, напав на красноватый горный ягель, тут же уткнулись носами и уже не могли оторвать их от сухой, обветренной шкуры горы. Натянулись до звона тягла постромок, заскрипели полозья.
Белый Ястреб встал, отошел от нарты саженей на десять и стал обшаривать взглядом равнину Пярцор. Тут же увидел он внизу на равнине похожее на разостланную шкуру оленя озеро Нилкатей. Это озеро Белому Ястребу, которому давно перевалило за тридцать, забыть не дано, потому что на берегу этого озера он еще юношей, когда был просто Делюком, впервые ощутил таинственную силу своей воли. Всё началось с того, что Сэрако, отец Делюка, вконец обедневший ненец, в разгар знойного лета упустил на ветер своих тридцать оленей. Стадо ушло на рассвете, когда сын его Делюк, прободрствовавший всю ночь, уснул на взлете дня, и вылетевший овод угнал оленей.
— Ты что это, безмозглый, бока отлеживаешь? — услышал Делюк свирепый голос отца и почувствовал тупой удар в спину. — Где олени?!
Делюк открыл слипающиеся веки и увидел, как расплывчатая тень перед ним обратилась вдруг в отца.
— Где олени?! — спросил сердито отец и пнул в голову тупым носком пима. Отец сказал ещё что-то, но сквозь звон в ушах Делюк не расслышал что, а голос отца напоминал теперь вой.
Пошатываясь, Делюк встал, огляделся и кивнул в сторону низкого, поросшего ивняком берега реки Пярцор:
— Тут были.
— Были! — прохрипел зло Сэрако. — Беги за оленями и без них не появляйся! Сам, этими руками, — он протянул к лицу сына скрюченные пальцы, — задушу!
Делюк видел перед своим лицом большие, узловатые руки отца, которыми он всю свою сознательную жизнь процеживал сквозь сети воды озер, рек и моря, чтобы выжить, прокормить себя и семью. Он из последних сил тянул лямку невода, махал лиственничными веслами на заработках у поморов на побережье, не раз ходил с русскими промысловиками поваром на паях или проводником на Колгуев и Матку, бывал и на Груманте.
Сын ничего не сказал отцу, лишь повернулся лицом к ветру и пошел, веря, что угоняемое оводом стадо в поисках прохлады и покоя может уйти только в горы. И не ошибся: во второй половине дня набрел на оленей, лежавших спокойно на донном снегу малого каньона хребта Надер, куда за все светлое лето не заглядывает солнечный луч. Оленей он нашел, но на отца обиделся. Сильно обиделся. Ему казалось, что он никогда в жизни не простит его за оскорбления, побои, и в горячке, не раздумывая, нарисовал на мокром снегу изображение отца, семь раз обошел его против хода солнца и остервенело ткнул ножом в то место, где у отца должно быть сердце. В тот же миг у Делюка кольнуло в груди, внутри у него точно что-то оборвалось, тело обдало холодом. Делюк не придал этому значения, он лишь усмехнулся своему нелепому поступку, потому что не верил предрассудкам и поверьям, которые казались ему глупостью, детской игрой. Но когда вместе с оленями вернулся к свйему чуму, увидел страшную картину: вытянувшись, подавшись угловато грудью вверх, отец лежал на земле возле своей пустой нарты, а рядом, в слезах, с искаженными в испуге лицами, стояли на коленях его мать и жена. Поодаль от них, вытягивая шеи, широко открытыми глазами испуганно смотрели на них двое младших братьев Делюка.
Делюк сразу понял, что случилось непоправимое: отец ушел в мир теней и призраков, откуда возврата нет и куда бегут дороги всех живых.
Как окаменелый, он застыл на месте, не в силах оторвать от земли ног. Лицо у него стало бледным, глаза открылись широко, слезы не капали, как бывает у женщин, — текли беззвучно вовнутрь, обжигая тело до кончиков пальцев повисших безвольно рук. «Неужели это я… я убил отца?!» — в испуге думал Делюк, проклиная себя. Памятью зрения, как наяву, снова увидел на снегу изображение отца с воткнутым в сердце ножом.
— Нет! Не может бьпь! — чуть ли не крикнул он вместо шепота и, не помня себя, очутился возле плачущих женщин и неподвижного огца, лежавшего на траве. — Как? Как это случилось?! Как он ушел?!
— Ушел, — сказала мать Делюка, Санэ, поднимая полные слез глаза.
— Вижу, — обронил тихо Делюк и переступил с ноги на ногу.
— Шел вот здесь, между санями, и упал — снова заговорила мать Делюка. — Упал и больше не всгал.
Подняла испещренное глубокими морщинами, мокрое от слез лицо и Тадане, бабушка Делюка, и сказала с выдохом — будто выдохнула из себя последний воздух:
— Кость сердца, видно, сломалась с горя-то… Олени, он думал, ушли навсегда… — Старуха помолчала и добавила: — Легко ли было ему растить их?! За каждым, как за малым человечьим дитем, ухаживал…
Делюк уронил голову на грудь. В такой позе он стоял долго, но так и не сказав ни слова, пошел молча в чум. Не нашлось дороги слову и у женщин.
2
Делюк весь день пролежал в чуме, ни с кем не разговаривал, в голеве метались разные думы, и спать он не спал. За оленями, стоявшими привычно в загоне, время от времени приглядывала Санэ. Да и малые братья не без глаз, они тоже смотрел за оленями. Бабушка Тадане почти не отходила от покойника, только изредка забегала в чум, чтобы выпить ковш воды, и снова шла к усопшему, всё ещё лежавшему на траве. Что она там делала — никто не видел. Так было три дня. Три дня старая женщина молча лила слезы возле недвижного сына. Младшие братья Делюка, если они были в чуме, сидели тихо, забившись почти к основаниям шестов, прижимаясь друг к другу, поблескивая яркими белками больших глаз. В сумеречности приумолкшего чума, освещаемого сверху слабым светом макодана, сверкали только две пары глаз, а темных лиц их не было видно. Если Делюк всматривался в них долго — всё его тело холодило, становилось жутко, потому что, казалось, смотрят на него не братья, а самые настоящие чертенята. Он брал лежавший на углу тюмю[39] кремень, высекал огонь, зажигал свитый из лоскута старой сети шнур сальника, и чум наполнялся бледным, красноватым светом. Озаряясь, ребячьи лица как бы всплывали из темноты, становились ближе, сияние белков их глаз тускнело, но зато на округлых стенах чума оживали тени. «Опять нелгдно!» — мысленно ворчал Делюк, всматриваясь в тени братьев.
Мать раздувала на железном листе огонь, и в чуме становилось светло и тепло. Ребята и сам Делюк вылезали из малиц, подсаживались ближе к огню. Мальчики что-то говорили шепотом между собой, Делюк молча смотрел на прыгающие языки пламени, думал о чем-то, а мать хлопотливо возилась то с котлом, то с чайником. Бабушка Тадане не заходила в чум, она сидела возле покойника. Голоса её не было слышно и никто не знал, чем она занята, потому что ребята и Санэ боялись выходить в наступившую уже темень. Делюк тоже не выходил, хотя он не боялся покойника. Он думал. Думал и не верил, что неужели он, Делюк, надежда семьи, на самом деле является убийцей отца. Наконец он не выдержал и спросил у матери:
— Когда, в какое время ушел отец?
Мать, не ожидавшая такого вопроса, занятая своими думами, встрепенулась, стала хвататься за всё, что лежало и висело перед ней. Сказала:
— Когда солнце полдень миновало.
По времени это как раз соответствовало моменту, когда Делюк проткнул ножом изображение отца на снегу.
Делюк набрал полную грудь воздуха, затаил дыхание и сказал вместе с выдохом:
— Нда-а…
В чуме молчали все, и лишь, как олени после бешеного бега, дышало шумно пляшущее пламя костра.
3
С трудом переставляя ноги, высунув длинные розовые языки и вытянув вперед кривые рога, олени тащили на гору воз досок, вытесанных Делюком из плавника на берегу моря. Особенно тяжело было оленям на песчаных склонах облысевших холмов.
На четвертый день после смерти отца положили в гроб и повезли на одну из безымянных сопок хребта Пярцор. Здесь сын прибил гроб отца к четырем столбам на высоте полутора саженей от земли, на изогнутой из ольхи дуге над изголовьем подвесил колокольчик, чтобы веселее было в загробном мире, сломал и сложил под гробом хорей, сани, оставил тут же изрезанную одежду, помятую жестяную чашку, разобранную на части тасму — широкий мужской ремень с медными пуговицами, медвежий клык, служивший талисманом.
— Живи, отец! Вечной жизнью живи! Не знаю, сколько ещё ходить мне по грешной земле, но жди меня без обиды и зла. Я не хотел тебе сделать больно. Пусть встреча наша будет безоблачной! — как можно громче, чтобы слышали небо, земля и дух отца, сказал Делюк и стеганул передового упряжки вожжой вдоль спины.
Олени рванули в галоп. Делюка от толчков нарт на кочках трясло, подкидывало вверх и с силой бросало вниз. Он через левое и правое плечо кидал назад звенья бронзовой цепочки от своей тасмы. Это он делал для того, чтобы задобрить дух отца, который не сможет перешагнуть через священный металл и не сможет уподобить себе живого ещё сына.
За Делюком неслись упряжки Санэ и Тадане, на нартах у которых сидели его братья. Ребята бронзовые цепочки своих таем бросили разом, как было велено, а Саиэ и Тадане сыпали под нарты щепотки молотого табаку, потому что Сэрако нюхал его, и на том свете, думали они, ему тоже нужен будет табак.
Уже в чуме, чтобы окончательно задобрить дух отца, Делюк по всем правилам жертвоприношения вздернул на тынзее лучшего вожака упряжки Сэрако. Кости оленя будут потом собраны и отвезены вместе с рогатой головой на священную гору Крутая, почитаемую людьми из рода Паханзеда. Из этого рода был и сам Сэрако.
Так попрощался Делюк с отцом, которого побаивался, потому что тот при жизни был крут характером, и которого всё же любил, как сын, трепетно и нежно, подражая ему во всём, даже говорить старался, как отец — неторопливо, глуховато, растягивая слова, напевая носом сонорные звуки.
Время потекло незаметно. Вильнула хвостом осень, ускакала. А зимой, когда Делюк приехал на могилу, чтобы поговорить с отцом, как это обычно делают все ненцы, он глазам не поверил: столбы наполовину были занесены снегом — это на голой-то, обдуваемой всеми ветрами сопке! — боковая доска гроба была выбита, а внутри не было ни тела, ни костей.
— А-а-а-а! — крикнул он, хватаясь за голову, побежал к саням, гикнул на оленей и помчался прочь.
— А-а-а-а!..
Ему казалось, что его отчаянный крик всё ещё повторяют глубокие русла спящих рек и овраги зычным эхом.
Делюк размахивал хореем, а в ушах всё ещё стояло: «А-а-а!»
Олени бежали так, что казалось, вот-вот выскочат из собственных шкур — будто за упряжкой неслась стая волков. Шумел встречный ветер, секли лицо летящие из-под копыт комья снега, но Делюк ничего не слышал и не чувствовал. Лишь в чуме он заметил, что тело его покалывает иглами и почему-то дергается левая щека.
— Что с тобой, Делюк? Что случилось? — спросила его мать, глядя в лицо настороженно.
— Ничего, — решил успокоить её Делюк.
— Как — ничего? Лица на тебе нет! Всё оно… как мырый[40], бледное! — не отставала мать.
— Мырый… — повторил тихо Делюк, опускаясь на край оленьей шкуры. Потом он откинулся на спину и долго лежал на постели, глядя на макодан, низко паривший над ним огромной голубой звездой. Но вот он сел и не сказал, а крикнул: — Отец убежал!
От страшных слов Делюка, казалось, задребезжали шесты. Санэ так и села на лукошко, стоявшее возле неё на латах. У неё точно язык отнялся. Потом всё же нашлась и спросила:
— Убежал?!
— Убежал… — сказал Делюк уже спокойно и развел руками: — Гроб пуст! Ни тела, ни костей!
— И костей нет… Вот грех-то! — говорила Санэ, а сама думала: «Что же это такое? Как могло случиться? Может, Сэрако ещё жив был? Спал?»
— Черное тело не убежит, — в гробовой тишине вновь умолкшего чума раздался глухой голос Тадане. — Росомаха, наверно, поработала… Злая росомаха лапу приложила. Такое с покойниками бывало и раньше. А там… песцы, вороны, чайки… Хватает их! Им ведь всё равно, что есть… Кого есть…
— Как — росомаха?! — недоумевал Делюк. — Зверь не достанет гроба, а зимой ворон и чаек нет!..
— А на что у росомахи когти? Она по деревьям не хуже медведя лазит, — не отступала Тадане.
— Да и к чему росомахе труп? Зверья всякого, мышей, птиц полно в тундре, — сказал Делюк, подумал молча и, усомнившись в своих же словах, пожал плечами: — Так-то, может, и так, но где кости?!
— Снегом замело, — уверенно сказала Тадане.
— Снегом, — повторил машинально Делюк, подумал и согласился: — Может, и так…
4
Ночью распахнулся полог, и в чум кто-то вошел. Делюк сел на постели, но при лунном свете, заполнившем дверную половину чума, он ничего не разглядел.
— Кто? — спросил он тихо. — Кто пришел?
— Я, — отозвалась пустота.
Голос этот Делюку показался очень знакомым и близким. Он протер глаза и, всматриваясь в темноту, снова спросил:
— Ты? Но… кто ты? Я не вижу тебя!
— И не увидишь, — сказала пустота голосом отца и после недолгой паузы спросила строго: — Где моё тело?!
На Делюка пахнуло холодом, он весь покрылся липким, маслянистым потом, тело до кончиков пальцев занялось ноющей болью.
— На хребте Пярцор… На средней вершине, — сказал Делюк и тут же вспомнил, что сегодня он не нашел там тело отца.
Полог распахнулся и снова закрылся.
«Дух отца?!» — подумал Делюк и, не раздумывая, выбежал на улицу.
— Я знал, что выйдешь, — сказала пустота голосом отца. — Пойдем!
«Куда пойдем?» — хотел спросить Делюк, но вместо этого обернулся на голос, ничего не увидел, даже признака живого не почувствовал рядом. Спросил:
— Где ты? Я не вижу тебя.
Он боялся произнести слово «отец», потому что знал, что отца нет в живых.
Тишина долго молчала. Но вот шагах в семи от себя при лунном свете Делюк увидел на снегу тень, похожую на тень куропатки, парящей над землей.
— Иди за тенью, но ближе семи шагов не подходи, — сказала пустота, и тень заскользила по снегу.
Делюк только сделал шаг — и вот уже в ушах у него запел ветер. Он вроде бы идёт шагом, а почему-то быстрее мысли побежали назад заструги, кочки и кустики ив. «Что это со мной?» — подумал Делюк и в тот же миг очутился рядом с разбитым гробом отца. Вдруг в семи шагах от гроба заскрипел и разбился сугроб, взметнулась высоко снежная пыль. Поднялось что-то вроде человека. Делюк пригляделся. Поднявшийся призрак точь-в-точь был похож на отца, но был прозрачным, воздушным, сквозь него виднелись и снег, и дальние сопки, и полоски ивняка на склонах гор.
«Отец!» — хотел крикнуть Делюк, но язык у него точно к нёбу прилип. Он пригляделся ещё внимательнее и понял: тот стоит к нему спиной и даже не пытается взглянуть на него.
— Идем дальше, — сказал призрак голосом отца и зашагал прямо, куда смотрел.
«Идти или не идти?» — подумал Делюк, а ноги уже пошли.
Делюк шел против своей воли, не чувствуя под собой земли. От встречного ветра теснило в груди, перехватывало дыхание. Осталась позади снежная кромка земли, промелькнули торосы, и вот уже призрак и Делюк идут по ровному широкому припаю. Впереди, приближаясь с каждым мигом, показалось живое море. По нему перекатывались тяжело зеленые от луны волны. Не замедляя шага, призрак ступил прямо в воду, и вода сомкнулась над ним.
На кромке припая ноги у Делюка остановились. Он стоял и тупо смотрел в воду, где только что скрылся призрак.
Молчало море, молчал и Делюк. Да и что он мог сказать? Но вот перед ним, в семи шагах от него, пошли по воде круги, и тут же показалась усатая голова белой нерпы. Она поиграла, перекатываясь с волны на волну, будто говоря: смотри, мол, какой у меня белоснежный мех! Потом уставилась в лицо Делюка своими круглыми глазами.
— Сын мой, — заговорил зверь голосом отца, — прости меня. Иного пути возврата в подсолнечный мир у меня не было. Ждать, когда снова появлюсь на свет младенцем, долго, много веков надо ждать. Потому я и согласился стать нерпой. Теперь я ухожу навсегда в море, но через каждые семь лет в день моего ухода в мир теней и призраков буду появляться у вашего берега. Захочешь увидеть меня и поговорить — приходи на этот берег Талого моря. — Нерпа высунулась из воды до половины, кивнула круглой головой: — Прощай! Я уже никогда не буду человеком. Стал я нерпой лишь потому, что мне очень хотелось выйти на свет под животворные лучи доброго солнца. Уйди я из жизни своей смертью — такого случая мне бы не представилось. Прощай! — Белая нерпа ещё раз кивнула и, скатившись по волне, скрылась под водой.
Делюк долго стоял на кромке припая, тайно ожидая, что, может быть, нерпа ещё покажется, но её не было. Лениво перекатывались перед Делюком зеленоватые от луны глубинные волны моря и лопались на полированном разломе кромки припая.
Делюк так и не дождался появления нерпы, а когда подумал о чуме — увидел себя сидящим на постели. Была ещё ночь. Звенела в ушах тишина. Спокойно спали мать, бабушка и двое братьев, а на нежилой половине чума тускло поблескивали сходящиеся в макодане шесты.
— Хфу-у! — устало выдохнул Делюк и тряхнул головой: — Что это? Сон? Явь?
Чтобы убедиться, не сон ли это, он ущипнул себя в щеку и едва не крикнул от боли.
«Сон, конечно!» — решил он, откинулся на подушки, уже обметенные инеем, зарылся с головой под меховое одеяло и стал засыпать. Но сон не шел к нему. Делюк лежал с закрытыми глазами, стараясь ни о чем не думать, но им овладевало странное состояние: казалось, что от него отделяется душа, становясь как бы двойником, и оба они, тело и душа, начинают вдруг то расти до таких размеров, что и чум мал, то наоборот — делаются маленькими, как былинка. Делюк испугался, попытался сесть, но не смог: руки и ноги не слушались его, не поднималась голова. Тогда он стал открывать глаза, но и они не открывались. «Что за чертовщина? Что со мной?» — подумал он и услышал над собой нежный, прозрачный звон. И странно: глаза у него закрыты, а он видит, что по шесту напротив его головы медленно спускается золотой пензер[41] с прозрачными, как весенний лед, бубенцами…
«Это мне? — мысленно спросил Делюк. — А на что он мне?»
Переливался в тишине нежный звон бубенцов.
Делюк потянулся к повисшему над собой пензеру, рука на этот раз послушалась, но не дотянулась. Он стал приподниматься, но над ним раздался в тишине голос:
— Это тебе, но не торопись, Белый Ястреб.
— Белый Ястреб?! — удивился Делюк. — Это… почему же — Белый Ястреб? Отец и мать дали мне имя Делюк.
— Белый Ястреб! — отрезал голос из темноты. — Отныне ты Белый Ястреб!
— Почему?
— Сам узнаешь, — ответил тот же голос, и Делюк скорее почувствовал, чем увидел, что пензер упал ему на колени. Но когда он сел и открыл глаза, ни пензера, ни темноты не оказалось: брезжил рассвет, стекая через макодан в чум.
«Странное что-то происходит со мной!» — возмущенно подумал Делюк, но тут же забылся…
* * *
— Где он? Где? Ведь здесь был, только что здесь был. — Делюк ползал на четвереньках по одеялу, бормоча. — Здесь! Только что здесь был!.. Золотой пензер!
Тадане развела руками и втянула голову в плечи. Потом она долго смотрела на внука, который торопливо шарил руками по одеялу, крутясь на месте, наконец не выдержала и сказала тихо:
— Что-то не то, внук, говоришь… Какой это пензер? Такого у нас и в роду не было.
— Да здесь он был, пензер! Золотой!
Старуха засмеялась.
— Да очнись же ты. Проснись!
— Разве это сон?! — Делюк удивленно потрогал руками голову, грудь, окинул взглядом чум. — Я вовсе не сплю. Давно не сплю.
— А что ищешь?
— Пензер, говорю!
Старуха всплеснула руками, потому что даже нужного слова не могла найти, а сама подумала тревожно: «А ведь он в оболочке родился! Не беда ли нагрянула, а?»[42]
— О-хо-хо! — засмеялась Санэ. — Пензер потерял, которого не было!.. Ещё и говорит, что не спал!
«Был! Здесь он был!» — хотел возразить Делюк, но, усомнившись, промолчал, стал озираться вокруг. С глаз у него будто сошла пелена, от которой всё казалось в тумане.
— Может, и сон, — сказал он тихо и стал натягивать пимы.
Потом ещё дважды видел Делюк золотой пензер, повисавший над ним сверху. Он каждый раз падал ему на колени и исчезал. На седьмые сутки, перед рассветом, он снова услышал знакомый звон и голос:
— Белый Ястреб, ты трижды видел золотой пензер. Он — твой, но в руки твои он не попадет. До поры, конечно. Не отчаивайся. Точно такой же, но обычный пензер, ты должен сделать из шкуры белого менурэя[43], которого ты принесешь в жертву жителям верхней земли. На горе Хурт-вой они тебя давно ждут.
«Хурт-вой?» — задумался Делюк, услышав название священной горы, наконец догадался, в чем дело, и крикнул:
— Так вот оно что!
— Что, сын мой? — моргая спросонья, спросила Санэ.
— Что, внучек? — спросила и бабушка Тадане, ворошившая на железном листе потухшие угли, чтобы раздуть костер.
— Ничего, — сказал он и по-ребячьи озорно нырнул с головой под теплое одеяло.
Он не совсем поверил услышанному, стал придирчиво ощупывать себя, но ничего особенного не нашел, потому что, как все смертные, он был простым, обыкновенным человеком, крайне бедным: тридцать оленей — не богатство, на них едва-едва можно перевезти на новое место свой чум и при этом часть саней каждый раз надо подвозить на второй заезд.
«Коли так, то ладно, — продолжал думать Делюк. — Оленьего дитя мне не жаль. Принесу его в жертву богам на священную гору Хурт-вой, чего бы это ни стоило. Но… белого менурэя? Где мне его взять?! В моем стаде, правда, есть два белых оленя, но далеко не менурэи — старые, заезженные быки. До менурэев ли, если в дни кочевий все тридцать оленей вместе с важенками и нялуку[44] запрягать приходится… Может, всё же завести в стаде менурэя? Ведь когда ещё родится белый олень! Потом ещё лет пять-шесть надо растить его, холить, смотреть на него, как на святого, когда и так некого запрягать в грузовые нарты. Так и вся жизнь пройдет!»
Наскоро одевшись, Делюк почти бегом выскочил на улицу, убеждая себя вслух:
— Чем же не менурэи дикие олени?! Есть же белые и среди них!
Он с ходу залетел в загон, где стояли олени, вывел на вожже пять оленей березовой масти — он на них обычно ездил в гости, — привел их к нарте и стал запрягать.
— Делюк, братик наш, в гости, значит, поедем? — спросил вдруг один из маленьких братьев-близнецов, прятавшийся от другого возле нарты Делюка.
Делюк, не ожидавший такого, стоял в растерянности, глядя молча на празднично озаренное лицо брата, который мысленно гостил уже в чьем-то чуме, потому что брат, если он запрягал эту пятерку, брал с собой и его, и Ябтако. Но Делюк опомнился и сказал:
— Нет, Ламдоко. Не поедем в гости. Сегодня я один поеду. Далеко поеду.
Светившееся как бы изнутри лицо мальчика стало темнеть, будто солнце на небе заволакивало тучами. И Ламдоко сказал:
— Далеко, так ладно. Потом поедем.
Ламдоко тут же метнулся в сторону и скрылся за соседним вандеем, потому что в двух шагах от них, как бы вынюхивая что-то, вкрадчиво ходил Ябтако.
Дети играли в свои игры, а занятый известными только ему мыслями Делюк торопливо запрягал оленей.
5
Пять оленей березовой масти не нуждались в хорее. Делюк лишь по привычке взмахивал им, но ни пелеев[45], ни вожака упряжки не трогал. Он ехал наугад, надеясь встретить дикого оленя и, конечно же, белого, потому что каждый «дикарь» — тот же менурэй, ибо дикие олени ещё никогда в жизни не видели лямки. Белого — таково условие владельца голоса, который говорит с Делюком утрами от имени жителей верхнего мира. Но где они, дикие олени? Легче ветер поймать на просторе, чем «дикаря»! Он за несколько повёрд[46] запах человека и домашних оленей учует и — был таков!
Но возле озера Лисьего Когтя Делюк увидел стадо чьих-то оленей. Большое стадо. «Ехать или не ехать к нему?» — подумал он и все же дернул на себя вожжу, олени резко метнулись влево, и он поехал. Как положено, он поздоровался за руку со всеми тремя пастухами, и спросил:
— Стойбище Игны Микиты не скажете где?
— Не очень близко и не так далеко, — сказал усатый маленького роста пастух с черными, маслянистыми глазами, блестящими озорно из-под толстых красноватых век. Было видно, что он провел в стаде ночь и ещё не спал.
Делюк понял насмешку и сказал, чтобы не молчать:
— Не дальше, конечно, предела оленьих ног?
— Верно, — согласился второй пастух, человек лет пятидесяти, роста среднего, скуластый, широколицый. — Три дня назад Игна Микит стоял чумом на устье левого притока Садо. Там, видно, и сейчас, если не съямдал[47]. Да и далеко ли уйдешь с аргишами?
— Та-ак, — певуче обронил Делюк, как бы прикидывая, сколько придется ему ехать, и, взглянув на пасущееся стадо, увидел белого менурэя. «Он!» — крикнула его душа, но язык промолчал. Грузный, могучий олень — это было видно по его осанке — с нарочитой ленцой переставлял сильные ноги, наклонив голову под тяжестью ветвистых рогов. Земля под ним будто прогибалась.
— Давно я не видел Игну Микита, — говорил Делюк, лишь бы не выдать своего волнения, а сам мял ногами болотный мох, невольно стреляя глазами в сторону белого менурэя.
— Как с Яхангары откочевали в прошлом месяце, я тоже не видел его — не встречались, — сказал третий пастух с широко расставленными глазами на темном выгоревшем лице. Он ещё до сих пор не вступал в разговор.
Делюк стоял и думал, а белый менурэй так и лез в глаза, а, может, и наоборот — сам Делюк невольно тянулся к нему глазами. Он весь напрягся, не зная что и делать, о чем говорить. Оцепенение, казалось ему, затягивалось безмерно. «Вот бы уснули!» — мелькнула у него мысль, будто кто-то его подтолкнул, и ему очень захотелось, чтобы все три пастуха сейчас же уснули. Но тут же стал упрекать себя: «Глупо так думать. Очень глупо!» Но какая-то внутренняя сила против воли снова заставила его подумать: «Усните! Сейчас же усните все трое! Усните и забудьте всё! Забудьте, что видели меня!» Он очень хотел, чтобы все трое уснули. И Делюк не поверил своим глазам: ноги у пастухов стали подгибаться. Сначала упал один, потом — другой и третий. Глаза у них закрылись, и все трое захрапели. Делюк испугался и крикнул:
— Что с вами?
Те молчали и, дыша ровно и глубоко, сопели носами.
Делюк совсем испугался, но, увидев снова белого менурэя, тут же пришел в себя. Он несколько раз перевел взгляд то на спящих пастухов, то на белого менурэя, который будто нарочно красовался перед его глазами, и пошел к своей нарте. Вынув из-под амдера тынзей, собранный ровными кольцами, он перекинул его с руки на руку, отвязал узел и стал собирать для ловли. И вот уже вскоре, подняв высоко большие розовые рога, могучий олень со связанными ногами лежал на нарте. Делюк ещё раз подошел к спящим пастухам, потрогал каждого тупым носком пима, но те спали беззаботно.
— Спите, люди. Спите, — сказал он и поехал.
Мерно покачиваясь на мохнатых от травы и карликовой березки кочках, упряжка неслась обратно к чуму. Напрягая волю, Делюк думал о том, чтобы пастухи забыли всё, что с ними случилось, и временами поглядывал на белого менурэя, который, раздувая розовые ноздри, смотрел на Делюка отчужденно.
6
— Делюк белого оленя нашел! Белого оленя! — озорно подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, Ябтако бежал к чуму, чтобы сообщить новость.
— Нашел, конечно, — усмехнулся Делюк и невольно взглянул на белого менурэя, который лежал на нарте со связанными ногами.
Как бы выражая недовольство, тот отвел взгляд в сторону.
— Ах ты какой гордый! На хозяина своего похож! — не удержался Делюк, и перед его мысленным взором возникла знакомая ещё с детства островерхая сопка Хурт-вой с маленьким круглым озером на вершине, и будто наяву он увидел надменные лики узколицых ненецких богом — сядэев.
— Пензер! Золотой пензер! — сами по себе шептали губы, и Делюк метнулся к вандеям, где хранились все святыни его чума.
Он прошел вокруг вандея по ходу солнца, сдернул сыромятные ремни, которыми были опутаны лежащие друг на друге оленьи шкуры, достал вонючую шкуру ласки и возвратился к нарте, где с гордо поднятой головой лежал белый менурэй. Делюк подошел к нему. Он трижды провел вокруг его шеи вонючей шкуркой ласки, вытащил из обшитого медью чехла на тасме шиловидный нож и воткнул его в затылок оленя. Тот резко откинул назад голову, упал и, судорожно вздрагивая, затих.
Душа у менурэя ушла в небо…
7
Делюк много раз видел настоящий пензер в руках знаменитых шаманов, но никогда не касался его рукамии. Он знал, что надо натянуть, распялить на вересковый обруч оленью шкуру, освобожденную от меха и высушенную. Но как это сделать? Одно дело видеть пензер, другое — сделать его своими руками! И сделать так, чтобы он был похож на тот, золотой, который утрами падал на его колени сверху и тут же исчезал. «Может, это был сон?» — снова, сомневаясь, спрашивал себя Делюк, а руки его методично полоскали в теплой воде шкуру белого менурэя, чтобы освободить от шерсти. Третью неделю возился он с этой шкурой. Не пустовал и ненасытный семейный котел. Санэ дважды в день наполняла его до краев жирным мясом мецурэя, варила, а за едой они аккуратно собирали все кости и клали их в замшевый мешок, чтобы потом вместе с рогатой головой увезти всё это на священную гору Хурт-вой.
Всё вроде бы шло как надо, но Делюка донимала тревога: он боялся, что могут обнаружить пропажу, хотя в его чуме вообще никто не появлялся. Это казалось странным и в то же время душу его щекотало любопытство: неужели не обнаружили пропажу? Почему молчат пастухи? Ведь они же видели его, а он, Делюк, усыпил их. Неужели они ничего не рассказали? Делюк не верил тому, что пастухи не помнят о его приезде, а потому он сторонился людей: не ездил в соседние стойбища и чум свой разбивал в низинах между сопками (благо, что дни были осенними: не было ни оводов, ни комаров, ни мошкары), в лощинах под коренным берегом рек, на плешинах между мелкоярником в неглубоких каньонах, куда не проникал сторонний глаз.
И всё же, когда уже был сделан пензер и отвезены на гору Хурт-вой голова и кости менурэя, Делюк решил наведаться в стадо, откуда украл оленя. Ехал он нехотя, сердце и разум протестовали, но его гнало любопытство, которое на этот раз оказалось сильнее воли. А может, и наоборот — упрямая воля его подгоняла? Всё могло быть.
В стаде были не те пастухи, на дежурстве у которых Делюк украл белого менурэя. Встретили его приветливо.
— Давно что-то не видно тебя, Делюк! Какому доброму ветру кланяться, что ты опять у нас? — добродушно спрашивал его широкий в кости ненец с кривыми ногами.
«Откуда они меня знают? — всполошился не на шутку Делюк. — Не они, вовсе не они тогда были! Впервые, вовсе впервые я их вижу. Значит, всё известно!»
— Пастбища смотрел, да вот оленей ваших увидел, — таинственно улыбаясь, сказал Делюк и подумал: «Неужели ещё не знают о пропаже?!»
— Наших! — зло усмехнулся стоявший чуть подальше пастух, рослый, стройный, мало похожий на ненца, и, переступив с ноги на ногу, добавил: — Были бы нашими!..
«Были бы нашими!» — эхом отдалось где-то в самой глубине души Делюка. Напрягая волю, он насупил брови, вытянутыми пальцами левой руки коснулся лба, думая, что бы сказать им, но промолчал, хотя от его взгляда не ускользнули насторожившиеся лица собеседников. «Всё знают они… Хитрят!» — решил Делюк и почувствовал, как лицо его обдало жаром.
— Горе какое у тебя или немочь? — вплотную подошел к нему кривоногий, заметив, как Делюк изменился в лице. Он взял Делюка за рукав малицы и с любопытством заглянул в глаза.
— Да нет, — смущенно отвернулся Делюк, пряча глаза, но в нем вспыхнула вдруг обида и на свою растерянность, и на бесцеремонное любопытство пастухов, которые, как показалось ему, смеются над ним, и уже в следующее мгновение он прошелся тяжелым, режущим взглядом по удивленным глазам собеседников. «Спите! Сейчас же усните! Усните!» — напрягая волю и не шевеля даже губами, молил он мысленно. «Спите!» — повторил еще раз. Теперь в этом своем желании он больше убеждал себя, и тут один за другим пастухи вдруг упали, растянулись на земле, раскидав безвольно руки.
Полуприсев, Делюк от удивления хлопнул себя по коленям ладонями, засмеялся громко, и ему показалось, что его раскатистый смех повторило эхо.
— Не чудо ли это? А? — расплываясь в довольной улыбке, Делюк не то спрашивал себя, не то удивлялся безвольности пастухов, и тут же его осенила мысль: «А что если десятка два-три оленей угоню? Чем я хуже Игны Микита или Сэхэро Егора, которые тем и живут, что чужих оленей угоняют?!»
Делюк подошел к спящим пастухам, хотел повернуть набок, но не решился и сказал:
— Спите! Крепко спите! И забудьте всё, что слышали ваши уши и видели глаза!..
Пастухи спали, а тридцать пять оленей, подгоняемые резвой упряжкой Делюка, неслись по холмистой тундре, как облако по штормовому небу. Делюк ехал, улыбаясь своим мыслям, но время от времени всё же оглядывался назад: нет ли погони? Под голубым высоким небом тундра лежала спокойно в своей обычной меланхолической задумчивости. Нет, никто не гнался за Делюком, даже никто не думал об этом, хотя сам Делюк серьезно опасался, потому что тридцать пять оленей — не один олень: не скоро угонишь их в котел, да и, кроме того, в его чуме в любое время мог появиться посторонний: откуда олени? А в тундре многие знают, что у Делюка всего лишь тридцать оленей.
Тадане настороженно встретила внука:
— Что ты, Делюк? В лямку Сэхэро Егора запрягся? Откуда пригнал оленей? Чьи они?
— В тундре нашел. В туман, видимо, откололись от чьего-то стада, — хитро щуря один глаз, соврал Делюк. — По клейму на ушах двух оленей догадываюсь, что они когда-то Сядэю Назару принадлежали. А теперь они — мои.
— Вэй-вэй! Грех-то какой! — как бы отталкиваясь руками от груди внука, Тадане стала отходить назад. — Сейчас же гони обратно! Скорее! Богач увидит и подумает, что ты их украл. Гони обратно! Не суйся глупой куропаткой в петлю греха!..
— Э-хэ! — усмехнулся Делюк. — Как бы не так! Кому нужны олени — пусть сами забирают. Я от своего чума никуда не погоню оленей. Не для того я их сюда гнал!..
— Грех так делать, внучек! И люди все от тебя отвернутся, — глухо сказала бабушка, потемнев лицом.
— Я, бабушка, не боюсь греха. И людей не боюсь, — насмешливо отозвался Делюк и начал распрягать упряжных.
Старуха махнула рукой, отвернулась и пошла в чум. Она больше не показывалась. Не высовывала носа и мать. А Делюк торопливо клеймил оленей и раскаленным железом обжигал края срезов на ушах. Это он делал для того, чтобы не текла кровь и чтобы срезы на ушах животных казались старыми, если кто-то сегодня или завтра взглянет на клеймо.
Угасал медленно день, просто погружался в сумерки. На стойбище было уже всё спокойно. Волоча за жабры щуку, которую, видимо, поймали в речном омуте, возвращались в чум Ябтако и Ламдоко. Довольные небывалой удачей, они ничего не замечали вокруг. Вдвое увеличившееся стадо мирно разбредалось по пастбищу. Делюк гордо поглядывал на оленей, а памятью зрения, как наяву, он снова видел спящих на земле пастухов. Губы его кривила самодовольная улыбка.
8
— Ямдать, пожалуй, надо… Сегодня же, — сказал Делюк после горячего утреннего чая.
В тундре слову хозяина стойбища обычно не перечат, его решение окончательно и сомнению не подлежит.
Женщины быстро убрали посуду и занялись разборкой чума. Делюк вместе с братьями возился с постромками возов. Но вот стоявший возле брата Ябтако открыл широко глаза и, запрыгав на месте, крикнул:
— Вэй, Делюк, смотри: оленей-то у нас вроде больше стало! — И заявил уже решительнее: — Конечно же, больше!
— Выросли, видно, за ночь, — ответил Делюк, не поднимая головы. — А может, из тундры пришли. Разве плохо, если у нас оленей больше будет?
— Я ещё вчера заметил, что оленей у нас больше стало, — деловито сказал Ламдоко.
— Хорошо, если больше оленей! Лишь бы не уменьшалось стадо, — осторожно вмешался Делюк, чтобы ребята прекратили не к месту затеянный разговор.
Ябтако и Ламдоко действительно перестали толковать об оленях, но вдруг залаяли собаки. Делюк поднял голову и увидел, что из-за ближнего холма вынырнула упряжка. За ней в отдалении виднелись вторая, третья, четвертая.
— Всё! Началось! — сказал себе под нос Делюк, перебирая руками постромки. Ребят рядом уже не было.
Упряжки летели на полном скаку, неотвратимо приближаясь с каждым мигом. Делюк лихорадочно думал, как быть. Он то поглядывал на упряжки, то на пасущееся недалеко стадо, и не было сил оторвать как бы вросшие в землю ноги. Стадо теперь уже было поздно угонять на скрытое от глаз место.
— О! Опять здорово, Делюк! Давно я тебя не видел! — вскочив с нарты, пошел к нему с вытянутой для приветствия рукой Игна Микит и кивнул в сторону голого остова чума: — Ямдать, вижу, решил?
— Надо, — ответил лениво Делюк и, подавая руку, подумал: «Миновала гроза!»
Делюк вздохнул легко, недавнее напряжение как рукой сняло, но радость была преждевременной: вслед за Игной Микитом бросили на землю свои хореи и вожжи сам Сядэй Назар, известный по всей Большой земле богач, и два его взрослых сына.
Сердце у Делюка забилось пойманным воробушком и заныло, заметно побледнело лицо и губы сжались. Он невольно взглянул на стадо, потом — на Сядэя Назара и его сыновей. Старший Сядэй, хозяин семитысячного стада, был явно спокоен, он важно вышагивал к Делюку, протягивал руку с открытой ладонью для приветствия. Делюк опять посмотрел на стадо, потом — на Сядэя Назара и сказал:
— День правильно идет… Далеко ли?
— Да вот, сухари в лавку ушли.
От радости у Делюка заныло все тело. «Не знает!» — кричала душа. Он сейчас и сам не знал, о чем у него мысли. А когда унялось волнение, Делюк снова распрямил плечи, в нём снова ожила уверенность в себе.
— Лавка есть лавка: от неё далеко не уйдешь. Ведь и олень за ягелем сам ходит, — улыбаясь слегка, мудро насупил брови Делюк, а сам думал: «Мне ли рассуждать об оленях. Стадо-то моё… раз дунул — и нет! И то половина уворована. И у кого? У Сядэя Назара!»
— Ум твой правильно ходит и язык верно говорит, — согласно закивал Сядэй Назар, подумал о чем-то и спросил в упор: — Оленей у тебя много?
Делюк будто в бездну провалился, но внешне остался спокойным, у него ни один мускул не дрогнул на лице.
— Шестьдесят пять пар рогов, — чтобы не соврать, сказал Делюк и показал жестом руки на свое стадо — смотри, мол, если глазам своим не веришь…
— Шестьдесят пять… Не густо, но всё же — олени. — И тут же спросил: — Сколько тебе ещё нужно оленей? Чтобы… ну, вольно себя чувствовать?
Делюк заволновался, выражение обычно спокойного его лица на этот раз стало меняться в каждое мгновение: оно то краснело слегка, то бледнело, на спинке заметно побелевшего носа выступили бисеринки пота. Всего этого Сядэй Назар не видел: он внимательно рассматривал разбредающееся по пастбищу стадо, а может быть, считал для большей убедительности поголовье. Делюк напрягал до предела волю, подавлял в себе волнение. Когда все же успокоился немного, сказал:
— Хватит мне оленей… Не очень-то много у меня и скарба — все на десяти-пятнадцати санях укладывается. Больше, пожалуй, и не надо — кочевать тяжело.
— Десять-пятнадцать саней… — вслух рассуждал Сядэй Назар. — Это уже достаточно для кочевой жизни. Но оленей-то ещё двести не мешало бы.
Делюк долго мял ногами болотный мох. «И дай! Ну дай же!» — думал он молча, а вслух сказал:
— Смеешься?
— Смеяться — просто! — ершисто отозвался Сядэй Назар, переступил с ноги на ногу. — Люблю я простых людей. Простых. Открытых. Вот съезжу в Варандэй, и ещё двести оленей, считай, твои. Приезжай: я отколю от своего стада.
— Жизнь у меня коротка, — не замедлил с ответом Делюк, смутившись, как ребенок. У него даже уши загорелись.
— Живи хоть сто лет, — задумчиво обронил Сядэй Назар, тоже смутился и добавил: — Ты, Делюк, нравишься мне, как твой отец. Чем? Не знаю. Простотой… Добротой. Но сказанного уже я не люблю повторять. Живи, как жил, как тебе нравится, и не считай себя в чем-то обязанным. Я тебе только добра хочу.
Делюк посмотрел на Сядэя Назара подозрительно, подумал: «Не на петлю ли аркана своей хитрости ты меня ловишь?» Потом сказал:
— Олень долго растет.
— Олень-то да, долго растет. И человек — не быстрее. Но человек думает, а олень?!
Делюк долго думал и наконец сказал:
— Не бывал я в силке…
Густые рыжеватые брови Сядэя Назара взметнулись кверху, широко открылись его большие, серые, водянистые глаза.
— Ты и не птица!.. Не заяц!.. Не лось!.. — в сердцах он будто бы высекал каждое слово. — Не нужна мне твоя шея. Ноги и руки твои я не думаю связывать. Да и нужно ли? Ты мне просто по нутру: нравишься.
— Жизнь, она многоструйна, — вздохнул Делюк. — Похожа на ручьи, сбегающие с гор… А если честно? — сверлящими бусинками зрачков больших черных глаз Делюк уставился в лицо богача.
Тот невольно отвел глаза в сторону.
— Что сказано, то сказано: полозья не катятся задом наперед, — сказал Сядэй Назар, всем видом показывая, что разговор окончен. — Своему слову я никогда не изменяю.
— Верно, что язык твой не сучковат, — ответил тихо Делюк, убедившись в искренности слов Сядэя, и почувствовал себя как бы надежно вросшим в землю. Он гордо поднял голову, смерил взглядом Игну Микита, Сядэя Назара, двух его сыновей и сказал: — Солнце не с вечера встает. Верю.
— Надо верить. Без веры — плохо, — ответил Сядэй Назар, глядя на голый остов чума, и добавил: — Пожалуй, надо ехать. С висячим языком дорогу не сделаешь короче.
— Огонь ещё жив, — спохватился Делюк. — Горячего мясного отвара выпейте на дорогу.
— Ехать надо, — сказал Сядэй Назар, пожал руку Делюку, направился к своей нарте и, взявшись за хорей и вожжу, добавил добродушно: — Живы будем, будем видеться. Бывай и у нас в гостях.
Дробный топот копыт и глухой шум от толчков нарт на кочках угасал на просторе, а Делюк стоял в растерянности и думал: «Уловка?.. Проверяет?.. Или… вообще ничего не знает и про белого менурэя, и про тридцать пять оленей?..»
Тундра молчала. Высоко в лазури катилось солнце. Всё на свете покоилось в нарочитой безразличности ко времени, к людям и ко всему живому.
— Так и должно быть, — сказал почему-то Делюк и пошел к своей дежурной упряжке, чтобы пригнать стадо.
9
Шире моря, шире неба буйно плещется заря… Не преграда мне и горы, и широкие моря. Всё на свете мне подвластно, будет всё, что захочу, — быстроногим горностаем я всю землю обскачу, —в чуткой предутренней тишине Тадане услышала голос внука. Он пел чисто, внятно, как бы вычеканивая каждое слово. Тадане никогда в жизни ещё не слыхала такой песни и так ладно поставленного голоса. Старуха замерла, слушая внука.
— В голубое поднебесье белым ястребом взлечу-у, —пропел Делюк и сбился на речитатив, слова его стали глотать хвосты предыдущих, речь превратилась в сплошной гул. Тадане встревожилась.
— Что с тобой, внучек? — не выдержала она. — Спишь?
Делюк молчал. Потом он почмокал губами, повернулся на другой бок и затих. Сидевшая в недоумении Тадане задумалась: «Родился-то он в оболочке! Неужели беда? А? И в роду-то у нас шаманов не было… А если он и, правда, шаманом делается — надолго ли затянется болезнь, сумасшествие?! А ведь его не все выдерживают — кто на всю жизнь остается калекой, кто погибает, бросаясь с обрыва, кто тонет… Хорошо, если нервы крепки и воля сильна. А если нет?»
Утро вваливалось в чум по макодану. Тадане думала. Она думала о внуке, у которого уже должно начаться помешательство ума. Но могла ли она знать, что самый критический момент у Делюка уже позади. Это по его вине умер отец, которого Делюк любил не меньше матери и бабушки. Любил самозабвенно. Это он ходил за тенью отца, который превратился в белую нерпу и ушел в море. Да, это была явь, похожая на сон. Делюк и думал, что это был не сон, потому что он своими глазами видел опустевший гроб отца, сам усыплял пастухов, когда украл белого менурэя, а потом угнал тридцать пять оленей. Делюк верил в это и не совсем верил, а потому, проснувшись уже, он снова ущипнул себя за щеку и крикнул от боли:
— А-а-а!..
— Вот и началось! — сказала испуганная Тадане так, что все проснулись.
Делюк сел и спросил:
— Что началось?
— Ты не спишь? — спросила старуха и тряхнула головой: — О! Как всё это похоже на правду! И странно, что всё похоже и на сон.
— Ты это о чем, бабушка? — спросил Делюк, протирая глаза.
— Страшный сон мне приснился.
— Сон так сон. Чего тревожиться?
— Я и не тревожусь, внучек. Но… страшно похоже всё это на правду.
— Та-ак, — согласился Делюк и добавил задумчиво: — И сны бывают вещими.
— Не говори так внучек: страшно!
— Не надо верить снам, — сказал машинально Делюк, а сам задумался: «Если бы не сон, так откуда бы я нашел белого менурэя? А? А белый менурэй дал мне тридцать пять оленей и ещё… двести! Теперь хоть на человека стал похож!»
— Я не всегда верю снам, но они очень часто бывают похожи на явь, — сказала бабушка, как бы убеждая себя в верности своих мыслей.
— И пусть похожи! Но жить в сумеречности снов нельзя, — заявил деловито Делюк и стал надевать малицу.
— Э! Внучек! Что с тобой?! — хватаясь за голову, крикнула Тадане. Ей показалось, что на постели вместо внука сидит белый ястреб! Она часто заморгала.
Чум огласил гортанный ястребиный крик, и птица вылетела на улицу через дыру макодана.
Тадане не поверила этому, она протерла глаза, взглянула ещё раз на постель внука — она была пуста. Старуха выбежала на улицу и увидела: внук её, низко склонившись, перебирал постромки своей нарты.
Тадане почти бегом подошла к нему.
— Далеко ты, Делюк, собрался? — спросила она, сдерживая волнение.
— Пастбища надо посмотреть, — ответил спокойно Делюк.
Тадане стояла и думала: «Показалось, видимо. Почудилось, что внук ястребом вдруг стал!»
Делюк перебирал постромки.
Над тупыми вершинами дальних сопок катилось красное утреннее солнце.
10
Делюк не все понимал, что с ним происходит в последнее время, но явственно осознавал, что стал он не тем, кем был ещё полгода назад. Он не помнил того, что утром вылетел через дыру макодана белым ястребом, чем и всполошил бабушку. Ему казалось, что он просто вышел, как все, через полог.
Недоуменная Тадане тоже ничего ему не сказала, она отвернулась и пошла в чум. Санэ вообще ничего не видела и не слышала. Ребята спали. «Может, мне самой всё это почудилось или приснилось?» — растерянно думала Тадане, поглядывая то на Санэ, спокойную, флегматичную, как всегда, будто ничего не случилось, то на спящих ребятишек, то на пустую постель внука.
Старуха села молча на латы и углубилась в свои, известные только ей, мысли. Санэ на это не обратила никакого внимания. Да и что особенного в том, что пришла с улицы бабушка?
Когда Делюк вернулся в чум, на железном листе весело прыгало пламя костра. Пахло вареным мясом. Это тошнотворно отдалось в горле, и он сказал:
— Рыбки бы.
— Хорошей рыбы нет, а щуку собаки съели, — подняла голову Санэ.
— Хо! Щука разве рыба?! — искренне возмутился Делюк, потому что в роду Паханзедов ни щуки, ни налима люди не едят. Не-едят и Пырерки, считающие себя самыми близкими родственниками щуки.
— Фу, какая гадость! — услышав разговор о щуке, презрительно повела носом и Тадане — урожденная Пырерка.
— Вот сегодня я и поеду за хорошей рыбой, — нашелся Делюк, всё утро думавший, куда бы ему поехать, чтобы развеяться на просторе от непонятных даже ему самому дум, которые преследовали его со дня смерти отца,
— Хорошей рыбки неплохо отведать, но где её поблизости найдешь? — вставила Тадане, лишь бы не молчать, потому что она всё ещё думала о том, почему же ей показалось, что внук её утром вылетел через дыру макодана белым ястребом.
— Озер и рек, что ли, мало? — удивился Делюк и добавил задумчиво: — Только вот чем её, эту рыбу, взять?
— Одну-две рыбины можно и застрелить, — как бы рассуждала Тадане. — Отец твой на речных перекатах часто гольцов и хариусов стрелой брал.
— Хфу! Хариус! — презрительно сморщил лицо Делюк. — Тоже мне… рыбу нашла!
— Тиной, конечно, пахнет, — оправдалась Тадане.
— И не только тиной! — возразил Делюк. — Эти живоглоты друг друга едят!
В чуме долго молчали, только монотонно гудело пляшущее пламя костра.
— Суп остынет, — сказала Санэ, чтобы прервать затянувшееся молчание.
— Да, — спохватился Делюк и выпил всё содержимое деревянной чашки, в которой суп и вправду остыл. Он облизнул верхнюю губу и сказал: — Олень тоже, как рыба. Даже лучше. Сытнее.
Тадане и Санэ усмехнулись.
— Мясо, видите ли, лучше. А сам только что по рыбе стонал! — заметила мать.
— Рыба не бегает и рогов у неё нет, — насупив брови, сказал деловито Ламдоко.
А Ябтако засмеялся:
— Олень зато в воде не живет. Вот!
Это вызвало дружный смех, и Делюк согласился:
— И то верно. А рыба не летает!
— Она и не птица! — сказал Ябтако, сконфуженно схватился за лоб и заявил: — А кто знает! Может, и рыба летает?
— Всё возможно, — согласился Делюк, потому что он часто видел, как на водопадах прыгали гольцы и семги, и всё же возразил: — Я лично летающих рыб не видел, а вот прыгающих — да. Это осенью, когда по горным рекам валит вверх голец и семга.
— Я тоже видел, — сказал Ламдоко.
— И я! — подтвердил Ябтако.
— Это все должны видеть, — сказал Делюк, и вопрос оказался исчерпанным, потому что нити разговора больше некуда было разматываться.
Затихший чум будто задумался. Было очень тихо. В сумеречной тишине потухали последние угли костра.
— Вот так, — прерывая молчание, сказал Делюк и начал вставать. — Я всё же поеду: пастбища посмотрю да, может, рыбы доброй найду.
Ему никто не стал возражать.
11
Делюк ехал по увядающей от осенних ветров тундре. Он ни о чем не думал. Олени шли шагом, понурив головы, будто хотели спать. Да и Делюк клевал носом после утомительных цветных сновидений.
Но вот нарта закачалась, потому что пошла кочкарная тундра, мохнатая и пружинистая от карликовой березки. Делюк лишь поднял голову и в тот же миг с ужасом увидел, как средний пелей из пяти упряжных рухнул в затопленную водой трещину, которую под ветками стелющихся березок не было видно. Делюк спрыгнул с нарты, подбежал к оленям, глядя на среднего пелея, повисшего между остальными четырьмя, с единственным желанием вытащить его, но олень покачался в воде и сник. Задушенный постромками, он был мертв.
— Вот тебе и… рыба! Добрая рыба! — развел согнутые в локтях руки Делюк, выхватил из обитого медью чехла нож, отсек постромки мертвого и упряжку с четырьмя оленями вывел на ровное место. Потом он подошел к мертвому оленю, встал возле ямы, в которой смиренно лежал пелей, покачал головой: — Так и человек. Живет и сдохнет, не зная, где, когда и как…
Делюк не стал много раздумывать, он резко повернулся и пошел к нарте, считая, что задушенный олень — не еда, а в его постромки живого оленя нельзя запрягать, потому что касались их руки смерти.
И на четырех оленях до большого водопада реки Надер Делюк ехал недолго. Он ещё издали увидел на островерхой сопке над водопадом сидящего, как гурий, орлана, который и без слов говорил, что идет рыба.
Делюк не ошибся: шла семга. Громадные рыбины то и дело выпрыгивали из омута на высоту почти пяти человеческих ростов вдоль белых струй падающей воды, как выстреленные из лука, и степенно плыли дальше по мелководью в горы, чтобы совершить чудо рождения жизни в спокойных, чистых водах озер Надер.
— Рыба тоже хочет жить, — сказал задумчиво Делюк, выхватил лук и выстрелил в большую рыбину, которая медленно виляла перед ним по мелководью. — Одну-то можно убить. Ни зверь, ни птица не жалеют её, — добавил, как бы оправдываясь, и невольно взглянул на сидящего на сопке орлана. — Царь птиц не дремлет!
Насквозь пронзенная стрелой рыбина лежала на нарте, и Делюк, довольный и счастливый, ехал в чум и убеждал самого себя вслух:
— Человеку много ли надо?
И тут случилось то, чего Делюк не мог предположить: из-за мелководной горной реки Пярцор навстречу ему на большой скорости летела упряжка. Ездок хлестал оленей длинным хореем по упругим спинам, привстав на полозе. Так обычно ездят или на оленьих гонках, или в самых критических случаях, спасая душу. Вскоре показались ещё три упряжки, ездоки кричали и размахивали хореями, угрожая, рассыпая брань и проклятия.
«Погоня!» — догадался Делюк, тронул хореем пелеев, стеганул вожжой вдоль спины вожака упряжки, и олени дружно перешли на машистую рысь. Нарта запрыгала на кочках, Делюка затрясло, а рядом, под амдером, как живая, забилась мертвая сёмга.
Делюк одной рукой придерживал рыбину, а сам видел, как упряжка, за которой гнались, на полном скаку перелетела через реку, взметнув высоко брызги, ездок остановил оленей уже на другом берегу, привязал быстро вожжу к заднему левому копылу нарты, так же быстро сломал на колене, хорей на две половины, чем немало удивил Делюка, и основанием хорея, которое с копьем, стал ковыряться в воде возле берега. Он не видел, как подъехал к нему Делюк, потому что копался в воде и, часто поднимая одну только голову, смотрел за реку, где уже показалась первая из трех упряжек погони. Вслед за ней летели на бешеной скорости и две другие.
Делюк пожал плечами, поглядел на замершего у воды человека, перевел взгляд ещё раз на упряжки погони, до которых было тысячи три саженей, спросил:
— Э! Что это ты делаешь?
Человек у воды резко повернулся к Делюку, выставив перед собой обломок хорея с копьем, которое холодно блеснуло обоими лезвиями. Делюк узнал в нём Сэхэро Егора, о котором ходили по тундре легенды о том, как он угоняет у богачей и лесных санэров оленей. На темном от злости лице Егора ярко блестели белки страшных в гневе глаз. Он тоже узнал Делюка, воткнул копье в землю и сказал:
— О! Делюк! Милый! Ты-то хоть уходи, не смотри, как меня тут растерзают эти… — он повернул голову в сторону упряжек погони. — Волки! Они у меня горло хотят перегрызть!
Хотя Делюк и догадался в чем дело, потому что Сэхэро Егора преследовали за угон оленей, но все же спросил:
— Что это? Что случилось? За что они тебя?..
Делюк спрашивал, а мысли в голове у него метались быстрее молнии: «Что бы предпринять? Как отвратить беду?!»
— Да вот, неделю назад я у них сотни две оленей угнал, а сегодня они засаду устроили. — И добавил с досадой: — Я не сомневался в резвости ног своих оленей, да вот один из пелеев захромал вдруг. На острый камень наступил.
Упряжки стремительно неслись к реке, возле которой стояли упряжки Сэхэро Егора и Делюка. Ездоки покачивались на нартах с поднятыми высоко хореями, чтобы ударить с ходу. Но, увидев вторую упряжку, они слегка придержали оленей, но тут же снова погнали животных, крича дико, выставив вперед копья хореев.
Этого короткого замешательства оказалось достаточно, чтобы принять решение. И вот Делюк толкнул резко себе за спину Сэхэро Егора и, напрягая до предела волю, зашептал быстро, будто преследователи могли его услышать:
— Усните! Усните! Сейчас же усните! В этот же миг? Усните!..
Сэхэро Егор ничего не мог понять, но он видел, как падали хореи, а когда олени подлетели на этот берег и остановились рядом со стоявшими мирно упряжками, ездоки все до одного лежали каждый на своей нарте, похрапывая во сне.
— Спите, мужики! Крепко спите! — теперь уже явно приказным тоном говорил Делюк спящим, будто те могли его слышать. Когда он повернулся к Сэхэро Егору, белки его глаз от перенапряжения были красноватыми, а его самого пошатывало.
Сэхэро Егор понимал, что так усыпить людей может только могучий шаман, которому всё подвластно, но Делюк для этого был еще слишком юн.
— Что это? Что с ними? — спросил взволнованно Сэхэро Егор.
— Пусть отдохнут, поостынут, — сказал спокойно Делюк и устало сел на землю. — Им ещё долго спать…
Сэхэро Егор молча покачал головой, и всё же вопрос сорвался с языка:
— А проснутся?
— Проснутся, конечно, — сказал Делюк. — А нам, пожалуй, и ехать можно.
Сэхэро Егор потоптался в нерешительности на месте, поглядывая на Делюка с удивлением и в то же время с непонятным чувством страха. Потом сказал:
— Ехать-то можно, но вот хорей я… зря, видно, сломал.
— Вот сколько их, хореев, — улыбаясь широко, кивком показал Делюк на тот берег, где лежали три хорея. — Любой бери!
— И верно! — всплеснул руками Сэхэро Егор, мысленно коря себя за свою растерянность. — Я и не подумал.
Сэхэро Егор обломки своего хорея привязал к правому боку нарты, ещё раз взглянул на спящих своих преследователей, и когда олени напились в реке и перешли на тот берег, две упряжки понеслись каждая своим путем.
Делюк почти ни о чем не думал, потому что после недавнего перенапряжения у него ломило в висках, ныли мышцы ног, рук, груди и шеи, а вдоль позвоночника сквозняком пробегала непонятная дрожь, холодя спину. Зато голова у Сэхэро Егора была густо опутана паутиной мыслей о случившемся с ездоками трех упряжек, которые гнались за ним, чтобы совершить самосуд, но он и краешком ума не догадывался, что сам теперь невольно везет в стойбища тундры тревожную и жуткую весть о появлении на этих бескрайних просторах нового всесильного шамана. Конечно же, ещё очень многого о Делюке Сэхэро Егор не знал и не мог знать, но в том, это Делюк шаман, да ещё какой! — сомнений у него быть не могло: люди, преследовавшие его, Сэхэро Егора, чуть ли не полдня спали, и он сам видел, как это произошло. А потому было о чём подумать.
Упряжки летели на простор легко, всё больше удаляясь друг от друга. Под ногами оленей и накатанными полозьями нарт шуршала вянущая трава.
12
Что слышат уши и видят глаза — непременно на языке. Стоустая молва будто этого и ждала: от стойбища к стойбищу неслась она на оленьих упряжках по всей Большеземельской тундре к Большому морю Ивы и к Седому Камню, белоснежные вершины которого зимой и летом опоясаны дымными кольцами облаков. Молва забегала в чумы охотников и оленеводов, в избы рыбаков и промысловиков и на устах у неё было одно: Делюк. То шепотом, озираясь вокруг и открывая широко глаза, жестикулируя, то с иронической усмешкой на губах, явно посмеиваясь в душе, она рассказывала о Делюке всё, что было, и чего ещё не было и не могло быть. Люди, слушавшие её, в большинстве верили — молва врать не будет, вруны в подземном мире подвешены на железных крюках за языки! — но были и такие, которым слова молвы в одно ухо влетали, через другое вылетали. Таких было мало. Это были те, кто жил сегодняшним днем, сиюминутной истиной и их вовсе не волновали ни вчерашний день, ни завтрашний, потому что они верили в своё вечное счастье, дарованное им богом и судьбой.
С ехидной улыбкой на широком лице с приплюснутым носом встретил человека-молву и Туси, хозяин семитысячного стада.
— Говоришь… Делюк? — Туси смотрел на человека-молву в упор, ноздри широкого носа раздувались, глаза, расставленные широко, превращались в щелки, мечущие резкий, режущий блеск. — Признаться, я знаю Делюка, но таким его не видел и не слыхал о нем такого. Но шаман — хорошо! Это — не Сэхэро Егор, двуногий волк, от которого ни мне, ни моему соседу Ячи покоя нет. Который год уже мы ловим его, а он всё — как вода сквозь пальцы! Неуловим поганый зверь! Нахалюга! Пять дней назад, казалось, совсем уж поймали, да вот… возле речки Пярцор опять исчез. В яру, наверно, заехал. Или заколдована эта река? Пастухи Икси, Мыдси и Сэвсэр, уже нагонявшие его на наших лучших оленях, говорят, что и следа его нарты не смогли найти, будто испарился, хотя тот только перед ними реку переехал. Так и вернулись. Ни с чем.
— Пастухи, говоришь? — с ноткой сомнения в голосе опросил человек-молва. «Это же как раз тот случай с Сэхэро Егором!»
— Да, трое их было, — выложил спешно Туси, не дав высказать свою догадку человеку-молве.
— Может быть, — согласился тот и не стал разматывать нить разговора, хотя он слышал, что Делюк усыпил именно трех пастухов, которые гнались за Сэхэро Егором. Человек-молва видел: Туси слишком высокомерен и самоуверен, он убежден, что всё знает и видит наперед, а потому лучше промолчать.
— Такие вот дела, — сказал Туси и добавил: — С одним-то Сэхэро Егором можно ещё жить: по полсотне, самое большое по сотне и по две сотни оленей угоняет. Это для большого стада — что котелок воды с озера, в пургу и в туман не меньше откалывается. Зато пастухам нет времени бока отлеживать. В прошлый раз, правда, этот двуногий волк побольше кусок отколол. Тоже наглеет. Да вот другие сэхэро егоры не появились бы. Игна Микит, тот тоже не страшен, да и, говорят, ленив стал на подъем.
— Всё может быть, — немногословно заключил человек-молва, потому что по слухам он знал, что Делюк крайне бедный человек.
— А Делюк-то сам… кто? — будто уловив мысли человека-молвы, спросил Туси и сам же ответил: — Бедняк-бедняком!
— Не оказал бы, — возразил всё же человек-молва и стал пояснять: — Сам я то не видел. Не знаю. Врать не хочу. А слухи идут, у него что-то около шестидесяти оленей было. Да вот Сядэй Назар, добрая душа, слышно, двести оленей ему отвалил. Просто так, ни за что!
— Вот светлая голова — Сядэй Назар! — от радости Туси даже подпрыгнул. — Не перевелись ещё люди! И я бы для Делюка полтыщи оленей не пожалел!
— Это — почему же? — подозрительно посмотрел в лицо собеседника человек-молва.
Туей многозначительно поднял указательный палец и сказал:
— Думать надо!
— Думать-то можно… Но кто знает, какую лямку потянет этот Делюк? — после недолгого молчания сказал человек-молва и снова взглянул в плоское, самодовольное лицо собеседника.
— Вот именно! — подхватил Туси. — Надо сделать всё, чтобы он нашу лямку тянул, пелеем был.
— Тру-удно в чужую душу заглянуть. Невозможно, — сказал человек-молва.
— Это верно, — согласился Туси. — Эта голытьба всегда самыми честными и непогрешимыми себя считает. Но всё же добро можно только добром откупить.
— Это так, но играть… с шаманом?..
— Шаман — тоже человек. Не за рванью же ему идти! Его слово и голова — вот что нужно нам прежде всего! — сказал Туси, и плоское лицо его от этих слов, которые показались ему неоспоримо умными, расплылось в улыбке.
— Твои слова да Нуму в уши! — поддержал человек-молва.
— Ся! Шаманы, говорят, всё слышат, если о них речь, — лицо Туей будто окаменело, узкие глаза расширились и забегали. Показывая подбородком на макодан, он намекал, что день-то солнечный и небо без единого облачка.
— Я тоже слышал об этом, но что мы плохого говорим? — заявил человек-молва.
— Вообще-то да: твой язык правду говорит, — согласился Туси.
В полдень человек-молва уехал. Взлетая на холмы и спускаясь в низины, неслась по тундре и резвоногая упряжка Туси. Он спешил рассказать новость своему соседу и другу Ячи, оленье стадо которого минувшим летом перевалило за пять тысяч голов.
Стоустая молва ходила пешком, плыла на лодках и к беднякам, которых в тундре много, как комарья летом. И у них на устах было одно и то же: Делюк! Весть о появлении нового шамана они встречали настороженно — богачи и шаманы из одной глины слеплены Нумом! — о проделках Делюка слушали с любопытством и вниманием, проникновенно и, наконец, не скрывая своей радости, заключили:
— Свой шаман. Хорошо!
13
Делюк сидел возле чума на нарте и усердно строгал из оленьего рога пуговицу для постромки. Он ни о чём не беспокоился. Женщины в чуме были заняты своими делами, олени паслись возле стойбища на пойменном лугу реки Урер. Делюк никого не ожидал и сам никуда не спешил, а потому всё его внимание было обращено к белой косточке, по поверхности которой, поскрипывая, скользило острое лезвие шиловидного мастерового ножа — пяхар.
Лай любимой собаки Хакци заставил Делюка поднять голову. Недалеко от себя он увидел две оленьи упряжки. Два приземистых и широких в кости человека в нарядных малицах, важно вышагивая, уже подходили к нему. Лицо у одного было широкое, круглое, с приплюснутым носом. Лицо у другого было узкое, длинный нос был похож на корму перевернутой лодки. Увидев такой контраст, Делюк невольно улыбнулся.
— О! Здорово, веселый человек! Молодые люди быстро растут, и не сразу узнаешь, чьи они. Веткой дерева какого рода ты будешь? — заговорил круглолицый, пожав руку Делюку и рассматривая его с нескрываемым любопытством. — Я же — Туси из рода Нохо.
От неожиданности Делюк смутился, отступил на шаг и медленно смерил собеседника взглядом. Он прекрасно знал, что все люди считают Туси одним из могучих корней, на котором надежно держится громадное ветвистое дерево человеческих родов Большеземельской тундры. Так близко ещё не приходилось видеть ему этого человека.
— Здорово! — сказал и узколицый и, отпуская руку Делюка, добавил: — Меня зовут Ячи из рода Туи.
Имя второго богача не особенно удивило Делюка, хотя он подумал: «Почему же они вместе ездят, если у них стойбища разные?»
Туси будто уловил мысли Делюка и сказал:
— Живем-то мы с Ячи в разных стойбищах, да вот договорились вместе съездить в стойбище своего друга Сядэя Назара и послушать, о чем земля говорит. А тут чум увидели. Как не заедешь? Надо знать, кто живет по соседству.
— Родом-то я известен, но меня самого мало кто знает, — заговорил Делюк. — Имя моё Делюк ничего не говорит, отец и деды мои Паханзедами были.
— Велико дерево вашего рода! — вставил удивленно Ячи, но получилось как-то неестественно, даже притворно.
От цепкого взгляда Делюка это не ускользнуло.
— Велико, конечно! — согласился и Туси. — А отец-то у тебя кто?
— Сэрако звали его.
Круглое лицо у Туси сделалось жалостливым.
— Год назад я слышал, что бедняжка ушел. Славный был человек! У старика, говорят, кость сердца сломалась, — сказал он, ни на миг не забывая о цели своего приезда. В душе он был рад такому ходу разговора, была теперь причина, чтобы разжалобиться и войти в душу. На это он и рассчитывал, когда ехал сюда. Но Делюк и рта не дал раскрыть.
— Добрые слова в чуме говорят, — сказал он и, шагнув к чуму, взмахом руки дал понять, чтобы гости следовали за ним.
Ни Туси, ни Ячи не хотелось идти в чум, где лишние глаза и уши, но закон гостеприимства нельзя перешагивать, а потому оба они покорно шли за Делюком.
Когда все трое мужчин, подогнув аккуратно ноги, сели на оленьи постели, на латах перед ними появился стол на коротких ножках, заваленный поджаренными на огне оленьими ребрами. Пища богов! Возле ребер на столе стояла деревянная чашка с темной оленьей кровью.
Разговор в чуме не клеился, а потому Делюк сказал, показав на мясо:
— Вчера я его застрелил.
— Дикий? — отвесил челюсть Ячи.
— Да, — сказал Делюк. — Ветер был сильный, и олень даже не учуял близость человека, на пять саженей подошел к краю ивняка, где я сидел в засаде. Стрела насквозь пронзила его.
— И по крови видно, что дикарь. Густая она, да и мясо приятно сладит, — со знанием дела рассудил Туси. — А у нас почему-то до них и руки не доходят. То ли день короток, то ли дел невпроворот. В юности-то я обожал охоту на дикарей, не один долгий весенний день потушил на их тропах, хотя в стаде отца было уже более десяти тысяч оленей. Потом их «сибирка» свалила, всего треть выжила, но, к счастью, стадо снова вспыхнуло.
— Что богом запалено — не потухнет навсегда, — вовсе не к месту вставил Ячи.
Делюк будто не слышал этих слов. Он обратился заинтересованно к Туси:
— Теперь-то у тебя много оленей?
Туси повернул плоское лицо в сторону Делюка, долго молчал, думая, что как раз удобный случай предложить ему оленей, но рассудил: рано, это будет выглядеть наигранно и наивно, а потому сказал:
— Не так уж и много у меня оленей. Тысяч-то семь, думаю, есть, наверное.
— О! Это же что звезд на небе в ясную ночь! — явно подстраиваясь под настроение Туси и подзадоривая его самолюбие, нарочито пропел Делюк, догадываясь о истинной цели приезда неожиданных гостей.
Слова Делюка задели и самолюбие Ячи.
— Мне-то особо нечего сказать, но пять тысяч оленей в моем стаде, думаю, есть, — подчеркнуто важно сказал и он. Он ощутил неловкость и добавил: — Счета оленям мы не ведем. Так лишь, на глазок прикидываем. Сотней больше, сотней меньше — не большая разница.
Каким-то явно непонятным даже себе самому чутьем Делюк теперь уже четко уловил мысли и намерения гостей, понял, что гонят они его в ловушку, а потому сказал:
— Мне лично нечем хвастать. Четверть тысячи — ещё не олени. Захочу — вечером сосчитаю всех до одного, захочу — утром…
Туси уловил в голосе Делюка насмешливые нотки. Он не подал вида, желая и дальше тянуть игру. А глаза у Ячи загорелись, глядя в упор на своего друга, он всем видом говорил, что, мол, пора оленей предложить. Туси, умеющий думать широко, глубоко и гибко, еле уловимо покачал головой, перевел взгляд на макодан и заявил:
— А день-то уже и вниз покатился. За разговорами да за едой дорогу не сделаешь короче. Пора и в путь
— В путь так в путь, — согласился и Ячи.
В груди у Делюка заныло: ему очень не понравилось, что и его мысли уловили гости. Ему почему-то даже стало обидно.
— Пора, пожалуй, и мне в путь, — сказал он, и в этот миг гостям показалось, что хозяин чума превратился вдруг в белого ястреба и с гортанным криком вылетел на улицу через дыру макодана.
Глаза у Туей и Ячи полезли на лоб, руки задрожали — и вот уже, с опаской поглядывая на небо, будто оно могло обрушиться, на полусогнутых ногах бежали они к своим нартам.
А Делюк как ни в чем не бывало сидел на своей нарте, спрашивал:
— Что-с вами? Что случилось?
Те словно не слышали его вопроса — с ходу взялись за вожжи и хореи и в следующее мгновение от земной влаги, поднятой копытами оленей, вспыхнули за нартами кольца радуг.
Две упряжки неудержимо летели на простор. Они навсегда уносили в тундру новое имя Делюка — Белый Ястреб!
14
— Он? Делюк?.. Белым ястребом, говоришь?! Да не-ет! Не может быть! Я его ещё в прошлом месяце видел, когда в лавку Хожевина ездил. Простой, обыкновенный парень этот Делюк! — возражал Сядэй Назар Туси и Ячи, которые наперебой рассказывали ему о своей гостьбе в чуме Делюка. Этому он не верил и не думал верить.
— Двести оленей ты… просто так отдал ему?! — ехидно улыбаясь, Туси не спускал острых глаз с лица Сядэя Назара, желая поддеть его самолюбие.
— А что? Отдал — и всё. Мои олени-то. Просто так отдал, потому что я никогда не вру самому себе. Сказал, значит сделал, — заявил категорично Сядэй Назар, подумал и добавил: — Жалко стало мальчонку. Один как палец торчит он посреди далеко не мирного простора со своим ветхим чумом да с какими-то жалкими полста олешками… А ведь я головой обязан обитателям этого маленького чума, где и жизнь-то всегда едва-едва теплилась. Года три назад на реке Пэ-Яха перед самым ледоходом Сэрако, отец Делюка, рискуя собой, меня, почти уже мертвого, провалившегося вместе с упряжкой под уже съеденный водой лед, на тынзее вытащил, откачал воду, которой я наглотался, обогрел, приютил, дал упряжку, потому что олени моей упряжки утонули и их вместе с крошевом льда унесла река в море… А за добро положено платить добром, Жаль только, что при жизни самого Сэрако я не смог сделать этого, но бог всё видит, — чумы наши слишком далеко друг от друга были, — жил-то я на Вангурее, недалеко от устья Большого Ивового моря, а его чум стоял у истоков реки Варакута, на Камне. Так что эти двести оленей давно уже были не моими. А слову своему я хозяин.
Туси и Ячи сказать было нечего, а потому оба лишь кивнули согласно.
— Всё может быть, — прерывая молчание, задумчиво сказал Сядэй Назар. — На земле всё ново, всё незнакомо. Мы и сами о себе мало что знаем. Нельзя всего знать. Только вы, Туси и Ячи, о Делюке придержите языки. Если он, правда, шаман…
— Здоровы будем! — раздался из-за полога голос Делюка.
Брови у Сядэя Назара полезли на лоб, открылись широко глаза, и сам он весь будто бы в каменного истукана превратился. Каменно застыли и его гости — Туси и Ячи. Всё замерло в чуме. Даже не слышалось шума пламени затухающего уже костра.
Первым всё же нашелся хозяин чума, хотя теперь у него не было сомнения, что, конечно же, весь их разговор Делюк слышал, если он настоящий шаман.
— Здорово! — сказал он. — Для тебя, Делюк, вижу, и даль — не даль!.. Будь же к столу — гостем будешь,
— Да какая там даль! Я тут жилые норы смотрел. Зима-то на носу! Где зверь останется зимовать — надо знать. А тут стойбище увидел… — многословно объяснил свое неожиданное появление Делюк и, аккуратно подобрав под себя ноги, расположился возле Ячи, сидевшего за столом в сторону выхода. — В большом стойбище много видят и много слышат. О чем земля говорит?
Туси и Ячи сидели молча, будто их не было. Они почти не дышали.
— Язык — без костей. Всякое говорят люди. Дни правильно идут, — изрек хозяин чума. — Я же больше своим глазам доверяюсь.
Чтобы вывести себя из оцепенения, Туси опрокинул на блюдце чашку, подтолкнул её к середине стола и, разогнув ноги, откинулся на подушки, сказал:
— Добрый у тебя, Назар, луца сяй[48]. До костей он меня прогрел.
Опрокинул на блюдце свою чашку и Ячи, обронив только одно слово:
— Па-асиба!
Делюк усмехнулся, потому что он свободно владел русским ещё с тех пор, когда семья их жила на заработках у поморов в прибрежных русских селениях. Остроголовые были лучшими друзьями Сэрако. Он уважал их за прямоту, честность и человеческую доброту. И русские уважали и любили Сэрако за его находчивость, смекалку и природную выносливость в нелегких плаваниях на Грумант и Матку, где у них были места промысла. Да и охотником был Сэрако азартным и незаурядным. Маленький же Делюк, оставаясь в становищах на материке, играл и рос вместе с ребятами русских промысловиков.
— Новое слово слышу, — сказал он, обернувшись к Ячи.
— Луцы так говорят, — ответил Ячи и добавил: — Ещё они говорят: па-асиба зэ-а цай з захарум!
Сядэй Назар и Туси, знавшие, что Сэрако вместе с семьей долго скитался в поморских селениях, промолчали. Туси только толкнул коленом Ячи. Но ни они, ни Ячи, попавший в неловкое положение, ни Делюк, ни женщины, хлопочущие у стола, не слышали, как на улице возле чума скапливался народ со всего стойбища — и вот распахнулся полог, и в чум вошел рослый сухощавый ненец. Он держал в руках большой пензер, по краям которого, нежно звеня, свисали тонкие бронзовые кольца, начищенные до блеска.
Пройдя вкрадчиво на нежилую половину чума — пелейко, — вошедший сел на середину лат, скрестив ноги и положив пензер по левую сторону от себя.
Это был известный на всю Большеземельскую тундру шаман Няруй. Делюк много слышал о нём, но видел его впервые, и ему любопытно было посмотреть на живого шамана в работе. Появлением на стойбище именитых Туси и Ячи не мог не воспользоваться Няруй, а потому его гонцы зазывали в просторный чум Сядэя Назара всех мужчин стойбища, где шаман принародно расскажет обо всём, что видел в своих вещих снах.
Появление Няруя именно сейчас, его не ко времени затеянное колдовство были не по нутру Сядэю Назару, но, увлекшись рассказами перепуганных Туси и Ячи, позабыл он предупредить ясновидца, что не надо сегодня шаманить, а в присутствии Делюка теперь было поздно отменять ритуал, да и уже валил в чум народ.
Люди шли молча, садились без шума и суеты там, где находили себе место.
Няруй был занят своим: ничего не говоря и не глядя ни на кого, он очищал от золы край железного листа, на котором живет костер.
— Лукошко! — сказал он.
Это могло быть просьбой, обращенной только к хозяину чума, потому что с появлением шамана все женщины ушли невидимками в другие чумы стойбища.
Ничего не говоря, Сядэй Назар вывалил возле сымзы[49] чашки, ножи и подал пустое лукошко Нярую. Тот откуда-то из-за уха достал три волчьих зуба, положил их в лукошко и закрыл крышкой. Лукошко он отодвинул от себя на расстояние вытянутой руки в сторону полога. Это означало, чтобы никто не занимал свободного места возле шамана. Потом Няруй из семи обшитых медью чехлов вынул семь ножей с белыми рукоятками из моржового зуба и положил их впритирку на очищенный от золы край железного листа остриями к тлеющим углям. Сверлила уши стоящая в чуме тишина. Такая тишина бывает только после разряда грозы в промежутке до нового удара.
Няруй взял пензер, выдернул из-за спины колотушку из мамонтового бивня и ударил по бубну. Ножи на железном листе подпрыгнули и, падая, высекали искры. Всем показалось, что чум пошатнулся. Долго угасал нежный звон бронзовых колец на пензере, напоминая прощальный клич огромной стаи маленьких белоклювых гусей в поднебесье. Этот мягкий, нежный звон Делюку показался приятным и красивым.
Со вторым ударом по пензеру повторилось всё то же самое, но сам Няруй стоял уже на одном колене. С третьим ударом он оказался на полусогнутых ногах и, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, неистово махал колотушкой. Гремел бубен, стонали кольца на нём, а ножи на краю железного листа уже не искры, а короткие вспышки голубого пламени — священного огня — выплескивали.
Делюк задумчиво взялся рукой за подбородок. Всё, что он видел, показалось отвратительным и мерзким. А люди смотрели на Няруя оцепенело, приоткрыв рты. Им казалось, что где-то далеко в ночи воют волки, а семь ножей на краю железного листа, прыгая сами по себе, высекали искры и воспламенялись. Только один Делюк видел, что от какого-то хитрого рычага, прикрепленного к правой ноге Няруя, ножи подпрыгивают, ударяются друг о друга рукоятками и высекают огонь. У него теперь не было сомнения, что рукоятки ножей не что иное, как отполированные куски белого камня тумбэ — кремния. Няруй бессовестно обманывал людей, как слепых новорожденных щенят!
Делюку это крайне не понравилось, но он не подал и вида, что все это обман, и сидел молча, с любопытством ожидая, что же еще хитроумного покажет Няруй. Но тот сел, положив справа от себя колотушку, закачался на месте и под прозрачный звон колец на пензере, которым потряхивал еле заметно перед собой, запел ладно поставленным голосом:
Четкими, крупными, спелыми звездами чаша высокого неба полна-а! В густо застывшем над долами воздухе чутко висит тишина-а…Люди слушали Няруя, и им казалось, что стало вдруг темно, и над ними распахнулось звездное небо, дохнув вечным холодом мироздания. Кое-кто начал потирать руки и ежиться. Делюк, глядя на раскачивающегося на латах Няруя, тоже зримо представил ночь, усыпанное звездами небо и тишину. Но вот шаман взял колотушку и, слегка постукивая по пензеру, перешел на другой ритм и мелодию:
Тихо льется в небо к звездам свет зеленых волчьих глаз, злой волчицей смотрит грозно небо звездное на нас, Рыба месяцем по морю на щеке волны плывет, месяц рыбой красноперой в звездном мареве снует, Ка-а, ка-а-а —запнулся вдруг Няруй. Он испуганно посмотрел на сидящих, хотел что-то оказать, но — только «Ка-а, каб! Каб-каб-каб, каб-бэ-эу!» вырвалось у него.
Няруй закричал по-куропачьи. Он растерянно тряхнул головой, передернул плечами, вытянул шею и крикнул:
— Лак-хы-ы!
Подзадоривая друг друга, так обычно кричат на току куропатки.
Люди не знали, что делать: было и удивительно, и смешно, и жутко — ведь был это не кто-нибудь, а шаман, которому верили всей душой, которого боялись и чуть ли не обожествляли. Уму было непостижимо такое! Но это было ещё не всё. В следующее мгновение они с ужасом увидели, как на их глазах растерянный Няруй превратился в куропатку, взмахнул крыльями и с отрывистым резким криком: «Каб! Каб-бэ-эу-у!» — вылетел из чума через дыру макодана.
Перепуганные люди разводили руками, недоуменно поглядывали друг на друга, не смея молвить и слова.
— Проклятие! В чуме — злой человек! — донесся из-за полога возмущенный голос Няруя.
Сядэй Назар, Туси и Ячи невольно повернули головы в сторону Делюка. Поймав взгляды хозяев, последовали им и остальные. Все они были удивлены и напуганы тем, что Няруй вылетел куропаткой (хозяева сразу поняли, что это проделка Делюка!), хотя Делюк видел, что тот спешно схватил все свои предметы шаманского ритуала и выскочил на улицу, икая по-куропачьи.
— Бе-едная куропатка! Съест ведь он её! Съест! — крикнул кто-то, и все сидящие в чуме увидели, что Делюк с гортанным криком вылетел через макодан белым ястребом, чтобы, конечно же, догнать и распотрошить куропатку. А Делюк на самом деле вышел через полог и спокойно направился к своей нарте. Он шел и с улыбкой смотрел на Няруя, который со всех ног бежал к своему чуму, то и дело оглядываясь назад.
Люди из чума Сядэя Назара выходили молча, пряча глаза, и шли к себе. Жуткая сцена превращения Няруя в куропатку и Делюка в ястреба заставила пастухов задуматься, в души их она заронила зерна недоверия и к Нярую, и к самому хозяину стойбища, потому что они поняли, что их шаман, на которого полагались во всем, оказался вовсе не тем, кому надо верить и сердцем и душой, ибо есть ещё на их земле шаман более могущественный и он, этот шаман, — Делюк. Они знали, что при встрече двух шаманов в тундре — так бывало всегда — более сильный шаман по мере своих возможностей старается как можно злее высмеять и унизить принародно своего слабого противника, чтобы утвердить себя и свою власть. Так это случилось теперь и в чуме Сядэя Назара.
…Тундра летела под полозья нарты. Пять оленей березовой масти в упряжке Делюка жадно вдыхали прохладу вечернего воздуха.
15
Давно уже плескалась ночь, а Делюк не мог уснуть. Лишь закрывал глаза, и перед ним, словно наяву, снова появлялся Няруй с огромным пензером в руках, лукошком с волчьими зубами и семью хитрыми ножами на очищенной от золы кромке железного листа — тюмю. Видел он сосредоточенные лица застывших на месте пастухов, переполнивших чум до основания шестов, и самодовольных Сядэя Назара, Туси и Ячи, важно откинувшихся на высокие пуховые подушки.
Делюк с трудом открыл отяжеленные дремой веки. Это отдалось резкой болью в мозгу, и ему показалось, что вместе с веками у него будто бы приоткрылась крышка черепа. Видения исчезли. Он повернулся на другой бок и, стараясь ни о чём не думать, решил все-таки уснуть. Вот он замер, выбрав удобную позу, медленно закрыл глаза и… снова оказался в чуме Сядэя Назара. Теперь он видел, как Няруй, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, ударял легонько по пензеру и пел. Делюк видел расширенные зрачки пастухов, которые, казалось, смотрели не на шамана, а на него самого, в самую глубь его души. От этого Делкжу стало отвратительно, зубы и пальцы его рук сжались, потому что он видел, как Няруй нагло и бессовестно обманывает всех. Больше всего ему не понравилась песня, которая по тону и ритмике напоминала куропачье тарахтение, хотя цвет, вес и сила слова были налицо. Куропачье тарахтенье… «Так вот оно что!» — обрадованно подумал Делюк, напряг до предела волю и, пристально глядя на прыгающую в такт песне голову Няруя, приказал мысленно: «Куропаткой!.. Закричи куропаткой! И… куропаткой улетай! Куропаткой!!!» Он мысленно повторил это трижды, и криком: «Ка-аб, ка-а-аб!» песня шамана оборвалась. Растерянный Няруй огляделся вокруг, увидел перед собой прожигающие насквозь глаза Делюка и, против своей воли, огласил притихший чум куропачьей тирадой:
— Каб! Каб! Каб-бэв! Лак-хы-ы-ы!..
— Так тебе! Так тебе и надо, поганый! — вслух вырвалось у Делюка, глаза открылись. Он поднял испуганно голову, огляделся: мать, бабушка и братья спали. Больно давила на уши тишина.
Делюк лег на спину и открытыми широко глазами уставился в дыру макодана. Дыра макодана — большое отверстие для выхода дыма, — была бледно-желтой и в ней, переливаясь, вспыхивали густо маленькие, как песчинки, звезды. Делюк понял, что над чумом пролег Млечный путь, и потому небо видится желтоватым, но мысли снова вернули его в чум Сядэя Назара. И он задумался: «Ну и нахал он, этот Няруй! Невежда! Лгун! И как это ему верят люди? Честные люди! Надо же придумать такое: ножи! Кремневые рукоятки к ножам? Ло-овко придумано! А волчьи зубы? Для чего? Для устрашения, конечно. Для нагнетания страхов. Словом, всяк по-своему живет, как умеет. Везде люди живут. Одни вот ловят песца, другие на дикарей ходят… Рыба… птица — всего хватает. Мало ли как можно жить! Настоящий человек всегда найдет свой путь в жизни. Честный путь. Но враньем, обманом жить?! Не дело! А богачи? Многооленщики? Вот эти сядэи назары, туси, ячи и сотни других, как они?! Разве они лучше Няруя?! Да и няруев-то всяких не перечесть. Не десятки, а сотни их. Сотни! Все они живут только обманом. Враньем!
Няруй… Разве просто так он придумал эти волчьи зубы и ножи? Нет! Не просто! Вся его ложь станет потом оленями, песцами, лисами… Нет, не Сядэй Назар, не Туси, не Ячи отдадут ему всё это, а те, кто, дрожа от страха, заполнили чум — горбатые, кривые и хромые от побоев хозяина пастухи, которым за год работы Сядэй Назар дает только два-три оленя. А что эти два-три оленя? Год-то длинный. Работник одним воздухом жить не будет. Надо что-то и в рот положить. И причем каждый день. Хорошо, если он один. А если семья? Старики, ребятишки? Всем что-то надо в рот положить. И одеться. Есть, конечно, в тундре дикие олени, лоси, зайцы, куропатки, летом много рыбы, птицы. Но их тоже надо взять, на это время нужно, а руки работника всегда чем-то заняты на стойбище — хозяйские сани, нюки, постромки в порядке должны быть. Вот и убежали эти два-три олешка в котел. Так из года в год, пока пастух на тропах хозяйских оленей ноги не протянет. Голодная, холодная и соленая эта жизнь. Вот и живи, человек, в работниках, пока у тебя не вытянут жилы, не выжмут пот, не выпьют кровь. Грустно! Грустна эта жизнь, когда и в рот всё из-под палки идет. И чем ты провинился, бедняк? Чем?!»
Как воды равнинной реки, текли и текли, меняя бег, мысли Делюка. Перед его взором то оживала во всей своей широте большая тундра с колокольчиками чумов под огромным бездонным небом, то снова он оказывался в тесноте переполненного людьми чума Сядэя Назара и с болью в сердце видел притупленные горем и тяжелыми думами глаза пастухов. Некоторых из них он узнал сразу, как только те вошли в чум. И не мог не узнать, потому что перед ним, как живой, возник белый менурэй…
— Белый менурэй! — шепнул Делюк одними губами, и у него защемило сердце. «Сам. Сам я виноват тоже!.. — подумал он, и тут же его будто осенило: — Нет! Перед ними, перед этими пастухами, нет у меня вины. Я не виноват перед ними. А вот перед Сядэем Назаром — другое дело. Грешен я перед ним. Грешен. По совести грешен. Он мне ничего плохого не сделал. Напротив — он мне за отца, за его доброту, честность даже оленей дал. Но и на нем, на Сядэе Назаре, гора грехов. Грехов перед людьми, которые гнут на него спину в дожди и холод, в пургу и туманы. А значит, и Сядэй Назар вор, но вор, которого не поймаешь за руку. Умный вор. Ворует он у своих пастухов силы, ворует дни и годы, которыми живут. А человек раз живет. Выходит, ворует он у них жизнь, счастье. Человеческое счастье ворует!..»
Делюк думал, мысли его текли, то ускоряя, то замедляя бег. «Люди… Все они живут на земле, под одним небом, но почему так устроена жизнь, что люди такие все разные? Почему у одних сотни, тысячи оленей, всё у них есть, всё они могут, а у других… ветер лишь, сон в упряжке! Бестелесный сон! Он приходит и уходит без следа. Но не все, конечно, безропотны. Вот тот же Сэхэро Егор. Но он один. Бедняга! Куда бы ты ушел от трех точеных копий, которые, быть может, вонзились бы уже в твое сердце? Куда? Быть бы тебе уже или частью сырой земли, или… в лучшем случае был бы ты сейчас, как собачка на привязи, на стойбище Туси… И всё же я хочу тебя понять. Понять твои мысли и дела. Земля ли тесна? Или… мало у тебя оленей? Под покровом осенних ночей, в туманы и в пургу тысячи их угнал ты. Где они? Где эти олени?»
Думы Делюка текли и текли. Текла и ночь. Только ещё встающий на твердые ноги и живущий в отрыве от людей Делюк многого в жизни не знал и не понимал. Но как только перед его мысленным взором вновь и вновь возникали самодовольные, надменные, сытые сядэи назары, туси, ячи, хитрые и льстивые няруи, кривые, горбатые, подавленные нуждой пастухи с полными горя глазами, красноватыми от усталости и недосыпания, душа его закипала, и снова роились в голове тысячи «почему?»
Делюк всё думал. А потом густая предутренняя темень неслышно сомкнулась над его головой, и он погрузился в сон, точно провалился в темную, беспросветную бездну…
16
Делюк проснулся от громкого лая собак. Не открывая глаз, он сначала слушал лежа, старался понять голоса своих четвероногих друзей и помощников. Псы явно что-то видели: они лаяли дружно и отрывисто. Донесся до слуха треск суставов оленьих ног, а вскоре он услышал звон железных колец на постромках. Собаки залаяли заливисто и угрожающе, но тут же смолкли. Стало так тихо, что Делюк словно повис в безмолвной темной пустоте. Открывая медленно глаза, он оторвал от подушки голову и сел. Отяжеленный сном мозг отозвался резкой ноющей болью, а в расплывчатом свете перед глазами, как на поверхности жидкой, маложирной ухи, плавали маленькие бледно-синие и розоватые звездочки.
Делюк взглянул на макодан и по солнечным лучам, упиравшимся косо в верхнюю четверть нюка, понял, что долго спал: солнце давно прошло полдень.
— В чуме он. Спит, — донесся с улицы голос матери.
Делюк только сейчас понял, что в чуме он один, а потому надел быстро малицу, натянул на ноги пимы и собрался уже выйти на улицу, но распахнулся полог, и в чум ввалился человек в суконном совике.
— Ани-н-дорова![50] — сказал он, часто мигая, чтобы глаза скорее привыкли к сумеречности чума. — Есть ли в чуме кто живой?
Делюк узнал в нем Сэхэро Егора.
— Дорова! — сказал он. — Какие ветры в тундре ходят?
— Разные, — отозвался Сэхэро Егор, пожимая руку Делюку. — И тебя они не обходят стороной.
— Хорошо, если ветры мимо моего чума не ходят, — улыбнулся Делюк, показывая кивком на пелейко. — Садись да рассказывай, о чем земля говорит.
— Земля, она на то и земля, чтобы слухами полниться. Всякое она говорит, — садясь на коврик из ивовых прутьев, сказал Сэхэро Егор, помолчал, подумал о чем-то и добавил: — Но не всё, о чем говорит земля, на ум приходит сразу. Не всё идет на ум…
— Всё, может, и не надо помнить, но о чём у земли душа болит… — тронув высокий лоб ладонью левой руки, Делюк блуждающим взглядом окинул чум, — и на своем теле надо чуять.
— О! Это смотря кем быть. Каждый болями своей души прежде всего живет, — Сэхэро Егор в упор взглянул в лицо Делюка.
— А земля и люди разве не одними болями живут?
— Люди-то, сам знаешь, вовсе не одинаково живут, но каждый хочет жить. И не как-нибудь жить!
— Верно. Верно твой ум ходит. Сам я много думаю об этом. И в эту ночь, смотри, только под самое утро уснул. Думы, разные думы в голову лезут. Всё хочу понять и не могу. Ты, Сэхэро Егор, вот больше меня жил на свете, больше видел, возьми и скажи: почему вот те же сядэи назары, туси, ячи — всё могут, всё у них есть, они даже человека могут и унизить, и растоптать, и даже убить! А те, кого они топчут? Разве они — не люди?
— Люди! — решительно сказал Сэхэро Егор и тут же добавил упавшим голосом. — Да вот…
— Что — «да вот»?!
Делюк ещё никогда в жизни так не распалялся, но после ночных дум, перевернувших всю его душу, он упорно искал ответ на все свои вопросы относительно надменных хозяев тундры и их безвольных и безропотных работников, похожих на живых кукол, и потому в груди у него сейчас закипело с новой силой. Он дышал тяжело и, казалось, вот-вот накинется на собеседника.
Сэхэро Егор сидел молча, в раздумье, он точно не слышал слов Делюка, но, взглянув на него, он увидел открытые широко глаза его, вздымавшуюся резко грудь и улыбнулся.
— Всё это у всех на роду, — сказал он и добавил для ясности: — Бедные рождаются, чтобы тянуть лямку своей бедности, и никуда от нее не уйдут. Так и богатые. Рождаются они, чтобы быть хозяевами на земле. Бог всё это так сделал. У всех это — на роду.
«Бог-то богом, всему он голова, за его спиной, конечно, легко и привольно, и думать много не надо, но все ли мы на бога должны кивать?» — подумал Делюк, а вслух сказал:
— На роду, говоришь?
Сэхэро Егор ничего не ответил, потому что у него и тени сомнения не было в том, что всё это именно так, а не иначе.
Делюк, как бы рассуждая, плыл руслом своей мысли:
— Олени и прочее богатство, которое у них на руках, — сила большая, ничего не скажешь. Жизнь. Как реку не повернуть к истокам, так, наверное, и жизнь нельзя переделать. Но, — Делюк резко повернул лицо в сторону Сэхэро Егора. — А Няруй? Кто он, этот Няруй?!
Лицо у Сэхэро Егора застыло в испуге, сам он весь съежился, сделался как будто бы меньше.
— Он же — шаман! — сказал он дрогнувшим голосом и невольно взглянул на освещенный ярким солнцем макодан, потом полными страха глазами уставился на Делюка: — День-то ясный. Солнце!
— Пусть слышит, — небрежно махнул рукой Делюк, зная людскую молву о том, что шаман в ясный день всё слышит, если где-то говорят о нём,
— Страшно! — блеснул белками своих больших глаз Сэхэро Егор, даже широкие его плечи заметно упали.
— Да ты, вижу, весь, как заяц на бугорке. Не бойся. Я этого Няруя ещё вчера видел, — сказал, усмехаясь, Делюк и начал рассказывать о своей поездке в чум Сядэя Назара.
Делюк рассказывал, а Сэхэро Егора бросало то в жар, то в холод. Он слушал молча, мысленно представляя себя у Сядэя Назара вместе с Делюком и переполнившими чум людьми, которые пришли послушать вещие сны Няруя. Сэхэро Егор живо представлял всё, о чём говорил Делюк, потому что сам не раз видел Няруя на подобных сборах в чумах бедняков.
— Куропаткой, говоришь, вылетел! Куропаткой?! — чуть ли не крикнул Сэхэро Егор, не ожидавший такого, и от души засмеялся, но тут же лицо у него точно морозом сковало. Округлившимися глазами, почти не мигая, он смотрел на Делюка, а сам как наяву увидел бегущую по камешкам реку Пярцор, на берегу которой беззаботно храпели на своих санях пастухи Туси, гнавшиеся за ним, Сэхэро Егором, с далеко не мирными намерениями. Он снова, как в тот раз, увидел усталое, заметно побледневшее лицо Делюка, по которому едва заметно скользила улыбка, кривя рот. И Сэхэро Егор осязаемо, всем существом своим понял, что перед ним самый настоящий могучий шаман, а потому подался невольно назад, отодвинулся слегка. Глаза у него забегали, сам он стал похож на перепуганного ребенка.
— Что? — поглядывая на него, спросил тихо после недолгого молчания Делюк.
— Ничего, — растерянно сказал Сэхэро Егор и потупленным взглядом уставился на латы.
На железном листе глухо шумел разгоревшийся огонь.
Делюк перешагнул на жилую половину чума и сказал:
— И чай поспевает. Добрые слова за столом говорят.
— Да, это так, — отозвался Сэхэро Егор, медленно отходивший от дум, и тоже перешел на жилую половину чума.
17
Сэхэро Егор ел голень задней ноги дикого оленя. Его длинный нож, врезаясь бесшумно в жилистую мякоть, шел, как в воду. Талое мясо в деревянную чашку перед ним падало тонкими, как стружка, розовыми пластами. Он брал их, макал в чашку с густой, круто посоленной кровью, хватал зубами и тем же острым ножом отсекал у самых губ.
— Отменное мясо! — говорил он, лениво водя челюстями. — А я вот что-то давно не бывал на тропах дикарей.
Делюк улыбнулся лукаво, взглянул на Егора.
— А чем ты всё занят?
— Много дел, — уклончиво ответил Сэхэро Егор.
— И всё же? — не унимался Делюк. — Какие дела?
Сэхэро Егор положил нож на стол, откинулся на подушки и стал смотреть в макодан. Перед глазами как наяву плыла его жизнь, извилистая, как дорога по болотистой тундре. Ранняя безотцовщина. Дымная и темная землянка на краю села. Чужие люди и чужая речь. Не разгибая спины, мать за кусок хлеба шьет из грубых нерпичьих шкур пимы и одежду для морских охотников. Потом снова тундра. Как из тумана, всплывают и оживают перед глазами дерзкие набеги бедняков на стада многооленщиков, где не последнюю роль играет и он, юный еще Сэхэро Егор. Потом…
— Разные, — выдохнул он после долгой паузы. — Разные дела.
— Слышал. Слышал я. Много о тебе земля говорит, — не то с одобрением, не то с усмешкой сказал Делюк. — Только вот как голову ещё на плечах носишь?
— Что — голова-то? Одна она у меня. Только раз ей падать.
— И не страшно?
— Нет. За нужное дело не жаль головы. Чтобы только люди помнили.
Делюк задумался: «Какие у него, Сэхэро Егора, могут быть нужные дела, если на этой земле все проклинают его, боятся даже его имени?!» Он хотел спросить об этом, но передумал: Сэхэро Егору может показаться, что Делюк смеется над ним.
— Знаю, о чем земля говорит, — сказал вдруг Сэхэро Егор, видя, что Делюк погрузился в думы. — Но вовсе не то она говорит. Извилиста она, жизнь. Как наши реки, извилиста. Ты, Делюк, мало ещё жил. Мало видел. А у меня вот все эти сядэи назары в печенке сидят. Трудно жить рядом с ними. Тяжело ходить по одной земле.
Делюк взглянул на Сэхэро Егора так, будто он видел его впервые:
— Так уж и тесна земля?!
— Нет. Не тесна она. Всем есть место. Если сам никого не заденешь, и тебя не тронут. Это — плохая жизнь, если так много на земле ещё зла. Но я не могу жить иначе, чем сейчас. Не могу! Человек — не камень. У него на то и сердце, чтобы слышать и свою, и чужую боль. Обидеть человека легко, а сделать ему добро — не умеем, не хотим. Это наша беда.
— Ты это о чем, Егор?! — пуще прежнего удивился Делюк, потому что слова Егора хлестали по мозгам, как плетью.
— Всё о том же. О жизни, — сказал задумчиво Сэхэро Егор. — О жизни. Только смотря как её, эту жизнь, понимать. Всяк на неё по-своему смотрит. И не только смотрит — делает он эту жизнь по-своему, как ему лучше. И тут-то, видимо, и начинается разница между людьми.
— Да-да, тут рушится лад, — подхватил Делюк. — И чем дальше, тем шире трещина. Почему?
— Всё спрашивают — почему? И я тоже спрашиваю. Но толку мало.
Делюк смотрел на него с нескрываемым любопытством. Потом всё же сказал:
— А в чём толк?
— Не знаю, — признался честно Сэхэро Егор. — Но тому, что все богачи на меня копья точат, я рад. Очень рад! И не только рад — счастлив!
— Только ли богачи? — спросил Делюк. Он знал, что Сэхэро Егора боятся все.
— Думаю, что — да. На бедных я не в обиде, что заодно с хозяевами. Не все понимают. Просто дурная слава идет обо мне. Кривы людские языки. Но я слово дал, чтобы всегда быть таким. А история эта долгая, и говорить о ней не люблю.
— Своя у тебя голова, — сказал, соглашаясь, Делюк.
— Это так, но я бы хотел, чтобы две головы у нас было и одно сердце.
— Ты о чем? — удивился Делюк.
— О том же, — таинственно улыбнулся Сэхэро Егор. — Чтобы нам вместе ходить. Вижу, ты это можешь.
— Не знаю, — сказал Делюк задумчиво и признался: — Хотя и сам я грешен. Началось с малого. А теперь хочу выговориться, иначе — душа не на месте. Украл я белого менурэя. У Сядэя Назара.
— Почему — белого? — засмеялся Егор.
— Надо было.
— Говори, договаривай, — заинтересовался Сэхэро Егор. Он подался весь к Делюку.
— Потом еще тридцать пять оленей угнал. У него же.
— И всё?
— Всё.
— Это не то, — улыбнулся мудро Сэхэро Егор. — Надо другое делать. Надо отдавать оленей людям, у кого их нет. Только ради этого можно жить. Я это и делаю. Врагов у меня много, но и друзей хватает. Эго надо понимать. Сердцем и душой понимать. А началось всё очень просто. Отец умер, когда мне и десяти лет не было. Он батрачил у Гусиной Ноги — отца Сядэя Назара. Гусиную Ногу потом бешеные волки разорвали. Так ему и надо, негодяю! Туда ему и дорога. За грехи, конечно. А было вот что. Когда умер отец, Гусиная Нога до полусмерти избил мою мать, она не захотела отдаться ему, руку у него укусила, и тот нас с ней на чумовище бросил посреди тундры. Всех наших оленей угнал. За долги, сказал. Хорошо, что тут вэнодэтта-охотник Соленое Ухо нашел нас. Он нас и повез на собаках в охотничье становье на берегу моря. Так мы и выжили. Мать пимы и совики из нерпичьей шкуры шила, в избах убирала, посуду мыла, одежду стирала и чистила. Потому я и ненавижу всех богачей. Все они на одно лицо и повадки одни. Потому я теперь и угоняю оленей у богачей и дарю беднякам. В этом я и вижу свое счастье.
— Да-а, — задумчиво протянул Делюк. — А ты, пожалуй, в чем-то прав. Даже во многом прав!
— Прав не прав, но уже ничего не изменишь. У человека одно лицо должно быть. Тем он и ценен.
— Верно, — согласился Делюк и взглянул изучающе на Сэхэро Егора: — Ты, значит, думаешь, чтобы две головы у нас… рядом ходили?
— Хотел бы.
— Надо подумать. Но… как люди на это посмотрят?
— Бедных-то больше. За нас они будут.
— Тоже верно, — Делюк снова взглянул на Егора: — И много оленей ты уже угнал?
— Вся лапта[51] на моих оленях ездит.
— На твоих! — от души засмеялся Делюк.
— А на чьих же?! — искренне удивился Сзхэро Егор. — И чем больше будет таких людей — тем лучше. И за их спиной иногда можно уберечься.
— И тут ты прав, — всё больше начал соглашаться Делюк.
— Вдвоем-то — легче.
— Ладно, — согласился Делюк. — Один-два раза можно попробовать, а там — видно будет. И с кого начнем?
— Туси я давно не трогал по-настоящему, — сказал Сэхэро Егор и улыбнулся широко, потому что совсем недавно Туси-то и устроил ему засаду,
— Туей так Туей. Что ждать завтра? Сейчас поедем.
— Едем.
18
Упряжки в стаде появились неожиданно. Делюк не спешил с угоном оленей. Со всеми тремя пастухами он здоровался за руку и говорил:
— Делюк.
На обветренных лицах у пастухов открывались широко глаза. Не умея скрыть удивления и испуга, пастухи невольно отступали на шаг и бросали косые взгляды на Сэхэро Егора, которого они знали хорошо. «Быть беде!» — думал каждый из них, но молча подавал руку и Сэхэро Егору.
— Берите, сколько надо, но не так много, — сказал рослый ненец со шрамом над бровью, догадываясь о цели приезда неожиданных гостей, хотя присутствие Делюка вызывало сомнение. — Туси мы ничего не скажем. Нам ведь только по три месяца осталось быть у него. По-доброму хотим уйти.
Делюка смутила прямота и откровенность пастуха. Но хитрить и вводить в заблуждение безвинных пастухов ему не захотелось.
— Помногу ли он вам дает оленей? — поинтересовался он.
— Не знаем, — сказал маленький с круглым лицом мужчина и откинул капюшон. — По полсотне-то, может, даст.
— Добрый, выходит, у вас хозяин, — вставил Сэхэро Егор.
— Куда добрее! — бросил зло высокий со шрамом — Някоце он было дал семьдесят оленей, а через месяц угнал обратно. На голой земле оставил мужика. Ты ведь, Егор, знаешь его, Някоцю. Если бы не ты, он и сейчас торчал бы без оленей.
— Это верно, — подтвердил Сэхэро Егор и гордо взглянул на Делюка. — А мы, пожалуй, не тронем оленей. Живите. Люблю честность.
Не ожидавшие такого поворота дела пастухи были крайне удивлены, они молчали, как рыбы, не в силах обронить и слова.
— Поехали, — сказал Сэхэро Егор и первым стеганул вожжой по спине передового.
— Лакамбой'! — сказал Делюк и тоже поехал.
Отдохнувшие олени бежали легкой парящей рысью. Сэхэро Егор ехал первым и, поворачиваясь назад, смотрел на Делюка и улыбался. Когда отъехали уже далеко, Сэхэро Егор остановил упряжку, сошел с нарты и сказал:
— У них, небось, и подолы затряслись, да?
— Не говори!
— Но ничего: на три человека стало у нас больше друзей.
— Друзья ли они? Сам говоришь, что подолы затряслись. А птицу по полету видно.
— Да. И это правда, — легко согласился Сэхэро-Егор. — Смотря, куда ветер подует… Зря всё же мы оленей не откололи. Это вернее было бы.
— Согласен. Но жалко было на них смотреть. Особенно, когда я сказал им: лакамбой', — признался Делюк, лукаво улыбаясь.
— Жалеть не надо, но доверять можно, — сказал серьезно Сэхэро Егор. — Посмотрим, что у нас будет у Ячи.
— К нему, что ли, поедем?
— Что зря ездить? Прикидываться эдакими добренькими?
Тундра недолго качалась под нартами Делюка и Сэхэро Егора. Стадо они увидели издалека, Сэхэро Егор остановил упряжку возле края пасущегося стада и крикнул:
— Есть кто?
На голос никто не ответил. Только ближние олени удивленно подняли головы и с обычным равнодушием снова принялись за свой ягель.
— Должен же кто-то быть, — чуть ли не в досаде бросил Делюк кинувшемуся отпускать с поводков собак Сэхэро Егору и тут же показал подбородком: — Смотри!
К Делюку и Сэхэро Егору неслись сразу четыре упряжки. Первым ехал сам Ячи.
— И хозяин тут, — сказал Делюк и, взглянув на Сэхэро Егора, улыбнулся таинственно.
— Это — хуже! — еле слышно, чуть ли не одним носом прогундосил Сэхэро Егор и сделал кислое лицо.
— Ничего, — сказал спокойно Делюк. — Это мы ещё посмотрим.
Сэхэро Егор серьезно был озабочен появлением Ячи, потому что осенью прошлого года тот ранил его в ногу. Стрела попала в икру и не задела кость, и только потому Егор не хромал.
Узколицый Ячи не скрывал враждебного взгляда. Делюк видел, как на его узком лбу хмурились брови, когда тот поворачивался к нему.
— Какими ветрами? — сказал всё же Ячи, подавая руку Делюку. — Потом он повернулся к Сэхэро Егору: — Тьфу! А ты — не человек!
— Кто же он? — спросил серьезно Делюк.
— Вор! — бросил Ячи зло и, потемнев лицом, отвернулся.
— И вором надо родиться, — сказал Делюк, как бы машинально, и, собирая волю и внимание, приказал мысленно: «Усните! Сейчас же усните!» А сам показал поднятый кверху указательный палец: — Видите?
— Палец. Твой палец. Нгумбъя[52]. А что? — за всех ответил Ячи.
— Ничего. Сейчас вы уснете. Все уснете, — твердо и решительно сказал Делюк и приказал: — Спать!
Сэхэро Егор стоял с открытым ртом. Он видел, как у тех подогнулись вдруг ноги, и они упали на землю, безвольно раскидав руки. Все они лежали, посапывая и сонно шевеля губами.
— Ловко ты их! Ловко! — хлопая руками по подолу малицы, голосил Сэхэро Егор не то от радости, не то от удивления.
— Пусть зубы не скалят! — сказал Делюк, разглядывая спящих. — А нам, пожалуй, пора!
19
Делюк ехал впереди, показывая дорогу. За ним по холмистой тундре неслось стадо примерно в пятьсот голов, поднимая на ягельниках водяную пыль. Стадо подгонял Сэхэро Егор. Его голосистые собачки с громким лаем носились от одного края стада к другому, покусывая за задние ноги отстающих животных. На их лай и шум стада подавали голоса любопытствующие сятуки[53], высунув из-за травянистых кочек симпатичные рыжие мордочки.
На красноватом от горного ягеля холме Делюк остановил упряжку и стал поджидать Сэхэро Егора. Олени густо облепили холм, жадно хватая мягкими губами сладкий ягель.
— Сейчас, должно быть, они уже проснулись, — сказал Делюк, когда Сэхэро Егор подъехал к нему и бросил на землю хорей и вожжу. — Но ты не бойся: они и не вспомнят, кто у них был.
— Неужели?! — округлились глаза у Егора. — Как не вспомнят и не заметят, если мы столько оленей угнали?
— Может, и вспомнят и даже заметят, что нет оленей, но не беда, — начал успокаивать Сэхэро Егора Делюк. — Ты видел глаза у Ячи?
— Да. Они были полны гнева и страха!
— Знал он, с кем имеет дело, да вот излишняя злость его подвела, — сказал Делюк, глядя мимо Сэхэро Егора. — Держал бы язык за зубами, не кичился бы и, может быть, всё мирно было бы.
— Мне не привыкать, — махнул рукой Сэхэро Егор и добавил гордо: — А в чужую шкуру я не хочу рядиться. Каков есть!
— И не надо! — подтвердил Делюк и заметил: — И кипятиться теперь тоже ни к чему.
— Не ожидал я такого, — честно признался Сэхэро Егор. — Думал, снова стрелы заговорят. С Ячи у нас свои, старые счеты. Нога у меня уже зажила, но рана на сердце всё ещё ноет. Видеть я не могу этого Ячи!
— Тогда зачем же ты к нему ехал? У него-то, думаю, больше причин ненавидеть тебя.
— Думаю, что — да, — согласился Сэхэро Егор.
— И я так думаю, — подтвердил Делюк и показал кивком на разбредающееся уже стадо: — А теперь мы куда с ними?
— Погоним пока на восход, к Камню. Там видно будет, — заговорил живо Сэхэро Егор, недавнюю робость его будто рукой сняло. — При выходе с гор реки Варакута торчит с чумом без оленей Лабута Ламбэй — могучий охотник и сильный человек. Почти год, как он там. Рыбу ловит в реках и озерах, на зайца и куропатку ходит. Песца умеет поймать. Сколько-то оленей у него от копытки пали, но большая часть их ушла со стадом Ячи, когда тот проходил по осени на зимние пастбища мимо его чума. Огромному стаду что стоит увести с собой кучку оленей? Потом Ячи Лабуте язык показал и кулаком погрозил, когда тот пришел в его стойбище, чтобы отделить своих оленей. «Не надо было спать. Оленей твоих я не видел. Не знаю, — сказал он. — А если тебе нужны олени — иди ко мне в работники, и лет через пять будут у тебя олени». Лабута не стал спорить с Ячи, потому что в руках у того был лук, а у него — ничего. Простор — хозяин, он безмолвен. С богачом один тягаться не будешь, и спорить с ним — пустое дело. Он отвернулся и пошел.
— Ты предлагаешь гнать стадо к Лабуте Ламбэю? — брови у Делюка резко подпрыгнули вверх. — Далеко ведь. Ой, как далеко!
— Далеко, но что делать? Стадо отсюда дня два надо гнать, — сказал Сэхэро Егор и, помолчав, добавил: — Чум-то мой — на Харате Яха, в дне доброй езды от чума Лабуты. Я и один могу погнать оленей — погони, наверно, не будет? — но хотелось, чтобы Лабута Ламбэй и тебя увидел, Делюк. Широкая у него спина. Мало ли что? В жизни всё бывает. Люди друг друга должны знать.
Делюк посмотрел на Сэхэро Егора изучающе.
— Тебя одного… в тундру?! С оленями?! — Делюк прищурил правый глаз. — Нет! Не отпущу! Представь, что говоришь-то!
«Мне не привыкать», — чуть было не выпалил Сэхэро Егор, но, подумав, сказал:
— Тебя-то зачем зря в такую даль тащить?
— Может, и не зря? — улыбнулся добродушно Делюк и, вытянув вперед правую руку, на пятке одной ноги сделал полный круг вокруг себя. — Смотри, в тундре сколько холмов! Из-за каждого может выскочить упряжка. И не одна! Ты же сам знаешь, что за тобой вся тундра охотится.
— Знаю: охотится, — быстро нашелся Сэхэро Егор. — Но только не вся. Богачи — это ещё далеко не вся тундра!
— Иной батрак за хозяина, не задумываясь, не только стрелой пронзит, но и зубами горло перегрызет, — опять глядя вдаль мимо Сэхэро Егора, задумчиво сказал Делюк и резко бросил: — Хватит! Поговорили — и хватит! День идет, и нам пора в путь.
Сэхэро Егор покорно шагнул к своей нарте.
20
В дороге, пока они два дня гнали к Камню часть стада Ячи, Делюк всё больше убеждался, что Сэхэро Егор был прав: он и один мог погнать стадо. Холмы, потом и сопки, которые становились всё выше и круче, мирно катились назад и лишь, отзываясь на шум идущего стада, на утренней и вечерней заре оглашались звонким песцовым лаем.
— Уы-ы-ы!.. — по-женски печально и горько рыдали где-то на озерах большие пестрые гагары с черным зобом.
— Когарлы! Когарлы! Ког-гар-р-рлы!.. — как будто смеясь над ними, над их медлительной неуклюжестью, бойко отвечали им паеры — юркие краснозобые гагары, которые по древнему ненецкому преданию доставили со дна морского на лед землю.
— Хфр-р!.. — Делюка передернуло, потому что он переваривать не мог эту вечернюю перекличку двух видов гагар. Когда Делюк был ещё маленьким, так рыдали по погибшим в море мужьям поморки, а в селе, в большом доме с резными окнами гуляла свадьба, и голосистые бабы одна громче другой пели, плясали — что, казалось, округа шла ходуном. Это Делюку на всю жизнь запало в душу, и потому он не мог спокойно слушать перекличку гагар, напоминавшую ему о тех далеких днях своего полуголодного детства, где веселье смеялось над горем. Кашлянув, он привстал на полозе и погнал упряжных. Олени пустились в бег, бойко хлынуло за упряжкой и стадо.
— Э! Делюк! Что случилось?! — услышал он далекий голос Сэхэро Егора и невольно придержал вожжой передового. Пелеи перешли на шаг.
Когда под лучами вечернего солнца улыбчиво открылся полукругом обрывистый берег какой-то реки, Делюк залюбовался и остановил упряжку. Не в силах оторвать взгляд от такой красоты, он и не заметил, как подъехал к нему Сэхэро Егор. Тот долго смотрел молча на застывшего на месте Делюка, пытаясь понять, что с ним, и сказал:
— Вот это и есть река Варакута. Каждой весной сюда прилетают гнездиться вара[54] — аж неба не видно от них! Здесь где-то и должен быть чум Лабуты Ламбэя.
— Красиво! Дух захватывает! — разведя руками, вздохнул Делюк и спросил удивленно: — Чум? Лабуты Ламбэя?!
— Да, чум Лабуты где-то здесь должен быть, — подтвердил Сэхэро Егор. — Весной-то он возле этого Ястребиного берега стоял.
— Красивые здесь места! — сказал снова Делюк, всё ещё восхищаясь. — И названия красивые. — Повернулся к Сэхэро Егору: — Найдем. Без оленей не уйдет твой Лабута Ламбэй.
— Это так, — подтвердил Сэхэро Егор и всё же добавил: — По полной воде и на лодке можно уйти.
— На лодке можно уйти, — рассудил Делюк. — Но я бы не ушел от такого места. Красота! И рыба, и зверь, и гусь — всё тут, что надо для жизни. И дикий олень здесь, наверно, летует?
— Его-то здесь и зимой много, да только не всегда на лет стрелы подпускает.
— А эти сопки… эти крутые берега на что? Природа сама всё сделала, чтобы только охотиться на дикарей, — сказал Делюк, и глаза его загорелись в охотничьем азарте, будто он уже шел на диких оленей. — Из-за любой сопки можно подойти на выстрел. Из-за любого мыска! Хочешь — сверху стреляй, хочешь — снизу!
— Верно. Это верно, когда на оседлости. А если у тебя олени? Не будешь же ты их на черной земле держать? Пасти?
Делюк взглянул на Сэхэро Егора с укоризной.
— Хэ! Я и говорю об оседлости. Такая земля не даст человеку помереть с голоду. — Делюк вдруг поднял голову и медленно повернулся лицом к ветру. — Чуешь? Дымом пахнет. Ивовым дымом.
Сэхэро Егор тоже понюхал воздух и сказал:
— Да, дымом пахнет.
Не евшие толком олени, которых гнали почти двое суток, густо облепили склоны холмов, на одном из которых стояли упряжки. Олени жадно хватали ягель, травы и цветы, и казалось, они не прочь обглодать и холм до песка и глины.
Не обронив ни слова, друзья молча подняли хореи, взяли вожжи и поехали. Резвоногие упряжные мигом вынесли их на ближний, тоже высокий берег реки. Делюк и Сэхэро Егор увидели на пойменной низине чум в белых берестяных нюках. Сверху он казался белой лепешкой на ровном зеленом лугу.
Сойдя с нарт, они осторожно спустили упряжки вниз и, оказавшись на пойменном лугу, которым ещё не овладели осенние ветры, подъехали к чуму. На лай собак высунулась из чума женская голова и тотчас же скрылась за пологом.
Егор и Делюк стояли возле своих нарт, глядя на чум. Над санями без постромок, вздернутыми на груды камней, на сыромятных ремнях, натянутых между воткнутыми в землю шестами, висели тушки рыб и жирные их пупки. Пахло ивовым дымом, речной тиной, топленым рыбьим жиром.
— Смотри, — Делюк показал рукой левее чума, и Егор увидел нарезанное тонкими пластами оленье мясо, которое вялилось. — А ты говорил — дикари на лет стрелы не подпускают! Не тынзеем же он его поймал.
Вскоре вышел из чума мужчина, видимо, сам хозяин чума. Он на миг поднес ко лбу согнутую кисть руки и широким уверенным шагом направился к приезжим, заранее протягивая руку для приветствия Сэхэро Егору.
— Здорова! Опять здорова, Егор! — говорил он, пожимая руку своего старого друга и бросая любопытные взгляды на Делюка. Голос его звучал будто из порожней бочки. — Вижу, ты не один стал ездить по тундре. Кто же он — твой напарник? Глазами какого рода он смотрит на свет? — и он подал руку Делюку. — Лабута я. Из рода Ламбэй. Думаю, ты — наш, свой. Чужие люди не ездят с Сэхэро Егором. Кто же ты? Корни твои — кто?
Совсем ещё юное лицо Делюка выражало явное смущение, он растерянно переводил взгляд то на Егора, то на Лабуту.
— Делюк, — сказал он, пожав руку Лабуте. — Отец мой был Паханзеда, а дед — не знаю… тоже, конечно, Паханзеда.
— Слышал про такой род. Слышал. На Камень и на Ямал иногда они заезжают. Большой это род. Сильный.
— Не знаю, — обронил бесхитростно Делюк и добавил: — Корней своего рода я не искал, и они, думаю, не искали меня.
Когда Делюк говорил, от смущения глядя себе под ноги, Сэхэро Егор толкнул Лабуту локтем — ты, мол, не наседай на него: не простой он человек. Тот хотя и не совсем понял Егора, но у него мигом улетучилась бесцеремонность, которая сменилась чуть ли не испугом. Лабута знал, что бесстрашный Егор зря предупреждать не будет: Делюк, выходит, — птица не рядовая, шаман он — не меньше!
Подавив волнение, Лабута улыбнулся широко и сказал, разведя руками:
— Что мы тут языки чешем! Чума, что ли, нет? Добрые люди добрые слова в чуме сказывают. Идем!
И они пошли. Когда Делюк оказался на шаг впереди, Лабута взглянул на Егора, и тот повел рукой вокруг головы против хода солнца. И этот знак языка жестов подтвердил догадку Лабуты, что они имеют дело с могучим шаманом. И Лабута всё понял, а потому плечи у него заметно упали, сделались покатыми, сам он сгорбился слегка и стал вроде бы ниже ростом. Егору теперь Лабута Ламбэй показался стариком, хотя было ему только сорок два года от роду.
21
В чуме горел костер, но пламя было бледным. Зато большая дыра макодана довольно хорошо освещала внутреннее пространство, и было светло.
На жилой половине чума, на латах, суетилась возле костра женщина лет сорока. Она выбирала из закипающего котла накипь. На крюке рядом с котлом уже бунтовал чайник, выплевывая из горлышка прозрачную Струю. Женщина спешно отодвинула чайник от огня, сняла его с крюка и поставила на край тюмю — железного листа, на котором пылал костер.
Увидев вошедших, женщина встала в растерянности, разведя слегка руки, будто могла упасть. Ещё по-молодому румяное её лицо, озаренное пламенем, было мило и привлекательно. Большие черные глаза её под густыми неширокими бровями на высоком лбу часто мигали, видимо, от дыма, аккуратный прямой нос чуть-чуть подался кверху.
— Здоровы будем! — сказал Делюк, глядя на неё, потом перевел взгляд на пелейко и застыл на месте: на коврике из ивовых прутьев, вытянув ноги, сидела румяная девушка и шила пимы. Не в силах оторвать взгляда от её милого лица и аккуратных проворных рук, он молча смотрел на неё, потом перевел взгляд на Лабуту и обронил тихо:
— Так и живем?
— Живем, — ответил тот после некоторой паузы и добавил: — Как ещё жить-то?
Делюк, не ожидавший такого вопроса, пожал плечами, но тут же нашелся:
— Надо жить.
«Сопляк! Под носом ещё не высохло, а жить чуть ли не учит!» — подумала Нюдяне, жена Лабуты Ламбэя, и, поджав зло губы, отвернулась презрительно.
Мужчины рассаживались на край оленьих шкур на постели, подбирая аккуратно ноги. Нюдяне поставила на латы перед ними стол на низких ножках, который через минуту ломился от снеди. Это были вяленые пупки пеляди, чира, сига, их соленые тушки, а в большой деревянной чашке, слезясь от жира, горели ало нежные куски гольца и семги. Тут же рядом, тоже в открытой деревянной чашке, лежали куски свежего мяса дикого оленя. Пахло аппетитно жареным мясом. Это Нюдяне обжаривала на огне посыпанные солью оленьи ребра.
— Ешьте с дороги да рассказывайте, чем земля живет? О чём она говорит? — сказал Лабута, первым принимаясь за еду.
— Земля-то живет, как жила, — улыбаясь лукаво, посмотрел на Лабуту Сэхэро Егор. — А вот Ячи поклон тебе шлет.
Руки у Лабуты мелко задрожали, брови насупились, лицо скривила злая улыбка. Делюк этого не видел, он невольно тянулся глазами на другую половину чума, где шила пимы девушка. «Это дочь его или сестра жены? — думал про себя Делюк. — Красива!»
— Ячи, говоришь? — повернулся, наконец, лицом к Сэхэро Егору Лабута Ламбэй. — Будь он проклят твой Ячи! Волки бы его живьем разорвали! Или же… его же бешеные собаки!
Сэхэро Егор опять улыбнулся, посмотрел сначала на Лабуту, потом на Делюка и, увидев, что тот отвлекся, махнул рукой.
— Разорвут ли Ячи волки или бешеные собаки — не знаю, — заговорил он и снова взглянул на Делюка, который сидел безучастно, поглядывая то на макодан, то на пелейко. — А около пятисот рогатых от Ячи мы тебе пригнали. — Он кивнул на Делюка. — С ним вот, с Делюком, пригнали.
Лабута Ламбэй растерялся. Он знал, что не верить Сэхэро Егору нельзя. Если он говорит, то это так и есть.
Пришел, наконец, в себя и Делюк.
— Да, мы уже пригнали оленей. От Ячи пригнали, — сказал он, принимаясь за еду. — Тут, недалеко они… на сопках пасутся.
Лабута не знал, что сказать, а потому долгим вопросительным взглядом уставился на жену. Кивком головы показала та на подушки.
— В конце зимы, уже весной, волоча маленькие санки, я в Салехард ходил. Мешок песцов, две шкуры волка да шкуру росомахи надо было сдать, — сказал он, просунув руку к основаниям шестов под подушками и достал небольшой, литров на пять, дубовый бочонок. Спросил: — А эту еду вы… берете ли?
— Русская еда всегда в чести, — не замедлил с ответом Сэхэро Егор.
Снова глядевший на вторую половину чума Делюк молчал, будто вопрос хозяина чума не касался его. Чувствовала на себе взгляд Делюка и Ябтане, а потому она клонила голову ниже, чтобы не было видно её лица, и все же девичье любопытство брало своё: она поглядывала на Делюка из-под бровей. Чем-то ей явно нравился молодой стройный парень с добродушным открытым лицом и с большими черными глазами.
Занятый своими мыслями Делюк не видел, как Лабута открыл затычку бочонка и наполнил чашки вином.
— К чему же доброй еде на столе киснуть? Возьмем! — сказал Лабута, поднимая над столом полную с краями глубокую деревянную чашку и начал пить безотрывно небольшими глотками.
Выпили своё и Сэхэро Егор, и Нюдяне. Делюк тоже взял свою чашку. Он медленно поднес её к губам, выпил два глотка и, поставив быстро чашку на стол, встал и вышел на улицу, прижимая рот рукой.
Сидевшие за столом поглядывали друг на друга.
— Не брал он её, наверно, — сказал тихо Лабута Ламбэй.
— Мальчишка! — сказала с усмешкой Нюдяне.
— Молод он ещё, — подхватил Сэхэро Егор. — Да и не всем она, эта еда, по нутру.
Делюк вскоре вернулся и, тяжело дыша, сел на своё место, посмотрел внимательно на Лабуту Ламбэя и Сэхэро Егора. Он увидел, как на лбу у них засеребрились капельки пота. Ещё румянее стала и Нюдяне. Нет, она просто покраснела, и это подействовало на Делюка отталкивающе.
— Отец не брал её и я тоже не могу. Х-фо! Не надо мне больше! — сказал он, выплеснул содержимое своей чашки на костер, и почти до середины чума взметнулось вверх бледно-синее пламя, обдав жаром лица. — Вот какой огонь вы пьете!
— Не зря, значит, говорят, что сгорел от вина, — после недолгого молчания обронил задумчиво Лабута Ламбэй и откинулся на подушки. Ему теперь казалось, что в желудке у него мечется пламя, усилилась резь, и кружит голову.
Неприятную тошноту почувствовал и Сэхэро Егор, но не подал вида. Сказал:
— Не дело на одной ноге прыгать: возьмем-ка ещё по одной.
Содержимое вторых чашек у них пошло легче, но Делюк наотрез отказался выпить:
— Нет-нет, мне больше не надо.
Лабута Ламбэй закрыл свой бочонок, засунул его на прежнее место к основаниям шестов.
Когда уже был выпит чай, Сэхэро Егор и Делюк засобирались в путь.
— Олени твои на сопках. Гони их к чуму и живи, — сказал Лабуте Сэхэро Егор и стеганул вожжой по спине передового. Из-под копыт отдохнувших на привязи оленей поднялась водяная пыль.
22
На отдыхе после первой поверды, откуда друзья должны были поехать в свои чумы, Делюк подошел к Сэхэро Егору, встал молча и уставился на горевшие над горизонтом снежные вершины Полярного Урала.
Сэхэро Егор понял, куда смотрит Делюк, и спросил:
— Красиво?
— Всё здесь красиво! — вздохнув глубоко, сказал Делюк и озаренным каким-то внутренним светом лицом обернулся к Сэхэро Егору. — Ты видел дочку Лабуты Ламбэя? — и добавил с выдохом: — Она тоже… красива!
— Не спорю — красива, — равнодушно сказал Сэхэро Егор.
— И не надо спорить! — повысил голос Делюк, кажется, впервые за все время их знакомства и после короткой паузы заявил решительно: — Сейчас же вернемся обратно. Сватом будешь.
От удивления у Сэхэро Егора открылся рот, глаза его округлились и застыли неподвижно. Так он стоял с минуту, не зная, что сказать. Сэхэро Егор слышал, что весной этого года у Лабуты Ламбэя были сваты с Ямала, но с чем они ушли — не знал.
— У Лабуты… уже были сваты. Весной, — сказал он, желая отговорить Делюка.
— Ты будешь сватом! — отрезал Делюк, не желая слушать.
— Сватом… — повторил задумчиво Сэхэро Егор. — Дело это, правда, мне знакомо. Бывал я уже им. Не легкое и не всегда благодарное это дело. Но… где мы крюк от котла возьмем?
— Найдем, — не задумываясь, сказал Делюк, сверля глазами Сэхэро Егора. — У Лабуты найдем.
— У Лабуты?! — переспросил Сэхзро Егор, но, вспомнив, с кем имеет дело, покорно повернул оленей обратно.
Пригнавший уже стадо Лабута Ламбэй ходил с тынзеем между окружившими чум оленями — он или выбирал себе упряжных, или просто знакомился с животными, которые теперь принадлежали ему. Женщины разделывали олененка. Воткнув его рогами в травянистую кочку, Ябтане коленками прижимала к земле голову олененка, а Нюдяне, всем телом откидываясь назад, сдирала шкуру.
Занятые своим, хозяева чума не заметили возвращения недавних гостей. Собаки тоже не обратили внимания, а потому Делюк быстро забежал в чум — и вот уже, широко улыбаясь, он подал Сэхэро Егору черный от сажи деревянный крюк, на котором ещё совсем недавно висел над огнем котел Нюдяне.
— Хэ! Ты и крюк уже нашел! — сказал удивленно Сэхэро Егор.
— Как не найти? — казалось, Делюк удивился больше Сэхэро Егора, который только и думал, где бы взять крюк. — Нашел.
Когда Лабута Ламбэй подошел к женщинам, разделывавшим тушу олененка, Сэхэро Егор, припадая на крюк, как на посох, направился к хозяевам стойбища. Следом шагал Делюк. Вид у него был такой, будто всё вокруг он впервые видел.
Склонившиеся над тушей олененка хозяева чума подняли головы и замерли. Отец и мать то и дело поглядывали на дочь, стоявшую между ними в худой домашней панице — хорече, которая ей была только до колен, и невольно переводили взгляды на припадающего на крюк Сэхэро Егора и Делюка, шедшего за ним.
— Так я и думал! Но не к месту! Как не ко времени они это затеяли! — шептал растерянно Лабута и косился на дочь. — И доченька-то в хорече!
— Ты не соглашайся, придумай что-нибудь: обещана, мол, она или ещё что там, — умоляюще шептала Нюдяне.
— Хэ! Не согласишься тут! Это тебе не Туседы с Ямала! — бросил резко Лабута. — Делюк! Не тот он человек Делюк, чтобы неправду ему говорить! Он и мысли-то, наверно, слышит.
Нюдяне подала знак рукой, чтобы Лабута замолк, потому что подходили уже сват и жених.
— Твое слово, Лабута. Каково оно будет? — выпалил Сэхэро Егор, подойдя. Делюк остановился поодаль и косил глаза за реку, словно затеянное сватовство вовсе его не касалось.
Лабута Ламбэй переминался с ноги на ногу, мысли в голове роились, как мошкара. «Сватовство — дело житейское. Я могу и отказать, это — моё дело. Но Делюк вроде бы парень неплохой. Умен, строен, красив. Да что тут я думаю-раздумываю?» — рассердился на себя, поднял голову, посмотрел внимательно на дочь, перевел взгляд на свата и жениха, долго смотрел на них молча, будто изучал их и не мог понять, что это за люди и зачем они явились.
— Признаться, я не ожидал такого поворота дела. Вернее, такой спешки. Но жизнь идет. Берёт она своё. Не скрою: вы — не первые, были уже сваты, с Ямала. Прямого отказа я им не дал, но и в надежде не оставил, — сказал Лабута Ламбэй без заметного волнения, своим обычным голосом, и перевел взгляд на дочь. — Если не имеются в виду рогатые, что вы пригнали, то десять песцов, думаю, вполне заменят её руки в нашем хозяйстве.
— Нет-нет, эти рогатые не в счет. И речи нет о них, — заговорил вдруг Делюк. — А песцов… и ста не жаль!
— Сотни — много, а десять — в самый раз. Я ведь и сам живой. Звериные следы ещё не разучился распутывать, — оказал Лабута Ламбэй и спросил: — Месяц ещё подождете?
Плечи у Нюдяне затряслись, и она закрыла лицо руками.
— Будто не дочь ты свою отдаешь, а собачье дитя! — сказала она Лабуте и бросила, перейдя на крик: — И трех месяцев мало! Надо и одеть её по-людски, и сани приготовить!
— И трех дней много, — снова заговорил Делюк. — Живые мы. И оденемся, и сани будут. А дни у меня — не лишние. Как и ты, Лабута, я тоже с надеждой смотрю только на свои руки. Надо поднимать маленьких братьев, одевать и кормить мать и бабушку. Как у тебя, у меня тоже только две руки. И оленей — не больше твоего.
Лабута Ламбэй задумался. Он уже принял решение и собирался нарезать для угощения печенку и ребра. Рука его тянулась к ножу, воткнутому в шею туши олененка, но шла мимо и хваталась за ветку сломанного мохнатого рога. На разломе молодого рога ладонь пачкалась густой, липкой кровью, и он долго тер руку о травяную кочку возле ноги.
— И трех дней много, говоришь? — спросил наконец Лабута Ламбэй.
— Много! — ответил за Делюка Сэхэро Егор, чуя перелом в душе Лабуты, и добавил: — Шумные свадьбы — не по нам, если в каждом из наших стойбищ всего лишь по одной надежной сюме[55].
Лабута долго молчал, потом сказал:
— Толком рассудить — ум твой верно ходит, правильно говорит язык: долгие, шумные свадьбы — не наш удел. — И озабоченное лицо Лабуты Ламбэя невольно поднялось вверх, он показал глазами на небо: — Только вот… он что окажет? Не худо ли будет без свадьбы-то? Не грешно ли?
— Не мы первые и не мы последние так делаем, — решил успокоить его Сэхэро Егор и улыбнулся широко: — Да сам-то ты — не забыл, небось, как свою Нюдяне увез тогда?
— Украл, — чистосердечно признался Лабута. — А что? Она сама этого хотела. — И бледное лицо Лабуты осветила лукавая улыбка. — Грехов у меня нет. Нет!
— А если мы тоже украдем Ябтане? — как бы подзадоривая хозяина чума, Сэхэро Егор поглядывал то на Делюка, то на Лабуту. Ябтане отвернулась, задергались мелко её маленькие, покатые плечи. Она готова была провалиться сквозь землю, чтобы не слышать отвратительных слов свата и отца.
— Не надо! Не смей говорить такое! — подбежав, Делюк схватил Сэхэро Егора за плечо и повернул его лицом к себе. — Я никогда не пойду на это! Лабута и Нюдяне пусть сами решают. И Ябтане пусть думает.
«Нет! Нет! Нет!!! Я не поеду!» — хотела крикнуть Ябтане, но не нашлось у нее сил сказать это, и она стояла, как каменная, спиной ко всем, кто в этот миг решал её судьбу. Да и крикни всё, что думала, — разве её, девчонку, кто-то станет слушать?! Рано или поздно всё равно отдадут её кому-то, вернее, продадут, а Делюкг хотя она его не знает, в глубине души ей был по сердцу. Почему? Она этого сама не понимала, но он приглянулся с первого взгляда, и она даже подумала: «Вот он — мой!»
— Ладно, — сказал Лабута, тяжело опуская веки. — Увези уж, Делюк, мою дочь сегодня, вижу, ты этого хочешь, — но в месяц падения рогов, между зимней и весенней охотой, думаю, найдется день для искупления грехов. Наших грехов перед Нумом.
Делюк был несказанно рад, от счастья готов был прыгнуть до неба, но внешне он остался спокойным, на его лице не дрогнул ни один мускул.
— Да, найдется день, — сказал он обыденно.
Хозяева чума и гости встали вокруг большой чаши из бока олененка, наполненной до половины круто посоленной кровью, в которой плавали большие куски печени. Лабута в честь своей дочери щедро наливал в деревянные чашки вино. Запивали кровью крутого посола, закусывали нежной печенкой.
— Чем не свадьба? Всё тут есть, кроме гостей, — сказал Сэхэро Егор после первой чашки.
Слова его ушли мимо ушей, потому что веяло от них не то насмешкой, не то издёвкой.
Делюк всё же выпил с трудом свою чашку, но от второй отказался.
— Не для меня эта еда. Не могу, — сказал он и принялся за поджаренные на огне ребра. — А вот это — еда! Своя, родная! От нее нет ни умопомрачения, ни болей в голове.
После третьей чашки языки Сэхэро Егора и Лабуты Ламбэя развязались. Они уже забыли о поводе своего торжества. Лабута порывался рассказать, как тяжело и одиноко без оленей, сколько горя хлебнул он в стороне от людей — дикие олени все его глаза унесли! — а с языка Сэхэро Егора то и дело срывалось: «То было ночью…», «туман такой, что и носа на лице не видно…», «пурга только начиналась…».
Делюк кивнул в сторону вечернего солнца:
— День-то уходит.
— Нам, видно, пора в дорогу, — спохватился Сэхэро Егор, поглядывая на Лабуту.
Хозяин чума огляделся вокруг и крикнул:
— Женщины, где вы?
Только Делюк видел, как Ябтане и Нюдяне спешно ушли в чум, когда Лабута и Сэхэро Егор увлеклись разговором.
Слова Лабуты Ламбэя повисли в воздухе. Было тихо, если не считать шелеста вянущей рыбы на тугих сыромятных нитях возле чума. Егор и Лабута, не заметившие, как ушли женщины, смущенно поглядывали друг на друга и пожимали плечами. Но вот распахнулся полог, и Нюдяне с гордо поднятой головой повела дочь за руку к мужчинам, которые стояли возле полутуши олененка.
Красивое лицо Ябтане внешне ничего не выражало, и лишь едва уловимая бледность на спинке её прямого носа и на губах выдавали волнение. На ней была новая паница с неброскими, умело и по вкусу подобранными орнаментами, и нарядные пимы.
Лабута Ламбэй стоял гордо, расправив сильные плечи. Ноги его казались вросшими в землю. Его волевое непроницаемое темное лицо не выражало ни радости, ни волнения. Делюк внешне тоже был спокоен, и лишь необычайно яркий блеск его глаз выдавал радость и большое душевное волнение. Зато за всех открыто радовался и не скрывал этого Сэхэро Егор, будто женихом был он, а не Делюк.
— Можно и ехать, — сказал Делюк, когда мать и дочь подошли к мужчинам, и шагнул к своей нарте, как будто это был его обычный, рядовой отъезд.
Взглянув мельком на отца и мать, Ябтане пошла за Делюком. У Лабуты Ламбэя только расширились зрачки открытых широко глаз, но лицо у него по-прежнему было спокойным и непроницаемым. Из глаз Нюдяне брызнули крупные слезы. Подняв угловато плечи и закрыв лицо руками, она зарыдала в голос.
Сэхэро Егор, ожидавший увидеть прощальные поцелуи и даже возню с упирающейся Ябтане, был настолько удивлен раскованностью девушки, что у него не нашлось и сил сдвинуть ноги. Потом он как бы от досады махнул рукой, ещё раз посмотрел на Лабуту Ламбэя и Нюдяне и вслед за женихом и невестой пошел к своей нарте, так и не оказав ни слова.
…Упряжки неслись по ровной прибрежной низине, как на скачках. Боясь упасть с нарты, Ябтане вцепилась руками в малицу Делюка на спине. От быстрой езды и от ощущения рук девушки у себя на спине у Делюка приятно щемило сердце. Он поглядывал на Ябтане через плечо и говорил:
— Держись, Ябтане! Крепче держись!
За ними, как на крыльях, летела легкая упряжка Сэхэро Егора.
Нюдяне и Лабута Ламбэй всё ещё стояли на месте и молча глядели друг на друга. Слова были лишними.
24
На стоянке после второй поверды упряжные Делюка и Сэхэро Егора нуждались в отдыхе. Оленям надо было пощипать ягеля, чтобы потом каждой упряжке поехать своим путем. Делюк и Сэхэро Егор так и сделали. Вечерняя тундра под посиневшим слегка небом была, казалось, в ожидании чего-то таинственного, необычного. С гребня горы Нилкатей, где стояли упряжки, волнами до самого горизонта бежали пологие холмы, лысые горбы которых от скользящих лучей солнца были подернуты розовой дымкой. На душе у Делюка было неспокойно, сердце терзала непонятная тревога, но внешне он был спокойным, и лишь вовсе не свойственная ему замедленность движений выдавала волнение. Этого ни Ябтане, ни Сэхэро Егор не заметили.
Делюк усадил Ябтане поудобнее на нарту, закрыл её колени теплой шкурой няблюя[56] и собрался ехать, Сэхэро Егор взял его за руку и повернул к себе.
— Думаю, скоро мы встретимся, — сказал он. — Мне тебе так много ещё надо сказать. Но… езжай. В чуме, наверно, давно ждут. Потеряли.
— Ждут. Конечно, ждут. Три дня, как за ветром носимся! — бросил Делюк небрежно, точно негодуя.
— Хороший это ветер… Ябтане! — не смог скрыть удивления и досады Сэхэро Егор. Ему было обидно, что все их хлопоты и дела Делюк назвал чуть ли не презренно «погоней за ветром». «Какая неблагодарность! Нет! Так нечестно!» — думал Егор, вспоминая сватовство в чуме Лабуты Ламбэя.
От цепкого взгляда Делюка, конечно, это не ускользнуло, но он улыбнулся широко, будто ничего не понял, схватил Сэхэро Егора за плечи и, глядя ему в глаза, сказал:
— Спасибо тебе и за Ябтане, и за то, что ты есть! Большое спасибо! Многое ещё нам надо друг другу сказать. Приезжай, когда тебе надо, и я не проеду мимо твоего чума.
— Нум арка![57] — Сэхэро Егор поклонился солнцу. — Будем жить — свидимся.
— Свидимся, — сказал Делюк и, стеганув по спине передового, поехал.
Олени рванули в бег, но постепенно перешли на шаг, и нарта лениво закачалась на кочках. Упряжные шли так довольно долго, и Делюк не тревожил их ни хореем, ни окриками. В ночную тишину иглами впивался треск суставов оленьих ног, да едва слышно шипела под полозьями росная трава. Этот надоедливый однообразный шум, мерное покачивание нарты на кочках, слабые лучи большого красного солнца, как бы присевшего на пологий холм перед новым взлетом, неодолимо клонили ко сну, и потому не привыкшая к долгой ночной езде Ябтане спала сидя, покачиваясь невольно от толчков нарты.
Временами Делюк оборачивался назад, долгим нежным взглядом любовался Ябтане, её милым лицом, спелыми, цвета зреющей морошки, губами. Глаза у Ябтане были закрыты, черный веер длинных ресниц плотно закрывал веки, будто, широко расправив хвосты, сидели на её лице две куропатки. «Милая ты моя птичка!» — подумал Делюк и всё же остановил упряжку. Он осторожно подложил под голову Ябтане мягкую шкурку няблюя, которую достал из замшевого мешка. Ябтане открыла глаза и улыбнулась по-детски светло и ласково. Делюк, чувствуя, как тает его душа и как по всей груди разливается приятное тепло, не смог сдержать порыва нежности и волнения и, припав к лицу Ябтане, поцеловал её в глаза. На щеках у Ябтане вспыхнул румянец, а на высоком лбу выступили бисеринки пота. Глаза её, щеки и губы засветились каким-то теплым внутренним светом.
— Так будет лучше, — ласково шепнул Делюк и кончиками пальцев коснулся лба Ябтане. — Спи. Дорога ещё длинна.
Лениво ползли назад холмы, сопки и полоски ивняка, серебристые от листьев и росы. Ябтане лежала с открытыми глазами, она всё ещё явственно ощущала прикосновение губ Делюка, но волнение постепенно унималось.
Лазурное небо становилось всё светлее и выше, а в глаза Ябтане текла синяя мгла, властно заволакивая свет, — и вот уже она, как бы погруженная в пуховую яму, беззаботно спала, точно ребенок в люльке. Она не чувствовала покачивания нарты, ей ничего не снилось, но и во сне она была счастливой, а потому легкая доверчивая улыбка не сходила с её нежных губ.
Делюк тоже был счастлив, но тревога, кольнувшая сердце ещё в чуме Лабуты Ламбэя, не покидала. По мере же приближения к своему стойбищу она усиливалась. Он тут же вспомнил, как часто жаловалась на боли сердца мать, и невольно подумал: «Неужели с ней что? Нет, не может быть! Не может быть этого, хотя… не каменная она. И камень с годами крошится. Но нет, не та боль душу гложет. А может, что с бабушкой?»
Чтобы не гадать зря, Делюк приподнял хорей, и, как бы очнувшись ото сна, олени начали перебирать ногами побыстрее и вскоре перешли на рысь. Цветы, кусты и травы в открытом проеме нарты между полозьями слились в розовато-зеленое шелковистое полотно, окрестные холмы замелькали назад. От толчков нарты на кочках Ябтане проснулась, но не открывала глаза, желая продлить хоть на миг свой безмятежный сладкий сон.
На ровной поляне на берегу реки Надер показался чум. Делюк через плечо взглянул на Ябтане и, увидев, что глаза у неё закрыты, погнал оленей ещё быстрее.
25
Собаки на стойбище хотели было поднять брехню, но в сошедшем с нарты человеке узнали хозяина и, завиляв хвостами, начали ласкаться. Белый, как горностай, Хакця с угольно-черными ушами на вставшую рядом с хозяином Ябтане посмотрел изучающе, с явным недоверием.
— Это Хакця, твоя хозяйка, Ябтане, — сказал Делюк собаке и перевел взгляд на Ябтане. — Настоящая твоя хозяйка. Будьте знакомы.
Опустив голову, кося одним взглядом на Делкжа, пёс подошел не спеша к Ябтане, понюхал, лизнул ей руку и завилял хвостом. Подскочили к ним и две другие собаки, маленькие, мелкошерстные, с ещё по-щенячьи кривыми ногами. Прыгая и повизгивая, они тоже завиляли хвостами.
— Милые собачки, — сказала Ябтане. — Умницы!
— Хакця неглуп, он всё понимает, — подтвердил Делюк. — Псу скоро год. А эти, — он кивком показал на двух других, — щенки ещё. Глупы. И по полгода им нет. Вместе со своими хозяевами, с братьями моими, им расти ещё и расти.
Делюк привязал вожжу к переднему копылу ближнего вандея, и они с Ябтане пошли к чуму. Сердце у Ябтане забилось так, что оно, казалось, вот-вот выскочит. Возле полога она схватила Делюка за руку.
— Страшно мне! — прошептала она еле слышно. — Страшно и…
— Я же говорила, что он, кажется, не один! — донёсся из чума громкий голос Тадане.
Делюк взглянул на побледневшее лицо Ябтане и сказал:
— Не бойся. Это бабушка. Она очень добрая и мудрая. Глуховата только, но приложится ухом к шесту — все шаги возле чума слышит. Даже далекий шум нарты может услышать.
Делюк пропустил Ябтане вперед.
В чуме стало так тихо, что было слышно, как билась муха между шестами возле макодана. Сидевшая на постели бабушка Тадане подслеповатыми глазами оценивающе вглядывалась в юное румяное лицо девушки. Из рук Санэ выпала кора березы, которой она собиралась запалить костер. Склонив голову набок, она тоже смотрела на Ябтане, мерила её с ног до головы глазами. «Мила и красива! — думала она, радуясь за сына, и тут же спросила себя: — Но что сидит в этой красивой голове?!» Братья-близнецы спали, и под большим заячьим одеялом их не было видно.
— Ябтане. Это Ябтане. Новая хозяйка чума. Примите её как свою дочь, — нарушил затянувшееся молчание Делюк. — И берегите её.
Санэ встала быстро, обняла и поцеловала Ябтале в лоб, в обе щеки и снова обняла её.
— Здравствуй, Ябтане! — сказала она, глядя невестке в глаза. — Очаг в нашем чуме, вижу, надежно будет гореть.
Встала и Тадане. Она тоже поцеловала жену внука в лоб и щеки.
— Пусть никогда не гаснет огонь в нашем роду! В роду Делюка Паханзеды, — сказала она громко. — Будьте счастливы, дети мои! — Она взглянула на внука. — Только вот… — голос её упал чуть ли не до шепота, — со вчерашнего дня мы одни остались возле костра: оленей будто большая морская волна слизнула. Стоявшее возле чума стадо быстрее мысли унеслось за спину гор Надера. Малые твои братья говорят, две рыжие собаки угнали оленей. Людей они не видели.
Делюк молча застыл на латах пелейко, куда законной хозяйкой чума он было собрался посадить Ябтане. Ошеломленный словами бабушки, теперь не мог он шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Вот что тревожило меня со вчерашнего дня!» — понял Делюк. Но застывшее на какое-то мгновение его лицо ожило улыбкой, и он сказал:
— Ничего. Ничего страшного. Это ещё не беда. Я-то думал — хуже. Голова у меня на плечах. Упряжка тоже есть.
Ябтане сразу поняла ход мыслей мужа, потому что она до сих пор была под впечатлением вчерашнего утра, когда Делюк и Сэхэро Егор пригнали к чуму её отца стадо оленей. Чьих-то чужих оленей! Говорили, вроде бы Ячи. Это было несколько странно, но вполне понятно и оправданно: ведь и их оленей в свое время без малой на то причины угнал какой-то Ячи, а потом оскорбил и даже унизил её отца, когда он пришел к нему в стойбище за своими оленями. И потому она теперь не могла подумать иначе, ибо Ябтане не знала и не могла представить другим Делюка. Она уже смирилась и вжилась в сложившийся в её сознании образ, а потому сказанное Делюком приняла как должное. Санэ и Тадане, тоже привыкшие к причудам Делюка и, в сущности, ещё вовсе не знавшие дел и похождений его, пропустили его слова мимо ушей, будто они ничего не значили. Мать и бабушка думали, что разговор о том, как быть и что делать, ещё возникнет сам по себе в спокойной обстановке, и они все вместе будут решать. Делюк тоже не стал разматывать нить своих мыслей вслух, да и не было надобности, ибо решение было уже принято им. Он взял Ябтане за руку, встал вместе с ней на латах пелейко напротив разгорающегося пламени костра и сказал:
— Здесь, Ябтане, ты и будешь хозяйкой чума. Новые шкуры для постелей найдутся в вандеях. Мать и бабушка помогут тебе занести. Всё тут сделаешь на свой вкус и глаз. На этой половине чума мы и будем жить.
Отпуская длинный веер ресниц, Ябтане кивнула едва заметно, присела на одно колено и вместе с Санэ стала подкармливать огонь сухим хворостом.
Огонь трещал и гудел, яркие языки пламени играли бликами на лицах степенной, задумчивой Санэ и юной хозяйки чума. Внешне они были чем-то очень похожи, стороннему глазу могло показаться, что это мать и дочь.
Когда были повешены на крюки котел и чайник, Санэ поставила на латы стол, посмотрела внимательно на задумавшегося о чём-то сына, потом перевела взгляд на сидевшую возле огня Ябтане, улыбнулась ласково.
— Мне, старушке, вроде бы не к лицу кормить и потчевать. Ты уж, Ябтане, сама хозяйничай, — сказала она певуче и выразительным жестом руки подала знак, чтобы та перешла в переднюю часть чума и заняла её место.
Ябтане перешла на жилую половину чума и, подобрав аккуратно подол летней паницы, ловко протиснулась между костром и столом на обычное место хозяйки жилища.
Санэ показала, кому какие чашки подать, и, перейдя на другой конец стола, села напротив Ябтане на лукошко, в котором обычно находится обеденная посуда. Делюк всё молчал, он был спокоен, будто его ничто не тревожило, не волновало, и это коробило душу старой Тадане, ждавшей, когда же наконец пойдет речь об оленях, как быть дальше, что делать. И тогда Тадане решила пойти на хитрость, чтобы направить разговор в нужное русло.
— Не грешно ли нам так, без украшения стола, день начинать? А он сегодня у нас не рядовой! Ты, Делюк, хозяйку чума привел, а не собаку! — заявила громогласно она и вынула из-под подушек дубовый бочонок.
«Собаку! Собаку! Собаку!!!» — гудело в ушах Делюка, и он закрыл глаза, прижал ладонями уши. «Собаку!» — било его по мозгам и разрывало душу. Лицо у Делюка заметно побледнело, он лишь мельком глянул на бабушку с бочонком в руках и отвел презрительно взгляд.
— Не до гостьбы! Пейте сами! — бросил он, встал, одними лишь глазами улыбнулся Ябтане и вышел.
— Обиделся… А на что?! — упавшим голосом сказала Тадане и замерла виновато с поникшей головой.
Подходивший уже к своей нарте Делюк не слышал этих слов.
Распирая высокий лазурный купол неба, пели голосисто птицы. Они поднимали над тундрой новый день. А он был обычным, как все дни. Делюк вдруг осязаемо уловил, что внутри, в самой глубине души, что-то оборвалось, по телу будто пламя пронеслось, вызвав удушье, но тут же всё прошло. Он снова почувствовал себя прямым, решительным человеком, цель которого проста и ясна, как это чистое летнее, без единого облачка небо.
26
Сильно уставшие за трехдневную поездку упряжные Делюка по привычке пустились было вскачь, но, почуяв тяжесть и боль в теле под лямками, перешли на шаг, довольно резвый. Делюк не вспоминал о хорее, он понимал, что олени не двужильные, жалел их, а потому нарта плавно качалась на кочках. Такая езда не угнетала Делюка, он не очень спешил, знал, что чум Сэхэро Егора, куда направился сейчас, не дальше оленьего предела, он ещё успеет приехать и на изнуренных долгой ездой оленях. Он прежде всего искал ягельное место, чтобы упряжные хотя бы немного могли поесть, да и самому вздремнуть надо.
Ждать долго не пришлось: как нарочно, упряжка наткнулась на белую от ягеля поляну на довольно большой болотистой равнине. Делюк дернул вожжу на себя, с левой стороны от нарты коснулся земли костяным наконечником хорея, и олени встали. Они с ходу принялись водить, носами по земле, торопливо отрезая зубами сладкие верхушки ветвистого ягеля. Положив голову на пустой рукав малицы, Делюк лег на нарту и вскоре уснул. Спал он, казалось, не так уж и долго, но когда сел олени лежали с закрытыми глазами и старательно пережевывали ягель. Солнце на небе подходило к полудню.
Делюк встал, потянулся, размял слегка ноги, мышцы груди, спину и, отыскав хорей, поехал снова. Придержанные вожжой, олени на этот раз не побежали, но пошли тем же легким, резвым шагом.
Спешно отложив топор и кусок мамонтового бивня, который тесал для узды к вожжам, на стойбище встретил Делюка сам Сэхэро Егор.
— Смотрю и гадаю: кто это может быть? И нате — Делюк! Сам Делюк! А давно ли расстались? — разводил руками удивленный Сэхэро Егор, вглядываясь внимательно на упряжных Делюка, вытягивая настороженно шею. — О-э-э! И олени-то, вижу, у тебя вчерашние! Случилось что?
Делюк с трудом сдержал смех.
— Страшного нет, но… зло всё же берет! — сказал Делюк, гася улыбку. — Сердце, правда, чуяло, что не всё ладно, но такого не ожидал!
— Что же? — всерьез заинтересовался Егор. — С Ябтане?
— Нет, — сказал Делюк. — Что же может произойти с Ябтане, если она со мной была? Какой-то чудак оленей моих угнал. Утром. От самого чума угнал. Две рыжие собаки. Братья-близнецы видели.
Сэхэро Егор не удивился, такое вполне может случиться, но для Делюка это — пустяки, оленей он может найти сколько угодно, но всё же…
— Братья, говоришь, видели? — спросил Егор и махнул рукой: — Да они ведь ещё малы!
— Малы, но глазасты! Жаль, что они не видели человека, который угнал оленей. Он бы сейчас на четвереньках пригнал оленей обратно, — сказал задумчиво Делюк.
Сэхэро Егора передернуло от этих слов, он живо представил, как человек на четвереньках гонит оленей, и у него не было сомнения, что это именно было бы так, потому что это говорил сам Делюк.
— Две рыжие собаки, ты вроде бы сказал? — обронил Сэхэро Егор, почесывая лоб и вспоминая, у кого же они могут быть.
— Да. Но у тебя собаки рыжие! — заявил Делюк. Шутил он или говорил всерьез, по тону и по выражению лица трудно было что-либо понять.
— Х-гэ-э! — недовольно повел носом Сэхэро Егор. — Собаки-то рыжие, но их у меня три. Понимаешь? Три!
— Не кипи без огня-то! — Делюк похлопал его по плечу. — И вовсе не о тебе речь.
— Знаю, что не обо мне, — подхватил Егор. — Много что-то рыжих собак развелось! Чуть что и — в меня пальцем тычут. Не на меня, а в меня. В мою душу!
— О чём я и хотел сказать. Вся тундра, выходит, под тебя работает.
— Выходит, так. Так, видимо, лучше?
— Ходить на угон оленей в чужом наряде, конечно, лучше. Только вот долго ли можно таиться под чужой маской? У каждого своя манера, свои привычки, — засомневался Делюк.
— Верно: своего лица не спрячешь. Но кому всё это надо?! — подхватил Сэхэро Егор. — Тундра велика, но люди… каждый другого в лицо знает.
— В чём и дело-то! — сказал Делюк и внимательно взглянул в лицо Сэхэро Егора. — Ты хотел, чтобы две головы у нас рядом были? Не отошло ещё это желание?
Сэхэро Егор долгим изучающим взглядом посмотрел на Делюка.
— Тебя подожгло наконец? — сказал он, не скрывая удивления и внутренней издевки. — Так-то вот!
27
Друзья быстро решили, куда ехать. После короткого чаепития они спешно поймали упряжных — и вот уже их легкие нарты уносились в низины и легко взлетали на пологие тундровые холмы. Впереди ехал Сэхэро Егор, а вслед за его упряжкой рыжими комками шерсти катились три собаки, вывалив набок розовые языки. Сэхэро Егор дал Делюку хороших оленей: тот их не трогал хореем, не покрикивал на них — сами неслись вскачь за летящей впереди упряжкой. Покачиваясь на шаткой нарте, Делюк дремал и не заметил, как остановились упряжки.
— Хэй! Мягконогий тебя одолел? — подойдя к Делюку, спросил Сэхэро Егор и тронул его за плечо. — И у меня слипаются веки, но дело есть дело. Где-то здесь стойбище Пирци должно бы быть.
Делюк долго тер глаза. Он открывал раскрасневшиеся веки, но глаза снова закрывались. Потом всё же блуждающим взглядом он уставился на Сэхэро Егора, точно впервые видел его.
— Тут где-то стойбище Пирци должно быть, — снова сказал Сэхэро Егор. — Его, правда, я ещё не трогал. Но он тоже богач. Все они, эти богачи, на одно лицо. И повадки схожи.
Делюк, казалось, не слушал его, он всё ещё покачивался, сидя на нарте с полузакрытыми глазами.
— И как далеко он стоит? — спросил он вдруг.
— Рядом, — сказал Сэхэро Егор. — Чум его на развилке Большой и Малой рек Садо.
— Так это совсем рядом! — то ли от удивления, то ли от радости Делюк чуть ли не крикнул, будто вовсе не спал и всё видел. — Езжай скорее, да на стойбище не наскочи. В стадо надо ехать. Стадо найти.
Олени рванули в бег, обдавая лица Сэхэро Егора и Делюка болотной жижей из-под копыт. Ездоки смахивали грязь руками и рукавами маличных рубах, старательно всматриваясь вокруг, чтобы увидеть пасущееся стадо Пирци. Вывалив пенистые языки, олени бежали как взбесившиеся. Временами упряжки поднимались на пологие холмы, но, увидев семь чумов, которые снова и снова вырастали неподалеку на подернутом дымкой Розовом холме, Сэхэро Егор и Делюк спешно направляли их в низины, а стада так и не могли обнаружить.
— Что это?! — останавливая упряжку на скрытом от стойбища месте, злился Сэхэро Егор. — Сквозь землю, что ли, стадо ушло?
— Не горячись, Егор, — успокаивал его Делюк. — Чумы здесь, и стадо должно быть здесь. Десять тысяч оленей — не травинка в тундре. Найдем! — и в тот же миг шея у Делюка вытянулась, и он показал кивком. — А это? Не олени, что ли?!
Сэхэро Егор обернулся резко назад, постоял молча некоторое время, шаря глазами перед собой, и развел руками.
— Хэ! Куда это я, пинзарма[58], смотрел?! — искренне возмутился он.
Сотни оленей мирно паслись на ближнем, густо поросшем ивняком склоне большого холма, где Делюк и Сэхэро Егор почти одновременно заметили три упряжки, стоявшие рядом. Людей возле нарт не было видно, но струйка белого дыма, стекавшая, как ручей, в низину, и без слов говорила, что пастухи сидят на земле возле костра и готовят свою нехитрую трапезу из оленины или птицы.
— Мало что-то оленей. Мало! Не похоже, чтобы это было стадо Пирци! — огорченно рассуждал Сэхэро Егор вслух.
— А в яре что? Не олени?! — заявил с усмешкой Делюк, до сих пор смотревший на низину молча.
— Так я и думал, что олени, наверно, в низине, в яре, — приглядевшись, подхватил Сэхэро Егор. Он хотел сказать, что низина — не совсем удобное место для угона оленей, в два счета накроют сверху, откуда всё видно, но не решился это сказать и заявил: — Всё же, мне кажется, мало тут оленей. Не похоже, что это стадо самого Пирци. Десять тысяч оленей, если вольно пасутся, на таком клочке земли никак не поместятся. По крайней мере на полповёрды ими вся земля будет усеяна. А тут оленей — от силы три-пять тысяч, не больше!
— Не пять тысяч нам и надо, — сказал совершенно безразлично Делюк, будто он не за оленями явился, и первым поехал на дымок на склоне большого холма.
— Э! Ты куда? — услышал запоздалый голос Сэхэро Егора. — А собаки у нас на что?! — Потом он недовольно взмахнул рукой и тоже поехал, бормоча: — Опять в добряка играть? Но… как сам знаешь: олени-то тебе нужны!
Трое сидевших у костра смотрели на приехавших с любопытством. Они и не тронулись с места, лишь головы повернули в сторону Делюка и Сэхэро Егора. Юного, совсем не знакомого им Делюка они разглядывали долго, с чувством явного превосходства в глазах. Полные любопытства взгляды их скользили и по Сэхэро Егору, но больше останавливались на трех рыжих собаках, о которых по тундре ходило много разных небылиц.
— Кого вольный ветер к нам занес? Или, может, вы туда же? В То-харад? Наши пятьдесят мужиков подались уже туда. Вместе с саювами[59] пошли. Хозяин То-харада, говорят, совсем лицо потерял: и песцов, и оленей, и рыбу подайте ему! И чем больше, тем лучше! А за что? Это, мол, говорит, за то, что в тундре живем. А она якобы его земля, и за неё надо платить! За то, что живем на ней! — многословно и не совсем понятно заговорил вдруг рослый лет пятидесяти на вид мужчина в добротных пимах с дорогими сукнами и в нарядной малице из раннего няблюя.
Делюк растерялся, он не знал, что сказать, потому что был ошеломлен неожиданным сообщением собеседника.
— Не понял, — сказал он для отвода глаз. — Не понял, что ты говоришь. О чём говоришь.
— Не понял?! — глаза у говорившего так округлились, что, казалось, вот-вот из орбит выскользнут. — Вся тундра пошла на То-харад! Вся тундра! Кто людей, кто оленей направил на То-харад, а кто и сам подался туда!
— И зачем же? — слетело с языка Делюка машинально, на его лице не мелькнуло и тени удивления, хотя он прекрасно знал, что такое То-харад и зачем туда едут, но ему надо было подумать, разобраться в обстановке.
Человек в нарядной малице бросил зло:
— А затем, чтобы чужие люди, чужого рода и племени, не считали себя хозяевами нашей земли! Хозяевами нашей родной земли! — и добавил, понизив голос: — Не слыхал? Ведь вся земля только об этом и говорит. Живет этим!
Делюк, живший всё время в отрыве от людей, не знал, конечно, чем живет тундра, но слова собеседника подействовали на него.
— Дела-а! — пропел он и спросил больше для того, чтобы не молчать: — Вся тундра, говоришь, пошла на То-харад? — И добавил: — Славную игру затеяли! Славную! Надо. Надо, чтобы и в четвертый раз запылал этот поганый То-харад!
— Игра стоит этого! — твердо заявил всё тот же рослый. — Сын мой тоже ушел туда. С луком! Для него и для всех саювов я чуть ли не полстада отколол: ради нашего люда и нашей родной земли оленьего дитя мне не жаль. Пусть и олени добру послужат! — собеседник оперил глазами Делюка с ног до головы и спросил вдруг: — Сам-то ты веткой дерева какого рода будешь? — и добавил, как бы заполняя паузу: — Меня в тундре Пирцёй из рода Тайбари зовут.
Не ожидавший такой встречи с самим Пирцёй, хозяином десяти тысяч оленей, в чье стадо он, собственно, и ехал вместе с Сэхэро Егором для угона животных, Делюк, чтобы сбить волну растерянности, переступил с ноги на ногу.
— Делюк я, — сказал он. — Имя моё ничего не говорит. Отца звали Сэрако Паханзеда. И его мало кто знал.
Делюк заметил, как подпрыгнули на лоб широкие, но жидкие брови Пирци и глаза его широко открылись. Пирця тут же перевел взгляд на Сэхэро Егора, он понял, в чем дело, и, подняв лицо, показал подбородком на собак. — Узнаю рыжую свору. Много о ней тундра говорит. Не будь здесь тебя, Делюк, хозяин их, — он кивком показал на Сэхэро Егора, — явившись сам, не ушел бы добром! — он снова взглянул на Делюка и спросил зло: — Сколько надо оленей?
Делюк растерялся, он хотел сказать, что не нужно ни одного оленя, но язык у него не повернулся, потому что он за оленями и ехал. Он молчал.
— Сколько не жаль! — крикнул за него Сэхэро Егор, стоявший поодаль.
Сидевшие возле Пирци два пастуха пожали плечами.
— Хватит двух сотен? По сотне каждому? — спросил Пирця и добавил заискивающе: — Тебе, Делюк, я дал бы и больше, но, я уже говорил, почти полстада к То-хараду отправил.
— Две сотни — это олени! Конечно, хватит, — сказал Делюк и взглянул на Сэхэро Егора. — Думаю, и мы через денек-два тронемся к То-хараду. Так я говорю, Егор?
Сэхэро Егор кивнул согласно и сказал:
— За спинами других не годится стоять. Если зовет земля, надо ехать!
— Да, нельзя быть глухим к зову матери! — подхватил Делюк.
— Это разговор! Деловой разговор! — заявил, вставая, Пирця, почти бегом подлетел к своей упряжке и поехал.
Вскоре он отколол от стада около трехсот оленей и крикнул:
— Олени ваши! Гоните, куда хотите! И делите!
Делюк и Сэхэро Егор молча направились к своим нартам.
28
На полдороге друзья разъехались, решив, что дня через два они встретятся на берегу озера Салекута, чтобы поехать вдогонку саювам, идущим на То-харад, и Делюк один погнал оленей к своему чуму. Настроение было приподнятое, и наружу рвалась песня:
Стучат копыта быстрые, идет земля волной. По То-хараду выстрелю горящею стрелой. Слизнет огонь весь То-харад с лица моей земли, не будет злого То-харад ни рядом, ни вдали. Чужому люду нечего наш край родной топтать! Живи на веки-вечные ты, тундра, — ненца мать!Он пел, покачиваясь в такт песне, вычеканивая каждое слово. Напуганное собаками Сэхэро Егора, оленье стадо шло широкой машистой рысью, а потому дорога промелькнула быстро. Неожиданно из-за холма, как стопалая рука, поднялась вдруг макушка чума. Когда показался весь чум, Делюк не поверил своим глазам: на пастбище, левее стойбища, он увидел оленье стадо.
— Дела-а! — сказал он не то удивленно, не то возмущенно. — И жизнь-то вся — как сон!
Оставив пригнанных от Пирци оленей, Делюк мигом подлетел к своему чуму и только тогда увидел три упряжки на привязи. Около них было трое мужчин в малицах, четвертый, без малицы, со связанными за спиной руками, стоял между ними на коленях, склонив низко голову. Увлеченные своим, они не видели приехавшего Делюка. Тот молча наблюдал за ними. Связанный хотел было встать, но один из троих метнулся к нему, пнул по заду и дернул за связанные руки.
— О-о! Й-э-э![60] — простонал тот и снова упал на колени.
— Что вы тут делаете?! — Делюку стало жаль избиваемого, хотя он сразу догадался, что это именно тот, кто угнал оленей. — Развяжите и отпустите человека!
Все трое разом повернулись в сторону хозяина стойбища. Делюк не мог не узнать в них Сядэя Назара, Туси и шамана Няруя. «Сами корни земли! — подумал Делюк и улыбнулся ехидно. — И Няруй не постеснялся явиться!» Медленно повернул голову в сторону Делюка и человек на коленях. Делюк узнал в нём Ячи.
— Во-о-от грех-то! И своего лучшего друга не пожалели! — искренне удивился Делюк.
— Он!.. — хотел что-то сказать Сядэй Назар, показывая рукой на Ячи.
— Всё ясно! — перебил его Делюк и после паузы добавил: — Не делом вы заняты. Не делом, когда вся тундра… на То-харад идет!
Те переглянулись и застыли молча.
— Знаем, — сказал Туси.
— Знаете — тем лучше. Развяжите своего друга и езжайте в свои стойбища, а там на То-харад! Сами идите или людей направьте. Забудьте все мелкие ссоры и обиды. Тундра зовет! — распорядился Делюк чуть ли не приказным тоном, будто его уполномочили, и, шагнув к своему чуму, бросил: — За оленей — спасибо!
Туси развязал руки Ячи, но тот плюнул ему в лицо и, пока тот был в оцепенении, ударил кулаком по зубам.
— Вот дурак-то! — взревел Туси и, выплюнув зуб, пнул Ячи в пах.
— Йы-ы!.. — взревел Ячи, падая.
— Но-но! В тундре, а не у меня на стойбище… куропачьтесь! — повысил голос подходивший уже к чуму Делюк.
Переглянувшись, двое богачей и шаман пошли к своим нартам, гикнули на оленей и помчались в тундру, оставив на стойбище избитого Ячи.
В досаде Делюк махнул рукой и зашел в чум.
Когда на травы упала роса и вызвездилось заметно потемневшее августовское небо, на запасной нарте Делюка собрался в дорогу и Ячи. Он не знал, как отблагодарить Делюка за великодушие и помощь.
— В беде не забывай и меня, — сказал он на прощание, и легкая его нарта исчезла в ночи.
29
После первой брачной ночи Делюку не хотелось покидать постель, он жаждал продлить каждый миг утра, когда еще можно было беззаботно понежиться возле юной Ябтане, но за нюками на все голоса пели птицы, поднимая день, через большое отверстие макодана тянулись в чум ослепительно яркие лучи солнца. Было слышно, что на второй половине чума поднялась мать, и Ябтане тоже надо было вставать, чтобы как хозяйке чума первой раздуть семейный очаг.
Ещё труднее было вставать Делюку после второй медовой ночи. Ему до самой последней капельки хотелось испить сладкую чашу семейного счастья, но он был человеком в сюме, и святой долг сына земли властно звал в дорогу на То-харад, куда теперь всеми земными воргами, как ручьи по весне к морю, бежала вся тундра.
Когда солнце над горизонтом поднялось на длину вытянутой вожжи, Делюк был в пути. В полдень на берегу озера Салекута он встретился с Сэхэро Егором — и вот уже две упряжки летели к хребту Пярцор, вдоль которого вьется военная дорога на То-харад, проложенная тысячами упряжек в год небывалого зноя и бешеного овода восемь лет назад, когда возмущенные притеснениями, невесть откуда взявшимися долгами русскому царю тундровики двинулись на То-харад, срубленный осенью 1499 года дружиной князей Семена Курбского, Петра Ушатого, Василия Заболотского-Бражника на берегу Пустого озера возле Печоры. За шестнадцать десятилетий городок расправил плечи и поднял голову. Далеко, даже за Камень и полноводный Енся ям[61], тянулась хваткая рука ненасытного То-харада за дорогими мехами, мясом, рыбой и моржовым зубом. Это было не по сердцу вольному и гордому народу, о котором ещё со времен Великого Новгорода — с ним ненцы на равных вели торговое дело — плелись всякие небылицы. Иноземцы называли ненецкую землю Лукоморьем. «Люди Лукоморья засыпают на зиму наподобие лягушек и оживают весной. Ещё восточнее живут люди с песьими головами»… — такое сообщение, почерпнутое из «Русского дорожника», оставил в своих «Записках» посланец римского кесаря барон Сигизмунд Герберштейн, который, посетив Московию в начале XVI века, встречался с Семеном Курбским и слушал его рассказ о походе в Югорию. Таких и подобных этому сообщений о тундре было много, ибо они строились на слухах, и образованный мир плохо знал дальний Север и его обитателей…
Ехать по целине пришлось не особенно долго. На вершине лысого безымянного холма Сэхэро Егор, ехавший первым, резко остановил упряжку.
— Вот она, — сказал он, показывая на выбитую копытами и полозьями саней полосу земли шириной в десять саженей, которая, змеясь, бежала на закат по пологим холмам.
— Река гнева и доблести… вот ты какова! — сказал после долгого молчания Делюк, смотревший неотрывно на полосу выбитой земли, которая, вонзаясь иглой в горизонт, вилась по холмам и низинам, как брошенный на землю тынзей.
— Да, это она. Я по ней туда и обратно на То-харад дважды ездил: в позапрошлом году и годом раньше. В конце лета и осенью мы проходили здесь, а на Святых сопках на берегу губы, недалеко от устья Печоры, в тот и другой разы по две луны ждали, пока реки заснут. От Святых сопок до То-харада — рукой подать, но много коварных речушек, да и налет лучше делать зимой, потому что оленьи упряжки что ветер носятся по рыхлым снегам, а однокопытный русский гривастик[62] не может бежать по глубокому снегу, по самый живот проваливается, точно в болоте вязнет, — говорил Сэхэро Егор, но слушал ли его Делюк, всё ещё смотревший на дорогу, трудно было понять. Сэхэро Егор же продолжал: — Дел на этой стоянке всем хватало. Меняли стершиеся полозья саней — плавника-то — горы! — запасались нерпичьим жиром, сушили траву и, конечно же, делали стрелы, точили железные наконечники к ним, оперяли.
— Да, к большому бою надо готовиться и от пули русского бердыша надо уметь уходить, — сказал Делюк и на этот раз первым погнал свою упряжку.
Каменистая почва звенела под копытами оленей, щекотал щеки встречный ветер, струясь по лицу, как вода. Ехать по утоптанной десятками тысяч копыт дороге было легко, но шесть быков на привязи за спиной при частых рывках или тормозили ход, или, рванув неожиданно вперед, несли нарту боком. Это сильно мешало ровной езде, но без этих оленей нельзя было отправляться в путь, потому что упряжных надо менять, а до основной массы саювов, где олени сменной упряжки идут вольно, было ещё очень далеко. Хотя олени Делюка и Сэхэро Егора шли резво, долго тянулись дни, однообразно нудна и утомительна была дорога. Первые двое суток Делюк и Егор ехали и днем и ночью. Потом они с утра стали ложиться спать, а в самую жаркую пору дня подкармливали возле дороги оленей и уже под вечер снова отправлялись в путь. По вечерней и ночной тундре ехать было легко, так как на травы падала роса и полозья по ней скользили лучше, а ночной прохладный воздух приятно остужал разгоряченные тела ездовых и запасных оленей.
По укатанной тысячами упряжек военной дороге на То-харад, который уже трижды пылал от рук и огненных стрел карачеев и большеземельцев, нарты шли ровно, а на мешках, набитых перьями лебединых, гусиных и утиных крыльев, было мягко сидеть и тепло спать. Для оперения «боевых стрел содержимое мешков копилось обычно годами. В сухую погоду Делюк и Егор спали на земле, подстелив мешки с перьями, а в дождь они ложились под нарты, оленей, чтобы те могли есть, отпускали в постромках на длину тынзея, второй конец которого привязывали к копыльям нарт.
Только на пятнадцатые сутки после выезда из своих чумов, когда впереди постепенно выросли синие иглоподобные пики Таброва, Делюк и Сэхэро Егор догнали пять упряжек, выехавших после основной массы саювов, а ещё через день они наткнулись на двадцать воинов, стоявших на отдыхе. Хотя упряжные и подменные олени были сильно уставшими, ехать стало легче, потому что быков на привале они отпускали на вольный выпас, следя за ними по очереди, да и стоянки решено было делать суточными: до зимы ещё далеко — спешить некуда…
Через день двадцать семь упряжек, в числе которых были и упряжки Делюка и Егора, у истоков реки Хыльчув на Вангурее — волшебной красоты горах Большеземельской тундры — настигли двести с лишним людей в сюмах, которые после долгой и нудной езды получили право на недельную стоянку, чтобы могли отдохнуть и олени и люди. Им было велено поджидать тех, кто выехал позже и кто отстал. Кроме того, на Вангурее, где гнездится множество гусей, а в горных реках, бегущих по камешкам, в обилии голец и семга, можно было запастись гусятиной, лососем и белорыбицей для общего котла на первое время, пока не налажены охота и рыбалка на основном привале саювов — на Святых сопках на берегу залива, откуда в ясную погоду хорошо видно за гладью воды широкое устье Печоры — Большого Ивового моря.
30
Вангурей… Величественная красота подернутых дымкой сопок, причудливые очертания каньонов с ветвями расселин, похожих на лосиные рога, чистый горный воздух и высокое лазурное небо будили в людях возвышенные чувства сыновней гордости и щемяще нежной любви к родной земле, живой и мыслящей частицей которой были они сами.
Делюк фанатично любил открытые небу родные равнины, но навсегда был очарован горами на Полярном Урале, на родине милой Ябтане, которая перед его глазами, как наяву, возникала всё чаще и чаще по мере удаления от своего чума на берегу реки Пярцор, где осталась она — юная и ласковая. А когда перед Делюком вырос неожиданно синеглавый Табров, осязаемо близко возникла улыбающаяся Ябтане с еле уловимой грустинкой в глазах. В тот же миг она приблизилась к нему лицом, заслонив собой горы и всё на свете, — и вот уже Делюк видел только её глаза, которое с неодолимой силой втягивали его в бездну огромных зрачков, где, переливаясь как полосы полярного сияния притушенных тонов, бушевало бледно-розовое пламя, излучая тепло. Делюку стало страшно.
— Х-фу! Не с ума ли схожу?! — выдохнул Делюк и невольно закрыл глаза, но и сквозь веки он всё ещё видел зрачки Ябтане, пышущие жаром, но в то же мгновение она удалилась вдруг, превратилась в маленькую точку и совсем исчезла, а перед Делюком громадой снова заслонили полнеба зубчатые горы Таброва. Делюк вздохнул облегченно, но всё же подумал с тревогой: «Все ли ладно на стойбище?» Олени упряжки и подменные олени, давно уж примерившись к шагу друг друга, на широкой военной дороге мерно отстукивали дробь копытами, ровно скользила нарта.
О загадочном и вместе с тем жутком видении Делюк не только не рассказал Сэхэро Егору, хотя они ничего не таили друг от друга, но и боялся вспоминать. «Да нет, ничего не может случиться. Ябтане, наверно, просто скучает», — мысленно успокаивал он себя.
На Вангурее Делюк уже дважды видел Ябтане, но не так близко, как на Таброве, а потому страх у него постепенно прошел. Сначала, в первый же день приезда на Вангурей, она показалась ему укрупненно, как бы вросшей в самую высокую гору, ставшей горой, а второй раз она явилась к нему в тот момент, когда Делюк перед сном лежал с открытыми глазами. Делюк не пытался заговорить с ней, потому что он ясно понимал, что это лишь плод его воображения.
— Что случилось? Что ты плачешь, милая? — спросил Делюк свою Ябтане, явившуюся вдруг на рассвете, когда все его спутники ещё спали. Никогда он не видел её такой грустной и тем более плачущей так горько. Сердце у него сжалось, всё тело до копчиков пальцев заныло, точно тысячи игл вонзились в него.
— Я и не плачу. Страшно мне! — услышал он срывающийся голос юной жены. — Ты не на гусиную охоту идешь. Береги себя! Стерегись людей, кто будет с тобой. Души у иных — страшнее капкана!
— Не бойся, Ябтане, я не куропатка, чтобы голову в петлю силка совать! Страшного не будет: нас много!
— Э! Что это ты… Делюк? С кем так громко разговариваешь? — дернул его за плечо лежавший рядом Сэхэро Егор. Он не спал уже и слушал, как поет утро.
— А? Что? — оглядываясь, спросил вскочивший Делюк и сказал: — Ябтане!.. Ябтане здесь только что была!
— Приснилась, — сказал Сэхэро Егор и лениво повернулся на другой бок, давая знать, что он ещё не выспался и Делюку не мешало бы ещё поспать.
Делюк снова лег, поняв, что это был сон. Ворочаясь на мешке перьев, он полежал ещё немного, но уснуть не смог, тронул Сэхэро Егора за плечо и признался:
— Что-то больно часто я вижу Ябтане. Не случилось ли что?
— Скучает, — сказал Сэхэро Егор и добавил, зевая: — И сам, наверно, по ней соскучился.
Делюк промолчал, хотя ему очень хотелось сказать, что и соскучился он по ней, и очень боится за неё, оставшуюся в чуме с пожилыми женщинами и его малолетними братьями, от которых не придется ждать помощи в случае беды.
А тревога была не напрасной, хотя, в сущности, ничего плохого не могло случиться. Принимая Ябтане за дочь Санэ, уже трижды наведывались в чум Делюка сваты. Они сватали Ябтане. Но как только слышали, что Ябтане вовсе не дочь Санэ, а жена Белого Ястреба — самого могучего в тундре шамана, слава которого росла, как ком мокрого снега, они в паническом испуге летели в свои стойбища, точно раненные в клюв птицы. Ябтане очень не нравились эти назойливые «гости». Когда в чуме появились первые сваты, она очень испугалась и отчаянным криком души позвала Делюка. Мысленно позвала. Но те, как только услышали, что Ябтане жена Делюка, метнулись назад, как псы от палки, и спешно удалились. Когда в такой же растерянности покинули чум вторые и третьи сваты, Ябтане почти совсем успокоилась, но она всё равно каждый день молилась тайком солнцу, небу и земле, чтобы скорее вернулся Делюк.
Всего этого Делюк не знал и не мог знать, хотя странные видения и сны серьезно тревожили его.
«Что-то в чуме не всё ладно», — думал он, понимая, что в два-три дня нельзя вернуться, да и теперь, перед главным броском на То-харад, мужчине несолидно поворачивать полозья назад из-за каких-то видений и снов. Люди это могут понять превратно. И Делюк, как все его товарищи, ходил на гусей, ловил гольца и семгу и в свой черед присматривал за оленями.
Когда все двести с лишним нарт были нагружены гусем, зайцем и рыбой, тронулись в путь.
Кроме медлительности — многим казалось, что он ходит в полусне, — Делюк ни ростом, ни какими-то особенными поступками не отличался от своих спутников, но стоязыкая молва, видимо, и здесь свила гнездо: Делюк всё чаще ловил на себе то изучающие, то заискивающие, то откровенно испуганные взгляды. Это не нравилось ему, и причиной такой резкой перемены отношения к себе простых и откровенных людей заподозрил он Сэхэро Егора, который, конечно же, больше других знал кое-что о нём.
— Ты хоть и друг мне, но язык свой придерживай за зубами, — сказал он однажды Сэхэро Егору в стороне от людей.
— Ты о чем? О чем, Делюк?! — опешил Сэхэро Егор, увидев перекошенное болью лицо друга. Он его никогда таким не видел, а потому бросило его в холодный пот, всё тело занялось мелкой дрожью. Он не знал, куда и деть свои ничего не видящие глаза, потому что всё вокруг словно заволокло не то туманом, не то дымом.
— Сам знаешь! — бросил Делюк и добавил, смягчив голос: — Сам ты должен знать, что язык твой сеет. И на людей я уже не могу смотреть: все так и едят меня глазами!
— Ты думаешь… я что-то сказал? — крайне удивился Егор.
— Кто же, как не ты!
— Пусть земля провалится подо мной, если я что-нибудь плохое сказал о тебе! Тем более здесь! Среди чужих! — сказал Сэхэро Егор, повысив голос, и, подумав, выдохнул решительно: — А имя твоё! Само имя твое! Делюк! Разве оно… ничего не говорит?! У земли тоже — уши! Зря ли вся тундра тебя Белым Ястребом кличет? Знают они, кто такой Белый Ястреб!
— Белый Ястреб… — сказал тихо Делюк и после недолгого молчания согласился: — Верно. И как это я сам не догадался?
Олени, казалось, напрягали последние силы, грузные нарты трудно ползли по дороге и часто увязали на выбитых копытами глинистых и болотистых местах. Уже с возвышений, когда упряжки поднимались на пологие холмы, виднелись рядом самые высокие пики Святых сопок, сидящие на белесой глади низинных осенних туманов.
Ехавшие в самом хвосте рогатой змейки упряжек, растянувшихся вдоль военной дороги, Делюк и Сэхэро Егор не погоняли оленей. Спешить было некуда.
Когда первые упряжки поднялись вверх на той стороне каньона, по дну которого бежит река Хыльчув, Делюк и Сэхэро Егор на этой стороне лишь начали спуск. Шум воды, бегущей по камням, заглушал все голоса. Справа, за сопками, ещё не видимое глазу, лежало пахучее море, а слева вонзались в лазурь неба своими пиками главные вершины Вангурея, подернутые дымкой. Река Хыльчув с десятками следующих один за другим водопадов как бы ввинчивалась в порыжевшие уже у подножья горы серебряным штопором.
Подъехав к пенящейся по камням реке, Делюк у самой воды остановил упряжку. Он хотел напоить оленей, но так и замер на месте: шла семга.
Большие, в сажень длиной, толстобрюхие рыбины, теснясь и царапая бока о камни, синей лавиной неслись неудержимо против воды. Было уму непостижимо, какая сила с такой быстротой и ловкостью толкала эти грузные на вид рыбины против бешеного течения, которое, судя по прошедшим впереди упряжкам, чуть не валило с ног оленей и едва не опрокидывало тяжелые нарты вместе с ездоками! В саженях трех-четырех от водопада рыбины вставали на лопасти хвостового плавника, пружинисто запрыгивали в пенистый омут под водопадом и в следующее мгновение летели уже вверх вдоль падающих струй воды, как выстреленные из лука, и снова плыли дальше как ни в чём не бывало к следующему водопаду, гонимые могучим инстинктом, продолжения жизни.
Не раздумывая долго, Делюк выхватил лук, положил на тетиву стрелу и стал ждать. Большая брюхатая рыба встала шагах в пяти от него, легко скользя против течения на лопасти хвостового плавника, выставив, как напоказ, серебристое брюхо. Делюк хотел было выстрелить, но вместо рыбьей головы он отчетливо увидел вдруг лицо Ябтане. На лице не было ни тени испуга, ни отчаяния, лишь по губам скользила вовсе не свойственная Ябтане ехидная улыбка.
— Меня-то вместе с моими детками ты убьешь, но сам ты… разве никого не ждешь? — сказала будто бы рыба, и Делюк ясно уловил её голос. — Стрела рикошетом может угодить и в него!
Делюк опустил лук, кольнуло больно в груди, и ещё от более резкой боли, ударившей вдруг в голову, он медленно закрыл глаза и ушел в думы. Памятью зрения он снова увидел свой далекий чум и юную Ябтане со счастливой улыбкой на пухлых губах. Другой Делюк не представлял её и не хотел видеть. «Кого же я жду? — спросил он мысленно, и широкая улыбка озарила всё его лицо. — Ябтане! Это ты, Ябтане…» Он хотел сказать: «Несешь радость!», но шум воды возле ног вернул его к действительности. Когда он снова открыл глаза, огромный косяк рыб почти уже проходил, ныряли в омут и стремительно взлетали вверх последние рыбины.
— Что ещё ждешь? Ехать надо, пока не подошел новый косяк! — услышал он голос Сэхэро Егора.
— Ехать так ехать, — сказал машинально Делюк, стеганул вожжой по спине передового.
Олени ринулись в воду, метнув широко брызги. Пенящаяся вода остервенело била по ногам оленей, волокла боком по камням тяжелую нарту вместе с Делюком.
— Крут характер у Хыльчува! — сказал Делюк уже на том берегу, когда подъехал к нему Сэхэро Егор.
— Ты её ещё не видал в полную воду, — сказал Сэхэро Егор. — Когда дожди, не играла бы она с тобой.
— Это понятно, — обронил Делюк и поехал дальше.
32
На третьи сутки путники прошли не очень-то широкую полосу Святых сопок, и их глазам открылась большая вода залива, стальная, с синеватым отливом от большого неба.
— Сколько воды! — не удержался от восторга Делюк, вглядываясь в гладь залива Святых сопок. — Сколько неба, столько и воды!
Делюк глянул на небольшую полосу прибрежной равнины и схватился руками за голову. В глазах у него зарябило от многоцветия маленьких чумов и небольших деревянных строений, напоминающих по форме крыши провалившихся под землю изб. Земля между чумами и деревянными строениями шевелилась от мельтешащих, маленьких издали фигурок людей.
Занятые своим, люди не сразу заметили подъехавшие без шума двести с лишним упряжек. Да и, собственно, не до них им было — на санях ещё со вчерашнего вечера лежал вздувшийся от воды покойник, предводитель войска Тарас Микул Тайбари, который случайно утонул на морской охоте, когда перевернулась его лодка. Об этом теперь, конечно, никто не говорил вслух, все думали молча, как им быть, что делать, да и приехавшие не сразу узнали о случившемся. Положение было плохое, все были в растерянности: хоть срывайся с места и кати обратно!
Делюк же ещё больше удивился, когда взгляд его упал на склоны прибрежных сопок. Земля до горизонта была усеяна оленями. Животные паслись, густо облепив подсоленный морем берег и все прибрежные холмы, сопки. На обдутых морскими ветрами пастбищах им привольно было нагуливать жир после знойного лета, неистовства кожного и носового овода, невыносимого гнуса влажными вечерами и ночами, когда всё тонет в болотных испарениях.
В огромном стойбище возле Святых сопок пахло морем, свежей стружкой и ворванью, от которой в первое время подступала к горлу тошнота. Люди ремонтировали нарты, строили нехитрые жилища, похожие на крыши изб без стен, разбивали рядом с ними маленькие чумы для костров, чтобы готовить еду, а ночью двум-трем человекам можно было в этих чумиках спать, запасались ремнем из шкуры морского зайца и крупного лысуна, пялили шкуры нерпы, сушили сено, собирали ворвань, чтобы ею смачивать и поджигать стрелы. Ворванью надо будет обливать и сухое сено для поджога домов. Около сотни мужчин по очереди ходили к оленям, пасли их, охотились на дичь, ловили в мелководных горных реках гольца и семгу. Все же остальные смотрели на море[63], а те, кто были на берегу, мастерили стрелы, ковали и точили железные наконечники к ним.
Приехавшие вместе с Делюком и Сэхэро Егором люди с ходу принялись за дело. Одни строили из плавника жилища, другие ремонтировали сани, третьи подались на рыбалку и охоту. Пошли пешком, потому что оленей отпустили на вольный выпас после долгой, изнурительной дороги.
Все люди трудились не покладая рук. Осенними, довольно темными уже вечерами пылали костры, отблеск которых, наверное, был виден на той стороне залива в большом селении Носовая, куда с верховых печорских деревень каждое лето спускались безоленные люди на лов семги. Там были ненцы, коми и русские. Свои люди — они родились здесь и их землей-матерью была тундра. Земля здесь жила только красной рыбой и нежной белорыбицей — омулем, нельмой, сигом, пелядью и слезящимся жиром и тающим во рту печорским зельдиком. А от такой сорной рыбы, как сорога, язь, корюшка, навага, камбала и сайка, презрительно отворачивали морды даже собаки. Ненцы, баловни судьбы, не считали за рыбу и щуку, и хариуса, и налима. Не ловили их и не ели, многие считали этих рыб своими родичами — от них, мол, пошли и вспыхнули роды Пыря, Туи, Нёя[64].
В тундре с незапамятных пор складывались легенды о зверях, птицах и рыбах, как о живых людях, рассказывались сказки, пелись песни, а чучела тех же зверей, птиц и рыб, иногда их высушенные тела возились в священных санях представителями тех родов, которые считали себя их потомками. Пырерки, например, в священном вандее обязательно возили вяленную на солнце огромную Пырю — Щуку или её зубастую голову…
Долгими зимними вечерами возле костров люди рассказывали друг другу сказки, легенды, пели песни. Они всегда в чести, и их всегда увлеченно рассказывают и поют в стойбищах охотников, оленеводов, рыбаков, в редких прибрежных селениях, где оседает немало безоленных ненцев. Приезд или появление сказочника, певца — всегда большой праздник в тундре!
Осень года Раненого орла рано дохнула холодными ветрами. Потянет ветер с заката — дождем поливает, пенные валы на море катит, травы стелет по земле. Подует с полуночи — снег вперемежку с дождем валит. Только когда с восхода и полдня дует — проглядывает солнце, белое, вовсе не греющее ни земли, ни души.
Редко выглядывало солнце из-за нагруженных дождями облаков, редко падали на землю тихие, безветренные вечера, ночные туманы сменяли серые, пасмурные дни, когда затормаживаются в промозглости и мысли, и бег времени, но чаще с утра до ночи плакало небо дождями. Уныло и серо было на земле. Скучно.
На большом привале карских, уральских и большеземельских ненцев на берегу залива Святых сопок трехтысячное войско уже вторую неделю выбирало себе вождя и предводителя вместо утонувшего на охоте Тараса Микула Тайбари, воины которого семь, три и два года назад почти до основания сжигали То-харад — гнездо хэбов[65] на берегу Пустого озера. Сильными духом и смелыми были люди под его началом, выходившие с вересковыми луками против стрелецких пищалей. Это о них, людях Тараса Микула, писали в летописях и ходили легенды, что «не берет их ни пуля, ни нож, стойбища их видны только издали, подойдешь ближе — сквозь землю уходят».
Тараса Микула Тайбари как вождя и воина в кольчугах, на его боевом вересковом луке со всеми почестями похоронили на третий день после смерти на вершине одного из самых высоких пиков Святых сопок возле сотен идолов, которые в честь него были любовно вырезаны его верными друзьями из березовых, черемуховых и дубовых чурбаков, но вот подходящую кандидатуру на должность вождя и предводителя войска всё ещё не могли найти — хоть распускай войско! Назывались имена самых уважаемых и авторитетных людей. Это были хозяева многотысячных оленьих стад, именитые шаманы и обыкновенные силачи, поднимающие одной рукой трехгодовалого хора, но затянувшимся спорам не было конца.
— Сэхэро Егора! — крикнул однажды кто-то из толпы и добавил злорадно: — Пусть он здесь, в налете на То-харад, покажет свою удаль!
Кто-то прыснул, желая преврашть всё в ехидный смех, унизить неуловимого смельчака, но, увидев возле себя широкого в кости Сэхэро Егора, осекся и закрыл рот рукой. Сэхэро Егор взглянул на него свысока, как хор на лончака[66]. С минуту он ещё помолчал, вслушиваясь в шум затихающего волнения.
— Сэхэро Егору это по плечу!
— Справится! — всё ещё слышалось в толпе.
— Только ему и доверяться! — желчно бросил кто-то.
— Собаке своей я больше доверяюсь! — подхватил другой!!
Люди не слушали их. Они продолжали, размахивая руками:
— Сэхэро Егора! Сэхэро Егора! Только он может повести нас на То-харад!
— Нет, не могу я взять на себя руководство войском. Я такой же смертный, как все, хотя дважды уже ходил на То-харад — три и два года назад. За спиной умного и смелого вождя не страшно было. Тараса Микула, думаю, достоин заменить только Делюк, — сказал Сэхэро Егор, показывая на сидящего рядом друга. — Он молод, крепок, и голова у него не трухой набита.
— Кто он — Делюк? — спросил человек огромного роста с редкой для ненца окладистой бородой.
— Делюк — это Белый Ястреб! — крикнул ненец с кривыми, как обруч, ногами, и Делюк узнал в нем одного из пастухов Сядэя Назара, которых он усыпил летом, когда угнал тридцать пять оленей.
— Он разве здесь? — спросил всё тот же бородатый.
— Здесь я, — сказал Делюк, желая погасить застывшую на губах улыбку.
Бородатый долго разглядывал стройного, ещё хрупкого на вид Делюка.
— Он же еще… юнец! — сказал крайне удивленно. — Но, судя по слухам о нем, переполнившим тундру, думаю, можно довериться ему, хотя… больно молод! — он поднял голову и стал ощупывать взглядом окруживших его людей. — Как вы думаете?
Толпа притихла в раздумье. Так затихает всё в природе перед сильным и затяжным штормом.
— Можно! Можно довериться ему! — раздались вдруг голоса отовсюду. — Он! Только он должен повести нас на То-харад.
— Я впервые иду на То-харад. Не знаю этого дела. Ничего толком не знаю. Нет у меня опыта, — сказал Делюк, переступая с ноги на ногу, и взглянул на Сэхэро Егора. — А вот Сэхэро Егор, думаю, вполне подойдет. Не первый раз он идет на это дело. Знает. Я же — рядом буду.
— Белого Ястреба нам! Только Белого Ястреба! — загудела разом вся огромная толпа.
Так Делюк стал предводителем трехтысячного войска. Теперь дорога звала на То-харад, но до начала похода надо было ждать, пока замерзнут реки и озера, окутают землю глубокие снега. И ждали.
Погода и та, казалось, способствовала людям Делюка. После недельного шторма с дождем и мокрым снегом, когда над пенным заливом прогибалось свинцовое небо до белых гребней волн, морозы ударили круто, сковав в три ночи и три дня все мелкие реки и озера, забив шугой прибрежное мелководье залива. Морская соленая вода сделалась густой и вязкой.
33
Зима наступала стремительно. В неотопляемых ветхих жилищах, сколоченных наскоро из толстых плах, было неуютно, зябко темно без окон, закопченные сажей сальников стены и углы обметало густым, мохнатым, как ягель, инеем. Люди в малицах не мерзли, но долгие завывания ветра неприятно тревожили слух и терзали души и без того уставших людей, бесконечно ожидающих похода на То-харад, до которого отсюда было не более трех дневных бросков с тяжелыми нартами.
Пришел всё же месяц Малой темноты — дежурный месяц между слякотной, промозглой осенью и сухой зимой, — и Делюк, посовещавшись, как это положено, с советом старейшин, распорядился пригнать оленей.
Не прошло и трети дня, как подошли к стоянке олени. Рогатое море тридцатитысячного стада гудело и волновалось. Казалось, трудно было, разобраться в этом разномастном скопище животных, нагулявших жир на богатых ягелем пастбищах и свежем ветру, но уже змеисто взлетали над их рогатыми головами тынзеи, а когда Делюк высыпал на землю содержимое пахучей трубки вождя, положенной по чину, но вовсе не любой ему, олени трех с лишним тысяч упряжек были словлены и подведены к нартам для запряжки.
Делюку тоже не составило труда словить оленей. Он лишь пять раз замахнулся легким упругим тынзеем — и вот уже пять оленей березовой масти стояли возле его нарты.
— Соль и ягель, вижу, не замедлили сказаться, — гладя по широкой мягкой спине вожака упряжки, сказал Делюк Сэхэро Егору, уже запрягавшему своего крайнего пелея. — Не подумаешь, что это недавние загнанные, изнуренные быки. Это — менурэи! Чистые менурэи!
— Возле моря всегда так, оленю тут привольно, — отозвался Сэхэро Егор со знанием дела. — Но… — пожал он почему-то плечами, — приучать животных, к соли нельзя: зима долгая, и на одном пресном ягеле олени к весне совсем зачахнут, а соли… где в тундре найдешь?!
— Это тоже верно, — согласился Делюк, не желая дальше тянуть разговор, и начал перебирать постромки, хотя ему очень хотелось узнать мнение Егора о том, правильно ли он делает, решив сменить на новое место довольно-таки надоевшую грязную стоянку на берегу морского залива. Но мысли и слова он молча проглотил.
Отдохнувшие на воле олени по новому чистому снегу понесли тяжелые нарты, как пушинки.
Люди Делюка, как и задумал он, на этот раз отошли не так далеко. Они лишь покинули открытое морским ветрам и неприятно пахнущее ворванью место стоянки, и уже в вечерних сумерках свои легкие жилища, у кого они были, разбили между высокими сопками. Многие себе для отдыха вырыли в снегу норы, чтобы подождать настоящей снежной зимы и поднатаскать оленей для нелегкого боя с вооруженным пищалями противником. Надо было обдумать всё до мелочей, и потому Делюк три дня выслушивал рассказы участников трех предыдущих походов на То-харад под предводительством Тараса Минула, интересовался трофеями, какие брали, что-то чертил для себя углем на широкой, гладко обструганной деревянной плахе, переносил всё это на обработанную сухую оленью шкуру подсаленным концом тонкого уголька, подробно интересовался точным расположением домов городка, высотой берега, окрестностями, особенно теми местами, где много ивняка и мелких кустов, заносимых снегом.
— Это очень важно, — говорил он. — Такие места в случае погони — наше спасение. Сами знаете, что после крутых морозов рыхлый снег покрывается плотной коркой, где оленям легко бежать, а для тяжелой деревянной постромки это — гиблое место.
Бывалые люди кивали согласно, новички же открывали широко глаза, дивились простоте этой истины и мудрости своего юного вождя, который и удивлял их, и располагал к доверию, искреннему уважению.
— С таким, вижу, хоть куда можно идти, — толкнул локтем сидевшего рядом Сэхэро Егора Падро Иван, прозванный за свой маленький рост, но зычный голос Тюлесеем — большим куликом, предвестником ветра или грозы.
— Да… таков он, но… ты его ещё узнаешь, — сказал Сэхэро Егор, явно гордясь своей близостью с Делюком. — Я-то знаю.
— Он и правда может… белым ястребом улететь? — поинтересовался Тюлесей.
— Этого я не видел, но… говорят, что да. Возможно, — сказал с ленцой Сэхэро Егор, хотя ему очень хотелось сказать, что Делюк одним лишь взглядом может усыпить любого — сам видел! — но придержал язык.
Тюлесей замолчал. И не потому, что этого хотел Сэхэро Егор, — он поймал на себе знобящий взгляд Делюка, всё тело его будто холодной водой окатило, хотя открытое, с правильными чертами, привлекательное и даже красивое лицо молодого вождя не выражало ни упрека, ни скрытого недовольства. Проницательный Тюлесей мигом признал в Делюке человека волевого, решительного и обладающего гибким умом. Говорил Делюк неторопливо, придавая каждому слову ощутимый вес, хотя жесты у него были скупыми или вовсе отсутствовали.
— Бывал я в поморских деревнях на побережье. К дверям там прислоняют метлу, если нет никого дома, но То-харад всё же город, он высокой стеной обнесен, да и глаза и уши сидят на башнях стены, хотя все деревянные дома одинаково легко подвержены огню. Огонь, темень, ветер и пурга — вот наши верные союзники. В остальном надо полагаться на себя и на резвость оленьих ног. Всё решают быстрота и внезапность. — Делюк будто бы рассуждал сам с собой и вдруг обратился к людям: — Так, видимо, делал и Тарас Микул?
— Так!
— Только так! — раздавались отовсюду голоса.
— Как же иначе-то?! Только так!
— И мы так сделаем. Примерно так, потому что в жизни и в любом деле нельзя повторяться, — сказал Делюк, когда угомонилась толпа. — Только вот… зима лениво идет. Снегу мало!
Снега на ровных, обдуваемых местах и правда было мало, но здесь, между высокими сопками, были настоящие сугробы в два-три человеческих роста, где в больших снежных норах ждали обильных снегопадов и пурги воины Делюка.
В иных закрытых от солнца местах между сопками снег вообще не таял годами, превращаясь в пористый лед, легко поддающийся топору и лопате.
В жилых снежных норах на оленьих шкурах было тепло и чисто. Люди здесь только спали, а еду готовили на костре в разбитых возле нор маленьких чумах.
34
Юный вождь все дни пропадал в жилищах, заходил в большие снежные норы, знакомился с людьми, подолгу разговаривал с ними, желая лучше понять их души и чаяния, узнать настроение. Его любознательность, человеческая простота и радение за каждого воина были многим не по нутру; были и такие, кому вообще не нравилось, что предводителем войска стал мальчишка, но они не показывали вида и не спешили высказать открыто своё мнение. Это были оскорбленный Делюком шаман Няруй, властолюбивый, желчный и мстительный богач Туси, тоже имевший обиду на Делюка за то, что тот его почти выгнал из своего стойбища, когда они вернули угнанных Ячи оленей. Больше всех, конечно, ненавидел Делюка Няруй. Обжегшись принародно во время своего камлания в чуме Сядэя Назара, когда он сам закричал и вылетел куропаткой, шаман боялся противопоставить себя Делюку, он понимал, что тот, обладающий могучей силы гипнозом, намного сильнее его, да вот уязвленное самолюбие больно терзало его душу. Няруй сам не прочь был бы встать во главе войска, в этом его поддерживал Туси, но было поздно: Делюк — вождь и предводитель войска. Таково решение всех воинов.
Строя и вынашивая свои черные планы, Няруй не находил себе места, под видом охоты на зайцев он часто уходил от стоянки и под скрип самодельных необшитых лыж думал, как ему быть. Он много и мучительно думал. И решение, лучше которого не может быть, пришло самой собой: выдать хозяину То-харада планы Делюка, а его самого убрать руками стрельцов, устроив засаду. Тогда-то шаман Няруй и обратился в слух, глаза и внимание. В частых сокровенных беседах Делюка с воинами лучшего, чем Няруй, не было слушателя и собеседника. Он выслушивал Делюка с открытым ртом и с блуждающей улыбкой на лице, что-то подсказывал, потом спрашивал:
— Так ли я говорю?
Няруй теперь весь светился изнутри.
Резкую перемену в Няруе, всегда сидевшем угрюмо где-то в отдалении, не мог не заметить Белый Ястреб, это насторожило юного вождя. И дня через два в стороне от лишних ушей и глаз Делюк признался Сэхэро Егору:
— Не нравится мне этот Няруй. Подозрительный он какой-то!
— Няруй? — переспросил Сэхэро Егор, будто не совсем уловил сказанное Делюком, потому что сам собирался с мыслями. — Не думал я о нём, не обращал внимания. Ни к чему.
— Был всё мрачен, зол. Глаза прятал, чтобы не видеть меня. Я понимал его. За тот куропачий крик в чуме Сядэя Назара терпеть он меня не может. А теперь! Ты только погляди, что с ним творится: повеселел, больно разговорчивым стал, рот до ушей! Но за деланной улыбкой, чую, что-то тяжелое у него на сердце, Не задумал ли что? А?
— Интересно… Забавно это! — сказал Сэхэро Егор, морща в раздумье высокий покатый лоб. — Вообще-то, видимо, странная это птица — Няруй. Странная!
— Каждого, с кем идешь, надо знать, как себя, и даже лучше, — перебил Сэхэро Егора Делюк. — Отец мой так любил говорить. Но это я к слову. В нашем деле сейчас душу каждого надо знать. Не на праздник мы едем.
— Надо! — охотно подтвердил Сэхэро Егор. — И не только сейчас — всегда, если ты с людьми. Такова жизнь!
Делюк промолчал. Согласен ли он с Сэхэро Егором, трудно было гадать. Егор тоже молчал, хотя ему хотелось знать мнение друга насчет только что сказанного им, как ему казалось, умно и убедительно.
Во второй половине дня Делюк распорядился собрать всех — и вот уже со стороны ветхих походных чумов и глубоких снежных нор стекались толпы людей на ровную поляну между тремя совершенно одинаковыми островерхими сопками, метко окрещенными кем-то еще во время первого похода на То-харад Яхацями — Близнецами.
Люди подходили степенно, с достоинством садились на белый снег и, запрокинув слегка головы, широко раздували черные от копоти сальников ноздри, гадали мысленно, о чём же пойдет речь.
Делюк ощупал взглядом собравшихся, подождал ещё, чтобы подошли отставшие, и заговорил:
— Друзья! Нелегкая у нас задача. Трижды горевший от стрел и рук воинов Тараса Микула То-харад сейчас далеко не тот, что семь лет назад. Лобовым наскоком, как это было в первый налет, теперь его не возьмешь. Отгородился высокой стеной, и стража не дремлет. Зная, что налеты бывают зимой, она, эта стража, теперь во все глаза пялится в ночь. Верно сделал Тарас Микул, разделив войско на три части во время второго налета и на шесть частей в третий раз, когда кинули двести пятьдесят упряжек вперед, чтобы создать панику и увлечь в снега стрельцов на тяжелых гривастиках. Всё и получилось по задумке Тараса Микула: стрельцы увязли в снегах, а в это время все остальные воины пятью волнами налетели на То-харад и — запылало все от горящих стрел и просаленного сена. Большими кострами пылали дома, пересохшие от солнца и печного тепла, потом ещё два дня над Пустым озером клубился дым, но ошиблись маленько: сгорели забор, дрова, пять или шесть жилых домов да несколько лабазов. Особенно хорошо, разрываясь с шумом, горела синим пламенем знаменитая русская еда в дубовых бочонках. Да вот порох… порох остался нетронутым. Целехонькими остались острог и пороховые амбары…
— Русская еда, говоришь, горела?! — удивленно подняв брови, спросил Няруй.
— Вот оно где, добро-то, пропало зря! — не без ехидства сказал Туси, потирая кончики усов.
Делюк будто не слышал их слов, он продолжал спокойно, не повышая голоса:
— Мы на этот раз сделаем свой ход. Луков у нас — три тысячи шестьсот восемнадцать. Это большая и грозная сила. Чтобы не создавать толкотню, разделимся на небольшие кучки по тридцать упряжек. Это будут легкие, подвижные и неуловимые кучки, которые по сигналу налетят внезапно и, сделав своё, так же быстро исчезнут. Но не совсем уйдут — притаятся неподалеку, если, конечно, не будет погони. Будем налетать со всех сторон несколькими волнами, но уходить — врассыпную и только в одном направлении, где самые глубокие снега. Это в сторону протоки, которая от Пустого озера бежит к Печоре. Сейчас она находится по нашу сторону от То-харада. Значит, надо будет уходить прямо на восход, конечно же, путая след. Восемнадцать упряжек с мехами и красной рыбой под видом везущих ясак пойдут первыми, чтобы изучить местность и узнать, чем живет и дышит То-харад, нет ли где засады. С ними пойду и я. Думаю, не раскусят меня. Не подумают, что я и есть голова саювов.
Туси толкнул Няруя в бок:
— Где твои уши? Запоминай каждое слово!
Няруй кивнул молча и снова уставился на Делюка, прикрыв рот.
— В ночь на третий день после этой поездки, — продолжал Делюк, — мы и тронемся в установленном порядке. Но это мы ещё обговорим там, на месте. После поездки виднее будет. А если не появимся к ночи дня поездки, мы — в беде! Тогда тут же летите на То-харад со всех сторон. Накрывайте с ходу острог. Это то место, где находятся стрельцы с оружием. Меня, думаю, не смогут поймать и связать ни стрельцы, ни сам хозяин То-харада. Встречу я вас.
— Не думаешь ли обратить в ворона самого хозяина То-харада?! — деланно улыбаясь, выкинул-таки под видом шутки кипящую желчь Няруй. Выплеснул!
Разом обернулись все на голос Няруя. Шаман смутился и, пряча бегающие растерянно глаза, изрек:
— Я ведь так, в шутку. Уж больно какие-то вы все… серьёзные!
— Мы и не играем! — крикнул кто-то.
«Нет, вовсе не изменился он. Нет! Что-то неладное у него на уме. Что-то таит! — ворохнулась у Делюка мысль. — А мне, собственно, это и надо было!»
Делюк долгим взглядом, словно видел впервые, уставился на мечущегося Няруя, укоризненно покачал головой и сказал жестко:
— Надо будет — хозяин То-харада и воробьем зачирикает. — Он сверкнул вспыхнувшими ярко глазами и добавил, направив в сторону Няруя указательный палец. — Тебе, вижу, спать надо. Спать!
На глазах у всех Няруй упал набок и захрапел.
Люди молча поглядывали друг на друга и пожимали плечами. Сказать было нечего.
— Можете отдохнуть и вы, — обратился Делюк ко всем обычным своим доверительным голосом и, глянув на небо, добавил: — Хлопотливым будет завтра день. Месяц Большой темноты уже родился.
Люди обратили лица кверху и в синеве усыпанного звездами вечернего неба увидели тоненький серп новорожденного месяца.
— Пора! — сказал кто-то, и в гуле возбужденных голосов люди стали расходиться.
Пошли в свой маленький чум с нюками из нерпичьих шкур и Делюк с Сэхэро Егором.
Светлый отрезок дня теперь уже был короче куропачьего шага. Над сонным миром лезвием вознесенного топора ярко горел месяц Большой темноты.
35
Были снегопады, и вволю побесновалась пурга. Месяц Большой темноты надежно запеленал тундру в глубокие снега. Этого и ждали люди. Ненцы, дети природы, на своей родной земле отлично знали норов каждого месяца.
На второй неделе после случая с Няруем, уснувшим принародно на сборе, когда были определены составы тридцаток и были тщательно отобраны семнадцать упряжек разведки, старшим которой был назначен смекалистый, юркий и бесстрашный Тюлесей, воины Делюка ясной лунной ночью тронулись в путь. Три с лишним тысячи упряжек шли между сопками длинной цепочкой по пять и более упряжек в ряд, где позволяло место, а когда вышли на открытую холмистую местность, пошли широким веером, разделившись на свои тридцатки. Ехали так, чтобы при лунном свете соседние кучки упряжек видели друг друга. Ехали они так я потому, чтобы не было видно на снегу изрытой, утрамбованной десятками тысяч оленьих ног дороги, если потом случится погоня.
Вместе с семнадцатью упряжками разведки, ведомых Тюлесеем, восемнадцатым ехал Делюк чуть позади основной массы саювов: берегли оленей, потому что, изучая местность, придется потом много петлять возле То-харада.
Привычно гудел упругий встречный ветер, на прихваченных морозом сугробах скрипели полозья, но стоило кому-то из ездоков остановиться на миг, как гул штормового прибоя, ломился в уши сплошной шелестящий шум от стука оленьих ног, грохота нарт и скрипа полозьев. Шум этот, казалось, исходил из глубины сжатой морозом земли, и сама земля как будто бы покачивалась под ногами.
Местные оленеводы, уже привыкшие к дерзким походам воинственных карских, уральских и большеземельских ненцев на То-харад, сторонились прибрежной тундры в низовьях Печор, к зиме откочевывали в леса, а те, кто оставался на зимовку в тундре, жили на Малой земле[67], что на левобережье, а потому жизнь на пути следования саювов Делюка казалась вымершей ни единого стойбища, ни одинокого охотничьего чума не было, хотя в этих местах водилось много песца, в мелколесье встречалась куница и даже попадался тос[68] — гордость густых санэровских, хантыйских и тунгусских лесов по ту и по эту сторону Камня. Но не зверь интересовал людей Делюка: шла другая, более серьезная и жестокая охота — охота на людей, война.
По зеленоватым подлунным снегам всё ближе к То-хараду подходили призрачными тенями сотни упряжек. Когда с высоких холмов стали видны огни городка, Делюк распорядился разбить лагерь в низине на краю редкоельника, но оленей велел не распрягать.
— Больших костров не раздувайте. Разбейте походные чумы и готовьте еду в них, — четко раздавался в тишине голос Делюка. — Сэхэро Егор, Някоця Микул и Тосана Сядэй! Вы после еды подниметесь на лесистый холм перед нами и будете наблюдать, что происходит окрест — нет ли чего подозрительного, наблюдателей, засады. Рыбаки, правда, и сами не прочь сжечь осиное гнездо наглых пришельцев, считающих себя хозяевами нашей земли, но кто уверен, что среди них нет людей То-харада или подкупленных ими? Хотя русские рыбаки и ненцы всегда жили в дружбе, как братья. Но…
— Няруй убежал! Няруй! — крикнул кто-то, заглушив голос Делюка. — Нет его нарты!
— Как убежал?! — всполошился Делюк, давно ожидавший подвоха от Няруя. — Давно ли?
— Совсем недавно нарта его тут была. И он тут был. Сейчас же ни нарты, ни его! — подбежал к Делюку Тюлесей.
— И Туси нет! — снова донесся из толпы трубный голос. Это был хорошо знакомый Делюку голос Сэхэро Егора.
— Да куда же они денутся? — сказал, позевывая, Махаси, сын Някоци Валея. — Вернутся!
— Хорошо, если бы вернулись! — бросил в ответ Делюк, заметно нервничая, встал на четвереньки, припал ухом к обструганному ветром сугробу и тут же уловил, как частый стук копыт и грохот нарт стремительно удалялись в сторону То-харада. — Этого ещё не хватало! — возмутился он и добавил негодуя: — От Няруя, пожалуй, всего можно было ожидать. И от Туси тоже!..
— Что такое?
— Что случилось?!
— Куда это они?! — посыпались отовсюду недоуменные вопросы.
— Туда! — вытянув руку в сторону То-харада, сказал зло Делюк. — Головы наши продавать. Вот куда! — и после паузы: — И нашел же всё-таки этот зверь удобное время!
Делюк выхватил из ножен шиловидный нож, перерезал одним махом ремни, опутывавшие груз на нарте, столкнул всё на снег и крикнул:
— Сэхэро Егор! Где твои хваленые олени? Пора их настала! Поднимай своих и — в погоню! Я задержу их!
Упряжка Делюка быстрее ветра уносилась в ночь, а трехтысячная толпа всё ещё пожимала плечами, до некоторых лишь только-только начало доходить, что Няруй с Туей затеяли грязное, подлое дело.
— Вонючая росомаха этот Няруй! Головами нашими решил откупиться! — возмутился Тюлесей, и из его открытых широко ноздрей заклубился в морозном воздухе пар, как дым. Он спешно выкидывал с нарты всё лишнее.
— А нам что делать? — заволновались все остальные воины.
— Ждите! Делюк сам решит, что делать, — сказал Тюлесей и гикнул на оленей.
Сорвались за ним ещё шестнадцать упряжек и в мгновение ока исчезли за ближним холмом.
36
Выросшая наполовину луна ярко светила с позеленевшего слегка морозного неба, но её призрачный свет был обманчив: стоящие не так далеко елки казались чумами, мелкие кустики — упряжками.
В погоне за Няруем и Туей неслись в ночи сорок восемь упряжек. Ехавший далеко впереди Делюк понял, что, учуяв погоню и не надеясь на ноги своих оленей, Няруй и Туей притаились где-то, спрятались, чтобы сбить преследователей, и потому, выигрывая время и расстояние, он погнал упряжку прямо на То-харад, Этого маневра друга не понял Сэхэро Егор, и все тридцать упряжек своих воинов погнал широким веером за Делюком, думая, что тот всё ещё преследует беглецов. Только ветер гудел за капюшоном, только снег из-под копыт бил каскадом в лицо!
Догнали Делюка на ближнем берегу Пустого озера, откуда весь То-харад был перед ними, как на ладони. На ровной поверхности большого, как небо, озера под ярким лунным светом отчетливо виднелись тени застругов, похожие на застывшие волны.
— Где они?! — выпалил с ходу подлетевший к Делюку Сэхэро Егор. — Ушли?
Делюк молчал. В душе он негодовал на легкомысленного Сэхэро Егора, но, зная его смелость, волю и искренность, не решился сказать что-либо резкое и тем более корить его за неуклюжее ребячество.
— Неужели ушли?! — дрожа от нетерпения, Сэхэро Егор подался всем корпусом к Делюку, который, как ему показалось, растерянно смотрел в сторону То-харада и вовсе не слышал его.
— Где видно, что ушли? — вопросом ответил Делюк, глядя внимательно на белую ровную поверхность озера, и добавил: — Зря мы только землю наследили. Затаились где-то негодяи. В лес, видимо, свернули. Теперь трудно будет след найти.
— Тем и лучше, что затаились. Под такой луной далеко не уйдут. Поймаем. Непременно поймаем, — заявил решительно Сэхэро Егор.
— Легко сказать — поймаем! Обманчив лунный свет, — возразил Делюк. — В обход, по рыхлым снегам… без шума, воровски уйдут. Нам теперь надо разъехаться по одной линии и встать, чтобы каждый видел соседа слева и справа. — Вдруг Делюк настороженно поднял палец: — Ся!
Умолкнув, отчетливо услышали топот копыт и толчки полозьев на сугробах, усиливаемые эхом в порожнем небе.
— Нет, это не они, — заключил Делюк и стал рассуждать, как бы убеждая себя: — Слышно, многовато нарт. Больше десятка. Тюлесей, наверно, не смог усидеть. И правильно сделал: подмога нам теперь…
— Йэ-э-э-у-у-э-э-э!.. — раздался где-то совсем недалеко душераздирающий крик, и донесся ломкий треск мерзлых деревьев.
— Так вот ты где, вонючая росомаха-а! — услышали все зычный голос маленького юркого Тюлесея. — Нет, не уйдете, поганые торгаши головами! Не уйдете!
«Нет, не ошиблись мы, ставя тебя во главе разведки. Молодчина, Тюлесей! Молодчина!» — подумал Делюк и как бы удивленно обратился к застывшим в оцепенении воинам, которые стояли рядом:
— Чего же мы ждем? И наша подмога, наверно, не будет лишней? — И добавил как бы для себя: — Тюлесей в горячке не перестарался бы.
Люди метнулись к своим нартам, Делюк поднял вожжу и хорей — и вот уже белым облаком упряжки стремительно неслись к ближнему леску, откуда доносились отрывистые крики и ругань.
— Что-то больно расшумелись! — соскакивая с нарты, сказал Делюк и подошел к кучке людей на краю леса.
На голос Делюка все обернулись.
— Расшумелись, дьяволы, и не унимаются! — возмущенно сказал Тюлесей, выстреливая из носа и рта клубы пара.
— Заткните им рты! — распорядился Делюк.
Тюлесей метнулся к одному из лежащих, руки и ноги которого были опутаны сыромятными ремнями. Силой разжав челюсть Няруя, он заткнул ему рот скрученным туго лоскутом заячьей шкуры. Няруй заворочался, забился, как рыба на песке, издавая хриплые звуки носом.
Решив проделать то же самое, подошел с лоскутом заячьей шкуры к Туси Някоця Валей, правая рука Тюлесея. Он присел картинно на корточки и протянул руку к лицу лежащего.
— Йэ-э! А-а-а!.. — огласил тишину отчаянный крик Някоци Валея, и вот уже свободной рукой и ногами он отвешивал тумаки лежащему на земле Туси и цедил сквозь зубы: — Вот соб-бака-то! Вот кус-сачая тварь!
Подскочил к ним Тюлесей, и вдвоем с Някоцей Валеем они заткнули рот Туси.
— Отведай-ка заячьей шкуры! — бросил с издевкой Някоця Валей, разглядывая прокушенную руку. Из среднего и безымянного пальца у него капала кровь. Увидев её, он разбежался и пнул Туси в живот. — Вот тебе, дикарь!
Туей скорчился и замычал носом. Някоцю, приготовившегося пнуть Туси ещё раз, остановил Тюлесей. Он кивком показал на связанных и обратился к Делюку:
— Куда их? Что с ними будем делать?
— Потери есть? — спросил Делюк вместо ответа.
— Раненых двое. Енгэй Микиту руку задело. Тяжеловат Хэто Енголя. Стрела в кость попала и обломилась. «Вытащить бы обломок. Чем раньше, тем лучше. Тухлый нерпичий жир — тот же яд!
— Вместе с Някоцей, выходит, раненых трое. Многовато! А обломок стрелы у костра вытащим. Поехали! Нельзя медлить! — сказал Делюк и, направляясь к своей нарте, бросил: — И этих живых покойников заберите. Не замерзать же им тут связанными. Решим, что делать. Вместе решим.
Привезенных Туси и Няруя саювы встретили гулом негодования. Каждому хотелось взглянуть на этих людеобразных негодяев, сделать им больно, но Делюк распорядился развязать их.
— По трое стерегите каждого, глаз не спускайте с них. Ты, Егор, займись этим. — Делюк положил руку на плечо Сэхэро Егора. — Все остальные из нескольких маленьких разбейте скорее большой чум и раздуйте костер.
Большой, со сдвоенными шестами чум вырос моментально. Когда в чуме весело загудел костер, занесли Хэто Енголю, положили его на сухую мездру оленьей шкуры и начали раздевать.
Делюк взглянул на распухшую уже рану у основания ноги Хэто Енголи, пощупал её.
— Иэ-э-э! — простонал раненый.
— Сустав цел, — сказал Делюк и распорядился: — Забейте скорее оленя и подайте мне его спинное сухожилие.
— Э! Умер, что ли, он?! — крикнул испуганно Тюлесей.
Все видели, что Хэто Енголя растянулся неподвижно на мездре оленьей шкуры и вроде бы не дышит.
— Как это умер? Спит, — спокойно сказал Делюк. — Пусть поспит.
Когда принесли очищенные от мяса спинные сухожилия оленя, Делюк вытащил нож. Жало ножа он подержал в пламени костра, потом остудил нож, снова ощупал рану и вдоль волокон мышц сделал глубокий разрез до кости. Кончиком ножа он отбросил железный наконечник стрелы, очистил осторожно кровоточащую рану, облил её воспламеняющейся на огне прозрачной русской едой, сильно сжал пальцами рук разрез, плотно прижал сверху сырое сухожилие, которое тут же приклеилось к телу, и наложил повязку из широкого сыромятного ремня.
— Пусть ещё поспит, — сказал он, устало откидываясь назад. — Утром ему легче станет, а дня через два и вовсе здоровым человеком будет.
37
Подсинив снега, короткий световой день месяца Большой темноты промелькнул, будто и не был, и сразу же потемневшее небо снова наполнилось звездами. Запоздалый месяц, лениво выползал из-за края земли окровавленным шаром. Свет его был ещё слаб, а потому снега казались угольно-черными, люди по ним мельтешили расплывчатыми тенями. «Вот когда нападать-то!» — думали многие, но вслух никто не говорил этого. Но вот месяц поднялся на небосклон, накалившись постепенно до желтоватой белизны. Четко выделились черные тени застругов, земля стала чешуйчатой, как рыба, подернулась зеленоватой дымкой. Всё вокруг погрузилось в тишину.
— Что делать с Няруем и Туей? — подал голос Сэхэро Егор.
— В самом деле, что с ними делать? — подхватил Тюлесей.
— Отпустите и пусть идут пешком в свой То-харад, — после долгого молчания сказал Делюк. — Там, может, приветят их. А нас к их приходу, думаю, там уже не будет.
Люди молчали. Это означало единодушное одобрение.
— Быстро и без шума снимем наблюдателей с углов стены на башнях и стражу у входа, — снова донесся голос Делюка, деловой и приподнятый. — Главное — надо взять с ходу острог со стрельцами, не дать им взяться за оружие. С пищалями шутки плохи! Остальное дозволим огню. Забирайте меха, оружие, кожу и золото. Людей без надобности не убивать. Пусть уходят туда, откуда пришли! Там у них есть свои земли! Кто идёт с разбоем, подкупом и обманом, не место тем на нашей земле! Не нужна нам чужая земля, но и своей не позволим топтать и поганить! Покорность и унижения — не наш, ненцев, удел! Спалим осиное гнездо слуг ненасытного царя!
— Спалим То-харад!
— Спалим гнездо хэбов! — донеслись отовсюду гневные крики.
Толпа долго ещё волновалась и гудела, нагнетая воинственные страсти. Надо было настроиться на бой с противником сильным, грозным, обученным специально для усмирения воинственных туземцев, от которых царская казна получала немалые даровые барыши. Но вот упряжки сорвались с места и в морозном воздухе превратились в огромное облако пара. Шумная масса людей на ходу делилась на отдельные кучки по тридцать упряжек и разворачивалась веером. Впереди на большой скорости мчались вместе с Делюком и люди Тюлесея. Как ни в чём не бывало с ними ехали и все трое раненых. Менять тактику и разрабатывать новый план теперь уже было поздно. Встречный порывистый ветер был на руку налетчикам: шум трех с лишним тысяч упряжек не может быть услышан раньше, чем воины Делюка ворвутся в городок. Так всё и получилось.
Упряжки Тюлесея и ещё трех его людей точно из-под земли выросли под ближней дозорной вышкой городской стены. Пока стрелец в огромной овечьей шубе заворочался, чтобы дать предупредительный выстрел, молнией взметнулся тынзей, брошенный верной рукой Тюлесея, и вот уже сдавленный петлей тынзея по локтям стрелец лежал на снегу с наружной стороны стены возле ног четырех разведчиков. «Будут угрожать или выхода иного не будет — колите копьем, бейте стрелой! — будто снова услышал Тюлесей слова Делюка, брошенные на льду озера под невысоким берегом вдогонку перед самым налетом на дозорных. — Отнимайте оружие, и вяжите стрельцам руки и ноги».
С башни и со стороны главных ворот городка донеслись хлопки выстрелов и угасли в душераздирающем крике. Молниями летали над землей горящие стрелы, и кое-где поднимался дым, белый сверху, черный снизу. Таким его делала набравшая уже блеск луна. Люди и упряжки носились в огненном кольце подожженной стены между утонувшими в сугробах домами, которые один за другим занимались огнем и окутывались дымом.
Тюлесей со своими воинами ворвался в гущу пылающих домов.
В окруженном сотнями упряжек остроге хозяйничал Сэхэро Егор. Под наведенными в упор стрелами в одних исподних, босиком стояли стрельцы со связанными за спиной руками.
На сугробах возле саней росли горы мехов, обитых металлом сундуков, коробок всяких, бердышей, сабель, кинжалов, дубленых кож и прочего железного и вещевого хлама. Всё это спешно грузилось на нарты и связывалось ремнями.
Когда все жильцы городка были загнаны в опустошенный острог, а стрельцы связаны и взяты под прицел полутора сотнями лучников, воины Делюка пустились по домам, беря всё, что представляло интерес.
Делюк остановился возле вырубленных в снегу ступенек, которые вели в темную нору под сугробом. Таких нор оказалось четыре — по две с этой и с той стороны небольшого сугроба.
«Что это? Похоже, тут они что-то важное хранят. Может, еда? А может, порох? Оружие? — молча размышлял он, разглядывая глубокие норы и думая, зайти ему или нет. — А может…»
— Тут, говорят, их самые вредные шаманы сидят, — сказал подбежавший к Делюку Тюлесей. — Под землей они их держат, потому что, говорят, царь так велел.
— Царь?! — удивился Делюк. — Кто тебе сказал?
— Да вот этот ненец, — Тюлесей показал на человека в просаленной малице и в больших скрипучих пимах-катанках.
— Тут ихние шаманы. Попы, — подтвердил незнакомый ненец, переминаясь от волнения с ноги на ногу и озираясь по сторонам, будто его могли слышать хозяева То-харада. — Главный из них Аввакум, протопоп какой-то. Этот, наверно, даже попа поважнее!
По открытому усеченному слогу в начале слов Делюк понял, что перед ним стоит малоземелец, и, не дожидаясь, что ещё скажет тот, спустился по лесенке вниз и с силой рванул на себя массивную дверь, обитую нерпичьей шкурой. Вместе с облаком морозного воздуха он очутился в душном, но светлом подземелье. Пахло чем-то горелым и сыростью.
Делюк долго всматривался в странного худого человека с черной с проседью бородой и в каком-то длинном до пят малахае. На груди у него поблескивал белый крест, вспыхивая искрами от огня светильников. Щеки у русского шамана были впалыми, колкие глаза под кустистыми бровями сидели глубоко, и были они, как говорится в тундре, на расстоянии крика. «Плохо, наверно, кормят», — подумал Делюк сочувственно.
Русский шаман сидел неподвижно и, вцепившись костистыми руками в углы столешницы перед собой, внимательно рассматривал вошедшего. Он не мог не узнать в нем тундровика, а потому взгляд его стал настороженным и чуть ли не враждебным, ибо слышал он, что дальние самоеды уже дважды налетали на Пустозерск, куда привела судьба ярого сторонника «древлего благочестия», и дважды сжигали его.
Делюк стоял растерянно возле распахнутой двери не в силах оторвать ноги, будто они вросли в пол.
— Это ты русский шаман? — спросил он как можно строже. — Я тебя не трону. Я тебя…
Услышав русские слова в устах туземца, Аввакум встал. Высокий ростом, угловатый в плечах, он длинными шагами прошелся с угла на угол, остановился возле стола, расставив на ширину плеч длинные ноги, и стал сверлить Делюка большими, мечущими искры глазами. Звездное вспыхивание креста на груди усиливало это ощущение в сознании Делюка. Потом русский шаман заговорил вовсе не враждебно:
— Дитя студёной земли, куда же я уйду из этой могилы? В чум? Не жить мне там. К звездам? Не всё ещё мной навякано на земле. Некуда идти мне, друг мой. Бог всё видит. И царево око здесь бдит неусыпно. И вам не взять Пустозерска — не такие ещё копья ломали. Свобода моя — в слове моём. Я уж…
Делюк было собрался выразить своё сочувствие странному русскому шаману, но земля под ногами пошатнулась вдруг, раздался оглушительный треск, подобный раскату грома, и слова Аввакума потонули в этом шуме.
Взглянув на Аввакума ещё раз, Делюк увидел, что тот степенно и важно положил крест двумя длинными вытянутыми пальцами, в лице он ничуть не изменился и стоял спокойно на прежнем месте. Грохот всё ещё продолжался, он даже вроде бы усиливался, приближаясь, а земля оседала с каждым новый ударом. Это рвались бочки пороха, ядра, ящики патронов в пороховых амбарах.
Не найдя, что сказать, Делюк только махнул рукой на прощание, вышел, закрыв за собой дверь, поднялся по снежным ступенькам и, увидев зарево разрывов, быстрыми шагами направился к своей упряжке и с ходу запрыгнул на нарту, на которой оказались какие-то обшитые железом ящики, поднял обе руки и, размахивая ими, крикнул сквозь грохот и треск:
— О-хо-хо-ов! Люди мои! Обратно! Обратно пора!
В тот же миг всё заходило, замельтешило между пылающими домами, и, сорвавшись с места, три с лишним тысячи упряжек исчезли в подлунном просторе, как крылатые призраки.
Когда остался далеко позади пылающий То-харад, Делюк и его люди стали считать потери. Их оказалось немного: вражьи пули уложили четырех оленей в упряжке и тяжело ранен в плечо Икси Тайбари — пастух Сядэя Назара.
Задерживаться для того, чтобы оказать какую-то помощь раненому, не было времени, потому что в темноте и в спешке могло быть обнаружено не все оружие — есть, конечно же, какие-то ещё тайники! — наверняка будет ещё погоня, а потому упряжки воинов Делюка уже летели врассыпную на вольный простор, где ветер и ненец — родные братья.
После третьей, особенно затянувшейся повёрды зарево пожарища скрылось за горбом земли, хотя с высоких сопок всё ещё был виден его красноватый отсвет, как отблеск ещё не всплывшей, но уж приближающейся зари.
Потерявший много крови Икси Тайбари угас, а потому везли его в его же нарте на прицепе до безопасного места. Делюк тяжело переживал гибель воина и человека, но война есть война, и она без жертв не бывает.
Ни на второй, ни на третий день погони не было, да и, видимо, смысла не имело предпринимать её, а потому люди Делюка спокойно вернулись на Святые сопки, где и похоронили Икси Тайбари как героя на высокой сопке рядом с Тарасом Микулом, и место это стало святым.
После трех дней отдыха и дележа трофеев упряжки воинов отправились каждая своей дорогой в свои далекие стойбища…
38
Делюк на своем стойбище появился в полнолунье Орлиного месяца[69]. Братья-близнецы его подросли, стали серьезнее и по-тундровому деловитее, мать и бабушка чуть постарели — стрелки морщин у глаз стали глубже и длиннее. Ябтане ждала ребенка. Этого, конечно, не было видно, но от глаз Делюка разве что-нибудь ускользнет? Он только взглянул на жену, а глаза его, как наяву, снова увидели брюхатую рыбину с головой Ябтане на стремнине реки Хыльчув. «Фу, живая нгытарма![70] — подумал он, чуть не крикнув. Но тут же вернулось к нему добродушие. — Так вот о ком ты говорила мне, чудо-рыба! За добрую весть спасибо! Живи себе на воле и расти своих деток!» Но вслух он этого не произнес. Делюк нежно поцеловал свою Ябтане в щеки, пощекотал кончиком носа её нос, тепло посмотрел в глаза, прижал её аккуратно прибранную голову к сердцу, почти не дыша, что-то ласковое хотел сказать (он подбирал самые лучшие, самые светлые слова), но с улицы донесся скрип полозьев и колкий треск суставов оленьих ног. Запоздало подняли лай собаки.
— Это ещё что? Кого это к нам вдруг принесло? — сказал он и вышел спокойно на улицу.
Два длинных аргиша только ещё подходили к стойбищу, а возле крайних саней стоял на своей нарте человек без тасмы и потому напоминал собой чум. Делюк не сразу узнал его, а когда подошел, всплеснул руками и от удивления хлопнул ими себя по подолу малицы.
— Хо! Сэхэро Егор! Что это ты надумал? — спросил он, всё ещё удивляясь.
— Удивлен? — сказал Сэхэро Егор и добавил, как бы оправдываясь: — Но я… не смог иначе! Как только вернулся к себе на стойбище, с каждым днем всё сильнее стал понимать, что торчать посреди тундры с одним только чумом невыносимо одиноко, и вот… решил к тебе перебраться. Пустишь ли в свое стойбище?
— Как не пущу? Вдвоем веселее! — обрадовался Делюк.
— И я так думаю, — улыбаясь широко, изрек Сэхэро Егор и стал выбирать место для чума.
— И мне после То-харада, людей, к которым привык, тяжко одному, — чистосердечно признался Делюк.
Когда длинные аргиши обогнули с обеих сторон указанное Сэхэро Егором место, женщины принялись за разбивку чума, а мужчины начали распрягать быков.
— Значит, решил ты жить со мной в одном стойбище? — улыбаясь лукаво, не без иронии спросил Делюк и добавил: — Прекрасно! Вся тундра, значит, за десять поверд в объезд нашего стойбища будет лететь?
Сэхаро Егора эти слова друга задели, он заметно побледнел, изменился в лице и сказал, сдерживая себя:
— Не думай, твоей тенью я не стану, за твоей спиной не буду прятаться, — и резко покачал головой: — Нет!
— Сразу и загорелся, — сказал Делюк, поняв, что виноват-то он сам, его язык, но слова уже сказаны! — И пошутить нельзя?
— Шутки с тобой!.. — бросил резко Сэхэро Егор, но запнулся. Он дышал тяжело, широко раздувая ноздри, спинка и кончик носа побелели слегка.
— Ну-ну! Что язык-то проглотил? Договаривай, — глядя мимо Егора, говорил неторопливо Делюк, по ещё мальчишеским его губам блуждала лукавая улыбка.
— Запою ещё какой-нибудь… тямдэ![71] — сказал уже спокойно Сэхэро Егор и тоже улыбнулся.
— Гм! Тямдэ!.. — повторил Делюк и сказал, захлебываясь от смеха: — Слышал-слышал, какие там легенды пошли по тундре: и всех жильцов То-харада, оказывается, одним только взглядом я усыпил, и русского шамана по-воробьиному чирикать заставил… Не смех ли! А? Где же у всех глаза? Все же видели, что этого не было!
— Смешно, но… такие сказки идут по тундре. Сам я слышал. И не один кто-то — все говорят, вся тундра говорит об этом! И даже дети! — явно настраиваясь на мирный лад, сказал, тоже усмехаясь, Сэхэро Егор.
— И пусть говорят! — согласился Делюк и, чтобы помочь поднять нюки и поднючья, они пошли к голому остову чума, который успели уже поставить женщины,
39
Переезд Сэхэро Егора со своим чумом на стойбище Делюка никого не удивил, все приняли это как должное, но что началось потом — уму было непостижимо! Почти каждый день тянулись к чуму Делюка всю весну аргиши, и в начале лета на стойбище было уже около ста пятидесяти чумов! В огромном стойбище старейшиной стал Делюк, хотя были люди и богаче и именитее. Скажем, тот же Сядэй Назар — он объявился в числе первых, — но Делюка уже не могло затмить даже самое большое богатство. Люди не только уважали, но и обожествляли его, хотя, как прежде, он был прост, скромен, ещё по-мальчишески наивен, чрезмерно забывчив и рассеян; но на это никто не обращал внимания. По тундре, обрастая новыми небылицами, ходили всё те же легенды о Делюке — смелом, умном человеке и невиданной силы шамане, который одним лишь только взглядом усыпил весь То-харад, превратил в воробья русского шамана, с которым и сам царь ничего не мог сделать. Ходили слухи, что Делюк и самого царя может заставить по-собачьи лаять.
Большое стойбище жило своей обычной размеренной жизнью. Люди ходили на птицу, дикого оленя, ловили в реках и озерах рыбу, ездили в гости в соседние стойбища, сами встречали гостей, чтобы лучше знать, чем живет и дышит земля, какие ветры дуют…
А дел на стойбище, как всегда, было много. Обычные это были дела. Мужчины готовили к зиме сани: соревнуясь в умении, мастерили новые, ремонтировали старые; женщины чинили нюки, шили одежду, тоже желая превзойти в мастерстве и в тонкостях вкуса своих подруг, готовили впрок для долгой зимы запасы вяленой рыбы и сушеного мяса, заменявшего хлеб. Ко всему этому, конечно, жадно тянулась молодежь.
Дружно и мирно жили люди. Когда незакатное солнце склонялось к вечеру и падала на землю свежесть прохлады, жизнь на стойбище особенно бурлила. Сильные и бесстрашные юноши состязались в быстроте и ловкости — бегали и прыгали, боролись и стреляли из лука, метали тынзей на дальность и точность, устраивали азартные гонки на оленях и бега. Юные красавицы затевали свои нехитрые девичьи игры на лужайках возле чумов. Веселые, звонкие, задушевные их песни и смех, усиливаемые простором и эхом, раздавались вокруг далеко за полночь. Собрав вокруг себя степенных мужчин и любознательных детей, седые старики рассказывали сказки о людях добрых и злых, сильных и слабых, глупых умницах и умных глупцах, богатых и бедных, пели песни о народных героях и богатырях, их удивительных приключениях и подвигах.
Так они и жили — мирно, спокойно, каждый в своё удовольствие, полные счастливых надежд на будущее. И вот утром после ночи, когда солнце впервые за лето ушло за спину моря, зажглась на небе первая звезда, сгустились сумерки и землей овладели тени, на стойбище объявился Пар-Федь.
— В море ходит огнедышащее чудовище! Нор Ге, или пир-рат! Где появится, мечет громы и молнии, становища и чумы будто огненным языком слизывает. Ветры там лишь золу и угли ворошат. Ни людям, ни даже собакам спасения нет!..
И всполошилось тут всё стойбище. Обгоняя ветер, брызнули во все стороны оленьи упряжки. От стойбища к стойбищу поскакала весть:
— Беда! С моря идет беда! Огнедышащее чудовище можно одолеть только вместе, только сообща. Люди тундры! Братья! Забудьте все мелкие раздоры и межродовую вражду: враг у нашего жилья! Жестокий враг? Дружно беритесь за луки и копья! Ради нас самих и наших детей — нашего будущего! Ради нашей родной земли — кормилицы нашей и нашей колыбели! Матери нашей! За луки и копья! Страшное чудовище идет на Варандэй. Спешите! Братья наши, а значит, и все мы — в беде!
Ту же страшную весть, тот же страстный клич по всему побережью Талого моря от избы к избе, от становья к становью несли пешком и везли на лодках. И пусть это были люди разные по крови — ненцы, санэры, ханты, саами и поморы, — но родство по земле дружно поднимало их против общего врага, одинаково ответственно и по-сыновьи близко к сердцу принимали они этот клич к единению. Время не ждет, медлить было нельзя, а потому с устья Печоры и Пэ-Яха летели под парусами, плыли на веслах к Варандэю поморские кочи, карбаса и остроносые каюки, ощупывая подзорными трубами морскую ширь. С Камня и Пай-Хоя, Вангурея и Таброва, Надера и Пярцора, Янея и Семиголовых сопок стремительно неслись к Варандэю, на Варандэйскую лапту, оленьи упряжки. Лапти ещё никогда не видела такой могучей рогатой лавины упряжек, несущихся к морю в едином порыве. Это на зов родной тундры поднялись люди, и она, тундра, будто это понимала и помогала, как могла: днём, как бы радуясь, озарялась под белым осенним солнцем, чтобы любовались и гордились ею люди, ночами обильно покрывалась росой, чтобы лучше катились полозья нарт.
— Вот ведь: и сама земля помогает, — сказал Делюк Сэхэро Егору, когда в окрестностях Варандэя подошли к неширокому проливу люди его стойбища. — Днем — солнце, будто и оно старалось, не желая погаснуть в наших глазах, а ночью — роса, хоть на лодке скользи! Так было все три дня, пока мы ездили, поднимая народ.
— Не мудрено! Земля, она — наша мать, не может не чуять она и тревоги и радости своих детей, — изрек Сэхэро Егор, вглядываясь в озаренный солнцем простор Варандэйской лапты. — Лапта-то, смотри, Делюк! Лапта-то! Ожила! Морем оленьих рогов заходила!
— Тундра никогда не была мертвой. И жила, и жить будет! — ответил Делюк.
Сэхэро Егор первым погнал свою упряжку по зеркалу глины высыхающего пролива. Отлив подходил к завершению, а потому вода на сувое едва лишь коснулась оленьих животов. За Сэхэро Егором хлынули и все остальные двести с лишним упряжек.
Вторым после Сэхэро Егора ехал Делюк. От переезда до становища было еще чуть больше поверды, и ездоки не спешили, потому что основная масса оленных людей была ещё далеко на лапте.
Солнце поднималось. Приближался полдень.
Становище Варандэй, вооруженное единственной трехвершковой пушкой с пятью чугунными ядрами и тремя пищалями, завезенными когда-то из острога То-харада для защиты крайних северных владений Руси у Ледовитого моря, вот уже неделю жило напряженным ожиданием непрошеных гостей — пиратов. Учуяв легкую добычу в островных избах русских промысловиков и в чумах ненецких охотников, морские разбойники, всё более наглея, стали появляться и на утренних островах Талого моря, и даже на побережье. И немудрено: здесь до бога ближе, чем до царя и Руси! А что он — бог? Не схватит за руку, не тряхнет за шиворот сиюминутно! Вольному воля!
Невесть кем и когда брошенные небрежно на этот прибрежный остров добротные, срубленные из плавника дома стояли в беспорядке между невысокими песчаными буграми, густо поросшими пыреем. Домов, всё же изрядно потрепанных морскими северными ветрами, было не более десятка, но зато низеньких, крытых дерном избушек с крохотными, задымленными мышиными глазками-окошками хватало: стояли они вдоль всего берега круглой губы вперемежку с буграми. Человеческим жильем были и иные курящиеся дымом земляные бугры с деревянными столбиками-отдушинами. В них, как в норах, тоже жили люди. Особняком на сухом ровном ягельнике на окраине поселка толпилось более трех десятков чумов с берестяными и нерпичьими нюками. В них жили безоленные, но далеко не нищие ненцы-вэнодэтты. И, возвышаясь над всеми, на высоком обрывистом берегу, как настороженный кулик, готовый взлететь, властно стояла маленькая аккуратная часовенка, вознеся на тонкой шее круглую голову с горящим под солнцем крестом на макушке.
Приезжая в лавку Хожевина за продуктами, Делюк и раньше не раз видел этот божий чум, но не придавал ему особого значения — было ни к чему: бог чужой и кто знает, что у него в голове! — хотя с замиранием сердца останавливался он возле него, любуясь позолотой на резных наличниках небесно-голубых дверей, которые почему-то всегда были закрыты перед ним, и чешуйчатой, с крестом на макушке круглой головой на высокой тонкой шее, и невольно думал: «И бог-то у них, наверно, игрушечный, как этот странный домик». Но после То-харада, где он увидел подействовавший на него угнетающе настоящий большой шестиглавый божий чум, рядом с которым почувствовал себя чуть ли не былинкой, Делюк резко переменил к ним отношение и теперь, когда увидел впереди привычную варандэйскую часовенку на возвышении, в груди у него ворохнулось чувство неприязни и даже враждебности, потому что снова вспомнил русского шамана Аввакума, который должен бы быть хозяином в этом чуме, а его по велению царя и других русских шаманов держат в подземелье и, наверное, голодным. «До бога далеко, а людям жить сейчас: и в рот надо что-то взять, и одеться… Да мало ли что надо человеку!» — пришли тут же на ум слова Сэхэро Егора, брошенные в сердцах в первые дни их знакомства, и Делюк сказал вслух:
— Живому человеку всё надо!.. — и погнал оленей. Они быстрее мысли вынесли его к домам.
Люди к Варандэю, кто морем, кто тундрой, стекались весь остаток дня и всю ночь. Прибывшие тут же доставали луки, осматривали их, проверяли, потом поправляли помятые перья стрел, заменяли их новыми и принимались точить топоры, ножи, кинжалы, гарпуны и копья на хореях. У иных были и пищали, взятые во время налетов на То-харад или купленные тайком у проезжих купцов. Все как один готовились к схватке с незнакомым ещё врагом — коварным, злым и жестоким, если судить по его делам на островах и жутким рассказам немногих очевидцев.
Между песчаными буграми, поросшими пыреем, и возле приземистых домов и низких землянок в неглубоких, вырытых завихрениями ветров котлованах, заслоняемых с моря прибрежными холмами, до самого утра горели костры. Люди возле них грелись, сушили вымокшую в дороге одежду, пропитывали ворванью наконечники стрел и здесь же готовили еду.
Утром на море действительно появился трехмачтовый корабль, но… войны не случилось.
Морской разбойник встал на небольшом отдалении от берега, покрасовался, как скалистый остров, на глади воды, поднял паруса, трижды пальнул из пушек и… ушел. Растаял за спиной воды.
— Что это он? — пожав плечами, спросил Сэхэро Егор, провожавший корабль за горизонт глазами. — Ушел?!
Делюк, ожидавший настоящего боя, — он тайно надеялся, что, может быть, в самый разгар схватки появится белая нерпа и произойдет что-то необычное, — молчал, но потом всё же сказал огорченно:
— Ушел!
Прибрежные же люди думали иначе. И это было вернее: не зная подходов, морской разбойник, может быть, побоялся кошек, чтобы не сесть на мель, или… испугался множества людей, упряжек и лодок, чего не мог не видеть в подзорную трубу; но, видимо, главной причиной его ухода была все же маленькая часовенка с вознесенным крестом на круглой голове. Враг понял: этот прибрежный остров не бесхозная и безответная земля. Русь!
МЕТЕЛИ ЛОЖАТЬСЯ У НОГ
1
Задыхаясь в дыму метелей, маленький олений поезд в три аргиша медленно ползет к Сыра Хою — сердцу Большеземельской тундры. Этот вечно голубой от нетающего снега хребет издавна считается местом промысла Микула Паханзеды — человека, которого природа обидела ростом, но дала ему нечто другое, чему завидуют многие в тундре. Он широк в плечах, крепок и быстр, — до сих пор его не смогли одолеть ни соперники, ни неудачи.
А лицо у него доброе, глаза спокойные и доверчивые — кажется, они верят всему — даже тому, чего ещё нет, но обязательно будет. Они и цепкие, однако, глаза Паханзеды: под метким прищуром их уснула вечным сном не одна сотня и белых и голубых песцов.
Слава о Микуле Паханзеде давно ходит за семью реками. Говорят, его как лучшего охотника земли знают и за морем Белым, да и за Хантыйским-то Камнем[72] произносят его имя с тайной завистью.
Всё дальше и дальше сквозь метельную муть уползает нартовый поезд — олени идут прямо и ровно, словно по компасу.
У Микула есть компас. Но охотник редко пользуется им — хранит в нагрудном кармане рубашки вместе с табакеркой, как самую дорогую реликвию. Подарил его Микулу Паханзеде русский человек в островерхой шапке с красной звездой. При встрече с друзьями, когда разговор заходит о круглой коробочке с красно-синей стрелкой, плосковатое лицо Микула расплывается в улыбке — свой компас он называет Бегающим глазом.
— Вытащу, — говорит, — глаз и… туман стелется такой, что вытянутой руки не видно, пурга или самая слепая осенняя ночь — Бегающий глаз всю землю видит насквозь.
Никто в тундре не знает лучше Микула волшебную силу компаса. Микул доверяет компасу, как себе. Пользуется, однако, им редко: он и без Бегающего глаза видит всю тундру насквозь — его олени ходят только прямо.
Олений поезд резво вылетел на лед небольшой тундровой речки Нярцо яха. Почувствовав под ногами твердое, усталые олени подняли головы, в их полных грусти глазах появилась живинка: теперь трудяги не проваливаются по самые животы в рыхлый снег — под ногами лежит полутораметровый лед, укрытый лишь тонюсеньким слоем снега, укатанного речными сквозняками. Но такая дорога кончается скоро. По отлогому берегу олени поднялись на кряж, глаза их вновь сделались мутными — олени остановились.
Через левый рукав малицы Микул Паханзеда привычно вытащил табакерку, насыпал на широкий ноготь тёмно-зеленый порошок и дернул разом двумя ноздрями. Глаза мгновенно закрылись, на щеки выкатились крупные, как дробинки, слезы. Ещё мгновение, и Микул чихнул так громко, что все четыре ноги вожака упряжки оторвались от земли одновременно, ветвистые рога качнулись, словно кусты ивняка, задетые ветром.
— Это ещё что такое, Хорей?! — крикнул Микул, обращаясь к оленю. — Разве ты первый раз слышишь, как чихает твой хозяин? Или ты о чём-то задумался? Будь что будет, а я все-таки дам тебе хлеба.
Паханзеда слез с нарты и принялся отвязывать ремни, туго натянутые. Олень поглядывал искоса. И как только в руках Микула появился кусок мерзлого хлеба, тонконогий красавец рванулся к хозяину — ласково лизнул высокий его лоб и мягкими губами осторожно взял с руки угощение; стал торопливо разжевывать лакомство. Цилиндрики его ушей вздрагивали, коротенький хвост раскланивался от удовольствия.
А тем временем две женщины — бабка Ирина, мать Микула, и Нина, его жена, — устроившись поудобнее на сугробе, обструганном ветром, смотрели на синеватую тень ивняка и толковали о чём-то. О чём? — это их дело. Пусть толкуют женщины.
Микул вытащил из-под амдера деревянную лопатку, похожую на язык зевающей собаки, размял пятками затвердевший снег и стал разгребать его. Скоро появился ветвистый зеленовато-голубой густой ягель.
— Дружище, а твой ум где кочевал? — вновь обратился к оленю Микул; по лицу разлилась довольная улыбка. — Микула Паханзеду нюх еще не обманывал. Ягель-то какой, а? Здесь, Хорей дорогой, и твой желудок будет полон. Ясно?
Он разогнулся и сказал самому себе теперь:
— Здесь можно и чум ставить. — Огляделся и добавил: — Да и пора уж…
Выбрал на кряже ровное место и крикнул вполголоса:
— Женщины! А куда ваши умы разбежались?
Те переглянулись, поднялись на ноги и пошли к своим нартам.
Когда два длинных аргиша подъехали к Паханзеде и поравнялись с ним, он поднял руку:
— Сто-о-ой!
И принялся распрягать оленей. Женщины развязывали ремни, которыми были притянуты к нартам вещи.
Олени, отряхиваясь и обнюхивая под ногами, долбя копытами снежную наледь, медленно разбредались по склону кряжа. Ветер запах душистым ягелем.
А когда Микул распряг всех оленей, то увесистые шесты и латы уже лежали на снегу — можно было ставить чум.
Бабка Ирина, несмотря на возраст, сноровисто таскала облысевшие от времени и снега шесты, ловко вонзала их в снег — шесты с визгом уходили в ледяную корку сугроба. А Нина передвигалась медленно; после каждого принесенного к будущему чуму шеста устало садилась на снег, дышала тяжело, долго. Бабка заметила это. Её сверлящий взгляд молнией впился в болезненно исказившееся лицо Нины. По обычаю тундры свекровь верховодит снохой. А бабка теперь не могла командовать снохой, и ей были ненавистны не только движения, но и каждый вздох Нины.
Всё чаще стал поглядывать на жену и Микул. Наконец он не выдержал колючих взглядов матери, без слов упрекающих и подгоняющих Нину, шагнул к жене.
— Зачем берешь шест? — отобрал он у неё тяжелую ношу и бросил на снег. — А если хочешь помочь матери, выбери работу полегче.
Женщина покорно опустила голову. Круглое лицо бабки сделалось из смуглого черным; от глаз и рта стрельнули в стороны острые морщинки, белые как снег.
— Где твой ум, мать? — повернулся к ней и покачал головой Микул. — Разве ты никогда не была женщиной? Твои-то глаза лучше моих должны видеть — если не сегодня, то завтра Нина подарит мне сына… Или дочь.
— А твоя жена не тундровая женщина разве?
— Ну и что из того, что она родилась и живет в тундре?
Старуха прикусила тонкие губы, потом упрекнула сына визгливым голосом:
— Я рожала тебя в обледеневших кустах на сугробе. Я только на минутку положила на снег вязанку дров. В чум я вернулась с тобой и с дровами. Женщина тундры должна работать всегда. И позор для неё, если ей напоминать будут об этом!
— Я буду работать за неё и за себя.
— Мужчина должен заниматься своими делами.
— Я буду работать за двоих. Поняла?!
Мать и сын молча ставили шесты, натягивали нюки, старались не смотреть друг на друга.
А ветер словно бы ждал, когда будет натянут последний нюк, принялся дуть с такой силой, словно хотел оторвать от земли чум вместе с сугробом.
Только с наступлением темноты чум принял свой обычный, жилой вид и внутри, на железном листе очага, заплясал языкастый огонь. А ещё позже Микул поел мороженого мяса, выпил горячего чая и ушел в тундру к оленям.
2
Разъяренной волчицей выла пурга. Стадо, теснимое со всех сторон бешеным ветром, сжималось, словно пальцы в кулак, грея друг друга боками, так, сжавшееся, и легло на снег, прикрываясь сверху кустиками ветвистых рогов. Ветер завывал в узорчатом, едва колыхавшемся живом кустарнике.
Микул следил за стадом устало, но и на миг не смыкал глаз. В пургу олень может отойти, отбиться незаметно от стада, а волки не дремлют в такую погоду. За оленями надо следить и следить. Но больше всего в эту ночь не давали Микулу покоя думы о Нине: кого она подарит ему — дочь или сына?
Сын?.. Он вырастил бы из него большого охотника — слава сына перехлестнула бы и славу отца.
Дочь?.. Неплохо и дочь — она будет первой красавицей тундры. О ней будут вздыхать женихи от Белого моря до Енисея; и даже солнце на миг сомкнет свои золотые ресницы, увидев её.
А каким именем он их назовет?.. Хороших имен в тундре, что и оленей…
— Каким? — спрашивал холодную вьюжную ночь Паханзеда.
А тем временем в чуме бабка Ирина надоедливым оводом гудела над Ниной: не могла простить ей того, что Микул взял её под защиту и работал потом за двоих.
— Не я ли, поганая ты женщина, мать твоего хорошего мужа — кормильца всей семьи? А ты уступаешь ему и свою работу — заставляешь работать и за себя! Ты слабая женщина! Ты позоришь род Паханзед на всю тундру. Я возьмусь за тебя!.. Ты должна бояться моего голоса, как олени боятся воя волков! Взгляда бояться!
Бабка визгливо кричала. Страшно кричала. Нина сжалась в испуге и следила за судорожно мечущейся тенью разъяренной старухи. А бабка, заметив, что сноха испугалась, топнула короткой ногой и словно потеряла рассудок, сдерживающий её до сих пор: в ее руке блеснула кривая, как месяц, палка, какой женщины выбивают снег из оленьих шкур на нюках, со всего плеча ударила этой палкой по голове Нины. Нина закричала от боли, схватилась обеими руками за голову и повалилась на постель, заплакала в голос. Бабка нависла над ней черной, угрожающей тенью, замахиваясь вновь и вновь. Ослабевшими руками Нина натянула на себя тяжелое одеяло, сшитое из заячьих шкур, и зарылась в постель.
Уже удовлетворенно ругаясь, долго ещё бабка Ирина не могла найти себе дело — болталась по чуму. Наконец и она, сопя, улеглась; сон, видимо, не шел к ней, и она нудно ерзала, переваливаясь с боку на бок.
Нина тоже не могла уснуть — дышала тяжело и стонала. Щеки её были в крови косы, недавно сбегавшие на плечи черными ручейками, разметались и слиплись от крови. Нина стонала и плакала.
Лишь в полночь, а может, и под утро бабка поднялась на тихий плач Нины и пискливый крик, появившийся в чуме. Она протерла глаза, осмотрелась, потом из сырого, успевшего покрыться наледью хвороста раздула костер. А потом, оглядевшись ещё раз уже при свете костра, виновато опустилась на постель рядом с Ниной; проклинала себя за то, что вечером жестоко наказала невестку, шептала что-то вполголоса Нуму Великому: рядом с Ниной лежал беззащитно слабый ребенок, кричал отчаянно, задыхаясь, словно бы не хотел того мира, в который пришел. Бабка стонала, сознавая себя виноватой перед богом и перед святым, только что родившимся на свет человеком. Ей сделалось страшно. Бог не приходил ей на помощь. И старуха не помнила, что делали как бы сами по себе её руки. Между тем они продолжали делать что-то, видимо, нужное, потому что крик унимался и Нина перестала всхлипывать. Бабка помогала внуку и обиженной ею невестке, не дождавшись помощи бога…
Утром, когда голубой лоскуточек неба заглянул через дымовое отверстие в чум, Нина, прижимая к груди безымянного человечка, уснула. Бабка подвесила над танцующим пламенем закоптелый котел и такой же черный от копоти чайник, принялась готовить еду, — бог так и не пришел ей на помощь. А пришел страх: бог, наверное, будет мстить ей. Накажет жестоко, если не пришел, не захотел прийти в чум к ней. Было страшно и оттого, что она обидела невестку. Микул когда узнает… И она металась по чуму, не находя себе места. Губы её шевелились, когда взгляд падал на внука, она тихо шептала: «Хорошо, хоть родился живой… выжил». Бесцельно суетилась возле костра и хваталась за всё, что попадало ей под руки, — не знала толком, что ей, собственно, нужно. И понимала, что до бога ей как было, так и есть далеко, а на улице уже рассветает… скоро должен вернуться Микул.
И Паханзеда пришел. Полог распахнулась резко — в чум ввалился пропахший морозом хозяин. Микул ощупал быстрым взглядом обе половины чума, спросил:
— Есть кто?
Широко открытыми от испуга глазами бабка Ирина смотрела на сына, побелевшими губами прошептала:
— Есть, есть… Вот он, — показала головой на половину чума, где, укрывшись с головой, спала Нина.
— Кто?
— Мальчик.
— Жив?
— Жив.
Микул не смог удержаться от радости: побежал к матери, обнял её так, что старая ойкнула, пересекая морщины на её щеках, побежали наперегонки две слезинки. Слезы катились ещё и ещё. Старуха заплакала… Микул словно бы сжался. Но Нина проснулась. Глазами счастья Микул взглянул на жену и… будто на сердце олень наступил, в чум ворвалась ледяная стужа… Микул посмотрел на мать: густые брови сошлись, лицо сделалось серым, широкая грудь поднялась. Но Микул не дал волю гневу — он был сын Севера. Он только вздохнул, словно морж в лунке:
— Иэ-э-эх ты!
Бабка Ирина упала перед ним на колени. Микул стоял окаменело, молчал… минуту… другую… скинул отяжелевшую от снега малицу и подошел к жене — на свою половину. И по его лицу заря прошлась, когда он приблизился к Нине: глаза загорелись, забегали — стали добрыми. Он взял её маленькие руки в ладони, присев рядом:
— Сын? Сынок?
Нина подняла осторожно краешек одеяла. На мягкой шкурке олененка лежал человечек. Он спал раскинув ручонки. У него было такое строгое и серьезное личико, что Микулу показалось невольно — его сын думает, о чём-то во сне думает.
— Ну и пусть думает, — прикрывая шелковистой шкуркой, сказал Паханзеда. — Вырастет большой — человеком будет. — И добавил: — Пусть растет…
3
— Родился человек. Родился человек! — думал вслух, запрягая оленей, Микул Паханзеда. — А как назвать сына? Имен хороших… Но выбрать имя человеку на всю жизнь — дело нелегкое. Семка… Харп… Евдя?
В памяти всплывали имена хороших людей, с кем приходилось встречаться. Но теперь они казались почему-то не такими звонкими.
Но он найдет. Он обязательно найдет самое красивое имя! Не надо лишь торопиться. Надо подумать.
И Микул думал. И снова всплывали в голове имена, имена всех знакомых.
— Стой! Как звали приемщика пушнины? Ми… Микодим? — вспомнил он. — Однако… Микодим, говорят, не чист на руку. И верно, пожалуй. Иначе куда же деваются деньги, которые остаются после дополнительной обработки шкурок?.. Наверное, всё-таки они попадают в его хваткую руку, потом в его же карман?.. Так и есть! — заключил Паханзеда. — Нет-нет! Не дам я Иванку имени приемщика… Стой! Иванко… Иван! Вот оно, имя-то! Само напросилось, и красивое. А я… Нина! Ни-и-на! — Микул влетел в чум, задыхаясь от радости. — Нина!
— Что? — выпрямилась перед ним молодая мать.
— Я нашел имя: Иванко… Иван!
В чуме сделалось тихо. Помолчав, Нина сказала покорно:
— Пусть будет по-твоему.
Микул подхватил люльку, сооруженную наскоро из крышки лукошка, в каких возят посуду, и стал неумело раскачивать живой комок счастья — своего счастья. Осторожно приоткрыв краешек шкурки, вглядывался в крохотное личико сына и заговорил, как запел:
— Что ж, Иван Микулович. Ты, видно, мне, отцу своему, пришел помочь? Хорошее это дело. А ну, песец, берегись теперь, смотри в оба: нас теперь двое! Четыре глаза и четыре руки! Пусть знает теперь и весь колхоз «Тет яха мал»[73], что в чуме Микула Паханзеды стало охотником больше! Мы ещё потягаемся, Иванко, с этим колхозом. Потягаемся!
Он многозначительно поднял указательный палец и прислушался. На улице скрипел снег. Потом распахнулся полг, и в чум ввалилась бабка Ирина.
— А я ходила в яру, дрова принесла, — объяснила она, не глядя на сына.
— Опять не в своё дело сунулась? — снова сдвинул брови Микул, но в его голосе уже не было прежней строгости.
— Хэй-хэй-хэй! Ты хотя и мужчина, сынок, да рук-то не хватит на всё?
В темноте не было видно, как повлажнели глаза бабки Ирины.
— Хэ! Почему не хватит? — показал Паханзеда на сына. — Теперь у меня четыре руки! Это и тебе надо помнить. — Он улыбнулся, показав плотные крепкие зубы.
— Хэй-хэй-хэй! — зашамкала бабка, горушкой складывая у тлеющего очага дрова. — Пока ждешь, сынок, его руки, ещё не одну весну придется слепнуть от яркого снега. А нынешние дети уже с люльки тянутся к книжке, к бумаге. Хой-ха! А тебе нужен охотник. Охот-ник!
Микул задумался: кочевать мыслям дальше было некуда. Он не хотел даже думать о бумаге и книжках.
Старуха кивнула в сторону люльки:
— Ну, как поживает Едейко?
— Не Едэйко, а Иванко. Иван! — ревниво поправил Микул.
Бабка вздрогнула: из рук, разрушив горушку, упали дрова.
— Эванко?.. Это же русское имя! Разве мало ненецких имен? Когда ты родился, отец твой покойный тоже заставил меня силой — назвал тебя русским именем. Ты думаешь, это хорошо?
Микул объяснил:
— Не Эванко, а Иванко. А когда он вырастет, все люди будут звать его Иваном Микуловичем Паханзедой! — и Микул цокнул от удовольствия языком, подняв большой палец. — Теперь ненцы дают русские имена своим детям. Русские имена счастье приносят.
— Ива… Иван, — плыла по своему руслу бабка Ирина. — И самый-то главный царь выговорит ли?
— Ха-ха-ха! А-а! — смеялся Микул. — Самого-то главного царя давным-давно нет. У нас Советская власть теперь. Исполком… Понимаешь?
— А где он тогда живет, твой эсполком?
— В Москве есть. В Двух Камнях есть. В Нарьян-Маре есть. Исполком — это не один человек. Это много людей. Наши ясавэи[74]. Сколько раз тебе объяснять?
— А кто они? Ненцы?
— И русские, и ненцы, и коми, и ханты — все.
— А кто у них самый-то главный?
Микул задумался. Да и как не задумаешься. Одни считают почему-то главными вождей, другие — народ. Где правда?
— Раньше мы знали: на земле царь, а на небе бог. А теперь, — рассуждала, хитро поглядывая на Микула, бабка Ирина, — всё перемешалось.
А костер тем временем разгорелся, но густой, тяжелый дым не успевал выходить. Он уже заполнил всю верхнюю половину чума, оседал всё ниже и ниже — лег на голову бабушки. Бабка метнулась к выходу, и уже из-за полога донесся её дребезжащий голос:
— Эй-вэй! Недавно тянуло с полдня, а теперь уже белый медведь навалился.
По нюкам заерзал шест, старуха, закрывала шкурой оленя наветренную сторону дымохода.
А Микул, радостно покачивая на руках сына, тронул счастливую песню, отмахнувшись от бабкиных докучливых вопросов, намеков.
Мой единственный маленький сын, по пушистым снегам на восходе зари ты уйдешь, может быть, как отец твой впервые уходил по пунктиру песцового следа. Волны белых сугробов будут лыжи твои разрезать, как корабль океанские волны. А под вечер с плеча твоего подожжет красным пламенем щеки сугробов лиса. — Ой, не хвались, Микул, — пряча улыбку, заметила Нина. Микул с люлькой в руках шагнул к жене и сел возле неё на шкуры. Нина счастливо прижалась к плечу мужа.А потом Иванко заплакал:
— Ыа! Ыа-а-а!
Вошла бабка Ирина с охапкой оленьего мерзлого мяса, похожего на поленья лиственницы — тяжелые, красноватые. Нина юркнула в переднюю часть чума, принесла низенький стол и поставила перед Микулом и Иванко. Глухо застучали о стол поленья мяса, засверкали ножи. Розовыми стружками летело на стол из-под ножей сладковатое мясо; когда его бросали в рот и чуть подсасывали, оно таяло во рту, словно снег.
— Ыа! Ыа-а-а! — плакал Иванко.
— Хой-хой-хой! — взмахнула руками бабка Ирина, покосилась заискивающе в сторону Нины.
А Нина, счастливая оттого, что всё сошло хорошо, уже простила свекровь и поэтому теперь чувствовала себя под слезящимся взглядом свекрови неловко.
— Ыа! Ыа-а-а!
Бабка строго повернулась к невестке, но сказала радостно:
— Да скорей же, скорей дай ему, что он просит!
Нина оставила нож и взяла сына из люльки. И как только спелая, налитая грудь матери коснулась губ мальчика, Иванко, раздувая ноздри, стал жадно глотать молоко; его глаза закрылись от удовольствия.
В чуме стало тихо. Сделалось громче дыхание ветра за нюками. На лезвиях снующих ножей вспыхивали то и дело отблески костра. Микул улыбнулся. Нина отвернулась стыдливо; одной рукой продолжала брать красивые стружки мерзлого мяса, которые с усердием строгал Микул для неё. Непривычная, словно шрам, расползлась улыбка и на лице бабки Ирины.
Все Паханзеды ели. Обиженных в чуме не было.
4
Ещё недавно полдень сшивал тонкой золотой нитью разлетное небо с размашистой тундрой; ночью струились на холодную землю фиолетовые лучи больших звезд. Но вновь набежали тяжелые тучи — тундра как бы уснула под низким, задумчивым небом, — жизнь на земле словно бы вымерла. Три дня и три ночи бесновались метели, выла пурга. И вновь наступило затишье.
Извечная смена стихий!
Едва не касаясь земли, ползли облака, готовые пролиться обвальным дождем или просыпаться круговоротом легких снежинок на пустынную землю. Ничто не смело нарушить и глухую и звонкую тишину — казалось, всё, что даже напоминало о жизни, метель схоронила под снегом.
Холодная, серая, мертвая тундра!
Олени быстро бежали — рога их царапали небо, копыта то и дело звенели в ветвях кустарников, утонувших в сугробах. Под полозьями нарт урчал снег. Пели полозья. Пели на синем снегу.
Микул Паханзеда объезжал поставленные перед метелью капканы.
Сугробы поднимали упряжку, бросали и вновь поднимали, как волны. Упряжка бежала к размытому серым днем горизонту — он приближался в ложбинах; отпрыгивал, убегал на гребнях высоких сугробов — дразнил зовущей, недосягаемой далью.
Микула душили опять тревожные мысли.
Весна выдалась в этом году затяжная: гуси не долетели до тундры — мало ленного гуся набил Паханзеда, мало запас мяса на зиму. Летом рыба от частых гроз ушла на дно рек и озер — мало навялено рыбы. Осени почти не было, зима пришла снежная, вьюжная — метели то и дело ложатся у ног, перекрывая охотничьи тропы к песцу.
Оленьи рога царапали небо, пели полозья — наплывала, кружилась и убегала пустыня в снегу.
И теперь… Три дня вьюжило: песец в такую непогодь не любит гулять — капканы пусты. А плохая охота — плохая и жизнь. И ненец плохой тот, который надеется лишь на мясо олешек: олени — ноги охотника. Плохо было Микулу, вся его жизнь словно бы пересела на другие полозья.
— Может, вернуться домой?
Но как усидеть дома, в чуме, если даже в нём и тепло от костра и уютно, — охотника кормит тундра; ненцы лишь родятся на привалах и умирают — всю свою жизнь они проводят в пути. Да и песец сам в капкан не садится — его надо поймать, перехитрить.
Тревожные мысли душили.
— А может, всё-таки сдаться. — пойти, как и другие охотники-ненцы, в колхоз?
Каждый раз, когда было трудно, Микул вновь и вновь возвращался к своей старой боли — к колхозу.
— А может, не надо идти?
Дороги тундры длинны, кто знает, к чему завтра они приведут нарты охотника?..
Да нет же! Жизнь в тундре, как бы там ни было, есть. Вот почти из-под самых копыт, обалдев от страха, шумно выпорхнула куропатка и тотчас растаяла в серой, подсиненной снегом дали. Переваливаясь с задних на передние лапы, покатился в сторону голенастый беляк…
— Эй-хэ-э-эй! — крикнул Микул на бежавших и без того оленей.
Пели полозья.
М-мда-а-а… А пурга потрудилась всё же неплохо: те капканы, которые Микул осмотрел, занесло накрепко — привады в них как не бывало, а песца след простыл. Вот и ещё один.
— Посмотрим, что в этом.
Микул остановил упряжку, подошел к кустику, торчавшему из-под снега.
— Так и есть, — побледнев от досады, сказал он и деревянной лопаткой принялся разгребать молодой, но уже отвердевший сугроб.
Микул злился. Злился на ветер, пургу, на ловушку. А может, и на себя? И это бывает… Добрался наконец до железного якорька, поднял и резко рванул: на конце искрящейся железной цепи, выскользнув из-под снега, захлопнулась, словно со сна, голодная пасть, выплюнув искры.
— Так и есть! — снова процедил сквозь зубы Микул.
Он ещё долго ругался, и так, будто кто-то был рядом. Паханзеда привык думать вслух, разговаривать. Иначе нельзя — один в тундре. Олени и те прядут довольно ушами, слушая вопросы, ответы и ругань хозяина.
А зимний день в тундре короток. Только что загорелась заря, и вот уже день закрывает глаза — опускаются сумерки. Зимой надо спешить, если хочешь управиться с делами. Микул привязал к спине нарт побелевший от стужи капкан, шлепнул вожжами головного оленя, и, играя ногами, олени резво пошли к синей ленточке ивняка, заброшенной далеко в бело-серую тундру.
Что-то живое шевельнулось в снегу. Микул осадил упряжку мгновенно, рука уже тянулась к винтовке. В очередное мгновение он уже стоял на коленях, целился в однообразно белесый простор. Малопулька вспыхнула огоньком у дульного среза — куропатка зарылась в снег зобом… перевернулась на спину — птица сучила лапками в воздухе.
— Глупой куропатке деваться некуда, — сказал Паханзеда и положил винтовку на нарты.
Он вытер меховой рукавицей мокрое от пота лицо, взял капкан и поспешил к куропатке. Птица была ещё теплая, Микул погрел на ней озябшие руки, потом огляделся — облюбовал бугорок, вырыл в нем лунку, насторожил капкан, положил в лунку, ещё раз огляделся. А потом положил на тугие нити запала обрывки заячьей шкурки, присыпал все это пушистым и легким снегом. Припорошил снегом весь бугорок так, чтоб казалось, что на нем не было ноги человека. Капкан был готов. Очередь была за привадой. Микул взял куропатку, рванул обеими руками за крылья: красные слезы упали на белеющий снег, — потряс разорванной птицей над бугорком… Обе половинки куропатки закопал возле ивняка так, чтобы песец мог пройти к ним только через капкан. Ловушка была подготовлена. Заметая следы, Микул поторопился к упряжке.
И в этот день Паханзеда вернулся в свой чум без добычи.
— Ну и пусть… А колхоз всё-таки ещё подождет… Ничего…
5
Особенно не везло Микулу зимой. Метели налетали всё чаще и чаще, держались подолгу. На редкость наплодилось лемминга: песец был сыт — не хотел идти на приманку. Горько было Микулу. И его чум стоял отшельником — вдали от людных стойбищ. В прошлые годы Паханзеда не замечал этого. Да об этом и некогда было думать: песец ходок был на приваду, в чуме было всегда вволю мяса — сытно жилось, а теперь… В чум Микула всё чаще приходили тревожные слухи: удача сама идет в руки колхозных охотников. Даже исконный неудачник — худосочный Микит, своих оленей у которого никогда не было, и тот разменял четвертую сотню песцов. Его все называют ударником. Микул не знал этого слова, но понимал: за ним прячется что-то хорошее — за триста добытых песцов не будут ругать…Колхозники устраивают загоны и всех песцов, добытых сообща, делят поровну. А Микул один. Одному с тремя упряжками не устроить загона.
И всё равно Микул не пойдет к ним, не станет просить у колхозников ни мяса, ни шкур. Он сам хозяин своих оленей, своего чума и своей земли. И семье хозяин — никто не верховодит над ним.
И всё-таки было обидно: даже Микит добыл в этом году больше трехсот песцов.
Микул устремился к вандеям[75], сдернул со всех пяти ремни, раскидал оленьи шкуры — глазу открылись белые, как зима, связки песцовых шкурок. Ветер заиграл их шелковистым ворсом, Микул принялся сбрасывать связки на снег:
— Один раз десять, два раза десять… пятнадцать раз десять…
Когда опустела пятая нарта, Паханзеда сказал:
— Шестьдесят два раза десять… и еще семь песцов.
Грузно сел на снег меж белого вороха шкур, и щелочки его узких глаз заблестели:
— Тягаться с колхозом Микул Паханзеда ещё может!
Прищурил ещё больше глаза, зачерпнул руками пропахший ветром снег и понюхал.
— Да-а, весна спешит… Но не беда. Шкура песца ещё добротная… Надо торопиться.
И подхватился на ноги.
— Женщины, подберите песцов!
Из чума выбежала Нина, вышла и бабка Ирина.
Микул не смотрел на них — он уже был занят своими делами. Достал из ларя семь песцовых чучел-самок, унес к своей упряжке, сунул под амдер. Женщины не спрашивали, что он собирается делать: этого не позволяет обычай. Они лишь наблюдали за ним и готовы были помочь ему. Микул собрал необходимое и, не сказав слова, гикнул на оленей.
6
Олени мчались, обгоняя ветер весны, косились назад, словно бы любовались своим собственным бегом. Нарты кидало то вправо, то влево: обеими руками Микул держался за хорей, в ушах свистел ветер.
— Я ещё вам покажу, колхозники-охотники! — кричал Микул в весеннюю тундру. — Микул Паханзеда был первым охотником и останется первым!
Когда упряжка подлетела к рыжим сопкам, Микул натянул вожжи, бросил на землю хорей. Олени остановились, сопки перестали плясать…
А потом Микул лежал, устроившись удобно на нартах, садился время от времени, пыхтел самокруткой, вслушиваясь в шорохи тундры. Разгребая снег, щипали ягель мягкими губами олени.
Мартовское солнце вскатилось на самую высокую сопку. Тут же принялись кричать куропатки, застонали жалобно зайцы, после их крика и стона донеслось долгожданное: «Ко-ко-ко… о… о! Тя-а-в!»
Протяжный, и звонкий лай песца повторили рыжие сопки, берега речки, лёд спящего озера и густеющий воздух вечера.
— Наконец-то! — поднялся Микул на ноги, вслушиваясь в перекличку, отбросил окурок.
«К-ко-ко-ко-о-о!» — кричал песец чаще и призывнее.
И в ответ донеслось нежное, звонкое: «Кьё-кьё-кьё!.. Кьйо-оо!.. Ке-ке! Ке… е… е!»
Лаяла самка.
Микул слушал. Воздух полнился лаем песцов. Пять минут, десять — и залаяли все рыжие сопки. Лаяли до тех пор, пока не спряталось солнце, не угасла последняя полоска заката. Сорвался, как бы угас на полуслове и последний голос песца. По земле разлилась тишина, от которой сделалось больно ушам. Тундру уснула.
Микул взял чучело с нарт, пять капканов — пошел вдоль подножья горы. Шел, проваливаясь в занесенные снегом старые норы. Стал подниматься на кручу.
— Вот она!
У самых ног темнел бугорок, из-за него смотрела черным глазом нора. Микул положил на снег чучело и капканы, встал на четвереньки — закричал в нору:
— Кье-кье-кье… э…э!
Получилось точь-в-точь как у самки. Припал ухом к норе и прислушался. Молчала нора.
— Я-асно…
В норе никого не было. Микул всунул в нее чучело самки, и так, что из норы торчали лишь задние лапы да распушеный хвост. Выкопал пять лунок вокруг и вложил в каждую по капкану, слегка запорошил лунки снегом.
— Хорошо-о-о…
Песец во время гона глупеет — ничего, кроме самки, не видит…
В полночь, когда Микул поставил седьмое, последнее, чучело и капканы, он вдруг остановился у нарт, почувствовал на лбу пот, холодный, тревожный: того, что он сделал, делать нельзя — это считается преступлением.
— Ничего, — сказал он и, успокоившись, стер рукавом малицы холодную влагу со лба. — Кто меня видит?.. Тундра — пустыня.
А потом упряжка Микула летела вновь по мартовской лунной равнине, как ветер. Микул цепко держал хорей и вожжи, высматривал одинокий свой чум.
7
Весна выдалась бурная, но короткая — для Микула она была вечностью…
Об успехе он знал ещё тогда, когда к нему прикочевала мысль ловить песца запрещенным способом. Заранее знал и то, сколько поймает песцов в эту весну. И очень жалел, что чучел самок у него только семь… В удаче он не сомневался.
Он хорошо помнил и легенду, которая давно стала поверьем: если охотник начал ловить песца на самку в норе — можно поймать только сорок песцов на одну нору. Поймал сорокового — снимай капкан: на сорок первый раз к капкану придет твоя смерть. Ругал это поверье, но испытывать судьбу не решался — умирать ему не хотелось — и только стонал от досады:
— Только семь самок. Норы пустуют. Песцовым лаем полнятся зори. Сколько добычи упущено!..
И вновь принимался подсчитывать:
— Шестьдесят два раза десять да двадцать восемь раз десять и семь самок…
Но получалось не так уж и плохо. И Микул улыбался самодовольно. Не видел ни неба, ни солнца, ни земли — весь превращался в улыбку. И тут же от легкого шороха вздрагивал, точно волк, — боялся и своей собственной тени. Но ещё больше боялся колхозников: капканы осматривал только ночью. И летел на нартах от ловушки к ловушке — бросал в нарты песцов.
Стадо оленей пасла всё эти ночи Нина с Иванком, уложенным в люльку из бересты. В снежной берлоге, специально вырытой в густом ивняке, ночами бабка Ирина потрошила песцов. Их кости и мясо вывозились в глубокую яму, которую Паханзеда вырубил топором и лопатой за неделю до начала песцового гона.
Вокруг одинокого чума в ночной тундре кипела работа.
А днем Паханзеды жили обычной для семьи охотника жизнью. Бабка обминала бока в постели на своей половине; спит она или не спит, никто не знал — её не тревожили. Нина возилась с чайниками и котлами, заливалась слезами, раздувая огонь. Олени паслись вблизи чума. Микул поглядывал изредка на оленей из-под согнутой кисти руки; мастерил то ножку саней, то полоз, обсасывал стружки, вылетающие из-под острого топора. Стружки приятно кислили язык. Микул почмокивал от удовольствия. И внимательно следил за округой.
Но как он внимательно ни смотрел, не заметил, как невесть откуда к чуму подлетела оленья упряжка. Залаяли собаки. Микул встрепенулся… и сердце похолодело в груди.
С нарты сошли Митька-колхозник и человек в толстом совике, в валенках.
«Русский! — тревожно подумал Микул, вскочив на ноги. — Ненец не поедет в валенках в тундру…»
Когда приезжие подошли, Микул узнал приемщика Микодима и покраснел, здороваясь со стариком, потом побледнел. Но никто этого не заметил: Микул тут же взял себя в руки — недаром он считался лучшим охотником. Пососав ещё свежую стружку, спросил:
— Далеко ли путь держите?
— До тебя, Микул… К тебе, — сказал Микодим. — Говорят, ты стал таким охотником, что и колхозу к тебе не подняться.
Микул развел руками смущенно, лицо перекосила улыбка, а сердце словно бы остановилось: неужели пронюхали?
Микодим достал из портфеля газету.
— Смотри, друг, — о тебе…
Микул молча смотрел. «Няръяна вындер», — говорили большие черные буквы.
— Не тут смотри, — сказал Микодим, улыбаясь, и поднял газету: — Вот где.
Микул взглянул и тут же почувствовал, как на лбу появились капельки пота: из газеты смотрел на него второй Микул Паханзеда. Правда, он не хлопал глазами так, как живой, но был точь-в-точь похож на живого. Микул сделался мокрым от пота.
— Зачем на бумагу меня положили? — спросил он обиженно. — Я плохо что сделал?
Микодим и Митька схватились за животы и затряслись, словно от холода. И Микула трясло, но от обиды. Микодим успокоился, объяснил:
— Тебя газета как лучшего охотника земли пропечатала. А ты… Теперь говорящая бумага всем, кто возьмет её в руки, будет показывать: вот лучший охотник ненецких земель — Микул Паханзеда.
Микул не верил Микодиму: ведь он не говорит правды даже тогда, когда покупает пушнину. Невольно вспомнилась яма, которую вырубил до песцового гона, ловушки, с которых брал по пять песцов за ночь, берлога в густом ивняке… на лбу вновь появилась испарина. Паханзеда молчал, внутренне сжавшись, и выжидал.
А Микодим говорил. Хотел сказать что-то и Митька, возвышавшийся над обоими не только головой, но и плечами; Микодим хвалил Микулу, рассказывал о колхозе — не давал Митьке и рта раскрыть. Митька был парень характера доброго, тихого, топтался рядом с приемщиком на мягком снегу, ждал, когда сможет сказать. Он был и бесхитростный, говорил то, что думал, — и теперь мог сказать сразу, зачем они завернули к чуму Микула. И Микул теперь ждал, когда закруглит последнее слово старый приемщик, поджидал, напрягаясь внутренне больше прежнего… знал: даже лиса, которая путает след, остановится, ляжет. И Микодим смолк.
— А как же с колхозом? — тут же спросил у приёмщика Митька.
— А-э! Да-да. Микул, — недовольно пробубнил Микодим, — мне колхоз велел говорить с тобой: думаешь ты в колхоз вступать или нет?
И Микул словно ожил: так вот зачем они здесь? Словно бы над землей полетел — так ему сделалось легко и свободно. Даже испарину стер рукавом малицы. И улыбнулся уверенно:
— Не-е! Я вольный. В колхоз не пойду. Когда ваши охотники догонят меня… — и вновь словно шлепнулся, как подбитая на лету куропатка; запнулся языком, помрачнел — вспомнилась яма, ловушки, берлога в кустах и газета с портретом.
И Микодим долго молчал, думал о чём-то. А потом плюхнулся неуклюже в высокие нарты и крикнул сердито:
— Эй-хэй!
Олени унесли его в тундру.
Микул плюнул зло под ноги. На себя злился.
8
Снег в тундре растаял, на последних льдинах зима уплыла в океан.
Микул ставил капканы, объезжал их, осматривал, тряс сети на озере Салекута; сидел от зари до зари у своего одинокого чума или дремал на сопке среди оленей. К нему приезжали на колхозных оленьих упряжках, звали в колхоз. Микул упирался: «Я вольная птица. В колхоз не пойду». И самому главному колхознику Егору Тайбари так же ответил. О чем он говорит с колхозниками, Микул не рассказывал женщинам — у них и так дел хватало.
Однажды, когда он сидел возле чума и разрезал кожу для постромок, к чуму подбежала упряжка — оленями правил всё тот же Митька, — и с нарт сошел долговязый русский.
— Надоели вы мне с колхозом. Все равно не вступлю! — заученными словами встретил приезжих Микул.
Но он ошибся. Русскому геологу Смирнову нужно было добраться до Вашуткиных озер, чтобы оттуда с помощью оленеводов коми срочно попасть в Воркуту. Микул растерялся. И, чтоб искупить негостеприимство, вызвался подвезти русского до озер: его олени не хуже колхозных, русский не пожалеет. Смирнов согласился. И в тот же вечер, когда на травы упала роса, упряжка Микула уже летела по широкому летнику Неро Хоя. Геолог в дороге молчал, думал о чем-то; насвистывал изредка непонятно что. А Микулу хотелось узнать, что такое «геолог», какие у него дела, и посоветоваться с ним, нездешним человеком. Да и себя показать как знатока тундры, хорошего человека. Русский молчал. Микул не знал, с чего начать…
Упряжка поднялась на холм, откуда виден был Неро Хой. справа взгромоздилась под облака Солдатская сопка — одна из красивейших в тундре.
Микул остановил упряжку, спросил:
— Ну как? Красиво?
Смирнов кивнул головой.
— Дух захватывает!
Микул не знал этого слова, но не стал спрашивать: гордость не позволяла — сам объяснил:
— Во-о-он там Вашуткины, озера.
Геолог снова кивнул.
— Да-а… Нам до них ещё ползти и ползти.
Микул удивился: «Как же так? Русский едет по тундре впервые и знает, сколько ещё до озер». Удивился, но виду не подал. Сказал лишь:
— Олешки устали. Понюхаем табаку, что ли?
Геолог достал папиросы:
— Зачем нюхать? Закуривайте.
— Можно, — согласился Микул и потянулся за папиросой. — Откуда едешь?
— Из Ленинграда.
— А почему землю нашу знаешь так… хорошо?
Геолог стрельнул лукаво глазами из-под бровей и улыбнулся Микулу, раскрыл планшет перед ним.
— Вот это Неро Хой. Видишь?
Микул видел лишь кривые линии, то прижимающиеся друг другу, то разбегающиеся, следил за длинным и толстым пальцем Смирнова, скользившим по карте.
— А на местности этот же Неро Хой там, — показал тем же пальцем Смирнов в сторону Синих гор. — А мы находимся здесь, — все тем же пальцем вновь ткнул он в карту. — Олешкам отсюда до Вашуткиных озер ещё далеко.
— Значит, поедем? — спросил Микул, не поняв ничего в карте.
— Поехали.
Нарта опять поползла. Ехать на нартах по летнику не так-то легко: олени устают быстро. А дальняя дорога заставит заговорить и молчаливого человека. Геолог рассказывал о теплых странах, больших городах и непроходимых лесах. Микулу было всё интересно, но больше всего ему хотелось узнать, чем занимаются эти всезнающие люди — геологи? Улучив момент, он спросил:
— А ты, друг, колхозник?
Геолог расхохотался.
— Нет, друг, — сказал, насмеявшись.
Микул мог бы обидеться на то, что русский беспричинно смеялся, но почувствовал в нём такого же, как и он, не колхозника, поделился, поворотясь к нему оживленно:
— Я тоже нет.
— Почему?
— А зачем Микул Паханзеда в колхоз должен вступать? Я вольная птица — как хочу, так и живу. Хочу — рыбу ловлю, хочу — иду на песца. Зачем мне власть надо мной? Над головой у меня небо, под ногами земля, и олени бегают быстрей ветра. Зачем?.. А ты почему не колхозник?
Геолог схватился за живот, смеялся до тех пор, пока Микул не обиделся — крикнул:
— Я единоличник! Ты единоличник! Зачем смеешься?!
Геолог унялся; подумал о чем-то и объяснил, тыкая в грудь длинными рыжими пальцами:
— Я служащий, понимаешь? Инженер.
Микул не ответил; не слышал он таких слов, не знал, как на них отвечать.
— Мику-у-л?! — положил ему на плечо тяжелую руку геолог.
— Ну и пусть! — буркнул Микул и убрал плечо из-под рыжей руки.
Резво бежали олени.
— Киш! Киш! Ки-и-иш-ш-ш!.. — покрикивал то и дело на оленей Микул, и олени переходили на рысь.
Он не задавал больше вопросов. Молчал и русский.
— Киш! Киш! Ки-и-иш-ш-ш!
Олени бежали.
В тундре стояла пора цветения ив. Легкий ветерок дул со стороны далеких на юге гор и лесов… и пустыни, о которой геолог рассказывал только что; слетавшие с ивовых веток пушинки снегом ложились на летник.
«Какие дела делал он на том юге? — думал Микул. — Геолог?» И не выдержал:
— Слушай, друг? А я могу быть слузасый?
Смирнов улыбнулся, но тут же спрятал улыбку, ответил:
— Конечно.
— А геологом?
— Тоже. Только, надо много учиться.
И тут-то сам напросился вопрос, который мучил Микула:
— Хэй-хэй-хэй!.. Я учился только два года… А скажи, друг, какие дела у геологов?
— Геологи золото ищут, железо, каменный уголь…
— А-а!.. — перебил Смирнова Микул. — В Воркуте, говорят, есть такой уголь. Значит, ты в Воркуту?..
Смирнов согласно кивнул.
— Однако, — не унимался теперь уже Микул, — скажи-ка, геолог, а стоит мне в колхоз поступать?
Смирнов призадумался.
— Пошто молчишь-то?
— Не знаю, друг, как тебе посоветовать, — признался он. — Советчик я в этом никудышный. Такие дела, брат, надо решать самому. Как лучше тебе, так и делай. Это твоё личное дело.
— А Советская власть не заставит?
— Советская власть никого не насилует.
Теперь Микул призадумался.
— А одному с семьей кочевать в тундре не трудно? — спросил уж Смирнов.
— Пошто не трудно? Но я один в тундре хозяин себе. В Советскую власть-то я записался… А в колхоз не хочу.
Микул пристально посмотрел на геолога, гикнул на оленей и серьезно спросил:
— А может, надо, а?
Смирнов усмехнулся.
— Желательно. Но всё самому нужно решать.
— Да-а… — вздохнул Микул тяжело. — Всё надо решать теперь самому. Советская власть теперь. Можно решать и самому. Надо решать. А как решить, если такого отец не решал? И дед не решал…
Смирнов не задавал почему-то вопросов. И не говорил теперь ничего. Не хотел мешать чужим думам, что ли?..
Летник нырял по увалам… Смирнов лишь курил папиросы, молчал. А потом стал рассказывать. И о чем бы он ни рассказывал, Микулу было всё интересно, всё было ново. А путь уж кончался. Микул дернул вожжи — олени свернули на бездорожье. Им стало труднее. Но показались три чума.
Стойбище встретило заливистым лаем собак. К гостям подошел хозяин стойбища коми Илья Вась с почти европейским лицом. Микул познакомил его со Смирновым и объяснил: русский геолог шибко умный человек, нужный людям, и ему срочно надо попасть в Воркуту, куда его посылает работать сама Советская власть.
А утром, сжимая на прощание руку Смирнова (Паханзеде очень не хотелось расставаться с ним), с ноткой сожаления в голосе сказал Микул:
— До свидания, друг. — И пообещал: — Я подумаю…
9
Шли дни раздумий. Прошли месяцы. Четыре года прошло с того дня, когда Микул распрощался с геологом. Опять цвели ивы, опять солнце горело и ночью. Микул пас оленей. А они разбрелись по отлогому берегу Пярцор реки, морской ветерок обдувал их прохладой — солоноватый на вкус ветерок заставил комара и овода сложить крылья, забиться в укрытие, — олени спокойно паслись, пастуху нечего было о них беспокоиться, пусть набираются сил перед завтрашним зноем — к утру ветер сникнет… Микул ходил возле нарт, думал.
Солнце проплыло над Баренцевым морем, покатилось по склону сопки Янея, поднимаясь всё выше и выше. Ветер с моря не утихал… Микул ходил, думал.
Охотники в колхозе всё больше и больше добывают пушнины, стада колхозных оленей меньше страдают от волков… Ненцы потянулись из тундры в колхоз. Записались в колхоз и братья Микула — Хасевко и Степан Паханзеды. Вступают, говорят, в колхоз и сыновья бывшего кулака Тайбарея. В колхозе не надо маяться с оленями дни и ночи, там, говорят, день дежурят, а два отдыхают, занимаются на стойбище своими делами или колхозными — не сидеть же человеку без дела.
«Как лучше тебе, так и делай. Это твое личное дело. Самому нужно решать», — говорил умный человек — русский геолог. Не зря так говорил… «Решай!»
Солнце поднялось высоко, жарко палило, но прохладный ветер с моря крепчал, не давал расправить крылья оводам и комарам. Утро установилось уже. А это значило по местным приметам, что морской ветер будет дуть целый день, и весь день овод и комар не покажутся из укрытий. Ни к чему тревожить и стадо оленей — перегонять на новое место.
Микул заехал на высокую сопку, осмотрел стадо и поехал в сторону одинокого чума. Подъезжая к стойбищу, заметил чужую оленью упряжку. Подъехал ближе — узнал Митьку, стоявшего у пустых нарт. Парень был взволнован чем-то. Его длинные руки, ноги двигались таким образом, словно бы он медленно, как во сне, танцевал. И смотрел он, встречая Микула, как-то смущенно, даже виновато, и весь был в таком напряжении, словно давно ждал, сразу же подошел, лишь Микул сошел с нарт.
— Здравствуй, друг! Я за тобой приехал, — выпалил он.
— Зачем? — спросил Микул, заподозрив что-то неладное.
Митька опустил смущенно глаза, темное лицо покраснело, на высоком лбу заструились морщинки.
Микул спросил Митьку:
— Что случилось?
— Видишь ли. Я приехал… Я решил… Вот ты не один. У тебя Нина есть и Иванко. — Митька покраснел больше прежнего и едва выдавил: — Я решил жениться. На Марине.
У Микула отлегло от сердца. И даже улыбка пришла, тронула губы. Он кашлянул в кулак. Не сразу ответил — похвалил на правах старшего:
— Хорошее дело, Митя. Житейское дело. Жизнь идет. Не век человеку одному маяться. Птицы летают парами. Песцы живут парами… Конечно, надо жениться. Да и невеста хорошая. Поздравляю.
Пожал парню руку.
— Так вот, — сказал, осмелев, Митька. — Я приехал… Послезавтра свадьба… Приедешь или нет?
— Как не приеду? Обязательно приеду!
Микул был доволен: впервые за столько лет появился в его стане колхозник — не в колхоз звал, а приглашал в гости… на свадьбу!.. и даже советовался, — подтянувшись на носках, похлопал Митьку по плечу, как младшего друга.
Зашли в чум. А в чуме натруженно пыхтел чайник. Скинули суконные совики, надетые вместо малиц, сели на оленьи шкуры возле столика. Микул весело посмотрел на Нину и весело рассмеялся:
— Человек решил распрощаться с одиноким санным следом.
Нина взглянула на Митьку и отчего-то смутилась. Долго смотрела.
— Да, я.
— Ну и хорошо, молодец, — решительно похвалила Нина и шагнула к нему.
На другой половине чума сердито закашлялась бабка Ирина. Нина как бы застыла на полушаге, потянувшаяся к Митьке рука повисла на мгновение в воздухе. А Микул не обратил внимания на всё это, был доволен гостем — вновь похлопал его по плечу:
— Спасибо, Митя, что приехал. Мы с Ниной обязательно будем на свадьбе. — Посмотрел на жену, улыбаясь, и потер энергично широкие тяжелые ладони. — А не осталось ли у нас в запасе русской еды?[76]
Нина кивнула согласно, вышла из чума.
А потом бабка Ирина подбрасывала хворост в огонь, ей помогал Иванко, посапывая; Микул, отважившись, сам заговорил о колхозе, спрашивал Митьку:
— Как живется в колхозе-то, Митя?
— Легче, чем одному торчать в тундре, — отвечал Митька охотно.
— А оленей не отбирают?
— Не-е-ет. Пока ещё нет.
— А как ты думаешь, Митя, вступать мне в колхоз?
Бабка Ирина швырнула поленом в костер — искры взметнулись.
Митька молчал, глядя в костер. Так молчал, так глядел, словно перебирал в памяти что-то, сравнивал; ответил убежденно:
— В колхозе, Микул, легче, чем одному. Как тебе с Ниной.
В костер полетело очередное полено — вместе с искрами поднялись дым и зола; Иванко отвернулся от костра, прикрывая руками глаза…
Потом пили спирт. Микул разговаривал только о свадьбе; хвалил жениха и невесту, о колхозе ни слова. Митька ел и пил молча, во всем соглашался с хозяином. Потом Микул ударил железную плитку очага пяткой, а это значило, что хозяин сыт — спать будет… Митька допил спирт с Ниной и с бабкой Ириной, и к полудню его упряжка уже мчалась в сторону колхозного стойбища. Его провожали Нина и бабка Ирина.
— Гляди-ко, — шамкала оживленно и хихикала старая, толкая локтем невестку, — гляди-ко, олени-то его вроде и бежать не могут.
Нина словно бы не видела и не слышала бабку — печально смотрела вслед упряжке, убегающей вдаль.
— И откуда колхозным оленям взять силы? — шамкала бабка. — Их, говорят, доктора каждую весну иглами тычут. Без присмотра олешки. Нет хозяйского глаза…
Нина молчала. И лишь когда упряжка скрылась за далеким увалом, Нина, по-прежнему не замечая свекрови, тяжко вздохнула и как бы подумала вслух, между прочим:
— Ну вот… он и уехал…
Но бабка Ирина, хотя и она пила спирт и развеселилась, повернула невестку к себе, дернув её за руку, и погрозила ей скрюченным пальцем:
— Никогда первой не подавай руку мужчине.
Смуглые щеки невестки вспыхнули, словно маки.
10
Июньская жара, видимо, спала: утро выдалось прохладное — ветер дул со стороны вечно сердитого Баренцева моря, на тундру ползли тяжело нагруженные дождем облака, — олени, изнуренные жарой, оводами и комарами, дышали полной грудью, спокойно паслись. В стаде остались лишь бабка Ирина с Иванком, упряжки Микула и Нины ушли за гребни Пярцора к стойбищу Митьки Валея, где собирались гости, приглашенные женихом. Почти полудикие олени Микула летели и по летней тундре как ветер. На самом высоком гребне хребта неожиданно выросла роща оленьих рогов — десятки упряжек.
А солнце успело подняться лишь на высоту хорея, по кочкам прыгали воробьи и синицы — клювиками пили росу из побуревших трав и ярко-голубого ягеля.
Люди или просто сидели на нартах, или толковали между собой, или рассматривали по-хозяйски упряжки соседей, между нартами сновали вездесущие ребятишки, лениво позевывая.
Микула и Нину встретил жених. Широкоплечий и рослый, он был в нарядных пимах; ярко-красные подвязки с кисточками перехватывали щиколотки; свадебная малица расшита поверх черного подола сукнами всех цветов радуги. Он был рад Паханзедам, крепко пожал руку Микулу и улыбнулся воинственно.
— Ну вот, теперь начнем наступление, — сказал Митька и кивнул в сторону озера Лисий Коготь, приютившего стойбище невесты Марины.
По ненецким обычаям свадьба начинается в чуме невесты, но может начаться и у жениха, как договорятся сваты. Митька решил начать свою свадьбу у озера Лисий Коготь. И рогатая лавина упряжек, разукрашенных разноцветными сукнами, замшей, цветными хореями, хлынула с гиком и хохотом вниз по склону Пярцора. Скоро показалось и стойбище. В километре от прилипших к берегу озера чумов лавина остановилась. Тундра замерла. Пятьдесят семь мужчин подняли к небу винтовки и трижды пальнули. Раскаты залпов повторили озеро, высокие горы и тяжелое небо. Из каждого чума вышло по человеку, из макоданов повалил голубовато-белый дымок — стойбище ожило; возле чумов собралось столько людей, что казалось, они готовятся отразить нападение неприятеля. Над стойбищем прогремели ответные выстрелы: «Мы готовы!». И тут же сорвались с места приглашенные жениха, ураганом понеслись к стойбищу. На лучших оленях летел впереди Митька.
Упряжки, звеня колокольцами, быстрее ветра неслись, огибая стойбище по кругу солнца. Каждой упряжке надо трижды объехать чумы одной и той же дорогой. А сделать это не так-то легко, потому что на шею головного оленя со всех сторон летят петли тынзеев.
— Лови-и-и!.. — закричало всё стойбище. — О-и-и! И-и-и!
На пустых нартах у чумов сидели степенные старики, ревниво следили за каждой упряжкой, недовольно разводили руками, с досады хлопали по угловатым коленям.
— Лови-и-и!.. — кричали женщины. — И-и-и!..
Но напрасно. Упряжки жениха и приехавших с ним пролетели — тынзеи захлестывали то пелеев[77], то нарты или ездока, — ни на одном вожаке петли не было. От смеха, восторгов дети катались по земле между взрослыми. Выбитая копытами вокруг стойбища, гудела земляная пурга, летели со свистом комья земли, жужжали тынзеи.
А попадись вожак по условиям свадьбы в петлю, ездовой упряжки — хочет он того или не хочет — должен тут же перейти в лагерь приглашенных невестой и всю свадьбу славить невесту. Но так случается редко, потому что упряжки кружатся по ходу солнца, олени запряжены веером, вожак бежит слева пелеев, — нелегко словить вожака. Да и ненцы празднуют не первую свадьбу — к такой игре привычны и олени и люди…
Все упряжки промчались вокруг стойбища трижды, и ни один вожак не угодил в петлю аркана. А если бы заарканенным оказался Митькин вожак, всю свадьбу тут же пришлось бы переносить на стойбище жениха. А после свадьбы жених должен был бы уйти из родного стойбища и поселиться навсегда в чуме родителей жены.
Первое испытание Митька выдержал с честью. Да и не могло быть иначе: он готовился к этому дню, тренировал оленей и особенно вожака — его вожак останавливался перед падением петли на землю или стрелой вылетал из-под неё, когда она летела ему на голову, Митька Валей был доволен.
А стойбище гудело, гости приветствовали громко друг друга; одни хвалили жениха, другие — невесту. Приближалось второе испытание.
— Митя, не ударь лицом в грязь!.. Не роняй нашей чести! — подбадривали жениха его гости.
А Митька лишь улыбался в ответ и ловко и красиво наматывал на левую руку тынзей.
— Да меньше петлю! Меньше делай! — наставительно кричал и Микул Паханзеда. — А то не успеешь дернуть — он из петли выскочит… и поминай!
Гости невесты язвили:
— Гляди-ко… Да он же левша! А я-то думал…
— Ха-ха-ха-а-а! — тут же прокатилось над стойбищем. — Тынзея-то толком держать не умеет!..
И насмешек Митька словно бы не слышал, не замечал дразнящих улыбок — собрал аккуратно тынзеи, встал в трех саженях от чума невесты.
Выкрики и смех как подрезало, когда у входа в чум появился худой и высокий старик — родитель невесты. Стойбище замерло: старик шагнул к чуму, распахнул полог. С олененком на руках вышла из чума Марина. Митька насторожился. Олененок барахтался, призывно трубил, вырываясь.
— Ну, выпускай! — крикнул из толпы кто-то.
Марина посмотрела на отца, перевела взгляд на Митьку.
— Чего же ты ждешь?!
Голос матери словно бы стеганул по рукам — Марина наклонилась и разжала пальцы. Олененок неуверенно встал, постоял, оглядевшись, будто не верил, что он уже на воле, и тут же тонкие пружинистые ноги подбросили его — он стрелой полетел по широкому людскому коридору.
Митька не спешил. Примерился и хлестко, со всего плеча метнул тынзей. Петля, прожужжав в воздухе, догнала олененка, раскрылась перед носом — олененок сам влетел в петлю. Митька резко повернулся вокруг себя — петля захлестнула олененка за левую заднюю ногу.
Колхозники выкрикивали поочередно, славя жениха:
— Митька Валей добыл в этом году триста сорок песцов!
— Митька Валей топором и тынзеем владеет, как своими руками!
— Только этой весной Митька Валей смастерил пятнадцать саней, сорок семь шестов для чума!
— У Митьки Валея семьдесят три оленя!
— Гусь не пролетит над головой Митьки Валея, он свалит гуся одной пулей!..
Гости ещё долго бы прославляли Митьку Валея, но выстрел известил о том, что настало время сесть за свадебный стол. Гости долго и шумно собирались в сдвоенном чуме, садились, покрякивая от удовольствия, на подогнутые ноги — рассаживались за большим, низким, круглым столом. А на столе чего только не было! На белых тарелках горела семга, слезившаяся от собственного жира, дымилось жаркое, белели обросшие жиром оленьи ребра, стояли железные чашки с соленой оленьей кровью, лежали поленьями жареные нельмы, чиры. Против каждого шеста, подпирающего чум, стояло по две бутылки русской еды.
На самом видном месте на мягких шкурах оленят сидели жених и невеста. Марина была в летней панице, сшитой из кусков цветного сукна; на белой длинной шее голова держалась гордо, с головы струились на плечи, на грудь черные косы, поток украшений из серебра и цветных камней. Вся она северная свежесть, диковатая непокорность… Митька смущался слегка, прятал глаза. Да и как не смущаться? Он впервые в жизни сидел рядом с Мариной — ненецким девушкам не положено показываться на глаза юношам, парень может лишь случайно подглядеть девушку, и если понравится девушка, посылает сватов в её стойбище. Так было и с Митькой…
За свадебным столом сделалось тихо: поднялся самый старый человек стойбища — Паш Миколай. Он погладил пышную белую бороду, поклонился гостям жениха, гостям невесты, спросил:
— Я, наверное, здесь самый старый?
Гости молча кивнули.
— Тогда, дорогие гости… Солнце сегодня взошло?
— Взошло! — в один голос ответили гости.
— Так пусть над родом жениха и невесты солнце сияет вечно.
Молча налили из бутылей.
— За их солнце?
— За солнце!
Зазвенели фарфоровые чашки, опрокинулись.
А Паш Миколай предлагал тост за тостом:
— За гостей жениха и невесты!
— За родителей жениха и невесты!
— За молодых!
Люди повеселели: кто запел, кто говорил громче обычного, Паш Миколай повел громче всех свой сюдбабц с игривой, бодрой мелодией, как герой её, младший сын Великана.
Под эту мелодию можно было и петь и танцевать.
Выстрел из ружья сказал людям: завтрак кончился, пора начинать игры: состязания по бегу, прыжкам, борьбе. Но самое главное, о чём сказал выстрел, — люди, не прозевайте момента, когда невеста на жениховой упряжке повезет вокруг стойбища против хода солнца своего жениха! Готовьте тынзеи, ловите вожака этой упряжки!.. Но может ловить только тот, кто таит злобу на жениха или невесту, и тогда… если найдется такой человек, если вожака заарканит — свадьба в чуме невесты закончится, все гости молча поедут на стойбище жениха и там проведут свадебный ужин, без вина, песен, веселья. А если не окажется такого человека, свадьба будет продолжаться ещё день, а потом ещё один день на стойбище жениха.
Гости выкатились из сдвоенного чума в тундру — тундра превратилась в стадион.
Женщины затеяли старинную игру «Хобарко»: взялись друг за дружку, как в русской сказке, — «дедка за репку, бабка за дедку…». Первой стояла, вытянув руки вперед, Нина Паханзеда — Земная мать, защищающая своих детей от Парнэ Не — ведьмы, — которая задумала уничтожить род человеческий. Ведьмой была старшая дочь Паш Миколая Ирина, которая три года назад стала женой Никиты-колхозника; с завязанными глазами она пыталась схватить хотя бы одну из дочерей Земной матери. Возле играющих женщин хохот, крики, песни.
На лужайке рядом сошлись девушки: сели на землю — оплакивали невесту, ругали последними словами её жениха. Потом встали девушки, нарядные, стройные, размахивая руками, плавно, неторопливо пошли вокруг невесты, запели песню «Белая лебедь».
Перед хореем, брошенным на землю, стали мужчины; хорей нельзя переступать. Егор Явтысый, пастух колхоза, взял топорик, раскрутил над головой и, разогнавшись, бросил; едва не лег на землю у хорея, но не переступил его. Топорик, рассекая воздух, летел шумно — с наклоном вправо, потом параллельно земле, стал клониться влево, — красиво летел… и воткнулся лезвием в землю. Шестьдесят саженей!
Не хуже пролетел топорик и у Митьки Валея, хотя и не долетел до отметки Егора.
Подошел к топорику, разминаясь, и Микул Паханзеда; попробовал на вес, сказал, словно подумал вслух:
— А чем я хуже молодых? Или у единоличника жена слабее жен колхозников?
В толпе кто-то крикнул:
— Давай, давай, Микул! Утри нос колхозникам.
Паханзеда расправил широкие плечи. И пусть ростом не вышел, но был кряжист — почти квадратный, — и был мужчина, как говорится, в соку; топорик в его руке казался игрушечным.
— Ну-ко! — вновь кто-то крикнул в толпе.
Микул оглянулся, взмахнул топориком над головой, разбежался и выпустил его с силой: в воздухе сделалось шумно — топорик ввинтился в воздух, словно пропеллер. А летел низко и, казалось, вот-вот в землю воткнется. Кто-то даже сказал раздраженно:
— Единоличник… Жена крепче колхозных жен!
Но топорик летел. Стелился над землей. И летел. Летел долго. Летел! И упал дальше отметки Егора.
— Семьдесят саженей! Даже больше! — крикнул Паш Миколай; поднял топорик и в место, где упал, воткнул пестрый хорей. — Метров сто пятьдесят! Или сто шестьдесят!
Никто не осмелился взяться за топорик после Микула.
Шумно и весело было возле борцов. Выкрики не смолкали у озера, где мужчины и парни снимали летние малицы, срывали пимы, липты, чтоб легче было бежать, но… грянул выстрел: игры закончены — невеста повезла жениха вокруг стойбища! После этого сразу же свадебный обед.
С гулким топотом оленьих копыт, оставляя клубы пыли далеко за собой, красиво невеста везла жениха на его упряжке. Мужчины кинулись к своим нартам, взяли тынзеи, но ловить вожака, конечно же, никто не собирался. Да и поздно было: упряжка уже завершала почетный круг. Этим были довольны и гости, и жених, и невеста. И именно в этот момент выскочил из толпы двенадцатилетний братишка невесты и так кинул тынзей, что петля, не задев ни одну ветвь рогов, захлестнула вожака упряжки за шею.
Все взрослые ахнули! Разводили руками… Но обычай есть обычай, и его соблюдать надо; и гости пошли к своим нартам — рогатая лавина устремилась к гребням Пярцора, догоняя упряжку Марины и Митьки.
Веселиться, однако, на стойбище Митьки Валея никому не хотелось, да и желания не было: на свадьбе оказался человек, затаивший зло на жениха… После ужина без песен, веселья и без вина гости покинули стойбище. Уехали в свой одинокий чум и Паханзеды. Микул думал: «Если б не этот двенадцатилетний волчонок… в колхозе и свадьбы веселее проходят».
11
В тот день ветер дул с юга ещё на рассвете. Обычно Микул днем ловил рыбу в озерах и реках, возился возле чума — мало ли дел у кочевника-ненца, когда всё, что нужно для жизни, приходится одному делать. Вечером после ужина отправился к оленям: в тундре без стерегущего глаза стадо погибнет. А утром, если было прохладно и оводы, комары прятались, оставлял одних оленей на выпасе, возвращался в свой чум, — завтракал, спал.
В этот день утром Микул возвратился к чуму со стадом, оводы подгоняли оленей. Над чумом струились жидкие синеватые круги дыма, как обычно бывает в жару, южный ветер стелил этот дым над землей, олени остановились сами у чума, с подветренной стороны, и, обволакиваемые едва видными струями дыма, отряхивались. Микул выпряг подсаночных оленей из нарт, пустил в стадо, неторопливой, усталой походкой вошел в чум, снял накомарник, облепленный мертвыми комарами, снял совик, пимы и босиком, крякнув от удовольствия, шагнул к столику, опустился на мягкую шкуру; на столе дымилась еда, над костром кипел чайник — Нина успела с завтраком, как всегда, к приезду Микула. Она была в чуме одна, всё было по-домашнему, Микул подозвал Нину, устало обнял её, поцеловал. Есть ему не хотелось после ночного дежурства.
А возле чума возились Иванко и бабка Ирина. Бабка ползала по разостланным нюкам, угольком отмечала места, которые надо зашить, залатать, — зима-то ушла не навечно, она возвратится с метелью, морозами, поздно будет тогда затыкать дыры на зимних нюках. А Иванка и ночью не загнать в чум. Когда с пастбища возвращается стадо, мальчик с отцовской лопаткой в ловких ручонках перебегает от оленя к оленю, бьет оводов — десятками наколачивает их на белых, разостланных для приманки шкурах оленей; овод почему-то любит белое…
Микул попил чаю, покурил, долго сидел, задумавшись, глядя на Нину. А Нина, убрав со стола, помыла посуду, подложила в костер гнилых, мокрых поленьев, чтобы дым погуще валил из макодана, наводила в чуме порядок. Микул следил, как быстро и ловко она со всем управлялась, думал и думал. Она хотела спросить, о чем он задумался, но пересилила любопытство: ненецкой женщине не положено в таких случаях спрашивать. «Нужно будет, сам скажет».
— Устал я, — признался Микул. — Всё один да один — и рыбалка, и олени… охота… И тебе тяжело — тоже одна… Всё своими руками — от костра и до шкуры… Один маленький чум в большой тундре…
Нина слушала, выжидая: что его мучает? А Микул опять раскурил самокрутку, потянул несколько раз и бросил в костер, чего никогда не бывало, вновь задумался; посматривал так, как никогда не смотрел. Думал. Прилег, растянувшись на шкурах. И уснул думая.
— Ага-а-а!.. Попался?! Голову оторвать! — звенел голос Иванка за выгнутой стеной чума. — Голову оторвать!
Нина улыбнулась на голос сынишки и вспомнила сказку, знакомую с детства. Эта сказка жила в каждом чуме.
…Ненцы сожгли на большом костре мать всех чертей — Парнэ. Женщина Парнэ, сгорая, крикнула Солнцу, Луне и Земле:
— Я-то сгорю. Но пусть и мой прах преследует всюду людей и оленей!
Солнце, Луна и Земля не услышали голоса женщины Парнэ. Услышал её в полусне Нна — отец всех болезней, надул огромные щеки и дунул на Землю, как Ледовое море: поднялась буря, и прах женщины Парнэ полетел над Землей комарами, мошками, мухами, оводами. И с тех пор нет на Земле спасения от них ни оленям, ни людям.
Страшно сделалось Солнцу, когда поднялось оно над Землей и увидело облака нечисти. И в летнюю ночь, когда вся нечисть уснула, Солнце скатилось с высокого неба к краю Земли, шепнуло на ухо ненцу, стерегущему стадо:
— И прах женщины Парнэ исчезнет, если ты оторвешь голову комару, мошке, мухе и оводу….
Вот почему и теперь люди кричат, попадись комар в руки:
— Оторвать голову!
Попадет овод, муха или мошка — «Оторвать голову!» И Иванко кричал:
— Оторвать голову!
А Микул спал и во сне, кажется, думал. Нина поспешила из чума, чтоб унять сына, — отцу нужно выспаться… Голос мальчишки утонул в лае собак.
— Хыть, окаянные! — прикрикнула на собак бабка Ирина, воткнула иглу в нюк и приставила к глазам ладонь козырьком: — Опять кого-то несет ветер тундры!
К стойбищу приближалась оленья упряжка.
Гриш Вылка остановил оленей у чума, привязал вожжи к нартам, подошел к женщинам:
— В чуме хозяин?
— Спит, — ответила Нина испуганно: в расторопности медлительного по природе Гриша было что-то неладное, и подумала: «Не случилась ли какая беда?»
А Гриш был озабочен, разговаривал коротко, отрывисто:
— Если он в чуме, ведите меня к нему.
Гриш почти вбежал в чум, поспешили за ним Нина и бабка.
Микул спал так крепко, точно заснул впервые за всю свою жизнь. Да и много ли приходилось спать этому беспокойному человеку! Жизнь единоличника в тундре не так-то проста. Постоянно гнетущая забота об оленях, о промысле ни на минуту не давала Микулу покоя. А как же иначе? Надо жить, надо кормить семью.
— Здравствуй, Микул! — пройдясь по латам, сказал Гриш.
Услыхав мужской голос, Паханзеда тут же поднял голову, сел, протирая глаза: и его как пружиной подняло на ноги, когда он разглядел стоявшего перед ним.
— Здравствуй, Гриш. Какие ветры занесли тебя сюда?
— Большеземельский тундровый Совет собирает всех мужиков, кроме стариков и детей. Завтра на рассвете ты должен быть в поселке Пэ-яха-харад.
Гриш достал из кармана бумагу, подал Микулу. Женщины подвинулись ближе к Микулу. А Микул повертел бумагу в руках, рассмотрел круглую печать и спокойно спросил:
— Судить будут?
Весной судили многооленщиков Тайбареев, стада которых паслись по всей Большеземельской тундре от правобережья Печоры до отрогов Урала. Паханзеда тоже единоличник. Но у него всего лишь девяносто оленей…
— Да нет, — сказал Гриш. — Судить никого не собираются. Говорят, война началась. Вчера на нашу страну напала какая-то Германия. Я уж точно не знаю, какая…
Все в чуме замерли.
— Ю-у-вэ-эй… Война, — переведя дыхание, шепнула бабка Ирина, сложив руки ладошкой к ладошке. — Хэй-ей-ей — опять война… У меня сердце болит…
— Так, значит, в поселок? — переспросил Микул.
— Да. Завтра… Я еду дальше — в чум Митьки Валея.
— Господи! — всплеснула руками и Нина. — Митька только женился…
Гриш скрылся за дверью, его упряжку проводили дружным лаем собаки.
Не стал раздумывать и Микул, надел малицу и шагнул к выходу, велев женщинам:
— Согрейте чай — надо ехать.
Женщины раздували костер.
— Ювэй хосподи! — шептала бабка Ирина. — Война…
Нина молча смахнула слезу.
— Не надо, — сказала бабка Ирина.
Сейчас в ней трудно было признать неистовую, злую свекровь…
Микул попил чаю и, обняв на прощанье мать, поцеловав жену, сына, улетел на одинокой упряжке в пустынную тундру.
Микул Паханзеда уехал. А в ушах Нины ещё долго звучало его последнее слово?
— Если будет трудно — вступай в колхоз…
12
Нет. Не вчера докатилась до тундры весть о начале войны. Большой войны. Страшной. На нашу Родину напали фашисты. И на родину ненцев. И пусть слово «фашист» понимал в тундре не каждый, но каждый знал: не с луком и не с копьем пожаловали на нашу землю незваные гости. Взрослые ненцы хорошо помнили дни, когда шли с огнем и свинцом англичане, белогвардейцы: по Северной Двине, Мезени, Пинеге, Печоре горели села, расстреливали, вешали людей… Ненцы знали, что такое война…
И вот уже седьмой месяц шумит где-то свинцовая вьюга. Плачет земля.
В тундре тихо. Беззаботно бродят олени на пастбищах. Сияет луна. Тихо качаются звезды — их ни больше, ни меньше. А люди?..
На третий день после свадьбы Митьки Валея тундра словно бы овдовела. Микул не вернулся. Из поселка, куда он уехал, пригнали упряжку, привезли его малицу, пимы и хорей. Нина пролежала весь этот день на пустых нартах мужа. На второй день встала и вышла к оленям. И дни побежали за днями, месяцы пролетали — Нина пасла вместо мужа, ловила рыбу в озерах, ставила и проверяла капканы… Все мужчины ушли на войну. А как же иначе, если у ненецких мужчин есть родители, жены и дети — есть родная земля. Их защищать надо. А меткий охотничий глаз и Микула и Митьки — всех ненцев, кто ушел на войну, — на фронте не лишний. И ненцы сменили хорей на винтовку.
Овдовела тундра. И особенно это чувствовалось по одинокому чуму, в который не вернулся Микул Паханзеда.
Лето ушло вслед за Микулом, отвыли у чума голодные волки в осенние темные ночи, вновь намела сугробы зима, загорелись над тундрой низкие звезды. Нина делала всё, что раньше делал Микул. В чуме она лишь отдыхала. В чуме шла теперь своя жизнь.
Вечерами, когда усталая мать уезжала к оленям, мальчик забирался к бабке под теплое одеяло — до позднего вечера шла игра: бабка загадывала внуку загадки, внук отвечал.
— Два живота и четыре уха! Что это?
— Подушка!
Трудно представить себе ненецкую семью без загадок. Загадка в стойбище с незапамятных лет — первый учитель ребенка. А иначе нельзя. Каждому родителю хочется, чтобы его сын вырос не только сильным и ловким, но и смышленым, находчивым…
А днем, когда метели ложились у ног — земля убегала, и поднималось небо над чумом, — Иванко играл возле чума.
В один из таких солнечных дней, когда мать уехала в тундру проверять и ставить капканы, Иванко воткнул в сугроб оленьи рога, достал из ларя отцовский тынзей и побежал вокруг чума, окликая оленей… воображаемых:
— Эй! Эй! Эй! Ко-о-ов! Ко-о-ов! Ко-о-ов!
Олени не слушались.
— Э-хэй! Вот он! Вот он, Палкан-то! Теперь никуда не уйдешь — всё равно словлю!..
Бросал тынзей на торчащие из снега рога, стараясь заарканить Палкана. Тынзей путался. Злился Иванко. Тынзей рассыпался непослушными петлями. Иванко терпеливо распутывал. Злился. Ему надоела эта игра.
— Лешак с ним! — и он распинал оленьи рога на снегу, отнес тынзей в чум.
Долго ходил между нартами, потом уселся на самом высоком вандее, словно на сопке, стал смотреть в синеватую даль. И вдруг вспомнил рассказ бабушки: человек дошёл до края земли и за пологом неба посмотрел на спящее солнце, закричал даже от радости:
— Ого! Земля-то имеет конец!
А что, если он сбегает и посмотрит, где прячется солнце? Ведь до края земли… Вот он, рядом. Иванко скатился с вандея и побежал. Ноги устали — он сбавил шаг. Оглянулся — и обомлел: чум далеко, стал совсем маленьким. А горизонт впереди — не ближе и не дальше. Удивительно!
«Все равно добегу!» — рассердился Иванко.
Жаль только, отец уехал. Он-то уж точно знает, где зимой прячется солнце…
И лишь вспомнил отца, сразу сделалось для него многое непонятным. Шел, размышлял: куда всё-таки уехал отец? Земля-то совсем маленькая. Вон край её. А чум Паханзедов стоит посредине этой земли… Иванко не верил, что до края земли ему не дойти. И услышал вдруг голос бабушки:
— И-ы-ва-ан-ко-о!..
Он вновь оглянулся, потом сел на снег и задумался. Был бы у него товарищ, они бегали бы каждый день вдвоем на край земли и смотрели на спящее солнце. А сейчас… Так и быть, сейчас он пойдет в чум, а потом, когда бабушка забудется, он всё равно сходит туда, где спит солнце. Обязательно… И Иванко вернулся:
— Бабушка, а кроме нас на земле есть ещё люди? — спросил он, лишь вошел в чум.
— Конечно, — готовно ответила бабка Ирина, задумалась… и добавила: — Разные люди есть, внучек…
А у Иванка уже новый вопрос:
— А дети тоже есть?
— Есть, есть, внучек.
— Тогда приведи мне мальчика. Я играл бы с ним каждый день…
— Эх… Откуда же я тебе его приведу, внучек? Поблизости-то сейчас нет никого…
— Тогда привези.
— Хой! Хой! Я-то и каюрить уже разучилась…
И так каждый раз. О чем бы ни шел разговор с бабушкой, кончалось всё тем, что бабушка уже старая и не может, вот если бы был с ними отец…
Иванку плохо было без отца.
Залаяли возле чума собаки — вестники зла и добра. Иванко вылетел вон. За ним, кряхтя, выползла бабка Ирина.
Из-за увала показалась упряжка. Иванко побежал навстречу упряжке, поднимая по-детски высоко ноги, — так имитируют шаловливый бег олененка — думал, что мамка едет, везет мно-о-го песцов!
Смотрел под ноги и бежал. Лишь у самого полоза нарты поднял голову — перед ним был весь в волосах человек. У Иванка подогнулись ноги от страха. Он метнулся назад. Но человек в волосах не погнался, остался на нартах — лицо длинное-длинное, глаз вовсе нет, а там, где должен быть рот, торчит шерсть. Иванко таких в жизни не видел!
А бабушка улыбалась.
— Ты что, внучек? Не бойся его. Наш он.
А у Иванка сердце вот-вот из груди выскочит.
— Он весь шерстяной. Без глаз…
— Я ж тебе говорила, что на земле есть разные люди. Не бойся — он дедушка. Он хороший дедушка. Зовут его Паш Миколаем…
— Приветствую вас! — сиплым голосом сказал дед наконец.
— Здравствуйте, здравствуйте, — ответила ему бабушка.
А Иванко уже всем лицом зарылся в лисий воротник бабушкиной паницы.
— Каково живет Иван Микулович?
— Хорошо он живет… Заходите… Люди с дороги обычно много видят и много знают. Может, какую весть привезли?..
Втроем вошли в чум. Паш Миколай охлопал с пимов и малицы снег, сел на оленью шкуру; бабушка оживила огонь. Иванко вцепился в подол бабушкиной паницы: куда бабушка, туда он.
— Не бойся меня, Иван Микулович, — сказал Паш Миколай; водил, напрягаясь, отупевшими от старости, узкими, ушедшими под слой морщин глазами — следил за Иванком; «шерстяной» рот шевелился: — Когда твой отец был таким же маленьким, как ты теперь, я уже был известным во всей тундре охотником. Тогда шерсти на лице у меня ещё не было, — провел он сухой ладонью по мокрым от снега взлохмаченным бороде и усам. — Твой отец любил меня. Всегда на охоту провожал меня и встречал.
Старик задумался, на лице сошлись все морщины, на лбу одни складки наползли на другие.
— Ирина Михайловна, — вновь шевельнул шерстяным ртом Паш Миколай, — я привез вам бумагу какую-то. С круглой печатью. Её надо читать.
— Ювэй-ювэй! Что ты говоришь-то? Сам знаешь: наша бумага — тундра. Её мы читаем. Вот если Нина?.. Она, говорят, по Хоседам живала, с русским человеком разговаривала через бумагу… — И вдруг бабка Ирина словно бы опять вспомнила далекое прошлое, когда Иванка и на свете не было: — Хосподи-хосподи… огонь-то — уголек для очага приходилось занимать у соседей. А потом легли очаги дни и ночи, чтоб огонь не погас. Дро-ов-то… сколько дров жгли впустую! С утра до вечера рыли снег, чтоб добраться до ивы. Сколько сил-то ушло в те сугробы. Времена! Такое не забывается…
Вскипел чай.
13
Дверь чума у ненцев не запирается перед любым человеком: с добрыми ли он пришел намерениями, с плохими ли. Человек войдет в чум, попьет чаю, отдохнет, согреется — и уедет своей дорогой дальше… После чая уехал и Паш Миколай — повез почту в другое стойбище.
Приехала Нина. Она привезла одного лишь песца. Да и тот грязный, линялый, точно волки драли его. А и этому песцу в чуме рады — голубой всё же.
— Вот, Нина, привезли бумагу с печатью, — подала бабка Ирина невестке листок в сером конверте.
Нина лишь взглянула на дату внутри почтового штампа.
— Кто привез?
— Паш Миколай.
— Давно?
— Перед твоим приездом уехал.
И долго смотрела на серый конверт так, словно боялась раскрыть. Потом по складам вслух прочла свое имя: «Паханзеде Нине Васильевне». Потом раскрыла и очень долго читала, мучительно долго. Потом опять долго молчала, глядя на серый конверт. Лишь после этого сказала Иванку и так, словно очнулась:
— Письмо от нашего папы.
Бабка Ирина прижалась к невестке, чего никогда не бывало. Иванко словно прилип к матери. Во все глаза они смотрели на письмо, но бумага с ними не говорила. А Нина то удивленно махала рукой, то шептала что-то, словно ребенок. На костре вскипели котел, чайник; над костром вспухли дым, пар — Нина не замечала, смотрела по-прежнему на бумагу, махала рукой и шептала. И опять словно опомнилась, быстро стала рассказывать:
— Отец наш воюет. Фашистов, пишет он, столько, что когда они поднимаются, то как лес закрывают и небо и землю. Наши встречают их свинцовой пургой…
— Вот беда-то! Вот грех! — хлопнула себя по коленям бабка Ирина. — Что же люди не поделили-то, а? Зачем же человеку охотиться на человека? Вот беда. Вэй-вэй-вэй! Вот беда.
А Нина всё говорила и говорила — всё рассказывала о том, что пишет Микул, как он воюет с фашистами, — вздохнула глубоко и начала расставлять на столе чашки.
— А не пишет он, сколько ещё воевать будут? — спросила бабка Ирина.
— Нет!.. Делай в чуме своеё— я хочу отдохнуть.
Бабка Ирина притихла.
14
Ветерок, с утра бойко плясавший по тундре, с появлением первых звезд сложил крылья. Мир, казалось, застыл… мороз всё сильнее и властнее стал сжимать снег, не успевший слежаться. Под ногами сухие сугробы скрипели до боли в зубах.
Кровавый закат, догорая, выткался в червонного золота нить… оборвался — исчез. Небо до краев переполнилось крупными спелыми звездами. Всмотришься — кажется, звезды вспыхивают яркими искрами; вслушаешься в небо — звезды звенят. Застывшую тишину стужной ночи дробят копыта оленей, долбящих снег. Да неожиданно треснет лед до дна промерзшего озера — и покатится гром по снежной пустыне… угаснет под звездами. И опять звонко заденет струну тишина.
А если не вслушиваться, не смотреть, казалось, что Нина в эту ночь в тундре, на всей земле — одна. И непонятно, что где-то воюют… замирали на стылых снегах шаги времени… уходит молодость — жизнь…
Олени нюхали снег, долбили копытом — пробивали сугробы до ягеля.
Прилегла Нина на нарты. Старалась не думать о днях, когда был рядом Микул. Но пьянящие мысли будоражили душу. Лишь прикрыла глаза, показалось, что руки Микула коснулись её стыдливой груди — ласково обожгли, — сердце по синему морю…
Вожак упряжки чихнул сердито — подпрыгнул на месте. Заметались пелеи. Взметнулось синим облаком стадо, мелькнуло над сугробами и словно растаяло. Нина успела взять в руки хорей, отвязать вожжи — олени сорвали нарты с сугроба, понесли в тундру, — вцепилась руками в тугие ремни, чтоб не свалиться. Оглянулась — за упряжкой летели, едва касаясь сугробов, огромные волки. Один, два… четыре! Карабин сам по себе оказался в руках — и Нина вдруг вспомнила: патроны она спрятала в ларь от Иванка, взять перед выездом в стадо забыла. Обида на кого-то, на что-то и на себя впилась в горло… А волки не отставали. В бесконечной, безлюдной тундре, на скрипучем снегу, в эту безлунную, звездную ночь они казались черными тенями смерти.
Нина сжала хорей, на конце его было копье. Но поразить этого зверя копьем на большом расстоянии… И олени словно взбесились от страха — нарты швыряло то вправо, то влево, то вверх.
«Э-эх, гады! — в сердцах подумала Нина. — Волки и те пошли грамотные: знают, мужики на войне».
А может, по опыту серые знали, что у ненецкой бабы меньше сметки и ловкости, чем у них?
— Нет! — в голос крикнула Нина, и всё её тело сделалось чутким, упругим.
Черными тенями волки скользили, пластаясь, над тундрой, преследуя нарты.
В неожиданном первом, испуге Нина не успела даже заметить, куда ушло стадо. Разбираться теперь было поздно. Но… пусть бежит стадо. Даже лучше, что они погнались за упряжкой.
Ветерок обжигал, резал не только щеки и нос, а и глаза, слезы струились и замерзали.
Между волками и упряжкой расстояние сокращалось — всё ближе и ближе… Нина поплотнее уселась на нартах, сжимая хорей с копьем на конце; чутко следила — сделалось даже спокойнее. И только один из зверей приблизился к нартам — казалось, готовился прыгнуть, Нина, собрав все свои силы, пустила навстречу зверю копье. Волк взвыл в прыжке, скорчился и упал, удаляясь. Остальные продолжали бежать, словно ничего, не случилось. Нина чутко следила за каждым скачком остальных, то и дело кричала на них надорванным голосом. Знала, этому зверю человеческий голос не страшен, — кричала, чтобы себя подбодрить.
Нарты с разбега ударились в ноги оленей; Нину бросило — она упала на притоптанный снег. Олени стояли. Нину как ветром подняло на ноги. Стояли и волки… Упряжка была у чума. Возле чума сгрудилось и стадо, кружилось на месте. Нина рванула из-под ремней карабин, бросилась в чум — к ларю.
Волки сидели с трех сторон стада, словно бы выжидая чего-то, наступать не спешили. Сидели на пушистых хвостах, выли. Не замечали даже того, что делала Нина. Не боялись её. Нина прицелилась в ближнего зверя — громыхнул оглушительный выстрел: серый подпрыгнул и шмякнулся, дергался на снегу, словно бы зарывался в сугроб. Два других сорвались с места, бросились в разные стороны. Нина пальнула вдогонку.
Из чума выползла бабка Ирина, выскочил и Иванко. Стадо кружилось, воздух пах порохом, на сером снегу корчилась черная тень. Бабка Ирина не стала спрашивать, что? почему? Не раскрыл рта и Иванко…
Остаток ночи — до позднего утра — Нина сидела на нарте, положив карабин на колени, в памяти звучал голос Микула: «Будет трудно — иди в колхоз, Нина». По щекам текли слезы…
15
Жизнь ненца в зимней тундре однообразна. Днем сумерки, ночью, если нет звезд и луны, небо и земля одинаково темные, точно в бездонную яму попал. Вчерашний день не отличается от сегодняшнего: ставить капканы и проверять, пасти стадо. А если они и отличаются один от другого, то лишь тем, что в этот день попал песец в капкан или нет, в прошлую ночь напали волки на оленей, в эту ночь нет.
В этот день Нина не поехала проверять капканы. Выспалась после волчьей ночи, возилась в чуме, помогая бабке, забавлялась с Иванком. Во второй половине дня возле чума залаяли заливисто собаки. Нина вышла. Было тихо. Олени отдыхали: слышалось их посвистывающее дыхание. У самой двери лежал с закрытыми глазами ручной олень Авка. Повернулись на скрип снега у двери собаки — увидели хозяйку и тут же замолкли; виляя хвостами, потянулись к Нине. Было спокойно. Нина-вернулась в чум.
Бабка Ирина завопила:
— Ой-ёй-ёй-ёй! Грех мой льется! Грех моего отца льется!
Бесился над огнем вскипевший чайник, из горлышка струйкой бежал кипяток.
Нина передвинула чайник на пустое место — он успокоился. Успокоилась и бабка.
Пуще прежнего залаяли собаки. Теперь они на кого-то огрызались.
— Ох и глупые! — сказала Нина и хотела вновь выйти, но отскочила от двери, руки потянулись к карабину, щелкнул затвор; за нюками чума скрипели на снегу грузные неторопливые шаги.
Замерли Иванко и бабка Ирина.
Медленно раскрылась дверь: показалась длинная пола солдатской шинели… на оледенелых досках заскрипели сапоги. Человек вошел, закрывая дверь. Одубелое с мороза лицо было чем-то знакомо…
— Ой! Откуда же ты взялся?!
Нина опустила карабин, опустилась на латы сама, закрыв руками лицо, нервно смеялась и плакала: перед ней стоял товарищ её детства Митька Валей… Нина подняла голову, опустила руки — смотрела на Митьку сквозь слезы и не знала, что ему сказать, вскочила вдруг на ноги, подбежала к нему, потузила кулаками и поцеловала в щеки.
Снова отворилась дверь, и в чум ввалился в белой от снега малице Паш Миколай.
А Нина уже суетилась, предлагала:
— Проходите, что ли. Что ж вы тут стоите-то? Проходите, садитесь. Рассказывайте да хвастайте… Вестей, должно быть, у вас!..
Митька огляделся, тяжело дышал, посмотрел на дымоход чума и едва выдавил:
— Не верю… Трудно поверить…
Кадык на его длинной похудевшей шее поднимался и опускался судорожно, дрожал.
— Сердце замусорилось… Столько раз рыл носом землю в воронке — думал, не видеть мне больше…
Большой жилистой ладонью смахнул со щеки слезу.
— А вот он опять, чум… Родной ненецкий чум… Трудно поверить…
В чуме сразу же сделалось шумно.
16
По тундровому обычаю Митька опрокинул пустую чашку на блюдце — знак того, что он уже сыт, — и хотел было встать, но… передернулись его щеки, лицо исказилось, и он упал. Сначала никто не понял, что произошло. Лишь бабка Ирина заметила, что упал он от боли, спросила:
— Ногу отсидел? Значит, быть ещё в нашем чуме.
— Ничего, — сказал Митька, тяжело поднимаясь на локоть, — пройдёт.
И уже потом, когда все забыли о случившемся, Митька осторожно поднялся на ноги, прихрамывая, прошел на другую половину чума, сел у костра.
У стола продолжалось чаепитие. Паш Миколай рассказывал о значимости своей новой, должности: почту доверяют не каждому, быть почтальоном — дело ответственное. Бабка Ирина жаловалась на невестку:
— Я ей уж сколько раз говорила, не легче ли будет, если мы примкнем к чьему-нибудь стойбищу? Она не хочет и слушать. Упрямая, как и её муж. Вот только хвастаться не любит. В этом она отстает от Микула…
А Нина даже не слышала, о чём говорят старики; придерживая на кончиках пальцев, держала перед собой старинное расписное блюдце — не видела и его, — её мысли были далеко не только от разговора за столом, от чая, но и от чума… за пределами ненецкой земли.
Иванко толкнул мать локтем:
— Вон, смотри.
— Что? — очнулась Нина.
Иванко кивнул в сторону костра.
Митька сидел на латах без сапога, осторожно сматывал с ноги бинт, пропитанный кровью, сапог стоял рядом. Нога то и дело вздрагивала… В чуме стало тихо: и Паш Миколай и бабка Ирина затаили дыхание — следили за тем, что делает Митька. А он вдруг поднял голову, встретился с четырьмя парами глаз… смутился, смахнул со лба капельки пота.
— Да. Люди на людей охотятся, — сказал, словно оправдывался.
— Теперь на всех охотятся, — поглаживая седую бороду, заметил Паш Миколай.
— Вэй-вэй-вэй! Вот грех-то, вот грех!.. — как всегда, запричитала бабка Ирина.
Митька поднес ноющую ногу к огню.
— В дороге, наверно, натрудил. Но это не беда, бывает и хуже.
— Ювэй-ювэй-ювэй! Вот грех-то, вот грех!..
— Да-а-а.„пуля не разбирается, в кого бьет, — сказала задумчиво Нина; она побледнела, из уголков глаз и рта разлились по щекам темные тени. И добавила, словно бы думала вслух: — Может, на войне пулю, попавшую в ногу, и за счастье считают?
— Конечно, это лучше, чем в голову, — ответил ей Митька.
И опять в чум вошла тишина. Желтые, голубые и фиолетовые языки пламени облизывали ещё мерзлые ветки ивы в костре. Со свистом лопалась кора на ветках, попавших в огонь. Прокатилось за стенами чума глухое эхо — это треснула где-то от мороза земля.
— Я, даже когда приближались к линии фронта… когда стреляли орудия, думал, что это трещит земля от мороза, — сказал Митька, прислушиваясь к угасающему эху.
— Вот грех-то, вот грех…
— Может, ты с ним встречался где? — спросила Нина задумчиво.
По лицу Митьки скользнула виноватая будто улыбка.
— Что ты… Встретить знакомого на войне почти невозможно. Я за два года ни разу даже просто ненца не видел. Похожие на ненцев встречались…
И опять сделалось тихо; в чуме незримо для всех жил Микул…
Дорога, однако, не ждет. А Митьку ждал его родной чум, в нем Марина, не успевшая толком понять своего женского счастья.
17
В тундре обычно и дней и недель не считают. Да и зачем их считать. Этим время не удержишь и бежать не заставишь быстрее. В середине зимы цветы не зацветут. Рыба ловится — хорошо! Песец есть — хорошо! А нет — надо искать.
Не одну сотню километров прошли по немереной тундре аргиши Нины и бабки Ирины в поисках песца — от Паханзедской губы до Сыра-Хоя. Каждый бугорок, каждый изгиб безымянных речек Нина Паханзеда знала, как свою ладонь. И каждый раз, когда ей делалось трудно и казалось, что труднее быть не может, в памяти её слуха оживал голос и последнее слово Микула: «Если будет трудно — вступай в колхоз…»
Но помнила она и другие его слова: «Колхоз рядом, далеко не уйдет. А вот охотники колхоза… Пусть они сначала станут вровень с Микулой Паханзедой в промысле… Пусть колхоз «Тет яха мал» сначала докажет, что вступать в него — дело стоящее». И Нина не торопилась: олени её считались пока что лучшими во всей Большеземельской тундре, а имя её в бумагах Микодима значилось пока что первым среди лучших охотников тундры; только за два с половиной месяца с начала сезона она сдала больше восьми десятков шкурок, были у неё песцы и в запасе.
И аргиши Нины Паханзеды вновь и вновь кочевали по немереной тундре — от стойбища к стойбищу, — Нина пасла оленей, ставила и проверяла капканы.
Тоскливо было только одной, без Микула. И особенно в последнюю зиму: Иванко учился теперь в школе, жил в интернате, время в чуме, если оно выпадало, приходилось коротать с бабкой Ириной, а с ней и говорить было не о чём и не хотелось — приходилось больше молчать, если не нужно было отвечать на вопросы. Так, в непобедимой тоске, прошли и Омулевый месяц, и месяц Малой темноты[78].
Иванко приехал на каникулы, когда дни стали заметно длиннее. И света в тундре стало больше. И жизнь стала интереснее. И Нина всё чаще словно бы по делу стала задерживаться дома при первом удобном случае. Вот и теперь: уже давно пора бы ехать проверять капканы, и олени давно были запряжены в нарты, и погода настроилась на метель (нужно было даже поторапливаться, чтобы покончить с капканами до метели и темноты!), а Нина всё сидела в чуме — смотрела и слушала.
Бабка Ирина рубила дрова. Иванко сидел на снегу, следил за тем, как ловко вылетают из-под топора ветви яры; улыбался так, словно бы хотел что-то сказать.
— Что? — спросила бабка.
Иванко засмеялся:
— Да вспомнил, как я тебе когда-то надоедал. Игрушки-то….
— А-а-а! — засмеялась бабушка. — Теперь небось смешно? — опустила топор ещё несколько раз на ветки и запела вдруг:
Может, это важенки, может, и быки, хоры — важные-важные, много их, много…И Нина хорошо помнила те годы, когда Иванко бесконечными вопросами и просьбами изводил бабку Ирину, доводил до отчаяния:
— Бабушка, сделай лису… Бабушка, сделай оленей…
Чтобы отделаться от внука, бабушка принималась рубить яру, напевала:
Может, это важенки, может, и быки…Иванко собирал в подол малицы кусочки яры, уносил в чум и, кувыркаясь на постели с ними, напевал, подражая бабке:
Может, это важенки…Теперь же Иванко чувствовал себя взрослым, почти взрослым мужчиной: учился в школе, уже умел читать… умел даже посмеяться над прошлым — у него уже было своё прошлое…
И Нине было радостно оттого, что её сын (её косточка) такой большой уже — научился не только читать, но и жить самостоятельно (пусть и в интернате, но без родителей!); было и грустно: мальчик уже никогда не будет ребенком, который не может обойтись без родителей, — с каждым годом всё дальше будет отходить от отца и бабушки, скоро ему и вовсе не нужна будет их помощь… останется лишь привычка обязательной благодарности и забота о родителях по привычке… И мать не нужна будет ему — Нина не нужна будет… Не нужна будет она и свекрови, потому что дни бабки Ирины уже сочтены… Никому не нужна будет: молодость пройдет, как проходит — в заботах о доме, — не вернется. Не нужна она будет и себе, Нина. Будет всем в тягость…
Не только грустно, но и больно было ей, когда она смотрела на сына и на свекровь, думала — не могла не думать так, как думалось, потому что не было рядом Микула: молодость проходила… Жизнь уходила!..
Нина села в нарты и улетела в начинающую вьюжить тундру…
А возле чума, в чуме жизнь шла своим чередом: Иванко рассказывал бабушке о поселке Пэ-яха-харад на берегу тихой тундровой речки, об интернате…
Как-то после пурги ветер стих, облака разбежались — над поселком Пэ-яха-харад повисла большая луна. Дым из труб поднимался прямо голубовато-белыми столбами. Утонувшие под сугробами дома уже спали. Иванко, Игорь Михайлов и Миша Лаптандер вышли тайком от ребят из интерната. Они ещё днем, когда играла пурга, договорились со сторожем пекарни, что он за работу даст им хлеба.
Шли гуськом, тревожно оглядывались: не следят ли за ними. Спешили. Ведь втроем лучше — больше хлеба перепадет на каждого… Снег предательски скрипел под ногами. Мороз подгонял; подглядывая совиным глазом, плыла над ними в кольце радуг по зеленоватому небу луна.
Поселок Пэ-яха-харад невелик, но тянется вдоль реки и потому кажется бесконечным. Пекарня от интерната не так уж и близко. И по всему поселку — сугробы, сугробы, сугробы…
Перед последним, огромным сугробом, у самой пекарни, мальчишки услышали резкий, душераздирающий скрип снега — остановились… за сугробом что-то ухнуло и тотчас донесся человеческий стон. Мальчишки переглянулись и все разом побежали туда, откуда шел стон.
На склоне сугроба лежал человек в толстом, словно бы задубелом, совике, дышал тяжело и стонал. Рядом с ним валялись две расщепленные палки. Из раскрытого капюшона совика валил пар — трудно было разглядеть черты лица человека.
— Ненец или русский? — толкнув локтями друзей, сказал по-ненецки Игорь Михайлов, так, чтобы расслышал и незнакомец.
Человек поднял голову, сел с трудом.
— Ненец… — простонал он и тут же вновь повалился на снег, застонал громче прежнего.
Мальчишки мигом окружили незнакомца, подхватили под мышки, помогли ему сесть. Он дышал тяжело, сидел спиной к луне. И опять лица, затененного большим и чуть стянутым капюшоном, не разглядеть… Иванко и Игорь поддерживали его под спину, чтобы он вновь не упал Миша стоял, свесив руки, смотрел на незнакомца так, словно одурел, что ли… или замерз и превратился в ледышку… Долго было так. Потом незнакомец отдышался — сидел уж без помощи — и спросил:
— Здесь живет Надежда Федоровна?
— Он!.. — прошептал Миша, но так, словно закричал.
— А какая фамилия у нее? — на чистом ненецком языке спросил Игорь Михайлов.
Человек взглянул удивленно на русское лицо Игоря, сказал:
— Лаптандер.
И Миша засмеялся, заплакал — бросился к нему, вытянув обе руки вперед, уцепился в побелевший от снега совик… смеялся и плакал.
— Миша, ты? — спросил человек, отрывая его голову от своей груди, разглядывая.
— Я, — едва слышно выдавил сквозь слезы Миша и зарылся лицом в белую от инея шерсть совика…
— Вон ты какой!.. Вон как вымахал за четыре-то года! — шептал, булькая горлом, человек, обнимая Мишу, прижимая к себе. — А где же мама? Веди меня к маме.
А мамы у Миши уже давно не было… На второй год после того, как Мишин отец ушел на войну, страшный осенний шторм утопил в море суда, которые везли продовольствие для жителей полярного взморья и островов. В эту голодную зиму люди очень редко появлялись на улицах поселка Пэ-яха-харад. Старики и дети, женщины и старухи до самой весны не вставали с кроватей. Маленький горбатый русский старичок в белом халате ходил в полудреме от недосыпания, ходил от дома к дому, ходил и днем и ночью. А когда удлинились дни и закочевали на север аргиши проталин, крестов на кладбище стало вдвое больше — не всем смог помочь старичок в белом халате.
Перед тем как прилететь первым весенним птицам, угасла и Надежда Федоровна. Миша даже и не знал, где могила матери, — всю зиму он провел на койке в больнице…
Слезы радости и невыплаканной печали текли по щекам мальчика, смешиваясь, падали с подбородка, замерзали на совике Ильи Лаптандера, вернувшегося на костылях в родную тундру.
— Где мама? — тряс он обеими руками Мишу за плечи. — Где?
— Не-эту… Она давно умерла.
Илья прикусил губу.
— А сам-то… У кого ты живешь?
— В школе. Я и летом живу в школе.
— Хо-орош-о… — почему-то сказал так Илья.
— Не один я в школе живу. Нас много.
— Так, так…
Опираясь на плечо Миши, Илья поднялся на ноги — на одну ногу. Иванко и Игорь подали ему костыли.
— Где ваша школа? — спросил он, со скрипом вонзая костыли в снег.
В эту ночь, утром — не только Иванко, Миша и Игорь, но вся школа узнала: здоровые солдаты во время войны домой не возвращаются…
18
С моря дул порывистый ветер. Под полозьями нарт урчал рыхлеющий от тепла снег. Хотя полозья и скользили, но оленям, часто проваливающимся в сугробы, идти было тяжело, и Нина выбирала дорогу по берегам рек и озер. Но чаще она старалась ехать по льду. Ветер, однако, усиливался с каждой минутой — рванул так, что тяжелые, низкие облака забегали, на землю повалил крупными хлопьями снег и закружил каруселью… всё потонуло в однообразно-белесой мгле. Олени едва плелись.
«А капканы, хотя бы ближние, всё-таки надо проверить, — решила Нина. — Не пропадать же дню даром».
И она дальше и дальше подгоняла оленей. Трудновато было, правда, настораживать капканы, когда попадался песец. Но дело двигалось, и она не хотела скоро возвращаться домой. И в результате семь капканов и лишь в одном не оказалось песца. День, однако, уже склонился к вечеру. Оставалась непроверенной добрая половина ближних капканов, но теперь уже было пора спешить в стойбище… А оттуда, где она остановилась, недалеко было до стойбища Митьки… Заспорили голова и сердце: «Ехать или не ехать?»
Нина истосковалась по Микулу — по мужской ласке. Хотелось побыть, хотя бы посидеть рядом с товарищем детства. Но…
«Но там ведь и Марина. Что подумает Марина?»
И Нина ответила сама себе: «Чего особенного. Я ведь не к Митьке еду».
Ей просто надо было по пути заглянуть на стойбище Митьки: Паш Миколай ездил в поселок — может, от Микула есть что?..
И четыре быстроногих оленя понесли нарту сквозь косой полет колючих снежинок.
Появлению Нины удивились в чуме Митьки Валея: одна она не заезжала к соседям никогда. А Нина, не видевшая подругу со дня свадьбы, обняла её, поцеловала. Марина пригласила Нину к столу. Нина отказалась.
— Я тороплюсь, — объяснила она свой отказ. — Ждут меня в чуме.
— Одну-то чашку, — попросила Марина.
— Только одну, — согласилась Нина, села и тут же обратилась к Паш Миколаю: — Вы вчера, кажется, ездили в поселок. Нет ли мне чего?
Поглаживая бороду, улыбаясь счастливо, Паш Миколай вынул из сумки и подал Нине письмо.
— Завтра хотел ехать в твоё стойбище, — сказал он. — А ты сама…
Нина не взяла, а схватила белый четырехугольный конверт, сунула за пазуху.
— Давай, Марина — сияя от счастья, сказала она теперь подруге и задвигалась за столом нетерпеливо, словно не находила, как сесть поудобнее.
— Что же не читаешь-то? — спросил Митька. — Может, Микул что-нибудь интересное пишет?
— Я письма читаю только у себя в чуме, — коротко ответила Нина. — А теперь тем более: Иванко приехал на каникулы…
Обжигаясь и фыркая, Нина едва допила чай, тут же опрокинула чашечку кверху донышком. А ещё через минуту вскочила в нарты, взмахнула хореем и канула в белую мглу.
Дома она, лишь вбежала в чум, бросила на латы связку песцов, тут же опустилась возле костра, вся белая от снега, вынула письмо.
Бабка Ирина шила внуку пимы — подняла голову… и оставила работу — всматриваясь в невестку. Иванко старательно строгал какую-то палку — оставил свое занятие, принялся считать песцов:
— Раз… два… три… четыре… Ого!
— Не надо считать. И нельзя удивляться. Сглазишь! — едва ли не механически заметила бабка Ирина, продолжала всматриваться.
На конверте вместо обратного адреса стоял штамп — чернила расползлись от сырости — нельзя было разобрать ни слов, ни цифр. А на линейке «Кому» Нина свободно прочла по складам: «Паханзеде Нине…»
«От Микула, конечно», — решила она и разорвала конверт. А в конверте оказалась всего-навсего небольшая бумажка, да и та написана не от руки. Нина уже с тревогой прочла:
«Ваш муж Микул Паханзеда пропал без вести…»
Дальше она не стала читать, да и не могла — буквы плясали, плясала печать.
«Как пропал? Разве он олешек, а не человек?!»
На бумажку скатилась слеза. Нина отвела руку в сторону — руку обожгло: она отдернула руку, но пальцы разжались сами по себе ещё над костром… языки пламени съели бумажку, не дав ей опуститься до раскрасневшихся головешек. Нина упала на латы, и слезы хлынули — билась грудью, лицом о холодные доски, рыдая.
— Мамочка! Не надо! — со слезами кинулся к ней Иванко. — Не надо!..
Запершило в горле и у бабки Ирины: «Что-то с Микулом!»
— Что с ним, Нина?! — закричала она визгливым и хриплым старческим голосом.
— Да ничего! Ничего, — опомнилась Нина и взяла себя в руки. — Жалко письма…
— А я думала…
— Ничего, — овладела и своим голосом Нина. — Жалко письма. От отца ведь.
Погладила по голове Иванка, успокаивая, сняла малицу, поправила волосы и полными слез глазами уставилась на танцующее пламя костра. Огонь переливался всеми цветами радуги. Нина вздрагивала и мысленно переносилась туда, где теперь пылали города, сотрясалась от взрывов земля — «пропадали без вести» тысячи человеческих жизней…
«Микул… Микул Паханзеда… Неужели мы с тобой больше никогда не увидимся? Неужели и ты угас на войне, как олешек в бесконечной тундре?»
— Что-то неладное таишь, Нина, — заметила бабка Ирина вновь дрогнувшим голосом. — Неладное… Говори, что? Ведь все беды нам делить поровну.
— Ничего, бабушка, ничего, — опять вздрогнула Нина. — Я просто задумалась… Давайте-ка пить чай, — сказала уже твердо она и сама поставила стол и расставила чашки.
В горле остановились комом невыплаканные слезы. Слезы душили.
19
Несколько дней Нина не ела, не ездила осматривать капканы. Собираясь в стадо, медленно натягивала пимы, нехотя надевала малицу Микула и выходила из чума, шатаясь. И только закрывалась дверь позади, слезы навертывались так, что остановить их не было сил. Да Нина и не пыталась останавливать — пусть льются. С мокрым от слез лицом шла к собаке, отстегивала ошейник; доставала патроны, клала в чехол карабин, и упряжка уносила её в темную ночь тундры.
Стадо паслось. Олени то лежали, отдыхая, то бродили по пастбищу, лениво разгребая снег, пощипывая ягель.
Нина останавливала упряжку с подветренной стороны стада и тут же падала лицом в снег; её плечи тряслись от рыданий. Потом всю ночь лежала на партах, смотрела звезды. А когда на тундру, поднимаясь из-за горизонта, накатывались голубые волны света, вскакивала, сбрасывала малицу и умывалась колючим, режущим снегом; одевалась и гнала оленей, опережая ветер, в сторону стойбища.
Много ночей Нина падала лицом в снег, много ночей провела лицом к небу, пока не поднялся из-за горизонта и не покатился по тундре рассвет, который рано или поздно, но должен был появиться.
«Сколько ни плачь — слезами не зальешь тундру. А Микула Паханзеду не поднять из земли, — подумала Нина так, как должна была рано или поздно подумать, как думали во время войны многие овдовевшие женщины. — И жизнь не кончилась, надо жить… И Иванку хочется жить… Микул не вернется…»
С такими мыслями она возвратилась однажды в стойбище.
Бабка Ирина встретила её настороженно. Все эти дни она следила за Ниной, подозрительным ей казалось невесткино настроение — невольно сердце билось тревожно: «Что-то случилось с Микулом!» И вдруг Нина вернулась с ночи спокойная; рассказала о смешной пурге, которая лишь напугала её и стихла, о том, что скоро она должна отвезти Иванка в поселок, потому что учительница Екатерина Семеновна наказывала не запаздывать в школу. Невестка была веселая. И смеялась так, как смеются люди, у которых ничего тяжелого нет на душе. Улеглась тревога и на сердце бабки Ирины, как метели ложатся у ног после бурного ветра и буйного снегопада.
Впервые за время весенних каникул взял в руки букварь и Иванко; сидел у костра, деловито листал книжку — рассматривал картинки, читал.
А на следующий день Нина вывела на вожже четырех оленей светлой масти, на которых любил ездить Микул, запрягла в свои нарты.
— Далеко? — спросила бабка Ирина.
— Капканы проверить.
Вскоре за полозьями нарт закружилась снежная пыль — белым облаком летела упряжка по тундре.
Четыре знаменитых в Округе оленя бежали легко, и их ноги, если ничего не видеть, кроме этих ног, словно бы плясали, как пляшут струи дождя. Не нужно было подгонять их ни хореем, ни окриком — бескрайняя снежная тундра каруселью кружилась по обе стороны нарт, бежали навстречу, вырастая, холмы.
На склоне холмов показался растянувшийся синей полоской ивняк. Из-за ивняка выплыла, словно из-под снега, упряжка… остановилась на ближнем увале; олени были серые. Человек, сидевший на нартах, смотрел в сторону Нины.
Нина узнала издали Митьку Валея, подергала вожжи — олени замедлили шаг. Подумала: «Может, свернуть?..»
Ей нельзя было теперь встречаться с Митькой Валеем… Лучше было ей не встречаться.
«А впрочем, — словно бы подтолкнула её другая мысль, — кого я боюсь-то? Себя?» И Нина сжала вожжи в руках.
Но Митька был счастлив: вернулся живой с войны, его встретила молодая жена, теперь он ждал первенца…
«Назло поеду к нему», — решила Нина и стеганула головного оленя, упряжка, оставляя за собой облако снега, поднялась на увал.
Митька широко улыбнулся. Он осматривал пастбище и забрел далеко. И он узнал Нину сразу. Но в тундре обычай: увидишь чью-то упряжку, подожди, расспроси — может, нужна твоя помощь. Вот он… и подождал.
Нина бросила на снег хорей, вожжи, подошла первой к Валею и первой, как мужчина, подала руку:
— Здравствуй, Митя.
— Рад видеть, — сказал он.
А она посмотрела ему в глаза, и кровь вдруг ударила ей в щеки. И Митька смотрел на неё; и он вдруг увидел их далекое прошлое — видел, как наяву.
…Они росли в одном стойбище с Ниной. Она была шаловливой, веселой девчонкой. С виду ничего особенного не было в ней И Митька шутил с ней, смеялся, играл. А потом они выросли. Митька вдруг стал присматриваться к девушке: замечал каждое её движение, каждый жест, следил за её взглядами и перехватывал их, запоминал каждое её слово. Разговаривал о ней с травами, облаками и ветром. Искал встреч с Ниной. Но она была уже взрослой.
Как-то их отцы ловили нельму в устье Малой Вэмнекуты, Митька и Нина помогали им. Лето доживало последние дни, на пожелтевших травах серебрился по утрам первый иней. Митька лишь изредка видел Нину издали — он неводил вместе с отцами, а после каждой рыбалки, выпив наспех чаю, брал ружье и уходил охотиться на гусей, уже собиравшихся в большие стаи, чтобы лететь вслед за летом на юг.
Однажды вечером, когда солнце ещё висело над горизонтом, он увидел Нину — был так близко к ней, что мог бы взять её за руки. Многое хотел сказать ей, но у него первый раз в жизни словно бы присох язык. Так ничего он и не сказал ей тогда на берегу Вэмнекуты.
А когда возвратились в стойбище, Митька и вовсе испортился: встретив Нину на улице, отводил глаза в сторону — разучился и смотреть ей в глаза. Но стоило Нине пройти, поздоровавшись, Митька поворачивался тотчас же, смотрел вслед, любуясь, пока она не исчезала в чуме. И Митька плелся после каждой такой встречи в свой чум. Но ноги как бы сами по себе тут же выносили его вновь на улицу, хотелось хоть краешком глаза увидеть девушку ещё раз.
И лишь много дней спустя, уже на берегу Марасяды, Митька осмелился заговорить с Ниной, встретившись с ней вдали от стоянки
— Если б я умел писать, — сказал он, краснея, не зная, куда деть свои длинные руки, — я написал бы твое имя на бумаге, на сыром песке речного берега, высек бы на камне. И если б это было можно — написал бы и на воде, и на небе.
Нина улыбнулась в ответ и сказала тогда Митьке такое, что вонзилось в его сердце на многие годы больнее стального ножа.
— Может быть, ты и смог бы сделать так, Митя, но на свете есть Микул Паханзеда. Ему отдано моё сердце, — сказала она.
И Митька от обиды заплакал. Ему стало больно смотреть на небо, на землю — на весь белый свет. Нет, на его глазах не блеснула слеза — мужчины плачут молча, в себе. Он опустил голову, повернулся и потащил отяжелевшие ноги в сторону отцовского чума. А Нина догнала его и шепнула на ухо:
— Ты, Митя, очень хороший… Очень хороший…
Митька не остановился, не поднял головы — между ними стал на многие годы Микул Паханзеда.
Теперь Микул был на фронте… Как быть теперь Митьке? А Нина до сих пор не знает, наверное, что перед самым началом войны Митька назло ей, Нине, закатил свадьбу на всю Большеземельскую тундру… Как быть?
Тундра застыла задумчиво под пасмурным небом. За кои годы впервые Митька и Нина смотрели друг другу в глаза. В глазах проплывало прошлое от вечера на берегу Вэмнекуты до этой встречи на высоком увале. Тундра сжалась под пасмурным небом.
Нина первой шагнула к Валею. Митька рванулся к ней. Первый раз их руки, столько лет искавшие друг друга, сплелись. Впервые слились обжигающие от волнения губы. Нина, задыхаясь, шепнула:
— Об этом пусть знают только ветер и тундра.
…А скоро там, где только что стояли упряжки Валея и Нины, лишь серебрились тускло снежинки, гулял ветерок и поднимался вислоплечий увал под опрокинутым пасмурным небом.
20
«Проходят месяцы, годы, жизнь, Микул все равно не вернется».
В Пэ-яха-хараде Нина задержалась ненадолго: отвела в интернат к Екатерине Семеновне сына, сдала Микодиму двадцать три шкурки песца, сказала, что деньги возьмет другим разом, потому что сейчас некогда ждать — бабка осталась со стадом одна, а в тундре вновь появились изголодавшиеся за зиму и обнаглевшие к весне волки, выпила русской еды… и вновь олени светлой масти понесли её нарты к Пярцору. Русская еда, которой Микодим всегда угощал охотников, привозивших пушнину для сдачи, разгорячила её, и, наверное, оттого уплывала так быстро открытая небу равнина, под полозьями нарт приседали русла рек и речонок, приближались горы Пярцора, росли, причесывая зубчатой спиной пепельные кудри отяжелевших, мглистых облаков, а Нина не замечала ничего этого — лишь высокий увал под опрокинутым небом стоял перед её мысленным взором… она пела:
У Митьки, унесшего юности ранней мечту, пусть даже губы, как огонь, горячи, но сердце он носит в груди ледяное… Но как позабуду я в жизни своей глупым своим и упрямым умом улыбку его, что он подарил на прощанье? И снова свой окровавленный рот открыла в моей душе рана…Олени бежали широким размеренным шагом — серебристая пыль клубилась за нартами, не оседая; на оленьи рога легла полоса угасающей в щелочке неба зари — Нина пела… плакала:
«Микул не вернется».
Ещё не угасла последняя паутинка зари — на синей от вечернего неба равнине показался одинокий чум, похожий на присевшего гуся, собравшегося подпрыгнуть и полететь, Нина вытерла слезы:
«Микул всё равно не вернется».
В чуме было холодно. В очаге не было и одного живого уголька. «Бабка Ирина не возвращалась из стада», — догадалась Нина; зажгла керосиновую лампу, присела на лукошко, задумалась.
Микул не вернется в свой чум, как возвращался с охоты… Чум будет жить без Микула… А как жить?..»
И опять слезы текли. Нина думала. Потом тяжело встала с лукошка, вышла к нартам, сдернула ремни и перетащила в чум мешок с громыхающими в нем, как камни, буханками хлеба. Перенесла сахар, масло, чай, которые тоже были в мешочках и тоже стучали, как камешки.
«Микул не вернется».
И Нина почувствовала себя вдруг уставшей, разбитой.
«Отогнать своё стадо в соседнее стойбище?.. Нет! Там Митька!»
Не хотелось завязывать людям на языки узлы… Нина сложила в ларь бутылки с русской едой; одну бутылку сунула под малицу.
И опять её упряжка, уже налегке, летела по тундре — к средней вершине Пярцора, на склоне которой где-то должно пастись стадо.
Бабка Ирина, как и подобает заправскому пастуху, не спала. Заметив Нину издали, подняла на хорее совик, помахала им, а когда Нина подъехала, улыбнулась ей и спросила, не скрывая своего удивления:
— Так скоро?
— А как же! — не без гордости ответила Нина. — Коль надо.
Олени паслись.
— Значит, увезла своего русака-грамотея?
— Увезла, — улыбнулась Нина. — Екатерина Семеновна довольна — спасибо сказала: многие ученики ещё не приехали.
Бабка задумалась.
— Ну как тут без меня было, спокойно? — притронулась рукой к её локтю Нина.
— Не накликать бы беды лишним словом, — словно бы очнулась бабка и посмотрела на сплошь мутно-темное небо, окинула взглядом стадо, плывущее в сумерках.
— Ну… не было волков, авось и не будет, — сказала Нина и вытащила из-за пазухи бутылку.
— Что ты, бог с тобой, что ты? — замахала бабка руками.
Нина засмеялась смущенным, нервным смехом.
— Ничего, бабушка, всё хорошо будет. Разговор у меня есть. Давно я об этом хочу поговорить с тобой, да язык при Иванке как-то не поворачивался.
Бабка даже сгорбилась, насторожившись. А Нина вытащила из нарт маленькую фарфоровую чашечку, наполнила её до краев из бутылки и выпила залпом; бросила в рот комочек снега. Потом опять наполнила чашку, бабка опять замахала руками:
— Ювэй-ювэй! Я не буду. Не хочу!
— Одну-то?.. Ничего от одной не станется. Только согреешься.
Бабка отнекивалась, а потом взяла чашку и выпила спирт, как воду. Даже не поморщилась. Лишь на мгновение у нее остановилось дыхание. Закусила снегом, заметила:
— А и правда на морозе пьется легко.
Сидели на снегу рядышком, вытянув ноги, как умеют сидеть только женщины.
— Давно хочу сказать, — начала было Нина, потерев ладонями щеки и нос, — да трудно говорить и теперь…
Бабка хитро прищурила и без того узкие, спрятавшиеся за складками морщин подслеповатые, со слезинкой глаза, отчего их и вовсе в сумерках стало не видно, предложила вдруг:
— Выпьем ещё?
Нина повернулась к ней от удивления. А когда выпили ещё по одной, бабка потянулась довольно:
— Теперь вся согрелась. И ноги как-то помолодели — легче стали. Ну, говори, что случилось?
— Я устала, — призналась Нина расслабленно. — Все люди живут вместе, работают вместе… А мы… как волки. Даже олень гибнет, когда отобьется от стада…
— И я как-то, — призналась и бабка. — Пора нам, Нина, поближе к стойбищу, к людям…
— Да и в этом нет толку, — неторопливо оборвала её Нина. — Кочевать надоело мне, бабушка. Переедем в поселок?
— Так это… — поперхнулась на слове бабка. — Это же… Что скажет Микул? — речитативом запела она и словно бы сжалась от страха, сделалась меньше. — В поселке колхоз, а Микул…
Нина упала на колени бабки Ирины. Слезы неожиданно вновь прорвались, хлынули, она призналась сквозь слезы:
— Нет Микула, бабушка… Уже давно нет… Он пропал на войне, и даже без вести… В бумаге, которая сгорела, было написано…
Бабка замерла. В глазах у неё стало темно. Ей показалось даже, что сердце остановилось. А потом, когда увидела темную и маленькую в сгустившихся сумерках тундру, невестку, рыдавшую у неё на коленях, скрипнула зубами, столкнула невестку на снег и, вскочив, принялась трепать Нину за косы с яростью, какой Нина до сей поры не знала за бабкой.
— Как же это ты, поганая женщина, не сказала мне сразу?! — таскала она по снегу Нину, поднимала за косы и бросала на снег с силой, неизвестно откуда и появившейся.
Нина вырвалась наконец из её цепких рук, стала на ноги и, размазывая по щекам слезы, поправляя волосы под сбившимся на спину капюшоном малицы, закричала, наступая на бабку:
— А ты сказала бы при ребенке?! Сказала?!
И опять заплакала, опять упала, так и не собрав растрепанные бабкой волосы; тыкалась лицом в сухой, слежавшийся снег, загребала пальцами; обессилев, притихла, не в силах подняться.
— Дура, — сказала где-то над ней бабка Ирина. — Ну… не плачь, дурная…
Она села рядом, положила голову Нины к себе на колени, гладила по голове, успокаивая:
— Чего уж теперь… дурная… Плакать теперь надо мне, матери. Значит, я уже прожила свою жизнь, значит, пора уж и мне… к сыну… к Микулу… А тебе надо жить. Не плачь. Тебе ещё жить. Иванка надо учить…
Потом она поднялась тяжело и, тяжело ступая, пошла. Шла к оленям. Нина смотрела на сгорбившуюся и словно бы похудевшую фигуру бабки Ирины, сливающуюся с полутьмой тундры, и жалела её в эти минуты так, как ни разу, никогда не жалела свекровь.
Над тундрой висело всё то же низкое, темное небо; пахло морозом и ягелем.
Была ночь.
21
Нина твердо решила переехать в посёлок. Но куда своё оленье стадо девать, пока не знала. И Митька…
Она не хотела встречаться с ним — мешать чужому счастью. Но каждый раз, когда отправлялась в тундру осматривать капканы, упряжка Валея то здесь, то там вырастала у неё на пути, как из-под снега… и Нина не могла свернуть в сторону, в чём бы она накануне ни клялась. Потом Митька и Нина долго стояли под высоким небом тундры — им было хорошо. Хорошо оттого, что с неба падали освежающие прохладой снежинки. Оттого, что так велика была тундра и, сколько видел глаз, вокруг никого не было… Только жаль было каждый раз расставаться.
Не хотела встречаться с Митькой. Но… стоило ему выехать в тундру, олени словно бы сами по себе поворачивали к Сыра Хою, где ставила Нина капканы.
Хорошо ему было с Ниной. Только день был короток — Митька возвращался в стойбище поздно.
И все замечали в стойбище, что Митька полюбил в эту зиму охоту. Правда, патроны в его патронташе чаще оставались нетронутыми — охотился Митька пулей, он не терпел капканов, не выносил возни с ними. Но и песца не привозил в чум.
Видя неудачи мужа, Марина жалела его. Она знала, что Митька ездил далеко. Но когда он возвращался поздно и ложился, позабыв приласкать жену, Марине становилось обидно. Да что поделаешь? Человек устает…
В один из дней с Митькой стряслось непонятное что-то: вернулся с охоты злой, песца, как всегда, не привез — стрелял в трех, пули стороной пошли. На вопросы отвечал раздраженно. Марина видела Митьку таким первый раз.
— Что с тобой, Митя? — спросила она.
В ответ Митька схватил её за косу, повалил на латы и начал трепать.
— За что, Митенька?! Милый, за что?! Что с тобой?.. — заголосила Марина.
— Молчи, негодная! Растоптала все мои вещи, и удачи у меня теперь нет!
Марина замолкла: женщина всегда виновата… лучше молчать. Митька выпустил её косы, покорность жены обезоруживала его и прежде. Но на всякий случай прикрикнул:
— Приготовь сейчас же нибитензь![79]
Марина притащила торат — высушенный кусок оленьей прямой кишки, лоскут бобровой шкурки, несколько кристалликов ладана и всё это положила на сковородку. Насыпала в сковородку сухих древесных углей, оживила их, и чум наполнился непонятным, но приятным ароматом. Вскоре угли и ладан начали потрескивать, а торат стал щелкать, как кипящий жир.
— Готово, — сказала Марина и бесшумно удалилась на другую половину чума.
Митька вскочил и, нашептывая «кав-кав-кав, кав-кав-кав», перешагнул через сковородку с нибитензем трижды и каждый раз при этом поворачивался через левое плечо.
— Не смей больше перешагивать через мои вещи, поганая женщина, — погрозил он кулаком жене, закончив ритуал снятия грехов и погани со своих вещей.
Марина молчала. Что скажешь мужчине? Она была занята своими делами и на Митьку не смотрела.
— Убери! — раздраженно крикнул он, опустившись на постель, подвернув под себя ноги.
Марина вынесла сковороду из чума, внесла два мороженых сига и положила на стол.
— Ты что, нечищеной рыбой теперь меня будешь кормить?! — вспылил вновь Митька.
Марина виновато посмотрела на него.
— Я же не говорю — ешь…
Она взяла обе рыбины, подержала над пламенем. Сиги заслезились; жир капал в костер, запахло рыбой. Сняв кожу с рыбин, Марина положила их на стол. Митька улыбнулся. Но и за ужином, и весь вечер потом молчал. А когда наступило время ложиться спать, он всё так же молча лег и повернулся к жене спиной. Марина хотела погладить Митьку по голове, но он отбросил её руку. И опять ничего не сказал. Сердце у Марины сжалось. Она не могла понять, что случилось, А Митька за всю ночь так и не повернулся к ней. И ночь для Марины была холодной и долгой.
Утром поднялись поздно — когда небо через дымоход уже ввалилось в чум. Митька за ночь как бы оттаял, но говорил мало, и как Марина ни старалась заглянуть ему в глаза, не смогла — он отводил глаза в сторону.
А после завтрака, когда пригнали в стойбище стадо, Митька поймал четырех оленей, которых запрягал на празднества, и улетел в тундру. Уехал охотиться, как повелось у него за последнее время. Но на этот раз его отъезд встревожил почему-то Марину. Да Митька, однако, мужчина: что хочет, то и делает. Ему перечить нельзя.
22
Весна ударила круто. На море лёд лишь начал темнеть, а у поселка Пэ-яха-харад, на реке, уже почернел основательно, появились огромные забереги.
Нина Паханзеда успела перевести свои аргиши через реку, поставила чум у поселка. А стойбище вместе с Паш Миколаем и Митькой Валеем осталось на тундровом берегу. Люди стойбища пасли оленей, мастерили полозья для нарт, шили легкие тобоки, чинили летние малицы, паницы, совики — не сидели без дела, ждали, когда река вскроется и пройдет ледоход. И лед тронулся. Река вспухла, вышла из берегов, через два дня стойбище переправилось по чистой воде на плотах и лодках в поселок, оставив оленье стадо на заречных пастбищах.
…Марина проснулась рано, словно кто-то её подтолкнул. Половина постели рядом с ней была уже холодной — она и не заметила, когда Митька ушел, в сердце почему-то повеяло холодом.
Неприятно скрипнула под напором руки деревянная дверь, прохладный, пахнущий росой ветер упруго ударил в грудь. Марина вдохнула полной грудью прохладу раннего утра и, сама не зная почему, пошла к берегу реки.
У воды скакали по гальке какие-то птички. Взгляд Марины скользнул по увалам, синеющим вдали, — она искала глазами стадо, которое сейчас должен был угонять в тундру Митька.
Солнце взошло давно над тундрой, но люди в поселке Пэ-яха-харад ещё спали. Дремали собаки. Шумело лишь море где-то за мысом Паханзеда, предвещая шторм; по безоблачному небу со стороны устья реки плыли медленно лебеди, неестественно белые, важные.
Взгляд Марины нащупал вдруг на тундровом берегу что-то живое. От песчаного берега как бы оторвалась черная палочка и поплыла к середине реки. Марина пристально следила за палочкой, подплывающей, увеличивающейся: «Может, Митька возвращается?»
Палочка выросла в лодку. «Наверное, Митька что-нибудь забыл».
Лодка уже перешла середину реки, видны уже были весла и раскачивающаяся фигура гребца. Сидевший за веслами оглянулся. Это была женщина. Марина даже плечи подняла от удивления: «Кто же это? Кого из женщин поселка занесло на тот берег ночью?»
С тундрового берега возвращалась в поселок Нина Паханзеда. И когда лодка ткнулась длинным носом в прибрежные камни, Марина побежала под кряж, к Нине, спросила:
— Где же это ты была? А я смотрю и никак не пойму, кто за веслами. Сразу и не подумала, что это ты.
Говорила спокойно, а под сердцем щекотала тревога: «Не Митькины ли следы повели её на тот берег?»
Нина вытащила лодку до половины на берег, воткнула в хрустящую под ногами гальку лапы якоря и, разогнувшись, посмотрела Марине в глаза. Она знала, почему Марине не спится…
— В нартах, за рекой, позабыла нерпичьи шкуры. За ними ездила. Скоро ведь на рыбалку, — сказала Нина спокойно, достала из лодки и показала связку шкур.
— А Митьку ты там не видела? — вдруг спросила Марина.
Взгляд Нины упал невольно на землю, щеки её загорелись.
— Видела правее наших вещевых нарт: он гнал оленей. Близко я его не видела…
— Наверное, ушел в тундру, к оленеводам, — подумала вслух Марина.
— Когда всё стойбище переправилось в поселок, я и не думала, что меня назначат к рыбакам. Видишь, назначили, — сказала Нина, волнуясь. — Вот и нужны теперь пимы-бродни. — Подумала о чём-то и спросила: — А ты не слыхала, когда на рыбалку тронемся?
— Говорят, третьего дня.
— Значит, я успею сшить пимы-бродни, — решила Нина и ушла.
А Марина ещё долго стояла на берегу в одиночестве, смотрела за реку, поглядывала на поселок, сгрудившийся домами и чумами высоко над водой, тревожно думала.
23
Справа виднеются подернутые дымкой сопки, называющиеся с незапамятных времен Константиновым Камнем, слева — упирающееся, в небо море. А если стать лицом к сопкам, то по правую руку раскинется большое, как половина неба, озеро (каждый год в начале августа слетаются к нему на линьку едва ли не все лебеди тундры; осенью они, блистая новым опереньем, взмывают в поднебесье и растворяются в синеве густого воздуха), по левую руку поднимаются у самого горизонта причудливые от марева дома поселка Пэ-яха-харад.
Когда ветер дует с полудня, воздух в этом месте пропитывается по-северному скудным запахом цветов; когда он дует с полуночи — пахнет морем.
Этот день на клочке Большеземельской тундры, ограниченном берегами озера, моря, реки и сопками Константинова Камня, выдался на редкость тихим и теплым. Но несмотря на безветрие, на пологий песчаный берег тяжело накатывались волны прибоя. Над морем метались чайки, сшивая белыми нитями голубое небо полярного лета с зеленовато-синим морем.
Недалеко от берега стояли рядами только что забитые на мелководье колья, вспыхивали то и дело; между ними сновали, поднимаясь и опускаясь на волнах, лодки — рыбаки заводили сети: скоро пойдет королева Севера сёмга, и море от рыбьих спин станет синим. На побережье спешно съехались с печорских сел добытчики-рыбаки, приехали впервые и рыбаки-оленеводы, объединившие се свои артели в один колхоз, решившие освоить новую отрасль — рыбодобычу.
Колхозники съехались со всех стойбищ Большеземельской тундры. Ожидая, когда пойдет семга, они собрались все вместе, чтобы дать название своему новому укрупненному колхозу. Заспорили. Долго спорили, предлагая каждый своё. Спорили до хрипоты. Появились и такие, кто заявил: если колхозу не дадут названия, предлагаемого ими, они немедленно выходят из колхоза.
И тут вдруг председательствующий на собрании Енгэй Микит крикнул:
— Товарищи колхозники, у меня есть слово! — А когда все смолкли, сказал: — От единоличницы Паханзеды заявление поступило…
Кто-то негромко хихикнул.
— Читать? — спросил Микит.
— Читай! Читай! — поддержали его несколько голосов.
И Микит прочел:
— «Я, Паханзеда Нина, жена единоличника Микула, сама тоже единоличница, много лет тундрами хожу.
Устала. Хочу к людям. Запишите меня в колхоз, сына моего Иванка и бабку Ирину тоже. Все мы устали кочевать одним своим чумом. Надо в колхоз. Нина Паханзеда».
— Как вы на это смотрите, товарищи колхозники? — снова спросил Микит.
— Принять! Конечно, надо принять! — прокричали с разных мест собравшиеся, сидевшие кто на чем у моря, откинувшие под солнцем капюшоны малиц на спину.
Поднялась над головами рука.
— Что вы скажете, товарищ Лаптандер? — спросил Енгэй Микит поднявшего руку.
Встал бывший батрак богача Ноготысого Яким Лаптандер, посмотрел близоруко на президиум, окинул изучающе взглядом колхозников и лишь после этого заговорил:
— Мой ум так ходит: почему Нина Паханзеда столько долго не шла в колхоз?.. Пусть-ка она сама расскажет об этом. Тогда и будем с ней разговаривать.
Тут же раздались недовольные голоса:
— Если человек подает заявление, значит, он решил!
— Надо принимать Паханзеду!
И снова поднялся с облысевшего за годы странствий по морю плавника Яким Лаптандер.
— Мое сердце ничего против Нины Паханзеды не имеет, — сказал он, сердито набычившись. — Но пусть-ка она при всех своим языком скажет, почему так долго в колхоз не шла…
Утирая уголком платка глаза, встала и Нина.
— Я всё это время ждала Микула, — сказала она и словно бы захлебнулась. — Но если он теперь… Он пропал без вести…
— Как без вести? Как это пропал?..
Нина пересилила слезы, объяснила:
— Я хотела вступать в колхоз давно, но всё ждала Микула. Мои уши и сейчас его слова слышат: «Будет трудно — вступай в колхоз». Правда, я не очень… Мне было не совсем трудно. И не ради этого я хочу в колхоз. С людьми веселее, и солнце светлее. Вот ты, Яким, — повернулась она к Лаптандеру. — Сейчас ты человеком стал. Тебя люди стали слушать. А когда работал у Ноготысого?.. Никто тебя не слушал. Спал ты у самой двери чума, где собаки в пургу обычно ложатся…
— Ну и что? — набычился больше прежнего бывший батрак.
— Не будем спорить! — остановил Якима Микит. — Говори дальше, Нина.
— А теперь на собрании люди тебя слушают, Яким, — продолжала Нина. — Плохо разве это? Я тоже со всеми хочу работать. Вот и хочу в колхоз…
Люди молча поглядывали друг на друга и на Нину.
— Ну как вы думаете, товарищи? Принять? — громко спросил сразу всех Микит.
— Конечно, принять! — почти хором закричали колхозники.
— Других слов не будет! — послышался голос Якима. — Надо принять!
— Тогда прошу тех, — поднял руку Микит, — кто за то, чтобы принять в наш колхоз Нину Паханзеду и членов её семьи, поднять руки.
Нина оглянулась: все подняли руки, кроме неё, и она, растерявшись, подняла руку…
А потом колхозники вновь махали руками, вскакивали со своих мест и кричали, спорили, выбирая имя колхозу. Но Нина слышала и видела всё это словно во сне. Потом поднялся молчавший до сих пор Паш Миколай, попросил помолчать всех.
— Язык у меня что-то зачесался. Слова просит.
— Говори, дедушка, говори! — раздались едва ли не со всех сторон собрания добрые голоса.
И старик сказал, положив сухую жилистую руку, почерневшую от времени, на жиденькую белую бороденку:
— Мой ум так говорит: нового названия нашему колхозу не надо. Люди от рождения ходят с одним именем. И пусть наш колхоз всю жизнь носит первое имя — «Тет яха мал». Разве плохое название — «Истоки четырех рек»? Мой ум так велит: пусть наш колхоз всю жизнь называется «Тет яха мал».
Старик сел. И укрупненный колхоз оставил за собой свое прежнее имя. И никого это не обидело. Ведь «Тет яха мал» пусть даже малую, но уже имеет свою историю. И пусти он растет, как человек.
Артельная жизнь, особенно для ненцев-бедняков, не была новостью. Ненцы всегда жили артельно. Собирались несколько семей вместе — пасли оленей, ловили рыбу, песца. Ненцы всегда помогали друг другу. У нашей земли закон: человек попал в беду — помоги!..
24
Уже несколько дней жила бригада Митьки Валея на берегу сердитого Баренцева моря, в избушке с дерновой крышей. И Нина была в этой бригаде; с трудом скрывала свою радость — наконец-то и она среди людей: не надо теперь разговаривать вслух с ветром, с тундрой — рядом люди. И Митька среди них. Правда, здесь была и Марина. Она хотя и не знала ничего, но Нина не могла смотреть ей в глаза, старалась не оставаться с ней наедине. Нина боялась, что мужики уйдут в море и оставят её в избушке с Мариной. Но перед самым уходом старый Гриш Вылка вдруг предложил:
— Бригадир, давай возьмем и Паханзеду с собой. Обед будет готовить, тобоки чинить.
Митька ответил не сразу — видно было: о чём-то мучительно думал, — согласился:
— Ладно. Чего им вдвоем делать здесь.
Нина уловила настроение Митьки по голосу: он был доволен, но и после этого не посмотрела в его сторону, чтоб не выдать себя.
И вот уже сдана первая рыба, получены немалые деньги. Но начался отлив, вода на море убывала — обнажились мели: по устью Нюмдя Вэвы теперь и на порожней лодке нельзя было проскочить. И к базовой избушке нельзя было не вернуться: рыбаки выбивались из сил, им надо было отдохнуть по-человечески — впереди было ещё много дел.
— Да-а, видно по всему, придется ждать следующей большой воды. Долговато, конечно, — посмотрел на своих рыбаков Митька. — Да и ночью нам, наверное, не удастся потрясти. Как вы думаете? Будем трясти?!
Все молчали, глядя на Митьку: бригадир сам должен во всем разобраться. Лишь старый рыбак дед Ненянг заметил:
— Ты, Митька, на корме нашей лодки сидишь… В пору подхода рыбы нехорошо пропускать воду. Бывает, и одна вода рыбака кормит. Рыба-то по-настоящему ещё не пошла, сам знаешь. А ты, Митька, на корме нашей лодки сидишь — вожжи наши в твоих руках.
Митька улыбнулся. По его лицу то ли от смущения, то ли от удовольствия, как по озерной глади, потревоженной легкий ветром, прошлась еле уловимая волна радости. И вожак рыбаков не замедлил с решением:
— Ты, Гриш, останешься воду пасти, а мы по коренному берегу пойдем пешком к избушке. Отдохнем и вернемся. Ты потом отдохнешь. А если что, сам знаешь.
Слова бригадира — закон. Гриш Вылка остался караулить подход воды.
Выпив на дорогу по стакану разведенного спирта, рыбаки направились по коренному берегу к своему стану. Захмелевший Митька не замечал уколов комаров и ожогов мошкары. Он, как молодой лось, отмерял пружинистыми шагами берег. Лишь вспомнив про Нину, замедлял шаг. От Нюмдя Вэвы до Таб-яры была пройдена уже половина пути. Митька ушел далеко вперед и потому остановился, развел костер, поджидая отставших.
Когда подошла бригада, костер уже весело потрескивал. На тряпице, разложенной у огня, поблескивала бутылка спирта и пахли аппетитно омули, испеченные на углях.
— Вот это бригадир! — не то осудил, не то похвалил Митьку дед Ненянг и, погладив редкую, словно покрытую инеем, бороду, сел в стороне.
Остальные рыбаки подсели к Митьке, принялись выкладывать кто хлеб, кто рыбу, а кое-кто выставил и свой спирт. Не было только кружки. И потому бутылка запрыгала из рук в руки — пили из горлышка. Когда очередь дошла до Нины, язык у Митьки уже развязался.
— Пей, Нина, пей! — подбадривал он, махая руками. — Поработали мы неплохо. Можем немножко и отдохнуть. Правильно я говорю?
Нина кивнула, улыбнулась неловко и, запрокинув голову, вылила в рот остатки спирта. Огненный ком, обжигая горло, покатился внутрь. Глаза наполнились слезой, перехватило дыхание. «Зимой хоть снегом можно охладиться», — подумала Нина, растерянно глядя на рыбаков. И тут Митька вспомнил о фляжке с чаем. Он ловко открутил алюминиевую пробку и протянул Нине флягу. Нина прикрыла глаза и жадно глотнула.
Дед Ненянг предложил выпить ещё.
— Кровь у меня плохая — не греет, — объяснил он свое желание.
— Пей, дед, пей — ты заслужил, — поддержал Митька деда и подмигнул Нине: вот, мол, я какой, и подал старику бутылку.
Спирт разморил усталых рыбаков. Они забыли о том, что должны вернуться до прилива к морю и осмотреть сети. Даже всегда молчаливый Микит сейчас говорил много и всё о фронте и машинах, которые после войны будут работать в колхозах. Дед Ненянг рассказывал молодым рыбакам смешные случаи из своей охотничьей жизни, о хитрых проделках шамана Вэнги. Говорил старик с грустью, а подвыпившие рыбаки хохотали, подталкивая локтями друг друга.
За разговорами люди не заметили, как пролетел полярный день, усталость и спирт сморили рыбаков — приткнувшись кто где, они уснули. Среди спящих не было лишь Митьки и Нины.
Ночное полярное солнце светило ослепительно, зависнув над горизонтом, подбитым морской волной.
25
Иванко шел по-прежнему впереди бабки Ирины, закинув за спину серебристые тобоки из нерпичьей шкуры. Ему было приятно шлепать босиком по отмелям, обнаженным отливом. Из луж улыбалось ему солнышко — протяни руку, достанешь до него, — Иванко шел по солнцу, по синему небу и белым облакам. Ему было жалко, что от его ног, когда он ступал, небо ломалось. Зато идти босиком по лужам было приятно и даже весело: то вдруг затрепещет в луже рядом с ногой отставший от воды омуль, то забьется неожиданно под самой ступней зарывшаяся в мокрый песок камбала. А бывает, на отмелях остаются и крупные семги. Но теперь, к сожалению, ни Иванку, ни бабушке не попадалась королева морских рыб.
Иванко и бабушка торопились: скоро начнется прилив, а впереди ещё речка Седая, которую надо перейти до прилива. А эта речка капризная. Поэтому Иванко и бабушка шли быстро — бабушка ступала осторожно, а Иванко нарочно шлепал ногами так, что брызги летели во все стороны. Правда, он недолго шалил — дорога даёт о себе знать: скоро ноги от быстрой ходьбы словно не свои сделались. Но Иванко спешил и. до самой Седой шел впереди бабушки. Возле речки бабушка остановила его:
— Погоди, Иванко: я проведаю брод — здесь не везде мелко. — Оставила внука на берегу и полезла в воду, выстукивая дно впереди себя палкой, как слепая.
Иванко присел на корточки, смотрел в сторону моря, где, словно белухи, резвились волны.
— Бабушка, а бабушка, почему волны белые — ветра-то нет? — поинтересовался Иванко.
— Это вода спешит к берегу. Значит, начался прилив, — отозвалась бабушка и, подтянув тобоки выше коленей, пошла дальше.
Иванко молча кивнул и задумался. А потом наблюдал за бабушкой. Она казалась смешной ему: ступала медленно и перед каждым шагом тыкала в воду палкой.
— Ха-ха-ха! Мелко же! — крикнул Иванко и побежал к бабушке.
Но не успел сделать и трех шагов, ахнул от ужаса: бабушка провалилась — исчезла. Сердце заколотилось так, что было слышно, как оно бьется. Иванко хотел крикнуть — и не смог, хотя и кричать было некому: там, где только что была бабушка, теперь была лишь вода, а вокруг, сколько глаз видел, никого не было; в воду хотел полезть — побоялся.
Бабушка всплыла на спине, и течение понесло её, как бревно. А она лишь изредка махала палкой, пытаясь повернуться, и не могла. Иванко побежал по берегу, догоняя бабушку: плакал, кричал:
— Бабушка, бабушка!..
Старуха тоже кричала в испуге, отплевываясь:
— Вот беда! Вот беда! Ювэй! Ювэй! Япов-япов!..
А потом она неожиданно встала на ноги и повернулась к внуку:
— Вот видишь, какая здесь речка. Видно, льды размыли дно. Вот где, оказывается, надо переходить-то. Пойдем, внучек.
Не веря своим глазам, Иванко смотрел удивленно на спокойную бабушку, продолжая всхлипывать.
А потом, до ниточки мокрая, бабушка шла впереди, по-прежнему тыкала воду палкой, Иванко шел следом и больше не смеялся над бабушкой.
На берегу старуха отжала одежду, поругала речку, воду, дорогу, села передохнуть.
— Теперь уже такой речки не будет у нас на пути, — объяснила она внуку. — Нюмдя Вэву мы перейдем на лодке: там люди. И Нина там.
— Пить хочу, — сказал Иванко.
Бабушка Ирина вытащила из рукава мокрой паницы бутылку с водой, подала внуку:
— Твоё счастье, что бутылку не унесло водой в море. Пей!
Иванко жадно отхлебнул несколько глотков, отдышался и попросил поесть.
— А вот поесть что, Иванко мой, наверное, не найдем. Хлеб размок, рыба раскрошилась. Вроде нечего и в рот положить…
Бабка развернула платок, осторожно сняла раскисшую от воды бумагу.
И всё же Иванко поел горькую от морской воды вареную рыбу и жидкий хлеб с привкусом ила, запил из бутылки.
Передохнули, пошли дальше. Шли неторопливо — по глинистой извилистой тропе, в сторону Нюмдя Вэвы. Теперь бабка Ирина шла босиком, с узелком за плечами, а Иванко вышагивал рядом с ней в теплых нерпичьих тобоках.
Вода уже прибыла. Море плескалось у самых ног. Легкий ветерок, казалось, дул со всех сторон. Пахло торфом, морем, ягелем и цветами…
26
Марина знала: если рыбаки сдадут улов, они не будут ждать нового прилива — вернутся в домик отдохнуть. Но вот ушел и очередной прилив, а их всё не было. Еду, приготовленную к приезду бригады, она аккуратно разложила на длинном столе и легла на узкую скамью отдохнуть. Но сон не шел: Марина знала и капризы Нюмдя Вэвы…
Залаяли собаки. Марина вскочила со скамейки, шагнула к двери и столкнулась лицом к лицу с Гришем.
— Приехали? — спросила она радостно.
Гриш недоуменно пожал плечами:
— Приехал…
— Один?
— Один… А разве их ещё нет?
— Нет…
Гриш задумался:
— Они ушли пешком по коренному берегу ещё вчера вечером… До сих пор не было?
— Нет.
— С Митькой раньше такого не бывало, — сказал Гриш и шагнул через порог. — Может, что случилось?
— Они же идут по сухой земле. Земля — не море! — испуганно посмотрела в озабоченное лицо Гриша Марина.
Гриш попытался было улыбнуться, но улыбки у него не получилось. Переобувая мокрые пимы, Гриш предложил:
— Может, ничего и не случилось… Я пойду им навстречу.
Опять залаяли собаки.
— Они? — обрадовался Гриш.
Марина метнулась к маленькому окну — узнала двоих.
— Они? — спросил Гриш.
— Гости нашей Нины — Иванко и бабка Ирина.
А потом распахнулась дверь, и первым, улыбаясь, вкатился в избу Иванко, за ним переступила порог бабка Ирина.
— О-о! Хохо-о!.. — вздохнула старуха. — Здравствуйте.
— Здорово! — ответил Гриш.
— Проходите к столу, — предложила Марина. — Рыбки поешьте, чайку попейте. А наших нет до сих пор. Вы их там не видели?
— Нет, — отозвался Иванко.
— Не видели, — подтвердила и бабка. — Мы-то по отмели шли. Ещё в тот отлив речку перешли. Разве нашими с Иванко ногами по мягкой земле ходить? Мы и так устали. А они как?
— По коренному берегу, должно быть, пошли, — задумчиво, почти самому себе ответил Гриш.
Марина сказала:
— Бабушка, вы-то теперь до жилья добрались. Будьте хозяевами, а мы с ним наших поищем…
Гриш и Марина оделись поспешно и вышли.
Была ночь. Но солнце, так и не черпнув океанской волны, уже начало подниматься. Гриш прислушался: по шелестящему, скоро гаснущему шуму волн, накатывающихся на берег, понял, что отлив уже начался.
— Опять мы опоздали, — тяжело вздохнул он. — Уже две воды прошло, а сети не просматривались. Плохо.
Марине сделалось обидно за своего мужа, и она отвела глаза в сторону. Гриш обогнал её — шел впереди. Марина виновато плелась сзади.
Еле заметная, заросшая травой тропинка бежала по коренному берегу моря в сторону Нюмдя Вэвы. Вода в море спала. По обнаженному мокрому песку на отмелях бродили зябко босоногие чайки. Сидящих на земле чаек не было. А это значило, что погода будет хорошая и в дневную воду можно будет потрясти сети — чайки обещали солнце.
Марина и Гриш перебрели речку, прошли небольшой мысок и подошли к низине, окаймляющей приливное озеро. Марина вдруг увидела под кряжем на траве что-то темное и радостно закричала:
— Человек! Кажется, человек.
Гриш пошарил глазами по ровной поляне, простирающейся под излукой коренного берега, взгляд его остановился,
— Да, люди, — почему-то без особой радости сказал он.
Марина побежала вниз, под кряж. Теперь Гриш шагал за ней. Марина подбежала к распластавшимся как попало на земле людям и вдруг растерянно застыла. Подошел и Гриш. И тоже словно окаменел:
— Спят?
— Кажется, — шепнула Марина и кашлянула в кулак.
Первым зашевелился Микит; поднял с трудом взлохмаченную голову; бессмысленно смотрел на Марину и Гриша… Среди спящих не было лишь Митьки и Нины.
— Где Митька? — присев, встряхнула Микита Марина.
Не понимая, о чём его спрашивают, Микит промычал:
— Какой Митька?
— Бригадир ваш! Мой муж! Муж! Понимаешь?
Микит оглядел товарищей, лежавших вокруг, кому где приголубилось, и пересохшим голосом объяснил:
— Не знаю, все были здесь…
На шум голосов поднимались, словно двухпудовые гири, головы и других рыбаков, открывались опухшие от перепоя глаза. Марина круто повернулась, не в силах удержать набегавшие слезы, и пошла к морю: она не хотела, чтобы её минутную слабость видели рыбаки.
Поднятые ветром, над мутно-синими у берега волнами вились белые чайки. Под косыми лучами восходящего солнца горели в морской дали золотые зубцы шестака — ряды кольев, поддерживающих сети.
На кольях в ожидании добычи ютились белыми поплавками дремлющие чайки. На каждом колышке чайка. А это значило: рыбы немало. Но рыба не выбрана из сетей.
«И браку будет немало», — подумала невольно Марина как бы механически, потому что её голову сверлила в эти минуты лишь одна неотступная мысль: «Где Митька?.. А Нина?»
Марина сделала несколько шагов к ближнему валуну — хотела присесть… и обмерла. В расщелине коренного берега лежала спящая Нина. Ветер играл её ситцевым платьем, оголив крутые сильные бедра. Рядом с Ниной, улыбаясь во сне, лежал Митька. Он тоже спал… Марина окаменела; не знала, что делать. Хотела закричать — пристыдить! — не было голоса. Заплакать — зареветь от обиды и боли в душе! — исчезли слезы. И вдруг, не сознавая того, что она делает, Марина подбежала к Митьке, ударила по щеке, растормошила Нину, плюнула ей в лицо и, дико захохотав, побежала; бежала вопя:
— Я думала, несчастье с ним!
Встревоженные движением на берегу и дикими воплями, застонали, заплакали чайки, взмыв в небо.
27
Марина с трудом подняла голову. Колючая боль в плече не проходила. В комнате всё было белое — стены, кровати, окна, двери, точно только что прошла метель через комнату; по телу легкой дрожью скользнул ветерок. Марина прислушалась: в коридоре послышались чьи-то шаги. Она знала, что скоро к ней войдет низкорослый горбатый русский старичок и его длинный белый халат будет опять волочиться по полу, словно хвост. Старик откроет дверь осторожно, бесшумно переступит порог и спросит с улыбкой:
— А сегодня Марина каково живёт?
Марина ответит:
— Хорошо. Я живу хорошо…
И опять не признается старичку в том, как её душу гложут печаль и тоска. Не хочется ей расстраивать этого доброго человека.
Затем русский снимет осторожно бинт, насыплет на рану белого как снег порошка, снова забинтует плечо, погладит Марину ладошкой по черным как ночь волосам и бесшумно исчезнет за дверью. И Марина опять останется одна в комнате.
Марина посмотрела на окно, и вдруг в её ушах зарокотал прибой, как рокотал всегда теперь, стоило повернуть ей голову в сторону окна, — поднялись над горизонтом синие плечи Константинова Камня. На позолоченных солнцем зубцах шестаков закачались белые чайки: везде были чайки. А совсем рядом, в расщелине, ветерок играл легким платьем Нины. Митька и во сне улыбался…
Марина помнила, как её руки потянулись к висевшему на ржавых гвоздях карабину. Выстрела она не запомнила: лишь плечо обожгло — толкнуло в плечо… сделалось больно. И ничего она больше не помнила до той минуты, когда очнулась в палате.
Медленно приоткрылась дверь. Вошел добрый русский старик. Он, как всегда, улыбнулся и, оглянувшись на дверь, предложил:
— Заходите.
Вошла Нина. Марина вздрогнула. И вновь словно толкнуло в плечо, обожгло… в глазах помутилось.
«Что ей здесь нужно? — подумала Марина, точно во сне. — Чего она ещё ждет? Чего хочет?..»
— Убедилась? — спросил старичок.
И, словно бы стыдясь своего появления, своего голоса, Нина лишь прошептала:
— Хорошо, что жива. Ей жить надо…
Ещё что-то хотела сказать, но зашмыгала носом, вышла за дверь.
Как во сне, Марина слышала её легкий, крадущийся шаг в коридоре…
А потом вновь потекли дни, похожие один на другой. Потом за окном полетели снежинки. Потом русский старичок привел в больничную комнату Марины Гриша и Митьку. Пока Марина раздумывала, каким бы словом прогнать из комнаты неверного мужа, доктор бесшумно вынырнул из-за спины ненцев-мужчин, спросил и печально и ласково:
— А как сегодня поживает Марина?
И печаль в его голосе словно ветром сдула Маринину злость. Она даже улыбнулась неожиданно для себя, ответила:
— Коли не грех, хорошо.
И насторожилась. Мужчины переглянулись молча. Гриш издали протянул ей руку; незаметно очутился рядом.
— Здорово, Марина. Когда танцевать будем? — сказал он и улыбнулся.
И он улыбался печально.
Митька покраснел, нерешительно потоптался на месте; покосился на доктора и тоже подался вперед, сказал тихо:
— Здравствуй…
И он не мог скрыть печали в глазах.
— Здорово, здорово! — ответила Марина ему. — Рассказывай, как рыба в это лето попала?.. Как новая жена?
Глядя под ноги, Митька выдавил еле слышно:
— Рыба рыбой. А о ней… Можешь как хочешь думать о ней. Теперь это ничего не изменит… После перелётов не все птицы возвращаются в свои гнездовья…
В комнате сделалось тихо, молчали доктор и Гриш, запнулся на слове и Митька.
Марина смотрела на всех, а видела только Митьку — и ненавидела и почему-то жалела его.
— Давно ли язык твой научился запинаться? — спросила она. — Говори по-человечески, яснее!
Митька молчал; у его глаз задергались жилки, лицо побледнело.
— Нет Паханзеды, — сказал он и опять споткнулся на слове.
Марина облокотилась на подушку, подняла голову.
— Микул на войне, — сказала она, — На фронте. Там певучая пуля не разбирает, в кого бьет. Для неё равны и генерал, и солдат, ты рассказывал. А ты, Митька, в глубоком тылу…
— Рыбаки не вернулись, — сказал он угрюмо.
Доктор шикнул и приставил палец к губам. Но было поздно.
— Какие рыбаки? — спросила Марина и села в постели.
— После, после, больная, — сказал строго доктор. — А вот товарищам уже пора…
Обняв Митьку и Гриша, доктор выпроводил их из палаты. Когда вернулся, Марина упрямо сказала:
— Доктор, о каких рыбаках хотел сказать муж? Бригадир….
И старый доктор вынужден был рассказать Марине о том, как две недели назад буря перевернула в море рыбацкую лодку. Шквал был настолько сильным и неожиданным, что никто из рыбаков не успел воспользоваться даже спасательным поясом. Пока подходили баркасы соседей на помощь, десять человек исчезли в ледяной воде. Чудом спасли Гриша и Митьку. А через два часа подобрали закоченевшую Нину Паханзеду: она держалась за весло. Она умерла по дороге в больницу.
Отвернувшись к окну, Марина тихо заплакала.
ЭПИЛОГ
И вроде бы Нина ничего такого не сделала для людей, что может врезаться в память. Жила обыкновенной человеческой жизнью. После того, как Микул уехал на фронт, все хлопоты по хозяйству взвалила на свои хрупкие женские плечи: воспитывала сына, недавно вступила в колхоз. Работала она, правда, и в своём хозяйстве и в колхозном не так, как работает женщина в тундре: делала всё, что делают обычно мужчины, — трудилась рядом вровень с мужчинами. И всё равно она при жизни не слышала о себе ни от кого доброго слова. А в минувшую осень по тонкому снегу проводили её в последний путь все до одного жители поселка Пэ-яха-харад. Возможно, это было именно то, о чем мечтала Нина всю свою недолгую жизнь, — признание и уважение людей. Жаль только, что Нина раньше не знала, как её уважают в поселке. Жаль, что люди ещё не научились при жизни быть щедрыми друг к другу.
Иванко тяжело переживал смерть матери: стал молчаливым, избегал встреч с товарищами. А тут ещё вскоре бабушка сломала ногу, и её увезли в дом инвалидов. Где находится этот дом, Иванко не знал. Слышал, что в Оксине. Далеко ли, близко ли до Оксина, Иванко не мог и представить себе. Ведь кроме своего поселка да тундры, он нигде не бывал. Своим домом Иванко считал теперь интернат.
Зима после грустной осени пришла не из легких. Во время осенних штормов пробилось к ненецкому берегу только одно судно с продуктами. Остальные то ли исчезли в море, то ли вернулись в Нарьян-Мар или Архангельск — никто не знал, где они. А потому всё ненецкое побережье зимовало почти без продовольствия. Люди жили в тундре тем, что добывали сами.
Зиму Иванко провел в интернате.
Потом пришла весна. Люди радовались, целовали друг друга, смеялись и кричали:
— Ура! Война кончилась!.. Кончилась война!
Иванку хотя и некого было ждать, но он тоже радовался со всеми людьми: война кончилась!..
Пришло незаметно и лето. Как-то Иванко стоял один на берегу реки, смотрел не по-детски грустными глазами вдаль. Взмахивая пружинистыми крыльями, пролетел над рекой одинокий гусь, и Иванко долго смотрел ему вслед. Белыми парусами проплыли по синему небу два лебедя — исчезли в голубой дали. Иванко подумал о лебедях, и ему сделалось грустно. Вспомнил одинокого гуся, и по щекам потекли слезы. Казалось, о том же шептали у берега и быстрые воды реки:
«И ты один… тоже один… Война кончилась. К твоим товарищам возвращаются отцы, братья. Тебе и ждать некого. И матери у тебя нет. И бабушки… И ты всегда теперь будешь один, как серый гусь, улетевший за реку, в тундру…»
Иванко силился удержать слезы, а они сами лились. Он запрокинул голову — слезы лужицами встали в глазах и вновь полились. Но он не плакал. Он не хотел плакать. Слезы у него почему-то сами лились. И он не видел даже солнца, когда поворачивал голову и смотрел на него: перед ним была лишь похожая на северное сияние радуга.
Иванко вытер слезы. И на душе стало легче. Казалось даже, что слезы смыли в сердце соринки, от которых в нём щемило. Посветлели небо, земля. Солнце смотрело теперь в упор на Иванка, раскинув ослепительно знойные ресницы.
— И-и-ва-ан-ко-о! — услышал он вдруг детский окрик. — Ива-а-ан-ко-о! — кричал Игорь Михайлов, товарищ по интернату.
Он бежал к берегу, за ним шел солдат невысокого роста, пристально смотрел на Иванка.
Иванко насупил брови. Солдат сжимал пальцы обеих рук в одном кулаке и так сильно, что они были белые, Он спросил:
— Иванко! Это ты?
Голос солдата дрожал.
Иванко стоял и молчал. Не скоро ответил он, не зная, что хочет от него незнакомый дядя в военной форме:
— Я.
Солдат схватил Иванка сильными руками, прижал к груди.
— Иванко! Сынок!
Иванко бормотал что-то сквозь слезы, сам не понимал что, и тыкался, и тыкался лицом в пропахшую махоркой шинель — тыкался так, что лицу сделалось больно. Он почему-то всегда думал, что шинель отца именно так должна пахнуть.
— Значит, в интернате живешь? — успокоившись, наконец, отпустив Иванко, спросил Микул, не в силах оторвать глаз от сына. — Значит, колхоз не забыл тебя — сына единоличника Паханзеды?
— Мы колхозники, — сказал Иванко.
— Значит, и солдат Микул Паханзеда тоже колхозник, — сказал Микул. — Бабушку найдём, сынок, будем жить вместе.
Жители поселка Пэ-яха-харад видели в этот день, как долго стояли на берегу два человека — один широкий в плечах, в солдатской шинели, другой ниже ростом, тонок и строен. Они ни на шаг не отходили друг от друга. Люди знали, что это лучший охотник Большеземельской тундры, возвратившийся с войны солдат Микул Паханзеда; после долгой разлуки он разговаривает со своим сыном Иванком, и не мешали ему: пусть говорит. Не надо мешать им. Отцу и сыну есть о чём поговорить после такой разлуки. Пусть говорят.
СВАДЬБА
I
Сорок восьмая весна в жизни Микиты Салиндера гремела водопадами и бурунилась на перекатах резвых речушек бурными талыми водами. Шла снежная вода! Сколько уходило в океан буйной силы вместе с солнцем, дающим жизнь тундре. Вода спешила в океан, спешили в тундру птицы, чтобы напиться на целый год дающей силу крылам снежной воды.
Тому пятнадцать лет, как кончилась война. Небо — мирное небо. Тундра — мирная тундра. И ветер, откуда бы он ни дул, вот уже пятнадцать лет — мирный ветер.
Солнце дни и ночи ходило неустанно вокруг трех чумов оленеводческой бригады, которой вот уже десятый год руководил бывший батрак большеземельского кулака Микита Салиндер.
Микита хорошо знал свою работу. Да и как не знать, если, ещё лежа в люльке, он смотрел на непробиваемые даже солнечным лучом рощи оленьих рогов. Микита Салиндер был лучшим пастухом на Большой земле. Уже не первое лето мыли дожди его портрет на большом красном щите возле правления колхоза «Едэй сехэры» в поселке Харёй Саля. Микита, приезжая в поселок, останавливался у щита и, затаив дыхание, рассматривал свое изображение на сверкающей, как стекло, бумаге. А совсем недавно портрет Микиты появился в газете «Нярьяна вындер». Знакомые сразу узнавали его:
— Вот ведь, — не без зависти говорили они, — бывший-то батрак Игны каким человеком стал! В газете пропечатали.
— Хвалят?
— Ещё как!
Микита не расставался с газетой, он таскал её в нагрудном кармане своей лучшей рубашки. Рубашку ещё зимой сшил ему лучший портной колхоза Иван Лаптандер, бывший знаменитый шаман Большеземельской тундры. Микита любил эту суконную рубашку. Гордился ею: большие начальники из такого сукна штаны себе шьют, а он, Микита, сшил рубашку. Значит, богатый он человек.
Заезжая в поселок или в чужой чум, Микита первым делом снимал малицу, сдувал приставшие к рубашке ворсинки, протирал рукавом блестевшую на груди медаль «За доблестный труд» и только после этого садился за стол и разворачивал газету.
Микита гордился собой, сиял не хуже своей красноватой, под цвет золота медали. И всегда вспоминался ему в эти минуты солнечный майский день. Вот он бросает на землю хорей и вожжу, влетает в чум, готовый лопнуть от счастья.
— На, Матро, смотри, — протягивает он жене газету.
Жена удивленно смотрит и говорит:
— На что мне бумага-то? — и пожимает плечами. — Ты ведь, Микита, тоже не прочитаешь… Случилось что?
— Не надо читать. Смотри.
От волнения у Микиты пересохло горло, он тяжело дышал. Матро вертела в руках газету, наконец она разглядела фотографию:
— Ой! Это же ты, Микит! Ты?
— Я… конечно, я.
— Ругают? Хвалят?
— Кто будет ругать Микиту? Что плохого я сделал? Оленей волкам выкармливаю или теряю? Не бойся, Матро, не бойся. Хвалят меня…
Матро глядела то на газету, то на Микиту и видела сразу два родных лица: застывшее на бумаге и живое.
Дрожащими руками взяла газету и старуха, мать Микиты; поднесла портрет к самым глазам.
— Ой! Конечно, он! Мой Микитко! — обрадовалась старуха и заплакала, потом начала креститься. — Нум арка! Тебя видело солнце, мой Микитко! Нум арка! А вот твой отец всю жизнь тянул батрацкую лямку. Бедный мой Як! Думал делать людям добро, хотел и тебя увидеть человеком!.. Да не успел. Слава богу, что о тебе люди заговорили по-доброму. Слава богу! Будь всегда таким, Микитко! Делай людям добро, сын. И люди тебя полюбят. Нет ничего дороже на свете, чем любовь к человеку. Помни об этом… помни…
Микита слушал мать, и слова её тогда казались обычными, он не придал им значения. Старуха в последнее время говорила много лишнего. Вскоре она умерла.
Он похоронил мать на безымянном увале посреди тундры. Она первая в роду Салиндеров лежала в сосновом гробу в земле. Прежде ненцы не закапывали мертвецов. Гроб подвешивали на четыре столба на высоте человеческого роста, к перекладине над изголовьем привязывали колокольчики. Возле мертвеца оставляли его личные вещи, одежду и сломанные нарты.
Микита нарушил обычай. «Власть новая, — думал он, — порядки новые, и хоронить надо тоже по-новому, как у русских».
С тех пор почти каждый день Микита слышал голос матери:
— Делай людям добро, сын. И люди тебя полюбят…
Люди уважали Микиту. Шли к нему за советом, помогали ему. Всё было хорошо, — одно его мучило. У Микиты была дочь — Полина. А ему очень хотелось сына — помощника и наследника.
— Ну, подари же, Матро, сына! Пусть хоть ветром тебе надует, только бы родился сын… Сын… — просил Микита.
Время шло, сына не было. Матро и самой его хотелось, она тяжело переживала семейное горе. Но ещё тяжелее переживал Микита. Страшно было подумать, что на его глазах навсегда оборвется род Салиндеров. Заветная ниточка, которую так берегли предки. Может ли Микита с этим смириться? Нет, конечно. Так жить нельзя.
На пятый год после свадьбы Микита отвез свою Матро вместе с трехлетней дочерью в поселок на реке Пэ-Яха, устроил их там. Виновата во всем Матро. Кто же ещё? В чуме Микиты с её приходом начались беды и несчастья.
Не прошло и трех месяцев после шумной и богатой свадьбы, как внезапно, в середине лета, в стойбище охотника Явтысого, отца Матро, никто не проснулся. Лежали, вздувшись, олени, собаки, люди. Такое в тундре случалось и раньше. Бывало, не просыпались десятки, сотни чумов. Тогда перерезали на стыках шестов верёвки, и чум обрушивался, становясь и гробом и памятником. Проходили годы, страшное место обрастало золотистой травой марэй и* становилось «золотой мядырмой» — «золотым чумовищем». Микита тоже перерезал веревки чума Явтысого, принес в жертву богам оленя. Через месяц рогатую голову животного, шкуру, копыта, кости и желудок, наполненные кровью, увез на священную сопку. Там он облил идолов кровью жертвенного оленя, вылил на их головы бутылку водки. Дела Микиты пошли на лад. Видно, помогли боги. Микита верил в это. Да и как не поверишь, если он, бывший батрак, стал бригадиром оленеводов.
Потом на голову Микиты обрушилась новая беда. В дни таяния снегов провалился под лед Пэ-Яха аргиш жены Егора — брата Микиты. Егор бросился спасать свою Саване и восьмилетнего сына — сам вместе с оленями ушел под лёд. Микита не смог даже похоронить их, видно, вынесло их тела в открытое море. Микита думал, искал причины нового несчастья. Выходило, виновата Матро. Всё началось с её приходом. Не проснулись её родные. Раз. Нет у Микиты сына — продолжателя рода. Два. Утонул вместе с семьей Егор — единственный брат Микиты. Три. Сколько же можно терпеть? Она, поганая женщина, во всём виновата. И он отвез её вместе с дочерью в поселок. Оставил.
На обратном пути Микита заехал в чум охотника Тайбари и увез с собой его дочь Феклу. Увез без свадьбы. Некогда было Тайбари собирать свадьбу: шел песец, да и Фекла была девушкой не первой молодости — лет под сорок. Давно пора было замуж, да упряжки женихов пролетали мимо, стороной. Так Микита и привез в чум новую жену. Не очень красивая, но сильная Фекла нравилась Миките. Пусть она всю свою жизнь прожила в оседлом чуме на берегу Соленого моря. Пусть и не знает кочевой жизни — научится. Некрасивая — так ведь жена не зеркало, смотреться в неё не будешь.
Но скучно было в чуме без ребенка. Всё чаще вспоминал Микита о Матро и дочери. «Может, Матро и не виновата?» — думал он. Затосковал, загрустил Микита. Молчаливым стал, раздражительным; а Феклу и совсем замечать перестал.
Не вытерпел он, взял да и отвез Феклу обратно к отцу, на той же упряжке поехал в поселок. Уговорил жену, привез их с дочерью назад в свой чум.
Микита в конце концов смирился с тем, что у него нет сына. «Ну и что? — убеждал он себя. — Дочь — тоже человек. Могло ведь не быть и дочери».
Полина росла веселой, общительной девочкой. Микита баловал её как мог. Таскал по стойбищу на плечах, возил на нартах; покупал игрушки. Микита и Матро гордились дочерью.
В школе Полина училась легко. Делала всё с увлечением, помогала отстающим, выполняла общественные поручения. На каникулы всегда возвращалась с похвальным листом, привозила много книг и читала вслух отцу и матери. Микита радовался успехам дочери, особенно похвальным листам. Кто-кто, а Микита знал им цену, — сам не раз получал почетные грамоты от правления колхоза и даже брал их из рук самых главных начальников округа.
Радовался Микита недолго. Книги да книги — это стало его тревожить. Он ещё не высказал своего недовольства дочери, а мать как-то заговорила с ней:
— Не начиталась в школе-то? Всё бумаги да бумаги. Не пора ли за шитье браться? Ведь годы-то, Полина, — что вода. Надо и о жизни подумать — не вечно будешь ребенком.
Дочка с недоумением посмотрела на мать: «Жизнь… Разве книги не учат жить?..»
Когда Полине исполнилось шестнадцать, она услышала от отца смешные слова:
— Ой, Полина, Полина, книги до добра не доведут… Гляди, мухи тебя полюбят.
— Какие это мухи?.. Смешно! С чего это ты, отец, о мухах заговорил? И что плохого в книгах?.. — смеялась Полина.
Загадками говорила и мать. Не всегда Полине коптить чум отца, — когда-нибудь придет за ней упряжка. Надо привыкать к хозяйству, учиться шить, готовить еду, ума-разума набираться.
Девушка знала: мать никогда не говорит зря. Надвигалось что-то большое, неотвратимое, и сердце наполнялось тревогой. Полина вдруг поняла, что в этой тундровой жизни она не принадлежит себе, не всё так, как учили в школе. Она рассматривала своё отражение в воде или в маленьком зеркальце, которое уже давно носила в сумочке, украшенной звенящими копытцами оленят. Заплетая тяжелую косу, шептала: «Неужели невеста?» И тут же смеялась: «Как же, невеста! Разве такие невесты бывают?»
II
Звенел звонок, последний звонок учебного года. Его заглушал нарастающий гул самолета. Крылатая машина пронеслась над поселком. На аэроплощадку к самолету брызнула, как заряд снежного урагана, вся школа.
Прилетевших из города было трое: председатель рыбкоопа и двое незнакомых. Они взяли чемоданы и вместе с пилотами направились в поселок. Ребята разглядывали тяжелую, пахнущую бензином машину и потом постепенно начали расходиться.
— Ребята, помогите мне!
Полина оглянулась и увидела, как заведующая почтовым отделением перекладывала тяжелые мешки в ящики с сургучными печатями.
— Роза Александровна, что нести? — подошла к ней Полина.
— Ноша есть — были бы руки. Почты сегодня много. Как не быть почте. Распутица. Самолеты почти месяц не летали, — отозвался Борис, начальник посадочной площадки (его все звали аэродромщиком). — Где же собачьи упряжки? — возмутился он.
— Как же, ищи. Станут тебе охотники сидеть дома и нас поджидать, — высунув голову из полукруглой двери самолета, ответила начальница почты. — Хоть ты-то в поселке оказался. Мой ещё в полночь уехал к морю.
Борис молчал. Он смотрел на море. Там, за голубой полоской прибрежного льда, темнела вода, там, над морем, летали утиные стаи. Весна… Время любви и охотничьих страстей. На север летят птицы, люди летят на юг…
Перегруженные нарты подъехали к высокому крыльцу почты. Девушки помогли Розе Александровне занести в здание мешки, ящики и зашагали к интернату. Они думали каждая о чём-то своём, они ждали чего-то особенного, нового, пусть даже… письма. Лишь Полина ничего не ждала. Писем она не получала, а жизнь её уже определена.
Она хорошо помнит тот день, когда в чум её отца приехал со сватами Едэйко Тайбари. Отец, конечно, сначала был неумолим. Потом, разгоряченный его упорством, Едэйко пообещал за Полину пять важенок. И Микита согласился:
— Хорошо. Пусть будет по-твоему. Только дай моей дочери закончить школу.
Сваты долго молчали, поглядывали друг на друга. Полина, закрыв лицо руками, заплакала в голос. Едэйко вспотел, уши его побагровели, и он сказал:
— Год-то… Ладно. Подожду. Пусть закончит школу… Если уж так надо…
Потом хозяева и гости сидели за праздничным столом. Микита щедро угощал гостей — пировали весь вечер и всю ночь. И только когда незакатное солнце уже скользило по гребням волн океана в сторону утра, хозяева и гости улеглись на латах и заснули.
Полина проснулась — кто-то дышал ей в лицо. Она открыла глаза — рядом лежал Едэйко. Девушка почувствовала, как руки его прикоснулись к её груди, как заскользили по спине, бедрам; в лицо ударило обжигающим перегаром. Полина закричала так, что задребезжали шесты чума. Она оттолкнула его, накинула на плечи легкую паницу и вылетела из чума. Парень как ни в чем не бывало натянул пимы, влез в малицу и, улегшись на латы, уснул.
Полина вернулась в чум только на третьи сутки. Отец и мать не сказали ей ни слова, но Полина возненавидела своего жениха. Она старалась забыть о нём, но школьный звонок снова разбередил ей душу. Она вспомнила слова отца и Едэйка:
— «Пусть будет по-твоему…»
— «Год-то… Ладно. Подожду…»
— Тьфу! Поганый! — вырвалось у Полины вслух.
Вскоре в комнату девушек вошла с пузатой сумкой на ремне заведующая почтой. Она достала пачку писем, положила на стол и улыбнулась:
— Это, девочки, вам. Читайте да пишите скорее — женихи ждут. Весна!..
В её руках появился ещё один конверт. Она шагнула к Полине.
— А это… с припиской «лично». Пляши, Полина! — потом добавила: — Письмо-то из Ленинграда. Женихи там — не чета здешним…
Роза Александровна, посмотрев в окно, вдруг умолкла, торопливо подала письмо и шагнула к выходу. В дверях она столкнулась с человеком в малице.
— Здравствуй, Едэйко, — и скрылась за дверью.
Едэйко снял малицу, швырнул её на пол. Потом долго стоял у порога, смотрел на Полину. Та спрятала ещё не распечатанное письмо в карман, оттолкнула Едэйко в угол, хлопнула дверью и исчезла. Пьяный Едэйко сидел на полу и говорил:
— По-Полина где?
В комнате засмеялись. Едэйко не унимался:
— Г-г-где Полина?
— Зачем тебе Полина? — зло спросила Нина Безумова. — Убирайся отсюда!
— По-Полина — мой-а жена. За-законная.
— Йо-хо-хо-о! Держите меня, девочки! — падая на кровать, заверещала под смех подруг Рита Коскова.
— Да ч-что вы смеетесь?! — рассердился Едэйко и выпалил, будто никогда не заикался: — Полина — моя законная жена. Ещё в прошлом году купил её за пять оленей у Микиты.
— Понятно! Убирайся! — девушки вытолкнули Едэйко за дверь.
Вошла Полина. Уткнулась лицом в подушку да так и пролежала весь вечер.
В комнате было тихо. За окном чирикали воробьи, где-то далеко тарахтели куропатки.
III
Эта зима для Микиты Салиндера была бесконечной. Он торопил дни, недели, месяцы, а они шли медленно, лениво. Микита Салиндер ждал лета. С каждым днем он всё отчетливее слышал звон оленьих копыт, смех колокольчиков, веселые песни — шум большой свадьбы.
И когда, наконец, красноперой птицей полетело над снегами холодное, но ослепительно яркое солнце, Микита Салиндер облегченно вздохнул. В утренних сумерках он вставал на лыжи, брал топор, ружье и шагал по синим снегам в ещё дремлющий лес. Бесшумно падали с веток комья снега. Из-под самых лыж выпархивали куропатки и долго носились над лесом. Миките грезилось осеннее утро, которое донесет до него желанные выстрелы свадебных гостей. А потом?.. Потом Микита будет сидеть на самом почетном месте, рядом с дочерью, и с достоинством угощать дорогих гостей всем, чем богато его стойбище.
Топор стучал по стволам молодых берез и елей. Лес плакал, и эхо с болью повторяло стоны деревьев. Микита ничего не замечал. В эту весну он был самым занятым, самым деловым человеком. А как же иначе? Единственную дочь надо выдать замуж со всеми почестями, по всем законам. Ведь она, Полина, не без рода и племени. Да и красавица: стройная, как молодая ольха, румяная, косы будто горный водопад спадают к её ногам. О такой невесте могут только мечтать женихи от моря соленого до дремучего леса, от синего Камня Канина до самого Хантыйского Камня.
Солнце вставало над тундрой, но ещё долго бушевала пурга, скрипели морозы, пеленали землю метели, пока на крылышках пунушек — полярных воробьев — не прилетела весна. Весна родилась на проталине первым олененком. Она нагрянула внезапно и после дикой бесконечной зимы показалась Миките одним мгновением. Микита почти не спал. С утра до вечера он сидел на проталине возле чума со своим мастеровым топором, с острым ножом. Далеко по тундре разносил ветер запах стружек, лежавших золотыми бугорками рядом с Микитой. Он мерял время готовыми копыльями и полозьями саней. Неделя — и вставали на полозья сани на десяти и двенадцати копыльях. Теперь уже время торопило Микиту Салиндера. Он спешил. Матро тоже не сидела без дела. Она выбирала лучшие шкуры и стелила их на новые нарты, делила добро, накопленное за годы супружества. Не отправишь же родную дочь в самостоятельную жизнь с пустыми руками. И хлопоты родителей не пропали даром! В месяц Гнезд — в мае — весь аргиш Полины, готовый в любую минуту тронуться в путь, уже стоял на полозьях и ждал свою хозяйку.
Утром после чая Микита натянул на ноги пимы, обшитые сукнами всех семи цветов радуги, надел мягкую малицу из шкур осенних оленят, накрутил ниже колена красные, как брусничный сок, подвязки с кисточками, взял голубой хорей с блестящим наконечником, и пять двухгодовалых хапторок[80] понесли его в сторону моря. Микита не замечал бега оленей. Сердце в груди билось, словно птица. Микита Салиндер только для виду ругал себя:
— О, Микита, Микита! Зачем ты такой бессердечный? Зачем отрываешь от родного очага единственную дочь?
Иногда он довольно улыбался и шептал:
— Пять оленей за девку… Пять оленей! Куда больше? Пять важенок сами собой не забредут в стадо, а Полина — не первая и не последняя девушка, которая уходит к чужим людям. Не умирать же идет. Так было всегда, так и должно быть…
Олени как будто понимали мысли хозяина. Они не нуждались ни в окрике, ни в хорее. Только ветер шумел в ушах Микиты, только скрипели под полозьями прошлогодние травы.
Олени бежали. Микита пел.
IV
Белое от яркого солнца небо слепило глаза. За песчаными холмами ровно дышало море, сероватое возле берега и ультрамариновое у самого горизонта, где опускается в воду подол ночной стороны неба. Местами подернутая легкой зеленью, коричневая тундра просыпалась, и всё живое в ней тянулось к свету. Короткое, но яркое полярное лето было всем по душе. Люди встречали его и радостями и заботами. Рыбаки чинили невода, смолили лодки: ожидался подход омуля.
Выпускники школы разъезжались по домам. Одним не терпелось как можно скорее вдохнуть воздух трудовой жизни, другие ехали только на две-три недели, чтобы потом лететь в Нарьян-Мар — сдавать приёмные экзамены в один из институтов страны.
Уехали и подруги Полины. Полине было жаль расставаться с ними, особенно с Ниной Безумовой. С первого класса они учились вместе и жили в одной комнате, делились друг с другом своими девичьими секретами.
Нина мечтала стать врачом, а Полина видела себя учительницей в родной школе. Ещё с осени Полина решила не думать о предстоящей свадьбе, но мысли сами лезли в голову, а глаза наполнялись слезами. Плакала она и теперь.
— Слезы не помогут. Надо что-то делать, Полина, — шептала она. — А что сделаешь, если до этой проклятой свадьбы осталось всего шесть дней?!
Она долго сидела молча. Болела голова. «Отец и мать не поймут меня. Так было и так должно быть… Они верят в это, их не переубедишь».
Полина смотрела вдаль. Там — равнодушный простор, на котором она сама себе казалась песчинкой. Она понимала, что новое время взяло ещё не всё. Ещё не всё горе выплакали девушки тундры, судьбу которых решает не любовь, а родители. А жить-то кому?
Полина не раз думала об этом и зимой. Тогда было как-то легче, не так страшно, как сейчас: катила волны сугробов зима, лето пряталось за метелями да за стужами, и было время поразмыслить. А когда ей хотелось плакать, Полина вставала на лыжи и убегала на открытый всем ветрам простор или уходила на крутой берег моря. Там она вместе с интернатскими ребятами каталась с горы и даже прыгала с трамплина. Было весело. Все мысли о надвигающейся свадьбе отходили, забывались. Долгая зима промелькнула, как месяц, как одна неделя.
Полина осталась в интернате с мальчишками и девчонками, родители которых кочуют в тундре и ещё не успели приехать за ними. Голова её была набита самыми нелепыми мыслями.
Отцу и матери, пусть даже и не правы, перечить не станешь… Законы жизни не она придумала, и не ей их ломать.
— И всё-таки сейчас, — говорила она, — именно сейчас надо что-то делать. Надо! Едэйко останется Едэйком, он ждал и ещё подождет. Сколько ещё таких глупых живет по всей тундре! Едэйко… — От этого имени её тошнило. Жизнь не стоит на месте, не вечны её законы. Законы тундры, древние законы родов нужно ломать. Обязательно ломать! Были когда-то законы царя, а теперь их нет. Не будет и древних законов тундры. Диких законов!
Она сидела на берегу моря и говорила с тундрой:
— Тундра… милая тундра! Ты меня родила, а теперь хочешь погубить. Я — человек. Есть у меня голова. Я умею думать! Есть у меня глаза. Я умею видеть! Тундра — не дикий остров. Нелепо теперь покоряться старине…
Возвращаясь в интернат, далеко в синем просторе Полина заметила упряжку, и вдруг её словно обожгло: «Отец… Конечно, это он», — мелькнуло в голове, и уже через минуту-другую она стучалась в комнату Тамары Михайловны — своего классного руководителя.
— Он едет! Он меня увезет, Тамара Михайловна! Я не хочу в тундру, — задыхаясь от слез, говорила Полина. — Я не хочу в тундру!..
V
Олени бежали. Микита пел: Будет большая свадьба, будет гудеть простор от песен, звонкого смеха и стука оленьих копыт. Как же не быть-то свадьбе, коль из родного гнезда птицы летят, оперяясь, птицы на волю летят? Как же не быть-то свадьбе, коль из родной норы зверь, подрастая, уходит, уходит на вольный простор? Птицы летают парами, парами звери живут, скучно и человеку жить одному на земле! Будет большая свадьба…Микита пел. Летели хапторки. Шуршали под полозьями прошлогодние травы, поскрипывали белые корни ивы. Микита видел большой сдвоенный чум, полный гостей, слышал песни, безобидные шутки, любовался пятью стройными важенками, которых вел на тынзее к нему Едэйко Тайбари.
Потом Микита под дробный стук копыт снова напевал:
Будет большая свадьба…Микита пел, а поселок, затерявшийся среди песчаных бугров на берегу океана, будто сам выбегал навстречу его упряжке. Микита всматривался в дом с железными мачтами на крыше и думал, застанет хозяина или нет. Если не застанет, то придется съездить за ним к морю. Вдруг все пять хапторок на полном скаку встали на дыбы. Микита ухватился за нарты. Из-под упряжки выползала, волоча задние ноги, огромная рыжая собака, потеряв даже голос от неистовой боли. Остальные сидели, как стерегущие добычу волки, и разевали клыкастые пасти.
— У, дьяволы! — выругался Микита и, спрыгнув с нарты, замахнулся на собак хореем.
Хапторки шарахнулись в сторону. Добро, что держали их надежные ремни постромок из шкуры морского зайца. Микита бранился, собаки, волоча хвосты, словно понимали свою вину, отходили прочь. Хапторки, толкаясь, егозя, цеплялись друг за друга рогами. Микита не заметил, как подошел начальник аэроплощадки:
— Здравствуй, Микита Яковлевич!
Микита заулыбался:
— А-а! Здравствуй, Борис Никифорович! Я опять в гости. Не ждал? — пожал руку аэродромщика, помолчал, вытер рукавом малицы пот со лба и сказал. — Тут вот… Лешаки собаки. Не видел, как одна сунулась под копыта…
— Бывает, — отозвался начальник аэроплощадки и застучал длинными пальцами по полевой сумке, с которой никогда не расставался.
Микита Салиндер сидел в доме Бориса. Обливаясь потом, пил чай, а Борис Никофорович разбавлял водой спирт. Аэродромщик удивленно посматривал на своего постоянного гостя: обычно задумчивый и молчаливый, Микита сегодня был весел и разговорчив. Он говорил о долгой зиме, которую удалось прожить на этот раз без потерь, да и песец неплохо шёл на приманку — капканы не пустовали. Зима, словом, была самой лучшей из всех последних зим, по душе оленеводам и охотникам. Удача сама в руки шла. Да и на весну нельзя пожаловаться. Из полутора тысяч народившихся оленят погибло от весенних холодов только двенадцать, и те ранние, апрельские оленята, да троих потравили песцам. Вот, пожалуй, и все потери. Одного олененка искусала собака пастуха, но он выжил, выходили. Словом, Миките было чем похвастать перед хозяином дома. А после второй рюмки он достал из мешка шкуру песца, подул на серебристый ворс и подал Борису.
— Ось крепкая, почти не гнется и не ломается. Это — подарок твоей Шуре от меня и Матро. Пыжика тебе я тоже привез. Будет время — пусть твоя Шура из одного пыжика сошьет мне шапку. Красивую шапку, какую носит самый главный начальник округа. Ладно?
Борис улыбнулся.
— Что смеешься, самолетный начальник?
— Зачем тебе, Микита, шапка-то? У тебя и так из пыжика капюшон малицы.
— На малице-то… ладно. А шапка тоже пригодится. Подарю кому-нибудь.
Микита, уставший в дороге, бодрствовал недолго. После четвертой рюмки он совсем ослабел. Борис это заметил и поспешил расплатиться за пыжики — за белого песца гость отказался взять деньги.
— Это подарок.
После чая Микита отдохнул, потом сходил в пекарню за хлебом, в магазин за продуктами и, выпив с Борисом ещё одну бутылку спирта, стал укладываться спать.
— Так лучше, — меньше языки чесаться будут. А то люди думают, что в тундре у нас одни пьяницы живут. А где в тундре возьмешь спирт? Магазин на нартах не увезешь.
Микита ещё долго рассуждал, но его уже никто не слушал. Борис, разморенный спиртом, спал. Хозяйка была ещё на работе. Миките не спалось. Он надел малицу, вышел из дома и направился к интернату.
VI
Полина лежала на диване и плакала:
— Спрячьте меня, Тамара Михайловна… Спрячьте куда-нибудь, пожалуйста!
Учительница ничего не понимала. Прятать? Зачем? Тамара Михайловна подсела к Полине, погладила по голове, вытерла платочком мокрые щеки, глаза и ласково спросила:
— Что с тобой, Полина? От кого тебя прятать?
— От отца, Тамара Михайловна. От отца спрячьте… Пожалуйста…
Тамара Михайловна покачала головой. Как это прятать дочь от отца?
— Успокойся, Полина, — говорила Тамара Михайловна.
Полина рыдала, билась головой о диван, умоляла:
— Спрячьте! Я не поеду в тундру! Не поеду-у!..
Тамара Михайловна подошла к двери и закрыла ее на ключ:
— Теперь, Полина, к нам никто не войдет. Что случилось?
Недавняя выпускница института, она и впрямь не понимала, что творится с Полиной. В тундре, где всё ещё сохранялись родовые предрассудки, Тамара Михайловна жила недавно.
Полина успокоилась. Она рассказала, как летом прошлого года в чум её отца приехали сваты, как продал её отец за пять важенок.
Девушка рассказывала, учительница слушала, возмущаясь и удивляясь, а тем временем Микита Салиндер ходил по интернату. Стонали и скрипели двери — Полины нигде не было. Спросить, где дочь, он не решался. От выпитого спирта кружилась голова. Так и не найдя дочери, Микита ушел и до утра пил с сидящими без дела рыбаками.
Ночь была солнечной. Микита пировал с рыбаками, а в школе в это время шло экстренное заседание педсовета.
Когда в замочной скважине щелкнул ключ, Полина, похолодев от страха, что сейчас заявится отец, спряталась за печку.
— Ушла? — удивился Геннадий Матвеевич, директор школы.
— Куда же она уйдет? — возразила Тамара Михайловна. — Наверное, за печкой прячется.
Полина вышла из укрытия. Ей было стыдно.
— Так вот, Полина, — начал Геннадий Матвеевич. — Наши учителя считают, что тебе нужно учиться. Но пойми, что школа не имеет права отрывать тебя от родного чума против воли родителей. Значит, твой отказ ехать в чум — это твое личное желание. За свои поступки ты отвечаешь сама. А выехать на учебу мы тебе поможем. Ты все поняла?
Полина помолчала немного, подумала, а потом сказала:
— Спасибо, Геннадий Матвеевич. Большое спасибо. Вы меня только от отца пока спрячьте, пожалуйста.
VII
Солнце, большое и красное, за ночь так и не коснулось горизонта. Оно медленно катилось над тяжело дышащим океаном на восток, чтобы вернуться по отрогам Пай-Хоя ввысь. Лучи его, разливаясь широко, ложились на волны и вспыхивали рубиновыми искрами на слюде камней и осколках битых стекол у самых ног Микиты Салиндера. Поселок спал. Тишину ночи нарушали лишь сиплые голоса альбатросов и шелест прибоя. Рыбаки спали на каменистой косе возле лодки с неводом. Микита стоял, расставив ноги, на пластинчатых камнях и боялся шагнуть — загремят, рассыпаясь, камни, а ему не хочется тревожить сон людей. Он ещё долго смотрел на море, дома и спящих рыбаков. Наконец решился, сделал шаг, другой и пошел. Камни под его ногами гремели в утренней тишине, будто осыпался весь каменистый берег.
Он шагал к интернату, к дочери, и ругал себя за то, что приехал в поселок за Полиной, а вместо этого стал заглядывать под рубашку бутылке. «Срам-то какой! Что люди скажут? Что подумают?» — бранил он себя. И вдруг вспомнил: ведь ходил же он вчера в интернат, а Полины там почему-то не было. Почему не было? Наверно, он сам был хорош, не мог отыскать. Там она, куда денется? Микита ускорил шаг. Поднявшись на песчаный бугор возле интерната, он остановился. Отсюда хорошо были видны тундра, поселок и море. Упряжные олени Микиты дремали у нарты. Микита успокоился. Долго ли поселковым собакам разогнать пугливых хапторок? Беспокойные оленихи и сами легко могли запутаться в постромках и передушить друг друга.
В интернате Микита сразу же направился в угловую комнату, где жила Полина. Не раз бывал здесь зимой, когда приезжал за продуктами. Он остановился перед дверью, огляделся, но взяться за дверную ручку не решился. Он прошелся по длинному коридору, унимая волнение, потом снова подошел к угловой комнате: «Кого боишься, Микита?» — и дернул ручку. Комната оказалась запертой. Микита постучал сначала тихо, потом он и сам не заметил, как кулаки его забарабанили по двери. Из комнаты напротив вышла старушка в толстых очках — няня.
— Ты что, Микита, разбушевался? Зачем ломишься в пустую комнату?
— Как в пустую?
— Да так. В пустую. Ребята все по домам разъехались. — Старуха достала ключ и открыла дверь. — Не веришь — гляди.
Микита растерянно смотрел на няню. Потом спросил:
— А Полина?.. Где Полина?
— Полина? — удивилась няня. — Она где-то здесь, в поселке. Разве ты не видел её? В интернате она нынче не ночевала. Дверь-то я уже под утро заперла. Наверно, Полина не хотела спать одна. В пустой комнате.
— В пустой комнате… — повторил задумчиво Микита. — Где же искать Полину?
— Откуда мне знать? Девушки молодые, невесты… может, гуляют где? Я их за юбку не держу.
Микита помрачнел и поспешил к выходу.
Люди в поселке ещё спали. Микита одиноко бродил между домами. На душе было мерзко. Сколько раз он обещал себе не менять дело на вино… «Нельзя тебе верить, Микита. Слово твое — ветер. Язык — без костей». Потом мысли его переменились. Что, собственно, плохого он сделал? Выпил — и только! Никого не оскорбил, никого не ударил. Стоит ли так убиваться из-за пустяка? Разве грешно иногда выпить?
Зачирикали воробьи. Солнце уже шагало по плечу Пай-Хоя. Начинался новый день. Просыпались в домах люди. Потянулись к небу голубые струйки дыма. Микита двинулся к дому директора школы. Дверь открыл сам Геннадий Матвеевич.
— О! Хожевин! Здравствуйте! Это я — Микита.
— Доброе утро! — отозвался директор школы. Он крепко пожал гостю руку. — Проходите. Гостем будете.
— Вода есть, Еннадей Матвеев? Дай-ко наперво воды, — попросил Микита.
— Есть вода, только холодная очень. Самовар сейчас согреем.
— Мне холодная вода надо.
Геннадий Матвеевич подал полный стакан воды. Микита отпил глоток и поднял большой палец.
— Хо-о! Это — наса вода. Сразу сердце проснулось. А то беда! Шевелится сердце в груди, как мохнатый, — и всё. Душно было. А сейчас и глазам светло. — Микита залпом допил стакан и сказал: — Ещё.
— Воды не жалко, да ведь горло простудите.
— Ха-ха-ха-ха! Какой ненец от воды замерзнет?
За чаем Микита Салиндер снова рассказывал о длинной и лютой зиме, об удачной охоте на песца, хвастал успехами бригады: олени здоровы, сохранен почти весь молодняк. Сейчас оленеводы подгоняют стада на места летовок. Спешат аргиши на север. Зима была морозная, значит, жди жаркого лета. Так старые люди говорят. Да и сам Микита может подтвердить, что это правда. Комаров в солнечные дни не бывает, зато уж овод полетит — то снег зимой. Ох и будет хлопот пастухам! А пока стоят прохладные дни, Микита приехал за дочерью. Руки её в хозяйстве — не лишние.
— Надо, надо, — задумчиво сказал Геннадий Матвеевич. — Это долг родителя.
— Надо, конечно, — сказал и Микита, подумал о чём-то и спросил: — Полина, наверно, совсем грамотная стала? — Он был доволен тем, что задал директору такой умный вопрос.
— Да, десять классов она закончила. Можно сказать, что она уже грамотная.
Микита снова подумал, улыбнулся и спросил:
— Куда в тундре с грамотой-то? Зачем она?
— Это грамота-то зачем, Никита Яковлевич?
— Я никогда не учился, а земля меня держит. Хорошо, надежно, надо сказать, держит. Зачем зря бумагу царапать? Какой толк? — Микита заговорил горячо, убежденно. — Тундру надо знать — она тоже, как бумага, белая. Надо понимать её. Вот это настоящая учеба, Полезная. Жить надо учиться.
Директор слегка покраснел. Он откинулся на спинку стула:
— Вы, Никита Яковлевич, не совсем правы. В наше время — мало знать одну тундру. Человек должен знать всю землю… и многое другое. Для этого надо учиться. Вот мы и учим детей…
Микита внимательно выслушал директора, а потом сказал задумчиво:
— Это, конечно, хорошо — много знать. Вот мы, пастухи, что, кроме тундры, знаем? Да ничего не знаем.
— Правильно, Никита Яковлевич. Очень правильно. Вот потому твоей Полине и надо учиться.
— Как? Опять учиться? — Микита вскочил. — Разве мало десяти лет?
Геннадий Матвеевич кивнул:
— Выходит, что мало. Полина учительницей хочет быть.
— Как? Кто тебе это сказал? — Микита стукнул кулаком по столу. — Нет! Дочь моя учиться не будет! Не отдам я Полину учиться! Зачем ей бумага в тундре? Бумага портит человека. Ум коротким делает.
— Почему же — коротким? — поинтересовался директор.
— Хэ! Грамотный человек не на голову, а на бумагу надеется.
Директор искренне удивился: в словах безграмотного ненца была действительно доля истины.
Микита же всё больше распалялся:
— Не отдам я Полину! Ясно тебе, Хожевин? Не отдам!
Геннадий Матвеевич улыбнулся.
— Что зубы-то показываешь, начальник? Я тебе сказал, не отдам, — значит, не отдам.
— Это, Никита Яковлевич, ваше дело. Дочери вашей мы дали образование, долг свой выполнили. Только мы с вами ни о чем не договоримся. Зря спорим. Полина — уже не маленькая, у неё своя голова на плечах, с ней говорите.
Микита тяжело дышал, глаза его сделались почти круглыми, ноздри раздулись. Он долго смотрел на директора, потом сказал:
— И поговорю! Поговорю!
VIII
В чуме Едэйка Тайбари жизнь шла своим чередом. Ещё совсем недавно Едэйку казалось, что зима никогда не кончится. Для Едэйка это была зима самых больших удач. Волки ни разу не потревожили стадо во время его дежурства. Песцы, словно зайцы, расплодились в тундре. Каждый день Едэйко возвращался в чум с песцом. Песец сам идёт в руки! Едэйко был доволен удачей… Эх! Знать бы об этом прошлым летом! Какой лешак потянул его за язык? Пять оленей… Пять важенок… пять… Слишком дорогая невеста. Оленей колхоз задаром не дает — надо их заработать бессонными ночами в пургу, дождь, туман, под морозным небом. Песец же — совсем другое дело, его не надо дожидаться от колхоза, он сам лезет в железную пасть капкана. Надо было песцов пообещать за невесту. Но тогда, в день сватовства, мог ли он знать об этом невиданном песцовом годе? К тому же и отец невесты, Микита Салиндер, был упрям, как стальная пружина. А ведь пообещай Едэйко за Полину пятнадцать песцов — согласился бы Микита. Два песца — красная цена оленя. А теперь ничего не поделаешь. Жалко, конечно, отдавать пять оленей, но ведь и Полина хороша — стоит этого. Даже больше стоит. Девушка ещё только-только расцвела. Хорошо, что Едэйко раньше других заметил Полину. О свадьбе Едэйко думал каждый день.
Он не тратил времени попусту. На дежурстве на стойбище он ловил своих лучших оленей и на лужайке готовил упряжку для будущих игр. Устраивал настоящие гонки, состязался с воображаемыми соперниками, учил вожака упряжки выбегать из-под петли тынзея. Тынзей он сам накидывал с нарты на рога оленя. Самое главное, конечно, приучить вожака ходить красивой парящей рысью.
Люди стойбища смеялись над Едэйком:
— Не рано ли, парень, начинаешь встречать День оленевода?
Едэйко добродушно улыбался и говорил:
— Добрый гонщик три года готовит упряжку. Олень — не человек, ему не объяснишь правила, его надо натаскивать.
— Ну-ну, — соглашались пастухи, — твоя правда.
Теперь, когда до начала августа — большого праздника оленеводов — оставалось чуть больше месяца, Едэйко при любой погоде гонял упряжку.
— Никак первую премию хочешь взять, Едэйко? — шутили пастухи.
— Первую не первую, а последним не буду, — коротко отвечал он.
Едэйко занимался не одной упряжкой. Днем ли, ночью ли — на дежурстве в стаде — Едэйко ни минуты не сидел без дела. Он бегал, прыгал в длину и через нарты, метал спортивный топорик, ловил тынзеем шустрых оленят. Всё пригодится. Ещё как пригодится! Не ударять же Едэйку лицом в грязь на собственной свадьбе!
Люди замечали: что-то творится с Едэйкой. А Едэйко и в самом деле был не похож на себя: побледнел, осунулся.
— Заболел, наверно, парень. Совсем заболел.
— Сушат парня чьи-то косы…
Проходили дни, недели. Теперь незакатное солнце уже не смыкало лучистых ресниц, не покидало своих высот. Большая, как небо, тундра утопала в сочной зелени трав и густой листве ивняка, пестрела цветами. Зори полнились птичьим пением. Всё живое доверчиво тянулось к солнцу.
В один из таких чудесных дней упряжка Едэйка летела от стойбища к стойбищу. Жених не задерживался ни в одном чуме. Только ради уважения к хозяевам присаживался за стол, выпивал чашку чаю и снова отправлялся в путь. Не в силах скрыть своего волнения, Едэйко в каждом чуме повторял одно и то же:
— Утром пятого дня запрягайте оленей — и в мой чум. Между моим чумом и чумом Микиты Салиндера все дороги травой обросли. Давно не видели оленьих копыт.
Едэйко говорил, а лицо его покрывалось капельками пота, щеки и уши горели.
— Хорошее дело задумал ты, Едэйко! Дороги нельзя запускать.
Молчанием встретили гостя только в чуме Игны Лаптандера. Едэйко хотел обидеться, но Игна приподнял край оленьей шкуры, что лежала у самых дверей: под шкурами неподвижно лежал Матвей Лаптандер.
— Сегодня земля не смеется, Едэйко, — тихо сказал Игна. — Отец наш ушел.
У Едэйко было язык отнялся. Руки повисли как плети, лицо побледнело.
— Недобрая, конечно, примета в гости к покойнику являться, но… рядом со злом и добро, — снова сказал Игна.
— Чему быть — того не миновать, — тихо ответил Едэйко.
Они долго молчали. Первым нарушил тишину Игна:
— В первый день той недели, говоришь?
— Да, — ответил Едэйко, переминаясь с ноги на ногу.
Игна снова задумался, потом наклонил голову:
— Дороги не зарастут травой, Едэйко.
Едэйко только этого и ждал. Его упряжка снова полетела от стойбища к стойбищу. Дорога неблизкая. В каждом чуме надо побывать, всех пригласить на свадьбу, а день, пусть он и летний, не растянешь. День убегает, он не умеет ждать.
IX
Микита Салиндер носился по поселку, словно подгоняемый ветром. Он заходил в интернат и, не найдя там дочери, снова выбегал на улицу. В душе творилось что-то непонятное. Микита злился на себя, на дочь, на директора и даже на власть, которая своими новыми законами подрезала крылья вольному человеку. «Какая теперь воля? — с досадой думал Микита. — Родная дочь — и та не своя, государственная. Этак скоро дети начнут учить родителей, как жить надо. Хорошо, нечего сказать… И тут же говорил про себя: «Спокойно, Микита, не горячись». «Как не горячиться? — возражал он себе. — Дочь-то, Микита, твоя или нет?»
То он убеждал себя, что от этих мыслей толку нет — надо действовать, то вновь начинал корить себя: «Дурак ты, Микит! Думаешь, волю у тебя отобрали. А батрачить — это как, воля или нет? Отец с батрацкой лямкой на шее под землю ушел, так и не увидел добра. Был бы и ты батраком, Микит, если бы не новая власть. Дурак ты, Микит! Это новая, Советская власть тебе, батраку, дала имя Як Микит — Микита Яковлевич. Она тебя сделала человеком…»
— Конечно, так. Всё правильно, — вслух рассуждал Микита. — Но где Полина?
Микита ещё раз прошелся по поселку, постоял возле оленей, потом направился на квартиру директора школы.
Микита отдышался и косточкой согнутого пальца трижды стукнул в дверь. Раздался голос:
— Да. Войдите.
Микита будто не слышал. Он стоял и пристально смотрел себе под ноги. Дверь открылась, и на пороге появилась жена директора.
— Здравствуйте. Хозяин дома?
— Дома, Никита Яковлевич. Проходите, — отозвался, поднимаясь с дивана, Геннадий Матвеевич.
Микита дошел до середины комнаты и остановился. Он сцепил за спиной руки, а ноги расставил пошире:
— Так вот, товарищ Хожевин. Полина — моя дочь или нет?
— А в чём дело?
— Где она? Дайте сюда дочь!
— Вы, Никита Яковлевич…
— Где? Где Полина? — перебил его Микита.
Геннадий Матвеевич подошел к столу:
— А вы её разве не видели?
— Нет! Не видели… Как под землю ушел!
— Ай, Полина, Полина… — сказал Геннадий Матвеевич и взял Микиту под руку. — Идемте, Никита Яковлевич.
Полина с Тамарой Михайловной сидели за столом. Микита увидел дочь, и лицо его сразу посветлело, он обнял Полину, поцеловал её.
— Где же ты, доченька, пропадала? Я с ног сбился, не мог найти. Разве не видела, что я приехал?
Геннадий Матвеевич тихонько сказал:
— Пойдемте, Тамара Михайловна.
Отец и дочь остались вдвоем. Микита был ласков и нежен, целовал дочь. Полина не противилась, но прятала глаза и молчала.
— Ты что, доченька? Заболела?
— Нет, — отозвалась она после долгого молчания. — Знаю, что ты за мной приехал, но я… я не поеду в тундру. Не поеду в чум.
— Что-что, Полина? — Брови отца сошлись на переносице. — Что ты сказала?
— Я не поеду в чум!
— Что с тобой, дочь?
— Нечего мне в чуме делать! Кто меня там ждет? Едэйко? Я его видеть не хочу!
Лицо у Микиты почернело, забегали желваки.
— Ты в своем уме, дочка?
— В своём! Я не поеду в тундру. Я не товар, меня нельзя продавать и покупать, как вещь. Ты меня продаешь за пять оленей. А я учиться поеду! В город…
Лицо и шея Микиты налились кровью, зелеными искрами вспыхнули глаза, он со всего размаха ударил дочь по лицу. Полина закричала. В комнату вбежали Тамара Михайловна и Геннадий Матвеевич. Микита таскал дочь за волосы, грязным нерпичьим тобоком бил по лицу. Увидев директора, он бросил дочь, постоял немного, потом плюнул и ушел, изо всех сил хлопнув дверью.
X
Сначала Матро не замечала столь долгого отсутствия мужа. Ведь через пять дней свадьба дочери! С утра и до позднего вечера суетилась Матро. Укладывала в вандеи — вещевые нарты — наряды Полины, готовила украшения для нарт, свадебную упряжь с колокольчиками, с широкими разноцветными сукнами, расшитыми орнаментом. Дел и хлопот было много. Свадьба должна быть богатой, веселой, со всеми обычаями и почестями. Матро волновалась, кажется, не меньше, чем перед собственной свадьбой. Она с нетерпением ждала этого дня, а самой не верилось, что так быстро пролетели годы и настало время отправлять в самостоятельную жизнь недавнюю малютку.
Матро вспоминала, как Полина залепетала впервые, разве передашь словами то чувство, которое испытывает мать, когда её дитя произносит первое слово. Матро и сейчас помнит, как в груди её что-то встрепенулось, ожило, и ей по-настоящему поверилось, что человек не умирает, он продолжает жить в своих детях.
— Доченька… Полинка… что тебя ждет в чужом чуме?
Четыре дня прошло с тех пор, как уехал Микита. Матро заволновалась.
— Да-а… Долго что-то нет Микиты. Раньше с ним такого не бывало… Не беда ли какая?
— Что с ним случится? Не маленький. Вином на свадьбу дочери запасается. А то, может, парохода нет…
— Приедет… В его голове ветер не гуляет, — успокаивали её люди.
Но и на пятый день Микита не вернулся. На душе у Матро стало совсем тревожно. В последние дни её угнетало предчувствие чего-то недоброго. Неужели придет беда?
Матро не находила себе места. Она вслушивалась в лай собак, выбегала из чума, подолгу смотрела на равнину, старалась увидеть желанную упряжку. Упряжки не было.
XI
Полина всё ещё была под впечатлением недавней встречи с отцом. Она представляла себе её так живо, будто всё происходило сейчас перед её глазами. Вот заходит в комнату вслед за Геннадием Матвеевичем отец. Он улыбается, обнимает, целует её. Но внутренний голос велит ей: «Скажи сразу, сейчас, сию минуту. Потом поздно будет».
Полина сначала робко, а потом всё тверже говорит странные слова неповиновения. И вдруг — удар… Всё вокруг закружилось, брызнуло и разлетелось на мелкие граненые звезды, тонкие хрустальные лучи которых уперлись в глаза Полине…
Она сидела на диване в комнате Тамары Михайловны и плакала. Геннадий Матвеевич и Тамара Михайловна успокаивали Полину. Девушка не слышала их слов, она думала о матери, которая ждет её и не дождется, и об отце. Ей было жаль отца, он ведь тоже прав по-своему. Да, он был с ней жесток, но это не его вина. Поймет ли он когда-нибудь её, Полину?
Она сидела и думала. Времена, когда замуж выдавали по воле родителей, за нелюбимого, уж прошли и не вернутся, но как это объяснишь отцу и матери? Не поймут они, не захотят понять. Да и не смогут.
Вскоре Геннадий Матвеевич ушел к себе. Полине очень хотелось спросить, что же ей теперь делать. Наконец она немного успокоилась, заплела косу, села за стол. Тамара Михайловна словно не замечала её. Она не хотела мешать девушке. Ей надо подумать, серьезно подумать…
Полина сидела за столом и рассеянно смотрела в окно. Поселок жил своей обычной жизнью. За щетинистыми от стеблей прошлогоднего пырея песчаными буграми сиял под лучами солнца притихший залив. По нему, будто по зеркалу, скользили юркие охотничьи лодки, раскалывали тишину выстрелы, и эхо подхватывало их грохот, а на обнаженных отливом косах толпились рыбаки — тянули невод. Всё это было близко и дорого Полине. Она любила рыбацкий труд. По осени, пока не скуют залив морозы, и по весне, сразу же за льдом, девушка не раз выезжала с рыбаками на тони. Ей нравилось, как в закутке, окруженном танцующими поплавками невода, закипала вода от великого множества омуля и печорской зельди. Полина, счастливая и гордая, вместе со всеми кидала в багажник лодки тугие рыбины. Соленый от пота, азартный труд… Одно время девушка даже мечтала стать рыбачкой. Но ведь человек живет, чтобы нести добро людям, как можно больше добра. Школа щедро открывала Полине новые, ещё более нужные тундре пути. Война, отгремевшая пятнадцать лет назад, оборвала жизнь многих юношей и девушек тундры. Полина слышала печальные рассказы о том, как на глазах у людей сиротела и вдовела тундра. В далекие чумы приходили похоронки. Они приходили внезапно, как снег на голову, в чумах среди знойного лета становилось холодно. Уходили из школы мальчишки и девчонки. Им было двенадцать-четырнадцать лет, но они шли в оленьи стада, на пушной промысел и на путину, заменяли ушедших на фронт отцов. Они были хозяевами земли и выполняли свой долг. Сыновний долг. Мальчишки и девчонки не были виноваты в том, что так рано простились с детством: война…
Ненцы… пробудившийся народ. Только бы жить, радоваться, творить. А для этого тундре нужны грамотные люди. Специалисты. Так что же делать, тундра?
…Она во многом ещё дикая, слепая — тундра. Ещё сильны в ней вековые предрассудки далеких предков. Ещё сильна в ней власть богов и идолов. Полина и сама нет-нет да и доверялась заклинаниям стариков. Конечно, ни в бога, ни в дьявола она не верила, но где-то в укромном уголке души иногда просыпалась боязнь перед идолами, священными сопками и таинственными предметами религиозного ритуала. Пустынный простор располагает к суевериям. Деревянные идолы, медвежьи и волчьи клыки, череп родоначальника большой семьи Вэли — Салиндеров, богато одетые куклы Хозяйка чума и Хозяйка слез — всё это до сих пор возят в священных нартах родители Полины. Возят, потому что верят в силу духов и надеются на их помощь. И вот для того, чтобы бороться со всеми этими пережитками прошлого в тундре, нужны грамотные люди — ой, как нужны! Да, Полина будет учительницей — она это твердо решила.
Тамара Михайловна молча наблюдала за Полиной. Впервые так близко коснулась её судьба ученицы. «Всё же многое упущено! — думала она. — Вслепую работали…» Тамара Михайловна поглядывала на Полину и не решалась заговорить с ней.
— Маму жалко… — вдруг сказала Полина. — Ведь она меня давно ждет.
— Мама… — вздохнула Тамара Михайловна. — Мамы всегда нас ждут.
Полина вскочила, подбежала к учительнице.
— Я всё равно не поеду в тундру, Тамара Михайловна! Ни за что не поеду! Буду учиться.
— Решай сама, Полина. Это твоё дело, — учительница обняла девушку за плечи. — Я хочу, чтобы у тебя всё было хорошо. Ну ладно, успеем ещё поговорить. Давай-ка обед готовить.
Полина нерешительно улыбнулась — в первый раз за все эти дни. Через минуту она уже растапливала печь, а Тамара Михайловна потрошила на столе утку.
XII
Приближался день свадьбы. Матро не сиделось на месте. Она то возилась в чуме, придирчиво осматривая наряды Полины, то выбегала на улицу — любовалась приготовленным для дочери аргишем. Матро волновалась. Да и как не волноваться, если скоро соберутся в её чуме люди почти со всей Большеземельской тундры.
Уже летит от стойбища к стойбищу упряжка Едэйка — жених приглашает на свадьбу гостей. Уже давно пора наряжать Полину, пора сказать ей напутственные материнские слова. А Полины всё нет…
— Что делать? — спрашивала себя Матро.
«Может, сегодня приедут», — тут же успокаивала она себя. Но тревога не унималась. Мать металась по чуму, переставляла с места на место чайник, котел.
— Какая же ты невеста, Полина? Ученая, грамотная, а глупая. Что ты понимаешь в хозяйстве? — рассуждала она.
Мать падала на латы, потом поднималась и, запрокинув голову, смотрела в макодан, сияющий, как огромная звезда.
— Приедет Полина. Обязательно приедет. Куда же ей деться? — уверяла себя Матро. — Школа! Во всём виновата школа! Будь она трижды проклята! Будто сами своих детей не можем сделать людьми? Кому нужны эти пустые царапины на бумаге? Ими не укроешься в пургу, не защитишься от дождя, не согреют они в мороз. На кого Полина похожа? Кто она — ненка, русская? Иглу держать не умеет, обед приготовить не может, а выходит замуж. Позор! И ведь во всём будут мать винить. Не научила, мол, жить и хозяйничать. Что станут говорить люди? Знаю, что скажут: у мужа Полины стельки торчат из пимов, в котле мясо не доварилось, чум дырявый, сугробы на постелях, черви в лукошке…
Женщина ещё долго поносила школу, учителей, грамоту. А когда солнце скатилось на грудь океана, Матро пошла в соседний чум и попросила дежурного пастуха поймать упряжных оленей.
Вскоре упряжка Матро уже летела в сторону поселка. Прыгали за спиной огромные холмы хребта Яней, а под копытами оленей бежала, качаясь, равнина. Стало легче на сердце. Скоро Матро встретит мужа и дочь. Раз человек в дороге — значит, встретит. Хорошо быть в дороге! Летят нарты, и кажется, что они обгоняют время, оставляют его позади.
— Хо! Еще три дня. Успею поговорить с дочерью, успею нарядить на свадьбу.
Олени бежали рысью. Пел в ушах ветер, хотелось петь и Матро. О чем петь? Обо всём! О том, что небо высокое, земля шире неба, и горит в ночи солнце. Мало ли о чём можно петь? Тундра велика. Матро смотрела по сторонам — не пропустить бы встречной упряжки! Олени Матро бежали, нарты подпрыгивали на кочках, вверх и вниз взлетала линия горизонта. «А может, люди правы — Микита запасается вином? Какая свадьба без вина? Наверно, пароход ещё не пришел, и Микита ждёт, — подумала она. — Приеду в поселок — только рассержу Микиту». Матро потянула на себя вожжи, олени остановились. «Вернусь… Вернусь в стойбище». Но вдруг подумала: «А зачем? Зачем возвращаться в стойбище? Людей смешить? Микита без меня не приедет. Он ждет меня в поселке».
Она шикнула на оленей — ещё быстрее полетели нарты к поселку. Опять раскачивалась вокруг голубая от росы равнина. Матро пела:
Тук-тук-тук! — бегут мои олени; сердце птицей хочет улететь. Тук-тук-тук — кого везут олени? Подскажи мне, солнечная ночь. «Тук-тук-тук! — Полину и Микиту!» — отвечает солнечная ночь!.. Тук-тук-тук! — у дочки будет счастье, словно лето, в солнце и в цветах. Тук-тук-тук! — бегите вдаль, олени! Пой нам песню, солнечная ночь.Навстречу упряжке плыли сонные дома поселка. Утро было тихое, даже собаки не лаяли. Видно, понимали, что женщина — не больно грозная птица. Матро медленно въезжала в поселок. Микита, одиноко бродивший между домами, сразу узнал упряжку жены. Ноги сами его понесли навстречу Матро. Та обрадовалась:
— Что так долго-то, Микита? Вина, что ли, нет в поселке? Парохода ждешь?
— Вина-а!.. — закричал Микита не своим голосом, будто его ужалила оса. Глаза его засверкали. Он схватил жену за косу, она упала с нарты. — Я покажу тебе вино! Зачем ты приехала? — шипел Микита, задыхаясь от злости. — Сейчас же назад, в чум! Проваливай! Я сам во всем разберусь!
Матро прижалась к земле, прятала лицо. Наконец Микита отпустил её. Теперь он молча ходил вокруг нарты. Стояла тишина. Люди в поселке ещё спали. Микита снова подошел к жене и пнул её тобоком:
— Что я сказал? Оглохла, что ли? Домой!
Через минуту Микита уже сидел один на земле и с грустью следил за удаляющейся упряжкой Матро. О чём он думал — знают только сонное утро и сам Микита.
XIII
— Здравствуй, самолетный начальник! — тихо проговорил Микита, входя в комнату.
— Добрый день, Никита Яковлевич! Где пропадал? Проходи, — отозвался Борис, продолжая откручивать гайку от какой-то мудреной машины.
Микита уселся на стул и тяжело вздохнул. Начальник аэроплощадки долго возился с непослушной гайкой, гремел ключами, корчил чумазое в мазуте лицо, сорил крепкими словами, будто они могли помочь делу.
— Ну, Микита? Значит, всё в порядке? В дорогу? — поинтересовался Борис.
Микита не отозвался.
— Я спрашиваю, домой едешь?
Микита по-прежнему молчал.
«Оглох, что ли?» — подумал Борис и посмотрел на Микиту.
— На тебе лица нет!
— Что? — опомнился Микита.
— Я говорю: на тебе лица нет. Случилось что-нибудь?
— Есть у меня лицо.
— Мрачное, серое. Уж не заболел ли?
Микита почувствовал, как горят уши и щеки. Вздохнул и сказал:
— Олешков жалко. Долго стоят… Я же бригадир.
— Так кто же тебя держит? Езжай.
— Держит не держит… Однако пароход ещё не пришел. Товар, продукт надо… Вина мало.
— На что тебе много вина? — Борис улыбнулся. — У тебя и так два ящика… На свадьбу, что ли?
«Лешак меня за язык дернул!» — с досадой подумал Микита.
— Кха-ха-ха-а!.. Свадьба!.. Какая свадьба может быть у Микиты? Вино той свадьбы уже давно в земле.
— Мало ли что у вас там, в тундре… Я ведь не знаю, — огрызнулся Борис. Но Микита не слышал его, продолжал серьезно:
— Вино, конечно, на свадьбе — первое дело, но и без свадьбы пригодится. Мало ли что бывает? Под дождем промокнешь, в ледяной воде искупаешься… Без вина нам нельзя.
— Так-то, конечно, так, — согласился Борис. — Ну а если честно признаться? Неладное что-то у тебя… Неладное. По глазам вижу.
Микита долго молчал, потом решил: «Борис — хороший человек. Он поймет. Борис — лучший друг Микиты».
— Ты, Борис, правду говоришь. Беда у меня. Дочь моя с ума сошла.
— Что ты говоришь?! Полина? Вот это да-а!.. Погоди, ведь я её вчера видел, возле самолета, и вечером — они с учительницей за водой на озеро шли… Как же это случилось-то? Когда? В какую пору?
— Понимаешь, — замялся Микита. — Не так я, видимо, сказал. Она, она…
— Что она?
— В тундру, в чум не хочет ехать! — выпалил Микита. — Совсем девка голову потеряла! Учиться, говорит, поеду. В город.
Борис недоумевал.
— Ну так что же? По-твоему, она с ума сошла? — и Борис расхохотался. — Ну и ну, Никита Яковлевич. Напугал ты меня, насмешил.
— Что смеешься? — обиделся Микита.
— Да ведь это же хорошо, что она учиться хочет! Тундре нужны грамотные люди. Ты гордись, Никита Яковлевич. Выучится дочь — человеком будет.
— Человеком? Разве я не человек?
— Все мы люди.
— Я тоже думал, что ты человек. — Микита покачал головой. — Думал, ты мне друг, а ты — лешак, живой лешак! Вот кто ты!
Микита схватил малицу, мешок с продуктами и вышел. Потом он унес два ящика спирта, укрепил всю провизию на нартах и уселся на землю. Сидел неподвижно, как сова, курил, нюхал табак. Учиться… Это, конечно, учителя им напели. У ребят мозги вытряхнули, набили головы мхом. Что же с тундрой-то станет? Учиться… Ладно, если бы парень, а то — девка! Игла, еда, огонь — вот вся девичья учеба… Нет! Полина учиться не будет! Чему она там научится? Зубоскалить с парнями? Не зубоскалить надо, а замуж идти.
Микита поднялся и направился к дому директора школы.
— Здравствуйте, Никита Яковлевич! — встретил его директор.
— Отдай мою дочь! Полину!
Геннадий Матвеевич забарабанил пальцами по столу.
— Никто её у вас не отнимает. Вы разговаривали с ней? По-серьезному говорили?
— Нет, не разговаривали. Зачем разговаривать?
— Полина в тундру не поедет. Вы её насильно отдаете замуж. Это запрещено законом. Полина хочет учиться.
— Учиться?! Нет! Ты, директор, хочешь сам жениться на моей дочери! Ты, наверно, обманул её! Тьфу!
Микита выскочил из комнаты и побежал к нартам. Вскоре голодные хапторки уже выносили задыхающегося от злости Микиту на простор тундры.
XIV
— Ты подожди, Полина. Я — скоро, — сказала Тамара Михайловна и ушла куда-то.
Полина долго смотрела в окно на обнаженный отливом сырой песок, где толпились рыбаки, закидывая первые в эту путину тони, и сердце её наполнялось радостью. Ей не верилось, что первый и, может быть, самый главный шаг уже сделан: она едет учиться. «А как ехать? На что?..»
«Заработаю… Были бы руки!» — думала она. Она достала мешок: вытащила паницу, пимы, липты, тобоки и словно отлитые из бронзы нерповые пимы-бродни. Полина взяла их, сунула в них тлеющие тряпочки и начала свертывать голенища. По кромкам подошв, где шов, заструился тоненькими нитями едкий дымок.
— Пересохли… — Полина достала тучейку — меховую сумочку с подшитыми к ней копытцами оленят. Вскоре она уже сидела на полу, зашивая скрученной оленьей жилой дыры на пимах. Полина шила и пела старинную песню-плач женщины о своей безысходной судьбе:
Он меня в жены взял, я идти не хотела. Смотрит он на меня, как на свою собаку. Скажет: «Усь!» — бегу, не оглянусь. Скажет: «Пы-ырь!» — совсем забоюсь. В чуме я не хозяйка, муж меня не ласкает. Сердце обливается кровью, а я все смеюсь, смеюсь и смеюсь, как глупый ребенок!Она качала головой, пела и видела перед собой Едэйка.
— Не выйдет у тебя ничего, Едэйко!.. Не выйдет! — Она качала головой. — Опоздал ты родиться, парень… Не те времена. И девушки не те, Едзйко!..
Одно имя жениха выворачивало душу. И Полина запела другую народную песню — счастливой женщины:
Говорят про меня — плохая, ни сердца нет, ни ума, Напрасно так говорят. Ой-ей-йе! Напрасно клевещут! Я ли в том виновата, что достался красивый муж? Я ли в том виновата, что меня муженек мой любит, резвой важенкой величает, а других он так не зовет! Потом Полина запела ещё одну песню. Грустную: Нет у меня и хороших саней, нет у меня и красивых оленей, не радугой сукон расшита паница — ветер лохмотья треплет на мне. Нет у меня горностаевой шапки, есть у меня только муж нелюбимый. Нет, не хочу горностаевой шапки, паницы нарядной, пожалуй, не надо, — было бы только четыре оленя — сильных оленя и быстрых оленя. Поеду туда, где солнце встает, поеду туда, где любимый живет! Мне будет светло, будто в солнечный день. С ним я всю тундру пройду — не устану! Нет, не устану!— Всю тундру пройду — не устану… — вздохнула Полина, отложила шитье и задумалась. Потом она достала из тучейки письмо, которое получила в день последнего звонка. Много раз читала его, и снова захотелось прочитать. Полина медленно развернула листы, исписанные размашистым почерком.
«Здравствуй, Полина! Чтобы ты не гадала, кто пишет: это я, Иван Лаптандер. Ты, наверно, помнишь такого… Ваньку Лаптандера? Если не ты, так косички твои наверняка помнят. А нет — так вспомни, как ты облила чернилами мою тетрадь по алгебре… Не удивляйся, Полина, что пишу тебе. Друзья мои все разъехались: кто в тундру подался, кто учится, кто в армии служит. Я с теми, кто учится и служит в армии, переписываюсь, а ждать письма из тундры — дело безнадежное. Сама знаешь, как пишут из чума. От родных уже полгода нет писем, от ребят из тундры тоже ни строчки. А вдали от всего родного очень хочется знать, что там делается, что нового в школе? В колхозе? В тундре?.. Может, откликнешься, Полина? Напиши, расскажи обо всём интересном. Кстати, ты ведь тоже в этом году прощаешься со школой. Желаю удачи! Какие у тебя планы? В тундру, небось? Замуж? Шучу, конечно.
А я вот, видишь, почти год как в Ленинграде. Учусь на историко-филологическом. В пединституте. Скучать не приходится. Лекции, театры, кино, спорт — хожу в баскетбольную секцию. А город какой!..
Приезжай, Полина. Учиться приезжай. Всё сама увидишь…»
— Приезжай… — задумчиво повторила она. — Легко сказать…
Вошла Тамара Михайловна. Удивленно взглянула на лежащие на полу пимы, паницу, липты и тобоки, потом на Полину, прятавшую за спиной письмо, улыбнулась и спросила:
— Уж не на рыбалку ли собралась, Полина?
— На рыбалку. А что?
— Ничего. — Лицо учительницы сделалось серьезным. — Убирай всё — и пойдем.
В учительской их ждали директор, завуч, учителя.
— Мы тут посоветовались, Полина, — начал Геннадий Матвеевич, — и решили помочь тебе. Помог и учительский профсоюз. Решение ты приняла верное и, надо сказать, смелое. Ты и нам на многое открыла глаза. Что ж, счастливого пути! Учись хорошо, становись настоящим специалистом, — родители поймут тебя и порадуются вместе с нами, я в этом не сомневаюсь.
Директор пожал Полине руку и передал бумажный пакет. Полина машинально взяла его и только тогда поняла, что в пакете — деньги.
— Спасибо, — сказала она, краснея, и положила пакет на стол перед Геннадием Матвеевичем. — Только денег мне не надо. Я сама заработаю.
— Я знал, что ты так скажешь, — кивнул директор. — Конечно, деньги ты заработаешь. Но на это нужно время. А тебе нельзя оставаться в поселке. Пока ты здесь, отец не отстанет от тебя и в конце концов добьется своего. Так что бери деньги, не раздумывай, и собирайся в дорогу. Счастливого пути!.. Об отце и матери не волнуйся, они успокоятся и всё поймут.
— Спасибо вам… — сказала Полина, из глаз её брызнули слезы. Слезы бежали неудержимо, слезы радости — как дождик сквозь солнце.
XV
Сначала хапторки бежали резво. Потом сбавили ход, и вот уже нарты ползли еле-еле, неровными толчками. Травы под полозьями шипели, как перепуганные кошки. Голодные хапторки то и дело хватали ягель, глотали его вместе с комьями черной земли, а Микита бил их длинным хореем по спинам, по головам, тыкал костяным наконечником в упругие ляжки.
Микита спешил. Солнце неумолимо катилось к океану. Микита снова и снова начинал избивать животных. Теперь он коротко завязывал вожжу и бил хапторок кулаками по длинным мордам и ушам. Оленихи раздували ноздри, вставали на дыбы, били разбушевавшегося хозяина копытами по малице. Потом Микита устало садился, а олени жадно рвали губами сочные травы.
Микита сидел и нюхал табак. Стараясь успокоить себя, он всматривался в холодную синь тундры. Небо уже грозило Миките новым днем, когда в его чум хлынут люди почти со всей Большеземельской тундры. Микита поднимался, опять наматывал на руку вожжу, брал хорей, садился на нарты и гикал. Олени, перехватившие ягеля, отдышавшись, пытались бежать, напрягали последние силы и всё-таки переходили на шаг. Микита опять злился, надуваясь, как лягушка, опять бил оленей, будто они и в самом деле были виноваты в том, что дочь его, Полина, пошла против воли отца и матери, предала законы рода, но синяя сопка Янея, на которой стояли чумы его стойбища, не становилась ближе.
— Дурак ты, Микита. О чем ты думал, ушканья голова?! Зачем отпустил Матро на сытых оленях?! — бранил он себя, стуча кулаком по голове. — Пусть бы Матро на голодных хапторках уехала. Или увезла бы груз на своей упряжке.
А теперь что? Он всё равно ничего не добился: ехал в чум без дочери, свадьба которой назначена на завтра. Но кто в этом виноват? Полина? Директор? Он, Микита? — Виноваты были все, весь свет.
— Стыд-то какой! — говорил он вслух. — Люди смеяться будут… Жених проклянет… Позор!
А что он мог сейчас сделать? Разве что прикрикнуть на оленей:
— Хэй-хыть!
Олени будто оглохли. Они словно не слышали голоса хозяина, брели как во сне. Микита снова начинал хлестать их по спинам. Не помогало. Вот два крайних пелея опустились на колени, потом упали.
— Всё, — тихо сказал Микита и, тяжело дыша, подошел к лежащим на боку хапторкам. Он стоял молча, не трогал их. Он знал, что хоть убей на месте — они, изможденные, не поднимутся, пока вновь не просветлеет в глазах.
Микита распряг стоящих на ногах оленей, отстегнул лямки на лежащих. Посидел на нартах, глядя, как олени жадно едят, понюхал табаку, достал из ящика бутылку спирта, запрятал её за пазуху и, пнув нерпичьим тобоком ближнюю хапторку, направился в стойбище.
Чем ближе становился чум, тем чернее делались думы Микиты, тяжелела голова. Что делать? Уйти, спрятаться? Нет. Микита сам назначил день и сам должен сказать, что свадьбы не будет. А почему не будет? Что случилось? Микита должен сказать правду, не может он отменить свадьбу, — она всё равно должна состояться. Микита привезет дочь в стойбище! Он в это верит. Только что скажут гости и сам Едэйко, если свадьба будет перенесена на другой день?
— Что же случилось? Что? — спрашивал Микита и отвечал себе: — Думай, Микита. Думай! Сегодня Полина, завтра другая девушка откажется от законов рода… Думай, Микита. Вся тундра пусть думает.
Пимы и малицу Микита снял, тащил на себе. В стойбище он пришел утром. Люди в чумах ещё спали.
Матро хотела согреть чай, но Микита сказал ей:
— Рано ещё. Спи. Потом, когда все встанут.
Матро испуганно смотрела на мужа, но Микита молчал. Хозяин чума лежал и вслушивался в землю. Он ждал. Вот пробудился ото сна ветер, — донеслись издалека не то легкие толчки воздуха, не то волны какой-то едва уловимой ряби. Ближе, ближе, — и задумчивую тишину утра разорвали подобные грому выстрелы. Матро, сидевшую на постели, затрясло от страха:
— Ой, хосподи! Что же будет-то, Микита?
— Ничего, — спокойно сказал Микита. Взял карабин и вышел.
Матро не успела сообразить, что он хочет сделать, как от оглушительного выстрела заныли уши. Казалось, вся земля зазвенела…
Микита был прав. Ничего особенного не произошло. Одиночный выстрел, известивший о том, что свадьбы не будет, остановил упряжки гостей жениха, и они понеслись обратно в тундру.
Во второй половине дня над стойбищем появился самолет, он сделал три круга, но не сел, а только покачал крыльями и ушел в сторону Нарьян-Мара.
В это же самое время стойбище покидала упряжка Едэйко Тайбари с пятью оленями на привязи. Жених уезжал. Мириться и назначать новый день свадьбы он не захотел.
Микита, сидя на земле возле чума, смотрел вслед упряжке. В душе его что-то надломилось. Он говорил себе:
— Человек — не товар… Может быть, права Полина?
СИНЕВА В АРКАНЕ
… И поехали.
1
Олени бежали, закинув, рога над упругими спинами. Нет, не бежали олени — летели! Летели, как выстреленные из лука! И… то ли пересохшая земля звенела от копыт и полозьев, то ли олени трубили, наполняя резвой, как стремительный бег, музыкой простор.
Я давно ждал этого дня, давно мечтал сам на упряжке помчаться в тундру за песнями. А тут… на нартах со мной — синеглазая девушка.
— Держись! — говорю я.
Девушка цепко хватает меня за маличную рубаху.
Мне ещё утром сказали, что дневным самолетом прибудет ленинградская фольклористка, что времени в запасе у неё очень мало и надо бы увезти её в тундру прямо с самолета. Я согласился.
И вот летят нарты, среди тихого ясного дня поет ветер. Пусть поёт. У ветра свои заботы, свои дела…
Из-под копыт со свистом несутся над нами комья земли.
— Это Большая земля, — обращаюсь я к спутнице. — Тундра Большеземельская. Моя!
Мне весело смотреть в большие девичьи глаза, синие, как море в безоблачный день… Взгляды наши встречаются. Я отворачиваюсь. Олени несутся, сломя голову, словно хотят выскочить из шкур.
— О чём думаешь, мой проводник?
— О тебе.
Она засмеялась, скрестила на груди руки. Тут нарты запрыгали на кочках, и моя синеглазая спутница улетела куда-то.
Я спрыгнул. Вожжа натянулась, как тетива — до звона! Олени с храпом остановили бег. Девушка лежала на траве и вздрагивала.
«Плачет», — подумал я и, не помня себя, кинулся к ней. Поднял её, а она смеется.
— И о ком же ты думаешь, друг?
— О тебе!.. Поехали.
Олени рванули так, что меня откинуло назад, даже хрустнула шея. Но спутница моя крепко держалась за нарты.
Опять закачалась равнина. Я долго смотрел на оленей, и мне пришла в голову мысль: уже столько времени еду с девушкой, а имени её еще не знаю. Стало от этого неловко. Я сказал:
— Зовут меня Василием. Фамилия моя — Ледков.
— А я — Лида Попова.
Она замолкла, долго молчала и вдруг спросила:
— Слушай, Василий, а почему у тебя фамилия русская?.. И имя тоже?
— Как же это — русская?
— Да так.
— А вот и не так. Не русская.
— Какая же тогда?
— Ненецкая, — ответил я. — У меня ещё другая фамилия есть. Паханзеда.
— Па-хан-зеда?.. Почему так?
— Родовая она у меня.
— Родовая? — переспросила Лида. — Интересно!.. Расскажи, пожалуйста, как это получилось. То есть, почему не Паханзеда, а Ледков?
— Долго рассказывать.
— Это, наверно, очень интересно? А?
— Потом как-нибудь объясню. Сейчас ехать надо. Сама видишь, как олени летят. Трудно рассказывать, ничего толком не поймешь.
А она своё:
— Ну, пожалуйста, расскажи. Трудно, что ли? Дорога не уйдет.
Я остановил оленей, выбрал сухой бугорок, сел по-своему, скрестив ноги. Села и Лида.
— Рассказывай.
Я смотрел на неё, и мне казалось, что большие еёе глаза втягивают меня — тону, растворяюсь в них.
— И как же ты стал Ледковым?
— Было это давно… — начал я. — Наверно, не помнят этого и прадеды наши. Ты не смейся только. Я знаю, что это на сказку похоже. Но было. На самом деле было. Люди так сказывают, а я от отца слышал.
— Я не буду смеяться, — она улыбнулась, так и бегали ямочки на щеках.
Мне захотелось дотронуться до них, но я сказал себе: «Нельзя!»
— Взгляни вон туда, в сторону полуночи, — протянул я руку.
— Смотрю.
— Видишь остроголовую сопку?
Лида кивнула.
— Это — гора Крутая. Запомни: Крутая… Видна гора отсюда одна. А там, если подъехать, целая гряда сопок обнимает залив. На берегу залива стояло когда-то триста чумов моих предков. Место это называлось Паханзедами, что в переводе на русский значит — сопки у залива. По названию места соседние племена стали называть Пахензедами и людей, живущих здесь.
Мужчины ходили на охоту: в море — на нерпу и зайца, в тундру — на дикого оленя и песца. Дружно жили. Богатую добычу делили между собой поровну. Росли семьи, людей на стойбище прибавлялось.
Паханзеды были сильными, рослыми. Время бежало, и много раз слышали сопки весёлые и шумные свадьбы. Золотое было время…
Но с некоторых пор в стойбище стало твориться что-то непонятное: людей стало умирать намного больше, чем рождалось. Начались болезни, стали появляться уроды без суставов в руках и ногах, пошли хромые, слабоумные. Это встревожило Паханзедов. И однажды, с прилетом первых лебедей, собрались на лужайке все мужчины и женщины.
— Гольца, семги, нельмы и омуля полны наши реки, — говорили они, — в море много безрогого хора — морского зверя, тундра тесна от птицы, дикого оленя и песца. Но что случилось с людьми? Было у нас больше тысячи чумов, но уже половина их упала вместе с теми, кто под землю ушел. Если дальше так пойдет, не останется в живых и беспризорной собаки. Надо найти зло, надо спасти род Паханзедов.
И тогда-то поднялся рослый, с блеклыми, как осенняя трава, волосами старейшина и такую речь повел:
— Я десять раз по десять и ещё семь зим хожу по этой земле, но, как ваши глаза видят, кости мои ещё не съела плесень. А теперь пошли люди — от кашля задыхаются. Ткни такого пальцем — ноги протянет.
Старик помял жиденькую, но кудрявую бороду, окинул взглядом сидящих:
— Давно у меня сердце болит. И не от того, что я стар, пришло время под землю отправляться. Нет! Мне больно на наш паханзедский род смотреть. Хиреет он, вымирает. Какой нечистый дух напал на него?
Глаза у сидящих забегали, плечи упали, шеи вытянулись.
— Нет, не злой дух тут виноват, — продолжал старейшина. — В другом надо искать корни… Я пережил почти два поколения людей и кое-что видел. Рождение каждого нового человека — праздник для меня. Но всё-таки умирает людей всё больше и больше. Беда! А дети? Возьмите правнуков моих. У Микитки на ноге нет сустава. Хасавако родился без глаз, у Няданы голова набок… Здоровыми и ладными растут дети у Ядны и Ябтане. А они на другой земле разве живут? Я вот что скажу. Отец и мать у Микитки, Хасавако и Няданы — люди одной крови. Даже прабабушка у них одна: жила здесь красивая женщина Неркане. А Ядна и Ябтане — дети разных людей. У них кровь новая, и потому они здоровы. Так в чем же наша беда? Кровь наша стала одной. В ней всё зло. От неё идут болезни. Так и с оленями бывает, если долго не делаешь обмен хор и важенок со стадом другого стойбища.
Старик подумал и уже решительно сказал:
— И как бы ни была богата наша земля, ради спасения рода нам надо бросить её. Ищите, Паханзеды, новую кровь себе! Нельзя брать в жены девушку из своего рода. Чем дальше найдет себе жену юноша, тем выше поднимет свой род! И в семь раз лучше, если жена будет из другого племени и языка! А теперь думайте сами.
Я взглянул на синеглазую фольклористку, всю ушедшую, кажется, в дебри старины, и сказал:
— Вот так и покинул мой род сопки у залива. А место это до сих пор называют люди Паханзедами.
— Это здо-орово! — только и сказала Лида.
А я продолжал рассказ:
— По всей тундре разбрелся наш род. Те, кто ушли за Енисей, на Таймыр, Росляковыми стали; те, кто перевалил Уральские горы и поселился в низовьях Оби, сохранили фамилию в память о своей земле, а остальные откочевали в долину, что в глубине Большеземельской тундры. А долина или низина по-ненецки — «лед», маленькая — «ледко». С приходом в тундру русских появилось слово — Ледков.
— Ах, вот в чем дело!.. Лёд-то лёд, да не тот… — задумчиво и в то же время удивленно сказала Лида.
Я разогнул ноги, встал и сказал:
— Вот и весь рассказ. Ехать надо. Дорога ещё длинная.
2
Мы с Лидой долго мчались по августовской тундре. На краю земли, пропылав ярко, догорел закат. Первого августа просыпалась на небе первая звезда. Сейчас всё небо усыпано ими. Высоко, почти над головами, голубым огоньком мерцала Полярная звезда. Она всегда на одном месте. Вокруг неё ходит неустанно Большая Медведица.
— Созвездие это — часы ненцев, — сказал я Лиде. — Ковш рукояткой смотрит сейчас в сторону заката, на запад. Потом эта рукоятка медленно опустится и покажет полночь. К утру Большая Медведица поднимется справа от Полярной звезды, ковш опрокинется и покажет тремя звездами рукоятки на восход. Тогда-то и взметнется над тундрой рассвет, и звезды покинут небо.
Лида молчала. Она, наверно, устала сидеть целый день на танцующих нартах, да ей, привыкшей к домашнему уюту и теплу, видно, и спать хочется… А я люблю дороги тундры. Правда, я тоже бывал в больших и малых городах, мчался в поездах, летал на самолетах, качался в море на океанских лайнерах и рыбацких лодках — и всё-таки нет для меня на свете ничего прекраснее полета оленьих нарт. Я люблю спорить со встречными ветрами.
— Расскажи ещё что-нибудь.
— Что тебе, Лида, рассказать?.. А вообще везет мне в дорогах на Лид…
— Что-что? — заинтересовалась она. — Почему именно на Лид?
— Я люблю это имя. Многое у меня связано с ним.
— Что, если не секрет?
— Секретов нет. Была просто одна девушка. Не знаю, где она сейчас. Увидеть хочу её. Россия велика…
Олени, уставшие за день, шли шагом. Мы долго молчали. А я очень хотел слышать голос Лиды. В темноте от ощущения пустоты и безмолвия видел уродливые лица, дворцы в огнях и разную чушь.
Лида положила руку мне на плечо.
— Ты что замолк? Говори что-нибудь… У меня в ушах почему-то звенит, а в глазах…
— Кхы-ысь! — я стукнул хореем по спине крайнего пелея.
— У-ужас какой! — со вздохом сказала Лида.
— Не бойся, Лида. Миражи… Это бывает в тундре. Ночью.
— Ах так?! Я больше… Я никогда больше не поеду в тундру!
— Да ты что?
— В ушах звенит. Скачут огненные черти. Скаля зубы какое-то рожи!!. Вот! Вот они!.. Опять гримасничают!.. О у-у-жас!
Лида закрыла лицо руками.
— Лида…
Я остановил оленей. Она схватила меня за руку.
— Подожди. Сейчас ты не будешь бояться…
Я развёл костер — небо и земля вокруг нас сделались черными.
— Вот так веселее, — подставляя ладони к огню, сказала Лида. — Я и не думала, что увижу когда-нибудь миражи. Уф-уф!
Пляшут весело синие, желтые, голубые и зеленые языки пламени. Огонь с шумом гложет ветки карликовой березки. Летят к небу искры, и, рассыпаясь, они, кажется, превращаются в звезды. Хвост Большой Медведицы уже начал падать, но до полуночи ещё далеко.
— Может, поедем? — неуверенно спросил я Лиду. — День и ночь уже не дерутся. Миражей больше не будет до рассвета. Скоро мы до стойбища Ивана Лагейского доедем. Оно где-то рядом.
— Но стойбище найдешь ли?
— Найду. По звездам.
Лида покачала головой, но согласилась:
— Поехали.
Отдохнувшие олени пустились в бег. Я их придержал, и они перешли на шаг.
— Отец и мать мои, — начал я, — вовсе грамоты не знали. Бумагу недавно впервые увидели. В нашем роду все охотниками были. Зачем им бумага? А ты, Лида, бывала в тундре?
— Нет. Не приходилось.
Я плыву своим руслом:
— Так и жили они. Читали тундру… Хорошо знали её, понимали. Правда, в нашей семье был всё же один грамотный человек, со стороны матери. Брат её Антон Пырерка. Он первым ненецким ученым-лингвистом был, в Академии наук работал. Я его однажды в детстве видел. А в войну Антон Петрович погиб под Ленинградом. В те же годы умерла в тундре и моя мать Ирина Петровна.
— Много людей унесла война, — задумчиво проговорила Лида.
А над нами звезды. Спелые звезды. Они пляшут. А впрочем… звезды ли пляшут или прыгают нарты — не поймешь. Над головами ненцев всегда качались звезды и пел в ушах ветер. Ненец без дороги — не ненец, и дорога мертва, если в такт перестуку оленьих копыт не бьется его сердце. Дорога и ненец — дети одной матери.
Пели, как тетива лука, тягла постромок. Я только изредка, когда мысли начинали обгонять дорогу, вспоминал о хорее и вожже. Тогда я невольно ронял в ночь:
— Хэй! Хыть!
Ветер сменил песню на вой. Звезды как бы сбились с места и начали разматываться в небе огненными нитями.
Олени бежали…
Человек тундры со дня рождения на полозьях. «Так было всегда и так будет», — думал я в детстве. А дороги встречаются и расходятся, расходятся и встречаются. И разные они… Олень с недоумением и любопытством смотрит на рычащую машину, птица со страхом и завистью следит за тающим в небе самолетом.
— Интересная земля — тундра, — сказал я Лиде. — Здесь всё необычное обычно.
— То есть?
— Может, я не так выразился. Но я, например, не представляю сегодняшнюю тундру без самолетов и автомобилей.
Лида улыбается странно. Молчит.
— Да-да. Я не представляю тундру, вернее, небо тундры без крылатых машин. А дети мои удивятся: «Разве не было когда-то самолетов?»
— Так-то, конечно, так…
Меня удивило, задело за живое равнодушие Лиды.
— Сколько идет Як-40 из Архангельска?
— Минут тридцать пять — сорок.
— Вот видишь. А всего двенадцать лет назад из Нарьян-Мара до Архангельска летал Ли-2 с посадками в селе Нижняя Пеша и в Мезени. Ровно три часа длился рейс. Но тогда Ли-2 казались чудом века.
Моё знакомство с самолетом началось так. Я только что закончил на круглые пятерки семь классов. На экзамене по физике мне попался четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Я назубок знал все четыре такта этой мудреной машины. Они мне даже снились. А для чего, собственно, нужен этот четырехтактный двигатель, я не очень задумывался. Разумеется, для машин. Но машины я представлял тогда только по картинкам. Паровоз видел на иллюстрации к рассказу «Сигнал». Автомобиль и большие самолеты тоже видел лишь на рисунках в книжках.
Я всегда мечтал стать хорошим пастухом и охотником. И вот это время пришло. Я выезжал с отцом в тундру. Счастливый, покидал школу. Но ещё до этого меня вызвал наш директор.
— Ты как отличник должен ехать в Ленинград, на учебу, — сказал он.
«Ленинград? Это же не близко. Наверное, все мечтают побывать в этом городе…»
— Поеду, — ответил я.
А самому не терпелось как можно быстрее выехать в тундру. И вот она тундра — большая-большая. На просторе с первого шага чувствуешь себя хозяином земли. Олени!.. Как хорошо пасти оленей!..
Но скоро привезли в чум телеграмму от директора: выезжай, мол, на учебу. Но как поеду, если я уже пастух? Потом пришла телеграмма из окрисполкома: «Выезжай учиться». А в День оленя приехал в наше стойбище секретарь окружкома партии.
— Ты получал телеграммы?
Секретарь был ненец. Он говорил на русском, ненецком и коми языках.
— Зачем сыну учиться? — противился отец.
Тот дал отцу расписаться в бумаге с круглой печатью, и меня повезли в поселок.
Отец сидел на земле и плакал. У меня тоже текли слезы. Шутка ли? Мамин брат Антон Пырерка тоже когда-то уехал из нашей тундры и не вернулся. Погиб на войне. Но я уже сидел в фанерном самолете с каким-то землеустроителем, колени в колени, хотя он и был в два раза длиннее меня. Потом затарахтел мотор, самолет наш ожил, пробежал вдоль небольшого островка, загудел сильнее. Меня прижало к спинке сиденья. Вскоре мы уже качались в воздухе. Першило в горле, пахло бензином.
А внизу черной точкой на зеленом лугу — отец. Мне иногда кажется, что он и теперь сидит там.
Это был мой первый полет, хотя самолеты в нашем небе были давно уже привычными.
Лида смотрела на меня удивленно, но ничего не говорила. А меня теперь уже не остановишь: я — не радио, не выключишь.
— Теперь уж ничему не удивляешься. Гагарин… Титов… И пошла арканить Вселенную орбитами спутников и кораблей космическая эпоха! Люди на Луне… В космосе сразу семеро… А завтра, может быть, туда отправится аргиш звездных кораблей, и пойдут по неизведанным планетам наши земные вездеходы. И это тоже будет вполне естественно и обычно.
Вспоминаю, как по всей тундре шли разговоры о какой-то новой машине, которая летает без крыльев и называется вертолетом. Вертолет… Что это за чертовщина? Наверно, и вертится и летает… Нам, уже не представлявшим жизни без самолетов, хоть краешком глаза хотелось как можно скорее взглянуть на вертолет.
…Уже третьи сутки в Карских воротах гудели, как в трубе, ветры. Пурга — хоть глаз выколи! Уже который раз радист выстукивал на ключе всё одну и ту же телеграмму в Нарьян-Мар, в окрздравотдел: «Срочно дайте на Варнек санзадание зпт нужен врач-гинеколог тчк Смирнова».
В поселке, в домике, корчась и кусая губы, металась в беспамятстве женщина. Заведующая медпунктом Смирнова была как на иголках. Она то выбегала на улицу, то снова, вся в снегу, вваливалась в медпункт. Надежды на самолет уже никакой не было. Надо было предпринимать какие-то меры на месте. Но тут внезапно упал ветер, во всю ширину распахнулся голубой шатер неба, и в Варнек прилетел вертолет. Людям, правда, не пришлось долго любоваться им. Заслуженный врач РСФСР осмотрела больную и сказала:
— Срочно готовьте её в Нарьян-Мар.
Вскоре тонкохвостая и круглоголовая машина, которую тут же прозвали болотным комаром, поднялась в воздух. Это был первый рейс вертолета в Большеземельскую тундру. Пилоты с тревогой всматривались в разламывающуюся линию горизонта. Тревога была не напрасной. Сначала ожили на снегу легкие струйки белого дыма, а потом зачадил весь белесый простор. Одинаково серыми сделались небо и земля, вертолет затрясло: началась пурга. Вскоре заглох мотор.
— Приехали, — сказал пилот врачу.
— Так быстро?
— В куропачий чум приехали.
— В чум так в чум. Ладно… А окажись в голой тундре и…
— Так это куропачий чум. Голая тундра. Лететь больше нельзя. Пурга.
Врач опустила руки на колени.
— А если роды?..
— Примем, — спокойно сказал пилот, достал обогревательную лампу, разжег и поставил её к ногам врача. — Грейтесь.
В холодной кабине сделалось жарко, а за тонкой дюралевой стенкой властно бушевала непогода. Ветром даже раскачивало машину. Лишь под утро улеглась пурга и вызвездилось небо. Под огромной раскрасневшейся луной стало тихо-тихо. Звезды ещё по инерции продолжали качаться. Прислушайся, и обязательно услышишь их нежный серебристый звон… Первый пилот и врач устало сидели на низких сидениях, а второй пилот заботливо качал на руках укутанную в меховую летную куртку Вертолину.
— Кого? — переспросила Лида.
— Вертолину.
— Ещё не легче! Что это за имя?!
— Такое имя дала дочери мать. В честь первого вертолета. Что удивительного? Девочка родилась в вертолете. Машина спасла ей и матери её жизнь. Ничего плохого в этом я не вижу. Зато единственное на земле имя! Плохо ли?
За рассказом я совсем забыл о дороге. Олени брели словно в полусне. Издалека донесся лай.
— Что это?
— К стойбищу подъезжаем.
Впереди блеснул огонек.
— Огонек! Живой огонек!..
То ли от Лидиных восторгов, то ли почуяв жилье, олени перешли на бег, и мы подлетели к стойбищу.
Собаки визжали и гавкали.
— С чего они так разлаялись? Людей, что ли, не видели?
— Спроси их…
Лида, казалось, хотела обидеться, но…
— Вон огонек-то! Вон!.. — обрадовалась она.
Рядом с серой тенью чума красной звездочкой плавал огонек. Потом кто-то цыкнул на собак, и около нас вырос расплывчатый силуэт человека.
— Кто приехал? Здравствуйте!
По голосу я узнал Ивана Лагейского.
— Здравствуй, Иван! Здравствуй! Я гостью к тебе привез.
— А-а! Это ты? Здравствуй! — Он поздоровался еще раз и подал руку.
Лида с трудом вытащила из мешковатого суконного совика руку и сказала:
— Здравствуй, Иван! Будем знакомы. Меня зовут Лида Попова.
— Иван Лагейский, — подал тот руку и, повернувшись ко мне, произнес по-своему: — Хабене?
— Что-что? — спросила Лида.
— Ничего. Хабене. Русская женщина значит, — пояснил я.
Лида замерла недоуменно, но ничего не сказала.
— Заходите. В чум заходите. Будьте гостями, — сказал неторопливо Иван и начал распрягать наших оленей. — Стадо около стойбища пасется. Олени ваши не уйдут далеко. Заходите в чум, грейтесь.
Я повел Лиду к чуму.
— Это чум? — спросила она удивленно. — Как стог сена… Серый… Я ведь косила…
— Да, чум.
Я отыскал дверь и распахнул её.
— Заходи, Лида.
— Куда?
— Да вот дверь-то.
Лида просунулась с трудом внутрь чума, повертела головой туда-сюда и отпрянула назад.
— Выйдем, Вася.
Мы вышли.
— Что с тобой? Испугалась, что ли?
— Нет. Но… в чуме темно! Ничего не пойму я…
Я отчетливо вспомнил своё беспомощное состояние, когда из мира снежного безмолвия одним махом перелетел как бы через столетия и утонул в шуме самых современных городов.
— Я думал, вы давно в чуме. Что ж не заходите-то? — удивился Иван. — Заходите.
Иван, как все истинные ненцы, не разбрасывался лишними словами, не занимал нас лишними расспросами. Он прошел мимо нас, распахнул дверь и исчез за ней.
Лида подошла ко мне и шепнула:
— Обиделся он, что ли?
— Нет. Не обиделся. В тундре люди одно и то же не повторяют несколько раз. Запомни это на всякий случай. Зайдем.
Я отворил дверь и пропустил вперед Лиду и вошел сам. Яркий свет керосиновой лампы резанул глаза.
— Ой, как хорошо! — Лида не смогла удержаться. — Я думала, тут вообще некуда сесть, а места — хоть сто человек заходи!
Тревогу на сердце у меня как рукой сняло. Иван уже сидел в глубине чума, облокотясь о высокие подушки в наволочках из цветастого шелка.
— Проходите сюда. Садитесь. Будьте как дома.
Я перешагнул на латы, примостился рядом с Иваном и провел рукой по пушистому ворсу шкуры пестрого оленя.
— Садись, Лида…
Мы сидели на теплых оленьих шкурах. Супруга Ивана Авдотья раздула времянку, погремела за занавеской ковшом, поставила перед нами стол на низких ножках и занялась чашками.
Спутница моя уже ничему не удивлялась, хотя её цепкий взгляд и хватался за всё….
Мы с Иваном разговорились о своём детстве. Я и сейчас будто вижу, как висит над стойбищем белая луна и обливает волнистые снега мягким зеленоватым светом. Родители наши после удачной охоты на песца сидят в соседнем чуме. Они уже разговаривают громче обычного, кто-то пытается петь, но голос его срывается. Певец замолкает.
— Помнишь, Ваня, как стащили потихоньку малокалиберки у отцов? Целую пачку патронов в луну выпустили — все не падала, и ни одной пробоины!.. И давай палить в бабушкину лопату: всю-то, бедную, издырявили!
— Ну и ну! — качала головой Лида.
А в чуме запахло от времянки каленым железом, Жара. Мы с Иваном вылезли из малиц. Пришлось снимать суконный совик и Лиде.
После долгой езды по молчаливой тундре чай был очень кстати. Я, казалось, смог бы один выпить большой медный чайник, но Лида, к моему удивлению, достала из пузатой сумки бутылку спирта. На столе от этого стало как-то сразу светлей и уютней. Иван послал жену за гольцом, а сам занялся спиртом. Лида пила чай и удивлялась:
— Я бы никогда не подумала, что чай в тундре особенный: чем больше пьешь — тем больше пить хочется.
— Да, это так, — подтвердил я. — Главное — он душу греет.
Вскоре на фарфоровой тарелке вспыхнули коралловые куски нежного гольца, а в воздухе забродил густой аромат жаркого.
Иван поднял рюмку и сказал:
— За счастливую дорогу!
— За дорогу можно, — согласился я.
Тост охотно поддержала и Лида.
— Это уже не чай. Много не выпьешь.
— А я думал… наоборот, — удивился Иван и улыбнулся.
Рюмки пустели и снова наполнялись, но наша синеглазая гостья отказалась от спирта, ссылаясь на то, что завтра будет болеть голова, замутятся глаза, а ей всю тундру видеть хочется. Мы согласились, хотя знали, что всю тундру за один раз трудно увидеть.
Одна из разбавленных бутылок спирта «ушла в магазин»[81], на столе прозрачно заулыбалась вторая. Обычно молчаливый рассудительный Иван потерял равновесие: стал словоохотлив, весел и угловат в движениях. Лида поглядывала на Ивана с особым любопытством, а мне синева её глаз как бы шептала: «Будь человеком, не теряй голову…»
Я задумался, но тут подошла Авдотья.
— Люди с дороги, наверно, спать хотят… Я приготовила постель. Только одеяло одно…
— Ладно… по-дорожному, — сказал я.
Иван взялся за бутылку.
— Может, ещё по одной, а?
Свою пустую рюмку я опрокинул на стол.
— Отставим до лучших времен. Спать надо. Дорога — вещь серьезная и капризная.
Лиде мой поступок пришелся явно по душе. Я сначала почувствовал, а потом уже увидел, как лицо её посветлело. Я встал, зевая, перешел на другую половину чума и улегся в постель. Лида тоже не стала раздумывать — последовала моему примеру.
Чум засыпал. Ровное, успокаивающее дыхание рядом… Ещё не вполне овладевшая мной дрема тихо-тихо вынесла меня из чума и поставила на ноги у взлетно-посадочной полосы Нарьян-Марского аэропорта. Гул моторов и всплески голосов. Рукопожатья и поцелуи…
Не ошибаясь, прямо ко мне вышла из потока пассажиров худенькая синеглазая девушка с синей пузатой сумкой на ремешке.
— Это вы будете моим каюром?
Я молча взял у неё ношу и, не оборачиваясь, пошел к нартам. Девушка чуть ли не бегом последовала за мной. Уложив аккуратно диковинную сумку на нарты, обернулся. Гостья моя стояла, широко разведя руки, оторопев.
— Ой! Оле-ешки… Оле-ешки!..
Но опасливо удержалась от дальнейшего шага к ним. А олени большими равнодушными глазами посматривали на неё и продолжали жевать.
— Оле-ешки…
…А когда я почему-то проснулся, через макодан — отверстие в верху чума, которое служит и окном и дымоходом, — смотрело на меня голубеющее небо. Я осторожно взглянул на соседку. Глаза её открыты. «Что не спит?» — подумал я и повернулся на другой бок. Стали сниться какие-то города, вокзалы, раскидистые пальмы, каменистый пляж Черного моря, похожего почему-то на тундровое озеро, но скоро я опять оказался в чуме. Он был погружен на самое дно предутренних снов.
А соседка? Глаза её по-прежнему открыты. Меня это озадачило, кольнула обида, но нарушить тишину, спросить, почему не спит, не хватило воли. Меня, как зыбун, снова присосал сон…
— Что-то каюр у тебя, как сонный мешок, — услышал голос Ивана. — Наверно, неделю не спал, а?
— Всю ночь ворочался, — говорит Лида.
Я поднял голову. В чуме уже было светло. Жарко и даже душно от раскалившейся времянки.
Сложив ладошку к ладошке, передо мной на корточки присела Лида.
— С добрым утром, каюр! А я вот совсем хозяйкой чума стала.
— Утро-то доброе, — говорю я. — Спасибо. Я малость проспал… А чай-то у тебя готов, хозяйка?
— Всё готово, и даже обед. А скоро мы олешка будем резать! Вот. Это, Иван сказал, в честь моего приезда.
Лида встала, гордо шагнула раз, другой и упорхнула в глубину чума.
А после завтрака, уже на улице, она остановила меня.
— Мы уйдем в сторонку, когда начнут резать?!
А молодой олешек метался на конце тынзея из стороны в сторону, пытаясь всеми силами вырваться на свободу. Вокруг него безумолчно тявкали собаки. Они не скрывали своей радости, зная, что положенная доля от олененка скоро достанется и им.
Вели олешка к чуму Иван, Авдотья и молодой пастух Егор Явтысый. Я смотрел через плечо Лиды на бедного олешка и говорил:
— Какие картины идут в Ленинграде?
— Много хороших… Перед отъездом я «Ричарда Третьего» смотрела. По Шекспиру. В двух сериях.
— Да?.. В двух сериях?
— Да. А что?
— Тру-удно…
— Да ты что?
— Да так.
— Странный ты какой-то, Вася…
Я видел, как разделывали оленя, как в чашу налили кровь, посолили её, и Иван крикнул:
— Будьте к столу, гости! Кровь остынет!
— Ну вот… и готово, — трогательно сказала Лида, повернувшись. — Пошли.
Вокруг туши суетились люди с длинными ножами, которыми ловко подсекали куски нежного мяса у самого носа.
— Господи, как они носы-то не отрежут? — промолвила тихо Лида и подтолкнула меня, шепнув: — Иди тоже ешь.
Я взял острый охотничий нож и с удовольствием, как все, начал есть сладковатое оленье мясо, а моя синеглазая спутница торопливыми шагами ходила вокруг нас, словно мы за заколдованной чертой. Наконец, набравшись храбрости, она подошла ко мне и попросила:
— Дай попробую.
Я отрезал не очень жирный кусок, макнул его в кровь и подал с кончика ножа прямо в зубы. Лида долго ходила с ним, жевала его и всё же выплюнула, сказав:
— Очень знакомый вкус… Я часто разбивала нос в детстве.
Она хотела добавить что-то ещё, но тут подошла Авдотья — подала нам дымящиеся, поджаренные на огне ребра.
Теперь Лида ела, не глядя ни на кого, а когда упало на землю голое ребрышко, она выпрямилась, вытерла платком губы и… ничего не сказала.
3
— Значит, сказки собирать приехали? — обратился к нам Иван.
И нам показалось, что в голосе его прозвучала ирония.
— Утром мясо, днем мясо, вечером мясо — надоедает… — сказал он и угостил нас нельмой. — Небось, вкусная рыба? Я из поселка привез. Говорят, один план наши рыбаки уже выполнили.
Вскоре мы убедились, что не совсем правильно поняли отношение хозяина чума к сказкам. Песня Ивана была длиннее, чем августовский день в тундре. Он пел негромко, но так задушевно, что казалось, героем легенды был сам поющий.
Хорошо пел Иван. Песня его — что река в половодье. Разве оторвешься хотя бы на миг, если что ни слово, то образ, что ни предложение — оригинальная мысль.
Все люди стойбища собрались в чуме Ивана. Певец умел заинтересовать слушателей. Песнь его лилась стройно. Все слушали с напряженным вниманием. Порой, казалось бы, встречалась совсем незначительная деталь, но затем, когда в жизни героя проходил целый период времени с массой событий, эта же деталь становилась центром повествования и в то же время исходной вехой к новым подвигам героя.
Иван пел и время от времени пояснял непонятные, уже устаревшие слова и выражения. Тогда он, обращаясь к нам, ронял задумчиво:
— Это чтобы было понятно вам.
Лида ревниво следила за бобинами и индикатором «репортера». А я был рад и горд за пути-дороги родной мне Большеземельской тундры, которые вели нас с Лидой к людям, к их сердцам с чудесными песнями. А песен в любом чуме — что куропаток в тундре.
Песня Ивана Лагейского текла плавнее, чем реки по Варандэйской равнине, которая казалась шире неба, и звучала сильнее, чем прибой Баренцева моря. Герой сюдбабца[82] — Нохо Нгацекы. Он, батрак трех братьев-многооленщиков, пустозеров, пас оленей недалеко от Болванской губы. Нохо пел о пережитом:
Когда земля разденет снежную малицу и вдоль морского берега волны побегут песцовой стаей, на спине моря покажется, как скалистый остров, трехмачтовая лодка — лодка братьев-богачей. Они забьют оленей, они возьмут песцов, шкурки горностаев, лис и соболей, а нам оставят ветер, слезы и вино. Так живем мы с другом, караулим стадо. Нет своих оленей. А зачем живем мы? Не поймем и сами…И вот однажды вдоль берегов рек потянулись на север аргишами проталины. Нохо увидел на льду Болванской губы живые темные точки. «Не часть ли оленьего стада отбилась?» — подумал он и выехал с четырьмя прицепами грузовых саней на лёд залива. Но там были не олени — нежилось под весенним солнцем стадо морского зайца. Не упускать же такой случай! Нохо решил поохотиться. Он так увлекся, что не заметил, как тронулся целиком весь лед залива и вместе с ним вынесло его в море.
Два с половиной года Нохо Нгацекы жил на плавучей льдине. Когда было съедено мясо всех шестнадцати оленей, он спасался от голодной смерти мясом морского зайца и нерпы[83]. К счастью, льдину прибило к припаю, и Нохо добрался до людей, до тепла живого огня где-то за морем Тетивы — Енисеем. Но куда деться человеку, если у него только две руки, две ноги и голова на плечах? И Нохо батрачил у новых хозяев. Он готовил дрова, носил воду, караулил оленей и пел об этом в своих песнях:
Только день откроет веки — я беру топор. Наколю дрова и воду принесу, а под вечер к стаду в полусне бреду…Так шли дни, месяцы и годы. И всё же через десять лет Нохо Нгацекы отправляется в путь к родным печорским местам.
Три недели еду — нет земли знакомой. Справа — тень от моря, слева — тень от леса. Хмурит небо брови, плачет белым снегом. Быть беде ли страшной?.. Или быть добру?..Но вот взвихрился снег, и выросла на просторе оленья упряжка. Она летела прямо на Нохо. А в ста саженях до Нохо ясавэй[84] остановил оленей и выхватил из-под амдера боевой лук.
Достал свой лук и Нохо Нгацекы. Запели стрелы. Стреляли день, два дня… три недели. Нохо Нгацекы ловил летящие в него стрелы левой рукой и отправлял их обратно. Левой рукой же хватал летящие в него стрелы и отправлял их обратно и противник Нохо Нгацекы.
Наконец неизвестный бросил на нарты свой лук и пошел к Нохо. Бросил лук и Нохо. Завязалась борьба не на жизнь, а на смерть. Дернет на себя Нохо противника — земля под ногами того обнажается до мертвых трав. Дернет на себя Нохо противник — под ногами Нохо сугробы ползут вместе с мёрзлым дёрном. На исходе седьмой недели под ногами бойцов хлынула из-под земли на снег голубая глина…
Иван долго пел — с утра до заката, но песне его ещё не было конца. А когда небо усеялось звездами, опоясали чум сполохи, Лида спросила:
— Много ещё до конца?
— Много. Ещё примерно… Нет, намного ещё больше, чем слышала, — спокойно ответил Иван.
Потом посмотрел на нас и о чем-то подумал.
— Может, на сегодня хватит? — неуверенно спросил он и тут же поправился: — Нет. Ещё немного. А завтра вторую половину начнем. С утра. Ладно?
В это время на времянке горлышко чайника затянуло комариную звень, и хозяин пригласил всех к столу.
За чаем мы не забывали о песне. Вспоминали яркие случаи из жизни Нохо, удивлялись его ловкости, силе, уму и воле.
— Да-а! Два с половиной года на льдине… — протирая глаза, говорил шестидесятилетний старик Явтысый. — Это много. Ой как много! Я всю жизнь ходил на морского зверя, всё бывало, были и самострелы, тонул в ледяной воде, но, видимо, счастье меня не обошло стороной: ни разу не приходилось плавать на льдине.
— Я бы, наверно, умер со страха, — продолжал речь отца сын старика от четвертой жены Егор Явтысый. — Надо же так! Вот ведь были люди-то раньше…
Лида с напряженным вниманием слушала разговор. Я переводил ей и текст песни, и слова говорящих.
А после ужина, когда была убрана посуда, песня Ивана Лагейского снова полилась. Слушали её старик Явтысый и его сыновья Егор и Ермолай. Слушали песню хозяйки чума Авдотья, Саване, Ламдоне, Августа и пастухи Петр Талеев и Егор Лаптандер. Ну и мы, конечно, с Лидой слушали. В чуме хозяином была только песня. Время от времени мы поддакивали певцу и, восхищаясь неожиданным образом, поворотом мысли, удалью героя, цокали языками. Это так положено, чтобы легче пелось и чтобы певец мог знать, не спят ли слушатели.
Только глубокой ночью песня замолкла, и Иван сказал:
— Пожалуй, хватит на сегодня. Завтра продолжим. Только пораньше соберитесь.
Люди расходились по чумам, и каждый, наверно, думал: «Что будет с Нохо дальше?»
Всю ночь стонал на улице ветер, хлестал по нюкам дождь. А утром открыл глаза тихий, хотя и пасмурный день. На травы и цветы медленно падали широкие хлопья снега. Подобное иногда бывает в тундре и в середине лета. Но когда бы ни шёл этот разлапистый снег, ненцы о нем обычно говорят: «И пошел снег каждой снежинкой с телячью шкуру».
Лида, накрывшись совиком, возилась на нартах с магнитофонными пленками. От чумов в сторону моря уносились необычные упряжки. В маленьких лодках, поставленных на нарты, деловито восседали морские охотники. Оленеводы перед уходом в глубь тундры решили заглянуть на море — обзавестись нерпичьими шкурами и сыромятным ремнем из кожи морского зайца. А мы поспешили к Ивану. В чуме гудела времянка, хозяин сидел на шкуре пегого оленя за столом и листал журнал «Огонек». Заметив нас, он отложил журнал и сказал тихо:
— Проходите. Я думал, у вас ещё свои дела. Встали-то рано… А наши, вы, наверно, уже видели, поехали на море.
— Видели. Тебе, может, тоже надо ехать? — говорю я.
— Как это так — ехать? А песня?..
Мы подсели к столу. Иван поглядел в открытую дверь на широкие хлопья снега, летящие лениво к земле, с минуту помолчал, словно что-то вспоминая, и запел:
Там, где Большое Ивовое море бежит к океану, направо пойдешь — нет края земли… Там на тропинках оленьих ищите меня. Там Камни. Два Камня Больших упираются в небо, под солнцем горят голубые вершины их, как высокие тучи под солнцем горят.— Стой, а мелодия… другая? — заметил я.
— Разве другая? — лукаво улыбнулся Иван, и уже серьезно: — Это такая песня. Ты-то почему не знаешь? Теперь у всех ненецких песен две мелодии. Вы только машину лучше крутите, ни одного слова не теряйте.
Я кивнул одобрительно, и Иван опять запел. Он пел вдохновенно. Пело и всё его лицо. А когда заглянула в чум через макодан первая звезда, он сказал:
— Нохо Нгацекы теперь живет в собственном доме на оседлой базе колхоза, а ездит к оленям на вертолете. Счастье над головой Нохо уже давно горит электрической звездой, которую Ленин зажег. — Иван посмотрел на Лиду. — Машину свою теперь закройте, пока всё. Остальную часть песни мы все вместе будем петь. Всю жизнь. Этой песне нет конца…
Я тут же перевел слова Ивана, и Лида засмеялась.
— Ловко!.. Ловко купил ты нас, Иван. А вторую половину, что сегодня пел, ты сам сочинил?
— Сам. Что сочинять-то, если так всё было?
Лида, пряча лицо и стараясь отвлечь от себя взгляд Ивана, перевела магнитофон на воспроизведение. В притихшем чуме снова ожил голос Ивана. Он доносился из венгерского магнитофона, словно откуда-то издалека.
— Вэй! Что это? Кто поет?
Надо было видеть, как лицо у Ивана посветлело, узкие глаза всё шире и шире и — сделались круглыми.
— Страшная машина… — прошептал он и спросил по-русски: — А я умру? — И тут же заулыбался.
— Почему умрешь? — удивилась Лида.
— По нашей вере, тот, чья тень или точное изображение его отпечатается, скажем, на камне, дереве, металле, глине — уже не жилец: душа его украдена лешим, и он должен умереть, — объяснил я.
Лида сказала:
— Не бойся, Иван. Такие, как ты, не умирают.
— Я-то понимаю. Это то же, что и радио. Ничего не будет, — задумчиво проговорил Иван.
Да, он-то знал. И благо, что был с нами Иван Лагейский, а не кто другой. Иван все же — свой, и в школе учился… А ведь среди малограмотного кочевого населения тундры влияние языческой религии дает себя знать и до сих пор.
Встреча Ивана со своим голосом заставила нас задуматься…
4
Ветер споткнулся, упал, не дышит. Снег только напомнил о себе, и его как не бывало. В тундре будто снова стали цветы распускаться. Я лежал на траве около чума, вспоминал детство, пути-дороги, смотрел в синюю даль. В голове — стихи:
В ночном краю, где небо черное роняет в озеро звезду, олений путь и тропка торная тебя ко мне не приведут. Следы мои в снега упрятаны, и сам уже не знаю я, на чьих санях, за чьей упряжкою кочует молодость моя.Они у меня сами выплеснулись, когда шагал по улице шумного города. А сегодня я снова в тундре. Низко над землей проплыли лебеди, обрызганные зарей.
— Лида!..
Лида не слышала меня. Не было её рядом. Мою синеглазую спутницу заворожили легенды и сказы бабок и дедов. Она то и дело щелкала кнопками «репортера», а певцы то заунывно, то торжественно, то сбиваясь на речитатив, покачиваясь и жестикулируя, готовы были с утра до первых звезд тянуть переливистые мелодии.
Лида… Я не знал, что родился в России. Долго не знал я, что есть на свете Россия. Глядел наивными детскими глазами на эту почти всегда белесую землю и не думал, что, кроме нас — отца, мамы, бабушки и меня, — есть где-то другие люди. Я любил этот лебединый край. Любил его простор и его величавый покой. Наяву и во сне я жил с думой дотянуться рукой до звезд, просыпался утрами с мечтой добежать до начала земли, где, говорит бабушка, прятало свое золотое гнездо солнце.
Но не из сказки узнал я, что Россия — моя Родина. Я вырос, обласканный её теплом и заботой, и ушел от дверей отцовского чума искать счастье. А там, где мечет прибой чаячьи стаи, где срываются с круч и гаснут в волнах под суровый напев океана закаты, я услышал про дальние земли и начал искать к ним дорогу… Но я о другом, совсем о другом хочу говорить.
На забытой некогда богом земле, в моем Заполярье, загорелось солнце в лесах новостроек. Не сказка это. Явь. Такое возможно только в России. Россия… Это она синеглазой русской женщиной терпеливо учила меня у классной доски слагать из букв певучие слова. Россия… От её душевного тепла оттаивает в тундре вечная мерзлота. За это и за своё второе рождение я буду славить Россию всегда!
Узнав о России, узнал я и то, что за зубчатой спиной гор, как всюду на земле, живут люди. Люди… У каждого свой любимый край, свой горизонт. Человек всю свою жизнь спешит к горизонту. От дверей отцовского чума, который, казалось мне, стоял в центре вселенной, уходил вслед за убегающим горизонтом и я.
…Гуляла весна девчонкой с голубыми мечтами. Тундра подернулась дымкой. Снег, умирая, подарил жизнь травам, цветам, листве. Вечерело. По пологому склону горы солнце катилось к морю на ночлег. Косые его лучи в переливах озерной воды вспыхивали, как янтари. Сбежавшие к ручью олени допивали остатки зари, лениво поднимались на берег и ложились беззаботно под кустики рогов. Детство… Как всё-таки свежи в памяти его следы! Кудрявая ива, ползучие березки, речка. Я вновь на берегу этой безымянной речки. Здесь повороты всех тропинок помню наизусть. Нельзя не помнить. Здесь я рос, ходил на охоту. Так вот же она — всё та же зелёная пойма, по которой я нёс в стойбище свой первый трофей — утку. Я шел к чуму, хмелея от счастья, и ноги не чуяли земли. Я не шел, а летел. И даль становилась как будто светлее. Сияло солнце. Раздвинув широко золотые ресницы, оно глядело на меня с любопытством.
Шагал я, забыв обо всём на свете, и гордо размахивал птицей.
Отец мой, охотник бывалый, сидел около чума, мастерил хорей. Он только взглянул на меня мельком и как ни в чём не бывало снова принялся за дело. «Похвали — загордится, пожалуй», — говорил его взгляд. А в дверях стояла в восторге мать. Она взяла у меня добычу:
— Нум нгарка! Бог велик! И сын мой охотником стал! Приготовлю сегодня самый вкусный обед.
Я ликовал. Забросив иглу и шитьё, как утка, вразвалку, к нам подбежала бабка:
— Внук с добычей пришел! Нум нгарка! Праздник настал! Мало женщине вырастить сына, счастье женщины — вырастить внука!
Я видел, как на её лице, похожем на высохший гриб, разгладились морщины. Бабка обняла меня, поцеловала и, взяв на руки, начала качать. Взгляд мой встретился случайно со взглядом отца, и меня словно огонь лизнул. «Я ж охотник!» — мелькнуло у меня в голове. Напряг все силы и вырвался из бабкиных объятий.
И ещё помню один давно потухший морозный вечер. В чум ввалился белый от инея, как сова, отец. Он бросил на латы двух голубых песцов и сказал:
— У зверя, сын, зорок глаз, но человек — хитрее. Зверь нюхом живет, человек — умом…
Отец очень хотел, чтобы сын его стал таким же охотником, как он сам. Он учил меня и пасти оленей. Но я не пошел отцовской дорогой. И это потому, что в маленьком тесном классе на краю земли то строгая, то ласковая синеглазая русская женщина открыла мне тысячи новых дорог. Те дороги и позвали меня вслед за убегающей чертой горизонта — в далекие, ещё не знакомые мне края. И тихим полярным рассветом закрутилась подо мной земля. Чум, море, ружье да олени — вот, пожалуй, и всё, что знал я, уходя в путь. А потом… Потом произошло со мной что-то подобное сказке. Я поднялся выше птиц. Я же с детства завидовал птицам, жалел, что нет у меня крыльев. И вот подо мной голубые озера с вышитыми серебряной пеной берегами, через тундру и горы ветвятся, как оленьи рога, реки.
Печора… Я много слышал о ней. В сказках и легендах у нас называют её Ивовым морем. Почему Ивовым? — не знаю. Вспомнилось: я иду к Печоре по деревянным длинным мостовым Нарьян-Мара. Тогда я впервые обул ботинки. Непривычно в них, ногам больно. Ботинки на середине дороги снял, завернул в газету и потопал в носках. Легко, хоть до края земли шагай!
Вспомнилось и то, как, чуть грустя по полярным просторам и певучей тишине родной тундры, я впервые сошел по трапу самолета на архангельскую землю.
Город… Мог ли я думать, город, что вот в этот летний день, пропахший всеми ветрами тундры, вольюсь в твой горячий поток? Асфальтовые мостовые. Большие многоэтажные дома. Огромные раскидистые деревья. Люди, люди, люди…
Народ разный. Старики, молодые. У каждого, конечно, заботы, дела…
Я вбирал в себя всё, как губка, но не успевал понять, осмыслить увиденное. Ломило в висках, болела голова. А мир во всём своём многообразии с новой неукротимой силой врывался в меня.
Солнце хлестало лучами по раскаленной мостовой, как водопад. Жара. Окунуться бы в зимнюю ночь! Пот — ручьями. Пересохло во рту. Воды бы! Нет воды… Мне бы в тундру сейчас, глотнуть бы воды ключевой из ладоней. Мне б мороженой нельмы, мерзлого мяса!..
— Мороженое! Покупайте мороженое, — остановил меня звонкий голос.
Чудится, что ли? Нет. За тележкой стоит девчонка в белом и говорит всем прохожим:
— Мороженое! Пломбир, эскимо! Покупайте мороженое!
Я ринулся к девушке и столкнулся с каким-то человеком в соломенной шляпе.
— Так можно и растоптать, — покачал он головой.
Я отошел от него, но снова наткнулся на кого-то другого…
Город, город… Велик ты и тесен. Злюсь на город, на зной, на себя…
Большой вокзал. Гриву дымную вздыбил паровоз. Я ещё никогда не видел настоящего паровоза. А теперь он — чихает, кашляет совсем рядом. Живой!
— Пломбир! Эскимо… Покупайте мороженое, — не умолкала звонкоголосая девушка.
«Эскимос… нашла мне тоже эскимоса! — возмутился я. — Нет, неприлично в городе есть мороженое мясо или рыбу. А сварить — не то. Да и негде сварить».
Но люди подходили к девушке с тележкой, брали у неё что-то белое, как снег, в стаканчиках и тут же начинали есть.
Я тоже купил стаканчик. Вкусно. Тогда я взял сразу пять стаканчиков с белым, сладким и холодным снегом.
— Извините, пожалуйста. Вы на скорый?
Я обернулся и увидел золотоволосую девушку с синими, как утреннее небо, глазами.
— Да. На скорый. А что?
— Ничего, но… Вы из тундры?
— Да.
— Я тоже. С Мезени, то есть. Будем знакомы. — Она протянула руку. — Лида. Я и не думала, что встречу в городе земляка. А далеко едете?
— Нет… Не дальше расстояния, — сказал я и подумал: «Навязчивая какая».
— Знаю… Нам с вами по пути, — улыбнулась лукаво Лида.
— Не хотел бы… Расставание будет… долгим.
— Ты не шути. Я же знаю, куда ты едешь. Улицу знаю, дом. Мне в облоно сказали. Едем! Началась посадка…
Я пошел за Лидой. А в вагоне, когда поезд наращивал скорость, подумал: «Как ясна ты, вчерашняя тропка, и как загадочен будущий путь…» Но я также понял, что в этот трудный час на перепутье мыслей и дорог мне опять помогло русское сердце.
За окошком вагона — ветер. На стыках рельсов стонут колеса. Поезд плавно летит по железной лыжне, по незнакомой, но все же родной земле. Навстречу бегут селенья, леса, мелькают реки, стройки, озера, поля. Мне почему-то становится особенно радостно, хочется петь. Петь всё равно что, лишь бы не молчать.
А рядом, будто поняв мои мысли, запел русый парень: Всё гляжу я в окошко вагонное, наглядеться никак не могу…Подхваченный хором, рванулся из окон раздольный мотив. Полетел ширококрыло над простором. Запел, кажется, весь поезд. Люди пели о кудрявых березках, вольных русских далях, белопенных прибоях черемух, золотоголовых подсолнухах, о любви…
А за окнами вагона всё так же мелькали села, деревни, убегали назад города, зеленые леса. Утром затихающий стон колес прервал голос из репродуктора:
— Граждане пассажиры! Мы прибыли в город-герой Ленинград.
Город шумел, как прибой среди ясного дня. Сплошной бесконечной рекой текли люди… Я в жизни и оленей столько не видел, сколько здесь людей. Удивление и страх сковали у меня язык.
— Ну что, Вася? Куда пойдем — на такси или в автобус?
Я посмотрел молча на Лиду, не решаясь спросить, что такое «такси», «автобус», и сказал:
— Если можно, лучше пешком.
И так мы с чемоданом и сумкой прошагали по всему Невскому от Московского вокзала до набережной реки Мойки.
…Потом началось обычное студенчество без особых жизненных поворотов. С Лидой мы часто встречались: ходили в кино, в театр, коротали вечера под высоким дубом, который до сих пор, подпирая ветвями небо, стоит у входа в главный корпус института. Я учился в восьмом классе школы при институте, а Лида заканчивала математическое отделение дефектологического факультета…
Сейчас я не знаю, где Лида. А я по возвращении в тундру, удивленный и гордый своим краем, где рождаются ветры, написал поэму. Она заканчивалась так:
Погляди на свое Заполярье: как меняется край на глазах! Как несет уже теплою гарью от заводов, встающих во льдах. Встань в шеренгу единого фронта, строй, работай, с судьбою скандаль и стремись за черту горизонта вдаль!..Пусть эти строки ещё далеки от большой поэзии, но мне они дороги.
5
И опять со мной Лида. Другая Лида… Очень похожая на ту, первую.
Был тихий вечер. Сопки допиливали зубчатой хребтиной широкую полосу зари между горизонтом и ровной кромкой серо-голубой шапки неба из тяжелых, как гагачий пух, облаков. Лида зачарованно, даже приоткрыв по-детски рот, смотрела на зарю, сопки, а потом повернулась ко мне и сказала:
— Я ведь помню, Вася… Крутая.
Солнечным утром следующего дня наша с Лидой упряжка летела к горе Крутой. Правда, перед выездом я заявил на стойбище, что поехали мы в третью бригаду — соседнее стойбище и вечером обязательно вернемся. Но это было сказано для отвода глаз, так как была со мной девушка — человек женского пола. А женщина у ненцев всегда на особом счету. Являясь началом жизни и добра, она в то же время считалась причиной всех зол и самым поганым и грешным на земле существом. Женщина не должна перешагивать через вещи, принадлежащие мужчине, предметы общего пользования, посещать священные места, ходить вокруг чума против движения солнца. И много ещё различных запретов существовало для ненецкой женщины. Словом, где женщина — там быть беде. И Лида не без моей помощи строго соблюдала нормы тундрового этикета.
А теперь наша упряжка неудержимо мчится к горе Крутой. И вот мы уже по крутому склону взбираемся на вершину Паханзед. Лида хватается за торчащие из-под земли камни и удивляется:
— Откуда на камнях смола?
— Лезь. Узнаешь. Расскажу.
И мы снова лезем в гору. А на самой вершине Лида всплескивает руками и замирает в изумлении.
На берегу маленького озера, глубину которого никто не знает, из-за груды костей смотрят на полдень двести деревянных человечков. На полдень же смотрят пустыми ямами глазниц рогатые оленьи черепа. У ног идолов белеют медвежьи зубы и клыки моржей.
— Есть храмы, мечети, синагоги, — говорю я. — Я, сын некрещеного язычника, из любопытства заходил во многие церкви. А эта, так сказать, наша церковь. Сюда не положено ходить женщинам. Ещё ни одна женская нога сюда не ступала. Ты, Лида, первая. Но не бойся. Нас никто не видит. Даже эти сядэи. А главный бог ненцев — Солнце — не умеет говорить.
Лида молча улыбается.
Я берусь рукой за один из лежавших на земле моржовых клыков и с трудом открываю обросшую сверху густой травой круглую крышку с голубой, как небо, внутренней стороной.
— Подойди, Лида. Взгляни.
— Чум! — вскрикивает Лида.
На белом, словно снег, дне круглой ямы, стены которой голубые, как внутренняя сторона крышки, стоит маленький чум.
— А в чуме… — Я просовываю в него руку и достаю оттуда сидящую со скрещенными ногами фигурку человека, отлитую из золота.
— Ненцы тоже поклонялись Желтому Дьяволу, — объясняю я и показываю золотого сядэя Лиде.
— А его не стащат?
— Ненцы не стащат, а кто другой — не знаю.
Лида вертит сядэя в руках, вглядывается в круглое с плоским носом лицо, в раскосые глаза.
— Господи! И бога-то оненечили!
Потом она оборачивается ко мне и говорит почти шепотом:
— Мы с тобой, Вася, что-то страшное делаем. А если заметят?.. Узнают?..
— Плохо, — отвечаю я тоже тихо, будто кто-то может нас подслушать, и спрашиваю: — Ну, теперь ты знаешь, что такое гора Крутая?
Лида кивает.
— И как же будет выглядеть это «плохо»? — в словах Лиды звучит испуг.
— Убьют.
— Убьют?!
— Ты не бойся. Убьют только наши тени, а вскоре после этого мы должны сами умереть. Но меня уже несколько раз убивали, а как видишь…
— То есть… Как это наши тени убьют?
— Очень просто. Или пристрелят при тебе же твою тень на земле, или сделают из дерева очень похожее на тебя подобие куклы и на священной горе, как эта Крутая, повесят на сутки на связанных сверху, как шесты чума, хореях. Потом эту деревяшку или сожгут, или захоронят в землю, как умершего человека. Кроме того, чтобы твоя настоящая смерть наступила быстрее, зарежут в жертву богам оленя и кости его привезут на священную гору. Кровью жертвенного оленя обольют все камни, которые встретятся на пути к вершине (это природные, естественные сядэи), и всех деревянных идолов. Но лики деревянных сядэев тут же обольют водкой или спиртом. Водку и спирт человек приносит на священную гору для того, чтобы выпить вместе с богами за успех задуманного дела.
Я вырвал из Лидиного блокнота листок, смочил его в воде из озерка и начал соскабливать ножом на бумагу с одного из идолов темные, похожие на смолу, наросты. Раскрошившаяся в порошок темная масса расползалась по мокрому листку бумаги бурыми и красноватыми пятнами.
— Вот она твоя смола, Лида.
— Кровь… Правда, кровь… А много таких святых мест?
В тундре много, а в Паханзедах, кроме Крутой, больше нет. Впрочем… Видишь вон ту угловатую сопку? Это — гора Лохолянг. Не священная гора, но на ней похоронена ненцами война.
— Война?! Я вижу, у вас не тундра, а страна чудес! И как же вы похоронили войну?
— Жил когда-то, примерно триста лет назад, человек по имени Вай — злой. Он каждый год собирал огромное войско и налетал по первому снегу на землю ненцев. Страшные были войны. И вот в один из таких набегов на холме Хальмер Хаберез — Грудная клетка покойника, — где два года назад была битва, Вай заметил чум. Войско Вая на этот раз шло на Пустозерск, а чум какого-то смельчака стоял далековато в стороне от дороги. Не гнать же к одинокому чуму войско, если там и одному воину нечего делать. И Вай решил расправиться с чумом сам. Он взял лук, встал на меховые лыжи и, ничего не сказав воинам, пошел по тропе своей мысли. Там он, не доходя шагов сто, сел на сугроб и отправил в чум крик:
— Эй! Хозяин чума! Срок твой настал! В чуме ли своем ты решил умереть или погибнуть, как настоящий человек, в бою?
Хозяин чума, уехавший по капканам ещё с утра, не мог, конечно, этого услышать, а туговатая на уши его жена, увлеченная шитьем, тоже не уловила голоса врага. Только единственный в семье семилетний сын, игравший около матери в куклы из гусиных и утиных клювов, выхватил спешно мастеровой топор отца и залез на два поперечных шеста внутри чума, на которые подвешиваются на крюках котлы и чайники. Мальчик лишь уселся с поднятым топором — распахнулась дверь. Ехидно улыбающаяся голова покатилась по латам к ногам матери, а тело двухметрового великана рухнуло в дверях.
Войско, перепуганное таинственным исчезновением вождя, который один умел склонять на колени целые народы, повернуло обратно и разбежалось, а ненцы похоронили Вая на горе Лохолянг. С тех пор наша тундра не знает войн. А на горе Лохолянг и сейчас есть четырехугольная неглубокая, длиной в два метра земляная яма. Говорят, земля осела над гробом Вая.
— Красивая легенда, — задумчиво обронила Лида.
— Это не легенда, — возразил я. — Случай такой действительно был, но… скелет его, может быть, и на самом деле оброс словесным мясом.
— То-то, — сказала Лида и открыла в улыбке оба ряда красивых, как белый мрамор, зубов. Синь в её глазах сделалась густой.
«Я ещё заарканю твои глаза, как горизонт тундру», — подумал я, а сам заговорил совсем о другом:
— Удивительная земля — Паханзеды!.. Погода — что там на дню! — в течение часа и дождь, и солнце, и туман и — снова солнце. Ветер дует, кажется, со всех сторон одновременно. Всё быстро меняется, и лишь море верно себе в одном: шесть часов вода прибывает, шесть — падает. В прилив вода плещется у самого подножья сопок, а в отлив обнажаются мели, Паханзедка — единственная в сопках река — обсыхает совсем, и тогда голубоватая глина её недавнего дна вся покрывается причудливыми узорами утиных, чаячьих и гусиных следов. И кажется, это вовсе не птичьи следы, а оттиски звезд, которые в тихие ясные ночи играют, отражаясь на глади речной воды…
Я ещё долго рассказывал Лиде разные истории, а вечером, положив золотого идола обратно в его чум, мы покинули гору Крутую.
6
В последующие дни Лида занималась своими делами. Она внимательно и подолгу слушала певцов, расспрашивала их, а потом уходила на солнечный склон сопки около стойбища и что-то записывала торопливо в блокнот. Я не мешал ей. Работа есть работа.
Но Лиду из делового равновесия и меня из вынужденного спокойствия вывел Иван. Однажды он вернулся в стойбище и рассказал о подозрительном человеке, который ходит по тундре пешком, долго нигде не задерживается, неизвестно что делает, неизвестно куда направляется. А носит он с собой металлическую коробку, чуть больше спичечной, которая попискивает.
— Геолог? Турист?
— Нет. Геологи и туристы поодиночке не ходят, — сказал я.
— Всё-таки, наверное, диверсант, — решила Лида.
— Это в тундре-то? Нет. Не может быть, — возразил я. — Что ему здесь делать?
— Так-то, конечно, так. В тундре ему делать нечего, — рассуждала Лида. — Но ведь ты сам утверждаешь, что «пространства здесь измеряются веками: от селенья до селенья — четверть века». Вот и вся логика. Тундра и вообще Север для диверсанта — благодатная земля. Здесь он может спокойно появиться, а пути отсюда во все концы открыты — поезжай, куда заблагорассудится. Это — раз. А во-вторых, люди здесь очень доверчивы. Шпион — не шпион, а надо выяснить, что за личность.
Я сначала не поверил, что Лида может быть такой решительной, но постепенно её воля овладела мной. Я сказал:
— Надо выяснить…
А молва, как всегда в тундре, не подвела: на склоне дня к нашему стойбищу одна за другой начали подлетать оленьи упряжки. Люди наперебой рассказывали о незнакомце:
— Шли дожди, а одежда на нём была сухая и опрятная…
— Лицо широкое, нескуластое. Волосы белые…
Весь вечер мы строили догадки, опровергали их, сомневались. А утром упряжка Ивана и наша с Лидой мчались к избушке старика Хозяинова, который уже много лет ловил на побережье рыбу, охотился на морского зверя и песца. Это к нему, говорят люди, пришел из Нарьян-Мара незнакомец, а потом подался в тундру, пошел по стойбищам оленеводов.
А тундра летела под нарты так, что травы и цветы между полозьями сливались в одно серовато-зеленое полотно. Олени бежали, раздувая ноздри и вывалив длинные розовые языки. И чем дальше мы удалялись от стойбища, тем сильнее овладевала мной мысль о поимке шпиона.
Легкий ветер донес до нас какой-то рокот. Вскоре из-за ближнего увала выполз, урча, вездеход, прошел наперерез и замер. Рука невидимого человека позвала из кабины, и мы пошли к машине. В кабине сидели трое загорелых парней. Они глазами смерили нас с ног до головы и с головы до ног. Когда смотрели на Ивана, улыбались, и я понял: они его отделили от нас, откинули в наивный и простецкий мир тундры. Мне почему-то показалось, что я уже видел где-то этих людей. И тут сердце мое резануло словно бритвой: «Ах вот оно что! Так вот вы кто такие!» — мне вспомнился рынок в Воркуте. Это было в марте. И вот тогда-то двое из сидящих теперь в машине выкладывали из мешков на прилавок мороженых чиров, пелядей, сигов и гольцовг а третий, которого здесь нет, то и дело совал в полевую сумку красные десятки, четвертные, полсотенные и сотенные купюры. Рубли, трешники и пятерки, как стружки от рубанка, летели в бумажный ящик из-под конфет, стоявший возле. Покупателей было много.
Взглянув на сидящих в машине, я шепнул Лиде:
— Пойдем, Лида, к нартам. Это — не люди! Браконьеры… Спекулянты…
Лида качнула головой и сказал тихо:
— А на лбу не написано. Подожди.
Шумел приглушенный мотор, и слов наших, конечно, никто не слышал.
— Здравствуйте! — сказал сидящий у окошка, слегка горбоносый, головастый.
— Добрый день! — ответили Иван и Лида, я тоже пошевелил губами, будто что-то говорил.
Он повернулся к товарищам, пошептался, потом ещё раз ощупал нас изучающим взглядом и начал толковать с Иваном:
— Ну что, Ванька, всё на олешках ездим, семгу ловим? А зимой шкурки? Песцовые, горностаевые?
— Слушай, Ванька, а пыжик у тебя есть? — дискантом, словно из порожней бочки, прокричал водитель.
— Нет, — отрезал Иван и переступил с ноги на ногу.
— Хорошо живет Ванька, — не унимался первый. — Семга… песцы… ишь ты, не надо голову ломать?
— А вам-то не нужна пыжиковая шапка?! — словно откуда-то издалека послышался голос Лиды.
— А почему — пыжиковая?
— Не для всех же шапка Мономаха! — ехидно сказала Лида.
Он быстро закурил, и спичка, жужжа, упала на землю. Потом улыбнулся.
— Хороший парень Ванька. Шикарную свадьбу в прошлом году закатил. Три дня тундра пировала. Погуляли. Было с кем, да, Ванька?
— Гостей-то, конечно, много было. Всяких! — словно вырубил каждое слово Иван.
Лицо головастого перекосилось улыбкой. Мы пошли к нартам, а он говорил нам в спину:
— Ну, а с банькой-то как, Ванька? Спинку-то молодой жене трешь? Или не научился ещё в баньке-то мыться? Ничего, научишься. Трогай, Петя. Поехали!
Тронулись в путь и мы. Встреча эта Лиду словно подменила. Она совсем перестала разговаривать. А на редкие мои вопросы отвечала коротко и даже раздраженно. Наконец всё это вывело меня из терпения, и я спросил:
— Что с тобой, Лида?
— Я думаю. Ты прости, мне так лучше, — сказала она.
— Кысь-кысь!.. — погнал я оленей.
…Встреча со стариком Хозяиновым разбила все наши подозрения. Мы узнали, что фамилия слонявшегося по тундре человека — Термосов, звали его Сергеем. Он ещё в прошлом году глубокой осенью появился в избушке Хозяинова, но вскоре уехал к себе в Киев. Профессия его — кузнец. Он исходил всю Европейскую Россию, а потом решил пройти по Заполярью. Этим летом Тормосов прибыл в избушку Хозяинова продолжить прерванный осенью путь.
— Упрямый, смелый народ эти туристы. Люблю таких, — как бы подводя черту нашему разговору, сказала Лида и подсела к столу. — Хороший шпион…
— А? Што-што? — задело старика. — Ента-то? О, нет, не-эт. Ента вовсе, взабыль, не шпана. Хороший мужик. Я его беда хорошо знаю.
— Нет, дедушка. Нет. Конечно он… не шпана. Я просто к слову, — пояснила, краснея, Лида.
— Ан! То-то. Ты, доченька, о хорошем человеке никогда плохо не говори. У земли, мила, и глаза есть и уши.
…После короткого чаепития на берегу моря мы поехали в обратный путь. Это, казалось, понимали и олени. Они бежали дружно и легко, закинув над спинами мохнатые ветвистые рога. Лида напевала ультрамодную песенку, но ни слов, ни мелодии я уловить не смог из-за свиста встречного ветра и. стона скрипучих нарт.
Иван примерно на полпути остановил упряжку, решив, видно, дать оленям отдохнуть. Лида соскочила с нарты, отошла немножко, повернулась ко мне — и вот мы уже идем с ней по мягкому цветущему разнотравью.
— Вот что я думаю, — начала Лида. — Холодная земля — тундра. Но какое тепло этой земле дают все-таки здешние жители. Вот, скажем, тот же Иван Лагейский. Век прожил здесь, да? И ещё бы не один век жить ему. И мне вот здесь, честное слово, — она поправила пряди волос, — даже без малицы тепло.
А под ногами всё то же мягкое, зеленое, цветущее… Мы подошли к озеру. Я смотрю в него — синее. А может, не в него, а в Лидины глаза? И может, не оно смотрит на меня, а сама Лида?
Да ведь и на самом деле она смотрит на меня.
7
Напрасно мы с Лидой ездили в соседнюю бригаду оленеводов, где шесть лет назад жил мой добрый сказочник дед Игнат.
Я и так знал, что Игната Вылки в стойбище нет — живет в новом городе Большеземельской тундры, но думал, что, может быть, и сейчас по доброй традиции люди тех чумов сказывают сказки и поют песни.
— На охоту уехали. На гусей. Дня три ещё не вернутся, — объяснили нам оставшиеся в чумах женщины с грудными младенцами и ребятишки, которым до всего дело, а в школу рановато.
— На охоту, говорите? — рассуждал я. — Тоже надо. Зима долгая. На одних только оленей надеяться нельзя. Месяц — и оленя нет, а то и двух. Это на семью. А всей бригадой так недолго и целое стадо в котел угнать…
Мы не стали беспокоить своими делами хозяек чумов. У них и без нас забот по горло. И после полудня наша упряжка опять подлетела к стойбищу Ивана Лагейского. На душе у меня было грустно. Снова впустую пропал день. Распустив оленей, мы с Лидой направились молча в чум.
— Ха-а! Ха-ха-ха-а! — захохотал Иван, увидев нас.
Мы посматривали растерянно друг на друга и на Ивана. Лида провела ладонью по вспотевшему лбу и спросила шепотом, подставив лицо к свету с макодана:
— Что на лице? Грязь из-под копыт летела.
— Ничего нет. Лицо как лицо.
— А-а! Растерялись, небось. Где смелые, а тут… Проходите, — заговорил Иван, поглядывая на нас лукаво. Он всё ещё смеялся. Потом поставил на стол бутылку водки. — Тут, брат, не шпионов, как Термосов, ловить. Дела пострашнее.
— Не иначе как споить нас решил, Иван, — сказала Лида.
— Споишь вас… Всё ещё половина той бутылки спирта скучает. А эта водка — не простая. — Иван улыбнулся. — Вино богов! — Потом голос его стал тише и сдержаннее.
— Помните день, когда в третью бригаду ездили? После вашего приезда я тогда вам ничего не говорил. Думал, всё обойдется. Но, вижу, дед Явтысый недоброе затеял. Мы-то на стойбище в тот же день всё знали, что ни в какую третью бригаду вы не ездили, а были на горе Крутой. Старик Явтысый не выпускал из рук бинокля. Вот и затаил зло. Решил отомстить за оскорбление богов.
— То-то деда словно подменили. Старик был как старик. Добродушный, веселый. Потом я стала замечать: взглянет — будто шилом кольнет, — сказала Лида, словно себя убеждала. — Ну и что дальше?
— Что дальше… Я стал за ним наблюдать и убедился, что дед не на шутку решил расправиться с вами, ждал дня мести. Я знал, что он наступит на седьмые или на семнадцатые сутки после оскорбления вами богов. «Семь» у нас, что в русских сказках «три». Хотелось, конечно, чтобы наступил этот день на седьмые сутки, в вашем присутствии. Так и случилось. Вчера у старика было уже всё готово к мести, и я ночью будто бы выехал в поселок, а сам свернул в темноте на Крутую. Ночью там всё же жутковато, и я самую темень провел вместе с рыбаками в палатке на берегу залива. К Крутой я поехал на рассвете. В густом ивняке оставил упряжку, сам — на гору. Там, на ночном склоне вершины, где вообще людская нога не ступала, надел зимний совик, на лицо натянул фиолетовую маску, прикрепил бороду — серый клин оленьего хвоста. Лег в яму, будто специально для меня приготовленную. Лежать было удобно. А увидеть меня сверху, где сядэи, почти невозможно, да я ещё укрылся ивовыми ветками, связанными ковриком. Так я пролежал всё утро, а с выходом солнца меня разморило — уснул и проснулся от глухого удара чем-то тяжелым по земле. Это старик втыкал в землю хореи, связанные сверху в виде шестов чума. Уже готовы были две петли, на которых вот-вот должны повиснуть ваши тени. Увлеченный обрядом мести, старик не смотрел по сторонам. Поэтому он не заметил, когда я поднялся осторожно и подошел вплотную к сядэям.
Не своим голосом, растягивая слова, я сказал:
— Старик Явтысый!.. Не пора ли тебе самому на тот свет?!
Ноги у старика будто обломились. Он сел, уперся руками в землю, голова запрокинулась, губы побелели.
Я сам испугался, но потом снова гаркнул:
— Вон отсюда! Чтобы духу твоего не было на Крутой!
Старик начал креститься и отползать в сторону. Лишь удалившись метров на двадцать, он вскочил на ноги и без оглядки, с ветерком, унесся под гору. Там сел на нарты и — поминай как звали! Всё, что принес на гору, старик оставил мне. Вот вам и бутылка. А эти, — он достал две деревянные куклы, одну в суконном совике, другую в малице, и подал нам, — ваши тени. Возьмите их. На память.
Лида очень обрадовалась сувениру, но сказала строго:
— Ты, Иван, брось впредь подобные шутки. Нельзя так издеваться над верующими. А умер бы старик со страха?!
— Я не подумал об этом, — сказал виновато Иван и добавил решительно: — Но пусть никогда не делает людям зла! Мне стыдно за него.
…А вечером Иван гикнул на оленей, и нарта его помчалась в тундру: сегодня он дежурил в стаде. Проводив его, я стал рассказывать Лиде про жизнь Ивана.
Хозяйство его отца Романа было бедняцкое. Он всю жизнь гонялся по тундре в поисках песца. Песец что ветер: не скоро его поймаешь. А однажды, в разгар песцового сезона, заболела жена Романа Санэ. Жар у нее, кашель, боль в груди. Роман не смог охотиться, прервал промысел.
Ехать в поселок за доктором — далеко. Но Роман знал, что в соседнем стойбище живет шаман Сядэй. Охотник бросил семью и поехал к шаману.
Роман Лагейский всю дорогу убеждал себя:
— Сядэй вылечит мою Санэ. Он — добрый шаман…
А Сядэй сказал Роману:
— Теперь у нас — новая власть. Все люди на себя работают. Мне тоже надо охотиться. Песец сейчас хорошо идёт на приваду. Но если у тебя, Роман, беда, я вылечу твою Санэ. Только ты возместишь потерянный промысел.
Роман не хотел терять жену и единственную в семье, кроме него, работницу.
— Ладно, я тебе возмещу убыток, — сказал он и привез Сядэя в свой чум.
В первый день шаман ничего не делал. Спал[85]. Второй — спал. Так он неделю проспал. Санэ металась в постели все дни и ночи. Она бредила. Душил кашель. Роман пас оленей, кормил детей, ездил по капканам. Утром первого дня второй недели Сядэй сказал Роману:
— Дух прадеда моего мне так сказал: «Пусть Роман в подарок Нуму зарежет молодого оленя, шкуру, кости, рога его отвезет на сердцеподобную жертвенную сопку у истоков реки Урер, и тогда я узнаю причину болезни Санэ».
Роман убил оленя. Сядэй вместе со всеми обитателями чума ел свежее мясо, пил кровь, святую кровь жертвенного оленя. Всё большие и маленькие кости он собирал в мешок. А когда было съедено всё мясо, Сядэй долго говорил о сихиртях.
Сихиртя — ночной человек. У ненцев есть много преданий, в которых говорится, что были на земле сихирти. Они жили в подземелье, в пещерах и на охоту или рыбалку выходили только ночью, используя тайком орудия лова — сети, лодки — дневных, настоящих людей — ненцев.
Сядэй сказал страшное:
— Одним злым шаманом посажен в Санэ дух сихирти — душа умершего ночного человека. Сначала она не могла войти в Санэ, но потом превратилась в иглу и через рот пробралась в грудь твоей жены. Я просил, чтобы злой шаман отозвал дух сихирти от Санэ. «Я согласен отозвать духа сихирти от Санэ, — ответил он. — Но тогда пусть вселяется он в дочь Санэ или в сестру Романа. Душа моего сихирти без «жилища» — человеческой внутренности — и пищи (человеческого тела и крови) не может жить. А внутренности девчонки или молодой девушки вкуснее, чем у старой женщины».
Роман молчал. Маленькие Иванко и Марьяко, поблескивая мокрыми глазенками, забились между подушками почти к основаниям шестов.
Выходя из чума, Роман услышал голос шамана:
— Утром, Роман, зарежь второго оленя, а кости его, рога и шкуру увезешь на гору Крутую. Может, паханзедский бог нам поможет…
Ночью Сядэй крепко спал. В грудь Санэ воздух врывался со свистом, а выходить обратно не хотел. Санэ кашляла и задыхалась. Дети плакали.
Утром Роман положил на латы голову белого оленя. Сядэй сказал:
— Злой шаман ни на какие уговоры не идет. Он требует, чтобы дух сихирти вселился в твою сестру Анку или в дочь Марьяко. Санэ тогда поправится.
Лицо у Романа стало как бумага. Он покачал головой в знак несогласия, а в душе решил: «Пусть умрет Санэ. Она всё время болеет, работать не может. А дочь и моя сестра через два года вполне заменят Санэ в работе. Кроме того, я их смогу продать за хороший калым и куплю себе молодую, здоровую жену. Что же все мучаться мне и ей? Пусть умрет…»
В то же утро Роман отдал Сядэю за нанесенный убыток в промысле пять белых песцов, и тот уехал. А вечером, когда на подоле неба оборвалась последняя нить заката, страшно закричал Иванко. Мальчик видел, как мать его сделалась вдруг длинной, голова её откинулась назад и из носа побежала по щеке темная струйка крови…
Лида взглянула на меня и глубоко вздохнула.
— Иван, может, и учился бы, — сказал я. — Грамотным человеком стал… Но вскоре после смерти Санэ Роман женился на многодетной женщине. В чуме против каждого шеста стало чуть ли не по голове. Мал мала меньше. Трудно было управляться с хозяйством. Роман трижды тайком увозил сына из школы. Ему нужны были рабочие руки. Потом началась война. Роман ушел на фронт, и двенадцатилетний Иванко впрягся в лямку отца… А приемные и родные братья и сестры Ивана все учатся в школе и в институтах.
8
У нас уже давно набухли тетради от записей образцов ненецкого фольклора. Прокручен весь запас магнитофонных лент на бобинах. Настала пора прощаться с нашими друзьями. А вторая неделя августа выдалась как никогда знойной. Идешь, и похрустывает под тобой пересохший ягель, ещё совсем недавно сочная трава зачахла, почернела, будто обуглилась.
Олени задыхаются от жары, нервно дергают ногами. Расправил крылья овод. Стадо закрутилось как водоворот.
Выехать в Нарьян-Мар утром, как ни уговаривали, Иван наотрез отказался.
— Жалко олешков, тяжело им тащить нарты по обсохшей земле, а вечером, как упадет солнце, — пожалуйста, хоть сто километров! — сказал он. — Полозья по росе скользят, как мыло по мокрым ладоням.
И вот, когда солнце над заливом повисло на высоте щучьего прыжка от воды, тишину над простором оборвали крики пастухов, лай собак и реханье оленей. От копыт взбудораженного стада загудела, кажется, вся тундра.
Вскоре Иван подвел к нартам пять белых быков, а мне показал на шесть стройных хапторок — бесплодных олених, которые уже стояли на привязи у крайних грузовых саней. Мы начали запрягать.
— Ой, какие они маленькие!.. Олешки мои… Олешки… — послышался голос Лиды.
Девушка теперь уже не боялась оленей, как вначале, в Нарьян-Маре. Она забавно крутилась около них и тонкими пальцами нежной руки поглаживала длинные морды хапторок. Им это не нравилось: хапторки недовольно водили ушами, вскидывали головы.
— Олешеньки… Что, не нравится вам?
— Не тронь! — крикнул я, но слова мои запоздали.
Крайняя из хапторок поднялась на дыбы и бойко забила по воздуху передними ногами. Моя синеглазая спутница едва успела отскочить в сторону. Она стояла поодаль, бледная.
— Ты что это так? Тебя жалеют, ласкают, а ты?..
— Не подходи, ради бога, не подходи! — снова вмешался я. — Хапторки не любят, чтобы кто-то их беспокоил.
— Ты же говорил, что олени не нападают на людей, — с упреком в голосе сказала Лида.
— Нет, конечно. Добрые олени не нападают. А хапторки, как некоторые своенравные женщины… Они всё могут.
Вскоре мы собрались в путь. Первым выехал Иван. Пять белых оленей мигом вынесли его на простор. Я тоже стеганул вожжой по спине передовой хапторки, вспрыгнул на нарту, но меня сбросило на землю. Держась за нарту, я пробежал три-четыре шага и снова попытался запрыгнуть, но, столкнувшись с Лидой, опять упал. Растянулся на земле. Вожжи натянулись, олени, метнувшись влево, встали. Я увидел, что нарта лежит вверх полозьями, а чуть дальше на земле сидит Лида и растирает обеими руками ногу.
К ней подбежала Авдотья.
— Больно? — спросила она.
— Нет… пройдет. — Лида встала и, прихрамывая, подошла ко мне.
Авдотья помогла нам поставить нарту на полозья. Я велел Лиде сесть так, чтобы осталось место и мне, и, наконец, хапторки понесли нас по вечереющей тундре вслед за упряжкой Ивана.
— Ой!.. Ой!.. Как курьерский поезд, несутся!.. Что за дикая сила?! — вскрикивала за моей спиной не то удивленно, не то восторженно Лида.
И в душе моей от тайной обиды на неё за её недавнюю неуклюжесть и непутевость и следа не осталось. Но я ничего не говорил, будто не слышал.
А на тундру падала ночь. Зажигались в синеве первые робкие звезды. И вдруг выплыло над горизонтом зарево. Оно с каждым мигом разгоралось всё сильнее, ярче.
Упряжка Ивана остановилась. Встали и наши олени. Иван подошел к нам.
— Что это там запылало?
— Сам не пойму.
— Горит что-то… Явно что-то горит, — рассуждала Лида.
— Там я как-то железную башню геологов видел, — сказал Иван. — Ещё в конце весны.
— Далеко она отсюда? — поинтересовался я.
— Нет. Не очень далеко. Одна оленья пробежка, — и пояснил, явно для Лиды: — километров десять-пятнадцать. Пустяки!
После раздумий, ехать или не ехать на зарево, мы всё-таки решили ехать. Может, беда какая? Закон тундры — помогать людям, если они в беде.
Вскоре над горизонтом взметнулись огромные языки красноватого вверху и желтого внизу пламени. Потом мы разглядели буровую вышку и крохотные силуэты людей, суетящихся вокруг гигантского костра.
Приезда нашего, кажется, никто не заметил. А пламя бушевало так, что языки его порой поднимались вверх на длину вытянутого тынзея. Ночное небо полнилось каким-то монотонным гулом. Гудела и земля.
— Здравствуйте! — сказали мы, подойдя к людям, которые с нескрываемой радостью смотрели на огонь.
Люди обернулись к нам, начали здороваться, и я рядом с собой увидел знакомое озаренное лицо Исаева — земляка по тундре и товарища по Ленинграду. Он в годы моей учебы в педагогическом был студентом горного института.
— Здравствуй, Вася! Здравствуйте, товарищи! — сказал он и подал руку Лиде, мне и Ивану. — Исаев… Ну вот и загорелась кровь нашей родной и студеной тундры. Это в году третья наша удачная скважина на нефть. Есть и газ. Вчера было опробование, результаты обнадеживающие. Скоро, видимо, и здесь, как в Прозрачном, промышленную разработку начнем. А пока, на радостях, наши ребята костер раздули. «Пусть в Нарьян-Маре увидят», — говорят они.
— Да-а, костер у вас… отменный… — задумчиво сказала Лида.
— В Нарьян-Мар? — поинтересовался Исаев.
— Да.
— На олешках?
— А на чем же?
— Может, на вертолете? У нас Ми-6 уходит утром.
— Ведь это здорово! — воскликнула Лида. — Я ещё никогда на вертолете не летала.
— Вот и полетите… А пока располагайтесь. Там вот наши хаты. — Исаев показал на приземистые, красноватые от огня палатки. — Идемте.
Начальник геологической партии рассказал нам, что разведка на нефть и газ идет в округе уже около пятнадцати лет, но первые обнадеживающие результаты получены только шесть лет назад.
— Теперь-то начнется, — заверил он, — и, видимо, как на Уренгое, на Ямале, жарко будет. Газа больше, чем нефти. Нефть легкая.
— Михаил Егорович! — донесся с улицы чей-то по-мальчишески звонкий голос.
В палатку залетела шустрая черноглазая девчонка с рыжей челкой. Увидела нас, смутилась.
— Ой, извините. И гости наши тут. Здравствуйте! Вот и хорошо — ребята просят вас к праздничному столу. Ужин готовил сам Бочкаренко!
— Наш буровой мастер, — объяснил Исаев. — Спасибо, Ирочка. Сейчас идем.
Праздничный ужин геологов начался в третьем часу утра. У малюсенького по сравнению с пылающей нефтью костра хозяйничали Олег Бочкаренко и Ирина. Они то и дело подносили на стол, сколоченный наскоро из трех широких плах, пропахшие ароматным ивовым дымом шашлыки из оленины и зайчатины, поджаренные тушки куропаток. Кроме того, стол ломился от жареной, вареной и малосольной рыбы — хариуса, гольца, пеляди, нельмы.
Люди не скрывали своей радости. Они вовсе забыли о комарах, о бездорожье, о неделях без писем, обо всех неурядицах кочевой жизни, которые известны только им — людям с рюкзаками и с неутомимой жаждой поиска ради этого именно дня, когда… когда просто можно сказать: победа!
Исаев обратился к буровикам с поздравлениями, но речь его то и дело тонула в шуме голосов и рокоте движка, подающего свет.
А черное небо уже бледнело. К Исаеву подошел один из геологов и сказал:
— Палатка для гостей, товарищ начальник, готова. Туристическая, легкая и, конечно, теплая.
— Ну вот, можете и отдохнуть, Лидия… Простите, как по батюшке-то?
— Александровна, — тихо отозвалась Лида. — Спасибо вам, Михаил Егорович. Но спать я не думаю. Хоть последнюю-то ночь в тундре хочу провести под открытым небом.
— Это, конечно, ваше дело, — сказал Исаев. — А я — на боковую: утром лететь. Ми наш уже давно отдыхает. Видите?
В стынущих сумерках встающего утра мы рассмотрели неподалеку силуэт вертолета, похожего на задремавшего ящера. Мне почему-то стало особенно грустно. Пройдут какие-то часы, и город разлучит меня с Лидой… Самолет медленно развернется, равнодушно пройдет к началу взлетно-посадочной полосы и замрет на мгновение. Но вот взревут моторы, серебристая птица вздрогнет — и…
Я, глядя на тающий в небе самолет, скажу:
— Лида! Ты вновь окунешься в шум каменных городов и в половодье людских рек, а глаза твои остались здесь, в тундре, где синий от неба простор заарканен горизонтом. Взгляну на эти озера, цветы, росы — и увижу тебя. Увижу! Вернись за синевой своих глаз! Вернись… — Но меня никто не услышит.
— Вася, а ты будешь спать? — с трудом дошел до моего сознания голос Лиды, но я молчал, уставив глаза в землю, будто все слова из меня улетучились. Потом я отключил себя от назойливых дум и сказал:
— Нет. Я вовсе не хочу спать.
— Ну вот и хорошо. В последний раз пройдемся по этой открытой небу земле, по твоей любимой тундре.
Мы пошли навстречу рассвету, к сонному заливу.
— Какие здесь всё-таки хорошие люди, — продолжала Лида. — Эти геологи… Тот же Иван… Да что тебе говорить-то — сам знаешь. А я всё же, наверно, полюбила эту землю. Приду в музей Арктики — и уже по-другому буду на всё смотреть. И друзьям обо всём расскажу.
Я шагал рядом, и меня покалывали слова о музее.
— Будет что рассказать, да?
Лида кивнула.
— Паханзеды… — еле слышно произнесла она в раздумье. — Паханзеды…
Но вдруг лицо её ожило, озарилось, синие глаза поголубели.
— Смотри! Смотри же скорее!.. Скорей! Это же какое-то чудо! — всплеснула она руками.
Я, стараясь быть спокойным, медленно повернулся к заливу и остолбенел. Над водой, где вот-вот должно было появиться солнце, по обе стороны залива пылали два широких радужных столба. С каждым мигом они становились всё ниже, ниже и вот уже совсем утонули в заливе. Невероятно широко заполыхала кромка солнца. Она плескалась, кипела, разламывая линию горизонта. Потом это огненное чудо постепенно начало сужаться и всплыло, покатилось медленно, словно на невидимую гору, настоящее, живое солнце. Лучи его заскользили по земле и вспыхнули в росе у наших ног.
— Вот и пришел день… — сказала Лида.
В Нарьян-Маре, выйдя из вертолета, мы с Лидой шли к аэровокзалу, похожему больше на сарай.
— Здравствуй, Вася! Где все пропадаешь? Давно что-то не видно тебя на Голубой, в Прозрачном! Дела? А мне вот… — Старик показал рукой на уходящих к вертолету людей, — уже лететь.
Мы обнялись со стариком по-дружески, и он сказал, уходя:
— Приезжай. Обязательно приезжай. Жду!.. Опять посидим в моем чуме!
— Кто этот симпатичный ненец? — спросила Лида.
— Дед Игнат.
— Это он?! Жаль. Очень жаль!.. И у меня времени с гулькин нос.
Я тоже жалел, что не удалось встретиться со стариком чуть пораньше. О деде Игнате я Лиде рассказывал много, как о лучшем сказочнике тундры, и жалел, что не повидались с ним.
Что поделаешь… Улетала и Лида.
— Приезжай ещё, Лида, и мы обязательно с ним поговорим. Сможешь приехать?
— Постараюсь…
9
Ели… Приземистые ели в вечнозеленых накидках. Они здесь маленькие, коренастые. Это, наверно, чтобы не сдуло ветром.
На сером взлетном поле, прижав к земле крылья, словно птица, готовая взмыть в небо, замер серебристо-голубой лайнер.
— Пиши, — говорила Лида. — Обязательно пиши. И Ивану привет.
Я вспомнил чум.
— Ты почему же не спала тогда, у Ивана-то, в день приезда?..
— А-а… Я боялась тебя, — чуть ли не шепотом произнесла Лида и обняла меня. — Будь здоров! Пиши. Может… я ещё приеду.
Вместо неё в дверях самолета появилась рыжеволосая стюардесса.
— А ваш билет, гражданин?
— Счастливого пути! — помахал я рукой. — Лида…
— До свидания!..
* * *
СОДЕРЖАНИЕ
Розовое утро
Белый Ястреб
Метели ложатся у ног
(авторизованный перевод с ненецкого Я. Мустафина)
Свадьба
Синева в аркане
Василий Николаевич Ледков
МЕТЕЛИ ЛОЖАТСЯ У НОГ
Повести
Редактор А.А. Иванов
Рецензент Н.К. Жернаков
Оформление художника Е.Н. Зимирева
Художественный редактор В.С. Вежливцев
Технический редактор Н.Б. Буйновская
Мл. редактор Н.Н. Гаврилова
Корректоры Н.К. Галкина, Н.С. Дурасова, В.А. Фокина
OCR — Андрей из Архангельска
Северо-Западное книжное издательство,
163061, Архангельск, пр. П. Виноградова, 61.
Областная типография, 160000, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.
Примечания
1
Большая земля — Большеземельская тундра.
(обратно)2
Амдер — шкура на санях для сидения. Тынзей — аркан.
(обратно)3
Латы — доски, пол в чуме
(обратно)4
Макодан — отверстие в верхней части чума для выхода дыма. Служит и источником света.
(обратно)5
Липты — чулки из оленьей шкуры мехом внутрь.
(обратно)6
Ушел — умер.
(обратно)7
Пырей — женщина из рода Пырерка.
(обратно)8
Ненецкие женщины в присутствии мужчин, тем более посторонних, всегда ходят в пимах, показывать голые ноги считается неприличным.
(обратно)9
Ни. Ни е' — Нет, не больно
(обратно)10
Ямдать — кочевать
(обратно)11
Аргиш — санный поезд, олений поезд.
(обратно)12
Ханбуй — тягловый олень.
(обратно)13
Летом солнце в Заполярье светит круглые сутки. А звёзд и луны вообще не бывает ночью.
(обратно)14
Хор — самец оленя.
(обратно)15
Ид ерв — хозяин воды, водяной.
(обратно)16
Сустуй — тощий, неупитанный.
(обратно)17
Сякци — кулики.
(обратно)18
Хальмер-рыбки — покойничьи рыбки, колюхи.
(обратно)19
Нармоты — турпан, гага-гребенушка.
(обратно)20
Лорцэв — турухтан, дикий петушок.
(обратно)21
Комариный месяц — конец июня, начало июля.
(обратно)22
Мара сякця — кулик-береговик.
(обратно)23
Нум — бог.
(обратно)24
Сайнорма — война.
(обратно)25
Два Камня — так старые ненцы назвали Ленинград.
(обратно)26
Пянгуй — враг.
(обратно)27
Ярабц — драматическая песня-плач.
(обратно)28
Марэй-трава — золотистая трава, растущая на песчаной почве.
(обратно)29
Тахаби то — вот и пришла
(обратно)30
Том — пришел (пришла) я.
(обратно)31
Ни. Лёдков янгу — Паханзедава — Нет. Ледковых нет — Паханзеды мы.
(обратно)32
Лакамбой! — До скорой встречи!
(обратно)33
Холгов, Матка, Долгий — острова Колгуев, Новая Земля, Долгий
(обратно)34
Остроголовые — так иносказательно ненцы называют русских, поморов.
(обратно)35
Няравэй — альбинос.
(обратно)36
Харабли — искаженное русское слово «корабли».
(обратно)37
Санэры — коми, с которыми ненцы вели частые войны из-за оленей.
(обратно)38
Во времена Ивана Грозного ненцы посылали к царю двух челобитчиков (Леско и Апицу), царь подтвердил их права на угодья и рыбные ловли и не велел притеснять, закрепляя за ненцами землю навечно.
(обратно)39
Тюмю — железный лист, на котором разжигается огонь, костёр.
(обратно)40
Мырый — мокрый снег
(обратно)41
Пензер — бубен шамана
(обратно)42
По поверью ненцев, ребенок, который родился в «рубашке», будет шаманом, Но до того, чтобы стать шаманом, он, как испытание, должен пережить стадию сумасшествия, которая для многих слабовольных становится обычно роковым концом.
(обратно)43
Менурэй — олень, на котором никогда не ездят; является как бы вожаком стада, в гололед он ломает копытами ледяную корку наста.
(обратно)44
Нялуку — олененок от шести месяцев до года.
(обратно)45
Пелеи — все олени упряжки, кроме передового, вожака.
(обратно)46
Повёрда — перебежка оленей от отдыха до отдыха.
(обратно)47
Съямдать — откочевать.
(обратно)48
Луца сяй — русский чай. Луца — русский.
(обратно)49
Сымзы — опорный шест внутри чума, который поддерживает три-две перекладины, на которых подвешиваются на крючках котлы и чайники.
(обратно)50
Ани-н-дорова! — Снова здорово! Здравствуй!
(обратно)51
Лапта — равнина
(обратно)52
Нгумбъя — указательный палец.
(обратно)53
Сятуки — песцовые или лисьи выводки.
(обратно)54
Вара — черный гусь. Варакута — река, где водится вара (Воркута).
(обратно)55
Под сюмой (капюшоном) подразумевается мужчина. Капюшон бывает только на малице — исключительно мужской одежде
(обратно)56
Няблюй — олененок после первой линьки,
(обратно)57
Нум арка! — Бог велик!
(обратно)58
Пинзарма — ночная сова, сыч.
(обратно)59
Саювы — войска.
(обратно)60
Е! (Й-э-э!) — больно!
(обратно)61
Камень — Полярный Урал; Енся ям — Енисей.
(обратно)62
Боясь вызвать гнев неизвестного им животного, ненцы назвали гривастиком лошадь. Так называют её и сейчас. Другое название лошади — пя са (деревянная постромка).
(обратно)63
Смотреть на море — ходить на морскую охоту на тюленей, нерп, моржей, белых медведей.
(обратно)64
Пыря — щука, Туи — хариус, Нёя — налим. Эти рыбы считались тотемами.
(обратно)65
Xэб — оса.
(обратно)66
Лончак — самец оленя от одного до двух лет.
(обратно)67
Малая земля — Малоземельская тундра.
(обратно)68
Тос — соболь.
(обратно)69
Орлиный месяц соответствует примерно январю.
(обратно)70
Нгытарма — высушенное, как бы завяленное для сохранности тело мертвеца. Что-то похожее на мумию. Ненцы такие тела своих родоначальников, вождей возили обычно в священных санях как святыни. Иногда само это слово «нгытарма» служило ругательством.
(обратно)71
Тямдэ — лягушка.
(обратно)72
Хантыйский Камень — Уральские горы, Полярный Урал.
(обратно)73
«Тет яха мал» — «Истоки четырех рек».
(обратно)74
Ясавэи — проводники
(обратно)75
Вандеи — грузовые нарты, на которых возят одежду, меха и пр.
(обратно)76
Русская едд, — так называют ненцы вино, водку, спирт.
(обратно)77
Пелеи — все олени упряжки, кроме вожака
(обратно)78
Омулевый месяц — сентябрь, месяц Малой темноты — ноябрь.
(обратно)79
Нибитензь — предмет для очищения от грехов и погани.
(обратно)80
Хапторки — бесплодные оленихи
(обратно)81
«Уйти в магазин» — так говорят о предметах пищи, которые кончились.
(обратно)82
Сюдбабц — героическая, богатырская песня, былина.
(обратно)83
Ненцы ели мясо морского зверя только от большой нужды.
(обратно)84
Ясавэй — в данном случае управляющий упряжкой и хозяин земли. Я — земля, савэй — суффикс обладания. Я + савэй = обладающий землей.
(обратно)85
Шаман спал — означает: по сне разговаривал с богами.
(обратно)

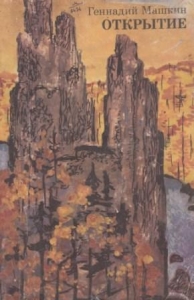
Комментарии к книге «Метели ложатся у ног», Василий Николаевич Ледков
Всего 0 комментариев